[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Марченко Анатолий Тимофеевич Третьего не дано
Роман "Третьего не дано" повествует о том, как рожденные Великим Октябрем, мобилизованные и призванные партией чекисты во главе с верным рыцарем революции Ф. Э. Дзержинским становятся надежным щитом и разящим мечом пролетариата. Центральный образ романа - Ф. Э. Дзержинский, верный ученик и сподвижник В. И. Ленина.1
Ранним утром Мишель Лафар пришел на Большую Лубянку. Солнце весело спорило с резвыми облаками. Рыхлый снег нехотя таял на крышах. Вдоль тротуаров еще несмело струились ручьи. Дыхание подмосковных лесов врывалось в город. Прежде чем войти в дом, где после переезда из Петрограда в Москву разместилась ВЧК, Мишель остановился на углу, в переулке. Часовые, подставив обветренные лица солнцу, прохаживались вдоль здания. Приклады винтовок время от времени звякали о булыжник. Напротив входа настороженно застыл броневик. Мишель стоял, радуясь солнцу и ветру. Еще минута - и он окажется в этом тихом с виду трехэтажном здании с барельефами на светло-зеленом фасаде. И, кто знает, может, с этой минуты и начнется его настоящая жизнь, сбудутся мечты и надежды. Напористый ветер подгонял прохожих, извозчичьи пролетки, гнал облака в ярко-синем небе. Казалось, он страстно хочет, чтобы все в этом мире неистово мчалось навстречу будущему, само время ускорило свой бег. "Ветер революции... - Восторг и предчувствие радости переполняли Мишеля. - Смелее, ветер! Смелее - в наши паруса!" Неделей раньше Мишель примчался к секретарю партячейки завода, на котором работал слесарем, и возбужденно, едва отдышавшись, воскликнул: - Будет мобилизация? Не опоздал? - Сбавь обороты, - усмехнулся щупловатый большелобый секретарь, наслаждаясь самокруткой. - Стреляешь вопросами, как из винтовки. - Я слышал, будет партмобилизация в ВЧК! - выпалил Мишель. - Не всякому слуху верь - это первым пунктом, - нахмурился секретарь. И, к примеру, если слыхал, трезвонить по всему заводу не резон - это тебе вторым пунктом. - Я не трезвоню! - обиделся Мишель. - Я прошу: пиши меня первым! - Сейчас, разбежался, - рассердился секретарь. - Ты хоть мозгой пошевелил? Ну, к примеру, что такое ВЧК? - Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией! Яснее ясного! Направь, секретарь, не подведу! - Дзержинский не возьмет. - Возьмет! - вспыхнул Мишель. - Притормози! Сердце у тебя, сам знаешь, как у ребенка. И, к примеру, какие в голове думки имеешь - все на вывеске обозначено. - Он немного помедлил и, не глядя на Мишеля, добавил: - Ко всему прочему - стихи... - Рекомендацию дашь? - не отставал Мишель. - Рекомендацию? - задумался секретарь, пригасив окурок. - Парень ты стоящий, отчего не дать? В политике силен. И храбрость у тебя черт те откуда берется. Могу и дать, а только начхает он на эту бумажку. - Почему? - вскинулся Мишель. - Почему, почему, - передразнил секретарь: он не любил наивных вопросов. - Как увидит, что ты ровно динамитом начиненный... - Пиши! - засмеялся Мишель. - Без динамита и революция не революция! - Написать - не молотом по наковальне бить. Сперва на ячейке обсудим. Ячейка собралась вечером. В полутемной копторке, прилепившейся к механическому цеху, сошлись только что закончившие смену рабочие. Едва секретарь зачитал заявление Мишеля, первым, спотыкаясь на каждом слове, заговорил восседавший на стремянке чубатый парепь - Снетков. - С ходу говорю - против! - Он кривился, как от зубной боли. - Ну с какой стати посылать его на Лубянку? Кто там, извиняюсь, позарез нужен? А нужен там такой человек, чтоб по всем его жилам текла самая что ни на есть рабочая кровь. Ну а в данной, извиняюсь, кандидатуре какая текет кровь? - Как и твоя! - Мишель не ожидал такого вопроса и покраснел от обиды. - Эге, ты меня к своей биографии не присобачивай! - возразил Снетков. Сам признался - из французов. А теперь - "как и твоя"! - Я не скрывал, - искренне сказал Мишель. - Конечно из французов. - Он старался взять себя в руки. - Отец и мать всю жизнь прожили в Москве, она им стала родной. А предки - так те еще при Наполеоне... - Во-во, - обрадовался Снетков, - при Наполеоне... А сколько нашего брата на Бородинском поле полегло, ты в курсе? Мишелю хотелось сказать, что к Наполеону он не имеет никакого отношения, но его опередил секретарь. - Француз французу рознь, - негромко, но внушительно начал он. Морщины нервно зарябились на его крутом лбу. - Вот, к примеру, какой француз был Жозеф Фуше? И какой был француз Жан Поль Марат? Мишель с радостным изумлением посмотрел на него. Он и предположить не мог, что секретарь, казавшийся ему не очень-то подкованным, вдруг обнаружит такие познания. - Француз Жозеф Фуше был цепной пес капитала! - продолжал секретарь. К тому же - политическая проститутка. А Марата, к примеру, звали другом народа. И за то его убила кинжалом подлая гидра контрреволюции - звали ее Шарлотта Корде. Собравшиеся притихли, жадно слушая его слова. - Марат - ясное дело! - присвистнул Снетков. - Да не с Марата спрос, а с Лафара! - С Лафара, точно, - подтвердил секретарь. - Вот ты и спрашивай с него как с человека, с рабочего, с члена нашей партии большевиков. А ты с него как с француза спрашиваешь. Национальность тут ни при чем. Мы за интернационал. Наш человек или не наш - вот в чем гвоздь. - Наш, об чем разговор! - степенно откликнулся старый рабочий Петр Авксентьевич. Лицо его было изъедено оспой. Он старательно вытирал ветошью крепкие узловатые пальцы, масляно отсвечивавшие при свете лампы. - Лафара как неблагонадежного из университета в шестнадцатом вышибли? Вышибли. Ко всему прочему, где он находился в октябре прошлого года? А был он вместе с нами, на одной баррикаде. Так об чем разговор! Он хотел еще что-то добавить, но уже поднялся Семеныч - пожилой, с виду добродушный рабочий. - Тут Снетков буровил - ересь одна, и точка. Ему, Андрей Савельич, коль ты есть наш секретарь, надобно политграмоту вдолбить. Пущай зубрит на здоровье: лоб не вспотеет - котел не закипит. Лафар - наш, категорически. Однако вот какая думка меня грызет: завод без рабочих - разве это завод? Сам посуди: вчерась в Красную Армию проводили. И позавчерась. И позапозавчерась. А сегодня Чека тут как тут. Для себя кадру требует. А завод? Закрыть ворота - и айда по домам, кто уцелел? Иль ты, Савельич, один на всех станках отыграешься? Никто об том не желает думать, и точка. - Снеткова мы выучим, тут вопрос ясный. А только, выходит, и тебя, Семеныч, к политграмоте надобно подвести, - лукаво прищурился секретарь. Радеет скоморох о своих домрах, а ты, видать, - о своем гудке. Ты, к примеру, допрежь того, чтоб в колокола бухнуть, спросил себя: а зачем она существует, эта самая ВЧК? И какая перед ней задача на сегодняшний день? Выходит, не спросил. А ты вслух само название глаголь: "Чрезвычайная... по борьбе с контрреволюцией..." С контрреволюцией! И - Чрезвычайная! Так как же мы не дадим этой самой Чрезвычайной свою самую главную кадру? Ну ответь, как? Ты тут, Семеныч, хоть, к примеру, и старый наш рабочий, можно сказать, ветеран, очень ошибочное словцо ввернул: для себя. Нет, дорогой ты наш товарищ, не для себя! Для нас с тобой она кадру требует, для всей диктатуры пролетариата! И создал ее сам Владимир Ильич. - Секретарь помолчал. - А ты чего, Снетков, руку тянешь? Не дошло? - Дошло, - смущенно признался Снетков. - А только Семеныч меня не так уразумел. Глухой он, извиняюсь, или как понимать? Я что? Я - чтоб на Лубянке ребята были во! Свои в доску, самый что ни на есть рабочий класс! После дотошного обсуждения ячейка единодушно записала: "Принимая во внимание, что т. Лафар вышел из трудовой семьи и храбро громил юнкеров в октябре 17-го и что он весь устремленный в мировую революцию, считать, что т. Лафар как коммунист и рабочий может пригодиться для работы во Всероссийской чрезвычайной комиссии товарища Дзержинского". После собрания Мишель подошел к секретарю, порывисто воскликнул: - Спасибо! Настоящий ты, Андрей Савельич, человек! Секретарь смущенно заморгал близорукими глазами: - Ты это, к примеру, брось. Дождусь, когда Дзержинский тебя похвалит... ...Мишель плотнее надвинул на лоб фуражку, решительно направился к подъезду. У председателя ВЧК только что закончилось совещание. В маленьком кабинете, тесно сгрудившись у стола, сидели чекисты, но Мишель видел сейчас только Дзержинского. Именно таким и представлял его: стремительным, по-юношески стройным, с глазами, в которых бушевало пламя - горячее и неистовое. - Значит, хотите... - начал Дзержинский, читая рекомендацию. - Хочу служить революции! - воскликнул Мишель, просияв белозубой улыбкой. Дзержинский пристально всмотрелся в Мишеля, как бы открывая в нем то, чего не было сказано в решении партячейки, но тут зазвонил телефон. - В самое пекло опоздали, - сказал Дзержинский. - Нет, нет, Яков Михайлович, это я тут одному юноше говорю. - Он чуточку прикрыл трубку ладонью. - Да, обезврежено двадцать пять очагов "черной гвардии". На Малой Дмитровке отчаянно сопротивлялись. И на Поварской, и на Донской, в особняке Цейтлина. На Поварской пришлось взорвать ворота. В "доме анархии" сбито орудие, найден большой склад оружия - от револьверов до пушек. Операцию, где удалось, провели бескровно. Те, кто сопротивлялись, получили по заслугам. Есть жертвы с обеих сторон. Арестовано около четырехсот человек. - Дзержинский приостановился, слушая Свердлова. - Да, вы были правы, Яков Михайлович. Несмотря на уверения идейной части анархистов, что никаких выступлений против нас они не допустят, угроза такого выступления была налицо. Дело считаю очень серьезным. Не смогут ли они принести вред своей печатной пропагандой? По распоряжению ВЧК газета "Анархия" закрыта. Да, мы приступаем к расследованию, выделили особую следственную комиссию. В помощь ей будут приданы комиссары ВЧК. Мишель с восхищением слушал глуховатый, со стальными нотками голос Дзержинского, всматривался в его гордый, мужественный и изящный профиль. "Какое лицо! - подумал Мишель. - Да, да, именно таким и должно быть лицо революционера!" - Так что же? - повесив трубку на рычажок, обратился к Мишелю Дзержинский. - Досадно! - огорченно воскликнул Мишель. - Я невезучий! События опережают меня! - Не отчаивайтесь, - успокоил его Дзержинский. - Все впереди. Твердо решили стать чекистом? - Твердо, товарищ Дзержинский! Суровое лицо Дзержинского потеплело. - Товарищ Лафар обсуждался на партячейке завода, - сообщил он, обращаясь к присутствующим. - Обсуждение было бурным. - Вы уже знаете? - удивился Мишель. - Конечно. Нет, я не провидец. На собрании был наш товарищ. Дзержинский кивнул на сидевшего у края стола человека в кожанке и галифе, обшитых кожей. Был он высок, бритоголов, хмур и сосредоточен. Лишь глаза - ясные, васильковые, как у ребенка, - своим неистребимым светом разгоняли тучи на его лице. - Тут секретарь пишет, что вы наизусть знаете многие произведения Ленина, - продолжал Дзержинский. - Преувеличивает? - Преувеличивает, - подтвердил Мишель. - Но некоторые действительно знаю. - С идеями анархистов знакомы? - "Записки революционера" Кропоткина перечитывал не раз. - Это кстати, - оживился Дзержинский. - Может быть, товарищи, обратился он к чекистам, - для начала подключим товарища Лафара к арестованным анархистам? Как, товарищ Петере? - Согласен, - поддержал его человек, то и дело взмахивавший черной шевелюрой. - Выдержит экзамен, - - значит, не ошиблись! И Петере, в упор посмотрев на Мишеля, озорно подмигнул ему. - Возьмете его под свою опеку, товарищ Калугин? - обратился Дзержинский к бритоголовому чекисту. - Пусть пришвартовывается, - откликнулся тот. - Вот и отлично. А как вы себе мыслите предстоящую работу? - спросил Дзержинский Мишеля. - Хотя бы в общих чертах? - Видимо, надо отделить пшеницу от плевел? - предположил Мишель. - Верно, - одобрил Дзержинский. - Там наверняка немало таких: вывеска "анархист", а под ней - монархист. - Товарищ Дзержинский... Я все выполню. Постараюсь. Только потом... Дадите мне настоящее задание? Хочу проникнуть к контрреволюционерам, разгадать их планы. Рисковать жизнью во имя мировой революции! - Предупреждаю: любое задание ВЧК - настоящее, - строго ответил Дзержинский. - Нам нужны смелые, преданные люди. Много смелых, преданных людей, - повторил он, подходя к Мишелю. - Постойте, а что это за письмена? - Это? - Мишель не смутился: слишком любил поэзию, чтобы стыдиться этой любви. - Стихи, товарищ Дзержинский. Бумаги нет, записываю, чтобы не забыть. На газетах, на спичечных коробках. Вот на козырьке записал... Он едва не проговорился о своей мечте - о том, что хочет, чтобы его стихи летели над рядами красногвардейских отрядов, чтобы их шептали женщины, провожающие на фронт своих сынов, горланили мальчишки, бредившие подвигами и славой. - Стихи собственного сочинения? - с интересом спросил Петере. - Конечно! - А я уж, грешным делом, подумал - шифр, - пошутил Дзержинский. - Что же здесь написано? - Ни голод не страшен, ни холод, ни прах - грядущие зори пылают в сердцах! - прочитал Мишель, и в ушах его вновь зазвучали слова секретаря ячейки: "Ко всему прочему - стихи..." Что скажет сейчас Дзержинский? - Значит, в ВЧК будет свой поэт, - как о чем-то совершенно естественном произнес Дзержинский. - А это вам для стихов. - Он взял со стола маленькую записную книжку и протянул Мишелю. - Спасибо! - растроганно поблагодарил Мишель. - С вамп побеседует товарищ Петере, а потом поступите в распоряжение товарища Калугина. - Дзержинский помолчал, как бы отделяя все, что им было сказано до сих пор, от того, что собирался сказать сейчас. - Главное помните, что вы встали в ряды неподкупных, верных бойцов. Революция обнажила карающий меч - ее вынудили к тому классовые враги. Доверить его она может лишь людям, преданным ей до последней капли крови, до последнего вздоха! Мишель неотрывно смотрел в лицо Дзержинского, охваченный его волнением. - Желаю успеха, - сказал Дзержинский. Мишель ощутил крепкое, требовательное пожатие суховатой холодной ладони, и в этот миг ему захотелось произнести клятву... Через полчаса Мишеля вызвали к Петерсу. Петере, говоря с Мишелем, стремительно пересекал кабинет из угла в угол, останавливаясь лишь для того, чтобы прямо, в упор, посмотреть на Мишеля. - Время горячее, - отрывисто бросал Петере с едва приметным латышским акцентом. - Решать нужно мгновенно. Промедление смерти подобно. Помнишь, Ильич говорил? Но учти: мгновенно - не значит ошибочно. Мозг заставляй работать, мозг! Великая мудрость нужна чекисту, величайшая! Поваришься в нашем котле, пойметь. Пока - главное. Врагу - никакой пощады! Но карать не вслепую. Феликс Эдмундович требует: законность и еще раз законность. Будут над тобой измываться на допросе, а ты нервы в кулак - и никаких эмоций! Феликс Эдмундович говорит: если во время обыска чекиста одолеет жажда, то даже пить не надо просить у обыскиваемого. Пойди в другую квартиру, там попроси. Но чтобы пикто и никогда ни в чем не смел попрекнуть чекиста. Это я к вопросу о законности говорю, понял? - Петере отошел к столу, хотел продолжать, но вдруг резко прочертил воздух крепкой, как клинок, ладонью: - Всего сразу не скажешь. Учись сам - на ечету каждая секунда, да и нянек у нас нет. - Няньки не потребуются! - заверил Мишель.2
Окрыленный, с маузером в деревянной кобуре, выданным по распоряжению Петерса, Мишель прибежал на Малую Дмитровку. Подъезд "дома анархии" был разрушен артиллерийским снарядом, стены исхлестаны пулями. Мишель предъявил мандат часовому, стоявшему в воротах. - Приутихли малость, - часовой ткнул оттопыренным большим пальцем в подъезд. - А то сладу не было: "Долой диктатуру!", хоть свинцом глотки заливай. В вестибюле Мишель нашел Калугина. Тот встретил его, будто они были знакомы много лет кряду: - Пора приниматься за этих пиратов, морского ежа им в глотку! - А где они? - с нескрываемым любопытством спросил Мишель. - На втором этаже. Один было из окна сиганул. - Скрылся? - Скроешься! - усмехнулся Калугин. - Он заговорил по-деловому, спокойно: - Думаю так. Арестованных двадцать три экземпляра. Остальные отправлены в Кремль. Больше половины возьму на себя. Комнаты подобрал потеплее, с целыми окнами. Тебе задача ясна? Главное - ты с ними посмелее. А если что свистать всех наверх, немедленно приду на помощь. - Можно взглянуть на них? - Взгляни, взгляни, - Калугин тщетно старался изобразить на лице суровость. - Натуральный ноев ковчег. Подниматься по лестнице, ведущей на второй этаж, было не так-то просто: на ступеньках валялись груды стреляных гильз, пустые бутылки, куски штукатурки. - Тешили себя: устоим! - презрительно сказал Калугин. Помолчав, жестко добавил, словно зачитывая приговор: - Против нас не устоишь - отныне и во веки веков! Мишель с уважением взглянул на него, пытался чтото сказать, но Калугин нахмурился, пошел отмахивать через две ступени, поскрипывая кожей галифе. Он подвел Мишеля к двери, легко, как игрушечную, распахнул ее и произнес лишь одно слово: - Вот... В просторной комнате сидели, стояли и даже лежали арестованные. В окна врывалось солнце. Едва открылась дверь, как взоры всех устремились к вошедшим. Трудно было рассмотреть каждого в отдельности. В глаза бросились патлатые шевелюры, измятые беспробудным сном и пьянками лица. Одежда арестованных была на редкость разношерстной, и Мишель испытал такое чувство, будто нежданно попал за кулисы театра, где собрались актеры, занятые в каком-то фантастическом спектакле. Пока Мишель стоял на пороге и, стараясь не показывать своего удивления, разглядывал столь живописную картину, в комнате царила тишина. Чудилось, писк комара прозвучал бы здесь не менее оглушительно, чем рев трубы полкового оркестра. Одни лица застыли в испуге, на других сквозь маску безразличия проступала злоба, третьи молчаливо просили о пощаде. Лишь один арестованный, сидевший почти в самом углу, у противоположной от окна стены, был не то чтобы вовсе безучастен и равнодушен, но настолько спокоен, словно не имел ко всем остальным никакого отношения. Задумчиво и не назойливо поглядывал он на Мишеля, ничем не показывая, худо ли, хорошо ли думает о нем. Может быть, поэтому он и запомнился Мишелю. Калугин тронул Мишеля за локоть, давая понять, что пора уходить. Едва они прикрыли за собой дверь, как в комнате загалдели. - Ну и экипаж... - сердито сказал Калугин. - Громилы, налетчики, саботажники, спиртогоны... Явная контра. Идейных тут, видать, по пальцам пересчитаешь. Петере требует - к ним особый подход. Сперва осмотрись, а уж потом действуй напрямик. Смотри, чтоб они не позвали тебя чай пить на клотик. - Что, что? - Ну, чтоб очки не втерли. Калугин еще раз придирчиво взглянул на Мишеля и, уходя, сказал, что пора начинать. Мишель стремительно и нетерпеливо заходил по комнате: его живая натура требовала движений, активного действия. Он жалел, что не попросил Калугина прислать ему первым того человека, которого приметил и выделил среди разношерстной группы анархистов. Какое-то странное желание, более настойчивое, чем простое любопытство, побуждало Мишеля поскорее начать с ним разговор. Первый арестованный был грузноватый детина с длинными, загребастыми руками. Одежда его была весьма колоритной: узкий в плечах офицерский френч, широченные матросские брюки и форменная фуражка гимназиста. Чтобы так вырядиться, ему, пожалуй, потребовалось раздеть по меньшей мере трех человек, и вряд ли кто из них остался в живых. На длинном, вытянутом дыней лице выделялся громадный нос. Крепкие, как камень, скулы, казалось, вот-вот прорвут туго натянутую кожу. Детина, не ожидая приглашения, плюхнулся на стул, так и не расставшись с дымящейся папиросой. - Встать! - приказал Мишель. Детина часто-часто, как ребенок, заморгал ржавыми ресницами и медленно, будто нехотя, поднялся, не зная, куда деть руки. - К сведению: вас привели на допрос! - холодно напомнил Мишель. Детина удивленно уставился на Мишеля. Явно несвойственное ему смущение смешивалось с растерянностью и тщетно скрываемой, клокочущей ненавистью. - Вот теперь садитесь. Прежде чем начать разговор, познакомимся. Я комиссар ВЧК. А вы? - Вожак самарского отряда Муксун, - привстав, не без гордости представился детина. - Самара! - с иронией протянул Мишель. - А здесь - Москва. Логично? - Москва, - охотно согласился Муксун, чуя подвох в словах чекиста, и, не ожидая новых вопросов, заговорил вкрадчиво: - Птенчики мои оперялись в Самаре. Вылетели из гнездышка - ив стольный град. В самое нутро, в гущу событиев! Без революции нам житухи нету. Нам - чтоб революционная буря, девятый что ни на есть вал! - Понятно, - усмехнулся Мишель. - Бочка вина, потом девятый вал? - Намекаешь, братишечка? - обидчиво пробурчал Муксун. - Революционная символика - понимать надо... - Ого! Символика! Грабеж особняка на Поварской - тоже? - Не наша работа! - наотрез отказался Муксун. - И райончик не наш. - Предположим, - согласился Мишель. - Предположим. А как удалось проехать в Москву? Муксун даже присвистнул, до того наивным и детским показался ему этот вопрос. - Семафоры сами открывали, в ноги никому не кланялись, - пояснил он. Раз революция требует - отойди с пути, кто несогласный. У нагана язык громкий! - В какой партии состоите? - В партиях не состоим, - бодро ответствовал Муксун. - Потому как свою программочку имеем, без дураков. Мы - "немедленные социалисты"! - А попроще? - Изволь. Нам все немедленно - оружие, хлеб, свободу. Без всяческой задержечки. Антимонию и всякое такое разводить недосуг. Мы не какие-нибудь там "ураганы", "независимые", "авангарды" и прочая шпана. Мы - в коммунию на всех парах! Первыми ворвемся, кровь из носу! - Значит, в коммунию - без большевиков? - Упаси бог!.. Ты нам контру, братишечка, не пришивай... - Почему не сдались? Почему стреляли? Муксун по-черепашьи вобрал голову в плечи, будто ждал, что по ней ударят. - Не я приказывал стрелять, порази меня гром! Вот те душа наизнанку, не я! - взмолился он. - За действия той паскуды не отвечаю. - Хорош! - протянул Мишель. - Куда как хорош! Ничто бы так, пожалуй, не обескуражило и не встревожило Муксуна, как это восклицание Мишеля. - Я в то самое время в подвале дрых, - с таинственной интонацией сообщил Муксун. - Кондрашка чуть не хватила. Не от спирта - сердечный приступ... - Все ясно, - подытожил Мишель. - Ясно, какой ветер дует в твои паруса... - К стенке, да? - всхлипнул Муксун, наваливаясь на край стола, и вдруг исступленно зашептал: - А ты, браток, прихлопни это дело! Не пожалеешь... А то ведь знаешь, как оно оборачивается - сегодня ты наверху, а завтра я... Судьба играет человеком... - Вот что, Муксун, - жестко прервал его Мишель. Ему вспомнились слова Петерса: "Будут над тобой измываться на допросе, а ты нервы в кулак - и никаких эмоций!" - К революции ты никакого отношения не имеешь. Абсолютно. Отвечать перед революцией - будешь! Как явная контра! Муксун глухо застонал, будто его наотмашь ударили по лицу, силился что-то сказать, но мокрые губы дергались, не повинуясь ему. Наконец взял себя в руки. - Имею сообщить по линии Чека... - оправившись от страха, перешел на шепот Муксун. - Присмотрись, комиссар, тут к одному. Собственной печенкой чую - не наш... - О ком речь? - Есть тут такой... Громов... - И что? - За версту видать: подозрительный. Все одип и один. Молчком. Забьется в угол и соображает. А что - никому неведомо. - Муксун напряг память и вдруг выпалил: - Он же ни единой стопки не опрокинул, сколько с нами был. Чистая вражина! А сообщеньйце мое прошу не позабыть... "Кажется, он о том, кто сидел в углу", - подумал Мишель и отправил "немедленного социалиста" на место. Следующий арестованный, судя по всему, был из "идейных". Он вбежал порывисто, с грозным видом, будто ему предстояло стать обвинителем. Почти сразу же вслед за ним появился Калугин, примостился в углу. - Требую немедленной свободы для себя и всех анархистов, которых вы заточили в этом каменном мешке, - гневно выкрикнул арестованный, отчаянно жестикулируя костлявыми руками. - Самодержавие гноило нас в тюрьмах и равелинах, ваша диктатура хочет сгноить здесь. - Здесь вы поселились сами! - возразил Мишель. - Я требую передать мой протест в газету "Анархия"! - Приказала долго жить. - Мне не до шуток! - Какие шутки! Закрыта по распоряжению ВЧК. - Не признаю! - взревел анархист. Он метался по комнате, как зверь в клетке. Вздернутая кверху клинообразная бородка победно рассекала воздух. - Жаль, нет трибуны! - съязвил Мишель. - Ваша фамилия? - Буржуазные предрассудки! Я человек, раскрепощенный от уз государственных условностей, ибо не признаю самого государства! - А стрелять в представителей пролетарского государства - условность?! - Мы были уверены, что нас атакуют контрреволюционеры! - Ловко, - усмехнулся Мишель. - Расчет на простаков. А какова ваша платформа? - Анархизм - бог, которому я поклоняюсь. Личная свобода дороже личного благосостояния. - Ну и фокусник! - воскликнул Мишель. - Чужие мысли за свои выдаете. Цитатками жонглируете! Анархист, словно споткнувшись обо что-то невидимое, остановился, заморгал мохнатыми, как у колдуна, ресницами. - Не прерывайте меня! Не стесняйте мою личность! Не сковывайте мою душу! - потребовал он. - Я так хочу. Понимаете - я! - Понимаю, - кивнул Мишель. - Свобода для себя, рабство для других. - Мальчишка! - вспылил анархист. - Мальчишка, бесстыдно извращающий анархизм! - Кингстоны, папаша, - не выдержал Калугин. - Кингстоны забыл закрыть! - Бывший моряк-балтиец, он уснащал свою речь морскими словечками. Комиссар ВЧК перед тобой! Анархист даже не обернулся в его сторону. - Моя платформа. Предельно сжато. - Послушаем, - Мишель подмигнул Калугину. - Во всех социальных вопросах, - патетически начал анархист, - главный фактор - хотят ли того люди. Хочу ли того я. Скорость человеческих эволюции зависит от интеграла единичных воль... Калугин многозначительно покрутил пальцем у своего виска. - Выходит, социалистическая революция могла произойти и в эпоху средневековья? - с иронией спросил Мишель. - Что? - вскинулся анархист. - И при Людовике XI? - невозмутимо продолжал Мишель. - Достаточно было появиться кому-то, кто сплотил бы массы? - Не ловите меня своей диалектикой, не поймаюсь, - проворчал анархист. Несмотря на то что этот неряшливый, помятый человек не мог не раздражать и своей внешностью, и вздорностью, и совершенным неумением выслушать собеседника, было в нем нечто такое, что вызывало не злобу, а жалость, как к ребенку, который лишь из упрямства не хочет признавать ошибочными свои поступки и слова. - Далее, - продолжал анархист. - Государство отменяется. Правительство - ко всем чертям. Его заменит свободное соглашение и союзный договор. Вольные члены коммуны сами наладят экономическую жизнь, будут разумно пользоваться плодами своих трудов. Третейский суд сможет разрешать все противоречия и столкновения. - Итак, долой диктатуру пролетариата? - спросил Мишель. - Но тот, кто против диктатуры, - контрреволюционер! - Верно! - загорелся Калугин. - Так держать! - Мы заклеймили капитализм! - судорожно выкрикнул анархист. - А вы снова загоняете пролетариат в казарму, именуемую государством. Клетка, будь она из золотых прутьев, не перестает быть клеткой! - Заклеймили, - сказал Мишель. - Только и всего. А пролетариат собственными руками сбросил капиталистов со своей шеи! Вы читали Маркса? - Не желаю! - отрезал анархист. - Ваш Маркс всего-навсего комментатор Прудона! - Ты вот что... - поднялся со своего места Калугин. - Ты нашего Маркса не трожь... Акулам скормлю! - Да он опять цитатку выхватил, - засмеялся Мишель. - И опять у Кропоткина. Ой-ля-ля! У вас собственные мозги есть? И знаете что, господин анархист: хвала и честь "комментатору", который идейно вооружил пролетариат. С его "комментариями" мы штурмовали Зимний! - А мы будем штурмовать Кремль! - заорал анархист, выходя из себя. Никаких правительств! Даешь безгосударственный строй! Позор диктатуре! Изгнать из всех душ дьявола властолюбия! - Митинг закрываю, свистать всех наверх! - раздельно и спокойно произнес Калугин. - Ораторов слушать некому. - Да пусть выговорится, - предложил Мишель. - Читайте Бакунина, Кропоткина, - тяжело дыша, выпаливал анархист. Он никак не мог перейти от яростных беспорядочных восклицаний к спокойному разговору. - Читайте и перечитывайте! Заучивайте наизусть! И вы войдете в царство анархии, в царство свободы и счастья! - Ох и перспективка! - с издевкой сказал Мишель. - Но почему вы атакуете государство? И не абстрактное, а совершенно конкретное государство победившего пролетариата. И его штаб, его мозг рабоче-крестьянское правительство? - Азбучно! - незамедлительно откликнулся анархист. - Всякая власть неизбежно вырождается в произвол и деспотизм. - Хоть кол на голове теши, - улыбнулся Мишель. - А интересно, кто ваш любимый писатель? Анархист вскинул бородку, удивленный неожиданным вопросом. - Как ни парадоксально - Лев Толстой. Я мог бы обойти это молчанием, но искренность - превыше всего. - Я почему-то так и думал, что Толстой, - сказал Мишель. - Тем более что Толстой разделял веру в неразумность и вред власти. Вы тут забрасывали меня цитатами. Долг платежом красен - я тоже отвечу цитатой. Из Льва Толстого. Вот его слова: "Читал Кропоткина о коммунизме. Хорошо написано и хорошие побуждения, но поразительно слабо в том, что заставит эгоистов работать, а не пользоваться трудами других". Язвительно, но прямо в цель, не правда ли? Анархист оторопело прислонился к стене. - Кстати, вот вы лично, - продолжал Мишель, - за счет кого вы жили здесь, в вашем царстве анархии? Пролетариат голодает. А вы? Пролетариат борется. Бьется насмерть с белогвардейщиной. А вы? - Мы прокляли капитализм... - снова начал анархист. - Благими намерениями вымощен ад. Вы хотите вонзить нож в спину пролетариата! - Клевета! - вскипел анархист. - Вы тут рисовали свое общество, - спокойно продолжал Мишель. - Но чем больше вы его расхваливали, тем меньше хочется в нем жить. - Вы еще не доросли... - А вы обречены! - резко сказал Мишель. - Жизнь опрокинула ваши бесплодные, вредные идеи. Сам Кропоткин это понял. Не хотел признаваться. Но прорывалось... Разве не он говорил, что никому не нужен в России? И что если бы попал туда, то был бы в положении человека, мешающего тем, кто борется? - Вы изучали Кропоткина? - насторожился анархист. - Читал запоем, - усмехнулся Мишель. - Чтобы теперь... отречься?! - Чтобы убедиться в правоте Ленина! - воскликнул Мишель. - Я мог бы по всем пунктам опровергнуть вас, - продолжал он. - Но к чему урок политграмоты? Кстати, и Кропоткиным мог бы вас опровергнуть. Долой правительство! призываете вы. А что говорил сам Петр Алексеевич в августе 1863-го? Помните, он плыл на пароходе "Граф Муравьев-Амурский"? Плакался в жилетку: плыл бы хорошо, да у капитана белая горячка. Потому, мол, беспорядку много, все неладно. - Ошибки молодости, - буркнул анархист. - А память у вас, молодой человек, феноменальная... - Еще вопрос. Вы считаете себя идейным анархистом. Почему же вы прятали под своим крылышком бандитов, контру и прочую сволочь? Это согласуется с вашим учением? - Мишель распалялся все сильнее. - Да вы... предали и Бакунина, и Кропоткина! И все светлое, что было в их учении! Анархист, насупившись, молчал. - Итак... - начал Мишель. - Рано еще зачитывать приговор, рано! - задыхаясь, воскликнул анархист, и бородка его затряслась, будто кто-то невидимый то и дело дергал ее. История еще скажет, скажет... - Пора вставать, дядя, - прервал его Калугин. - Корабль у пирса. - Пора вставать, - подтвердил Мишель. - Пора держать ответ перед историей! Анархист молчал. - Фамилия? - насупился Калугин. - Пантюхов, - неохотно назвал анархист. Когда он неверной, подпрыгивающей походкой покинул комнату, Мишель не почувствовал морального удовлетворения: не такая уж большая радость сражаться с обреченными. Зато Калугин обрадовал его. Хлопнул по плечу, сказал коротко: - А ты мастак. С тобой, видать, и в кругосветку можно. - Он помолчал и добавил: - Тут еще попался интересный персонаж. Громов некий. Сейчас его приведут, займись. Я Илюху на подмогу вызвал. Пусть записывает показания. Пригодятся... Вскоре вихрем влетел в кемнату Илюха - черноволосый парнишка, совсем еще мальчуган. Потертая кожанка была ему явно велика. На фуражке красным огоньком лучилась звездочка. Паренек, ослепив Мишеля солнечной улыбкой, отчеканил: - Сотрудник Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией Илья Фурман! - Комиссар Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией Мишель Лафар! - в тон ему представился Мишель. Илюша стремительно сел за стол, открыл картонную папку с бумагой, всем своим видом показывая, что он готов выполнять свои обязанности со всем старанием, на какое способен. Громов вошел неторопливо, с достоинством. Несмотря на то что его ждал допрос, он был невозмутим. Казалось: однажды надев маску, он так и не снял ее. Он отрешенно смотрел куда-то поверх Мишеля. - Садитесь, - предложил Мишель. Громов сел спокойно, не стремясь произвести выгодное для себя впечатление, не подчеркивая желания казаться независимым. Жизнь успела сделать горестные заметы на его лице: пригасила, присыпала пеплом когдато яркие, броские и суровые черты. Серые, с малахитовыми искорками глаза в глубине своей таили едва приметное выражение усталости и печали. Темные густые волосы холодновато светились снежинками седины. - Вот это приобщи к делу, - сказал, входя, Калугин и протянул Мишелю книгу в кожаном переплете. Калугин тотчас же исчез, а Мишель передал книгу Илюше. - "Овод", - восхищенно прошептал Илюша, лихорадочно листая книгу. - Здесь есть надпись, - сказал Илюша. - Вот. Мишель взглянул на титульный лист. Среди виньеток виднелись строки: "Через страдания - к счастью. Пусть эта книга станет твоим талисманом". Подпись разобрать было невозможно: чернила успели выцвести. - Ваша? - спросил Мишель, обращаясь к Громову. - Моя, - подтвердил тот. - Не расстаюсь с ней никогда. - Почему? - Разрешите не отвечать на этот вопрос. - Подарок? - Да. - Чей? - Позвольте и это обойти молчанием. Пусть вас не удивляет мое упорство. Поверьте: мои ответы ничего не прибавят к тому, что вы хотите узнать. Все, что связано с этой книгой, - глубоко личное. - - Хорошо, - согласился Мишель, - будем говорить о том, что имеет отношение к делу. Вы разделяете убеждения анархистов? - Если я скажу, что не разделяю, вы мне поверите? - спросил Громов. - Отвечайте на вопрос. - Предположим, я скажу, что идеи анархизма во многом совпадают с моим идеалом, вы же начнете утверждать, что я вовсе не анархист, а человек, проникший в их среду с особым умыслом. - К чему предвосхищать события? - Видите ли, на вашем месте я мыслил бы так же. Формальная логика плюс подозрительность сжимают человека огненными тисками, из пих не так-то просто вырваться. Что бы ни говорил Громов, голос его не менялся, он был негромким, чистым, но не бесстрастным. - Кроме показаний, - возразил Мишель, - есть факты и доказательства. Они или усугубляют випу, или же, напротив, смягчают ее. - Несомненно, - согласился Громов. - Но прежде чем говорить о сущности следственного процесса, я хотел бы напомнить, что в глаза не видел ордера на арест. - На предложение сдать оружие вы ответили огнем, - отпарировал Мишель. - Не подумайте, что я жалуюсь. Вы правы - властям было оказано вооруженное сопротивление. Но к чему в таком случае следствие? Объявите приговор - и точка. - Почему вы не хотели сдаваться? - Речь идет лишь обо мне или о всех, кто находился в этом доме? - О вас. - Затрудняюсь сказать что-либо определенное. Лично я не сделал ни одного выстрела. - Ни одного? - Книга, которая лежит перед вами, была моим единственным оружием. - Хватит загадок! - Хорошо. Я понимаю, вы хотите знать, кто я, почему очутился здесь, с какими целями. Знаю - каждый мой ответ будет взят под сомнение и перепроверен всеми доступными вам средствами. Но прошу вас иметь в виду, что вовсе не эти обстоятельства побуждают меня быть откровенным. Истина заключается в том, что мне нечего скрывать. Я был среди этих людей, которые проходят сегодня перед вами. Спросите любого из них: может, я проповедовал идеи монархизма? Или призывал бежать на юг, в Добровольческую армию? Или вовлек в организацию заговорщиков, которая жаждет свергнуть существующую власть? Равно вы не услышите ни от одного из них, что я восхвалял Советы и клялся в верности большевикам. Или что я умолял их разоружиться и пересмотреть свои идейные позиции. - Вы, что же, вне политики? - Не совсем так. Я вне политики, но живу верой. - Религия? - Я говорю о другой вере, совсем о другой. Верую в русский народ, в его светлый ум, в то, что он заслуживает счастливой доли. Верую в Россию, она еще поскачет в будущее, как птица-тройка. Заимствую этот образ, хотя к Гоголю отношусь враждебно: он окарикатурил русских людей, насмеялся над русской нацией. - Вы искажаете истину, он высмеивал помещиков! - горячо воскликнул Мишель. - Не только. Впрочем, это несущественно. - Итак, вы за счастье России. А как достичь его? - Я ждал, что вы спросите об этом. Вся трагедия в том, что я и сам еще не ответил себе на этот вопрос. В юности увлекался философией, изучал множество теорий о социальном переустройстве общества. Но стоило мне посмотреть, как иные теории, будучи перенесенными на реальную почву, неизбежно хирели или, еще того хуже, извращались, принимали самые уродливые формы, - и они переставали быть для меня притягательными, Я поклялся себе, что не стану исповедовать ни одну из них, пока не смогу убедиться, что та или другая теория несет с собой истинное благо, а не всего лишь призрачное его отражение. - И вы все еще ищете? - Как видите. Я пошел к анархистам, чтобы увидеть их идеи, так сказать, в натуре. - И что же? - И убедился, что все, чем занимались здесь эти люди, не более чем злая карикатура на анархизм. И что народу русскому, появись у них благоприятные условия, они принесут еще много горестей. - Почему? - Они заботятся не о народе. Они всецело погружены в свой собственный мир. А точнее - в свой собственный желудок. - Согласен! - оживился Мишель. - Но разве ваше сердце не чувствует правоты большевиков? - Человеческое сердце устроено так, что оно предпочитает верить не громким словам, а фактам. Ответить на ваш вопрос я еще не готов. Мишелю все больше и больше нравился этот человек. Убеждая себя в том, что нельзя поддаваться чувству, Мишель радовался, что у Громова оказалась не какаято иная книга, а именно "Овод", что он не пытался лицемерно клясться в любви к пролетариату и не боялся высказывать мысли, которые могли обратиться против него. - И все же странно! - сказал Мишель. - Выходит так: пусть другие борются, а я повитаю в философских облаках? - О нет! - возразил Громов, и что-то насмешливое и вызывающее вдруг сверкнуло в его глазах и тут же погасло. - Просто льщу себя надеждой, что в решающие моменты истории пройду курс обучения в максимально сжатые сроки. А уж тогда со всей определенностью смогу сказать, под чье знамя встану. - Опоздаете! Не успеете вскочить даже на запятки колесницы истории! - Возможно. Но постараюсь успеть. Если, конечно, уйду отсюда живым. - Что еще можете добавить? - Пожалуй, ничего. Впрочем, мне не хотелось бы оставлять вас в полном неведении. Отвратительнейшее состояние, когда человека мучает какая-то нераскрытая тайна. Вот вы спрашивали о надписи на книге. Загадочно, правда? А между тем простейшая история - необычайно длинная и для человека стороннего столь же необычайно банальная. Вряд ли я доставлю вам удовольствие, если примусь излагать ее последовательно и со всяческими подробностями. Скажу лишь, что книга эта не более чем память о человеке, которого я беззаветно любил. Кстати, это обстоятельство - одна из самых веских причин, побудивших меня скитаться по свету, чтобы забыться, утопить свое горе в водовороте жизни. Теперь, кажется, все. - На каком фронте вы воевали? - неожиданно спросил Мишель. Громов улыбнулся. Улыбка, хотя и сдержанная, молодила его. - Ценю вашу проницательность. Но я никогда не служил в армии. Числюсь нестроевым. Это легко проверить. "Вот тебе и интересный типаж, - огорченно подумал Мишель. - Или Калугин что-либо знает о нем такое, чего не знаю я, и хочет проверить, смогу ли я сам до этого докопаться. Или просто преувеличивает свои подозрения, так, на всякий случай". Громов с первых минут расположил к себе Мишеля, и каждое его слово казалось правдивым, лишенным лицемерия. Это настолько обезоружило Лафара, что он решил прервать допрос. Ведь не принимать же всерьез не подкрепленные ни единым фактом подозрения Муксуна! Мишель вызвал конвоира. Громов уже подходил к дверям, когда Лафар остановил его вопросом: - А книга? Вы не хотите взять свою книгу? "Сейчас он вздрогнет, рванется к книге", - предположил Мишель, но ошибся: лицо Громова оставалось непроницаемым и печальным. - Видите ли, - сказал он, - это самая святая для меня вещь. Но так как вы сами не вернули ее мне, я посчитал, что она представляет какой-то интерес и, вероятно, нужна вам на определенное время как своего рода вещественное доказательство или же как объект, заслуживающий изучения. Хотите, я прочитаю ваши мысли? Вы думаете, что от книги этой потянутся нити к чему-то неразгаданному и опасному для вас. Или же что на какой-либо ее странице может скрываться шифр. Извините, пожалуйста, но для того, чтобы прочитать мысли подобного рода, право же, не требуется быть Шерлоком Холмсом. И если я не ошибся и просто поддался своей излюбленной привычке предугадывать мысли и события, то единственная просьба: вернуть мне ее, когда надобность в ней у вас отпадет. Хочу надеяться, что вы выполните эту просьбу. Даже в том случае, если судьба готовит мне нечто трагическое. - Хорошо, - кивнул Мишель и, еще раз перечитав надпись на титульном листе, задумался.3
Савинкову не спалось. Он редко изменял своей давней привычке - ложиться заполночь и просыпаться еще до того, как первые лучи рассвета начнут борьбу с темнотой. Но теперь нервы порой сдавали и бессонница не давала сомкнуть глаз. В комнате было душно, казалось, из всех углов бьет резким запахом нафталина. Савинков, морщась, подумал о том, что, наверное, его скитаниям не будет конца. Гостиницы, временные квартиры, случайные ночлеги под крышами, а то и вовсе без крыши: в лесу, в стожке сена, в покинутом шалаше - от всего веяло чужим, непостоянным и горьким. Неожиданно в памяти возникли любимые места из Апокалипсиса. Спустив крепкие, натренированные ноги с кровати и вглядываясь в черное окно, Савинков прошептал вдохновенно: "И вышел конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли и чтобы убивали друг друга..." Он потянулся гибким, упругим телом и затих, не слыша своего дыхания. Он привык к тишине, умел сливаться с ней даже в то время, когда был уверен, что его не подстерегает опасность. Савинков любил темноту. Не только потому, что во мраке легче нанести удар первым или же раствориться в нем. Мрак помогал быть собранным, напряженным, готовым к схватке или к мучительным раздумьям. "Я взглянул, и вот конь вороной и на нем всадник, имеющий меру в руке своей..." прошептал Савинков и тоскливо прижался горячим лбом к окну. Крыши домов проступали во тьме расплывчатым, загадочным пятном. Почудилось, что полоска рассвета на горизонте наглухо загорожена этими крышами. Ему стало вдруг дико от черного окна, тюремной тишины, стало страшно самого себя. Захотелось, как никогда, света, петушиного крика, шелеста листьев. Бесстрашие и выдержка, которыми восхищались его сподвижники, давались Савинкову нелегко. Оставаясь наедине с собой, когда не нужно было ни играть, ни притворяться, ни рисковать, он испытывал тягостное чувство одиночества, бессилия и тоски. Лишь думы о деле, об организации, которую он, рискуя жизнью, создавал здесь, в Москве, готовя ее к решающей схватке с большевиками, лишь это воодушевляло и взбадривало. Савинков любил вспоминать недавнее прошлое. В каждом эпизоде, в каждом штрихе минувших дней он видел прежде всего себя. Собственное "я" в вихре воспоминаний разгоралось так огненно, что обращало в пепел всех других людей, чья роль была исчерпана до конца... То были дни, когда офицерство Петрограда с жадным нетерпением обратило свои взоры на Дон. На тайных сборищах, на конспиративных квартирах, в отдельных, окутанных дымом и чадом кабинетах ресторанов растроганно и почтительно, воодушевленно и истерично произносилось одно и то же имя: "Каледин". Атаман донских казаков собирал под свои знамена войска. "Каледин и Корнилов были Керенским объявлены мятежниками, - размышлял Савинков. - Но кто возьмет сейчас на себя труд утверждать то же самое? Желание возродить русскую армию и ненависть к Советам искупают многие недостатки этих генералов. Оценка людей меняется так же стремительно, как и оценка обстоятельств". И Савинков решил сделать ставку на Корнилова и Каледина. Снежный ноябрь семнадцатого года подходил к концу, когда Савинков выехал в Новочеркасск. Верный, как дворовый пес, Флегонт отправился туда самостоятельно, чтобы не возбуждать подозрений. Путь Савинкова лежал через Москву. Холодный, неуютный город встретил щербатыми мостовыми, израненными снарядами домами на Тверской, конными патрулями, революционными песнями, вырывавшимися вместе с клубами морозного воздуха из простуженных красногвардейских глоток, очередями за хлебом, которые, как издыхающие удавы, обвивали магазины и лавки. Савинков спешил. И все же не удержался от искушения проехать на лихаче через центр, чтобы запастись хотя бы беглыми впечатлениями. От Охотного ряда приказал извозчику ехать на Курский вокзал. Голодный черный пес, истекая слюной, бежал за пролеткой. "Дурная примета", - скривил тонкие брезгливые губы Савинков. Вокзал, перроны и поезда были так плотно забиты пассажирами, что казалось, попади в эту одичалую массу людей - и задохнешься. В такой толпе легко было затеряться, не привлекая чьего-либо внимания, и все же Савинков чувствовал себя почему-то неспокойно. Вскоре подали обшарпанный, скрипучий состав. Старые вагоны нехотя катились к запруженному людьми перрону, приглушенно лязгали буферами. Толпы мешочников, постаревших от горя женщин, обросших щетиной солдат в измятых, измызганных шинелишках приступом брали вагоны, не дожидаясь, пока они остановятся. Савинков с трудом пробился к хвосту поезда. Группа разъяренных солдат сгрудилась чуть в стороне, жестким живым кольцом сжав стоявшего в центре высокого розовощекого подпоручика. - Царский ублюдок! - гневно кричал солдат с перевязанной грязным кровоточащим бинтом рукой. - Скидывай погоны, гаденыш! Савинков приостановился. Ему были видны чуть покатые плечи офицера, на которых даже сейчас, в хмурый бессолнечный день, ярко светились золотые погоны и к которым, как к кладу, тянулись отовсюду жилистые, сильные руки. Видна была и часть его нежного, юного, чисто вымытого лица с вздрагивающими губами, над которыми отчетливо чернел чуть схваченный инеем пушок. - Нет, нет... - растерянно повторял подпоручик, озираясь, как затравленный, и нервными, резкими рывками плеч и локтей пытаясь сбросить цепкие пальцы солдат со своих новеньких, аккуратных и любовно пригнанных погон. - Кровопийца! Золотопогонник! - неслось со всех сторон. - Долой погоны, гидра! - Нет... Нет... - все тише и беспомощнее твердил офицер и вдруг в тот момент, когда казалось, он согласится выполнить требования окруживших его солдат, собрав все силы, рванулся из кольца, тщетно пытаясь прорвать его, и диким, полным отчаяния и злобы голосом завопил: - Не сниму! Не сниму! Не сниму!.. Солдаты ошеломленно затихли и откачнулись от кричавшего. Но это оцепенение длилось несколько секунд; очнувшись, они молча и неумолимо надвинулись на подпоручика... Савинков представил себя на его месте и содрогнулся. "Какую же ненависть породили эти золотые царские погоны! - подумал он. - Вот так же они могли и со мной. Вот так же, - горело в голове у Савинкова. - Но ничего, ничего..." Сиплый гудок паровоза вывел его из раздумий. Отчаянно работая локтями, Савинков протиснулся к ступенькам вагона. С проверкой документов при входе в вагон обошлось благополучно. Савинков предъявил фальшивое удостоверение о том, что он поляк и едет на Дон по делам польских беженцев. Проверявший документы солдат весьма подозрительно взглянул на изображение белого орла на его фуражке, но сзади напирали так энергично, что он не стал задавать вопросов и впустил Савинкова в вагон. Савинков с трудом втиснулся в купе первого класса. Красногвардеец с жиденькой бородкой и лукавым прищуром желтоватых глаз с ходу прилип к Савинкову с расспросами: кто такой, куда и зачем едет. Пришлось отвечать на ломаном русском языке с польским акцентом и всю дорогу контролировать себя, чтобы ненароком не вырвалось русское слово. Путь от Москвы до Киева занял почти шесть суток. По обе стороны полотна тянулись снежные поля, утопавшие в белых сугробах березы, изредка появлялись одинокие всадники. Савинкова беспокоило не то, что они ехали мучительно медленно, а то, что на любой остановке его могли случайно опознать, ссадить с поезда и передать в Чека. До Киева Савинков добрался без происшествий. Там пересел на другой поезд. Он тащился еще медленнее, словно на казнь. На границе Войска Донского началось... Поезд оцепили матросы. Они искали оружие. Когда матрос-черноморец вошел в купе и зычно спросил: "Оружие есть?" - Савинков впервые внешне спокойно протянул документы. - Поляк, говорит, бес его разберет, - затараторил сгоравший от любопытства красногвардеец. - Я его всю дорогу проверяю, ловлю, а он не ловится... Матрос озабоченно взглянул на него, хмыкнул и пробасил: - Полный назад, папаша! Тот замигал бесцветными густыми ресницами, осекся, закашлялся, сделав вид, что чересчур жадно хватанул горячую струю злого махорочного дыма. - Оружие имеется? - спросил Савинкова матрос, возвращая удостоверение. Савинков отрицательно покачал головой. - Смотри, дядя, а то казаки все равно отберут. У Савинкова все запело в душе от этих слов: "Казаки все равно отберут". Он едва не рассмеялся от радости. Матрос немного выждал и, увидев хмурое, отчужденное лицо Савинкова, махнул рукой: - Не дрейфь, пан, мы за интернационал. - И, подмигнув ему, вышел из купе. Ростов встретил Савинкова метелью. Дома дымились белым пламенем. Улицы были пустынны, лишь изредка встречались крохотные отряды красных, тут же исчезавшие в снежной кутерьме. Несколько раз мимо проплыли носилки с ранеными. Они были укрыты шинелями, облепленными снегом. Казалось, совсем неподалеку, тотчас же за городом, басовито ухают орудия. Савинков остановился в гостинице возле вокзала. Номера были переполнены хмурыми, неразговорчивыми людьми, в которых он без труда узнал переодетых в штатское офицеров. Вечером за скудным ужином Савинков начал осторожно прощупывать настроение соседей по номеру. Офицеры были растеряны и тревожились за исход боя, который шел под Нахичеванью. - Если победят большевики, всех вас поставят к стенке, - мрачно предсказал Савинков. - А между прочим, ваше место у Каледина. Долго оставаться в гостинице было небезопасно. На другой же день Савинков нанял возле рынка бричку до Таганрога. Было еще темно, когда выехали на шоссе. Метель, приутихшая ночью, снова показывала свой крутой нрав. Ветер был упруг, иглист, и порой чудилось, что еще немного - и лошади, и бричка, и люди в ней - все поднимется в воздух и сгинет в снежном аду. - А теперь назад! - прокричал вдруг Савинков, толкнув в бок утонувшего в громоздкой шубе низкорослого возницу. - Чего гутаришь? - натянул вожжи тот. - Поворачивай назад! - отряхиваясь от снега, повторил Савинков. - В Ростов? - В Аксайскую! - Чи сдурел? - Слушай, что велят! - Загодя говорю - попадем к большевикам в зубы, - все еще пробовал настоять на своем возница. - Бог не выдаст, свинья не съест, - сказал Савинков. - Погоняй! Ехали долго. Кони чутьем угадывали дорогу, встряхивали тяжелыми от налипшего снега гривами. Бричка, как привидение, медленно ползла по взбесившейся степи. Тихо, приглушенно всхлипывая, скрипели колеса. Осторожно пофыркивали кони. Пронзительно тявкала пушчонка, скрытая от глаз заснеженной далью. Если бы не эти звуки, Савинков уверовал бы в то, что они тащатся по нескончаемому могильному склепу. Задрав воротпик драпового пальто, Савинков дремал, временами стряхивая снег с ресниц. "Итак, на каких лошадок придется делать ставку? - Савинков вспоминал генералов, окопавшихся в Новочеркасске. - Перво-наперво Лавр Корнилов. Я же сам помог ему в июле стать главковерхом. Молодчина, выскользнул из Быхова, улизнул на Дон. Этот все умеет. Даже свой позорный побег из плена весной пятнадцатого года сумел изобразить как подвиг. Человек стальной хватки, сатанинского честолюбия. Метит в российские бонапарты. Столкновение мое с ним в будущем неотвратимо. Но это в будущем. А пока... Впрочем, нельзя ни на миг забывать: если Лавр Корнилов протянет одну руку, то другой тут же тайно взведет курок... А как генерал Алексеев? Рафинированный лицемер. Но влиятелен чертовски. Здраво смотрит на Дон как на базу для действий против большевиков. Усиленно формирует Добровольческую армию. И все же ему не тягаться с Калединым. Этот отчаянно смел и решителен. Надежда российской буржуазии. Лорд Сесияь, англичанин, помощник министра иностранных дел, не зря сказал: "Единственным лучом надежды является или может казаться лишь то, что делает или сможет сделать казацкий вождь Каледин". Но горд и непомерно заносчив. На просьбу самого Керенского принять его рявкнул: "Гоните его к черту, ему здесь нечего делать!" Чего доброго, вот так же рявкнет и на меня!.. Так, кто там еще? Да, Митрофан Богаевский. Стелет мягко, но кладет по-каледински. Пригодится на первых порах. Кадеты Парамонов, Степанов не в счет. Известные прилипалы и флюгеры. Впрочем, - Савинков горько усмехнулся. - Ты и сам, кажется... Воистину, превратился в рычаг Архимеда. Точка опоры - белые генералы. А, к дьяволу формальную логику! Люди - рабы условностей. Отказавшись от бога на небе, создают себе идолов на земле. Черт с ними, пусть эти боги дают оружие, деньги, пусть берут Петроград, Москву. А там там мы решим, чью икону ставить в красном углу. К тому времени у меня будет своя армия - невидимая, но могущественная..." Савинков весь ушел в себя и прервал раздумье лишь в тот момент, когда над самым ухом раздался хриплый, озлобленный возглас: - Стой, падла! Тут же чья-то жилистая рука вырвала у возницы вожжи. Бричка остановилась, у ее передка заколыхалась огромная усатая голова, закутанная башлыком, тускло замерцала вороненая сталь штыка. - Оглохли, мать вашу!.. Кто такие?! - Свои, - коротко, с достоинством ответил Савинков, приподнимаясь. - Свои... - яростно и смачно передразнил казак. - Нешто мы с тобой на одной бабе сроднились? Интуитивно чувствуя, что попал к калединцам, Савинков радостно заулыбался. - Чего ощерился?! - разозлился казак. - В станичном правлении быстро слезу вышибут, - добавил он с угрозой. Казак по-хозяйски уселся в бричку. Возница ожесточенно хлестнул коней те с места взяли рысью. В Аксайской, у станичного правления, бричку окружила толпа казаков. Начались беспорядочные вопросы. Казаки не хотели верить, что Савинкову удалось пробраться через Ростов. Над толпой повисло страшное слово "шпион". Под конвоем его привели к станичному атаману. Щеголеватый войсковой старшина взглянул на Савинкова, и рот его пополз до ушей, обнажив шеренгу щербатых, прокуренных зубов: - Господин Савинков? Я вас знаю. Помните Гатчину? На следующий день Савинков прибыл в Новочеркасск. Здесь его ждали разочарования. Он смутно предчувствовал их еще до того, как решил ехать, и сам умилился сейчас своей прозорливости. В Новочеркасске царил разброд. Алексеев и Корнилов, как показалось ему, грызлись между собой, исподтишка плели интриги. Армия формировалась со страшным скрипом. На встречу с Савинковым собрался почти весь генералитет. Савинков говорил долго, с чувством. А когда вскользь заикнулся об учредительном собрании, о демократизации, Митрофан Богаевский, крутнув жесткими узловатыми пальцами висячий ус, хмуро изрек: - Время демократии прошло... А Каледин добавил: - При слове "демократия" хочется рубать шашкой, рубать без роздыху! - Но, - возразил Савинков, не удивляясь этой вспышке гнева, - как вы мыслите в таком случае привлечь на свою сторону широкие массы казачества? - А так! - крякнул Каледин, с хрустом заедая выпитую водку пупырчатым соленым огурцом. - А так! - повторил он с наслаждением и, коротко хохотнув, выхватил саблю и вожделенно крутнул ею над головой, словно сидел на коне, галопом стелющемся над степью. "Неужели он и впрямь так прямолинеен? - удивился Савинков. - Все в лоб, все напролом. Не понял даже, что речь идет лишь о слове, всего лишь о слове..." - Мы надеемся на вас, господин Савинков, - заговорил Алексеев, стараясь хоть слегка разрядить накалявшуюся атмосферу. Каждое слово он произносил мягко, но тону его кричаще противоречил недобрый блеск маленьких глаз, сверливших Савинкова. - И мы ждем ваших плодотворных действий там, в центре России. Уже хотя бы потому, что здесь, на юге, мы не сидим сложа руки. Поверьте, Борис Викторович, служба нам отнюдь не кажется медом. Мы, русские генералы, отдавшие десятки лет регулярной армии, вынуждены набирать добровольцев! Это ли не парадокс! Пока к нам записываются лишь офицеры, юнкера, кадеты... - И гимназисты! - огорченно воскликнул Каледин. - Их, извините, еще мама на горшок за ручку водит. - Ах вы шутник, - добродушно ухмыльнулся Алексеев, но глаза его остались такими же недобрыми. - Действительно, армия пока что в стадии зачатия. Но все великое рождается в муках, не так ли? Надеюсь, это не отпугнет вас, Борис Викторович? - Страх мне неведом, - гордо ответил Савинков. - Одобряю! - с натужной радостью воскликнул Каледин. - Такие демократы нам подходят! Стройный, крепко сшитый, но низкорослый Корнилов обжигал собеседников черными углями по-калмыцки посаженных глаз. Он встретил Савинкова подчеркнуто официально, как бы давая понять, что между их прошлым и настоящим лежит незримый рубеж, переходить который невыгодно ни тому, ни другому. Корнилов вначале молча слушал разговор Савинкова с генералами. Само слово "демократия" было ему ненавистно, хотя сейчас он и смирялся с ним: и потому, что воспринимал его как нечто неизбежное, но недолговечное и преходящее, и, главное, потому, что не принимал всерьез страстных речей Савинкова в защиту этого слова. Он хорошо знал, что для такого прожженного политикана, как Савинков, оно не более чем конек, оседланный лишь для того, чтобы проскакать самый опасный участок пути. - А помните, Борис Викторович, августовское заседание Временного правительства? - вдруг спросил Корнилов. Генералы удивленно переглянулись: внезапный вопрос Корнилова, казалось, отвлекал от главной темы разговора и таил в себе нечто коварное и загадочное. - Разумеется, помните, ибо как раз именно вы, а также и Керенский предупреждали меня, что на заседании не стоит говорить об оперативных планах, так как они тотчас же станут достоянием немецкого командования. Вы не доверяли членам собственного кабинета. А ведь, насколько я понимаю, правительство Керенского выставляло напоказ именно демократию? Савинков понял, к чему клонит Корнилов, но решил стоять на своем. - Лавр Георгиевич, - Савинков назвал Корнилова по имени-отчеству, подчеркивая, что прежние взаимоотношения, сложившиеся между ними, он намерен сохранить и на будущее, несмотря на то что Корнилов не давал к тому повода. - Согласитесь, времена меняются, а с ними и взгляды. И даже привычные, ясные в прозрачности своей понятия приобретают иной, подчас самый неожиданный смысл... - Времена меняются, - перебил его Корнилов и опять-таки без видимой связи с тем, что только что сказал Савинков, добавил: - Вчера в Аксайской казаки офицера на штыки подняли. А неделю назад здесь, в Новочеркасске... - Плоды демократии! - негодующе фыркнул Каледин. - Намордник снимать преждевременно, извините за столь образное сравнение, - заключил Корнилов, всем тоном оттеняя, что говорит эту фразу вовсе не потому, что хочет подкрепить восклицание Каледина и придать ему весомость, а совершенно самостоятельно и независимо ни от кого. Алексеев заинтересованно переводил взгляд с Корнилова на Савинкова. Его радовало, что они в чем-то главном походили друг на друга. Он старался понять, в чем их схожесть, и вдруг его осенило: да ведь эта же схожесть не показная, а внутренняя, но до поры тщательно скрываемая. Да и внешне они, черт побери, схожи: один и тот же калмыцкий разрез глаз, смуглая, как у метисов, кожа лица, тонкие, тщеславно и себялюбиво сжатые губы. - Господа! - вновь вступил в разговор Алексеев. - Я убежден, что приезд господина Савинкова как нельзя кстати. Сейчас не время для раздора и дискуссий. Все - под одно знамя. Усилия Бориса Викторовича достойны похвалы, и мы еще не раз с благодарностью воспользуемся ими. Савинков сделал вид, что его удовлетворяют эти слова, и тут же отметил про себя, что его, видимо, хотят сделать козырной картой в чужой игре. - Практические действия я поддержу всей душой, - сказал Корнилов. - А неприязнь к словоблудию во мне породил еще Керенский. Савинков мгновенно вспомнил цветистые фразы из воззваний, подписанных Корниловым, вроде "казаки, рыцари земли русской", "не на костях ли ваших предков расширялись и росли пределы государства Российского", "славное казачество" и множество подобных, и мысленно усмехнулся... Как и предполагал Савинков, кроме общей беседы генералы обязательно захотят встретиться с ним, так сказать, тет-а-тет. Особенно намекал на это Корнилов, и Савинков сразу же сообразил, что тот не в ладах с Калединым и вообще ни за что не смирится с ролью второго плана. Оставшись наедине с Савинковым, Корнилов без обиняков заявил: - Вам я верю, Борис Викторович. Поверьте и вы мне: Каледин - позер, храбрость его напускная. Осушит графинчик смирновской - и саблю наголо! Увидите - с Дона его и за уши не вытянешь. А моя цель - Петроград. Савинкову вспомнился провал похода Корнилова на Петроград, но он тут же заглушил в себе иронию, рассудив, что ситуация ситуации рознь. - Я много думал о том, почему август оказался для нас таким трагическим, - Корнилов взглянул Савинкову прямо в лицо. - Думаю, что вы со мной согласитесь: мы слишком болезненно относились к партийной принадлежности тех, кто вставал в наши ряды. К черту мнительность! Собирайте всех, кто ненавидит большевизм! Гибче играйте на патриотических чувствах!.. Савинкову был не по душе этот менторский тон, но пришлось сделать вид, что он с должным вниманием воспринимает каждое слово Корнилова. И когда тот стал перечислять офицеров, которые могут составить ядро организации, у Савинкова полегчало на душе. - Вот, к примеру, полковник Перхуров Александр Петрович, - говорил Корнилов, в такт словам ударяя по столу сухоньким смуглым кулачком. Окончил академию генерального штаба, потомственный дворянин Тверской губернии. За монархию жизнь отдаст не задумываясь. Сейчас, по моим сведениям, в Москве. Превосходнейшим помощником может оказаться для вас. Всенепременнейше рекомендую разыскать его. "На словах - к черту партийность, а в помощники мне монархиста навязывает", - отметил Савинков. Корнилов перебрал еще с десяток фамилий и вдруг оживился. - Да, к вопросу о том, как поставить на службу нашему делу патриотические чувства офицеров. Вероятно, вы не забыли, Борис Викторович, штабс-капитана Ружича? - Ружича! - воскликнул Савинков. - Вы что-нибудь знаете о его судьбе? - Погиб, - коротко ответил Корнилов. - Кстати, вам не следовало покидать его в Гатчине. Смертельно раненный, он звал вас. Я сам в Гатчине не был, но сведения сии достоверны, получены от моего лучшего друга. Впрочем, это не упрек. Все мы были заняты выполнением своего долга. Я напомнил вам о Ружиче лишь потому, чтобы заострить свою мысль о патриотизме. Ружич был не из тех, кто пел "Боже царя храни!". Но разве любовь к России и органическое неприятие деспотизма, характерное для людей типа Ружича, нельзя направить в священное русло борьбы с большевиками? - Вы правы, Лавр Георгиевич, - согласился Савинков, стремясь не обнаружить перед Корниловым свою злость за новый поток нравоучений. - Если мы оттолкнем таких людей от себя, их, чего доброго, приголубят большевики. Что касается Ружича, то вы знаете, как мы были дружны с ним. И не моя вина в том, что я не смог спасти его. Сообщение же ваше о его гибели глубоко опечалило меня: этого человека ждало большое будущее. А про себя подумал: "Какие сантименты развел Лавр Георгиевич! Ружича пожалел, делает вид, что забыл, как своих контрразведчиков на него науськивал..." Перед отъездом из Новочеркасска Савинков нанес визит Алексееву. Тот дал ему поручение наладить связь с лидерами кадетов в Петрограде и подчеркнул особо, что Добровольческая армия здесь, на Дону, почувствовала бы себя неизмеримо прочнее, если бы там, в центре, у нее имелся крепкий, надежный тыл в лице русского офицерства. Этим он как бы скреплял воедино замыслы генералов с замыслами Савинкова. - Для того чтобы свалить большевиков, я готов на все, - заверил Савинков. - Я добьюсь этой цели во что бы то ни стало. - Истерзанное, измученное и оскорбляемое русское офицерство ждет своего вождя, - подхватил Алексеев. - Офицерство жаждет единства, полно решимости спасти Россию. Но силы его раздроблены, распылены. Превратить их в мощный, всесокрушающий кулак - это ли не завидный удел вождя? Савинков слушал словоохотливого генерала с нарастающим раздражением. Он ждал момента, когда этот разговор, принявший с самого начала декларативный характер, перейдет в область конкретных решений. Неужели этот дряхлеющий генерал всерьез думает, что он, Савинков, вполне может обойтись без финансовой поддержки? - Здесь, на Дону, вам, бесспорно, неимоверно трудно, - сказал Савинков, озабоченно наморщив лоб, - хотя почва у вас благодатнейшая - вы имеете дело с преданным казачеством. А каково будет мне и другим, которым придется работать в самом сердце большевизма? И если, отдав дань романтической стороне дела, перейти к вещам, далеким от возвышенной лирики, то абсолютно ясно, что без денег не обойтись. - Выкроим, Борис Викторович, непременно выкроим, - пообещал Алексеев. Важно сделать первый шаг, заявить о себе как о реальной силе. И союзники обязательно откроют свои кошельки. С нетерпением будем ждать от вас вестей. Лицо Алексеева просияло добрейшей улыбкой, а глаза похолодели. "Лиса, старая лиса", - подумал Савинков, прощаясь. Он прекрасно сознавал, что, хотя Алексеев все время- и старался показать, что его, Савинкова, здесь очень ценят и отводят ему особую роль в борьбе с большевиками, между слов генерала явственно чувствовалось стремление побыстрее отослать его отсюда. Генералы хотели убить двух зайцев: они могли тешить себя надеждой, что офицерство, сколоченное Савинковым, нанесет большевикам удар изнутри и облегчит наступление Добровольческой армии на Москву и Петроград. И, кроме того, освобождали себя от опасности стать жертвой такого мастера политической интриги, какого они безошибочно видели в Савинкове. Весь обратный путь Савинков пытался успокоить свою совесть. Он гордился тем, что был террористом, наводившим страх на членов царской фамилии, а теперь вот удивительно быстро нашел общий язык с царскими генералами. А что поделаешь? Борьба предстоит отчаянная. В одиночку против большевиков не попрешь. Ясно как божий день, что генералы любят не Россию, а самих себя, во сне видят монархию. Но у них пулеметы. И коль ты сказал "а", скажешь и "б". Тем более что в эсеров больше веры нет, они в растерянности, у них нет мужества. Значит, ставка на генералов. И прежде всего, как это теперь окончательно прояснилось, на Корнилова. Правда, политик из него никудышный. Впрочем, слабость Корнилова - твоя сила... До Петрограда Савинков добрался благополучно. Выполнив поручение Алексеева связаться с кадетами, находившимися в подполье, отправился в Москву. Оттуда он намеревался вновь пробраться на Дон. Но узнал, что Каледин застрелился, а Ростов и Новочеркасск взяты большевиками. Алексеев и Корнилов вынуждены были отступить и увести Добровольческую армию в донские степи. Позднее Савинкову рассказали, что Корнилов послал Каледину телеграмму, полную упреков в нерешительности и кончавшуюся словами: "Я не хочу защищать Дон от Дона". Савинков остался в Москве и с бешеной энергией стал создавать тайную организацию офицеров. Восхищался, что нашел ей название, звучавшее как стихи: "Союз защиты родины и свободы". ...Савинков очнулся, приоткрыл глаза. Да, прошлое лишь трамплин к будущему. Было приятно сознавать, что организация сколочена прямо в стане большевиков. Если бы грозный председатель Чека знал, что он, Савинков, в Москве! Окна все еще были черны. Савинков вскочил, приник к шторе. Ни одной звездочки в небе! Пол был холоден, босые ступни мерзли. "Ну и весна, черт ее побери!" - выругался он. Савинкову вдруг захотелось занести на бумагу все, о чем только что вспоминал и размышлял. Придет время - как крупица золота будет ценна каждая деталь, каждый штрих его жизни. И кому же позаботиться об этом, как не самому? Савинков иногда испытывал мучения оттого, что не мог всецело посвятить себя литературе. В нем всегда жил второй человек - писатель Ропшин. Честолюбие политического деятеля порой боролось в душе с честолюбием литератора. Но политик все время брал верх: прельщала власть. Савинков побеждал Ропшина. Савинков щелкнул зажигалкой. Оплывшая свеча наполнила комнату смутным желтоватым светом. Стремительно, по-военному, оделся, налил из графина в пригоршню теплой, застоявшейся воды, плеснул в лицо. Впереди ждали дела.4
Было уже близко к полуночи, когда Мишель, допросив последнего арестованного, пошел будить Калугина. Тот пристроился на столе, длинные ноги неловко свешивались через край. Едва Мишель дотронулся, Калугин вскочил, будто и не спал вовсе. - Курс - на Лубянку, - сказал Калугин. - Доложим Петерсу, а уж тогда вздремнем. Илюху я отправил спать, сосунок еще... Они вышли на улицу. Апрельская ночь была светлой и чистой. Последние льдинки хрустели под ногами, но теплое дыхание весны напористо противостояло холоду, жило в небе, разбросавшем над городом гроздья зовущих звезд. Мишелем овладело смешанное чувство удовлетворения и разочарования. Кажется, он безошибочно разобрался с арестованными. Но из всех, кого он допрашивал, лишь несколько человек были в своем роде необычными и вызывавшими интерес. И в первую очередь Громов. За его немногословностью и сдержанностью чувствовался глубокий ум и сильная воля. Резкий, короткий гудок автомобиля вывел их из задумчивости. Машина, прижавшись к тротуару, остановилась. - Феликс Эдмундович, - шепнул Мишелю Калугин. - Вы, вероятно, направились на Лубянку, товарищи? - окликнул их Дзержинский, устало выходя из машины. - Придется вернуться. Я хотел бы знать, что вам удалось узнать сегодня. Втроем они вернулись в "дом анархии", и вначале Калугин, а затем Мишель доложили Дзержинскому о результатах допросов. Он слушал молча, одновременно делал пометки в записной книжке. - Кое-что прояснилось, - заговорил Дзержинский. - Было бы, конечно, наивно думать, будто сейчас мы можем сказать о каждом арестованном что-либо определенное. Но пища для размышлений есть. Теперь надо попытаться нащупать их связи с внешним миром, наверняка тут ждет нас много неожиданностей. Дзержинский распорядился насчет дальнейшего содержания арестованных, выяснил, насколько надежно они охраняются, и, перед тем как выйти на улицу, вдруг спросил: - Значит, его фамилия Громов? - Да, - подтвердил Мишель. - Вот его книга с дарственной надписью. - Разговор продолжим завтра, - сказал Дзержинский, взяв книгу. - А сейчас вам пора отдохнуть. Садитесь в машину. - Да мы своим ходом, - неуверенно отказался Калугин. - Садитесь, - повторил Дзержинский. - Товарищ Калугин живет, я знаю, неподалеку от Лубянки. А вы, товарищ Лафар? - В Каретном ряду, товарищ Дзержинский. - Вот видите, вы мои попутчики. Калугин и Мишель быстро забрались в автомобиль. - Чувствуете, запахло весной? - спросил Дзержинский, оборачиваясь к ним. - Чувствуем, - весело отозвался Мишель. - Первая советская весна! - Первая, - кивнул Дзержинский. - Радостная и неимоверно трудная. И надо выстоять. - Теперь к пирсу вертаться несподручно, - стараясь быть еще серьезнее, чем обычно, сказал Калугин. - Теперь полный вперед, остановка - в коммуне! - Верно, - сказал Дзержинский. - А морские словечки, товарищ Калугин, помогают вам ярче выразить мысль. Калугин сразу не мог понять, хвалит или осуждает его Дзержинский. По словам выходило, что хвалит, а по тону - вроде подшучивает. - Не могу отвыкнуть, - смущенно признался Калугин. - Липучие, черти, как медузы... - А зачем отвыкать? - улыбнулся Дзержинский. - Я вот как-то без этих словечек и представить вас не могу. - И я тоже! - подхватил Мишель, вновь и вновь радуясь, что попал в подчинение такому, видать по всему, отличному человеку, как Калугин. Они ехали по городу, открывшему все улицы, мосты и переулки весне. Это была единственная сила, которая одолела Москву и от которой сама Москва и не думала защищаться. Автомобиль подъезжал к Петровке, когда Мишель вдруг предложил: - Товарищ Дзержинский, заглянули бы ко мне? На чашку чая... Дзержинский взглянул на часы. - Ну хоть на полчаса, - упрашивал Мишель. - Как, товарищ Калугин? - спросил Дзержинский. - На полчаса? нахмурился Калугин. - Разве что на полчаса... - Ну вот - единогласно, - подытожил Дзержинский. Каждая минута была на счету, но Дзержинский откликнулся на просьбу Мишеля. То ли потому, что ему захотелось посмотреть, как живет молодой комиссар ВЧК, то ли потому, что в город вступала весна и хотелось, пусть ненадолго, отвлечься от непрерывных суровых обязанностей. В подъезде дома, в котором жил Мишель, стояла темнота - густая и непроницаемая, как ночное южное небо. Ветер, еще пахнущий снегом, ворвался в открытую дверь. - Сюда, - негромко сказал Мишель, и они стали медленно подниматься на третий этаж. Ступеньки каменной лестницы были крутые, и Мишель приостановился на площадке, давая Дзержинскому передохнуть. - Не записывайте меня в старики, - пошутил Дзержинский. - Шинель не снимайте, в квартире нетоплено, - предупредил Мишель, пропуская Феликса Эдмундовича в прихожую. Но Дзержинский не послушался, молча разделся и, когда Мишель зажег свечу, виновато взглянул на свои сапоги - от них на паркетном полу остались мокрые расплывчатые следы. Мишель внес свечу в гостиную, поставил ее на круглый стол, сбросил с себя куртку. - Пианино, - как-то удивительно нежно проговорил Дзержинский. - Подарок покойной матери, - отозвался Мишель. - Она учила музыке детей из богатых семей. Каким-то чудом собрала деньги. Мечтала, чтобы я стал музыкантом, даже композитором. - Вы играете? - Да. Не блестяще, правда. Садитесь, прошу вас. Дзержинский сел так, что пианино было перед его глазами, и смотрел на пего, будто оно уже издавало звуки - еще очень робкие, далекие. Он сидел не шевелясь, похожий на человека, позволившего себе отдохнуть после утомительного перехода, готовый по первому зову трубы вновь продолжить свой путь. Мишель бережно поднял крышку пианино и тоже замер, словно прислушиваясь к чему-то. - Шопена... - тихо попросил Дзержинский. Мишель вздрогнул. "Шопена!" Поразительным было то, что он как раз и намеревался сыграть этюд Шопена - "Революционный"! В комнате было по-прежнему тихо, но все, что окружало Мишеля, мгновенно обрело дар речи. И пламя свечи, огненным языком отражавшееся в черном зеркале пианино, и Свобода с картины Делакруа, взметнувшая над баррикадой знамя, и окно, за холодными стеклами которого синела ночь, - все, казалось, повторяло то же слово: Шопена... Шопена... Да, он очень нужен был сейчас, Шопен! Нужен свече, чтобы ярче гореть и не гаснуть. Ночи за окном, чтобы без отчаяния и страха уступить место рассвету. Свободе, чтобы все: и мальчишка-гамен, поразительно похожий на Гавроша, и раненый, пытающийся победить смерть, и рабочий в блузе, - все видели парящее над баррикадой крылатое знамя. Шопен был нужен и Дзержинскому, потому что он, никогда не позволявший своим чувствам отдаться чемуто другому, кроме борьбы, хотел услышать сейчас бурю солнечных звуков, высекающих искры из сердца. Шопен был нужен Мишелю, потому что молодость жаждет фанфар и славы, вечного боя, любви и счастья. Шопена хотел послушать Калугин, потому что оп еще никогда в жизни не слушал его... Мишель осознал все это в считанные мгновения и вдруг, неожиданно для себя, в тот самый миг, когда в сердце взметнулось вдохновение, коснувшись кончиками пальцев холодных клавиш, услышал, как пианино отозвалось ему голосом и дыханием самого Шопена... Дзержинский не видел ни того, как стремительно метались длинные пальцы Мишеля, ни того, как дрожало пламя свечи, ни того, как изумленно уставился на Мишеля Калугин. Дзержинский слушал... Шопен звучал, радуя и поражая то своей кротостью, то неистовством. Вырвавшись из тесной комнаты, над ночной Москвой, над голыми еще лесами, над полями, жаждущими солнца и человеческих рук, у самых звезд - звучал сейчас "Революционный" этюд Шопена... Дзержинский слушал... Что это? Небо, сотканное из живых огненных звезд. И чувство счастья оттого, что можно неотрывно смотреть в это небо. Смотреть! Когда он в последний раз был в лесу, когда умывался росой, говорил со звездами? Когда? Шопен... Он способен взорвать человеческую душу. Как хочется обнять своей любовью все человечество, зажечь его мечтой о счастливом будущем... Шопен... В этой музыке - великие страдания и радость, несмотря на мучения. Кажется, даже в тюрьме звучала эта мелодия. Стоны всей России, проникавшие за тюремную решетку, били в сердце, как призывный набат. В тюрьме он вел дневник. Не ради забавы - то был порожденный самой жизнью разговор с самим собой. Через полмесяца - десять лет с тех пор, как была сделана первая запись. На вопрос, где выход из ада теперешней жизни, он тогда ответил: в идее социализма. Социализм - факел, зажигающий в сердцах людей неукротимую веру и энергию. Сейчас это особенно ясно... Нет, он не проклинает свою судьбу. Он знает, что прошел этот путь ради того, чтобы разрушить ту огромную тюрьму, что находилась за стенами его тюрьмы. Оп говорил тогда и готов повторить сейчас: если бы предстояло начать жизнь сызнова, начал бы так, как начал. И не но долгу, не по обязанности. Это - органическая необходимость... Все яснее и громче звучит вечный гимн жизни, правды, красоты и счастья, и нет места отчаянию. Жизнь была для него радостна даже тогда, когда на руках звенели кандалы. Он знал, во имя чего переносил муки... Шопен... Он влил в свою музыку клокочущую кровь, в этой музыке бьется его живое сердце... Волнения, бури, схватки... И вот - героические фанфары, как призыв к вечной борьбе... Калугин впервые видел Дзержинского таким, каким он был сейчас. Пламя свечи дрожало, и оттого казалось, что лицо Дзержинского тоже вздрагивает, что каждый звук причиняет ему боль и страдания. Калугин и подумать не мог, что музыка способна преобразить человека, да еще такого человека, как Дзержинский. А главное, по твердому убеждению Калугина, этот самый Шопен ничуть не был похож на переливчатые, задорные переборы гармошек на городских окраинах, был чужд, непонятен и даже враждебен всему тому, что несла с собой революция. Калугину по душе были марши, вихрем врывавшиеся в душу и звавшие на смертный бой. И потому он косился сейчас на Мишеля, словно обманулся в нем. "Какой же он, к дьяволу, рабочий... Интеллигенция! А ты еще в кругосветное с ним собираешься. Впрочем, Мишель - сосунок, да и с детства приучен к фортепьянам. А вот как же Дзержинский? Как он может совмещать свою ненависть к тиранам и всяческой контре с этим самым Шопеном?" Так думал Калугин, не замечая, что, независимо от хода своих мыслей и от своего настроения, музыка, как бесовская сила, как наваждение, вползает в его душу, бередит ее и подчиняет себе. Внезапно почувствовав это, он встряхнул головой, стараясь избавиться от колдовской музыки, но это не помогло. Что-то охватило его, парализовав волю и возбудив в нем занимавшуюся в душе радость. Мишель в последний раз прикоснулся к клавишам, прислушиваясь, как нехотя замирает заключительный аккорд. Неожиданно он ощутил на плече прикосновение ладони. Перед ним стоял Дзержинский. Мишель сразу же понял, что Дзержинский хочет сказать ему многое. - Спасибо... - Дзержинский помолчал и, преодолев в себе что-то сдерживающее, заговорил: - Сейчас мне хотелось повторить Гете: "Остановись, мгновенье, ты прекрасно". - Он снова умолк, потом продолжил прерывисто, возбужденно: - А когда-нибудь... когда-нибудь мы выкроим время, и я попрошу вас сыграть вторую фортепьянную сонату си бемоль минор. Самое трагичное из всего, что Шопен создал. Борьба между надеждой и отчаянием, жизнью и смертью. Скорбь мужественного сердца, влюбленного в жизнь... Калугин слушал рассеянно: он все еще был под влиянием музыки и недоумевал, почему Мишель перестал играть. - Вспомнилось, - снова заговорил Дзержинский. - Весна. По Лене только что прошли льдины. Прошли, а холод оставили. На берегу - костер. Моросит дождь. Вокруг костра - ссыльные. Я в их числе. Утром в Качуге мы должны были сесть на паузок. И как получилось, теперь даже самому странно, а вот тогда... Я вдруг начал читать свою юношескую поэму. Да, да, поэму. На польском языке. Подражательная поэма была, конечно. Влияние Мицкевича... Мишель на миг представил себе и лица ссыльных, и реку, освободившуюся ото льда, и синеватый вечер, предвещавший солнечное утро, и лицо юноши в багровых отсветах костра. А Калугин невидяще смотрел на Мишеля, на пианино и тщетно пытался прогнать засевший в мозгу вопрос: "Почему он перестал играть? Почему?" Он до того был поглощен этой навязчивой мыслью, что не сразу услышал слова Дзержинского: - Ну как, товарищ Калугин? Понравился Шопен? - Думаю так, Феликс Эдмуидович... - Калугин чувствовал себя словно пробудившимся ото сна и злился, что никак не может подобрать подходящие слова, способные выразить именно то, о чем думал. - Ну как бы это... Короче: такой Шопен - ветер в паруса революционного корабля! - Верно, - серьезно подтвердил Дзержинский. - Кстати, сколько у нас еще минут в запасе? - Пятнадцать минут, - скосив глаза на часы, ответил Калугин. - Тогда попросим товарища Лафара прочитать свои стихи. - Не знаю, право, - смутился Мишель. - После Шопена... - Hу после, - возразил Дзержинский. - Точнее сказать - вместе с Шопеном. - Хорошо, - согласился Мишель. Он взметнул шевелюру и едва слышно прочитал первые строки. И стихи сразу же одолели его. Мятежные и ласковые, грозовые и солнечные, они вырвались из его души. Они и не могли быть иными, эти стихи - стихи о революции. Мишель читал так, словно его слушали пе два человека Дзержинский и Калугин, а все бойцы, сражавшиеся сейчас за новую жизнь. - Революция породила новый мир, - после долгой паузы заговорил Дзержинский. - А значит, и новую поэзию, поэзию действия, высокого долга, оптимизма. Поэзию, отрицающую беспросветное отчаяние. Она отнимает трагизм даже у смерти. Окружает жизнь не ореолом мученичества, а безграничного счастья борьбы... Вот скажите, товарищ Калугин, - вдруг обратился к нему Дзержинский, - скажите, что произойдет, если внезапно исчезнет поэзия? Калугин не ждал такого вопроса, он был уверен, что Дзержинский спросит его мнение о стихах Мишеля. Он учащенно заморгал густыми, цвета спелой ржи, ресницами и энергично, чтобы подбодрить себя, застегнул кожанку на все пуговицы. - Если сердца людей покинет поэзия, - не ожидая ответа, задумчиво проговорил Дзержинский, - люди перестанут быть людьми... - Он помолчал и, повернувшись tt Мишелю, сказал: - В ваших стихах горит революционный огонь. Они искренни и мужественны. Лично я - за такую поэзию. Мишельпросиял: эти слова он воспринял как похвалу. - А как вы думаете, - неожиданно спросил Дзержинский, - если этого Громова мы отпустим? - Правильно! - загорелся Мишель. - Он же ищет истину, разочаровался в жизни... - Не более? - будто перепроверяя самого себя, уточнил Дзержинский. - Не более! - подтвердил Мишель. - Не берись лапти плести, не надравши лыка, - вдруг вставил Калугин. Мой батька так говорил, - добавил он, чтобы не обидеть Мишеля. - Метко говорил батька, - улыбнулся Дзержинский. - Ищет истину? Возможно. Разочаровался в жизни, как Печорин? Тоже не исключено. И все-таки знаете, что меня настораживает? Его стремление внушить нам, что он вне политики. Мол, люблю русскую землю, русский народ, леса и нивы... Как некую абстракцию. Таких чудес в природе не бывает. - Он был так откровенен, - задумчиво произнес Мишель. - Жаль, что вы его сами не допросили. - Вот это уж вовсе пока ни к чему, - возразил Дзержинский. - Не надо, чтобы он возомнил, что им так заинтересовались. И если мы его освободим, то не следует выпускать из поля зрения. Не так ли, товарищ Калугин? - Точно, Феликс Эдмундович. Дзержинский задумчиво полистал книгу, останавливаясь на самых любимых местах. Юностью повеяло от знакомых страниц "Овода". Придвинув поближе свечу, еще раз перечитал надпись на титуле. - Любопытно, - оторвавшись от книги, сказал он. - Кажется, я где-то уже встречал этот почерк. - Неужели? - возбужденно вскочил со стула Мишель. - А вы считали, что я послал вас заниматься слишком прозаическим делом, - улыбнулся Дзержинский. - Не исключено, вас ждут приключения. Но об этом - завтра. Дзержинский взглянул на часы. - Нам пора. Будем прощаться. - А чай! - спохватился Мишель. - Я мигом заварю чай! - Полчаса, - напомнил Дзержинский. - Всего полчаса. Дзержинский надел шинель и, перед тем как выйти из комнаты, обернулся к Мишелю: - Еще раз спасибо. Честное слово, с октября семнадцатого я еще ни разу так чудесно не отдохнул, как этой ночью.5
Перед самым рассветом разразилась гроза. Юнна, отбросив одеяло, вскочила на ноги и открыла окно. В водосточных трубах рокотала вода. Крыши домов сонно и глухо отзывались на раскаты грома. Пахло мокрой сиренью. - Как хорошо!.. - прошептала Юнна, радуясь грозе. - Чудесно, что все получается так, как я задумала. Нет, нет, это не случайно, не случайно... - повторяла и повторяла она, точно заколдованная. Еще с вечера Юнна загадала: если утром произойдет что-либо необыкновенное, значит, ей посчастливится. Загадала неспроста: именно сегодня ей предстояло идти на Лубянку. И она восприняла грозу как доброе предзнаменование. Юнна высунулась из окна, подставив лицо дождю. Чудилось, каждая капля таила в себе крохотную, но осязаемую частичку грозы. Молнии подступали все ближе и ближе, и неожиданно одна из них вспыхнула совсем рядом. Юнну ослепило, и она открыла глаза лишь тогда, когда взрывчато и сокрушающе прогрохотал гром. Не зажигая свечи, Юнна расчесала по-мальчишески короткие волосы. Подождав, когда снова вспыхнет молния, заглянула в старинное зеркало. Словно в легком тумане, увидела на мгновение мокрое восторженное лицо. Молния тут же погасла, оставив черный шлейф, и лицо исчезло, но Юнна уже забыла о зеркале. Она сознавала, что главное в ней не глаза, излучающие голубой, как небо, свет, не пушистые волосы, словно взбитые ветром, не дерзко очерченные губы, а то ликующее ощущение юности, свежести и здоровья, которое она постоянно чувствовала в себе. Одевшись, Юнна тихонько приоткрыла дверь комнаты, где жила мать. Она знала, что сон у матери чуткий, как у человека, которого подстерегает опасность. Но предосторожность оказалась излишней: мать уже не спала. Высоко подложив подушки, она читала толстую, изрядно потрепанную книгу. Маленькая комната матери напоминала библиотеку, которую долго не приводили в порядок. Книгами был забит старинный красного дерева шкаф, занимавший едва ли не всю стену напротив кровати. Книги лежали на полках, на столике вперемешку с тарелками и чашками, на стульях и даже на прикроватном коврике. Толстые и тонкие, в новеньких переплетах и старые, с вырванными или утерянными страницами - книги терпеливо ждали своей очереди. По ним невозможно было составить хотя бы поверхностное представление о симпатиях и антипатиях их владельца. Елена Юрьевна могла весь день обойтись без еды, просидеть на сухарях и воде, но без общения с книгой не представляла себе жизни. Теперь, когда Юнна вошла в ее комнату, Елена Юрьевна не услышала ни скрипа двери, ни легких шагов дочери. Она вся была сейчас в той жизни и с теми людьми, которые жили в книге и чьи переживания, волнения и страсти приглушали в ее сознании ее собственные волнения и переживания. - Тебя разбудила гроза? - негромко спросила Юнна. Елена Юрьевна ничего не ответила. - Мама, ты слышишь? Елена Юрьевна неторопливо опустила книгу на грудь, удивленно посмотрела на Юнну, будто она, ее дочь, была привидением, внезапно появившимся среди тех людей, которые жили в книге. И будто Юнна настолько потревожила их, что они замерли, умолкли, оставили свои дела и теперь точно так же удивленно смотрели на Юнну, как и Елена Юрьевна. - Дождь уже перестал, но капли еще падали с листьев... - едва слышно произнесла мать. - Да нет же, - возразила Юнна. - Дождь идет вовсю! - Это из Толстого, - ласково сказала Елена Юрьевна, будто перед ней стояла ее любимая, но не всегда сообразительная ученица. - Подумать только, такая простая фраза, а сколько музыки и красоты! - "Война и мир"? - не совсем уверенно предположила Юнна. - А там гроза! - Гроза? Ну и что же? - И свеча сейчас догорит, - дрогнувшим голосом сказала Юнна, почувствовав острую жалость к матери. - Свеча? - Елена Юрьевна смущенно улыбнулась, не взглянув на свечу, и лишь сейчас, когда голос дочери осекся, осознанно посмотрела на нее. - А ты что так рано вскочила? - Там такое чудо, - ответила Юнна, кивая в сторону наглухо зашторенного окна. - Хочешь, я открою? - Нет, нет, - испуганно отказалась мать. Юнна знала: она боится, что ее оторвут от книги. Чувство шалости и сострадания к матери вновь обожгло ее сердце. Она, упав на колени, обняла мать крепкими нежными руками, прильнула головой к ее груди. - Милая, милая ты моя чудачка, - повторяла и повторяла Юнна, боясь, что заплачет. Юнне хотелось утешить мать, сказать ей, что, может, известие о гибели отца - всего лишь страшная ошибка, и что, может, он все-таки жив, и что надо надеяться на лучшее и не терять интереса к жизни. Хотелось сказать эти утешительные слова не только для матери, но и для самой себя, но она не говорила их, а лишь крепче прижималась горячей щекой к осунувшемуся лицу матери. - У тебя волосы мокрые, - удивленно сказала Елена Юрьевна. Она догадывалась, что, жалея ее, Юнна горюет об отце. Елене Юрьевне было и приятно, оттого что дочь ласкала ее, и в то же время горько, потому что в этой ласке было слишком много грусти и жалости, всегда напоминавших ей о несчастливо сложившейся судьбе. Туго перехваченная тесемкой пачка писем мужа хранилась в заветном месте, на самой верхней полке книжного шкафа, за толстыми, словно одетыми в кожаную броню, томами "Истории государства Российского". Елена Юрьевна еще ни разу не перечитывала письма с тех пор, как получила известие о гибели мужа. Не прикасаясь к ним, она могла мысленно воспроизвести каждое из них, прошептать чистые, как лесной родник, слова. Из каждого письма, чудилось, смотрели глаза мужа - то охваченные тоской, то освещенные смутной надеждой, но всегда верные, ласковые и добрые. Страха и отчаяния никогда не было в них. "Одна любовь у меня - Россия", писал он, и ему не надо было пояснять, что Россия для него - и люди, и леса, и Цветной бульвар, и они, Лена и Юнна, самые родные, самые близкие... Чем чаще Елена Юрьевна мысленно читала письма мужа, тем все упорнее начинала верить, что он и сейчас с ней, что не уходил на войну и все осталось так, как было в самую радостную пору их жизни. Вера в то, что он с ней и что они даже не расставались, что она слышит его голос и видит его глаза, была настолько мучительна и приносила столько страданий, что Елена Юрьевна поспешно брала в руки первую попавшуюся книгу и принималась исступленно читать ее, чтобы забыться. - Я пойду подышу, - сказала Юнна. - На кухне хлеб и жареная морковь. - Подожди, - Елена Юрьевна мягко положила свою холодную тонкую ладонь на щеку дочери. - Подожди. У тебя ведь сегодня такой день... Тебе страшно? Признайся, страшно? - Боязно, - подтвердила Юнна. - А вдруг тебя примет сам Дзержинский? - Если бы, если бы... - обрадованно подхватила Юнна. - Глебушка, - мать всегда ласково произносила имя брата своего мужа, рассказывал о нем. Никто не может выдержать его взгляда. Наверное, он обладает гипнозом. - Дядя Глеб рассказывал, я помню. Но это же враги не выдерживают. Юнна тревожно посмотрела на мать. Та вспоминала о дяде Глебе с той лишенной внутреннего волнения интонацией, с какой обычно говорят о живом, здоровом и избавленном от несчастий человеке. Между тем прошло всего три месяца, как он погиб в схватке с террористом. - Глебушка сказал: он и суровый, и добрый. Я думала: как это можно совместить? Он редко улыбается. - Елена Юрьевна говорила это скорее себе, чем Юнне. - И любит поэзию. Как можно любить поэзию и не улыбаться? Юнна не отвечала на вопросы, лишь тихонько гладила ее руку. - Нагнись, я тебя поцелую, - попросила Елена Юрьевна. Юнна нагнулась и, почувствовав прикосновение материнских губ к своей щеке, снова едва не расплакалась. - А теперь иди, - сказала мать, радуясь, что на глазах у дочери не заблестели слезы. Юнна была уже на пороге, когда на крышу дома всей своей ошалелой тяжестью обрушился гром. Жиденькое пламя свечи боязливо заколыхалось и погасло. - Кто-то вошел? - встрепенулась Елена Юрьевна. - Я слышу шаги. Она чуть не сказала: "Шаги твоего отца", но вовремя осеклась. - Никого нет, - ответила Юнна. - Да, да, - отозвалась из темноты мать. - Никого... Юнна подошла к окну, подняла штору. В комнате стало чуть светлее. - Отец всегда просил беречь тебя, - тихо сказала Елена Юрьевна, прикрывая глаза ладонью. - И Глебушка просил тоже. Она не добавила, что оба они - и муж, и брат мужа, просившие ее беречь Юнну, сами не смогли уберечь себя и что дочь, несмотря на это, идет навстречу опасности. И хотя мать не добавила этого, Юнна по ее тону, по тому, как она оборвала фразу, поняла истинный смысл сказанного. Юнна осторожно прикрыла за собой дверь и вышла в коридор. Стука ее каблучков по лестнице и протяжного скрипа входной двери Елена Юрьевна уже не слышала: перед ее глазами в темноте комнаты синими огоньками, похожими на крошечные молнии, вспыхнули слова тех самых писем, к которым она давно не прикасалась и каждое из которых заканчивалось как заклинание: "Береги Юнну". Юпна выбежала на улицу. Она любила грозу, любила смотреть, как молнии испепеляют небо. Запрокинув голову, она нетерпеливо ждала того мига, когда на землю обрушится веселый гром. Первая гроза в эту весну пришла нежданно и была для Юнны особенно дорога, как бывает дорого первое открытие чего-то сокровенного и прекрасного. Повернув за угол, Юнна вышла на Цветной бульвар. Стало светлее, но трудно было понять, то ли это рассвет, то ли молнии вспыхивают ярче, чем прежде. Бульвар был пуст. Юнна любила этот бульвар. Отсюда близко до центра, здесь всегда было людно. По утрам его заполняли торговки, спешившие к Трубной площади, повозки, гимназисты с ранцами. Вечерами в тени деревьев бродили молодые пары, цокали по мостовой кони патрульных. Юнна родилась в переулке, выходившем на бульвар, и все здесь: и липы, и дома, и афишные тумбы - напоминало ей детство, прерванное выстрелами, песнями красногвардейских отрядов, тревожными гудками заводов. Дождь утих, и Юнна пошла медленнее. Грозные тучи, увидев рассвет, торопливо уползали на восток. Весело пенились вдоль тротуаров ручьи. Юнна не привыкла к спокойной ходьбе, но сейчас так лучше думалось, лучше мечталось. Ей хотелось, чтобы вечером, когда она придет в ВЧК, все было удивительным и неожиданным. А вдруг ее и впрямь позовут к Дзержинскому? Нет, это неосуществимая мечта! Задумавшись, Юнна не сразу увидела юношу, стоявшего на углу, там, где кончалась металлическая решетка бульвара. Сейчас, когда уже заметно рассвело, он был хорошо виден ей. Запрокинув в небо курчавую голову, юноша, чудилось, разговаривал с молниями. Юнна остановилась от мысли, что уже где-то видела его. Юноша еще издали радостно воскликнул: - Здравствуйте, прекрасная незнакомка! - Здравствуйте... - прошептала Юнна. - Но я вас, кажется, не знаю... Она так растерялась, что не заметила, как он оказался рядом с нею. - К лешему! - возбужденно крикнул юноша. - Помните? "К лешему, к лешему", - мелькнуло в памяти Юнны, и она, все еще боясь поверить тому, что уже однажды слышала такие слова, взглянула на юношу открыто и смело. И сразу же вспомнила... Год назад, в гимназии, она подружилась с Ипполитом Муромцевым. Они часто бродили вечерами по Цветному бульвару. Ипполит был начитан, с упоением рассказывал об удивительных, поражающих воображение людях. И однажды октябрьским вечером, когда они ходили под холодными темными кронами мокрых деревьев, где-то вдалеке раздались частые выстрелы. Холодный, дышавший близкими морозами воздух приближал звуки. - Бежим туда! - прошептала Юнна и порывисто устремилась в темноту, схватив за руку Ипполита. Но тот не сдвинулся с места и стоял, будто завороженный. Он молча, недоумевающе смотрел на Юнну, и губы его вздрагивали. - Бежим! - настойчиво повторила Юнна. - Ты с ума сошла... И Ипполит перестал существовать для Юнны. Она выпустила его руку и молча помчалась по бульвару одна, навстречу выстрелам. В тот вечер Юнну ранило в руку - то ли осколком гранаты, то ли нулей. Все впечатления были подобны вихрю: она вдруг увидела перекресток, баррикаду на нем, людей с винтовками, прижавшихся к баррикаде, услышала резкий, сердитый голос: "Куда тебя несет? Кто такая?" - и тут же восторженное и взволнованное восклицание юноши, схватившего ее за плечи: "К лешему! Совсем девчонка!" Защитники баррикады стреляли, и Юнна никак пе могла сообразить, в кого они стреляют: кругом было темно, и лишь далеко впереди, в конце улицы, призрачно и обреченно горел чудом уцелевший фонарь. Сперва ей даже померещилось, что люди в шинелях и кожанках стреляют именно в этот фонарь, но вскоре по отрывистым фразам поняла, что они бьются с юнкерами. Юношу позвали, и Юнна осталась одна, растерянно оглядываясь вокруг. Неожиданно сквозь выстрелы она услышала уже знакомый голос: "Патронов! Скорее патронов!" Вначале она даже не могла и предположить, что этот нетерпеливый призыв обращен к ней. Но с баррикады все доносилось: "Патронов! Патронов!", и Юнна поняла, что, кроме нее, сейчас некому выполнить эту отчаянную просьбу. Она заметалась в поисках патронов и, к счастью, наткнулась на небольшие металлические ящики, сваленные в кучу на тротуаре. Проворно схватила один из них и тут же выронила его - так он был тяжел. Холодной медью сверкнули посыпавшиеся из него патроны. Юнна снова подняла ящик и поволокла его на баррикаду. Ее окружили. Она не видела лиц толпившихся возле нее людей, лишь руки их, крепкие, хваткие, мелькали перед глазами. И вот уже негромко звякнул последний патрон - ящик был пуст. Юнна помчалась за новым ящиком, но не успела донести его до баррикады: что-то невидимое, но горячее и злое остервенело впилось в ее руку чуть повыше локтя. Юнна покачнулась, но устояла на ногах, чувствуя, что кровь потекла по рукаву. "Ничего, это ничего..." - прошептала она: больше всего боялась, что ее прогонят. Чувствуя, что слабеет, Юнна пригоршнями брала патроны и отдавала их подбегавшим красноармейцам. И вдруг рухнула на туго набитый мешок. Очнувшись, Юнна услышала взволнованные голоса. Кто-то склонился над ней, но лицо его было в тумане. Потом туман, словно пригреваемый солнцем, рассеялся, и она увидела того самого юношу, который восторженно и удивленно воскликнул: "К лешему!" И вот сейчас она снова встретилась с ним, и радость охватила ее: юноша напомнил ей и октябрьскую холодную ночь, и выстрелы, и нетерпеливые возгласы "Патронов!", и даже то ощущение внезапной острой боли в руке, которое она испытала на баррикаде. - Вы их отбили тогда, отбили? - порывисто спросила Юнна. - Еще бы! - воскликнул он. - Мы же стреляли в них вашими патронами! - Не смейтесь, - смутилась Юнна. - Лучше расскажите, что тогда происходило. Я так ничего и не поняла толком. Откуда наступали юнкера? - Ой-ля-ля! - обрадованно сказал юноша. - Это удивительно просто! Вот смотрите. - Он стремительно присел на корточки и, схватив сломанную веточку, стал чертить ею на мокрой земле. - Смотрите. Вот Арбат. На Знаменке, в Александровском военном училище, главный штаб врагов. Наши со стороны Никитских ворот. В Кремле тоже юнкера. Военно-революционный комитет приказал открыть артиллерийский огонь по Кремлю и Александровскому училищу. А наша баррикада, где... - он сверкнул белозубой улыбкой, - где мы с вами встретились, была вот здесь - угол Тверской и Охотного ряда. Представляете? Там еще стоит дом с вывесками у самой крыши. Помните? Сейчас-то вывесок уже нет, а тогда были. Одна - "Белье Яковлева", а вторая - "Портвейн из Алупки Травникова". Смешно! Один человек, а весь портвейн из Алупки - его! Смешно же, правда? А, ну их к лешему! Ну вот. Юнкера теснили нас со стороны "Метрополя". Отчаянная была схватка! И вдруг в самый решающий момент на баррикаде появилась... Свобода! - Свобода? - недоверчиво переспросила Юнна. - Да! Свобода! Со знаменем в одной руке и с карабином в другой! Юнна изумленно посмотрела на него. - Помните, как на картине Делакруа! - Я ничего не понимаю... - Но это же так просто! Свобода - это... вы! - Не надо смеяться, - покраснела Юнна. - Я так перетрусила тогда. - Но патроны! - упрямо возразил он. - И вы - на баррикаде! Как видение, как мечта! - Не надо... - Клянусь вам: это так же искренне, как и то, что меня зовут Мишель Лафар. - Вы француз? - Да. Мои предки переселились в Россию еще при Наполеоне. А как зовут вас? Это не тайна? - Юнна. Лишь сейчас Юнна рассмотрела его. Вьющиеся пепельные волосы были мокры, глаза сияли, и чудилось, что в них, угасая, тонут отблески молний. Вельветовая блуза, небрежно повязанный галстук и модные ботинки - все шло к его стройной фигуре. Юнна вспомнила, что там, на баррикаде, он был в кожанке. Она хотела было спросить, чем вызвана эта перемена, но постеснялась. - Виват баррикада, она помогла нам встретиться, - неожиданно тихо проговорил он. После бурных восклицаний это прозвучало непривычно и удивительно. - Виват революция! Это она свела меня с вами! - Улыбка на его лице внезапно погасла, и оно сделалось тревожным и трогательно беззащитным. - Мне чудится, будто я знаю вас давным-давно... Очень давно, целых тысячу лет... - все так же тихо сказал Мишель. - И мне тоже, - прошептала Юнна. Юноша вдруг полез в карман куртки и сказал: - Закройте глаза. Ну, на один миг. Юнна послушалась. - А теперь откройте. Прямо перед собой Юнна увидела его раскрытую ладонь. На ней лежал крохотный, чуть сплющенный кусочек металла. - Не узнаете? - Что это? - Пуля, та самая пуля, которая могла попасть вам в сердце. - Вы... сохранили ее? - дрогнувшим голосом спросила Юнна. - Да. Юнна осторожно, будто боясь обжечься, взяла пулю и долго смотрела на нее. Свинец потускнел, пуля была ничуть не страшной. - К счастью, она срикошетировала и потому уже была не такой опасной, пояснил Мишель. - Я могу оставить ее у себя? - попросила Юнна. - Нет, - мягко, но решительно отказал он. - Это принадлежит только мне...6
Гостиница "Юпитер" находилась в переулке на Сретенке. Место для очередной конспиративной встречи можно было бы подобрать и более укромное, но "Юпитер" привлекал Савинкова тем, что владелец гостиницы был его фанатичным приверженцем. Участники встречи пришли в уединенный номер в разное время, соблюдая осторожность, и ничто в их поведении не могло вызвать ни малейшего подозрения. - Начнем, - четко сказал Савинков, подчеркнуто приложив ладонь к френчу в том месте, где билось сердце, и давая понять, что все мысли, предложения и идея, которые родятся здесь этим вечером, могут быть поняты, одобрены и приняты лишь в том случае, если они будут поняты, одобрены и приняты им, Савинковым. К этому уже все привыкли, но Савинков не уставал подчеркивать свое превосходство над другими членами штаба. - Еще не прибыл Стодольский, - раздраженно доложил Перхуров. Военный до мозга костей, он не переносил расхлябанности. - Сразу видно, в какой партии, извините, произрастал. Конституционный демократ... - буркнул Новичков, морща низкий лоб. - Я попросил бы... - сухо одернул его Перхуров. - Дело не в партии, - примиряюще сказал Савинков. - Суть в человеке. - Абсолютно верно, - поддакнул Перхуров. - Однако семеро одного не ждут, - заупрямился Новичков. - Мудро, - согласился Савинков. - И посему начнем... Раздался условный стук в дверь, и поспешно вошел длинный, вертлявый Стодольский. - Господин Стодольский, вероятно, ждет, что его встретят аплодисментами? - язвительно спросил Савинков. Сухой, нервный Стодольский растерянно передернул тонкими губами казалось, он не может их разжать. - Не угодно ли будет, Борис Викторович, вначале полюбопытствовать, в чем причина? - прерывисто выпалил он. - Отчего же, угодно. - Господа, я шел сюда, соблюдая все правила конспирации. - В голосе Стодольского звучала тревога. - Я прибыл бы в точно установленное время. Но стряслось непредвиденное. - Не тяните, ради бога, - не выдержал Новичков. - За мной увязался какой-то странный человек. Он посмотрел на меня совершенно дикими глазами и сразу же спросил, не смогу ли я свести его с... - С кем? - словно выстрелил Савинков. - С вами, Борис Викторович... - Что?! - вскочил Савинков. - Вы притащили за собой хвост?! Как вы посмели после этого идти сюда! - Но он так внезапно... И умолял меня... Так искренне... - Преступная беспечность! - взревел Савинков. - Он назвался, этот тип? - Да... - подавленно бормотал Стодольский. - Штабскапитан... э... э... Штабс-капитан... - Фамилия? - прошипел Перхуров. - Фамилия... Помилуй бог... Только что вылетела у меня из головы... Клянусь, только что... - Вы в своем уме? - уже тихо, но грозно спросил Савинков. - Вспомню... Сейчас вспомню. Штабс-капитан Вениамин Сергеевич... - Вениамин Сергеевич? Штабс-капитан? - переспросил Савинков. - Уж не Ружич ли? - Он! - облегченно выдохнул Стодольский. - Именно он! Но... как вы можете знать его? - Штабс-капитан Вениамин Сергеевич Ружич, - почти торжественно провозгласил Савинков, - погиб геройской смертью под Гатчиной в августе прошлого года. Вот что мне известно, господин Стодольский, и, следовательно, тот Ружич, о котором вы изволили сообщить, по всей видимости, агент Дзержинского! Стодольский застыл с открытым ртом. Перхуров и Новичков угрожающе уставились на него. - Где он? - выпалил Перхуров. - Внизу, - с трудом обрел дар речи Стодольский. Савинков подал знак Флегонту. Тот легко выбрался из глубокого кресла. - "Внизу", - передразнил Флегонт. - Точные координаты! - В ресторане, третий столик от входа, - пояснил Стодольский. - Курит трубку. - Конспирация - профанация, - презрительно процедил Флегонт. Иногда он любил говорить в рифму. Мягко, по-кошачьи Флегонт вышел за дверь. Наступило грозное молчание. Савинков пружинисто ходил из угла в угол. Темное, как от стойкого загара, лицо его было непроницаемым и загадочным. Он вспоминал о Ружиче. Ведь Корнилов утверждал, что Ружич погиб. Впрочем, сам Корнилов в Гатчине не был. И может, Руншч выкарабкался из лап смерти? А если нет? Тогда "под Ружича" работает чекист. Сейчас все прояснится... Савинков внутренне подготовился к встрече и с Ружичем настоящим, и с Ружичем мнимым. Он даже рассчитал свои движения: в тот момент, когда на пороге появится подлинный Ружич, ему, Савинкову, останется сделать до него всего два шага. Эти два шага нужны, чтобы, отдавая должное нежданной встрече и радуясь ей, в то же время не вынуждать себя бежать навстречу гостю. А если в номер войдет не Ружич, а человек, выдающий себя за Ружича, этих двух шагов хватит для того, чтобы погасить свет и в темноте наброситься на самозванца. Наконец в коридоре послышались шаги. - Господа, - негромко сказал Савинков, - рекомендую снять курки с предохранителей. Дверь отворилась, и в номер быстро вошел высокий поджарый человек в черном костюме. Ничто не выдавало в нем офицера. Он пристально посмотрел на Савинкова и негромко, с радостным изумлением произнес: - Борис... - Вениамин... - прошептал Савинков. Ружич нервно выпростал руку из кармана брюк и рванулся к Савинкову. Тот шагнул к нему навстречу, и они обнялись. Потом с минуту молчали, вглядываясь друг в друга, словно хотели прочесть по глазам то, что каждый из них думал сейчас. - Я помчался в Гатчину, - словно оправдываясь, заговорил Савинков. - И там узнал, что ты ушел в иной мир. А ты воскрес! Ружич молча кивал, спазмы сжимали ему горло. - Петроград... - Савинков расчувствовался. - Петра творенье. - В словах его звучала искренняя взволнованность, и все же было такое впечатление, будто он произносил их со сцены. - Пора надежд и разочарований. Помнишь, Вениамин? - Да, да... - Весьма кстати ты возвратился на землю. Весьма! Давно здесь? - Скоро уже две недели. - Где же скитался? - Не поверишь... - Тебе? - В "доме анархии)). - Неужели? Он же разгромлен чекистами! - И от чекистов можно скрыться! Прыжок со второго этажа - и здравствуй, свобода! Кстати, предупреждаю заранее: ушел до того, как чекисты ворвались в дом... Ружич говорил это, и на душе было мерзко. Ложь причиняла ему страдания. Но он понимал: скажи сейчас этим людям правду, и судьба его будет решена. Стодольского ободрил исход встречи Савинкова с Ружичем. Радость омрачалась лишь тем, что Савинков снова вырвал у него инициативу. Стодольский напряженно смотрел на Ружича, ожидая, когда тот наконец поблагодарит его. - Я признателен вам, очень признателен, - сказал Ружич, подходя к Стодольскому, который торжествующе взглянул на Савинкова. - За то, что вы помогли мне вновь обрести друзей. - Да, да, - закивал чахлой бородкой Стодольский. - Но как вы догадались, что я смогу свести вас с Борисом Викторовичем? Ведь вы, помилуй бог, подвергали свою жизнь немалому риску. - Счастливый случай, - ответил Ружич. - Я остановился в "Юпитере" и неожиданно увидел Бориса Викторовича, когда он входил в подъезд. Я все понял. Потом увидел вас и как-то подсознательно догадался, что вы идете на конспиративную встречу. - Это не комплимент, а обвинение, - нахмурился Савинков, обернувшись к Стодольскому. - Нет, нет, - попытался смягчить атмосферу Ружич. - Я, конечно же, шел на громадный риск. Но иного выхода не было. Разумно ли было предположить, что Борис Викторович еще когда-либо вновь появится в этой же гостинице? Я слишком хорошо знаю его. - Однако какую весть ты нам принес, пришелец? Чей жребий изберешь своим? - Савинков любил вставлять в свою речь строки рождавшихся экспромтом стихов и очень гордился своими поэтическими находками. - Жребий избран, - просто, без пафоса ответил Ружич. - Борьба за свободу и счастье России. - Значит, как и прежде, - с нами? - Как и прежде! Савинков понимал, что эти вопросы могут задеть за живое чувствительную натуру Ружича, но считал право мерным и необходимым спросить его об этом здесь, при всех. Чем дьявол не шутит, может, Ружич стал иным? - Прошу за стол, - пригласил Савинков жестом хлебосольного хозяина. Первое слово, как всегда, нашему уважаемому начальнику штаба. Прости, друг, - извинился он перед Ружичем, - дань воспоминаниям отдадим позднее. Коренастый, слегка скособоченный Перхуров встал и начал четко, рублеными фразами докладывать обстановку. У него не было никаких записей: цепкая память сохраняла нужные имена, факты, цифры. Педантично, со скрупулезной точностью он доложил о том, что благодаря усилиям штаба и лично Бориса Викторовича организация ныне представляет собой крепкую и сильную боевую единицу, готовую начать восстание против большевиков. Прием в организацию осуществляется на основе программы "Союза": отечество, верность союзникам, учредительное собрание, земля народу. По условному сигналу каждый офицер, давший клятву, прибывает на сборный пункт для вооруженного выступления. В Москве в рядах "Союза" объединено пять тысяч офицеров, в Казани - пятьсот. Надежные организации созданы в Ярославле, Рязани, Рыбинске, Муроме, Владимире, Калуге. - Прошу сопоставить: мы начинали с восемьюстами офицерами в Москве, дополнил Савинков. - И не забудьте, что эта группа раздиралась противоречиями. Одни стояли за союзническую ориентацию, другие, к счастью, их было меньшинство, звали нас идти по германофильской дороге. Теперь можно твердо сказать: у нас нет ни правых, ни левых, наш священный союз существует во имя любви к многострадальной России. Перхуров с подчеркнутой почтительностью слушал Савинкова. Он привык докладывать только факты: обобщения входили в компетенцию Савинкова. Перхуров продолжил лишь тогда, когда окончательно убедился, что Савинков сказал все, что намеревался сказать. Далее Перхуров сообщил, что сейчас штаб пытается вести работу среди латышских стрелков, стремясь вовлечь их в "Союз" с таким расчетом, чтобы опоясать своими людьми все советские учреждения, и в первую очередь Кремль. - Мы имеем отдельные части всех родов оружия, - внятно и четко докладывал Перхуров. - Нормальный штат пехотного полка - восемьдесят шесть человек: полковой командир, полковой адъютант, четыре батальонных, шестнадцать ротных, шестьдесят четыре взводных командира. Действует строжайший принцип конспирации. Полковой командир знает всех своих подчиненных. Взводный - только своего ротного командира. Это означает, что один человек в случае провала назовет только четверых. Перхуров сделал паузу. - Все вышеизложенное, - повысил он голос, заканчивая доклад, - позволяет мне, господа, довести до вашего сведения, что организация, руководимая Борисом Викторовичем, может успешно начать боевые действия в Москве в первой половине июня. - Успеем ли? - выразил сомнение Новичков. - Я предпочел бы выступать не с пятью тысячами, а, извините, хотя бы с семью. - Суворовское изречение предаете забвению: побеждают не числом, а уменьем, - тут же набросился на него Стодольский. - Впрочем, - брезгливо сморщился он, нерешительность всегда была уделом присяжных поверенных... - Без намеков! - ощетинился Новичков. - Помилуй бог, я обольщал себя надеждой, что вы благосклонно воспримете мою шутку, - поспешно пошел на попятную Стодольский. - Об одном умоляю: расстаньтесь с сомнениями. Времени еще предостаточно. И под водительством Бориса Викторовича успех обеспечен. Меня, господа, - Стодольский встал, выдержал значительную паузу, волнует гораздо более существенный вопрос. Кто возьмет на себя основную ношу ответственности за судьбу России? Иль, применив известный эмоциональный образ, кто первый въедет в Кремль на белом коне? В номере воцарилось неловкое молчание. - Кремль еще в руках большевиков, а белый конь - в конюшне, - зло сказал Перхуров. - Это, батенька мой, шкура неубитого медведя... - Э, нет! Разрешите, господа, высказать свое особое мнение и не разделить вашей опрометчивой беззаботности, - настаивал на своем Стодольский. - Не хотите ли выслушать притчу? - сдерживая раздражение, внешне спокойно произнес Савинков. - Суть ее такова. Людей очень удобно делить на дураков и мерзавцев. Дурак может всю жизнь думать о том, почему стекло прозрачное. А мерзавец делает из стекла бутылку. Дурак спрашивает себя, где огонь, пока он не зажжен, куда девается, когда угасает. А мерзавец сидит у огня, и ему, мерзавцу, тепло. - Это вы... к чему? - вскипел Стодольский. - И сентенции сии, помилуй бог, еще не доказательство... - Притчу эту рассказывает певчий Тетерев в пьесе Горького, - с убийственной иронией пояснил Савинков. - Но гвоздь не в этом. Гвоздь в том, что нам, людям зрелым и знающим, что есть жизнь и что есть борьба, не пристало пребывать в роли дураков. Я лично - за мерзавцев, которые решают исход борьбы. А уж как нас окрестит классная дама история - столь ли это важно! Савинков улыбнулся, но его черные, по-охотничьи цепкие глаза зловеще сверкнули. "Нет, тебе вовсе не безразлично, как тебя окрестит история", подумал Ружич. - Пусть этот разговор вас не шокирует, - озабоченно склонился к Ружичу Новичков. - Говоря по-простецки, мы свои собаки - полаемся и разбежимся. - Впрочем, это прелюдия, - продолжал Савинков. - Я искренне благодарен полковнику Перхурову за обстоятельный доклад. Он значительно облегчил мою миссию, и я ограничусь лишь эскизным наброском стратегического характера. Обстановка резко изменилась, господа: выступление в Москве надлежит отменить, - Как?! - взвизгнул Стодольский. Перхуров напрягся, будто его вот-вот должны были наотмашь ударить по буроватой шее. Перхурова не столько обескуражили слова Савинкова, сколько то, что тот до последнего момента скрывал это от него. Новичков страдальчески сморщился. Флегонт слегка кашлянул, чтобы обозначить свое присутствие. И лишь Ружич сидел молча и спокойно. Впервые попав на заседание штаба, он решил только слушать. - Я не оговорился, господа: выступление в Москве отменяется. Прошу карту. Перхуров привычным движением разостлал карту на столе. Легкий ветерок обдал лица собравшихся. Тень Савинкова застыла на карте. Было тихо, как в склепе. - Задача номер один: вооруженный захват Ярославля, Рыбинска, Костромы, Мурома, - твердо и безапелляционно произнес Савинков и многозначительно обвел ребром узкой ладони район Верхней Волги. - Наши основные силы в Москве, - осторожно напомнил Перхуров. - Благодарю вас, но у меня отличная память, - одернул его Савинков. Пораскиньте мозгами, господа, и вы поймете, что, выступив в Москве, мы можем оказаться у разбитого корыта. Не следует игнорировать или преуменьшать силы большевиков. Москва, милейшие мои друзья, это пролетариат. Главная опора Ленина. Кремль пока что нам не по зубам. А что касается Верхней Волги, то сей благодатный край послужит нам прекрасным трамплином. Отсюда - решающий прыжок на столицу. "Ты мыслишь разумно, реалистично, Борис", - про себя похвалил Ружич. - Преимущества нового плана состоят в следующем. Первое. Быстрая и реальная помощь союзников. Непосредственный контакт с ними. Вы отлично знаете, что их посольства находятся в Вологде. Второе. Красноармейские гарнизоны в приволжских городах малочисленны. Пролетарская прослойка в них, исключая, пожалуй, Ярославль, невелика. Имеются склады оружия. Третье. К моменту восстания на Верхней Волге союзники высадят десант в Архангельске. Доводы в пользу моего плана можно бы продолжить, но время - золото. Немного воображения, господа. Факел зажигаем на Волге, которая станет нашим Олимпом. И, как олимпийцы, понесем его в сердце России. Удар наш будет внезапен, молниеносен. На скорую подмогу Москвы местные власти рассчитывать не могут. Мы берем власть в свои руки и от имени истинного, законного русского правительства провозглашаем единственно спасительный путь для русского народа. - Заманчиво... Весьма... - кивнул Новичков. - Одно лишь сомнение: на Волге у нас маловато силенок. - Мы срочно перебросим свои вооруженные силы в Казань, - с ходу отпарировал Савинков. - Но как же Москва? - не отступал Стодольский. - Мечтать о Кремле и вдруг... Согласны ли с таким планом союзники? Я убежден, что господин Нуланс... - Именно господин Нуланс, - бесцеремонно прервал его Савинков, - был первым, кто одобрил мой план. Есть и еще одно обстоятельство, о котором я не хотел преждевременно упоминать. Сугубо между нами: как это ни звучит парадоксально, союзники рассчитывают даже на левых эсеров. - Блеф! - воскликнул Стодольский. - Эти неисправимые болтуны... - Эти болтуны, - саркастически возразил Савинков, - так далеко зашли в своих нападках на Ленина, что я не удивлюсь, если они в один прекрасный день откроют по Кремлю артиллерийский огонь. Не забывайте, что союзники отлично информированы. В городах Поволжья левые эсеры имеют значительное влияние, за ними пойдут крестьяне. Надо смотреть вперед, господа. В конечном счете усилия всех, кто выступает против большевиков, сольются в один поток. - Когда прикажете разработать конкретные мероприятия? - деловито осведомился Перхуров. - Истинно военная косточка! - Савинков благодарно пожал руку Перхурову. - Дело не терпит промедления, трое суток на размышление - не более. Перхуров почтительно склонил голову. - Прошу учесть, - продолжал Савинков, - что центром восстания мы избираем Рыбинск. Там большие артиллерийские склады. Я беру этот город на себя. Ярославль возьмет полковник Перхуров. Муром - Новичков. Такова диспозиция, господа. За нею последует детальный план. На долю каждого из нас выпадет тяжелая ноша. - Наверняка генерал Алексеев воспротивился бы столь скоропалительному решению, - все еще не сдавался Стодольский. - В прошлом месяце, когда Добровольческой армией был взят Екатеринодар, я отправил со связным донесение генералу Алексееву о создании нашего "Союза" и просил от него указаний. Я получил ответ генерала. Его превосходительство одобряет нашу деятельность и предоставляет нам полную инициативу действий, - А я? - вдруг не к месту воскликнул Стодольскпй. - Помилуй бог, я не слыхал здесь своей фамилии! Вы обрекаете меня на бездействие? - Вы останетесь в Москве, - ответил Савинков и, усмехнувшись, добавил: - Въезжать в Кремль Eft белом коне... - И, не дав Стодольскому что-либо возразить, дружелюбно закончил: - Это, разумеется, шутка. В Москве будет уйма дел. Столица должна восстать вслед за Верхней Волгой. Стодольский удовлетворенно откинулся на спинку кресла. - Не пора ли уж и к столу? - благодушно проговорил Савинков и, подойдя к Ружичу, взял его под руку: - Еще раз прости. Я ничего не сказал о твоей роли, но верю и надеюсь, что ты всегда будешь рядом со мной. Когда все поспешили в соседнюю комнату, где был накрыт стол, Савинков и Ружич остались вдвоем. - Я хочу задать тебе один лишь вопрос, - тихо сказал Ружич, бледнея. - Сделай одолжение, - дружески обнял его за плечи Савинков и, чувствуя, что Ружич побледнел неспроста, торопливо заговорил: - Как тебе нравится этот осел Стодольский? Проклинаю себя за то, что пошел на поводу у кадетов и согласился включить этого кретина в состав штаба. Ну черт с ним! А как ты? Я все еще не верю, что ты жив! Могли бы мы рассчитывать на анархистов? Ну ладно, об этом после. Веришь, умираю от голода. Кстати, от Стодольского подальше, это - недреманное око старой лисы Алексеева. Я знаю, - в голосе Савинкова зазвучала злоба, - я слышу, как эти генералишки нашептывают друг другу: "Пустыка он орудует, пока не свернет себе шею. И глаз да глаз за ним..." Ну, пошли, нас уже ждут. - И все же - один вопрос, - настаивал Ружич. - Хоть десять, - улыбнулся Савинков. - Я одобряю твой план. Но скажи, зачем мы идем на поклон к союзникам? - Вот уж не ждал такого поворота, - развел руками Савинков. - Всегда считал тебя человеком с головой. - Я жду ответа, Борис. Савинков оглянулся на дверь смежной комнаты. - Тебе отвечу. Мы попросим их прийти на помощь. Понимаешь, попросим. Они не вторгнутся, они выполнят желание российского правительства. Учредительное собрание, русский народ призовет их. Мы спасем родину от грозящей ей германизации, от большевистского диктаторства. - Значит, замаскированная интервенция? - Ну зачем же так цинично? - возразил Савинков. - Ты стал другим человеком, Вениамин? - Не бойся! - возбужденно сказал Ружич. - Я все тот же, клянусь тебе. Но хочу, чтобы за свободную Россию боролся сам народ русский. А мы должны осветить ему дорогу во тьме, зажечь святой идеей, повести за собой. - Ты прав, Вениамин. Но оружие? Снаряжение? Деньги? Да знаешь ли ты, что французское посольство уже ассигновало для нашего дела два миллиона рублей? Это уже размах, это не те жалкие сто тысяч, что они сунули нам поначалу. Нам верят! - Скажи, Борис, скажи, их деньги не жгут твои руки и твою душу? - Жгут, жгут уже! Но с неба они не упадут! - Неужели сама Россия не может решить свою судьбу? - Может! Но это будет длиться годы, десятки лет, а нам нужна немедленная победа! И опять-таки только тебе скажу искренне: готов заложить душу самому дьяволу, лишь бы свалить большевиков! - Чего будем стоить мы, когда сапоги интервентов растопчут живое тело России? - Ты устал, - обнял его за вздрагивающие плечи Савинков. - Как ты устал!.. - Ты не хочешь ответить? - Скажи, дорогой мой человечище, скажи, кто когдалибо сумел перехитрить русского Ивана? - Сказки я любил в детстве, - тихо ответил Ружич. - Предпочитаю честную игру, если все это можно назвать игрой. Я знаю, ты не ожидал от меня этих слов. Знаю, что внушаю тебе сомнения в моей твердости и верности. Но иначе не могу... - Нервы... Взвинченные нервы, - проникновенно проговорил Савинков, Отдохни, возьми себя в руки. План мой великолепен. Ты увидишь, все образуется. Главное - взять власть, а уж-потом диктовать будем мы! Поверь, я ломал голову не одну ночь. Если бы был другой выход, клянусь, послал бы союзников к чертям собачьим! Взвесь нынешнюю расстановку сил, и ты сам придешь... - Я хотел бы еще вернуться к этому разговору, - твердо сказал Ружич. - Вот и прекрасно, - обрадовался Савинков. - Я знаю, ты самый надежный, и никаких сомнений ты мне не внушил. В Рыбинск мы поедем вдвоем, мы там такой фейерверк громыхнем, такой!.. Как никогда, верю в удачу. Выступать надобно сейчас, понимаешь, сейчас! Большевики пока еще бредут ощупью, еще не встали на землю прочно, по-хозяйски. Сейчас наша победа реальна. И я чертовски счастлив, что ты снова со мной! Чувствую себя богатырем! Ружич ответил ему усталой улыбкой. Они вошли в комнату, сели за стол, уставленный винами и закусками. - За удачу! - провозгласил Савинков, подняв бокал. Сперва все ели молча. После третьей рюмки языки развязались. - Вы испытывали мгновения, когда успокоить душу - значит обнажитьее, страждущую и кровоточащую? - спросил Савинков тоном, располагающим к откровенности. Он смотрел куда-то поверх голов собеседников, и казалось, что исповедуется, забыв обо всех. - Ничего не боюсь: пи черта, пи смерти ничего! Боюсь провокаторов - вот кого боюсь! Научен! Я верил ему, он был частью моей души, я боготворил его. А он? Он стал источником моих разочарований, моего безверья, моей бедой... Худое длинное лицо Савинкова причудливо менялось: казалось, волна искренности пытается смыть налет чегото искусственного, лживого, по тут же, обессилев, откатывается назад. Сухие щеки подергивались. - Достоевщина за пятак, - уткнувшись в ухо Ружичу, шепнул Стодольский. - Эпитафия Азефу... - Боюсь провокаторов... - глухо простонал Савинков, закрыв лицо ладонями. Ружича покоробила его исповедь, таящая в себе какой-то неприятный, назойливо повторяемый -намек. - И еще одного боюсь - молнии, - признался Савинков. - Да, да, друзья, самой обычной молнии. Пулям по кланяюсь. Флегоптушка не даст соврать - в Новочеркасске было. Я в гостинице. Входит неизвестный офицер, жаждет видеть меня. Бледное, без кровинки, сумасшедшее лицо. Весь увешан оружием. "Я пришел вас убить". В ответ я молча повернул его лицом к выходу. Флегонт распахнул дверь. Пинок коленкой в костлявый зад поручика - адью!.. А вот молния приводит в трепет... Счастлив, что в наших рядах нет ни одного провокатора, проникновенно продолжал Савинков, и Ружич удивился, как талантливо тот умеет неприметно сглаживать разптельный контраст своих фраз и, соединяя несоединимое, оставаться самим собой. - И потому, - Савинков говорил теперь с гордостью, - потому всезнающий провидец Дзержинский до сих пор даже и не подозревает о нашем существовании. - Савинков радостно рассмеялся, как может смеяться человек, уверенный в успехе. - Вы хотите мою душу? - Тут же он стал мрачен и непроницаем. - Вот она: оставаясь наедине с собой, я мысленно, а то и вслух веду бесконечный диалог с Дзержинским. Он - личность необыкновенная. Как и я, он отрешен от всего земного. Для него существует только революция. Цели наши диаметрально противоположны, но сердце его принадлежит лишь борьбе. - Штаб располагает данными, что он аскет, - многозначительно вставил Перхуров. - Его кабинет - две квадратные сажени. Спит на солдатской кровати. Одет в солдатскую шинель. - Ваши сведения абсолютно точны, - подтвердил Савинков. - Однако его вообще трудно представить себе спящим. Большевики могут им гордиться. Он неподкупен, как Марат. - Но, господа, зачем же так?! - заерзал на кресле Стодольский. - Борис Викторович воздает хвалу человеку, которого мы завтра вздернем на фонарном столбе. Неужели, помилуй бог, достаточно спать на солдатской кровати и питаться, извините, кониной, чтобы прослыть неподкупным?! - Дзержинский - человек дисциплинированного ума, взрывчатого темперамента, - убежденно подчеркнул Савинков, игнорируя слова Стодольского и продолжая собственную мысль. - Революция вложила ему в руки меч, и он получил превосходную возможность снести головы тем, кто гноил его в тюремных застенках. И потому он беспощаден. В этом его сила. Откровенно говоря, я вижу в нем лишь одну слабость - знания его отрывочны и бессистемны, почерпнуты из брошюр и прокламаций. Недостаток их он восполняет пылким фанатизмом. - Чека берет страхом. - Стодольский пытался хотя бы исподволь оспорить Савинкова. - Горстка безграмотных рабочих и жестоких невежественных матросов. А сам глава Чека даже не закончил гимназии, будучи вышиблен оттуда! К чему же столь неумеренные дифирамбы? - Недооценка противника - удел глупцов, - резко оборвал Савинков. Разве дело лишь в Дзержинском? Кого я, как террорист, опасался при Николае? Только полиции. А теперь? Теперь мы окружены шпионами-добровольцами. Порой мне - сильным нечего бояться своих слабостей - мерещится, что каждый встречный прохожий, каждая девка, высунувшаяся из окна, каждая парочка влюбленных, слоняющаяся по бульвару, - агенты Чека. - В последнее время возросло число обысков, - в тон ему добавил Перхуров. - Усилилось хозяйничание на улицах латышей и матросов. Патрули... Внезапно к Савинкову подошел Флегонт, что-то шепнул ему на ухо. - Господа, - встал Савинков, - в соседнем доме чекисты. Спокойствие, произнес он холодным, трезвым и мертвящим душу тоном. - Всем - через черный ход. Па одному... Он обжигающе, в упор посмотрел на Ружича. - Ты сомневаешься во мне? - прошептал Ружич, склонившись к нему. - Твои глаза сказали мне это. Дай мне револьвер, я застрелюсь. - Что ты, бог с тобой, - облегченно вздохнул Савинков. - Просто я боюсь молнии... Заговорщики одевались внешне спокойно, тщательно пряча друг от друга противное и неотвязное чувство неизвестности и страха. - А как пахнет сирень в московских палисадниках, господа, как пахнет!.. - мечтательно произнес вдруг Сэвинков. - Не забудьте понюхать ветку мокрой сирени, господа! Новичков нервно хихикнул. Савинков выключил свет. Ружич, подходя к двери, ощутил возле своего лица липкое дыхание Стодольского: - Сгоревшая душа у него, помилуй бог, сгоревшая... Не обольщайся, не верь... Завтра же мыслю послать курьера к Алексееву с извещением, что сей господин жаждет играть в Москве первую скрипку. Диктаторские замашечки, а играет в учредилку... Стодольский шептал еще что-то - Ружич не слышал. Воспользовавшись короткой паузой, он вырвался в коридор и во дворе нагнал Савинкова. - Я жду у Трубной, - тихо сказал тот. Ружич, выждав минут десять, двинулся к Трубной площади. Небо было звездное, полное тайн и загадок. Он думал о Савинкове, о деньгах, которые дали французы, о десанте союзников в Архангельске, и ему чудилось, что англичане уже не в Архангельске, а в Москве. Ружич почувствовал себя чужим и ненужным в этом городе, на этом бульваре, будто и бульвар, и звездное небо, и потухшие окна домов - все это уже не русское, а чужое, далекое и неласковое. "В восемьсот двенадцатом мы сожгли Москву. Сожгли. А теперь они стоят, эти дома, мрачные, постаревшие и безропотные, готовые ко всему. Даже к нашествию англичан и французов". Ружич задыхался, словно бульвар был начисто лишен воздуха. Он спустился с крутого Рождественского бульвара. Совсем близко, в Малом Кисельном переулке, недвижимо и отрешенно стоял дом декабриста Фонвизина. Здесь была штаб-квартира "Союза благоденствия". Они, декабристы, русские офицеры, не звали на помощь французов, не звали... Ружич задумался и едва не столкнулся с неподвижно стоявшим на углу Савинковым. - Ну, ну, рассказывай, - заговорил он торопливо и жадно, словно боясь, что Ружич пройдет мимо. - Какое впечатление произвели на тебя анархисты? - Я разочарую тебя, - ответил Ружич. - Опираться можно лишь на честных, смелых, чистых людей. Таких я не встретил. Это или фанатики, доведшие идею безвластия до абсурда, или же отпетые негодяи, место коим на каторжных работах. - Этого следовало ожидать, - сказал Савинков. - Кстати, большевистская пресса характеризует их почти так же. Нет, нет, никаких намеков, поспешил заверить Савинков, заметив, как болезненно вздрогнул Ружич. - И все же во мне теплилась надежда. В бою дорог каждый лишний человек. А ты молодчина, - добавил он вдруг с нежностью. - Сумел уйти даже от Чека. Ей-ей, ты открылся мне новой гранью... Ружича мучила совесть. Но он так и не решился сказать, что чекисты допросили его и вскоре выпустили. - И как только ты мог подумать, что я подозреваю тебя в... - Савинков крепко сжал холодную ладонь Ружича. - Нет, нет, я не произнесу этого слова! Ружич молчал. - Ты все еще не был дома? - спросил Савинков. - Он где-то здесь, да? - Рядом, - тихо откликнулся Ружич. - Совсем рядом... - И не ходи пока, не советую, - Савинков произнес "не советую" тоном приказа. - Лучше для дела, если никто не будет знать о том, что ты жив. Они помолчали. - Вот. - Савинков протянул Ружичу клочок бумаги. - Адрес. Запомни и сожги. Крыша надежная. Устроишься отменно. Отдохни денька три. И не печалься. Неси свой крест до конца. Мы не принадлежим себе. Сейчас расстанемся. Тебе - к Никитским. Какое задание будет по душе? - Любое. И чем опаснее, тем лучше. - Я знал, что ты так ответишь. Спасибо. Из-за ствола липы вышел Флегонт. - Патруль, - едва слышно бросил он. - Заметят? - Определенно. - Спокойно, - шепнул Савинков Ружичу. - Идем. Они пошли навстречу неторопливо шагавшему по улице патрульному. Это был приземистый, кряжистый красноармеец, и потому винтовка, перекинутая через плечо, казалась особенно длинной. Острый штык, покачиваясь, целился в повисшую над головой звезду. Расплывчатая тень плыла чуть позади него по сумрачно мерцавшему булыжнику. Второй патрульный, видно, замешкался гдето - самого его не было видно, слышались только громкие, с металлическим лязгом шаги. - Не найдется огонька, товарищ? - Флегонт плотной громадой вырос перед патрульным. - Кто такие? - Красноармеец сбросил винтовку с плеча. - Угощайся, браток, - миролюбиво и дружески пробасил Флегонт, протягивая пачку папирос. - Как на грех, ни спички, ни зажигалки. - Эк ты, - недовольно пробурчал патрульный, чиркая зажигалкой, и вытащил из пачки папиросу. - Прикуривай... - Да ты бери еще, запас карман не трет, - угощал Флегонт. - Взять, отчего же, взять, оно, конечно, можно... - смягчился патрульный. Флегонт с наслаждением затянулся, дал прикурить Савинкову. - Спасибо, товарищ. - Флегонт вернул зажигалку. И они спокойно, прижимаясь к домам, прошли мимо патрульного. - Лучшая тактика - идти навстречу опасности, - шепнул Савинков Ружичу. - Что за люди?! - послышалось вдруг за спиной: к тому месту, где они стояли, подоспел второй патрульный, видимо старший. - Документы проверил? - Документы? - беспечно протянул тот. - А чего документы? Видать - свои в доску. Закуришь? - Тетеря рязанская! - выругался второй и, вскинув винтовку, клацнул затвором: - Назад, граждане! Именем революции! Стой! "Граждане", пе оборачиваясь, удалялись в глубину бульвара, будто окрик относился не к ним. - Назад! - И тотчас же грянул выстрел. - Врассыпную! - Савинков первым метнулся в ближайшую подворотню. Ружич перемахнул через невысокую каменную ограду, рывком пересек узкий, как коридор, дворик, промчался под сводчатой аркой и очутился в тихом, будто вымершем переулке. Потом долго петлял, переходя с улицы на улицу через дворы. Наконец он отважился пересечь Тверскую и побрел тихими улочками. Ружич думал о Савинкове. И раньше Ружичу иногда претила театральность Савинкова, поразительно резкая смена настроений, любовь к крайностям. Поначалу, когда они подружились, Савинков словно околдовал его и ослепительными, проникающими в душу фразами, и неукротимой жаждой действия. Ружич не замечал, что речи Савинкова полны тяжеловесного пафоса и морализма, щедро пропитаны розовой водичкой сентиментальности. И не удивительно, потому что трогательность их неразличимо сливалась с высокопарностью, упоение борьбой - со скорбью и истеричностью. А когда заметил, то успокоил себя тем, что это качество натуры Савинкова не столь уж опасно и отталкивающе. Нет идеальных людей, и главное в человеке не его незначительные недостатки, а то, чем он дышит, какова цель его жизни. Савинков умен, дальновиден, обладает даром, который не часто встретишь, - умепием повести за собой, возглавить борьбу. И хотя, как это уже не раз замечал Ружич, бурные проявления воли порой внезапно сменялись полной апатией, это было лишь минутной слабостью сильного характера. Теперь, когда Ружич вновь встретился с Савинковым, прежнее чувство восхищения вскипело в нем, но в него тут же словно плеснули ледяной водой: Савинков, не скрывая своего преклонения, говорил о союзниках, о их праве помыкать Россией. Кто же он, Савинков, кто? Не может быть, чтобы он не любил Россию. Та жажда борьбы, что жила в нем и определяла его поступки, могла питаться лишь патриотизмом. И мужество его не показное - ведь он шел на тиранов с бомбой в руке, не единожды рисковал жизнью. И это прежде всего роднило Ружича с Савинковым. Конечно же, в пылу борьбы он, Савинков, заблуждается. Разве вправе он, мудрый и дальновидный политик, поддаваться соблазну принести освобождение России на иностранных штыках? Наперед зная, как легко превратиться в марионетку тех, кто будет считать себя фактическими властителями русского народа? Ружич утешал себя мыслью, что многое еще прояснится, что слишком наивно делать серьезные выводы с ходу, после первой встречи. Успокаивало и то, что и вмешательство союзников, и дрязги, и театральность - все это не главное, все это отойдет, отступит перед тем святым делом, за которое взялось сейчас русское офицерство. Надо лишь побыстрее войти в курс всех событий, сжиться с новой обстановкой, взвалить на себя самый тяжелый груз, чтобы заглушить страдания, сомнения и тоску. "Да, еще многое предстоит совершить, - думал Ружич, - многое передумать и осмыслить. Надо попытаться повлиять на Бориса, и он, конечно же, поймет. И еще - сродниться с теми людьми, с которыми самой судьбой уготован мне общий путь. Даже если кто-то из них в чем-то неприятен тебе, сделай так, чтобы изменить его к лучшему. Горько и постыдно, да, да, постыдно прятаться на родной земле. Постыдно!" Ружич вдруг вспомнил растяпу-патрульного, вспомнил, как тот с жадностью затянулся горьковатым папиросным дымом, и теплое, жалостливое чувство охватило его: "Вот он, русский человек... Доверчивый, наивный... Когда же он будет счастлив? Когда расстанется с нищетой и страданиями? Веками идет он через горе и муки. И не видать впереди счастливой доли. Русский человек! Раб с душою бога..." Итак, борьба с большевиками? Они тоже утверждают, что борются за счастье народа. Но как можно совместить диктатуру и свободу? Стодольский говорит, что в Чека работают невежественные пролетарии да жестокая матросня. Но разве следователь, что допрашивал его, Ружича, таков? Жизнерадостный, чем-то смахивающий на француза, он подкупал обаянием и убежденностью. И был момент, когда очень хотелось сказать ему чистую правду. Удивительно, как удалось его провести! Назвал себя Громовым, придумал банальную историю - и этот юнец поверил. Ипаче бы так быстро не выпустрши. Допросил бы сам Дзержинский. Значит, все обошлось. По как мерзко на душе! Ружич остановился у палисадника. Чем-то щемяте родным повеяло от тихих кустов сирени. Словно в машине времени, он перенесся в прошлое. Все, что он с такой жестокостью подавлял в своей душе, вдруг ожило и опалило его нетленным огнем. Он пытался пожертвовать всем: женой, дочерью, личным счастьем ради борьбы. А дочь сейчас стояла перед его глазами, держа в руках мокрые от росы ветки сирени, и шептала: - Какие мы счастливые!.. Счастливые... Она говорила это, наверное, сто лет назад. "А как пахнет сирень в московских палисадниках, как пахнет!" - подумал Ружич, чтобы приглушить тягостное воспоминание, и тут же поймал себя на мысли, что в точности повторил слова Савинкова. "В какой момент он сказал это!.. В какой момент! - Ружич вдруг ощутил, как исподволь вскипает в нем неприязнь к Савинкову. - "Не забудьте понюхать ветку мокрой сирени, господа!" Ну и артист!"7
Незадолго до своей гибели дядя Глеб сказал Юнне: - Ну вот. Я говорил с Феликсом Эдмундовичем о твоем желании работать в ВЧК. Он обещал подумать. Да ты не трусь, ты сама убедишься, какой это человек! И хотя он успокаивал Юнну, она почувствовала, что дядя волнуется больше ее. Юнну и впрямь вскоре пригласили на Лубянку, но говорил с ней не Дзержинский, а человек, назвавшийся Калугиным. Разговор был самый обыкновенный. Калугина интересовала биография Юнны, а так как ее биография умещалась на полстранпчке ученической тетради, то и беседа была краткой. Больше всего Калугин расспрашивал Юппу об отце: где он служил, когда пришло извещение о его гибели - и велел в следующий раз нринести этот документ ему. Калугин произвел на Юнну впечатление замкнутого, нелюдимого человека. Он все время хмурился и отводил глаза в сторону, будто о Юнну можно было обжечься. Вопросы задавал грубоватым, недовольным тоном, и Юнне показалось, что он пропускает ее ответы мимо ушей. В конце концов она совсем растерялась, и разговор получился каким-то скомканным, незавершенным. Напоследок Калугин сказал, что ему все ясно и что Юнна может идти. И еще, что о ее визите в ВЧК никто не должен знать. - А как же... Как же с работой? - не выдержала Юнна. Калугин пристально посмотрел на нее. - Вызовем, - обнадежил он и провел мозолистой ладонью по бритой голове. - Если понадобишься. Словно ушатом холодной воды облил. Ожидание показалось вечностью. И вдруг - вызов... Юнна подбежала к кабинету, который указал ей дежурный, порывисто схватила рукой холодную медную ручку двери и, как это бывало в минуты, предшествовавшие экзамену, зажмурила глаза. Так хотелось отгадать, что ее ждет за дверью! Мысленно подготовив себя к встрече с Калугиным, едва не ахнула, увидев прямо перед собой Дзержинского. Юнна стояла, боясь шелохнуться. Она не могла оторвать взгляда от его лица, убежденная в том, что он уже прочитал ее мысли. - Садитесь, - предложил Дзержинский, придвигая к Юнне кресло. Юнна села и лишь сейчас в кресле напротив увидела Калугина. Она поспешно кивнула ему, поймав себя на мысли о том, что было бы гораздо лучше, если бы она разговаривала с Дзержинским наедине. Дзержинский перехватил ее взгляд, обращенный к Калугину, и, видимо, понял значение этого взгляда, потому что сделал руками успокаивающий жест. - Я хорошо знал вашего дядю, - сказал Дзержинский. - Это был честный человек. Отчаянно смелый. Надежный. Словом, настоящий большевик. - Да, да, у нас вся семья... - подхватила Юнна. - И папа... Он погиб, это такое горе! - На глазах ее заблестели слезы, и она, не решаясь смахнуть их рукой, со страхом подумала, что теперь-то уж, увидев слезы, Дзержинский ни за что не возьмет ее на работу в ВЧК. - Мама до сих пор... - Юнне трудно было говорить, слова застревали в горле. Дзержинский протянул ей стакан с водой. - Нет, нет, - отказалась Юнна. - Это так, это... Мама все еще надеется... - Она передохнула и вдруг сказала решительно и убежденно: - Я уверена, если бы папа был жив, то был бы таким же, как и мой дядя, его брат... Дзержинский молча смотрел на нее. В его взгляде пе было снисходительной доброты, которая обычно появляется на лицах людей, волею обстоятельств принужденных выслушивать то, что кажется им наивным и не очень серьезным. Он слушал Юнну, радуясь ее искренности и горячности. Калугину не понравилось, что Юнна заговорила, едва Дзержинский начал беседу. Он считал, что ей следовало лишь отвечать на вопросы. Но еще больше не понравилось ему то, что Юнна, хотя ее никто и не спрашивал об этом, начала хвалить своего отца. К таким откровениям Калугин относился недоверчиво. Но Юнна не замечала настроения Калугина: она была всецело поглощена разговором с Дзержинским. - Расскажите о себе, - сказал Дзержинский. В первый момент Юнне показалось, что рассказывать о себе - это самое легкое, нет ничего проще. Ведь она очень хорошо знает себя, как же иначе? Знает и свой характер, и все, что отличает ее от других людей, и свои недостатки. Все-все... - О себе? - переспросила она, и в ее голосе не прозвучало уверенности. Щеки ее вспыхнули, она беспомощно взглянула на Калугина, будто именно он должен был подсказать ей то самое слово, с которого нужно начать рассказ о себе. Дзержинский молчал, терпеливо ожидая, когда она начнет говорить. Его длинные тонкие пальцы сжимали коробок спичек: хотелось закурить, но он щадил Юнну. - Никак, забыла, где родилась, кто твои родители? - не выдержал Калугин. - Ты же мне рассказывала. - Родилась? - опять переспросила Юнна, злясь на себя за то, что мямлит. - Да, конечно же, я родилась... - Знаем, что родилась, - сердито прервал Калугин. - Ты говори по существу. - Терпение, немного терпения, - глуховато сказал Дзержинский, и, хотя Юнна не поняла, к ней или к Калугину обращены его слова, ей стало легче. - Родилась в Москве, в тысяча девятисотом году. Папа - военный, мама учительница словесности. Она даже рассказы пишет. И вообще любит книги... - А что любите вы? - спросил Дзержинский. - Я? Борьбу! - не задумываясь, воскликнула Юнпа. - Знаете, как у поэта: Нет, лучше с грозной бурей споря, Последний миг борьбе отдать... Юнна испугалась: забыла две последние строчки этой строфы, будто и не знала их вовсе! Она мучительно искала исчезнувшие из памяти слова, беззвучно шевелила губами, боясь взглянуть на Дзержинского. Если бы она не волновалась и спокойно посмотрела на него, то увидела бы, что на лицо легла тень, а складки на лбу и у рта стали мягче, приглушеннее. Так бывает с человеком, которому напомнили о чем-то дорогом, бесцепном. В кабинете стало тихо. - Стихи оставь при себе... - буркнул Калугин. - Гимназистские замашки! И все же, хотя Калугин был сердит, он ощутил острую зависть к этой девчонке. В юности ему приходилось работать от зари до зари. Не до стихов было! Калугин хотел еще что-то добавить, как вдруг негромкий голос, от которого повеяло необыкновенным теплом, глуховато произнес: ...Чем с отмели глядеть на море И раны горестно считать. В первый момент Юнне почудилось, что это сказал совершенно незнакомый ей человек, неслышно вошедший в кабинет. - Кажется, так? - спросил Дзержинский. Юнна изумленно и радостно смотрела на Дзержинского. Она никак не могла понять, почему знакомые строки прозвучали в его устах так волнующе. Тем более что он произнес их тихо, сдержанно, словно то были вовсе и не стихи. Калугин никогда не слышал, чтобы Дзержинский говорил стихами, и потому был необычайно озадачен и корил себя, что понапрасну одернул Юнну. - И как я могла забыть! - воскликнула Юнна. - Это же мой любимый Мицкевпч! У Калугина отлегло от сердца. "Мицкевич, Мицкевич, - пытался вспомнить он. - Нет, не знаю Мицкевича. И не читал никогда. Каким курсом идет? Видать, революционер: "Последний миг борьбе отдать..." Ишь какие стихи ввернула, Феликсу Эдмундовичу по душе..." Дзержинский не выдержал, закурил. И по тому, как дрогнула тонкая струйка табачного дыма, Юнна поняла, что он волнуется, и это волнение тоже обрадовало ее. - Хочу посвятить свою жизнь мировой революции, - возбужденно продолжала Юнна, - а получается, что я совсем лишняя. Вертится земля, бушуют революции, а я... Ну знаете, как на другой планете живу! Дзержинский чуть подался вперед, и если бы Юнна заметила это едва уловимое движение, то поняла бы, что он с возрастающим интересом слушает ее. Калугин, упрямо нагнув бритую голову, мысленно взвешивал каждую фразу, сказанную Юнной, стараясь уяснить, нет ли в ее словах завихрения или двойного смысла. - И знаете, если умереть, то мне хотелось бы в бою, с маузером в руке! Правда, я никогда не была в настоящем бою, - призналась она огорченно. - Если не считать боя с юнкерами осенью прошлого года, - напомнил Дзержинский. - Это случайно, - поспешила заверить она, вспомнив, что, если бы не Мишель, ее выдворили бы с баррикады. - И так нелепо получилось, я даже и помочь-то нашим как следует не смогла. - А как вы оцениваете свой характер? - спросил Дзержинский. - Я очень требовательно отношусь к себе, - ответила Юнна. - Мама говорит, что это самоистязание. Но... бывает и так, что я собой любуюсь. А потом могу вдруг себя возненавидеть. Это очень мучительно. - У вас есть любимые герои, чья жизнь служит вам примером? - задал вопрос Дзержинский. - Есть! - кивнула Юнна. Дзержинский не торопил Юнну с ответом, а она, наконец решившись, прошептала: - Мария Спиридонова... - И сразу же Юнна заговорила страстно, словно Дзержинский уже оспаривал правильность ее выбора: - Вы же знаете... Она отдала себя революции. Вы же помните... Еще в шестом году она, совсем юная, маленькая, хрупкая, стреляла в царского сатрапа Лужеповского. В Козлове на станции он вышел на платформу. И тут, тут, - Юнна рассказывала так, будто все это происходило с ней самой, - на площадке вагона появилась Мария. Она выстрелила, потом спрыгнула с площадки и снова выстрелила. Все, кто был на платформе, оцепенели и растерялись. Луженовский упал. К Марии подбежали казаки. Один из них схватил за косу, намотал ее на руку и поднял Марию над платформой. Представляете? И она не дрогнула, только попросила: "Когда будете вешать, найдите веревку покрепче, вы и вешать-то не умеете". И если бы на ее месте была я, то поступила бы точно так же! Дзержинский смотрел на Юнну как-то по-новому, испытующе и удивленно. - Полный назад... - медленно и раздельно произнес Калугин. - Вы пе замерзли? - спросил Дзержинский Юнну. - У нас сегодня нетоплено. - Нет, нет, я вовсе не замерзла, - поспешила заверить Юнна. Щеки ее горели. - Спиридонову я знаю хорошо, - негромко сказал Дзержинский. - Конечно же вы ее знаете! - обрадовалась Юнна, готовая рассказывать о Спиридоновой бесконечно долго. - Чем же она еще привлекает вас кроме личной храбрости? - Она за народ, за крестьян... Калугин заерзал в кресле. - Ну что же, - сказал Дзержинский, вставая. - Закончим на этом. Прошу вас, подождите в приемной. - Значит, вы мне... отказываете? - растерянно протянула Юнна. - Стоп, машина, - одернул ее Калугин. - Ну никакой выдержки нет у тебя! Юнна медленно пошла к выходу и, прикрыв за собой дверь, похолодела: нет, конечно же ее не возьмут... - Ваше мнение, товарищ Калугин? - спросил Дзержинский, когда они остались вдвоем. - Сложное создание... - осторожно начал Калугин. - А точнее! - Без компаса в голове. Так ее к любому берегу прибьет, даже на малой волне. Короче - девчонка, не вполне понимающая жизнь. Еще чего, Спиридонова - герой! - недобро хохотнул Калугин. - Не из нашего экипажа! - А из какого? - Видать, из спиридоновского! - сгоряча рубанул Калугин. - Из спиридоновского? Ну, это вы, пожалуй, через край хватили, товарищ Калугин. Вы же слышали, чем ей пришлась по душе Спиридонова. А вас разве не изумляет ее храбрость тогда, в девятьсот шестом? - Так то в шестом! - Но Юнна же не левоэсеровскую платформу защищает. - Завихрение у нее в полушариях, - настаивал на своем Калугин. - А нам с ней нянчиться недосуг. К тому же - папаша с золотыми погонами. С ним не совсем ясно. - Значит, отдадим ее левым эсерам? - спросил Дзержинский. - Или сделаем из нее настоящую большевичку? - Штормяга такой, Феликс Эдмундович, не до нее. - Итак, - подвел итог беседы Дзержинский, - что мы узнали? Первое. В революцию она верит, революцией живет. Второе. Она молода, жаждет действия. Третье. Работать будет не в безвоздушном пространстве, а с чекистами. Четвертое. Пример ее дяди, несомненно, поможет ей идти, как вы любите говорить, верным курсом. И пятое, что тоже важно, сумеет, когда надо, перевоплотиться, быть своей в той среде, в которую вряд ли сможет проникнуть даже сам товарищ Калугин. - И все же... - колебался Калугин. - А давайте попробуем, - предложил Дзержинский. - И не только потому, что мы буквально задыхаемся без нужных нам работников. Не хочется закрывать ей путь в революцию. Думаю, что не ошибусь, товарищ Калугин, что из нее выйдет настоящая чекистка. - А если... - Калугин не докончил: ему хотелось спросить, кто будет отвечать, если Юнна завалит важное задание, но он сдержал себя. - Феликс Эдмундович, если разобраться, кто такая эта самая Юнна? Интеллигенция чистейшей воды. - Интеллигенция? - переспросил Дзержинский. - А чем вам не нравится интеллигенция? - Хозяин земли - рабочий класс. Он знает, кто свой, а кто враг. По всем параллелям и меридианам, до самого смертного часа. А интеллигентики - куда ветер подует. - А как же быть с той интеллигенцией, которая служит рабочему классу? - Все одно: глаз да глаз нужен! Дзержинский улыбнулся: - Я ведь тоже из интеллигентов, товарищ Калугин. Больше того, у отца даже поместье было, захудалое правда, но все же... Калугин оторопело смотрел на Дзержинского, надеясь услышать, что все, что тот сказал, - шутка. - Да, из интеллигентов, - повторил Дзержинский, поняв немой вопрос Калугина. - Ну... Вы - это другой разговор... Вы всю жизнь... - наконец вымолвил Калугин. - За революцию ты или против революции - вот стержень человека. С нами он или против нас. Несомненно, ядро ВЧК должно быть рабочее, партийное, но если интеллигент хочет идти в наших рядах, разумно ли отталкивать его лишь потому, что он, на беду свою, родился интеллигентом? - Боюсь, сядет она на мель, - стоял на своем Калугин. - Жизнь - учитель, - возразил Дзержинский. - Для начала дадим ей задание попроще. - Понятно, Феликс Эдмундович. И все же остаюсь при своем мнении. - Работать с ней придется вам, - серьезно сказал Дзержинский. Глядишь, мнение и изменится. Он нажал кнопку звонка. Вошел дежурный. - Пригласите посетительницу. Да, пока не забыл, - обратился он к Калугину. - Я должен прямо сказать о вашей принципиальной ошибке. Насчет того, что "некогда нянчиться". Так недолго превратиться в чиновника, дорогой товарищ. Юнна вошла медленно, точно слепая. Остановилась возле порога, приготовившись к самому худшему. - Вы окончательно решили связать свою судьбу с ВЧК? - спросил Дзержинский. - Да, - тихо ответила Юнна. - И понимаете ее цели? - Да, - кивнула Юнна. - Защищать революцию. - В общем верно. Мы - солдаты революции. Вы станете таким солдатом, если сердце ваше будет чистым и преданным. Запомните это... - Запомню... - как эхо повторила Юнна, все еще не веря своему счастью. - Остальное вам объяснит товарищ Калугин. Кстати, вы бывали на митингах, где выступал Владимир Ильич? - Нет. Дзержинский открыл ящик стола, достал книжечку. - Прочитайте вот эту речь Ленина, - протянул он брошюру. - И сравните с речами Спиридоновой. - Разве у них есть расхождения? - А вы почитайте, - повторил Дзержинский. Калугин приоткрыл дверь, пропуская Юнну. - Задержитесь на минутку, - сказал ему Дзержинский. - Что нового удалось узнать о Громове? - Пока ничего, Феликс Эдмундович, - виновато сказал Калугин. - Поручено Мишелю Лафару. Жду со дня на день. - Не упустите Громова, - предупредил Дзержинский. - Спрос прежде всего с вас. - Есть! - вытянулся Калугин. - Эти бумаги я уже просмотрел, - сказал Дзержинский, возвращая папку Калугину. - В том числе и извещение о гибели штабс-капитана Ружича. На всякий случай попробуйте навести дополнительные справки через Питер. - Хорошо, Феликс Эдмундович. - А что касается Юнны, попрошу вас взять над пей шефство. Подумайте, как лучше приобщить ее к работе. Наметки доложите Петерсу. - Есть. Юнна ждала Калугина в приемной. Они прошли по длинному полутемному коридору в небольшую комнату, где стояло четыре стола. Три из них были пусты, а за одним сидел черноволосый паренек с веселыми, сгорающими от любопытства глазами. Прежде чем инструктировать Юнну, Калугин вызвал паренька в коридор и негромко сказал: - Вот что, Илюха. К утру чтоб на столе у меня лежал Мицкевич. - Мицкевич? - удивился Илья: Калугин всегда сетовал на то, что до книг у него не доходят руки. - Вы будете читать Мицкевича? - Буду! - рассердился Калугин. - Чего разулыбался? - Время же не сможете выкроить... - Выкрою, чего бы это ни стоило! - отрезал Калугин.8
Гроза, бушевавшая над городом весь день и весь вечер, приутихла, отступила в подмосковные леса, напоминая о себе лишь дальним обессиленным гулом. Стало непривычно тихо. Ночью здание ВЧК на Лубянке замерло: день, заполненный тревогами и заботами, ошеломляющими событиями, был позади. Не каждая ночь была столь щедрой, большинство были беспокойнее дня, но если выдавалась такая, как нынешняя, Дзержинский заставлял ее работать на себя. В ту ночь он, вопреки привычке, не сразу смог настроиться на работу. Чувство одиночества и грусти, столь несвойственное ему, на миг сжало сердце. Нервное напряжение не покинуло его и сейчас, когда, казалось, можно сделать передышку, забыть о делах и заботах. Часы в кабинете гулко пробили полночь. Он любил слушать бой часов, когда оставался один, - звуки их напоминали детство. Звенел ветер в соснах, горели звезды в холодном небе, а мать читала вслух книгу, которой, казалось, не будет конца... Дзержинский прошелся по кабинету, взглянул на кровать, стоящую за ширмой. Мысль об отдыхе рассердила Дзержинского, и он, нахмурившись, торопливо вернулся к столу. Открыв боковой ящик, он извлек стопку газет. Почти в каждой газете была статья или речь Ленина. Одну из них Дзержинский перечитывал несколько раз. И не только потому, что в ней говорилось о самом насущном и животрепещущем - о главных задачах текущего момента, но и потому, что статья была созвучна настроению Дзержинского, вызывала в нем неукротимую жажду действия. Строки ее, призывные, как революционный марш, были рождены для того, чтобы зажечь на борьбу за будущее. Дзержинский знал, что Владимир Ильич писал эту статью в поезде в ночь на одиннадцатое марта, когда правительство переезжало из Петрограда в Москву. Дзержинский представил себе и ту ночь, и тот поезд, и глухие леса по обе стороны полотна, спящие в снегах, и подслеповатые огоньки на редких станциях, и часовых в тамбурах, и маленькое купе, в котором бодрствовал Ильич. Там, где в звенящей мгле мчался поезд, и дальше, на многие сотни и тысячи верст окрест, стояли безжизненно застывшие корпуса фабрик и заводов, чернела земля свежевырытых окопов, к которым стекались отряды красногвардейцев, мерзли в очередях голодные, измученные люди. В окне, возле которого, примостившись у вагонного столика, писал Ильич, чудилось, мелькали лица людей - и злобные, и восторженные, и хмурые, и полные веры. А Ленин, ни на миг не отрываясь от рукописи, казалось, видел и эти лица, и лица тех, кто был в глубинах России, слышал их голоса, и это укрепляло в нем веру в силу народа. Казалось, само время диктовало строки, которые писал Ильич, и они стремительно возникали на листках бумаги, чтобы навечно остаться в душах людей. Поезд стучал на стыках, рвался вперед. Россия, еще не знавшая этих строк Ленина, пробуждалась, чтобы услышать их и ответить трудом и мужеством. Пробуждались враги, чтобы снова броситься на штурм республики. Пробуждались и те, кто в страхе и панике пытался отмахнуться от слишком горькой и страшной подчас действительности или укрыться под сенью красивой и звонкой фразы. Пробуждалась Россия с верой в свой завтрашний день. И эту веру, как кремень искру, высекала в сердцах людей могучая воля и мысль Ленина... Дзержинский с трудом оторвался от статьи. "Нет, это не статья, это поэма, торжествующий и победный гимн", - в который раз подумал он. Дзержинский настолько ушел в свои мысли, что не сразу расслышал телефонный звонок. Сняв трубку, он узнал голос Ленина: - Феликс Эдмундович, здравствуйте. - Добрый вечер, Владимир Ильич. - Вечер? - рассмеялся Ленин. - А я-то считал, что уже ночь. - В самом деле, - подтвердил Дзержинский, скосив глаза на часы. - Не бережете вы себя, Феликс Эдмундсвич! - укорил Ленин. - Или ждете специального решения? Вот возьмется за вас Яков Михайлович, и уж тогда пощады не просите. - Но ведь и вы, Владимир Ильич... - начал было Дзержинский. - Это уже бумеранг, - пытаясь говорить сердито, повысил голос Ленин. - Мой дом здесь, - твердо произнес Дзержинский. - Большая Лубянка, одиннадцать. Ленин помолчал. - Кстати, - снова заговорил он, - какие вести из Швейцарии? Софья Сигизмундовна здорова? А Ясик? - Здорова, спасибо, Владимир Ильич. И Ясик. Дзержинский любил свою жену Зосю той светлой и мужественной любовью профессионального революционера, когда чисто человеческое, природой данное чувство любви сливается с едиными взглядами на жизнь. И особенно растрогало Дзержинского то, что Ленин не забыл о его сыне Ясике. Дзержинский испытывал к сыну сильное чувство любви. Не только потому, что он был единственным ребенком в семье и что родился в тюрьме, но, главное, потому, что вообще любил детей, видя в них тех, кто продолжит борьбу. - А не приходила ли вам в голову мысль повидаться с семьей? - спросил вдруг Ленин. - Сейчас это невозможно, Владимир Ильич. - Вы же знаете, что ничего невозможного нет. Конечно, не сию минуту, но в нынешнем году вам надо обязательно съездить. - Хорошо, Владимир Ильич, но я поеду лишь тогда, когда будет какой-то просвет. - Хитрец! - засмеялся Ленин. - - Прекрасно понимает, что просвета не будет. Вы видели, Феликс Эдмундович, какая сегодня гроза над Москвой? - Да, Владимир Ильич, давно не видел такой грозы. - И, представьте, глядя на это небесное столпотворение, я размечтался о том времени, когда люди смогут обуздать эту дикую энергию и заставят ее созидать. Поймать молнию, заставить ее работать, как это дьявольски заманчиво, Феликс Эдмундович! - Признаться, я думал о другом, - сказал Дзержинский. - Эти молнии как стрелы врагов. - Узнаю пролетарского якобинца, - задумчиво произнес Ленин. - Кстати, о стрелах врагов. Разговор с вами у меня, как вы помните, намечен на послезавтра. А вот гроза надоумила - решил позвонить. Не ошибся? - Нет, Владимир Ильич. Обстановка такая, что не До сна. - Признаюсь: мне тоже не спится. И коль уж такое совпадение, приезжайте-ка прямо сейчас, а? - Хорошо, - обрадовался Дзержинский, - выезжаю немедленно. - Впрочем, гляньте-ка в окно. Видите? - Вижу, гроза возвращается. - И не ослабла, напротив, кажется, стала еще неукротимее. - Владимир Ильич, а помните: "Будет буря, мы поспорим..." - Э, батенька, вы снова бьете меня моим же оружием! Тогда сдаюсь. Жду. Дзержинский повесил трубку, бережно сложил газеты и вызвал машину. Вскоре автомобиль, миновав Манеж, остановился у Троицких ворот. Дождь ручьями стекал с высокой стены. - Кто едет? - спросил часовой в мокром капюшоне, плотно надвинутом на голову. - Дзержинский, - отозвался Феликс Эдмундович, протягивая пропуск. Часовой взял под козырек. Машина въехала в Кремль. Казалось, все молнии, что теперь беспрестанно, будто одна от другой, рождались в небе, облюбовали себе мишенью кремлевский холм. Земля вздрагивала от раскатов грома. Дзержинский вышел из машины и, не укрываясь от ливня, остановился, взглянул на окна здания, в котором размещался Совнарком. В одном окне горел свет, и даже молнии не могли совладать с этим светом. ...Из Кремля Дзержинский вернулся уже под утро. Не зажигая свечи, прилег на кровать, расстегнул воротник гимнастерки. В кабинете было сумрачно, непривычно тихо. Мучал кашель. Дзержинский любил весну, но именно в эту пору года более чем когда-либо не давали покоя больные легкие. Вот так же кашлял он и в те минуты, когда поднимался по лестнице в кабинет Ленина. Боялся, чтобы пе услышал Владимир Ильич: тут же потребует немедленно заняться лечением. И потому плотно зажал рот ладонью. Так и вошел к Ленину - с крепко стиснутыми губами, распрямив слегка сутулую спину, всем своим видом показывая, что совершенно здоров. И тотчас же увидел глаза Ильича. Усталые, но жизнерадостные, они вспыхнули веселыми приветливыми огоньками. - Без плаща... Да вы промокли! Ленин произнес эти слова с легкой укоризной, с тем почти неуловимым сочетанием доброты и строгости, которые бывают свойственны старшему брату в разговоре с младшим. И так как Дзержинский смолчал и не стал оправдываться, добавил строже: - Извольте взглянуть на календарь, май, всего только май, а не июль на дворе! Дзержинский сказал в ответ, что чувствует себя великолепно, что есть дела поважнее, чем его здоровье, и этим окончательно рассердил Ленина. - А кашель там, на лестнице? У меня, да будет вам известно, хороший слух, милейший Феликс Эдмундович. Нет, нет, извольте выслушать до конца, - не давая себя перебить, продолжал Владимир Ильич, - да будет вам известно, что ваше здоровье - это прежде всего имущество, собственность партии. Они сели у журнального столика друг против друга, Ленин подпер щеку ладонью и, пристально глядя на него, нахмуренного и сосредоточенного, сочувственно спросил: - Что, не по нраву мои нотации? Жалеете, что напросились на встречу? Нет, встреча была совершенно необходимой! Как и всегда, уходя от Ленина, Дзержинский чувствовал, что окончательно прояснилась обстановка, обрело четкость, стало понятным многое из того, что прежде казалось невероятно сложным и противоречивым. Вера, какой бы сильной она ни была, неизбежно включает в себя и свою противоположность - сомнение. Опа укрепляется, преодолевая его, становится прочнее и незыблемее не от желаний человека, не от его фанатичных заклинаний, а от того, как он борется и какие находит подтверждения в явлениях жизни. Противоречивые в сущности своей, явления эти могут стать неопровержимыми доказательствами лишь в том случае, если смотреть на них с классовых позиций. Дзержинскому до того, как судьба свела его с Лениным, не приходилось видеть, чтобы кто-либо другой мог так же, как Ленин, рассеивать сомнения и закалять веру. И никогда в его отношении к Ленину не было ничего от слепого преклонения - была самая земная, человеческая убежденность в его мудрости и правоте... Дзержинский встал с кровати, подошел к окну. Дождь утих, но мгла была плотной и непроницаемой. Первым лучам рассвета предстояло мучительно долго пробиваться через нее. Итак, о чем шла речь этой ночью? Если выразить двумя словами - о защите революции. О чем бы ни говорил в эту ночь Ленин, все в мыслях Дзержинского переплавлялось в задачи чекистов, которые предстояло решать сегодня и завтра. Беседуя с Дзержинским, Ленин всякий раз, когда дело касалось практических задач чекистов, всецело полагался на опыт Дзержинского, прекрасно сознавая, что в партии нет человека, который бы так поразительно точно отвечал своему назначению, как Феликс Эдмундович. Понимая это, Дзержинский проникся громадным чувством ответственности за судьбу революции, чувством, которое властно и непреклонно подчинило себе все другие чувства и стремления. Хотя аскетизм был глубоко чужд Дзержинскому, он сам подавлял в себе все то, что могло отвлечь его хоть на миг от того дела, которое ему поручила партия. Дзержинский знал, что человек, который живет так, как живет он, долго жить не может. Но иной жизни себе не представлял. "Я не умею наполовину ненавидеть или наполовину любить, - думал Дзержинский. - Я могу отдать всю душу или не отдать ничего. Жить - это значит бороться ипобеждать. Бессилие и бездействие - гибель. Я не могу измениться... Пределом моей борьбы может быть лишь могила..." ...Да, как начался их разговор? Ленин озабоченно спросил: - Что нового, Феликс Эдмундович? Дзержинский не успел ответить, как Ленин, лукаво взглянув на него, продолжил: - У англичан есть хорошая пословица: "Лучшая новость - это отсутствие всяких новостей". Но в нашем бурлящем мире от новостей не укроешься нигде. Они часто, даже слишком часто, бывают архинеприятны! В ответ на это Дзержинский сказал, что предчувствие не обмануло Ленина: в довершение всего есть сведения, еще недостаточно проверенные, что в Москве орудует Савинков. - Савинков! - оживился Ленин. - Час от часу не легче. И знаете, это не пешка - фигура. Враг опасный, по-своему талантливый. Все логично, все так, как и следовало ожидать! - воскликнул Ленин. - Позавчера - либерал с бомбой, вчера - ренегат с речами либерала, а сегодня - друг Корнилова, типичнейший контрреволюционер! Дзержинский добавил, что Савинков нагл, смел, азартен и что борьба с ним будет нелегкой. Размышляя накануне о Савинкове, Дзержинский пришел к выводу, что тот прочно связан с белогвардейским Доном и, пожалуй, пока не имеет прямых контактов с англо-французами. Поделившись своим предположением с Лениным, он не ожидал бурного несогласия. - Нет и еще раз нет! - горячо возразил Ленин. - Он запродаст душу самому черту, лишь бы достичь цели, утолить свое ненасытное честолюбие, упиться им же самим придуманной для себя ролью делателя истории. И если заговор уже зреет, то следы его неизбежно приведут к порогам английского и французского посольств. Вся его болтовня о любви к России - ширма, рассчитанная на наивных глупцов! Уверяю вас, Феликс Эдмундович, он уже успел запродаться нулансам со всеми потрохами! Дзержинский сказал, что ВЧК учтет это в своих оперативных планах, и пожаловался, что сейчас, когда борьба с контрреволюцией принимает такой размах, у чекистов маловато силенок, чтобы поспеть везде и упредить заговорщиков: людей наперечет, они сутками не смыкают глаз, выполняя опаснейшие задания. Конечно, каждый стоит десятерых, и все же строй чекистов нужно пополнить новыми бойцами. Оп, Дзержинский, конечно, понимает, что коммунисты нужны армии, их ждут заводы, без них задыхается деревня. Трудно еще и потому, что не каждого возьмешь в ВЧК, не каждому под силу взвалить на плечи столь высокую ответственность. А есть и такие коммунисты, что наотрез отказываются работать в ВЧК, прямо говорят: "Арестовывать? Обыскивать? Стрелять? Это не для нас. Мы еще не забыли, как нас самих арестовывали, обыскивали, ставили к стенке..." - Это не коммунисты! - возмущенно воскликнул Ленин. - Они собираются делать революцию в белых перчатках! Они не понимают азбучных истин! Успокоившись, он продолжал: - Мы ВЧК укрепляли и будем укреплять. Мы не имеем права отдать завоевания революции, быть самоубийцами! Но согласитесь, Феликс Эдмундович, если мы увеличим ВЧК даже до гигантских размеров, она будет бессильна без опоры - постоянной, ежечасной, ежесекундной - на широкие массы сознательных пролетариев. Даже тысяча архиталантливейших Шерлоков Холмсов неспособна сделать того, что сделает один настоящий чекист, крепкими нитями связанный с преданными нам людьми. Ленин прав: если ядро ВЧК, которое создано такими невероятными усилиями и которое доказало на деле свое мужество и преданность, если это ядро замкнется в себе и будет возлагать все надежды лишь на свои силы, контрреволюцию не победить. Дзержинский понимал, что тысячи и тысячи пролетариев готовы помочь ВЧК, но рассчитывать лишь на стихийные проявления этой помощи - значит не использовать и сотой доли революционного энтузиазма масс. Значит, надо, чтобы смысл и цели боевой работы чекистов знали трудящиеся, знали и воспринимали их как свое родное дело. Только тогда ВЧК станет подлинным щитом и мечом революции. Он сказал об этом Ленину. Владимир Ильич взволнованно встал из-за стола и, прижав ладони к лацканам пиджака, заходил по кабинету. - Щит и меч! - Ленин повторил эти слова несколько раз и, остановившись возле Дзержинского, произнес обрадованно: - Щит и меч - это прекрасно сказано, Феликс Эдмундович! Какое было бы счастье, если бы вместо меча в наших руках был плуг! Чтобы борозду за бороздой поднимать целину новой жизни. И чтобы никто не мог помешать этому вдохновенному, свободному труду. - Он помолчал и с сожалением закончил: - Мечта! Они понимающе посмотрели друг другу в глаза, как бы говоря этим взглядом, что даже сейчас, когда ни на мгновение не стихают раскаты грома, мечтой, приносящей счастье, может быть лишь мечта о созидании. - А пока, - завершил свою мысль Ленин, - острее меч и прочнее щит, товарищ пролетарский якобинец!.. "Товарищ пролетарский якобинец!" Почему именно тебе, Феликсу Дзержинскому, выпала эта суровая доля? Тебя принудили к тому в порядке партийной дисциплины? Или это совпало с твоими мечтами? Или случай, стечение обстоятельств? Как-то вырвалось: "Когда победим, пойду в Наркомпрос". Это было понятно: порой кажется, что даже мать не может любить детей так крепко и горячо, как ты. А самая сокровенная твоя мечта - отдать себя детям, их счастью. Каждое поколение живет во имя детей, завещая им и свои идеалы, и свою любовь, и свою борьбу. И все же - почему именно ты председатель ВЧК? Человек, одно имя которого наводит страх на врагов, вызывает у них бешеную ненависть? Человек, добрый от природы, чуткий к музыке и стихам, к людским горестям и страданиям? Почему ты? Никто не принуждал. Тогда, в декабре семнадцатого, выбор Ленина пал на тебя, и ты взялся за адский труд. Не потому, что отказом не хотел огорчить Ленина. Мог бы сказать: "Дайте Наркомпрос" - и Ленин, пожалуй, не стал бы возражать. Но ты не сказал этого. Почему? Просто не мог поступить иначе. Ты был подготовлен к работе в ВЧК своей жизнью, своей борьбой, а твое беспредельное убеждение в том, что ты нужен революции именно на этом посту, что жребий, павший на тебя, не случаен, только это сделало из тебя того, кто ты есть сейчас. Ты органически ненавидишь зло, которое несет с собой капитализм. Ты всей душой стремишься к тому, чтобы не было на свете несправедливости, преступлений, угнетения, национальной вражды. Ты хотел бы объять своей любовью все человечество, согреть его и очистить от грязи современной жизни. Не случай, не неожиданный поворот судьбы привел тебя в ВЧК. Сама революция выдвинула на передовой пост линии огня. И потому, добрый и впечатлительный по натуре, ты должен быть беспощадным и неумолимым к врагам. Твоя воля - одно непрерывное действие, твоя воля - бороться и смотреть открытыми глазами на всю опасность грозного положения и до последнего вздоха защищать революцию. Ты сросся с массами и вместе с ними переживаешь муки борьбы и надежды. Ты видишь будущее, ты, участник его созидания, - всегда впереди с обнаженным мечом... Дзержинский задвинул шторку, но окно уже посветлело. Тучи в небе не ушли, отдаленные всплески молний изредка озаряли горизонт. Порывы ливня теряли силу, но дерево напротив окна все еще не могло успокоиться. Дзержинский сел за стол, зажег свечу, прикурил от ее огонька. О чем еще говорил Ленин? Ильич сказал, что левые эсеры дали увлечь себя теорией, состоящей наполовину из отчаяния, наполовину из фразы. - Поверьте мне, Феликс Эдмундович, они преподнесут нам нечто такое... Нечто такое... Левые эсеры работают и в ВЧК, в том числе и в коллегии. Правда, Петере и Лацис не раз с возмущением говорили, что с ними сладу нет: восстают против строгих мер к контрреволюционерам. Петере и Лацис поставили вопрос ребром: или мы, или эсеры. Пришлось говорить со Свердловым. Яков Михайлович предложил: "Подождем до съезда Советов. Если левые эсеры останутся в Советах придется оставить их и в ВЧК, если уйдут - прогоним их и из ВЧК..." Когда Ленин говорил о левых эсерах, он заметил вдруг тихую, едва приметную улыбку на суровом, озабоченном лице Дзержинского. - Что-нибудь вспомнилось? - спросил Ленин. - Да, - ответил Дзержинский. - Принимали мы на работу одну девушку. Она искренняя, романтичная. И вдруг выпалила, что кумир ее - кто бы вы думали? - Жанна д'Арк? - прищурился Ленин. - Софья Перовская? - Мария Спиридонова. - Мария Спиридонова? - переспросил Ленин, сосредоточенно думая о чем-то своем. - Ну конечно, конечно, ее романтическое прошлое... - Неожиданно Ленин дотронулся до ладони Дзержинского: - Скажите, а как зовут вашу героиню? - Юнна. - И вы что же, не приняли ее? - Приняли, Владимир Ильич, рискнули. И Дзержинский, в который уж раз, подумал, что ВЧК не только меч, но и горн, в котором будут переплавляться сердца. - Итак, Феликс Эдмундович, - как бы подвел итог Ленин, - против буржуазии, поднявшей меч, - борьба самая энергичная и беспощадная. Тут и введение военного положения, и закрытие пробуржуазных газет, и арест вожаков. Во имя защиты революции. Нельзя упускать из виду, что буржуазия в последние дни с неподражаемым искусством занималась распространением клеветнических слухов, сеяла панику. Кстати, нынче столько развелось у нас всевозможных плакальщиц, что диву даешься. Одна плачет по учредительному собранию, другая - по буржуазной дисциплине, третья - по капиталистическому порядку, четвертая - по абстрактной демократии, пятая по империалистической великодержавности и так далее и тому подобное. Не мешало бы их, мягко говоря, угомонить. - Позаботимся и об этом, Владимир Ильич. - Да, чуть не забыл, - сделал паузу Ленин. - Подумайте и о роли ВЧК в перековке буржуазных специалистов, в том числе и военспецов. Убежден многие из них перейдут в наш лагерь. И тут с кондачка нельзя. Знаю такие случаи: объявляли военспеца классовым врагом лишь за то, что тот предлагал более разумный, тактически грамотный план наступления или обороны. Ну не расточительно ли, не смехотворно ли это? Дзержинский сделал пометку в своем блокноте. - Смотрите, уже четвертый час! - воскликнул Ленин. - Ну и засиделись же мы! Наверное, пора и закончить? - Пожалуй, да. - А давайте-ка, Феликс Эдмундович, кофейку отведаем. Преотличнейший кофеек - жареные желуди и немного ячменных зерен. Представляете - лесом пахнет и созревшим колосом! Уверен, помолодеете от такого напитка! - Спасибо, Владимир Ильич, в другой раз, сейчас мне пора на Лубянку. - Ну что с вами поделаешь, - огорченно сказал Ленин. - Придется пить кофе одному. Ленин проводил Дзержинского до двери и остановился. Лицо его было усталым, но - поразительно! - глаяа излучали радость, энергию. И Дзержинский подумал, что, хотя и прежде были такие минуты, когда ему доводилось видеть Ленина усталым, гневным и даже грустным, все равно неудержимо и победно светилось во всем его облике счастливое ощущение жизни и борьбы. Это было естественным состоянием человека, ум и душа которого полны всепокоряющей веры в правоту идеалов, которым посвящена жизнь. - Архитрудное время, - негромко, доверительно произнес Ленин. Трудная, изнурительнейшая работа!.. - Посмотрел Дзержинскому прямо в глаза и добавил: - И все же, дорогой Феликс Эдмундович, мы имеем право гордиться и считать себя счастливыми: мы строим новую жизнь. И нет сомнения, что, проходя через тяжелые испытания, революция все же вступает в полосу новых, незаметных, не бросающихся в глаза побед. Честное слово, не менее важных, чем блестящие победы дней октябрьских баррикад... - Если бы, Владимир Ильич, человечеству не светила звезда социализма, не стоило бы и жить... Они с минуту постояли молча. Стекла окон еще позванивали от раскатов грома, стучал не переставая дождь. - Сейчас, как никогда, Феликс Эдмундович, революции нужны щит и меч нашей Чека. И потом, прошу, очень прошу, - в голосе Ленина зазвучали отеческие нотки, - берегите себя, Феликс... ...Все это промелькнуло в голове Дзержинского в считанные минуты. Он глубоко вздохнул и негромко сказал вслух: - Итак, Савинков. Борис Викторович Савинков... Тишину кабинета взорвал резкий звонок телефона. Говорил Петере: - Феликс Эдмундович, есть новости. - Имеют отношение к Савинкову? - Думаю, что имеют. - Прошу вас немедленно зайти ко мне.9
Едва солнце спряталось за крышами домов, как город стал тонуть в рыжеватых дрожащих сумерках. Постепенно улицы скрылись во тьме. Умолкли голоса, затихли шаги прохожих. Юнна пришла к скромному особняку, стоявшему в глубине двора почти в самом конце Лесного переулка. Еще на углу она услышала скрип калитки и, ускорив шаг, растаяла в ее черном проеме. Стараясь не стучать каблуками, чутьем угадывая дорожку, Юнна пошла в глубь двора. Кирпичный особняк был похож во тьме на старинный замок. Внезапно у мрачной, пахнущей сыростью степы качнулась высокая тень. Человек в черном плаще с поднятым воротником приблизился к Юнне, Это был Велегорский. - Великолепная точность, - прошептал он, наклоняя к ней молодое, жаркое лицо. - Иные военные могут позавидовать. - Рада стараться, - в тон ему ответила Юнна. - Не забудьте: главное - эффект! - Хорошо, - кивнула Юнна. Они обогнули особняк и подошли к черному ходу. Велегорский открыл дверь своим ключом. Взяв Юнну за руку, он осторожно шагнул через порог. Крутая деревянная лестница привела их на второй этаж. Дверь в гостиную была приоткрыта, оттуда лился зеленоватый свет. Велегорский быстро пересек узкую полосу света и пропустил Юнну в соседнюю полутемную комнату. - Вот кресло, - шепнул он. - Ждите моего сигнала. В гостиной слышались голоса. Юнна из своего укромного уголка через неплотно зашторенную стеклянную дверь видела, как Велегорского, едва он перешагнул через порог, встретили с радостным оживлением. Двое юношей, высокие, гибкие и порывистые, похожие друг на друга, как близнецы, подскочили к нему, полезли целоваться. Третий, грузноватый человек с массивными очками на комично вздернутом носу, остался сидеть в своем кресле. Велегорский приблизился к круглому столу, на котором горела лампа, накрытая зеленым абажуром, обвел взглядом притихшую гостиную и внятно, молитвенно прошептал: - Явись нам... Юнна, повинуясь сигналу, метнулась с кресла к двери, распахнула ее настежь и замерла на пороге. В тот же миг гулкий выстрел вспорол тишину. Пуля впилась в стенку, чуть повыше головы очкастого. Тот расслабленно сник. Юноши-близнецы вскочили со своих мест и восторженно уставились на Юнну. Сутулый молодой человек в бриджах и сапогах, в тужурке военного покроя без погон дрожащей рукой всовывал маузер в карман. - Восхитительная встреча! - укоризненно рассмеялась Юнна. Велегорский подбежал к ней, с подчеркнутым изяществом взял за руку и объявил: - Богиня поэзии! Агнесса Рокотова! И повел Юнну по кругу, знакомя с каждым участником встречи. - Когда в следующий раз будете стрелять в лампу, Порошпн, - обратился он к человеку в военной тужурке, - не забывайте три обстоятельства. Первое: как раз напротив в своем излюбленном кресле всегда сидит весьма уважающий себя поручик Тарелкин. Вряд ли он будет в восторге, если вы продырявите ему великолепнейший череп. Второе: вы, мягко говоря, не такой уж меткий стрелок, особенно когда нервничаете. Третье: улицы, даже ночные, полны патрулей. И если они ненароком услышат выстрел, то всем нам станет грустно. Порошин, опустив голову, мрачно сопел. - Могли бы и без трюков, - выдавил он. - Здесь не приготовишки... - Какой же ты, к дьяволу, после этого поэт! - Велегорский схватил Порошина за плечи и легонько встряхнул его. - Ты только взгляни, бравый вояка, взгляни. Ты видишь, какие у нее глаза! Голову на отсечение - она не задумываясь бросит бомбу, если уверует в святую миссию свою... Велегорскпй отошел от Порошина и уселся за стол. - Господа, - произнес он властно и жестко. - Стихи сегодня придется оставить в покое. Они еще послужат нам, вдохновляя пылкие сердца наши. Займемся прозой. Вот документ, - Велегорский вскинул руку с листком папиросной бумаги, - подтверждающий, что Агнесса Рокотова послана его превосходительством генералом Алексеевым для установления прямого контакта с офицерами, жаждущими возрождения своего отечества. Кстати, Агнесса племянница полковника Виктора Исидоровича Рокотова, расстрелянного большевиками в прошлом году. Прошу любить и жаловать. - Велегорский благоговейно сложил листок и обвел присутствующих многозначительным взглядом. Порошин виновато, исподлобья покосился на Юнну. Братья-близнецы тотчас же вскочили и застыли, как часовые, с обожанием поглядывая на Юнну. Трое молодых людей с военной выправкой почтительно встали с дивана. Один лишь Тарелкин невозмутимо покоился в своем кресле. - Следующее важное событие, господа, - Велегорский говорил таинственно тихо, но внятно. - Время нашего затворничества подходит к концу. Пробьет час, и изумленная Россия увидит нас на площадях. Века минувшие убедительно доказали всем неизбежную слабость удельных княжеств. Разобщенность - наш враг. Нам предстоит сомкнуть свои ряды с рядами тех, кто мужественно готов служить России. Не далее как вчера я был принят лицом, коему поручено сплотить русских офицеров в Москве. В свою очередь, это лицо направляет к нам посланца, который передаст все необходимые указания и рекомендации и определит наше место в общем строю борцов. Посланец ЭТот, - Велегорский возвысил голос, - прибудет сегодпя! Велегорский умолк. Стало тихо, как в склепе. Первым очнулся Порошин. Он был взволнован, словно от него требовали немедленно идти в атаку, и потому говорил глухо и косноязычно. - В ожидании перемен и при наличии новых инструкций... нам надлежит выработать единый план. Сила удельных княжеств - в самостоятельности. Палка о двух концах... Мы попадем в кабалу к карьеристам... Нас запрягут, как обозных... Пусть другие примыкают к нам. Мы первые... Я прямо из окопов. Кормил вшей, трижды контужен. А тыловые крысы!.. - Он задохнулся от гнева и, покачнувшись, прислонился спиной к громоздкому шкафу. - Мы готовы к любым испытаниям! - клятвенно воскликнули в один голос братья-близнецы. - А кто позаботится об оружии? - вдруг язвительно спросил Тарелкин, и все удивленно повернулись к нему. - Или стрелять будет прапорщик Порошин, а остальные возложат надежды на мускульную силу? Или стишага сойдут за пулеметные ленты? И сразу все заговорили наперебой, каждый спешил подать свой голос. Потом начались взаимные обвинения в бездеятельности. - Желаю задать вопрос, - громко произнес высокий, похожий на цыгана человек - один из трех, сидевших на диване. - Вопрос господину Велегорскому. - Извольте, Антипко, - с готовностью отозвался Велегорский, надеясь разрядить атмосферу. ...С поручиком Велегорским, который уже более месяца был на примете у чекистов, Юнна, по заданию Калугина, познакомилась на вечере поэзии в саду "Эрмитаж". Калугин же снабдил Юнну предписанием генерала Алексеева, и в подлинности этой бумаги пока никто не усомнился... Юнна слушала жаркий спор офицеров и с нетерпением ждала прихода человека, о котором говорил Велегорский: от этого посланца цепочка наверняка тянется дальше. Сроки, которые определил Калугин, предельно сжатые, а узнать надо так много! Она ушла в свои думы. Вдруг кто-то тихонько притронулся к ее локтю. Юнна обернулась: это был Тарелкин. - Присядьте у моего кресла, - прошептал он, склонившись к ней. Узнаете нечто весьма интересное. Юнна холодно взглянула на Тарелкина, давая понять, что ей претит его фамильярность. - Я буду ждать, - не придав значения взгляду Юнны, настойчиво добавил Тарелкин и удалился на свое место. Юнна не знала, как ей поступить. И все же не выдержала: улучив удобный момент, подсела к Тарелкину, попросила закурить. Тот протянул ей папиросу и спички. - Отлично знаю вашу тетушку, вдову полковника Рокотова, - прошептал Тарелкин. - Не раз бывал принят, и, представьте, самые восторженные впечатления... - Льстецов не терплю, - резко бросила ему Юнна. - Весьма достойно сожаления, что тетушка ваша отправилась в столь рискованный вояж - в Крым, - посочувствовал Тарелкин. - А вы, оказывается, всезнайка, - снисходительно улыбнулась Юнна. Тарелкин загадочно усмехнулся в ответ. Юнна вернулась к своему креслу. Неужели Тарелкин и впрямь знает этих Рокотовых, о которых ей было известно лишь со слов Калугина! Настроение испортилось, ей стоило большого труда взять себя в руки: она видела, что Тарелкин не спускает с нее глаз. Юнна мучительно размышляла над словами Тарелкина, как вдруг почувствовала на себе чей-то настойчивый взгляд. Она медленно повернула голову и едва удержалась от крика, от того, чтобы не вскочить с кресла и не броситься к человеку, сидевшему у противоположной стены: то был ее отец! Юнну охватило единственное желание: броситься к нему, повиснуть, как в детстве, у него на шее, расцеловать колючие щеки. Но она заставила себя остаться на месте. Не потому, что отец смотрел на нее как-то необычно, по-новому. Она победила себя выдержкой. Агнесса Рокотова ие может знать этого человека, одиноко сидевшего в тени, возле рояля. Здесь нет Юнны, а значит, и нет отца... Словно откуда-то издалека донеслись до нее слова Велегорского: - Мы счастливы приветствовать вас, господин Громов... Мы ждали этой минуты... Рады выслушать... Юнна изредка поглядывала на отца. Да отец ли это? Велегорский назвал его Громовым, а у отца, как и у нее, фамилия одна Ружич. Громов? Человек, поразительно похожий на отца, - и только?! Громов как бы машинально стал наматывать на палец прядь седеющих волос и сразу же, будто обжегшись, отдернул руку от головы, а Юнна едва не задохнулась от волнения и радости: отец! Ей было не по себе: странно и удивительно, что отец сидел недвижимо, даже не пытался дать знать ей, что видит ее. Напротив, он будто не замечал Юнну. Это выходило у него так искусно и правдиво, что немыслимо было заподозрить его в желании играть и притворяться. Именно это и вызывало у Юнны чувство горечи и обиды. Его взгляд медленно скользил по всем лицам одинаково бесстрастно и строго, он никого не выделял из людей, пристально смотревших на него. И когда глаза его на миг задержались на лице Юнны, он ничем не выказал ни радости, ни удивления. В своей жизни Юнна еще никогда не испытывала ничего более мучительного, чем то, что испытывала сейчас. В нескольких шагах от нее сидел родной отец, возникший из небытия, а она не имела сейчас права даже заговорить с ним. Новые, еще непонятные взаимоотношения подспудно, независимо от их воли и желаний, складывались сейчас между Юнной и отцом, и самым горьким, отравляющим душу чувством было чувство неизвестности. "Отец жив, он здесь, в Москве! - Мысли Юнны были сбивчивы и лихорадочны. - Но почему же он не дома, почему и мама, и я продолжаем считать его погибшим? Он писал, что любит маму, любит меня, и до сих пор не дал знать, что жив: и даже сейчас сидит как чужой, совсем чужой!" Вопросы обрушивались на Юнну, с бешеным упорством требовали немедленного и ясного ответа, а его не было. "Самое главное - он жив. Как будет счастлива мама! Он жив, и больше ничего не надо, ничего, все остальное образуется, все станет понятно и просто. Главное - жив!" И вдруг чувство радости сменилось горькими угрызениями совести. "Я же сказала Дзержинскому, что отец погиб! И он поверил мне! Я хорошо помню свои слова: "Если бы он был жив, то был бы таким же честным, как мой дядя". Я сказала это Дзержинскому!" Чем дольше она смотрела на отца, тем труднее ей было заставлять себя казаться равнодушной. Хотелось забыть обо всем, пренебречь всем на свете, броситься к отцу, расцеловать его и скорее помчаться с ним к маме. "А что сказал бы тебе сейчас Дзержинский? - обожгла ее мысль. Наверное, лишь одно слово: "Спокойствие!" Ты слышишь, он говорит: "Спокойствие!" И ты должна только смотреть и слушать. Только смотреть и слушать..." Отец неожиданно встал и, надев шляпу, медленно пошел к двери. - Вы уходите? - оторопело спросил Велегорский. - Да, - отрывисто ответил Громов. - Странно... - протянул Велегорский. - Нет, господа, ничуть не странно. Не хочу лгать вам, хотя бы из-за того, чтобы быть правдивым перед самим собой. Льстец под словами - змей под кустами. Я убежден, что вы цените искренность столь же высоко, сколь ее ценят все умные люди. По Шекспиру: где мало слов, там вес они имеют. Простите, но я не в восторге от ваших разговоров. Нет, дело вовсе не во внешних признаках. Они достаточно ярки, более того, ослепительны. Но это, простите, бенгальский огонь. Я ценю горящие пламенем глаза и исступленные заклинания. Но еще более - стойкость характера, способность действовать, готовность, взведенную, как курок. Скажите по чести, есть все это у вас? - Вы... вы не изволите доверять нам? - давясь словами, прохрипел Порошин. - Природа, давшая нам лишь один орган для речи, дала два органа для слуха, дабы мы знали, что надо больше слушать, чем говорить. Честь имею, господа. Громов, с достоинством кивнув головой, пошел к выходу. Порошин с лицом, налившимся кровью, тяжело двинулся за ним. - Провожать не надо, - жестко и непререкаемо сказал Громов, не оглядываясь. - Вольтер прав: то, что стало смешным, не может быть опасным. Когда стук шагов Громова затих, Порошин скрипнул зубами: - Напрасно отпустили... Провокатор явный. - Мы не в театре, Порошин, - оборвал его Велегорский. - Помолчи, ради бога... - Есть люди, которые, не целясь, точно попадают в цель. - съехидничал Тарелкин. - Что? - вскинулся на него Порошин. - Соизвольте расшифровать. Намекаете? - Весьма полезно мыслить самостоятельно, - усмехнулся Тарелкин. - Не падо, не надо! - почти в один голос умоляюще воскликнули братья-близнецы, призывая к примирению. Слова доносились до Юнны как в тягостном и кошмарном сне. Едва отец скрылся за дверью, первым ее желанием было догнать его, забыв обо всем - о тех, кто ее окружал в этой полутемной душной гостиной, о городе, дышащем тревогой, даже о своем задании, - забыть, чтобы остаться вдвоем с отцом. И если бы она помчалась вслед за ним, уже ничто не удержало бы ее - ни доводы разума, ни опасность. Но она, обессиленная пережитым, не двигалась с места. Мысль о том, что отец ушел навсегда и что он снова станет и для нее и для матери погибшим, пришла ей в голову не тотчас же, как за ним захлопнулась дверь. А когда Юнна отчетливо осознала это, поняла, что бежать не сможет, - силы покинули ее. - Поговорили как медку поели, - язвительно пробасил Аптипко. - Без паники, господа, - наконец взял себя в руки Велегорский. Очередной сбор назначаю на послезавтра. Все непременно войдет в свое русло. Нам ли, людям, нюхавшим порох, приходить в уныние от малейших неувязок? Особняк покидали по одному. Велегорский взялся проводить Юнну. - Мы нарушим правила конспирации, - напомнила Юнна. - Я привыкла без провожатых - не боюсь и самого черта! - Не перестаю восхищаться вами, - вкрадчиво сказал Велегорский, поцеловав ей руку на прощание. Юнна скрылась в темноте. Она шла домой, петляя по проходным дворам, чтобы никто не смог увязаться за ней. И все же вскоре услышала позади себя шаги. Юнпа пошла тише, чтобы преследующий обогнал ее. Но тот, поравнявшись, порывисто схватил Юнну за руку. - Я полюбил вас, Агнесса, - пылко произнес незнакомец, и Юнна по голосу сразу же узнала Тарелкина. - Ну и конспиратор! - зло прошептала Юнна. - К чертям! - воскликнул Тарелкин. - Я живу совсем близко, у Александровского вокзала. Мы проведем эту ночь так, словно в мире нет ни революций, ни войн, ни поэтов... - Как это пошло! - возмутилась Юнна. - Если вы не замолчите и не оставите меня в покое, я позову патрулей. - Готов пройти все семь кругов ада... Примите во внимание физиологические особенности индивидуума... - словно в трансе, бормотал Тарелкин. - Я, кажется, обойдусь и без патрулей, - отчеканила Юнна. - Сама пристрелю вас как собаку. Не верите? - Верю, верю... Но уйти - выше моих сил. Кроме того, я жажду открыть вам свою душу. - Вы мужчина или тряпка? - спросила Юнна. - Сожалею, что моя тетушка имела неосторожность принимать вас в своем доме. Кстати, никаких вояжей в Крым она не совершала. Слышите? Царствие ей небесное, она скончалась полгода назад. - Не более чем шутка с моей стороны, - горячо зашептал Тарелкин, вплотную подступив к Юнне. - Главное, я ничего общего не имею с этим офицерьем. Я левый эсер... - Вот как! - усмехнулась Юнна. - Пригрели змею на своей груди... - Если вы покинете меня, - заскулил Тарелкин, - я застрелюсь. - Прекрасно! - ответила Юнна. - Хотите, я дам вам свой револьвер?10
Был уже поздний вечер, когда Юнна вышла на улицу. Город затих, будто собирал силы для того, чтобы с рассветом снова начать бурную, стремительную жизнь. Но полной тишины не ощущалось: она прерывалась то коротким, встревоженным вскриком паровоза, то хлестким щелчком выстрела, то тоскливым ржанием намаявшейся за день ломовой лошади. Думы Юнны были как два потока, то соединявшиеся вместе, то расходившиеся врозь. Задание Калугина и судьба отца - что-то несовместимое и тревожное было в этом. Ей хотелось думать об отце, не связывая его со своей работой, но ничего не получалось. Казалось, все началось хорошо. Она быстро освоилась в непривычной обстановке с незнакомыми ей прежде людьми. Все относились к ней с доверием, если не считать Тарелкина, который, видно по всему, пытался выяснить, действительно ли она тот человек, за которого себя выдает. Юнна понимала, что группа Велегорского не настолько большая и мощная, чтобы могла служить для чекистов важной мишенью. Калугин конечно же дал ей задание попроще. Она не обиделась: нужно было поднабраться ума-разума. Вспоминались его слова: - Дело это не плевое, такие думки из головы выкинь. Офицерье клыкастое, палец в рог не суп. Сами по себе они, может, что раки-отшельники. А с акулами якшаться начнут - держись, руку откусят. Учти, мелочей в пашей работе нет! Все шло так, как предвидел Калугин, и вдруг произошла эта неожиданная встреча с отцом. В тот вечер Велегорский сказал, что прибудет посланец от некоего руководящего лица. Значит, этот посланец - отец? Правда, в поведении отца было что-то такое, что давало ей основание не делать поспешных выводов. Отец видел ее среди офицеров, и конечно же у него не могло возникнуть мысли, что она здесь чужая. Почему же он предпочел не признать ее, свою дочь? Не захотел, чтобы об этом знали Велегорский и его друзья? А чем объяснить, что отец не стал излагать программу действий, как это обещал Велегорский? Только ли из-за того, что посчитал группу неподготовленной к серьезному разговору, или же у него были другие, более веские причины? Может быть, именно Юнна и помешала ему выполнить свою миссию? Юнна зябко повела плечами, прибавила шагу, зная, что в Лесном переулке ее уже ждут. Но едва она поравнялась с афишной тумбой, как кто-то тихо окликнул ее. Юнна инстинктивно отшатнулась, и тут же ее охватило изумление: перед ней стоял отец! Губы его вздрагивали, и он долго не мог произнести ни слова, лишь молча смотрел на нее таким пронзительным, отчаянным взглядом, каким смотрят перед тем, как проститься навсегда. Это был совсем не тот человек, которого Юнна видела у Велегорского. Тогда от него веяло спокойствием, уверенностью, независимостью. А сейчас он смотрел на Юнну так, будто в чем-то провинился перед ней и молил о прощении. Так же, как в детстве, когда Юнне приходилось испытывать чувство обиды, ей захотелось прижаться головой к широкой груди отца. И обида, казалось бы самая горькая, утихла бы и исчезла вовсе, стоило лишь почувствовать молчаливое сочувствие отца, ощутить его мягкую ладонь на своих волосах. В такие минуты ей верилось, что на всем белом свете нет никого сильнее, добрее и справедливее отца. И Юнна прижалась к его груди, но тут же, чтобы но упасть от внезапной слабости, торопливо оперлась спиной о холодную тумбу. - Девочка моя... - прошептал отец, протягивая к ней руки и с болью в душе сознавая, что Юнна отпрянула от него не случайно и что отныне те отношения, которые сложились между ним и дочерью прежде - светлые и безоблачные, казавшиеся незыблемыми, - теперь усложнились, запутались и содержат в себе много неясного и противоречивого. - Девочка моя родная... Почти каждый вечер я брожу здесь, чтобы увидеть тебя... Он произнес эти слова, словно сетуя на кого-то, кто мешал ему увидеть дочь. Но у Юнны, сразу же вспомнившей, как спокойно и отчужденно вел он себя в особняке, не возникло чувства жалости. Она сама изумилась своему бессердечию: никогда раньше не могла и представить себе, что сможет быть беспощадной к отцу и равнодушной к его страданиям. Она несколько раз почти беззвучно повторяла одни и ге же слова, будто не знала других. - Ты жив!.. Ты жив!.. - Да, да, я жив, - поспешно заговорил отец, не ожидая ее вопросов: ему было легче самому рассказать обо всем, что могло тревожить и волновать дочь. - Я знаю, вы считали меня погибшим. Я бесконечно виноват и перед мамой, и перед тобой, и перед Глебом. Виноват! Ваши муки, ваши страдания о как хорошо понимаю я вас!.. И слезы ваши. И все, все!.. - Он презирал себя за то, что сейчас, когда так нужны убедительные, душевные слова, не может найти их. - Придет время, и вы все узнаете, и мама меня простит. И ты простишь... - произнес он, отчетливо понимая, что это гораздо уместнее было бы сказать не в начале, а в конце разговора. Отец боялся, что Юнна перебьет его или же скажет чтолибо такое, что поколеблет его уверенность, опрокинет надежды. - Я заслужу перед вами это прощение, ты увидишь, увидишь... Он умолк, вспомнив, так же как и Юнна, гостиную с зеленой лампой, свой ночной визит, и оба поняли, что обойти эту ночь сейчас невозможно, и все-таки никто из них не хотел первым говорить о ней. - Ты сказал: "и перед Глебом", - вспомнила Юнна, все еще не решаясь сообщить отцу печальную весть. - И перед Глебом... - подтвердил отец, не понимая, почему Юнна говорит об этом. - Дядя Глеб погиб! Отец молча покачнулся, и Юнна схватила его руками за дрожащпе плечи. - На фронте? - с трудом разжал губы отец. - Здесь, в Москве. - В Москве... - как-то отрешенно повторил он. - Мужайся, - Юнна произнесла это слово, будто отец был сейчас, в эти минуты, младше ее и нуждался в поддержке. - Да, да, спасибо, родная... - Его до глубины души тронуло ее искреннее участие. - Но как это произошло? Когда? Юнна коротко рассказала отцу о гибели его брата. Каждое слово давалось ей с трудом, она понимала, каким отчаянием охвачен сейчас отец. Он слушал молча, и от этого ей стало страшно. - Дядя Глеб погиб за революцию, - тихо закончила Юнна. - За революцию? - быстро переспросил отец. В его голосе послышалось удивление и недоверие, но он тут же приглушил эти вырвавшиеся у него нотки. - Он был чекистом, - Юнна в упор взглянула в лицо отца. Отец стоял сейчас прямо, не горбясь, и чувствовалось, что громадным усилием воли он сумел унять нервную дрожь, справиться с волнением. Отец молчал, и глаза его пи о чем не говорили, в них не светилось ни ненависти, ни любви, они словно застыли и были непроницаемы. Лишь несколько минут спустя он смог произнести дрогнувшим голосом: - Глеб... Глебушка... И снова умолк. - Ты давно в Москве? - спросила Юнна, не выдержав этого молчания. - Нет, пет, поверь мне! - торопливо откликнулся он, будто именно то, что он приехал сюда недавно, и могло стать основным оправданием перед женой и дочерью. - Я был ранен в бою. Попал в лазарет в Гатчине. Доктора потеряли надежду. Прошел слух о моей смерти. Сосед по палате выписался из лазарета и написал маме. Вы получили это письмо? - Да. - Он не лгал, нет. После того как меня оперировали и вытащили осколок... Понимаешь, он сидел в сантиметре от сердца. Я потерял сознание и долго не приходил в себя. И сосед был уверен, что я уже не жилец. Юнна подняла на него глаза, полные слез: она представила себе, как отец лежит, бледный, истощенный, вдали от дома, на узкой лазаретной койке. Они считали его погибшим, а он оказался живым - от этого еще сильнее сжималось сердце, в котором смешались вместе и радость и горе. Хотелось плакать навзрыд, громко, на всю улицу, не сдерживая себя. Но она плакала беззвучно. - Не плачь, умоляю тебя, не плачь, - просил отец. - Все это позади, все позади... - Юнне так хорошо была знакома эта отцовская привычка по нескольку раз повторять те слова, которым он придавал особо важное значение и которые старался выделить и подчеркнуть. - Главное не в этом, главное в том, что вы живы, здоровы - и ты, и мама... Я все знаю о вас... - Мама каждый вечер перечитывает твои письма, - сквозь слезы сказала Юнна. - Я верю, - страдальчески произнес отец, - но обстоятельства сложились так трагически и так безысходно, что я не мог ничего поделать, не мог поступить так, как хотел. Не мог, не мог, - повторил он и осторожно притронулся ладонью к голове Юнны. - Потом ты поймешь, поймешь, уверяю тебя. И мама поймет, мученица наша... - Он проговорил это поспешно, словно пугаясь, что Юнна может уйти, не дослушав его до конца. - Главное, что вы живы, и слава богу. А ты так повзрослела, так изменилась к лучшему!.. Стала такой красивой! - У тебя другая семья? - вдруг спросила Юнна. - Нет, нет! - Отец испуганно отмахнулся, словно отстраняя от себя привидение. - Что ты, бог с тобой! И как ты могла подумать?! Ты же знаешь, я и мама - это на всю жизнь... Я совсем, совсем один. Может быть, ото трудно понять. Но, - он помедлил, подыскивая подходящую фразу для того, чтобы выразить мысль, - но этого требуют высшие интересы. Мы не всегда принадлежим только себе... - Отец осекся, будто сказал что-то лишнее, чего не имел права сказать. - А как ты? Как живешь? Что у тебя нового? - забросал он Юнну вопросами, стараясь отвлечь и себя и ее от неприятной и сложной темы. - Как проводишь время? Все так же любишь поэзию? - Все так же, - кивнула Юнна, радуясь, что этим самым нейтральным из всех вопросов отец как бы сам выручил ее, избавив от необходимости отвечать на предшествующие. - И бываешь на литературных вечерах? - спросил он осторожно и, как показалось Юнне, со скрытым смыслом. - Бываю. В Лесном переулке, у Велегорского. Отец пристально посмотрел на нее. - Да, поэзия - это, пожалуй, единственное убежище от разрушительного урагана революции, хотя и очень ненадежное, - вымолвил отец, все еще не решаясь на прямик спросить Юнну о том, какие узы связывают ее с особняком в Лесном переулке и с Велегорским. - Поэзия - оружие, - чуточку запальчиво возразила Юнна. - Я боялся за тебя. Там, в особняке. И счел более разумным... - Не надо об этом, - прервала его Юнна, - не надо... - Но ведь и ты... Я ждал, что ты первая бросишься ко мне... - Но я же... - Хорошо, хорошо, пе объясняй. Я боюсь за тебя. Этот Велегорский - он хороший человек? Я наслышан о нем только как о поэте. - Отец густо покраснел, сказав это, а Юнна хорошо знала, что он краснеет всегда, когда вынужден говорить неправду. - Смотря что вкладывать в понятие "хороший", - ответила Юнна. - Мне он нравится, с ним легко и весело. К тому же я люблю его стихи. - Я боюсь за тебя, - снова повторил отец. - И как бпло бы чудесно, если бы ты знала поэзию и не знала политики. Бури и грозы не для тебя. Ты нежная, хрупкая... - Ты зайдешь к маме? - Конечно, конечно, - порывисто ответил он. - Ты же знаешь, как я люблю, обожаю ее. И мы снова - придет время - будем жить, как прежде. Но это счастье надо завоевать, за него надо бороться. - Так пойдем скорее домой, что же мы стоим! Только я сначала подготовлю маму, а потом уж войдешь ты. Иначе сердце ее может не выдержать такого счастья! Правда, она всегда верила, что ты воскреснешь. Пойдем же! И Юнна уже представила себе сияющее лицо матери. - Ну пойдем же, пойдем... - Нет, только не сейчас. Родная моя, я все-все понимаю, только не сейчас. Для меня самого эта разлука страшнее каторги, страшнее смерти, но есть причины... Ты поймешь меня потом, ты поймешь... Он внезапно закрыл лицо ладонями, и Юнна услышала, как сквозь вздрагивающие пальцы прорвалось приглушенное рыдание. Она впервые в жизни видела, что отец плакал, и в душе ее тут же исчезло, улетучилось все, что не имело отношения к тому чувству любви, с которым она, еще малюткой, впервые осознанно прильнула к отцу и которое и теперь сохранило свою первозданную силу, вызывало светлую радость. - Все будет хорошо, все будет хорошо, надо только выстоять, - стала утешать Юнна, прижавшись к отцу. Плечи его вдруг затряслись еще сильнее, и, хотя рыданий не было слышно, Юнна ощутила, как дрожит его исхудавшее тело. - Ты... ни разу не назвала меня отцом, - прерывисто, как в бреду, прошептал он, не отрывая рук от лица. И Юяну вдруг охватило прежнее, счастливое сознание того, что отец дорог ей, дорог, что бы ни случилось, что бы ни переменилось в их жизни. - Папка, - прошептала она, - папка!.. , Отец обнял ее, и оба они беззвучно плакали, словно пробил час их расставания, а Юнна все шептала и шептала как заклинание: - Папка!.. Папка!.. Они долго стояли так, несчастные и счастливые: обстоятельства были сильнее их, зато они были сейчас вместе. Потом отец взглянул на часы, выпрямился. Он снова стал до малейшей черточки похож на того человека, которого Юнна увидела в особняке. И ей стало страшно: она не хотела видеть его таким, своего отца. - Мне пора... Но мы еще увидимся. Я дам о себе знать. Да сохранит тебя господь. И... прошу тебя, не говори пока ничего маме... Он прикоснулся ко лбу Юнны холодными сухими губами, как-то неловко, застенчиво отвернулся и быстро исчез в темноте. Юнна сначала инстинктивно пошла за ним, но, вспомнив, что ей надо идти в противоположную сторону, как в забытьи, побрела к Лесному переулку. Почему она не спросила отца о самом главном - за какую он Россию? Ведь сейчас две России, а не одна. И тут же ответила себе: "А ведь и так все ясно, все ясно", хотя и понимала, что еще многое неясно. Ведь если и отец, и она, его дочь, встретившись, не открыли друг другу душу, значит, что-то невидимое, неотвратимое разделяло их. "Нет, нет, я не могу сейчас идти туда, не могу, - взволнованно думала она. - Мысли мои - только об отце: с кем он, почему так ведет себя? А я должна идти к этим глубоко чуждым мне людям. Нет, я не пойду к ним сейчас, не пойду!" "А почему отец так странно переспросил: "За революцию?" - вдруг вспыхнула в ее голове тревожно жгучая мысль. - И почему, как скованный льдом, застыл, когда я сказала, что дядя Глеб был чекистом?" Она еще не могла прямо и точно ответить на эти вопросы, но знала, что теперь уже неуспокоится, пока не поймет, чью правду хранит в своем сердце отец. И Юнна быстро повернула в Лесной переулок.11
Ружич застал Савинкова за необычным делом: облачившись в плотный халат, он сидел на стремянке у полок, туго забитых книгами, и, с трудом вытаскивая богато переплетенные тома, с жадным интересом листал их. - Вениамин? Без предупреждения! - На лбу Савинкова отчетливо зачернели морщины. - Случилось что-нибудь? - Нет, - мрачно ответил Ружич. - Ничего не случилось. - Но почему в столь неурочный час? Ружич удивленно посмотрел на сердитое и как-то сразу потускневшее лицо Савинкова, на халат, нелепо висевший на нем. Непривычен и странен был контраст между по-военному подтянутым и собранным Савинковым и этим человеком, по-домашнему примостившимся на стремянке. - Ты не хочешь мне сказать? Или с тобой что-то неладное? - Савинков спрашивал тоном человека, опасающегося больше всего за себя. Сколько бы раз ни встречал Ружич Савинкова, тот всегда был разным: то замкнутым - силой не выбьешь слова, то разговорчивым, даже болтливым, то бесшабашно веселым и остроумным, то мрачным и загадочным, как сфинкс. Сейчас трудно было даже предположить, что этот человек, бережно и самозабвенно листающий книгу, и организатор военного заговора, с упрямой настойчивостью идущий к своей цели, - одно и то же лицо. - Молчишь? - укоризненно сказал Савинков, отшвырнув книгу, легко спустился на пол, схватил Ружича за плечи и немигающими, диковатыми глазами посмотрел куда-то поверх его головы. "Всегда смотрит поверх головы", - отметил Ружич. - Не поверишь! - воскликнул Савинков, не отпуская Ружича. - Пишу! А когда пишу, читаю все, с чем ив согласен, что хочется опровергать. Поиздеваться люблю! Тогда рождаются импульсы, тогда в душе как в огненной печи! И не осуждай, друг! Скажешь сейчас, когда пожар - не время быть Пименом. Но если бы ты знал, как это спасает! От всего - от кошмаров, от иллюзий, от бешенстпа. Спасает... Ну, ты говори, говори, не молчи только. Ты разве не знаешь можно убить молчанием, уничтожить, иссушить! - Знаю, - слегка отстраняясь от Савинкова, сказал Ружич. - Спрашиваешь, зачем пришел? Не с кем отвести душу, вот и все... - Нервы! Проклятые нервы, обожженные войной, революцией, человеческой подлостью... - с истерической искренностью произнес Савинков. - А ты говори, говори, вот увидишь, станет легче! Будто зимней стужей дохнуло на Ружича. Он смотрел и знал, что не вымолвит ни единого слова до тех пор, пока хоть чуточку не оттает душа. До встречи с Юнной ему казалось, что стоит лишь повидаться с дочерью, как тяжкие испытания станут легче: в ее словах, в ее сочувствии он обретет новые силы. Надежды не оправдались - несмотря на то что ни он, ни дочь ничего не сказали друг другу открыто и прямо, он интуитивно почувствовал, что между ними стоит чтото невидимое, но сильное, способное разъединить их навсегда. Даже то, что он увидел дочь в особняке у Велегорского, не поколебало этого чувства, потому что, если бы этот особняк был для нее родным по духу, она бы говорила с отцом иначе - откровеннее и теплее. Да, она любит его, страдает. Елене легче - она еще не знает, что он жив. А вот Юнне - новые муки. Она, вероятно, не скажет матери, что отец жив, что он здесь, в одном городе с ними, и все же что-то неумолимое и страшное удерживает его от того, чтобы прийти домой. Почему он сразу не спросил, с кем она, в каком лагере решила жить и бороться? И почему она тоже не спросила его об этом? Или они настолько уверены друг в друге, несмотря на то что произошла революция, которая изменила или разрушила отношения даже между самыми близкими людьми? Или же и ею, и им руководит неизбежное в такой сложной обстановке чувство осторожности? 8 А. Марченко Q Он не знал, как ответить себе на эти вопросы, и потому не мог заглушить своих страданий - ни книгами, ни алкоголем, ни выполнением самых опасных поручений савинковского штаба. Вся ли беда в том, что он вынужден жить порознь с семьей, с самыми родными ему людьми, терпеть лишения и невзгоды, испытывать муки совести? Только ли страшное в том, что нужно изворачиваться, юлить, обрывать себя на полуслове даже в разговоре с дочерью, чтобы, пзбави бог, не сказать лишнего? - Борис, ты веришь? - вдруг вырвался у Ружпча вопрос, похожий на стон. - Борис, ты убежден, что псе хорошо и все верно? Только честно, искренне... Савинков вскинул голову, лицо его вытянулось. Ружич увидел узкие, азиатские глаза. Наглухо скрывавшие мысли и чувства, они сейчас светились светлой скорбью. Казалось, что Савинков снова смотрит не на Ружича, а куда-то мимо и выше его. Ружич проследил направление взгляда, надеясь увидеть там икону, но ничего не увидел. - Клянусь, верю! - страстно прошептал Савинков, и в этом шепоте не было уже ни исступления, ни фальши. - Несметная рать собирается под наши знамена, - отрывисто, убежденно и вдохновенно заговорил он. - И каждый боец - русский богатырь. Каждый - Илья Муромец. Дрязги десятка карьеристов - не в счет. Искры от нашего факела летят по всем русским городам и весям. Восстание вспыхнет как пожар - не потушить. Это будет разрушительный ураган, после которого мир вдохнет чистый воздух счастья... Прежде Ружпча волновала патетика Савинкова. Сейчас же, хотя в его словах слышалась подкупающая искренность, они не рассеивали сомнений, не убивали тоску. - Я вот о чем думаю, - глухо сказал Ружич. - Скажи, можно ли с помощью заговора выиграть схватку? У нас блестящая конспирация. Мне по душе наш истинно военный порядок. Но то, что мы прячемся от свота, от людей, - это не слабость? Кто знает о нас на заводах, в деревнях? Ты же знаешь, сколько лет большевики создавали партию, готовили почву, чтобы в одну ночь покончить с Зимним... Пойдут ли за нами рабочие, крестьяне? Им неизвестны наши цели, наши страдания. Их будут отпугивать золотые погоны. - Люди уважают не только ум, но и силу, - жестко сказал Савинков. - Как в волчьей стае верят сильному вожаку, так и в обществе даже тот, кто мускулам предпочитает ум, принужден считаться с крепкими, увесистыми кулаками. У нас они есть. - Он вдруг улыбнулся: - Помнишь притчу? Стадо баранов не хотело переходить через реку. Тогда пастухи взяли вожаков-баранов на руки и пошли вброд. И все стадо ринулось за ними. А чем мы не библейские пастухи? - Это мы-то пастухи? - усмехнулся- Ружич. - А что, заманчиво? Савинков хотел добавить, что крепкий кулак - это и помощь союзников, но сдержался. - Я был у анархистов. Там по пальцам можно перочесть тех, кто мог бы пополнить наши ряды, - напомнил Ружич. - Был, как ты знаешь, в группах офицеров и с союзнической, и с немецкой ориентацией. Везде - разлад, грызня и дележ власти, а власть-то еще как журавль в небо... О Велегорском и его группке и говорить нечего. - А что? - нетерпеливо спросил Савинков. - Пустота. Миф. Самообман. Мальчишки, жаждущие поиграть в заговор. - Суровый экзаменатор, - улыбнулся Савинков, стремясь теплым, дружеским отношением вывести Ружича из мрачного, подавленного состояния. - Не забывай, что на определенном этапе борьбы каждый сыграет свою роль. Представь: восстание идет успешно, стремительно, неумолимо. Вот тут-то и Велегорский пригодится, как христово яичко на пасху. Пусть мальчишки, пусть играют в заговор, лишь бы сгорали от ненависти к большевикам. - Может, ты и прав. Но сейчас это не сила. - Странно. Я был хорошего мнения о Велегорском. Но бог с ним, с Велегорским. Сил у нас хватит. В одной Казани полтысячи человек, много оружия. Конспирация отменная: если часть организации провалится, все равно мы сможем обложить Москву пожаром восставших городов. И потом, - Савинков не удержался, - англичане на севере, чехи с Волги, японцы с востока, американцы с... - Замолчи! - вскочил Ружич. - Замолчи, или я немедленно выхожу из организации! - Хорошо, замолчу, - смиренно согласился Савинков. - Но выходить из организации поздно. И не забывай, что существует Чека. Сейчас ты ребенок, - продолжал Савинков. - Обрети мудрость! Смелее смотри в будущее! Важен конечный результат. Только бы добраться до штурвала. А там реверанс перед союзниками и прощальное "адью". Ружич оцепенело молчал. Он знал: если начнет оспаривать Савинкова, нервы не выдержат и - истерика. - Вот и хорошо, вот и великолепно... - повторял Савинков, радуясь, что Ружич молчит, и все еще не веря, что тот не взорвется. Ружич с трудом взял себя в руки. Савинков опять заговорил о Велегорском, предостерегая от поспешных выводов. Ружич и сам понимал, что не имеет права отвергать то ценное, что, возможно, способна дать группа молодых офицеров. И разве не встреча с дочерью в особняке у Велегорского причина такого мнения? Непреодолимое желание уберечь Юнну от водоворота политической борьбы оказалось выше всех других желаний и стремлений. - Не знаю, - сказал Ружич. - Но избавь меня от необходимости бывать там. Дай любое задание, пусть самое рискованное, но только не это. - Все, что хочешь, но прочь несносную хандру! Бурю нужно встречать с лицом, на котором восторг и мужество! - Борис... - тихо начал Ружич, не решаясь задать тот самый вопрос, который мучил его все эти дни. - Скажи... Вот ты передо мной. Ты знаешь меня. Скажи как на исповеди. В те минуты, когда ты остаешься один... Совсем один... Когда никто не пытается прочесть на лице твои думы. Когда ты ни в чем не принуждаешь себя... Скажи, тебя обуревают сомнения? Или страх перед будущим? Или колебания? Ты испытываешь тоску? Поток вопросов обескуражил Савинкова. Пытаясь скрыть это, он подошел к столу, наполнил рюмку водкой. - Хочешь? - не оборачиваясь, спросил он. Ружич поморщился. - Я человек, - с отчаянием произнес Савинков, опорожнив рюмку. Человек - и этим все сказано. Как и в любую душу, в мою заползают змеи - я ощутимо чувствую, как они извиваются во мне. Вот - змея-сомнение, вот змея-страх. Да, Вениамин, я человек. Бывают минуты, когда я готов забиться в келью, окружить себя книгами и смотреть на мир только из окна бесстрастным, ироническим, равнодушным взором писателя Ропшина, человека, стоящего надо всем земным. Пусть суетятся, пусть предают друг друга, любят и убивают, жгут и строят, сеют хлеб и взрывают дворцы. Да, такие минуты бывают! Но есть еще одна змея, самая сильная и самая жестокая. Она неумолимым горячим кольцом стискивает все, что парализует мою волю, и остается только одно - идти к предначертанной цели. Быть властителем людей, их судеб. Это - исповедь. Это - только перед тобой... Я сказал "властителем" - нет, не для себя, не ради корысти, и даже не из-за того, чтобы насытить самое ненасытное чудовище, живущее в человеке, - тщеславие. Властвовать ради счастья людей, ради будущего России... Он задохнулся от нахлынувших чувств, и внезапно слезы показались у него на глазах, и это было так неожиданно, что Ружич растерялся, не зная, успокаивать ли Савинкова или молчать. Слезы не вызвали в сердце Ружича ответного сострадания. "Окаменело сердце, отпылало", - горько подумал Ружич. Он, конечно, не мог заподозрить Савинкова в том, что тот всегда: и когда держит цветистую речь на заседании штаба, и когда обнимает лучших друзей, и когда смеется и плачет, - всегда играет роль, как делает это поднаторевший на театральных подмостках актер. Савинков играл самозабвенно, талантливо и испытывал острое чувство радости, видя, что неизменно достигает цели, заставляя других верить даже в то, во что не верил сам. И хотя сейчас Ружич не сомневался, что Савинков плачет искренними слезами, он не растрогался. Но все же ему захотелось быть с ним тоже искренним и откровенным. - Борис, я открою тебе свое самое заветное, - произнес он так проникновенно, словно эти слова прожигали его насквозь. - Я встретил дочь... Идя к Савинкову, Ружич решил, что ничего не скажет ему о встрече с Юнной. И вот - не выдержал... - Дочь? - воскликнул Савинков, садясь рядом и с видом, выражавшим доброе сочувствие, понуждая его к рассказу. - И потому ты так встревожен? - Я встретил ее у Велегорского, - помрачнел Ружич. - Но это же великолепно, значит, ова с нами! - обрадовался Савинков. И тебе остается убедить ее, что до определенного момента ты не можешь вернуться домой. Успокойся, ты совсем осунулся, даже постарел за эти дни. Кому это надо? - Да, да, - устало прикрыл глаза Ружич. - Но есть одно обстоятельство... - Он замялся, чувствуя, что не должен говорить этого ни Савинкову, ни кому бы то ни было. Ему все время не давало покоя и мучило то, что недавно, когда он брел поблизости от Цветного бульвара в надежде увидеть Юнну, действительно увидел ее, но не одну. Рядом с ней стоял тот самый чекист, который допрашивал его в "доме анархии". Стыдясь и мучаясь, он наблюдал за ними из-за дерева и понял, что так разговаривать и смеяться, как они, могут только влюбленные. Ружич долго бродил по городу и никак не мог связать в единое целое офицеров из особняка в Лесном переулке, Юнну и этого парня, похожего на француза, с которым его столкнула судьба. - Не надо, ты можешь не говорить, если это трудно или если это только твоя тайна, - остановил его Савинков, видя, что Ружич колеблется, и этими словами давая понять, что если тот и послушает его и не скажет того, что собирался сказать, то все равно будет ясно: он бережет что-то такое, что выгоднее скрыть, чем предать огласке. - Собственно, это, скорее всего, лишь игра моего воображения, - не очень уверенно произнес Ружич, мысленно кляня себя за то, что едва не проговорился. - Вениамин, возьми себя в руки. Знаю, это адски трудно. Но во имя нашей цели, - с доброжелательностью сказал Савинков, зная наперед, что теперь уже не сможет отделаться от подозрения, что Ружич бывает неискренен с ним. И чтобы Ружич не смог заметить в нем перемены, Савинков заговорил неторопливо и мечтательно: - Не знаю, чем объяснить, но я люблю уноситься мыслями в прошлое. Впереди - бой, может, жизнь, а может, смерть, но это не столь волнует меня, как то, чего уже не вернешь. Я тосковал по гимназии, когда годы учения остались позади, тосковал по Егору Сазонову и Ивану Каляеву, когда их не стало рядом. Тосковал по женщинам, когда одна из них сменяла другую. Впрочем, женщины... Обойтись без них так же трудно, как и жить с ними, говаривал старик Аристофан. Но я - о прошлом. Оно обжигает сердце желанным огнем. Лишь в прошлом истина, и только в нем счастье. Впереди у всех гениев и кретинов, императоров и бродяг, красавцев и уродов - смерть, смерть, смерть... За окном исчезали, таяли солнечные лучи. Было тихо, как в пустыне. И Ружич вдруг понял, что, если не уйдет сейчас же отсюда, не перестанет слушать Савинкова - наделает глупостей. "А вообще-то надо с ним поосторожнее, - отметил для себя Савинков. Только себе можно верить, только себе..."12
Калугин взглянул на часы: стрелки показывали половину десятого. На улице стемнело, в лицо дул ветер, но Калугин шел быстро. До явочной квартиры, где он должен был встретиться с Юнной, было еще далеко. Калугин нервничал и злился: инструктируя Юнну, он крепко-накрепко предупредил ее, что встречаться с ним она может лишь в случаях, не терпящих отлагательства, в остальное же время все важные сведения должна передавать через связного. А Юнна и работает-то еще без году неделю, а уже требует: ей нужно встретиться лично с Калугиным. "Несерьезная девица, хлебнем мы с ней горя", - думал Калугин. Он злился не только потому, что работы было невпроворот и что его ждали дела куда важнее и неотложнее, чем то, которым занималась Юнна. Первопричиной недовольства была какая-то еще не до конца осознанная неприязнь к этой девчонке, ищущей в революции лишь захватывающее, яркое и необыкновенное и еще не постигшей, что и революция, и работа в ЧК - это труд, труд и еще раз труд. Нужно уметь не спать, не кланяться пулям, забывать о еде, ворочать мозгами, к чертям собачьим забросить всякие там нежности вроде любви и прочего. Короче - нужно уметь делать все для революции и ничего для себя. В этом Калугин был убежден и на том стоял непреклонно. Неприязнь к Юнне усиливалась еще и тем, что ее предстояло перевоспитывать - выбить из головы блажь, чтобы не молилась на политическую пройдоху Спиридонову. А как перевоспитаешь? Она вон где, в самом гнезде у контры, а ты, Калугин, на Лубянке. И, чего доброго, та контра повлияет на нее сильнее, чем ты, - у них пропаганда поставлена будь здоров. А отвечать за это придется тебе, Калугин, никуда от этого не уйдешь. Калугин, хмурясь, попытался предугадать, что ждет его на встрече с Юнной. Скорее всего, ничего хорошего. Собрала, наверное, малозначительные факты и уверовала бог знает во что: не Юнна Ружич она теперь, а королева разведки. Или заявит, что мечтала совсем не о таком задании, какое ей дали. Впрочем, обо всем этом Калугин размышлял недолго. Заботило другое. День идет за днем, и каждый чекист, начиная от рядового сотрудника ВЧК и кончая Дзержинским, сознает: в Москве хорошо законспирированная контрреволюционная организация готовит удар в спину Советской власти. А вот нащупать эту организацию никак не удается. Попытался было Мишель Лафар уцепиться за Громова, поверил ему. А тот, назначив встречу у Большого театра, якобы для того чтобы сообщить, где скрывается Савинков, бесследно исчез. И хотя за последнее время чекисты арестовали несколько белых офицеров, доказать, что они состоят в какой-либо заговорщической организации, не удалось. Дом, в одной из квартир которого в условленное время Юнна ждала Калугина, скрывался за высоким забором в глубине двора. Светились лишь окна второго этажа, а нижняя часть дома тонула во мраке. Калугин, не задерживаясь у входа, вошел во двор уверенно, привычно, как старожил. В коридоре ощупью добрался до двери и стукнул три раза с длинными паузами. Дверь почти тотчас же приоткрылась, и Калугин, переступив порог, попал в тускло освещенную комнату. В углу, почти у самой двери, стояла Юнна. У нее был такой вид, будто она увидела своего спасителя. Но то, что Калугин, заметив ее тревожное, взволнованное состояние, остался хмурым, непроницаемым и сердитым, привело к тому, что Юнна не выдержала и, нетвердо шагнув в глубь комнаты, всхлипнула. Калугин едва удержался от того, чтобы тотчас же не уйти: не переносил женских слез. Но он пересилил себя, подошел к Юнне, легонько стиснул ее за плечи сильными жесткими ладонями и, не без труда сдвинув с места, к которому она словно приросла, усадил на тахту. Юнна села, не отрывая ладоней от заплаканного лица. Калугин опустился на стул рядом с Юнной, тихо и сурово сказал: - Вот что, запомни раз и навсегда, чекисты никогда не плачут! - И жестко добавил: - Выбора у тебя, милая, нет - или работай, или срочно вертайся к мамаше. Без салажат обойдемся... Если бы Калугин стал утешать Юнну и успокаивать ее, она, возможно, разревелась бы еще больше. Но суровые слова Калугина так ошеломили и обидели Юнну, что она неожиданно для себя перестала плакать. Резко отняв ладони от лица, она бросила на Калугина гневный взгляд и со страдальческим удивлением спросила: - Как же вы это?! Даже не спросили... не узнали... И так говорите. Как же это?! Слезы душили ее, ей казалось, что человек, сидящий напротив, настолько черств душой, что не сможет понять ни того, почему она плачет, ни того, что с ней произошло. Все, что она решилась рассказать ему после мучительных колебаний, - все это сейчас, столкнувшись с холодным равнодушием Калугина, потеряло смысл и значение. - Я потому и пришел, чтобы узнать. А слезы барышням вытирать не приучен. - Я не барышня! - вспыхнула Юнна, покраснев. - Не барышня, запомните! - Запомню, - согласился Калугин, хмурясь. - Если подзагнул - не взыщи. А только у меня каждая минута свою цель имеет. Давай ближе к пирсу. Ну, к делу, значит. Юнна, хотя Калугин и глядел сейчас куда-то в плотно прикрытое внутренней ставенкой окно, боялась, что, если он снова в упор уставится на нее, она не сможет вымолвить ни слова. И потому торопливо, пока он не перевел на нее свой непроницаемый, насупленный взгляд, выпалила, будто, преодолев испуг, кинулась в омут: - У меня отец жив! Калугин медленно повернул голову, но ничем не показал, что слова Юнны взволновали или обескуражили его. - Понимаете, жив! - повторила Юнна, будто Ка.тугин не расслышал. - Жив - а слезы? Это к чему, свистать всех наверх? - спросил Калугин, так как сразу понял, что дело не только в том, что отец жив. - А я говорила, помните?.. И вам, и Феликсу Эдмупдовичу... Говорила, что он погиб. И я нисколечко не придумывала, пет. И не обманывала, я же показывала вам извещение. А он жив! - Отчего же горевать-то? Сама говорила, отец что надо, гордиться можно. Отчего же горевать-то? - Я счастлива, счастлива... Он же родной, самый родной! - Вот и хорошо, - сказал Калугин. - Но вы же не знаете, не знаете... Калугин молчал: он чувствовал, что Юнна собирается рассказать ему, чем вызваны ее слезы, и хотел, чтобы она рассказала это, не ожидая его вопросов. - Это самое страшное, - медленно начала Юнна. - Я знаю, что он честный, мужественный. Он может заблуждаться, но он не враг, нет! Она приостановилась, будто надеялась, что Калугин станет что-либо уточнять, но он, подперев тяжелый подбородок крупными кулаками, молчал по-прежнему. И Юнна поспешно, чувствуя, что каждое новое откровение жалит ее в самое сердце, рассказала Калугину и о неожиданном появлении отца в особняке у Велегорского, и о своем разговоре с ним. Она искренне верила в то, что этим спасает и отца, и то задание, которое ей было поручено. - Разрешите, я поговорю с ним, - умоляюще попросила Юнна, закончив рассказ. - Он поверит мне, поймет... Калугин выслушал ее спокойно и, пока она говорила, продолжал сидеть недвижимо, сгорбившись. Потом, упершись широкими ладонями в приподнятые колени, буркнул: - Это ни к чему. - Как же так? Как же так? - растерянно воскликнула Юнна. Калугин думал сейчас о том, что еще тогда, у Дзержинского, когда Юнна сказала, что отец ее погиб на фронте, и стала уверять, что если бы он был жив, то был бы на стороне революции, - еще тогда он, Калугин, насторожился. И, выходит, не зря... - А вот так, - наконец ответил Калугин. - С тон минуты, как ты бросила якорь в Чека, у тебя есть только одно - твоя работа. И ничего больше. И никого - пи отца, ни брата, ни свата. Понимаешь, в каком я смысле? Юнна молчала. Самое трагичное было в том, что она, даже если бы и убедилась, что отец вольно или невольно очутился по ту сторону баррикады, не может, не имеет права убеждать его стать под знамена революции, потому что этим даст повод для того, чтобы ее подлинная роль в группе Велегорского была раскрыта. - Понимаю, - наконец произнесла она. - Но даже если отец будет знать, кто я сейчас, он никому, никому... - Никаких "если", - жестко оборвал ее Калугин. - Никаких! Авось да небось - ты это брось. - Но как же быть? - в отчаянии спросила Юнна. - Как быть? - Выполнять задание, - коротко приказал Калугин. - Полный вперед - и никакой слякоти! Надо думать, к Велегорскому он больше не придет. Пожалуйста, пусть видит, что его дочь заядлая контра. А с нами он или против нас - это мы без тебя разберемся. - Значит, предать отца? Кто же тогда его спасет, кто? - в ужасе спрашивала Юнна, понимая сейчас всю свою беспомощность в тот момент, когда отец, может быть, стоит на самом краю пропасти. - Нет, я не могу так, не могу! Я пойду к Дзержинскому, пусть он уволит меня, отпустит... Не могу! Она снова затряслась от рыданий. Слез уже не было, и потому отчаяние еще сильнее жгло ее душу. Калугин встал и не спеша прошелся по комнате - от окна к комоду. Остановившись посередине, решительно сказал: - Вот что, революция не игрушка, ты это уясни. Корабль в море, и о береге забудь. - Помолчав, он добавил: - И Дзержинского не вздумай беспокоить. Забыла, как он за тебя горой стоял? Он тебе поверил, а ты!.. - Я понимаю, я все понимаю, - торопливо заговорила Юнна. - И меня мучает совесть. Но отец же, родной отец!.. - А что отец? - все так же спокойно спросил Калугин. - Ну что отец? Ты вот слушаешь меня и думаешь небось: зверь этот Калугин, не человек. Души в нем нету. И я тебе сам откровенно, между прочим, заявляю: нету, когда на нашу революцию контра замахнулась. Нету! А отца, ежели он на ту сторону баррикады перемахнул, не жалей! Под чужой ветер своп парус подставлять - на дно пойдешь! Они умолкли. Юнна - потому, что хотела крепче поверить в правильность его слов, Калугин - чтобы убедиться, доходят ли его слова до сознания Юнны и не следует ли ей все это объяснить более веско и внушительно. - Ну, а еще что? - спросил он, как бы подводя черту под разговором об отце. Юниа долго не могла понять смысл его вопроса. Она так мечтала о том, что сама убедит отца изменить свои взгляды и свою жизнь, и вот теперь ее лишали права на эту мечту... - Что еще? - нетерпеливо повторил Калугин. Юнна коротко рассказала о том, что ей удалось выяснить о группе Велегорского. Говорила она сбивчиво, непоследовательно. Но Калугин все это знал уже из донесений связного. - Хорошо, - сказал Калугин. - Главное - не спугнуть эту братию. А Тарелкин - это, видать, персонаж... Он тебя проверяет. - Проходу не дает, - пожаловалась Юнна, будто Калугин мог защитить ее. - А ты пешто не знаешь, как отвадить? Женщины на этот счет ух какие мастерицы! - А как? - А так. Смажь по морде - враз отчалит, - уверенно посоветовал Калугин. - Оплеуху языком не слизнешь! Сам знаю. Доставалось, бывало, от баб-то... Калугин вдруг спохватился, вспомнив, что говорит не с видавшей виды женщиной, а с неискушенной девушкой. Он покраснел и нахмурился еще сильнее, стараясь скрыть смущение. И именно теперь, оттого что Калугин просто и даже грубовато говорил с ней, советуя, как ей защититься от нахального Тарелкина, и оттого что он смутился, Юнна впервые как-то совсем по-иному увидела его, и то представление, которое у нее сложилось о нем как о человеке грубом и черством, - это представление рушилось, уступая место новому, лучшему. Это обрадовало Юнну и придало ей силы. - Ну что же, - сказал Калугин. - Пока жми прежним курсом. Велегорского держи на прицеле. Каждое его слово, каждый шаг. Небось проговорится. Нужны адреса, где он швартуется. Это, учти, главное. Он подробно объяснил Юнне, как ей лучше справиться с заданием, но ни разу при этом не упомянул о ее отце и о том, как она должна держать себя с ним. И Юпна поняла, что, кроме того, что он уже сказал об отце в начале разговора, ничего больше не скажет. И хотя она очень ждала этих слов, а потеряв надежду, почувствовала, что ей стало еще тяжелее и мучительнее, заставила себя смириться. - Ну, я пошел, - поднялся Калугин, надевая на бритую голову измятую кепку. Сейчас он походил на самого обыкновенного заводского рабочего. Держи нос кверху! Ему хотелось сказать еще что-то ободряющее и даже ласковое, но он молчал, озабоченно поглядывая на присмиревшую, осунувшуюся Юнну. И хотя он ничего не сказал, Юнна по глазам поняла, что судьба ее все же волнует Калугина. Он пожал ей руку и пошел к двери. Но прежде чем открыть ее, вдруг обернулся и спросил: - Ну, а как насчет Спиридоновой? И лишь после того, как задал этот вопрос, понял, что сделал это очень некстати. "А теперь уж все равно: слова не воротишь - полетело", - с досадой подумал он. Юнна молча надела шляпку, придирчиво осмотрела себя в зеркало. Потом повернулась к Калугину. "Красивая, - мелькнуло в голове у Калугина. - Даже чересчур красивая..." - Ну а если я вам скажу, будто возненавидела ее, вы мне поверите? Калугин не ожидал такого оборота и опешил, прикинув про себя: "Острая на язык, и с достоинством", сам еще не зная, радоваться ли этому или огорчаться. Юнна, понимая, что поставила его в неловкое положение, поспешила добавить: - Вы же сами говорите - жизнь выучит... - Ну-ну, - пробурчал Калугин, как-то по-новому, уважительно взглянув на Юнну. - Прибавь оборотов-то, жизнь требует... - Прибавлю, - в тон ему пообещала она, - обязательно! - Ты там смотри... В общем, если туго придется, просигналь: свистать всех наверх, В обиду не дадим. И, не оборачиваясь, шагнул через порог... Всю дорогу, хотя впереди его ждалп дела посложнее, Калугин вспоминал разговор с Юнной. Сейчас, когда Юнны не было рядом, ему стало жаль ее. Он усиленно отгонял от себя эту жалость, но она оказалась на редкость упорной. Калугин отчетливо и живо представил Юнну среди заговорщиков, внезапную встречу с отцом, ощутил ее душевную борьбу и понял, что если эта хрупкая, неопытная девушка выполнит задание, то это будет ее подвигом. На улице Калугин сунул руку в карман брюк и нащупал там завернутые в газету кусочки сахара. Он собирался занести их домой своей Натке перед тем, как идти к Юнне, но не успел. Сейчас заезжать домой тоже было некогда, да и Натка, наверное, уже спала. Еще утром в кабинет к Калугину неожиданно вошел Дзержинский и, движением руки усадив его, вскочившего со своего места, сел сам. - Я слышал, у вас дочка больная? - спросил Дзержинский, прервав Калугина, начавшего было докладывать ему о делах. - Приболела, - подтвердил Калугин, почему-то покраснев. - Я послал к вам на квартиру врача, - сообщил Дзержинский. - Иначе ведь может случиться осложнение. - Может, - согласплся Калугин. Он не привык говорить на работе о личных, своих делах. - А вот это - сахар. - Дзержинский положил на стол с десяток маленьких искрящихся кусочков. - Ей хорошо выпить сладкого горячего чая. Да еще бы с малиной. Кажется, дочку зовут Наташей? - Наташей. - Хорошее русское имя, - похвалил Дзержинский. - В общем, дела делами, а о дочке не забывайте. Дети - это наша надежда, ради них боремся. И хотя Дзержинский ничего не сказал о своем сыне, Калугин подумал о том, как тяжело ему быть в разлуке с семьей. Он, Калугин, выкроит время, чтобы проведать Натку, а Дзержинский не может увидеть сына, даже если бы и выкропл... - Да, имя хорошее, - задумчиво повторил Дзержинский. - Помните Наташу Ростову? - Да, да, - рассеянно и виновато проговорил Калугин, стараясь припомнить, о ком говорит Дзеужппсшш. Жена как-то читала ему отрывок из какой-то толстой книги, и там, кажется, была такая вот фамилия... Но Калугин думал тогда о том. как разоружить анархистов. - Не читали... - без упрека сказал Дзержинский. - Прочтите обязательно. Просто немыслимо жить на земле, дорогой товарищ Калугин, не прочитав "Войны и мира"... Едва Калугин вошел в свой просторный, неуютный кабинет, как перед ним вырос Илюша - сияющий и цветущий. Он всегда был таким, и можно было подумать, что этому чернявому парнишке жизнь каждый день приносит одни радости и никаких огорчений. - Товарищ Калугин, - заискрился улыбкой Илюша. Он называл Калугина только по фамилии. - В одиннадцать тридцать вас вызывает товарищ Дзержинский. - Так. Ясно, - отозвался Калугин, переодеваясь в свою обычную одежду брюки-галифе, сапоги и гимнастерку. - Это во-первых, - продолжал Илюша. - Второе. Сегодня, выполняя лично ваше задание, я сделал важное открытие. - Илюша помедлил, ожидая, когда Калугин сядет за свой стол. - Вот. - Он положил перед ним раскрытую книгу и папку. - Что? - уставился на него Калугин. - Товарищ Калугин, - торжественно, растягивая удовольствие, начал Илюша. - Перед вами с левой стороны - книга писательницы Войнич под названием "Овод", изъятая у известного вам Громова. На титульном листе этой книги вы видите дарственную надпись - Короче, - насупился Калугин, это мне и без тебя ведомо. - Справа - папка, содержащая в себе личное дело, - Илюша пропустил мимо ушей реплику Калугина, - Юнны Вениаминовны Ружич, принятой на работу во Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией. И если вы не сочтете за труд сличить почерк, которым учинена дарственная надпись на книге "Овод", с почерком, которым написано заявление Юнны Ружич о ее желании добровольно пойти на работу во Всероссийскую... - И когда ты будешь говорить коротко? - вскипел Калугин. - Мне твою антимонию выслушивать некогда. Сказал "ВЧК" - и баста! - Не могу я так просто: "ВЧК"! - возразил Илюша. - Мне всегда кажется, что, сокращая такие священные революционные названия, я невольно принижаю, понимаете, принижаю чекистов! - Ну-ну, - смягчился Калугин. - Гляди-ка, каким галсом пошел, дьяволенок. Ну-ну.., - Так вот, товарищ Калугин, если вы сличите, то увидите, что здесь нет двух почерков, а есть лишь один. - Следовательно... - Следовательно, - подхватил Илюша, - все это писало одно и то же лицо, а именно - Юнна Вениаминовна Ружич. И значит, когда товарищ Дзержинский говорил вам, что уже где-то видел такой почерк, то он ни на йоту не ошибался! - Ни на йоту? - переспросил Калугин, напирая на незнакомое слово. С досадой хлопнул ладонью по столу: - Действительно, сходится. Значит... - Значит, - сияя все той же улыбкой, снова подхватил Илюша, - что здесь мы имеем дело с двумя возможными вариантами. Или книга, подаренная Юнной Ружич некоему лицу, случайно попала к Громову, или Громов вовсе и не Громов... Калугин подошел к Илюше, шутливо схватил его двумя пальцами за вздернутый, веселый нос и легонько прищомил его. - И есть еще третий вариант, - сказал Калугин, заставляя Илюшу приподняться на цыпочках. - Пошевели мозгами и - по местам стоять, с якоря сниматься! - Есть! - обрадованно воскликнул Илюша, польщенный. - Все? - Телефон звонил как ошалелый, - восхищенно ответил Илюша, не скрывая, что испытывает чувство радости оттого, что ему пришлось то и дело снимать трубку и, таким образом, замещать Калугина. - Из Реввоенсовета звонили, пз городской милиции, с Казанского вокзала... Да вот я тут всех до единого записал, кто звонил. Калугин бегло пробежал список, подчеркнув тех, кто ему был особенно нужен, и пододвинул к себе стопку дел. Но Илюша пе уходил и, загадочно улыбаясь, смотрел на него. - Чего тебе? - удивился Калугин, не поднимая глаз. - Принес вам второй том сочинений Мицкевича, товарищ Калугип! радостно отрапортовал Илюша. - Ты даешь, хлопец! - поморщился Калугин. - Я еще в первом томе до семнадцатой страницы пока дошел. А ты пе улыбайся! - вдруг рассердился он, приняв обычную Илюшину улыбку за попытку посмеяться над ним. - Я читаю не так, как ты, - по морям, по волнам - нынче здесь, завтра там! Калугин раскрыл папку и углубился в дело, но вдруг, вспомнив утренний разговор с Дзержинским, сказал: - Ты вот что. Принеси мне завтра "Войну и мир". Перечитать надо. - Первый том? Или сразу все четыре? - обрадовался Илюша. - Что? - оторопел Калугин, скрывая смущение. - Чего спрашиваешь? Ясное дело - сразу все четыре. Даю добро! - Будет вам завтра к восьми ноль-ноль сам Лев Толстой! - заверил Илюша. Он отошел к своему столику в углу. Но долго усидеть там не мог. - Товарищ Калугин! - Работай, хватит трепаться! - оборвал его тот. - А я, товарищ Калугин, знаете, с кем сегодня в столовке рядом сидел? - Кончай, Илюха. - Так вы послушайте только, товарищ Калугин. Сижу это я за столом. Кто-то рядышком садится. Я сперва на этого человека и не взглянул, вижу, что он тоже суп ест. А как взглянул, аж подскочил - Председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликс Эдмундович Дзержинский! Не верите? - Чего же не верю? Сам с ним сколько раз в этой столовке обедал. - Правда? - воскликнул Илюша, сокрушаясь, что не только он обедал с Дзержинским и что Калугина ничем не удивишь. - Но это еще не все! Вы знаете, что сказал мне товарищ Дзержинский? - Что же он тебе сказал? - Когда мы пообедали, товарищ Дзержинский спросил: "Как дела, товарищ Фурман?" - Илюша опустил слово "юноша" (именно так обратился к нему Дзержинский), так как больше всего на свете мучился из-за того, что его считают молодым. - Я ответил: "Отлично, товарищ Председатель Чрезвычайной комиссии". А товарищ Дзержинский сказал: "А знаете что, товарищ Фурман, не отпустить ли вам для солидности усы?" - А ты что? - Я ответил: "Есть, отпустить усы, товарищ Дзержинский!" А он снова улыбнулся: "Желаю успеха, товарищ комиссар!" Вот как! Илюша умолчал о том, что Дзержинский поинтересовался, сколько ему лет, и сказал: "Вы же еще совсем мальчик!" И хотя эти слова он произнес доброжелательно и даже ласково, Илюша застеснялся и готов был провалиться сквозь землю. - Здорово, - пробасил Калугин. - А как же теперь насчет усов? - Отращу! - убежденно заверил его Илюша. - "Отращу", - передразнил Калугин. - Да ты знаешь, сколько времени тебе их надо отращивать? Месяца три, не меньше. - Да нет же! - радостно возразил Илюша. - Если я только захочу, они у меня мигом вырастут. Вот увидите, товарищ Калугин! 13 Дорогу пересекал ручей, оживший после дождя. Хилый мостик из бревен был разрушен. - Дальше не проедем, - виновато сказал шофер. - Ну что же, - отозвался Дзержинский, - пойдем пешком. Дзержинский вышел из машины. Вокруг было сыро, мрачно и безлюдно. В крохотных лужицах тихим огнем горели звезды. Ветер утих, и капли утомленно срывались с веток. Где-то поблизости самозабвенно щелкал соловей. Шофер выключил мотор. Следом за Дзержинским из машины вышли Калугин и Илюша. Калугин тут же закурил, а Илюша, взволнованный и радостный в предчувствии ошеломляющих событий, от полноты чувств снял с головы бескозырку. - Тут еще метров триста, курс зюйд-вест, - сказал Калугин.-- По тропке через рощу. Нас встретят. Машина съедет с дороги, и ни один дьявол ее в кустах не заметит. - Хорошо, - согласился Дзержинский и добавил, нагнувшись к шоферу: Оружие держите наготове. Мало ли что... - Есть, - откликнулся шофер. Не задерживаясь, они устремились но тропке. Калугин с маузером в руке шел впереди, за ним Дзержинский. Илюша старался не отставать. Дача стояла в глубине рощи, огороженная высоким плотным забором. Вдоль забора глухой стеной выстроились деревья. Лишь из одного окошка пробивался слабый свет. У поворота тропки неожиданно возникла фигура человека. Калугин обменялся с ним паролем. Чекист шепнул Дзержинскому: - Все в порядке... - Тарелкин арестован? - тихо спросил Дзержинский. - Арестован, - так же тихо ответил тот. - Вот и хорошо, - удовлетворенно кивнул Дзержинский, продолжая идти. Вскоре они миновали калитку. Двухэтажный деревянный дом причудливой постройки с башенкой и стрельчатыми окнами стоял в глубине двора, представлявшего собой клочок сохранившейся рощицы: старые березы и сосны, прижавшись друг к другу, прятали небо. К фасаду примыкал яблоневый сад. На даче, в просторной комнате нижнего этажа, Дзержинского встретил худощавый чекист с озабоченным бледным лицом. Дзержинский крепко пожал ему руку. - Рассказывайте, товарищ Локтев, - предложил Дзержинский, присев к столу, и выжидательно взглянул на чекиста. - Заявился он сюда вечером, засветло. Поужинал на террасе. Потом, как заправский огородник, поливал огурцы. Бросил лейку, когда стал накрапывать дождь. Потом исчез в сарае. Мы его не дождались - нагрянули. - Результаты обыска? - Плевые результаты, Феликс Эдмуидович, хоть волком вой. Дзержинский задумчиво побарабанил пальцами по столу. Не может быть, чтобы Юнна Ружич ошиблась. Юппа сообщила, что три дня назад Тарелкин настоял, чтобы она пошла с ним прогуляться по бульвару. Там он нанял извозчика, и они поехали в сторону Александровского вокзала. Юнна не успела и одуматься, как очутилась за городом. Она попыталась остановить извозчика и уйти, но Тарелкин силой принудил ее остаться в пролетке, шепнув: "Вас ждет нечто весьма интересное". Так он и привез ее на эту загородную дачу. Здесь он усадил Юнну за богато сервированный стол, много пил, лез целоваться. Объяснялся в любви, предлагал руку и сердце. Юнна предупредила: "Не забывайте, браунинг я всегда ношу с собой". Это привело его в чувство, он начал длинно и путано рассказывать о себе, проклинал день, в который родился. Называл себя неудачником и пищим. "Вы - нищий?! - усмехнулась Юнна, - Помилуйте, у вас такая шикарная дача". Тарелкин глухо застонал, точно его ударили: "Дача не моя, клянусь вам, Агнесса. Я раб этой богом проклятой халупы... Здесь, кроме скотских морд, никого не увидишь... И цепи не сбросить, нет..." Юнна рассерженно сказала: "Вы пьяны, Тарелкин. Я считала вас человеком с сильной волей. А вы к тому же еще и слизняк". Тарелкин снова простонал: "Но еще немного, еще шаг - и богатство в моих руках. Мы возьмем его силой!" Юнна горячо поддержала его: "Вот это уже слова не мальчика, а мужа!" Тарелкин заговорщически подмигнул ей: "Это в моих руках. Помните, я спрашивал у этих прекраснодушных мальчиков, кто позаботится об оружии?" "Еще бы, - тотчас же откликнулась Юнна. - Вы тогда еще так удачно съязвили насчет того, что стишата сойдут за пулеметные ленты". Тарелкин был польщен: "У вас изумительная память", И немного погодя, отхлебнув добрый глоток вина, добавил: "Теперь, слава богу, благодаря моим стараниям у нас кое-что имеется..." Потом спохватился: "Но это - строго между нами..." Юнна возмутилась: "Вы, кажется, забываете о моем положении в нашей организации. Стоит мне лишь пожелать, и я вправе потребовать от любого из вас отчета о состоянии дел". Тарелкин виновато промолвил: "Конечно, но я строго-настрого предупрежден". Юнна перевела разговор на другую тему и, пробыв на даче еще около часа, стала собираться уходить. "Надеюсь, вы, как истинный джентльмен, возьмете на себя труд отправить меня на извозчике?" - "Да, с превеликим удовольствием, но до станции надо идти пешком, вы устали, оставайтесь ночевать на даче..." Юнна наотрез отказалась: "Этого еще недоставало!" Тарелкпн продолжал умолять: "Оставайтесь, утром я покажу вам наши сокровища..." Юнна назвала его болтуном, которому нельзя доверить тайну, и добавила, что, если потребуется, она сама прикажет ему отчитаться в своих действиях. Тарелкин, смирившись, проводил Юнну до станции, и она поездом уехала в Москву. К вечеру обо всем происшедшем уже знал Калугин... Дзержинский седел сгорбившись и задумчиво смотрел в темное окно. Там белыми огоньками проступали во тьме лепестки цветущей яблони. И хотя Дзержинский уже много лет подряд не видел, как цветет яблоня, сейчас, когда он думал о сообщении Юнны и о роли, которую играл во всей этой истории Тарелкин, лепестки яблони воспринимались им как что-то нереальное, неземное. Может, Тарелкин решил лишь заинтриговать Юнну и придумал версию об оружии? Или, как думал Калугин, захотел испытать, проверить ее? Конечно, эти предположения сбрасывать со счетов нельзя, но скорее всего, заговорщики решили, что трудно отыскать более падежное место для хранения оружия, чем загородная дача... - Приведите его сюда, - приказал Дзержинский. Через несколько минут чекисты ввели Тарелкина. Выпуклые стекла его очков вспыхнуликрасноватым пламенем - в них отразился свет керосиновой лампы. От массивной головы на стену падала черная уродливая тень. - К какой партии вы изволите принадлежать? - в упор спросил его Дзержинский. - Я знаю, вы Дзержинский, - вместо ответа сказал Тарелкин, - и очень рад встрече. Но чем объяснить такое обостренное внимание к моей весьма скромной персоне?.. - Отвечайте на вопрос, - прервал его Дзержинский. - Я состою в партии левых социалистов-революционеров. И вы прекрасно знаете, что представители моей партии входят в состав ВЦИКа. Более того, ваш заместитель товарищ Александрович... Тарелкин говорил, мучительно раздумывая над тем, как это чекистам пришла на ум мысль нагрянуть на дачу. Ведь он ни с кем не делился, приезжал сюда изредка, вел себя неприметно, скромно. И вдруг в памяти пачал всплывать разговор с Агнессой, приглушенный тогда вином. Она единственная, кому он кое-что сказал об оружии. Что - уже не помнит, кажется, были только намеки. Так неужели она выболтала? Нет, это, пожалуй, исключено. Велегорский доверяет ей, носится как с писаной торбой... - Кто кроме вас бывает на этой даче? - спросил Дзержинский, будто догадавшись, о чем думал сейчас Тарелкин. - Никого... - поспешно ответил тот, но, поколебавшись, добавил: - Если, конечно, не считать... Простите, но это касается интимнейших сторон моей жизни... - Можете не продолжать, - сказал Дзержинский. - Вы, вероятно, имеете квартиру в Москве? - Да, имею! - вдруг обозленно воскликнул Тарелкин. - Покорнейше прошу объяснить, чем вызван этот допрос. Я ни в чем не виновен. Я сражался за революцию и в бою на Пресне ранен юнкерами. Почему же меня схватили чекисты, призванные стоять на страже республики? Он говорил это с глубоким чувством обиды и топом своим давал понять, что если даже Дзержинский сейчас, после этих слов, извинится перед ним, то он ни в коем случае не сможет ему простить. - Насколько нам известно, вы одиноки, пе обременены семьей, - продолжал Дзержинский, не придав значения всему тому, что выпалил Тарелкпп. - Зачем же вам понадобились и эта дача, и сад, и огород? Тарелкин молчал. Потом, словно очнувшись от наседавших на него дум, потребовал: - Я прошу разрешить мне направить жалобу в Центральный Комитет партии левых социалпстов-революциоперов. - Если бы вы были действительно левым эсером, господин Тарелкин, я бы обязательно разрешил вам это, - спокойно, с уверенностью произнес Дзержинский. - Я докажу вам... - Предположим. Но перенесем разговор на утро. Согласитесь, не так уж приятно разговаривать, когда уже давно пора спать. Отдохните и подумайте. Вы сами решаете свою судьбу. Тарелкина увели. Дзержинский пригласил к столу Калугина, Локтева и еще двух чекистов, стоявших у двери. Илюша получил задание охранять вход в дом. - Оружие, несомненно, спрятано на даче, - сказал Дзержинский. Примерно через полчаса начнет светать. План такой: на рассвете вы еще раз обыщете всю дачу. Так, чтобы всю эту процедуру видел Тарелкин. Если снова ничего не найдем, сделаем вид, что наш приезд сюда был ошибкой. А там посмотрим. - Может, на огороде? - предположил Калугин. - А сверху огурчики растут, пыль в глаза... - Мы обыскали дом, сарай, где спал Тарелкин. Прощупали каждый сантиметр. И - ничего подозрительного, - Локтев пожал плечами. - Утро вечера мудренее, - напомнил Дзержинский. Он встал, прошелся по комнате, остановился перед бамбуковой этажеркой, на которой лежала кипа газет. - Газеты левоэсеровские, - сказал Дзержинский. - Хозяин хочет-таки нас убедить, что говорит правду. - Он усмехнулся: - У лисы-плутовки сорок три уловки! Газета "Знамя труда" была сплошь заполнена материалами второго съезда партии левых эсеров. Дзержинский перечитал речь Спиридоновой при открытии съезда и подчеркнул слова, поставив в конце абзаца большой вопросительный знак: "Нашей партии революционных социалистов предстоит великое будущее, ибо ни одна программа социалистической партии с такой полнотой не охватывает нужд и чаяний трудовых масс, как наша". Дзержинский саркастически усмехнулся: "Великое будущее!" Нужно потерять всякое чувство реальности, уподобиться слепцу, не видящему классовой расстановки сил, чтобы возомнить этакое! Но что это? Прошьян заявляет о "психологической пропасти" между левыми эсерами и большевиками. А Спиридонова? "Порвать с большевиками - значит порвать с революцией", предупреждает она. Помилуйте, да Спиридонова ли это?" Калугин, чтобы не мешать Дзержинскому, вышел покурить, послав двух чекистов в дозор вокруг дачи, чтобы в случае необходимости встретить нежданных гостей. Илюша старательно прохаживался возле крыльца, напряженно вглядываясь в темень. Обрадовавшись приходу Калугина, он шепотом спросил: - Ну что? В этом коротком вопросе заключалось страстное желание Илюши ускорить события и, наконец дождавшись чего-то необычайного, принять в них самое деятельное участие. Калугин в ответ приложил указательный палец к губам, призывая Илюшу к молчанию. - Удалось что-нибудь узнать? - не унимался Илюша. - Кончай травить! - обозлился Калугин и, загасив папиросу, вернулся в комнату. Дзержинский стоял у окна, за которым светало, и постепенно все, что дотоле было мрачным, расплывчатым и затаенным, прояснялось, принимало свои привычные очертания и словно вновь нарождалось на свет. Яблоня, что цвела возле окна и протягивала ветви к стеклам, будто желая удивить своей красотой, как бы оживала, и чем ярче разгорался рассвет, тем она становилась прекрасней. Дзержинский, не отрываясь, любовался этим преображением и думал о том, как, должно быть, счастлив тот человек, который имеет возможность видеть пробуждение земли, дышать предрассветным ветром, пахнущим яблоневым цветом и росой. Дзержинский резко отвернулся от окна, словно прогоняя видение, и, взглянув на часы, сказал Калугину, что пора начинать. Они вышли во двор. Было тихо, деревья стояли недвижимо, и казалось, что вечером не шел дождь и не дул ветер. Лишь трава, не успевшая высохнуть за ночь, слепила глаза огненным серебром. Ночью дача выглядела неуклюжей, громоздкой, таила в себе что-то зловещее, а сейчас, освещенная тихим пламенем восходившего солнца, удивительно гармонично вписывалась в помолодевшую рощу. На высокой старой березе, потерягзшей уже ослепительность белизны и все-таки сейчас, в пору рассвета, выглядевшей счастливой, хлопотали подле своего домика скворцы. Неяркая еще зелень берез сияла на солнце. Небо было таким голубым и добрым, что, глядя на него, думалось, будто оно никогда не было суровым, грустным и гневным. Дзержинский взглянул на подошедшего Илюшу. Несмотря на то что Илюша всю ночь бодрствовал и был напряжен до предела, понимая, что стоит на очень ответственном посту, он не выглядел ни утомленным, ни тем более подавленным. Напротив, он сиял так же, как сияло это прекрасное, сказочное утро, и с готовностью ждал новых приказаний. Солнечный луч бил прямо в надпись на его бескозырке - "Стерегущий", и оттого надпись эта казалась очень уместной. Дзержинский поздоровался с ним за руку, ничем - ни улыбкой, пи жестом не подчеркивая, что Илюша здесь, среди взрослых людей, выглядит .мальчуганом и что поэтому отношение к нему не может быть таким же, как и к остальным чекистам. Напротив, крепко, с серьезным деловитым видом пожав маленькую холодную ладонь Илюши, Дзержинский словно бы сказал, что считает его равным со всеми и отдает должное его старанию. Больше того, глядя на Илюшу, Дзержинский подумал о том, что то, за что боролись революционеры, перейдет к таким вот, как Илюша, и теплое чувство согрело его душу. Между тем Калугин распределил чекистов, дал им задание, и они принялись осматривать двор. Один из них, вооружившись лопатой, копал землю поблизости от грядок. Локтев по ржавой железной лесенке полез на чердак. Калугин пошел в комнату, где под охраной сидел Тарелкин. Пробыл он там недолго и, вернувшись, сказал Дзержинскому: - Сидит у окна, наблюдает. Вид равнэдушный, вроде на море полный штиль, мол, мое дело петушиное - прокукарекал, а там хоть не рассветай, - Все логично, - пожал плечами Дзержинский. - Самообладание - его щит. Вместе с Калугиным они обошли дачу. В запущенных, плохо прибранных комнатах еще царил полумрак. По скрипучим ступенькам поднялись на второй этаж. Здесь было светлее и суше, но так же пустынно и тихо. Из чердачной двери, весь в пыли и паутине, появился Локтев. - Каждый сантиметр руками прощупал, - виновато, будто именно из-за него до сих пор ничего не найдено, доложил он, - и все без толку. Одни пустые бутылки. - Бутылки, говорите? - оживился Дзержинский. - И много их там? - Да с полсотни, не меньше. - Многовато для одного хозяина, - заметил Дзержинский. - А подвал проверяли? - Подвала в доме нет, - огорченно ответил Локтев. Они спустились вниз, постояли в раздумье на просторной светлой террасе с синими стенами. Дзержинский взглянул на старинное кресло, стоявшее в углу. Оно еще не успело покрыться пылью. - А куда ведет эта дверь? - кивнул головой Дзержинский. - Здесь что-то вроде кладовой, - сказал Локтев. - Вчера ребята тут все переворошили. Дзержинский открыл дверь. Пахло гнилыми яблоками, сыростью, мылом, укропом и еще чем-то острым. Комнатушка была маленькая, узкая, с крошечным оконцем. Как раз против него, на стене, оклеенной грязноватого цвета обоями, висела картина. Это был один нз тех левитановских пейзажей, при взгляде на который кажется, что каким-то чудом вдруг попал на свежий иескошенный луг, или на берег лесной речушки с пронзительно-чистой, темной, под цвет осенних облаков, водой, или в лесную чащу, полную птичьих вскриков, вздохов юных берез и прозрачного опьяняющего воздуха. Дзержинский в немом восхищении застыл возле картины. То, что она висела здесь, в этой мрачной комнатушке, заваленной всевозможной рухлядью, было невероятно и противоестественно. Картина была оправлена в тяжелую, позеленевшую от сырости багетовую раму, повешена низко и кособоко. - И здесь смотрели, - сказал Локтев таким тоном, точно Дзержинский уже высказал свое сомнение в ошибочности их действий. - А картину снимали? - Нет... - Ну что же, - сказал Дзержинский, - не мешало бы и проверить. Но это потом. Пока что продолжайте искать во дворе. И Тарелкина выведите туда же, пусть подышит воздухом. Оставшись один, Дзержинский долго еще любовался пейзажем Левитана. Ему казалось: поставь эту картину в лесу или на берегу реки - и, хотя вокруг будет живая природа, от картины не оторвешь взгляда: Левитан вдохнул в нее свою душу. Тарелкин в это время сидел на крыльце. Солнечные лучи затеяли было веселую игру со стеклами его очков, но он отвернулся и стал глядеть себе под ноги. Его не радовало ни утро, ни солнце, ни скворцы на березе. Он думал сейчас только о себе, все остальное было чужим и ненужным. "Кто же предал? - спрашивал он себя, поочередно подозревая то Агнессу, то тех офицеров, которые находили на этой даче временное прибежище. Они появлялись здесь глухими ночами и исчезали под покровом темноты. - Кто же предал? Кто?" Тарелкин не смотрел на чекистов, продолжавших обыск, и все же чутьем догадывался, что они делают. Вот пошли в сарай, вот копают в саду, протыкая рыхлую землю длинным железным щупом, вот осматривают диван, на котором он спал... "Кажется, влип, - мрачно размышлял Тарелкин. - Дзержинский из-за пустяков на обыск не поедет... Значит, нащупали. Теперь одна надежда - не нашли бы оружие! Тогда выкрутиться проще. Если, конечно, не все нити у них в руках... Оружие-то, дорогой товарищ Дзержинский, предназначено для отряда ВЧК, там пополненьице ожидается, - злорадно усмехнулся Тарелкин. Попов - командир с головой: по одежке - чекист, а душа - у Маруси Спиридоновой... Этого-то вам не узнать, товарищ председатель ВЧК, не старайтесь. А я что?! Пока оружие не нашлн, я - дачник... А если Кривцов продал тебя с потрохами? - вдруг осенила его догадка, и Тарелкин с ненавистью подумал о Кривцове - мрачном, с раскосыми, как у азиата, глазами. Кривцов служил у Попова и был его доверенным лицом по закупке оружия. - Впрочем, отчаиваться рано, не дрейфь, Тарелкин!.." Он очнулся от своих дум лишь тогда, когда конвоир приказал ему встать и зайти в дом. Его привели на террасу. Прямо против него стоял Дзержинский. - Итак, - сказал Дзержинский мягко, - к вашему счастью, обыск ничего не дал. Это побуждает думать о вас лучше, чем прежде. Но, сами понимаете, чтобы окончательно покорить тому, в чем вы пас так горячо убеждали, нужно тщательное расследование. Ордер на арест пока остается в силе, и вам придется поехать с нами на Лубянку. Тарелкин все так же равнодушно смотрел перед собой, по по мгновенно блеснувшим очкам, по едва дрогнувшим рыжеватым ресницам Дзержинский понял, что он взволнован и что это волнение таит в себе радость. - Воля ваша, - безразлично промолвил Тарелкин. - Правда - привилегия сильного. - Ирония? - нахмурился Дзоржипский. - Но вряд ли она поможет нам узнать истину. - Я не боюсь запугиваний, - раздраженно сказал Тарелкин. - Это любимый рычаг Чека. Людям остается лишь открывать рты и ждать, когда их подсекут, как рыб. - Можно подумать, что вы уже не раз бывали в Чека, - усмехнулся Дзержинский. - Но поговорить мы еще успеем. К сожалению, у меня сейчас нет времени. Прошу вас поторопиться. Гарантировать вам освобождение сегодня же я пока что не могу. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы дача ваша была в сохранности. Тарелкин не заставил себя долго просить. С видимой неохотой он взял протянутую ему Локтевым связку ключей и, сопровождаемый им, пошел запирать двери. Дзержинский ожидал возвращения Тарелкина во дворе. - Все? - спросил он, когда Тарелкин появился на крыльце. - Все. Наша трагедия в том, что мы играем комедию, - философски изрек Тарелкин. Дзержинский не удостоил его ответом. Он молча поднялся по ступенькам крыльца на террасу, толкнул дверь кладовки - та была заперта. - Какая трогательная забота о кладовке, "богатству" которой позавидовал бы сам Плюшкин, - заметил Дзержинский. - И в то же время вы беспечно оставляете открытой дверь на террасу? - Спешка... - спокойно ответил Тарелкин. - Взвинченные нервы. Бессонная ночь... - Откройте, - потребовал Дзержинский. Тарелкип молча повиновался. Чекисты вошли в кладовую. - Снимите картину, - велел Дзержинский Локтеву. Локтев с помощью Илюши снял с крюка тяжелую картину. Стена без нее сразу сделалась унылой и мрачной. Дзержинский подошел поближе. - Ну-ка, отдерите обои, - сказал он. Илюша дернул за край отклеившихся сыроватых обоев, и перед всемп, кто стоял в кладовой, вдруг обозначились едва приметные контуры проема, заложенного кирпичом. - Теперь, кажется, все ясно, - сказал Дзержинский, и чекисты с полуслова поняли его. Илюша притащил ломик. Локтев ударил им в стену. Посыпалась штукатурка, красная кирпичная пыль. Через пятнадцать минут все было кончено. Локтев и еще один чекист пролезли в образовавшееся отверстие. Илюша подал Локтеву электрический фонарик. Они исчезли в черном проеме. Тарелкин недвижимо стоял в стороне. Вскоре из проема показалась голова Локтева, потом рука. В руке он крепко сжимал новенькую, еще в заводской смазке гранату. - Там целый арсенал, - тяжело дыша, доложил он. - Винтовки, патроны, гранаты... Замуровано все честь по чести! - Я не имею к этому никакого отношения... - начал было Тарелкин, бледнея. - Вы, господин Тарелкин, и ваши единомышленники возлагаете свои надежды на оружие, на удар в спину. Но всегда будете неизменно биты! - гневно подытожил Дзержинский. Чекисты образовали цепочку, и вскоре на террасе образовался оружейный склад. Вороненые стволы злобно отсвечивали на солнце. - Моему изумлению нет предела, - твердил свое Тарелкин. - Я даже понятия об этом не имел... Дзержинский отдал необходимые приказания о погрузке оружия и его отправке, об охране дачи, о конвоировании Тарелкппа. - Теперь можно и на Лубянку, - сказал Дзержинский. Но едва он произнес эти слова, как двое чекистов, находившихся в засаде возле дачи, втолкнули в комнату мужчину в измятом поношенном пиджаке. - Товарищ Дзержинский, - доложил чекист,- - прямым ходом шел на дачу этот субъект. Видать, тропка знакомая. Мужчина, услышав фамилию "Дзержинский", окаменел в неподдельном испуге. Тусклые, будто неживые, глаза его застыли, он с трудом перевел скользящий взгляд с Дзержинского на оружие и с оружия на Тарелкина. - Вы, конечно, знаете этого человека? - требовательно спросил Дзержинский, указав на Тарелкина. Мужчина вместо ответа, как глухонемой, замотал взъерошенной головой. - - Хорошо, - сказал Дзержинский. - На Лубянке разберемся. Арестованных - в разные машины, - предупредил он Локтева. - Оружие сдать на нага склад. Попрощавшись с оставшимися чекистами, Дзержинский, сопровождаемый Калугиным и Илюшей, вышел за калитку. - А как он угадал, где оружие? - сгорая от любопытства, шепнул Илюша Калугину, воспользовавшись тем, что Дзержинский шел впереди. - Иди ты к чертям на пасеку, - добродушно проворчал Калугин. "Угадал", - передразнил он Илюшу, - В нашем деле бабка-угадка не советчица. Тут, брат, чистая психология. - Психология! - радостно повторил Илюша, озаренный внезапной догадкой, но тут же прикусил язык: Калугин погрозил ему кулаком. Они нагнали Дзержинского, размашисто шагавшего по тропке. Потом он неожиданно остановился. - А знаете, - предложил Дзержинский заговорщическим радостным тоном, не махнуть ли нам напрямик, через чащу, а? И до машины ближе. А? Целую вечность не был в лесу! - Я тоже! - воскликнул Илюша, и его черные брови-стрелы взметнулись кверху. Они пошли через чащу навстречу солнцу. Оно уже поднялось над горизонтом и потому было кроваво-красным, не раскалившимся еще добела. Березы в низинах до нижних ветвей тонули в тумане, и чудилось, что они тихо, печально плывут вдоль леса. Холодное небо было таким чистым и синим, что и верхушки деревьев, и лесные цветы, и лужицы на тропке неотрывно смотрели в него, словно надеялись увидеть в нем свое отражение. Лес, по которому они шли, ночью казался мрачным, нелюдимым и чужим. Теперь же, чудилось, он радовался тому, что способен удивлять и очаровывать. И кусты орешника, и еще по-зимнему темно-зеленые лапы тяжелых елей, и совсем юная, нежная листва берез - все таило в себе тишину, прелесть и красоту чистого голубого утра. Казалось, все присмирело, как перед чем-то необычным и загадочным, тянулось к высокому гордому небу, и потому лес выглядел немного грустным - он не в силах был расстаться с породив-шей его землей. Лес словно ждал чуда, забывая, что он-то и есть то самое чудо, которое сотворила природа. Дзержинский думал обо всем этом, испытывая чувство счастья. Это чувство охватило его не только потому, что утренним лесом нельзя было не восхищаться и что он впервые после многих лет очутился среди берез и сосен, а главное, потому, что лес всегда напоминал детство. Ему невольно вспомнилось письмо, которое он писал сестре Альдоне из Варшавской тюрьмы тринадцать лет назад. Тогда уже стояла осень, и, глядя как-то через тюремную решетку и зажмурив глаза, он вдруг увидел красные и золотые листья, тихо падавшие с холодного синего неба. Наверное, потому оп и написал: "Мне... недостает красоты природы, это тяжелее всего. Я страшно полюбил в последние годы природу..." Лес, по которому Дзержинский, Калугин и Илюша пробирались к дороге, не был каким-то особым, неповторимым. Он был точно таким же, каким бывает лес средней полосы России - тихим, стыдящимся ярких красок, скромным и даже смиренным. Но именно в этом и скрывалась его притягательная сила. Сапоги Дзержинского были мокры, и росная трава так старательно вымыла их, что носки порыжели. В одной руке он нес шинель и фуражку, и потому капли с ветвей то и дело падали ему на лицо и на волосы. Это пе раздражало его, напротив, радовало, он дышал жадно и глубоко, потому что воздух был такой свежий, душистый и чистый, что его хотелось черпать пригоршнями и пить, как пьют воду из родника измученные жаждой люди. Он шел и подставлял лицо солнцу, влажным листьям, неслышно таявшему туману и не просто любовался лесом, а сливался с ним настолько, словно лес и он были единым, нерасторжимым целым. Ему не хотелось думать, что еще сотня-другая шагов и это чудо останется позади, последняя березка прощально качнет ему ветвями и все превратится в воспоминания. Калугин, чутьем догадываясь о состоянии Дзержинского, приотстал, чтобы не мешать. Сам Калугин чувствовал себя в лесу как дома, потому что родился в лесной деревушке. А когда он увидел мелькнувший меж двух берез давно не крашенный купол ветхой деревенской церквушки, вздрогнул. В бога он не верил и твердо знал, что "никто не даст нам избавленья - ни бог, пи царь и ни герой", но из деревни почти с точно такой церквушкой он уходил в Москву на заработки. Тихая грусть неслышно подкралась к нему, и он хмурился, не желая поддаваться этому настроению. Совсем по-иному относился к лесу Илюша. Он знал, что еще только начинает жить, знал, что мечты его сбудутся и он станет настоящим чекистом, и потому торопил лес, торопил березы и сосны, чтобы они остались скорее позади и машина помчала их туда, где он, Илюша, сможет проявить себя, принести пользу революции... Дзержинский миновал самую густую часть леса и неожиданно вышел на поляну, с которой сквозь одинокие деревья далеко было видно окрест. Солнце поднялось выше, и все покорилось ему, радуясь его доброте и мощи. Небо поблекло, слиняло от его жарких лучей. Совсем рядом пролегала дорога, и машина, прижавшись к обочине, мирно дремала на ней. Дзержинский увидел дорогу, и машину, и открывшийся в легкой дымке город и остро ощутил ту атмосферу, в которой он жил и работал. Он думал сейчас уже не о лесе, который остался за спиной, а о Тарелкине, о том, какие нити могут повести от него к Савинкову. Дзержинский остановился перед тем, как выйти на шоссе, подождал, когда к нему подойдут Калугин и Илюша, и вдруг сказал: - Ну что же, Юнна Ружич, кажется, молодчина... Калугин, не ожидавший, что Дзержинский начнет разговор об этом, не сразу нашелся с ответом. - Да... - растерянно согласился он. - Но как же быть - отец у нее контра? Я вам докладывал. Дзержинский положил руку на плечо Калугину, улыбнулся той самой улыбкой, которая зародилась еще там, в лесу, и сказал, как говорят друг другу единомышленники и друзья: - А что, Калугин, мы все-таки сделаем из нее настоящую большевичку? Сделаем, а? И, не ожидая ответа, зашагал к машине.13
В кафе "Бом" на Тверской всегда было весело, словно ни в Москве, ни во всей России не происходило тревожных событий, в опустевших, тоскливых деревнях голод не косил людей, а немцы не топтали Украину и словно все, кто только хотел, веселились сейчас в таких же злачных местах. Мишель не спеша протиснулся между столиками. Завсегдатаи кафе привыкли к нему и рацовались его появлению, предвещавшему остроумную беседу, темпераментную дискуссию, обилие свежих новостей, поэтических экспромтов и пикантных историй из жизни литературной богемы. Мишель держал себя здесь с достоинством и в то же время непринужденно. Впрочем, Мишель лишь с виду казался веселым. Кафе до остервенения надоело ему. По ночам он бредил приключениями, схватками с врагом. Эскадроны на полном скаку проносились перед его воспаленными глазами... Отстреливаясь от наседавших чекистов, бежали по крышам домов вспугнутые с потайных гнезд офицеры... И все же не приходить в кафе Мишель не мог, не имел права: его задачей было обнаружить Савинкова. То, что Савинков в Москве, не вызывало сомнения. Но сведения о нем были необычайно противоречивы. Одни утверждали, что Савинков, пренебрегая опасностью, появляется на многолюдных улицах даже днем. Другие - что он непрерывно меняет конспиративные квартиры и покидает их лишь глубокой ночью. Третьи - что Савинков настолько преобразил свою внешность с помощью грима, что, столкнись с ним на улице нос к носу, - не признаешь. Одно было ясно: Савинкову удается скрываться, и чем дольше это продолжается, тем опаснее его тайные происки. Ясно было и то, что действует он не в одиночку и готовит свои силы к вооруженному выступлению. Кафе "Бом" славилось на всю Москву не только тем, что в голодную весну восемнадцатого года в нем можно было, имея деньги, раздобыть натуральное виноградное вино и различные деликатесы, но, главное, тем, что сюда, едва город начинал погружаться в темноту, съезжались артисты, поэты, дельцы. Люди различных, часто противоположных убеждений схлестывались здесь в жарких перепалках, поднимали на щит какую-нибудь восходящую звезду или же без жалости отказывались от своих былых привязанностей; обделывали выгодные сделки, смаковали события. Драмы и комедии здесь потрясали своей обнаженностью, дикой необузданностью и пестротой. Мишель понимал, что было бы наивно возлагать все надежды на то, что Савинков явится сюда открыто. И тем не менее такую возможность нельзя было начисто сбросить со счетов. Непомерное тщеславие Савинкова, его стремление производить кричащий эффект, наконец, личное мужество - все это могло толкнуть его на такой шаг. Могли быть и другие причины: необходимость встречи со своими сообщниками, желание проверить свою неуязвимость, получив дополнительную возможность активнее и увереннее вести свои дела. Но даже если Савин-ков и не рискнул бы заглянуть сюда, регулярное посещение кафе было для Мишеля небесполезным. Здесь рекой текла информация, которую нельзя было почерпнуть ни в газетах, ни в каких-либо других источниках. Пусть не все было в ней правдиво и достоверно - ценные крупицы содержатся даже в шлаке. Многочисленные же знакомства, в том числе и с людьми, стоящими по ту сторону баррикады, могли помочь нащупать нити, ведущие к Савинкову и к тем, кого он собирал вокруг себя... Мишель уселся за облюбованный им стол: отсюда была видна большая часть зала и, главное, вход. Все эти дни Мишель ловил себя на мысли, что он де мог не думать о Юнне. То, что она существовала, уже само по себе было счастьем. Даже если бы on a жила за тысячи верст от него. Пусть на другой планете - лишь бы знать, что живет. О чем бы он ни размышлял: о революции или о Бетховене, о солнце или о своем будущем - все незримо, но необычайно крепко связывалось с Юнной. Она жила во всем, чем жил он. Омрачало лишь то, что он давно не виделся с ней. Последняя встреча была такой короткой! Влюбленные, они и на этот раз не говорили о любви. - Ты спала сегодня? - спросил Мишель, с тревогой вглядываясь в синеватые тени под ее глазами. - Конечно! - Юнна почему-то покраснела. - А я - нет. - Почему? - Думал о тебе. И еще о себе: уже девятнадцать, а ничего не сделал для истории! - Ты читал мои мысли, Мишель! Я тоже корю себя за то, что ничего, ну совсем ничегошеньки не сделала еще для мировой революции! - Мировая революция!.. Представляешь: вся планета в шелесте красных знамен. И - ветер! - Да, да!.. - восторженно откликнулась Юнна. - Как ты думаешь, когда это будет? - К моему двадцатилетию, вот увидишь! - убежденно воскликнул Мишель. К 25 октября 1919 года. - Мы счастливые... Какие мы счастливые! Родиться в такое необыкновенное, неповторимое время! Потом он проводил Юнну и долго смотрел ей вслед. Она такла в темноте, а он все равно угадывал, что это она. Юнна сказала ему на прощание, что теперь не скоро увидится с ним: вместе с мамой едет на лето к тетке под Тарусу. И вот ее все нет и нет... Голоса посетителей кафе переплетались, смешивались, сквозь волны то нараставшего, то утихавшего гула прорывались выкрики, женский смех, перезвон бокалов, пьяные всхлипы. - У меня в чернильнице сидит дьявол, - радостно объявил сидевший неподалеку от Мишеля густобровый человек с подвижным, по-обезьяньи вертким лицом. - Дьявол все время искушает меня писать наперекор установившемуся мнению. - Бесполезно, однако, вбивать гвозди скрипкой, - уныло отозвался его сосед - бледнолицый массивный флегматик. - Но я с гордостью скажу кому угодно: не суйте мне в рот оглоблю! Лучше посадите меня, чем отнимать свободу! - И посадят, - спокойно пообещал флегматик. - Этот ваш дьявол выберется из чернильницы и притащит вас прямехонько по известному адресу. - Что вы имеете в виду? - Лубянку. Густобровый оторопело заморгал ресницами. - Вы что же... имеете отношение? - Самое непосредственное, - пробасил флегматик. Густобровый заерзал в кресле. - То есть? - Сидел. Был отпущен. Но не уверен, что не попаду снова. Потому и спешу уничтожать бифштексы. - Барсук! - неожиданно взвизгнул густобровый. - Провокатор! - Барсук? - рассеянно осведомился флегматик, смачно жуя жесткое с кровинкой мясо. - Какой барсук? - Жирный! - противным дискантом уточнил густобровый. - Господа, ананасиком пахнет! - плотоядно воскликнул сидевший у окна благообразный старичок в манишке, почуяв, что ссора принимает все более острый характер. - Предполагал, у таких, как вы, фантазия богаче. Опрометчиво! - изрек флегматик, аккуратно, со вкусом вытирая салфеткой лоснящиеся губы. - Милостивый государь, в былые времена я потребовал бы от вас удовлетворения... - снова заерзал густобровый. - Я представляю солидную газету и, да будет вам известно, не позволю... - Журналист! - фыркнул флегматик, - В ассенизаторы, батенька, в ассенизаторы! - Нет, с этим бурбоном невозможно сидеть! - отчаянно воскликнул журналист. - Человек со смутной биографией! Отравляющий жизнь на полверсты вокруг... Чека не ошибется, если... - Катись ты, - благодушно прервал его флегматик. - Не мешай наслаждаться... Журналист вскочил и, поискав глазами свободный столик, подбежал к Мишелю: - Не смогу ли я предложить себя в качестве вашего соседа? - спросил он заискивающе. - Сделайте любезность, - приветливо ответил Мишель. Журналист поспешно схватил кресло и плюхнулся в него. - Вас не возмущают такие типы? - ища поддержки у Мишеля, спросил журналист. - Жизнь настолько прекрасна, что, право, не стоит омрачать ее думами о чем-то неприятном, - беззаботно ответил Мишель. - Выпьем лучше за жизнь! Журналист оказался на редкость словоохотливым. Он скакал с одной темы на другую, ничуть не заботясь о том, чтобы довести до конца хотя бы одну из них. - Вы, кажется, впервые в этом кафе? - спросил Мишель. - Что вы, что вы! - замахал руками журналист. - Просто нам не довелось обратить друг на друга внимание. Я часто хожу сюда. Хожу, чтобы сражаться с человеческой подлостью, тупостью и коварством, - провозгласил он, радуясь, что нашел внимательного собеседника. - Нет для меня слаще минут, чем те, в которые я, обличив подлеца, тут же представляюсь ему: "Я - Афанасий Пыжиков!" - Пыжиков? - переспросил Мишель. - Читал, как же... - Порой мне бросают упрек: "Что ты хочешь этим сказать? Ты знаменитость?" Я отвечаю: глупости, просто я не отношусь к породе флюгеров! Но послушайте, этот барсук пзрек умные слова: бессмысленно вбивать гвозди скрипкой. Какой философ! Я вижу его насквозь: он жует свой бифштекс и спокойненько подсчитывает, сколько времени еще продержатся большевики. - Что это вы его так невзлюбили? - Он мне накаркает этой Чека... - зашептал журналист. - Вам не приходилось иметь с ней дело? - Перед вами - комиссар Чека, - с очаровывающей улыбкой представился Мишель. Пыжиков вздрогнул и сразу же истерически захохотал. - Я сойду с ума от этих шуточек, - вытирая платком лоб, пробормотал Пыжиков и залпом опрокинул бокал вина. - Я воздаю должное любой шутке, по, ради бога, не произносите это страшное слово! - Вам-то чего опасаться? - успокоил Мишель. - Вы - воплощение лояльности и осторожности. - Вы знаете, где я работаю? - Боже правый, зачем мне обременять свою память ненужными подробностями! - В самом деле... - пробормотал Пыжиков и рассеянно постучал пальцем по своему виску. - Впрочем, бояться мне нечего. Моя совесть чиста. Больше того, - он снова перешел на шепот, - я мог бы при соответствующих обстоятельствах и условиях принести этой самой Чека известную пользу. Журналиста, как и волка, кормят ноги. И вот недавно, волею случая, я соприкоснулся с людьми, которые, интуиция мне подсказывает, не в ладу с режимом большевиков. И, представьте, собираются тайно в самом центре Москвы, чуть ли не под носом у Чека... - Я думал о вас лучше, - смеясь, прервал его Мишель. - Я стараюсь укрыться здесь от политики, а вы, кажется, хотите испортить мне сегодняшний вечер. Я охотно поговорю с вами на более интересные темы. Вот, например, о женщинах... - Представьте, - задыхаясь, заговорщически начал Пыжиков, - в среде этих... я рискну назвать их врагами Советов, есть и женщины. Красавицы, мадонны... Никогда не подумаешь, сколь они распутны и как много в них ненависти. Хотите, я сведу вас с одной из таких яснооких фей? Мишелю уже до тошноты надоела его болтовня. Не нравилось ему и то, что он видит Пыжикова в этом кафе впервые, хотя тот и пытается доказать, что принадлежит к числу завсегдатаев. Это пе могло не настораживать. Но, к счастью, Мишеля неожиданно выручил знакомый поэт. - Мишель! - горячо прошептал он, томно прикрыв глаза, словно объяснялся в любви. - Тебя зовут. Эти гунны, - он обвел тонкими нежными руками сидевших в кафе, - хотят стихов. Жаждут!.. - Хорошо, - согласился Мишель, - я иду! Пыжиков впился в него настороженным взглядом, но ничего не сказал. И то, что он промолчал, тоже было не по душе Лафару. Мишелю даже показалось, что в этот момент Пыжиков и флегматик, продолжавший налегать на еду, понимающе переглянулись. Он подошел к небольшому возвышению, призванному служить эстрадной сценой, и, не ожидая тишины, начал громко, почти исступленно: Ева приникла к Адаму, Пламенея, как отблеск зари... Гвалт в кафе, хотя и не утих вовсе, заметно ослаб. И, воспользовавшись этим, Мишель произнес следующие строки совсем тихо, страстно и нежно, вызвав восторженные восклицания женщин и одобрительные возгласы мужчин. И снова исступленный порыв, сменяющийся едва слышными проникновенными словами. Мишель знал: здесь, в этой атмосфере, ничто так не возбуждает, не привораживает, как игра контрастов, как резкая, сумасшедшая смена настроений. Стихи, которые Мишель обычно читал в этом кафе, самому ему были глубоко чужды и даже противны. Он вынужден был сочинять их, насилуя себя. Здесь он должен быть своим. Лишь при этом условии он сможет выполнить задание. Мишеля любили слушать: он умел читать стихи, а Мишель в эти минуты ненавидел себя. Он хотел декламировать свои настоящие стихи на площадях, видеть людей, одухотворенных светлой идеей, полных решимости пройти сквозь грозы и бури к счастью. Он хотел всегда быть таким, какой он есть. Чтобы отпала надобность притворяться и играть. Но он знал, что так надо. Прочитав стихи, Мишель спрыгивал с возвышения, но его тут же криками и аплодисментами возвращали на эстраду. Временами Мишель поглядывал в ту сторону, где сидели Пыжиков и флегматик. Они не переговаривались. Пыжиков, полузакрыв выпуклые глаза, покачивался в такт стихам, а флегматик большими жадными глотками опорожнял кружку пива. Внезапно Лафар осекся, как бывает с артистом, забывшим слова своей роли: от двери, пересекая зал и направляясь к освободившемуся столику, шли двое. Высокий молодцеватый мужчина вел под руку подвижную гибкую девушку. И хотя в тот момент, когда Мишель заметил их, они шли спиной к нему, он почему-то догадался, что это Юнна. Ее спутник элегантным движением придвинул ей стул и сам сел лишь тогда, когда убедился, что села она. Теперь Мишелю хорошо было видно его лицо - высокий, матово отсвечивающий лоб, густая копиа рыжеватых волос, зеленоватые огоньки глаз. Что-то знакомое почудилось Мишелю в его облике. Пауза затягивалась, и Мишель, собрав всю свою волю, заставил себя продолжать читать. Юнна! Значит, она здесь, в Москве? А как же тетя и деревня под Тарусой? Или Юнна уже вернулась? Но тогда почему не дала знать? И почему она здесь с этим рыжим субъектом с офицерской выправкой? Неужели Юнна столь ветрена и легкомысленна, чтобы его забыть? А он был убежден в ее искренности! Кстати, почему он в первый же миг подумал о том, что в спутнике Юнны есть что-то знакомое? Не случайно же втемяшилась в голову эта догадка? Но как Мишель ни заставлял себя вспомнить, где ему доводилось видеть этого человека, все было тщетно. Юнна сидела к нему спиной, но Мишель по едва вздрагивающим плечам, по напряженно замершей гибкой талии чувствовал, что она слушает его. Какая же сила сдерживает ее, почему она не обернется? Юнна и в самом деле не слышала сейчас того, что ей мягко и обвораживающе говорил Велегорский (это был он). В ее ушах звучал лишь голос Мишеля. Она проклинала себя за то, что поддалась настойчивым уговорам Велегорского зайти в кафе. Словно предвидела, что это принесет ей страдания. Признаться в том, что она знакома с Мишелем, было невозможно. Даже если придумать что-либо правдоподобное специально для Велегорского. А вдруг, если не признается она, это сделает Мишель? Закончит читать стихи и подбежит к ним. Тем более что Мишель конечно же не знает о ее нынешней работе. Нет, встреча эта, какой бы желанной она ни была для нее, будет совсем некстати. Велегорский заподозрит неладное, ведь Юнна не раз уверяла его в том, что в Москве у нее нет знакомых. Мишель и впрямь лихорадочно решал вопрос: подходить ему или не подходить к Юнне. Последнее взяло верх: его самолюбие было уязвлено. Если бы она любила его, то, войдя в кафе, сразу же устремилась бы к нему. Он был взволнован и подавлен и потому едва дочитал до конца последнюю строфу. Юнна не обернулась, когда он шел между столиками. Может быть, потому, что за столиком в углу началась потасовка и тот же самый благообразный старичок вновь плотоядно восклицал: - Господа, ананасиком пахнет! Ананасиком! Пыжикова за столиком пе оказалось. Лафар поискал его глазами, но тот словно растаял в табачном дыму. Мишель посмотрел в ту сторону, где сидела Юнна, но не увидел ее. Ушла! Мишеля начало знобить - так бывало всегда, когда он сильно волновался. Что делать, как поступить? Первым желанием было броситься вслед за ней: если ушла совсем, то в тот момент, когда он пробирался к своему столику. Но Мишель тут же заглушил в себе это желание. Он думал о Юнне, о том, как она идет сейчас по темным, пустынным улицам и, радостная, смеется. И даже не вспоминает о нем. Восторженно поднимает улыбающееся лицо к своему высокому спутнику. Да, но почему он вдруг показался Мишелю знакомым? И вдруг память подсказала. Ну конечно же, он видел этого субъекта на фотографии, которую ему показывал Калугин. "Кто знает, может, пригодится, сделай зарубку, - сказал тогда Калугин, хмурясь. - По-моему, он из махровых..." Мишель вскочил на ноги. Теперь он должен нагнать их, пока не поздно, узнать, где скрывается этот рыжеватый тип. Нужно спасать Юнну, ведь она ничего не знает о том, какая опасность грозит ей! Он с трудом заставил себя покинуть кафе неторопливо, как обычно покидают его завсегдатаи. У всех, кто за ним наблюдает, должно сложиться впечатление, что он уходит не совсем и скоро вернется. Но в душе все кипело, он был готов к действию, как взведенный курок. Сонный, уже отведавший вина швейцар осоловело взглянул на него, и Мишель выскочил на улицу. После шумного, разноголосого и душного кафе здесь было тихо, прохладно. Извозчики дремали на козлах. Пахло душистым медом - цвела липа. У Мишеля было такое ощущение, будто он только что вырвался из тюрьмы. Юнна, Юнна! А может, он ошибся в ней? Неужели эта девушка с чистой душой, с такими ясными, искренними глазами, с таким огненным сердцем может солгать ему, притворяться и вести двойную игру? И почему, если ей по душе другой, она не скажет об этом открыто и прямо? Если бы на месте Юнны была сейчас иная, незнакомая Мишелю девушка, он, вероятно, удержал бы себя от поспешных действий, от всего того, что ему как чекисту может повредить. Сейчас же он никак не мог спокойно взвесить все обстоятельства и выработать разумный план действий. Сейчас он должен был или сразу же узнать все, или не узнать ничего. На мгновение он остановился напротив кафе. Куда, в какую сторону идти? Только счастливый случай мог помочь ему сейчас, среди ночи. Он прислушался: голосов вблизи не было слышно. Ну конечно же, Юнна и ее спутник не пойдут ни по Тверской, ни по другой ближайшей улице: слишком уж велик будет риск напороться на патруль. А спутнику Юнны встреча с патрулями явно противопоказана. Скорее всего, они будут идти опустевшими переулками, это гораздо безопаснее. Мишель решительно свернул в ближайший переулок. Ему верилось: еще немного - и впереди послышится знакомый и такой дорогой его сердцу перестук каблучков. Мишель не мог даже и предположить, что Юнна оказалась в лагере контрреволюционеров. Нет, этого не может быть, это абсолютно исключено! Он поравнялся с воротами и едва успел миновать их, как кто-то прыгнул на него сзади, обхватил жилистыми, цепкими руками. Мишель рывком освободился от напавшего, но из подворотни выскочил второй и ринулся на него. Мишель ударился о дерево, ухватился руками за ствол и с силой нанес нападавшему удар ногой пониже живота. Тот взревел от боли и скорчился на тротуаре. На помощь выскочил третий. Вместе со своим напарником ои навалился на Мишеля, свистяще, злорадно прошептал: - Не вырвешься, падла... И тотчас же из подворотни послышалось истерическое хихиканье: - Господа, апанасиком пахнет! "Неужели тот самый благообразный старикашка?" - мелькнула мысль у Мишеля, продолжавшего что есть силы отбиваться от стремившихся повалить его на землю людей. - Ананасиком!.. - послышалось снова, уже ближе. "Так ведь это же Пыжиков!" - едва не воскликнул Мишель. Теперь он начинал прозревать: видимо, и Пыжиков, и внезапное исчезновение Юнны и ее спутника, и нападение - все это не было обособленным. Трудно пока что лишь понять причины, по которым, казалось бы, различные события переплетались между собой. Мишель пытался вытащить из кармана брюк револьвер, но это ему не удавалось, он то и дело вынужден был пускать в ход кулаки или же вырывать руки словно из тисков - напавшие стремились заломить их за спину. Схватка становилась все более упорной. Мишелю помогало сознание того, что если не вырвется, то ему наверняка грозит гибель. Звать на помощь бесполезно. Можно было рассчитывать лишь на свои силы, ноодному не так-то просто выдержать озверелый натиск троих. "Только бы устоять на ногах, только бы не упасть..." - твердил он мысленно, чудовищным усилием воли заставляя себя выдержать сыпавшиеся на него со всех сторон удары. Мишель отчаянно отбивался, не чувствуя боли. Накал воли и сопротивления был настолько высок, что он верил: начни они стрелять в пего, он не упадет пи от первой, ни от второй, ни от третьей пули. Его надо было изрешетить всего, чтобы заставить сдаться и упасть. И все же пришел момент, когда он понял, что вот-вот они свалят его... - Господа, патруль! - вдруг негромко, но отчетливо сказал кто-то, появившийся в воротах. - Скрывайтесь быстро, но без паники! Что-то жесткое, повелительное, не вызывающее возражений было в его голосе. Мишель снова приготовился к защите, но тут увидел, как нападавшие на него люди ринулись в подворотню и сгинули в ней. Мишель, шатаясь подошел к дереву и прислонился к нему спиной. Все еще не верилось, что его оставили в покое. Задыхаясь, как после долгого бега, он с тревогой осматривался вокруг, готовый к новой схватке. Вспомнив о револьвере, полез в карман и, нащупав увесистую рукоятку, вынул его и взвел курок. - Не стреляйте, - все так же негромко произнес ктото позади него. Голос был того самого человека, который сообщил о патруле. - Теперь они далеко... - Человек вплотную подошел к Мишелю и иронически усмехнулся: Смелые ребята... Мишель, крепче сжав револьвер, всмотрелся в подошедшего. Тот чиркнул спичкой, прикуривая. - Громов?! - изумленно воскликнул Мишель. - Громов, - спокойно подтвердил тот. - Кстати, они зря так перетрусили. Никакого патруля здесь нет и в помине. Что же, я рад, что подоспел вовремя, иначе вам пришлось бы туго. В кафе больше ходить не советую: они - Громов интонацией выделил слово "они" - многое о вас знают. Во всяком случае, знают, что вы не только поэт... Впрочем, не считайте меня своим спасителем - все произошло абсолютно случайно. - Спасибо... - поблагодарил Мишель. - И что же - вы с неба свалились? - Возможно, и с неба, - безразлично подтвердил Громов. - Возможно... Он затянулся папиросой и торопливо полез в карман. - Возьмите платок. Вытрите лицо - оно у вас в крови. А револьвер можете спрятать - он вам пока что не нужен. Мишель взял платок, приложил ко лбу. Лицо горело, будто его подожгли, голова трещала так, что он едва удерживался от стона. - Я обещал с вами встретиться, но все что-нибудь мешало. И то, что сейчас встретил, возможно, не просто случайность. Помните, я оставил у вас книгу? Вернее, вы изъяли ее? Тогда, в "доме анархии"? - Помню, - сказал Мишель. - "Овод"? - Да. "Овод". - Вы хотите ее получить? - Это моя мечта. Но пока что, убежден, неосуществимая. Тогда я не сказал вам, что это за книга. - Я помню, - сказал Мишель. - Ну вот, а теперь пришла пора сказать. Иначе мучает совесть, да и того требуют сложившиеся обстоятельства. Дело в том, что я не Громов. Я Ружич. - Ружич?! - воскликнул изумленный Мишель, сразу же подумав о Юнне. - Но почему Ружич? - Почему Ружич? Ну, хотя бы потому, что всегда, с тех пор, как появился на свет, был Ружичем. И только одни раз в жизни - Громовым. Мишель не перебивал его, стараясь не пропустить ни единого слова. Ружич погасил папиросу, умолк, будто раздумывая, продолжать ли ему дальше, и внезапно решился. - Спасите мою дочь! - взволнованно воскликнул он. - Вашу дочь? - дрогнувшим голосом переспросил Мишель. - Да, мою дочь. Помните надпись на книге - это подарок дочери. В день рождения. Подарок Юнны. - Юнны? - волнение захлестнуло Мишеля. - Сегодня она была здесь, в кафе. Я видел ее с человеком, который... Короче говоря, с человеком авантюрного склада характера. - Ружич вдруг перешел на шепот: - Сделайте так, чтобы она образумилась. Она такая нежная, хрупкая, ее могут сделать слепым орудием, замутить чистую душу. Повлияйте на нее, вы же умный человек... - Он запнулся. - И знаете, может, это нехорошо с моей стороны, но однажды я видел вас вдвоем. - Надо догнать ее! - воскликнул Мишель. - Может случиться непоправимое! - Сейчас не надо, - устало сказал Ружич. - Нельзя, чтобы этот авантюрист знал, что вы знакомы с Юнной. - Я люблю ее! - неожиданно для себя признался Мишель. - Я понял... Интуиция отца... Поэтому вы и можете ее спасти! Я надеюсь на вас... Ружич выхватил из пачки папиросу, чиркнул спичкой, судорожно затянулся. - Мы не можем долго стоять здесь, - сдавленным голосом проговорил он. Ваше право арестовать меня. Но прежде чем вы это сделаете, я застрелюсь. Мой браунинг на взводе, достаточно нажать на спуск. Это не нужно ни мне, ни вам. А живым... Может быть, придет время, и я пригожусь вам живым. Не спешите. Пусть события развиваются своим чередом. Тем более что главное вы упустили. - Я вас не понимаю. - Сейчас поймете. Три дня назад в кафе "Бом" ужинал один человек... - О ком вы говорите? - встревоженно перебил его Мишель. - Сейчас это уже не имеет значения. Больше он сюда не придет. - И все же - кто? - Хорошо. Поклянитесь мне самым святым, что есть у вас в жизни, что вы спасете Юнну, не дадите ее в обиду... Что жизнь ее будет в безопасности... - Клянусь! - порывисто произнес Мишель. Ружич наклонился к Мишелю и едва слышно прошептал: - Савинков... Мишель онемел от изумления. - Впрочем, теперь уже, кажется, не имеет значения - поймаете вы его или нет, - безразлично заметил Ружич. - Почему? - нетерпеливо спросил Мишель. - Подумайте сами, и вы поймете. Кажется, я тоже начинаю это понимать. - Но почему вы не сообщили о нем властям? - Я не предатель и не доносчик, - возмущенно ответил Ружич. Предпочитаю честную игру. Столкнулись две непримиримые силы. За кем мощь и правда, кто более искусен и мужествен - тот и выиграет битву. Как на Куликовом поле... Прощайте. И можете не сомневаться - о нашем разговоре не узнает никто. Я человек чести... - И все-таки, на чьей вы стороне? - не выдержал Мишель. - Помните, вы говорили, что пройдете курс обучения в максимально сжатые сроки. А уж тогда сможете твердо сказать, под чье знамя встанете. - Помню. Курс обучения, кажется, подходит к концу. Не торопите меня. Вы убедитесь, что мне можно верить. - Даже после того, как вы однажды сказали пе - Даже после этого, - подтвердил Ружич, и каждое слово его дышало искренностью. - Солгал один раз в жизни. И вам, и дочери, и самому себе. Считал, что это единственный способ обрести свободу и убедиться, на чьей стороне правда. А главное - чтобы уберечь Юнну... - Хорошо, - сказал Мишель. - Попробую поверить. Хотя и не убежден, что поступаю так, как велят совесть и долг. - Спасибо, - благодарно кивнул Ружич. - Прощайте. Но я бы хотел увидеть вас, скажем, через неделю. - Я согласен. - Очень хорошо. В следующую субботу в сквере у Большого театра, как только стемнеет. Возможно, у меня будут важные новости. - Договорились. - Но умоляю вас: спасите мою дочь. - Я сделаю все, что в моих силах. - Прощайте. И запомните - они могут подстеречь вас снова. Крепче держите свой револьвер. И еще: берегитесь Пыжикова. Ружич круто повернулся и исчез в темноте!14
Калугин бушевал. Выслушав рассказ Мишеля о его ночном происшествии, он под каким-то предлогом услал из кабинета Илюшу и дал волю гневу. - Какого черта! - кипел он, подступив к Мишелю. - Полный провал! За борт таких работничков, понял? - А плаваю я превосходно! - пытался отшутиться Мишель и еще сильнее взбесил Калугина. - Пойдешь под суд, хоть ты мне друг и товарищ! Тебя впередсмотрящим поставили, а ты дрыхнуть! Он тебе услужил, а ты ему? А классовое чутье? Сделай зарубку: у нас с ними все врозь! И пирсы, и маяки, и океаны! Это же только дураку не ясно! - Ты мне политграмоту, Калугин, не читай, - вспыхнул Мишель. - Пойми, тут случай особый. Я сомневался... - "Сомневался", - передразнил Калугин: он терпеть не мог этого слова. Здесь тебе не стихи. И не Шопен! - Этого я от тебя не ожидал, - приглушенно проговорил Мишель, сраженный обидным упреком Калугина. - Я тебе сейчас не поэт, а чекист, и разговаривай со мной как с чекистом! Калугин, ломая спички, прикурил, окутал Мишеля волной горького махорочного дыма: - Как с чекистом? Ну, слушай: Савинкова ты проворонил, понял? - Это еще как сказать! Французы говорят: есть и на черта гром! - Французы! - разозлился Калугин. - А такую поговорку слыхал: после пожара да по воду? Ты свои промашки за успехи не выдавай, не позволим мы этого, хоть ты и был сознательный пролетарий... - Как это был? - вскипел Мишель, готовый вцепиться в Калугина. - Как это был? Ты намеки оставь црн себе! Еще и контрой окрестишь! - Да как ты, дорогой товарищ, - ощетинился Калугин, - посмел самое наппаскуднейшее слово к себе присобачить? Да ты что? - А то, - упрямо сказал Мишель, смягчаясь. - А то, что, во-первых, было решено Громова пока не трогать, посмотреть, как он себя поведет. И это ты, Калугин, прекрасно знаешь. А во-вторых, оказалось, что Громов - это вовсе и не Громов... - А кто? - нетерпеливо вскричал Калугин. - Ружич. - Ружич? - переспросил Калугин. - Так чего ж ты молчал? Как же это понимать? - А вот так: Ружич! И у него есть дочь. И она в опасности. Отец умоляет спасти ее! Калугин помолчал и задумчиво сказал: - Теперь до самого горизонта видать. Только нам от этого никакой радости! Надо ж, как все переплелось! Дело дрянь, раз Ружич догадался, что его дочь у нас работает! - У нас?! - вскочил со стула Мишель, готовый тут же обнять и расцеловать взъерошенного, злого Калугина. - У нас?! - все еще не верил он. - Ой-ля-ля! Это же как в сказке! - Дьяволову внуку такую сказочку! - не замечая его радости, воскликнул Калугин. - Значит, так. Отец - контра. А почему он выручает чекиста, то есть тебя? Тут концы с концами не сходятся. Да еще просит спасти свою дочь... Такие чудеса, что дыбом волоса! - Ну, тебе это не угрожает! - попробовал пошутить Мишель, намекая на бритую голову Калугина. - А за такую новость дай я тебя обниму! Калугин застегнул кожанку на все пуговицы, подтянул ремень, будто ему предстояло совершить что-то торжественное и необычное. - Влюблен? - сурово спросил он, обрывая восторженное восклицание Мишеля, и, как смирного котенка, погладил кобуру маузера. - Ты - провидец! - радостно признался Мишель. - В провидцев не верю, - не принял шутки Калугин. - А ты запомни отныне и вовеки: или революция, или любовь. Тут выбор ясный, и ты его сделай. Нам нужны не влюбленные страдальцы, а бойцы, и чтоб сердце было стального литья. Как у линкора. Вот и весь разговор в данном масштабе, точка! - Какой же я страдалец?! - изумился Мишель, все еще не принимая всерьез того, что сказал Калугин. - Да ты знаешь, что такое сила любви? Она же окрыляет! - Не окрыляет, а опьяняет, - строго поправил его Калугин. - Что ты мне заливаешь, я что - в любви ни черта не смыслю? Ученый! А только хватит травить об этом распроклятом вопросе, понятия у нас с тобой несовместимые. - Хватит так хватит, - согласился Мишель, обрадованный, что сможет уйти от прямых, в лоб поставленных вопросов Калугина о взаимоотношениях с Юнной. - Я пришел по делу. - А я, выходит, лежу на боку да гляжу за Оку? - Меня мучает совесть, - искренне признался Мишель. Все, что он теперь говорил, было согрето думами о Юнне и потому окрашивалось в светлые и радостные тона. - Но ты, Калугин, неправ. И камнями в меня не кидай! Верю: Ружич поможет нам нащупать след Савинкова. - Ищи-свищи теперь своего Ружича! - ерепенился Калугин. - А почему ты мне раньше не сказал о Юнне? - вдруг спросил Мишель. Калугин пожевал пухлыми губами. Он мысленно выругал себя за то, что позабыл сказать Мишелю о Юнне. И сейчас поспешно думал о том, как выйти из этого щекотливого положения, не слишком задев свое самолюбие. - Ладно уж, - наконец выдавил он. - Тут и мне всыпать следует. Замотался, штурвал не туда крутанул. Теперь нам Феликс Эдмундович такую ижицу пропишет - век помнить будем. И то, что он говорил сейчас об ошибке в таком духе, что тяжесть ее следует взвалить на плечи двоих, вызвало у Мишеля доброе, теплое чувство к этому суровому человеку. Не потому, что он облегчал его вину, а потому, что неспособен был свалить ее на другого. - У меня интереснейшая новость... - начал Мишель, надеясь поднять настроение Калугина. - Ну-ну, - пробурчал Калугин, - знаю, из блохи голенище скроишь. Чего у тебя? Мишель подошел к столу Калугина, где под стеклом лежала любовно вычерченная Илюшей схема Москвы, - Вот переулок, видишь? - Малый Левшинский? - Он самый. - подтвердил Мишель. - В доме номер три собираются люди. Понимаешь, не грех бы и проверить. Установить наблюдение... - Проверить! - снова вышел из себя Калугин. - Установить наблюдение! Советчик нашелся! У меня комиссары третью ночь на вахте. И без жратвы, между прочим. Мишель не переубеждал Калугина: и проверит, и установит наблюдение, а сперва отведет душу, поплачется. - Мы тут три адреса на контроль брали, - сказал Калугин. - Оказалось: чистая липа. Кому-то хочется, чтоб мы свои силы распыляли, выматывали. Зря людей гонять не буду. Сам-то уверен? - Почти. - Почти! - всплеснул длинными руками Калугин. - А чего забрел в тот переулок? - Абсолютно случайно. Старые арбатские переулки... Какое это чудо! - Опять стихи? - Проза, чистая проза! - засмеялся Мишель. - Иду, любуюсь - и вдруг: в дом три заходит Ружич! - Опять Ружич? - Опять. - Не засек тебя? - Исключено. Вечерело, да и я стоял в стороне, за забором. Потом, с интервалами в полчаса, - еще четверо! В тот самый дом! - С этого бы и начинал! - все еще пытался сердиться Калугпн, но теперь это у него не получалось. - Ружич, значит, у тебя снова на прицеле? - Он заговорил волнуясь, словно предчувствовал важные события. - Вот что. Больше туда не подгребай. Я другого пошлю. Иначе Ружич нам всю обедню испортит. - Как знаешь, - вздернул плечами Мишель. - А только Ружич за мной остается. Я начинал, я и закончу. - Добро! - Скажи, - тихо спросил Мишель, - скажи, она знает об отце? - Да, - коротко бросил Калугин. - Знает. Сама рассказала. "Сама! - восхитился Мишель. - Иначе она и не могла поступить. Я поверил ей сразу, еще в ту ночь, на баррикадах. Она чистая, возвышенная, смелая! Как сама революция. Я пе имел права сомневаться в ней!" И то, что тогда, в кафе "Бом", в его душу заползло сомнение, мучило его, будто он перечеркнул этим свою веру в ГОнну и свою любовь к пей. Он искупит вину перед своей совестью лишь в том случае, если докажет преданность Юнне, если в самую тяжкую минуту придет ей на помощь, если будет шить ее счастьем и ее страданиями. Отныне - он дал себе клятву каждая строчка его стихов будет принадлежать Юнне. А если ему будет суждено совершить подвиг - он посвятит его ей. Он встретится с ней и скажет все, что думает сейчас. Скажет, чтобы все, что происходит с ними, было ясным, светлым и чистым, как воздух революции. - Смотри не сядь на мель, - сказал Калугин, догадываясь о душевном состоянии Мишеля. - Короче говоря... Он не успел докончить: в кабинет вихрем ворвался Илюша. - Товарищ Калугин! Вас срочно вызывает товарищ Петере! Круглое, по-детски розовощекое лицо Илюши сияло: он знал, что Петере не станет зря вызывать Калугина. Наверняка предстоит боевое задание, и, значит, Калугин не забудет и его. - Счастливый человек, - насупился Калугин, заметив, как блестят, точно спелая черная смородина после дождя, глаза Илюши. - Выпалил - и никаких тебе забот... И тут же пожалел о сказанном: лицо Илюши будто опалило огнем. Опустив черную курчавую голову, словно его внезапно ударили, он окаменело застыл в той позе, в которой его застали слова Калугина. Но это продолжалось секунду. Илюша запальчиво крикнул: - Я не мальчик! Не мальчик! Калугин задержался в дверях и изумленно оглядел Илюшу с ног до головы. Тот не отвел взгляда. - Вижу, что не мальчик, - медленно произнес Калугин, неожиданно улыбнувшись. - Вон какой вымахал!.. - И, обращаясь к Мишелю, сказал: Подожди меня, может, понадобишься. Петере, в белой рубахе и защитного цвета бриджах, взмахнул гривой черных волос, нетерпеливо обнял Калугина за плечи. - Читай. - Петере протянул Калугину лист плотно исписанной бумаги. Калугин приник к листу. Это было донесение командира латышского стрелкового полка, несшего охрану Кремля. Он сообщал, что к нему пришла сестра милосердия и рассказала, что некий юнкер Иванов, находящийся сейчас в Иверской больнице, поведал ей, будто в ближайшее время Москва будет охвачена восстанием. Влюбленный в сестру милосердия, юнкер умолял ее на время грозных событий покинуть столицу. - Ясное дело! - протянул Калугин, дочитав донесение. - В том-то и беда, что многое неясно. Немедленно - к Феликсу Эдмундовичу. Забеги к Лацису, пусть захватит оперативные материалы. Дзержинский с напряженным вниманием выслушал все, что доложил Петере. Попутно он просматривал материалы, которые ему время от времени подавал Лацис. - Предлагаю немедленно оцепить Иверскую больницу и всю эту братию просветить чекистским рентгеном, - энергично заключил Петере свой доклад. - По всей вероятности, это не больница, а прибежище офицеров, которых время от времени переправляют на Дон, - сказал Лацис. Калугин сидел молча. Он не считал себя вправе высказывать мнение, пока его не спросят. - А вы как думаете, товарищ Калугин? - обратился к нему Дзержинский. - Считаю: товарищ Петере прав. - Рентгеном просветить, конечно, надо, - согласился Дзержинский. - Но умно, не поднимая шума. Иначе спугнем. Кто-то из наших под видом обычной медицинской инспекции отправится в больницу. И вместе со специалистами проверит больных. И - тщательное наблюдение за юнкером Ивановым. - Поедем мы с Лацисом, - сказал Петере. - А Калугин возьмет под контроль Иванова. - Кстати, - сумрачно начал Калугин, - только что товарищ Лафар доложил, что в Малый Левшинский, дом три, приходят подозрительные люди. И среди них - известный вам штабс-капитан Ружич, он же Громов. И Калугин рассказал все, что произошло у Мишеля с Ружичем вблизи кафе "Бом", отметив, что причиной тому - неопытность молодого чекиста. - Конечно, беда эта невелика, - добавил он. - В штормах побывает, ветрами просолится - и порядок. Парень он наш с головы до ног. - Ну что же, - задумчиво сказал Дзержинский. - Наперед надо быть предусмотрительнее. Конечно, от ошибок и промахов мы не застрахованы. Не удивительно: учились и учимся не в университетах, а в гуще масс, в борьбе. А вообще-то сам факт не очень вяжется с характером товарища Лафара. Может, на него повлияли другие обстоятельства? - Повлияли, Феликс Эдмундович! - подтвердил Калугин. - Я ему сегодня баньку устроил. Прекрасный товарищ и вдруг... Еще контре голову не срубили, а он... влюбился! - Ив кого же, если не секрет? - В Юнну Ружич, - ответил Калугин. - Надо же, все так переплелось! - И он знает, что этот Ружич - ее отец? - В том-то и дело, что знает. Дзержинский посмотрел на озабоченное лицо Калугина, и ему ясно представилось, как тот устраивал Лафару баньку. - Значит, из-за любви к дочери отпустил отца? - спросил Дзержинский. - Ни в коем разе! - поспешно возразил Калугин. - Он не из таких! - Тогда за что же вы ему устраиваете баньку? - А пусть выбирает: или работа в Чека, или любовь! - А если и работа, и любовь? - В глазах Дзержинского заиграли озорные искорки. - Эти явления, Феликс Эдмундович, друг другу враждебные, знаю по себе, - упрямо стоял на своем Калугин. - Враждебные? - переспросил Дзержинский и раскатисто и молодо рассмеялся. Дзержинский наконец успокоился и серьезным тоном спросил: - А у товарища Лафара есть план действий? Калугин в спешке не поинтересовался, как думает действовать Мишель, и потому молчал. - Узнайте, - сказал Дзержинский, понимая, чем вызвано это молчание. Он парень с головой. Но учтите: самостоятельность предполагает ответственность. И величайшую. Особенно Лафара не ругайте. Ведь не один же Ружич нам нужен. Пожалуй, все складывается так, как надо. Главное - обезвредить ядро савинковцев. Я убежден, что и оружие на даче Тарелкина, и нападение на Лафара, и динамит, предназначенный для взрыва правительственного поезда в момент возможной эвакуации, и сегодняшнее сообщение о готовящемся восстании, - все это звенья одной цепи. - После установления квартиры, которую посещает Иванов, необходимо без промедления арестовать всех, кто в ней окажется, - предложил Петере. - Правильно, - поддержал Дзержинский. - Нам предстоит выдержать серьезный экзамен. Нелегко было справиться с анархистами, с различными группами саботажников и белогвардейцев. Но во сто крат сложнее справиться с тщательно законспирированной контрреволюционной организацией, имеющей крепкую дисциплину. Кто такие комиссары и следователи ВЧК? В большинстве своем рабочие, большевики. Но у них нет еще опыта, чекистской сметки, оперативного мастерства. И все же экзамен держать придется - судя по всему, нас задумал экзаменовать сам господин Савинков. - Выдюжим, Феликс Эдмундович! - заверил Калугин.15
После того как Юнна побывала в кафе "Бом" вместе с Велегорским, после того как она увидела там Мишеля и не сомневалась, что он тоже увидел ее, у нее было очень тяжело на душе. Тяжесть эту порождало противоречие, о существовании которого она и не подозревала прежде. Раньше счастье представлялось Юнне чем-то вроде солнечного утра, когда хочется бежать в неведомое, стараясь достичь горизонта, дышать ветром и солнцем и чувствовать себя счастливой просто потому, что живешь на земле. Но вот в душе возникло совершенно новое чувство. Она еще боялась назвать его любовью, лишь повторяла и повторяла про себя с радостью и изумлением: "Со мной еще такого не было! Не было, не было!.." Теперь, когда она осознала, что во всем мире у нее есть лишь одпп-единствепный человек, который воплощает в себе и Москву, и Россию, и весь мир, она первый раз в жизни поняла, что такое любовь. Из слова, которое так часто произносят люди, любовь превратилась для нее в волшебство. Но чем сильнее и ярче проявлялось это волшебство, тем сильнее было страдаыпе, потому что, как думалось ей, он и она шли своими путями и что-то более властное и могучее, чем любовь, разъединяло их в этой тревожной жизни. В салом деле, разве не могло разъединить, более того, навсегда разлучить их то, что она, не терпевшая лжи, вынуждена была сказать Мишелю, что едет в деревню под Тарусой, в то время как оставалась в Москве? И разве их окончательно не разъединила та ночь, в которую она с Велегорским пришла в кафе? Что подумал Мишель, увидев ее с Велегорским и не услышав от нее ни единого слова о том, что пришла сюда лишь в силу жесточайшей необходимости? Но разве лишь этим исчерпывались ее муки? Как поступит Мишель, когда узнает правду о ее отце? Как объяснить ему все это, если она не имеет права объяснять? Все эти сложности жизни обрушились на Юнну, будто она уже была подготовлена к ним многолетним опытом. Когда ей было трудно, грустно или страшно, она находила утешение в том, что думала о Мишеле, но ее одолевали сомнения: не разочаровался ли он в ней, не забыл ли ее навсегда? Между нею и Мишелем вставал отец, вставал Велегорский, вставала ее работа в ВЧК, и она чувствовала, что не выдержит, свалится от тяжести своей ноши и уже никогда не поднимется. Юнна вспоминала ту ночь, в которую она, замирая от тревоги, раздумывала о том, что и как сказать Дзержинскому о своем желании работать в ВЧК, о своей мечте слиться с революцией, с ее лишениями. Теперь она все чаще и чаще спрашивала себя: имела ли право вот так, очертя голову, орать на сеоя величайшую ответственность, если сейчас испытывает страдания и муки? Нравственные тяготы усугублялись еще и тем, что нельзя было ни с кем, даже с матерью, поделиться своими горестями, все они оставались с ней и терзали ее, словно убежденные в ее беспомощности и беззащитности... Когда Велегорский узнал об исчезновении Тарелкииа, он сначала строил всевозможные догадки и даже тогда, когда ему сообщили, что оружие, хранившееся на загородной даче, обнаружено чекистами, не хотел поверить в то, что это не инсценировал Тарелкин. - Если бы Тарелкин попал к чекистам, он туг же предал бы нас, - говорил Велегорский Юнне. - И то, что мы пока, слава богу, на свободе, лишний раз доказывает, что Тарелкин позорно сбежал. А оружие продал и нажил на этом капиталец. Разве вы не убедились, что от него за версту несет биржевым маклером? Юнна видела, что Велегорский сильно сдал, утратил уверенность. - Как вам не совестно, - пристыдила его Юнна. - Может, Тарелкина в эту минуту поставили к стенке... Мне не нравится ваше настроение. И на кой дьявол вы боретесь за эту ничтожную, призрачную автономию? Кому выгодна наша обособленность? Надо быть ближе к главному штабу, иначе нашей группой в решающий момент заткнут десятистепенную дыру. И мы окажемся в круглых дураках. Юнна подзадоривала Велегорского, надеясь, что он познакомит ее с руководящими деятелями организации. Она считала: то, что помогла разоблачить Тарелкина, слишком малый вклад в дело, которым были заняты сейчас чекисты. Чекистов горсточка, а врагов тьма, и потому каждый чекист призван работать за десятерых. Юнна приходила домой только ночевать. Дома ей не становилось легче. Каждый раз на нее с надеждой, болью и жалостью смотрели большие, теплые и влажные глаза матери. Взгляд этот был требовательный, жаждущий искренности и любви, и отвечать на него можно было только правдой. Юнна любила свою мать преданно и горячо. И теперь, когда она начала самостоятельно работать, чувствовала себя гораздо старше, чем была на самом деле. Теперь она отвечала не только за себя, и потому ей казалось, что мать ее беспомощная, совсем неприспособленная к жизни. Труднее всего была необходимость постоянно подавлять в себе горячее желание рассказать матери о том, что отец жив и что она уже встречалась с ним. Порой она чувствовала, что это желание неподвластно ее воле и что, не выдержав, подбежит к матери и, обхватив ее за шею дрожащими руками, будет, плача, повторять и повторять, что отец жив, повторять до тех пор, пока мать не поверит в истинность ее слов. В такие минуты Юнна или выбегала из дому, или, если это случалось ночью, укрывалась одеялом с головой, чтобы мать не услышала, как она всхлипывает и шепотом говорит с отцом, будто он был в одной комнате с ней. С того времени как Юнна коротко, но восторженно рассказала ей о том, что побывала у самого Дзержинского и что тот решил взять ее на работу в ВЧК, Елена Юрьевна не задала ни единого вопроса о сущности работы. Хорошо было дочери или плохо - она стремилась определить не по тем словам, которые говорила Юнна, а по ее настроению, по малейшим признакам, которые может уловить только мать. Когда Юнна, покинув кафе, избавилась от назойливых ухаживаний Велегорского и вернулась домой, Елена Юрьевна не спала. Посмотрев на дочь, она все прочитала на ее лице. Держа в одной руке колеблющуюся, готовую погаснуть свечу, она прикоснулась к горячей щеке Юнпы. - Девочка моя, - сказала Елена Юрьевна спокойно, не пытаясь разжалобить дочь или усилить в ее душе тоску и тревогу, - ты влюблена. Маленькая моя, ты влюблена... Юнна приникла к ее худенькому плечу. - Помню, я влюбилась в твоего отца, - продолжала мать, - и счастье было таким же тревожным. Сердце предчувствовало: впереди - муки. Говорят, будто человек не знает, что ждет его впереди. Неправда!.. Я верю: ты могла полюбить только такого же, как и ты сама, - человека светлой души. Как был бы счастлив отец! Ты выросла, дочка, выросла... - Мама, мама, - шептала Юнна, задыхаясь от переполнявшего ее чувства нежности и благодарности к матери, - какая ты у меня, какая ты чудесная, мама... - Не плачь, ты же любишь, а нет счастья выше, чем любовь. Все может быть на земле: и ураганы, и землетрясения, и войны, и смена царей, и затмения солнца, - а любовь живет наперекор всему. Без нее все потеряет свой смысл и прекратится жизнь... Юнна не видела в этот момент лица матери, и ей казалось, что она читает эти слова из какой-то старинной, мудрой книги. - Только... Я очень боюсь за тебя, - вдруг печально и глухо призналась Елена Юрьевна, слабея и ища глазами кресло. Юнна, став на колени, опустила свою голову на руки матери. Они были холодные и все же добрые, нежные. Ее поразило не столько то, что мать высказала опасение за ее жизнь, сколько тот внезапный переход от восторженных слов о любви к словам, в которых слышалась тревога. Хотя Елена Юрьевна и прежде, проводив Юнну, готовила себя к самому страшному и неотвратимому, она никогда не говорила об этом вслух. Сейчас же, поняв, что Юниа влюблена, пе смогла удержаться и высказала то, о чем не переставала думать ни на один миг. Они молчали, понимая друг друга без слов. Юнна находила в ласках матери поддержку, и ей становилось легче, словно мать снимала тяжесть с души. Но стоило снова подумать о том сложном и противоречивом, что стояло на пути, как отчаяние с еще большей силой охватывало ее. Юнна должна была целиком отдаться выполнению своего задания и тогда на второй план оттеснить чувство любви к Мишелю или же всю себя посвятить Мишелю и тогда, как ей казалось, в чем-то главном поступиться своим долгом. Мишель, конечно, спросит ее о Велегорском, и она вынуждена будет говорить ему неправду. А разве она правдива с матерью? Чем нежнее относилась к Юнне мать, тем горше ей было сознавать свою вину перед нею. И тут выход был тоже только один. Или сказать матери правду об отце и этим нарушить запрет Калугина и самого отца, или же продолжать молчать, видя ее страдания и казня себя за невольную жестокость. Не могла она сказать правду и отцу. Более того, не могла пренебречь требованием Калугина не встречаться с отцом. Ей оставалось лишь одно: выполнять задание. Только задание! Однажды Юнна пришла домой особенно взволнованная и подавленная. Было от чего расстроиться. Велегорский, напуганный арестами, нервничал, то и дело принимал новые решения и отвергал только что принятые. То он горел желанием перебазировать всю свою группу в Рыбинск, то грозился в одну из ночей поднять мятеж и, объединив вокруг себя все антибольшевистские силы, идти на Кремль. Идеи, одна безрассуднее другой, рождались в его голове и были скорее признаком отчаяния, чем решимости. Юнна знала, что группу Велегорского решено было пока не трогать. Не столько потому, что она представляла собой наименьшую опасность, сколько потому, что с помощью Юнны чекисты надеялись нащупать нить, ведущую к штабу организации. Поэтому, когда Велегорский, оставшись наедине с Юнной, схватился в отчаянии за голову и, с надеждой и мольбой уставившись на нее, воскликнул: "Что же делать? Что делать?!" - она решила, что наступил момент, который нельзя упустить. - Я могла бы пристыдить и высмеять вас, Велегорский, - сказала она, испытующе глядя в его осунувшееся, позеленевшее лицо. - Но я не стану этого делать. Вы что - истеричная баба? Решимость, смелость и спокойная мудрость - вот в чем спасение! - Не надо, - скривился Велегорский. - Ради бога, не надо моральной пищи. Я сыт по горло... - Хорошо, - грубовато оборвала его Юнна. - Вы спрашиваете, что делать? Я отвечаю вам: есть только один путь - немедленно идти к Савинкову! Незажженная папироса, которую Велегорский только что вытащил из портсигара, выпала из ослабевших пальцев на стол. Он покосился на Юнну, стараясь угадать, заметила она это или нет. - Да, к самому Савинкову, - настойчиво повторила Юнна. - О ком это вы, о ком? - Голос Велегорского был деланно спокойный и равнодушный. Имя Савинкова произносилось здесь впервые. Велегорскому под страхом смерти было запрещено говорить о том, кто возглавляет организацию. И потому осведомленность Юнны привела его в замешательство. - Я верю в него, это истинный вождь! Он мудрец и философ, полководец и писатель. Сподвижник Егора Созопова и Ивана Каляева. Участник убийства Плеве и великого князя Сергея Александровича... Он подскажет нам верный путь, вдохнет в нас новые силы и озарит светом надежды! - Я только однажды, да и то мельком, слышал о Савинкове, - наконец осторожно признался Велегорский. - Но никогда и ие предполагал, что он возглавляет движение. И даже то, что он в Москве... Велегорский изо всех сил старался подчеркнуть искренность своих слов. Его все назойливее одолевал один и тот же вопрос: "Откуда она знает о Савинкове? Откуда?" - Если вы не осмелитесь сделать этот решительный шаг, я сама поступлю так, как велят мне моя совесть и долг, - пригрозила Юнна. Велегорский поспешил ее успокоить: - Хорошо, но сперва я наведу нужные справки, посоветуюсь. Необходима осмотрительность... - Советуйтесь, наводите справки, но помните - время не ждет, предупредила его Юнна и покинула Велегорского. Теперь она терзала себя вопросом: правильно ли поступила, не сделала ли слишком поспешный и опрометчивый шаг? Ведь Калугин ничего не говорил ей, она решила проявить инициативу сама. Как-то Калугин передал ей слова, сказанные Дзержинским: "Каждый чекист в зависимости от обстановки волен поступать по-своему, но каждый несет ответственность за результаты". Ответственности она не боялась, не страшилась и за свою жизнь, но вдруг разговор с Велегорским принесет не пользу, а вред? Разве могла она заранее предугадать все последствия? А если Велегорский начнет докапываться и узнает, что нет Агнессы Рокотовой, племянницы царского полковника? Юнна рассчитывала на то, что Велегорский, обрадовавшись совету, в чем-то пренебрежет конспирацией и свяжется если уже не с самим Савинковым, то с кем-то из руководящих деятелей штаба. Но получилась осечка. Видимо, Велегорский не настолько опрометчив, как это ей порой казалось. И вот теперь ее охватило самое тягостное состояние - состояние неизвестности... Юнна осторожно стукнула в дверь: звонок не работал. Как всегда, навстречу ей поспешила мать. Возвращение Юнны домой стало для нее единственной радостью в жизни. Первое, что заметила Юнна, - это конверт, который мать прижимала к груди, как прижимают что-то бесценное и святое. Юнну обожгла мысль: письмо от отца! И она тут же, с порога, бросилась к матери: - Наконец-то, паконец-то!.. - Да, да, - растерянно, тихо проговорила мать. - Письмо... Еще утром принес почтальон... Так неожиданно... - Милая, милая, как я за тебя рада, и за отца, и за всех нас! Читай скорее! - Но... - Голос матери дрогнул, стал глухим, изумленно-тревожным. - Я никогда не распечатывала твоих писем... - Это мне? - Тебе... Но как ты сказала? - Лицо Елены Юрьевны озарилось тихим светом надежды, и Юнне почудилось, что она молодеет у пее на глазах. - Ты сказала: "и за отца"? - Да, я сказала "за отца": думала, что письмо от него. Потому что верю: он жив... - Ты веришь в чудо, - печально заметила мать, и глаза ее перестали блестеть. - Но скорей прочти письмо, мне кажется, оно принесет тебе радость. Юнна бережно взяла конверт. Мать поставила подсвечник на стол и направилась в свою комнату. - Нет, не уходи, - остановила ее Юнна, будто боялась читать письмо в одиночестве. Елена Юрьевна тихо присела на тахту, так, чтобы лучше было видно лицо дочери. Юнна вскрыла конверт и вытащила из него сложенные вчетверо листки. В глаза сразу бросились четкие черные линии, и она, поняв, что письмо написано на нотной бумаге, догадалась: от Мишеля! Она долго не решалась развернуть листки. И вдруг, закрыв глаза, развернула. "Мой маленький бог!" - прочла она первую строчку, и сердце ее застучало от тревоги и радости. "Мой маленький бог!" - прошептали одни лишь губы. Она не спешила читать дальше: даже если бы в письме не было больше ни одного слова, Юнна все равно считала бы себя самой счастливой на земле. Еще никто никогда не говорил ей таких слов. Не говорил их раньше и Мишель. Во время встреч они чаще всего молчали или вели речь о самых простых, будничных вещах. Ей всегда очень хотелось сказать ему ласковые слова, но язык почему-то не повиновался ей. Значит, и он тоже хотел сказать ей что-то ласковое, по не сказал. И вот теперь написал. Елена Юрьевна но движению губ почти догадалась, какие слова прочитала Юнна, а сияющее лицо дочери утвердило ее в том, что письмо хорошее. Ей стало радостно и тепло. "Мой маленький бог! - писал Мишель. - Да, да, именно бог, хотя я не верую ни в бога, ни в черта, ни в загробную жизнь. Верю в революцию. И еще в тебя! Ты для меня как солнце для земли. Пока оно светит, есть жизнь..." "Как солнце для земли", - прошептала Юнна и- вдруг разрыдалась. - Это хорошо, это хорошо, - плача вместе с ней, повторяла мать. Ничего, ничего, это хорошо... "Ты слышишь меня? - писал Мишель. - Я все могу сейчас - взмыть в облака, оглохнуть, как Бетховен, и сочинить лучшую в мире сонату, могу идти в атаку, зная, что пули меня не возьмут... Я все могу сейчас, потому что на нашей земле среди океанов и звезд есть два самых счастливых человека - ты и я. Два человека, делающих одно общее дело..." Юнна вновь и вновь перечитывала письмо. Потом дала прочитать матери. Потом они читали его вместе, пока не догорела свеча. Поздно ночью, уже лежа в постели, Юнна попыталась представить себе, что ждет ее завтра. Все может быть, ко всему нужно быть готовой... "И все же, - сказала себе Юнна, - теперь ничего не страшно: у меня есть Мишель..."16
Большая Лубянка, Охотный ряд, Моховая, Волхонка, Пречистенка... Два грузовика, подпрыгивая на скуластом, крепком булыжнике, приближались к Малому Левшинскому переулку. Ломовые лошади жались к тротуарам, пугая прохожих. Люди останавливались, провожая мапгины любопытными встревоженными взглядами. Кое-где в домах поспешно захлопывались окна. Было два часа, но солнце еще не смогло пробить пелену почти неподвижных туч, укравших у города синюю высь неба. Город притих, словно подчиняясь пасмурной тоскливой погоде. Петере, откинувшись на сиденьп рядом с шофером, вспоминал свою поездку в Иверскую больницу. Вместе с Лацисом и двумя врачами они обошли все палаты. Почти в каждой лежали отоспавшиеся, отъевшиеся мужчины, способные ударом кулака свалить быка. Они резались в карты, лениво перелистывали страницы зачитанных романов, о чем-то шептались, сгрудившись в тесный кружок. И все, как один, надоедали врачам своими жалобами: жмет сердце, открылась рана, обострилась язва желудка... Не так-то вдруг можно было разобраться, кто здесь действительно больной, а кто симулянт. Заведующий больницей услужливо подсовывал истории болезней, подхватывал жалобы больных, уточнял диагнозы. - Ну что же, - сказал ему Петере, закончив обход, - лечебное заведение ваше прямо-таки в отменном состоянии. Мы будем докладывать об этом в Наркомздраве. Заведующий рассыпался в благодарностях, но острые глазки его беспокойно и недоверчиво бегали из стороны в сторону. Петерсу было ясно, что медлить нельзя. Врачи, ездившие с ним в больницу, составили ему список тех, кто был абсолютно здоров и маскировался под больных. Помогла им и сестра милосердия, приходившая к командиру латышского полка. Она оказалась молодчиной. С ее помощью удалось выявить офицеров, которые, используя больницу как временное и надежное прибежище, тайком отправлялись отсюда на Доп. Наблюдение за юнкером Ивановым дало поразительный результат. 29 мая в половине десятого утра он покинул Иверскую больницу, долго петлял по улицам, потом направился прямехонько в Малый Левшинский переулок, дом три. В тот самый дом, первую весть о котором принес Мишель Лафар. И вот почти вслед за юнкером Ивановым в Малый Левшинский отправились чекисты... Все скрестилось сейчас на этом доме в одном из самых тихих переулков старой Москвы. Шумное дыхание улиц не доносилось сюда. Узкие тротуары, казалось, давно уже не отзывались на стук шагов. Таким и представлял себе этот переулок Петере, уверенный теперь в том, что они едут сюда не зря. Калугин тоже не сомневался в удаче. Мишель начертил ему план дома, и еще до выезда с Лубянки Калугин вместе с Петерсом решили, как внезапно окружить его и не дать опомниться тем, кто, возможно, скрывается в девятой квартире. И Петере, и Калугин, и красноармейцы, ехавшие в машинах, были молчаливы, серьезны, сосредоточены. Все они, каждый по-своему, думали о предстоящей операции. И только Илюша ехал совершенно с другим настроением. И пасмурная погода, и серые дома, и даже хмурые лица прохожих - все казалось ему солнечным и прекрасным. Он сдерживал себя, чтобы не запеть революционную песню. Никогда еще у него на душе не было так светло, радостно и весело, как сейчас. Он благодарно поглядывал на Калугина за то, что тот взял его с собой. А ведь мог бы оставить там, на Лубянке, в своем кабинете, возле телефонов. Одно лишь воспоминание нет-нет да и омрачало светлую радость Илюши. Стоило ему взглянуть на Калугина, как он ясно и отчетливо слышал свой крик, полный обиды: "Я не мальчик, не мальчик, не мальчик!" Позже, когда одумался, и особенно после того, как Калугин сказал ему: "Вот что, Илюха, проверь-ка свой револьвер. Поедешь со мной" - Илюша раскаивался в том, что не сдержался и поступил как самый что ни на есть глупый мальчишка. Ему хотелось сказать Калугину, что был неправ, что никогда впредь не допустит такой глупой выходки. "Самое лучшее, если ты покажешь себя смелым и мужественным, - говорил он себе. - Тогда и Калугин поймет, какой ты на самом деле. И извиняться тогда не надо..." Илюша никогда не был в этом старом и тихом районе Москвы, но стоило машинам свернуть в Малый Левшинский, как он по вдруг посуровевшим лицам, по настороженным взглядам, по тому, как крепче стиснули приклады винтовок красноармейцы, понял, что они у цели. Передняя машина, едва не въехав на тротуар, резко затормозила, и Петере, придерживая кобуру маузера, выпрыгнул из кабины. Обогнув радиатор, он ринулся к подъезду, задержался у входа, нетерпеливо ожидая, когда красноармейцы высыпят из кузовов и начнут оцеплять дом. Калугин в несколько прыжков одолел расстояние, отделявшее его от Петерса. Илюша помчался вслед за ними. Одинокий прохожий, шедший по переулку, испуганно юркнул в подворотню. Качнулись ветки деревьев, задетые штыками. Красноармейцы бегом огибали дом с двух сторон. Петере коротко взмахнул рукой, выхватил маузер, и они вскочили в подъезд. Здесь было темно, сыро, пахло мылом и сиренью. Петере, словно бывал уже в этом доме много раз, сноровисто и бесшумно поднимался по лестнице. Калугин и Илюша не отставали от него. Петере остановился у одной из дверей, обитой чернойклеенкой. На ней, едва различимая в сумраке коридора, виднелась табличка с цифрой девять. Петере резко и отрывисто стукнул в дверь: три коротких, три длинных удара согнутыми пальцами правой руки. В дверь были нацелены два маузера - Петерса и Калугина - и револьвер Илюши. С минуту ни одного звука не раздалось за ней. Потом дверь, словно живая, стремительно приоткрылась. Лицо, появившееся в проеме, было приветливо, но мгновенно перекосилось от ужаса. Петере рывком распахнул дверь, отбросив в сторону того, кто открывал ее. Следом за ним ворвались в переднюю Калугин и Илюша. Не мешкая, они вбежали в гостиную. В просторной комнате за большим круглым столом сидели, застыв от изумления и испуга, мужчины. Их было больше десяти. - Ни с места! - приказал Петере, покачав дулом маузера. - Оружие на стол! Трое мигом положили револьверы, тут же отпрянув от них, будто они кусались. Калугин, повинуясь сигналу, собрал со стола оружие и бумаги, которые перепуганные участники сборища даже не успели спрятать. Потом он бегло просмотрел бумаги: какая-то схема, тексты, отпечатанные на машинке, картонный треугольник, вырезанный из визитной карточки, пачка денег. - Чьи деньги? - спросил Петерс. Ни один из сидящих за столом не открыл рта. - Ну что ж, господа, извините, но нам придется прервать ваше заседание, - твердо и властно произнес Петере. - И не вздумайте прыгать в окна - дом окружен. А теперь - документы! Только пе все сразу - по очереди... Илюша стоял у двери с револьвером. Он готов был разрядить его в первого же заговорщика, который посмеет напасть на Петерса или Калугина или попытается бежать. - Сидоров... Висчинский... Голиков... - читал Петере, пристально вглядываясь в стоявших перед ним заговорщиков. - Иванов... Илюша с любопытством посмотрел на того, кого звали Ивановым. Это был совсем еще мальчишка, узкогрудый, большеголовый. Коротко подстриженные светлые волосы торчали ежиком, словно им хотелось кого-то уколоть. И сам он весь был какой-то колючий, взъерошенный. Иванов, чувствуя на себе настойчивый взгляд, посмотрел на Илюшу большими грустными глазами. Они упрямо глядели друг на друга, но Иванов, не выдержав, первый опустил голову. - Парфенов, - продолжал называть все новые и новые фамилии Петере. Те, чьи фамилии он произносил, вытягивались в струнку, чуть склоняли головы, и в каж-дом их движении чувствовалась военная косточка. - Ружич... Петере спокойно, стараясь смотреть на него так же, как смотрел до этого на других арестованных, произнес это имя таким тоном, будто оно ровно ничего не говорило ему. И лишь Калугин, просматривавший книги в огромном, темного дерева шкафу, скосил взгляд в сторону Ружича. Тот стоял недвижимо, как и все остальные, но его серые глаза смотрели прямо, открыто, с достоинством. Испуга не было в них, напротив: казалось, что он ждал этого внезапного прихода чекистов и встретил его сейчас как должное, как избавление от всего того, чем жил до сих пор. И лишь безвольно опущенные руки с чуть подрагивающими длинными пальцами выдавали волнение. "Вот он какой, Ружич, - снова долгим придирчивым взглядом обвел его с ног до головы Калугин. - Офицер как офицер. Благородное лицо, чистых кровей. Вот только жестокости в нем нету и, видать, не из трусливых. Хотя на глаз, не ровеп час, и промашку дашь. Тихий ход, дорогой товарищ Калугин, не торопись. А вообще-то изменился Ружич с тех пор, как видел его в "доме анархии", изменился. И времени-то прошло с тех пор всего ничего, а заштормило, занепогодило..." Продолжая просматривать книги, он не забыл отметить про себя, что теперь наконец можно будет развязать туго затянутый узел. Решится судьба и Юнны, и ее отца. - Именем революции вы арестованы! - объявил Петере, закончив проверять документы. Арестованные глухо зароптали. Тот, которого звали Сидоровым, взметнул к Петерсу пухлые, с синеватыми прожилками руки: - Но... по какому праву? Я пригласил к себе своих фронтовых друзей. Мы вместе сидели в одних окопах... - Вот и прекрасно, - оборвал его Петере. - Вам и сейчас сидеть вместе... А право нам дала рабоче-крестьянская власть! Калугин распахнул окно и вызвал трех красноармейцев. Они обыскивали арестованных и по одному выводили их к машинам. Петере, Калугин и Илюша тщательно осмотрели гостиную и смежную с ней комнату. В раскрытое окно гостиной, наконец пробившись сквозь тучи, ворвался солнечный луч. Он озарил тусклую и мрачноватую до сих пор комнату, слепяще ударил в Илюшине лицо. Илюша на миг зажмурился и с радостью подумал, что сегодня для полноты счастья ему как раз недоставало этого озорного солнечного луча. - Вот, смотри, - Петере протянул Калугину листки папиросной бумаги с убористым машинописным текстом. - Видишь, как громко себя именовали: "Союз защиты родины и свободы". Программка будь здоров. Свили, собаки, гнездышко... - Видать, пе на главный штаб напали, - сокрушенно отозвался Калугин. Теперь - по местам стоять, с якоря сниматься. А то главные смоются. - Всех допросим сегодня же, - сказал Петере. - А в квартире оставим своих людей. Распорядись. Может, кто пожалует. Закончив обыск, они вышли на улицу. Арестованных рассаживали по машинам. - Ну, мы с Илюхой своим ходом доберемся. - Калугин передал Петерсу изъятые при обыске бумаги. Взревевшие моторы разогнали тишину переулка. Машины, дрогнув, тронулись, оставляя за собой синие шлейфы. - Быстро мы их! - восхищенно сказал Илюша. - И пикнуть не успели... Калугин хотел было одернуть его: "Ты помолчи...", но не успел. Совсем рядом злобно взвизгнула нуля. Калугин резко обернулся. Илюша все с тем же восхищенным лицом, какое было у пего, когда он произнес свои слова, смотрел на Калугина и, схватившись одной рукой за забор, медленно оседал на землю. Калугин подскочил к нему и, обхватив руками, попытался приподнять. Но Илюша клонился к земле, как клонится человек, смертельно уставший и жаждущий лишь одного - отдохнуть. - Вон из того окна стреляли! - возбужденно крикнул подбежавший к Калугину красноармеец. - Мы сейчас весь дом прочешем. Не уйдет, подлюка! Калугин ничего не слышал. - Ты что же это, а? Ты что же это? - повторял и повторял он, словно Илюша не вставал на ноги не потому, что был смертельно ранен, а потому, что не хотел вставать. - Скажите... маме... За революцию... - с усилием прошептал Илюша, глядя на Калугина так, будто хотел убедиться, слышит ли он его и понимает ли его слова. Он чуть придвинул к Калугину руку, зажавшую бескозырку, и добавил: - А это... товарищу Дзержинскому... Калугин попробовал взять бескозырку, чтобы вытереть ею капельки пота, похожие на росинки, которые выступили на снежно-белом лбу Илюши. Но Илюша попрежнему крепко сжимал ее холодными, негнущимися пальцами и смотрел на Калугина так, словно был виноват в том, что Калугин все еще стоит здесь из-за него, в то время как его ждут неотложные дела. - Ты вот что... - Калугин с трудом выдавил слова, застревавшие в стиснутом спазмами горле. - Ты будешь жить... будешь, Илюха! В глазах Илюши вспыхнули яркие черные угольки, они просияли, как прежде, даже ярче, чем прежде, и мгновенно погасли. Пушистые ресницы дрогнули. И в этот миг Калугин понял, что никогда больше не увидит этих сияющих, горящих, как крошечные костры, глаз. Калугин растерянно оглянулся вокруг. В доме напротив грохнуло два выстрела. - А пуля-то эта для меня была припасена, - с горечью проговорил Калугин. Пальцы Илюши разжались, и он выпустил бескозырку. Надпись "Стерегущий" полыхнула на солнце. Калугин схватил ее, словно в ней было спасение, и с размаху прижал к исказившемуся, вмиг постаревшему лицу.17
Савинков лежал, всячески оттягивая минуту, когда волей-неволей нужно было сбрасывать одеяло и вставать. Неожиданно резкий звонок телефона заставил его вздрогнуть. - Кто говорит? - быстро спросил Савинков. - Сокол. Савинков, предчувствуя недоброе, стиснул телефонную трубку. Под именем "Сокол" скрывался Пыжиков, и звонить Савинкову он мог лишь в самых исключительных, чрезвычайных случаях. - В чем дело? - В больнице эпидемия тифа, - послышался в ответ приглушенный голос. - Есть смертные случаи? - Савинков едва сдерживал рвавшуюся наружу тревогу и поэтому говорил, чуточку растягивая слова. - Умерли все больные... - Доктор заболел тоже? - Нет, доктор просил передать, чтобы вы берегли себя. - Благодарю вас. - И Савинков обессиленно повесил трубку на рычажок. С минуту он смотрел, как равнодушно и безучастно покачивается трубка, будто ждал, что из нее послышатся какие-то обнадеживающие слова, опровергающие все то, что он только что услышал. Но трубка молчала. Савинков рывком сбросил с себя халат и, с бешеным проворством одевшись, выбежал на улицу. Нужно было немедленно уточнить обстановку, выяснить, какие потери понесла организация, и тотчас же принять меры к тому, чтобы обезопасить и себя, и тех, кто еще не очутился на Лубянке. "Наступает новый этап в моей жизни и в моей борьбе, - думал Савинков. В руках Чека теперь есть нить. Надо сделать так, чтобы она оборвалась и чтобы чекисты снова брели впотьмах. Поединок тяжелый, но разве ты мечтал о том, что он будет лишь детской игрой?" Итак, после Малого Левшинского, дом три, квартира девять, чекисты напали на штаб - Остоженка, Молочный переулок, дом два, квартира семь, лечебница доктора Григорьева. Этого следовало ожидать. Кто-то не выдержал, струсил, развязал язык. Но кто? Неужели Ружич? Если да, то все равно ему не уйти от расплаты. Зря пожалел этого слишком чувствительного интеллигентика. Распустил нюни: деньги союзников, гибнущая дочь... Время ли сейчас быть рабом предрассудков? И Савинков со спокойным чувством неотвратимости подумал и о деньгах союзников, которые хороши и важны уже тем, что они деньги, и о своей бывшей жене, и о трех детях, о которых незачем думать, если предназначил себя высшей цели. Глупо, конечно, было всецело доверять Ружичу, уж слишком он подвержен самоанализу, слишком страшный зверь для пего совесть и слишком болезненно и фанатично стремится он найти правду, наивно полагая, что она, эта правда, - одна-единственная. "Правд много, и каждый из нас выбирает ту, которая более всего соответствует его интересам", - самоуверенно подумал Савинков, ругая себя за то, что пожалел Ружича и оттянул свое решение убрать его с дороги. Теперь приходится расплачиваться. По улице медленно тащился трамвай. Савинков не стал ожидать, когда вагон доползет до остановки. Легко оттолкнувшись от тротуара, он вцепился в долговязого пассажира, висевшего на подножке, одной рукой дотянулся до поручня. Савинков даже не рассмотрел номер трамвая. Главное сейчас оторваться от своего убежища как можно дальше, в любом направлении, а уж потом идти туда, куда нужно. Он долго колесил по городу, пока не добрался до Арбата. Здесь он зашел в аптеку, убедился, глядя через витрину, что не привел за собой "хвоста", и, не пересекая улицы, спустился по ступенькам в полуподвальное помещение трехэтажного дома. Здесь, в мрачноватых, сырых комнатах, ютилась редакция газеты "Мир". В коридоре, куда почти не проникал свет, его встретил Пыжиков. - Великолепно, великолепно, что вы пожаловали, - шепеляво затараторил Пыжиков, скользнув по мрачному лицу Савинкова беглым взглядом провинившегося человека. - Прочитал, прочитал ваши сочинения. Это, конечно, не Достоевский, но есть, кое-что есть. - Он небрежно подтолкнул Савинкова в приоткрытую дверь тесной обкуренной каморки, - Сейчас потолкуем... Едва они вошли, Пыжиков, как фокусник, сунул Савинкову листок бумаги. Савинков приник к листу. Буквы прыгали, не повинуясь цепкому взгляду. Постепенно они успокоились и выстроились в тревожные, обжигающие строчки: "Арестованы Аваев, Колеико, Душак, Флеров... Всего около ста членов..." - Кто из начальников отделов? - прошептал Савинков. - Кажется, никто. У Савинкова отлегло на душе: можно продолжить дело. Конечно, не все арестованные устоят перед напором Чека, но круг неизбежно замкнется: один человек знает только четырех. Больше других знает Аваев. Но и его осведомленность ограничена узкими рамками. Нет, не зря он, Савинков, первым пунктом всегда ставил конспирацию. Это превращало его "Союз" в спрута: отсекут один из щупалец, другие остаются целыми и невредимыми. - И вот это место, - Пыжиков услужливо подсунул Савинкову еще один листок. - Здесь в каждой строчке живет истина. "Ружич не заслуживает доверия, - прочитал Савинков строки, написанные бисерным почерком. - Мне не удалось подслушать его разговор с поэтом-чекистом по имени Мишель Лафар, но уже то, что он спугнул наших людей, дабы остаться наедине с Лафаром, дает основание подозревать его в двойной игре..." Савинков с бешенством скомкал листок, зажав его в напрягшемся жилистом кулаке. Пыжиков невозмутимо поднес к листку зажженную спичку. Он вспыхнул желтовато-красным пламенем. - Срочно передать Перхурову: ускорить переброску людей в Казань... - Слушаюсь, - прошептал Пыжиков так тихо, что Савинков понял его лишь по движению губ. - А вот интереснейшее сообщение, - Пыжиков сунул Савинкову свежую газету, на первой странице которой выделялись крупные строки заголовка: "Последние сообщения. Грандиозный заговор против Советской власти". Савинков молниеносно прочел все то, что услужливо обвел синим карандашом Пыжиков: "Чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией раскрыт новый грандиозный заговор против Советской власти. Произведены многочисленные обыски и аресты. Во время производства обысков в двух случаях была произведена стрельба в комиссаров Чрезвычайной комиссии... Аресты продолжались всю ночь на сегодня. При обысках найдены печати контрреволюционной организации, переписка, прокламации и оружие. Произведены допросы. Показания арестованных подтверждают грандиозность контрреволюционного заговора. Установлена связь заговорщиков с генералом Красновым на Дону, с сибирскими и саратовскими контрреволюционерами. В ближайшие дни будет опубликовано официальное сообщение о раскрытом заговоре". Савинков отшвырнул газету. Все ясно. Чекисты напали на след. Но это еще не разгром. Верхушка штаба уцелела, надо сделать все, чтобы уберечь ее и основные силы в Казани и в верхневолжских городах от провала. Скрыться, замести следы, пока Чека занимается с второстепенными фигурами. В крайнем случае есть надежный выход - укрыться в стенах английского или французского посольства. - Ружича убрать! - приказал Савинков. Пыжиков с радостью поддакнул. - Может, проболтался Тарелкин? - в раздумье произнес Савинков. Впрочем, гадать не время. Завтра же отправляйтесь в Казань. Нужно упредить удар... Подробные инструкции у Перхурова. - У Перхурова? - изумленно переспросил Пыжиков. - Но он в английском посольстве. И самое страшное - арестован Пинка. - Пинка?! - Савинков пришел в ярость. - Да как вы смели столько времени молчать об этом? - Я сам узнал лишь перед вашим приходом... - испуганно ответил Пыжиков. - Итак, немедленно в Казань. Если не успеете - я не ручаюсь за вашу голову. Со мной - никакой связи. Я испаряюсь. И запомните, Пыжиков: все, кто заколеблется в эту трагическую, решающую минуту, а тем паче - предаст, будут стерты с лица земли! - Он осекся, задыхаясь от переполнявшего его гнева. - На Казанском вокзале, - продолжал он, - у билетной кассы вас встретит человек в красноармейской шинели. Он покажет черный бумажник, вытащит из него серебряный рубль и спросит: "Не разменяете?" Вы попросите его подержать свой саквояж и вытащите красный кошелек. Оп устно передаст вам все инструкции. Ясно? - Да, мне все ясно, - с готовностью произнес Пыжиков. - Считайте, что командировка у меня в кармане. Вы же знаете мои отношения с редактором. - Отлично, - удовлетворенно сказал Савинков. - Прощайте. И не вздумайте меня провожать. Давайте рукопись. Савинков взял папку с рукописью под мышку и спокойно, не спеша, с видом делового, озабоченного человека вышел на улицу. Стоял полдень. Улицы гудели от людского говора, пулеметной дробью отзывался на проезжавшие экипажи и телеги нагретый булыжник. Толпы людей осаждали булочные. Широкоплечий мускулистый человек, по виду рабочий, стоя на шаткой лесенке, стучал топором по вывеске "Торговля фруктами Колмогоров и К°", на которой отчетливо и вызывающе выделялся двуглавый орел. Вывеска скрипела и поддавалась с трудом. "Торопятся", - подумал Савинков. Навстречу шел красноармейский патруль - три бойца в побелевших от долгой носки гимнастерках и в обмотках. Савинков открыто и дружелюбно взглянул на них, как бы одобряя и восхищаясь их службой. Патрульные не могли не заметить этого открытого, восхищенного взгляда, и один из них миролюбиво, по-свойски улыбнулся Савинкову. "Долгонько же они расхаживают по стольному граду, - подумал Савинков, ощутив в себе прилив недоброй, испепеляющей ненависти. И начал мысленно считать, холодея от неотвратимости того, что пришло на ум: - Июнь, июль, август, сентябрь... Еще четыре месяца, чуть побольше, - и годовщина большевистского переворота! Целый год! Что за наваждение! Только наша инертность, наше русское прекраснодушие позволяют этому незаконнорожденному ребенку дышать и расти. А он, этот ребенок, уже бросил соску и встает на ноги. Топает самостоятельно! Нужно спешить, спешить, пока ребенок не стал мальчишкой, а потом юнцом, пока не почувствовал свою силу..." Савинков свернул в переулок. Из открытого окна ветхого деревянного дома неслись разухабистые, пьяные голоса, распевавшие частушку. Начинала женщина. Визгливо, отчаянно: Вчера видала я картинку, Как шла Лубянка на Ильинку! И тут же частушку подхватывал мрачный, осоловелый мужской бас: А на другой день спозаранку Вели Ильинку на Лубянку! Савинков приостановился. Ему в голову пришла озорпая мысль: хотелось встряхнуться, устроить себе разрядку. Он подкрался к окну, приподнялся на носках и нарочито свирепо отчеканил: - Агитацию на Чека подпускаете? А ну, собирайся, Лубянка по вас плачет! За окном вмиг стихло. Прошла минута. Оцепенение обитателей квартиры, видно, прошло, и на подоконник навалилась грудастая женщина с заспанным лицом, в ночной сорочке. Она, вероятно, уже успела тайком разглядеть Савинкова, заприметила его плохо скрытую улыбку и с пьяной храбростью обрушилась на него: - А ну, брысь под лавку, профессор недоношенный! Еще подслушивает, архиерейская морда! И с треском захлопнула створки окна. "Архиерейская морда", - недоуменно повторил про себя Савинков. - Почему архиерейская?" - с обидой подумал он. Он тут же поймал себя на мысли о том, что не может отделаться от назойливого слова "Лубянка". Даже дурацкая частушка и та напомнила об этой грозной улице. "Неужели Дзержинскому удастся создать такую силу, которая скрутит руки всем, кто борется за демократическую Русь? Нет и еще раз нет. Могут ли эти лапотники, пришедшие в Чека из-за продовольственных пайков, обладать искусством разматывания сложных, запутанных комбинаций? Один Дзержинский это еще, слава богу, не Чека..." Он шел, погруженный в свои думы и заботы. Солнце припекало уже по-летнему. Стройный, суховатый, жилистый, он гордился тем, что с годами не толстеет. "Три месяца о нас на Лубянке ничего не знали, - самодовольно отметил Савинков. - Это ли не признак несовершенства работы чекистов? Среди нас не было предателей и доносчиков. Это ли не признак высокого духа и святой веры в обновленную Россию? И если сейчас Дзержинскому удалось напасть на два адреса, то имя этому - случай. Я знаю, их поставят к стенке, моих сподвижников, тех, кто верит в меня, как в вождя, - и никто не проронит ни единого слова. Вот я, Савинков, организатор "Союза", человек, страшный для большевиков, как динамит, иду по Москве в полдень, и никому не приходит в голову, что это иду я... Все-таки мучительно пребывать в неизвестности, хотя и сознаешь, что делаешь великое..." Из состояния задумчивости его вывели ошалелые крики, звон ведер, матерная брань, треск горящих бревен и горячее дыхание близкого пожара. Савинков остановился пораженный. Объятый пламенем, силу которого приглушали дневной свет и жаркие солнечные лучи, трещал, медленно разваливаясь, пожираемый огнем, бревенчатый двухэтажный дом. Возле него бестолково сновали люди, мешая друг другу. Две женщины порывались вбежать в подъезд, из которого уже валил черный дым, но их удерживали за руки. Навзрыд плакал ребенок. Пятеро красноармейцев, оказавшихся поблизости, оттаскивали в сторону горевшие бревна, чтобы огонь не переметнулся на соседние строения. Двое из них, с лицами, выпачканными сажей, в взмокших гимнастерках, очутились по соседству с Савинковым. - Красиво горит! - восхищенно сказал молодой красноармеец, щуря белесые глаза. - Чай, сто годов простоял, а теперь - вона! Огонь кочерги не боится! - Дура! - басом отозвался тот, что постарше. - Чего ты? - за треском рухнувшей стены пе расслышал его молодой. - Дураков, говорю, пе сеют, они сами родятся. Чего дыбишься, рот до ушей? Строить-то кому придется? Опять же тебе! - "Тебе"! - передразнил его молодой. - А сам куды денешься? - И сам тоже... Отобьемся вот, всех волков изведем и - топор в руки, рубанок... Строить будем! Савинков пристально посмотрел на красноармейца. Нет, не великан, не богатырь на вид. Обыкновенный человек, среднего роста, не так уж широк в плечах. Мужиковатое, простое лицо, каких миллионы. И все же было в этом простом, мужиковатом, обыкновеннейшем лице что-то такое, что заставило Савинкова похолодеть. Нет, не свирепость, не жажда мщения и даже не угроза были написаны на этом лице. Если бы Савинков приметил именно эти чувства, он не похолодел бы от внезапно нахлынувшего страха, граничащего с отчаянием, он лишь ожесточился бы еще сильнее. Страшное таилось в другом - лицо красноармейца дышало светлой и ясной, как полуденное солнце, верой. То была не вера фанатика, возлагающего все свои надежды на чудо, то была истинная, могучая своей человечностью вера в завтрашний день. "Строить будем! - гремело в ушах у Савинкова, когда он поспешно уходил от догоравшего старого дома. - Строить будем! Строить!.."18
Садясь в автомобиль, Ружич жадно запрокинул голову в небо. Оно было непроницаемым, жестким, казалось, ударь по нему кулаком - задребезжит, как железное. Ни одной звездочки не светилось в ночи. "Все верно, - спокойно подумал Ружич, - все логично..." Человек в кожанке, сопровождавший Ружича, суховато кашлянул, давая понять, что мешкать - слишком большая роскошь. Ружич с трудом оторвался от неба, перекинул непослушное тело через борт. Человек в кожанке уселся напротив. У рта его закраснел огонек самокрутки, выхватив из темноты скуластое, вспыхнувшее тихим пожаром лицо. Автомобиль с крытым верхом прятал от глаз все, что понеслось мимо. робкие, расплывчатые пятна редких уличных фонарей, дремавшие деревья, покосившиеся вывески, обшарпанные стены домов, черные провалы подворотен. По булыжнику мостовой машина ехала тряско. Ружич, потеряв ощущение времени, пытался угадать, где они едут: миновали Бутырский вал, выбрались на Тверскую, потом послышался затихающий шумок Садовой - даже сквозь натужное фырканье мотора пробивался цокот копыт коней и посвист запоздалого извозчика. А вот и поворот, машина круто накренилась, шофер прибавил скорость. Знакомая улица - Большая Лубянка. Знакомая... Древнейшая улица Москвы, древнейшая и знаменитая. По ней, в тучах золотистой пыли, скакал на север Дмитрий Донской собирать войско против Тохтамыша. По ней, покорив Казань, торжествующий и суровый, возвращался в столицу Иван Грозный. Жили на ней псковичи и новгородцы, вывезенные в Москву, чтобы ослаб вольный и непокорный "новгородский дух". И название улицы свое припечатали - была у них в Новгороде Лубяница, так и перевезли его с собой: пусть память в сердцах остается. Знаменитая улица... Здесь что ни шаг, то история. Стоял в этих местах двор князя Дмитрия Пожарского, здесь он был тяжело ранен в бою. А в самом начале улицы - дом генерал-губернатора графа Ростопчина. Стоит он и поныне, напоминая о наполеоновском нашествии. Юнне было десять лет, нет, одиннадцать, когда отец рассказывал ей об этом. Они медленно шли тогда по Большой Лубянке, и на всем пути от Сретенки к Никольской Юнна, всегда любившая историю, набрасывалась на него с вопросами. Они останавливались почти возле каждого дома. "А это? А что было здесь?" - то и дело слышался ее взволнованный голосок. Его радовала любознательность дочери. Потом, позже, они вот так же ходили и по многим другим улицам Москвы, и история - трагичная и веселая, кровавая и добрая представала перед ними. Давно это было, давно... А чем еще знаменита Большая Лубянка? Ну, хотя бы тем, что везут сейчас по ней тебя, Ружич, и очень хорошо знаешь ты, куда везут. Провидец он, Борис Викторович Савинков, любил повторять: - Мал дом на Лубянке, всего три этажа, а всю Москву видать. Не ворите? Придет время - поверите... Ты, Ружпч, убедился... Рукой подать отсюда - Цветной бульвар. Юнна. паверное, спит, утомленная после напряженного дня. А Елена? Читает книгу, зная, что ей все равно не уснуть? Или его письма? Значит, Юнна с ними, с большевиками? Или это лишь его догадки? Обидно и непоправимо то, что в переломный момент жизни он лишен был возможности повлиять на дочь, повести за собой. "Великие события разъединяют людей", подумал Ружич, но от этой мысли не стало легче. Он пожертвовал всем личным ради общего дела, а что теперь? Холодная ясность того, что судьбу эту никто ему не навязывал, что выбрал ее сам, добровольно и осознанно, была невыносима и страшна. "Откуда эта жестокость, эта беспощадность в тебе, человеке, влюбленном в Чехова и узнавшем себя и в докторе Астрове, и в дяде Ване? Откуда?" - вновь и вновь спрашивал Ружич, моля судьбу сделать так, чтобы Юнна не рассказала матери о его воскрешении. Пусть считает его погибшим, как считала. Тем более что теперь ошибки не будет... Резкий толчок вывел Ружича из раздумий: машина остановилась. Еще минута - и тихо проскрипели ворота. Потом захлопнулись за машиной, въехавшей во двор. Двор был крохотный, тесный, и небо, казалось, нависло над ним глухой крышей. Не задерживаясь здесь, они прошли в здание. В вестибюле горела лишь одна лампочка, возле дежурного, и все же Ружич зажмурился от света. На лестнице и в коридоре было темно. Они поднялись на второй этаж. Звучное эхо шагов откатывалось от стен. Человек в кожанке открыл дверь, пропуская Ружича. Ружич перешагнул через порог и вздрогнул: в упор на него были нацелены пронзительные глаза Дзержинского. То ли оттого, что неяркий огонек свечи освещал лицо снизу, то ли оттого, что Ружич не ожидал этой встречи, глаза Дзержинского казались огромными, всевидящими. - Вениамин Сергеевич Ружич? - спросил Дзержинский, продолжая стоять недвижимо. - Да, я, - помедлив, подтвердил Ружич и ответил Дзержинскому таким же прямым, открытым взглядом. - Он же - Аркадий Сергеевич Громов? - снова спросил Дзержинский. - Да, он же, - кивнул Ружич, чувствуя, что не сможет обманывать этого человека. - Садитесь. Ружич, стараясь сохранять выдержку и достоинство, подошел к столу и неторопливо опустился в жесткое кресло. Конвоир вышел. Ружич остался наедине с Дзержинским. В маленьком кабинете было тихо, горела свеча. "Специальное освещение", - подумал Ружич, вспомнив, что внизу, у дежурного, хотя и неярко, горела электрическая лампочка. - Только что выключили электричество, - словно угадав мысли Ружича, сказал Дзержинский. - Для допроса - в самый раз, - слабо усмехнулся Ружич. - Возможно, - не стал возражать Дзержинский. - Вас доставили сюда из Бутырок? - Да. - Ружич хотел ответить коротко, но в душе его будто что-то взорвалось, накипевшие чувства разрушили спокойствие, и он заговорил поспешно, озлобленно. - Я знаю, вы сидели в Бутырках. Вас выпустила революция. Теперь в Бутырках сижу я. Возможно, даже в вашей камере. - Возможно, - подтвердил Дзержинский, взглянув на Ружича как-то по-новому, как смотрят люди, вдруг увидевшие в человеке то, чего не ожидали увидеть. "Так вот он какой, этот Ружич", - подумал Дзержинский, глядя на его словно схваченную утренним инеем голову, на впалые щеки, на глаза, будто присыпанные золой. - Мне отмщение и аз воздам! - нервно выкрикнул Ружич. Он уже не в силах был остановить себя. - Вас нетрудно понять. Столько лет в тюрьмах! Это не может не породить желания мстить. Ружич вдруг поежился - не от страха, не оттого, что Дзержинский мог с озлоблением воспринять его дерзкие слова и вызывающий тон, а оттого, что произнес почти то же самое, что говорил о Дзержинском Савинков. - Гомер сказал, что боги у всякого раба отнимают половину души. Вам не кажется, что вы едва не стали рабом господина Савинкова? Да и не обо мне речь. Я лишь песчинка в рядах своего класса, пролетариата. А класс этот никогда не опускается до мстительности - он лишь воздает должное тем, кто встает на его пути к свободе. Более того, сила наших ударов по контрреволюции вызвана только одним - ее ожесточенным, бешеным сопротивлением и натиском. На террор мы вынуждены, - Дзержинский подчеркнул слово "вынуждены", - отвечать террором. Но если уж вы заговорили обо мне, - Дзержинский сел, и только теперь, когда лицо его попало в полосу самого яркого света, Ружич увидел, каким оно было измученным и усталым, - то не хотите ли узнать, кем я мечтал стать в юности? - Постараюсь догадаться, - ответил Ружич. - Сначала - господство над Россией, потом - над всем миром... - Господство - не то слово. В нашем гимне поется: "Владеть землей имеем право", - Дзержинский сделал ударение на слове "владеть". - "...А паразиты никогда", - задумчиво, обреченно продолжил Ружич. - А вот как объясните вы мне, русскому интеллигенту, всю жизнь желавшему процветания своей родине и счастья народу... - Ружич захлебнулся от нахлынувшего на него волнения. - Как вы объясните, что этот русский интеллигент тоже попал в разряд паразитов и, следовательно, не имеет права не только владеть землей, но и жить на этой самой земле? Не подумайте, ради бога, что я хочу затянуть время и отсрочить то, что мне уготовано, утомленно, будто уже очень долго спорил с Дзержинским, сказал Ружич. - И, ради всего святого, не надо прописей. - И, ради всего святого, - в тон ему заметил Дзержинский, - не надо лжи. Ружич удивленно вскинул крылатые брови. - Я имею в виду все то, что так правдиво старался рассказать Аркадий Сергеевич Громов. - А... - горько усмехнулся Ружич. - Все это ушло уже в область предания. Актер из меня никудышный... Сейчас перед вами сидит не Громов, а Ружич. Вы это знаете. Я же ручаюсь за этого человека, за его искренность, за его совесть. f - Хорошо, удовлетворенно сказал Дзержинский. - Вот вы арестовали меня, - продолжал Ружич. - И много других офицеров. Но не рано ли торжествовать победу? Русское офицерство никогда не станет на колени, не смирится с насилием. - Русское офицерство? - переспросил Дзержинский. - Да, русское офицерство, - упрямо подтвердил Ружич. - Какие только ярлыки не приклеивают нам большевистские газеты! А между тем правомерно ли забывать, что среди этих офицеров множество умных, образованных людей, для которых ничего нет дороже России? - И много таких, на чьих плечах держался трон государя императора всероссийского и кто остался верен этому трону, как идолу, - продолжил Дзержинский. - Я говорю не о них. Вы смотрите на офицерство как на однородную силу, несущую в себе заряд реакционности и фанатической преданности монархии. А между тем это далеко не так. - Чужие ошибки мы на свои плечи взваливать не собираемся, - возразил Дзержинский. - Слепы не мы, а господа офицеры. Если бы они хотели счастья трудовому народу, то пришли бы к нам. - Не так легко сбросить с себя груз прошлого, если не взвалить на плечи ничего взамен, - возразил Ружич. - Уйдя в подполье, господа офицеры взяли в одну руку яд, в другую кинжал. - Еще с детства я преклоняюсь перед декабристами, - признался Ружич. Россию я видел их глазами. - А за какую Россию вы решили сражаться теперь? - Отечеству своему я желаю только свободы, - А за что же, по-вашему, борются большевики? - Революция - это февраль, - вспыхнул Ружич. - Октябрь - переворот. - Это уже игра в словечки, - усмехнулся Дзержинский. - За Советами идет громадное большинство России. Честь и хвала такому "перевороту"! - Свобода никогда не имела ничего общего с насилием, - упрямо возразил Ружич. - Загляните в глубину веков, и вы убедитесь в этом. - Наше насилие - во имя большинства над меньшинством. - Уместна ли здесь арифметика? - в свою очередь усмехнулся Ружич, откинув мягкую прядь волос со лба на затылок, и заговорил медленно, раздумчиво, словно вспоминал о том, что стало далекой историей. - Матрос Железняков... Его слова: "Караул устал..." Впервые в истории Российской империи собрался подлинный орган народовластия - Учредительное собрание, и его разгоняет матрос, обвешанный пулеметными лентами. Свобода - и этот безграмотный, жестокий матрос! - Кстати, "представительный" орган в народе пренебрежительно назвали учредилкой. - Это термин большевиков. - Так, - Дзержинский слегка прихлопнул ладонью по столу. - Так. Вот господин Савинков создал организацию, - продолжал он, глядя куда-то мимо Ружича, и то, что он не сказал "вы с Савинковым создали организацию", и то, что не посмотрел в этот момент в упор на него, - всем этим он как бы отделил Ружича от Савинкова, и от заговора, и от тех целей, которые ставили перед собой заговорщики. - Отдадим ей должное - организация крепкая, искусно законспирированная. Звучное, заманчивое название: "Союз защиты родины и свободы". Но скажите, вы хорошо знаете Савинкова, скажите, что общего со свободой у человека, который едва ли не с пеленок бредит диктаторством? Что общего у него с родиной, если белые генералы, эти прожженные монархисты, сделали его своей марионеткой? - У Савинкова нет корыстных целей, - убежденно сказал Ружич. - Он живет идеей. Всю молодость он отдал борьбе с деспотизмом. - Не из любви ли к родине и пароду он предает и родину и народ английскому и французскому капиталу? Ружич промолчал - это было его больное место, и Дзержинский понял смысл этого молчания. - Вот вы утверждаете: у Савинкова не было личных целей, - продолжал Дзержинский. - Возможно, да, если под личными целями подразумевать лишь желание разбогатеть или сделать карьеру. Нет. для Савинкова это пустяки. Он игрок крупного масштаба. И позвольте с вамп пе согласиться. Я утверждаю: личные цели у Савинкова есть. Он мнит себя мыслителем, спасителем человечества от "большевистского кошмара". Он жаждет быть в центре внимания, рвется на сцену политической жизни. Вот вам и цель. Неудавшийся литератор, он делает ставку на политику. - Я предпочел бы не говорить здесь о Савинкове, - уклонился Ружич, - и лишь по той причине, что его нет сейчас здесь и он не имеет возможности отстоять себя. - Что ж, бог с ним, с Савинковым как с личностью, хотя от этой темы, пожалуй, не уйдешь. Посмотрим на его плоды. "Союз" создан. У него есть штаб. Есть отделы: оперативный, сношений с союзниками, мобилизационный, разведывательный и контрразведывательный, агитационный, террористический, иногородний, конспиративный, отдел снабжения - это же просто мечта любого заговорщика, воплощение четкости и педантичности! - В словах Дзержинского чувствовалась едва приметная ирония. - Итак, крепость воздвигнута. Троянский конь в самом центре большевистского лагеря. Деньги по прихоти или по иронии судьбы текут из казны иностранных посольств. Конспирация отменная. Сигнал - и крепость начнет пальбу из всех орудий. Ну, а что дальше? Ружич настроился слушать и не ожидал внезапного вопроса Дзержинского. Более того, он не сразу понял, что вопрос обращен именно к нему. - Что дальше? - повторил Дзержинский. - Вы... меня? - растерянно спросил Ружич. - А дальше - власть большевиков свергнута. Мечта господина Савинкова сбылась. Он приходит к власти. Он формирует кабинет министров. А дальше? Теперь Ружич уже был готов к ответу. - Мы созвали бы Учредительное собрание, - сказал Ружич, словом "мы" давая понять, что он не отделяет себя ни от Савинкова, ни от его замыслов, ни от его "Союза". - И народ выразил бы свою волю. - "Мы" - это монархист Перхуров, который спит и во сне царя видит? Или генерал Рычков, готовый швырнуть в учредилку гранату? Или, может быть, офицеры, чьи имения жгли те самые крестьяне, мятежный дух которых вы хотите убаюкать сладкоголосой молитвой кадетов? Или "мы" - это все они, вместе взятые? - Ваши слова в плену иронии. Смеяться над поверженными легко. - А мы и не смеемся. Просто верим, что победим. - Нас рассудит история. - Согласен. Но предположим - наперекор логике событий, наперекор здравому смыслу, - предположим, что эти самые "мы" настолько влюблены в русский народ, что вручат ему штурвал государственного корабля. А дальше? - Восторжествуют идеалы справедливости, народовластия... - И с этим согласится господин Нуланс, посол Франции? И господин Бьюкенен, посол Великобритании? И господин Френсис, американский посол? Вы убеждены, что они, захлебываясь от восторга, будут на седьмом небе оттого, что вложили свой капитал в столь рискованное предприятие? Может, они все-таки потребуют вернуть хотя бы проценты? - Россия должна сама вершить свою судьбу. Я всегда был против принятия помощи извне, какая бы страна эту помощь ни предлагала, - нервно сказал Ружич. - Неужели вам никогда не приходила в голову мысль: почему Савинков так неразборчив в средствах, так всеяден? - Он стремится к единству нации. Это стоит любого унижения. Он ходил на поклон к Плеханову, предлагал ему составить правительство. И не вина Савинкова, что Плеханов отверг этот благородный жест. - Вот именно - жест, - тут же вставил Дзержинский. - Но я не удивлюсь, если Савинков в один прекрасный день пойдет на поклон и к зарубежным воротилам. А может быть, это уже сделано. Ружич зябко передернул плечами: ему стало не но себе от этих слов. Не потому, что они были неожиданными, а потому, что Дзержинский удивительно точно выразил те самые думы, которые одолевали и его, Ружича. - Я не пророк, - продолжал Дзержинский, - но нужно ли быть пророком, чтобы предсказать то, что вас ожидает? Представьте: Савинков за рубежом, у тех политиканов, которые, возможно, вершат судьбами мировой политики. Он будет пытаться держать себя с достоинством, но это достоинство лакея. Участи попрошайки ему не избежать. Ткнув пальцем в карту, ему скажут: "Это наши армии..." Скажут о русских армиях, Ружич. - Это было бы нашей национальной трагедией, - тихо промолвил Ружич. Дзержинский умолк. Он словно бы забыл о Ружиче, о тех словах, которые им были только что произнесены. "Прелюдия закончена, - мысленно подвел итог Ружич. - Теперь - допрос". - Вы определили линию своего поведения в ВЧК? - спросил Дзержинский, как бы подтверждая предположение Ружича. - Я не думал об этом. - Напрасно. Вы многое знаете и можете нам помочь. Придя к нам, вы станете другим человеком. - Есть притча, - печально усмехнулся Ружич. - Соломон, окруженный семьюстами наложницами, задыхавшийся от роскоши и счастья, сказал: "Я убедился, что мертвые счастливее живых, а всех счастливее тот, кто не родился на свет". - И есть такие мудрые слова, - парировал Дзержинский. - Когда человек думает о прошедшем, он опускает глаза в землю, но когда думает о будущем поднимает их к небу. - Кажется, мне суждено смотреть только вниз, - отозвался Ружич. - Кто знает... Право выбора принадлежит вам. Ружич весь напрягся, когда Дзержинский произносил эти слова. Неужели председатель Чека верит, что он, Ружич, может стать другим? - Человек рождается один раз, - с горечью вымолвил Ружич. - Это закон природы. - Но не закон революции, - возразил Дзержинский. - Возможно, у вас есть просьбы? Ружич ответил не сразу. Дзержинский, слегка наклонив голову, испытующе смотрел на него. Ничто не выдавало волнения Ружича: он сидел не горбясь, с достоинством, и от его худой, гибкой фигуры веяло спокойствием. Лишь веко правого глаза вздрагивало, как от близких выстрелов, и потому спокойствие казалось призрачным. - Есть, - преодолев что-то нелегкое в своей душе, ответил наконец Ружич. - Две просьбы. Хотя... - он замялся, - хотя это, вероятно, многовато для человека, находящегося в таком положении, как я. Я знаю, что меня ждет расстрел. Прошу сделать это как можно скорее, - твердо и тихо попросил Ружич. Он был уверен, что эти слова выведут Дзержинского из терпения. Но нет, председатель ВЧК смотрел на него все так же спокойно, и в его горящих глазах Ружич не заметил ни удивления, ни ненависти. - Судьба свела вас с Савинковым, - сказал Дзержинский без упрека, как бы констатируя факт. - И, кажется, он успел заразить вас. - Во времена Сократа осужденный мог сам выбрать себе способ казни, напомнил Ружич. - Сейчас времена иные, и, если можно, я прошу... расстрелять. Это будет самым человечным из всего, что вы можете сделать для меня. И поверьте, я никогда не был актером. - Вашу судьбу решит ВЧК, - коротко сказал Дзержинский, и то, что он не стал убеждать Ружича в возможности какого-то другого исхода и не требовал от него признаний, обещая взамен свободу, внезапно пробудило в Ружиче дремавшее в глубине души чувство уважения к этому человеку. - Еще одна просьба... - Теперь уже и по голосу можно было понять, какой бурей чувств охвачен Ружич. - Может быть, это слишком... Но разрешите мне просить вас... - Слова, которые он намеревался сказать, еще не прозвучав, стиснули сердце. - Разрешите просить вас... У меня жена и дочь... Клянусь всем самым святым для меня - они ни к чему пе причастны. Жена считает меня погибшим на фронте. С дочерью я виделся всего два раза. Мы не касались политики. Они ни к чему не причастны. Они... - Ружич зажал лицо ладонями, будто по глазам резанула ослепительная струя огпя. - Я знаю, - сказал Дзержинский, вставая. - Они ни к чему не причастны. И сейчас находятся в полной безопасности, - добавил он. - Я верю вам, - поспешно заговорил Ружич, словно боясь, что Дзержинский передумает и скажет что-то другое. - Спасибо. И... простите меня за откровенность. - Я не знаю лучших качеств, чем прямота и откровенность, - подчеркнул Дзержинский. - И сам никогда не кривлю душой. Ружичу неожиданно захотелось как-то оправдать передэтим человеком свою первую просьбу. - Я наслышан о фактах, когда Советы даровали жизнь крупным ученым, специалистам, хотя они, с точки зрения вашей революции, заслуживали расстрела. Что касается меня, то для новой власти я никакой ценности не представляю. Я всего лишь офицер. - Республике нужны честные, мужественные люди, - сказал Дзержинский, для которых революция не "ваша", а "наша". Он снова закурил и вдруг смущенно напомнил: - Так вот, было время, я мечтал стать учителем. - Но стали председателем ВЧК? - Да, стал им. "Он очень искренен, этот человек, - думал Ружич. - Ты тоже считаешь себя искренним. Так почему же, почему два искренних человека по-разному смотрят на судьбу России? И стоят но разные стороны баррикады? Чем объяснить это? Или, напротив, в их взглядах есть что-то общее? Но тогда что?" - И еще, - продолжал Дзержинский. - Попадать в разряд паразитов или не попадать - этот выбор зависит от самого человека. Не к каждому пристанет такое слово. Ружич снова промолчал, и не из-за того, что был полностью согласен с мнением Дзержинского или считал свои возражения ненужными и неуместными, а потому, что думал сейчас о самом Дзержинском как о человеке, стараясь лучше понять его. - Погодите, - Дзержинский заговорил горячо, убежденно, - придет пора, и Савинков будет ломать голову: чем объяснить свое поражение, свои провалы? В одном случае он объяснит это, скажем, прорехами в бюджете, во втором - предательством тех, кому он доверял, в третьем - бездарностью генералов. Ну а потом, после четвертого, пятого, седьмого провала? Неужто ему так и не придет в голову простая и ясная мысль: русские рабочие и крестьяне - с большевиками, с Лениным. Ружич снова не ответил: по интонации, с какой говорил Дзержинский, он почувствовал, что от него не требуют отрицать или соглашаться, его побуждают мыслить. - А пока что - борьба, не на жизнь, а на смерть, - сказал Дзержинский, как бы подводя итог. - Помните, что говорил Мицкевич о "Разбойниках" Шиллера? - К стыду своему, пе читал, - признался Ружич. - Он говорил: "Тут приходится быть то в небесах, то в аду: середины нет". Ни у вас, ни у меня, ни у классов, интересы которых мы защищаем, тоже нет середины. Кто не с нами - тот против нас. Ружич потупил голову. - Последний вопрос. - Дзержинский помедлил, словно решал, спрашивать об этом или нет. - Вы спасли жизнь одному человеку. Вы знаете, это произошло неподалеку от кафе "Бом". Что руководило вами? Только лп стремление отблагодарить его за то, что вас выпустили на волю тогда, из "дома анархии"? - Если я скажу, что нечто большее, вы мне поверите? - Да. - Спасибо. Дзержинский нажал кнопку звонка. Почти бесшумно появился в кабинете человек в кожанке. - Ну что же, - сказал Дзержинский, - на этом закончим. Ружич встал, не зная, идти ли ему к двери самому или ждать команды. - А допрос? - неожиданно вырвалось у него. Он переминался с ноги на ногу. - Меня же привезли сюда на допрос? - Да, на допрос, - подтвердил Дзержинский. - Можете идти. Ружич поклонился, прощаясь с Дзержинским, и, бросив на него последний взгляд, пошел к двери. Ему хотелось сказать сдержанно и честно, что он увидел в Дзержинском совсем не того человека, каким представлял себе его прежде и каким рисовал его Савинков. Хотелось сказать, что он отдает должное Дзержинскому - и его вере, и его непреклонности, и его такту, - но, считая, что эти слова могут быть истолкованы, как рассчитанная и продуманная попытка вымолить снисхождение, не сказал ничего. "Теперь уж не придется ему этого сказать никогда", - тоскливо подумал Ружич.19
Допрос Ружича был всего лишь одним из многочисленных эпизодов той изнурительной, нервной и адски сложной работы, которая свалилась на Дзержинского в те дни. Если и раньше было ясно, что контрреволюция, не сложившая по доброй воле оружия, будет объединяться, чтобы сплоченным фронтом выступить против власти рабочих и крестьян, то теперь, после арестов в Малом Левшипском и Молочном переулках, это стало реальным фактом. Дзержинский понимал, что в жизни каждого тайного сообщества неизбежно наступает тот психологический момент, в который оно принуждено либо выявить себя в открытом действии, либо в нем начнется процесс разложения. Энтузиазм сообществ, не обладающих внутренним идейным единством, таит уже в самом начале их деятельности признаки распада. Поэтому и "Союз" Савинкова, представляющий собой, по всей вероятности, именно такое сообщество, будет стремиться форсировать вооруженное выступление. Арест небольшой группы заговорщиков - лишь первый шаг на том многотрудном пути испытаний, который предстояло пройти чекистам. Арест и облегчал, и усложнял раскрытие всей организации Савинкова. Облегчал тем, что давал в руки чекистов нить для дальнейшего раскрытия заговора, и усложнял тем, что вынуждал верхушку "Союза", успевшую скрыться, предпринять срочные меры для перегруппировки сил и еще более тщательной конспирации. Вот они, материалы, которые пока что удалось добыть. Документы, изъятые при обыске, протоколы допросов, показания свидетелей. Это и много, и мало. Пока чекисты анализируют их, противник не дремлет. Нужно спешить. Вот программа "Союза защиты родины и свободы", не оставляющая ни тени сомнения относительно подлинных целей господ Савинковых, перхуровых и компании. Из каждой строки, окутанной призрачной дымкой демократии, гремит зычный голос военного диктатора: свержение Советского правительства, установление твердой власти, воссоздание национальной армии, продолжение войны с Германией, опора на помощь союзников. И туманное, необычно удобное для Савинкова и ему подобных: "Установление в России того образа правления, который обеспечит гражданскую свободу и будет наиболее соответствовать потребностям русского народа". Читай: потребностям контрреволюции. Ничего себе формулировочка, простор широкий - от учредилки до неограниченной монархии. Как в пословице: зимой - Кузьмой, летом Филаретом. Тут же приманка для легковерных: мы, мол, защищаем интересы не отдельного класса или партии, а всего народа. Демагогия чистейшей воды. Еще одна приманка для простачков: беспартийность организации. На словах. На деле - спекуляция на беспартийности с целью привлечь в "Союз" разношерстное по своим взглядам офицерство - от Перхурова до Ружича. Игра втемную. Одна программка для себя, для Савинкова и иже с ним, другая - для рядовых. Приходилось небось вертеться ужом: одному офицерику лгать так, другому этак. В этом слабость савинковского детища. Ахиллесова пята - отсутствие идейной общности, справедливых целей. Тайна, как росток сквозь каменистую почву, пробивалась наружу, порождая неизбежное: подозрения, недоверие, черную зависть, а в конечном счете - разлад, дробление сил... Дзержинский продолжал перечитывать программу "Союза" и вдруг отчетливо вспомнил разговор с Лениным в ту ночь, когда бушевала гроза. Тысячу раз прав был Ильич, сказавший: "И если заговор уже зреет, то следы его неизбежно приведут к порогам английского и французского посольств". Действительно, привели... Хваткие пальцы Савинкова вожделенно отсчитывали хрустящие банкноты: английские фунты стерлингов, французские франки, американские доллары. В особняках посольств, казавшихся безжизненными и вымершими, находили себе приют выкормыши контрреволюции. Из этих особняков, как из змеиных гнезд, выползали планы и замыслы злейших врагов революции. В английском консульстве, у Красных ворот, одно время укрывался Савинков, потом - Перхуров. Начальник кавалерийских частей и казначей "Союза" Виленкин состоял юрисконсультом английского посольства... Первые показания- арестованных. Лепет насмерть перепуганных людей, цепляющихся за ложь, как за спасение. Питающих надежду, что чекисты бредут вслепую. Показания юнкера Иванова. Того самого, из Иверской больницы: "Был в Малом Левшинском у своего знакомого. Что делал? Читал Конан-Дойля. На схеме в записной книжке - адрес. Чей? Портного, ходил за брюками. Что обозначено кружком? Иоводевичий монастырь. А к чему вензель с короной? Нарисовал от нечего делать. Знаком ли с сестрой милосердия Иверской больницы? Знаком, она немка, сказал ей, что всех немцев скоро вырежут. Хотел ее напугать. Она ответила: "Вот немцы скоро вас приберут к рукам". Ни о какой организации ничего не знаю..." Парфенов, он же Покровский: "Откуда текст программы "Союза"? Кто-то принес в квартиру и положил на стол. Кто - не знаю. К "Союзу" не принадлежал..." Коротнев: "Как попал в квартиру Сидорова? Там жила старая знакомая Голикова. О заговоре слыхом не слыхивал. В Москву приехал с фронта. Чьи деньги лежали на столе? Не знаю. Может, Сидорова?.." Флеров: "Как попал в больницу? Пришел лечиться. Посоветовал некий Павел Ильич. Познакомился с ним чисто случайно, после пасхи на Пречистенском бульваре. Сам бывший прапорщик. Беспартийный..." Виленкин: "В савинковской организации участия не принимал. Кавалерийских отрядов не организовывал. Полагаю, что среди кавалерийских офицеров Савинков популярностью пользоваться не может..." Итак - хоть отпускай всех арестованных на свободу с присовокуплением извинений за причиненное беспокойство. Есть лишь одно средство, которое вынудит их сказать правду: неопровержимая логика фактов, улик, доказательств. Бессонные ночи, нескончаемые допросы - и на стол ложатся новые и новые страницы дела, которое потом, позже, едва уместится в несколько десятков увесистых папок... Очная ставка Виленкина с Парфеновым. Парфенов: "Виленкина знаю. Несколько раз получал деньги у него на квартире. Знал, что он состоял в "Союзе". Виленкин: "Откуда вы это знали, милейший? Я вам говорил? Или другие? Может, приснилось? Вы, случаем, не писатель-фантаст?" Парфенов: "Личное убеждение. Я слишком маленькая пешка в "Союзе", чтобы все знать". Виленкин: "Всего не мог знать даже царь Соломон..." Сидоров: "В Москву приехал 22 марта, был без работы. Кто-то предложил обедать в столовой "Курляндия" на Большой Полянке. Там познакомился с Арнольдом Пинкой. Он стал зондировать почву, не возьмусь ли я сформировать офицерский состав полка. Спросил его: "Почему только офицерский? Солдаты, что, с неба упадут?" Пинка отделался шуткой. Об организации Савинкова не слыхал. Почему в моей квартире собрались офицеры? По случаю дгтя рождения сестры. Зачем нужно формировать офицерский состав? На случай если немцы в Москву придут. Не кулаками же отбиваться..." И его же письмо из тюрьмы: "Будьте любезны, зайдите по следующему адресу: Пречистенка, Дурнов переулок, 6, квартира 17, Ольга Константиновна Смольянинова - и спросите для меня, нужен ли адрес Земуховского. Если да, то зачем. Кроме того, если это не затруднит, то попросите ее зайти по адресу: Зубовская площадь, Теплый переулок, 18, квартира 5, Михаил Сергеевич Допухин - и, если он не скрылся, передать ему, что его адрес в чрезвычайке известен и уже есть ордер на его арест. Коротпев арестован, сидит в Таганке, никаких документов у него не нашли. Все офицеры моего корпуса (не арестованные) уехали к Деникину и Дроздовскому. Предал всех командиров первого батальона второго полка Бенедиктов (барон Бек) и кадет Иванов (князь Мешков). Остальные держатся крепко, ничего не говорят и ничего не выдают..." "Держатся крепко, ничего не говорят и ничего не выдают..." И вскоре после этого отчаянный вопль Сидорова на допросе: "Я не могу смотреть в ваши глаза, не могу!.." "Да, не можете, - сказал Дзержинский, - не можете потому, что совесть не чиста..." - "Записывайте, вот адрес Пинки..." Записка Иванова, он же Мешков, адресованная Петсрсу: "Прошу Вас снять с меня допрос, и я Вам открою всех тех мерзавцев, которые меня, шестнадцатилетнего человека, втянули в эту преступную историю. Хочу загладить свою вину перед Россией". И его же показания: "До сих пор на допросах не говорил правды, так как не знал большевиков и судил о них только на основании слухов, что Ленин и вообще большевики - немецкие шпионы. Сейчас, в больнице, после разговоров с чекистом Калугиным понял, что был введен в заблуждение, и желаю сказать вето правду... Называюсь я не Иванов, а Мешков, родился в Петрограде, учился в кадетском корпусе. Два года назад бежал на фронт, в Варшавский уланский полк. Вернулся после контузии в июле 1916 года. Жил у тетки в Коктебеле. В январе текущего года приехал в Петроград. В Москве, в Иверской больнице, встретил поручика Никитина. Он меня устроил в общину, переменил мою фамилию, не объяснив зачем. Предлагал вступить в продовольственную милицию, где служил Парфенов, но я отказался, сославшись на болезнь. Однажды Никитин послал меня в Малый Левшинский с письмом к Парфенову. Тот разговорился и предложил быть его ординарцем. Лишь за день до ареста объяснил, что организация называется "Союз защиты родины и свободы" и что в состав ее входят правые эсеры, кадеты и анархисты. Фамилии офицеров мне известны: Парфенов, Ружич, Сидоров, Пинка, Висчинский, Никитин, Литвиненко, Виленкин, Оленин (рука на перевязи). Фамилии эти я часто слышал в Малом Левшинском. Были там Коротнев и Шингарев. Парфенов был, кажется, командиром конного полка, Сидоров второго пехотного полка, Никитин - начальник команды телефонной связи. Работали они на средства французов, англичан и американцев..." Дзержинский вспомнил, как несколько дней назад к нему вбежал возбужденный Петере: - Удача, Феликс Эдмундович! Арестован Пинка. - Очень хорошо, - сказал Дзержинский. - Но что за причина для волнения? - Есть причина, - улыбнулся Петере, смахивая ладонью гриву волос со лба. - Пинка - мой старый знакомый. - Вот как! - с легкой иронией произнес Дзержинский. - А помните такую поговорку: шапочное знакомство не пойдет в потомство? - Я знал его еще по Рижскому фронту, во время керенщины, - увлеченно продолжал Петере. - Я работал тогда в латышских стрелковых полках как член и представитель ЦК латышской социал-демократической партии. Полки эти были всецело большевистскими. Однажды латышским полком хотели сменить казачьи части. Полк послали на фронт, но солдаты не дошли даже до первой позиции, казаков сменять отказались. Произошла стычка с офицерами, требовавшими наступления. Солдаты остановились на опушке леса, офицеры - с полверсты от них в овраге, так и стояли друг против друга. Чтобы уладить конфликт, собрали специальное совещание при рижском губернаторе. Вот там-то я и встретился с Пинкой. Он был представителем офицеров, яростно нападал .на большевиков. - Теперь я вижу, что это знакомство, хоть и шапочное, пойдет нам на пользу, - серьезно сказал Дзержинский. - Ему не скрыть от вас контрреволюционных убеждений. - Несомненно, Феликс Эдмундович. Кроме того, Пинка - чрезвычайный трус. Уверен, что он сознается. Петере оказался прав. Достаточно было нескольких часов, чтобы убедить Пинку сознаться во всем. Он подтвердил, что штаб скрывается в Молочном переулке под видом лечебницы, что во главе организации стоит Савинков, а во главе штаба - Перхуров. Пинка сообщил, что организация спешно перебрасывает свои силы из Москвы в Казань. С помощью Пинки удалось разгрызть и другой орешек. Петере обнаружил в Малом Левшинском часть визитной карточки, разрезанной по зигзагообразной линии. На карточке отчетливо виднелись буквы "О. К.". Оказалось, что это пароль. Будучи приложена к своей второй половине, находящейся у другого лица, она точно совмещалась с ней. Там же, в Малом Левшинском, Калугин обнаружил клочки записки. Дзержинский вместе с Лацисом разложили их на столе, пытаясь восстановить текст. Записка была написана по-французски и по-английски. Это была информация о том, что в Москве существует контрреволюционная организация. По всей вероятности, Савинков сообщал об этом своим хозяевам - Алексееву и другим генералам, окопавшимся на Дону... Дзержинский перелистал свой блокнот. На одном листке были пометки: М. Левшинский, 3 - 9, 2-81-84, Душак. Арнольдов (знает его Душак). Остоженка, Молочный пер., 2, кв. 7, лечебница для массажа, спросить Арпольда Мартыновича. Скатертный пер., № 5б, кв. 1, прис. повер. Вплепкин, от Арнольдова. Казань, Поперечная, 2-й горы, 12, кв. 3, Кгшст. Петр. Винокурова, через него Иосифа Александровича, через него Леонида Ивановича, которому передать письмо и значок. Арнольдов - это Пинка. Он должен знать многое, во всяком случае, больше других. Адреса, адреса... Явки, пароли... Из множества нужно выбрать главные. Из сотни возможных ударов нанести один, точный, разящий цель. Иначе распылишь силы, будешь стрелять из пушки по воробьям. Вот еще показания. Три допроса савинковца, приехавшего из Казани. Вначале сказал, что покупал оружие для отвода глаз, чтобы получить деньги от мародеров на содержание офицеров. Клялся, что все мятеж считает авантюрой. Что ненавидит Каледина. Последний раз получил деньги от казанских спекулянтов в начале мая. Должен был перед ними отчитываться в каждом рубле и потому организовал покупку оружия, чтобы оправдать получение денег. На складе закупаемого оружия никогда не был, знал только, где находится этот склад. Все очень просто: в начале января текущего года организовалось общество взаимопомощи бывших офицеров, врачей, чиновников и их семейств. Войдя в это общество, он сразу увидел, в какой материальной нужде находится большинство бывших офицеров. Полагал, что те, кто наживается на нужде других, обязаны поддержать тех, кто, охраняя их шкурные интересы, бился с врагом, не щадя ни здоровья, ни самой жизни. Просить милостыню офицерам не подобало, надо было требовать. Поэтому под видом сочувствия и содействия генералу Алексееву решил сформировать якобы особую казанскую организацию, дабы с ее помощью потребовать от коммерсантов поддержки материальными средствами. Маневр отчасти удался, но для того чтобы выцарапывать у них деньги, обязан был отчитываться и организовать покупку оружия, хотя и в незначительном количестве. За пять месяцев получено всего несколько более пятидесяти тысяч рублей, а в организации состояло четыреста пятьдесят лиц. Для отчета же разбил организацию на взводы и роты. Приобретено сто восемьдесят винтовок и ящик ручных гранат. Никакого боевого значения своей организации он не придавал и потому мало интересовался этим оружием. Когда следователь послал людей на склад, то там оказалось лишь пятьдесят пять винтовок и несколько гранат. Это было неожиданностью, и объяснить сие можно лишь тем, что лица, получающие деньги на покупку оружия, в действительности его не покупали и делали ложные доклады. Других складов у него нет... "Других складов у него нет..." Дзержинский вспомнил подмосковную дачу, Тарелкина, утро в лесу. Чуть прозевай - и Тарелкин переправил бы свое оружие в Казань, как и велел Савинков... Казань... Туда нужно немедленно послать чекистов. Используя явки, они должны будут быстро войти в казанскую организацию. Их нужно подготовить так, чтобы они сошли там за белогвардейских офицеров... Дзержинский пригласил к себе Петерса. - Кого пошлем в Казань? Петере ожесточенно потер крутой лоб, перебирая в памяти работников ВЧК. - Калугина? - спросил Дзержинский. - Калугина? - изумился Петере. - Да он на белого офицера похож, как я на тореадора. - А что, Яков Христофорович, по своему темпераменту ты вполне сошел бы за тореадора, - пошутил Дзержинский. - Внешние данные для этой роли у Калугина, пожалуй, не так уж блестящи. Но парень он с головой, если войдет в роль, справится. К тому же храбрости ему не занимать, а это качество в подобных обстоятельствах не лишнее. - Это верно, смельчак он отчаянный. В таком случае предлагаю вместе с ним Лафара. - За Лафара - обеими руками, - поддержал Дзержинский. - Вот только кое-кто из ихней братии знает его в лицо... - Те, кто знал, - в тюрьме. - Ружич? - Не только. Вчера арестован Пыжиков. - Ну что же, пока все складывается благоприятно. Готовьте Калугина и Лафара в Казань. Вот адреса, явки. Пароль: "Мы должны быть чисты, как голуби". Отзыв: "И мудры, как змеи". Из библейского писанпя выхватили, мудрецы... Вы зайдите ко мне с ними перед отъездом, - сказал Дзержинский, кивнув головой в знак того, что Петере может идти. - Я скажу им несколько напутственных слов. Петере ушел, и Дзержинский остался один. Больше всего тревожило то, что удалось скрыться Савинкову. А ото значит - со дня на день жди неприятностей. Он не из тех, кто складывает оружие после первой неудачи. Несомненно, зачинщиков, попавших в руки ВЧК, придется расстрелять. Этого требуют интересы защиты революции. Лучше расстрелять троих, чем потом быть вынужденными расстреливать триста, когда контрреволюционеры пойдут в атаку. Итак, беспощадность к истинным, убежденным, непримиримым врагам. Иной подход к заблудившимся, к тем, кто в конце концов встанет под наше знамя. К таким, например, как Ружич. Или вот еще допрос арестованного. Сергей Михайлович Огранович, восемнадцати лет. Подтверждено, что случайно зашел в квартиру, где чекисты производили обыск. Окончил гимназию с золотой медалью. Все свободное время проводил в публичной библиотеке, рылся в исторических архивах. Ни один из арестованных не изобличает его. Дзержинский взял ручку, размашисто написал: "Сергей Мих. Огранович при посещении мною Таганки заявил, что может дать слово, что против Советской власти выступать не будет. По всему делу видно, что он не принимал участия в белогвардейской организации. Это только что окончивший гимназию молодой человек. Предлагаю немедленно освободить. Ф. Дзержинский". Дзержинский щелкнул выключателем, раздвинул плотные шторы. Рассвет тихо заструился в оживших окнах. Солнце еще не взошло, но его предвестник алая полоса на востоке разгоралась все ярче и ярче. Свежее сияние рассвета омолодило старые дома. Дзержинский отошел от окна, на вешалке, там, где висела его шинель, увидел матросскую бескозырку, на ней отчетливо выделялась надпись: "Стерегущий". "Он же никогда не был матросом, Илюша Фурман, - вновь подумал Дзержинский, чувствуя, как острые льдинки жгут сердце. - И усы не успел отрастить..." Дзержинский снял бескозырку с вешалки, долго смотрел на нее, словно перед ним было что-то живое. "Стерегущий"... Хорошее слово. В нем - сущность работы чекиста..." Дзержинский подошел к столу, перевернул листок календаря. Там было помечено: "Завтра - оказия". Он едва не забыл, что завтра можно будет, воспользовавшись оказией, передать письмо Софье Сигизмундовне в Швейцарию. "Завтра" - это уже сегодня. Надо написать хоть несколько строк. Дзержинский взял ручку. Перо стремительно понеслось по бумаге. "Я нахожусь в самом огне борьбы. Жизнь солдата, у которого нет отдыха, ибо нужно спасать наш дом. Некогда думать о своих и о себе. Работа и борьба адская. Но сердце мое в этой борьбе осталось живым, тем же самым, каким было и раньше. Все мое время - это одно непрерывное действие... Кольцо врагов сжимает нас все сильнее и сильнее, приближаясь к сердцу... Каждый день заставляет нас прибегать- ко все более решительным мерам. Гражданская война должна разгореться до небывалых размеров. Я выдвинут на пост передовой линии огня, и моя воля - бороться и смотреть открытыми глазами на всю опасность грозного положения и самому быть беспощадным... Физически я устал, но держусь нервами, и чуждо мне уныние. Почти совсем не выхожу из моего кабинета - здесь работаю, тут же, в углу за ширмой, стоит моя кровать. В Москве я нахожусь уже несколько месяцев. Адрес мой Б. Лубянка, 11". Поезд прибывал в Казань днем. Веселый дождь хлестал по стеклам вагонов, будто отважился пробить их насквозь. Дома, примыкавшие к привокзальной площади, утонули в звенящей воде. Дождь разогнал людей с перрона. Чудилось, он смыл все - птиц с деревьев, пыль со старых крыш, следы людей с мостовых. Пассажиры с неохотой покидали душные, обжитые вагоны, сдаваясь в плен дождю. Сзади напирали, и передние, вдруг решившись, прыгали в пенящиеся лужи. Следуя их примеру, Калугин и Мишель побежали к дверям вокзала. Там быстро образовалась пробка, и они с трудом протиснулись в до отказа переполненный зал ожидания. - Все, - сердито пробурчал Калугин. - Воды полные сапоги. Как на палубе в штормягу. - У меня тоже, - утешил его Мишель. После опьяняюще чистого, промытого ливнем воздуха казалось, что их заперли в какой-то плотный, непроницаемый смрадный ящик. Нечем было дышать. - Двинули на улицу, - предложил Мишель. - Все равно уже вымокли. Калугин покосился на огромное, в грязных подтеках окно вокзала и стал пробиваться к выходу. Мишель устремился за ним. Дождь поутих, но улицы еще звенели стремительными ручьями. Над вымытыми, блестящими крышами заголубело чистое небо. Вечер обещал быть спокойным и теплым. На привокзальной площади не оказалось ни одного извозчика - их расхватали испугавшиеся дождя пассажиры. Лишь одна дряхлая кляча, запряженная в ветхую повозку, жалась к покосившемуся забору. Прислонившись к мокрому, облезлому крупу лошади, стоя дремал возница-татарин. - Повезешь? - спросил Калугин, подходя к нему и отчаянно хлюпая дырявыми сапогами. - Близко - повезем, далеко - не повезем, - уныло откликнулся возница, заморгав блеклыми старческими глазами. - Конь кушай хочет. Овес - нет, сено - нет. Вода есть, воздух есть. Помирать будем скоро... - - Гостиницу "Сарай" знаешь? - спросил Калугин. - "Сарай"? - бесстрастно переспросил возница и вдруг оживился, будто окончательно сбросил с себя остатки дремоты. - "Сарай" Москва знает, Париж знает, Нижний Новгород знает. Мусса много господ "Сарай" возил... - Вот что, татарская морда, - жестко сказал Калугин: он уже входил в роль белогвардейского офицера. - Мне твои басни слушать недосуг. Вези в "Сарай", да поживее! Возница суетливо полез на облучок. Калугин и Мишель вспрыгнули на повозку, Кляча, вздрогнув, силилась натянуть постромки. Возница отчаянно хлестал ее по мосластому боку. Мутная россыпь брызг обдала их лица. Наконец кляча стронула повозку с места и медленно застучала копытами по мокрым камням. Калугин снял сапоги и вылил из них воду. Мишель с жадным любопытством разглядывал низкие дома, редких прохожих. В сравнении с шумной, суетной Москвой жизнь текла здесь тихо, размеренно, и лишь в той стороне, где, по предположению Мишеля, была Волга, временами слышались одиночные выстрелы. Гостиница "Сарай" длинным двухэтажным четырехугольником возвышалась вблизи базарной площади. Крохотные торговые палатки, облепившие ее с двух сторон, напоминали скопление лодок возле корабля. Расплатившись с возницей, который за всю дорогу не промолвил ни слова, Калугин и Мишель вошли в подъезд гостиницы. В тесной прихожей томились в ожидании свободных номеров люди. Наметанный глаз Калугина сразу же угадал в некоторых из них переодетых офицеров. Накрашенная женщина сидела под пыльной пальмой и курила длинную папиросу, стряхивая пепел в кадку и кокетливо выпуская дым через нос. В противоположном углу группа красноармейцев, составив в козлы винтовки, укладывалась спать на полу. Калугин оттер плечом приникших к окошку ожидающих, хмуро и повелительно изрек появившейся там рыжеволосой даме: - Двадцать первый номер, мадам... Рыжеволосая недоверчиво разглядывала мокрый, измятый пиджак Калугина и презрительно молчала. - Я не привык повторять, мадам... Дама вскочила, ожесточенно, как гривой, тряхнув рыжими буклями. В руке у нее загремела связка ключей. Номер для Калугина и Мишеля был снят еще накануне сотрудником Казанской губчека, который отрекомендовался в гостинице коммерсантом. С ним Калугин и Мишель должны были встретиться этой ночью. Номер оказался угловым, находился на втором этаже, и это вполне устраивало чекистов. Они первым делом сняли свою вымокшую одежду, развесили ее на стульях. Потом набросились на сухую, солонющую воблу. Расправившись с ней, запили скудный ужин водой. Блаженно растянувшись на койках, они молчали, и каждый думал о том, что предстоит им сделать завтра... ...Когда Петере привел Калугина и Мишеля к Дзержинскому, их было трудно узнать. Вместо кожанки, которую Калугин не снимал даже в жаркие дни, на нем мешковато висел порыжевший на солнце пиджак. Брюки навыпуск были заправлены в изрядно избитые сапоги. Мишелю пришлось расстаться со своей любимой вельветовой блузой и облачиься в косоворотку, в которой он выглядел молодым школьным учителем. Усики и начавшая отрастать бородка, окаймлявшая его бледные скулы, преобразили лицо. - Великолепно! - удовлетворенно сказал Дзержинский, придирчиво осмотрев их. - Ну, как вы думаете, товарищ Калугин, признают они вас за своего? - А пусть попробуют не признать, - пробасил Калугин, вытягиваясь во фронт и отрывисто прикладывая ладонь к воображаемому околышу фуражки. - О, кажется, похоже, - улыбнулся Дзержинский. - Вот уж не думал, что у вас получится. - А я сам разве думал, Феликс Эдмундович? - с обидой произнес Калугин. - Да я после всей этой комедии до конца своих дней казнить себя буду. Играть беляка и to противно, краба ему в печенку! - И чего расхныкался? - вскинулся Петере. - А то ведь заменю, ей-богу, заменю! - Нет, зачем же заменять? - испугался Калугин. - Потерплю. - Да, придется потерпеть ради дела, - сказал Дзержинский. - Задание чрезвычайно рискованное и ответственное. Если обезвредим штаб казанской организации, считайте, что одну лапу Савинкову мы отсечем. А с одной ему разбойничать будет не очень-то сподручпо. - Он лукаво взглянул на Петерса. - Яков Христофорович, конечно, вас уже детально проинструктировал, для меня ничего не оставил. Но вам, вероятно, пригодится вот это письмо. Вчера мы его перехватили. Пишет Валентина Владимировна Никитина, жена бывшего министра. Она держала у себя явочную квартиру и работала в савинковском "Союзе" как связная. Сейчас она в Казани, откуда и прислала это письмо. Вот что она пишет. - И Дзержинский прочитал текст письма: - "Дорогой Николай Сергеевич! В субботу приехала в Казань и в тот же день отправилась по условленному адресу. Дома никого не оказалось. Утром нашла хозяина. На вопрос, где находится Виктор Иванович, хозяин состроил злую, удивленную физиономию. Из дальнейшего разговора выяснилось, что он напуган до крайности. Возмущен, что к нему уже несколько дней являются люди, требуют какого-то Виктора Ивановича, квартиру, адреса и так далее. Мало этого, оп получил дурацкую коммерческую телеграмму о подмоченной таре. Самого Виктора Ивановича нигде нет и не было уже больше трех недель. Ввиду всего происшедшего я позволила себе превысить мои полномочия и объявила, что являюсь представителем нашего штаба. Это хорошо подействовало на настроение наших людей, которые были в полном отчаянии. Присылайте кого-нибудь. Здесь путаница большая. Боюсь, что не справлюсь одна. Эсеры провоцируют, я уже установила разведку и буду парализовывать их действия насколько сумею. Наши молодцы подбодрились и начнут работать. Решили мы эсерам ничего не давать, но открыто не показывать своего отношения. Необходимо прислать сюда кого-либо из наших, волевого, смелого человека. По словам Лели, у вас очень плохо, но это ничего. Бог не выдаст. Все старые явки недействительны. Завтра сделаю публикацию с адресом. Всего лучшего, привет всем. Валентина Владимировна Никитина". Видите, обстановка усложняется. Если старые явки недействительны, надо во что бы то ни стало найти нужную публикацию с адресом, о которой сия дама здесь упоминает. Переворошите местные казанские газеты. Действуйте через Никитину. Учтите вот еще что. Они пишут в памятке для едущего разведчика: важным условием является внешний вид передвигающихся. Не должно быть никаких внешних признаков (галифе, френчи). Одеваться следует возможно проще и даже неряшливо. Никаких политических разговоров не вести. По прибытии на место соблюдать строгую конспирацию и продолжать разыгрывать прежнюю роль (крючник, артист, мешочник). - Ясно, Феликс Эдмундович, - сказал Калугин. - Вот и хорошо. Как настроение? - Прекрасное! - сияя, ответил Мишель. - Просто ног под собой не чую, что дорвался до настоящего дела! - Настроение в наших руках, - деловито добавил Калугин. - Какое требуется по обстановке, такое и будет... - Я часто думаю, - сказал мечтательно Дзержинский, - придет время, когда революция и дни, в которые мы живем, станут историей, и это раскаленное, огненное время напомнит о себе, как неповторимое, бесценное счастье. - Как счастье... - тихо повторил Мишель. - Что ж, посидим на дорожку, - предложил Дзержинский. - Присядь и ты, Яков Христофорович, - сказал он Петерсу, который взволнованно ходил по кабинету. - По русскому обычаю. С минуту они сидели молча. Дзержинский поднялся первым, крепко пожал руку Калугину и Мишелю: - В добрый путь... ...Мишель вспоминал обо всем этом и торопил время, когда можно будет доложить Феликсу Эдмундовичу о том, что задание выполнено. Он взглянул на Калугина. Тот лежал с закрытыми глазами и, казалось, дремал. - Спишь? - окликнул его Мишель. - Выдумаешь тоже, - буркнул Калугин. - Какой, к медузам в ребро, сон! Лежу и думаю: ни черта у тебя, балтийский морячок, не получится. Язык-то у тебя - корчаги ворочать, пни. А там требуется нежные разговорчики вести: "Соблаговолите...", "Честь имею,..", "Не извольте беспокоиться...". Тьфу! - А ты больше молчи. И хмурься, хмурься. Рявкни пару слов - и молчок. Еще пару - и снова молчок. А всю разговорную процедуру возложи на меня. - Идет! - обрадовался Калугин. - Выручай, И пофранцузски им что-нибудь вверни. Они это любят, каракатицыны дети... А если зарвусь, кашляни - я враз на сто восемьдесят. А то - форменный оверкиль... - Это еще что за штуковина? - Оверкиль? Это, браток, самое поганое, что может с моряком случиться. Это когда корабль вверх тормашками пойдет. - Интересное словечко, - улыбнулся Мишель. - Значит, главное - не допустить оверкиля? - Вот именно... - насупился Калугин, думая, что Мишель подсмеивается над ним. Помолчав, они стали обсуждать различные варианты предстоящей операции. - Ну, хватит, - сказал наконец Калугин. - Это все теория. Утром видимость до самого горизонта. - Попробую раздобыть местную газету, - предложил Мишель и натянул на себя еще влажную косоворотку. - Ну что? - спросил Калугин Мишеля, когда тот вернулся в помер. - Объявлений много. Придется завтра поколесить по городу, - ответил Мишель. - Начнем хотя бы вот с этого: "Продается дом и участок - фруктовый сад, водопровод, электрическое освещение и прочие удобства..." Было уже близко к полуночи, когда пришел паренек из Казанской губчека, предъявил мандат. "Ковальков Илья Петрович", - прочитал Калугин и вздрогнул. "Тоже Илья", - подумал он и как-то по-новому, приветливо и добро, посмотрел на Ковалькова. - Твоя задача, дорогой товарищ, и легкая, и непосильная, - сказал он Ковалькову. - В зависимости от того, как пришвартуемся. Держать нас под прицелом, чтоб в любой момент знать, где мы и какой курс держим. И чтоб ни одна душа и помыслить не могла, что ты нас сопровождаешь. А когда мы попадем в главный штаб, я просигналю огоньком самокрутки над головой. И ты будь добр тут же вмиг окружить дом, и чтоб никто из этой контры не успел пикнуть. Сделал зарубку? Вот почему, дорогой товарищ, я еще в предисловии указал, что задача твоя и легкая, и непосильная, смотря как ветер подует... - Все сделаю как по нотам, - горячо заверил Ковальков. - А как вы будете знать, что я оцепил дом? - Молодец, мозгами ворочаешь, - похвалил Калугин. - У них там, ясно, свои люди возле дома шастать будут. Просигналишь выстрелом. - Есть, просигналить выстрелом... - Ну как? - спросил Калугин Мишеля, когда Ковальков ушел. - Молодой, - сказал Мишель. - Это не беда, - откликнулся Калугин. - Сам знаешь, Илюха был совсем юнец. А какой из него чекист получился бы! Калугин засопел и ожесточенно глотнул папиросный дым. Едва дождавшись рассвета, Калугин и Мишель покинули гостиницу. Утро было свежее, умытое вчерашним дождем. Крохотные лужицы с упоением ловили солнце. Даже на старых деревьях помолодела листва. Трамвай еще не ходил, и Калугин предложил идти певшем. Мишель охотно поддержал его. Дом, о котором говорилось в объявлении, стоял в переулке, огороженный коричневым забором. В палисаднике буйно разрослись цветы. Калугин решительно застучал щеколдой калитки. На стук долго никто не отзывался, лишь несколько раз лепиво тявкнула собака. Потом на крыльце кто-то загремел ведрами и, кряхтя, двинулся по дорожке, скрытой кустами крыжовника. Калитка приоткрылась, и они увидели старуху, сверлившую их колючими, злыми глазами. - Ни свет ни заря, - пробурчала старуха, не дав Мишелю раскрыть рта. Нечистая сила носит... - Мы по объявлению, бабушка, - громко сказал Мишель. - В газете вот напечатано: дом продается. - Пропечатано, пропечатано, - еще пуще разозлилась старуха. - Только-то и делов, что пропечатано. А ты что за купец: пятак в кармане да блоха на аркане? - Деньги найдутся! - весело ответил Мишель. - Показывай свой дворец! Старуху испугала его веселость. Она выпучила на Мишеля бесцветные, водянистые глаза и закричала: - Я те дам дворец, я те дам дворец! Пошел вон, непутевый! - Ты толком говори, старуха, продаешь дом или нет? - мрачно спросил Калугин. Старуха хлопнула калиткой, и за забором еще долго слышались скрипучие слова: - Ходят тут всякк?! Антихристы! Бесполезной оказалась и проверка еще двух адресов. - Что будем делать? - сокрушенно спросил Калугин. - Объявление это Никитина давала четвертого, - задумался Мишель. - Надо позвонить в редакцию газеты и узнать, какое объявление приносили вчера. - А если их много приносили? - Все же будет легче разыскать ее. Вероятность попадания в цель станет больше. - Вероятность? - хмуро промолвил Калугин. - Мудреное слово. Ну, давай действуй. Я тебя на рынке обожду. Мишель вернулся в гостиницу и позвонил в редакцию. Нетерпеливый, раздраженный женский голос прозвучал скороговоркой: - Что за дурацкие вопросы? Думаете, если редакция, то обязана отвечать на любую глупость? Какая вам разница, когда принесли объявления? Мишель как можно любезнее попросил все же удовлетворить его любопытство. - Девушка, от этого зависит судьба человека... Трубка долго молчала, и Мишель уже отчаялся чтолибо узнать, как вдруг тот же голос произнес: - Вчера приносили три объявления: распродажа мебели, инженер снимет меблированную комнату в центре и о покупке чемоданов. И больше пе звоните к нам по пустякам... Мишель помчался на рынок к Калугину. Они отошли за угол покосившейся деревянной лавчонки, и Мишель рассказал о своих переговорах с редакцией. - "Распродажа мебели" - не подходит, - решил Калугин, - Не будет же она навлекать на себя покупателей. Какого лешего мы тот адрес выбрали, с продажей дома? - Зато вот занятное объявление, - усмехнулся Мишель. - "Куплю один американский чемодан-гардероб, два кожаных малых чемодана и два морских сундука. С предложением обращаться..." Не всякий может предложить два морских сундука, начнем с этого? Адрес, указанный в объявлении, привел их на тихую улочку, почти всю скрытую в кронах деревьев. Они шли словно под зеленым шатром. Вверху, в небольшом углублении калитки, виднелась черная кнопка звонка. - С комфортом живут, по-столичному, - сказал Мишель и позвонил. Калитку открыл старик с седой бородой клинышком, он подслеповато смотрел куда-то поверх голов пришедших. - Мы по объявлению, - сказал Мишель. - Вам нужен американский чемодан-гардероб, два кожаных малых чемодана и два морских сундука? Старик, еще до того как Мишель закончил фразу, молча повернулся и пошел по дорожке, выложенной кирпичом, к дому, шаркая по до-швами. Калугин и Мишель недоуменно переглянулись и двинулись вслед за ним. Старик поднялся по ступенькам, открыл резную дверь и, как часовой, стал подле нее в коридоре. Калугин и Мишель вошли туда же. - Милости прошу в гостиную, - скрипучим официальным голосом произнес старик. - Вторая дверь направо. Они воспользовались приглашением и очутились в гостиной. Здесь было прохладно и тихо. Чудилось, что и старинная мебель, и настенные корабельные часы, и пианино - все находилось здесь с давних времен. И както вмиг все, чем жила сейчас Москва, чем жили казанские улицы, удалилось, стало недосягаемым - настолько в этой гостиной все дышало отрешенностью от жизни, чем-то далеким, прошлым, отпугивающим. И только ноты на пюпитре, при виде которых Мишель вдруг остро и с тоской вспомнил о Юнне, ослабили чувство того, что они попали в чуждый для них мир. Калугин и Мишель остановились посреди гостиной. У них было ощущение, будто за ними цепко наблюдают чужие настороженные глаза. Старик не появлялся, он словно сгинул. И вдруг дверь, которую они до этого не приметили, раскрылась, и на пороге появилась высокая молодая женщина. Волевое лицо ее излучало приветливую улыбку, словно она очень долго ждала к себе гостей и вот теперь, когда они наконец появились, была безмерно рада их приходу. Легкая белая блузка английского покроя и прямая черная юбка усиливали впечатление изящества, гибкости и элегантности. Калугин откровенно залюбовался ее красотой. Женщина оценила этот восхищенный взгляд и поняла его по-своему. Мишель поклонился с достоинством, каждым движением подчеркивая, что покорен обаятельной улыбкой женщины. Калугин скосил на него глаза и резким кивком отвесил поклон, прищелкнув каблуками. Лицо его стало совсем хмурым: он злился на себя за то, что проявил слабость. - Здравствуйте, - почти пропел Мишель. - Простите нас великодушно за вторжение, но виной всему - объявление в местной газете. Американский чемодангардероб, два малых кожаных чемодана и два морских сундука, согласитесь, такие вещи, нужные всякому отъезжающему, несравненно легче приобрести в Москве. Но все же мы готовы услужить вам... Простите, не имею чести знать. Разрешите представиться - Жорж Роше. Мой друг, - Мишель легким, изящным кивком и плавным движением руки указал на Калугина, - Андрей Свиридов. - Валентина Владимировна, - назвала себя женщина все с той же очаровательной улыбкой. - Прошу садиться. Я готова обсудить ваши предложения. Калугин и Мишель подождали, пока она сядет в кресло, и лишь после этого воспользовались ее гостеприимством. - Вы уже доставили вещи, которые я желала приобрести и их можно посмотреть? - спросила Валентина Владимировна, и Калугин подумал о том, что улыбка служит этойженщине надежной маской, с помощью которой она скрывает свои истинные чувства. - Нет, но мы готовы доставить в любое время, которое вы сочтете наиболее удобным, - ответил Калугин, с трудом осилив длинную непривычную для него фразу. "Это, конечно, она, Никитина, - подумал он. - Она не назвала фамилии, ловчит, но ничего, лиса, хитри, да хвост береги". - Вы здешние коммерсанты или из дальних краев? - поинтересовалась Валентина Владимировна, извлекая из табакерки карельской березы длинную папиросу с золотой каемкой. - Из Москвы! - выдохнули почти в один голос Мишель и Калугин. - Вот как, - с наслаждением затягиваясь папиросой, томно произнесла Никитина, откровенно любуясь Мишелем и не в силах скрыть радости. Калугин, чтобы ускорить ход событий, озабоченно и деловито сказал: - Пардон, господа, но я позволю себе напомнить: время не ждет. "Ревнует, - обрадованно отметила про себя Валентина Владимировна. Какой он хмурый и нелюдимый. Но в нем горит воля и скрытый огонь". - Я думаю, - обращаясь к Мишелю, сказал Калугин, - пришла пора показать госпоже Никитиной образцы наших товаров. Едва он произнес слова "госпоже Никитиной", как улыбка бесследно растаяла на ее лице. - Откуда вы взяли, что я Никитина? - с неприязнью спросила она. - С вашего позволения я удалюсь ровно на две минуты, - сказал Калугин и вышел в переднюю. Здесь он быстро вспорол подкладку пиджака и вытащил половинку визитной карточки с буквами "О. К". Вернувшись в гостиную, он приблизился к Никитиной и молча протянул ей визитку. Никитина взяла ее, спокойно осмотрела и положила на стол, выжидающе уставившись на Калугина. - Мы должны быть чисты, как голуби, - начал Калугин загробным голосом. Мишель едва сдержался, чтобы не расхохотаться. - И мудры, как змеи, - глубоким, грудным голосом пропела Валентина Владимировна, и прежняя улыбка засверкала на ее белоснежном лице. - И все же... - мрачно начал Калугин, притрагиваясь к половине визитной карточки. - Понимаю, понимаю, - вспорхнула со своего кресла Никитина. Пытаясь изобразить неловкость и смущение, она стремительно просунула узкую ладонь в разрез кофточки, и не прошло и секунды, как вторая половина визитной карточки была приложена ею к первой и в точности сошлась с ней. - Вот теперь можно продолжить наш разговор, - удовлетворенно сказал Калугин. - Штабс-капитан Жорж Роше изложит суть дела, ради которого мы явились к вам. - Мы облечены доверием и высокими полномочиями Николая Сергеевича, начал Мишель воодушевленно. - И мы рассчитываем с вашей помощью, милейшая Валентина Владимировна, осуществить свою высокую и чрезвычайно ответственную миссию с благополучием и успехом, какого жаждет каждый из нас, по воле своей решивший служить многострадальной святой Руси. Калугин дивился, как это Мишелю удается плести такую нескончаемую вязь слов. А Мишель все плел и плел: - Николай Сергеевич чрезвычайно высоко ценит и вашу мудрость, и ваш талант, и вашу волю. - Мишель с удовлетворением отметил, что лесть пришлась ей по вкусу. - Но согласитесь, координация действий московской и казанской организаций в столь решающий момент едва ли посильна лишь одному человеку, даже отмеченному печатью гения. И мы убеждены, что ни на йоту не принизим вашей роли, коль скоро решимся оказать вам ту помощь, которую вы соблаговолите принять от нас и которая будет основываться на точном соблюдении тех инструкций, которые нами получены от главного штаба. - Главный штаб пребывает в добром здравии? - будто мимоходом спросила Никитина. - Московский штаб арестован чекистами, - мрачно пробасил Калугин, не зная, куда ему девать свои грубоватые руки. - Весь штаб? - в ужасе воскликнула Никитина, и лицо ее скрылось в облачке папиросного дыма. - Ради бога, не волнуйтесь, - поспешил успокоить ее Мишель. - Борис Викторович и его близкое окружение благополучно ушли из засады, и это вселяет в нас веру и надежду... - Умоляю вас, какие еще в Москве новости? Вы и без того, господа, слишком долго испытывали мое терпение... - Извольте, - приподнялся Мишель. - Чека свирепствует, арестованы многие из наших лучших, надежнейших людей. Могу назвать несколько лиц из этой категории: Пинка, Виленкин, Аваев... - О боже, боже! - Валентина Владимировна старалась быть искренней, но не сумела скрыть нотки притворства и страха. - Будем денно и нощно молиться, чтобы пламя арестов не перекинулось на Казань... - Опасения такого рода не лишены оснований, - тоном человека, знающего больше того, что он только что сообщил, но не считающего возможным открывать это другим, заверил Мишель. - Однако мы верим, что любой из арестованных скорее предпочтет чекистскую пулю, нежели согласится выдать своих единокровных братьев по оружию. Разумеется, многое будет зависеть и от того, насколько совершенна конспирация в казанской организации. - Боже, у нас много путаницы, червь неверия и отчаяния разъедает слабые души. Нужно поднять настроение людей. - Лучшее средство: немедленное вооруженное выступление, - рубанул Калугин, отводя угрюмый взгляд от Валентины Владимировны. - Солдат в обороне слабеет духом и телом. А в наступлении он герой! Он тут же отметил про себя, что Никитина пока еще не сказала ничего нового по сравнению с тем, о чем сообщала в письме. - Вашими устами глаголет истина, - горячо поддержала его она по-французски. - Какое счастье, что нам скоро предстоит крещение огнем, не правда ли? Калугин снова сделал энергичный кивок головой, а Мишель тут же пришел ему на выручку, не давая Валентине Владимировне задать ему новый вопрос пофранцузски. - А как у вас в Казани, тоже свирепствует Чека? - спросил он. - Бог миловал, - истово перекрестилась Валентина Владимировна. - Бог миловал. Я, слава господу, еще и в глаза не видала живого чекиста. - Мы хотели бы, опираясь на ваше посредничество, встретиться с руководящими деятелями казанской организации. Разумеется, в пределах тех указаний, которые получены нами от Николая Сергеевича, - сказал, мило улыбаясь, Мишель. - Вся трагедия в том, что мы как на прокрустовом ложе в нашем распоряжении всего сутки. - О, разумеется, я помогу вам... - Валентина Владимировна оборвала фразу, помолчала и вдруг заговорила беспечно, даже весело: - А как, вероятно, противна вам эта нелепая одежда. Сразу чувствуется, с чужого плеча. Представляю себе, как вам к лицу военная форма... - Мы еще наденем ее, - заверил Калугин, сунув руки в карманы пиджака. Будет и на нашей улице праздник. - Между прочим, господа, далеко не второстепенный вопрос: вы вооружены? - деловито осведомилась Валентина Владимировна. - Да что вы, нас за простаков считаете? - грубовато ответил Калугин. Он хотел еще что-то добавить, но Мишель кашлянул. - Ради всего святого, не обижайтесь, - переменила тон Валентина Владимировна. - Без оружия нам гибель, - уже помягче сказал Калугин. - Господа, - встала с кресла Валентина Владпмировна, - вы, разумеется, голодны. Отдавая должное вашему энтузиазму и стремлению скорее завершить дело, я тем не менее предлагаю вам перекусить. Я распоряжусь, сейчас принесут завтрак, а тем временем я отлучусь буквально на полчаса. - Перекусить можно, - пробасил Калугин. - А что касается отлучки... - Мы вам весьма признательны, Валентина Владимировна, - перебил его Мишель, стараясь ослабить резковатый тон Калугина. - Мы и в самом деле проголодались. Но не составите ли вы нам компанию? Поверьте, завтрак без столь очаровательной хозяйки этого дома потеряет свою прелесть. - Не беспокойтесь, господа, - просияла Валентина Владимировна, - я непременно приду, чтобы вместе с вами поднять бокал за наше святое дело. И она, одарив Мишеля и Калугина обаятельной улыбкой, исчезла за дверью.20
Когда Калугин и Мишель остались вдвоем, старик, открывавший им калитку, принес на подносе нарезанное тонкими ломтиками сало, жареного цыпленка и редиску. В центре стола он поставил пузатую бутылку с мутноватой жидкостью, три вместительные рюмки и, шаркая подошвами, исчез. У Калугина и Мишеля при виде жареного цыпленка потекли слюнки, казалось, уже целую вечность они не едали ничего подобного. Но они старались сдерживать себя. Мишель чинно, не торопясь разламывал на куски цыпленка. Калугин нетерпеливо занес вилку над аппетитной ножкой. Они наполнили рюмки и выпили. Мутноватая жидкость оказалась спиртом. Калугин и Мишель понимали, что Никитина ушла неспроста, но воспрепятствовать этому не могли, чтобы не вызвать подозрений. Между тем Никитина в дальней укромной комнатке, служившей ей спальней и имевшей запасной выход оживленно, вполголоса совещалась с высоким, поджарым мужчиной. Иссиня-черная, как крыло грача, голова его была лишь кое-где отмечена крохотными паутинками седины. - С паролем все верно, Иосиф, - сообщала Никитина, влюбленно и преданно глядя на мужчину, нервно и нетерпеливо слушавшего ее. - И все же меня никогда еще не подводила интуиция. В Москве сейчас аресты. И чем черт не шутит, не удалось ли чекистам завладеть паролем и явками? - Но старые явки недействительны, следовательно... Мужчина внезапно остановился, будто упал с разбегу... - Милый, ты никогда не доводишь свои мысли до логического конца, капризно выпятила пухлую нижнюю губку Никитина. - Из предосторожности я сказала, что я вовсе не Никитина... - О боже правый! - истерично вскрикнул мужчина, и щека его задергалась в нервном тике. - Есть ли у нас время играть в Шерлоков Холмсов, когда нужно действовать, выступать, когда самая ближайшая ночь должна стать варфоломеевской и когда трупы большевиков должны быть сброшены в Волгу! - Успокойся, милый, - Никитина нежно провела узкой ладонью по его крупной, аккуратно причесанной и напомаженной голове. - Я всем сердцем разделяю твое нетерпение, но неужели ты забыл инструкцию Бориса Викторовича о конспирации? - Я не забыл! - свистящим шепотом выпалил мужчина. - Но где он сам, где он, этот элегантнейший, галантнейший и мудрейший Борис Викторович, этот провидец?.. - Ну зачем же с такой злой иронией повторять мои слова? К тому же ты прекрасно знаешь, сколько у него забот: Ярославль, Муром, Рыбинск... Никитина обняла Иосифа за шею, но он отвел ее руку. - И как бы ты ни торопил события, я все же настаиваю на предварительной проверке этих людей, прежде чем мы допустим их к нашему штабу. Имею я на это право, милый Иосиф, и как супруга бывшего министра и как ответственная связная организации? И в конце концов, хотя бы как женщина?.. - Хорошо, - после некоторого молчания с досадой согласился Иосиф. Только, ради всего святого, быстрее... Никитина поцеловала его в покрытый нервной испариной лоб и вышла из спальни, плотно прикрыв за собой дверь. Она вернулась в гостиную, когда Калугин и Мишель еще завтракали. - Вот теперь я со спокойной душой могу присоединиться к вам, - Голос Валентины Владимировны звучал почти нежно. - И перво-наперво поднять тост за успех нашего дела. Они чокнулись. - Как говорят у нас на Кубани: давай выпьем, кума, тут - на том свете не дадут, - ввернул Калугин. Валентина Владимировна расхохоталась. - Поговорка ваша, господин Свиридов, откровенно говоря, не ласкает слуха, но в ней - истина! - воскликнула Валентина Владимировна и осушила рюмку. - Итак, господа, я сведу вас с нужными вам людьми. Вам придется отправиться на правый берег Волги. Там живописнейшее дачное место... - Пейзажами не интересуемся, - с иронией сказал Калугин. - Но с приятными людьми куда приятнее встречаться на природе, - шутливо возразила Никитина. - Трамваем вы доедете до перевоза. Там от шести утра до восьми вечера ходит пароход через каждый час пятнадцать минут. Переезд продолжается около получаса. Обогатитесь незабываемыми впечатлениями. Она назвала адрес и добавила: - Я тоже появлюсь там. Но, разумеется, хотя и смертельно жаль расставаться, нам придется добираться туда раздельно. Мишель, перед тем как покинуть гостиную, попросил: - Не будете ли вы, милейшая Валентина Владимировна, столь любезны, что позволите мне притронуться к клавишам вашего пианино? Всего две минуты... - Вы играете? - крылатые дуги бровей Валентины Владимировны радостно встрепенулись. - Прошу вас. Мишель полистал ноты. Чайковский, Григ, Шопен... Ну конечно, он сыграет Шопена! Мишель тихо, будто к чему-то нежному и хрупкому, прикоснулся к клавишам. Они ответили благодарно и искренне, как старому, доброму другу. Он играл, а перед глазами всплывала апрельская ночь, Дзержинский в нетопленой комнате, его слова: "Честное слово, с октября семнадцатого я еще никогда так чудесно не отдыхал, как этой ночью..." Всплывало сияющее лицо Юнны... Калугин слухгал и думал о том, что он не ошибся, согласившись взять Мишеля с собой. Крепнущее чувство дружбы сейчас становилось незаменимым и нерасторжимым, каким оно бывает у людей, знающих, что от каждого шага зависит не только их собственная жизнь, но и их дело. - Божественно... - прошептала Валентина Владимировна, и ее глаза засверкали. - Божественно... Она сопоставляла сейчас Мишеля с Иосифом и думала о том, что Иосиф бледнеет и меркнет в сравнении с ним. И еще у нее мелькнула мысль: конечно же, этим людям можно довериться. Разве может кто-либо из заводских парней, из лапотников, пришедших работать в Чека, разбираться в музыке, так вдохновенно исполнять Шопена?! "И все же нужно проверить, проверить, проверить..." - упрямо нашептывал ей внутренний голос. Через три минуты в гостиной снова царила тишина. Калугин и Мишель, не мешкая, направились к перевозу. Пристань встретила их оживленным гомоном людей, ждущих парохода, свежестью воды, острым запахом соленой рыбы. Пароходишко был дряхлый, скрипучий. Он долго, будто нехотя, причаливал к пристани, пыхтел и жалобно, по-детски беспомощно вскрикивал тоненьким гудком. Мишель видел Волгу впервые, но любоваться зелеными берегами, солнцем, льющим в воду золотой поток расплавленных лучей, песчаным бархатом оголенных отмелей было некогда. Он, не показывая виду, что кого-то хочет приметить, искал глазами Ковалькова. У него отлегло от сердца, когда увидел молодого чекиста на корме, в самой гуще торговок и дачников. - Все в порядке, - шепнул он Калугину. Дача, на которую их направила Никитина, была и в самом деле живописной. Она стояла на крутом берегу небольшого пруда. Сосны и березы смотрелись в воду, и чудилось, что их верхушки упираются в самое дно. К изумлению Калугина и Мишеля, их встретила Никитина. Трудно было попять, как ей удалось опередить их. Видимо, она успела уехать предыдущим рейсом, пока они тащились трамваем и искали пристань. В просторной, небрежно обставленной комнате с большим голландским окном их ожидал толстый, обрюзгший человек с бесцветными бровями и округлым подбородком с ямочкой. Круглое, доброе лицо его дышало благодушием. Он заботливо осведомился, как московские гости доехали, как они себя чувствуют и не нуждаются ли в отдыхе. Тенорок его булькал ручейком надоедливо и усыпляюще. И вдруг он, не меняя доброжелательного выражения своего пухлого лпца, тем же заботливым, почти ласковым, приторным голоском спросил: - Итак, господа, сколько вам платят в Чека за вашу работу? Мишель не успел что-либо сказать, как Калугин рывком выхватил из кармана маузер. - Провокатор, мать твою... Русских офицеров позорить!.. Толстяк попятился, закрываясь поднятыми на уровень лица пухлыми ладонями, будто ото могло спасти его от пули. - К чертовой бабушке эти провокации, к черту шантаж! - вскипел Калугин. - Мы не позволим... Полковнику Перхурову будет доложено... - Господа, миленькие, к чему эти распри, - елейно проговорила Никитина. - Иван Ннканорович, что это вы? Вам надобно извиниться. - Но вы же... вы же сами... - Сейчас не время оправдываться, - резко оборвала его Никитина. Послушайте лучше, что рассказывают паши дорогие гости. - Я с удовольствием отрекаюсь от подозрений... Это пе более чем шутка... Примите, господа, мои уверения... Мишель почти слово в слово повторил то, что рассказывал в гостиной. Толстяк удовлетворенно кивал головой. - Вся беда наша в разногласиях, - подчеркнул он. - Одни трубят сбор и зовут к оружию сегодня, сейчас, сию же минуту. Вторые настаивают на тщательной подготовке, а третьи ждут, пока рак на горе свистнет. - Рак не свистнет, господа, - пробасил Калугин, стукнув рукояткой маузера по столу. - И мы не позволим лежать на печи и ждать этого свиста. Надо трубить сбор - и немедля, пока в Казани Чека не сделала то, что сделала в Москве. - Вы, конечно же, господа, не раз встречались с Борисом Викторовичем, утвердительно сказал толстяк, выслушав Мишеля. - И потому мы с должным уважением отнесемся к тем инструкциям, которые вы нам передадите. Кстати, мы все так переживаем за состояние его здоровья. Вероятно, он за эти мучительные дни поседел еще более, чем прежде? - Мы привезли не инструкции, а приказы, Иван Никанорович, или как вас там величать, - рубанул Калугин. - Не надо забывать, что мы с вами состоим, пардон, не в бардаке, а в военной организации. Эти приказы я обязан немедленно передать главному штабу, а вы нас маринуете вот уже целый день. Если так и будет продолжаться - адью, господа! Но вся ответственность ляжет на тех, кто ставит нам палки в колеса. - Что же касается Бориса Викторовича, о котором вы столь трогательно заботитесь, - добавил беспечным тоном Мишель, - то он, как всегда, бодр, крепок, и, как прежде, так и теперь, в его волосах нет ни единой сединки. - Благодарю вас, господа, за исключительно обстоятельную и ценную информацию. И, ради всевышнего, пе гневайтесь на нас: это не болезненная мнительность, а всего лишь естественный инстинкт самозащиты. - Толстяк становился слащав до приторности. - Ваша добрая фея Валентина Владимировна сегодня же вечером сведет вас с людьми, от которых зависит судьба казанской организации, и вы получите полную возможность исполнить данное вам поручение. Калугин и Мишель встали, по-военному вытянулись в струнку и откланялись. - Подождите меня в саду, - проворковала Валентина Владимировна. - Я приду к вам тотчас же. Едва они вышли, как Валентина Владимировна горячо и зло зашептала толстяку: - Ванечка, нельзя же так по-топорному, я рассчитывала на тебя, а ты выплеснул свои подозрения, едва завел разговор. Тоньше все это надобно, батенька, тоньше... Но, разрази меня гром, я в восторге от этого Свиридова. Он жесток, властолюбив, непреклонен. У такого рука не дрогнет. Такие, как он, спасут Россию... - Во второго, этого а ля Дантес, вы уже, разумеется, втюрились? - не без ехидства спросил толстяк, надеясь хоть бестактностью отплатить ей за то, что она отчитала его, как мальчишку. Но Валентина Владимировна не смутилась, в ответ она иронично заметила: - Вы, как всегда, провидец. Но не о том речь сейчас. В десять вечера я приведу их на заседапие штаба. А до этого проверять, проверять и проверять... В саду ветер бился в листьях, на пруду скрипели уключины лодок, с Волги долетал басовитый гудок буксира. Калугин покосился на Никитину. Она успела сменить свой наряд и в легком ярком платье выглядела девчонкой. - Уже вечер, а как жарко и душно! - вздохнула Валентина Владимировна, обмахиваясь японским веером. Солнце садилось. Кровавый закат горел в пруду и медленно угасал. - Дождемся полной темноты и пойдем, - шепнула Никитина. - Покурим? Они сидели на берегу, курили. Калугин и Мишель думали о том, что наступает самый ответственный момент в их поездке. Не передумает ли Никитина, не заподозрит ли неладное? - Как все-таки здесь чертовски скучно, - заговорила Никитина. Петроград милее моему сердцу. Родные улицы, родные люди. Столько знакомых и близких! Вы знаете Бредиса? Калугин сосредоточенно молчал, будто занятый своими мыслями. На самом деле оп старался вспомнить, знает ли он Бредиса? - Арнольда Святославовича, полковника? - наугад спросил Мишель. - Нет, Фридриха Андреевича, - сказала Никитина. - Какой это душевный и волевой человек! Вот у кого учиться ненависти к большевикам! Она еще долго с упоением рассказывала о Петрограде, о тройках, мчащихся в снежном вихре, об ослепительных балах, о красавцах мужчинах, неизменно влюблявшихся в нее. Взглянув на часы, она объявила, что пора идти. Тихими, безжизненными переулками, тонувшими в темных объятиях деревьев, они пришли к перевозу. Стало свежо. Пароход уныло шлепал лопастями колес. Будто из загробного мира, звенели склянки. Когда они сходили по трапу, Мишель увидел, как мимо прошмыгнул Ковальков. Переправившись на левый берег, они долго пробирались по кривым немощеным улицам, пока не попали в глухой двор, намертво окруженный высоким деревянным забором. - Здесь, - сказала Никитина. - Идите за мной, я вас представлю. Калугин чиркнул спичкой, прикурил и, воспользовавшись тем, что Никитина идет впереди и не видит его, поднял руку и сделал над головой несколько кругообразных движений. Уголек папироски ярко очертил в окне стремительные огненные дуги. Это был сигнал для Ковалькова. Никитина ввела их в большую, слабо освещенную комнату. К громадному столу, словно ракушки, приросли переодетые офицеры. Никитина обвела всех многозначительным, торжествующим взглядом и представила их собравшимся. При слове "Москва" все оживились, напряженно и с надеждой всматриваясь в прибывших гостей. Калугин и Мишель молчали. Им надо было специально тянуть время, чтобы Ковальков с красноармейцами успели оцепить дом. Калугина так и подмывало без лишних слов ахнуть в это сборище гранатой, но он сдерживал себя. - Господа, - наконец начал Калугин зычным басом - Тот, кто смотрит на нас и думает, что мы прибыли сюда произносить красивые речи, не дождется их: настала пора стрелять, а не трепать языком! - возвысил он голос, и в каждом его слове звучала нетерпимость к любым возражениям. - Иначе нас поодиночке перебьют как собак. И кто тут среди вас, хотел бы я знать, еще подвывает из подворотни, скулит, что, мол, подождем? Кто желает дрыхнуть под теплым одеялом в обнимку с бабами и кого пе тянет на улицу, где пахнет порохом и где черепок могут запросто разнести вдребезги большевистской нулей, тот пусть вытряхивается из наших стальных рядов! - Он передохнул и добавил уже чуть мягче, видя по лицам, что речь его производит нужное впечатление, хоть и коробит кое-кому слух: - Вы, господа, меня извиняйте, но я любезностям не обучался. Я солдат и приучен к окопам и пулям, а не к краснобайству. Никитина слушала его с восторгом. Толстяк с дачи, видимо игравший в этой компании одну из главных ролей, в такт словам Калугина кивал круглой, оплывшей головой. Слева от него сидел подтянутый стройный офицер с квадратными плечами. В черных глазах его разгорались по-волчьи злые огоньки. Мишель, видя, что Калугин разошелся и может наломать дров, решил предотвратить неприятности и встал из-за стола. - Прежде всего, господа, в полном соответствии с данными нам Николаем Сергеевичем инструкциями, мы просили бы вас проинформировать о состоянии дел и ближайших планах организации. Согласитесь, что это значительно облегчит нашу миссию и, возможно, отпадет необходимость навязывать вам свою волю. - Господа, мы совсем забыли о традиционном русском гостеприимстве, засуетился толстяк. - Я сейчас распоряжусь, чтобы принесли сладкого чая и свежих булочек. - И он с удивительным проворством выскочил из-за стола. Тут же двое юношей, видимо гимназисты, внесли окутанный паром самовар. Никитина палила чай гостям, подчеркивая этим перед всеми свою близость к важным московским посланцам. Началось чаепитие. Офицер с черными злыми глазами, отвечая на требование Калугина, встал и начал докладывать: - В Казани сейчас размещено семьсот членов нашей организации. Основная масса людей расквартирована на дачах Верхнего уклона и в меблированных комнатах на Устье. Оружие - в достаточном количестве. Настроение у господ офицеров в высшей степени боевое, но мы имеем претензии к московскому штабу. Вы присылаете нам самые противоречивые указания. Мы не можем вполне доверять тем, кто прибывает из Москвы и страдает манией величия. Не волнуйтесь, господа, вожди найдутся и у нас! В этот момент с улицы донесся сухой щелчок выстрела. Несколько человек метнулись к окнам и, приоткрыв шторы, прижались лбами к стеклам, пытаясь разглядеть, что там происходит. - Спокойствие, господа, - свистящим шепотом произнес офицер со злыми глазами. - Во дворе выставлены посты, и на них можно смело положиться. - А мы и не волнуемся, - невозмутимо возразил Калугин. - Мы только видим, что вожди у вас митинговать горазды... Он знал: выстрел - сигнал о том, что переулок уже оцеплен красноармейцами. Мишель не спускал глаз с офицера со злыми глазами. "Наверное, таким же волчт.им, ненавистным взглядом способен он смотреть и на друга, и на врага, и даже на свою мать", - подумал Мишель. И в этот момент увидел, как один из молодых мужчин, придвинувшись к офицеру, что-то прошептал ему. Офицер, напряженно выслушав его, вскочил на ноги: - Прошу секунду внимания, господа. Мне доложили, что наши уважаемые гости - люди, которым можно всецело доверят.. У меня на этот счет пет никаких сомнений. Но разрешите задать всего лишь один вопрос: кто из вас, господа посланцы Москвы, читает стихи в кафе "Бом", что на Тверской? И кто... Калугин не дал ему докончить, выхватил из кармана гранату, угрожающе занес ее над головой и рявкнул: - Ложись, семь кругов ада! Иначе взорву со всеми потрохами. Все в ужасе прижались к столу. Офицер со злыми глазами упал на пол и, дико оглядываясь на зажатую в кулаке Калугина гранату, пополз к двери. Через минуту в комнату ворвались красноармейцы. - Сдать оружие! - приказал Ковальков, радостно переглянувшись с Мишелем. Возле самого уха Калугина взвизгнула пуля. В компате выстрел прозвучал оглушительно громко. Мишель подскочил к стрелявшему: это был знакомый толстяк. - Пощадите... - заикаясь, пробормотал он. - С перепугу... Нажал на спуск... - Ну вот, спектакль закончен, - подвел итог Калугин. - Объявляю всех арестованными. Вы находитесь в руках ВЧК. - Но вы же играли... Шопена! - прошептала Никитина, безумными глазами глядя на Мишеля. - Я, - подтвердил Мишель. - Господа! - жалобно воскликнул высокий и тонкий как жердь офицер. - Мы их сладким чаем... А они... Как же это, господа?!21
Проникнуть в Большой театр и побывать на открывшемся там съезде Советов - таково было задание, полученное Юнной от Велегорского. Он подчеркнул, что, разумеется, материалы съезда будут публиковаться в печати, но крайне важно подробнее узнать то, чего не сможет или не захочет сообщить самая откровенная газета. Главное, как он выразился, подышать воздухом съезда, уловить тот особый его настрой; это поможет их группе точнее и лучше ориентироваться в бурном потоке событий, быть постоянно "на взводе" и, в зависимости от складывающихся обстоятельств, своевременно определить свою роль в этих событиях. Велегорский решил не говорить Юнне, что Савинкова крайне- интересует позиция левых эсеров. Юнна осторожно спросила Велегорского, не слишком ли будет рискованно появляться на съезде. Опасности еп не страшны, но можно поставить под удар всю группу. - Риск - наши крылья! - не без патетики воскликнул он, тут же намекнув, что такова не только его личная воля. - Хорошо, - сказала Юнна, - я попробую достать пропуск. Кажется, одна из маминых знакомых работает в "Метрополе". - Большевичка? - встревожился Велегорский. - Боже упаси, - успокоила его Юнна. - Левая эсерка. - Ну, это еще куда ни шло, - Велегорский весело подмигнул Юнне. Действуйте. На следующий день Калугин знал об этом разговоре. "А что, это нам на руку", - подумал он, решив, однако, заручиться согласием Дзержинского. Феликс Эдмундович, выслушав Калугина, велел выдать Юнне гостевой пропуск. - Кроме всего прочего, товарищу Ружич это будет полезно, - сказал он. На съезде выступит Владимир Ильич. Да и левых эсеров послушает. Истина познается в сопоставлении... Жарким июльским дном Юнна вышла из "Метрополя" на Театральную площадь. Несмотря на явную несхожесть, и этот летний день, и памятный осенний вечер, в который она примчалась на баррикаду, в чем-то были родственны между собой. Не потому, что на улицах все еще были видны следы октябрьских боев, что часть крыши "Метрополя" провалилась от попавшего в пего артиллерийского снаряда и что в доме на углу площади черной обгорелой раной зиял сквозной пролом. Схожим было пастроение. И хотя с осени в жизни Юнны произошли крутые перемены, сознание того, что она тогда интуитивно, а теперь осознанно становилась частичкой общей борьбы, захватило ее целиком, заряжало уверенностью и мужеством. Юнна только что пообедала в столовой Дома Советов. Там она получила крохотную миску жидкого супа из перловки, горстку жареного картофеля и кусочек вареной конской печенкп. Обед, можно сказать, был царский, и, хотя к нему полагался лишь ломтик черного, вязкого, как глина, хлеба, Юнна была довольна. К подъезду Большого театра она пришла около полудня. Вход осаждала толпа делегатов в кожанках, солдатских гимнастерках, неказистых рабочих куртках. Нетерпеливые старались поскорее пробиться в открытую дверь. Но часовые не спеша, тщательно проверяли пропуска. Лица делегатов были серьезны, те, кто попал в Москву впервые, с любопытством рассматривали бронзовую квадригу Аполлона. Юнна стала в сторонке, ожидая, когда схлынет толпа, и невольно услышала разговор двух мужчин, прислонившихся к колонне. - Жарковато, - невесело сказал кряжистый человек в обшитых кожей галифе. - Жарища, видать по всему, будет на съезде, - восторженно предположил высокий, с впалыми, как у чахоточного, щеками собеседник. - А помнишь Третий съезд Советов в Петрограде? В Смольном на полу спали, на соломке. А здесь - кровати, простыни. Чуешь перемену? - Чую, чую, - подхватил высокий, - ловкач ты, братец: одним камнем двух собак разогнал. Я тебе про Ерему, а ты про Фому. Чем закончился их разговор, Юнна не услышала, но слова "жарища, видать по всему, будет на съезде", которым поначалу она не придала значения, не раз вспоминались ей. Партер и все ярусы Большого театра были уже переполнены, и Юнна с трудом нашла себе место во втором ярусе с правой стороны. Отсюда хорошо видна была сцена, еще безлюдный стол президиума и почти все ряды партера. Сейчас, пока заседание еще не началось, трудно было понять, кто из делегатов большевик, а кто левый эсер. Юнне казалось, что все пришли сюда как единомышленники. После двенадцати часов дня к столу президиума, надвое рассекая пустое пространство сцепы, прошел невысокий черноволосый человек в пенсне. Он шел твердо и уверенно, как ходят люди, знающие, что их ждет нелегкая работа, и готовые решительно взяться за нее и отвечать за результаты. По рядам гулким ветерком пронеслось: "Свердлов!" Свердлов приблизился к председательскому месту, взял звонок с длинной деревянной ручкой и несколько раз энергично встряхнул его, призвав делегатов к вниманию. Голос у него был глубокий, грудной, и Юнна удивилась, что такой невысокий, щупловатый человек говорит так раскатисто и звучно. В облике Свердлова - и когда он шел к столу, чтобы открыть съезд, и когда, оглядев зал, бросил в него первые слова - в единое целое сливались невозмутимое спокойствие и кипучее вдохновение. Твердо опершись сжатыми пальцами о стол, он объявил заседание открытым. Сцена быстро заполнилась членами президиума. Почти всех, кто усаживался за стол в президиуме, Юнна видела впервые. Она спокойно скользила взглядом по их лицам, не останавливаясь на ком-либо в особенности. По соседству с Юнной сидели два крестьянина - деревенский парень в косоворотке и благообразный старик с окладистой бородой. - Слышь, а что там за баба такая? - спросил парень. - Где? - Да за столом расселась. - Пень еловый, - накинулся на парня бородач. - Да ежели ты желаешь уразуметь, этой бабе цены нету. Спиридонова она, Мария. - Спиридонова? - равнодушно процедил парень. - Не слыхал. Бородач покосился на Юнну и, понизив голос, сказал: - А вот как хлеб у тебя из амбара подчистую выметут - услышишь! - Ты, батя, не в ту дуду... - Не в ту... Из тебя продотряд душу вытягал? Нет? Оно и видать Вся надежда на Марию. Заступница мужицкая... В этот момент Юнна увидела женщину, сидящую в президиуме, о которой говорил бородач. Во всем ее облике было что-то от человека, огромным усилием воли подавляющего в себе какое-то неукротимое желание. Теперь уже Юнна не видела никого, кроме этой женщины в черном платье с глухим стоячим воротником. И хотя была громадная разница между тем, какой она представляла себе Спиридонову - красивой, молодой, жизнерадостной, и тем, какую увидела в действительности - страдальчески хмурую, сухую и нервную, эта разница вызывала в душе Юнны не разочарование, а тихую, щемящую жалость. "Как он сказал, этот бородач? - думала Юнна. - Ах да, "заступница мужицкая". И тут наперекор этим мыслям ожили слова Дзержинского. Он посоветовал тогда, во время встречи: "Прочитайте вот эту речь Ильича. И сравните с речами Спиридоновой". "Хорошо, - сказала она, - но разве у них есть расхождения?" "А вы почитайте", - повторил Дзержинский. Речь Ленина Юнна прочитала той же ночью. Один раз, потом второй, третий. Долго не могла заснуть - и потому, что ее взволновала ленинская мысль, и потому, что каждый раз открывала в ней для себя все новое и новое... Да, но от кого же она, Спиридонова, защищает мужиков, от кого? Юнна плохо знала деревню. Больше того: почти совсем ее не знала. В детстве она ездила гостить к своей тете, поселявшейся на лето в деревушке вблизи Тарусы. Юнне запомнились солнечные лесные поляны, звонкие песни березовых рощ, чистые, как синева небес, ручьи в овражках. Запомнилась петляющая тропка среди ржаного, пахнущего свежим хлебом поля, волнующее и пугающее неизвестностью колдовство кукушки, тихая пыль над дорогой в отблесках вечерней зари. Эти воспоминания были светлы и приносили радость, но жизни крестьян Юнна не знала. Думы Юнны были прерваны шквалом аплодисментов. Делегаты вскочили с мест. Юнна никак не могла понять, кому аплодируют. Спиридонова стояла недвижимо, словно монумент, лишь пальцы, вцепившиеся в край стола, выдавали ее волнение. "Это ей аплодируют?" - подумала Юнна и в тот же миг услышала чей-то восторженный, радостный возглас: - Ленину - ура! Юнна была уверена, что Ленин займет место в самом центре стола, за которым сидел президиум. Но увидела его в сторонке, неподалеку от трибуны. Ленин положил на колени блокнот и что-то быстро писал. Казалось, оп всецело поглощен своими записями и не обращает внимания на то, что происходит в зале. Свердлов предоставил слово Марии Спиридоновой. Она подошла к трибуне по-мужски твердой, резкой походкой. Свою речь Спиридонова начала взрывчато и ярко. Начало захватило Юнну: "Так говорят только убежденные в своей правоте люди". Завороженная страстностью ее голоса, Юнна не заметила, что уже в первых словах Спиридоновой отчетливо прозвучали истерические нотки. - Мы не знаем до сих пор, каковы результаты тех декретов, которые с такой щедростью издавало правительство! - все более распаляясь, воскликнула Спиридонова. - Наша фракция предлагает всем, кому эти декреты кололи спину, резали шею, всем голосовать, чтобы в порядок дня были включены доклады с мест. Слова "кому эти декреты кололи спину, резали шею" Спиридонова произнесла с вызовом и надрывом. Раздались нестройные, торопливые хлопки, и Юнна заметила, что Спиридоновой аплодировала только правая часть партера, а левая возмущенно и осуждающе гудела. Театр разделился на два лагеря. Левых эсеров было значительно меньше, чем большевиков, и недостаток в количестве они старались восполнить истошными криками, ожесточенными хлопками, топотом ног. Как Юнна пи старалась, речь Спиридоновой она не могла воспринять как единое целое. Она явственно слышала лишь те ее фразы, на которые бурпо реагировал съезд. - Две партии поссорились, а у крестьян летят чубы! - бросала во взбудораженный зал Спиридонова. - Город крестьян с голоду уморил! - истерично выкрикнул кто-то с правой стороны партера. - Я, в искренности которой вы не можете сомневаться, потому так яростно иду против большевиков, что товарищи большевики изменили крестьянам! бросила в зал Спиридонова заранее приготовленную фразу. "Против большевиков?" - изумилась Юнна. - А вы работали на полях? - отчетливо, с издевкой прозвучал вопрос с левой стороны партера. Реплика окончательно взорвала Спиридонову. Она всмотрелась в зал темными полубезумными глазами, словно хотела во что бы то ни стало увидеть того, кто задал вопрос, и, не найдя его, с угрозой воскликнула: - Если будут терзать крестьян, в моих руках будет тот же револьвер, который я подняла на палачей народа! Левые эсеры заглушили ее последние слова вихрем аплодисментов и восторженных выкриков. - Слыхал? - торжествующе спросил бородач парня. - Заступница, вот те христос, заступница. "Что-то еще стоит за ее угрозой, - подумала Юннаг чувствуя, как крепнет зародившаяся неприязнь к Спиридоновой. - Что-то личное, тайное, чего Спиридонова не хочет сказать и не скажет". Последующий поток выступлений ошеломил Юнну многообразпем проблем и лозунгов, которые без всякой последовательности и видимой связи рождались в речах делегатов. Брестский мир и революционная война; правомерность смертной казни изменников и врагов революции; требование- левого эсера Карелина избрать мандатную комиссию на паритетных началах и разоблачить козни большевиков, которые якобы умудрились прислать на съезд больше делегатов, чем имели на то право, и не менее решительное требование отклонить эти наглые домогательства Карелина; внеочередное заявление о том, что в частях Красной Армии, находящихся в Курской губернии, левые эсеры подбивают красноармейцев немедленно идти в наступление на немцев, оккупирующих Украину; и утверждение, что левые эсеры и дальше будут вести такую же агитацию, пока не добьются своего, - все эти и другие вопросы переплетались между собой, вступали в непримиримую схватку. Поначалу Юнне казалось, что самые противоречивые доводы ораторов одинаково неотразимы. Делегаты-большевики говорили, что порвать мир с немцами - значит обречь революцию на гибель, предать Советскую власть, а делегаты левые эсеры утверждали, что революция погибнет, если тотчас же не пойти в наступление на немцев. Вроде бы были правы и те и другие. И лишь когда выступил левый эсер Камков, она, кажется, впервые почувствовала, кто прав и кто виноват. Камков - человек с жиденькой бородкой, растрепанными волосами, с лицом, несущим на себе кричащий отпечаток страдания, сдобренного жестокостью и подозрительностью, - говорил настолько поспешно, что слова его с почти ощутимым пронзительным скрипом сталкивались друг с другом. - Трусы - в кусты, герои - в атаку! - воскликнул он. - Мы именуем это здоровой революционной психологией! Да, да, именуем, хотя кому-то это режет уши! Это психология тех, кто не поставлен на службу Вильгельму! Этого каинова дела, на которое вы, - Камков указал пальцем в ту часть зала, где сидели большевики, - толкаете, они, - теперь он ткнул пальцем в левых эсеров, - не поддержат, они не будут слепыми свидетелями того, как рукой германского разбойника, рукой палачей, которые сюда явились, тех мерзавцев, грабителей, разбойников... Камков задыхался, судорожно искал слова и, не в силах больше продолжать, вдруг навалился грудью на трибуну и взметнул рванувшуюся из рукава пиджака костлявую, немощную руку с пальцами, намертво сжатыми в уродливый, узловатый кулак. И то, что сам Камков был маленький и тщедушный, а кулак большой, будто принадлежащий другому человеку, придало этому жесту оттенок комичности и неправдоподобности. Тотчас же Камкова поддержала правая часть партера: "Долой Мирбаха!", и Юнна поняла, что угроза оратора адресована германскому послу и что, вероятно, он присутствует здесь. Она посмотрела в ту сторону, куда был направлен кулак Камкова, и в просторной ложе увидела высокого, крупного, прямо и неподвижно сидевшего там человека, одетого в расшитый золотом мундир. Юппа не знала, был ли то Мирбах или другая важная персона из германского посольства. Суровая неподвижность этого человека подчеркивалась еще и тем, что сидевший чуть позади него худощавый молодой человек в безукоризненном черном костюме был весь само движение. Он стремительно переводил взгляд со сцены в партер и поспешно, едва ли не в самое ухо, что-то говорил высокому, всякий раз привставая со своего места. Вероятно, он не только переводил речи ораторов, но и успевал сообщить высокому о том, как на эти речи реагирует съезд. Даже в тот момент, когда левые эсеры завопили "Долой Мпрбаха!", важный немец сидел с таким видом, будто все эти выкрики не имеют к нему никакого отношения. Взгляд его был по-прежнему неподвижен, холоден и бесстрастен. Более того, чем сильнее неистовствовал партер, тем неподвижнее и с большим достоинством восседал в ложе высокий немец. Спокоен он был лишь внешне: напряженно мыслил, сопоставлял, спорил сам с собой, возбужденно воспринимал все, о чем говорилось с трибуны, и, пытаясь как можно точнее и безошибочнее определить расстановку политических сил и возможные непредвиденные изменения в ней, пунктирно намечал план своих дальнейших дипломатических демаршей. Все, что окружало его здесь, в театре, было для него чужим и ненавистным, но он был дипломатом, и не без гордости думал о том, что, даже находясь здесь, в самом сердце России, способен владеть собой и сохранять то особое, вызывающее уважение достоинство, которое всегда отличает прирожденного мастера дипломатической школы. Конечно, не без сожаления думал он, Москва не европейская столица, не Афины и не Лондон. Воспоминания о прошлом, даже более горьком, чем настоящее, всегда содержат в себе нечто трогательное. Воспоминания же о Европе были более чем светлыми и трогательными. Но он отлично знал, что дипломату, какой бы мудрой головой он ни обладал, не сделать карьеры в стране, где политический барометр всегда показывает "ясно". Только там, где назревает или разражается буря, где скрещиваются интересы многих государств, только там дипломату уготовано знаменитое "или грудь в крестах, или голова вкустах". Он, немецкий дипломат, решил испытать судьбу и не сожалеет об этом. Правда, в германское посольство все чаще и чаще поступали сигналы о том, что на Мирбаха готовится покушение, но кто станет утверждать, что жизнь дипломата всегда может находиться в полной безопасности? Сигналы эти тотчас же передавались в Берлин, и, разумеется, это не могло не поднять цену германского посла и германских дипломатов в России в лице тех, кто держит в руках бразды правления. Кроме того, слухи о покушении можно с успехом использовать для нажима на Советское правительство. Шаги в этом направлении германским посольством уже предпринимались. Еще в июне посольство передало в Наркоминдел список адресов, по которым проживают террористы, готовящиеся к покушению на Мирбаха. Этот список, как и следовало ожидать, попал к Дзержинскому. В одной из квартир на Петровке чекисты тотчас же произвели обыск. Был задержан англичанин Уайбер. В его книгах нашли шесть шифрованных листков, но все улики были уж слишком детскими, наивными, и Дзержинский пришел к выводу, что кто-то шантажирует и ВЧК и германское посольство. Он сказал об этом на встрече с доктором Рицлером и лейтенантом Мюлером. Доктор Рицлер заявил Дзержинскому, что ВЧК сквозь пальцы смотрит на заговоры, направленные против безопасности членов германского посольства. Дзержинский ответил, что это клевета. Что ж, Рицлер безупречно выполняет полученные им указания и, что очень ценно, никогда не подчеркивает свою ученость, не напоминает, что он - философ, публицист, автор книг по вопросам мировой политики, и вообще не кичится, предпочитая молчать и точно выполнять волю своего начальника. Он, Рицлер, недурно сыграл роль в разговоре с Дзержинским. Цель достигнута: Советы предупреждены, и, если посольству будет угрожать опасность, Германия вправе защитить его всей своей вооруженной мощью. Мощь Германии... Что может противопоставить этой мощи нищая Россия, вот эта бесформенная масса людей, раздираемая противоречиями, кричащая, метущаяся, впадающая в истерику масса, которая не более чем на историческое мгновение смогла завладеть и этой сценой, и Москвой, и Россией. Пусть себе беснуются эти люди там, внизу, в партере. Придет время, и они поймут, что по ошибке заняли чужие, не принадлежащие им места! Мирбах (это был он) ушел в свои мысли и не заметил, как Камков покинул трибуну. Мирбах перевел взгляд на Ленина, и тут же в его памяти возник день, в который он впервые посетил Кремль и нанес визит главе Советского правительства. День был яркий, солнечный, и Мирбах обрадованно подумал о том, что это счастливый признак - дипломатическую деятельность в красной столице он начинал весной. В Кремле все дышало стариной: и Чудов монастырь с крохотными решетчатыми окнами, и какая-то древняя церквушка, и даже памятник Александру II, и это не только умилило Мирбаха, но и придало уверенности, что Россия не изменится, не разочарует тех, кто жаждет видеть ее такой же, как прежде. Красноармеец подле кабинета Ленина сидел за столиком и читал книгу. Увидев Мирбаха, он встал, проводил его спокойным, ясным взглядом и снова сел, углубившись в чтение. "Специально подготовленный спектакль", подумал Мирбах. Уж слишком старательно демонстрировал красноармеец свою любовь к чтению. Не держит ли он книгу вверх ногами? Беседуя с Лениным, Мирбах нет-нет да и возвращался мысленно к этому парню, а выйдя из кабинета после аудиенции, против своей воли остановился у столика и, ни слова не говоря, взял книгу у красноармейца, осмотрел ее, полистал и попросил переводчика перевести ему заглавие. - Август Бебель. "Женщина и социализм", - мгновенно выполнил желание посла переводчик. Да, тогда он сделал вид, что в этом нет ничего особенного - русский солдат читает Бебеля. Все правильно, все естественно, в порядке вещей. Но, усевшись в машину, полностью отдался невеселым думам. Кажется, не следует обманывать себя - не так уж слаба и беспомощна эта Россия, если простой солдат, едва познав грамоту, читает Бебеля. Правда, он видел лишь одного такого солдата, но он, Мирбах, дипломат, и ему ли не понимать: это не случайный штрих, нет. Если власть большевиков надолго, то все они, безграмотные и нищие, с безудержной жадностью рванутся в поход за знаниями, сменят штык на книгу. И тогда... Тогда с ними не так-то легко будет справиться... Между тем атмосфера на съезде все накалялась и накалялась. В сплошном гаме не было слышно звонка председательского колокольчика. Ораторы подолгу стояли на трибуне молча, надеясь, что установится хотя бы относительная тишина, но стоило им произнести хоть слово, как все повторялось сначала. Юнпа увидела, что высокий человек в полувоенном фрепче подошел к Ленину и обменялся с ним несколькими фразами. Потом этот человек что-то быстро написал на бумажке и передал сидевшему на самом краю члену президиума. Записка пошла по рукам и наконец очутилась у Спиридоновой. Та, прочитав ее, пожала плечами, как бы удивляясь наивности и предвзятости того, что было написано. Потом она поднялась со своего места и, будто понуждая себя, ушла за кулисы. Человек, говоривший с Лениным, а затем вызвавший из президиума запиской Спиридонову, был Бонч-Бруевич. Он сказал Владимиру Ильичу, что страсти дошли до предела и что нужны какие-то меры. Ленин, понимающе взглянув на него, посоветовал переговорить со Спиридоновой. Бонч-Бруевич так и сделал. Дождавшись Спиридонову, он попросил ее повлиять на левых эсеров. - Ничего не попишешь, - жеманно улыбаясь, ответила Спиридонова. - Наши ребята - революционеры, а не слюнтяи. Я бессильна. - Товарищ Спиридонова, - настаивал Бонч-Бруевич, - вы же самый влиятельный член ЦК вашей партии. Только вы и способны разрядить атмосферу, ваши собратья слушают вас беспрекословно. Нельзя же доводить дело до взрыва. Спиридонова пообещала что-либо предпринять. Она долго вела переговоры со своими однопартийными. Те немного утихомирились. Юнна послушала выступления еще нескольких ораторов и, вдруг вспомнив, что ей нужно принести лекарство прихворнувшей матери, заторопилась к выходу. На Театральной площади было уже темно, и Юнна, повернув за угол, вышла на Петровку. Поток мыслей и вопросов одолевал Юнну: почему большевики и левые эсеры не вместе, почему съезд с самого начала превратился в поле боя? Чем закончится этот бой, и может ли она уже сейчас, до того, как станут известны победители, сказать самой себе прямо и честно, на чьей она стороне? Почему большинство делегатов встретили речь Спиридоновой бурей возмущения? Неужели они не знают, неужели не помнят ее мужества, ее страданий ради лучшей доли народа? Юнна мучительно искала ответы на эти вопросы и не могла найти. Как было бы чудесно, если бы Спиридонова с таким же темпераментом, с каким атаковала большевиков, боролась бы вместе с ними в одних рядах! "Хорошо, - вдруг спросила себя Юнна, - но ты же сама слышала, что Спиридонова выступает против большевиков. А ты - ты ведь идешь с большевиками, с Лениным, с Дзержинским! Значит, она выступает и против тебя? Но может, Спиридонова заблуждается, и все переменится, как только она это поймет? А вот ты сама - за Брестский мир или против? По словам левых эсеров, этот мир принес новые страдания: немцы мучают Украину, топчут Польшу, терзают Прибалтику. Грозятся идтп дальше. Нет, вместо заключения мира нужно бы идти в последний, решительный бой против оккупантов. Погибнуть в честном бою, но не становиться на колени. Зажечь своими сердцами пожар мировой революции... А отношение к крестьянству? Где тут правда, на чьей она стороне? Спиридонова сказала, что декреты Советской власти колют крестьянам спиду, режут шею. Но ведь декрет о земле, который крестьяне встретили с восторгом, подписал Ленин! И если деревня не даст хлеб городу, то кто же его даст? Не все еще понятно, но она сделает все, чтобы познать истину. Завтра она снова придет на съезд. Скорее бы выступил Ленин! Как жаль, что с ней нет сейчас Мишеля! Оп бы распутал самые запутанные вопросы. Однажды, встретившись, они разговорились о жизни. Мишель был настроен философски. Он сказал тогда, что великое счастье человека - уметь мыслить самостоятельно. Только лишь заучивать и повторять лозунги, пусть даже самые правильные, - удел нищих духом. Всякое простое повторение иссушает разум. Цель человека - быть творцом. Заученные истипы, если в них не привносится ничего своего, если не осмысливать их через призму опыта жизни и борьбы, как плотина на реке, сдерживают развитие мысли. Мишель сказал еще, что мечтой каждого человека должно стать: быть или великим, или никем. Нет ничего страшнее и опустошительнее, чем судьба посредственности. И когда Юнна, не согласившись с ним, спросила: "А как же жить тем, кто не смог стать великим?", Мишель убежденно воскликнул, что любой человек, если поставит перед собой цель, станет великим. И что великим может быть и артист, и плотник, и солдат. "Я вот хочу стать великим поэтом и великим чекистом!" - воскликнул Мишель. Да, если бы сейчас рядом с ней был Мишель! Он бы посоветовал, как лучше проинформировать Велегорского о прениях на съезде, "лучше" в том смысле, чтобы эта информация была бы обращена протпв тех планов, которые он вынашивает. И еще одно: как выкроить хоть часок для того, чтобы встретиться с Мишелем? Как объяснить ему, что любит его еще сильнее, хотя и никак не может совместить в себе личное и общее, чтобы не приносить в жертву одно другому". Когда Мария Спиридонова, сидя в президиуме съезда Советов, слушала выступления большевиков, она все яснее понимала, что примирения с ними быть не может. Заседание ЦК левых эсеров, состоявшееся в ночь на пятое июля, принявшее постановление об убийстве германского посла и поручившее исполнить этот акт конкретным лицам, было лишь закреплением той позиции, которая вынашивалась верхушкой левых эсеров задолго до этих событий. Спиридонова сознавала что, в сущности, Мирбах лишь повод для того, чтобы получить долгожданную возможность перейти от словесных нападок на правительство Ленина к атакам, в которых главное слово будет предоставлено маузеру, пулемету и бомбе. Четвертого июля перед вечерним заседанием съезда Советов Спиридонова послала за Блюмкиным, сидевшим в партере. Порознь они отправились, как было условлено, в гостиницу "Элит" на Неглинной. Номер, в котором жил Блюмкин, выходил окном на северную сторону. На улице звонко светило солнце, а здесь было сумрачно, прохладно и неуютно. Глухая кирпичная стена соседнего дома, в которую упиралось окно, усиливала это впечатление. - Я пригласила вас для политической беседы, - сказала Спиридонова, будто не она пришла в жилье Блюмкина, а он пришел к ней, и старательно подчеркнула слово "политической". Блюмкин смотрел на ее суховатую, плоскую фигуру, на морщинки, невесело разбежавшиеся от близоруких глаз к вискам, и старался понять, что в этой женщине могло прельстить бравого голубоглазого моряка Попова, командира отряда ВЧК. Спиридонова, чувствуя, что Блюмкин слишком пристально разглядывает ее, заговорила, с трудом преодолевая нервные нотки. - Мы пришли к выводу о необходимости совершить террористический акт. Спиридонова многозначительно подчеркнула эту фразу, как бы напоминая Блюмкину, что для нее лично слова "террористический акт" не просто слова и что если она, будучи гимназисткой, смогла стрелять в Луженовского, то как может этот молодой, здоровый и красивый мужчина отказаться от более легкого и более безопасного но своим последствиям убийства Мирбаха. Террористический акт явится суровым предостережением мировому империализму, который жаждет задушить русскую революцию. Это заставит правительство Ленина, поставленное перед фактом разрыва Брестского договора, пойти в наступление и перенести пламя пожара на весь земной шар. Разумеется, этим может заняться уже другое правительство, - добавила Спиридонова, пе считая возможным объяснять Блюмкину, какое правительство она имеет в виду. Блюмкин еще по дороге в гостиницу пришел к выводу, что следует ухватиться за то задание, которое ему поручат. Так же, как Спиридонова и другие члены ЦК партии левых эсеров, Блюмкин понимал, что убийство Мирбаха будет лишь сигналом к событиям, призванным сыграть роль переворота. Правительство в результате станет, конечно же, полностью левоэсеровским. И несомненно, ему, Блюмкину, в этом новом правительстве как национальному герою отведут почетную роль. Тщеславие возбуждало в нем и то, что едва прогремит его выстрел, как фамилия "Блюмкин" запестрит во всех газетах мира, ее разнесут по свету радиоволны... Едва Спиридонова умолкла, как Блюмкип не без торжественности и пафоса заявил, что отдает себя в полное распоряжение ЦК и предлагает себя в исполнители задуманного действия. Спиридонова молча и трижды, по-русски, поцеловала его. Губы ее были холодны, шероховаты, вероятно, потому, что она часто, волнуясь, облизывала их языком. Поцелуй ее был многозначительным - не просто торжественно-официальная благодарность за то, что не ошиблась в своем выборе. Блюмкин стоял перед пей, испытывая двойственное чувство - умиление и брезгливость. Чтобы поскорее задушить это ощущение, он сказал: - Меня волнуют лишь два вопроса: первый - если будет убит Мирбах, не создаст ли это реальной угрозы для нашего посла в Германии Иоффе? Второй гарантирует ли ЦК, что в его задачу входит только убийство германского посла, и не поведет ли это к далеко идущим целям? Спиридонова поморщилась. Ей не понравилось, что Блюмкин, зная, по ее твердому убеждению, ответ, все же задал эти вопросы ей. Значит, демонстрируя согласием убить Мирбаха преданность платформе левых эсеров, он уже теперь думал не столько о деле, сколько о самом себе. - Ответ на первый вопрос - нет. На второй - гарантирует,. - коротко ответила Спиридонова, сознательно не пускаясь в долгие разъяснения. Сегодня ночью состоится заседание нашего ЦК. Там мы примем окончательное решение. А сейчас могу лишь сказать, что убийство... - Спиридонова, как все близорукие люди, с болезненной цепкостью всмотрелась в лицо Блюмкина, словно желая убедиться, можно ли ему доверять во всем. - Убийство Мирбаха, - наконец решилась опа докончить свею мысль, - это всего лишь сигнал... На том они и расстались, сознавая, что нужны друг другу лишь в данной ситуации, не более... Спиридонова, возвращаясь в Большой театр, думала о том, какое впечатление могла произвести ее речь, а главное, старалась мысленно утвердиться в своей правоте, в своем праве на ту страстность, граничащую с истерикой, с какой она бросала в зал горячие от душевного жара и ярости слова. "Жребий брошен, жребий брошен", - кипело в ней сейчас, и она с фанатичным сладострастием ощутила в себе радость борьбы и предчувствие победы. И как-то особенно ясно представилось ей, что если теперь, в эти дни и в эти часы, она поколеблется, остынет и покорится, то никогда уже больше не будет ни таких дней, ни таких часов, ни такого кипящего состояния души, которое бывает у людей, когда они решаются на самый главный, опасный и радостный шаг в своей жизни. "Да, я без страха брала в руки револьвер и бомбу, это знает вся Россия..." - думала она, безраздельно попадая во власть этой сладостной мысли и отгоняя прочь все то, что затемняло или ослабляло красоту и величие того, что она, рискуя собой, сделала для народа. Да, и ее выстрелы в Луженовского, и страстные, гневные речи в защиту крестьян, и та решимость, с которой она теперь отважилась пойти на открытую схватку с большевиками, Лениным, - все это нужно было ей не для себя, не для того, чтобы насладиться властью, а для того, чтобы отстоять интересы русской деревни, русского мужика. Только ли для этого? "Да, да, только для этого, - спешила она успокоить себя, - и не для чего больше!" Она была беспредельно убеждена в том, что, сгорая сама, зажигает других, и это сознание самопожертвования наполняло ее душу счастьем. В такие моменты она не испытывала сомнений и колебаний. А сомнения терзали ее часто. Страстно и самозабвенно говоря о светлом будущем русского мужика с трибун митингов, собраний и съездов, Спиридонова самой себе не могла с убежденностью сказать, что цель, которую она ставит перед собой - сделать всех крестьян свободными и счастливыми, - может быть достигнута. Как ни борись, амбары одних будут полными, других - пустыми. Ибо вовек не побороть лень, тупоумие и косность русского бедняка, начисто лишенного хозяйственной сметки и расчетливости, которая в высшей степени присуща зажиточным крестьянам. Но, споря с большевиками, предавая анафеме комитеты бедноты, продовольственные отряды, которые и она и ее сподвижники называли не иначе как шайками разбойников и лодырей, Спиридонова все же в глубине души сознавала, что в чем-то важном неправа в своих нападках. И чем больше ей открывался смысл этой неправоты, тем с большей настойчивостью, упрямством и горячностью она отстаивала свои неправые идеи и действия. Спиридонова истязала сейчас себя, пытаясь ответить на вопрос: не опрометчиво ли она поступила, выступив на съезде против Ленина? Опа сознавала, что Ленин велик, что Ленин - мыслитель, в котором, как это необычайно редко бывает в природе, соединился гений теоретика с гением практика, и не слишком ли ядовитые стрелы отважилась она метнуть в него? Спиридонова с откровенным нетерпением ждала выступления Ленина. И не потому, что его речь могла чтолибо изменить в том задании, которое только что получил от нее Блюмкин, или в том плане переворота, который был выработан ЦК партии левых эсеров, а потому, что выотупление Ленина, как она была убеждена, окончательно проложит водораздел между большевиками и левыми эсерами. Останется лишь один путь. "Ах, с каким восторгом встретит наши выстрелы молодежь! - вдруг опьянев от прилива радостных чувств, подумала Спиридонова. - Мы расстреляем Брестский мир, и наши пули высекут в молодых сердцах жажду мщения и ненависти!" "Итак, решено, решено... Уже ничто не повернет пас вспять..." Она поду мол а о тех блаженных минутах, когда в президиуме съезда не будет пи Ленина, ни Свердлова, пи тех, кто заодно с ними, а будет она, Камков, Саблин, Прошьян... Когда зал в едином порыве взорвется рукоплесканиями в ответ на ее новую речь. Речь, которую она произнесет уже в совершенно новом качестве - не как приживалка большевиков, кем она себя вынуждена считать, а как лидер теперь уже правящей партии. Спиридонова быстро шла сквозь толпу делегатов. Лица их мелькали перед ней, как в калейдоскопе; она не могла задержать своего взгляда ни на одном из них. Те, кто узнавал ее, почтительно уступали дорогу, и почемуто даже это простое человеческое проявление вежливости укрепляло сейчас ее решимость. Почти у самого входа в театр Спиридонова вдруг обернулась изумленная. Девушка с мечтательными, дерзкими глазами смотрела на нее в упор, и Спиридонову словно загипнотизировал этот взгляд. Она приостановилась, стараясь прочитать все, что было написано на лице девушки. "Восторг? Изумление? Осуждение? Радость? Немой укор? - Волнение горячими тисками перехватило ей горло. - Кажется, все, вместе взятое. Но как можно, как можно вместить столько чувств в одном взгляде? И может ли такая вот девчонка пойти за тобой, безотчетно, неотступно, несмотря ни на что? Спросить ее, кто она? Почему так смотрит? Почему молчит? Почему?!" Спиридонова с трудом принудила себя отвернуться и войти в театр. Заняв место в президиуме, она тщетно пыталась отыскать эту девушку. "А жаль, надо было остановиться, спросить, - с досадой подумала Спиридонова. - Поговорить с ней. Проверить себя. Кто она, эта девчонка? Кто?.." Спиридонова, конечно, не могла знать, что эту девушку звали Юнной Ружич.* * *
Юнна едва не опоздала на заседание съезда. Почти всю ночь она не могла сомкнуть глаз: мысленно говорила с Мишелем, ей чудилось, что слышит те самые слова, которые прочитала в его письме. И, несмотря на это, каждое слово, уже знакомое и ставшее бесконечно родным, таило в себе волшебное свойство: стоило его произнести вновь, как оно начинало излучать радость. Юнна знала, что Мишеля нет в Москве, а если он уже и вернулся, то даст знать о себе лишь тогда, когда ему позволят дела. Знала она и то, что он выполняет опасное задание в Казани. Этим и исчерпывалась ее осведомленность. Естественно, она не могла перед съездом ни увидеть его, ни тем более проводить на вокзал. И теперь, как никогда прежде, ждала его возвращения. Неподалеку от Большого театра Юнна остановилась, чтобы мельком пробежать глазами афиши. "Большой оперный сезон... В саду "Эрмитаж" четыре спектакля Ф. И. Шаляпина". Зависть к тем, кто сможет побывать на выступлении знаменитого певца, охватила Юнну, и она поспешно, чтобы не растравлять себя, отошла от афпши. И тут остановилась от радостного изумления: в человеке, который размашисто шел по тротуару, Юнна узнала Ленина. Вслед за Лениным, немного приотстав, спешила немолодая уже женщина в шляпке, белой блузе и длинной, почти до пят, юбке в полоску. То была, как позже узнала Юнна, сестра Ленина Мария Ильинична. Юнна не успела как следует рассмотреть Ленина - настолько стремительно он шел, торопясь на заседание съезда. Но миг этот был неповторим, и в нем, словно солнце в капле воды, запечатлелся образ Ленина с теми чертами, которые проявлялись в нем всегда - говорил ли он с трибуны, беседовал ли с делегацией рабочих или вот, как сейчас, спешил на съезд. И еще до того как Юнна услышала голос Ленина, она всем своим существом поняла, что такой человек не может не быть дорогим и близким тем, кто шел за ним, кто сверял свои сердца с его сердцем. В Большом театре со вчерашнего дня, казалось, ничего ие изменилось, и все же Юниа почувствовала перемену. Атмосфера накалялась. Левых эсеров можно было теперь сразу распознать по их манере держаться, даже если они молчали. Они вели себя так, будто должно произойти нечто такое, что докажет всем их правоту. Они словно чувствовали за своей спиной чью-то ощутимую поддержку, Рядом со своим местом Юнна увидела вчерашних соседей - старика и парня. Старик степенно рассказывал о своем житье-бытье. Юнна услышала часть разговора. - Хлебушек есть... Ну и торговать можно. Хорошо ныне за хлеб платят, большие деньги дают. Надобно только торговать уметь. В Москве голодно, боятся, скоро совсем хлебушка не останется... - Сколотил небось деньжат-то? - с любопытством спросил парень. - Все ничего, да вот Ленин мешает. - Ты того... - нахмурился парень. - Не туды заворачиваешь! - А пошто не туды?.. И в этот момент Свердлов, звякнув колокольчиком, объявил: - Слово для доклада предоставляется Председателю Совета Народных Комиссаров товарищу Ленину! Юнна не знала и не ожидала, что Ленин выступит именно сегодня. И когда он вышел на трибуну и, предваряя первые слова энергичным жестом, начал говорить, Юппа забыла обо всем на свете. Лишь вопрос, некогда заданный ей Дзержинским, прозвучал как наяву: "Вы бывали на митингах, где выступал Ленин?" Самыми первыми словами, которые она услышала сейчас из уст Ленина, были знакомые ей по газетам, по выступлениям ораторов на митингах, по разговорам на сборищах у Велегорского хлесткие, как выстрел, слова: "Брестский договор". О Брестском договоре Юнне приходилось слышать разное. Одни утверждали, что в нем спасение, другие клятвенно заверяли, что передышка не поможет России, что союз международного империализма все равно заключен и что практически отступление ничего не даст. Третьи большинство из группы Велегорского - молили всевышнего, чтобы немцы ни в коем случае не шли на мировую с большевиками, а продолжали свой железный марш на Москву. И вот теперь, спустя три с лишним месяца после заключения мира, Ленин во всеуслышание заявлял, что большевики были правы. - Мы можем сказать, - в голосе Ленина звучала непоколебимая убежденность, - что пролетариат и крестьяне, которые не эксплуатируют других и не наживаются на народном голоде, все они стоят, безусловно, за нас и, во всяком случае, против тех неразумных, кто втягивает в войну и желает разорвать Брестский договор! Едва Ленин сказал это, как в зале взметнулся шум. В потоке выкриков, аплодисментов, беспорядочных начиненных нервозностью и гневом возгласов не было единства, поток этот делился на множество рукавов. И тогда Ленин, немного выждав, пока зал приутихнет, бросил в него уточнение, подкреплявшее и утверждавшее только что сказанное: - Девять десятых стоят за нас! Левая часть партера встретила это уточнение бурей аплодисментов. А те, кто рассчитывал, что Ленин под влиянием выкриков отступит, скажет что-либо граничащее с компромиссом, вскипели. Их словно прорвало. - Керенский! - истошно завопил кто-то с мест левых эсеров. И в ответ на это Ленин, теперь еще спокойнее, но и еще более убежденно, сказал: - Да, товарищи, кто теперь прямо или косвенно, открыто или прикрыто толкует о войне, кто кричит против брестской петли, тот не видит, что петлю рабочим и крестьянам в России накидывают господа Керенский и помещики, капиталисты и кулаки... И снова тот же истошный, гнусавящий голос пролаял: - Мирбах! - Как бы на любом собрании они ни кричали, их дело безнадежно в народе! - повысив голос, произнес Ленин. - Меня нисколько не удивляет, что в таком положении, в каком эти люди оказались, только и остается что отвечать криками, руганью и дикими выходками, когда нет других доводов! - Есть доводы! - снова взвизгнул кто-то с правой стороны партера. Ленин продолжал, словно в зале стояла абсолютная тишина. Он говорил о том, что призывы против Брестского мира идут от меньшевиков, правых эсеров, сторонников Керенского, кадетов. В том лагере речи левых эсеров, которые также клонятся к войне, будут покрыты громкими аплодисментами. "Ленин отделяет левых эсеров от меньшевиков и правых эсеров, - подумала Юнна с удовлетворением. Она никогда не исповедовала идей левых эсеров, но сейчас все сходилось на Спиридоновой. - Интересно, скажет ли он что-либо о пей?" Она видела ее вчера, Марию Спиридонову. Как хотелось поговорить с ней папрямик. Но она не осмелилась... Едва Юнна успела подумать об этом, как Ленин с убийственной иронией произнес: - Левые эсеры, как указали предыдущие ораторы, попали в неприятное положение: шли в комнату, попали в другую... Смех левой стороны партера заглушил протестующие реплики с правой стороны. В этом смехе было что-то жизнеутверждающее, озорное и торжествующее. Юнна не предполагала, что растерянность левых эсеров - еще не самая главная их вина, скорее, это их беда. Она узнала, что они повинны в гораздо большем, когда Ленин напомнил о том, что в октябре 1917 года на предложение большевиков войти в правительство левые эсеры ответили отказом. - В тот момент, когда левые эсеры отказались войти в наше правительство, - голос Ленина звучал все громче, соединяя в себе гнев и спокойную уверенность, - они были не с нами, а против нас! Скамьи левых эсеров встретили эти слова в штыки. Шум и гвалт продолжался несколько минут. Ленин, вглядываясь в свои записи, ждал, когда схлынет волна шума. И едва это произошло, как он, воспользовавшись относительной тишиной, воскликнул: - Правда глаза колет! Левые эсеры повскакали с мест. Кое-кто из них демонстративно устремился к выходу, отчаянно жестикулируя и крича. Охваченные неистовством, они уже не могли сдержать себя. И тогда Ленин добавил громче: - Если есть такие люди, которые предпочитают с советского съезда уходить, то скатертью дорога! "Они совсем потеряли голову! - повторила Юнна мысленно вслед за Лениным. - Неужели они сами не понимают, не видят этого!" Она стала еще пристальнее смотреть на Спиридонову, ожидая от нее чего-то решительного и мудрого, что может спасти сейчас этих бесновавшихся людей. Но та сидела все так же удивительно прямо, и казалось, что все происходящее в зале возбуждает и окрыляет ее. - ...И чтобы привести доказательство этой растерянности, - Юнна прислушалась к фразе Ленина, начало которой она не успела уловить, я приведу вам пример из слов человека, в искренности которого ни я, ни кто другой не сомневается, - из слов товарища Спиридоновой... "Человека, в искренности которого ни я, ни кто другой не сомневается... - - радостным эхом отозвалось в душе Юнны. - Это о ней, о ней... Ах, как бы это надо услышать Мишелю!.." Юнна ждала, очень ждала таких или подобных им слов, и вот они произнесены самим Лениным! Ленин рассказал о той речи, которая была напечатана в газете "Голос трудового крестьянства" и которую Юнна читала. Помнится, тогда она не обратила внимания на те строки, в которых говорилось, будто бы немцы предъявили нам ультиматум отправить им на два миллиарда мануфактуры. - Та партия, - подчеркнул Ленин жестом, приведя эти строки из речи Спиридоновой, - которая доводит своих наиболее искренних представителей до того, что и они падают в столь ужасающее болото обмана и лжи, такая партия является окончательно погибшей. Это был приговор, вынесенный историей левым эсерам. И конечно же, приговор этот, касаясь всей партии, не мог обойти одного из ее лидеров Марию Спиридонову. Но Юнна восприняла его как нечто касающееся только самой партии левых эсеров и не касающееся Спиридоновой, как человека, стоящего особняком и не могущего отвечать за ту партию, в которой она, волею судеб, состоит. Ленин, развивая свою мысль, далее говорил о том, что подобное поведение левых эсеров хуже всякой провокации, что, слушая их призывы, правые эсеры - Керенский, Савинков и прочая братия - восхищаются ими как своими единомышленниками. И тут, видимо, чтобы ни у кого не оставалось никаких сомнений, чтобы ни у кого не было раздвоения чувств и мыслей, Ленин энергичным жестом подчеркнул свой вывод: - Когда нам здесь говорят о бое против большевиков, как предыдущий оратор говорил о ссоре с большевиками, я отвечу: нет, товарищи, это не ссора, это действительный бесповоротный разрыв, разрыв между теми, которые тяжесть положения переносят, говоря народу правду, но пе позволяя опьянять себя выкриками, и теми, кто себя этими выкриками опьяняет и невольно выполняет чужую работу, работу провокаторов... Юн на взглянула на Спиридонову. Та сидела прямая, невозмутимая, словно ее не коснулась уничтожающая критика докладчика. Опершись локтями о стол, она медленно, как завороженная, взяла лежавший перед ней исписанный лист бумаги и, держа его в поднятых кверху ладонях, медленно разорвала крест-накрест: сперва пополам, потом еще раз - на четыре части. Юнне показалось, что она вложила в этот жест какой-то смысл. Ленин говорил теперь об очередных задачах, о том, что мы на опыте научимся строить социалистическое здание, что за его строительство взялись рабочие и трудящиеся крестьяне тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч рук, что каждый месяц такой работы стоит десяти, если не двадцати лет нашей истории. - Прежние товарищи наши - левые эсеры говорят, что наши дороги разошлись. Мы твердо отвечаем им: тем хуже для вас, ибо это значит, что вы ушли от социализма. Чем ярче рисовал Ленин картину борьбы за новый, рождавшийся в муках мир, тем напряженнее слушал его зал, зачарованный и вдохновленный открывавшимися далями. А когда Ленин взволнованно, с горечью и негодованием сказал, что, в то время как десятки и тысячи людей гибнут от голода, другие имеют большие излишки хлеба, кто знает, что народ тертшт несказанные муки голода, но не хочет продавать хлеб по твердым ценам, те враги народа, те друзья капиталистов, - война им, и война беспощадная! зааплодировали не только большевики, но и часть левых эсеров. Нет, это не борьба с крестьянством, подчеркивал Ленин. Тысячу раз ошибается тот, кто так подумает. Это борьба с ничтожным меньшинством деревенских кулаков, борьба за то, чтобы спасти социализм. - Слыхал? - подтолкнул локтем знакомый уже Юпне парень старика крестьянина. - Вот оно как поворачивается! - Не шебурпш, - зло огрызнулся старик и, немного погодя натужно вздохнув, цепко ухватился за клочковатую, как пучок сена, бороду: - Жплня настает - ехала кума неведомо куда... - А мы, батя, знаем куда... Юнпа прислушалась было к ним, но почувствовала, что Ленин скоро закончит свое выступление. И он действительно закапчивал. Последние его слова прозвучали в абсолютной тишине: - Если мы не дадим ни фразам, ни иллюзиям, ни обману, ни истерике сбить себя с правильного пути, то социализм победит!22
В тот час, когда в Денежном переулке, в особняке немецкого посольства, прозвучал выстрел Блюмкина, заведующий отделом по борьбе с контрреволюцией Лацис находился в Наркомате внутренних дел. Получив известно об убийстве Мирбаха, он тотчас же сел в машину и коротко приказал шоферу: - На Лубянку! Дзержинского он там пе застал: Феликс Эдмундович был в немецком посольстве. Едва Лацис вошел в свой кабинет, как раздался телефонный звонок. - Завершено ли у вас дело племянника графа Мирбаха? - отрывисто спросил Дзержинский. - Его взял у меня Блюмкин, - ответил Лацис. - Когда? - Сегодня в одиннадцать утра. - Материала этого дела обнаружены на месте покушения, - сказал Дзержинский. - Работа Блюмкина! - Кажется, в этом нет сомнения, - сказал Дзержинский. - Я немедленно выезжаю в Трехсвятительский, в Покровские казармы. Попов устроил там заваруху. Вас, Мартин Янович, попрошу отправиться на съезд и сообщить о случившемся Петерсу. Лацис поспешил в Большой театр. Разыскав Петерса, стоявшего в сторонке в фойе и оживленно втолковывавшего что-то хмурому Калугину, Лацис начал было говорить, но Петерс не дал ему раскрыть рта. - Дзержинский арестован в штабе Попова! - волнуясь, воскликнул он. - Арестован? - изумился Лацис. - Сейчас же едем на Лубянку. - Петере устремился к выходу. - Надо обсудить создавшееся положение и принять самые экстренные меры. В ВЧК Петере бросился к телефону и связался со штабом Попова. - Говорит Петере. Прошу к аппарату товарища Дзержинского, - волевым тоном попросил он. Человек, взявший трубку на другом конце провода, ответил не сразу. - Вы что, оглохли? - возмутился Петере. - Немедленно пригласите к аппарату Феликса Эдмундовича! В трубке послышались отзвуки приглушенных голосов. - Мы не можем его позвать, - торопливо проговорил кто-то и тут же повесил трубку. Петере вскипел: - Я заставлю их ответить! На второй его звонок к телефону подошел Александрович. - Товарища Дзержинского вызвать не могу, он занят, - глухим голосом, в котором проступало плохо скрываемое волнение, произнес он. - Да в чем дело, что за таинственность? - воскликнул Петере. - Объясни, что там у вас происходит. В ответ не раздалось ни единого слова. Пришлось звонить в третий раз. - На каком основании вы задержали Дзержинского? - спросил он Александровича, который снова подошел к телефону. - Извольте немедленно объясниться. - Я действую по указанию ЦК партии левых эсеров, в которой состою, и не имею права вдаваться в причины. Это вы узнаете из наших документов. Теперь Александрович, видимо подбодренный своими коллегами, говорил вызывающе, хотя глуховатый голос нет-нет да и выдавал его истинное состояние. - Сволочи! - воскликнул Петере. - Надо разворотить это изменническое гнездо! Надо... Он не договорил: по прямому проводу позвонил БончБруевич. - Владимир Ильич дал указание двинуть артиллерию и другие воинские части против мятежников, - сказал он. - Временное исполнение обязанностей председателя ВЧК возлагается на товарища Петерса. Ильич предупредил, что за жизнь Дзержинского ответят головой тысячи провокаторов и мятежников. Петере поспешил на съезд, чтобы усилить охрану театра. Лацис вернулся в ВЧК. Он отдавал распоряжения своим подчиненным, как вдруг в кабинет к нему вихрем ворвался чекист. - Мартин Янович, там, в коридоре, наших комиссаров арестовывают! - Что?! Выскочив в коридор, Лацис нос к носу столкнулся со здоровенным матросом Жаровым. Издевательская усмешка расплылась по его скуластому рыхловатому лицу. - Руки вверх! - приказал Жаров. - Ты на кого?! Я Лацис! - Его-то мне и надо! - пробасил Жаров, не переставая ухмыляться. - На ловца и зверь бежит! "Надо немедленно сообщить в Кремль", - подумал Лацис и решил схитрить. - Хорошо, - сказал он, - вот только фуражку возьму. - Дуй, да поживее! - самодовольно разрешил Жаров. Лацис вошел в свой кабинет. Сообщить в Кремль по прямому проводу о том, что его арестовали и куда увозят - неизвестно, было делом одной минуты. В коридоре Лациса ожидали вооруженные мятежники. Они вывели его на улицу и направились в сторону Сретенки. "В Трехсвятительский, в штаб Попова", - подумал Лацис. Предположение подтвердилось. На Покровке он увидел свежевырытые окопы. Караул мятежников стоял на бульваре, строго контролируя каждого проходящего. В штабе Лацис встретил Попова. Блестели начищенные, как на праздник, хромовые фасонистые сапоги. Блестели кожаные галифе, обтертые сзади, и кожаная куртка. Блестели новые скрипучие ремни, портупея, фуражка. И даже полные розовые щеки Попова блестели, будто смазанные жиром. - По постановлению ЦК партии левых эсеров вы арестованы, - торжествующе объявил Попов, не выдерживая, однако, прямого, уничтожающего взгляда Лациса. - Как вы посмели поднять руку на Дзержинского? - в упор спросил Лацис. - Вы заступаетесь за мерзавцев мирбахов! Вы продались немцам! - завопил Попов, стараясь криком заглушить в себе страх и возбудить окруживших их матросов. Два дюжих матроса, от которых разило водочным перегаром, подтолкнули Лациса в дверь, и здесь он увидел Дзержинского. Феликс Эдмундович стоял заложив руки за спину. Лицо его пылало гневом и решимостью... ...Шестого июля Юнна не выдержала: придя в Большой театр, она поняла, что не сможет спокойно сидеть здесь, пока не убедится, вернулся ли Мишель с задания или нет. Как ни велико было желание остаться на съезде, тревога в ее сердце нарастала, и она поспешила в Каретный ряд, надеясь хоть что-либо узнать о Мишеле или же случайно встретить его. Был жаркий, безветренный день. Над разомлевшими на солнце домами и улицами стэял зной, предвещавший затяжные дожди. Юнна медленно прошлась вдоль дома, где жил Мишель. Она надеялась увидеть знакомое окно на третьем этаже распахнутым, но оно было наглухо закрыто. "Я все равно должна увидеть его, все равно", - в тревоге повторяла Юнна. Она медленно побрела назад, раздумывая, как ей поступить, и вдруг решилась. С Неглинпой она вышла к Варсонофьевскому переулку и стала подниматься по крутому тротуару к зданию ВЧК. В здание это Калугин категорически запретил ей входить не только днем, но и ночью. Сейчас она и не помышляла об этом. Просто решила пройти мимо. Может, ей повезет, ц она увидит Мишеля или кого-либо из его знакомых. - Куда прешь, Маруся? - вдруг заорал на нее часовой. - А ну, развернись кормой! Прохода нету! - Скажи на милость, какой грозный! - улыбнулась Юнна, переходя на противоположную сторону переулка. - Нельзя ли повежливее? - Приходи вечерком, я с тобой займусь вежливостями, - цинично рассмеялся он, показывая щербатые прокуренные зубы. "Что-то случилось, - подумала Юнна, и страх за Мишеля с новой силой возник в ее душе. - Здесь никогда не было таких развязных, наглых часовых. Что-то не так..." Она вышла на Лубянку и направилась в сторону Сретенки. Необычное оживление царило здесь. По улице и бульвару торопливо шагали вооруженные матросы, патрули. К Мясницкой, грозно ощетинясь рыльцами пулеметов, ползли два броневика. Юнна вернулась на Лубянку. Здание ВЧК усиленно охранялось. Воспользовавшись тем, что в переулке часового уже не было, остановилась на углу. Неожиданно одно из окон третьего этажа приоткрылось и из него на тротуар упала спичечная коробка. Юнна птицей метнулась к коробке. Может, провокация? Или просто выбросили за ненадобностью? А если сигнал? Схватив коробку, она словно ни в чем не бывало пошла по переулку. Через минуту вслед ей загремели рявкающие слова уже знакомого часового: - Ты опять здесь вертишься? Ну, попадись мне еще! На Неглинной Юнна зашла за ограду приземистого дома и открыла коробку. Там лежал клочок бумажки. Юнна, волнуясь, развернула его: "Мы арестованы левыми эсерами. Сообщи в отряд Завьялова. Лафар". Мишель! Он здесь! Недаром ее неудержимо тянуло сюда, на Лубянку! Он арестован! Но почему, за что? И почему левыми эсерами? Видимо, произошли какие-то страшные события! Но сейчас не время рассуждать! Скорее, скорее помочь Мишелю и его товарищам! Через десять минут Юнна была в отряде Завьялова. Однажды она уже видела его с Мишелем, и, знакомя ее с Завьяловым, Мишель сказал: "Это мой надежный друг. Вместе юнкеров колошматили". В тот момент, когда Юнна прибежала за помощью, Завьялов выстраивал свой отряд во дворе возле кирпичных казарм. Обернувшись на вызов часового, он досадливо поморщился, но, увидев Юнну, поспешил к ней. По озабоченному лицу Завьялова можно было догадаться, что ему очень некогда. Юнна торопливо протянула ему записку. - Ясно, - пробасил Завьялов, стремительно прочитав ее. - Вовремя поспели, товарищ. - Завьялов, хоть и знаком был с Юнной, не терпел фамильярности. - Мы идем к телеграфу, на Мясницкую, мятежников выбивать. Он подбадривающе подмигнул Юнне, как бы говоря: "Ничего, будет полный порядок!" И она, с надеждой глядя на его худощавое решительное лицо, на щеку, прошитую синеватыми отметинками пороха, на нескладную высокую фигуру, с теплым чувством подумала, что Завьялов и впрямь надежный друг. - Равняйсь! Смирно! Шагом марш! - Юнне казалось, что Завьялов медлит, соблюдая все требования устава. И только когда отряд зашагал к воротам, на душе у Юнны полегчало. - Аида с нами, крошка! - не выдержав, ликующе воскликнул кто-то из матросов. - Становись в строй! С нами не пропадешь! - Прекратить! - оборвал шутника Завьялов. - Запомнить: не крошка, а товарищ! Ясно? - Ясно! - весело раздалось в ответ. И Завьялов, придерживая стучавшую по боку деревянную кобуру маузера, занял свое место впереди отряда. Когда матрос воскликнул: "Становись в строй!", Юнна готова была тут же воспользоваться его приглашением и шагать с ними с песней по жарким московским улицам, дышащим зноем и тревогой. Она не успела заметить, какой матрос крикнул ей, но слова его, хоть и окрашенные легкой иронией и превосходством бывалого мужчины, были настолько созвучны ее желаниям, что она даже не обиделась на то, что он назвал ее крошкой. Но когда отрядпрошел мимо, она с тоской и горечью поняла, что не имеет права идти в этом строю, потому что тот фронт, солдатом которого она стала, был невидимым фронтом. - Я буду ждать на Сретенке, передайте, - успела сказать Юнна Завьялову, когда отряд выходил из ворот, и тот понимающе кивнул головой: он хорошо знал, кому должен передать слова Юнны. Отряд повернул за угол, и Юнна помчалась на Сретенку. Она не заметила, как солнце нырнуло в стаю рыхлых дождевых туч. Юппа остановилась под липой на Сретенском бульваре. Мимо прогромыхал трамвай, полный вооруженных матросов. Неподалеку какие-то люди с ожесточенной поспешностью рыли окопы. С Чистых прудов доносились звуки стрельбы. - Сумасшедшая! - Юнна . обернулась, и радостное изумление сдавило ее сердце: перед ней стоял Мишель. - Здесь нельзя, сейчас начнется перестрелка! - Как тогда, на баррикаде? - спросила Юнна. - Как тогда, - торопливо и возбужденно ответил Мишель. - Я бегу на Мясницкую, там засели левые эсеры. Они подняли мятеж. Арестовали Дзержинского... - Как же так? Они же были с нами! - Они изменники! Прости, поговорим потом. Меня ждут. Он не говорил: "Уходи", но то, что не звал с собой, обидело ее до глубины души. Юнна не стала упрашивать его, но Мишель по ее погрустневшим глазам понял, что она не уйдет. - Хорошо, идем вместе! - решительно сказал он. Они побежали на Мясницкую. На углу пришлось укрыться за выступ дома: их и матросов из отряда Завьялова обстрелял броневик мятежников. Юнна видела, как Завьялов приник к пулемету. Началась перестрелка. Юнна держала свой маленький браунинг наготове. Взглянув на Мишеля, она снова с потрясающей отчетливостью вспомнила октябрьскую ночь, баррикаду, Мишеля. Тогда она еще не знала, что его зовут Мишелем, не знала, что пути их сойдутся. Не знала, что такое любовь... Как много она знает теперь! Знает, что словесная перестрелка между большевиками и левыми эсерами, начавшаяся там, на трибуне Большого театра, здесь превратилась в перестрелку ружейную. Такова логика борьбы... Неожиданно из углового дома открыли стрельбу. Казалось, стреляют из всех окон. - Огонь! - услышала Юнна команду Завьялова. Матросы залегли. Пули с визгом впивались в каменные стены, рикошетили. Слышался звон разбиваемых стекол, крики мятежников. Чтобы ворваться в дом, нужно было пересечь узкую полоску булыжной мостовой. Но сейчас, под пулями, это было опасно. Едва перестрелка стихла, как снова раздался резкий, сак свист хлыста, голос Завьялова: - За мной! Вперед! Юнна вскочила вслед за Мишелем. Еще несколько шагов - и они будут у подъезда дома, недосягаемые для пуль. И в этот момент Юнна с ужасом увидела, что Мишель схватился за ствол тополя, но не удержался и упал на мостовую. "Мишель!" - в отчаянии хотела вскрикнуть Юнна, но не смогла. Она подбежала к Мишелю, приподняла вмиг похолодевшими ладонями его голову, повернула к себе. Он смотрел на нее виновато и изумленно, будто увидел впервые. - Тебе больно? - спросила Юнна, припав ухом к его груди. - Зло берет, - задыхаясь, прошептал он. - Не могу стрелять... И Юнна увидела струйку крови у его плеча, которую впитывала и не могла впитать всю белая рубаха Мишеля. Глядя на кровь, она вспомнила, как Спиридонова, сидя в президиуме, разорвала на четыре части свои записки, вложив в это движение какой-то тайный смысл. "Подлая, подлая, подлая..." - зашептала Юнна. Гнев, ненависть, отчаяние душили ее, словно именно Спиридонова стреляла сейчас в Мишеля. - Надо перевязать! - как сквозь сон, услышала Юнна сердитый голос Завьялова. - Небось не ребенок, обязаны понимать! Он бережно поднял Мишеля на руки и сноровисто перенес в ближайший двор, осторожно положил на ступеньку крыльца. - Живой... - подмигнул он Юнне точно так же, как тогда, когда прочитал записку. Он тут же рывком сбросил с себя матроску, рванул через голову тельняшку и отдал Юнне. - Перевяжите... Мне недосуг. Сейчас пришлю ребят - его надо в лазарет. Юнна держала в руках влажную от пота тельняшку. Мишель лежал, прикрыв глаза. Он выглядел беспомощным, как ребенок, и волна нежности окутала сердце Юнны. "Я спасу тебя, спасу", - поклялась она и, разорвав тельняшку на полосы, сноровисто перевязала рану. Мишель застонал и открыл глаза. - А знаешь... - прошептал он. - Я написал о тебе поэму... - Молчи... - ласково остановила его Юына, смахнув с ресниц слезу. Любимый мой...23
Дзержинский, попрощавшись с Лениным и с другими участниками заседания Совнаркома, вернулся к себе на Лубянку. Приказав дежурному никого не впускать в кабинет, закурил, сел за стол и задумался. Итак, в Совнаркоме рассмотрено его заявление: "Ввиду того что я являюсь, несомненно, одним из главных свидетелей по делу об убийстве германского посла графа Мирбаха, я не считаю для себя возможным оставаться больше во Всероссийской чрезвычайной комиссии... в качестве ее председателя, равно как и вообще принимать какое-либо участие в комиссии. Я прошу Совет Народных Комиссаров освободить меня от работы в комиссии". Завтра в газетах будет опубликовано постановление Совнаркома. Дзержинский еще раз перечитал подготовленный текст: "Ввиду заявления товарища Дзержинского о необходимости для него как одного из главных свидетелей по делу об убийстве германского посла графа Мирбаха отстраниться от руководства работой в Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем, Совет Народных Комиссаров назначает временным председателем названной комиссии тов. Петерса. Коллегия Чрезвычайной комиссии объявляется упраздненной. Тов. Петерсу поручается в недельный срок представить Совету Народных Комиссаров доклад о личном составе работников Чрезвычайной комиссии на предмет устранения всех тех ее членов, которые прямо или косвенно были прикосновенны к провокационной азефской деятельности члена партии левых социалистов-революционеров Блюмкина". Сейчас, когда жалкие остатки мятежников, преследуемые отрядами бойцов и чекистов, пытались скрыться в подмосковных лесах, когда под всей этой авантюрой левых эсеров можно было подвести черту, Дзержинский особенно остро сознавал, в какой опасности находилась республика, какая трагедия могла разыграться не только в Москве, но и в Питере, и по всей России. Контрреволюция мастерски скоординировала свои планы по времени. Левые эсеры поднимают мятеж 6 июля. Почти одновременно выступает на Восточном фронте левый эсер Муравьев. И в довершение всего - удары Савинкова в Ярославле, Рыбинске, Муроме. Концентрированная, тщательно продуманная и бешеная по своему натиску атака на власть Советов. Что двигало, что побуждало эти, казалось бы, столь несхожие между собой контрреволюционные силы объединиться? В чем истоки этой авантюры? Савинков... Что-то общее роднит его с Муравьевым. Это - склонность к авантюре, театральность, самовлюбленность. Как-то Луначарский вспомнил такую эффектную сценку. Было это в вологодской ссылке. Собрались социал-демократы и эсеры. Слушали доклад, потом горячо дебатировали какой-то социологический вопрос. Вдруг открывается дверь и является Савинков. Лицо его бледно, глаза сощурены, движения нарочито размеренны и небрежны. Без всяких предисловий выходит на середину и разражается речью из отрывистых фраз: "Пора перестать болтать", "Теорией сыты по горло", "Дело выше слов"... "Казалось бы, за такую претенциозную, пустую выходку человека нужно было бы по-товарищески ругнуть, - говорил Луначарский, - но, к моему великому удивлению, многих из присутствующих этот словесный фейерверк ослепил своим блеском: "Ах, этот Савинков, вот человек дела, какой свежей струей пахнуло от его слов!.." Но Савинков - это, конечно, не Муравьев, этот покрепче: с убеждениями, доведенными до фанатизма, и потому он несравнимо опаснее. Конечно, такие понятия, как "народ", "родина", для Савинкова лишь эффектные, расплывчатые фразы. Опьяняющая роль вождя заряжала Савинкова энтузиазмом. Этот будет играть до конца, пока его не положат на обе лопатки, пока он не увидит всю безрассудность и безрезультатность борьбы и не пустит себе пулю в лоб. Потерпев одно поражение, он придумает новый трюк, новый план, новую хитроумную комбинацию. И снова он попытается всплыть на мутной волне контрреволюции. Да, Савинков - прожженный авантюрист, способен любую подлость представить как подвиг. Ну, хорошо, с такими, как Савинков, как Муравьев и иже с ними, все понятно, все ясно, все логично. Но левые эсеры!.. Эти же шли с большевиками, пытались доказать, что они гораздо революционнее самих большевиков. Как могло случиться, что они скатились в болото контрреволюции? Этот вопрос, как проклятье, не давал думать ни о чем другом и тогда, когда Дзержинский мчался в Трехсвятительский, и когда очутился в плену у мятежников, и когда сидел на заседании Совнаркома. Как могло случиться, что опорой левых эсеров стал отряд ВЧК? Как произошло, что не кто-то другой, а именно сотрудник ВЧК Яков Блюмкин стрелял в германского посла? Чем объяснить, что не кто-то иной, а именно заместитель председателя ВЧК Александрович оказался в числе мятежников? Почему не удалось своевременно предотвратить покушение на Мирбаха, покушение, за которое теперь, возможно, придется заплатить разрывом Брестского договора? Александрович... Левый эсер, и все же Дзержинский ему доверял. Почему? Только ли потому, что Александрович работал старательно и что его никто не мог обвинить в двуличии? Нет, конечно же, все гораздо глубже и сложнее. Александрович разделял идеи своей партии, а партия его, оказывается, давно кралась к власти, лицемерно объявляя себя защитницей народных интересов. Насколько же опаснее открытых врагов такие люди, как Александрович! Тихие, исполнительные, послушные, они тщательно замуровывают в своей душе истинные намерения, тлеющие угли ложной веры. Для них авантюризм незаменимый наркотик, утоляющий жажду ненасытного тщеславия и властолюбия. В этом они родные братья Савинкова. Как метко назвал левых эсеров Ильич: прислужники Савинкова! Конечно же, если бы Александрович не пользовался доверием Дзержинского, он не поручал бы ему расследовать жалобы, поступавшие на отряд Попова. И всякий раз Александрович, казалось, искренне рассеивал подозрения, опровергал сигналы о попойках в отряде. Дзержинский верил ему, тем более что Попову всегда поручалось разоружение банд и его отряд успешно выполнял такие задания. Теперь-то ясно, что из этих банд он и черпал пополнение, а стойких, преданных революции бойцов отправлял на фронт. Без ведома ВЧК Попов принял в отряд полторы сотни человек из разоруженных банд. Не зря так часто ездил в Покровские казармы Александрович... Сегодня он схвачен на Курском вокзале. Пытался сесть на товарный поезд и скрыться. Сбрил волосы, усы, брови, но чекисты опознали его. Допрашивал Александровича Петере. Тот сидел в чесучовом измятом пиджаке, трясущийся, жалкий. Лепетал, что обманул доверие Дзержинского и что это больше всего мучает его совесть, заставляет страдать. Да, жалок тот, в ком совесть нечиста... И - оправдания, оправдания... Он, мол, лишь беспрекословно подчинялся партийной дисциплине, и только в этом его вина. Интересно, как он держал себя на заседании ЦК партии левых эсеров, когда было решено спровоцировать войну с Германией, убить Мирбаха? Сначала долго оправдывался, потом зарыдал, и Петерсу стало тяжело. Может быть, как признавался сам Петере, потому, что из всех левых эсеров, работавших в ВЧК, Александрович оставил наилучшее впечатление. Тем опаснее такого рода люди... Как и всякий человек, в чьей натуре определяющей чертой является честность, Дзержинский искренне хотел видеть это качество в людях. Но Александрович лишний раз доказал, что нельзя обольщать себя внешними признаками человека. Фундамент всего - мировоззрение, духовный мир... Дзержинский мысленно представил себе, как утром шестого июля в кабинет Александровича вошел невысокий брюнет с черной бородой и такими же черными усиками, с роскошной шевелюрой и загадочной улыбкой на сочных губах. Это был Яков Блюмкин. Он молча положил перед Александровичем удостоверение: "Всероссийская чрезвычайная комиссия уполномочивает ее члена Якова Блюмкина и представителя Революционного Трибунала Николая Андреева войти в переговоры с Господином Германским Послом в Российской Республике по поводу дела, имеющего непосредственное отношение к Господину Послу. Председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии Ф. Дзержинский. Секретарь Ксенофонтов". Александрович знал, что подписи и Дзержинского, и Ксенофонтова подделаны самим Блюмкиным. Прочитав удостоверение, текст которого не оставлял никаких сомнений в намерениях Блюмкина, он понял, что от него хотят. Молча открыв сейф, Александрович достал оттуда круглую печать ВЧК и старательно прижал ее к штемпельной подушке, будто больше всего заботился о том, чтобы получился отчетливый, не вызывающий подозрений оттиск. На самом же деле его волновало другое. В эти минуты он взвешивал все "за" и "против", думая о своей роли в тех событиях, которые неизбежно произойдут после того, как он, поставив печать на поддельный документ, придаст ему законную силу. Он думал о последствиях, которые обрушатся на его голову, если ход предстоящих- событий сложится не в пользу левых эсеров. Он боролся со своими колебаниями, мучительно сознавая, что, пока мандат Блюмкина еще не скреплен печатью, он, Александрович, еще имеет право выбора, еще может отречься от всех обязательств перед верхушкой левых эсеров. Достаточно лишь снять телефонную трубку и сообщить Дзержинскому о готовящемся мятеже. Он колебался, но, заметив, что Блюмкин косится на него, решился и звучно пришлепнул печать к мандату, опасаясь, что пьянящая решимость уступит место трезвому разуму. Блюмкин молча взял мандат. Теперь глаза Александровича вцепились в портфель - матерчатый, имитация черной кожи, с металлическими замками. Казалось, он жаждет узнать, что лежит в этом портфеле, хотя и был прекрасно осведомлен о его содержимом: две папки голубого цвета с надписью "Дело графа Роберта Мирбаха", три фотокарточки, письма на немецком языке с подписью "Роберт", протокол обыска его номера в гостинице "Элит". Знал он и содержание документов, покоящихся в портфеле: "Настоящим Королевское Датское Генеральное Консульство доводит до сведения Чрезвычайной комиссии, что арестованный офицер австро-венгерской армии граф Роберт Мирбах, согласно письменному сообщению Германского Дипломатического Представительства в Москве, адресованному на имя Датского Генерального Консульства, в действительности состоит членом семьи, родственной Германскому Послу графу Мирбаху, поселившейся в Австрии. Королевский Датский Генеральный Консул". И еще - обязательство: "Я, нижеподписавшийся, Германский подданный, военнопленный офицер австрийской армии Роберт Мирбах, обязуюсь добровольно, по личному желанию доставить Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией секретные сведения о Германии и Германском посольстве в России. Все написанное здесь подтверждаю и буду добровольно выполнять. Граф Роберт Мирбах". Ни отношение Королевского Датского Генерального Консульства, ни бумаги Роберта Мирбаха, ни что-либо другое не интересовало сейчас Александровича. Он думал лишь о мандате Блюмкина, на котором стояла поставленная им печать. И когда тот защелкнул металлические замки портфеля, окончательно понял, что мосты сожжены... - Автомобиль, - будто сквозь сон услышал Александрович голос Блюмкина. Александрович вырвал листок из своего именного блокнота, черкнул в нем несколько строк. Записка тут же исчезла в портфеле Блюмкина. - Вы ничего не хотите спросить у меня? - поинтересовался Блюмкин. - Нет, - ответил Александрович, но Блюмкин не был уверен, произнес ли он это слово вслух или, лишь отрицательно кивнув головой, приоткрыл рот. - Можете не сомневаться, я убью графа Мирбаха, - сказал Блюмкин. Александрович встал. Блюмкин подождал, пока он чтолибо скажет или попрощается, но, не дождавшись, сам протянул ему руку и, стиснув его мягкую холодную ладонь, исчез за дверью. Александрович поморщился то ли от боли, то ли от мучившего его неприятного чувства - и обессиленно опустился в кресло... Как Александрович решился на такой шаг? Этот вопрос снова и снова задавал себе Дзержинский. Несомненно, Александрович вспомнил о постановлении третьего съезда партии левых эсеров, проходившего в первых числах июля, вспомнил записанное в постановлении требование "разорвать революционным способом гибельный для русской и мировой революции Брестский договор", вспомнил, какая роль отведена ему в этих событиях. В решающий момент он должен был обезоружить или хотя бы парализовать ВЧК, стоящую на страже безопасности республики. Да, так будет и впредь враги будут пытаться проникать в ВЧК, чтобы парализовать ее или направить острие удара в иную, чем нужно для защиты революции, сторону. Об этом забывать нельзя. Александрович был втянут в подготовку мятежа, но задолго до этого последнего момента надеялся: вдруг чтото изменится, что-то произойдет. Теперь надежд не осталось. И потому, когда к нему пришел Блюмкин, он сделал вид, будто ничего не знает, не хочет знать. Было ли это трусливым желанием прикинуться человеком, выполняющим обычную формальность, или же привычной осторожностью, трудно судить... Дзержинский и теперь не мог примириться с мыслью, что Александрович стал на путь предательства сознательно. Но все факты налицо, и сейчас уже не может быть двух мнений о нем: главное не в Александровиче как в личности. Главное - в платформе левых эсеров. Дзержинскому отчетливо вспомнились слова Ленина: "И поверьте мне, Феликс Эдмундович, эти левые эсеры преподнесут нам нечто такое..." И действительно, преподнесли. Дзержинский достал из папки показания Марии Александровны Спиридоновой и, перечитывая их, мысленно опровергал одно утверждение за другим. "Убийство Мирбаха, - писала Спиридонова, - лишь только один из частных актов борьбы нашей партии со всяким империализмом... С негодованием отвергаю распространяющиеся в наш адрес обвинения в вольном или невольном союзе с английской, французской и всякой другой буржуазией... Программа нашей партии и пути ее ясны и прямы. Через отказ от всяких соглашательств и коалиций с каким бы то ни было империализмом, через классовую борьбу трудящихся против классовых врагов - помещиков и капиталистов, через восстания и через Интернационал - к победе над войной и над эксплуатацией мировой буржуазии, к завоеванию социализма..." Ничего не скажешь - красиво и бойко. Такие ультрареволюционеры не скоро уйдут со сцены, и бороться с ними тем труднее, чем отчаяннее и громче трубят они о своей революционности. И сколько вреда делу мировой революции они еще принесут, если не разоблачать их демагогию, их лишенных чувства реальности претензий указывать человечеству путь борьбы, не замечая, что ведут его к пропасти, к тяжелым поражениям и ошибкам. "С негодованием отвергаю..." - пишет Спиридонова. Благородные чувства! А чем же объяснить, многоуважаемая госпожа левая эсерка, что одновременно с вашим мятежом восстали савинковцы? Случайность? Поразительное совпадение? Фатум? И разве вы не учли, выбирая дату для мятежа, что войсковых частей в Москве почти нет - все лучшее брошено на фронт, а те гарнизоны, что остались в столице, находятся в летних лагерях? "Все происшедшее является результатом защиты русским правительством убитых агентов германского империализма и самозащиты ЦК нашей партии, совершившего это убийство..." Вот и объяснение причин мятежа. Большевики, мол, сами виноваты - зачем послали вооруженный отряд для охраны посольства, зачем в посольство ездил Ленин и Свердлов, зачем они извинялись перед дипломатами империалистов, зачем Дзержинский примчался в Трехсвятительский? Нет, нет, какой же это мятеж, это всего лишь самозащита!.. Вам этих объяснений недостаточно? У вас еще есть сомнения? Пожалуйста: "Ввиду того что у нас были опасения, что немцы, имея связь с мирбаховскими военнопленными, могут сделать внутреннюю оккупацию Москвы и что к ним примкнут белогвардейские элементы, мы приняли меры к мобилизации левоэсеровских боевых сил..." А зачем же вы захватили телеграф, госпожа левая эсерка? Извольте: "Думаю, что телеграф был занят для использования его для осведомления об убийстве Мирбаха и объяснения этого акта". Отлично. Действительно, такая телеграмма пошла. А почему понадобилось хотя бы вот это письменное распоряжение: "К сведению тт. телеграфистов и телеграфисток. Всякие депеши за подписью Ленина и Свердлова, а равно и депеши, направленные контрреволюционными партиями правых соц.-рев. и соц.-дем. меньшевиков, ненавистников Советской власти, белогвардейцев, кадетов и монархистов, провоцирующих левых соц.-революционеров, задерживать, признавая их вредными для Советской власти вообще и правящей в настоящее время партии левых с.-р. в частности. Все задержанные депеши направлять старшему по аппаратной. Член Цикопотеля: Лихобадин". Слышите, Мария Александровна: "правящей в настоящее время партии левых с.-р."? С явным опереженьицем написано! Желаемое выдано за действительное! Или вот: "В Тулу. Клуб "Земля и воля", Пятницкая, Титову, № 3809. Нами съезд покинут на один день. Ситуация грозит столкновением. Силы приводим в состояние готовности. Дмитрий. Адрес отправителя: Москва, "Националь", "№ 133". Еще процитировать или довольно? Что-то не видать тут объяснения насчет Мирбаха, зато других объяснений вполне хватает, даже с избытком!.. Дзержинский мысленно полемизировал со Спиридоновой и явственно слышал ее голос - грубый, истеричный. Тогда, в Трехсвятительском, в штабе мятежников, куда он поехал из немецкого посольства, среди других организаторов мятежа - Александровича, Черепанова, Камкова - увидел и Спиридонову. Она, как мрачное изваяние, стояла в дверях, язвительно усмехаясь над словами Дзержинского, обращенными к Попову: "Я застрелю вас как предателя!" Потом мятежники обезоружили Дзержинского, Лациса и Смидовича, а рядом с комнатой, в которую их посадили, устроили митинг. Спиридонова кричала, стараясь, чтобы ее услышал Дзержинский. Она прерывала свою речь лишь на то время, когда раздавались хлопки. Аплодисменты уже стихали, а она все еще ждала, желая, чтобы они звучали как можно дольше, подтверждая, что ее слова горячо одобряют поповцы. Она кричала, что декреты большевиков пишутся по приказанию графа Мирбаха, что большевики предали Черноморский флот, отбирают хлеб у бедняков. - Матросы! - вопила она. - Вы на своих плечах вынесли всю тяжесть революции. А что делают с вами большевики? Они не дают вам ходу, притесняют, уродуют ваши души... "Трехсвятительская богородица Мария..." - усмехнулся Дзержинский. Потом Спиридонова отправилась на съезд. То и дело к Дзержинскому прибегал Попов. Его рачьи глаза искрились сумасшедшим блеском: - Отряд Винглинского присоединился к нам, Покровские казармы арестовывают комиссаров... Муравьев спешит на выручку... И чем громче он кричал, захлебываясь словами, тем отчетливее проступал страх в его голосе. Черепанов, потирая бледные руки, ликовал: - У вас были октябрьские дни, у нас - июльские! Ликование их омрачилось лишь после того, как пришло известие об аресте Спиридоновой и фракции левых эсеров в Большом театре. Снова влетел в комнату взбешенный Попов: - За Марию снесу пол-Кремля, пол-Лубянки, полтеатра! Мятежники с матерной бранью, подогретые спиртом, влезали в автомашины... Яков Блюмкин... Еще одно действующее лицо в левоэсеровском мятеже. Начал работать в ВЧК в первых числах июня. Старался все время расширить свое отделение. Особенно настаивал на устройстве при нем фотографии и рекомендовал на работу Андреева, вместе с которым и отправился затем в немецкое посольство, представив его как члена Революционного Трибунала. Более подходящего авантюриста, чем Блюмкин, Спиридоновой и компании трудно было бы подыскать. Теперь понятно, почему незадолго до покушения на Мирбаха Блюмкин хвастался, что имеет полный план особняка германского посольства. Конечно, он, как и Александрович, будет утверждать, что вынужден был выполнять решение ЦК своей партии, подчиниться партийной дисциплине. Удобная ширма... Впрочем, довольно о них. Не Блюмкин, не Александрович и не им подобные определяют лицо ВЧК. Чекистыбольшевики и теперь проявили себя как стойкие, надежные бойцы партии. И Петере, и Калугин, и Лафар - сколько их, сердцем прикипевших к Советской власти, готовых отдать за нее свою жизнь!.. А как все переплелось, круто заварилось! Чекисты еще не успели справиться с Савинковым, как на сцену вышли левые эсеры, а враги, несомненно, плетут паутину новых заговоров и восстаний. Ну, что же, "будет буря, мы поспорим"! - как любит повторять Владимир Ильич.24
Каждую мипуту Ружич ждал, что дверь камеры распахнется и станет ясно, что пришел его черед. Ружич подготовил себя к этой минуте. В его душе не было ни страха, ни отчаяния, ни тупого равнодушия. Мучила совесть. А это было страшнее и пули, и петли. Смерть легче. Прогремит выстрел - и все. Вместе с ним будет убита его совесть. В камеру приносили газету. Он молча брал ее и, не разворачивая, клал в углу на табурет. Может быть, затерявшись среди блеклых типографских литер, промелькнет и фамилия Ружич. С присовокуплением таких эпитетов, как "заговорщик", "савинковец", "контрреволюционер". Что ж, все правильно. Наконец Ружич не выдержал. Однажды утром он попросил принести бумагу и карандаш. Просьба была тотчас же удовлетворена. Весь день он боялся к ним прикоснуться. Сможет ли перенести на бумагу трагичные раздумья, колебания, веру? Смирится ли его совесть с тем, что он обнажит свою душу, вызывая ненависть одних, радость других, равнодушие и иронию третьих? Смогут ли вместить эти строки его судьбу, страдания и надежды? И лишь когда наступила ночь, Ружич решил, что будет писать. Четыре письма. Всего четыре. Дзержинскому, Елене, Юнне, Савинкову. Сколько времени нужно, чтобы написать четыре письма? Четыре ночи? Может быть, четыре месяца? Или четыре года? Или нужна вся жизнь? Хватит четыре ночи. Если они у него есть, если ему их дадут. Только четыре ночи, и, когда будет поставлена последняя точка в последнем письме, он сочтет, что пора поставить точку и на собственной жизни. Итак, писать. Только то, чем живет душа. Никакой жалости к самому себе. Никаких оправданий и запоздалых раскаяний. Ни единой просьбы. Без тщеславного желания нарисовать себя не таким, какой есть, а каким бы хотелось быть или каким его хотели бы видеть. Без скидок на чувства, личные симпатии и антипатии. Подавив в себе смятение и боль. Писать только правду, прислушиваясь лишь к голосу совести. Даже если он обвиняет и казнит тебя самого. Ружич писал всю ночь, не вставая с деревянного топчана. А на рассвете медленно, будто все это было написано другим человеком, перечитал, не сделав ни одной поправки, не зачеркнув ни одного слова. "Председателю ВЧК Ф. Э. Дзержинскому. Надеюсь, что письмо мое попадет к Вам после того, как меня не будет, и это дает мне право считать, что я писал его не ради того, чтобы вымолить пощаду. Кто знает, если бы не было в моей жизни той памятной ночи, которая независимо от моей воли свела меня с Вами, возможно, и не родилось бы это письмо. Нет судьи беспощаднее, чем собственная совесть. Даже смерть в своей сути бессильна перед совестью, ибо и после того как человек уходит в иной мир, он оставляет и свои добрые дела и свои грехи тем, кто остался жить. Нет, я не принадлежу к числу людей, которые оставляют заметный след в истории. Более того, не принадлежу и к числу тех, кто считает себя таким хотя бы мысленно. Я простой русский человек, и мне больно, когда вижу, что в наш просвещенный век Россия продолжает страдать, как страдала тысячу лет назад. Душа ее кровоточит и взывает к помощи. Кто глух к этим мольбам, кто слеп и не видит ни лаптей, ни сырых подвалов, ни умирающих младенцев, тот не достоин жить на русской земле. Трудолюбивейший в мире народ гибнет, и, кто знает, много ли ему еще суждено жить. Я офицер. Но разве судьба офицера и судьба России - это несовместимо? Я ненавижу любое проявление тирании, разве этого недостаточно, чтобы бороться за счастье русского народа? Грохот, с которым царская корона свалилась на мостовую истории, отозвался в моем сердце, как и в сердцах подобных мне людей, не похоронным звоном, а торжествующим гимном надежды. Я лелеял надежду, что птица-тройка - Россия, отбросив на обочину царскую корону, понесется вперед, к своему выстраданному счастью, к своей немеркнущей славе. Но февраль сменился октябрем. Весну сменила осень. Октябрьский путч большевиков означал для меня крушение надежд - не моих лично, - надежд пахаря и рабочего, надежд русской интеллигенции. Я воспринял это как смену диктатуры одного человека - монарха диктатурой одной партии. И когда матрос Железняков пришел в Таврический дворец и разогнал первое в истории России Учредительное собрание, я понял, что всякая диктатура, будь то одного человека или группы людей, кладет крест на святая святых человеческого общества - на свободу. Савинков восстал против диктатуры большевиков. И я примкнул к нему. Нет, большевики никогда не были мне ненавистны. Я пришел к Савинкову лишь потому, что он восстал за поруганную, обездоленную демократию. И приди к власти на месте большевиков другая партия - кадеты ли, эсеры ли, - я не изменил бы избранному мною пути. Признаюсь честно - меня утешала мысль Аристотеля: "Из всех государственных правлений самые кратковременные - олигархия и тирания". Власть большевиков я считал тиранией - что было, то было. И, повторяю, я пришел к Савинкову. Разочарование родилось не сразу. Тайное общество, на создание которого Савинков тратил все свои силы, импонировало мне, и я стал, в чем мог, помогать ему. Сомнения в правильности избранного им пути возникли у меня, когда стало ясно, что он возлагает свои надежды не на русский народ, а на союзников. На их деньги. На их армии. Я не могу и представить себе, чтобы кованые сапоги интервентов топтали живое тело России. Никогда во всей истории человечества чужие штыки не приносили свободы. Клетка, пусть и с золотыми прутьями, остается клеткой. Судьбы истории, как и пути господни, неисповедимы. Но может ли рассчитывать на доверие и поддержку русского народа та власть, которая возникает под защитой английских танков и французских пушек? Подобно тому как в свое время французская монархия вернулась в распятую, поверженную революционную Францию в "фургонах иностранцев", подобно этому наши доморощенные кандидаты в диктаторы хотят прийти к власти, прокладывая себе путь чужими штыками; они лишь грызутся между собой из-за одной кости: в чьих фургонах сподручнее ехать - в немецких или англо-французских. Нет, нам не нужны варяги! Мы не повторим призыва, обращенного к ним во глубине веков: "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней пет. Приходите володеть и княжить нами". Но начиная с весны восемнадцатого года наша крупная буржуазия, монархисты всех мастей не переставая вопят, умоляют, зовут на помощь Англию. Потом вопят, умоляют, зовут на помощь Америку. Потом - Японию. И наконец, всех вместе. "Делят ризы мои и об одежде моей мечут жребий!" - разве не вправе, читая всю эту пакость, воскликнуть русский народ! Нет, лучше идти на плаху, чем смириться с этим! Я убежден - русский народ не смирится с этим. И еще. Я верил, что мы, русские офицеры, слившись воедино, поведем за собой народ. Но оказалось, что мы просто заговорщики и что поднимать народ не входит в наши планы. Мы призваны были своими сердцами разжечь костер интервенции. Все это открывалось во мне постепенно и меняло мое видение мира, беспощадно будило в моей душе уснувшую совесть. Был в моей жизни и один момент, который до крайности обострил все сомнения и заставил посмотреть на все происходящее иными глазами. Я имел поручение Савинкова вести работу в тех мелких, разрозненных группах молодых офицеров, что возникали в Москве как грибы. Часто эти группы плыли по течению без руля и без ветрил, растрачивая драгоценное время в пустых словопрениях и маниловских мечтаниях. Надо было сплотить их вокруг "Союза" - одних вовлечь в наши четверки, других использовать в решающий момент как резерв. В одной из таких групп я, к величайшему изумлению, встретил свою дочь. Казалось бы, чувство радости должна была вызвать эта нежданная встреча. Но те обстоятельства, в которые я был поставлен, вынуждали меня скрывать свои подлинные мысли и намерения даже от родной дочери. Интуитивно я почувствовал, что она душой не с ними - этими болтунами, скрывающими за цветистой фразой духовную пустоту и трусость. И вот пришел день, когда мне стало казаться, будто я предал и жену, и дочь, и самого себя. Я задавал себе вопрос: не предаю ли я и Россию, идя с Савинковым - демоном всепоглощающего властолюбия, человеком, который с жалкой настойчивостью стремится к своей цели, добиваясь ее любым путем, любыми средствами и любой ценой? Не хочу скрывать: когда меня привезли к Вам на допрос, я уже во многом разочаровался из того, что составляло суть и цель моей жизни. Но я отчаянно доказывал свое - мне хотелось послушать, как Вы будете разбивать мои доводы, разрушать тот мир идей и представлений о жизни, который я создал в себе. Нет, не ради праздного любопытства - я хотел проверить силу Ваших убеждений и вдуматься в их смысл и значение. И не жалею, что на допросе был таким, каким Вы меня увидели, - резким, упрямым, даже злым. Как ни парадоксально, я благодаря этому лучше узнал и Вас и себя. Вы сумели задеть самые больные струны моей души, и опять-таки, как это ни странно, боль моя от этого стала утихать. (Я употребляю здесь все время слово "дбпрос", хотя прекрасно понимаю, что та беседа, которую Вы вели со мной, далека и по своему содержанию и по форме от того, что зовется допросом.) Ночь, в которую меня везли к Вам, была очень темной, но именно в эту ночь я начал прозревать. Я прерву свое письмо одной просьбой, которая имеет для меня значение чрезвычайное. Ради бога, не примите мои слова, содержащие в какой-то мере похвалу в Ваш адрес, за некий хитроумный ход человека, который хочет ускользнуть от эшафота. Я смею надеяться, что Вы поверите в мою искренность. Больше того, я наслышан о Вас как о человеке, органически не приемлющем лесть, и этото как раз и придает мне смелости говорить то, что я думаю. Для того чтобы Вы поняли, как не похожи Вы на того человека, о котором мне приходилось слышать среди близких мне по духу людей, приведу Вам хотя бы часть их оценок и отзывов. Вам должно это знать, ибо человеку, поставленному на такой пост, как Ваш, крайне важно сопоставить диаметрально противоположные и даже враждебные точки зрения. Что говорят друзья и что говорят враги - анализ этого, на мой взгляд, делает человека мудрее. Многие представители моего лагеря не называли Вас иначе чем "думающая гильотина". Говорили, что Вы на одну треть Робеспьер без его ума и на две трети Марат без его дарования. Даже я, принадлежащий к окружению Савинкова, чувствовал в этих словах не здравый смысл, а злобу. Я утвердился в этом мнении после того, как волею жестокой судьбы попал к Вам, на Лубянку, одиннадцать. Возможно, Вы спросите, зачем я все привожу здесь. Просто из-за того, что меня и поныне мучает вопрос: как такой человек, как Вы, мог стать председателем ВЧК? Я видел и говорил с Вами всего лишь один раз, и, песмотря на то что вид Ваш суров и непреклонен, в душе Вы добры. Значит, Вы подавляете, побеждаете свою доброту во имя тех целей, к которым идете как большевик? Вообще это, конечно, смешно в моем положении - задавать вопросы, заведомо зная, что ответа не будет. Но, может быть, вопросы мои пробудят в Вас желание посмотреть на себя как бы со стороны, а это полезно любому человеку. Как-то в толпе рабочего люда на Красной площади я услышал слова: "В наших руках рычаг Архимеда!" И как бы опасаясь, что кто-либо не поймет смысла этих слов, умело и просто объяснил, что за штука этот рычаг, и закончил уверенностью в том, что они перевернут старый мир и построят новый. Я посмеялся тогда над этой уверенностью, разумеется, мысленно. Но теперь вижу, что абстрактный смех, как и абстрактная ирония, - существа слишком невесомые да и к тому же недолговечные. Все надо проверять жизнью. Есть у большевиков рычаг Архимеда или нет - полезай с ними в окопы, иди туда, где они строят и где разрушают, где митингуют и где поют песни, где смеются и плачут, иди везде, где большевики и народ. И тогда получишь ответ на свой вопрос. Этим путем нужно было идти мне, но я выбрал иной. Можно ли соединить огонь и воду? Всякий здравомыслящий человек скажет: нельзя. А я пытался. Теперь убежден: в каком бы лагере человек ни находился - у белых или у красных, - если он честен, то неизбежно поймет, за кем идет народ. У русских людей необыкновенный нюх на правду. Их не ослепишь блеском красивых речей, не усыпишь щедрыми обещаниями. Слишком много их обманывали, слишком часто хотели ослепить и усыпить! Повторяю, я должен был идти в народ и понять, за кого он, какой верой живет. Я пошел к заговорщикам. И то, что со мной произошло, закономерно и справедливо. Вот и все. Перечитал написанное. Сумбурно, местами нелепо, так и подмывает изорвать в клочки. Я не предатель. Но не могу допустить, чтобы авантюра губила русских людей. В ближайшее время вспыхнет пожар в Ярославле, Рыбинске, Муроме. Я не знаю точной даты, но это произойдет неминуемо. Может быть, хоть этим я помогу России, которая мне дороже жизни. Что сказать еще? Я мог бы сказать многое о том перевороте в моей душе, который произвела памятная ночь на Лубянке. Но я сдерживаю себя по тем же причинам, о которых говорил выше. Скажу лишь одно слово: спасибо... Можно совершить глупость, но нельзя умирать глупцом". Ночь отступала от окна, будто напуганная бессонными глазами Ружича. Рассвет неслышно боролся с тьмой, побеждая ее. На фоне звездного неба отчетливо проступили черные прутья решетки. Ранняя птица за окном взвилась в просыпавшееся небо. "Может быть, в такой же камере сидел и он, - внезапно подумал Ружич. И так же встречал рассвет. И тоже писал. Как он сказал тогда, ночью? "Было время, я мечтал стать учителем..." Но если он стал революционером, значит, иначе не мог? И значит, дело, ради которого он не боялся тюрьмы, победит?" Он долго думал, прежде чем перечитать второе письмо. "Любимая! Сейчас ты узнаешь, что я жив. Нет, это не воскрешение из мертвых. Я был жив, а ты думала, что меня нет. И надеялась на чудо. Ты мучилась и страдала, а я ни единым словом, ни единым звуком не попытался разрушить чудовищную легенду о моей гибели, ничего не предпринял для того, чтобы в твои милые, родные глаза хоть на миг посмотрело счастье. Я был уверен, что иду на такую жертву ради будущего России. Это, конечно, сказано громко, но в этих словах нет ни тени неискренности. Что может быть горше, чем удел человека, убежденного, что он достиг вершины, и вдруг тут же угодившего в пропасть? Не упрекай, не вини нашу Юнну. Она выполнила мою просьбу, и я знаю, какой ценой досталось ей это. Есть лишь один виновник того, что ты, человек самый близкий и самый родной для меня, узнаешь о том, что я жив, самой последней. Этот виновник - я. Сейчас, когда я пишу тебе, слышу твой смех. Ты смеялась тогда в Тарусе, на заре нашей жизни. Березы купались в солнце, и мне чудилось, что смеется все - и листья, и ветер, звеневший в лесу, и тихая, покорная Ока... Я слышу твой смех и сейчас и буду слышать его всегда, как вечный голос жизни. Не прощаюсь с тобой, ничто теперь уже не сможет разъединить нас. Береги нашу Юнну. Целую тебя, как тогда, в Тарусе. Твой Вениамин". Это письмо могло бы быть бесконечным. Но торопила ночь... "Юнна, доченька моя! Не думай плохо о своем отце. Кажется, сейчас, на финише жизни, я стал совсем не тем, кем был тогда, в особняке, что в Лесном переулке. И знаю, что ты порадуешься этому вместе со мной. Иди, родная, смело и гордо. Я знаю, ты избрала свой путь. Хочу верить, что он принесет тебе счастье. Пусть шумят над тобой знамена революции, те самые, под которые не встал твой отец. И пусть светит тебе солнце. Счастливого пути, моя маленькая! Твой отец". Оставалось написать Савинкову. Это было мучительнее всего. Как назвать его? Другом? Но он был им лишь в безумном воображении. Сподвижником? Но разве с первых же дней их знакомства нельзя было понять, как не схожи их жизненные пути? Тогда господином? Да, именно господином! Что же сказать ему на прощание? Оправдываться перед ним? Но в чем? Тогда что же писать? Исповедоваться перед Савинковым, рассказать о том, как прозревал, как все дальше и дальше уходил с той дороги, по которой с упрямой верой шел Савинков? Но разве он это поймет? Может быть, силой логики, убедительностью фактов доказать ему, что он заблуждается, что идет против воли народа и что народ - за большевиков? Нет, Савинков все равно не прислушается, не поверит. Лишь горько усмехнется и вновь устремится к цели. Нет, надо написать несколько слов. Вернее, передать Савинкову то, что сказал Дзержинский. А он сказал тогда, на допросе: "Придет пора - и Савинков будет ломать голову: чем объяснить свое поражение, свои провалы? В одном случае он объяснит это, скажем, прорехами в бюджете, во втором - предательством тех, кому он доверял, в третьем - бездарностью генералов. Ну, а потом, после четвертого, пятого, седьмого провалов? Неужто ему так и не придет в голову простая и ясная мысль: русские рабочие и крестьяне - с большевиками, с Лениным..." Да, пусть Савинков знает об этих словах. Он, Ружич, желает Савинкову лишь одного: в конце пути, если сбудется предсказание Дзержинского, вспомнить эти слова. Нет, он напишет это Савинкову не для того, чтобы купить себе свободу. Просто пришла пора подумать: куда мы идем? К бессмертью или к бесчестью? Куда идет Россия? С нами она или против нас? Вот в чем главный вопрос. Он требует ответа скорого и верного... Рассвет озарял город. Тот самый город, которого не было видно отсюда, из тюремного окна. Ружич утомленно прикрыл глаза. Положил письма во внутренний карман пиджака. Конечно же, то, что он написал, не вместило в себе и тысячной доли его чувств, мыслей, раздумий. Что же, пусть все, что осталось,принадлежит только ему. Только бы на миг увидеть Елену и Юнну! На один миг! Он вдруг подумал о том, что в крохотном письме к Юнне ни слова не сказал о юноше, которого спас тогда, у кафе "Бом". Она его любит, его дочь. Его маленькая Юнна! Боже мой, уже пришло время любить!.. Он долго сидел, обессиленный и печальный. В камере стало светлее: над городом поднималось нетерпеливое солнце. Ружич долго и жадно смотрел в крохотное окно, решетки которого, казалось, стремились перечеркнуть черными беспощадными линиями железных прутьев и небо, и солнце, и саму жизнь. Его взгляд вдруг упал на бесформенную кипу газет в углу, хранившем еще холодный сумрак ушедшей ночи. И случилось чудо, в которое он сам боялся поверить: его неудержимо потянуло к газетам - свидетелям отшумевших событий. Они, эти события, были сами по себе, а он, Ружич, - сам по себе, и казалось, так и должно было быть. Но сейчас он вдруг ощутил в себе прежнюю жажду - знать, что происходит на земле, почувствовать, как мир страстей и тревог, любви и ненависти, жестокости и добра клокочет в собственном сердце. Ружич вскочил и, словно боясь, что газеты вдруг исчезнут или ими завладеет чья-то невидимая рука, схватил их, как хватает старатель самородок золота. Будто опаленные ветром, зашелестели страницы, и в самое сердце ударили живые, огненные строки. "Единый фронт - белогвардейцы, правые эсеры и чехословаки..." "Пролетариат вынужден вести беспрестанную и беспрерывную борьбу за сохранение отвоеванных октябрьских революционных позиций..." "Чехословаки вступили в Самару..." А вот стихи, всего шесть строк:25
В жизни человека бывают такие минуты, в которые испытываемое им чувство счастья не может быть полным до тех пор, пока это же чувство не испытает другой, самый близкий и самый родной ему человек. Наслаждение счастьем в одиночку присуще лишь тем, кто не знает ничего выше и значительнее, чем замкнутый мир собственных желаний и ощущений. Такие минуты пришли к Ружичу, когда он вышел за ворота тюрьмы. Дул сильный ветер. Казалось, он родился где-то в далеких степных просторах. Он нес с собой непривычный для городских улиц горьковатый запах полыни и полевых цветов. Ветер неистово бился в узких, стиснутых домами переулках, гремел в старых, проржавевших крышах, срывал плакаты с афишных тумб. Давно уже Ружич не дышал таким свежим, ароматным и разбойным ветром, какой весело дул сейчас в Москве. После сумрачной камеры солнце слепило глаза, высекая из них слезы, и тогда казалось, что Ружич тихо и беззвучно плачет. Но он не плакал: жажда свободы вспыхнула в нем с той обостренной силой, с какой она рождается в узнике, стоявшем на грани жизни и смерти. "Скорее домой! - подстегивало его настойчивое, неумолимое желание. Лишь после того как она узнает, что ты жив, увидит тебя и будет плакать от счастья, лишь после этого ты почувствуешь себя человеком. Скорее же домой, к Елене!" И Ружич, стремясь погасить в себе нервное, горячее возбуждение, все ускорял и ускорял шаг. То он старался нарисовать в своем воображении лицо Елены и с ужасом убеждался, что никак не может зрительно восстановить все ее черты, то предугадывал, какие слова она произнесет, увидев его. То переносился думами к Савинкову, пытаясь предположить, куда его занесла судьба после разгрома поднятого им в Рыбинске мятежа. Но сквозь все это в его мятущейся, воспаленной голове прорывалась мысль о Дзержинском, о тех словах, которые он сказал ему. Дзержинский вызвал его накануне, и Ружич сразу же заметил, что он выглядел гораздо хуже, чем в ту ночь, когда увидел его впервые. Жестокая бледность обескровила щеки, еще резче обозначились скулы, еще сильнее воспалились глаза. - Я прочитал ваше письмо, - сказал Дзержинский, едва они сели. Ружич ждал, когда Дзержинский заговорит снова. Что скажет о письме, которое он и не помышлял посылать, но которое изъял у него надзиратель тюрьмы. Может, высмеет злыми, беспощадными словами? Или просто скажет, что ничего нового не нашел в его мыслях? - Я верю в вашу искренность, - коротко сказал Дзержинский и снова умолк, как бы давая возможность Ружичу глубже понять смысл этих слов. Ружич тщетно пытался справиться с перехватившими горло спазмами. - Наверное, вы следили за газетами, - продолжал Дзержинский. - Вы знаете, что нам пришлось пережить. В один и тот же день - Савинков на Верхней Волге и левые эсеры здесь, в Москве, - стреляли в самое сердце революции! - Дзержинский умолк, словно задохнулся от гнева. Успокоившись, лишь через несколько минут продолжил: Кстати, ВЧК благодарит вас за сообщение о планах Савинкова. Но, к сожалению, оно попало к нам слишком поздно. - Я читал, я знаю, - негромко ответил Ружич. - Враги промахнулись! - гневно и страстно воскликнул Дзержинский. - Вы еще не раз убедитесь, что революция наша - не на год и даже не на десятилетия. Если нам с вами повезет, мы отпразднуем и полвека Советской власти. А наши сыновья, внуки и правнуки - столетие! Это не бред фанатика, это - судьба, неизбежная, как жизнь! А они Савинков, Алексеев, Нуланс и иже с ними - называют нашу революцию путчем! Впрочем, и вы называли ее именно так. Но от этого сущность революции не меняется, она продолжает жить и крепнуть. У нее не судьба метеора, который сгорает в атмосфере, нет! - Он помолчал немного, читая что-то в раскрытой перед ним папке, и снова заговорил: - Вот хотя бы заговор Савинкова. Чем он кончился, вы уже знаете. Вот за границей сейчас ахают: видите ли, савинковский "Союз" раскрыли совершенно случайно, виной провала - роковая любовь юнкера Иванова к сестре милосердия. На это мы можем сказать прямо: были бы врали, а что врать - сыщут. А правда - вот она. Сестра милосердия пришла в Кремль. Не слунайно: поняла, какая угроза нависла над ее родной властью. А от кого мы получили первую весть о лечебнице в Молочном переулке? От простого рабочего. Он пришел в ЧК и сообщил о своих подозрениях. Тоже случай? Нет, чувство хозяина своей республики. Вот в чем наша сила! Вот почему нас никогда и никому не победить! - Можно мне закурить? - спросил Ружич. - Курите. И сравнивайте: Советская власть и ваше, присной памяти, Учредительное собрание... - Я позволю себе напомнить лишь один факт, - сказал Ружич, жадно затягиваясь папиросой. - В Учредительное собрание, насколько мне помнится, были избраны Ленин, Свердлов и другие лидеры большевиков. Ленин был избран по шести губерниям. В Учредительное собрание прошли, кажется, двести большевиков. Единственное, чего я не могу понять, - зачем понадобилось заменять это представительное собрание властью одной партии? - Отвечу. Но прежде попрошу вас назвать хотя бы одну партию, существующую или существовавшую в России, которая стояла бы за интересы трудового народа столь же беззаветно и самоотверженно, как большевики. - О партиях судят не по программным декларациям, а по их делам. - Ружич уклонился от прямого ответа не потому, что ловчил, а потому, что не был готов к нему. - Я могу привести вам сотни фактов, подтверждающих, что учредилка окончательно скомпрометировала себя. Она вчерашний день революции. Более того - ширма контрреволюции. Ленин как-то очень метко сказал, что кадеты кричат: "Вся власть Учредительному собранию!", а на деле это у них значит: "Вся власть Каледину". Нет, Ружич, русский народ совершил гигантский прыжок от царизма к Советам, и поворачивать вспять мы не собираемся. А насчет того, что о партиях судят по делам, вы правы. - Дзержинский испытующе нацелился в него. - Хотите проверить сами? Только не в роли стороннего наблюдателя, а как непосредственный участник событий? - Что? - Ружич не мог понять, к чему клонит Дзержинский. - Я вызвал вас из тюрьмы, чтобы объявить вам, что по постановлению ВЧК вы свободны. Если, разумеется, дадите обещание не переходить в стан врагов рабоче-крестьянской власти. Папироса выпала из пальцев Ружича. Смертельно побледнев, он уронил голову на приставной столик. Дзержинский быстро вынул из кармана носовой платок, смочил его водой из графина, провел им по лицу Ружича, расстегнул воротник рубахи. Ружич медленно приходил в себя. - Простите, - виновато прошептал он, очнувшись. - Вот видите, от радости тоже может случиться разрыв сердца, - серьезно сказал Дзержинский. - Ничего страшного, обыкновенный обморок. - Да, обморок, - обессиленно повторил Ружич. - Я причинил вам столько хлопот... - Ничего, - успокоил Дзержинский. - Кстати, мое предложение стать участником происходящих событий на стороне революции вполне, как мне кажется, согласуется с мечтой, столь откровенно выраженной в вашем письме. Вот эти строки. - Дзержинский отчеркнул их карандашом. - "Все надо проверять жизнью. Есть у большевиков рычаг Архимеда или нет - полезай с ними в окоп, повоюй и тогда отыщешь ответ. Иди -туда, где они строят и разрушают, где митингуют и где поют песни, где смеются и плачут - иди везде, где большевики и народ". Ведь это ваши слова? Кстати, тот рабочий сказал очень здорово: "В наших руках рычаг Архимеда!" - Да, я писал, - подтвердил Ружич. - Но только для себя. Писал как о несбыточной мечте. Я был уверен, что меня расстреляют. Дзержинский нахмурился. - Если говорить прямо, вы заслуживали расстрела, - сурово сказал он. Но мы не можем ставить вас в один ряд с Савинковым или Перхуровым. Я уже говорил почему. - Дзержинский снова помолчал, припоминая что-то исключительно важное. - Кстати, в самом постановлении о создании ВЧК в числе мер борьбы с контрреволюцией вовсе не упоминается расстрел. Предусматривались конфискация, выдворение, лишение карточек, опубликование списков врагов народа и так далее. Расстрела не было! Но нас вынудили к нему те, кто пошел в атаку на революцию! Ружич слушал его взволнованные, искренние слова и в душе не мог не согласиться с их справедливым смыслом. "Это можно понять, - подумал он. - Когда в тебя стреляют, не станешь отвечать объятиями и поцелуями". - Завтра вас освободят, - заканчивая разговор, сказал Дзержинский. - Я не тороплю с решением, но вы опытный военный специалист, и мне кажется, ваше место в армии. Перед Ружичем вдруг возникли слова из обращения к трудящимся, подписанного Лениным, которое он прочитал в газете: "Бывшие офицеры, которые честно и добросовестно работают над воссозданием армии..." Неужели Дзержинский имеет в виду именно это? - А вот как издеваются над рабоче-крестьянской властью господа Савинковы и их подпевалы, - сказал Дзержинский, обнаружив все в той же папке листок со стихами. - Вот послушайте:26
К вечеру ветер словно взбесился. Он злобно набрасывался на лес, стараясь пробиться сквозь чащу. Хилые осины стонали, как раненые. Ворчливо, будто старухи спросонок, скрипели сосны. Пустые, без единой дождинки тучи цеплялись за корявые верхушки ощетинившихся елей. Топкое болото разнесло по лесу густой, дурманящий запах гнили. Савинков тяжело, точно сбросив с плеча груз, опустился на обгорелый пень. Сапоги были облеплены жидкой болотной грязью. Хотелось счистить ее лежавшей рядом с каблуком щепкой, по пе хватало сил. Горячие капли пота, усеявшие лицо, долго не остывали даже на ветру. Флегонт не садился. Опершись широкой спиной о ствол сосны, он хмуро и жалостливо поглядывал на Савинкова, недовольный непредвиденной остановкой. Он верил: спастись можно, лишь затерявшись где-то в самой глубине нескончаемых лесов. Ветер неистовствовал, и лес был полон множества неожиданных шальных звуков. Чудилось, что вокруг хохочут и плачут люди, каркает воронье, стучат клювами дятлы, ухают филины. Флегонт озирался по сторонам, с нeтерпенпем ждал темноты. Савинков сидел недвижимо, уставившись глазами в грязные сапоги. Он был похож сейчас на глухонемого. "Таким еще не видал его, - мрачно подумал Флегонт. - Гордо носил головушку. Закинув назад... Гордость, выходит, должна под собой фундамент иметь. Без подпорок падает. Молчит вот. А то бывало - вздыбится, как необъезженный конь. Словами насквозь прошивает, будто из пулемета: "Демократических сопель не люблю! С массами объединяет кровь, а не типографская краска!.." Подрезали крылья соколу, вознесся выше туч, а оттуда вниз камнем... Повезло еще - жив остался. А в Ядрине был моментишко - сатана в ад зазывал. Вывернулись..." Поражение в Ярославле, Муроме, Рыбинске позади. И сейчас жаловаться иа невезение грешно. По всем статьям выходило им сидеть не в лесу, а в Чека. Но судьбазаступница не подвела. Пробираясь в Казань, попали в крохотный городок Ядрин. Стояла глухая, беззвездная ночь. Земля, накаленная днем злым солнцем, все еще задыхалась от духоты, не давала прохлады. Дышалось тяжело, запах горьких трав стоял над пыльной дорогой. Тогда их было трое: Савинков, Флегонт и Стодольский. Едва они верхами въехали на окраину и приблизились к кособокому спящему дому, как их оглушил сердитый окрик: - Кто едет? Всадники натянули поводья. Кони охотно повиновались и, робко фыркнув, замерли на месте. Было тихо, и казалось, что окрикнувший их человек сгинул в темноте. Но Савинков чувствовал, что он пристально смотрит на них, пе решаясь выходить на обочину. - Кто едет? - прервал его мысли другой голос, уже поспокойнее, с лепцой. - Свои! - отозвался Савинков. - Буржуи? Савинков секунду помедлил с ответом. Ясно, такой допрос офицеры не зададут. - Какие буржуи?! - возмущенно, по-начальнически нетерпеливо воскликнул он. - Свои в доску. Товарищи... - А ну, спешивайся, - потребовали из темноты. - Гони документы... Они послушно выполнили приказ. Тотчас же высоченный длиннорукий человек вынырнул откуда-то слева, выдернул у них поводья, повел коней. Человек заметно прихрамывал, казалось, в такт позвякивавшим стременам. К Савинкову подошел, держа наготове наган, стройный, ладно скроенный парень. Гимнастерка его давнымдавно выгорела на солнце и теперь блеклым пятном проступала в темноте. - Документы! - парень переложил рукоятку нагана в левую руку. - И - не рынаться! У меня тут целое отделение! Савинков протянул свое удостоверение. Флегонт и Стодольский последовали его примеру. - Впотьмах и блоха страх, - с досадой произнес парень. - Никак, черт лупу свистнул! - У меня спички, - услужливо произнес Стодольский. Его била нервная дрожь. - Я зажгу... - Спички! - насмешливо отозвался парень. - Соображаешь... Но Стодольский уже держал над развернутым удостоверением зажженную спичку. Парень приник к бумаге, пожевал губами. - Тут впору костер распалить, и то ни хрена не прочитаешь, - сердито заявил парень. - Пошли в Совет, там выясним. "Читать не умеет, а признаться не хочет, - с грустью подумал Савинков. - Узнаю тебя, Русь..." Совет размещался на площади, в бывшем купеческом доме. Парень долго будил спавшего в одной из комнат дежурного. Тот отвечал богатырским храпом и отталкивал парня локтями. - Тревога! - вдруг рявкнул парень над самым ухом дежурного. Тот взметнулся, как от выстрела, вмиг заправил за пояс гимнастерку и как ни в чем не бывало уселся за стол, на котором в гильзе от снаряда догорала оплывшая самодельная свеча. - "По постановлению Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, - громко, будто перед ним собралась толпа, прочитал дежурный, стараясь сдержать зевоту, - товарищ Савинков, делегат Комиссариата народного просвещения, едет в Вятскую губернию по делам колонии пролетарских детей..." Дежурный приостановился и с уважением оглядел стоявших подле него "командированных". - "Всем местным Советам предписывается оказывать всяческое содействие..." - В голосе дежурного зазвучали уважительные нотки. Слыхал, Лыков, - обратился он к парню, - всяческое содействие. А ты небось кулаки в ход пускал? Они у тебя огромадные! - Чего ты на меня чертей вешаешь? - возмутился парень. - Да я с ними, как с кумовьями... - Товарищ говорит чистую правду, - поспешил вступиться за него Савинков. - Я должен отметить, что бдительность у вас в городе отменная. И по возвращении в столицу я непременно доложу об этом! Дежурный встал и с достоинством пожал руку Савинкову. Был он худ, длиннолиц и производил впечатление человека, который за всю свою жизнь так и не сумел как следует выспаться. Он тут же распорядился разместить прибывших на ночлег, предварительно справившись, не доложить ли о них председателю Ядринского Совета. Савинков заверил дежурного, что они люди скромные, к тому же дьявольски устали и незачем среди ночи поднимать председателя с постели. Он попросил также напоить и накормить коней и держать их наготове, так как утром они без задержки должны продолжить свой путь. На ночлег их разместили в избе по соседству с Советом. Парень, сопровождавший их, дал наказ ничего не понимавшей со сна старухе покормить гостей и ушел. Савинков шепнул своим спутникам: - До рассвета надо исчезнуть. Нельзя так долго испытывать счастье. Могут спохватиться. - Верно, - поддержал всегда настороженный Флегонт. - Полцарства - за один час сна, - простонал Стодольский. - Не квакай, - оборвал сю Флегояг и подкрепил запрет смачным ругательством. Савинков опасался не зря. Он предчувствовал беду. И верно, парень, вернувшись в Совет, привязался к дежурному. - Товарищ Рябоконь, зачитай бумагу. - Пошел ты к лешему в штаны! - вскинулся задремавший было дежурный. При тебе читал? При тебе! Все в полном ажуре. Гляди - вот она, печать. - Печать, печать, - проворчал парень. - Ты зачитай. - Для глухих три обедни не служат, - еще пуще разозлился дежурный. - Ладно, хрен с тобой, - согласился парень. - По фамилии-то как его? - А вот - черным по белому. Товарищ Савинков. - Савинков, Савинков... - наморщил лоб Лыков и вдруг с размаху хлопнул себя ладонью но лбу. - Слыхали, как же! - Мозги у тебя набекрень! - возмутился Рябоконь. - Слыхали, как же! - не унимался Лыков. - В газете было пропечатано. Газета где? - Газета, газета... Небось еще намедни на самокрутки извели, - заворчал Рябоконь, однако, не мешкая, полез в ящик стола. Ящик выдвигался с трудом, это бесило дежурного, и он с грохотом выдвинул его вовсе. - Смотри-ка, уцелела! Он развернул измятую газету, поднес к чадившей свече и начал один за другим прочитывать вслух заголовки. Закончив, издевательски хмыкнул: - С дуринкой ты в голове, Лыков, как есть с дуринкой! - А ты ищи, ищи, - не обидевшись, настаивал Лыков. - Искал дядя маму, да попал в яму, - пробовал отшутиться дежурный. Гляди сам: вот про мятеж левых эсеров, вот телефонограмма лично товарища Ленина, вот сводки с фронтов. Приснился тебе этот Савинков, когда ты с бабой в обнимку спал. Ей-ей... Ну, вот еще - про восстание в Рыбинске. - В Рыбинске? - встрепенулся Лыков. - Вот туточки его и ищи! Рябоконь приник к газете. Теперь он предусмотрительно читал про себя. Дойдя до строк: "Во главе восставших контрреволюционеров стоял организатор "Союза защиты родины и свободы" известный враг Советской власти Б. В. Савинков", он оторопело уставился в Лыкова. Тот все понял по его будто окаменевшему лицу. - Может, однофамилец? - нерешительно спросил Рябоконь. - Все равно надо их допросить, голубков, и немедля! - воскликнул Лыков, рванувшись к двери. - Ребят возьми с собой! - вдогонку ему крикнул дежурный, доставая из кобуры наган. - ...Пока шел этот разговор, Флегонт успел выйти из избы, осмотреться. - Коней не взять, - с тревогой в голосе сообщил он Савинкову. - Тот высоченный верзила ходит возле них как собака на привязи. - Придется ножками, ножками, - усмехнулся Савинков, приметив отчаяние на лице Стодольского. - Лес близко? - Через огороды, а там до леса рукой подать, - ответил Флегонт. - Тогда - с богом... - прошептал Савинков. Старуха возилась у печи, гремя заслонками. Гости шмыгнули за дверь и растаяли в ночи. Рассвет встретили в лесу. Всходило солнце, когда они напоролись на вооруженных красноармейцев. Их обстреляли. Выручил овраг. Они кубарем скатились под откос Стодольскому не повезло: падая, он ударился о поваленное дерево. Он лежал на дне оврага у топкого ручья и стонал. Флегонт осмотрел его. - Перелом ноги, - хмуро сообщил он Савинкову. - Что будем делать? Тащить на себе? Савинков не ответил. Наверху, в чаще, подступавшей к оврагу, затрещали сучья, послышались голоса. Савинков и Флегонт молча переглянулись и, не сговариваясь перепрыгнули через ручей, спасаясь от преследования. - Стойте, куда же вы?! - вслед им отчаянно закричал Стодольский. - Мы же вместе... Стойте, не бросайте Савинков и Флегонт, не оглядываясь, мчались по оврагу и вскоре скрылись за крутым глинистым обрывом. - Стойте... - все еще умолял Стодольский, не веря, что его бросили. И, вдруг поняв это, вместе со стоном выдохнул из последних сил: - Будьте вы прокляты!.. ...Сейчас Флегонт не испытывал мук совести. Он смотрел то на Савинкова, то на небо, радуясь, что ветер гонит над лесом обрывки черных угрюмых туч. Савинков не думал уже ни о приключении в Ядрине, ни о покинутом ими Стодольском и даже ни о том, что ждет их впереди. Воспаленный мозг сверлил и сверлил лишь один вопрос: "Почему?!" Почему Дзержинскому удалось проникнуть в самое сердце "Союза", несмотря на блестящую конспирацию? Почему разгромлен Перхуров, дольше всех державшийся в Ярославле? Почему закончилось крахом восстание в Муроме? Почему через час, всего через час было проиграно сражение в Рыбинске? "В Рыбинске я был сам, - мысленно разговаривал с собой Савинков. - Я лично проверил силы рыбинской организации. Они были достаточны для восстания. Я проверил силы большевиков. Они были невелики. Я осведомился о настроении рабочих. Оно было для нас удовлетворительное. Я справился о настроении крестьян. Оно было вроде бы в нашу пользу. Я подсчитал количество имевшегося в нашем распоряжении оружия. Его было достаточно, чтобы взять артиллерийские склады и штурмовать город. Так почему же, почему в два часа ночи, ровно через час после того, как мы начали атаковать, бой был проигран? Почему?!" У Савинкова было такое состояние, будто с каждым "почему" в него стреляют и каждая пуля попадает прямо в сердце, в одно и то же место. Откуда он, этот зловещий, неразрешимый и страшный, как проклятье, вопрос "почему"? Откуда? Откуда? Да разве ты сам не понимаешь, что он исходит от Ружича? Это "почему" словно начинено динамитом. Память - как зажженный бикфордов шнур. Еще мгновение - и взрыв. Почему побеждают большевики? Хлеб с мякиной, тиф, страдания. Раздолье анархии, переворот в людских душах, безверие и отчаяние. Мрак и холод. Тысячи, сотни тысяч врагов. Почему же они побеждают, большевики? В чем первопричина признания, вырвавшегося у Ружича во время их последней встречи: "Тогда я шел за тобой не раздумывая, а теперь..." Когда же была их последняя встреча? Ах да, это же так просто запомнить - первого мая. Ружич пришел возбужденный, изменившийся, со страдальческим выражением горящих безумным блеском глаз. Задыхаясь, будто бежал от погони, он рассказал, что был на Красной площади и видел, как мимо украшенной кумачом трибуны шел и шел нескончаемым потоком трудовой люд. - Я не верил, не верил... Но ты бы сам посмотрел, Борис, какой надеждой и счастьем светились их лица! - воскликнул он. Ты молча слушал его, не переубеждая, не прерывая, Ружич передохнул и уже другим, обреченным и равнодушным тоном заговорил о том, как он только что оказался свидетелем разрушения царского памятника. Ты тогда ясно представил себе эту картину... Фигура, отлитая из бронзы, висит в воздухе, удерживаемая толстыми стальными канатами. Вокруг - разношерстная, жаждущая зрелищ толпа. Множество гимназистов. С достоинством держат себя бывшие военные - их можно распознать по френчам из желто-зеленого сукна, по бутылкообразным лакированным сапогам, по раздувающимся кверху офицерским брюкам, по следу на фуражке, оставшемуся от снятой кокарды. Ружич рассказывал, и ты отчетливо слышал все, что говорилось в толпе, возле памятника. - Все уничтожают, - злобно шипит бывший офицер. - Они говорят, что это не искусство, - подхватывает гимназист. - Сволочи. Не искусство... Теперь этот снимут, потом доберутся до Александра Второго. Его из-за границы смотреть приезжали - итальянская работа. А после и Минина с Пожарским по шапке. Вот и на это место поставят Стеньку Разина или Емельку Пугачева... - Мне стыдно, мне было мучительно стыдно! - вскричал Ружич, закончив рассказ. - Мне казалось, будто всю эту чушь говорю я! Один я - среди ликующей, торжествующей толпы! А знаешь, Борис, что ему ответил мужик, не то мелкий торговец, не то артельщик? Вы, говорит, в храме божьем лекстричество зажгли. А восковую свечу в непотребном месте жгете. Воск, он как добывается? Пчела, она за семьсот верст летает. И на лапках, и на спинке, и во рту воск этот самый несет. А вы его в непотребном месте потребляете. А в храме божьем - лекстричество. Вот вас бог и наказал! Помнится, ты расхохотался тогда от всей души. А теперь... Чертов мужик, провидец он... "Восковую свечу в непотребном месте жгете..." Чем-то еще не до конца осознанным перекликается эта фраза, похожая на афоризм, с мыслями некоего профессора Озерова в газете "Великая Россия". Этот номер ты тщательно прятал от Ружича, но тот все же заметил, прочел. "Россия сделалась посмешищем для всего света..." - со сладострастием предавал себя позору и бичеванию оный профессор. "Большевизм вскрыл нам нас самих, показал нам, какую гниль мы собой представляем. У нас была гнилая сердцевина, но сверху эта гниль была густо закрашена. И в будущем все равно мы рухнули бы, но с еще большим грохотом..." Гнилая сердцевина... Значит, на вопрос: "почему они побеждают, большевики?" - есть тысяча ответов? Нет, ответ должен быть лишь один, и ты призван найти его, найти даже ценой собственной жизни. Сейчас ты разбит, разбит вдребезги, сейчас ты генерал без армии. Сейчас ты похож на отбившегося от стаи волка, все, что ты создавал и строил ценой нечеловеческих усилий, разрушено, рассеяно, повержено в прах. Почему? Может быть, ты избрал ложный, ошибочный путь и принял тропку, ведущую в гиблую глушь, за столбовую дорогу жизни? Может, верным путем идут большевики? Собственно, с чего появилась пропасть, разделившая тебя с ними? Что восстанавливало тебя против большевиков? Первое - прямо противоположное отношение к Учредительному собранию. Второе Брест-Литовский ~ мир, сама мысль о прекращении войны была непереносима, как горящая головня, прислоненная к живому телу. Третье - уверенность, что большевики не смогут долго удержать власть и ею снова завладеют монархисты. А главное - убежденность в том, что народ не хочет большевиков. В этом ты не сомневался. И коль народ против большевиков, то и ты призван бороться с большевиками. Искренен ли ты сам с собой? Наверное, не во всем. Наверное, есть и такие мысли, в которых ты боишься признаться даже самому себе. Вот если народ против большевиков, то почему ты проиграл в Рыбинске, Ярославле, Муроме? Ведь не одни большевистские комиссары одолели твою рать! С тобой были храбрые, отлично обученные, отменно знающие военное дело офицеры. Они были превосходно вооружены. Почему же ты повержен? Роковой случай, стечение обстоятельств, злая воля судьбы? Или - за большевиками народ? Тогда чем они его привлекли, приворожили? Нет, скорее всего, они запугали его, забили ему голову, ослепили феерической сказкой о мире, земле, счастье... И, значит, еще не поздно начать все сызнова? Против кого ты идешь? Против большевиков, против Ленина? Помнится, Ленин еще в "Что делать?" отчитывал тебя как мальчишку за приверженность к экономистам, за неверие в революционную энергию масс. Позже, в семнадцатом, Ленин назвал тебя другом Корнилова. И тогда же Ленип говорил: "Вся сила богатства встала за Корниловым, а какой жалкий и быстрый провал!" Ну, Корнилов - это не Савинков! Корнилов... Глядя исподлобья на тебя, он тогда, в Новочеркасске, пробурчал: "Сняли намордник, а теперь сами трусят своей революционной демократии..." Да, во всем виноваты большевики, и ты не перестанешь ненавидеть их, хотя и не можешь уподобиться тому австрийцу, который так ненавидел Наполеона, что отрицал всякую возможность его существования. Да, только кровавая и тяжкая борьба с большевиками - это твой вечный бой до гробовой доски... Но почему сейчас все прахом? Пусть будет любая причина, любая, кроме одной, в которую страшно поверить: с большевиками - эарод. Ружич, кажется, уже поверил. Что ж, мы еще встретимся, Ружич. Как-то ты тогда посмотришь мне в глаза?.. Лицо Савинкова пылало. Это было невыносимо - растравлять свои душевные муки, сыпать соль на кровоточащие раны, идти по свежим следам своего поражения. Это значило казнить самого себя. И, переполнившись тягостными, противоречивыми мыслями, он, ища спасения, уставился глазами в полыхавшее страдальческой чернотой небо и исторг из глубины своей души поток истерически-восторженных слов: - Одиночества жажду! Хочу дышать ветром, пить из родника, считать звезды... Лес люблю! Человек вышел из леса, его породил лес! Кто-то из мудрых сказал, что самая чистая радость - это радость природы! Как верно, как прекрасно! В лес - и забыть, и забыться!.. - Будем прохлаждаться - настигнут, - мрачно изрек Флегонт. Истеричность Савинкова бесила его, но он терпел. - Небось Стодольский уже раскололся, до жизни уж больно охоч. Он не простит нам... - Не простит? - будто не понимая, почему Флегонт пришел к такому заключению, торопливо переспросил Савинков и схватил его за локоть: Зачем мы бросили его? Зачем? Я никогда прежде не бросал вот так... Нехорошо это. Ведь нехорошо, а? Флегонт молчал: Стодольского он знал мало, а узнав ближе, невзлюбил, особенно за многословие и бесхарактерность. - А насчет леса - бредни! - как можно строже произнес Флегонт. Перчатка брошена, и секунданты ждут. Дуэль продолжается! Савинков вздрогнул, как от удара, и, вплотную подступив к Флегонту, начал говорить, с трудом разжимая губы: - Однажды я спросил его... - Азефа? - тут же догадался Флегонт, зная, что Савинков иногда бывает откровенен с ним, как с самим собой. - Спросил его, - боясь, что судорога сведет рот и он не успеет досказать, повторил Савинков. - Спросил: "Ты веришь в социализм?" А он в ответ: "Все на свете, барин, нож и вилка. Ну, понятно, это нужно для сосунков, но не для нас же... Смешно!" Ты слышишь, что он сказал: "Смешно!" - Не раскисай, - Флегонт нахмурился. - Первое - спастись. Второе найти опору. Здесь ли, в России, а может, и за границей. Главное, чтоб надежно... - Спасибо, спасибо, - благодарно отозвался Савинков. - Идем! С большевиками, брат, так: или с ними, или против них - посередке не усидишь. Идем же, идем, я готов... Это был миг, в который упорство Савинкова перерастало в веру. Веру в то, что неудача сейчас не страшна, не губительна. Схватки еще впереди. Все впереди, все... Они медленно пошли по тропинке. Быстро темнело, но ветер не утихал. Лес стонал и скрипел, все вокруг было пронзительно чужим, пугающим, враждебным. И снова отчаяние охватило Савинкова. - Какой ветер! - задыхаясь, воскликнул он. - Какой страшный ветер! А мы - мы листья. Всего лишь листья... Скажи, Флегонт, бывают летом осенние листья? Скажи, что ж ты молчишь? Не хочешь признаться? Так я сам скажу тебе: бывают, бывают!..27
Когда полтора месяца назад Завьялов, склонившись к раненому Мишелю, радостно воскликнул: "Живой!" - и весело подмигнул Юнне, подбадривая ее, он не мог, конечно, предполагать, что ранение это гораздо серьезнее и опаснее, чем ему показалось. Не могла этого предположить и Юнна, которую несказанно обрадовало то, что Мишель вдруг очнулся и заговорил с ней. Она не догадывалась, какое невероятное напряжение сил и воли потребовалось Мишелю, чтобы сказать ей те несколько слов, которые он сказал. В лазарете, куда Юнна и молоденький матрос из отряда Завьялова привезли его на извозчике, Мишелю стало совсем плохо, и он потерял сознание. Ни Юнну, ни моряка в палату к нему не пустили. Молоденький моряк тотчас же отправился на Чистые пруды в свой отряд, а Юнна все никак не могла принудить себя отойти от ограды лазарета. Она и помыслить не смела о том, что какое-то время, пусть даже самое непродолжительное, не сможет знать, как себя чувствует Мишель, все ли сделано, чтобы ему стало легче. Она верила, что если бы ей разрешили сидеть возле Мишеля, то он быстрее бы встал на ноги: не зря же говорят, что любовь побеждает смерть. Юнпа надеялась, что кто-либо из лазаретной прислуги сжалится над ней и впустит в палату. Но никто не замечал ее, ни у кого вид красивой, хотя и печальной, девушки не вызывал чувства жалости. Тучи обложили Москву. От них веяло суровой прохладой. Внезапно взметнувшийся ветер погнал вдоль улицы шуршащие струйки пыли, окурки, обрывки газет. Тяжело и звучно припечатали землю первые крупные капли дождя. Юнна укрылась под деревом, крона которого зеленым зонтом нависла над тротуаром. Но вскоре даже плотная густая листва не смогла противостоять ливню. Струйки чистой, прозрачной воды потекли сквозь лее. Смеркалось. Ливень утих и сменился мелким, частым, усыпляющим дождем. Он был теплым, но Юнна зябко поежилась: вся одежда ее была мокрой, липла к телу. Пора домой. Тяжело было уходить, не узнав, как чувствует себя Мишель. Нет, все равно она добьется своего. Не успокоится, пока не увидит Мишеля и не убедится, что опасность уже позади. Она будет ходить сюда каждый день... Легко сказать, а как уйти из-под пристального контроля Велегорского?.. Юнна медленно брела опустевшими улицами. Вокруг капало, звенело, журчало. Казалось, дома и деревья тихо плывут в мглистом тумане. На Цветном бульваре было таинственно и сумрачно. Сразу же за поворотом в переулок Юнну негромко окликнули. Она вздрогнула: Велегорский! Выследил, сейчас будет допрос с пристрастием... Зоркие глаза Юнны разглядели в темноте человека, непринужденно, будто он назначил свидание, прислонившегося к афишной тумбе. У Юнны отлегло от сердца: Калугин! Он медленно,вразвалку пошел ей навстречу и, поравнявшись, негромко, но внятно произнес: - Звонил в лазарет: выживет! Не вешай носа - от радости кудри вьются, а с горя секутся. Второе: в Лесной больше не ходи, все буйны молодцы у нас. Отдыхай пока, нужна будешь - дам знать. И Калугин все так же медленно, беззаботно зашагал в темноту, насвистывая веселую, озорную песенку. "Наконец-то! - едва не вскрикнула Юнна. Она готова была тут же нагнать Калугина и расцеловать. - Мишелю лучше, он будет жить! Велегорский и вся его группа арестованы. Наконец-то!.. - Конечно же, будут новые задания. Но под этим можно поставить черту. Это так необходимо ей сейчас. Она сможет навещать Мишеля. - Как он сказал, Калугин? "Отдыхай пока..." Милый, чудесный Калугин! Он знает, почему мне именно сейчас так нужен этот отдых..." ...Все это было полтора месяца назад. А теперь уже последние дни августа... Мишель окреп, ему разрешили ходить, но каждый раз, когда Юнна появлялась в лазарете, сестра виновато говорила ей: - Опять рана открылась. И доктор вчерась сказал: "Повременим". В один из тихих, уже по-осеннему прозрачных августовских дней Юнна сидела у постели Мишеля. Они то молча смотрели друг на друга, словно им тотчас же после этой встречи предстояла разлука, то негромко говорили, и каждое, даже самое простое, обыденное слово было для них особенным и значительным. - Вот и лето промчалось, - вздохнула Юнна. - Жаркое оно было... - Жаркое! - подхватил Мишель. - А я, как последний дезертир, провалялся на этой проклятущей койке! Это же тюрьма, настоящая тюрьма! - Ох, как я тебя понимаю! Это как птице: хочется лететь, а крылья обрезаны. - В голосе ее вдруг послышалась грусть. - Ты знаешь, едва услышу слово "тюрьма", тут же подумаю об отце. - Я верил, что он будет на свободе, - сказал Мишель. - Ты еще не знаешь Дзержинского! - Знаю! Он вернул отца к жизни. И вот он тридцатого августа... Ах, да ведь это же завтра! Он назначен начальником штаба красноармейского полка и завтра уезжает на фронт. Я никогда не видела его таким сияющим! А маме - снова ждать, ждать и ждать... - Как чудесно на душе, когда знаешь, что тебя ждут! - Мишель приподнялся на локтях и сел, упираясь спиной в подушку. - Да, да, я уже испытал это на себе. - И я! Когда тебя не было в Москве... - А вдруг и у нас впереди расставание? - Молчи, молчи, - тревожно остановила его Юнна. Они говорили, забыв обо всем на свете. В палате лежало еще двое раненых. Один из них крепко спал, второй время от времени стонал в забытьи. Занятые собой, Мишель и Юнна не сразу услышали, как за дверью палаты раздались голоса. - Не беспокойтесь, прошу вас, - мягко убеждал сестру мужчина. Голос его показался Мишелю удивительно знакомым. - Не надо предупреждать. Я войду сам, а вы, пожалуйста, занимайтесь своими делами. Вслед за этим дверь тихо приоткрылась, и на пороге возник высокий, стройный человек в белом халате, накинутом иа худые плечи. - Феликс Эдмундович! - рванулся с постели Мишель. - Прошу прощения, - улыбнулся Дзержинский. - Третий, говорят, всегда лишний, но, что поделаешь, у меня чертовски мало времени. Заехал к вам, можно сказать, по пути. И разве я виноват, что меня опередила молодость... Дзержинский пожал руку Юнне, присел на край постели и осторожно взял Мишеля за плечи. - А ну, поворотись-ка, сынку! Теперь совсем герой, - удовлетворенно сказал Дзержинский. - Ну, щеки еще бледповаты, так это потому, что давно без свежего воздуха. Короче говоря, скоро в строй! - Феликс Эдмундович! - взмолился Мишель. - Хоть вы заступитесь за меня перед этой несносной медициной! Чувствую себя превосходно, а они твердят одно и то же: рано! - Э, батепька мой, - остановил его Дзержинский, - вот уж где я абсолютно бессилен - так это перед медициной. Да вы знаете, - с напускной строгостью и страхом проговорил он, - если они, чего доброго, вздумают и меня упрятать в лазарет - уж будьте уверены, упрячут! И никто не спасет от этой кары! Медицина - это сущее государство в государстве! - Да я сбегу отсюда, Феликс Эдмундович, в окно выпрыгну и сбегу! - Высоко. - Дзержинский выглянул в окно, будто всерьез воспринял слова Мишеля и теперь прикидывал, сможет ли тот осуществить свой замысел. Высоко. Какникак третий этаж. Вот и Юнна против того, чтобы вы прыгали. Ведь против же, по глазам вижу? - Конечно, Феликс Эдмундович, - просияла Юнна. Смелая и не стеснительная, она смущалась, когда говорила с Дзержинским. - Ну вот, все против того, чтобы вы раньше времени удирали, - засмеялся Дзержинский. - А как правая рука? - с тревогой спросил он. - Ведь одна рана у вас в плечо. - Повезло, - сказал Мишель. - Рука в порядке. - Значит, обещание будет выполнено? - Сыграть Шопена? - сразу же догадался Мишель. Дзержинский молча кивнул. - Обязательно! - воскликнул Мишель. - И обязательно - вторую фортепьянную сонату си бемоль минор. Помните, вы обещали мне еще в апреле? - Я готов хоть сейчас! - загорелся Мишель. - Не знаю только, есть ли в этом богоугодном заведении пианино... - Пока отложим, - сказал Дзержинский. - Сейчас я должен вас покинуть. К тому же доктора обещают вас скоро выпустить. - Неужели? - Мишель возбужденно привскочил на постели. - А вот если так будете скакать, - пригрозил Дзержинский, - снова откроется рана и снова - "сижу за решеткой в темнице сырой". Кстати, что это вы так рветесь отсюда? У вас же здесь уйма свободного времени, и, наверное, уже не только бумага, но и простыня исписана стихами, а? Ну, признавайтесь, есть новые стихи? - Есть, - радостно сказал Мишель. - И даже - поэма... - Поэма? - удивился Дзержинский. - Кому же она посвящена? - Революции. И вот ей, - Мишель кивнул на Юнну. - Ну, что же, - сказал Дзержинский. - Теперь уже мы втроем послушаем Шопена и вашу поэму. - Дзержинский как-то по-новому посмотрел на Юнну, словно это была его родная дочь и он раздумывал, можно ли ее доверить Мишелю, доверить на всю жизнь. - Да знаете ли вы, каким счастьем владеете? Полюбить в революцию, в дни, когда вихрь Октября бушует над миром... - Он помолчал, вспоминая что-то и думая, говорить об этих воспоминаниях вслух или нет - уж слишком личными они казались ему. - Вот я, например, счастлив, что полюбил революционерку. У нас одни цели, одна идея, и это придает нам силы и мужество. А знаете, что главное в любви к родине, к человеку? Главное в том, что нельзя наполовину любить, как нельзя наполовину ненавидеть. Нужно отдать всю душу или не давать ничего. Юнна заметила, что раненый боец, тот, что стонал в забытьи, лежал сейчас с открытыми глазами. - Помню... - Дзержинский повеселел. - Помню первую свою любовь. Был я тогда гимназистом. А неподалеку от нас была женская гимназия. Ну и влюбился я, как принято писать в душещипательных романах, без памяти в одну миленькую ученицу. Стали мы обмениваться записками. И знаете как? Письмоносцем у нас был, сам того не ведая, ксендз. Да, да, настоящий ксендз, он преподавал закон божий и в мужской, и в женской гимназиях. И я, и моя первая любовь клали записки знаете куда? Нет, никогда вам не угадать - в галоши ксендза! И так до тех пор, пока ксендз не раскрыл тайну. Дзержинский снова засмеялся, и Мчшель подумал, что впервые видит его таким веселым и разговорчивым. - А когда я понял, что первая моя любовь была без взаимности, то, даже стыдно сейчас в этом самому себе признаться, хотел застрелиться. К счастью, подавил в себе этот приступ малодушия. Я радуюсь вашему счастью, - проникновенно продолжал Дзержинский. - Вот станете на ноги, да, может, и отпразднуем свадьбу к первой годовщине революции? - лукаво прищурился он. - И знаете, если бы я попал на такую свадьбу, какой тост мне бы хотелось, очень хотелось произнести? Я бы сказал о женщине. О женщине-товарище, которая в вихре революции идет в ногу с нами, мужчинами... Которая зажигает нас на великое дело борьбы и воодушевляет нас в минуты усталости и поражений... - Он на миг задумался и тихо, смущенно, то и дело приостанавливаясь, продолжал: - Которая улыбается на суде, чтобы поддержать нас в момент судебной расправы над нами... Которая бросает нам цветы, когда нас ведут на эшафот... Мишель и Юнна как зачарованные смотрели на него. - Это же гимн женщине! Солнечный гимн! - восторженно воскликнул Мишель. - Не пригодится для вашей поэмы? - шутливо спросил Дзержинский. - Если пригодится - пожалуйста, мне не жалко! - Он взглянул на часы, посерьезнел. - Итак, желаю скорейшего бегства отсюда. Но - бегства законного, Дзержинский погрозил Мишелю пальцем. - Борьба разгорается, работы уйма. Сами вы теперь убедились, сколько нервов вымотали нам левые эсеры и их богородица Трехсвятительская Мария. - Он неожиданно умолк, взглянув на Юнну, и она вмиг поняла, о ком идет речь и какой смысл вложил в этот взгляд Дзержинский. - Подлая она, подлая, - с ненавистью повторила Юнна те самые слова, которые впервые произнесла в ту минуту, когда склонилась над раненым Мишелем. - Подлая... - А как Савинков? - нетерпеливо поинтересовался Мишель. - Скрылся. Но дело его проиграно. Он повержен, и, хотя еще попытается встать на ноги, пути ему нет. - Дзержинский помолчал и продолжил: - Врагов у нас еще много. Короче говоря, тревоги впереди. И знаете, - обратился к Мишелю Дзержинский. - Кажется, исполнится ваша мечта. Вы ведь любите опасности и приключения? Ну, о деле потом. А как настроение у отца? - спросил он Юнну. - Мы с мамой не видели его таким жизнерадостным, - ответила Юнна. - Вот и чудесно! Завтра у них в полку митинг перед отправкой на фронт. Если выкрою время, приеду проводить. - Спасибо, - поблагодарила Юнна. За дверью раздался шум. Кто-то рвался в палату, а сестра не пускала и отчитывала его. Дзержинский сам раскрыл дверь. На пороге стоял самокатчик. Он козырнул и молча протянул Дзержинскому пакет. Дзержинский прочитал и стал прощаться. - Видите, как чувствовал, что меня ждут. Срочно вызывает Владимир Ильич. Он вышел за дверь и вдруг поспешно вернулся с большим пакетом в руках. - А ведь чуть не забыл, - сокрушенно сказал он, положив пакет на тумбочку. - Здесь яблоки. Настоящая антоновка. И - чистая бумага. Тут две записные книжки. Но смотрите, - добавил он уже у порога, - поэма должна получиться не хуже, чем у Мицкевича! Дзержинский ушел, и в палате сразу же стало пусто и тоскливо. Раненый боец восхищенно протянул: - Ну и человек!.. - А что? - встрепенулся Мишель: он не понял, куда клонит раненый. - Что, что, - обиделся тот. - Человек, говорю, вот и весь сказ. - Он надолго умолк, словно не мог избавиться от чувства обиды или же раздумывал, стоит ли продолжать разговор. И наконец не выдержал: Человек, и все тут. Я вот лежу с тобой рядом, а ты спросил: человек я или кто? - Боец с вызовом посмотрел на Мишеля. - Из отряда Попова я, понял? Мишель приподнялся на койке, изумленно спросил: - Как же сюда попал? - А так! - надрывно воскликнул боец. Обескровленное лицо его исказилось, как у человека, испытывающего невыносимую боль. - А так! Не в том суть. Ты спроси, как к Попову попал. Был красный боец Антон Петров Грибакин. За Советскую власть горло перегрызал белым гадам. Послали в отряд ВЧК. Стало быть, к Попову. Послушал я его речи - вроде полный ажур. Не успел обернуться - он мне башку своими баснями забил. Как есть, до отказа, до самых краев! Да только ли мне! Ну, а раз пошел в попы - служи и панихиду. Все на веру принял. Большевики, стало быть, продались немцу, с Вильгельмом шуры-муры. Крестьянину под самый дых сунули - последний колосок за ворота, да в город. А как тут душа не взыграет! А Попов со Спиридонихой - соловьями заливаются. Врут и пе поперхнутся. Гляжу на себя - будто у мепя две головы: одна большевикам верит, другая - Попову. А двум головам на одних плечах ох как тесно! - Раненый умолк, с надеждой и скрытой мольбой посмотрел на Мишеля и Юину. - Молодые вы, вам жить. Я отселева не выберусь - человек, он чует, когда смерть крадется. Потому говорю как на исповеди. Думаешь, легко мне было сейчас, когда он возле койки сидел? Враз я его признал! - Боец судорожно глотнул воздух, пытался приглушить волнение, но не смог. - Он же в Трехсвятительский без всякого страху приехал. Стоит прямо посередке Покровских казарм. И - к Попову: дай, говорит, мне, гад ты ползучий, твой револьвер, пристрелю тебя, как последнюю контру. Один стоит. А кругом - наша братва, у всех при себе винтовка, а то - наган. А он - один! Супротив всех! Сомкнись мы - вроде и не бывало его на белом свете. Стоит он, ровно из камня вытесанный, - сама правда стоит! Заговорил он с нами. Слова бережет, не сыплет зря - а какие слова! Я вам, говорит, то, что Ленин сказал, передаю. Попов от этих слов враз, как бес перед заутренней, завертелся. Не запомнил я те слова, после ранения ум вышибло. А только смысл таков, что Попов и все, кто с ним заодно, враги наши заклятые, на святыню руку подняли. Попов, говорит, глядит вдоль, а живет поперек, вы, говорит, в дверь, а он - в Тверь. Как мой дед, бывало, говаривал: "Худо овцам, где волк воевода". Ну и прозрел я, браток, поздно прозрел, зато до самого смертного часа! - Боец попытался повернуться на бок, но, застонав, зубами прикусил обескровленную губу. - Сидит он здесь, а я открыться ему хочу, душу наизнанку вывернуть - а нет, не могу. Рот раскрою - а слов нету, как онемел. Помирать тяжко будет - совесть допрежь смерти заест. Спас он меня, товарищ Дзержинский, можно сказать, из трясины за шкирку вытащил. Да разве меня одного... Нескладно моя судьба повернулась - погнался за крошкой, да ломоть потерял. Не в ту сторону коня погнал. Теперича зарок себе дал: если, дай бог, выживу, приду к нему. Попрошу: посылай в самый ад - все перетерплю. За большевистскую нашу правду... - Вы успокойтесь, вы очень хорошо все поняли, - подсела к нему на койку Юнна... Раненый медленно разжал тяжелые веки, и едва приметная улыбка легкой тенью скользнула по его впалым щекам.28
С того момента, как началась революция и Калугин стал работать сперва в Военно-революционном комитете, а затем в ВЧК, он не знал, да и не хотел знать, что такое отдых. Слова "выходной день" воспринимались как нечто призрачное, несбыточное и несерьезное. Желание отдохнуть, расслабиться, хоть на время перестать думать о деле беспощадно подавлялось, едва успев возникнуть: оно было само по себе кощунственно и враждебно. И потому, когда Дзержинский, закончив деловой разговор с Калугиным, вдруг предложил ему взять выходной, тот был изумлен и обескуражен. - С корабля на берег списывают за ненадобностью, - с обидой выдавил из себя Калугин и, проведя массивной ладонью по бритой голове, отдернул ее, будто погладил ежа против колючек. - Совсем не время по трапу сходить, Феликс Эдмундович. - Дочурка ваша в деревне? - спросил Дзержинский, словно не заметил обиды Калугина. - Точно. К бабушке пришвартованная. Там воздух: дыши - не хочу. Лес шумит, как море. Да и молочишко перепадает, говорил Калугин, все еще не понимая, к чему клонит Дзержинский. - Она ведь у вас там с самой весны? - Точно, с апреля. - Значит, не видели вы ее уже почти полгода? Разве не скучаете? - Как не скучать, Феликс Эдмундович... - Вот и отправляйтесь. Обрадуется дочка! И жена обрадуется. Да вы не переживайте, я вас ведь не на месяц отпускаю. И даже не на неделю. К вечеру вернетесь на Лубянку. - Ну, если что к вечеру, - замялся Калугин, все еще не представляя себе, как это он столько часов сможет прожить, полностью отключившись от всех служебных забот и занявшись личными делами. - Вот и прекрасно. А я тоже воспользуюсь передышкой, навещу в лазарете товарища Лафара. И не забудьте - привет от меня и супруге, и дочке! Дзержинский пожал руку Калугину и надел фуражку. Что-то защемило в сердце Калугина. Дзержинский был для Калугина тем образцом, по которому обязаны, как на правофлангового, равняться все люди. Он был убежден, что иным и не может быть председатель ВЧК - только таким, как Дзержинский. Даже по внешнему виду. Как он, жить и дышать революцией - и ничем больше. И когда в нее, в революцию, стреляют - принять пулю в собственное сердце. И, простившись с Дзержинским, Калугин, хотя его несказанно радовало предчувствие скорой встречи с женой и дочуркой, никак не мог представить, как он покинет Лубянку не для того, чтобы выполнить новое задание, а для того, чтобы свободно вздохнуть и, не думая ни о Савинкове, ни о самом черте, пойти по лесной дороге, как ходят по ней люди, не обремененные такими заботами, какими был обременен Калугин. Разговор с Дзержинским был у Калугина ночью; придя в свой кабинет, он присел на обшарпанный стул, с надеждой уставился в телефон. Вот сейчас зальется тот тревожной трелью, и, свистать всех наверх, Дзержинский скажет: "Ну, что же, товарищ Калугин, визит ваш к семье придется отложить..." К лучшему, если бы так -случилось. Увидишься с женой и дочкой, растравишь только себя и снова - в пекло. Но телефон молчал, будто его выключили. Небывало тихой выдалась эта ночь, будто во всей Москве, а может, и во всей России пе осталось уже ни одной контры, будто уже пора упразднить ВЧК и Дзержинский перейдет в Наркомпрос, а он, Калугин, рванет на Балтику - туда, откуда пришел. Ну, что же, тишина есть тишина, можно и сойти на берег - два часа до Ховрино, четыре там, два обратно. А к вечеру, как сказал Дзержинский, - на Лубянку, душа из тебя вон. Рассвет уже бился в окна, глушил темноту. Калугин сунул револьвер в карман брюк, решительно вышел из кабинета. Дежурный, обрадовавшись его появлению, пытался заговорить с ним, но тот невесело отмахнулся: - Спешу, братишка. Слыхал, есть такая богом забытая деревушка Ховрино? Вот туда и отчаливаю. До девятнадцати часов... Какое, слышь, сегодня число? - Двадцать девятое августа, - поспешно подсказал дежурный. - Ночь-то как прошла? - Никаких происшествиев! - с гордостью ответствовал дежурный, стараясь подчеркнуть, что отсутствие происшествий зависит прежде всего от того, кто дежурит. - Ну, что же, никаких, значит, никаких, - в глубоком раздумье сказал Калугин: как бы тишина ни пыталась обмишулить его, он в нее не верил. Значит, если что, я в Ховрино, первая изба от опушки, сбочь дороги. Такая изба, ровно из лесу выскочила, а дальше бежать силенок не хватило. Бабка Евстигнеевна, вся деревня ее наизусть знает. Гони связного, если что... До Александровского вокзала Калугин добрался пешком, а дальше взял извозчика. По обе стороны шоссе стояли тихие, нежившиеся под нежарким еще солнцем деревья. Шелеста листвы не было слышно, пыль из-под колес почти не вздымалась, у деревянных, прокопченных за зиму изб не сновали, как обычно, люди. "Что за чертовщина, - злился Калугин, - такого спокойствия еще не бывало. Полный штиль!" Он никак не мог привыкнуть к ощущению, что свободен от служебных забот и что едет не на очередное задание - ловить скрывающуюся контру, а в деревню, к жене и дочке. И только когда слева от шоссе зеленоватой волной плеснула в глаза гладь воды, Калугин почувствовал, что и Лубянка, и хлопоты, и тревоги остались позади, в городе, который там, за спиной, просыпался сейчас после тихой, начисто лишенной происшествий ночи. Деревушка Ховрино разбросала свои избенки на берегу Москвы-реки, не решившись, однако, приблизиться к самой воде. Еще задолго до того, как надо было покинуть шоссе и свернуть вправо, на проселок, Калугин отпустил извозчика. Легко перепрыгнув через обочину, заросшую бурьяном, с неподдельным удивлением посмотрел на репь% жадно вцепившиеся в галифе. "Все правильно, конец августа, - отметил Калугин.T Репей в эту пору злой". После булыжника московских улиц проселок казался мягким, даже ласковым. Пыль золотистой змейкой вилась сзади, оседая на подпаленную солнцем траву. Было попрежнему тихо, даже близкий березняк не подавал еще признаков жизни. И чем спокойнее было вокруг, тем тоскливее становилось Калугину. Неужто придет вот такая пора - тихая, беспечная. Ни выстрела тебе, ни тревоги, ни бессонных ночей? Нет, не любил тишины Калугин. В жизни - чтоб вихрь, в природе - ветер. Чтоб дышать им так ненасытно, будто дышишь в самый последний раз. Балтика приучила... Эх, Балтика, Балтика, не простит она тебе, Калугин, что покинул ее, позабыл-позабросил. Балтика, родное море, острова-солдаты, как часовые в тумане. Где еще есть такой туман, где то небо и где та вода все слито, все перемешано, связано намертво, как морским узлом. Ни разу не заикнулся Калугин Дзержинскому о море, о том, что в море родился, в море умрет. Вот когда отгрохочет, отпылает, отшумит на земном шаре взрывная волна революции, всюду взметнется красное знамя - тогда на флот! А пока думы о море не в тягость Калугину, сейчас он чекист, пусть Дзержинский не сомневается. Вот только эти чертовы морские словечки выдают, вцепились как клещи, и рад бы - не выдернуть. А что - вот победит мировая революция, что тогда? На флот? Апельсины возить? Мишель Лафар, тот, понятно, карандаш в зубы - даешь стихи! Дзержинский - в Наркомпрос, сам признался. Труднее Юнне специальности нет, девчонкой окунулась в нашу работу. Сама, никто не гнал. Контры не станет - и ВЧК ни к чему. Пускай тогда учится Юнна, кто-нибудь да получится же из нее! Перед тем как войти в лес, Калугин остановился. Всходило солнце, и узкая полоска скошенной ржи, доверчиво жавшаяся к дороге, заструилась расплавленным золотом. Река и солнце играли друг с другом, обмениваясь веселыми зайчиками. Лес встречал утро величаво, ревниво храня свои восторги. Ни один листик не колыхнулся, ни одна пичуга не вскрикнула от радости. "Что за чертовщина, - с отвращением подумал он, - такого еще не бывало". Тихий лес был не по душе Калугину. Только в ветреную погоду лес оживал, как человек после сна. Едва слышно начинали шуметь сперва те деревья, что стояли ближе к опушке, потом они свое волнение передавали вглубь, в чащу, и вот уже весь лес дыбился, и гудел, и стонал, и грозился своей мощью, и звал на помощь. В такие часы лес был сродни морю. И там и тут - зеленые косматые волны, и там и тут - могучая сила, и там и тут - жизнь... В лесу забылось все, кроме одного: еще два километра - и Ховрипо, изба, будто выбежавшая из леса, да так и замершая, чуть накренясь к дороге, на взгорке. Еще два километра - и с порога раздастся сердитый бабкин голос: "Ты бы еще полгода не приходил!" Жена будет тщетно пытаться утихомирить ее, зная, что муж любит семью, да не может распоряжаться собой. А Наталка... Та прыгнет на шею, ослепит васильковыми брызгами счастливых глазенок. Все хорошо, да расставаться будет тяжко. Разлуки Калугин переживал трудно, злясь на себя за то, что не может побороть свои чувства. И чтобы не разнежиться, подавил в себе думы о предстоящей встрече, мысленно переметнулся к работе. Ну и жарким ты был, своенравный, безжалостный и штормовой восемнадцатый год! Не кончился еще, восемь месяцев пронеслось, а сколько принес ты и радостей, и горя, и тревог! Как не схожи между собой люди, так и годы разная масть, разный характер! Один - тихий, ленивый, бедный на выдумки отойдет в прошлое - никто не ахнет, не рассмеется. Другой - как динамитом начиненный: взорвется, заполыхает, перемешает все, перевернет. Вот как этот, восемнадцатый. Ясное дело, восемнадцать годков - молодость века, взбрыкивает, бьет копытом, жадно кидается в жизнь. Побольше бы таких годков - жить весело, кровь кипит!.. Просчиталась контра, думала переманить восемнадцатый год к себе, своим сообщником сделать, чтобы праздником для нее обернулся. Где тот праздник?! Анархисты вышиблены из осиных гнезд, левые эсеры спеклись, савинковцы разбиты вдребезги. Однако веселые песни горланить рано, товарищ Калугин. Смотри в оба, смотри, скачут еще горячие кони, свистят безжалостные пули, грохочет гражданская война. Савинков ужом выскользнул из самых рук, а сколько их еще, таких Савинковых! Штормит, беснуется море жизни! Вот только здесь тишина, проклятущая тишина. И лес как немой молчит, и не радует его ни солнце, ни синее небо. Чего пригорюнился, лес, свистать всех наверх?! Калугин ускорил шаг. Нет, все-таки чертовски хорошо в лесу, и, наверное, потому хорошо, что впереди, теперь уже совсем близко, совсем рядом, васильковые огопьки глаз дочурки, сияющее счастьем лицо жены, напускная суровость Евстигнеевны. Дорога, по которой шел Калугин, была знакома ему с давних пор. По ней приходил он из города к своей Нюсе по воскресеньям, здесь, в деревне, справили они свадьбу, отсюда уезжали в Питер, чтобы вскорости, в марте нынешнего года, вернуться в Москву. И потому чем ближе подходил Калугин к Ховрино, тем светлее становилось на душе. Уже не так мучительно тяготила его тишина: прояснившимися, улыбчивыми глазами смотрел он на березы, тронутые первым дыханием близкой осени, на ели, обожженные крутыми, как кипяток, предрассветными туманами, на высокое небо, вздымавшееся над тихим, безмятежным лесом. Вот уже и поворот, за ним ручей, а там расступятся деревья и проглянет между ними прокаленная морозами, обмытая дождями, пропеченная солнцем, почерневшая от старости крыша знакомой избы. Где-то совсем поблизости хрустнула ветка. Калугин остановился, прислушался. Тишина. Огляделся вокруг - все так же безлюдно. Проклятая тишина, не привык он к ней, ох как не привык!.. На повороте - знакомая береза-разлучница. Сколько раз прощался здесь с Нюсей, прислонившись к шершавому, но еще не совсем потерявшему глянец стволу. Все такая же ты, береза, ничуть не изменилась, годы летят над тобой, а ты не торопишься стареть. Молодчина, береза, так держать!.. Опять где-то вблизи хрустнула ветка. Калугин обернулся - никого. "Черт бы ее побрал, эту тишину, букашка шелохнется, а чудится какая-то ересь", мысленно пробормотал Калугин, перепрыгнув через звонко булькавший ручеек. И в тот же миг тишину взорвало что-то оглушительное. Будто враз лопнули барабанные перепонки, спину обожгло чем-то горячим, острым. И снова над лесом, над всей землей невесомо и безжизненно нависла знакомая и ненавистная тишина. Калугин хотел обернуться, но голова не повиновалась, будто ее сковало железом, а глаза, как ни старался он открыть их пошире, не видели ничего вокруг, кроме зеленого, начинавшего одеваться в сумрак пространства. Калугин протянул руки, чтобы ухватиться ими за ствол дерева, но его не оказалось вблизи, и он так и рухнул на землю - с вытянутыми вперед, трепетно застывшими руками. "До избы... метров двести... доползу", - мелькнуло в сознании, и Калугин, собрав оставшиеся силы, вцепился ногтями в корневища деревьев и в сухую, давно не видавшую дождя землю. Ему казалось, что он ползет, и, чем сильнее жгло грудь, тем больше он верил в то, что с каждым рывком приближается к избе, где его ждет спасение, где к нему потянутся ласковые, бесконечно родные руки. Он верил, что ползти осталось немного, что сейчас расступится лес, покажется родной пригорок, а там останется проползти через огород между грядок - и он ухватится за ступеньку крыльца. А там его услышат, выбегут навстречу, и вспыхнут синими огоньками васильковые глаза Наталки. На самом же деле он лежал поперек тропки, и тело его, ставшее чужим, неподатливым, изредка дергалось, цепляясь за жизнь. "Как же так, - вспыхнуло вдруг в сознании Калугина. - Он же сказал: "К вечеру быть на Лубянке... К вечеру быть на Лубянке..."29
"Паккард" медленно, будто нехотя, сдвинулся с места и, натужно гудя мотором, завернул за угол. Извозчики с трудом сдерживали испуганных, прядавших ушами коней. Дзержинский весь ушел в свои думы. Он радовался тому, что смог навестить Мишеля Лафара. Славная молодежь идет на смену, ради нее мы провели свою юность в тюремных казематах, звенели кандалами в непроглядной ночи. С такими, как Калугин, как Мишель и Юнна, ВЧК непременно справится с контрреволюцией, защитит республику. Борьба не окончена. Вот и сейчас его вызывает Ленин - видимо, что-то архиважное, не терпящее промедления... Ему вновь вспомнились слова Ленина, сказанные в его адрес еще в декабре семнадцатого, когда создавалась ВЧК: "Пролетарский якобинец". Пролетарский якобинец! Таким словам нельзя было только радоваться, мало их было просто ценить - их нужно было заслужить и оправдать всей своей жизнью. Враги пишут о нем, Дзержинском, как о фанатике. Нет, он не фанатик, он убежден, что фанатизм - враг разума и прогресса. Кто-то из мудрых сказал: "Человек просит духовной пищи, а фанатик кладет в его руку камень". Нет, он не фанатик, но разве жить - это не значит питать несокрушимую веру в победу революции? Враги говорят, что он беспощаден. Да, это так, но лишь в двух случаях: к врагам и к самому себе. Оправдал ли он своей жизнью, своим трудом слова, произнесенные Лениным, может ли он считать себя пролетарским якобинцем? Что произошло с ним за эти месяцы, по своей адской напряженности равные столетию? Изменился ли он? "Нет, я все тот же, - мысленно ответил себе Дзержинский. - Каким я был раньше, такой я и теперь; что раньше любил, то и сейчас люблю; что раньше вызывало во мне ненависть, то вызывает и сейчас; как раньше действовал, так действую и теперь; как раньше думал, так думаю и теперь; как раньше горе и испытания меня не миновали, так и впредь не минуют; путь мой остался все тот же... Я еще лучше понял свои стремления и мечты, понял жизнь, я еще более непоколебимо верю в лучшее будущее человечества. Были ошибки, были заблуждения, но я по-прежнему люблю жизнь, не просто, чтобы дышать, а чтобы бороться. Счастье - это борьба, иначе жить не стоит!" - Верите в социализм, Сергей Григорьевич? - неожиданно спросил Дзержинский. - Верю, - ответил шофер, - иначе бы в революцию не ударился. А есть и такие, что не верят. - Есть! - оживился Дзержинский. - Приходит ко мне однажды на Лубянку знакомый. Увидел я его, засмеялся, и всем, кто у меня в кабинете был, объявляю: "Познакомьтесь, пришел мой раб". Удивились все, конечно, а он ведь и в самом деле раб. - Как же так? - А вот так. Сидели мы с ним вместе в шестнадцатом году в Бутырках. Был он тогда духовно парализован, начал терять веру в революцию. А я ему говорю: "Убежден, что не позднее чем через год революция победит". В ответ он лишь горько усмехнулся. Я предложил пари. Он согласился. "А что ты обещаешь?" - спросил я. И пообещал он, если оправдается мое предсказание, отдаться мне в вечное рабство. Что было дальше - вы знаете. Революция победила даже несколько раньше чем через год. Вот с тех пор я его в шутку и зову своим рабом. - Здорово получилось! - воскликнул шофер. Они замолчали. Шофер не хотел своими расспросами отвлекать Дзержинского. Увидев, что Дзержинский держит на коленях блокнот, он чуть замедлил ход, чтобы машину не так сильно трясло. Дзержинский писал: "С. С. Дзержинской. Москва, 29 августа 1918 г. Зося моя дорогая и милый мой Ясик! В постоянной горячке я не могу сегодня сосредоточиться, анализировать и рассказывать. Мы - солдаты на боевом посту. И я живу тем, что стоит передо мной, ибо это требует сугубого внимания и бдительности, чтобы одержать победу. Моя воля - победить, и, несмотря на то что весьма редко можно видеть улыбку на моем лице, я уверен в победе той мысли и движения, в котором я живу и работаю..." Писать было трудно: машину то и дело встряхивало на ухабах. "Сказать, что пишу в машине? Нет, не надо: будет волноваться", - подумал Дзержинский и дописал последнюю строку: "А здесь танец жизни и смерти - момент поистине кровавой борьбы, титанических усилий... Ваш Феликс". Правильно сделал, что написал - больше не будет ни одной свободной минуты. Сейчас, после разговора с Лениным, возникнут новые неотложные дела. Да их и так накопилось немало. Нужно изучить материалы очередного расследования, наметить план действий, подумать о расстановке чекистов. Что еще? Ах да, заполнить анкету для "фонда комиссии по проверке работников советских учреждений" и отправить ее в 1-й Дом Советов. Он уже ознакомился с вопросами анкеты, вот только никак не мог выкроить время ответить на них. Да, какие же там вопросы? "Сколько часов работаете в день урочно и сколько сверхурочно?" Вопрос прямотаки наивный. Восемнадцатый год - как вулкан, как росчерк молнии, а они - "сколько урочно и сколько сверхурочно"! Работаю, сколько нужно. Еще что? А, о духовной пище. Читаю ли книги, хожу ли в театр, и сколь удовлетворительно? Это все равно что спросить, любите ли вы дышать? И придется ответить: "Нет. Нет времени". Нет времени дышать?! В тюрьмах времени было достаточно. Читал запоем. Почти в каждом письме на волю - жене, сестре, брату - были строки: "Я читаю, учусь...", "Я много читаю, учусь французскому, стараюсь познакомиться с польской литературой...", "Время я провожу преимущественно за чтением", "Время убиваю чтением"... Время убиваю чтением... А сейчас? Сейчас он читает книгу жизни, и каждая страница - бой грудь на грудь, победа или смерть. Еще вопрос: "Состояние вашего здоровья?" Пусть ответят тюрьмы, ссылки. Бессонные ночи. Голодные дни. Нервы, измотанные в схватках с врагом. Пусть ответят! "Кем рекомендован на службу?" Совнаркомом. Точнее - Лениным, Владимиром Ильичем Лениным. "Паккард" миновал Сретенку. Вот и Большая Лубянка. Дзержинский стремительно вышел из машины, не сбавляя шага, распахнул дверь. И сразу же увидел перед собой землистое, встревоженное лицо дежурного. - Товарищ Дзержинский, уже два раза звонил Владимир Ильич. - Так. Еще что? - Еще... На окраине Ховрино убит Калугин. - Калугин?! - переспросил Дзержинский, посмотрев на дежурного так, будто тот докладывал ему о том, чего не может, не должно произойти. Убийца задержан? - Еще нет. Только что сообщили... Выслана оперативная группа... - Пошлите людей на вокзалы. С помощью местных жителей прочесать лес. Докладывайте мне через каждый час. Я у себя. Он почти бегом поднялся по лестнице, прошел в кабинет, не снимая фуражки, схватил телефонную трубку. - Соедините меня с Лениным! И едва успел поздороваться с Лениным, как услышал его энергичный, слегка грассирующий голос: - Феликс Эдмундович, вы, очевидно, уже знаете, в Петрограде убит Урицкий. Враги революции снова поднимают голову. Настоятельно прошу вас немедленно отправиться в Петроград и тщательно расследовать обстоятельства злодейского покушения. Враги бросают нам вызов - мы принимаем его! Все эти террористы - не более чем пышущие дикой злобой фанатики, уверовавшие в то, что их пули нацелены в "тиранов" и что они защищают "царство свободы". История белого террора наглядное тому подтверждение. Шарлотта Корде всерьез верила, что в загробном мире будет рядом с тираноубийцей Брутом... Впрочем, сейчас не до исторических параллелей. Дорого время, чрезвычайно дорого время! Сможете ли вы ехать тотчас же? - Я сейчас же, Владимир Ильич. - Вот и преотлично. И, пожалуйста, позвоните мне из Питера. Ну, что-то около половины шестого вечера. Успеете? - Несомненно. - Удачи вам, Феликс Эдмундович. И еще одна, наиглавнейшая просьба: берегите себя. - Спасибо, Владимир Ильич, не беспокойтесь. До свидания. Дзержинский повесил трубку и вспомнил, что эти же слова "берегите себя" Ленин говорил ему в ту ночь, когда они до самого рассвета просидели за беседой и когда за окнами полыхала майская гроза. ...Поздно ночью Дзержинский приехал в Петроград. Чекисты доложили ему о первых результатах следствия по делу убийства Урицкого. В день покушения Кенигиссер, бывший юнкер Михайловского артиллерийского училища, на Марсовом поле взял напрокат велосипед и поехал на Дворцовую площадь. Оставив велосипед снаружи, он вошел в подъезд здания комиссариата внутренних дел и, присев на стул, застыл в ожидании, ни с кем не вступая в разговор. Урицкий, выйдя из автомобиля, направился в подъезд. Кенигиссер пропустил его мимо себя и, вскочив со стула, выхватил револьвер и выстрелил в голову. Урицкий упал. На крики и выстрелы прибежал караул. Красноармейцы вскочили в автомобиль и погнались за убийцей, который, отстреливаясь, мчался на велосипеде по улице. На набережной у машины заглох мотор. Красноармейцы повыскакивали из нее на мостовую и побежали за преступником. Расстояние до него быстро сокращалось. С четырехсот метров несколько раз выстрелили по нему навскидку. Убийца, круто свернув к воротам ближайшего дома, бросил велосипед. Минуты три спустя красноармейцы вбежали в тот же подъезд. Прогремел еще один выстрел, видимо последний. И все смолкло. По лестнице спускался Кенигиссер. Бритая голова расплывчато светилась в полумраке лестничной клетки... Дзержинский поставил на ноги всю Петроградскую ЧК. Кенигиссер - пешка, за ним, несомненно, стояли те, кто без устали плели здесь, в Петрограде, нити заговоров и мятежей. Весь день вел он расследование, руководил операцией по поимке всех, кто был причастен к злодейскому убийству. Потом ему принесли телеграмму: "Сегодня эсерка Каплан совершила покушение на Ленина. Выстрелами из браунинга Ленин тяжело ранен". Пальцы судорожно вцепились в телеграфный бланк. Дзержинский прижал ладонь к левой стороне груди. Леденящая бледность залила впалые щеки. "И пожалуйста, позвоните мне из Питера..." А сейчас... Кто может ответить, что с ним сейчас?! - Я немедленно возвращаюсь в Москву, - Дзержинский произнес эти слова едва слышно, хотя ему казалось, что он говорит как обычно. Он тут же вышел из здания и сел в автомобиль. Машина понеслась на вокзал. - Я понимаю, я все понимаю, - оправдывался начальник вокзала. - Но на путях нет ни одного пассажирского состава. Через час, не раньше... - Я спрашиваю: что идет сейчас на Москву? - Товарняк... - Я еду на нем! Чекисты, сопровождавшие Дзержинского, пытались уговорить его войти в теплушку, но он отказался наотрез, оставшись на тормозной площадке. Последняя летняя заря догорала над лесами, сквозь которые с грохотом летел обычно неторопливый, а сейчас стремительный товарный состав. Холодные сумерки окутывали гудящее полотно. С каждой минутой приближалась Москва, но Дзержинскому казалось, что поезд будет вечно стучать на стыках, так и не достигнув Москвы. Дзержинский стоял, ухватившись за борт тормозной площадки, в наглухо застегнутой шинели, прямой и неподвижный, как изваяние. Небо темнело, рождая несметное число удивительно ярких звезд. Звезды вспыхивали в рельсах, отсвечивая синим огнем. Паровоз нещадно гудел, будто хотел доказать свое старание. Звенели разбуженные леса. Эхо дробило, множило звуки, и чудилось, будто тысячи таких же составов, какой мчался сейчас к Москве, взвихрили леса, и они уже не смогут заснуть. Леденящий ветер бил в лицо, но Дзержинский не замечал ни ветра, ни холода. Ранен Ильич! Если бы он, Дзержинский, был там, во дворе завода Михельсона, рядом с Лениным, он не задумываясь прикрыл бы его собой, своим телом. Как и всегда, Дзержинский не думал о себе. Как и всегда, он думал о революции. В эти часы во всей России не было человека, который бы больше, чем Дзержинский, сознавал свою ответственность за защиту республики. Сейчас это был уже не человек в обычном смысле этого слова: это был сгусток нервов, испепеляющих чувств, неукротимого действия.Михаил Михеев Запах "Шипра". Сочинский вариант
ЗАПАХ «ШИПРА»
От автора
Хотя я и начинаю с подлинного протокола следствия, всё же прошу читателя не принимать героев повести за конкретных людей, а их поступки за документальное отображение событий.Дело №…
…Главный бухгалтер Комбината предложил начальнику отдела снабжения выписать с Главного склада Торга ткани или другой товар, а вместо товара получить наличные деньги, чтобы присвоить их и поделить между собой. Главный бухгалтер заверил начальника отдела снабжения, что сумеет скрыть эту преступную операцию по бухгалтерскому учету… …Зав. Главного склада выписала фактуру (заборный лист) о том, что якобы она отпустила через начальника отдела снабжения для Комбината 98 метров драпа на сумму 4410 руб… …начальник отдела снабжения получил свою долю и поделился с главным бухгалтером… (Из протокола следствия)
…Я вчитываюсь в скупые строчки следовательского протокола и понимаю, как много еще труда и времени потребуется следователям, экспертам и ревизорам, пока не будут выяснены все детали этого тёмного воровского дела: фальшивые фактуры, подложные записи, приписки в актах уценки и многие другие жульнические операции. Вот только о событиях, которые положили начало этому следствию, о событиях, в которых я принимала самое непосредственное участие, ни в следственных материалах, ни в обвинительном заключении не будет сказано ничего…
НА НОВУЮ РАБОТУ
1
Самолетом до Новосибирска можно было долететь за три часа. Поезд шел двое суток. Я решила ехать поездом. Я покидала город, в котором родилась, где прошла моя юность, где я училась, любила, мечтала завести семью… Судьба вдруг обрушила на меня столько бед, что мне захотелось очутиться на новом месте, где ничто тебе не напоминает о прошлом, никто тебя не знает и ты тоже не знаешь никого. В двадцать шесть лет нелегко менять город, привычки, привязанности. Поэтому мне нужны были эти двое суток бездумного вагонного существования, как пауза водолазу, который поднимается на поверхность из океанских глубин. О том, какое задание мне дадут в Новосибирске, я не знала ровным счетом ничего. Командировка была секретной. Подполковник Свиридов сказал, что сам предложил Новосибирскому ОБХСС мою кандидатуру, а все подробности я узнаю на месте. Я передала ему письмо к матери, как всегда незапечатанное, с номером вместо адреса и пошла получать документы. Паспорт я получила новый, на прежнюю девичью фамилию, и снова стала Грошевой: Евгения Сергеевна Грошева, торговый работник, бывшая студентка третьего курса Торгового института. Паспорт и справка из института были подлинными, но трудовая книжка с записью, что я последние три года работала товароведом магазина Военторга, не соответствовала фактам — эти три года я проучилась в школе милиции. Моя биография в личном деле, наверное, тоже производила странное впечатление: «отец — лейтенант милиции, погибший при исполнении служебных обязанностей; мать — торговый работник, осуждена по статье 93 «прим» на восемь лет заключения в колониистрогого режима…» В Торговый институт я поступила по настоянию матери, которая тогда заведовала отделом универмага. Среднюю школу я окончила хотя и с золотой медалью, но без особых склонностей к какому-либо предмету; мне было все равно, куда поступать. Отца помнила плохо, он погиб, когда я только пошла в школу. Так я и росла, единственная дочь у матери, избалованная, по-детски эгоистичная и беззаботная. Училась на пятерки и не вникала в домашние дела. А мать снова вышла замуж… Отчим мне понравился. Он был остроумен и красив, — работал кем-то в Управлении торговли. Мы вскоре переехали в новую квартиру, быстро обзавелись импортной мебелью; следом у нас появилась дача, «Волга»; о нарядах я уже и не говорю. Если бы я хоть на минуту задумалась, то сразу бы поняла, что живем мы явно не по средствам. Но в то время я увлеклась студенческим театром, играла на клубной сцене, — кажется, что-то получалось, — и мне не хватало времени подумать и оглядеться… Милицейская машина прибыла к нам в шесть часов утра. И я, еще ничего не понимающая, осталась в квартире одна. А вечером меня вызвал следователь, и тут я узнала, кто был мой отчим и кем стала моя мать. В институт я больше не пошла. Мне было стыдно показаться на глаза прежним товарищам. Я была соучастницей воровства, жила на ворованные деньги, мое неведение не было для меня оправданием. Я поняла, что не смогу больше ни учиться, ни работать в торговой сети. Что для искупления моих вольных или невольных грехов у меня в жизни осталась одна дорога… В городском отделении милиции на памятном стенде висел портрет моего отца. Молодой лейтенант, он погиб, когда ему еще не было и тридцати. Подполковник Свиридов начальник школы милиции — хорошо его знал, когда то они работали вместе… Меня приняли в школу милиции. Я закончила ее совсем недавно, моя командировка была по сути первым серьезным поручением. На вокзал меня никто не провожал — я никому не сказала о своем отъезде. Я ехала в штатской одежде. Мои вещи уместились в туристскую сумку и чемодан. Я не взяла с собой ни книг, ни безделушек — вещей, которые напоминали бы о прошлом. Мой любимец — плюшевый Микки Маус — остался перед зеркалом туалетного столика. Микки Маус ни в чем не был виноват, но это был подарок Игоря, а вот об Игоре мне меньше всего хотелось вспоминать. Шел сентябрь, мой путь лежал в Сибирь. Я решила, что удобнее всего ехать в нейлоновой куртке и черных джинсах. Джинсы были еще студенческие, они валялись на дне старого чемодана. Там же наткнулась на сверток голубой фланели, и у меня больно сжалось сердце… может быть, все пошло бы иначе, появись у меня ребенок. Но мой сын не захотел родиться живым. Я оставила Игорю записку. Он жил у своих родителей, но все еще был прописан здесь, по улице Урицкого, 50. Я написала, что он может распорядиться квартирой и оставшимися вещами, как пожелает. Вместо подписи положила на записку ключ от дверей квартиры, маленький плоский ключик от американского замка…
Свое нижнее место в купе я уступила попутчице, женщине чуть постарше меня, но полной, да еще в узенькой мини-юбочке — лазить в ней на верхнюю полку было весьма затруднительно, тем более, что второе нижнее место занял мужчина — пожилой папа с дочерью-старшеклассницей, которая тоже забиралась на верхнюю полку без труда. Ночью долго не могла уснуть. Мимо вагонного окна мчалась черная осенняя ночь, осыпая стекло капельками дождя. Поезд с грохотом уносил меня в неведомое будущее… так хотелось, чтобы оно было ко мне добрее, нежели прошлое. А когда забылась в тревожном полусне, то чуть не упала на пол. Показалось, что лежу дома в постели, рядом спит Игорь, и я все отодвигаюсь и отодвигаюсь от него…
2
Только утром мне удалось заснуть, и так крепко, что я не слыхала, как в купе сменились пассажиры. Открыв глаза, долго спросонья рассматривала нависшую над головой багажную полку и вдруг почувствовала чей-то внимательный взгляд. Я быстро повернула голову. На верхней полке вместо вчерашней девочки-школьницы сейчас лежал молодой мужчина в зеленой армейской рубашке. Он не успел отвести взгляда, очень смутился и этим понравился мне — всегда ценила такую застенчивость; хваленая мужская напористость никогда не производила на меня доброго впечатления. По-моему, у мужчин достаточно других способов доказать свою принадлежность к сильному полу. На крючке висели китель и форменная фуражка с серебряными крылышками — значит, мой новый сосед имел отношение к «небесным» делам. Нижнее, четвертое, место в купе занял молчаливый старичок. Летчика звали Леша — я разговорилась с ним уже в коридоре вагона. После завтрака он снабдил меня занятной книгой про физиков, «которые шутят», а сам отправился в соседнее купе играть в преферанс. Я пожелала ему проиграться, он ответил, что и так каждый раз проигрывает, но что-то эта примета до сих пор никак не сбывается. Прошёл обычный день пассажира дальнего следования. Неторопливые разговоры, чтение — у кого что есть, очередь к умывальнику, проводница с пылесосом, ворчащая на пассажиров, стаканы с чаем, буфетчица с коробкой беляшей… я всегда любила эти покупные беляши, которые ешь тут же, на улице, где-нибудь за углом, прихватив обрывком бумажной салфетки, обжигая пальцы горячим соком. Вечером наш поезд подошел к большой станции, и проводница объявила стоянку на десять минут. Появилась возможность выбраться из вагона, размяться немного, заглянуть в книжный киоск. Люди валом валили в пригородную электричку, я едва пробилась на вокзал. Киоск «Союзпечати» находился в углу зала, поблизости от входа в привокзальный ресторан. Пока я рассматривала книги на прилавке, двери ресторана широко распахнулись, в зал вкатился кто-то пьяненький, следом из дверей донеслась песня, которую выводил хриплый баритон: «Не слышны в саду даже шорохи…» — Весело у нас, — вздохнула продавщица. — Третье число — день получки. Тут скоро такие шорохи пойдут… Из ресторана донесся звон стекла, песня оборвалась. В дверях появилась официантка, в обычном крохотном, фартучке, с кружевной наколкой на голове. — Валеру нашего не видели? — спросила она, — Это милиционера, что ли? — Его, конечно. — Недавно здесь был. — Вот, когда надо, его никогда на месте нет... — А у вас когда не надо? Возле вас хоть целый день сиди. Поменьше бы поили мужиков. Все план выполняете. Официантка неторопливо вернулась в ресторан. Шум продолжался. Что-то задребезжало, затем женский голос закричал испуганно: «Гена, Гена, зачем?!» Крик оборвался хлестким звуком пощечины. — Господи! — сказала продавщица, — Да что у них опять там? По многим причинам мне не следовало ввязываться в это пьяное ресторанное дело. Но я все-таки оставалась лейтенантом милиции, а за дверями ударили женщину. Стол, за которым вспыхнул скандал, находился у самой двери. Я быстро сделала несколько шагов и успела перехватить поднятую руку. В руке была зажата бутылка из-под сухого вина, тяжелая и длинная, похожая на дубинку. Может быть, мужчина и не собирался ею ударить, а замахнулся, чтобы припугнуть, — рассуждать было некогда, мне приходилось видеть убитых одним ударом такой бутылки. Мужчина держал ее за горлышко, поэтому мне удалось вырвать бутылку. За столом находилось пять или шесть человек, в том числе две женщины. Одна вцепилась в рукав мужчины; вторая навалилась на стол, закрыв лицо руками, — видимо, пощечина досталась ей. Мое вмешательство было неожиданным, все сразу замолчали. Тот, у кого я вырвала бутылку, тоже притих. Его глаза все еще были затянуты мутью пьяной ярости, а на столике под руками стояло много всякого стекла, и я следила за ним внимательно. Он ожидал увидеть кого угодно, только не меня — почти девчонку. На его лице читалось удивление и растерянность. Запал у него уже прошел. Я поставила бутылку на стол. — Дурень! — сказала я. — Ею же убить можно. Все дальнейшее могло обойтись и без моего участия. Меня выручил милиционер. Он был молодой и деловитый, и ресторанные скандалы были ему не в диковинку. Официантка заспешила ему навстречу. Я прошмыгнула к дверям. На перроне стоял встревоженный Леша. — Где же вы были? Ищу, ищу! — закричал он. — Поезд отходит. Он схватил меня за руку, и мы помчались по перрону. Проводница уже собиралась захлопнуть дверь. В вагон мы вскочили на ходу. — Чего вас понесло в ресторан? — спросил Леша. — Выпить захотелось, — ответила я.
3
К перрону новосибирского вокзала наш поезд подошел утром. Леша нёс мой чемодан, сумку я упрямо потащила сама. В просторном зале для ожидающих он смущённо потоптался возле меня, потом крепко, по-мужски, тряхнул мне руку и ушел. Подполковник Свиридов предупредил, что меня никто встречать не будет. Я засунула свои вещи в свободный шкафчик автомата для хранения багажа и вышла на привокзальную площадь. Она была большой, под стать залу. Здесь стояло целое стадо автобусов, проскакивали такси, ползли, пощелкивая, троллейбусы. На обочине женщины продавали гладиолусы, смородину и подсолнухи. Огромные часы на зеленом фасаде вокзала показывали местное время, и я перевела стрелки своих ручных часов… Я прошла по площади и затерялась в толпе. Люди проходили мимо меня, пропускали вперед, отталкивали, торопясь к автобусу, — незнакомые люди незнакомого города. А меня пока связывал с этим городом только номер телефона, который я получила от подполковника Свиридова в день отъезда.
Я вышла к уличному автомату. Мне сразу ответил тот, кто был нужен, — полковник Приходько. Я назвала город, откуда приехала. Полковник помолчал несколько секунд, затем попросил меня перезвонить по новому телефону и сказал номер. У меня не нашлось двух копеек, пришлось опустить в автомат гривенник. Ответил уже не полковник, а кто-то другой — мягкий, симпатичный, неофициальный голос. — Где вы находитесь сейчас?… Вещей с вами много?… Тогда садитесь на троллейбус, сойдете на остановке «Кинотеатр имени Маяковского». Идите дальше по ходу троллейбуса, увидите пятиэтажный розовый дом: вверху — башенные часы, внизу — «Гастроном». Это так называемый «дом под часами». Войдите в угловой подъезд. Поднимитесь на третий этаж… Я так и сделала. Дверь мне открыли сразу, как только я нажала кнопку звонка. Мужчина в сером мятом пиджаке пригласил меня войти, выглянул в коридор и сразу закрыл за мной дверь. Он и оказался обладателем симпатичного голоса, который я услыхала по телефону. И лицо у него было доброе. — Борис Борисович, — назвался он. — А вы — Евгения Сергеевна, это я уже знаю. Я прошла в комнату. Навстречу поднялся невысокий полный полковник. Я представилась. Он внимательно посмотрел на меня и предложил сесть. Мой будущий начальник полковник Приходько показался мне суровым, официальным, и поначалу я чувствовала себя стесненно и тревожно. Так много в моей будущей судьбе зависело от него… — Вы есть хотите? — спросил он. Я ответила, что не хочу. — Тогда будем чай пить. Борис Борисович как будто этого и ждал, сразу же принес из кухни подносик, на котором стояли стаканы с чаем, вазочка с пирожными и конфетами. Я послушно съела пирожное, хотя терпеть их не могла, выпила стакан чаю, отказалась от второго. Полковнику Борис Борисович принес второй стакан, сам он в нашем чаепитии участия не принимал, молча сидел на диванчике. Молчал и полковник. Чем дольше длилось это молчание, тем менее оно мне нравилось… — Товарищ полковник, — сказала я, — разрешите обратиться. Полковник Приходько отодвинул в сторону стакан, положил руки на стол, переплел пальцы. Потом взглянул на меня и кивнул: — Обращайтесь. — Судя по всему, — начала я, — дело, которое вы собираетесь… или, по крайней мере, собирались мне поручить, — серьезное. И первоначальное знакомство со мной, мой вид… вызвали у вас сомнения. Полковник Приходько согласно кивнул. — По личным обстоятельствам, очень важным для меня обстоятельствам, я хотела бы остаться у вас. Работать в вашем отделении. Я не хочу возвращаться туда… домой. Конечно, я еще неопытный инспектор; я не знаю, какую работу придется мне выполнять, только прошу вас поверить, что постараюсь… И тут мне вдруг стало стыдно за свою взволнованность, за несолидные, несерьезные, какие-то девчоночьи обещания, я смутилась. Полковник Приходько улыбнулся, а мне стало совсем не по себе. — Вы напрасно волнуетесь, Евгения Сергеевна. Вы все очень хорошо сказали, не нужно стесняться своих слов. Мое сомнение — это не недоверие к вам. Я уже познакомился с вашими документами. Вы учились в Торговом институте, окончили школу милиции, вас здесь, в городе, никто не знает, а это тоже важно. Словом, лучшей кандидатуры нам не найти. Но одно дело — знакомиться с человеком по документам, и совсем другое — увидеть этого человека перед собой. И вот я увидел вас и понял, чего мы здесь не учли. Вашу внешность. Здесь я растерялась уже окончательно. — Да, вашу внешность, — продолжал полковник Приходько. — Вы — молодая симпатичная женщина. Порядочная женщина. И эту вашу порядочность можно разглядеть за километр. И вам будет трудно. Значительно труднее, нежели мы все здесь думали, когда отрабатывали наш план. — Полковник встал, жестом остановил меня, я осталась сидеть, а он заложил руки за спину и молча прошелся и взад и вперед по комнате. Совсем его не понимая, я взглянула с надеждой на Бориса Борисовича, тот молча, хотя и ободряюще, улыбнулся. — Вы играли когда-нибудь на сцене? — спросил полковник. — На любительской, разумеется. В школе, в институте? — Да. В институте. У нас была театральная секция, — И какие роли вы исполняли? — Ну… например, Таню, в арбузовской пьесе. — Понятно. Словом, играли порядочных девушек. — Да… Так уж получилось… — А вы помните, — продолжал полковник, — «Барабанщицу» Салынского? — Конечно. Мы ставили и ее. Я играла Нилу Снижко. — И как вы ее сыграли? — Кажется, неплохо. Режиссер считал, что это была моя лучшая роль. — Что ж, это хорошо. Даже очень хорошо. Почаще думайте о поведении вашей героини, особенно в первом акте. Я уже начала догадываться. — Эта роль вам здесь пригодится. Обязательно пригодится. Как, Борис Борисович, — повернулся полковник, — она еще и актриса, а? Он шутил, но это была добрая шутка, и мои тревоги рассеялись. Борис Борисович опять улыбнулся мне, как бы говоря: «Ну, вот, видите, а вы беспокоились!» — Но, — поднял палец полковник, — не думайте, что ваши театральные успехи сразу же снимут все трудности в задаче, которую мы собираемся предложить. Они только помогут вам выбрать лучшее решение. Он присел к столу. — Теперь о том немногом, что мы знаем и чем поначалу сможем вам помочь. Память у меня была хорошая, я ничего не записывала, и, кажется, полковник Приходько остался этим доволен. В заключение полковник сказал: — Найдите нам зацепочку. Хотя бы одну. Маленький фактик, чтобы начать следствие…
4
К дому на Нарымской улице я вышла сразу. Это была розовая железобетонная коробка в пять этажей. Прямо перед окнами росли четыре большущих тополя, чудом сохранившихся после знакомства со строителями, возводившими дом. Правда, одному тополю, видимо башенным краном, начисто обломили верхушку, у другого содрали кору на стволе, но тополя выжили, оправились от ранений и, забыв обиды, буйно зазеленели листвой. Дверь моей будущей квартиры была распахнута настежь. На лестничной площадке, перед шкафом с электросчетчиками, стоял мужчина в безрукавке из искусственного меха. Он заглядывал в застекленное окно шкафа и ворчал: — Вот черти! Надо же так установить — ничего не разглядишь! Он услыхал мои шаги и, не поворачиваясь, подвинулся, чтобы меня пропустить. Я остановилась за его спиной. Конечно, это был мой будущий сосед Петр Иванович — полковник Приходько сообщил о нем: бывший военный журналист, одинокий пенсионер, но еще работает консультантом в молодежной газете. О том, что я собираюсь здесь делать, не знает ничего. — Разрешите, посмотрю, — сказала я. Припадая на правую ногу, — я знала, что у него фронтовое ранение, — он отступил в сторону. Свет, падающий через лестничное окно, в самом деле был очень тусклым, но все же мне удалось прочитать цифры на счетчике. — Спасибо! — поблагодарил он. У него были резкие морщины на лице, мохнатые седые брови и по-детски чистые глаза. Я не уходила. Он выжидательно посмотрел на меня и улыбнулся: — Здравствуйте, Евгения Сергеевна! — Здравствуйте. Но, может быть, я не Евгения Сергеевна, о которой вам, видимо, сказали, а, скажем, контролер «Энергосбыта». Или просто хожу и смотрю — что плохо лежит. — Контролера «Энергосбыта» я знаю. А насчет «плохо лежит» — внешность неподходящая. Что ж, опасения полковника Приходько, должно быть, имели под собой почву… — А что же я держу вас у дверей, — спохватился Петр Иваныч — Проходите, пожалуйста. В длинную узкую переднюю выходили двери двух комнат, одна из них была, следовательно, моя. Петр Иваныч представился мне, повторив почти слово в слово все, что сказал о нем полковник Приходько. — Из домоуправления мне уже звонили, — сказал Петр Иваныч. — Значит, Сережа Захаров, который в этой комнате жил, ваш родственник? — Дальний, — сказала я. До моего разговора с полковником Приходько я вообще ничего не знала о Сереже Захарове, молодом геологе, который на полгода уехал на Чукотку. Полковник хотел избавить меня от гостиницы; чтобы объяснить окружающим неожиданную удачу с жильем в перенаселённом Новосибирске, пришлось сделать геолога моим «родственником». Врать хорошему человеку всегда неприятно, даже если этого требуют особые обстоятельства. Но я, словно актриса в театре, уже начала свою роль и должна была действовать по пьесе: эту пьесу вёл мой режиссер, полковник Приходько. Отныне для всех я только товаровед, как записано в трудовой книжке, приехала устраиваться на работу по специальности, следовательно, в торговую сеть. Весьма желательно было бы попасть в систему новосибирского Горторга. Именно Горторга… Петр Иваныч не проявил любопытства и избавил меня от дальнейшего вранья. Он просто открыл дверь и сказал: — Вот ваша комната. Я кое-что приготовил там, хотя и не знал, что у вас есть, а чего нет. Может быть, у вас сорок чемоданов всякого добра? Но на всякий случай я принес вам белье. Вот оно, на кровати. Сверху полотенце. Всё только из прачечной. А обстановка здесь осталась еще от Сережи. Я только тумбочку сюда поставил. — Спасибо большое. — Чего там, устраивайтесь. Он вышел, прихрамывая, закрыл дверь, Я огляделась. Кровать, покрытая байковым одеялом. Стопка белья, на подушке наволочка с цветочками. Возле окна небольшой письменный стол, однотумбовый исцарапанный ветеран. Два стула. В углу — платяной шкаф. На тумбочке, на пластмассовой тарелке, графин с водой, налитой, конечно, тем же заботливым Петром Иванычем. На стене отрывной календарь. Хотя стоял сентябрь, листок утверждал, что сегодня — «5 августа». В этот день, видимо, Сережа Захаров уехал на свою Чукотку… В этот день, только два года назад, мы с Игорем пошли в загс. Регистрироваться. Регистрировать свою любовь. Я присела на кровать. Вот моя комната, где придется начать новую жизнь, как я и хотела. Начинать всё заново… С некоторых пор я перестала плакать, сама не знаю почему, хотя в детстве и юности была порядочная рёва. Видимо, несчастья, которые свалились на меня, были настоящими несчастьями, они действовали оглушающе, мешали ответить привычной реакцией — слезами. Я не плакала, когда арестовали и увезли мою мать. Спокойно, даже как-то слишком спокойно, отвечала на вопросы следователя. Надо сказать, он быстро отпустил меня и больше уже не вызывал. Не плакала, когда поняла, что моя жизнь с Игорем не получилась, что наш брак — ошибка, которую нужно исправить как можно скорее. Когда в больнице сказали, что мой сын родился мертвым, я только закрыла глаза, кажется, на какое-то время потеряла сознание, а придя в себя, целый день пролежала застывшая, безучастная ко всему. Я слыхала, как врач шепнул сестре, чтобы меня не тревожили, что такое бывает и что это пройдет. И на самом деле прошло… И вот сейчас я сидела на кровати и разглядывала эти чужие вещи, в чужой комнате. Вдруг будто что-то горячее растопилось в груди, хлынуло в голову, к лицу, к глазам, я легла на кровать, уткнулась лицом в стопку белья. Видимо, Петр Иваныч меня услыхал, хотя я и пыталась сдерживаться. Оглушённая плачем, я и не заметила, как он вошел, только почувствовала его руку на своем плече. — Ничего, — сказал он. — Может быть, даже хорошо, что вы плачете, не нужно только упиваться своими страданиями, и всё пойдет на лад. После слез стало легче. Петр Иваныч по-прежнему стоял возле меня. — О том, что вы молоды и все радости у вас еще впереди, я уже не говорю, истины эти банальны, хотя и верны. Кстати, вы знаете, что один мудрый иудейский царь приказал вырезать на своем любимом кольце? Конечно, я помнила утешающее «Все проходит!» царя Соломона. — Ну, так вы совсем молодец! Кончайте горевать. В ванной сейчас идёт горячая вода. Я упоминаю о таком потрясающем факте потому, что её, этой горячей воды, частенько у нас не бывает. Бес их знает, наших сантехников, но почему-то они часто лишают нас такой радости. Пока есть, воспользуйтесь. А затем я сварю кофе. По-бразильски. Вы в Бразилии были? — Не пришлось. — Ну и я тоже не был. Кофе по-бразильски меня уже здесь научили варить. Мои спецкоры из редакции. — А они сами-то в Бразилии были? — Нет, конечно. Рецепт откуда-то из Якутии, кажется, привезли. Но кофе, знаете, всё равно хороший получается. Только процедура длинная. — Я, пожалуй, пока на вокзал съезжу. Вещи у меня там. — Вам помочь? — Спасибо. Там вещей-то — один чемодан. — Тогда отправляйтесь. До вокзала близко — одна остановка. Когда я вернулась с вокзала, уже на лестничной площадке меня встретил крепкий запах кофе. Кофе на самом деле был хорош, с пухлой шапкой коричневой пены. Мы пили его на кухне. Потом я разобрала свой чемодан, повесила в шкаф, что надо было повесить, погладила, что нужно было погладить. А там наступил вечер, мы пили чай с сыром и сухарями, которые я купила в «нашем» гастрономе — он был виден из окна кухни. А потом в своей комнате я оторвала все листки календаря до завтрашнего дня и выбросила их в мусорное ведро… Во сне увидела свою мать, какой она была на последнем свидании. В чёрном стёганом бушлате, с жёлтой нашивкой на груди, где чернильным карандашом написана её фамилия. Она осунулась, потемнела. Только глаза у нее остались прежние, красивые, серые, чистые глаза, которые так не вязались с этим стёганым бушлатом. Она показалась мне чужой, далёкой от меня. Видимо, и я ей тоже. Мы сидели рядом, но между нами была стена — «восемь лет заключения в колонии строгого режима…», и существовали мы с ней в разных мирах. Я не знала, что ей сказать, и она тоже ничего не спрашивала у меня, сидела потухшая, неподвижная, только редкие слезинки скатывались по ее щекам. Когда в комнату заглянул конвойный, она так же молча встала и ушла. Я стояла возле дверей и смотрела ей вслед. Она шла впереди конвойного, заложив за спину руки, как никогда не ходят женщины «на воле». И теперь, как только я думаю о матери, я прежде всего вспоминаю эти заложенные за спину руки…
5
Утром я направилась в Управление Торга. — Мне надо было устраиваться на работу. Здесь полковник Приходько помочь уже не мог, чтобы не привлекать излишнего внимания к моей особе. Поэтому ни он, ни я не знали, где мне придется работать. Адрес Управления у меня был. Я села на «двойку» и, плохо разобравшись в объявлениях кондуктора трамвая, проехала две остановки лишних. Возвращалась уже пешком. Возле подъезда Управления стоял «Москвич» цвета «кофе с молоком». Стоял прямо против дверей, мешая входящим и выходящим. Мне сразу не понравился этот «Москвич», машина была, понятно, не виновата, но водитель ее наверняка был хам. Я обошла машину с левой стороны. Белобрысый парень за рулем откровенно скучал, позевывал и постукивал пальцами по рулевому колесу. Поглядел на меня липко и нагло — этакий бычок, избалованный своей дешевой неотразимостью. Пожалуй, нечего было возле него задерживаться, но я все же задержалась. — Отъехал бы в сторонку, товарищ! Очень не хотелось тратить на него слово «товарищ», но я старалась сохранить миролюбивый тон. Водитель тут же высунулся из машины с улыбочкой. — А чего? Нет, бесполезно было здесь проводить воспитательную работу. Я молча повернулась и вошла в двери. Небольшой вестибюль, затем коридор, двери налево и направо. Стучала пишущая машинка. В углу вестибюля стояла доска Почета с фотографиями. Я подошла поближе, чтобы взглянуть на сотрудников Торга, работа которых, судя по надписи на доске, заслуживала подражания. И без труда отыскала в самом верхнем ряду фотографию Аллаховой. Полковник Приходько был прав: заведующая Главным складом Торга Светлана Павловна Аллахова обладала располагающей внешностью. Я знала, что ей уже за сорок, но на фотографии она выглядела моложе. У нее был правильный овал лица, четкие губы и большие, чуть навыкате, глаза. У полковника Приходько были серьезные подозрения против Аллаховой. Через Главный склад Торга распределялись товары во многие магазины города. «Работать» одна — Аллахова не могла, ей нужны были сообщники… Чтобы не навязывать мне своего мнения, полковник Приходько сообщил только проверенные факты. Аллахова, сказал он, привлекательна, живет с молодым мужем, третьим или четвертым по счету — здесь у полковника не было точных сведений. Я пригляделась к фотографии. Я тоже старалась быть объективной — и подумала, что если фотограф не очень польстил Аллаховой, то многие мужчины знакомством с такой женщиной могли бы гордиться. Фотографий ее заместительницы Тиуновой и кладовщика Бессоновой я на доске Почета найти не могла. Не нашла также и снабженца Колесова, и только потом сообразила, что начальник отдела снабжения Колесов работает совсем в другой организации, и если его фотография висит на доске Почета, то где-то в ином месте. О Колесове полковник Приходько сообщил немного: замечена его тесная связь с Главным складом Торга, но деловые это интересы или какие другие — неизвестно. Сам Колесов — веселый мужчина, душа общества и женщин, соответственно. Не дурак выпить, причем предпочитает хороший коньяк. О коньяке полковник Приходько добавил просто так, между прочим… Трудоустройством старших торговых работников, а товароведы относились к их числу, заведовал заместитель директора Торга Королёв А. И. Эту фамилию я прочитала на стеклянной дощечке, прибитой к дверям кабинета. Конечно, перед дверями имелась приемная с секретарем-машинисткой, была и очередь посетителей. Возле самых дверей сидели две девушки, вероятно, выпускницы торгового техникума. Обе рыженькие, обе в сапожках и модных вязаных кофточках, приобретенных, надо полагать, «по блату» или на «барахолке». Через два стула от них дожидалась очереди пожилая женщина в мятом болоньевом плаще. Я не люблю очередей, терпеть не могу вопроса «Кто последний?». Молча уселась на свободный стул, рядом с женщиной в мятом плаще. Она коротко взглянула на меня и отвернулась. Потом посмотрела еще раз, уже более внимательно. У нее были грубоватые черты лица, не лишённые, однако, как говорят, некоторой привлекательности. — На работу поступать? — спросила она. Я кивнула. — Кем? Я сказала. — Документы с собой? Ну-ка, покажи. Голос у нее был глуховатый, решительный, разговаривая, она глядела прямо в глаза. Это мне понравилось, и я простила ей грубоватое «ты», не показавшееся мне ни пренебрежительным, ни обидным. Я вынула из сумочки трудовую книжку. Моя соседка прочитала единственную запись. — Пойдешь ко мне работать? Склад № 8. Галантерея, иногда немного мебели, готовое платье. Словом — пересортица разная. Заранее скажу, складик скромный. А ты, может, с ЦУМа хочешь начать? — Нет, зачем же, — улыбнулась я. — Складик хотя и маленький, но без товароведа трудно. Был у меня мальчик из профучилища, да слабоват оказался. Драп от сукна отличить не мог. Влетела я с ним в историю, на полторы тысячи. Кое-как уладили. Мало что платить, позору еще сколько, что там ни говори - растрата. Вот, последний оправдательный акт на подпись принесла. А своего товароведа на склад игрушек отправила. Куклы, лошадки, автоматы - там не спутается. Так одна и тяну. Ты пока к Королёву не ходи, меня подожди, вместе пойдем на мой склад. Сама посмотришь. Понравится — я тебя оформлю. — А где ваш склад? — Ты же нездешняя, чего тебе говорить, все равно город не знаешь. В Дзержинском районе, словом. Главный склад Торга тоже находился в Дзержинском районе. Пожалуй, лучше мне пока нечего было и искать. Я согласилась. Моя собеседница предусмотрительно сунула мою книжку в свой портфельчик. — Чтобы не убежала, — пошутила она. Секретарша за столом подняла голову от бумаг и уставилась на кого-то. Я повернулась тоже. И увидела Аллахову. Кто-то окликнул заведующую Главным складом Торга из коридора, и она остановилась в дверях. Правда, фотограф убрал морщинки и возле глаз, и возле губ, но полковник Приходько был прав — выглядела Аллахова весьма привлекательно. И одета была со вкусом. Фигура у нее тоже была хорошая. Она кивнула кому-то в коридоре, подошла к секретарше. — Люся, Аркадий Игнатьевич у себя? Голос у нее был бархатный и небрежный. На нас, сидящих в ожидании приема, она даже не взглянула, прямо пошла к дверям кабинета. В это время навстречу ей из кабинета вышел черноволосый и толстогубый мужчина. Он поклонился Аллаховой: — Светлана Павловна, рад видеть! — Здравствуйте, здравствуйте, Илья Ашотович. Она прошла мимо, этакая уверенная в себе Королева, и так же уверенно, не постучав, не задержавшись ни секунды на пороге, открыла дверь кабинета и вошла. Илья Ашотович только посмотрел ей вслед и вернулся к столу секретарши. Такой торжественный проход Аллаховой, естественно, не мог остаться незамеченным. Девушки возле дверей оживленно зашушукались меж собой. Я вопросительно взглянула на свою соседку. Я еще ничего не спросила, моя соседка поняла меня и так: — Аллахова, заведующая Главным складом, — А я думала — замминистра. — Для Королёва она больше, чем замминистра. Я наивно удивилась: — Почему так? — Почему, почему… Поработаешь у нас — сама поймешь. Илья Ашотович, оставив секретарше свои бумаги, вышел из приемной, поздоровавшись на ходу с моей соседкой. — Бабаянц, — пояснила она. — Главный ревизор. Тоже фигура, сама понимаешь. Я понимала. Как ни мал был мой опыт в торговых делах, я уже знала, что самый добросовестный работник не гарантирован от случайных излишков или недостач и что любая ревизия неизбежно тревожит даже порядочного работника, — о непорядочных я уже и не говорю. Многое здесь зависит от ревизора… В приемную проскользнул и просеменил к столу секретарши щупленький человечек с папочкой под мышкой. — Люсенька! У Аркадия Игнатьевича кто есть? — Аллахова у него. — Ах, Светлана Павловна… так, так. Он нерешительно повертел в руках папочку, затоптался возле стола. Секретарша продолжала заниматься своими бумагами. — И давно она там? — Только что вошла. — Так, так… Человечек вопросительно посмотрел на секретаршу, но та была опытным работником и успела усвоить, что не ее дело советовать что-либо. — Пожалуй, я попозже загляну. — Что ж, приходите попозже. Он так же быстренько выскользнул из приемной. В это время Аллахова вышла из кабинета. До дверей ее провожал сам Королёв — коренастый мужчина с усиками, в сером дакроновом костюме с каким-то значком на лацкане пиджака. Он поклонился ей в дверях четко и официально: «Всего доброго, Светлана Павловна!» На этот раз Аллахова заметила мою соседку, кивнула ей, окинула меня взглядом и ушла. Замдиректора Королёв выглянул в приемную. Девчушки вскочили разом. — Ко мне? Проходите, пожалуйста. Он пропустил их в кабинет, закрыл дверь. — Вежливый, — сказала я. — Вежливый, — согласилась моя соседка. — Алименты платит.
6
Мою заведующую складом Маргариту Петровну Сосновцеву все ее сослуживцы звали просто Рита Петровна. Я стала звать ее так же. Складик был маленький, и обороты его были невелики, поэтому я как товаровед одновременно числилась и заместителем заведующего. Если бы запись в трудовой книжке соответствовала действительности, то новая работа не доставила бы мне особых хлопот. Но мне не хватало практики. Чтобы не повторить ошибки своего предшественника, не спутать сукно с драпом, мало эту разницу знать по учебнику, нужно еще и драп и сукно пощупать руками: никакая теория здесь не может заменить отсутствие опыта. — Товароведу, как саперу, — говорила Рита Петровна, — ошибаться тоже нельзя. Живой, правда, останешься, но статью схватишь, как пить дать. И я старалась не ошибаться. «Конторой склада» у нас называлась небольшая клетушка, отгороженная фанерными щитами. В ней стояли три небольших столика, Риты Петровны, мой и бухгалтера — пожилой молчаливой женщины, весь рабочий день дымившей «Шипкой». Грузчиками на складе работали две женщины. Одна — местная жительница, вторая — приехала из села где-то за Новокузнецком. «Маша из Чугунаша», как ее звали, была девица лет тридцати, мощного сложения, под девяносто килограммов веса. Как рассказывала Рита Петровна, отец Маши был алкоголик и умер в психиатрической больнице. Дочь рассчитывалась за непутевую жизнь родителя умственной отсталостью. Когда у Маши появлялись вопросы, а появлялись они по всякому поводу, она вваливалась в нашу «контору», и от ее мощных и размашистых движений стены нашей клетушки ходили ходуном. Голос у Маши был звонкий, по-детски пронзительный. — Рита Петровна! — вопила она. — Рита Петровна!… — Ну, что у тебя там? — Машина пришла. — Дальше что? — Привезли, эти самые… сервизы которые… — Какие сервизы? Мы не получаем сервизы. — Привезли. Вот такие!… — и Маша широко разводила руки. — Деревянные, с дверками… — Серванты? — догадываюсь я. — Вот, вот, серванты, эти самые… — Фу, чтоб тебе! — ворчала Рита Петровна. — Ты сколько у меня времени работаешь? — Два года уже, Рита Петровна! — Два года! Два года имеешь дело с материальными ценностями, сколько их туда-сюда перетаскала, а все серванты с сервизами путаешь. Сервизы — это фарфор, посуда. Чашки, такие белые, понимаешь? — Понимаю, Рита Петровна! — радостно вопила Маша. Она вываливалась за дверь, тут же возвращалась, и фанерные стены нашей «конторы» опять содрогались, а со стола вихрем сдувало все накладные. — Рита Петровна!… А куда эти самые… сервизы ставить?… Подобные разговоры происходили почти ежедневно, однако Рита Петровна в Маше, что называется, души не чаяла и всячески опекала ее. Маша была здоровая и работящая. На складе не было такой вещи, такого ящика, который она не смогла бы передвинуть, поднять, перенести куда следовало. «Грешно говорить, — признавалась Рита Петровна, — не было бы мне счастья, если бы не ее несчастье, где бы я такого работника нашла. Да ещё непьющая — цены ей нет». И когда под руками Маши, от излишнего усердия, что-либо рвалось или ломалось, то Рита Петровна без лишних упреков возмещала убытки из своего кармана. Борису Борисовичу я сообщила по телефону о своем трудоустройстве. Он спросил, не нужно ли мне чего, есть ли у меня деньги, и пожелал счастливой работы. С Петром Иванычем мы ужились сразу, будто знали друг друга десяток лет. Кухню я взяла на себя, оставив ему только «кофе по-бразильски». Мы не делали «из еды культа», и здесь все шло отлично. В редакцию Петр Иваныч ходил не каждый день. По вечерам мы играли в шахматы или смотрели по телевизору подходящую картину. Тем для вечерних разговоров у нас, конечно, хватало. Постепенно осваивалась и на работе. Склад наш был старенький, неухоженный. Посреди двора грузовики, разворачиваясь при выезде, выбили здоровую яму, после дождей она сразу заполнялась грязью до краев, и колеса машин развозили ее по всему двору. Старые работники склада уже ко всему привыкли, но мне эта грязь, лезущая через порог, была противна донельзя. Рядом со складом, через улицу, строился фундамент для будущей «девятиэтажки», десятки самосвалов возили туда гравий и цемент. Я направилась к прорабу и попросила завезти нам во двор одну машину гравия. Соседи все-таки! Прораб, охрипший от усердного руководства, оскорбленно удивился. «Вы что, девушка? У меня не частная контора, а государственная стройка, какую еще там машину…» Я пожаловалась Рите Петровне. Она взглянула через окно на злополучную яму. — Грязно, говоришь? А прораб гравию пожалел… Она посмотрела на меня иронически и покинула контору. Я занялась накладными, а через несколько минут во двор к нам заехал самосвал и вывалил в яму целую кучу гравия. Рита Петровна протянула водителю зеленую бумажку, тот взял ее, белозубо улыбнулся и уехал. Так простая «трешка» решила мою проблему. Но я не хотела признать себя побежденной и завела «морально-педагогический» разговор. Рита Петровна выслушала меня с удивлением. — Слушай, — сказала она. — А ты на самом деле товароведом работала? С запозданием я вспомнила опасения полковника Приходько. — Не знаю, уж как ты там управлялась, — продолжала Рита Петровна, — а я считаю, в нашем деле без этих «трешек» обойтись нельзя. Сколько я их шоферам да грузчикам передала — и не сосчитаешь. Дом построить можно! На базе хочешь, чтобы тебя побыстрее погрузили, — грузчикам на бутылку. Чтобы шофер тебя Первым рейсом отвез — подай и ему бумажку. И все уже привыкли, без «трешки» никуда. Я знала, что у Риты Петровны муж — инвалид, дочь — студентка, а зарплата — девяносто два рубля. Но я не стала спрашивать, какой ценой она выкраивает эти «трешки»… Пошла вторая неделя моей работы. Полковник Приходько меня не беспокоил, я сама начала беспокоиться. Я ни на миллиметр не подвинулась к Главному складу Торга. Наш склад не имел к Главному складу никакого отношения. Здесь мог бы помочь случай: перепутанные накладные или завезенные не по адресу товары. Но случай не шел мне на помощь. Словно невзначай я заводила с Ритой Петровной разговоры о том, о сем… Но недооценила ее наблюдательности. — Слушай, Грошева, — сказала она, — что-то ты уж очень Аллаховой интересуешься, по-моему. У полковника Приходько были основания настаивать на строгой моей конспирации. Честно говоря, я не очень разделяла его взгляд на это, но основной параграф воинской дисциплины — точное выполнение приказа — помнила хорошо. — А чего ж, — выкручивалась я, — интересуюсь, конечно. Заметная она женщина. Эффектная. У Торга в почете, значит, работать она умеет. — Работать она умеет… — Сама красивая. И муж молодой. — Уже и про мужа знаешь? — Да рассказывали тут. — Поди, молодому мужу позавидовала? — А что, нельзя? — Дура ты, Грошева. Чему там завидовать. Если бабе за сорок, а ее мужу и тридцати нет, так и не мужчина он, а так, пустое место. Я не нашлась, что сказать. Рита Петровна взяла со стола накладные. — Этот молодой муж у Аллаховой вроде ширмы, — заключила она. — А за ширмой кто? — За ширмой?… Да хотя бы тот же Королёв… Слушай-ка, ты бы лучше свои накладные проверила, чем чужими мужьями интересоваться. Своего лучше заведи… Я сказала Рите Петровне, что собираюсь продолжить свое торговое образование и хочу подготовиться для поступления в институт. Она перестала задерживать меня после работы. В половине пятого я покидала склад, садилась на трамвай и ехала к Главному складу Торга. Наискосок от него, через улицу, находилось небольшое кафе-закусочная, всего на несколько столиков. Из углового окна кафе хорошо просматривались двери Главного склада. Никакого определенного плана у меня, конечно, не было. Просто я решила приблизиться, насколько возможно, к интересующему меня объекту и дожидаться случая. Беляши здесь были вкусные… Каждый вечер после работы я посещала это кафе — брала пару беляшей или сосиски, пристраивалась на столике возле углового окна и совмещала приятное с полезным. Первые три дня не принесли мне ничего интересного. На четвертый день я увидела, как из дверей склада вышла Аллахова. Она была не одна. Рядом с ней шла молодая женщина, черненькая, тоненькая, почти девочка. По словесному портрету я узнала в ней кладовщицу Главного склада Валентину Бессонову. Они прошли мимо кафе по другой стороне улицы. Аллахова, не глядя на Бессонову, что-то выговаривала ей, та слушала молча, понурившись. Я знала, что Бессонова всего два года назад окончила торговый техникум. Могла бы работать товароведом, но задержалась у Аллаховой в должности кладовщика. Немного подождав, я выбралась из кафе, пошла следом и лишь успела заметить, что они сели в трамвай. Назавтра, когда я только подходила к кафе, меня обогнал знакомый «Москвич» цвета кофе с молоком. И водитель в нем был тот самый, я узнала его по почерку: он остановился прямо против дверей склада. Из машины выбрался Королёв. Поддувал северный ветерок, и на Королёве было черное демисезонное пальто. Он прошел на склад, а я на свое место к угловому столику в кафе. Водитель остался в машине читать «Огонек». Буфетчица за стойкой — полная, моложавая, с брезгливо-холодным лицом, в кружевном фартучке, который не скрывал роскошного бело-голубого джемпера с начесом, — лениво взглянула на меня. Я подумала, что, вероятнее всего, джемпер приобретён из-под прилавка, — дальше мои размышления не пошли.Зеленый я еще была инспектор — ведь ниточка могла тянуться на Главный склад. Тут из дверей склада выскочила Бессонова с хозяйственной сумкой. Она обогнула «Москвич», кивнула водителю и, не задерживаясь, побежала в кафе. Я нагнулась над своими сосисками. Бессонова взяла у буфетчицы две бутылки марочного «Вермута», коробку конфет. Никаких денежных расчетов я не заметила. Бессонова сложила все в сумку, вышла из кафе и быстро перебежала улицу. Водитель было высунулся из машины, но она только махнула ему рукой. Сосиски свои я закончила, взяла еще стакан кофе. Потом еще один, и уже устала стоять за своим столиком, пока, наконец, все действующие лица не появились на сцене — на крыльце Главного склада. Первой вышла бронзово-рыжая женщина с четко подведенными глазами. Конечно, это была Тиунова, заместительница Аллаховой. За ней появилась сама Аллахова и Королёв, последней была Бессонова. Шляпа на Королёве была та же, но вот пальто оказалось уже другое — темно-серое, «драп маренго», видимо, дорогое. Свертка в его руках я не заметила, значит, свое старое пальто он просто оставил на складе. Две бутылки «Вермута» не так уж мало на четверых. Тиунова вышла, смеясь чему-то, на крыльце оступилась и упала бы, не поддержи ее Королёв под руку, это послужило поводом для новой вспышки общего веселья. Только Бессонова хмуро держалась в стороне, хотя лицо ее покраснело: видимо, она тоже выпила со всеми. Компания погрузилась в машину и уехала. Я пошла домой пешком. Хотя я увидела не бог весть сколько, но считала, что мне есть над чем задуматься. То, что Королёв — непосредственный начальник Аллаховой — распивает с ней вино, а потом выходит со склада в новом пальто, — это может означать многое. А может и не значить ничего. Товарному складу категорически запрещается продавать непосредственно что-либо и кому бы то ни было. Нарушение этого правила — первый признак, что на складе не все в порядке. Но Королёв сам начальник — и может считать, что просто нарушил формальное постановление. В то же время преступления обычно следуют за такими нарушениями… Дома Петр Иваныч и я напились чаю со свежими сушками. Как нарочно, по телевизору шла очередная серия «Следствие ведут Знатоки». Мы посмотрели ее. Петр Иваныч заявил, что картина упрощенно изображает жизнь и может создать у меня ложное представление о работе инспектора. Я с ним согласилась. Мне не нравилось, как Петр Иваныч весь вечер морщился, сосал валидол и поводил взад и вперед левым плечом. — Ничего, — заявил он. — Бывает это у меня. Пройдет. Однако не прошло. Ночью я вдруг проснулась от тревожного шороха за дверью и, как была, в пижаме, выскочила в коридор. Петр Иваныч медленно оседал на пол возле телефонного столика. Я подхватила Петра Иваныча, но удержать не смогла и опустилась на колени, поддерживая его за плечи. Телефонная трубка была зажата в руке, он успел набрать «03», и дежурная кричала: «Алло! Скорая слушает, говорите!». Я взяла трубку и сообщила все, что следовало. Петр Иваныч пришел в себя. Я хотела принести подушку, устроить его пока на полу, до приезда «скорой», но он упрямо устремился в свою комнату. Я помогла ему добраться до постели. — Напугал вас? Да вы не беспокойтесь, мне уже лучше… «Скорая» приехала очень быстро. Врач — молодая милая женщина — сделала Петру Иванычу укол, оставила мне рецепт и посоветовала побыть возле больного часок-другой, пока он не уснет. Я вернулась к Петру Иванычу. Он усиленно отправлял меня спать, но я забралась с ногами в кресло, затемнила платком настольную лампу, взяла со стола «Смену», которую Петр Иваныч покупал ради шахматных задачек. Мой больной послушно закрыл глаза. Я тоже поудобнее устроилась в кресле… и уснула, вероятно, раньше, чем он. Когда проснулась, было уже светло. Настольная лампа горела, журнал лежал на полу, но Петр Иваныч не спал, а лежал и смотрел на меня. Я смутилась. — Это называется — сиделка. Вы бы разбудили меня, что ли. — Зачем было вас будить? — Я, поди, еще и храпела. — Не слыхал. А вы разве храпите? — Кто знает, может быть, уже и храплю. — Нет, вы просто сопели носом. — Вот видите. Надо было разбудить. Как вы себя чувствуете? — Превосходно… А знаете, в этом кресле когда-то спала моя дочь. Когда была такой же маленькой. — А где она сейчас? — Она вышла замуж… А вы хорошо спите, у вас лицо делается, как у ребенка. Вот только перед тем как проснуться, вы начали хмуриться и лицо у вас стало несчастным. Я хотел вас разбудить, но тут вы проснулись сами. Приснилось что-нибудь? Я достала туфли из-под кресла. — Не помню. Мне никогда ничего путного не снится… Петр Иваныч, я вам завтрак сюда принесу. — Ни в коем случае. Я встану. — Вам нельзя вставать. — Это кто сказал? — Врач. Она сказала: покой. — Для мыслящего существа покой — это еще не значит отсутствие всякого движения. Сейчас я покоен как никогда. Но вот что я вас попрошу — на кухне в шкафу бутылка стоит. С коньяком. — Видела бутылку, по-моему, она пустая. — Немножко еще есть. Это мое лекарство. — Коньяк? — Конечно, сосудорасширяющее. Налейте мне остатки. Коньяку набралось с рюмку. Петр Иваныч выпил половину, остальное оставил на вечер. Днем я позвонила ему со склада. Он сказал, что чувствует себя превосходно, и так далее, в таком же тоне. Я решила купить ему после работы бутылку «лекарства».
ТРУДНОЕ ЗНАКОМСТВО
1
На складе я задержалась случайно. Нам нужно было получить товар на центральной базе. Рита Петровна полдня «выбивала» машину, и я смогла выехать только во втором часу. Машину вел водитель Топорков — я уже знала его, он чаще других бывал на нашем складе. Ничего плохого о нем сказать было нельзя, ездил он хорошо, машину знал, сам выглядел чистенько, в разговоре подпускал словечки вроде «турне», «плебеи», «донкихотство»… Вот только к женщинам относился потребительски: легкие удачи вселили в него уверенность в собственной неотразимости. Но об этом я догадалась уже, когда мы возвращались с загородной базы. Дорога была пустынная, и вот тут мы с Топорковым крупно поговорили. Приехали на склад оба с испорченным настроением. Когда разгружали машину, он сидел в кабине и мрачно поплевывал за окно. Освободилась я уже после шести и без особой надежды на какие-либо новости прибыла к «своему» кафе. Рабочий день на Главном складе, видимо, закончился, значит, остался один сторож, который, конечно, уже пристроился вздремнуть до вечера, а там, глядишь, уляжется спать по-настоящему — все сторожа, каких я только знала, вели себя одинаково. Ни беляшей, ни сосисок у буфетчицы не оказалось, но есть хотелось, я взяла сомнительную котлетку. Едва я управилась с нею, как увидела Аллахову. Я не заметила, когда она вышла со склада, я увидела ее уже под окнами кафе. Никакого плана у меня не было и на этот раз. Я просто пошла следом за Аллаховой. Она несла сверток, хорошо упакованный в бумагу. Сверток был объемистый, но не тяжелый. «Двойка», идущая в центр, приближалась к остановке. Аллахова заторопилась, но сверток мешал ей, а народу на остановке скопилось порядочно, и трамвай ушел без нее. И вот тут мне повезло. Из переулка на проспект прямо на меня выбиралось такси. Аллахова все еще стояла на остановке. Зеленый огонек за ветровым стеклом машины с шашечками прибавил мне сообразительности, я кинулась навстречу, замахала руками. Водитель затормозил, встревоженно приоткрыл дверку, видимо, подумав, что у меня бог знает что случилось. — В центр, — сказала я. — Пожалуйста. Я села рядом, водитель круто развернул. Проезжая трамвайную остановку, он, как положено, сбавил ход. — Остановитесь здесь! — попросила я. Он машинально притормозил, хотя здесь остановки запрещены. Я быстро выскочила из машины и окликнула Аллахову. — Вы меня? — не поняла она. — Садитесь скорее, я вас подвезу. Аллахова обежала машину, я открыла ей заднюю дверку, водитель тронул, как только она успела сесть, — сзади на нас уже надвигалась зеленая туша автобуса. Я повернулась к Аллаховой. Вблизи ее лицо уже не показалось мне симпатичным. Вероятно, из-за глаз, они были холодные и прозрачные. Слишком прозрачные, чтобы в них можно было что-либо прочитать. Она смотрела на меня вопросительно. Видимо, наша мимолетная встреча в Управлении ей не запомнилась. — Видела вас в Торге, — пояснила я. Аллахова промолчала. — Я работаю у Риты Петровны. — Ах, вот что! Тогда я вас тоже знаю. Слыхала, как же. Товаровед, и с высшим образованием, кажется. — Какое там высшее. Недоучка, познаю все на практике. — Говорили, что Рита Петровна вами довольна. А ей угодить, как я знаю, трудно. — Стараюсь. Служу трудовому народу. — Что вы делали в наших краях? — спросила Аллахова. Я замешкалась. Нужно было вот сейчас найти точный ответ, который помог бы продолжению знакомства, нельзя было долго размышлять… — Я искала в ваших магазинах коньяк. Хороший марочный коньяк. Мне сказали, что он бывает в гастрономе на проспекте Дзержинского. — Зачем вам понадобился именно марочный коньяк? — Подарок. — Мужу? — Нет. Просто хорошему мужчине. — И вы его нашли? — Кого, коньяк? — Нет, хорошего мужчину. — Вот хорошего мужчину найти оказалось легче. Аллахова улыбнулась поощрительно: — А ваш мужчина, он на самом деле хороший? — Да, очень. Он — пенсионер. — Ах, вон что! Ну, такой еще может быть. — Других у меня нет пока. Я же приезжая. Никого не знаю, никуда не хожу. — Знаете, пожалуй, я вам помогу. — Чем, мужчиной? Аллахова рассмеялась: — Нет, пока только коньяком. Мой знакомый — любитель хороших вин, он всегда их где-то достает… Она замолчала, раздумывая. Я даже затаила дыхание… Аллахова смотрела на меня вопросительно, испытующе. Но, в конце концов, она ничем не рисковала. — Вам сколько коньяку? — Ну, не ящик же. Одну бутылку. — Господи, всего-то. Я поговорю с ним и позвоню вам на склад. — Мне неудобно вас затруднять. — Пустое. Буду рада вам помочь. Может быть, нам повезет, и я найду для вас не только коньяк. Шутку Аллахова понимала, и в сообразительности ей тоже нельзя было отказать. Будь она менее сообразительна, задача полковника Приходько была бы гораздо легче. — Он дорогой, кажется, марочный коньяк? — спросила Аллахова. Плохо верилось, что она не знает, сколько стоит марочный коньяк. Тогда зачем такой вопрос?… Уже проверяет, как я отношусь к деньгам и сколько их у меня… Неплохо, совсем неплохо. Попробую пойти ей навстречу. — Не очень, — возразила я. — Двадцать пять рублей бутылка. — Ого, порядочно. — Ничего. На заработки не обижаемся. Аллахова промолчала. Я не смотрела на нее и не знала, как она отнеслась к такому звонкому заявлению. Только водитель покосился на меня, как мне показалось, неодобрительно. Но водитель-то был, вероятно, порядочным человеком. Я вышла у Дома офицеров. — Позвоню вам, — сказала Аллахова. — Рите Петровке не говорите про коньяк, а то она про меня бог знает что подумает. И она кивнула мне на прощанье, ласково и покровительственно.
2
Говорят, есть такой закон — «парных случаев». Есть и пословица: «Пришла беда — отворяй ворота!» За одним несчастьем следует второе. Но и удача, в таком случае, тоже не должна приходить одна… Рядом с Домом офицеров был магазин «Военная книга». Мне захотелось принести своему домашнему больному что-нибудь для чтения. Я купила мемуары военного летчика. Летчик на фотографии в книге напомнил мне вагонного милого мальчика Лешу. А когда я вышла из магазина — бывает же так! — увидела его самого. Одетый в новенький китель, он блестел, на весь проспект своими пуговицами, и не заметить его было просто невозможно. Поэтому я не сразу обратила внимание на его спутницу. Рядом с Лешей шла Бессонова. Кладовщица Главного склада Торга. Леша был на голову выше ее, она держалась за его рукав, запрокинув к нему лицо. А он сверху говорил ей что-то нежное. И не нужно было здесь особой проницательности, чтобы понять, что это идут если не молодые муж и жена, то жених и невеста. Я повернула к витрине магазина, чтобы не навязывать Леше нашу встречу: кто знает, как отнеслась бы его спутница к подозрительному вагонному знакомству, и предоставила Леше возможность меня не заметить. Но Леша заметил. В стекле витрины отразилось сияние его пуговиц. Последовали обычные вопросы: «Как живете, что делаете?». Потом Леша познакомил меня со своей спутницей. Бессонова протянула руку доверчиво, без ревнивой подозрительности, чем сразу же понравилась мне. И ладошка у нее была мягкая и маленькая, как у ребенка. Леша не сказал: «Это моя жена!» — видимо, она еще не была его женой, он сказал просто: «А вот моя Валюта!». Имя подходило ей как нельзя более, зато сама Валюта показалась мне самым неподходящим кладовщиком для склада, которым заведовала такая женщина, как Аллахова. Я сказала, что случайно познакомилась с ее заведующей. Валюта отнеслась к моему сообщению без всякой радости. Тут Леша решительно вступил в разговор. — Вот что, мои торговые работники, не будем загораживать проезжую часть, свернём налево. Вон туда, в ресторан. Женя, пойдемте с нами. Выпьем за мой отъезд. — Уезжаете? — Улетаю. В командировку. — На Север, — пояснила Валюта. — На два месяца. — Валюта, всего на полтора. — Бросает меня одну. — Не бросаю — покидаю вынужденно. Валюта потёрлась щекой о его рукав с нашитым пропеллером. — Пойдемте с нами, — попросила она. — Веселее будет. А то я там еще и реветь начну. Мне очень не хотелось идти в ресторан. Мне хотелось домой. Выпить с Петром Иванычем кофе по-бразильски. Поиграть в шахматы. Посмотреть телевизор. Мне очень не хотелось сейчас смотреть на Валюту Бессонову. Но тень Аллаховой падала и на эту девочку… — Ладно, — сказала я. — Только мне нужно позвонить домой. Мы вошли в ресторан. Мои спутники направились в зал, а я, извинившись, — к телефону-автомату. Телефон был занят. Вероятно, Петр Иваныч вел консультацию из дома с одним из своих подопечных авторов. Пришлось подождать. Наконец, он мне ответил. — Порядочному больному в постели лежать нужно, — ворчала я, — а не сидеть по часу у телефона. — А я непорядочный. — Это я и сама вижу. Как вы там? — Превосходно. — Конечно. Я вам книжку купила. — Очень хорошо. А принести не можете? Откуда звоните? — Из ресторана. Знакомых встретила. — Хорошие хоть знакомые-то? — Хорошие. Вместе в вагоне ехали. — Ну, тогда — конечно. Поди, пить будете? — А как же? — Тогда последнюю рюмочку за мое здоровье… — Обязательно. — …вылейте! — Как вылить, куда? — На пол вылейте, бестолковая вы девчонка! — Ах, вон что. Не знаю, на пол-то… оштрафуют еще. Не бойтесь, не сопьюсь. Леша уже заказал бутылку сухого вина, графинчик коньяку и фрукты. Валюте он сразу налил вина, а на меня взглянул нерешительно. — Что будете пить, Женя? Тут я опять вспомнила о своей неподходящей внешности. И если мне незачем было играть перед Лешей, то здесь сидела еще Бессонова… — Налейте мне коньяку. Вообще-то я не любила крепких вин, но в институте, на всяких там междусобойчиках, приходилось пить всякое. Считалось правилом хорошего тона пить водку не морщась. У меня это получалось не хуже, чем у других. Леша послушно налил мне коньяку. Мы чокнулись, я отважно выпила свою рюмку. Кажется, на Валюшу это произвело впечатление. — Когда улетаете? — спросила я у Леши. — Завтра. Бессонова сразу низко наклонилась над своим бокалом, и слезинки закапали в вино. — Ну, что ты, Валюша! Ну, не нужно, я же скоро вернусь. — Скоро?… Через два месяца. — Ну и что — два месяца. Они знаешь как быстро пройдут. А как вернусь, мы поедем с тобой на юг. Бессонова подняла голову и вытерла глаза: — Насовсем? — В отпуск. На месяц. — Совсем бы отсюда уехать. — Совсем меня не отпустят. А чем у нас здесь плохо? Вот зимой поедем в наш санаторий. — Холодно здесь… — Мы будем с тобой ходить на лыжах. — Я не умею на лыжах. — Да я тебя научу. Ты у меня еще так будешь ходить на лыжах… Милый мальчик Леша… Он так хорошо сказал это: «Ты у меня!» Невесело было все это мне слушать. Я предполагала, что не будет у них ни лыж, ни санатория… Независимо от того, узнаю я что-либо новое или нет. Зло уже совершилось, и за преступлением последует наказание. Они еще ничего об этом не знают, а я знаю, но уже ничем не смогу им помочь. У меня появилось ощущение какой-то вины перед ними, перед Бессоновой за то, что мне лично не угрожает такая беда, как ей. Я смотрела на ее глаза, набухшие слезами, и мне казалось, что она уже сама чувствует, ожидает эту страшную беду. — Допьем! — Леша поднял рюмку. — За хорошую вам дорогу! — пожелала я ему. — За хорошую вам работу! — сказала мне Валюша. Я не знала, чего ей пожелать, чтобы это не было ложью, и только молча кивнула в ответ. Когда я вернулась домой, Петр Иваныч встретил меня в коридоре, молча покачал головой и пошел на кухню готовить кофе по-бразильски.
3
С нетерпением я ожидала звонка Аллаховой. Старалась не отлучаться надолго со склада. Беспокоилась, понимая, как много может значить этот звонок: она или принимает меня в свое общество, или нет. Если принимает, следовательно, решила ко мне приглядеться, не смогу ли я ей быть чем-то полезной — ведь ей необходимы сообщники. Если не позвонит, значит, я ей чем-то «не показалась», мне придется начинать все сначала, и решение задачи усложнится во много раз. Я потеряла уже всякую надежду… Аллахова позвонила на третий день. Рита Петровна отсутствовала. Трубку сняла наш бухгалтер и без лишних слов передала ее мне. Аллахова не назвала себя по телефону — я узнала ее голос. Она сказала, что выполнила мой заказ и я могу приехать к ней на склад. Когда? Да хотя бы сегодня вечером… После работы, перед тем как поехать на Главный склад, я купила черный карандаш для косметики. Мазнула по ресницам, поставила в уголках глаз по черточке. Я никогда не делала этого раньше. Пригляделась к своему отражению в зеркале и решила, что это как раз то, что мне сегодня нужно. И вот наконец-то я стояла на пороге учреждения, за которым столько дней наблюдала только издали. — Спокойнее! — сказала я сама себе. — Спокойнее… Не терять хладнокровия… Главный склад Торга мало походил на наш грязный неухоженный складишко. В вестибюле — узорный линолеум, ковровая дорожка, пальма в зеленой кадушке. На стене висел роскошный красочный плакат: милая девушка советовала хранить деньги в сберегательной кассе, обещая за это автомобили, холодильники и развесистые пальмы Черноморского побережья. Меня встретила Валюша Бессонова. Она улыбнулась мне, как старой знакомой, и у меня опять стало неуютно на душе. — Улетел? — Улетел… Пойдемте, там вас уже ждут. Она пошла вперед. Кабинет заведующего складом на нашу «контору» тоже никак не походил. Как полагается солидному кабинету, двери были обиты коричневым дерматином, в шашечку. В двери был врезан американский замок. «Закрываются, значит…» — подумала я. В углу за полированным письменным столом сидела Аллахова. Она приветливо кивнула, протянула руку. С дивана, стоявшего у стены, поднялся мужчина, полноватый, лет за сорок, с пухлыми губами и лысинкой. Он поклонился мне. «Колесов!» — подумала я. Это на самом деле оказался Колесов. — Наш Олег Владимирович, — пояснила Аллахова, — бог снабжения комбината и наш благодетель в отношении «что достать». Может достать все. С моим кладовщиком, я знаю, вы уже познакомились. Садитесь, пожалуйста. Она указала на диван, и я послушно села рядом с Колесовым. Он взглянул на мои колени. — Как там Рита Петровна? — спросила Аллахова. — Усердствует, как всегда? А ты, Валюта, почему, как бедная родственница, подпираешь косяки? Садись. Да не хмурься ты, горе мое! Приедет твой летчик, точно тебе говорю. Такие, как он, приезжают. Вот за Олега Владимировича я бы не поручилась. Он мог бы и не приехать… Олег Владимирович, да не оправдывайтесь, не стройте из себя праведника, зачем это вам. Если перед Евгенией Сергеевной, то ей праведники, думаю, тоже не очень нужны. Аллахова вела разговор спокойно и уверенно, в ее поведении не было наигранности. Я слушала ее и понимала, как нелегко будет здесь что-либо узнать. — Евгения Сергеевна, — продолжала Аллахова, — я передала Олегу Владимировичу вашу просьбу. Кажется, она не доставила ему особых хлопот. — Какие пустяки!— подтвердил Колесов. Он поднял с пола портфель, отличный современный портфель, размером с хороший чемодан, щелкнул бронзовой пряжкой и вытащил бутылку.. — Вот — «Ереван». Как я понял, это и требовалось? — Спасибо! — Прошу вас. Одной бутылки вам хватит?… Пока, разумеется! — О, вполне. Колесов достал из портфеля такую же вторую бутылку. — Тогда эту мы разопьем за знакомство. Светлана Павловна, надеюсь, нам разрешит. Аллахова погрозила пальцем шутливо: — В рабочем помещении, Олег Владимирович! — Рабочий день закончился. — Все равно, что подумает о нас Евгения Сергеевна! Колесов повернулся ко мне: — А что подумает Евгения Сергеевна? Конечно, все это была немудрёная разведка, дешёвая игра. Но, тем не менее, это была разведка. — Думаю, что это ценное предложение. — Видите, Светлана Павловна! На молодёжь всегда можно рассчитывать, Валюша, милая, добудь-ка нам рюмки. — Чего их добывать, — отозвалась Бессонова. — Вон они, в тумбочке, там же, где стаканы. Что, не знаете? Бессонова явно выходила из игры. — Валюша! — вступила Аллахова. — Откуда Олегу Владимировичу знать, где у нас рюмки? Достань, пожалуйста. Колесов подтащил к дивану низенький журнальный столик, который стоял у стены, снял с него какие-то бумаги и рекламные проспекты. На полированной столешнице виднелись многочисленные кольцевые отпечатки. Бессонова, насупившись, достала из тумбочки пластмассовое блюдечко с рюмками. Колесов ловко откупорил бутылку. — Мне немного, — сказала Аллахова. — Я не буду, — отказалась Бессонова. Я понимала, что сейчас происходят «смотрины», меня проверяют «на вкус и на цвет». Колесов был понятен, его интерес ко мне элементарно прост. Но доверие Аллаховой нужно еще завоевать. В ее глазах я должна стать этакой лихой бабёнкой, которая если еще не научилась ловчить и воровать, то и не против того, чтобы этому научиться, а пока любит пожить в свое удовольствие, не делает из моральных вопросов проблем и умеет пить. Это была роль Нилы Снижко из первого акта… Только здесь была не сцена, здесь все было всерьёз. Делам Колесова и Аллаховой соответствовали вполне настоящие статьи Уголовного Кодекса. И в бутылке, которую держал Колесов, находился не чай, как на сцене, а настоящий коньяк, который нужно было пить. Что ж, я и буду пить!… Я молча подвинула Колесову свою рюмку. Я не сказала: «Ах, мне немножко, чуть-чуть!» Он налил половину, помедлил. Я молчала. Тогда он наполнил рюмку до краев и себе налил столько же. Из портфеля достал целлофановый пакет с засахаренными дольками лимона, надорвал его и положил на стол. Я заметила, что Аллахова с любопытством поглядывает на мою порцию коньяка — рюмка была внушительной. Колесов произнес обычную формулу: — Со знакомством! Однако ни он, ни Аллахова не пили, а продолжали за мной наблюдать. И тогда я махом выпила весь коньяк. Не спеша поставила рюмку на стол. — Ну, вы молодец! — сказала Аллахова. Я сделала вид, что не сразу, поняла, к чему относится эта похвала, потом пожала плечами, как бы говоря: «Ну, подумаешь, какие пустяки!» Колесов пододвинул мне пакет с лимоном. Я взяла одну дольку, аккуратно стряхнула с нее сахар. Я боялась здесь «пересолить», но, кажется, всё сошло. Только Валюта взглянула на меня с брезгливым сожалением. Надо было рассчитываться с Колесовым. Я положила бутылку в свою сумку и достала из нее четвертную. Колесов было запротестовал, и весьма энергично: — Бога ради, Евгения Сергеевна! — Нет-нет! — заявила я. — Вы еще успеете подарить мне следующую бутылку. Я решительным жестом положила деньги на стол. Он вздохнул, пожал плечами и полез за бумажником. Он не успел его достать. В кабинет быстро вошла, почти вбежала уже знакомая мне бронзово-рыжая заместительница Аллаховой. Увидя меня — постороннего человека, — она несколько замешкалась. — Ты чего, Таня? — спросила Аллахова. В это время дверь слегка приоткрылась и мы заметили в просвете синюю милицейскую форму.
4
Это был очень молодой лейтенант милиции, он вежливо задержался на пороге. — Разрешите? — Пожалуйста, — ответила Аллахова. Лицо ее стало чуть напряженным. Колесов поспешно поставил на пол недопитую бутылку с коньяком. Потом заметил деньги на столе, смял их в кулаке, сунул в карман. Бессонова откинулась на спинку стула и, широко открыв глаза, со страхом и ожиданием уставилась на лейтенанта. Если лейтенант и обратил внимание на ту оторопь, которая охватила при его появлении всю компанию, то вряд ли сделал из этого какой-нибудь вывод. Даже я растерялась поначалу, подумав, что районное отделение милиции, нащупав в своем районе какие— то следы деятельности Аллаховой, решило проявить самостоятельность и инициативу. Но тут же я сообразила, что в таком случае все было бы сделано иначе. Аллахова поняла это, вероятно, даже раньше меня. Сейчас она уже просто приветливо и внимательно разглядывала лейтенанта. Тот козырнул, представился: — Из отдела охраны. Мог бы я увидеть директора? Возможно, он хотел сказать «заведующего», но спутался, и Аллахова тотчас заняла свое режиссерское место. — Что-то я вас не помню, — протянула она. — Вы, вероятно, недавно у нас работаете? Это «у нас» прозвучало убедительно. Лейтенант понял. Он достал из кармана кителя удостоверение. Аллахова прочитала его не спеша, внимательно и вернула владельцу. — Видите ли, — сказала она, — директора здесь нет. Их вообще не бывает на товарных складах. На складе есть заведующий. Валюша! Подай товарищу из милиции стул. Валюша, наконец, очнулась, вспыхнула. Нервно вскочила, подвинула стул лейтенанту и сама отошла в угол к стене. Лейтенант поблагодарил, снял фуражку и сел. Аллахова улыбнулась ему ласково. — Вообще-то рабочий день у нас закончился. Задержались мы случайно. Небольшое торжество, знаете… — Я тоже зашел случайно, — заторопился лейтенант. — Был в ваших краях. Могу прийти завтра, в рабочее время. — Ну, зачем вам лишний раз заходить. Может быть, мы все выясним сейчас. — Вы подавали заявку на охрану склада? — На охрану? Не помню. Таня, мы подавали такую? — Да, еще в прошлом месяце. — Значит, подавали. Неправильно написали, товарищ лейтенант? — Нет, все правильно. Только мне нужно осмотреть охраняемые помещения. Проверить исправность затворов и самих дверей. — Понятно. — Но если сегодня поздно… — Ничего. Для милиции мы готовы и задержаться. Вот моя заместительница Тиунова Татьяна Николаевна. Она вам сейчас покажет все наши затворы и замки. Таня, пройди с молодым человеком, пожалуйста. Улыбаясь лейтенанту, поводя пышными плечами, Тиунова пригласила его в склад. Возле дверей они разыграли небольшую сценку «Проходите, пожалуйста!», и лейтенанту удалось пропустить Тиунову вперед. Кажется, вызывающая внешность спутницы произвела-таки на него впечатление: в конце концов, он был еще совсем молодой человек, и в жизни его интересовали не одни только затворы и замки. Когда за ними закрылась дверь, Колесов облегченно вздохнул и откинулся на спинку дивана. Аллахова глядела на него неодобрительно: — Чего вы переполошились, Олег Владимирович? Даже смотреть на вас было неловко. — Сам не знаю, — сказал Колесов. — Вот, грешен — не люблю милицию. Понимаю, что нужна, что меня бережет— и все такое. А вот как будто опасаюсь. И почему бы это? А вы как относитесь к милиции, Евгения Сергеевна? Он явно пытался притушевать свое смущение. — Тоже побаиваюсь. Нашему брату — торговому работнику — от милиции одни неприятности. — Вот, вот! — обрадовался Колесов. — Именно так. А кто из нас в чем не грешен. Купил не там, продал не так, гляди… Колесов замолчал внезапно, и я увидела, что он смотрит на Бессонову. И Аллахова тоже смотрит на нее. А Бессонова стояла в углу, запрокинув голову. Лицо ее было бледным, глаза крепко зажмурены, и по щекам сбегали слезинки. — Валюша… — тихо сказала Аллахова. — Что с тобой? Чего ты молчишь, я тебя спрашиваю! Бессонова не отвечала, и в комнате повисла тревожная тишина. Колесов взглянул на меня, беспокойно задвигался. Потянулся было за бутылкой, но раздумал. Лицо у Аллаховой опять стало напряженным, как при появлении лейтенанта милиции. Я была уверена, что, не будь меня здесь, она сейчас, вероятно, крикнула бы на Валюту, хлопнула ладонью по столу или даже ударила бы ее. Бессонова резко повернулась и, не сказав ни слова, вышла. Когда Аллахова обратилась ко мне, лицо ее было уже мягким и приветливым. — Извините нас, Евгения Сергеевна, за семейную сцену. — Ну, что там, — сказала я. — Не пойму только, чего она расстроилась. — А, пустое. Жених улетел, вот и переживает. А тут еще Олег Владимирович со своими страхами… — Я, кажется, ничего такого… Я понимала Аллахову, но вот Колесов сейчас ее не понимал. — …Со своими страхами, — продолжала Аллахова, — не ко времени напомнил ей… Мелочи все, дело прошлое, а вот она все еще побаивается. Будь я тем случайным человеком, за которого Аллахова меня принимала, я бы по ее подсказке должна была подумать, что у Бессоновой в прошлом имелись какие-то свои грешки, этим и объяснялась странность ее поведения. Она говорила спокойно и непринужденно, смотрела мне прямо в глаза. И я невольно позавидовала ее умению владеть собой. Однако визит мой уже затянулся. Аллахова не стала меня задерживать. — Олег Владимирович, ты проводишь нашу гостью. А я уж лейтенанта подожду, вдруг у него вопросы появятся по поводу наших затворов и замков. Да и Валюту успокоить надо. Жалко девочку все-таки. Я думаю, мы ненадолго расстаемся, Евгения Сергеевна? Я тоже хотела на это надеяться. Колесов пытался поймать такси, но пришлось ехать троллейбусом. Был вечерний «час пик», люди ехали с работы. В толкотне, как бы охраняя меня, Колесов пустил в ход весь арсенал всяческих «случайных» прикосновений. Деваться мне было некуда, а ссориться с ним было нельзя. Он усиленно приглашал меня к себе домой — жена его в отъезде, дома только теща с внучкой, которых можно отправить в кино. Я постаралась выбраться из троллейбуса, не доехав до своей остановки — Дома офицеров. Колесов собрался было выйти вместе со мной, но я отговорила его. У автомата с газированной водой я намочила платок и старательно стерла тушь с глаз и ресниц. Игра моя на сегодня закончилась. Я вручила бутылку Петру Иванычу. Он поблагодарил, посмотрел на этикетку, сказал «Ого!», взглянув на меня. — Опять? — Да. Опять. — Знакомые попутчики? — Нет, знакомые тех попутчиков. — Мужская компания? — Были и женщины. — И они тоже употребляют? — Конечно! Петр Иваныч, вы отстаете от жизни. Сейчас женщины тоже пьют. Не пьют только те, которым не подают. Выпитый на пустой желудок коньяк все же действовал, иначе я не опустилась бы до столь дешевого острословия. Увы, слово не воробей… Петр Иваныч взглянул на меня укоризненно. — Извините меня, — сказала я. Не хватало, чтобы и в его глазах я выглядела пьющей в сомнительных компаниях бабенкой. Выбранная мною линия поведения несла непредвиденные издержки…
5
От полковника Приходько мне не звонили. Я не звонила им тоже, считая, что у меня не столь уж много новостей, которые стоили бы специального сообщения. На следующий день я не поехала в свое кафе. Можно было и далее наблюдать за посетителями Главного склада Торга, но теперь там меня знали в лицо, не следовало попадаться на глаза своим новым знакомым без особой на то нужды. Петр Иваныч все еще отсиживался дома. Мне хотелось купить своему больному свежих фруктов, и я в обеденный перерыв отправилась на Центральный рынок. Пора было познакомиться и с этим торговым заведением. Неторопливый трамвай доставил меня к остановке «Зоопарк». Крытое здание Центрального рынка было огромно, как ангар. Неподалеку у входных дверей рынка я заметила группу женщин. Они что-то оживленно разглядывали, передавая из рук в руки. Одну из женщин я узнала. Это была Валюта Бессонова. Она продавала меховой воротник, кажется, соболий. Я уже знала, что такие воротники обычно не поступали в свободную продажу, с товарных складов они распределялись сразу по пошивочным ателье. Значит, воротник был со склада Аллаховой. Превратить добычу Аллаховой в деньги надлежало Бессоновой. Женщины с вожделением мяли воротник, трясли, дули на мех, разглядывали государственное клеймо. Валюта настороженно поглядывала по сторонам. Беспокойство ее было понятным. Торговля вещами на улице запрещена. Да еще продавать такую дорогую штуку, как соболий воротник. Вероятно, Валюта не раз бывала здесь, и пока ей все сходило с рук. Но тут я заметила молодого человека в сером пальто. Он стоял в сторонке, возле тележки мороженщицы. И я обратила на него внимание только потому, что среди всей этой суеты он один никуда не торопился. Но было заметно, что группа женщин уже привлекла его внимание. Без сомнения — это был мой коллега, работник райотдела милиции. Если он задержит Валюту, то может испортить нам с полковником Приходько всю игру. Я решительно протолкалась через окруживших Валюту женщин и тоже потянула за воротник. Но за него уже ухватилась рослая дама с перламутровым маникюром и решительными манерами. — Очень похоже на крашеного кролика, — сказала я. — Вы так думаете? Дама засомневалась, сопротивление ее ослабло, и я полностью завладела воротником. — Сколько вы просите? Валюта ответила. Она, конечно, узнала меня и сейчас несколько оторопела от моего вмешательства, но сообразила, видимо, что все это неспроста. — Я возьму его. Отойдемте в сторону. Предупреждая возможную конкуренцию, я решительно скатала воротник в трубочку. Покупательницы разошлись. Вот тут-то молодой человек в сером пальто направился к нам. Но он уже не успевал. — Уходи! — шепнула я Валюте. — Милиция. Оставь воротник у меня. Магическое слово «милиция» прибавило Валюше расторопности, она мигом затерялась среди людей, входивших в просторные двери рынка. А я с воротником в руках двинулась навстречу молодому человеку. Ему важнее было задержать продавщицу, но он сообразил, что уже вряд ли ее найдет, а тем временем исчезнет и покупательница с воротником. Поэтому он остановил меня. — Минуточку, гражданка. Пройдемте со мной, пожалуйста. И мы прошли. Дежурная комната находилась тут же, в помещении рынка. Молодой человек показал мне удостоверение. Все шло по известному мне порядку, поэтому официальную часть мы закончили быстро. На мое счастье, он не обратил внимание на то, что воротник соболий и продажа его частным образом уже может говорить о каком-то серьезном нарушении торговой дисциплины, а то и о воровстве. Но я не стала ему ничего подсказывать, разумеется. Он вернул воротник и прочитал коротенькую лекцию о покупке и продаже вещей в неустановленных местах. Я пообещала ему больше не делать этого, и наш разговор мирно закончился. Я успела купить и яблок Петру Иванычу. Когда я уходила с рынка, в дверях кто-то придержал меня за локоть. Это оказалась та самая дама с перламутровым маникюром, моя недавняя конкурентка. Она отвела меня в сторонку и попросила уступить воротник ей. Видимо, у дамы имелись лишние деньги, она предложила мне на полсотни больше, чем я заплатила бы, купив мех у Бессоновой. Было заманчиво заявиться к Аллаховой не с воротником, а с готовыми деньгами. Но тут же я подумала, что такая излишняя активность может вызвать и лишние подозрения. Да и покупательница мне решительно не нравилась. Словом, я вернулась домой с яблоками и с воротником.
6
Все эти дни, как я считала, мне здорово везло. Не избалованная удачами, я уже стала побаиваться, что судьба стала слишком ко мне благосклонной и не собирается ли она подложить мне свинью — так, что все мое везение оборвется разом. Это опасение заставило меня действовать особенно осторожно и обдуманно. Теперь у меня была причина посетить Аллахову без приглашения. Я решила, что могу заявиться на Главный склад без предварительного доклада. Без телефонного звонка. Неожиданно. Когда появляешься неожиданно, обычно больше видишь. Я обернула воротник газетой, засунула его в сумку. В сумку можно положить и перчатки: их легко позабыть там, куда хотел бы еще раз вернуться. На этот раз в вестибюле Главного склада меня никто не встретил. Я прошла по пустому коридору к кабинету Аллаховой и взялась за ручку двери. В кабинете говорили громко, а дверь была прикрыта неплотно, я сразу узнала высокий детский голосок Бессоновой: «Нет, я не буду это подписывать, Светлана Павловна… Нет, не хочу — и не заставляйте меня…» Я бы еще постояла возле дверей и, наверное, услышала бы еще что-то интересное, но за моей спиной, в коридоре, послышались шаги. Тогда я приоткрыла дверь кабинета и спросила громко: — Можно? Разговор оборвался разом. Аллахова, увидев меня, улыбнулась. Удивительно, как быстро ее лицо меняло выражение. — Проходите, Евгения Сергеевна! Валюша Бессонова стояла возле стола. Она чуть повернулась ко мне, кивнула и опять упрямо потупилась. Перед ней на столе лежала книжка фактур — документов, по которым отпускается со склада товар. Аллахова тут же убрала книжку и спрятала ее в ящик стола. Я успела заметить, что фактура была уже заполнена. Не хватало только подписей. Вот какую бумагу Бессонова отказывалась подписать. Почему?… Я подошла к дивану и с простецки-торжествующим видом — смотрите, какая я удачливая! — повесила на спинку соболий воротник. — Ну, видишь, Валюша! Все обошлось. Говори спасибо Евгении Сергеевне, — обрадованно произнесла Аллахова. Бессонова резко вскинула голову. Глаза ее были красны, губы нервно подрагивали, казалось, она скажет сейчас, что разговор шел не о воротниках, а совсем о другом. И в отчаянной запальчивости своей она готова была позабыть, что разговор этот не для посторонних… Но и здесь Аллахова овладела положением: — Ладно, ладно, успокойся. Не буду я тебя больше с воротниками посылать. Не расстраивайся. Иди, там тебя девушки ждут товар принимать. Машина с базы пришла. Как бы запнувшись на еще не сказанном слове, Бессонова медленно повернулась и вышла. Аллахова смотрела ей вслед с выражением неподдельного участия и озабоченности. — Вот беда мне с этими влюбленными. Совсем невозможная стала в последние дни. Или разлука с женихом так на нее действует? — Может, и разлука, — согласилась я. — И с вами такое бывало? — Случалось. Еще в школе в учителя истории влюбилась. Даже хотела на второй год остаться, чтобы только из класса не уходить. Аллахова посмеялась, приняв это за шутку, хотя я говорила чистую правду. — Вот чего со мной не было, того не было, — призналась она. — Встречалась — расставалась, — она помолчала. — А что там случилось с воротником? Я рассказала. — Только и всего? — удивилась Аллахова. — А девчонка перепугалась. — В нашем деле перепугаться не трудно. Особенно, если уже попадал в такую историю. — А вы попадали? — Бывало. — И серьезно? Я пожала плечами. — Нет. Отделывалась легким испугом. Как ни беспечен был разговор, как ни владела собой Аллахова, чувствовались за ее словами озабоченность и напряженность. Отказ Бессоновой подписать фактуру чем-то задел Аллахову, заставил ее забеспокоиться, хотя она сама была материально ответственным лицом и свободно могла обойтись без подписи кладовщика. Объяснение напрашивалось одно — фактура была фальшивая. Как бы посмотреть на эту фактуру?… — Что поделывает ваша Рита Петровна? — В хлопотах, как всегда. — Досаждает она своим усердием? — Привыкла уже. Я чуть передвинулась на диване, чтобы увидеть ящик, в который Аллахова положила фактуру. В замочной скважине ящика торчал ключ. Закрывает ли она замок, когда уходит? Если и закрывает, то не каждый раз. Кругом свои люди, чего ей опасаться. А фактура, пока она еще в ящике стола, не является ни уликой, ни вообще документом. И прятать ее пока нечего, никто не сможет доказать, что она выписана с преступными намерениями. — Светлана Павловна, — сказала я. — Разрешите мне воспользоваться случаем, что я у вас здесь. В Управлении Торга Главный склад ставится в пример всем другим, и вы занимаете первое место. Я еще молодой товаровед, мне можно у вас поучиться многому. Потратьте на меня полчаса времени, покажите, как работает ваш склад, как работаете вы и ваши помощники. — Пожалуйста! — Если вас не затруднит. — Конечно, нет. Я поднялась с дивана. Только бы Аллахова не закрыла стол! — Не хочу сказать, что мне нечему учиться у Риты Петровны, — продолжала я. — Но наш складик не сравнишь с вашим. — Конечно! — согласилась Аллахова. Она вышла из-за стола, и я вздохнула облегченно. Оставалась еще дверь, на ней американский защелкивающийся замок. Аллаховаподошла к вешалке в углу, откинула занавеску, достала два синих халата и предложила один мне. Там же, на вешалке, я заметила черное мужское пальто. Несомненно, это было пальто Королёва, которое он оставил, надев новое вместо него. В дверях кабинета Аллахова пропустила меня вперед. Я ожидала щелчок закрывающегося замка, но дверь прикрылась бесшумно. Очень хорошо!… Моя экскурсия по складу заняла минут тридцать. Я шла за Аллаховой, слушала, задавала вопросы, испытывая невольное уважение. Сколь ни плохо я еще разбиралась в торговых делах, но могла заключить, что внешне порядок на складе был образцовый. И Управление Торга имело основания занести фамилию Аллаховой на доску Почета. А сейчас мне нужно было как-то вернуться в кабинет. Мне помогла Тиунова. Она попросила Аллахову взглянуть на разбитый ящик, в котором пришли поврежденные товары. Я не пошла за ними, а направилась к выходу. — Извините меня, — сказала Аллахова. — Я ненадолго. Не торопясь, я пересекла двор, у дверей конторы оглянулась. Аллахова только появилась в дверях склада. Ей предстоит еще пройти по двору, и даже если ее никто и ничто не задержит более, у меня есть в запасе не менее десяти секунд. Если все точно и заранее рассчитать, за десять секунд можно сделать многое. Когда Аллахова вошла в кабинет, я стояла возле вешалки и снимала халат. Не думаю, чтобы у нее могли возникнуть какие-нибудь подозрения. Вот если бы только она сняла отпечатки с ручки ящика своего стола… Уже на трамвайной остановке я достала карандаш и в телефонном блокнотике записала: «Фактура № 895 на отпуск со склада 57 меховых воротников, на сумму 6576 рублей». Эта фактура могла оказаться подлинной, по которой какое-то ателье или магазин вполне законно получат для продажи меховые воротники. Эта фактура может и не выйти со склада — ее, как ненужную, изорвут и бросят в мусорное ведро. Но фактура могла оказаться и той самой «зацепочкой», которую дожидается полковник Приходько… И тогда моя запись — это начало конца «фирмы» Аллаховой. Положив блокнотик в свою сумку, на самое дно, я невольно вспомнила холодный коридор, дверь, лязгающую замком, узкое окно, перечеркнутое железным переплетом, и свою мать в черном бушлате, бредущую по коридору впереди конвойного, с руками, закинутыми за спину…
7
Назавтра была суббота — выходной день. Еще с утра я почувствовала себя неуютно. Или не выспалась, или же устала от общения с людьми, которых не любишь и не уважаешь, с которыми приходится приветливо говорить, подчиняя расчету свои слова и поступки. Хотела заняться простыми и бесхитростными делами. Я решила начать с кухни. Пришла пора внести разнообразие в наше полуфабрикатное меню. А что, если испечь оладьи? Не имея никаких кулинарных талантов, я все же знала, что оладьи — это не бог весть какая сложная проблема, если у тебя есть под руками блинная мука. А муку я купила заблаговременно. Настало время проверить, что из нее может получиться. К оладьям имелась банка сардин в масле, а на сладкое — абрикосовый джем. Петр Иванович, ошеломленный моей кухонной суетой, попросил разрешения присутствовать и уселся в сторонке на табуретку, попыхивая своей трубочкой. Я забыла сказать, что он изредка, под настроение, покуривал. — Давно не видел, как женщины пекут оладьи, — изрек он. — Особенно молодые женщины, возраста моей дочери. — А ваша дочь разве не пекла вам оладьи? — Моя дочь? Да она отроду не пекла оладьи ни для кого. Притом, если бы вы были моей дочерью — это было бы совсем другое. Вы хотя по возрасту и годитесь мне в дочери, но все же не моя дочь, на которую распространяется родительский комплекс… А вообще-то, чего ради на вас напало сегодня такое творческое настроение? — Сама не знаю. Кухонная стряпня — удел семейной женщины. Возможно, решила вспомнить, что когда-то была семейным человеком. — Скажите, как расхвасталась. Она была семейным человеком. Жила вдвоем с мужем — какая же это семья? — А что же это такое, когда вдвоем с мужем? — А так, ничего. Разнополое содружество. — Содружество все-таки… А если и дружбы нет? — Тогда — симбиоз. Семья начинается, когда есть дети. Я резко шлепнула тесто на сковородку, горячее масло брызнуло мне на руку, я зашипела и чертыхнулась, конечно, про себя. — Да, — согласилась я. — Значит, семьи у меня не было. — Ничего, какие ваши годы. Еще будет. — Конечно. Куда денешься. Я сняла со сковороды первую порцию. — А как вы, Петр Иваныч? У вас была дочь, но не получилось семьи? — Петр Иваныч посопел потухшей трубкой. Я достала с полки спички. — Не получилось, — согласился он. — Вероятно, здесь виноват Джек Лондон, его возвышенное отношение к женщине, которую он воспевал в своих романах. Если бы в своей юности я увлекся не им, а, скажем, Чеховым, все было бы иначе. — Да, к женщинам они относились по-разному. — Конечно! В чеховских рассказах не найдешь женщин, в которых юноше захотелось бы влюбиться. Зато все литературные героини Джека Лондона ослепительно хороши. Я поверил ему на слово. Как только знакомился с девушкой, возносил ее на пьедестал и начинал на нее молиться. Каждая девушка не против того, чтобы на нее молились, но не хочет вечно обитать на небесах. Поэтому все мои романы заканчивались тем, что моя богиня находила себе более практичного поклонника. — А ваша жена? — Моя Мария Семеновна тоже была практичной девушкой и решила, что мой идеализм — временное явление. Вроде юношеских прыщей на носу. Что все это пройдет, как только в силу вступят нормальные земные отношения. И правильно, мой идеализм прошел. Весьма быстро я убедился, что моя Машенька — это не Мод Брустер из «Морского волка». Появившаяся дочь уже не могла ничего изменить. Разочарование мое было слишком велико, чтобы остаться незамеченным… Моя жена тоже поняла, что я не герой ее романа. Она была женщина решительная, и у нее появился другой муж. — Более материальный, — вставила я. — Да, он был главный бухгалтер какого-то там комбината. — И он принес ей счастье? — Нет, не принес. Но это уже другая история. А я посвятил свою жизнь журналистике. — Конечно, журналистика этого стоит… Ну, оладьи готовы. — Выпьем марочного? — Не искушайте. Мы быстренько прикончили первую порцию оладий с сардинами, принялись за вторую, и тут зазвонил телефон. — Вот! — заворчала я, — Спокойно не поешь. Я сняла трубку, не успев проглотить очередную оладью. Ответ мой прозвучал невнятно, пришлось повторить: — Да, да! Это квартира. Совершенно верно: Бухова Петра Иваныча. Почему вам отвечает женский голос?… Этот голос появился здесь недавно. Как я понимаю, вам нужен мужской голос. Подошедший Петр Иваныч взял трубку. — Так это ты, Максим! Давно приехал?… Ну, как там живут в Якутии?… Хорошо живут? Вот и мы хорошо живем. Женский голос?… Как тебе сказать. Ты приходи сам. Вот я и говорю — приходи! На оладьи. Да, даже так! Послушай-ка… вот, не успел ему сказать… — Чего не успели сказать? — Мужской секрет. — Люблю мужские секреты. — Я тоже люблю… Значит, сейчас к нам придет Максим Крылов, работник Ордынской районной газеты. Максиму чуть больше тридцати — старый журналист. Еще школьником приносил ко мне свои очерки. С отличием окончил институт. Итак… — К нам приходит молодой человек. — Правильно. Что нужно сделать? — Не знаю. — Думайте, думайте. — Да, завести еще оладьи. — В жизни не видел такой бестолковой девчонки! Приходит молодой человек. Красивый и черноглазый, а она про оладьи. — Я же не знала, что он черноглазый. — Да, да, и с таким вот носом. Вы сейчас пойдете, снимете ваши джинсы. — Дальше что? — И наденете красивое платье. Самое красивое. — Зачем? Он, поди, еще и женат, — А вам-то что? — Вот так так! — У него даже дочь есть. — Тем более. — У него есть дочь, но нет жены. Она была геологом и погибла от клещевого энцефалита. Я ее хорошо знал. Не принято плохо отзываться об умерших… — Вот и не отзывайтесь. — Словом, они не были счастливы… Так вы наденете красивое платье? — Вы хотите нас сосватать? — Господи! И не подумаю. Такую пьянчугу — за такого милого мальчика. Просто я хочу, чтобы вы произвели на него впечатление. Как Мод Брустер. — А он любит Джека Лондона? — Любит, любит. Каждый порядочный мужчина должен любить Джека Лондона. Максим только торговых работников не любит. — Почему? — А вы не догадываетесь, почему иногда работников торговли не любят? Вот вы ему понравитесь… — Но я тоже торговый работник. — Ладно, ладно. Вы ненастоящий торговый работник. Я внимательно посмотрела на Петра Иваныча, но он уже заковылял на кухню и включил свою кофейную молотилку. Переодеться я так и не успела. Тут же вскоре звякнул дверной звонок. Я открыла. Максим был высокий и темноглазый. Крупные черты лица и большие руки, выразительные руки рабочего, — им не хватало только мозолей и пятен от въевшейся металлической пыли. А Петр Иваныч упрямо не вылезал из своей кухни, предоставив нам знакомиться самим, и только потом появился в прихожей. — Здравствуй, Максим! Здравствуй, дорогой мой. Ты мне с приисков алмазик не привез, каратов на пять, для фамильного перстня? Не привез? Строго, значит. А что это у тебя завернуто? Так и знал! Не успел предупредить — трубку ты повесил. Виноградное, сухое? — Сухое, — подтвердил Максим. — А что? — И крепость не выше десяти с половиной. — Не знаю, не смотрел. — И купил ты это сухое только потому, что услыхал здесь женский голос. А если бы услыхал мужской, принес бы бутылку водки. — А в чем дело?… — А дело, Максим, в том, что этому женскому голосу твои десять с половиной градусов, что слону — дробина. Этот женский голос предпочитает водку, коньяк, ямайский ром, что под шестьдесят. На худой конец, спирт или денатурат. Мне нужно было вмешаться. — Денатурата сейчас не делают, Петр Иваныч, вы отстаете от жизни. И не пугайте человека, а то он выронит бутылку. Максим, дайте ее сюда. Я с удовольствием выпью с вами сухого вина. Пойдемте в нашу кухню-столовую. Только захватите табуретку. Давно мне не было так хорошо и беззаботно, как в этот субботний день. Мы ели оладьи и запивали их сухим вином. Максим рассказывал о своей поездке по алмазной Якутии. Как нашел в карьере алмаз с фасолину величиной и уже подумал, что обогатит сейчас валютный фонд страны на полсотни тысяч рублей, но это оказался кусочек стекла от толстой бутылки. Рассказывал он занимательно и сдержанно, его было приятно слушать, и я чувствовала, что чуточку нравлюсь ему, и чуточку — совсем немного — кокетничала. Петр Иваныч ухмылялся, поглядывая на нас. Из кухни мужчины направились в комнату Петра Иваныча покурить и поговорить на свободе о высоких материях, я осталась на кухне домыть посуду. Я стояла у раковины, что-то мурлыкала себе под нос, когда зазвонил телефон.
8
Я не успела к телефону, трубку снял Максим. — Вы ошиблись, — сказал он. — Здесь такой не живет. — Кого спрашивают? — поинтересовалась я. — Какого-то Борисова. — Борисова? — Да, утверждают, что это его телефон. — Борисова, значит… Петр Иваныч, может, это вас? — Я же не Борисов. — Кто вас знает. Может, вы бывший граф и когда-то носили двойную фамилию — Бухов-Борисов. А может, вы скрываетесь от алиментов и сменили фамилию. Шутка не получилась. Я вернулась на кухню, домывать стаканы, но петь перестала. Я была уже на работе… Звонок мифическому Борисову означал, что меня ждут в «доме под часами». Максиму нужно было ехать на автобусе в Ордынку — районный центр, в сотне километров от Новосибирска, где он жил вместе с сестрой и своей трехлетней дочерью. Я вызвалась проводить его до троллейбуса. Подождала, когда он уехал. Пропустила еще несколько троллейбусов и уже потом поехала сама. Дверь открыл Борис Борисович. Плащ и фуражка полковника Приходько уже висели на вешалке. — Ага, вот и наш Шерлок Холмс, — улыбнулся полковник. — Соскучились, поди, по нас. — Соскучилась. — Вот и мы тоже. Уезжали тут на днях с Борисом Борисовичем. В Среднюю Азию. По маку пришлось работать. — По маку?… Ах, опиум! — догадалась я. — Он самый. — Интересно было? — Давненько с такими пакостными людишками дела не имел. Борису Борисовичу костюм там попортили. — Стреляли? — Нет, ножом. Пришлось новый костюм в починку отдавать. — А Бориса Борисовича? — Ему ничего — обошлось. — Закончили все? — Нет. Следствие идет. Еще съездить придется. Борис Борисович уже нес свой подносик. Мне было не до чая, хотелось начать свой рассказ, и полковник Приходько это заметил. — Вижу, что у вас новости есть, Евгения Сергеевна. Жду их с нетерпением. Рассказывайте. Свое сообщение я продумала заранее и постаралась, чтобы оно было обстоятельным и кратким. Совмещать два столь трудносовместимых свойства не просто, но в школе милиции этому уделяли серьезное внимание. Я изложила только факты, избегая своих выводов. На это у меня были уважительные причины. Когда-то преподаватель школы милиции подполковник Свиридов, анализируя одну из моих учебных инспекторских работ, сказал, что в выводах у меня слишком много интуитивного домысла. Действительно, мне частенько не хватало терпения скрупулезно разыскивать факты и складывать из них, как из кирпичиков, фундамент для обобщающего вывода. Частенько я сооружала этот фундамент, руководствуясь одной интуицией, одним махом… и подчас он оказывался из песка. Некоторые мои однокурсники, с которыми я должна была выполнять учебные задания, даже заявляли, что со мной трудно работать. В таких случаях подполковник Свиридов, не говоря лишних слов, передавал мое дело другому партнеру, чаще всего курсанту Аксенову, уже имевшему опыт практической работы в должности следователя. — Он фантастику любит почитывать. Думаю, с ним вы найдете общий язык. Не хочу сказать, что наши дела с Аксеновым всегда заканчивались блестяще, но нам иной раз удавалось разгадать весьма запутанные головоломки. Я не была уверена, что полковник Приходько любит фантастику. Поэтому только изложила замеченные мною факты и сообщила о подозрительной фактуре; записав номер фактуры и другие данные, я передала листок полковнику. За время моего доклада он не сказал ни слова. Он не переспрашивал меня, не помогал подсказками, когда я останавливалась, подыскивая точное выражение. Он только утвердительно покачивал головой, и мне трудно было судить, где он доволен мною, а где нет. Постукав ребром блокнота по столу, он повернулся к Борису Борисовичу: — Что ты скажешь? — Толково сработано. — Да, с умом сработано! — подтвердил полковник. — Вы молодец, Евгения Сергеевна. Даже удивили меня своими успехами. Смешавшись от неожиданной похвалы, я покраснела, но этого, кажется, никто не заметил — полковник Приходько тут же перевел разговор на деловые подробности. — Давайте вместе попробуем сделать одно предположение по поводу такого, вроде бы мелкого, факта, что замначальника Торга Королёв пришел к своей подчиненной Аллаховой на склад в старом пальто, а ушел в новом. Конечно, он мог за пальто это там же и уплатить, хотя и знал, что так делать не полагается, А вот если он за это пальто вообще не заплатил? Как вы думаете, Евгения Сергеевна? Это просто интуитивное предположение, которое ни один следователь не занесет в свой протокол. — Можно думать, что не заплатил. — Вот именно: можно думать, что не заплатил. Наводящие обстоятельства: вино, выпивка и прочее. Значит, он рассчитывал, что Аллахова сумеет свести концы с концами, не будет же она платить из своего кармана. В таком случае, он знает, что такое Аллахова. Выражаясь языком наших следовательских протоколов, вступил с нею в преступную связь. Тогда понятно, почему до сих пор ничего подозрительного на Главном складе не обнаружили. — Ревизии назначает Королёв? — Конечно. И ревизии, и ревизоров. И всегда может Аллахову предупредить. Ревизия, о которой знают, обычно ничего не находит. А Королёву верят — бывший фронтовик, и все такое. За его спиной Аллахова — как за щитом. Уж коли мы предположениями занялись, продолжим их дальше. Чем его Аллахова расположить могла? Неужели деньгами? Я колебалась секунду. Но я же была на работе… — Шерше ля фам. — Так. Значит, ищите женщину Подозревать лично Аллахову я не решалась, все же у нее был молодой муж. Рассказала о ее бронзово-рыжей заместительнице. Полковник сильно потер подбородок ладонью. — Да… Боевой офицер. Ранение имеет… А вот — шерше ля фам… Он сердито двинул по столу стакан. Мне показалось, что он недоволен мною, моими, прямо говоря, унизительными для Королёва предположениями. Но что поделать, если они были. Мне вовсе не хотелось заводить такой разговор. Полковник Приходько меня понял. — Только не подумайте, Евгения Сергеевна, что мне чем-то не понравились ваши рассуждения. Вы еще и смелая женщина, скажу вам это без комплиментов, да-да! Вот ты, Борис Борисович, давно знаешь Королёва, вместе работали когда-то. Можно подумать о нем такое? — Можно, — кивнул Борис Борисович. — Вот видите, Евгения Сергеевна. Можно! Так что не переживайте, никого вы здесь не обидели. А ей-богу, как было б хорошо, если бы вы оказались не правы… Ладно. Хватит нам предположений, перейдем, как говорят, к фактам, — полковник Приходько развернул блокнот, в котором делал записи по ходу моего рассказа. — Согласен, фактура весьма подозрительная. Что ж, теперь будем ждать, где эта фактура появится. Жаль, что получатель не указан, однако номер есть, товар известен — найдем, думаю. Это уже наша забота, Евгения Сергеевна. Лишь бы только она где-нибудь да появилась, эта фактура. Может быть, за нее мы и потянем. Значит, говорите, Бессонова отказалась подписать?… Жаль девчонку, конечно. Догадалась бы сама к нам прийти. — Не придет, побоится. — Но рассказывать будет? — Рассказывать, думаю, будет. — И то хорошо. Теперь, Евгения Сергеевна, откройте нам свои производственные секреты. То, что вы порядочных людей, к себе располагаете, — я понимаю. А вот как вы с этой компанией сблизиться могли? По тону вопроса можно было понять, что полковник Приходько задал его не только в интересах дела, но и просто из участия ко мне. Я рассказала про свой метод «непорядочного» поведения. — Что ж, не скажу, чтобы ваш «метод» так уж мне нравился, но ничего лучшего посоветовать не могу. Вы в стае волков. Кстати, как вы с жильем устроились? Я рассказала про Петра Иваныча. — Да, на него положиться можно, — согласился полковник. — Бывал он у нас как-то, помню я его. Только он меня, наверное, уже позабыл. Давно было. Ребят-газетчиков многих вырастил. Навещают они его? — Ходят. Максим Крылов частенько заглядывает. — Крылов, говорите? — удивился полковник. — Так, так, значит, Крылов… Вкусный ты чай научился заваривать, Борис Борисович. Фамильные секреты имеешь? Борис Борисович улыбнулся. — И откуда у тебя такие таланты, — продолжал полковник, — может быть, зря в милицию пошел, а не по линии народного питания. Почет бы там тебе был, уважение. А у меня чем занимаешься? Жене, детям и рассказать нельзя. Вот работенка, а? Налей еще стаканчик… А вам, Евгения Сергеевна, на прощание, пожалуй, скажу одну вещь. Полковник Приходько замолчал, поглядывая на меня весело и интригующе. Я подумала, что на самом деле сейчас удивлюсь. — Первым сигналом, после которого мы начали приглядываться к делам Главного склада, была статья в «Советской Сибири», которая появилась еще два года назад. О непорядках в системе Горторга. Тогда-то и была создана специальная ревизионная комиссия. — Создана Королёвым? — Королёвым. Ревизия ничего не обнаружила. Газете пришлось извиниться перед работниками Торга. Автору статьи крепко дали по шее. Он перевелся в районную газету. — Максим Крылов? — Совершенно верно. Статья так и была подписана: «М. Крылов».
9
Когда я вернулась домой, то сразу заметила на вешалке светлое женское пальто. Петр Иваныч вышел из комнаты. — Женя, зайдите ко мне. — У вас гости? — Там моя жена… Бывшая. Марии Семеновне было лет около пятидесяти, некоторые женщины как-то умеют надолго задерживаться в этом возрасте. Седоватые, тщательно уложенные волосы, мелкие черты лица, подкрашенные губы. Умные, чуть усталые глаза, окруженные морщинками. Она сразу же овладела разговором и повела его так, будто мой приход был задуман лично ею. — Очень рада вас увидеть. А то мне Петр Иваныч все уши прожужжал про свою соседку. Вы откуда к нам приехали? Я ответила. — А как вы попали именно сюда, на квартиру? Я объяснила. — Ах, вы родственница Сережи. Так, так… Я очень рада за тебя, Петр Иваныч. То у тебя был в соседях такой хороший молодой человек. А теперь — такая милая молодая женщина. Хотя последнее — не удивительно. Тебе на женщин всегда везло. — Везло? — Конечно. Разве тебе со мной не повезло?… Нет, вы только посмотрите. Он еще в этом не уверен. Мы с тобой встретились, отдали всему должное, затем расстались «без слез, без сожалений». Ты можешь заявить, что это я от тебя ушла. Но, признайся, ты меня не очень-то и удерживал. Петр Иваныч промолчал. — Мы разошлись, обогащенные опытом семейной жизни. Я этот опыт решила использовать. — Я тоже, — усмехнулся Петр Иваныч. — Ты хочешь сказать, что не женился второй раз. Положим, это не стоило тебе особого труда. Ты из той породы мужчин… — Мария Семеновна! — Ах, прости, разговор тебя шокирует. Тогда, может быть, ты приготовишь нам свой кофе по-бразильски, а мы пока поговорим о женских делах. Иди, Петр Иваныч, не беспокойся, я больше ничего про тебя Жене не скажу. С уходом Петра Иваныча разговор наш утратил веселое настроение. — Живу на юге, в Краснодаре, — говорила Мария Семеновна. — Решила посетить старые пепелища. Не была здесь два года, с тех пор как развелась со вторым мужем. Завтра уезжаю обратно, домой. Пойдемте на кухню, Женя. А то Петр Иваныч, чего доброго, сюда все задумает тащить. Мы расположились на кухне за столом. Петр Иваныч поставил на стол мою бутылку. — Смотри-ка, — удивилась Мария Семеновна, — у него появился хороший коньяк? — Это мне Женя купила. — Молодец. Не ты, конечно, а Женя. Разбирается в хороших винах. — Еще как, — заметил Петр Иваныч. — Каждый день приходит домой на бровях. — Петр Иваныч! — возмутилась я. — Не слушайте его, Женя. Не обращайте внимания. Вернее, не придавайте значения тому, что он говорит. На него самого можете обращать внимание сколько угодно. Это вполне безопасно, даже если бы ему было не шестьдесят, а тридцать, и тогда бы вы могли жить с ним рядом, и он не смутил бы вас ничем. Если бы вы только сами не захотели смутиться. Не смотри на меня с выражением, Петр Иваныч, Женя — взрослый человек. Налей-ка нам по рюмочке… Ты, Петр Иваныч, отстал от жизни. Посмотрел бы, как пьет твоя дочь. Нет, ты не подумай еще что-нибудь… — Давно ее видела? — перебил Петр Иваныч. — Была этим летом. — Как они живут? Ребенка не завели? — Конечно, не завели. Они мыслят вполне реалистически. Пока не будет двухкомнатной квартиры, законченной диссертации и так далее… Мне кажется, они будут счастливее нас с тобой. Оба друг друга стоят. Два сапога — пара… — Возможно, — согласился Петр Иваныч. Мария Семеновна задумчиво повертела в пальцах рюмку. — Все же… надо было Елене родиться в тебя. Все нормальные дочери рождаются в отца, а тут получилось наоборот. Она была бы порядочной… и несчастной. — Ты считаешь, порядочность приносит несчастье? — Нет, просто непорядочные люди чаще бывают очень довольны собою… Впрочем, это моя субъективная точка зрения. — Существенная поправка. Что же ты рассталась со вторым мужем? Судя по твоим словам, у него хватало непорядочности, чтобы выглядеть счастливым. — Может быть, мы и выглядели счастливыми. К сожалению, он слишком много внимания обращал на женщин. Я сочла это неопрятным и ушла. С тех пор и живу одна. Кстати, он тоже не женился, хотя один не жил, конечно. Недавно вышел на пенсию, но продолжает работать — торгует газетами в киоске на улице Горской. Богатый холостяк. — Богатый? — Своему единственному сыну купил в подарок «Москвича». — Так выгодно торговать газетами? — После того, как я от него ушла, он работал главным бухгалтером какого-то комбината. — Давно его не встречал. — Все такой же. Привычек своих не меняет. Уверена, что по-прежнему два раза в день бреется. Петр Иваныч машинально потер подбородок. — Два раза? — Да, утром и вечером. По-английски… Хотя чего это мы с тобой о нем разговорились. Вон и Женя заскучала от наших воспоминаний. Мария Семеновна вскоре ушла. Нет, мне не было скучно во время ее разговора, когда она подводила какие-то итоги прожитой жизни. Запомнились ее «пепелища» — одно есть и у меня. Запомнился ее второй Муж — непорядочный, но два раза в день бреется. По-английски…
10
На склад мне позвонил Колесов. Мы с бухгалтером сидели в «конторе» и занимались своими делами. Риты Петровны не было, на ее месте расположилась Маша и развлекала нас воспоминаниями о своей жизни в родном Чугунаше. Голос у нее был звонкий, и не слушать ее было нельзя, а заметить ей, что она мешает работать, у нас не хватало характера — все равно, как обидеть ребенка. Бухгалтер усиленно дымила «Шипкой», я старалась слушать вполуха. — Я Димке говорю: «Отстань», а он, ну, никак. Все притесняется и притесняется. А руками туда-сюда, туда-сюда! Я говорю: «Димка, руку убери — вдарю!», а он все лезет и лезет, да ка-ак… Волнующую историю дослушать не удалось, возле Маши зазвонил телефон. Она испуганно ойкнула, потом обеими руками осторожно сняла трубку, приложила к уху и закричала что есть мочи: — Я слушаю!… Да, да, склад это, склад… ково, ково? Здесь она, здесь. Она глядела на меня, и я взяла у нее трубку. Колесов поинтересовался, с кем это он сейчас разговаривал. — Это наша Маша, — объяснила я. — Нет, она очень милая девушка. Если вы к нам придете, я вас обязательно с ней познакомлю. Маша прыснула, прикрывшись ладонью, и выскочила в коридор. Следом за ней со стола полетели бумаги. Я подняла их, продолжая слушать Колесова. Он сообщил, что у Аллаховой сегодня день рождения и меня тоже будут ждать. Сказал адрес и повесил трубку. Аллахова приглашает меня на день рождения! Счастливые случаи продолжают сыпаться на меня. Я мысленно плюнула трижды через левое плечо — не сглазить бы! Значит, нужен подарок! Букет махровых гладиолусов обошелся мне в пять рублей. Цветы были великолепные, и дома Петр Иваныч сразу спросил: — Сколько отдали за цветы? Я возмутилась: — Почему вы думаете, что я их купила? Вы уверены, что никто мне не может их подарить? — Из ваших знакомых — никто. Такой букет мог бы подарить вам только я. — Или Максим. — Согласен, или Максим. Но его сейчас в городе нет. А все ваши знакомые, в лучшем случае, могли бы потратиться на пол-литра, а не на такой роскошный букет. И купили его, конечно, не для себя. У кого-то день рождения? — Ох, Петр Иваныч! Все-то вы угадываете. Как волшебник… — Милая Евгения Сергеевна. Я не угадываю. Я старый и мудрый, я давно все знаю, к сожалению. Я достала из шкафа брючный костюм и единственное приличное платье, купленное мною специально для «представительства» — оно было ярко-красного цвета, как светофор, и если я его надевала, то не заметить меня было невозможно. Я не знала, как мне одеться. Не знала, кто будет у Аллаховой, какой характер примет торжество, придется мне завоевывать чьи-то симпатии или, наоборот, защищаться от проявления чужих. Судя по всему, на меня имеет виды Колесов. Как я должна повести себя?… В дверь постучал Петр Иваныч. — Уже собираетесь? — Тащите шахматы, Петр Иваныч, часок у меня еще есть. Петр Иваныч привычно начал расставлять черные фигуры. «Как-никак, а вы все же женщина!» — объяснил он мне свою уступку. «Спасибо, вы очень тонко это подметили», — поблагодарила я. Я с первых же ходов увлеклась атакой, но мои фигуры стояли неудачно, и пришлось перейти к защите. Подумав немного, я молча начала расставлять новую партию. — Не любите вы защищаться, — проворчал Петр Иваныч. — Не люблю. — В жизни часто приходится это делать. — По возможности нужно защиту заменять нападением. Вторая партия протекала с переменным успехом. Мне даже удалось создать серьезные угрозы на королевском фланге противника, но тут я зевнула «качество». — Грабитель вы! — «Приличий тут уж нет!» — процитировал Петр Иваныч. — Шахматы — самая жестокая игра. Милосердие здесь исключается самой логикой борьбы. Мне пришлось сдать и эту партию. — Ладно, — сказала я. — Может, мне в любви повезет. Петр Иваныч сердито посопел своей трубкой и принялся искать по карманам спички. — Опять напьетесь? — Бог с вами, когда это я напивалась? — Самое отвратительное зрелище, — бурчал Петр Иваныч, — это пьяная женщина, потерявшая чувство собственного достоинства. — Я не буду терять собственного достоинства, Петр Иваныч, не ворчите на меня. Лучше посоветуйте, что надеть. Вот этот «светофор» или брюки? — Конечно, брюки… — Вы считаете, что мне они более к лицу? — Я не знаю, что вам более к лицу, как вы изящно выразились, я только считаю, если вы свалитесь под стол, то в брюках будете выглядеть все же более прилично. — Никогда не падала под стол. И вообще, обещаю, что буду вести себя прилично… насколько позволят обстоятельства. Послушаю вас и надену брюки… Переодевшись, я показалась Петру Иванычу. Он глубокомысленно оглядел меня: — Знаете, я предпочел бы все же платье, если бы только вам не пришлось падать под стол. Он ушел, прихрамывая, окутанный дымом. Пока я завертывала гладиолусы в целлофан, он вернулся. В руках его был стакан, наполненный какой-то маслянистой на вид жидкостью. — Вот выпейте. — Что это? — Пейте, пейте! — А все-таки? — Старинное гусарское средство, чтобы не опьянеть. — Вы были гусаром, Петр Иваныч? — Дед мой был гусаром, болтливая вы девчонка. — Вы сами-то хоть пробовали ваше средство? — Мне не требовалось. У меня никогда не было этих… обстоятельств. Но моему деду, говорят, помогало. А ему можно верить, он дослужился до командира полка. Пейте залпом. Смесь отдавала сливочным маслом и еще чем-то. Петр Иваныч смотрел на меня сердито и заботливо, как будто отправлял неопытного разведчика в лагерь врага для выполнения опасного задания. Впрочем, именно это мне и предстояло. Как хорошо, что такие люди, как Петр Иваныч, попадаются тебе на пути!… И я невольно расчувствовалась, у меня, что называется, даже защипало в носу. Пришлось прятать глаза.
11
Аллахова жила в пятиэтажном доме, первый этаж которого занимал магазин электротоваров. Возле магазина стоял грузовик с открытым задним бортом. Двое мужчин поднимали в кузов новый холодильник «ЗИЛ». Их действиями руководила полная энергичная дама, — я сразу ее узнала: она собиралась перекупить у меня воротник. По тому, как она покрикивала на одного из мужчин, можно было безошибочно заключить, что это ее муж. — Гоша, Гоша, осторожнее! Ты не можешь его приподнять, что ли? У тебя отсохли руки?… Ты поцарапаешь на нем всю емаль. Она так и сказала «емаль». У нее были слишком яркие губы, фиолетовые подглазья, и вся она показалась мне до предела вульгарной и пошлой. Гоша — тоненький и субтильный — натужно кряхтел где-то под холодильником, второй мужчина, видимо, шофер, принимал холодильник, стоя в кузове грузовика, и не очень-то старался. Мне стало жаль Гошу. — Подержите! Я сунула оторопевшей даме в руки свои цветы и шагнула на помощь Гоше. Вдвоем мы задвинули в кузов белую тушу холодильника. Я забрала цветы и в ответ на благодарность с удовольствием повернулась к даме спиной. Из магазина вышла продавщица в сереньком «фирменном» халатике. Дама заспешила ей навстречу. Мне захотелось проверить свою догадку, я оглянулась. Так и есть, дама засовывала что-то в карман серенького халатика. Продавщица, для вида, отказывалась. Она показалась мне совсем молоденькой, и если эти деньги, засунутые ей в карман, были первыми незаконно заработанными деньгами, то теперь уж не последними. К ним привыкают быстро, как к рюмке водки, суммы их увеличиваются, и способы их получения делаются все более преступными… Остановить здесь может только случай или ОБХСС. Меня очень тянуло вернуться, вытащить из кармана фирменного халатика эту отраву, вернуть ее пошлой, вульгарной бабе… но это опять была не моя роль. Мне очень не хотелось идти к Аллаховой. Хотелось домой. Посидеть с Петром Иванычем у телевизора. Почитать книжку, которая хорошо кончается. Мирно улечься спать и забыть, что есть на свете Главный склад Торга… Дверь открыла сама Аллахова. — Наконец-то! Я вручила ей цветы, она чмокнула меня в щеку. В брючном костюме из яркого трикотина она выглядела очень эффектно. Неловко было думать, что эта красивая женщина по сути дела — воровка, и самой подходящей одеждой для нее был бы черный стеганый бушлат. — Рада, что ты пришла. Проходи. Там Олег Владимирович тебя заждался. Она перешла на «ты», но я решила соблюдать субординацию. В просторной комнате, где на полу лежал ковер и на стене висел ковер, где в одном углу стоял телевизор «Радуга», а в другом — сервант с антикварным фарфором, за столом сидело шесть человек. С тремя из них я была уже знакома. Четвертого тоже знала, но вот он меня еще не знал. — Наше начальство, — представила его Аллахова. — Аркадий Игнатьевич Королёв. Королёв приподнялся, я поклонилась. Двоих я видела впервые. Пожилой круглолицый дядя, простецкой внешности, но с хитрющими маленькими глазками, был Саввушкин, директор пошивочного ателье. Второй — моложавенький и слащавенький — оказался мужем Аллаховой. Лет ему было не более тридцати, Аллахова называла его просто Санечка и ничего большего, на мой взгляд, он и не заслуживал. Знакомыми были Валюша Бессонова, Тиунова и Колесов, конечно. Он вскочил, подвинул мне стул, и я села между ним и Валюшей. Тиунова привалилась к Королёву плечом и что-то прошептала тихо. Он приподнял брови и пригляделся ко мне более внимательно. Саввушкин, видимо, тоже расслышал и тоже пощупал меня глазками. — Санечка, — сказала Аллахова, — Евгении Сергеевне налей коньяку. Санечка послушно отставил в сторону бутылку «Ркацители» и налил мне коньяку. Аллахова приглашающе подняла рюмку. Я понимала, чего от меня ждут, поздравила новорожденную и молодецки «хлопнула» рюмку. — А теперь штрафную, — сказала Тиунова. — Чтобы не опаздывала. Под любопытными взглядами окружающих я так же лихо выпила и вторую. Рюмки были большие, граммов на пятьдесят, — конечно, придется пить еще. Теперь вся надежда была на «гусарское средство» Петра Иваныча. На окружающих мой дебют, кажется, произвел впечатление. Колесов запоздало засуетился, схватил мою тарелку. На столе были и балыки, и крабы, даже икра, которую я не видела бог знает сколько. Я сделала вид, что занялась едой — уж коли могу пить, так могу и есть! Мой пример оказался заразительным. Окружающие переключили свои интересы на бутылки и закуски. Последовали новые тосты в честь виновницы торжества. Валюша сидела молчаливая, отрешенная. Сама наливала себе, пила одна и тоже коньяк, курила сигареты, которые брала у Колесова. Она не глядела ни на кого, и никто не обращался к ней. Только Аллахова изредка посматривала в ее сторону. Колесов пил много, говорил мне всяческие любезности, и вскоре я почувствовала его руку на своем колене. Пришлось терпеть. Настроение у окружающих повышалось. Это сборище внешне ничем не напоминало классическую воровскую «малину». Здесь собрались благопристойные, преимущественно семейные люди. Собрались поздравить именинницу, выпить и пошутить. А попутно и приглядеться друг к другу — все они были связаны одной веревочкой, и судьба каждого находилась в руках его соседа. Мне было понятно, что Аллахова нуждалась не только в исполнителях вроде Бессоновой, Тиуновой или Колесова. Ей нужен был еще и опытный организатор, который, действуя за пределами Главного склада, помогал бы ей прятать концы в воду. Кто же этот организатор? Тут он или нет? Из присутствующих двое привлекали мое особое внимание. Против меня за столом сидел Саввушкин. Судя по тому, как он держал себя с Аллаховой, можно заключить, что он знает её давно, но полковник Приходько о нем ничего не говорил, значит, Саввушкин умеет держаться в тени. Он был старше Аллаховой лет на десять, видимо, опытнее ее. Но вот признаков ума Саввушкин не обнаруживал. А когда он рассказал за столом анекдот — неприличный и глупый — и сам первый расхохотался, я решила, что Саввушкин не тот человек, которого я ищу. Думать очень плохо о Королёве мне мешали орденские колодки на его пиджаке, там была и красно-белая ленточка ордена Красного Знамени. После окончания войны он долго служил в армии. Потом учился — некогда ему было набираться практики в мошенничестве. Тогда что ему нужно здесь, возле Аллаховой? Или кто-то ему нужен? Тиунова? Но ради нее он вряд ли бы стал потворствовать Аллаховой, да и встречаться с Тиуновой мог бы и в других местах… Тут Аллахова включила радиолу и моим размышлениям пришел конец. Санечка пригласил Бессонову. Колесов меня, конечно, но я отказалась, сославшись на усталость. Тогда он подвинулся поближе и опять положил руку на мое колено. Саввушкин танцевал с Тиуновой что-то азартное, похожее на «цыганочку», хотя Аллахова объявила твист. Тиунова отчаянно вертела задом, Валюша Бессонова только слегка переступала с ноги на ногу, лицо ее по— прежнему было отрешенным и злым. Санечка вывертывал ноги самым невероятным образом. Аллахову пригласил Королёв. Но едва они оказались у дверей, как тут же покинули комнату. Никто на их уход не обратил внимания. Никто, кроме меня. Саввушкин плюхнулся на стул, вытирая платком вспотевшую шею. Но Тиунова только разошлась, она потащила за собой Колесова и на время освободила меня от него. Я встала и не спеша вышла из комнаты. Мне захотелось выпить на кухне холодной воды. На кухне были Аллахова и Королёв. То ли они неплотно прикрыли дверь и она открылась, то ли вообще не закрывали ее. Меня они не заметили. Да и никого они бы не заметили они были заняты только собой. Я вернулась в комнату на свой стул. Значит, так! Я угадала: действительно «шерше ля фам!» Только «ля фам» оказалась не та. Тиунова была ширмой, как для Аллаховой муж. Пластинка закончилась, автомат щелкнул и остановил диск. Тут и отсутствующие вернулись в комнату. Аллахова шла впереди и говорила Королёву через плечо что-то спокойное и шутливое. Все опять уселись за стол, на «второй заход». Только Тиунова осталась на ногах. Она взяла бутылку и сама налила всем коньяку. Валюшу было обошла, но та сама подвинула рюмку. — Валюша! — сказала я, — Не нужно тебе пить. — А, подите вы все… Она выругалась, выпила рюмку, сморщилась, потащила из пачки сигарету, но никак не могла зажечь спичку. Я помогла. Остатки коньяка Тиунова выпила прямо из горлышка. Она так и не присела, а стояла возле стола, притопывая каблучками. — Таня! — сказал ей Саввушкин. — Исполните! Он приглашающе похлопал в ладоши. К нему присоединился и Королёв, и остальные. — Просим, Танечка! Видимо, Тиунова только и дожидалась приглашения, она победно тряхнула бронзовой головой, посмотрела на Аллахову. Та кивнула ей, они вдвоем вышли из комнаты. — Что сейчас будет? — спросила я. — Сама увидишь! — зло уронила Бессонова. Она стряхнула пепел с сигареты прямо в коробку с сардинами. Колесов многозначительно ухмыльнулся и выразительно пожал мою коленку. Первой вернулась Аллахова. Она выключила люстру, оставив гореть угловое розовое бра. Потом поставила пластинку, что-то вроде медленного фокстрота. И тогда в комнате появилась Тиунова. Волосы ее были распущены по плечам. Шерстяной шарф, заколотый на бедре безопасной булавкой, изображал юбочку. Больше на ней не было ничего. Кожа у нее была загорелая, и только там, где сходились концы шарфа, виднелась белая полоска не загоревшего под купальником бедра. Конечно, нагое тело — еще не порнография. Оно может быть прекрасным. Но здесь не было красоты. Перед нами бесстыже кривлялась голая пьяная женщина — лет ей уже за тридцать, и ноги у нее были некрасивые, и… — Шлюха! Валюша сказала это негромко, но Тиунова услышала. Она остановилась, посмотрела в нашу сторону. Подошла к нам улыбаясь. Улыбка ее и сбила меня с толку, все произошло так неожиданно и быстро, что я ничему уже не успела помешать. Тиунова остановилась против Валюши и вдруг сильно ударила ее по щеке. Валюша выронила сигарету на стол. Рука ее заскребла по скатерти. Я едва успела отодвинуть в сторону вилки и ножи. Тогда она схватила дымящуюся сигарету и сильно, как в пепельницу, вдавила ее в голый живот Тиуновой. Потом были крики, звон стекла, хруст осколков под ногами. Валюша рвалась из моих рук и кричала: — Сволочи вы все, сволочи!… Я прикрывала ее от Тиуновой, с которой никак не мог управиться Колесов. Шарф с Тиуновой свалился, и зрелище это — даже с большой натяжкой — нельзя было назвать привлекательным…
12
На улице сыпал мелкий холодный дождь. Мокрый асфальт серебряно блестел под светом люминесцентных уличных фонарей. Валюшу совсем развезло, нам с Колесовым не столькоприходилось ее вести, сколько просто тащить. На углу она начала вырываться. — Отпустите ее, — сказала я Колесову. Валюша качнулась к стене дома, оперлась руками, ее стошнило. Из водосточной трубы текла тоненькая струйка, я вымыла Валюше лицо, вытерла его платком. После скандала, обливаясь злыми слезами, она устремилась домой. Прилечь на диван в соседней комнате отказалась наотрез. Мне уже нечего было делать у Аллаховой, я вызвалась Валюшу проводить. Со мной вместе отправился и Колесов. Лишь тогда Аллахова не стала нас задерживать. Я сообразила, что ей просто не хотелось оставлять Валюшу со мной наедине. Бессонова жила недалеко от остановки «Березовая роща» — ехать почти через весь город. Садиться в троллейбус с ней было рискованно, с первой же милицейской машиной водитель мог отправить ее в вытрезвитель. На наше счастье, у соседнего дома из такси высадились пассажиры. Правда, шофер, взглянув на Валюшу, заявил, что ее не повезет. Но Колесов сунул ему всемогущую «трешку», и мы поехали. В такси все пошло удивительно мирно. Валя привалилась к моему плечу и сразу уснула. Когда мы приехали, мне кое-как удалось ее разбудить. Полусонную, мы потащили ее по лестнице на пятый этаж. Лампочки горели только на первом и, кажется, на третьем этажах. Валюша запиналась на каждой ступеньке. Колесов уже растерял все свое терпение и ругался вполне неприлично. Ключ от дверей квартиры я кое-как разыскала в кармане Валюшиного плаща. Колесов быстро нашел выключатель, зажег свет в передней, затем в комнате. Он помог мне стянуть с Валюши пальто. Потом я прислонила ее к косяку, расстегнула «молнии» на сапогах и сдернула сапоги. Провела Валюшу в комнату, усадила на кровать. Это была обычная малогабаритная однокомнатная квартира, грязноватая, неухоженная, обставленная разностильной, хотя и дорогой мебелью: мягкие стулья, большое кресло, кровать полированного дерева. Глаза у Валюши были закрыты, она безвольно покачивалась из стороны в сторону, и не придерживай я ее — она упала бы на пол. Колесов сдвинул шляпу на затылок. — Фу! — сказал он. — Даже жарко стало. Выпить бы сейчас чего-нибудь холодненького. На кухне у самой двери стоял холодильник. Колесов открыл его, забрякал банками и бутылками. Я стянула с Валюши чулки. — Евгения Сергеевна! — крикнул Колесов, — Компот есть. Вишневый. Хотите? Я отказалась. Пока я раздевала и укладывала Валюшу в постель, Колесов сидел в кресле, прихлебывал компот прямо из банки и сплевывал вишневые косточки за дверь кухни. Он довольно свободно себя чувствовал в комнате Валюши, и у меня создалось впечатление, что он здесь уже бывал. Ну, что ж… Я закрыла Валюшу одеялом, она свернулась калачиком и сразу уснула. Хмель у меня начал проходить. На смену взвинченности пришла тяжкая усталость. Во рту было противно и сухо, хотелось пить. А тут еще вернулся Колесов и начал весьма выразительно поглядывать на меня. Я вышла на кухню. По пути щелкнула каким-то выключателем, но это оказался не тот выключатель, я не стала искать другой — на кухне хватало света, падающего из комнаты. Возле раковины стояла газовая плита, рядом небольшой столик, на нем никелированный чайник и несколько стаканов. Мне захотелось холодной воды, прямо из водопровода. Я отвернула кран и взяла со столика стакан. Колесов, видимо, зашел следом за мной, в раковине шумела вода, я не слыхала шагов, но почувствовала его руки на своих плечах. Я все же думала, что смогу спокойно напиться, но тут он обнял меня. — Эй-ей! — сказала я. Он сжал меня сильнее. В стакане оставалось немного воды, я наугад плеснула через плечо. Колесов тут же убрал руки. — Ну, вот… Теперь рубашка мокрая. Он достал из кармана платок, вытер лицо. Вид у него был сконфуженный, мне даже стало его жалко. — Ничего! На рубашку попало совсем немного, — утешила я его. — Пойдемте домой. Мне не хотелось, чтобы он меня провожал, но выхода у меня не было, не оставлять же Колесова здесь. Я еще раз подошла к Валюше, она спала, подложив ладошки под щеку, совсем как девочка-школьница, у которой самым большим несчастьем в жизни была двойка в дневнике. Я открыла пошире форточку, натянула одеяло на голое плечо Валюши. — А где ключ от дверей? — Вон, на столе, — сказал Колесов. Мы вышли и захлопнули дверь на американский замок. Сразу стало совсем темно. Кто-то выключил свет на лестничных площадках. Осторожно шагнув вперед, я нащупала перила лестницы. Колесов наткнулся на меня, обнял. Я вертела головой, и его поцелуи попадали то в ухо, то в лоб. Он хотел схватить мою голову руками; мне удалось вырваться; держась за перила, я побежала вниз. И тут же наткнулась на кого-то. Очевидно, это был мужчина, он крепко держался на ногах и даже не покачнулся. Мои руки ощутили мокрый плащ, плотную фигуру. Отчетливо запахло одеколоном. — Осторожнее! — услыхала я. — Простите, пожалуйста. Мужчина отступил в сторону, и я опять побежала вниз. Колесов догонять меня не стал и, видимо, никого не заметил. Из подъезда мы выбрались уже без осложнений. Нам повезло, мы захватили на остановке «двойку». Конечно, на этот раз Колесов решил проводить меня до дома. В подъезде я опять попала в его объятия. Легко было положить всей этой лирике конец, но не хотелось откровенно грубить, да и шуметь на лестнице тоже не следовало, могли услыхать жильцы первого этажа. Наконец, я удачно вывернулась и поднялась к себе наверх. На площадке перед своими дверями остановилась перевести дыхание и поправить волосы. Шел второй час ночи, но Петр Иваныч мог не спать. Мне совсем не хотелось попасть ему на глаза растрепанной, с покрасневшим, зашлепанным поцелуями лицом. Я выдернула из кармана платок, с ожесточением вытерла лицо, щеки и далее уши — везде, где могли остаться следы губ Колесова. Хотела бросить платок, но он утром попал бы на глаза соседям, пришлось сунуть его в карман. Осторожно вставила ключ в замок, открыла дверь. И увидела перед собой Петра Иваныча. Все-таки он услыхал мою возню и хотел открыть дверь сам. Я некстати зацепилась каблуком за порог и совсем по-пьяному ввалилась в прихожую. Петр Иваныч отступил на шаг. Оглядел меня внимательно, но без осуждения, скорее как больную, которая может нуждаться в помощи. Мне нужно было сейчас перевести все на шутку, но я растерялась, и ничего подходящего не приходило на ум. Молча сбросила сапожки; пришлось опереться о стену, после всех сегодняшних событий почувствовала отчаянную усталость. — На кухне в термосе кофе, — сказал Петр Иваныч. — Выпейте, вам станет легче. Я взялась за отвороты его домашней куртки и, стараясь дышать в сторону, прикоснулась щекой к его лицу: — Петр Иваныч… милый Петр Иваныч! Спасибо вам. За гусарское средство спасибо и за кофе. Я бы поцеловала вас, славный Петр Иваныч, но… но я не могу вас поцеловать. Я пойду и выпью ваш кофе, выпью, что угодно, а вы идите спать, и все будет хорошо…
13
Будильник я, конечно, забыла завести и утром проспала бы обязательно. Меня разбудил Петр Иваныч. Голова болела отчаянно, даже повернуть ее на подушке стоило труда. Туфли спрятались куда-то под кровать, разыскивать их было свыше моих сил, я так и прошлепала в ванную босиком. Чтобы не мочить голову, натянула купальную шапочку. В зеркале отразилась физиономия, на которую не хотелось и смотреть. Я пустила в душ холодную воду, потом горячую, потом опять холодную, пока не посинела вся, пока не почувствовала озноба. Затем свирепо растерлась полотенцем. Я пила кофе, а Петр Иваныч выговаривал мне: — Когда пришел вас будить, вы спали так невинно, что мне не верилось: это та самая девочка, которая каждый день упивается в стельку и скоро будет ночевать на улице под забором. — Этого не случится. — Почему же? — Сейчас в городе забора не найдешь. Современный пьяница сейчас ночует в вытрезвителе. Перед уходом я подошла к Петру Иванычу, вытянула из его рта трубку, потерлась щекой о его щеку, вернула трубку на место и вышла. Это выглядело не очень умно, но я не знала, как вести себя умно с человеком, который может подумать о тебе бог знает что, а ты так ничего и не сможешь ему объяснить. На улице опять сыпал дождь, мелкий, как пыль. Возле гастронома жалась кучка выпивох, в пиджаках с поднятыми воротниками. Проходными дворами, мимо разнокалиберных частных гаражей, запертых громадными «купеческими» замками, через маленький скверик я вышла на проспект. Граждане штурмовали подошедший троллейбус, я тоже втиснулась в толпу и прибыла к своему складу с опозданием на десять минут. — Господи! — встретила меня Рита Петровна. — Что с тобой! Заболела, что ли, зеленая вся? Я пожаловалась на голову. — Вот еще новости. С чего бы ей у тебя болеть? Пойдем, пирамидону дам. Пирамидон помог мало. А тут еще надо было ехать на базу за товаром. Рита Петровна заменить меня не могла, дожидалась ревизора по уценке. Пришлось ехать мне. Машину вел уже знакомый Топорков. На этот раз он держался вполне пристойно. А когда мы прибыли на базу и оказалось, что нужно подождать с погрузкой, он отвел машину в сторонку и предложил мне вздремнуть на сиденье. Даже положил мне под голову свою стеганку. Вернулись на склад мы во второй половине дня. — Зайди ко мне, — сказала Рита Петровна. — Сейчас, помогу машину разгрузить. — Не твое дело ящики таскать. Вон Топорков поможет. — А я тоже не обязан. — Знаю, что не обязан. Поэтому и прошу. Давай, зачтется тебе. — На том свете угольками, — Ладно, вам и на этом свете перепадает. Бухгалтера в конторе не было. Рита Петровна уселась за стол, смахнула с настольного стекла заметные ей одной пылинки. Переложила стопку накладных с одного угла на другой. Я терпеливо ждала. В коридоре послышался знакомый топот, и в дверь ввалилась Маша. — Рита Петровна! Куда пустую тару убирать?… — А, чтоб тебя… Чего орешь, как родить собралась? — Ну уж… вы скажете — родить! — Маша фыркнула в кулак. — Тару, говорю?… — Да сложи ее в угол, что ли. Брысь! Маша развернулась, как гусеничный трактор, и вынеслась в коридор. Загрохотал фанерный ящик, попавший ей под ноги. — Лошадь, прости господи! Прикрой дверь. Она поставила локти на стол и посмотрела на меня строго и вопросительно: — Тут из милиции звонили. Утром, как ты уехала. Из Дзержинского отделения, следователь. Фамилию я записала — следователь Заплатова. Спросила: работает ли на складе Евгения Грошева? Я сказала, что работает. Нельзя ли ее к телефону? Я говорю: нельзя, на базу уехала. А когда приедет? Да сегодня, говорю, и приедет, не ночевать же там останется. Тогда пусть мне позвонит, как приедет. Обязательно! И телефон дала. А больше ничего объяснять не стала. Рита Петровна ожидала от меня разъяснений, но я понимала не более ее. У меня не было дел с Дзержинским отделением милиции. — Не знаю. — Вот и я не знаю. Звонить сейчас будешь? — Сейчас и позвоню. Мне сразу же ответил молодой женский голос: «Следователь Заплатова слушает». Я назвала себя. «Мне нужно вас видеть. По неотложному делу. Можете приехать сейчас?» — Поезжай! — сказала Рита Петровна. — Я нашим пока ничего не говорила про вызов. Вернешься, сама расскажешь. Если захочешь. По пути я, на всякий случай, позвонила Борису Борисовичу, но его не оказалось у телефона. В Дзержинском отделении милиции я только собиралась постучать в кабинет следователя, как дверь открылась и навстречу вышел Колесов. Я совсем не ожидала его здесь встретить, но он, увидя меня, не удивился, а сказал: «Вот и вы, наконец!» Вид у него был какой-то встревоженный, но поговорить мы не успели. Следователь пригласила войти. Я увидела два стола, четыре стула, несгораемый шкаф в одном углу, вешалку в другом. Некую индивидуальность казенному кабинету придавал кактус, пузатый и ершистый, который стоял в глиняном горшочке на подоконнике, да еще висевшая на стене литография с картины Левитана «Над вечным покоем». С кактусом я согласилась, но «Вечный покой» здесь был, по-моему, ни к чему. Следователь Заплатова оказалась совсем молодой, не старше меня, лицо у нее было свежее и чистое, и китель на ней был свежий и чистенький, а звездочки на погонах поблескивали, как будто их только что купили в магазине Военторга. — Лейтенант Заплатова, следователь по уголовным делам. — Уголовным делам?… Несмотря на свою молодость, следователем она оказалась настоящим. Только я поняла это не сразу. Начальную часть мы закончили быстро. Фамилия, имя… место работы… не судилась… за дачу ложных показаний… Я уже протянула руку, зная, что сейчас нужно расписаться. И вот тут следователь Заплатова посмотрела на меня внимательно. — Почему вы знаете, что здесь нужна ваша подпись? Я сообразила, что веду себя неосторожно. Без разрешения полковника Приходько я не имела права рассекречивать себя даже здесь. Пришлось на ходу придумать историю, где якобы я выступала в роли свидетельницы. Затем подписала: «Несу ответственность…» — и подумала, что мне говорить, если меня спросят, чем я занималась два последних года. Пришлось бы повторить запись в трудовой книжке, хотя и запись, и сама трудовая книжка являлись тем самым «ложным показанием». Наконец следователь Заплатова положила авторучку и, глядя на меня, оперлась локтями на стол. А я тут невольно вспомнила, сколько раз тренировала себя перед зеркалом, вырабатывая вот такой «профессиональный» следовательский взгляд. Очевидно, какая-то веселость промелькнула в моих глазах, и следователь Заплатова тут же спросила: — Чему вы улыбаетесь? Я смутилась: — Да, так… от необычности обстановки. — Что ж, это хорошо, что вы улыбаетесь. Для вас хорошо. — Не понимаю. — Это я вижу. Иначе вы бы не улыбались. Скажите, пожалуйста, как вы относились к Бессоновой. Я обратила внимание на прошедшее время глагола— «относились». Значит, Валюшу арестовали, теперь она человек, которого называют уже не «товарищ», а «гражданин», а об отношениях с ним говорят уже в прошедшем времени. — Я хорошо к ней относилась. — Она была вашей хорошей знакомой? — Почему — была? Она и сейчас моя хорошая знакомая. Следователь Заплатова промолчала. Она взяла ручку, что-то поправила в своем протоколе, кажется, поставила запятую. Эта молчаливая пауза сразу встревожила меня. — Что случилось? — Вашей хорошей знакомой уже нет. Бессонова умерла.
14
Когда Валюша утром не явилась на работу, никто на Главном складе не встревожился. Случалось такое и раньше. Перепила немножко, с кем не бывает! Отоспится — придет… Но вскоре на склад позвонили жильцы — соседи Бессоновой по квартире. На лестничной клетке появился сильный запах газа. Достучаться к Бессоновой не могли, решили, что она ушла на работу и позабыла закрыть газ. Недавно в соседнем доме из-за подобной оплошности произошел взрыв. Повезло — обошлось без человеческих жертв. Узнав, что Вали нет и на работе, соседи встревожились, Вызвали техника. Вскоре прибыла милиция. Дверь взломали. Валю нашли в постели скрюченную, посиневшую. Уже мертвую… — Отравление газом, — сказала следователь Заплатова. — На плите стоял чайник с водой, газ был открыт, но не зажжен. — Несчастный случай? — Вот это нам и хочется уточнить. Скажите, она не походила на человека, собирающегося покончить с жизнью? Мне пришлось подумать над ответом. Я не стала упоминать об истинных переживаниях Вали — здесь разговор пошел бы о вещах, которые следователю мог бы объяснить только полковник Приходько. — Нет, не походила, — ответила я. — Правда, веселой тоже она не была, ее жених уехал в командировку, она тяжело переживала эту разлуку. Но она его ждала. — Понятно. Мне тоже не кажется это самоубийством. Не похоже, чтобы, решив умереть, она перед этим захотела бы напиться чаю и поставила чайник на плиту. Не так ли? — Да, я тоже так думаю. — Но чайник на плиту мог поставить кто-то другой? Вот тут я поняла следователя Заплатову. Ей известно, что мы с Колесовым были у Вали за какие-то часы до ее смерти. Следователь Заплатова выясняла, не могли ли мы оказаться пусть невольными, но тем не менее виновниками ее гибели, по какой-то роковой нашей небрежности. — С Колесовым я уже говорила. Теперь прошу вас подробно вспомнить все с того момента, как вы покинули квартиру Аллаховой. — Хорошо. Я решила не говорить о пьяном скандале, считая, что Колесов об этом тоже не стал бы рассказывать. — Бессонова выпила лишнее, и мы с Колесовым решили проводить ее домой. — Кто из вас первым высказал такое желание? — Кажется, я. Колесов решил мне помочь. — Его помощь была необходима? Вопрос поначалу показался мне даже не относящимся к делу. Но я сообразила, что отвечать на него нужно точно, иначе в дальнейшем мне будет еще сложнее. — Нет, — сказала я. — Пожалуй, я смогла бы отвести Бессонову и одна, хотя мне было бы труднее. — Чем же вызывалось это желание Колесова? Сочувствием к Бессоновой? Или здесь была другая причина? Ничего не скажешь, вопросы она ставила тактично и умело. Видимо, следователь Заплатова хотела выяснить мои отношения с Колесовым, чтобы решить, в какой мере будут искренни мои показания на его счет. — Думаю, что ему хотелось побыть со мной. Я ожидала следующего вопроса, который сам напрашивался. Но следователь Заплатова только кивнула головой. Больше она меня не перебивала до момента, когда я упомянула, что прошла на кухню. — Теперь постарайтесь точно восстановить все, что вы делали на кухне. Далее то, что вы думали на кухне, если сможете это вспомнить. Вы ведь сами были не очень… — Да, — ответила я. — Сама я была не очень. Во всяком случае, не настолько, чтобы что-либо забыть. Мне захотелось пить. Я вначале собиралась налить из чайника, потом передумала и наполнила стакан холодной водой из-под крана. — Это вы точно помните? — спросила следователь Заплатова. — Что вам захотелось именно холодной воды, а не горячего чая, скажем? В тот вечер на улице было довольно холодно. — Да, на улице было прохладно. Но нам столько пришлось повозиться, чтобы доставить Бессонову на пятый этаж. Потом я ее раздевала, укладывала в постель, и мне стало даже жарко. Хорошо помню, как взяла со столика стакан, отвернула кран, попробовала воду рукой и уже потом наполнила стакан. — А где стоял чайник? — На кухонном столике. — Не на плите? — Нет, на кухонном столике. — А пока вы пили воду, что делал Колесов? — Колесов сидел в кресле и пил вишневый компот. Потом… Я замешкалась. Разговор подошел к таким вещам, о которых мне не хотелось бы упоминать, но и не говорить о них тоже было нельзя. Следователь Заплатова уловила мою заминку. — Евгения Сергеевна, — сказала она, — мне, видимо, придется уточнить одну вещь… Догадаться было нетрудно, и я сама пошла навстречу ей. — Я понимаю вас. Нет, я равнодушна к Колесову. Более того, он мне неприятен. Он мой случайный знакомый, у меня нет личных причин как-то выгораживать его или защищать. Но он тоже не прикасался ни к чайнику, ни к плите. Пока я пила воду, он стоял за моей спиной. — Вы могли его видеть? — Нет. — Тогда почему вы так уверены, что он, незаметно для вас, не мог протянуть руку и открыть газовый кран на плите? — Потому… потому, что его руки лежали на моих плечах. Следователь Заплатова промолчала. Конечно, все это плохо увязывалось с предыдущим заявлением, что Колесов мне неприятен, но объяснять я ничего не стала. — Потом вместе с Колесовым мы вышли из кухни, вернулись в комнату. Бессонова спала. И тогда мы ушли… Да, перед тем, как выйти из комнаты, я приоткрыла форточку. — Приоткрыли или прикрыли? — Открыла. Открыла форточку настежь. Мне показалось, что в комнате душно. — Это не мог быть запах газа? — Нет, просто было душно. Я помню, как в форточку сразу подуло с улицы и я поправила на Бессоновой одеяло. — Сантехник сказал, что форточка была закрыта. Он открыл ее сам, когда проветривал комнату. — Вот как? Значит, Бессонова закрыла ее, когда вставала. Если бы форточка была открыта… — Тогда, вероятно, Бессонову удалось бы спасти. Самое логичное — предположить, что погибла она от собственной неосторожности. Легко представить, как все произошло. Проснулась с затуманенной с похмелья головой. Налила чайник, поставила на плиту. Открыла газ и не зажгла. Прилегла в постель и уснула. — Да, вероятно, так, — согласилась я. — Надо было мне остаться у нее ночевать. Кто мог подумать… — Скажите, Евгения Сергеевна, вы, когда укладывали Бессонову в постель, не обратили внимания, где стояли ее туфли? — Туфли? — Да, ее домашние туфли. — Не заметила. — Они оказались возле дивана. А Бессонову нашли в постели. Естественно предположить, что она ходила по комнате босая. Так вот, ни в комнате, ни в кухне я не обнаружила на полу следов босых ног. Правда, их могли и затоптать. В квартире народа побывало достаточно: слесарь, сантехники. Трогать, правда, они ничего не трогали, оперативники за этим последили, но грязи натащили порядочно, на улице шел дождь. — А в туалете? Заплатова взглянула на меня с одобрением. — Правильно, в туалете могли, бы и не затоптать. Но в туалете следов вообще не оказалось никаких. Другими словами, у нас нет доказательств, что Бессонова вставала с постели. Это и заставило меня так подробно расспрашивать вас и Колесова. — А что сказал Колесов? — Примерно то же, что и вы. Правда, узнав о смерти Бессоновой, он разволновался. Но на это у него могли быть личные причины. Он тоже заявил, что не прикасался ни к чайнику, ни к плите. — Вообще-то это легко проверить, — заметила я. Но вот тут-то за все время нашего разговора мне впервые стало не по себе. Я подумала, что если кому— нибудь понадобилось бы избавиться от Бессоновой, то лучшего способа нечего было и искать. Запасной ключ к дверям, перчатки на руках — и злое действие надежно прикрывается видимостью несчастного случая… — Попрошу вас, — сказала следователь Заплатова, — присядьте, пожалуйста, вон за тот стол, там есть бумага. Опишите все, что мне рассказали. Мысль о возможности преступления уже не покидала меня, мешала сосредоточиться… Не мог ли Колесов вернуться на квартиру Бессоновой? Судя по тому, как он вел себя при расставании, вряд ли такая мысль могла держаться в его голове. А если не он, то кто?… На столе у следователя звякнул телефон. Заплатова сняла трубку. — Меня спрашивают?… Прохорова?… Какая Прохорова?… Соседка Бессоновой по квартире? Хорошо, пропустите ее ко мне. Следователь Заплатова медленно опустила трубку на рычаг. — Любопытно! — произнесла она. Маленькая кругленькая женщина не вошла, а будто вкатилась в комнату, как на роликовых коньках. Без всякого стеснения, которое обычно испытывает любой человек, попадая в следовательский кабинет, она присела к столу, отодвинула в сторону мешавшую ей папку и удобно оперлась круглым локотком. Говорить она начала прежде, нежели следователь Заплатова успела задать обычные вопросы. — Валюшу нашу, значит, не оживили?… Вот горе, такая молодая, красивая — жить бы ей да жить. Говорила я своему Николаю Степанычу, закрутилась наша Валюша, ох, закрутилась. Сама в торговой сети работаю, там аккуратность требуется. А у нее все гулянки да праздники, вот и получилось. Конечно, вроде бы и несчастный случай. Сама газ открыла, сама спать легла — вроде бы все так… Рассказчик она, судя по всему, была опытный и выбрала точное место для интригующей паузы. Следователь Заплатова тут же спросила: — А вы думаете, что все не так? — Что ж! — запальчиво подхватила Прохорова. — Может, и думаю. Только вы позвольте мне, я все по порядку расскажу. Если не по порядку, так я еще заговорюсь не туда. — Пожалуйста. Следователь Заплатова улыбнулась. Она тоже поначалу не приняла новую свидетельницу всерьез. — В прошлый вечер, вчера, значит, мы с Николаем Степанычем ходили в кино. На последний сеанс, да еще удлиненный. Да пока в трамвае обратно ехали, до дому добрались уже в первом часу ночи. Глядим, в нашем подъезде темно. Николай Степаныч говорит: «Опять молодежь на лестнице шуры-муры разводит — свет выключили!» Пока он там выключатель щупал, я вперед пошла. По лестнице я завсегда вперед иду, на ногу шустрее, нежели он. Тут свет загорелся, я ходу прибавила и слышу, вверху, похоже на нашей площадке, дверной замок щелкнул. Тихонечко так щелкнул. А там только у Валюши такой тихий замок. У нас и у соседей Петровых замки здоровые, кассовые их зовут, и звук у них совсем другой. Я подумала, что Валюша впереди нас прошла, только чего же она по темной лестнице поднималась, свет не зажгла. Только подумала, вдруг чую — на площадке одеколоном попахивает… Вот с этого места я уже слушала Прохорову внимательно. — Может быть — духами? — спросила следователь Заплатова. — Что вы, да неужели я духи от одеколона не отличу. Я же в ЦУМе, в галантерее работаю. И в парфюмерном приходилось торговать. Так что я эти запахи различаю. — Ну тогда — конечно. — Вот-вот, разбираюсь. Слышу — «Шипром» пахнет. А «Шипр», если знаете, мужской одеколон. Думаю, может, Валюша не одна пришла. А с кем она еще придет? У нее жених есть, а он в командировку отбыл, это я знаю… Ну, всякое я тут подумала… Николаю Степанычу говорю: «Слышишь запах?». А он: «Это, наверное, у Петровых полы красили». Ну, никакого чутья у человека нет! Поговорили мы с ним, на том и дело закончили. А утром я к восьми на работу, бегом, опаздываю, как всегда. С работы вернулась, говорят, так вот и так. Я сразу про мужской одеколон и вспомнила. Кто же, думаю, у нас на лестнице еще был?… Более Прохорова ничего не знала, поэтому пустилась в дедуктивные размышления. Говорила она складно, может быть, в другое время ее и стоило бы послушать, однако сейчас следователь Заплатова вежливо, но решительно остановила ее, записала все необходимое и тут же отпустила. Та ушла неохотно, ей еще хотелось поговорить. — Как вы считаете, — спросила меня Заплатова, — не могла Прохорова все это придумать? Уж очень она словоохотливая. От Колесова вчера не пахло одеколоном? — От Колесова не пахло. Не знаю, как в отношении замка, но в одном Прохорова права. Человек на лестнице был. Я рассказала о своей встрече в темноте. — Вот как! — удивилась Заплатова. — Почему же вы мне этого раньше не сказали? — Как-то разговор к этому не подходил. Больше думала о том, что в тот вечер сама делала и что могла делать Бессонова, а не о чем-то другом. Поэтому про мужчину вспомнила не сразу. — Он поднимался по лестнице? — Не знаю. Когда я на него наткнулась, он стоял. — Вы не могли его разглядеть? — Нет, не могла. На лестнице было совсем темно, а мы только что вышли из светлой комнаты. — А Колесов? — Он так и прошел, никого не заметив. — Вы узнаете того мужчину, если встретите? — В лицо не узнаю. Голос его, пожалуй, запомнила, он сказал мне: «Осторожнее!» И запах одеколона. Но «Шипр» такой общеупотребительный одеколон. — Может быть, ваш мужчина спешил на свидание к Бессоновой? — Вряд ли. Она любила своего летчика, и она его ждала. Следователь Заплатова посмотрела на лежащий перед ней чистый лист бумаги. — Заинтересовали вы меня этим мужчиной. Куда он направился после встречи с вами? Вверх или вниз по лестнице? Она посмотрела на меня задумчиво, но я больше ничем не могла ей помочь. Мыслей у меня появилось множество, однако надо было в них вначале разобраться самой. — Вы пока допишите свои показания, — сказала Заплатова. — Я уже это сделала. — Когда же вы успели? — Пока вы беседовали с Прохоровой. Я вспомнила про свою встречу, как только она упомянула про запах одеколона. Пока Заплатова перечитывала мои записи, я размышляла о том, говорить ей о своих подозрениях сейчас или посоветоваться вначале с полковником Приходько. А тут он сам весьма кстати появился в дверях и избавил меня от необходимости решать все вопросы самостоятельно. Ничего не было удивительного в его приходе. Как я узнала потом, он услыхал о происшествии от дежурного по Управлению. Знакомая фамилия пострадавшей заставила его заинтересоваться подробностями, он прибыл за ними сюда, в отделение. Он вошел не постучав. Следователь Заплатова поднялась, как положено. Мне полковник Приходько только кивнул коротко, как незнакомой женщине, и я поняла, что он и здесь не собирается раскрывать мое инкогнито. — Вы скоро освободитесь? — спросил он у следователя. — Уже заканчиваю. По ее просьбе я подписала отдельно каждый листок своих показаний, как будто никогда раньше не слыхала о таком правиле, и полковник Приходько глянул на меня одобрительно. Я ушла, оставив их вдвоем. Холодный ветер гнал по проспекту листья тополей, подталкивал меня в спину. Встречные прохожие придерживали полы плащей и пальто. Я брела вслед за шуршащими листьями. Невесело было у меня на душе.
15
Сказать, что смерть Вали Бессоновой была для меня тяжелым ударом, — означало мало что сказать. Я начала подозревать, что здесь не несчастный случай, а преступление. Раскаяние Вали Бессоновой, ее ненависть к Аллаховой и всем прочим участникам — опытным расхитителям, которые втянули наивную девчонку в свои грязные дела, конечно, видела не только я, но и те, кому признания Бессоновой грозили тюремной решеткой. Спасая себя от возможных разоблачений, ее решили убрать. Это было, понятно, только предположение. Но многое, что я услыхала в следовательском кабинете Заплатовой, заставляло меня сейчас так думать. Однако если мои подозрения верны, тогда я виновата в том, что сама не сообразила это вовремя. Я думала, что если бы на моем месте оказался оперативник с более тонкой интуицией, с большим профессиональным опытом, он смог бы заранее сопоставить факты, сделать соответствующие выводы и помешал бы преступлению совершиться. А что сделала я? Человек, с которым я столкнулась на лестнице, конечно, поднимался наверх, к квартире, где спала беззащитная Валя Бессонова. Я столкнулась с ним нос к носу и позволила пройти. Конечно, трудно было все предвидеть, все предугадать, но я считала, что обязана была это сделать. И вот Валя Бессонова мертва. Возможно — убита… Ощущение вины заставляло меня много раз возвращаться в мыслях к прошедшей ночи, и я попыталась представить себе, как все могло произойти. Если человек на лестнице был участником шайки Аллаховой, то он мог иметь ключ от дверей Бессоновой, — подделать его или выкрасть не составляло труда. Возможно, Аллахова позвонила ему после вечеринки, он знал, что Бессонова, мертвецки пьяная, спит в своей постели и ничем не может ни защитить себя, ни помешать открыть газовый кран… Я высказала все свои соображения полковнику на следующий же день. Как всегда, Борис Борисович принес нам чаю, а сам сидел на диванчике тихий и незаметный. Никогда не встречала человека, который мог что-то делать и вести себя так тихо и незаметно, как Борис Борисович. Мне было не до чая, но полковник Приходько выпил стакан, пока я вела свой детективный монолог. Потом достал сигарету, размял ее в пальцах. Борис Борисович зажег спичку. — Ну, как? — спросил его полковник. — Хорошо рассказала. — Очень увлекательно. И складно, прямо как Жорж Сименон. Тут я спохватилась, что речь моя, вероятно, была излишне эмоциональна, что я веду себя не как оперативник — работник милиции, а как девочка-школьница. Кажется, я покраснела даже. Полковник Приходько встал, жестом показал, чтобы я сидела, а сам прошелся по комнате, поглядел на меня сбоку. — Вы за Сименона на меня не обижайтесь, Евгения Сергеевна. Сказал это совсем не в насмешку. Свои соображения вы изложили весьма связно и последовательно. И взволнованности вашей нечего вам стесняться. Она идет от увлеченности делом, а без этого у нас работать тоже нельзя. Вот только сокрушаться, что вы всего не предусмотрели, не нужно. Вы можете потерять уверенность, станете всего бояться, везде оглядываться, пребывать во всяческих сомнениях, будете топтаться на месте, вместо того чтобы идти вперед. Если говорить правду, то подобного резкого хода я от наших подопечных тоже не ожидал. Можно заключить, что этот ваш незнакомец, который прячется за спиной Аллаховой, играет ведущую роль в ее ансамбле, и грехов за ним поднакопилось порядочно, коли он пошел на такое… Да и вся группа Аллаховой предстает в новом свете. Полковник Приходько опять сел за стол, помолчал и добавил: — Если, конечно, принять за факт, что это — убийство. — Вы все еще сомневаетесь? — А вы так уж абсолютно в этом уверены? Ваш человек на лестнице может оказаться совершенно непричастным к тому, в чем мы его подозреваем. — Чего тогда ему нужно было в подъезде? — Мало ли чего, мы же не знаем. Случайный человек, пришел — ушел. Чтобы следователь мог занести наши подозрения в протокол, нужно доказать, что наш незнакомец побывал на квартире Бессоновой. — А звук закрывшегося замка? — То-то и оно, что это — единственное показание свидетельницы, которая могла и присочинить. — Зачем? — Хотя бы для занимательности. Разве вам не приходилось слышать, какие истории зачастую придумывают так называемые очевидцы, только что предупрежденные об ответственности за ложные показания? Человеку хочется сообщить что-то интересное, поэтому он и пускается на всяческие выдумки. Делать это любят не только рыбаки и охотники. О таких случаях я, конечно, знала, только сейчас не хотелось о них думать. Но и возразить мне тоже было нечего. Полковник Приходько сунул сигарету в пепельницу. — Следователю Заплатовой я о наших подозрениях все же намекнул, — продолжал полковник. — Вчера она вместе с экспертом вторично побывала на квартире Бессоновой. Специально ради этого. Отпечатки пальцев они уже не искали: если ваш мужчина там побывал, то, конечно, постарался их не оставлять. Но по воздуху ходить он, разумеется, не мог. Следов там нашлось достаточно, и техники, и слесари потоптались порядочно. Словом, сейчас там уголовный розыск разбирается, что и к чему. — Трудное дело. — Куда труднее. Даже если мы найдем доказательства, что ваш незнакомец заходил в квартиру Бессоновой. Подозрений против него, конечно, прибавится, но он может заявить, что кран не открывал. — Зачем тогда приходил? Полковник только взглянул на меня молча, и я поняла, что задала такой вопрос сгоряча, не подумав. — Дело усложняется тем, что сама-то Бессонова была в таком состоянии, что могла совершить любой неосознанный поступок. В том числе и кран открыть, и газ не зажечь. Словом, пока Уголовный розыск проверяет там следы, мы — ОБХСС — будем отыскивать свой след. Денежный. — Фактуру? — Да, фактуру № 895. Может быть, она нас к чему-то существенному и приведет. Тоже нелегкое дело. Очень много торговых и прочих точек снабжает Главный склад Торга. Где может объявиться эта фактура — один бог ведает. Тут я вспомнила про Саввушкина. Прошедшие события на время вытеснили у меня из памяти встречу с ним у Аллаховой, слова полковника напомнили о нем. — Ателье Горшвейпрома, говорите, — переспросил полковник. — Очень интересно. Хотя бы тем, что мы про Саввушкина пока еще не слыхали ничего…
ЛИЧНЫЙ РОЗЫСК
1
Валю Бессонову похоронили. Самый большой и самый красивый венок на могилу положила Аллахова. Я приглядывалась к ней украдкой и думала, что скорее всего именно она позвонила кому-то в тот вечер, сообщила о пьяной Вале… Но сейчас, применительно к обстоятельствам, лицо ее выражало скорбь, и больше ничего на нем прочесть я не могла. Близких родственников у Бессоновой не оказалось. По немногим письмам, найденным в квартире, узнали адрес ее сестры, проживающей в Саратове. Сестра приехала уже после похорон и первым делом заинтересовалась, когда может забрать вещи. Но квартира Вали пока оставалась опечатанной. Мальчик Леша летал где-то на Таймыре. Я послала туда телеграмму, наудачу, «на деревню дедушке», и телеграмма его нашла. Может быть, ничего здесь не было особенного и удивительного. Люди, разбросанные среди бескрайних ледовых пустынь, всегда знают друг о друге, знают, где и кто находится: жить иначе там нельзя. Леша прилетел сразу. Мы вместе сходили на могилу Вали, он положил на глинистый холмик букет белоснежных флоксов. Наверное, это была первая серьезная беда в жизни Леши, лицо его потеряло мальчишеское выражение, стало взрослым и суровым. Знаю по себе — взрослость приходит через страдание… Смерть Вали Бессоновой не прошла бесследно и для меня. Если раньше я порой испытывала неловкость от необходимости притворяться, кого-то выслеживать, то сейчас делала это с полной убежденностью, понимая, что другого пути к решению задачи у меня просто нет. Я находилась среди людей, которые были не только ворами, но которых можно было подозревать и в убийстве. Они могли украсть у общества не только деньги, но и человеческую жизнь. Я должна была подумать об этом раньше. Тогда, возможно, Валюша Бессонова была бы жива. Как бы ни были логичны утешения полковника Приходько, я обвиняла только себя и мучилась от ощущения своей вины. Я скрывала свое настроение, как могла, но на весь день меня не хватало. Петр Иваныч заметил это. Он не спрашивал меня ни о чем, только поглядывал участливо и заботливо. Не напрашивался на откровенность, но, наверное, обижался все-таки, что я скрытничаю. Поэтому, когда вскоре позвонил Борис Борисович и попросил прийти, я пошла без всякой радости. На этот раз полковник Приходько встретил меня еще в дверях. Вид у него был торжественный. С шутливой церемонностью он провел меня к столу, на котором стояли торт, видимо, только что купленный, и кофейник. Меня усадили за стол. Борис Борисович положил мне на тарелочку кусок торта. Полковник Приходько разлил кофе в чашечки. Поначалу я несколько растерялась от торжественности такой встречи, но потом сообразила. — Накладную нашли? — Прямо насквозь все видите, — сказал полковник. — Нашли, Евгения Сергеевна. Ухватили за кончик ниточку. А я от лица отдела выражаю вам благодарность. Неофициально, конечно, так как в приказе все равно пока ничего не напишешь. Мне было известно, что нужно отвечать при официальном объявлении благодарности, но я не знала, что говорить сейчас, поэтому сказала: «Спасибо!» и спросила: — У Саввушкина нашли? — В бухгалтерии комбината. Саввушкин только расписался, а на складе его ателье воротников из чернобурки нет. Проверили. Но по бухгалтерскому учету комбината фактура уже прошла. — А кто там главбух? — Некто Прокушев. — А может, он не знает, что фактура бестоварная, фальшивая. — Думаю, что знает. Уж очень смело Аллахова действует. Видимо, дорога эта проторенная и пользовались ею уже не раз. — Нельзя его понюхать, этого главбуха? — Понюхать? — На предмет одеколона. — Я его видел. Маленький, худенький — под ваше словесное описание не подходит. Притом молодой и в комбинате работает чуть более года. Следовательно, грехов накопить много еще не успел. А может, и вовсе безгрешен — и такое возможно. Решили пока дело не поднимать. Вы там очень хорошо устроились — может быть, и еще на кого выйдете. Честно говоря, ваш «человек на лестнице» меня тоже заинтересовал. Если он к Бессоновой шел, то зачем? На амурные дела не похоже. Вы говорили, что она своего летчика ждала? — Ждала, — подтвердила я. — По-настоящему. — Тогда этот ваш «человек» мог навестить Бессонову по подсказке Аллаховой. И ключ у него мог быть — дело прошлое. Но вот доказательств, что он у Бессоновой был, — у нас никаких нет. Уголовный розыск пока ничего там не нашел. — Да, — согласилась я. — Один только след и остался — запах «Шипра». — Понимаю вас, Евгения Сергеевна. Пока вы мне тут рассказывали, я так и чувствовал ваше желание проверить свою догадку до конца. — Очень хочу. Денежный след к нему нас не приведет. По другим следам идет уголовный розыск, и, как я понимаю, у них пока тоже не получается. Остается один след. — Ваш запах одеколона? — Да, запах «Шипра». Может быть, мне повезет, и я выйду на того человека, который нам нужен. — Знаете, мне нравится ваше стремление проверить догадку. Конечно, арестуй мы всю шайку, то ваш незнакомец — если он на самом деле виноват — насторожится. А прятаться он, как видно, умеет. И тогда отыскать его будет значительно труднее… — полковник помолчал, размышляя. — Что ж, Евгения Сергеевна, недельку мы можем подождать. Ищите. Никаких советов я давать вам не берусь. Вы сами, что называется, унюхали этот след, вам его и проверять. Поступайте по собственному усмотрению. Только вот что… мы с Борисом Борисовичем опять уедем, дней на пяток. Все по тому же маку, в Среднюю Азию. Вы останетесь здесь без нас. Поэтому будьте осторожны. Если ваши подозрения верны, то незнакомец с лестницы — человек решительный. Он, почувствовав слежку, поймет, что терять ему, по существу, уже нечего. Может пойти на все. Поэтому не рискуйте, дождитесь нас. А на всякий случай вот вам телефон моего заместителя подполковника Орлова. Запомнили номер? — Запомнила. — Вот и хорошо. Полковник улыбнулся мне по-отечески ласково: — Ну, мой милый Шерлок Холмс, ни пуха ни пера. Я промолчала. — Понимаю! Субординация не позволяет ответить, как положено, — усмехнулся полковник Приходько. — А любопытно все-таки, Борис Борисович! «Запах «Шипра»! Пожалуй, можно даже закодировать таким образом операцию по разыскиванию незнакомца на лестнице. «Запах «Шипра»! Так и просится в заглавие повести. Такое махрово-детективное заглавие, а? Даже у Сименона такого нет.
2
И я отправилась на поиски «человека на лестнице» по следу давно исчезнувшего запаха одеколона «Шипр». У Риты Петровны болелмуж, и это обстоятельство позволило мне планировать свой день по собственному усмотрению. Оставив склад на меня, Рита Петровна забегала к нам всего на час-другой. Все шло ладно, и я бессовестно использовала свое бесконтрольное положение. За два дня я обошла все отделы Торга, оба комбината, места, где работали Саввушкии и Колесов, несколько магазинов. Дважды у меня замирало сердце — до меня доносился знакомый запах, но это была ложная тревога — ничто не напоминало моего незнакомца. На третий день я зашла в ЦУМ, купила в парфюмерном отделе флакон «Шипра» за рубль тридцать пять копеек и начала «лабораторные исследования». Запах одеколона был резкий и грубый, мне не хотелось, чтобы Петр Иваныч обвинил бы меня еще и в вульгарном вкусе, поэтому все опыты я проводила тайком, в помещении склада, где всяких ароматов было более чем достаточно. Одеколон я прятала в старых ящиках, и там его случайно обнаружила Маша. Никто не признал находку своей собственностью, и Маша пустила ее в дело. Весь склад и наша «контора» немедленно наполнились пронзительным запахом, и я искренне сожалела, что не выбросила одеколон на помойку. Я установила, что запах «Шипра» резкий, но не стойкий, и в обычных условиях выветривается, исчезает за несколько часов. Я начала рассуждать: от моего незнакомца, когда я ночью наткнулась на него, пахло еще вполне отчетливо, значит, он пользовался одеколоном где-то к вечеру; все известные мне мужчины не употребляли одеколон просто так, перед выходом на улицу — как делают женщины, а применяли его обычно после бритья; как правило, мужчины бреются утром и в виде дополнения — вечером, скажем, перед походом в театр; вряд ли мой незнакомец направился к Бессоновой из театра, вернее всего, он был дома, куда ему и позвонили по телефону, и брился он дома, не специально, конечно, а по заведенной привычке, возможно, и утром брился тоже… такой аккуратный мужчина, два раза в день бреется, по-английски. Вот тут я вспомнила про мужа Марии Семеновны. Но он же пенсионер, торгует газетами? Хотя год-два тому назад еще работал… главным бухгалтером. Богатый холостяк, любитель женщин… Где же он торгует? Его киоск на улице Горской, кажется… Какой бы случайной ни была эта находка, следовало ее проверить. Хотя бы потому, что ничего другого мне не приходило в голову. Я села в троллейбус, проехала по мосту через Обь, выбралась на остановке «Горская». Обошла все киоски на улице и ничего интересного не обнаружила. Везде работали женщины, и на табличках, висевших на витринах, значились женские фамилии. Только один киоск, старенький, в стороне от улицы, оказался без продавца. На табличке значилось: «Г. Башко» — фамилия могла относиться как к мужчине, так и к женщине. Кто же этот киоскер? Он или она? На обратном пути я купила «Вечерку». Пока ехала в троллейбусе, просмотрела последнюю страницу и наткнулась там на коротенькую заметку-информацию под заголовком: «Осторожно — газ!» В заметке упоминался несчастный случай, происшедший на квартире молодого торгового работника В. Бессоновой. «Горгаз» призывал граждан к аккуратности при пользовании газовыми плитами… Я подумала, что заметка появилась, вероятно, не без подсказки моего полковника. Он стрелял сразу по двум зайцам. Если это на самом деле несчастный случай — упоминание о нем пойдет всем, кто пользуется газом, на пользу. Если верно мое предположение, то заметка может успокоить преступника, притупить его внимание… Дома я застала Максима. Он приехал из Ордынска на своем «Запорожце». Завтра предстоял выходной день. Максим привез с собой бутылочку, на этот раз коньяку. Я выпила рюмку за компанию, отказалась от второй под недоверчивое хмыканье Петра Иваныча. Максим остался у нас ночевать; он делал это и ранее, до меня, его раскладушка так и хранилась на балконе у Петра Иваныча. «Запорожец» ночевал на улице, под окном. Мы сидели на кухне втроем, плечо Максима касалось моего плеча, а я думала о Вале Бессоновой, о своих делах, и мне было холодно и неуютно. Я очень неуклюже отозвалась на шутку Петра Иваныча. — Извините меня, — сказала я. — Что-то мне сегодня не по себе. Может быть, мужчины пойдут смотреть телевизор, а я пока вымою посуду. — Вам помочь? — спросил Максим и с готовностью поднялся. — Что вы, не нужно. Мытье посуды — привилегия женщины. — Самокритичное утверждение, — заметил Петр Иваныч, — Максим, оставим «кесарево кесарю», а сами займемся высокими мужскими делами. Включим голубой экран. — Я подожду «кесаря», пойдем смотреть вместе. — Мой мальчик, в обращении с женщинами нельзя быть излишне великодушным, иначе — как при игре в шахматы — рискуешь проиграть… Поэтому уступай женщине только в автобусе, а в жизни свои права отстаивай отчаянно. — Я рискну, — сказал Максим. — Хорошо. Рыцаря нельзя оставлять одного. Я буду с тобой. Они поставили рядом табуретки, сидели и покуривали, а я занялась посудой. Наконец, я уронила стакан. — Разбила! — резюмировал Петр Иваныч. — Это — к счастью, — успокоил его Максим. — Вот я и говорю, мой любимый стакан. — Не будете смотреть под руку, — оправдывалась я. — Да мы и не смотрели! — возмутился Петр Иваныч — Максим, ну скажи. — Я смотрел, — признался Максим. — Ох, Максим, Максим! Попаду я с тобой в историю. Пока я собирала осколки стакана, Петр Иваныч взял «Вечерку» и тоже обратил внимание на заметку «Горгаза». Прочитал ее вслух. — Бессонова? — заинтересовался Максим. — Так я ее знал. Молодая женщина, кладовщик Главного склада Торга. — Ах, это из той самой истории, — сказал Петр Иваныч. Тут я вспомнила, что говорил о Максиме полковник Приходько, и навострила уши. Но Максим только отмахнулся: — Неинтересная история. Дела давно минувших дней… Потом мы смотрели по телевизору «Кинопанораму», а я размышляла, как заставить Максима разговориться.
3
Проснулась рано, но вставать не хотелось. Был выходной день, торопиться некуда. Услыхав разговор в соседней комнате, я догадалась, что мои рыцари тоже проснулись и не выходят из комнаты, ожидая, когда поднимусь я. Пришлось вставать. На кухне Петр Иваныч затарахтел кофейной мельницей, а я начала жарить гренки к кофе. За окном расходился пригожий осенний день. С тополей падали листья, поблескивая на солнце, как латунная чеканка. Петр Иваныч пытался наладить общий разговор, но мое хмурое настроение, видимо, передалось и Максиму. — Вот что, — заявил Петр Иваныч, — смотреть мне на вас тошно. Не уберетесь ли вы с моих глаз куда подальше? На лоно матери-природы. Рысак у крыльца. — А что, — оживился Максим. — Поехали ко мне, Евгения Сергеевна. — Далеко. — Пустяк, сто километров — два часа ходу. Дочку мою посмотрите. На море заедем. — А вы, Петр Иваныч, не хотите? — Вам нужна горничная, не решаетесь одна ехать с молодым мужчиной? — Да ну вас! — Вот именно! Поезжайте. Только ты, Максим, у меня смотри. Я тебя знаю. — Вы о чем? — заинтересовалась я. — Лихач он, водитель-любитель. Женя, вы его придерживайте. — А он мне порулить даст? — Конечно! — сказал Максим. Мое водительское удостоверение было выдано на прежнюю «замужнюю» фамилию и лежало в сейфе полковника. Петр Иваныч только всплеснул руками: — И она тоже! Господи, в руки твои вручаю… Пожевать захватите чего-либо. — Не нужно, — отрезал Максим. — У меня дома пообедаем. Сборы были недолгими, я облачилась в свои студенческие джинсы, накинула куртку. Мы спустились к машине. Две молодые женщины с продуктовыми сумками, проходя мимо, посмотрели на нас откровенно насмешливо. Я поняла их, как только увидела правую дверку. На вишневой эмали было нацарапано коротенькое словцо. Максим тоже взглянул и смущенно присвистнул: — Черти ребятишки, напакостили-таки. Вот, научили деток грамоте. Не ехать же так. — Может быть, заклеить? На дверях подъезда висел рекламный плакатик: улыбающаяся девушка в пилотке предлагала всем летать только самолетами «Аэрофлота». Максим вырезал из плаката картинку, налепил ее на дверку, и «Запорожец» сразу приобрел залихватский вид. — Ваша фамилия не Козлевич?-спросила я. — Садитесь, — пригласил Максим. — Эх, прокачу! Или он внял совету Петра Иваныча, или тот наговаривал на него, но по городу мы проехали спокойно. На улице Горской я запоздало вспомнила про газетный киоск, обернулась, когда проехали. — Вы что? — Так, показалось, что знакомого увидела. На загородном шоссе мы проскочили под транспарантом «Счастливого пути!» и завернули к бензозаправочной станции. Возле колонки стояла небольшая очередь: два «Москвича» и «Волга» с шашечками. Максим пристроился сбоку и пошел к стеклянной будке раздатчицы. Возле «Волги» стояли двое. Мужчина с золотым зубом и пухлым лицом, видимо, был сам шофер-таксист. Он внимательно осмотрел меня и сказал своему спутнику: — В лесок поехала. И прибавил несколько слов, поясняя, зачем возят в лесок таких, как я. — Тише ты! — урезонил его собеседник. — А пусть слушает. — Может, это его жена. — Ну нет. Я, брат, вижу уже, кто жена, а кто не жена. Сколько я их сам перевозил. Он сплюнул и повернулся ко мне спиной, продолжая объяснять собеседнику, кто я такая. Мне сразу стало жарко. Я вздохнула глубоко, пытаясь унять закипающую злость, и не смогла. Быстро передвинулась на водительское место, выжала педаль сцепления, включила скорость и повернула ключ зажигания. Мотор взревел сразу, я отпустила педаль, бросив машину рывком вперед. Шофер обернулся, хотел отскочить в сторону, запнулся за бампер надвигающегося «Запорожца» и повалился на капот, цепляясь пальцами за облицовку. Пухлое лицо его побелело от испуга. Я нажала на тормоз, машина послушно остановилась сразу. Шофер сполз с облицовки и направился ко мне. Не знаю, что он собирался делать, но на его пути встал подоспевший Максим. Он был настроен мирно, не зная причины наезда. Возможно, объяснил это моей неловкостью. Шофер размахивал руками и кричал. Вытащил из кармана блокнот, начал записывать наш номер, призывать соседей в свидетели. Тут водитель «Москвича» выбрался из своей машины, подошел к таксисту, выдернул из его рук блокнот и сунул ему обратно в карман. — Спрячь свои протоколы, не то мне тоже придется составлять — только не на нее… Он выразительно посмотрел на шофера, тот сразу притих, забрался в свою «Волгу» и уж больше не вылезал из нее. Максим не стал меня ни расспрашивать, ни шутить. Сел рядом, положил свою руку на мою и успокаивающе кивнул. Я хотела ему улыбнуться, но у меня не получилось. Заправившись, мы опять выехали на шоссе. Максим предложил мне свое место, попробовать «Запорожца». — Хватит, — отказалась я. — Уже попробовала. Перед самым Ордынском нас остановил инспектор ГАИ. Это оказался знакомый Максима из местного управления милиции. Он ничего не стал проверять, только взглянул на меня, дружески кивнул Максиму и махнул полосатой палочкой. Дочь свою Максим называл Аленкой. Она без всякой робости протянула мне ручку и внимательно разглядывала меня за обедом. Сестре Максима было лет за сорок, она тоже приглядывалась ко мне украдкой — любая женщина возле ее брата могла стать и ее будущей родственницей. Я с удовольствием посидела на веранде, заплетенной вьюнком, покачалась в качалке, и мы поехали домой. Возле дорожного указателя «с. Шарап» Максим свернул с шоссе. — На море поглядим. Место хорошее. Машин, правда, бывает много, но ничего, весь берег не займут. Мимо базы рыболовов и охотников мы выехали на пологий мыс, далеко вдавшийся в море. Рос мелкий ельник и березняк. Южный ветер гнал на берег крутую прибойную волну.
4
Максим вытащил из багажника холщовый половичок, расстелил его возле березок. Было совсем не тепло, но он решил искупаться. Дно опускалось отлого, ему пришлось долго брести против волны. Мне тоже захотелось побродить, я стянула джинсы и зашла в воду. Волны сильно били в колени. Потом Максим выбрался на берег, развел небольшой костерок и растянулся возле него. Я удобно привалилась к пеньку, подбрасывая в огонь сосновые шишки, они топорщились и трещали. В лицо попахивало дымком, и, когда я закрыла глаза, в окружающем мире все показалось мне тихим и покойным… — Максим, о какой истории вспоминал вчера Петр Иваныч? Он сломал сухую веточку, бросил в огонь. Ему явно не хотелось начинать разговор на эту тему, но мне нужно было знать. Я ждала. — Обыкновенная история, — сказал он наконец. — Хрестоматийная басня о торжестве хитрой кривды над простоватой правдой. Как один журналист — усердный, но в житейском отношении неопытный — случайно наткнулся на факты, из которых мог заключить, что некоторые торговые работники живут явно не по средствам. Он решил, как говорится, сделать свои наблюдения достоянием общественности и написал злой фельетон. На его несчастье, фельетон так понравился главному редактору, что сразу его напечатали. Торговое начальство, защищая «честь мундира», тут же создало ревизионную комиссию. Пригласили специалиста-ревизора, со стороны. И ничего не нашли. Мои факты не подтвердились. Автор фельетона, решила комиссия, субъективен. Все было сделано ловко и внешне вполне убедительно. Газете пришлось извиниться. Ну, а журналисту крепко дали по шее. За клевету. — Понятно. — Куда понятнее. В нашем журналистском деле субъективность — вещь опасная. — В нашем — тоже. — В каком — вашем? — В торговом, разумеется, — спохватилась я. — Только рубли-копейки, больше никаких фантазий. — Да, рубли-копейки… Кстати, почему вы пошли в торговлю? — А что? — По-моему, неподходящее для вас занятие. — А чем мне надо бы заниматься, по-вашему? — Ну, хотя бы исследовательской работой. — Хорошо, приму как комплимент. На обратном пути Максим включил приемник, настроился на чей-то концерт, его нам хватило почти до самого города. Мы опять выехали на улицу Горскую. Теперь я была уже настороже, еще издали заметила не обследованный мною киоск. На этот раз в нем кто-то сидел. — Максим, остановитесь, пожалуйста. Я куплю «Смену» Петру Иванычу. Совершенно не пойму почему, но я вдруг разволновалась. Даже забыла, как открывается дверка у машины, и бестолково задергала ручку. Максим открыл дверку сам. Пока шла к киоску, постаралась приглушить свое непонятное беспокойство. Возле киоска стояла женщина и выбирала поздравительные открытки. Киоскер был мужчина. Он разговаривал с покупательницей, и я могла его не спеша разглядеть. Крупными чертами лица он напоминал римского императора на рисунке в школьном учебнике по древней истории. Крепкий, упитанный, лет пятидесяти на вид. Выражение лица его было мягким и приветливым — на злодея он не походил. Над стеклом витрины по-прежнему висела табличка: «Киоскер — Г. Башков, с 11 до 8 час.» Оказывается, Башков, а не Башко, — когда я впервые увидела табличку, последняя буква фамилии была закрыта уголком журнала «За рулем». Сейчас цветная обложка не мешала прочесть фамилию полностью. Женщина расплатилась и ушла. Я нагнулась к окошечку, сильно потянула носом… и ничего не почуяла. Г. Башков смотрел на меня вопросительно. — «Смену», пожалуйста! Он задумчиво повел взглядом по полке — на витрине журнала не было, еще раз взглянул на меня и решительным жестом вытянул из-под прилавка портфель, порылся в нем и достал «Смену». Значит, он отобрал какие-то журналы для себя и вот уступил один из них мне. Я только успела положить на тарелочку двадцать копеек, как тут же к окошечку протиснулась пара юных филателистов и потребовала кубинских марок. Я сказала «Спасибо!» и вернулась к машине. Запоздало спохватилась, что не заговорила с киоскером, но уже не было ни уверенности, ни настроения возвращаться. Максим тронул машину. — Чем вы расстроены? — спросил он. — Разве?… Не знаю. Может быть, просто устала на воздухе. — Вы знаете этого киоскера? — Первый раз вижу. Почему вы спросили? — Вы так внимательно его рассматривали. Тут мне нечего было возразить. — А вот я его знаю. Максим замолчал. А я уставилась на него, мне нужно было, чтобы он продолжал, но и просить его об этом не хотелось. Из бокового проезда с визгом выскочила «Аварийная». Максим тормознул резко, я сунулась носом в ветровое стекло. — Извините, — сказал Максим. Я свернула журнал в трубку… принюхалась к нему, потом еще раз. Максим взглянул вопросительно. — Странно пахнет типографская краска. Мне нужно было убедиться, я поднесла журнал к его лицу. Максим понюхал тоже. — По-моему, это не краска. Скорее — духи. Или одеколон. Я опустила журнал на колени. — А кто этот киоскер? — Бывший бухгалтер комбината. Он был экспертом-ревизором в комиссии, которая проверяла факты моего фельетона. Максим высадил меня у подъезда. Сам он заходить не стал, а только помахал Петру Иванычу, который увидел нас с балкона, и уехал. Я медленно поднималась по лестнице. То и дело подносила «Смену» к лицу, принюхивалась к ней. И хотя уже не могла разобрать, пахло ли чем-то от обложки, но была уверена, что свой «запах "Шипра"» я нашла.
5
Петр Иваныч встретил меня у дверей. — Что-то долго поднимались. Устали, наверное? — Нет, задумалась. — Есть над чем? — Кто знает… Вот вам «Смена» с задачками. — Спасибо. А вам звонили. — Мужчина, надеюсь? — К сожалению, женщина. Но пьяная. — От нее пахло? — Не знаю. Она говорила вот так… Петр Иваныч довольно точно воспроизвел интонации голоса Аллаховой. Я решила позвонить ей утром из автомата. Вечер у меня прошел в размышлениях. Я вышла на запах «Шипра», но не почувствовала уверенности, что Г. Башков — тот человек, которого я ищу. Его открытое добропорядочное лицо, его улыбка, словом, весь его облик никак не увязывался у меня с мыслью, что этот человек мог открыть кран газовой плиты и уйти, оставив Валю Бессонову задыхаться в газовом чаду. Я знала, что каждый следователь обычно приглядывается к внешности своего подследственного. Старается догадаться, что же он представляет собой на самом деле в отличие или в подтверждение того, что о себе говорит. Нигде и никому так много не врут, как следователю. И мало кому другому так важно суметь отличить правду от лжи. Вот здесь и может помочь та самая интуиция, о которой подполковник Свиридов говорил, что она должна помогать следователю находить факты, но не заменять их. Когда я смотрела в глаза Г. Башкову, моя интуиция не подсказывала мне ничего. Чтобы убедиться в чем-то, мне придется встретиться, мне необходимо еще раз встретиться с Г. Башковым… В одном у меня не было сомнения, что он второй муж Марии Семеновны. А если это так, можно надеяться, что интерес к женщинам у него еще не угас. На этом интересе я и решила построить свой расчет…
Утром я позвонила Аллаховой. — Куда вы исчезли?— спросила она. — Тут мы соскучились без вас. Да и Валюшу надо бы помянуть… — Конечно, — поддержала я. В таких случаях удобно говорить по телефону, собеседник не видит твоего лица. — Приходите ко мне завтра после работы. На склад. — Обязательно буду. Вечером я начала готовиться к свиданию с киоскером с улицы Горской. Надо было подумать о внешности, сделать ее внушающей надежды… Не рассчитывая на лицо, я решила выразить эту мысль дополнительными средствами — примерила свое самое нарядное платье, оно показалось мне излишне длинным, и я укоротила его на ладонь. Чтобы придать себе студенческий облик, пришлось захватить старый портфельчик. Он плохо подходил к новому платью, но я начистила его сапожной щеткой, он приобрел вполне приличный вид. Сверху я надела плащ, застегнула его на все пуговицы, а когда прибыла на склад, то постаралась незаметно переодеться в рабочий халат. Мне не хотелось, чтобы у Риты Петровны при виде моей броской внешности возникли какие-то дополнительные вопросы.
На остановку «Горская» я приехала к одиннадцати часам, — Рита Петровна отпустила меня «по студенческим делам». В гардеробной Торгового института я сняла плащ — день был сравнительно теплый, а заведение Г. Башкова находилось неподалеку. Перед зеркалом в вестибюле слегка растрепала волосы, достала из портфельчика темные очки. Вызывающей походкой спустилась по лестнице на улицу. Встречные студенты сразу обратили на меня внимание — значит, моя внешность соответствовала задуманному. Ещё издали я заметила римско-императорский профиль за стеклами киоска. На этот раз мне не нужно было прятаться, наоборот, я хотела, чтобы меня как следует разглядели. И Башков сразу обратил на меня внимание. Мои глаза были скрыты за темными очками, он не видел, куда смотрю я, но я видела, куда смотрит он, — характеристика, данная ему Марией Семеновной, подтверждалась. Я наклонилась к окошечку: — Скажите, пожалуйста… Я слегка протянула звук «а», считая, что такой подчеркнутый «московский акцент» привлечет ко мне внимание собеседника. Все было продумано заранее — и туалет, и поведение. Не было только режиссера, который мог бы все заранее прослушать и просмотреть. Пришлось положиться на внутреннее чутье. Башков вряд ли узнал во мне вчерашнюю посетительницу, темные очки закрывали пол-лица, да и одежда на мне была совсем не та. Я видела совсем близко его серые, чуть навыкате, глаза, и сейчас они мне показались уже не такими добрыми. — Я вас слушаю!— сказал он. Да! Это был тот самый голос… Я ожидала его услышать, но тем не менее смешалась, с трудом справилась с волнением. — У вас бывает чехословацкая «Фотография»? — Уже была. К сожалению, — вся продана. — Обидно. Я надеялась… — Мало получаем, всего три экземпляра. А спрос — сами понимаете. Вы — фотограф? — Что вы. Просто любительница. В «Фотографии» попадаются занятные снимки. — Да, — согласился Г. Башков, — там часто попадаются интересные сюжеты. Весьма сожалею, но… К киоску подошел молодой человек в вельветовой куртке с кожаными наплечниками, хмуро и вопросительно уставился на меня. Я отстранилась от окошечка, и Г. Башков сказал: — Подождите минутку… Молодой человек потребовал «Советский спорт», долго выскребал из кошелька копейки, потом еще раз осмотрел меня уже более снисходительно — и пошел к троллейбусной остановке. Г. Башков снова повернулся ко мне: — Если вы так интересуетесь, пожалуй, я принесу вам последний номер. Оставил его для себя. — Право, боюсь вас затруднять… — Пустое, чего ж там. Могу принести даже два номера, у меня сохранился и предыдущий. Я посмотрела на него более внимательно, как бы впервые увидев в нем мужчину, а не безликого продавца газетного киоска. Это была дешевая игра, но здесь можно было не бояться пересолить. Я надеялась, что стареющий донжуан примет желаемое за возможное. — Хотя бы завтра, — предложил он. — Завтра не могу. — Я боялась ненужной поспешностью выдать свою радость и желание новой встречи. — Давайте послезавтра. У меня как раз консультация, в институте. — Вы учитесь? — Да, здесь, в Торговом. — Так мы с вами коллеги. Тем более, я обязан… Разговор некоторое время продолжался в таком тоне, затем я кивнула ему приветливо и ушла неторопливой походкой роковой соблазнительницы мужчин пенсионного возраста. Мне даже не нужно было оборачиваться, чтобы убедиться, как он смотрит мне вслед. В вестибюле института я опять надела свой плащ. Троллейбус медленно полз по мосту через Обь. Я сидела возле окна и глядела сверху на светлую осеннюю воду. Итак, Башков! Бывший главный бухгалтер комбината «Горшвейпром». Очевидно, при нем начала работать фирма Аллаховой, и он, уходя на пенсию, передал свой опыт и налаженное им «дело» новому бухгалтеру, совсем молодому, который тем не менее оказался способным учеником. Я понимала — когда начнется следствие, всплывут многие подложные документы. Многие, но не все. Старые фактуры, к которым приложил руку Г. Башков, могли и затеряться среди сотен настоящих документов. Фальшивые проводки в бухгалтерских книгах трудно обнаружить, если не знаешь заранее, где искать. О многом могла бы рассказать Валя Бессонова, но она уже не скажет ничего. Живые участники шайки Аллаховой, связанные круговой порукой, будут помалкивать на допросах о своих старых грехах. И имя бывшего главного бухгалтера комбината может так и не появиться в материалах следствия. Г. Башков выйдет сухим из воды. Рассуждая не как работник милиции, а просто по-человечески, я могла бы примириться с мыслью, что Г. Башков уйдет от наказания как вор. Вреда он больше уже не принесет, ну и черт с ним! Пусть доживает свой век под подозрением, хотя и без наказания. Но он — тот самый человек, с которым я встретилась возле дверей Вали Бессоновой, и, возможно, он виновен в еще более тяжком преступлении. Вот только доказательств у меня нет. Я обязана, я должна отыскать эти доказательства. Если они есть. А если они есть, то найти их можно только в непосредственной близости от Г. Башкова… На складе меня уже поджидала Рита Петровна с целым ворохом накладных. Во дворе стояла машина. Маша ворочала фанерные ящики.
6
К Аллаховой я поехала сразу после работы. Заранее зная, что там придется пить, я наведалась в «свое» кафе. Оно оказалось закрытым. Никаких объяснений на дверях не было. А есть мне хотелось. Я спустилась с крыльца, решив подкрепиться в бутербродной ближнего гастронома. В это время двери Главного склада открылись и в просвете пронзительно заголубел знакомый джемпер продавщицы. Она была не одна. Ее провожала Аллахова. «Вот оно как!» — запоздало сообразила я. Мне очень хотелось послушать, о чем они говорят, но я побоялась, что меня заметят, и быстро отступила за угол. Там и стояла, пока по крыльцу не простучали каблучки и на дверях не звякнул отпираемый замок. Как же я не подумала об этом раньше? Теперь поздно было сокрушаться. Буфетчица кафе, из окон которого я так внимательно наблюдала за дверями Главного склада, оказалась знакомой Аллаховой. Хорошей знакомой — случайных знакомых не провожают до дверей. Мне оставалось только проверить свои подозрения. Я вошла в кафе, неторопливо просмотрела меню. Кроме меня и буфетчицы, не было никого. Я взяла беляши и стакан кофе и пошла на свое место, возле окна. На этот раз я уже не смотрела на двери склада. Усердно жевала беляши и рассеянно поглядывала по сторонам, не выпуская из виду прилавок и буфетчицу. Буфетчица тайком наблюдала за мною, хотя это у нее получалось неважно — слишком заметно. Как давно она начала следить за мной? Вывод напрашивался один. Я сама была столь неосторожна, что в конце концов привлекла внимание буфетчицы. Она заподозрила что-то неладное и, вероятно, уже сообщила об этом Аллаховой. Плохо ты работаешь, товарищ инспектор ОБХСС! Отступать было некуда. Да и незачем. Конечно, теперь они могут насторожиться. Но фальшивая фактура уже лежит в сейфе полковника Приходько. А мне нужно идти на сближение с противником. Ничего нового они обо мне не узнают, а у меня остается еще много нерешенных вопросов. Хотя бы о связи Аллаховой и Г. Башкова. Я направилась к складу. Чтобы увидеть, куда я пошла, буфетчице нужно было выйти из-за прилавка. Возле дверей склада я быстро обернулась и заметила за окном, возле которого только что стояла, ее лицо. Аллахова встретила меня приветливо, как всегда, без тени сомнения или подозрительности. Я извинилась за опоздание и сказала, что мне нужно позвонить домой. Аллахова пододвинула телефон. Я набрала номер, зная, что мне никто не ответит, потом опустила трубку на рычаг, не выпуская ее из руки. Тут телефон зазвонил, я как бы машинально поднесла трубку к уху и услыхала голос буфетчицы. Я сразу узнала ее, как только она произнесла: «Светлана Павловна?» Мне так хотелось ответить: «Да!» — и послушать ее сообщение, но Аллахова уже протянула руку к трубке. — Позвоните мне потом! — она положила трубку. — Я думала, опять Олег Владимирович. Он уже звонил, что не придет. Неприятности у него, — Надеюсь, ничего серьезного? — Я тоже надеюсь. Тут появилась Тиунова, а вместе с ней неизвестная мне женщина неопределенного возраста. Оказалось — новая кладовщица вместо Бессоновой. — А вот наша Лиза-Лизавета! — представила ее Аллахова. Глазки у Лизаветы были юркие, мышиные. Одета она была в бумажный свитер, мятую юбку и старые сапоги. Но курила сигареты «Советский Союз», а в ушах носила серьги, похоже, с настоящими бриллиантами. Стакан с коньяком Лизавета — мне все время ее хотелось называть Лисаветой — держала двумя пальчиками… Опять мне пришлось пить. Поминать Валю Бессонову с виновниками ее гибели. Но под действием коньяка все разговорились, а у Лизаветы язык был подвешен хорошо, и быть в центре внимания она хотела. Аллахова слушала со снисходительной внимательностью. Я приглядывалась к ней, но если она в чем-то и подозревала меня, то это решительно никак не проявлялось. Она даже меньше обращала на меня внимания, нежели прежде. Как могло получиться, думала я про Аллахову, что эта неглупая, сильная женщина выбрала в жизни такой скользкий и рискованный путь. Так же, как и мы, она училась в советской школе. Наверное, была пионеркой, комсомолкой, писала сочинения о любви, о дружбе, о честности. И вот, окончив школу, молодая девушка попала в торговую сеть. Запаса школьных убеждений не хватило, чтобы противостоять появившимся соблазнам. Дорогие вещи, «легкая жизнь», ощущение своей власти и значительности… а все остальное показалось ненужным и наивным, как первая девчоночья любовь. Лизавета, прихлебывая из стакана коньяк, рассказывала, что случилось с ее приятельницей. История выглядела такой непотребной и грязной, что у меня возникло мерзкое ощущение, будто меня окунули в помои. — Так я же знаю эту Фролову. Замужем она сейчас. Когда такое с ней могло случиться? — удивилась Аллахова. — Это еще при дяде Гоше, — пояснила Тиунова. Вот только здесь Аллахова бросила на меня быстрый вопросительный взгляд — слышала ли я? Но я удачно занялась своей рюмкой. Дядя Гоша! Мой знакомый с улицы Горской именуется Гошей. Г. Башков… Однако пора было уходить, чтобы Аллахова убедилась: пьяная болтливость собравшихся нисколько не интересует меня. Я уже собралась прощаться, когда Аллахова обошла кругом стол, присела рядом на диван и обняла меня за плечи. — А что же наша скромница сидит молча, а? Как идут ваши дела, Евгения Сергеевна? Расскажите нам что-нибудь. — Нечего и рассказывать, Светлана Павловна. День за днем. Акты, накладные. Принимаем, отправляем. Знакомых пока нет. Бываю только у вас, тут лишь душой и отдыхаю… — Знакомых нет? Такая интересная женщина… Замуж вас нужно выдать. — Так за чем дело стало, — подхватила Лизавета. Я попрощалась со всеми. Больше меня не задерживали. — Заходите! — сказала Аллахова. Я доехала на трамвае до цирка, с полчаса посидела на скамье в сквере, затем выпила в «Домашней кухне» черный кофе. Весь вечер старалась не дышать в сторону Петра Иваныча, и, кажется, он ничего не заметил.
7
И в этот раз на встречу с Г. Башковым я тоже отправилась из вестибюля Торгового института. Опять на мне было красное платье, только плащ я решила не снимать, на улице было холодно и сыро.Очки надевать не стала, а пустила в ход черный карандаш. Молоденькая студенточка, занимавшаяся перед зеркалом тем же, чем и я, оглядела меня со вниманием, даже с завистью. У нее были чистые целомудренные глазки, и она тщетно пыталась придать им противоположное выражение… Г. Башков разглядел меня еще издали. Он тут же закрыл окошко картонкой с надписью: «Ушел на базу», — и, надев плащ, вышел из киоска. — Здравствуйте! — он двумя оборотами ключа запер дверь. — Извините, я не сумел выполнить обещание. Задержался в нашем Торге. Но журналы приготовил. Они у меня дома, я живу здесь рядом. Зайдемте! — Не знаю… — начала я. — Удобно ли? — А чего ж, живу один — никому вы не можете помешать Наоборот, лично я буду считать за честь, если вы посетите меня. Считать за честь! В книгах такое я встречала, но в жизни ко мне никто еще так изысканно не обращался. Это была игра в хорошие манеры, один из способов обработки отзывчивых женских сердец. Коренастый и крепкий, он двигался энергично, и сейчас я могла бы сбросить ему еще лет пяток, дополнительно к тем десяти, которые сбросила при первой встрече. — Я думаю, — продолжал он, — можно пренебречь некоторыми условностями. Меня некому представить. Разрешите сделать это самому. Георгий Ефимович Башков. Конечно — Георгий, дядя Гоша!… После этаких китайских церемоний мы пошли рядом. Он уверенно поддерживал меня под локоть, когда нужно было перешагнуть поребрик, и мне уже нетрудно было представить, как эта рука столь же уверенно открыла кран газовой плиты… По дороге Башков завел разговор о мужском одиночестве, о том, как только с годами начинаешь понимать, что стоят дружба и близость другого человека… и так далее, и в том же роде. Говорил он умело — это была все та же игра в хорошие манеры. «Русские девушки любят разговорчивых!» — в свое время заявил Тургенев, в этом отношении методы мало изменились с тех пор. Г. Башков сделал такой вывод, очевидно, на основании собственного опыта. Гладкость его монолога заставляла думать, что он повторял его уже не один раз. До девятиэтажки, где он жил, мы дошли за несколько минут. Лифт поднял нас на пятый этаж. — Разрешите! Он достал из кармана большой ключ от «кассового» замка. Мы вошли в маленькую переднюю однокомнатной квартиры. Он помог мне снять плащ. Большую комнату заполнял рижский гарнитур. Стояла в углу широкая поролоновая тахта, полированный журнальный столик, видимо, при необходимости заменяющий и обеденный стол. В серванте одну полку занимали книги. Это была комната привыкшего к достатку холостяка, которого посещают женщины. Над сервантом отличная фотография — снимок с фарфоровой купальщицы. Красивое зеркало в резной рамке. На серванте терракотовые статуэтки, фигурки из цветного стекла. Тут же отличный чешский телефон. За стеклом серванта электробритва в футляре и… флакон одеколона «Шипр». Г. Башков посмотрел в ту же сторону, я сразу переключила внимание на фотографию. — Хороший снимок со статуи. — Почему вы не допускаете, что это с натуры? — Слишком много совершенства. Он подвинул к столику кресло. Поставил передо мной деревянную резную избушку — коробку с сигаретами. — Сам не курю. — Я - тоже. — Тогда, может быть, кофе или коньяк? — Лучше — кофе. Он ушел на кухню, побрякал там посудой, вернулся. — У вас отличная квартира. — Да, кооперативная. Одна комната, к сожалению. Когда-то жили в большой квартире. Остался один, разменял квартиру на две, одну отдал сыну. — У вас здесь сын? — Да, взрослый. Уже инженер. Шалопай, знаете, ужасный. — Семейный? — Вроде бы семейный. Разве у вас, молодежи, сейчас что поймешь. Живет с какой-то студенткой, рыжая такая девица. А в загсе, как я знаю, не регистрировались. Так кто она ему: жена или временная подруга, разберись поди. Вот ваши журналы. Я достала из портфельчика деньги. Г. Башков поднял руки в шутливом протесте. И хотя от подарков не принято отказываться, но я решила не придерживаться правил хорошего тона. — Неудобно, знаете. Будто я напросилась на подарок. Он взял деньги, положил их на сервант. — Извините, пойду насчет кофе… — Можно, я ваши книги посмотрю? — Пожалуйста, ради бога. Только там все более специальные, бухгалтерские. Г. Башков удалился на кухню. Знакомо завыла кофейная мельница. Я подошла к серванту, отодвинула стеклянную дверку. Пробежала взглядом по корешкам, заметила в сторонке знакомый желто-оранжевый переплет, вытянула книгу. Так и есть — «Желтый пес» Сименона. Ах, комиссар Мегрэ! Мне бы сейчас ваши возможности. Да и способности тоже. Что бы вы делали на моем месте, комиссар Мегрэ? Искали бы доказательства. Я тоже пытаюсь это сделать. На полке, кроме книг, ничего не было. Я заглянула на вторую, нижнюю полку. Там стояли фужеры, блюдечки — посуда. В углу приютилась черная палехская коробочка, с тройкой огненно-красных коней на крышке. В таких коробочках обычно хранят всяческую мелочь, которая не нужна сейчас, но и выбросить вроде бы жалко — старые пуговицы, разрозненные запонки, ключи от потерянных замков — вдруг понадобятся. Я сунула Сименона под мышку и взяла коробочку. В коробочке лежали разные пуговицы, запонка и две игральные кости — черные кубики с белыми пятнышками. Я шевельнула пуговицы пальцем. Неожиданно в передней резко забрякал звонок. Я вздрогнула, будто меня застали за таким неблаговидным занятием, как осмотр чужих вещей. Коробка выскользнула из рук. Я успела удержать ее, но все содержимое посыпалось на пол. Веселый хрипловатый голос громко закричал в передней: «Здравствуй, папуля! Как у тебя…» Затем крик перешел в приглушенный шепот. Я нагнулась и начала собирать рассыпавшиеся пуговицы. И тут увидела маленький желтенький ключик от американского замка. Он лежал среди пуговиц на полу. Но я не успела его поднять. В комнату вошел Башков. Он поставил на стол подносик с чашками. — Вот, напроказила, — извинилась я. — Понравились мне эти кони на крышке, хотела посмотреть. — Пустяки какие. Сейчас соберем. Ключ лежал у самых ног хозяина, Башков поднял его в первую очередь, я так и не успела как следует рассмотреть. А в дверях уже появился молодой человек; невысокий, черноволосый, с тем же римско-императорским профилем. Конечно, это был Башков-сын. Башков-отец ссыпал пуговицы в коробочку. — Знакомьтесь, Евгения Сергеевна! Легок на помине. Башков-сын шагнул ко мне, протянул руку. В улыбке его лицо показалось даже приятным. — Мы с вами нигде не встречались? — спросил он. — Вероятно, нет. А то бы я запомнила. Башков-сын коротко хохотнул, давая понять, что понимает шутки, и выпустил, наконец, мою руку. Подтащил к столику две мягкие табуреточки, для отца и для себя. Мне предложили кресло. Пока Башков-отец ставил чашки с подносика на стол, сынок продолжал разглядывать меня. Он, должно быть, знал, что к его отцу временами залетают подобные птицы, и сейчас не удивился этому. — Евгения Сергеевна интересуется художественной фотографией, — пояснил отец. — Я предложил ей свои журналы. Башков-сын взял с тахты журналы, полистал их. — Вы не фотокорреспондент?— спросил он. — Разве похожа? — Совсем не похожи. Поэтому и спросил. Но вы снимаете? — Больше люблю смотреть чужие снимки. — А сами сниматься любите? Я сделала неопределенный жест, но отделаться от него было не так просто. — А как вы хотели бы сняться? Вот так?… Или так?… Он показал на страницу журнала. Это были снимки девушек на речном берегу, хорошие снимки — юные тела девушек, одетые только в капли воды, были прекрасны. Это были на самом деле художественные фотографии, просто Башков-сын не желал этого понять. Вел он себя бесцеремонно да и чего ему было стесняться посетительниц его отца. Отец, для приличия, пришел ко мне на защиту. — Послушай, сынок, по-моему, ты хамишь! — Что ты, отче! Евгения Сергеевна, разве я хамлю? — Нет, почему же, — сказала я. — Вполне естественные вопросы в вашем возрасте. — Вот видишь, отец! В моем возрасте… Ну, а все же так? Или вот так? — Вероятно, это будет зависеть от того, кто будет снимать. — А если бы я? — У вас я снималась бы только в шубе. Башков легонько похлопал в ладоши: — Хорошо сказали. Сынок, ты — пас. Но Башков-сын не унимался. — Вы работаете в школе? — Почему — в школе? — Внешность у вас такая, педагогическая. Надо же! И этот шалопай напоминает мне о внешности. Зря я отказалась от своей «линии поведения» и не согласилась на коньяк… — Нет, я торговый работник. — Неужели? Никак не походите. И это тоже умеете? Он поцарапал пальцами по столу, как бы подгребая к себе что-то. Жест был красноречивым, но вопрос наглый, конечно. Тут Башков-старший решительно вмешался в разговор: — Болтаешь ты ерунду всякую. Как старуха, ей-богу!… Сходи лучше кофе принеси. — Мне не нужно, — отказалась я. — Я тоже не хочу, отец. Вот коньячку бы… — Какой тебе коньячок, ты же на машине. — То-то, что на машине… Так я жду, отче! Тороплюсь, знаешь. Мне еще за женой заехать нужно. — За женой… Подождет она, твоя жена. Вот сынок, Евгения Сергеевна! Инженер, да еще старший, а думаете, зачем приехал к отцу-пенсионеру? — Отче, дай десятку, — предположила я. — Что вы, Евгения Сергеевна! — оскорбился Башков-сын. — Не угадали, — подтвердил отец. — Он сказал: «Дай четвертную!» Куда тебе четвертную, хватит три шестьдесят две? — Отче, ты меня оскорбляешь перед дамой. Башков-отец поднял с тахты пиджак, вынул бумажник. — Высшее образование, оклад полтораста рублей. — Сто тридцать пять всего. — А у меня пенсия. — Отец, не нужно про пенсию! Ты когда уезжать собираешься? Уезжать?… Это была неприятная новость для меня. Неужели что-то почуял старый хищник и подумывает уносить ноги заблаговременно? — Да ничего еще не собираюсь, — пробурчал Г. Башков. — Ты же сам говорил. — Ну, говорил, говорил… На тебе две десятки, обойдешься, думаю. — Попробую, как-нибудь впишусь. Башков-сын засунул деньги в карман. Я тоже поднялась из-за стола. — Вы на машине? — Да. Вас подвезти? — Если по пути. — Какой может быть разговор. — Ладно! — сказал сыну Башков. — Иди пока, свой тарантас заводи… Да, вы в субботуедете? — Наверное. Хочешь с нами? — Ты Евгению Сергеевну пригласи. — Куда это? — На море, — сказал Башков-сын. — На бережок. Вы рыбалкой интересуетесь? — Никогда не пробовала. — Так папаня вас научит. Он рыболов знаете какой! — А что, Евгения Сергеевна, — предложил Башков. — Попробуем, составим компанию молодежи. Мне могли пригодиться любые продолжения знакомства, но пока я уклонилась от определенного ответа. Башков-сын многозначительно ухмыльнулся и оставил нас вдвоем. Мне нужно было еще встретиться с Башковым. На худой конец, я могла попросить почитать «Желтого пса»… Но хозяин квартиры сам пошел мне навстречу: — Знаете, я могу вам достать «Фотографию» за весь прошлый год. — Неужели? Буду очень вам признательна. Он вытащил из серванта почтовую открытку и написал номер телефона. — Это мой домашний. Позвоните через денек. Мы прошли в переднюю. Башков подал мне плащ. Руки его чуть задержались на моих плечах. Осада велась корректно, без хамства, которое сейчас позволил бы себе, скажем, Колесов. Башков действовал осторожнее, расчетливее. Он хотел проводить меня в лифт, но я ответила, что предпочитаю спускаться по лестнице. Светлый «Москвич» стоял у подъезда. Он носил на боках и крыльях следы нерасчетливой езды, Башков-сын, по-прежнему ухмыляясь многозначительно, открыл мне дверку. — Вы поедете за женой? — Да, а что? — Тогда я сяду сзади. — Будет вам! — Нет, так мне удобнее. Его жену мы подобрали у подъезда Электротехнического института. Маленькая, рыженькая, в узких — до опасности — брючках, она уставилась на меня, Башков-сын пояснил, как мы познакомились, тогда она протянула мне руку со снисходительной приветливостью — посетительницы Башкова-старшего не вызывали у нее подозрений. Она назвала себя Жаклин. Это имя не шло ей, круглолицей и курносой. На улице Башков-сын немедленно включился в соревнование с таксистами, которые, что там ни говори, «собаку съели» в городской езде. При выезде с моста наш «Москвич» проскочил под самым носом отчаянно зазвонившего трамвая. Признаюсь, мне стало не по себе, но Жаклин и глазом не повела, привыкла. Я попросила высадить меня возле ТЮЗа. «Москвич» с визгом и заносом затормозил на обочине. — Лихо ездите! — сказала я. — Стараюсь. Так как насчет субботы? — Пока не знаю. — Поедемте. Папаня вас развлекать будет. Он опять подмигнул мне нахально. Я махнула им на прощанье. — Чао! — кивнула мне Жаклин. Дойдя до бульвара, я остановилась возле бронзового бюста Александра Покрышкина. Посмотрела на суровое лицо героя-летчика и побрела домой.
ОГОНЬ НА СЕБЯ
1
Петра Иваныча дома не было. Я перекусила в кухне, запила чаем из термоса и пошла в свою комнату. Лежа на постели, я размышляла о том, чем жила сейчас, чему были отданы все мои усилия. Латунный ключик от американского замка появился на какие-то секунды, я даже не успела его как следует разглядеть. Правда, он очень походил на тот ключ, каким я когда-то открывала дверь в квартиру Вали Бессоновой, но все ключи от американских замков похожи один на другой. Так что же мне делать? Сидеть и ждать приезда полковника Приходько? Но в отличие от меня полковник не убежден, что гибель Вали Бессоновой — результат злого умысла, а подозрение — еще не доказательство. В крайнем случае бывший бухгалтер предстанет перед судом как соучастник воровской компании. А главное его преступление так и окажется нераскрытым. В любой день Башков может внезапно уехать в неизвестном направлении, и тогда мой поиск неизмеримо осложнится. Некоторые обстоятельства дают мне основание подозревать Башкова в смерти Вали Бессоновой. Как ни коротко было знакомство с ней, я почувствовала симпатию к этой заблудившейся девочке, соблазненной опытными преступниками. Приход Петра Иваныча из редакции на время отвлек меня от безрадостных размышлений. После кофе мы сели играть в шахматы. Первую партию Петр Иваныч выиграл быстро, вторую — еще быстрее и, поглядев на меня, начал собирать шахматы. — Да, — согласилась я. — Окончательно потеряла форму. Петр Иваныч уложил в коробку фигуры и закрыл крышку. — Вы, случайно, не влюбились? — Разве похоже? — Очень. Рассеянны, и выражение лица такое — отсутствующее. Явные приметы влюбленности без взаимности. — Это почему же без взаимности? — Счастья в глазах не вижу. Одни тревожные сомнения. На работе все в порядке? Врать ему не хотелось, но и молчать было трудно. Ах, Петр Иваныч!… Не нужно ни о чем спрашивать. Я достала спички, помогла ему разжечь трубку. Он пыхнул дымом и ушел молча. Вечером хандрил, морщился, посасывал валидол. Я с беспокойством на него посматривала. Он рано отправился спать. Я тоже. Ночью вдруг проснулась. Не от шума, а от какого-то неприятного ощущения. В комнате, в квартире стояла глухая могильная тишина. Чувство тревоги нахлынуло, как вода. Я босиком выскочила в прихожую, открыла дверь в комнату Петра Иваныча. Слабый свет далеких уличных фонарей наполнял комнату призрачным сиянием. Петр Иваныч неподвижно, очень неподвижно лежал в постели. Сердце мое забилось испуганно. Я подошла ближе. Он лежал на спине. Я нагнулась и почувствовала на щеке тепло от его дыхания. Лицо его показалось мне каким-то особенно похудевшим, осунувшимся. Черные тени лежали во впадинах глаз. На столе лежали рассыпавшиеся таблетки валидола. Видимо, ему опять было плохо, но он не вызывал «скорую», чтобы меня не будить. Милый, добрый человек! Мне так захотелось поцеловать его в морщинистую щеку, но он спал, и сон его больному сердцу, наверное, был более нужен, чем мой сентиментальный поцелуй. Я забралась с ногами в кресло, накрылась курткой Петра Иваныча и сидела, поглядывая на него… Проснулась оттого, что отлежала ногу. Петра Иваныча уже не было в постели. Часы на его столе показывали восемь, было светло Я села в кресле и только тут заметила, что покрыта уже не курткой, а пледом, которым Петр Иваныч застилал свою постель. Я не слыхала, как он ушел. Вечером был Максим. Как всегда, мы собрались на кухне и долго распивали чай, но говорили мало. Максим сидел в своем уголке, между столом и холодильником. Он отыскал это место опытным путем — раньше я все время задевала его колени, когда начинала убирать посуду. Петр Иваныч разжег свою трубку. — У нас событие, Максим. Женя влюбилась. Без взаимности. — В кого? Я мыла чашки в раковине. Вопрос Максима прозвучал непосредственно, даже испуганно. Я рассмеялась. — Она не говорит — в кого, — продолжал Петр Иваныч. — Видишь, ей смешно. А смешного тут мало. Вдруг она влюбилась в тебя? — Да, тогда на самом деле не смешно. — Вот как. Значит, ты был бы этому не рад? Максим промолчал. — Женя, вы слышите его? — Наоборот, я ничего не слышу. — Вот именно, он молчит. Но его молчание говорит слишком громко. Потребуйте с него объяснений. — Максим правильно молчит, — сказала я. — Он сомневается, что моя влюбленность принесет какую-нибудь радость. Наоборот, когда в дружеские отношения ввязывается такое одностороннее чувство, оно обычно приносит с собой смуту и принуждение. Я правильно говорю, Максим? — Максим! Не смей соглашаться с этой философствующей девчонкой. Скажи, что молчал по другой причине… Значит, нужно уметь обходиться без любви? — Кое-когда — да! — подтвердила я. — О, боги Джека Лондона! Куда исчезает романтика… Подожди, Максим, а который час?… Телевизор нужно включать. Вот зараза — этот ящик. Сидели, думали о чем-то, обменивались информацией. Теперь будем молчать, смотреть и не думать. Ох, правильно говорят японцы: телевидение — гибель нации. — Так не включайте. — Что вы, Женя! Там Лермонтов, «Маскарад»! Мордвинов играет Арбенина. «Глупец, кто в женщине одной мечтал найти свой рай земной!…» А вы говорите — не включать!… Я сидела в кресле и смотрела «Маскарад». Знала его почти наизусть, видела фильм с Мордвиновым. Когда-то лермонтовские строки, звучные, словно отлитые из бронзы, приводили меня в трепет. Сейчас я тоже слушала с восторгом, но позволяла моим земным мыслям существовать рядом с бессмертными стихами. Я смотрела, как Арбенин садится играть в карты у Казарина, вслушивалась в его слова о князе Звездиче:
2
Видимо, мозг и ночью вел свою таинственную подспудную работу — утром у меня уже появились соображения, в которых я не решилась бы признаться полковнику Приходько: столь много было в них от моей убежденности в вине Башкова и не очень много от логических доказательств. Но я утешала себя тем, что логика — не всегда самый верный путь к истине. Чтобы застать Башкова дома, я позвонила ему утром. Он тут же ответил. Сказал, что достал мне «Фотографию». Все номера за прошлый год. Они лежат у него дома. Когда я за ними зайду? Я ответила, что, может быть, приду к нему вечером после работы и что заранее сообщу об этом по телефону. Он самыми восторженными фразами выразил свою радость и сказал, что будет сидеть у телефона и ждать моего звонка. У меня пока не было точного плана, я еще не знала, как буду себя вести. Многое зависело и от Башкова. Конечно, для него я случайная женщина, одна из многих, залетавших к нему на огонек… Но я считала, что в случае необходимости смогу за себя постоять. Разумеется, мне придется быть собранной, внимательной ко всем мелочам. И, может быть, я смогу что- либо услышать, увидеть или даже найти. Да, найти! Если только мне повезет… Я понимала, как мало у меня шансов отыскать какие-либо следы, но я не могла ждать приезда полковника Приходько — ведь Башков готовился исчезнуть из города. Я хорошо помнила предостережение полковника: если мои подозрения окажутся справедливыми, то киоскер с улицы Горской станет опасным противником — он не из тех людей, которые затрудняются в выборе средств. Но я считала, что если при жизни Вали Бессоновой могла пойти на любой риск, лишь бы спасти ее от гибели, то теперь обязана рисковать. Я колебалась — звонить ли подполковнику Орлову. Но я не знала его, он никогда не видел меня, а в основу всех моих действий была положена, как мне казалось, лишь интуитивная догадка, а не цепь неопровержимых доказательств. И я не стала ему звонить. Целый день на работе я была рассеянна. Совсем некстати пришла машина с товаром, я просмотрела описку в фактуре, и если бы не профессиональная наблюдательность Риты Петровны, неизвестно, чем бы закончился мой просчет. Я получила дружеский, но жестокий разнос, и этого заряда мне уже хватило до конца рабочего дня. Петра Иваныча не было, когда я начала собираться. Платье-светофор я сразу отложила в сторону и надела брючный костюм. Я понимала, что мне придется пить, нужно будет казаться пьяной и в то же время сохранять ясность ума. Любой просчет мог увеличить степень риска или поставить меня в глупое положение, а последнего я опасалась более всего. Я не знала рецепта «гусарского средства», поэтому сунула в стакан горячего чая кусок сливочного масла, размешала и выпила эту смесь. На всякий случай я на 11 часов заказала такси, указав адрес Башкова. Я решила не предупреждать Башкова о своем приходе, хотя обещала ему предварительно позвонить. Женщина, роль которой я играла, могла не выполнять свои обещания. К подъезду его дома я подошла в начале девятого. Уже темнело: кое-где по фасаду светились окна. На лестничной площадке первого этажа горела лампочка. Я открыла тяжелую, громыхающую — как в камерах предварительного заключения — дверь лифта, и он поднял меня на пятый этаж. Башков действительно ждал меня. В светлых, безукоризненно выглаженных брюках, в кремовой шелковой рубашке, чисто выбритый и свежеподстриженный, он выглядел молодо и энергично. В передней пахло «Шипром»… Знакомый запах помог мне сразу войти в роль. Башков снял с меня плащ. Он не торопил события, боясь навязчивостью отпугнуть свою гостью. В комнате на журнальном столике стояла керамическая чаша с грушами и большими гибридными апельсинами. В хрустальном бокальчике развесили пушистые венчики белые хризантемы, на серванте, в кувшине, — махровые гладиолусы. Конечно, за цветами ему пришлось съездить на Центральный рынок. Принимали меня изысканно. — Прекрасные хризантемы! — Специально для вас, Евгения Сергеевна! — Спасибо! — Что вы! Это я должен вас благодарить, что вы решились посетить мое одинокое жилище. Вот журналы, думаю, вы успеете посмотреть их дома. А пока мы должны выпить. Совсем немножко, за знакомство. По хорошему русскому обычаю. Он усадил меня за столик. Достал из серванта бутылку «Ркацители» и коньяк. Этикетка на бутылке с коньяком показалась мне знакомой. Конечно, это был «Арарат», вероятно, из запасов Колесова. Интересно, сказал ли он Колесову, для кого берет коньяк? Вряд ли… — Если не возражаете, мы начнем с коньяка. Я не возражала. Он налил мне и себе поровну, две рюмки из светло-желтого чешского стекла. Красивые рюмки, он понимал толк в красивых вещах. Я выпила свой коньяк, правда не «махом», рисоваться перед ним не было надобности. В это время зазвонил телефон. Башков махнул рукой. — Пусть его! Меня нет дома. Поверьте, Евгения Сергеевна, весь день я ждал вашего звонка. Сидел у телефона и ждал. А если был на кухне и телефон начинал звонить, я бежал к нему со всех ног… Мы выпили с вами за начало знакомства. Давайте выпьем за его продолжение. Он налил опять. — Вы не представляете себе, Евгения Сергеевна, как я рад видеть вас у себя. — Не представляю, — согласилась я. — Конечно, вам, молодой красивой женщине, разве можно понять тоску одинокого пожилого мужчины, скромно доживающего свой век. Вы для меня как райская птица… Мое участие в разговоре было невелико, я только поддакивала, где было нужно. Сольную партию успешно вел сам хозяин. Он смотрел на меня с выражением ласковой нежности. И странно, чем больше ласки слышала я в его голосе, тем холоднее и жутче становилось у меня на душе, тем крепче становилось убеждение, что он — убийца Вали Бессоновой. Я не берусь объяснить, почему это происходило. Но в конце концов ощущение это стало таким тягостным и явным, что мне стало не по себе. Я побоялась, что он догадается об этом по выражению моего лица, встала и подошла к радиоле. Она стояла возле окна, раньше ее не было. На подоконнике лежали пластинки. Он поднялся следом за мной. — Вот хозяин, называется. Заговорился, забыл о музыке. Потанцуем, Евгения Сергеевна. Только знаете, я к старинке тяготею, современных шейков и прочего не люблю. Он поставил медленный фокстрот.
3
Танцевал он неплохо, я все время чувствовала его инициативу, не назойливую, но уверенную. Его ладонь лежала на моей спине. И вдруг мне представилось, как его рука поднимается все выше и выше, касается плеч, шеи… ощущение стало таким жутким, что я невольно сбилась с такта. — Извините меня! Пластинка закончилась, он подвел меня к креслу. — Вы великолепно танцуете. На самом деле, вы самая послушная женщина, с которой я когда-либо танцевал. — Вам показалось. — Пусть показалось. Все равно, я в восторге от вас, Евгения Сергеевна. Выпьемте еще! Я подняла рюмку, но пить не стала, пьяной мне нужно было только казаться. — Хотите, я вам спою? — спросил Башков. — Конечно. Я не заметила гитары, она стояла в углу за тахтой. Башков взял несколько аккордов. — Смеяться не будете? — Зачем же. Уверена, что у вас хорошо получится. — Вам, поди, сынок про меня наболтал? — Сынок про вас мне совсем ничего не говорил. — Ну, конечно… Он подстроился под гитару и запел; «Гори, гори, моя звезда». Пел он негромко и, пожалуй, верно. Смотрел на меня и припускал в голос задушевности… — Совсем неплохо, — похвалила я. — Правда? — Почти профессионально. Он приглашающе поднял рюмку. — Спаиваете вы меня. И так уже пьяная. — Ну, что вы. Хотите кофе? — Пожалуй. Он вышел. Я тут же подошла к серванту, отодвинула дверку и открыла крышку знакомой коробочки с огненно-красными конями. Шевельнула в ней пальцем. Латунный ключик лежал на месте. Вот так!… Тогда я вышла к вешалке, где висел мой плащ. Из кухни вешалка не просматривалась. Прислушиваясь к бряканью посуды, я осмотрела всю одежду. Кроме моего плаща, здесь висел болоньевый плащ хозяина, осеннее пальто и простой плащ из синей диагонали. Болоньевый плащ исключался, я бы узнала его на ощупь. Пальто— тоже, в тот вечер шел дождь. Оставался плащ из синей диагонали. Я закрыла глаза, прислонилась к нему щекой, потрогала ладонью… да, ощущение было похоже. Без всяких угрызений совести я сунула руку в один карман плаща, затем в другой. Вряд ли он воспользовался платком, вернее всего, надел перчатки… Но перчаток в плаще тоже не было. На полу под вешалкой стояли большие грубые ботинки — туристские — и коричневые туфли. Но что могло остаться на ботинках, когда хозяин добирался в них до дома через весь город, из Дзержинского района в Кировский, да еще когда на улице шел дождь? Я вернулась в комнату и присела за стол. Башков вышел из кухни. — Скоро будет кофе. Потанцуем пока, Евгения Сергеевна. Он опять завел тот же медленный фокстрот. Вот на этот раз мне уже пришлось защищаться. Он был очень сильный, а я старалась действовать деликатно, грубить не хотелось, но и не хотелось дать себя в обиду. Наконец, он все же меня отпустил. Я поправила волосы и молча уселась в кресло. — Простите меня, Евгения Сергеевна… Но вы такая милая и желанная женщина. Конечно, я не пара вам, понимаю. Я гожусь вам в отцы. Но что могу поделать, я уже люблю вас… — Будет вам… — Вы обиделись на меня? — Там кофе, наверное, уже готов. — Ах, да… кофе, кофе… Он опять отправился на кухню. Я опять осталась одна со своими нелегкими мыслями и сомнениями. Плохи твои дела, товарищ инспектор ОБХСС! Нет у тебя никаких вещественных доказательств. Одни подозрения. Чем ты их можешь подтвердить? Даже для санкции на производство обыска повода нет. Есть только убежденность. Но что толку от моей убежденности? Ее не положишь на стол следователю как вещественное доказательство. Башков может спать спокойно. Он и спит спокойно. Его не мучают опасения и тревоги, что он будет разоблачен. Он может приглашать женщин, чтобы разделить с ними «тоску мужского одиночества». Может тратить наворованные деньги, за которые пока тоже не несет ответа. А Вали Бессоновой нет… Только я одна держу в руках тоненькую ниточку, которая может оборваться в любой момент. Но Валюши нет в живых, и я не хочу уйти отсюда просто так. Он спокоен только потому, что поверил уже в свою безнаказанность. Уверен, что из квартиры Бессоновой к нему не протянется след. Он не знает, что осталась одна улика. Я сама. Он забыл про эту улику. Я ему напомню про нее… Я взяла из вазы апельсин и начала его очищать. Вздохнула поглубже, как перед прыжком в воду. Настоящая дуэль начнется только сейчас.
4
Он сидел передо мной, опершись локтями о стол, такой нежный и внимательный. Мирный, домашний, пьяненький. Совсем не страшный. Видно было, что никакие тревоги или переживания не беспокоят его сейчас… А может быть… может быть, он и на самом деле не виноват? Может, все мои подозрения — нелепое совпадение случайностей… встреча на лестнице… ключик… Интуиция?… Я допила свой кофе. На дне фарфоровой чашки остался осадок — кофейная гуща. Как это раньше ворожили на кофейной гуще? — Вы меня совсем не слушаете, Евгения Сергеевна. Наверное, уже утомил вас своими разговорами. — Голова что-то шумит. — Вам, наверное, скучно со мной? — Что вы, совсем нет. Это была правда, уж что-что, а скучно с ним мне не было. — Я все болтаю и болтаю, а вы молчите, Евгения Сергеевна. Что-то вы задумчивая сегодня. Расстроены чем-то? — Вспомнилась одна история. — Вот и расскажите. — Страшная. — Люблю страшные истории. — Боюсь вам настроение испортить. — Будет вам, Евгения Сергеевна. Я человек с крепкими нервами. Он взял из вазы апельсин и одним движением большого пальца вспорол его оранжевую кожуру. Я смотрела на его руки. Мне было трудно смотреть ему в лицо. — Подруга у меня была. Милая, хорошая девушка. Тоже работала в торговой сети. Вот только недавно мы поминали ее. Она работала кладовщиком на Главном складе Торга. У Аллаховой. Слыхали, может быть? Его пальцы замедлили движение. — Аллахова, говорите?… Что-то слыхал, кажется. Знаете, не работаю там давно, забывается как-то. — Вот у нее и работала моя подруга. Жила она в однокомнатной квартире по улице Гоголя. Собралась выйти замуж. А тут однажды не вышла на работу. Начали ее искать, стучаться к ней в квартиру. Потом взломали дверь… — Знаю, — даже обрадовался он. — Читал в «Вечерке». Отравилась газом. Так она была ваша подруга? — Была. — Печальная история. Что поделать, Евгения Сергеевна. Такие несчастные случаи у нас еще встречаются… Он отделил одну дольку апельсина и начал очищать ее от волокон. — Мне кажется, это был не несчастный случай, — сказала я. — А что же? — Это было убийство. Он уже очистил дольку апельсина и хотел отправить ее в рот, но положил на скатерть. Это могло быть простым непроизвольным движением заинтересованного слушателя. Ничего не скажу — нервы у него на самом деле были крепкие. Я подняла на него глаза. Я постаралась, чтобы в них не было даже намека на угрозу. Мне, кажется, это удалось. А может быть, и нет. Но он встретил мой взгляд спокойно. Правда, он уже не улыбался. Но улыбаться и на самом деле было нечему. И тем не менее какое-то внутреннее ощущение говорило мне, что я попала в цель. — Почему вы так думаете? — спросил он. — Сама не знаю — почему. Дело в том, что это я привела ее домой с вечеринки у Аллаховой. Пьяную. — Вы? Голос его прозвучал чересчур громко, и вопросительная интонация показалась слишком резкой. Хотя опять же это могло мне почудиться. Рука моя лежала на столе, наручные часы показывали половину одиннадцатого. В одиннадцать должно приехать такси… Пока не нужно ускорять события. Я спокойно пожала плечами: — Мы вместе были на вечере, и я пошла ее проводить. А чему вы так удивились? — Я?… Что вы, просто спросил. Продолжайте, продолжайте. — Когда я укладывала ее спать, она все жаловалась мне… говорила, что кого-то боится. Ей не хотелось оставаться одной, она просила меня ночевать у нее. Надо было мне остаться, тогда ничего бы, может, и не было. Но я ушла. А на лестнице было темно, очень темно, и я вдруг натолкнулась на мужчину. Он поднимался наверх. — Ну и что? — Как «ну и что»? Вот он зашел к Бессоновой, она была пьяная, ничего не слышала, а он открыл газ и ушел. — Зачем он это мог сделать? — Ну… мало ли зачем. — Он мог к этой… Бессоновой и не заходить. Шел по своим делам. — Он ни у кого не был. И никто его там не ждал. — Откуда вы это знаете? — Следователь сказал. — Вы были у следователя? — Конечно. Ведь я оказалась последней, кто видел Бессонову живой. Мне целый час пришлось рассказывать следователю, что и к чему. Он очень заинтересовался этим мужчиной. Башков давно уже оставил апельсин. Руки его лежали на столе. Пальцы были большие и сильные. Я чуть выпрямилась на стуле. Нет! Он не рискнет. Он вначале выслушает все до конца. И даже, выслушав все, не проявит себя больше ничем. Слишком неожиданно нависла над ним беда, и в душе его еще не накопились сомнения и тревоги: а не оставил ли он за собой каких-то улик?… Я не знала, что делать. Взяла свой апельсин и начала отдирать от него остро пахнущую маслянистую кожицу. — Вижу, что заинтересовала вас своей историей? — Да, занятный детектив. Руки его пришли в движение, он взял очищенную дольку, пожевал, причмокнул, Да, нервы у него были хоть куда!… — А вы, — он сунул в рот вторую дольку, — а вы, значит, так и не разглядели того мужчину? — На лестнице было темно… Я старательно отдирала кожицу от апельсина. В комнате повисла тревожная тишина. Внезапно она наполнилась нарастающим гулом, над городом шел на посадку тяжелый рейсовый самолет. Он шел низко, в окнах даже задребезжали стекла. Потом все стихло. И тут резко брякнул дверной звонок. Башков вздрогнул. Ага, значит, он тоже может пугаться… — Это за мной, — сказала я. — За вами? — Я заказала на ваш адрес такси. Не хотелось одной идти пешком. Это, наверное, шофер. Он вовремя приехал, мне пора домой. Откройте ему, пожалуйста. Башков молча вышел в прихожую. Я сунула в портфельчик «Фотографию»— я же приезжала за ней. Шофер — мужчина лет сорока — стоял в дверях и хмуро поглядывал то на меня, то на хозяина. — Кто заказывал? — Я заказывала. Сейчас иду. Шофер отступил за порог, Башков прикрыл за ним дверь и снял с вешалки мой плащ. Я без колебаний повернулась к нему спиной. Он опять чуть задержал руки на моих плечах, потом деликатно поцеловал меня за ухом. Я промолчала. — Мы еще увидимся с вами, Евгения Сергеевна? — Конечно! Должна же я рассчитаться с вами за журналы. Я выскользнула на площадку. Он вышел следом. Я махнула на прощание рукой и побежала вниз. На лестнице было пусто, тускло светили на площадках запыленные лампочки. Уже на площадке первого этажа я услыхала, как глухо щелкнул вверху кассовый замок… Петра Иваныча дома не оказалось. В кухне еще держался запах кофе. Моя чашка была накрыта блюдцем, на котором лежал символический соленый огурец. В рюмке с водой стояла веточка облепихи, густо покрытая оранжевыми ягодами. Я сразу догадалась, кто был у нас. Под чашкой лежала записка: «Уехал с Максимом в Ордынку. Вернусь завтра». Я съела соленый огурец, запила его холодным кофе. Долго еще сидела на кухне, обкусывая с веточки терпкие кислые ягоды. Я не знала, что мне делать дальше. Ясно пока было одно. Я затеяла рискованную дуэль с человеком, нервы у которого оказались крепче, чем я предполагала.
5
Утром меня разбудил телефонный звонок. Я спросонья добралась до аппарата, взяла трубку, но сколько ни кричала в нее: «Да, да, я слушаю!»— телефон молчал. При дневном свете все мои вчерашние подвиги показались дешевой авантюрой. За такую самодеятельность мне могло крепко влететь от полковника Приходько. Позавтракав, я вошла в комнату Петра Иваныча, взяла старую «Смену», начала решать в уме задачу— двухходовку… и незаметно для себя уснула. Удивительным свойством обладало это старое кресло… Меня опять разбудил телефон. Видимо, звонил он уже давно, — я какое-то время слышала его сквозь сон. Но мне опять никто не ответил; в трубке шуршало, пикало что-то, но звонивший молчал. Я положила трубку на рычаг. Радио сообщило сводку погоды: «…усиление ветра до двенадцати-пятнадцати метров в секунду, резкое похолодание…» Рано нынче начались холода, но ведь это была Сибирь… Услыхав звонок, я пошла открывать. За дверями стоял Башков-сын. От неожиданности я растерялась. — Вы меня не узнали, Евгения Сергеевна? — Почему же, узнала. — Смотрите, как будто я тень отца Гамлета. — А вы всего-навсего — тень Башкова-отца. Входите, пожалуйста. Он вошел и немедленно оглядел меня с головы до ног, быстро и бесцеремонно. — Не знала, что это вы. — А то бы не пустили? — Нет, я вначале бы надела шубу. Башков-сын рассмеялся весело и непринужденно, я невольно подумала, что он все же несколько облагороженная тень своего отца. Он приятно смеялся. — Я за вами, — сказал он. — Собирайтесь, едем на море. — Что-то не хочется. Холодно, наверное. — Будет вам. Папаня позвонил мне, чтобы я заехал за вами. Тут я немедленно освоилась с положением. — Он просил заехать за мной? — Конечно. — Он тоже едет? — Евгения Сергеевна, я вас что-то не пойму. Вы, может быть, не выспались? — Наверное, — согласилась я. — Кто вам дал мой адрес? — Папаня, конечно. Он же вам звонил? Мне он сказал, что звонил. Так вот кто был на том конце провода. Почему же он молчал? И как он мог узнать мой адрес, я ему его не говорила. Только у Аллаховой… — Да, звонил, кажется. — Он и мне сказал, что вы дома. — Конечно… А когда мы вернемся? — Завтра. — Так нужно как следует собраться. — А я уже за вас собрался. Все есть. Палатки, одеяла. Спальный мешок даже на вас захватил. Поехали. — Подождите, не могу же я ехать вот так, — я показала на свой халатик. Башков-сын рассмеялся еще задорнее. — Ладно, одевайтесь, мы подождем. — А кто еще едет? — Ну, кто… Жаклин со мной. Борька Звягин — дружок, тоже с женой на «Победе». Папаню по дороге заберем. Башков-сын с грохотом скатился на каблуках по лестнице. Право, я относилась бы к нему совсем по-другому, будь у него иная фамилия… Я облачилась в свои студенческие джинсы, захватила поролоновую куртку. Ехать было нужно. Меня приглашал сам Башков. Может, он решил продолжить наш разговор? А если этот диалог повернется для меня очень круто? Ничего, управлюсь как-нибудь. Я не Валя Бессонова. Значит, он звонил Аллаховой. Она могла ему что-то про меня сказать. Поделиться своими подозрениями. Следовательно, подозрений прибавилось и у него. И он меня все-таки пригласил на эту прогулку… У подъезда стояли две машины. Приятель Башкова-сына на «Победе» показался мне вполне положительным человеком, но его жена была под стать Жаклин. Тем не менее вся эта компания никак не походила на сборище злодеев, которые собираются свести счеты с женщиной. Значит, на худой конец, мы встретимся с Башковым- отцом один на один. Жаклин открыла дверку «Москвича», я села рядом с ней. На остановке «Институт» нас дожидался Башков- отец. Я не сразу узнала его. В спортивном костюме, толстой куртке и резиновых сапогах он выглядел как заядлый рыбак-охотник. У ног его стояла большая хозяйственная сумка. — А вот и папаня с погребком, — сказал Башков-сын. Башков-отец кивнул мне спокойно и приветливо, как будто и не было вчерашнего вечера. Поставил на сиденье, рядом со мной, свою сумку. — Я к Борису сяду, — сказал он сыну. — Со мной не хочешь? — У меня от твоей езды сердце заходится. А у вас, Евгения Сергеевна, ничего? — Терплю. — А вот я уже не могу. Давайте трогайте. Мы сорвались с места. «Победа» отстала еще в городе. Проехав по шоссе километров десять, Башков-сын остановился — подождать отставших. После напрасного ожидания мы вернулись назад и увидели нашу «Победу» на обочине шоссе. Борис и Башков-отец разбортовывали пробитую покрышку. Запасное колесо тоже оказалось не в порядке, пришлось тут же, на дороге, заняться ремонтом камеры. Башков-сын ругался. Провозились долго. Солнце закрыли тучи, ветер усилился. Потянуло холодком. — Ничего! — успокоил всех Башков-сын. — В лесу будет теплее. Жаклин достала из «погребка» бутылку «Старки». Все — за исключением водителей — выпили по стаканчику. Я стала в позицию «делай как все!» и тоже выпила. Башков-сын собирался приложиться к бутылке, но Жаклин вовремя спохватилась: — Уже раз права отбирали, хватит! Перед самым Шарапом Башков-сын едва избежал неприятности. Как он загодя не заметил инспектора, не знаю — на этот счет глаз у него был наметан. Он пошел в обгон «Запорожца», водитель которого тоже оказался с гонором и тоже прибавил ходу. Так они и помчались рядом по шоссе, заставив встречный грузовик выбраться на обочину. Вот тут впереди и появилась фигура с полосатой палочкой. Башков-сын выругался и затормозил. Инспектор — кстати, знакомый Максима — заглянул в машину. Он, кажется, узнал меня. Почувствовав винный перегар, он попросил водителя выбраться из машины. Убедившись, что тот в норме, прочитал ему лекцию о правилах обгона. Я ожидала дырочки в контрольном талоне, но инспектор смилостивился и вернул документы. Мы проехали Шарап по уже известной мне дороге и высадили Башкова-отца у охотничьей базы, на берегу Обского моря. — Папахен лодку пригонит, — объяснил мне Башков-сын. Остановились мы за мысом, где когда-то я сидела с Максимом. Погода отпугнула туристов, машин на берегу виднелось немного, все они стояли поодаль от нас, под защитой леса. На плесе водохранилища ветер поднял большую волну, но здесь, в заливе, было сравнительно спокойно. Наши мужчины оказались опытными туристами, лагерь развернули умело и быстро. Установили большую палатку, раскладные столик и стулья. На лодке подъехал Башков-отец, забрал Бориса, и они отправились рыбачить. Я почистила картошку, собрала в лесу хворост для костра. Рыбаки вернулись уже перед вечером, привезли десятка два приличных окуней. Под уху все изрядно выпили. Женщины здесь не отставали от мужчин. Мое присутствие возле шестидесятилетнего пенсионера дало повод для всяческих пикантных острот. Шутили они зло и непристойно, я то отшучивалась, как умела, то отмалчивалась. Наконец, воспользовавшись паузой, я покинула шумную компанию и села на борт лодки, лежащей на берегу. Ветер шумел в верхушках сосен. О берег билась частая волна. Было темно и холодно. На мне был толстый шерстяной свитер, можно было накинуть еще и куртку, но не хотелось возвращаться за ней к костру. Уж очень неприятна была эта компания! Я начинала жалеть о поездке. Весь вечер Башков вел себя по отношению ко мне спокойно и предупредительно, как человек, к которому рассказанная мною история не имела никакого отношения. А может, он просто обдумал все и понял, что, по сути дела, я ничем не могу быть для него опасной. Тем более, он уверен, что я не узнаю его в лицо. Ведь он сам тоже не мог разглядеть меня на лестнице в темноте. Я представила себе, как буду объяснять свои действия полковнику Приходько, и мне стало совсем неуютно. Я была готова бросить все и уехать в город, домой. Он подошел незаметно, я даже вздрогнула. — Прокатимся, Евгения Сергеевна? — Ветер. — А мы вдоль бережка, потихонечку. Он нагнулся к лодке, разобрал весла. Жаклин что-то сказала в наш адрес. Я плохо разобрала слова, но по дружному смеху всей компании могла догадаться о содержании. Сразу вспомнился шофер-таксист… и хорошо, что до Жаклин было далеко… — Поехали! — согласилась я. Червячок сомнения все же шевельнулся в груди. Но я успокоила себя. Он — старик, пенсионер, я моложе его в два раза. Да и по плаванию у меня первый разряд… Мы столкнули лодку. Я села на корму. Башков взмахнул веслами. Башков-сын крикнул от костра: — Папаня! Не гуляйте далеко. Жаклин опять прошлась по нашему адресу… Я опустила руку за борт в черную холодную воду. Нужно заканчивать эту дурацкую комедию! Я устала уже от этих сальных шуток, от фальшивости своего положения, от напряженного ожидания. Башков-отец размашисто греб, поглядывая через плечо вперед. Лодка шла у самого берега, мелкие беспорядочные волны в заливе звонко шлепали по бортам. При вспышках костра я видела впереди черную оконечность мыса, а за ним белые гребешки высоких валов. — Вспоминаю вашу историю, Евгения Сергеевна. Думаю, — заговорил Башков. — О чем же? — Чувствую, вам хотелось бы того… ну, мужчину с лестницы разыскать. — Хотелось бы. — Как же вы узнаете, если не разглядели его лица? Он перестал грести. Слабый отблеск костра мелькнул на его лице. Он ждал. Я молчала. Тогда он опустил голову, сделал сильный гребок, лодка поравнялась с оконечностью мыса. Ветер сразу нажал мне в спину. — Я попробую его узнать и так. Он еще на что-то, видимо, надеялся. Хотя перестал грести, поднял голову, я опять увидела отблески костра в темных пятнах его глаз. И тогда я сказала, четко разделяя слова: — От вас так сильно пахло тогда вашим любимым одеколоном «Шипр». Он рассмеялся. Я опешила. Он смеялся весело и беззаботно, как человек, который удачно «разыграл» приятеля и, наконец, не выдержал и расхохотался. Я растерянно смотрела на него. Продолжая смеяться, Башков еще раз взмахнул веслами, сильно послав лодку вперед. Набежавший вал положил ее на бок. Волна плеснула в лодку. Я невольно отклонилась. Внезапно Башков бросил весла, ухватился за борта лодки и разом ее перевернул. Сбитая с толку его смехом, я не успела ни собраться, ни ухватиться за лодку. Меня сильно ударило бортом по виску, на какое-то мгновенье я потеряла сознание. Холодная вода хлынула в лицо и сомкнулась над головой…
6
Конечно, он все продумал заранее и решил воспользоваться удобным случаем, чтобы разом избавиться от опасного свидетеля. Расчет его был точен и прост. Как в случае с Валей Бессоновой, все выглядело бы внешне вполне правдоподобно и ничем не напоминало убийство. На самом деле — изрядно выпили, поехали кататься, лодка перевернулась… и его спутнице не повезло. Сам он утонуть не боялся, в лодке лежал пробковый пояс. Да и до берега было не так далеко… Я вынырнула сразу. В голове шумело от удара. Волна качнула меня, плеснула в лицо. Рядом было черное днище лодки, я потянулась к нему и только тут вспомнила про Башкова. Я оглянулась. Он вынырнул за моей спиной. Мы разом увидели друг друга. Волна подняла его надо мной. Он рванулся, вцепился в мои плечи. Я только успела вдохнуть — и мы вместе ушли в воду. Глубина была небольшая, я почувствовала под ногами песок. Башков придавил меня ко дну. И я забыла все, чему научилась в школе милиции. Он держал меня крепко, и воздуху мне уже не хватало, в голове застучал молоток. Я в яростном отчаянии сама вцепилась в него. Он хотел освободиться, но я не отпускала его. Наверное, мы так и утонули бы вместе… Молоток в моей голове застучал все сильнее, сильнее… и тут я уперлась ногами в живот Башкова, сильно оттолкнулась вбок и вверх… Уже выныривая, я опять ударилась затылком о борт перевернувшейся лодки. Не знаю, что меня спасло. Не помню, как удалось поднять над водой лицо и сделать спасительный вдох… Помню скользкое дно лодки, ее выступающий киль. Я держусь за него у самой кормы обеими руками, жадно, с надрывом, дышу, отплевываю попадающую в рот воду. Вокруг белесоватая темень ночи, ветер, волны, бьющие в спину и то и дело накрывающие меня с головой. Башкова нигде не видно. Мне холодно, очень холодно. Руки мои трясутся, по правому виску сбегает горячая струйка, временами я чувствую ее соленый привкус. Струйку смывает вода, хлещущая в лицо. Голова кружится, сознание работает вяло и неотчетливо. И только мои руки, как бы существуя сами по себе, продолжают упорно цепляться за лодочный киль. Я теряю всякое представление о времени, мне кажется, что плыву так уже давно, всю ночь. Но вот волны стали круче и выше, держаться за лодку стало трудней. Меня подняло волной, я заметила впереди что-то черное и догадалась: это — остров, я видела его, когда впервые с Максимом приезжали сюда. Меня несло мимо. Я понимала, что до другого берега здесь несколько километров и живой туда я уже не доберусь. Управлять лодкой я не могла, отпустить ее не решалась — меня захлестнуло бы первой же волной. И тут я нащупала ногами плотное песчаное дно. Я очень замерзла, и ноги уже не слушались меня. Но, кое-как упираясь ими, я подталкивала лодку к берегу, все еще боясь выпустить ее из рук. Черный обрыв острова надвигался все ближе и ближе, и я уже слышала шум разбивающихся о берег валов. Большая пенистая волна нахлынула, подняла меня на гребень и понесла. Лодка с маху ткнулась в песок. Меня перебросило через нее, и она прикрыла меня от следующих валов. Волны перехлестывали через лодку, но голова моя была над водой. Я лежала на берегу и уже не боялась утонуть. А кровь все текла и текла, и мне казалось, что вместе с этой горячей тоненькой струйкой из меня, как воздух из пробитого мяча, уходит жизнь. Я пыталась прижать рану ладонью, но руки мои тряслись, я только размазывала кровь по лицу. Я уже перестала ощущать холод. Как о ком-то постороннем подумала, что нужно двигаться, обязательно нужно двигаться, иначе можно замерзнуть здесь, на берегу. Но у меня уже не было сил. Глаза мои были открыты, но не видели ничего. Вдруг откуда-то с моря возник резкий ослепительный луч. Он ударил мне в лицо, и от боли я закрыла глаза. В грохот волн вплелся новый нарастающий гул. Он быстро приблизился, оборвался внезапно. Я почувствовала, как меня поднимают, и поняла, что меня нашли и не дадут умереть. Я еще успела сказать: «Позвоните Орлову…», но вспомнить номер телефона уже не смогла…
…В мое сознание пробился мягкий, но настойчивыйголос: — Ну, ну! Откройте-ка глаза… Я с усилием подняла веки и увидела перед собой молодое мужское лицо. Потом увидела всего человека в белой шапочке и белом халате. Он сидел рядом на постели и, наклонившись, смотрел на меня. — Вот так! — сказал он. — Уже хорошо. Я повела глазами и увидела рядом с кроватью сестру, совсем девочку, тоже в белом халатике и пышной марлевой наколке. Около кровати стояла высокая стойка с розовой ампулой. От ампулы вниз спускалась тонкая резиновая трубочка. В руке, повыше локтя, ощущалась легкая колющая боль. — Вам повезло, — сказал врач. — Кровь у вас оказалась хорошая. Просто жалко, что вы так много потеряли ее, там, в воде. Но у нас тоже нашлась подходящая кровь. — Где — у вас? — У нас, в Ордынской районной больнице. — Давно я здесь? — С прошлой ночи. Полсуток не приходили в сознание. Где вы так неудачно поранили голову? Я подумала. Мысли текли легкие, как воздушные шары. — Кажется, об лодку. — Разорвали кровеносный сосуд. Я вспомнила струйку крови на щеке и как я пыталась прижать ее ладонью. — В результате большая потеря крови, да еще переохлаждение организма в холодной воде. Хорошо, что вас быстро доставили. — Кто доставил? — Мужчина какой-то. Я не видел. Это было не в мое дежурство. Вы не знаете, Верочка? — Точно не знаю, — ответила сестра. — Кажется, он в нашей газете работает. «Как только он сумел меня разыскать?…» — удивилась я. Захотела повернуться — и вскрикнула от боли. Лицо у врача сразу стало серьезным: — Что у вас, давайте посмотрим. Он откинул одеяло, иглой от шприца черкнул по бедру — я почувствовала. Он попросил согнуть ногу в колене — я не смогла. — Что ж, видимо, остаточное явление от переохлаждения спинного или седалищного нерва. Пройдет это. Я тоже посмотрела на свои ноги: — Почему я вся так исцарапана? Врач улыбнулся: — Не беспокойтесь, тоже пройдет. Это ваш спаситель так усердно вас растирал, чтобы согреть. Догадался. Не скажу, что он этим вас от смерти спас, но задачу нам здесь, в больнице, облегчил значительно. Растер, полушубок разыскал, завернул и привез. — Все сам? — Все сам. И рану вам на голове залепил. Изоляционной лентой, ничего другого у него не нашлось. Но залепил основательно. Такой молодец. — Сегодня уже два раза звонил, — сказала сестра. — Спрашивал, когда можно прийти. — Ну, сейчас еще пока рано. Сейчас вам няня есть принесет, потом вы поспите. А к вечеру, думаю, будет уже можно. Пусть приходит. Врач вышел. Сестра отставила стойку с пустой ампулой в угол и тоже ушла. Нянечка принесла какого-то бульону с сухариками, я поела и уснула.
Когда открыла глаза, возле кровати на табуретке уже сидел Максим. — Разбудил вас. — Нет, я сама проснулась. Коротенький медицинский халат висел на плечах Максима, как плащ мушкетера. Он положил на тумбочку книгу и поставил бутылку с чем-то оранжево-желтым. — Витамины, — сказал он. — Облепиховый сок. Я протянула ему руку, он взял ее в ладони. — Рассказывайте!— попросила я. И пока он рассказывал, моя рука лежала в его ладонях. Оказывается, когда Максим и Петр Иваныч возвращались из Ордынска, их за Шарапом остановил тот же самый автоинспектор. Он и сказал, что видел меня в пьяной компании, которая ему не понравилась. Ничего в этом сообщении, казалось бы, не должно было встревожить, но Петр Иваныч, тем не менее, забеспокоился. Максим развернул «Запорожец», и они поехали меня искать. Берег возле Шарапа, где обычно останавливаются машины рыбаков и туристов, очень извилист, со множеством узких бухточек и проток. Поэтому они не заметили в кустах светлый «Москвич» Башкова-сына. И только возвращаясь обратно, уже при свете фар, обратили внимание на пьяную компанию, которая бестолково суетилась на берегу, пытаясь разглядеть в море исчезнувшую лодку. Моторный катер Максим достал тут же, на охотничьей базе. Вначале нашли пробковый пояс на воде, а уже потом увидели лодку, выброшенную волнами на остров. — Еще немного, и вас пронесло бы мимо, — сказал Максим. — Да, — согласилась я. — Тогда вам пришлось бы искать меня на том берегу. И что же было дальше? — Я привез вас в больницу и сразу позвонил подполковнику Орлову. — Вот как? — удивилась я. — Как вы догадались, какому Орлову нужно звонить? Максим пожал плечами. — Я же знаю заместителя полковника Приходько, как знаю многих работников нашего ОБХСС. Они приехали, но уже никого не нашли. Ваш кавалер скрылся. На берегу остались только следы его сапог. Я поправила прядку волос, мешавшую мне. Пальцы наткнулись на шершавую марлю повязки. — Мне здесь сказали, что вы здорово сумели залепить мою рану на голове. Максим сделал неопределенный жест. — И вообще, — продолжала я, — проявили много усердия, пытаясь вернуть меня к жизни. Как хорошо, когда взрослый сильный мужчина может так непосредственно, совсем по-детски смущаться. — Максим… вы успели вовремя. Мне очень не хватало вас там, на холодном берегу… Как наш Петр Иваныч? Максим замешкался. Я встревожилась: — Что с ним? — Теперь уже прошло. Микроинфаркт. Петр Иваныч дожидался меня в машине. А когда я вынес вас из лодки, а вы лежали у меня на руках, как мертвая, вся в крови… Словом, обоих вас я сюда привез. — Так он тоже здесь? — На первом этаже, в кардиологическом отделении. Ему пока запретили вставать. — Бедный Петр Иваныч! Вот какая досада. Мне можно вставать, так я ходить пока не могу. Так хотелось бы его повидать. Максим, устройте что-нибудь. Но тут пришел врач и положил конец обсуждению наших планов. Мы перенесли свидание с Петром Иванычем на завтра.
7
Утром ко мне пришел полковник Приходько. Я уже подумывала, как бы мне ему позвонить, а он явился сам, без звонка. В просторном пиджаке под белым халатом и мешковатых брюках он выглядел как-то очень по-домашнему. Я невольно подумала, что форма, конечно, помогает соблюдать субординацию. Из бумажного кулька полковник вытащил два большущих румяных яблока и положил на тумбочку возле кровати. — Это вам от Бориса Борисовича. Еще там, в Алма-Ате, купил. Я вот не догадался, а он вспомнил. Понравились вы ему. И вообще, как я гляжу, многим вы тут успели понравиться. Крылова здесь в проходной встретил. Очень он сюда стремился, но меня увидел и свою очередь уступил. Узнал, встречались в прошлом. «Здравствуйте, говорит, товарищ полковник!» Свой халат мне отдал. «Я, говорит, после вас». А я его от имени Управления поблагодарил. — За что? Полковник глянул на меня неодобрительно. — За что?… Хотя бы за то, что возле вас так вовремя оказался. Я подумала, что к делам Управления это, пожалуй, имеет мало отношения, но не сказала ничего. — Орлову успел позвонить, — продолжал полковник. — Забрали мы всю компанию. Колесов даже сам прибежал. — Чего это он? — Почуял неладное, испугался. — Аллахова сама не пришла? — Вот Аллахова не пришла. За ней ехать пришлось. Деньги по знакомым прятала. — А Башков? Полковник помолчал. — Башков ушел. Успел. Только сапоги нам свои оставил. Так торопился, что даже домой не забежал. — Значит, все же ушел… — Я тоже помолчала. — Если я что напортила, так ругайте уж сейчас. Уже можно. — Думаете, доктор разрешит? — Разрешит. — А есть за что ругать? — Вы же сами знаете, что есть. — А может, вначале расскажете про свои подвиги? Я постаралась быть краткой. — Ну и ну! — только и сказал полковник Приходько. — Это надо такое придумать… — А что мне оставалось делать? — Орлова предупредить. Меня бы подождали. — А если бы Башков уехал? — А если бы он вас пристукнул в лесу? Или утопил?… Вы понимаете, что вам просто повезло? Я уже не стала говорить, как думала быть собранной, осторожной, не верила, что могу позволить захватить себя врасплох. Да, на самом деле повезло!… — Всех забрали, а Башков таки ушел, — сказала я. — То, что он на меня напал, — это для следствия не материал, как понимаю. — Найдем к нему и другие доказательства. Колесов говорит, что именно с Башкова все и началось. Он тогда был главным бухгалтером Торга и прятал в своей отчетности все их воровские дела. Словом, начали следствие. — Следствие начали, а главного виновника нет. — Отыщем. — Спрячется. Он хитрый. — Куда ему прятаться. По железным дорогам розыск объявили. Приметы… Не успеет спрятаться. Найдем. Так что лежите спокойно, Евгения Сергеевна, поправляйтесь. Закончился ваш «Запах "Шипра"». Полковник встал, отодвинул стул. — Крылову-то хоть спасибо сказали? — Сказала. — Какой все-таки молодец, а?
На следующий день Максим принес мне пижаму. Пока он разыскивал кресло-каталку, няня помогла мне одеться. Ноги меня все еще не слушались. Вернулся Максим ни с чем. Свободных каталок не было. — Ну, как же? — расстроилась я. — Максим! — Ничего! Сейчас что-нибудь придумаем. Он нагнулся и взял меня на руки. Я обхватила его за плечи. Няня побежала открывать двери. Он нес меня по коридору. Встречные больные и сестры смотрели на нас — кто удивленно, кто сочувственно и понимающе. Нетрудно было догадаться, что они думали. Но они ошибались. Просто один очень хороший человек нес меня на встречу с другим очень хорошим человеком. И больше здесь ничего не было…
Башкова сняли с товарного поезда на перегоне Новосибирск — Ачинск раньше, чем я вышла из больницы…
СОЧИНСКИЙ ВАРИАНТ
НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА
1
О том, что Башков — бывший бухгалтер Новосибирского Торга — сумел сбежать из-под стражи еще до начала следствия, я узнала, как только выписалась из больницы. Хотя могла бы догадаться об этом раньше. Навещавший меня полковник Приходько привез мне в больницу по моей просьбе — как-никак, я имела самое непосредственное отношение к тому, что вся шайка расхитителей оказалась под следствием,— копии первых следственных документов, но о побеге главного бухгалтера ничего не сказал. Не найдя протоколов допросов Башкова, я подумала, что следователи решили на первых порах допросить второстепенных участников. Все оказалось не так… В больнице я пробыла более недели. Невольное купание в осенней воде Обского моря обошлось мне дороже, нежели я могла предполагать: не считала себя неженкой, да и по плаванию имела первый спортивный разряд. Жестокий приступ радикулита несколько дней не давал мне даже подняться с постели. Полковник Приходько предлагал место в городской больнице Управления, но я попросила оставить меня в Ордынске. На это были свои причины. Во-первых, Петр Иваныч тоже лежал здесь, только на первом этаже, в кардиологическом отделении. Оставлять его одного не хотелось, а двигаться врачи ему запретили настрого. Во-вторых, меня — в свою очередь — мог чаще навещать Максим Крылов. Он заходил каждый день, приносил неизменную бутылочку с облепиховым соком, и все это, вместе взятое, видимо, ускорило мое выздоровление. Меня выписали, а Петру Иванычу пришлось еще остаться. Он храбрился, говорил врачу, что чувствует себя «превосходно!» — его любимое слово — и порывался уехать вместе со мной, но лечащий врач заявил, что, учитывая характер больного, ему будет полезно полежать еще с недельку. Домой в Новосибирск меня отвез на своем «Запорожце» все тот же Максим. День был самый осенний, пасмурный и холодный. Деревья и кусты по сторонам шоссе понуро опустили к земле тяжелые ветви с желтыми мокрыми листьями. Максим нарядил меня в свою меховую куртку и такие же сапоги, которые взял у своей сестры. Всю дорогу рассказывал занимательные редакционные истории — подозреваю, он кое-что и присочинял для пущего интереса. Конечно, он догадывался, что я работаю в милиции, хотя бы по тому, как часто навещал меня полковник Приходько; хотя тот приходил в штатской одежде, Максим знал его в лицо. Однако в больничной карточке я была записана как товаровед — и для всех я так и должна была оставаться товароведом, пока мое начальство не сочтет нужным сделать гласной мою настоящую профессию. Видимо, Максим это понимал и не проявлял излишнего любопытства. Город встретил нас мелким дождём, пополам со снегом. На четвёртый этаж в свою квартиру я поднялась не так резво, как раньше. Максим шел позади и, наверное, заметил это, но, зная, как я не люблю ненужного сочувствия, промолчал. Я оставила его пить кофе. На кухонном столе уже изрядно запылившаяся — так давно здесь не было хозяев — лежала записка Петра Иваныча: «Уехал с Максимом в Ордынку. Вернусь завтра!». Ниже моя приписка: «Уехала на море. Вернусь завтра!» Восклицательный знак был поставлен мною ради бравады… а он чуть не оказался последним восклицательным знаком в моей жизни. И это «завтра» для нас обоих растянулось чуть ли не на полмесяца… Максим на кухне занял место у стола — там я не запиналась за его ноги. Я включила чайник, сняла с полки жестяную банку с кофе, и тут какая-то зловредная соринка попала мне в глаз. Она была острая и неудобная, попытка промыть глаз водой ни к чему не привела. Тогда Максим зачинил спичку столовым ножом, усадил меня на стул. Я запрокинула голову, он низко наклонился… — Вот она!— Максим победоносно поднял спичку. Я плохо видела сквозь слезы и поверила ему на слово. — Не мешает? — спросил Максим. — Не мешает, спасибо… А я ожидала, что вы меня поцелуете… попутно. Почему мне нравилось смущать его такими бестактными, если не дурацкими фразами, я и сама не знала. Может, это было бессознательное женское кокетство, а может, мне просто нравилось ощущение власти над сильным мужчиной, когда чувствуешь, что он к тебе неравнодушен и твои слова что-то для него значат. Петр Иваныч говорил, что каждая женщина старается завоевать мужчину, подчинить его волю своей, а если это ей в конце концов удается, она часто не знает, куда с таким мужчиной деваться. Мне вспомнилось вдруг — когда я в больнице спросила Максима, какими способами ему удалось привести меня в чувство, он так же смутился, покраснел и сказал, что ничего, кроме растирания, не пришло ему в голову. Он как бы извинялся за такой недозволенный способ, когда спасал меня, окоченевшую, от возможной смерти. Вот и сейчас он не стал отшучиваться. — А вам хотелось, чтобы я вас поцеловал? Тут мне самой пришлось задуматься. — Не знаю, Максим. — Вот и я не знаю. Не уверен, что вы этого желали. Я тоже без улыбки посмотрела в его темные спокойные глаза: — Хороший вы человек, Максим. В вас, наверное, часто влюблялись женщины. — Что-то не замечал. — Наверное, потому, что вообще мало уделяете им внимания. Меня тянуло спросить, много ли внимания он уделял своей жене, но ее уже не было в живых, вопрос был явно неуместным… Тут зашипел чайник, и я принялась готовить кофе «по-бразильски», по рецепту Петра Иваныча.
2
Если у вас дома телефон, то большинство новостей приходит к вам вместе с телефонным звонком. Я сняла трубку. — Да! Слушаю вас… До меня доносились только тихие потрескивания с линии. Мне казалось, что я слышу дыхание человека, но трубка молчала. Я невольно вспомнила, как несколько дней тому назад вот так же позвонил Башков, чтобы только узнать, дома я или нет. Я положила трубку. Телефон зазвонил опять. Некоторое время я смотрела на него с недоверием. На другом конце провода оказался полковник Приходько. Он спросил, как я себя чувствую. Я ответила в стиле Петра Иваныча. Тогда полковник попросил разрешения навестить меня дома вместе с Борисом Борисовичем. Я наспех вытерла пыль, подмела пол. Вытащила из шкафа свой брючный костюм, осмотрела его при дневном освещении. На куртке обнаружились пятна — следы памятной вечеринки у Аллаховой,— я замыла их и загладила утюгом. На вороте свитера, в котором я купалась в Обском море, заметила кровяные следы, но их тоже мне удалось вывести. Одевшись, по частям оглядела себя в нашем зеркале — целиком я в него не входила. И невольно подумала, как давно не надевала свой форменный китель с серебристыми погонами лейтенанта,— говорили, что он мне очень шел. Но китель, вместе с погонами и милицейскими документами, по-прежнему хранился где-то в Управлении. Прибирая, я не забывала поглядеть через кухонное окно на наш подъезд, ожидая, что мои гости подъедут на машине,— на улице было грязно. Но увидела их на дорожке, которая тянулась к нам от соседнего дома. Значит, свою машину полковник оставил за углом. Он и Борис Борисович были в штатских пальто и шляпах. Из этого я сделала вывод, что мой начальник не собирается рассекречивать своего сотрудника. Приходько шел, засунув руки в карманы пальто, сдвинув шляпу на затылок. Невысокий и грузный, он сейчас более чем когда-либо походил на комиссара Мегрэ, каким его изображал артист Тенин,— не хватало только трубки. Это сравнение первым пришло мне в голову, Его помощник Борис Борисович — я никогда не видела его в форме и не знала, в каком он звании,— шел на полшага сзади за полковником и нес объемистый портфель. Я примерно догадывалась, что в портфеле: уже изучила привычки своего начальника. Пока мои гости поднимались на четвертый этаж, я успела достать и протереть стаканы — бокалов ни у меня, ни у Петра Иваныча не было; стаканы составила на подносик вместе с хрустальной вазой (единственный наш предмет изящной сервировки подарили Петру Иванычу к какому-то дню рождения). Ваза предназначалась для пирожных, которые тоже должны быть в портфеле — полковник держался стандартных представлений о женских вкусах. Лично я сладости не любила, но не считала нужным сообщать об этом. Правда, на этот раз я приятно ошиблась, вместо пирожных в портфеле оказались груши. И, конечно, бутылка шампанского. Полковник видел меня в больнице всего день назад, но заметил, что в домашней обстановке я выгляжу куда лучше. Борис Борисович даже поцеловал меня в щеку,— полковник сказал, что занесет это действие в разряд служебных мероприятий. Я принимала гостей в своей комнате, застелив старенький письменный стол скатертью, которую стащила со стола из комнаты того же Петра Иваныча, свою я так и не удосужилась завести. Вероятно, шампанское согрелось в машине, да еще взболталось по дороге; когда Борис Борисович освободил пробку, она вылетела со звуком пистолетного выстрела. Я даже вздрогнула от неожиданности, хотя в свое время выстрелов наслушалась предостаточно. Видимо, нервы мои пока еще не пришли в норму. — Ты, Борис Борисович, поосторожнее с пробками-то,— сказал полковник. — Мой приятель, майор от авиации, вот так же под Новый год открывал бутылку, а пробка и угоди ему в глаз. И что ты думаешь, пришлось заказывать стеклянный. — Так сразу и стеклянный?— усомнился Борис Борисович. — Представь себе. Войну прошел. Сколько смертей его миновало, а глаз за столом потерял. И не смешно. Какой там смех, комиссовали его после Нового года. В гражданскую оборону работать перешёл. Вот тебе и пробка!… Ну, Евгения Сергеевна, доброго вам здоровья! Груши были на редкость вкусными и сочными пришлось достать бумажные салфетки. — Отличные груши!— похвалила я.— Неужели из магазина? — Где там! На рынок с Борисом Борисовичем ездили. Я выбирать не умею, он и покупал. Торговался даже… Ты обратил внимание, Борис Борисович, когда тебе тот черноглазый красавец сдачу отсчитывал, какую папушу денег из кармана вытащил? С подушку добрую. Ох-хо-хо! Не доходят руки у наших снабженцев, чтобы такие груши в магазин привезли. — Руки у них доходят,— заметил Борис Борисович,— вот груши до нас не доходят. Полковник Приходько долго и старательно — слишком долго и слишком старательно — вытирал пальцы салфеткой. Борис Борисович уже не улыбался, а как-то выжидающе на него поглядывал. Пауза затянулась, я забеспокоилась. — Неприятности какие-то? Полковник скатал салфетку, положил на стол! — Есть немножко. — А что случилось? — Ваш бухгалтер сбежал. — Как сбежал? — Очень просто, как обычно бегут. Там же, в Ачинске, где с поезда сняли, там и сбежал. Так уж ему повезло. Сначала нам повезло, что сразу задержали: проводник на него наткнулся. Без билета, без документов — сообщил о нем в милицию. А в милиции уже наш запрос лежал. Словесный портрет. Ну, Башкова к нам и решили отвезти. Дело ночью было. И надо же, пьяный шофер на ЗИЛе в милицейский «газик» врезался. Шофера и конвойного помяло, а вашему бухгалтеру хоть бы что. Когда люди подбежали — его и след простыл. Мало того, он успел у конвойного деньги из кармана вытащить, зарплату тот как раз получил. Да еще его пистолет с собой прихватил. — Вот пистолет-то ему совсем не нужен. — Конечно, не нужен. Что, он нас напугать думает? Не видали мы пистолетов. Вот, старый уже, а глупый. — Давно сбежал? — Той же ночью, как задержали. Неделю тому назад. — Мне ничего не сказали. — Расстраивать вас не хотел попусту… Да вы не огорчайтесь, Евгения Сергеевна, не пропали ваши хлопоты даром. Воровскую «фирму» всю задержали — вам спасибо! И бухгалтера найдем, куда он от нас денется. — Трудно будет искать. — Труднее, согласен. Осторожнее станет. — Почему он в Ачинск побежал, может, у него кто там есть? — Посмотрели его личное дело, поспрашивали — вроде бы никого нет. Сунулся в первый попавшийся поезд. Борис Борисович его делом занимался, проверял. Борис Борисович кивнул молча. Как обычно, он сидел тихий, безучастный вроде, но я знала, что он все слышал, и память у него была, как у электронно-счетной машины. Возможно, за эти качества и держал его при себе полковник Приходько. — С юга он, с Кубани,— сказал Борис Борисович.— На ачинский поезд мог случайно заскочить. Торопился очень. — Торопился,— согласился полковник.— Даже домой за деньгами не зашел. Понимал, что по его следу уже идут. — В Новосибирске с пятидесятого года живет,— продолжал Борис Борисович.— И знакомые у него все здешние, местные, знают его. — На юг ездил частенько. — А чего было не ездить,— вставил полковник.— Деньги были, холостой, одинокий. — Ну, не всегда одинокий,— сказала я. Полковник покосился на меня: — Само собой — не всегда. Но с женой развелся, говорят, лет десять тому назад. — Шесть лет,— сказал Борис Борисович. — Жену его я знаю,— сказала я.— Тоже на юге живет. Она сюда к Петру Иванычу приезжала. Она же бывшая жена Петра Иваныча. — Скажи-ка!— удивился полковник.— Мало того, что он в государственный карман забраться сумел, он другой рукой еще чужую жену увел. Ну, ловкач! А чего ей с ним не пожилось, не говорила? — Сказала, что ушла от него сама. По моральным соображениям. — По моральным? — Женщины!— пояснил Борис Борисович.— Говорили, что покойная Бессонова его любовницей была. Тут уж удивилась и я: — Разве? Ведь у нее жених был. — Так это еще до того. Я вспомнила Валюту, и мне не хотелось верить. Такого поворота я не ожидала. Здесь было над чем подумать. Полковник только вздохнул молча, не глядя на меня. — Деньги!— произнес Борис Борисович.— Приучила девчонку Аллахова к деньгам, приохотила. А денег у Башкова, видимо, было много. Я и верила, и не верила. Полковник перебил мои размышления: — Я на него пока гласный розыск не объявил. Тем более, что фотография у нас старая, из личного дела. А там он еще с усами снят. — Усов у него уже нет,— сказала я. — Я попросил нашего фотографа его «побрить». Покажи, Борис Борисович, что получилось. Похож? Я пригляделась к фотографии: — Весьма приблизительно. Сейчас он совсем не такой. Думаю, трудно будет тому, кто его в глаза не видел, по этой фотографии распознать. — Трудно, значит? Что ж, другой у нас пока нет. Вот я и не вывешиваю. Пугать Башкова заранее не хочу. — А он здесь, думаете? — Если он даже прятаться собрался, паспорт ему новый нужен. А здесь кое-кто из друзей-приятелей еще на свободе, помогут. Хотя бы этот… директор ателье. — Саввушкин,— подсказал Борис Борисович. — Вот, этот самый. У него тоже рыльце в пуху, — Саввушкина не взяли? — Пока бегает. Нет у нас против него явных улик. Одна накладная липовая и боле ничего. Он пока у нас как свидетель проходит. Если Аллахова молчать будет, мы к Саввушкину не подберемся. — А она молчит? — Не то, чтобы совсем молчит, но и ничего серьезного не говорит. Опытная… Так, по мелочам признается. И то, когда носом ткнут. «Ах, я же совсем забыла!» Актриса, куда там. А время идет. Чувствую, что у прокурора продления срока следствия просить придется. А что я могу? Два ревизора днем и ночью сидят, бумажки перебирают. А их там… Да еще уничтожено много… Как в потёмках, ощупью действуем. — А если не найдете? — Вы мне этого слова и не говорите. Вот, ей-богу, если бы Башков к нам пришел, да рассказывать начал — мужчина, все-таки, я на мужчин больше надеюсь, я бы на него первый ходатайство написал. Учитывая, мол, добровольное признание… — А как же Бессонова? Здесь полковник задумчиво посмотрел на меня. Я понимала его. Мой начальник мыслил профессионально и заключения свои делал только на основании бесспорных фактов. А фактов, прямо уличающих Башкова в смерти Бессоновой, ни у следователя, ни у полковника Приходько — да и у меня тоже — не было. Но и разубеждать меня полковник тоже не стал. Он так же задумчиво постучал пальцами по столу и заключил: — Нужен нам Башков, очень нужен. Искать будем. За паспортом, за деньгами ли, а в Новосибирске он появится. А деньги у него где-то здесь прячутся. Опять же, сын у него здесь в городе живет… — Ну, сыночку он свои капиталы не доверит. — Почему так думаете? — Видела я его — за деньгами к папочке прибегал. Полковник Приходько с улыбкой глянул на Бориса Борисовича: — Ты погляди, какой у нас детектив. Даже и с сыном встречалась. — Удачливая!—согласился тот. — Удачливая — это верно. Да, да, вы не обижайтесь, Евгения Сергеевна, не умаляя ваших профессиональных заслуг,— поработали вы хорошо,— скажу: к вам еще и судьба благоволит. Счастливые случайности в нашем деле вот как редки, а вам, скажу, везет. Тьфу-тьфу, конечно!… Даже там, где, что называется, на рожон лезете — и то сходит… А вот был у нас оперативник, как его… — Батюшков,— подсказал Борис Борисович. — Вот, вот — Батюшков! Такой был усердный, такой исполнительный, поищи, не найдешь. А что ему ни поручи — все завалит. Вроде все по правилам делает, по уставу — не придерешься. А получается и не то и не так. Да еще что-либо себе схлопочет, либо железкой по голове, либо на ножик налетит. В угрозыске работал — из госпиталя не вылезал. — Вроде меня. — Вроде вас! — возмутился полковник.— Да на вашем месте он утонул бы, обязательно. — А где он сейчас. Живой? — Живой. В паспортном отделе работает. — Да…— протянула я невольно.— Не хотелось бы мне в паспортный отдел. Полковник Приходько похлопал меня по руке: — Будет вам, Евгения Сергеевна! Мы еще с вами половим жуликов. В прихожей, уже надев пальто, полковник вдруг остановился. — Вооружился, значит. Ах, дурень! А поди, и стрелять не умеет. — Умеет,— сказал Борис Борисович.— В армии был. Я его личное дело смотрел. — Ну и что? — Младший лейтенант. Во время войны находился при штабе дивизии. — Поди, писарем каким? — Ранение имеет и медаль «За боевые заслуги». — Вот как! Полковник Приходько застегнул пальто, взял шляпу и постоял некоторое время в задумчивости. — Как его судьба развернула, за тридцать-то лет. В фашистов стрелял, а теперь в нас с тобой стрелять собирается. Нехорошо выходит, Борис Борисович, а?… Гости ушли. Я опять переоделась в халат. Унесла на кухню посуду. Пока мыла стаканы, невольно вспомнила свой последний визит к бывшему главному бухгалтеру Торга, когда-то защищавшему на фронте свою Родину, а потом разменявшему совесть на ворованные рубли. Вспомнила, как он встретил меня, провел в комнату, где на столе в высоком синем бокале белели хризантемы, а в хрустальной граненой вазе оранжево светились апельсины. Он бренчал на гитаре, поглядывая на меня выразительно. Мы пили коньяк, танцевали даже. Я играла роль, хотя мне совсем не хотелось походить на одну из женщин, которые, как я догадывалась, залетали к нему на одинокий хмельной огонек. Кажется, он почувствовал это, держался со мной вежливо и пристойно; сорвался он всего один раз, но мне не стоило большого труда поставить его на место… Я уже знала, кто он, а вот он еще не догадывался об этом. Мне же нужно было, чтобы он начал меня подозревать; я затеяла рискованную игру, которая чуть не закончилась для меня плохо. Повезло!— как сказал полковник. На самом деле повезло… И все впустую, он на свободе, и никто не знает, где его искать. Надо было ложиться спать, но я чувствовала, что мне не уснуть, и направилась в комнату Петра Иваныча, сбросила тапочки и забралась с ногами в его старое покойное кресло, которое обладало удивительным свойством — в нем я обычно быстро засыпала. На этот раз что-то разладилось или в кресле, или во мне, я долго вертелась, устраивалась так и этак и вроде бы начала уже дремать, как меня разбудил дверной звонок. Звонок был осторожный, короткий — я вначале подумала, что ослышалась. Звонок не повторялся, но какое-то внутреннее чутье подсказывало мне, что звонок был. Что тот, кто звонил сейчас, стоит за дверью и ждет, когда я открою. Я накинула на плечи плед, зацепила пальцами ног тапочки и, то и дело теряя их на ходу, полусонная прошлепала в прихожую и зажгла свет. Не сразу справилась с замком, чертыхнулась про себя и с досадой резко распахнула дверь.
3
Почему-то я не испугалась, даже не удивилась. Узнала его сразу. Чуть более недели тому назад он сидел передо мной в лодке, которую сильно качала волна, я глядела ему в лицо, освещенное отдаленными отблесками костра, и пыталась увидеть в его глазах хотя бы следы растерянности или страха, когда я сказала, что именно с ним встретилась той ночью на лестнице, возле квартиры Бессоновой, а ее потом нашли в постели, задохнувшуюся в газовом чаду. Тогда он только рассмеялся мне в лицо. И тут резко качнул лодку и опрокинул ее… Повторяю, сейчас я не испугалась. Да и он смотрел на меня без угрозы, мягко и даже как-то просительно, как бы извиняясь за неожиданный поздний визит. — Здравствуйте, Евгения Сергеевна!— сказал он. На площадке, этажом ниже, хлопнула дверь. Он глянул вниз, потом поверх моего плеча в прихожую, видимо, желая убедиться, что там никого нет. — Здравствуйте!— наконец ответила я. — Мне показалось, что вы меня не узнали. — Нет, узнала. Просто удивилась. — Можно мне к вам зайти? Я ответила не сразу. Перед моими дверями стоял человек, бежавший из-под стражи, его разыскивает милиция, следовательно, я должна помочь его задержать. Могу тут же захлопнуть дверь, быстро позвонить, пришлют «оперативку», район оцепят, и, вероятно, он не успеет уйти… И тут же решила, что делать этого не нужно. — Я ненадолго, Евгения Сергеевна. — А вы не ошиблись?— спросила я.— Вам на самом деле нужно ко мне, а не в милицию? — Нет, не ошибся. Именно к вам. В левой руке его были перчатки, правая глубоко опущена в карман пальто. Он опять глянул поверх моего плеча, а я пристально на его правую руку, он перехватил мой взгляд и тут же вынул руку из кармана. — Тогда проходите,— сказала я. Он вошел в прихожую, я закрыла за ним дверь. — Может быть, я не вовремя? — Нет, в самый раз. Только что вспоминала о вас. — Вспоминали? — А что же вы думаете? Слишком дорого обошлось это знакомство. — Да. Мне — тоже. — Раздевайтесь! Он снял мокрую шляпу, аккуратно стряхнул ее в углу, стянул пальто, повесил на вешалку. Что-то стукнуло о стену. Я догадалась. — Кроме меня никого в квартире нет. И никого не жду. Ботинки можете не снимать. — Спасибо. — Только подождите минутку. Я чуть приберу в комнате. — Пожалуйста. Вы извините меня… — Ничего. Я быстро. Я вошла в комнату, застелила постель. Сняла халат, надела джинсы и свитер. Открыла дверь в прихожую. Башков стоял, засунув руки в карманы пиджака и поглядывая на дверь. Кто-то громко топал, поднимаясь по лестнице. — Это не ко мне,— сказала я.— Проходите и устраивайтесь, где вам удобно. Проходя мимо меня, он придержал правой кистью карман пиджака, и я поняла, что он переложил туда пистолет из пальто. Присел к столу, положил руки перед собой, крепко переплел пальцы. Я молчала. Пауза затянулась. Он отвернулся, уставился на свои переплетенные пальцы и трудно вздохнул: — Вот… пришел. Извините, что поздно. Гости у вас были, ждал, когда уйдут. Сам полковник Приходько, собственной персоной. Он взглянул на меня. Я опять не сказала ничего. — Евгения Сергеевна, вы в милицию позвонить не желаете? — А вы хотите, чтобы я позвонила? — Нет, не хочу. В милицию я мог пойти и сам. — Тогда будем считать, что вы у меня в гостях. Он похудел за эти дни, черты лица стали резче, грубее. В углах губ прорезались глубокие морщины. Но как и раньше, он был аккуратно подстрижен, чисто побрит, воротник рубашки свеж и поглажен, и галстук завязан правильным узлом. Вот только «Шипром» от него уже не пахло. — По грузинскому обычаю,— сказал он,— даже враг, приходя в гости, может рассчитывать на гостеприимство хозяина, так, кажется? — По-грузински так. — А у вас? — И у меня так. Пока вы гость. — Понимаю. — А я вот в этом не уверена. Уж коли вы вспомнили про обычай — когда идут в гости, оружие с собой не берут. Башков повернулся ко мне, прищурился, на щеках его заходили злые желваки. Но я с упрямым спокойствием встретила его недоверчивый взгляд. Башков тут же отвел глаза, плечи его обмякли, он достал из кармана пистолет, подал его мне, но я не протянула руку, тогда он встал, положил пистолет на тумбочку возле кровати и опять вернулся к столу. — Так зачем же вы ко мне пришли? Он положил руки на колени, опустил голову. — Смешно, конечно… — Да нет,— возразила я,— Мне, например, не смешно. Тогда он исподлобья быстро взглянул на меня. — Вам неприятно мое присутствие? Может, вы боитесь меня или еще что, тогда скажите сразу, и я уйду. — Нет, я вас не боюсь. Я вас просто не понимаю. — Совсем не понимаете? — Могу только догадываться, но все это на вас так не похоже. Вы — такой здравомыслящий человек, расчетливый. — Как же — бухгалтер! — И вдруг… — …веду себя так глупо и нелепо. То собираюсь вас утопить, потом бегу из-под стражи и опять прихожу к вам — к женщине, благодаря которой под эту стражу попал. Да еще рискую, что она позвонит по «ноль-два», и я опять отправляюсь туда же, откуда бежал. Вы это хотите сказать? — Примерно. — Да, на бухгалтера не похоже… — Оправдываться пришли? — А вы поверите? Я помедлила: — Не знаю. Он опять потупился: — Ну, поверите там или нет, а уж коли пришел… Утопить-то вас я по-настоящему хотел. — Поняла уже, что не шутили. — Не шутил, верно. Не до шуток мне было. Особенно, когда дали вы мне понять, что охотитесь за мной. Как кошка за мышью. И все у вас по форме сходится. Ведь на самом деле заходил я к Бессоновой, только убивать ее у меня и в мыслях не было. А тут вы на меня такую бочку катите, мне и посторониться некуда. Все подозрения на меня, и оправдаться нечем. И такое меня тут зло на вас разобрало. Раздумывать-то некогда было, вот и решил… концы в воду!… Пьяный был, на трезвую голову такое бы не пришло. Он замолчал, ожидая каких-то моих слов. Но говорить мне пока было нечего. Я не очень ему верила. Слишком уж прочно засела во мне убежденность в его вине. — Поймали вы меня на испуг,— продолжал он.— На запахе «Шипра» и поймали. И здорово у вас получилось, ничего не скажу. Умница вы, Евгения Сергеевна… Ну, да я сейчас не о том говорю… Он сильно потер лицо ладонью. — Потом уж сообразил, кто вы и чего ради всю эту охоту на меня затеяли. А ведь когда в лодку садились и разговор свой завели — понимали, что рискуете. Что опасно со мной вам, женщине, в такие игрушки играть. Но пошли вы на этот риск, и не ради выгоды какой-то, а по убеждениям своим. А даже сквозь всю вашу игру порядочность ваша чувствовалась. Только это я уже потом понял. А когда понял, то, может быть, впервые над своей жизнью задумался. Ведь я на фронте был, воевал. И бухгалтер был, как говорили,— от бога. Не хвастаюсь, сколько раз на Доске почета висел, грамот у меня — папка целая. А тут разок у Аллаховой легких денег хлебнул, и все сразу пошло-поехало. Заторопился жить, радоваться, веселиться. Деньги, все деньги — за деньги и все радости, тряпки, гулянки… С женой развелся — совсем просторно стало. Женщины пошли всякие, чего ж скрывать. Только возле денег какие женщины, так…— он словно отмахнулся от кого-то ладонью.— И вдруг — вы! Поверьте, я не комплименты пришел говорить, в отцы вам гожусь… Он переплел и крепко сжал пальцы, так что побелели суставы. — Может, и не поверите, а я всю эту неделю, как сюда приехал, о вас думал. Вроде и не до того мне было — на вокзале ночевал. К сыну идти побаивался — подвести не хотел, он хоть и барахло, а все-таки сын… Сяду на электричку до Черепанова, четыре часа туда — четыре обратно. Сижу, дремлю. А если не дремлю — вас вспоминаю. Как вы у меня в гостях были, кофе пили вместе. Пел я вам что-то, на гитаре бренчал, а вы слушали. И улыбка у вас была такая… хорошая улыбка. И так мне хотелось еще раз на вас посмотреть. Поговорить. Чтобы вы меня последним подлецом и убийцей не считали. Пойду, думаю. Примет — не примет, а я пойду. А примет, так расскажу все, как есть. Вот и пришел. Раньше бы пришел — в больнице вы лежали. Понимал, что из-за меня, да ничего не поделаешь. Сколько раз туда звонил, узнавал, когда выпишетесь. Больничные нянечки передавали мне о звонках, я думала, что звонили с работы или из Управления. — Домой ко мне сегодня тоже вы звонили? — Тоже я. — Трубку положили. — А что мне оставалось делать? Не мог же я сказать, что в гости к вам собираюсь. Вы же думать стали бы, маяться, как вам быть… Вот и пришел просто так, незваный, негаданный… Евгения Сергеевна, у вас стаканчик воды найдется? В горле что-то пересохло. — Я вам кофе заварю. — Стоит ли затрудняться. — Какой труд. Кроме того, я перед вами в долгу. Правда, принять вас, как вы меня принимали, не смогу. Да и не ожидала, признаться. — А то бы позвонили по «ноль-два»? Я не ответила на его улыбку. — Может быть, вы есть хотите? — Нет, нет, что вы, я сыт. На вокзале буфет работает. Только пить. Я прошла на кухню, налила в кофейник горячей воды, насыпала кофе. Присела на табуретку. Неожиданный приход Башкова заставлял меня заново пересмотреть свои удобные — уже ставшие привычными — представления о нем, как о простом жулике и возможном убийце. Его взволнованное признание казалось мне искренним. Я догадывалась, что в темной душе моего бухгалтера сейчас идет жестокая ревизия прожитого, переоценка ценностей, борьба между злом и готовностью ответить перед людьми за это зло. И как бы ни была мала и случайна причина, толкнувшая на такую ревизию, она заставила его совершить необычайный в его положении поступок — прийти ко мне. Как я должна ответить на такое доверие? Позволить ему уйти? Я не имею права так поступить, раз взяла на себя определенные обязательства перед законом. Я сидела понурившись и думала, что, наверное, я все-таки никудышный работник милиции, если не могу в такой ситуации выбрать для себя точную линию поведения. Конечно, рано или поздно Башкова возьмут и без меня. Как загнанного хищника, прижмут рогатиной в углу и возьмут. И другой судьбы у него нет… И все же, если у него достало решимости прийти ко мне, можно думать, что ее хватит и на другой, более смелый поступок — прийти самому в милицию. Явка с повинной… Кофейник на плите зашипел и зафыркал, как бы возмущаясь тем, что я собираюсь пристроить слишком уж красивый конец к этой нелегкой, непростой и совсем некрасивой истории…
4
Когда я с чашкой кофе и вазочкой с овсяным печеньем вошла в комнату, то увидела, что Башков спит, положив голову на сложенные на столе руки. Осторожно поставила чашку и вазочку на стол, взглянула на тумбочку. Старенький «Макаров» с протертыми до блеска гранями лежал на месте. Я присела на кровать, она скрипнула. Башков быстро вскинул голову, встревоженно повернулся. — Пейте кофе,— сказала я. — Уснул, извините. На вокзале пришлось спать, а там сон, сами понимаете, какой. Он взял чашку обеими руками, выпил залпом. Вытер губы ладонью. — Налить вам еще? — Нет, спасибо большое. — Как вы узнали, что я в больнице? — Сказали тут…— уклонился он. — Поди, Саввушкин? Он усмехнулся. — Саввушкин меня пуще чумного боится. Сам висит на ниточке. Да и другие тоже… А я хожу по городу, не прячусь. Будь что будет. В кустах отлеживаться не хочу… И вот странно мне, Евгения Сергеевна, что я на вас не в обиде. Вроде бы ненавидеть должен лютой ненавистью. Всю жизнь мою разрушили. Оставили одну тревогу. — Избавьтесь от нее. — Каким же путем?… Самому в милицию прийти — это не по мне. Пусть ищут, пусть берут, такая у них служба, за это им зарплата идет. Когда меня с поезда сняли, я подумал: ладно, все! Смирился. И вдруг судьба подбрасывает шанс. Подумать, шофера и конвойного оглушило, а мне хоть бы что. Вот — повезло. — И с деньгами повезло. — Да, хорошо, что напомнили. Он достал из кармана толстую пачку денег, отсчитал несколько десятирублевок, положил на стол. — Что это?— не сразу сообразила я. — А это я у конвоира позаимствовал, попутно. Надо же было как-то домой добираться, вот и взял, заимообразно. Когда вы полковникуПриходько обо мне рассказывать будете — деньги передайте. Пусть их конвоиру вернут. — В благородство играете? — Ах, Евгения Сергеевна… Ну, а если и играю, то чуть-чуть всего. Порядочным, конечно, через это я для вас не стану, но и простым карманником выглядеть тоже не хочу. Конвоир — работяга простой. У него, поди, семья, каждая копейка на счету. А у меня пока деньги есть… Деньги… ох уж эти деньги! Поздновато я им цену определил. Поверьте, если бы мог все государству вернуть… — Всего не вернете. — Верно, не верну. Потратился. — Я говорю не про деньги. Я хотела возобновить разговор о Бессоновой; даже если поверить Башкову, что он в ее смерти не виноват,— здесь я, честно говоря, все еще сомневалась,— то в том, что она, совсем еще молодая девчонка, стала воровкой, есть и его доля вины. Я бы завела беседу об этом, но тут не ко времени звякнул телефонный звонок. Башков напряженно выпрямился, вопросительно и тревожно взглянул на меня. — Это телефон,— сказала я.— Чего вы забеспокоились, вы же у меня в гостях. Извините, я подойду. Некому вроде бы, двенадцатый час уже. Я вышла в прихожую, оставив дверь открытой. Так и есть, кто-то звонил в гостиницу, а попал ко мне. Я вернулась к своему гостю; он уже поднялся со стула. — Пойду, Евгения Сергеевна. Засиделся. Он поглядел на пистолет. — Оставьте его здесь,— сказала я мягко.— Не нужен он вам, поверьте… Ничего не ответив, он не спеша взял пистолет с тумбочки. Подбросил его на ладони, как бы взвешивая, задумчиво глядя перед собой на темное окно. Потом положил пистолет обратно на тумбочку. — И то правда. Все карманы им порвал… Он повернулся ко мне, чинно, одной головой поклонился и вышел. Натянул в прихожей пальто. Долго застегивал пуговицы. Взял шляпу. — Евгения Сергеевна, как я понимаю, вам нужно будет полковнику позвонить, когда я уйду? Я промолчала. — Конечно, нужно… Так разрешите, я сам ему позвоню. Только не отсюда, а вот выйду и с автомата позвоню. — Зачем это вам? — Избавлю вас от лишних объяснений. Я обязательно позвоню. Вы мне верите? — В данном случае — да. — В данном случае?… Ну и на том спасибо. И за гостеприимство ваше тоже спасибо. За кофе. Отличный вы варите кофе, Евгения Сергеевна. Уверенно и сразу открыл замок, распахнул дверь и вышел не оглядываясь. Я слышала его шаги, как он спускался по лестнице, услыхала, как хлопнула дверь подъезда. Подумала, что если сейчас сама позвоню в наше железнодорожное отделение, то через какие-то пять минут дежурная «оперативка» будет возле нашего дома… Я пошла на кухню, выключила свет, поглядела в окно и увидела темную фигуру, которая завернула за угол, где стояла будка телефона-автомата. На черные оконные стекла вместе с капельками дождя ложились белые пухлые снежинки. Какую-то секунду они ярко поблескивали в отраженном свете электрической лампочки, горевшей в передней, потом тут же таяли, а на их место ложились новые, такие же белые и пушистые, и тоже таяли, превращаясь в мутные капельки… Позвонил полковник Приходько. — Евгения Сергеевна?… Фу, а я напугался тут, признаться. Дежурный мне передал. Бухгалтер Башков вас навестил? — Был, товарищ полковник. — Ну и что? — Поговорили. — Он вам не угрожал? — Что вы, наоборот. Пистолет мне оставил. Полковник только хмыкнул в ответ, я не разобрала — сердито или весело. — Я собирался «оперативку» в ваш район послать. — Поздно, по-моему. — А почему раньше не позвонили? Я помедлила чуть: — Не могла. Видимо, в моем ответе прозвучало сомнение в необходимости этого звонка, и полковник Приходько уловил его. В трубке что-то затрещало, он подождал, когда утихнет линия. — Знаете, Евгения Сергеевна, я предполагаю, что у вас новые мысли появились по этому поводу. — Появились, товарищ полковник. Не совсем, правда, ясные… — Вот и у меня появились. Полезно нам будет обменяться мыслями-то, как вы думаете? Не по телефону, конечно.
5
Ночью долго не могла уснуть. Утром встала с головной болью. Готовить себе ничего не хотелось, да и есть не хотелось, на кухне все валилось из рук; любимая чашка Петра Иваныча не разбилась только чудом. Я бродила по квартире, сердито жужжа себе под нос, как осенняя муха. Максим бы позвонил, что ли! Но Максим не звонил; и никто не звонил, никому я со всеми своими настроениями не была нужна на всем белом свете. И я занялась тем, чем обычно занимается женщина, когда никого не ждет и самой ей не к кому идти — уборкой квартиры. Я вытащила из-под кровати старый пылесос. Конечно, он не работал, но это меня уже не могло остановить. Я сняла с него крышку, забралась в его электрическое нутро. Вспоминая школьную физику, а главное, что ток течет по проводникам, я нашла неисправную щетку, и пылесос заработал. Ковров у нас с Петром Иванычем — слава богу!— не было. Я прочистила пылесосом, где могла, и вымыла там, где могла. И как только сама стала под душ, тут, конечно, и зазвонил телефон. Мне не хотелось выбираться из ванной, но на телефоне мог быть полковник Приходько. Я замоталась полотенцем и прошлепала в прихожую. Это оказался Максим. Он звонил из своей Ордынки, в трубке что-то хрипело и сипело, я слышала Максима плохо и попросила говорить громче, а он сказал, что уже кричит на всю Ордынку, и если я высуну голову в форточку, то услышу его и так. Придерживая локтями сползающее полотенце,— от дверей здорово дуло,— я наконец разобрала, что он только что вернулся из больницы, что Петр Иваныч чувствует себя превосходно (иначе он себя никогда не чувствовал!), что беспокоится, как я тут одна, а главный врач обещал выписать его в начале будущей недели. После разговора с Максимом и после душа у меня восстановилось любопытство к окружающему миру, и я решила навестить Риту Петровну. Кстати, это избавляло меня от возни на кухне, рядом с Главным складом Торга имелась кафе-закусочная. У соседнего подъезда я увидела знакомое пальто. Остановилась сразу, пригляделась. Нет, ошиблась. Пальто похожее, но его обладателем был не Башков. Трамвай привез меня в Дзержинский район. Давно я не была в этом кафе. Все в нем осталось на своих местах, включая столик у окна, из которого проглядывались входные двери Главного склада Торга. Вот только буфетчица оказалась уже другая. Не прежняя вульгарная баба в мохеровой кофте с золотыми кольцами на руках, а молоденькая девушка, видимо, только что из торгового училища. Обслуживала она посетителей грубо и неприветливо, с видом оскорбленного достоинства,— кстати, таким выражением часто отличаются многие молоденькие официантки и продавщицы. Удивительно, когда они успевают приобрести эти «профессиональные» качества. Я взяла три беляша. Взяла бы еще, но постеснялась своих соседок по столику, милых девушек, которые взяли всего по два и, оттопырив мизинчики, ели беляши не спеша и аккуратно. Я тоже элегантно вытерла пальцы салфеткой и покинула кафе. С некоторым волнением переступила порог Главного склада,— как-никак, он оказался для меня сценической площадкой, на которой я играла свою первую роль в уголовной пьесе, где режиссером был полковник Приходько. Здесь клали в свои карманы многие тысячи государственных рублей Аллахова и ее компания, а их дела надежно прикрывал главный бухгалтер Торга. Сейчас мне любопытно было посмотреть, как тут устроилась добросовестная Рита Петровна. Перемены я увидела сразу. Пышный, обтянутый красным бархатом «альковный» диван, который когда-то находился в кабинете Аллаховой, стоял в вестибюле. Рита Петровна встретила меня у двери. — В окно увидела, что ты идешь. Она сердечно обняла меня, потом оттолкнула, оглядела критически: — Похудела! Не кормили тебя там, что ли?… Ну, да кости целы — остальное нарастет. Все собиралась к тебе приехать, а тут такое закрутилось — спать некогда. К себе не приглашаю, там ревизор с бухгалтером бабки подбивают. Посидим здесь. Смотри, какой диванище я получила в наследство. В кабинете стоял. — Чего ж выставили, сидели бы на нем сами. — Да зазорно мне, старухе, с таким диваном-то. Прямо — кровать двуспальная. Да еще красный! Теперь сторожиха на нем спит. Присядем пока и мы здесь. Я рассказала все, что могла рассказать. Про поездку на море в веселой компании Башкова, его сына и приятелей. Про неудачную прогулку на лодке, которая привела меня в ордынскую больницу. Рита Петровна многое уже знала, конечно. Вероятно, ожидала от меня больше подробностей, кое-какие слухи, несомненно, дошли и до нее. Всю правду говорить ей я не могла, а врать не хотелось,— меня выручило случайное обстоятельство, как говорится, появление третьего лица. За дверями послышался тяжелый топот, дверь с шумом распахнулась и в вестибюль ввалилась, как тяжелый танк, Маша — Маша из Чугунаша — грузчик с восьмого склада Торга, которую Рита Петровна, конечно, забрала с собой и сюда. Маша обрадованно кинулась меня обнимать, потом с маху плюхнулась рядом на затрещавший диван. — Тише ты! — сказала Рита Петровна.— Который стул мне ломаешь, а это диван. Вот лошадка, прости господи!… Иди скажи Федору, чтобы ящики с польским гарнитуром в сарай перенесли, а то дождь намочит. Да с гарнитуром ящики, а не с кафелем, поняла? — Поняла! Маша так же стремительно кинулась к дверям, и если бы входящий посетитель вовремя не шарахнулся в сторону, то быть бы ему придавленному к косяку. Я его узнала, хотя видела всего второй раз. Маленький, кругленький, он походил на смазанный маслом колобок, который и от дедушки ушел, и от бабушки ушел… Саввушкин — директор пошивочного ателье — тоже снабжался материалом с Главного склада Торга. Я встретилась с ним на вечере у Аллаховой, он был давним ее знакомым и,— как считал полковник Приходько,— более чем вероятно, причастен к ее делам. Но пока Аллахова молчала, улик против него не было. — Рита Петровна, голубушка! — закричал он еще от дверей.— Здравствуйте! Вот прибежал, все накладные привез. — Неужели? — усомнилась Рита Петровна. — Точно, все до единой. Сам с бухгалтером отбирал, даже ему не доверил. Вот они тут, в папочке. — Пойдемте, коли так,— поднялась Рита Петровна.— Как раз бухгалтер с ревизором у меня сидят. Покажете, что нашли, авось обрадуете. Ты меня извини! — повернулась она ко мне. И тут Саввушкин увидел меня. — Вот так-так! Евгения Сергеевна! Он стремительно кинулся ко мне,— я невольно отклонилась к спинке дивана. — Знакомы? — неприятно удивилась Рита Петровна. — А как же, как же! — говорил Саввушкин.— Встречались, встречались. Здоровье-то ваше как? Мне тут рассказывали, надо подумать, какое несчастье. — Так я пойду,— повернулась я к Рите Петровне. — Куда пойдете? — закричал Саввушкин.— Отвезу. — А может быть… — И не думайте, Евгения Сергеевна. У меня же машина здесь. Я скоро. Вот только накладные ревизорам передам. Подождите меня, обязательно. Рите Петровне заметно не понравилось мое знакомство с Саввушкиным. Однако она сказала: — Ты заходи. Место твое я так за тобой и держу. Я не собиралась всю жизнь работать товароведом, но и не знала, какую и когда еще работу найдет мне полковник Приходько. Если опять по «торговой» части, то должность товароведа Главного склада может оказаться удобным прикрытием. Поэтому я ответила, что выйду на работу, как только меня выпишут врачи. Саввушкин задерживался в кабинете. Уже пожалев, что дала согласие его дождаться, я встала, поправила спинку у дивана, которую сдвинула Маша, и заметила торчащий из-под спинки уголок розовой бумажки. Будь это любой другой диван, я бы не стала приглядываться к нему и не обратила бы на такой пустяк внимания. Но диван стоял в кабинете у Аллаховой, на нем сиживали ее клиенты, и не было такой мелочи, относившейся к Аллаховой, которая не могла бы меня заинтересовать. Я чуть приподняла спинку и вытащила заинтересовавший меня листок. Это оказался билет на самолет. Старый использованный билет Сочи-Новосибирск. От апреля сего года — значит, полугодовой давности. Фамилия на билете: «Щуркин В. В…» ничего мне не говорила. Я знала многие фамилии, многих людей из орбиты Аллаховой, но среди них не было Щуркина В. В. Я вложила билет в записную книжку и сунула ее в карман. Из кабинета выскочил Саввушкин. — Извините, Евгения Сергеевна, заставил ждать. Ревизоры, сами понимаете. Что да почему — ну их к богу! В каждом человеке жулика видят. Нет для них ни честных, ни праведных. С истинно гусарской церемонностью он пропустил меня в дверях. Мы вышли на улицу. Я увидела стоящий у подъезда красный «Москвич» и пожалела, что не уехала на трамвае. Что бы мне выглянуть на улицу минутой раньше… Красный «Москвич» был мне знаком. И молодого человека за рулем я тоже знала — это был сын моего вчерашнего гостя — Виталий или Владимир, я что-то уже и забыла. И женщину в рыжем парике, сидящую рядом с ним, знала тоже — его, Виталия или Владимира, жена с французским именем Жаклин. Словом, это были люди из той самой компании, с которой я ездила недавно на море. Сын Башкова, увидя меня, удивился вполне натурально: — Вот так встреча! Не ожидал… Жаклин только посмотрела в мою сторону, тут же отвернулась и не сказала ничего.
Если Башков, побывав у сына, даже ничего не рассказал про меня, а, судя по его визиту ко мне, так могло быть — то у сообразительного Саввушкина хватило ума связать воедино детали моего появления в их компании и все последующие события и сделать из этого какие-то выводы. Я поняла, почему он так просил меня остаться. Рассчитывает в разговоре со мной убедиться в своих подозрениях. Если Башкову-сыну и его жене крушение старшего Башкова несло только материальные убытки, лишало в будущем денежных подачек и подарков, то Саввушкину грозили более серьезные неприятности. Но делать было нечего, я забралась на заднее сиденье, мы поехали, а я приготовилась к расспросам. Разумеется, они тут же последовали. Лицом своим Саввушкин владел мастерски, и в его маленьких глазках было выражение самого искреннего сочувствия. — Как же вам так не повезло,— начал он.— Георгий Ефимович — рыбак опытный и вдруг, на тебе — перевернулись? — Ветер был, волны захлестнули лодку. — Да, ветер был… Холодно было. Простудились, говорят? — Простудилась, — Надо же. Мне надоели хождения вокруг да около, я пошла ему навстречу: — А как Георгий Ефимович после купания, здоров? Я постаралась, чтобы вопрос мой прозвучал вполне натурально. Жаклин только дернула молча рыжей головой, но промолчала. Саввушкин если и догадался о моей игре, то вида не подал. — Разве вы ничего не знаете? — Что именно? — Георгий Ефимович после плаванья, того… исчез. Взглядом Саввушкин готов был просверлить меня насквозь. — Как исчез? Утонул, что ли? — Нет, сбежал. Милиция его разыскивает. — Милиция? А в чем дело?… На какое-то мгновение выдержка изменила Саввушкину, злые искорки сверкнули в его глазах, но тут же угасли. Рассеять его подозрений я, конечно, не могла, но и воевать со мной открыто он не собирался.
— Подумать только,— продолжал он,— сколько несчастий произошло, как вы появились у нас. Исчезает Георгий Ефимович. Арестовывают Светлану Павловну. Непонятно!… Отличный работник, отмечена премией Торга, на Доске почета висит… Вам не кажется это странным? Саввушкину очень хотелось бы узнать, нужно ему бояться меня или нет. На самом деле я только товаровед, или… Я пожала плечами: — Думаю, скоро все выяснится. Тут Жаклин резко повернулась и спросила грубо и зло: — Что выяснится? Она не скрывала своей неприязни ко мне и хотела сказать, наверное, что-то оскорбительное в мой адрес, но Саввушкин положил ей руку на плечо, и она тут же утихла. Нетрудно было догадаться, что он не первый раз выступает здесь в роли советника и с его мнением привыкли считаться. — Переживает! — объяснил он мне почти ласково.— Георгий Ефимович был для нее вместо отца. Переживания Жаклин были мне вполне понятны. Я не сказала больше ни слова. Возле Дома офицеров выбралась из машины. Простился со мной только Саввушкин. Башков-сын тронул машину прежде, чем я успела закрыть дверку. Тут же какой-то высокий парень в коричневой вельветовой паре, не обратив на меня внимания, обернулся к «Москвичу», пригляделся и, шагнув навстречу, поднял руку. Машина остановилась у обочины. Жаклин высунулась в окно, приветливо помахала вельветовому парню, приглашая сесть в машину. Он открыл заднюю дверку. Я заметила массивное золотое кольцо с камнем на его левой руке. Меня не интересовали знакомые Жаклин. Но я невольно обратила внимание, как блеснул в лучах осеннего солнца камень на кольце, блеснул ярко, будто внутри его вспыхнула лампочка…
6
В шестнадцать ноль-ноль я была уже у «дома под часами». Вошла в подъезд, начала подниматься по лестнице. Давно не приходила сюда, на нашу «явочную квартиру». Какой-то мужчина вошел следом, я замедлила шаги, он тоже. Тогда я остановилась на площадке, пропустила его вперед. Он внимательно присмотрелся ко мне, я забеспокоилась. Это мог быть просто любопытствующий, любитель «случайных встреч», а мог быть…, в моем положении все могло быть. Я подождала, когда он пройдет, когда затихнут его шаги на лестнице, и только тогда вышла на свой этаж и позвонила у знакомых дверей. Как всегда, мне открыл Борис Борисович. Как всегда, он вначале глянул поверх моего плеча в коридор, потом улыбнулся и закрыл за мной дверь. Борис Борисович тоже соблюдал правила игры, предложенной полковником Приходько. Поначалу все это казалось мне несерьезным, взрослые дяди и тети играют в сыщики-разбойники. Но сейчас, садясь за стол и чувствуя, как у меня побаливает спина, и поправляя волосы, чтобы прикрыть свежий шрамик на виске, я уже так не думала. Это была далеко не детская игра… Ожидая полковника, я разговорилась с Борисом Борисовичем. — Который раз с вами встречаюсь, сколько вашего чаю перепила, шампанского даже, а все не знаю, в каком вы чине-звании. — Какое там звание, так себе — капитан в отставке. Когда полковник еще в уголовном розыске работал, я был у него оперативником. Неудачно провел задержание, получил пулю в легкое. Застряла — где-то возле позвоночника. — Так и не достали? — Врачи решили не рисковать. Пусть, говорят, полежит. Не мешает пока, и ладно. Мешать будет — тогда достанем. Вот так с пулей и живу. Но из оперативников пришлось уйти. А когда полковник в ОБХСС перешел, то опять меня к себе пригласил. Наши жулики — народ спокойный. Поймают его за руку — он сразу лапки кверху: «виноват, прошу учесть добровольные показания!» Это ваш бухгалтер исключение, можно сказать. Так ведь он не простой вор. — Не простой,— согласилась я. — Вот и заведую этой квартирой,— продолжал Борис Борисович.— Встречаемся кое-когда, кое с кем. — Неужели специально для ОБХСС такую квартиру завели? — Что вы, конечно, нет. Следователю нашему, холостому, эту квартиру выделили. А он на курсы уехал. На специализацию. Вот мы ее пока и заняли. Командированные наши изредка здесь ночуют. Соседи здесь самые что ни на есть подходящие — старички-пенсионеры. Удобная квартира. — Да. Башков от такой, думаю, не отказался бы… — Полковник рассказывал, Башков у вас успел побывать? — Навестил. — А потом полковнику позвонил. — Было такое. — Полковник вначале разгорячился, хотел две «оперативки» в ваш район послать. Не послал, раздумал. Я достала из сумочки «Макарова», положила на стол. — Подарок мне оставил. — Вот фокусник! Борис Борисович взял пистолет, оттянул затвор, заглянул в ствол, нет ли там патрона, потом сообразил, что, конечно, я это уже сделала, не понесла бы я в сумочке пистолет, поставленный на боевой взвод. — Извините! — улыбнулся он.— По привычке. — Ничего. Я понимаю. — Полковник будет доволен. Не то, чтобы он пистолетов боялся, но все же не любит свою молодежь на вооруженных преступников посылать. А вот и он сам! — услыхали мы звонок. Борис Борисович открыл дверь и прошел на кухню готовить чай, до которого полковник Приходько был большой охотник. Полковник тяжело опустился на стул, вздохнул и тут увидел лежавший на столе пистолет. Посмотрел на него задумчиво. Повернулся ко мне. — Все же занятный вы человек, Евгения Сергеевна. С вами, как говорят, не соскучишься. Ей-богу, с той поры, как вы у нас работаете, никогда еще мне так весело не было. Да-да, если я шучу, так самую малость: только я собираюсь объявить на бежавшего всесоюзный розыск, как он заявляется к моему инспектору. Приходит прямо на дом. Разоружается даже. А вдобавок, звонит мне по телефону и говорит, что встреча прошла в теплой и дружеской обстановке. Каково мне такое слышать? Вроде бы всякое в моей практике случалось, а такого, признаюсь, не было. — В моей практике тоже не было,— вставила я. — Еще не обещал заглянуть? — Нет, ничего не сказал. Полковник шутил, но мне было совсем не смешно. Борис Борисович внес подносик с чайником и чашками и вазочку с пирожными, специально для меня, к которым я уже начала привыкать. Полковник, как обычно, слушал мой рассказ, не перебивая и не переспрашивая, только поглядывал на меня поверх стакана. — Все понятно, Евгения Сергеевна! — сказал он.— Вы знаете, я всегда с удовольствием вас слушаю. Как будто вы мне кинофильм рассказываете, серьезно… Тут недавно по телевизору я одну историю смотрел, на школьную тему. Про учительницу, которая понимала своих учеников, а они за это ее только на руках не носили. Милая такая учительница, на вас походит внешностью. Вы не смущайтесь, Евгения Сергеевна. Как, Борис Борисович, симпатичный у нас инспектор? Я уже успела привыкнуть не только к пирожным, но и к таким шутливым рассуждениям своего начальника. Но полковник Приходько никогда не шутил просто так, подоплека его шуток всегда была серьезной. — Вы хотите сказать, что в школе я была бы более на месте и могла бы работать лучше, нежели сейчас в должности инспектора? — А вот этого я и не говорил. Вы отлично знаете, как я отношусь к вам, как к нашему работнику, и поэтому не напрашивайтесь на комплимент. Я не об этом. Как-бы здесь точнее выразиться… Там, в школе, вся ваша внешность и ваша порядочность работали бы по прямому направлению, вызывая у ребят ответные чувства. А в милиции, по моей милости, вам приходится вести себя так, как вы никогда бы себя не вели, работая, скажем, в той же школе. И вы понимаете, что здесь не театр, здесь жизнь, и люди — пусть даже недостойные — принимают вас за того, кого вы изображаете. И только так и должны принимать, иначе вы будете плохой работник, и наша служба не для вас. Так вот, было все это когда-либо предметом ваших размышлений, сомнений, угрызений совести даже? Мне интересно знать, что думает мой инспектор о своей работе. Если бы полковник Приходько задал такой вопрос в начале моей работы, я, возможно, и затруднилась бы с ответом. Но сейчас, когда я уже прошла «школу» в воровской шайке Аллаховой, когда разглядела, что там были за люди и сколько зла они успели посеять вокруг себя… — Конечно, попав к вам, я не ожидала, что мне сразу же придется вспомнить свою работу в студенческом театре. Труднее было привыкнуть к тому, что здесь уже не театр, что все гораздо серьезнее, что вместо разбавленного чая, изображающего коньяк, приходится пить коньяк настоящий; знать, что тут все делается набело, без черновиков. Но я понимаю, что мое «неблаговидное» поведение все же работает на будущее человеческое счастье… хотя, может быть, это и звучит сентиментально. — Совсем нет,—сказал полковник.— Нормально звучит. — Ваша учительница делает все для того, чтобы в будущем порядочных людей было больше,— закончила я свою мысль.— Я помогаю ей с другого конца,— стараюсь, чтобы в будущем плохих людей стало меньше. Меньше зла — меньше заразы. И тогда труды школьной учительницы не пропадут даром, как это еще часто бывает сейчас. Я замолчала — мне стало даже неловко за столь длинный монолог. Но полковник Приходько кивнул одобрительно: — Значит, не жалеете, что со мной связались? — Не жалею. — Вот и я не жалею. Ну, обменялись любезностями, а теперь вы мне скажите: Башков приходил к вам оправдываться? — Вроде того. — Поверили? Я замешкалась с ответом. Уловив это, полковник продолжал: — Я к чему говорю — биографией его поинтересовался. Башков в армию пришел младшим лейтенантом, работал при штабе дивизии. Попадал в окружение, участвовал в боях, получил боевую награду. Тут он сорвался, за пьянство был разжалован в рядовые, но в боях под Курском опять отличился, был восстановлен в прежней должности и звании. Как видите, может быть и таким, и этаким. И бухгалтер был отличный — пока с Аллаховой не связался. В уме ему не откажешь. Какую бы вы там легкую бабочку у него ни играли, а он за вашей игрой порядочность вашу рассмотрел. Аллахова — та не рассмотрела, а он рассмотрел. И потянулся к вам. А как догадался, кто вы, вот тут опять сорвался. Импульсивный он человек, да и подумать ему времени не было. С ходу решил… Это он уже потом задумался, тогда и к вам пришел. Я удивилась, как точно проследил логику поведения Башкова полковник Приходько,— он сказал то же, в чем признался мне Башков недавно. — Это хорошо,— продолжал полковник,— что вы на него зла в душе не держите: оно в нашем деле советчик плохой. Про Бессонову что-либо говорил? — Сказал, что у него и в мыслях не было ее убивать. — В мыслях не было?… Вот и следователь уголовного розыска тоже ничего определенного сказать пока не может. Полковник посмотрел на пистолет, лежавший на столе, даже потрогал его. — Нет, надо же! И вдруг без всякого перехода спросил: — Так как же нам с вашим бухгалтером быть, Евгения Сергеевна? Вас я понимаю, иначе вести себя вы и не могли. А что делать нам, милиции? Мне — начальнику отдела? — Думаю, что вы тоже поступите так, как подсказывают вам сегодняшние обстоятельства. Полковник откинулся на стуле и посмотрел на меня весело: — Нет, ты погляди, Борис Борисович, какая хитрая. Ты слышишь, про обстоятельства-то? А обстоятельства таковы, что Башков — человек крепкий, опытный, концы в своей бухгалтерии прятал надежно и догадывается, конечно, что пока мы против него улик никаких еще не нашли. И рассказывать нам ничего не будет. Как и Аллахова. Так вы думаете, Евгения Сергеевна? — Примерно так. — Вот и появится у нас еще один молчун на казенных хлебах. Толку-то нам от него. Но Евгения Сергеевна питает надежду, что побегает, побегает ее бухгалтер, да и поумнеет, в конце концов. Пришел же к ней, может быть, и к нам придет. Сам придет. Вот тогда дело Аллаховой мы сразу и до конца распутаем. А пока Башков не поумнел, трогать, мол, его не нужно. Ты понимаешь, Борис Борисович, на что толкает нас с тобой наш оперативник? — Как не понять,— улыбнулся, как обычно, Борис Борисович. — Я про кое-какие обстоятельства тоже подумал. Поэтому и «оперативку» не послал. Подполковник Орлов мне говорит: «Что же, выходит, он так и будет вокруг нас бегать? Брать его надо, паразита. Посидит в КПЗ и поумнеет». Орлов у нас человек решительный, он всю эту, по его выражению, «мерехлюндию» не любит. «А если, говорит, бухгалтер куда сбежит, тогда что?» А если сбежит, отвечаю, сам искать буду, тебя не позову… То, что Башков пистолет отдал,— уже хорошо. Но, вот что к нам придет — сомневаюсь, и очень. А в то же время торопиться брать его, думаю, пока не нужно. Следствию, как я понимаю, он плохой помощник. Пусть погуляет. Фотографию его я транспортникам передал, на всякий случай. Может, на свободе он нам полезнее окажется, чем в КПЗ. Денег-то мы у Аллаховой так и не нашли. Конечно, я не думаю, что Башков нам денежки на тарелочке с голубой каемочкой принесет… Тут я вспомнила про деньги, положила на стол: — Просил передать. То, что он у конвойного взял. — Вот тебе еще неожиданность… Мог ведь не отдавать. Однако — вернул. Конвойный все еще в больнице лежит, помяло его сильно, деньги ему, конечно, пригодятся. Возьми, Борис Борисович. Адрес узнаешь — перешлешь. Если бы нам Аллахова свои денежки принесла… Не принесет, где там. А есть у нее они. Не могла она такую прорву деньжищ истратить. Лежат у кого-то до поры. Я вытащила записную книжку, достала авиационный билет. Я не забывала о нем, просто разговор пока шел не о том. Пока я разворачивала билет, полковник следил за моими действиями с веселым любопытством. — Смотри, Борис Борисович, Евгения Сергеевна нам еще какого-то кота из мешка вытаскивает. — Билет авиационный, всего-навсего. Я рассказала, где его нашла. — А больше у вас там ничего нет? — поинтересовался полковник.— Скажем, ключика от квартиры, где у Аллаховой деньги лежат? Жаль, а то я уже было подумал… Что ж, билет так билет. Щуркину В. В. — Совершенно верно,— подтвердил Борис Борисович,— Владислав Витальевич Щуркин. Это же первый муж Аллаховой. Полковник уставился на него: — А почему она — Аллахова? — Когда разошлись, она снова на свою девичью фамилию перешла. Не без умысла, наверное. А муж у нее в Сочи уехал. Он тоже по торговой части работал. И дочь их сейчас с ним живет. — А почему не с матерью? — У Аллаховой новый муж — молодой. А дочь — студентка уже, взрослая. Аллахова как замуж за своего спортсмена вышла, так дочь к бывшему мужу отправила. — Понятно…— протянул полковник.— Подальше от греха. А откуда ты все это знаешь? — Поинтересовался, когда дело на нее завели. — Может, ты знаешь, зачем этот Владислав Витальевич полгода тому назад к Аллаховой приезжал? — Вот этого не знаю,— усмехнулся Борис Борисович. — Конечно… Хотя вопросик-то, сам понимаешь… мог же бывший муж к своей жене заглянуть. Полковник повертел в руках билет, даже посмотрел на его обратную сторону, как бы надеясь там отыскать какие-то дополнительные сведения о бывшем муже Аллаховой. — А ведь воровать-то она начала, пожалуй, еще при нем,— протянул он задумчиво.— Любопытно бы поглядеть на этого В. В. Щуркина… Вопросы ему задавать бесполезно… пока. А вот посмотреть хотя бы… Там у Аллаховой семейные альбомы были, кажется. Ты поинтересуйся, Борис Борисович.
7
Когда я вернулась домой, меня встретил сияющий Петр Иваныч. Я ожидала его в понедельник. — Сбежали? — Выписался на законном основании. С приложением документов, удостоверенных подписями и печатями. Показать? — А где Максим? — А Максима нет, он до понедельника в командировке. Я приехал автобусом. — Это надо же! Сто километров. Да, поди, всю дорогу стояли на ногах. — Нет, стоял километров десять. Там сидела такая симпатичная девушка, я ей сказал: «Доченька, неужели тебе мама не говорила, что в автобусе положено уступать место женщинам и старикам?» И представьте себе— встала! А я сел. Такая милая девочка, не то что вы, несносная ворчунья. Я по вас соскучился. Я обняла его: — Фу! Отправляйтесь в душ, сию минуту. — Я чистый. — От вас так и несет больницей. А я пока кофе заварю. Сытый голодного не разумеет, здоровый больного — тоже. Когда Петр Иваныч после купанья, свеженький, розовенький, сел за стол, а я уже взяла его чашку, он громко и выразительно вздохнул. Тут до меня дошло. — Вам же нельзя кофе. Что же вы мне не сказали? — Но вам-то, надеюсь, можно. — Мне пока можно. — Пока!…— поехидничал Петр Иваныч.— Поди, опять тут хлестали коньяк со своими приятелями. — Коньяку не было, к сожалению. Но шампанское попивала. — Так я и думал. Налейте мне водички, я ее облепиховым соком закрашу. Мне Максим бутылочку приносил, еще осталось. Петр Иваныч меня ни о чем не расспрашивал, болтал о разных больничных пустяках. Но все же заметил: — Полковник Приходько ко мне заходил. Навестил старика. Конечно, он догадывался, что полковник бывал и у меня. Но он предоставил мне самой сказать это, если захочу. — Давно с ним знакомы? — спросила я. — Еще когда он в Уголовном розыске работал. Я о его делах очерки писал. А когда он в ОБХСС перешел, о нем уже другие стали писать. Я его спрашиваю: «Вы-то сюда зачем, неужели наш главный врач на марле проворовался?» А он спрашивает, как я сюда попал. Говорю, связался с одной знакомой на старости-то лет, она и довела. — Не связывались бы. — Так, нечистый попутал… А вы бы на себя поглядели, когда вас Максим из лодки вытащил. Скрюченная, посиневшая, в крови вся… во сне увидишь — в пот бросит. Подумал: ну, все, неживая уже!… И тут меня словно кто под вздох ударил… Максим видит, я с ног валюсь, и не знает, что делать. Беги, говорю, ее оттирай, замерзла она, а я нитроглицеринчику проглочу и тебя дождусь, не бойся. Вот он и потащил вас. Оттер-таки. — Да. До сих пор ссадины на боках. — Молодец, успел. А потом и за меня взялся. Так сразу двоих в больницу и привез. Петр Иваныч, старый опытный газетчик, конечно, понимал: если я о чем-то умалчиваю, то меня незачем и расспрашивать. Может быть, он еще до несчастного случая на море уже догадывался, но помалкивал, делая вид, что принимает меня такой, какой я хочу казаться. Я мыла посуду, Петр Иваныч пристроился к окну с газетой. — Ну, вот! — воскликнул он.— Пожалуйста! Трое мальчишек — старшему восемнадцать лет — напали в лесу на пенсионера-грибника. Отобрали грибы, избили старика. Да еще ножом ткнули. — И что? — И все! Случайные люди подобрали, увезли в больницу, но поздно. Старик умер. Нет, вы подумайте, человеческая жизнь и какие-то там грибы! — Грибы, наверное, уже ни при чем. — Да, вы правы. Могли быть ягоды… Или ни ягод, ни грибов… Просто было три молодых человекоподобных существа. Только в их юных головах, в мозговых извилинах, где должны быть заложены понятия любви, гуманности, уважения к человеку, там было пусто. И пустые места немедленно заполнили жестокость, эгоизм… Конечно, был катализатор вредоносных эмоций, вот «…три бутылки "Вермута"»… А дальше вспышка, никакими духовными тормозами не сдержанная, и один из них становится убийцей. Сейчас, перед следователем, размазывает, простите, сопли и хнычет: «Я не хотел его убивать, я просто ткнул его ножом…» Два раза «просто» ткнул человека ножом — ведь это же надо суметь! Как, где, когда могла сформироваться в его сознании такая отчаянная жестокость? Ведь не сразу она у него появилась. Накапливалась исподволь. И кое-кто это замечал. — Замечали, наверное. — Жестокость нужно лечить. — Лечим. Заполняем пустующие извилины в коре головного мозга. — Чем же? — Увлечениями. Спортом, техникой, искусством. — По-моему, плохо помогает. — Здесь многое зависит от врача. — А если врача нет,— нападал Петр Иваныч,— и ничего такого нет для заполнения? Тогда мы ждем, когда жестокость вызовет преступление? Я пожала плечами. Но Петр Иваныч не унимался: — Вот только тогда мы за леченье и беремся всерьез. Год, два, десять лет изоляции. Трудовая колония. Мера социальной защиты… Вы считаете это надежным лекарством? — Других у нас пока нет. Петр Иваныч сложил газету, похлопал ею по коленке: — Десять лет тому назад у нас в городе произошло несколько дерзких нападений на сберкассы. Преступники были квалифицированные, действовали днем, в масках, с пистолетами. Инкассатора убили. — Даже так? — Да, вполне серьезные были грабители. И умелые — следы за собой не оставляли, милиция долго за них зацепиться не могла. Но даже самый осторожный, самый предусмотрительный преступник рано или поздно промашку даст. Нашли вначале одного, другого, а там и на главаря вышли, на организатора и убийцу. Заинтересовался я. В прокуратуре мне его старые дела разыскали. Оказывается, он уже два раза был под судом. Первый раз — за воровство. А вот второй раз — уже за вооруженный грабеж, милиционера подстрелил, женщину ножом ударил. От расстрела его спас указ об отмене смертной казни, но по тем временам дали ему двадцать пять лет, из них десять лет тюрьмы, как особо опасному преступнику. Он среднюю школу в тюрьме окончил, десять классов. Шестнадцать лет отсидел, день в день. Учился, работал хорошо, рационализатор-общественник, был председателем совета колонии, замполит им нахвалиться не мог. Вроде другим человеком стал. Выпустили его по указу, досрочно. Паспорт выдали, у жены прописали — дождалась она его, подумайте. А через год он банду организовал, сына в нее втянул. И человека убил. — Расстреляли? — спросила я. — Нет. — А сколько дали? — Ничего не дали. — Как так? — Он сумел повеситься до начала следствия. Но высказать свою позицию все же пожелал. Письмо оставил. Оно-то меня и заинтересовало, как сейчас его помню, я его в очерке своем привел: «…настал мой черед поставить точку в этом затянувшемся деле. Я сам подписал свой приговор, а процесс пусть идет без меня…» и далее, в таком же духе. Но закончил так: «Только жаль жизнь, прожитую ни для чего». Шестнадцать лет мы его лечили, воспитывали изо дня в день… — Что-ж — Ломброзо? Теория о врожденной преступности? — Нет, согласиться с Ломброзо я тоже не могу. Больше верю тем, кто утверждает: в каждом преступнике живет порядочный человек. Вот только обстоятельства… Петр Иваныч замолчал. — Да… обстоятельства… Я невольно вспомнила своего бухгалтера. Поставила на полку последний стакан, он скользнул по краю и упал на пол. — К счастью,— сказал Петр Иваныч. Я взяла веник, замела в угол осколки. А Петр Иваныч закончил задумчиво: — Мы примерно знаем, как из человека получается зверь. Но вот как из зверя сделать человека, похоже, этого пока не знает никто.
8
Последствия моих осенних подвигов опять тревожили меня всю ночь. Я возилась в постели, кряхтела, как столетняя старуха. Так и промаялась почти до утра. Утром пожаловалась Петру Иванычу. Он посоветовал мне баню. — Еще чего,— возмутилась я.— Бабушкино средство. Атомные реакторы изобрели, пенициллин — а вы мне баню. — Так радикулит, милая девочка, и есть самая бабушкина болезнь. Вот только веника березового нет. Нынче атомный реактор, пожалуй, легче достать, нежели веник. А без веника — не баня. Днем, едва я задремала после бессонной ночи, забрякал телефон. Очень не хотелось вставать, и я стала думать, что это не ко мне. Трубку снял Петр Иваныч. Он быстро сказал, что «она спит!», но тут же постучал мне в дверь. Я не ответила, притворившись, что на самом деле сплю. Тогда он осторожно приоткрыл дверь, вошел и остановился возле кровати. Я открыла один глаз. — «Вставайте, ваша светлость! Вас ждут великие дела…» — Это еще откуда? — проворчала я. — Читать нужно биографии знаменитых людей. А у телефона полковник Приходько. Шутки закончились. Уж коли звонил сам полковник, значит, где-то на самом деле начались «великие дела». Петр Иваныч важно удалился из комнаты, как лорд-камергер из опочивальни королевы… Я набросила халат и выскочила в прихожую. — Разбудил! — сказал в трубку полковник.— Предлагаю прогулку на машине по свежему воздуху. — Куда?— спросонья я еще плохо соображала. — Будем у вас через пять-восемь минут. Дело срочное. Желателен какой-либо камуфляж. Тут я уже все поняла. Плеснула на лицо холодной водой. Быстренько оделась. Петр Иваныч появился из кухни с чашкой горячего чая. — Некогда. Спешу. — Ничего. Впереди у вас не Ватерлоо. Успеете. Я наскоро выпила чай. — Можно мне надеть ваш берет? — Мой берет?… Ах, берет… Конечно, какой разговор. И куртку мою возьмите, она с шалевым воротником, поднимете в случае чего. Черные очки не предлагаю — нету. Петр Иваныч тоже все понял. Я натянула поролоновую куртку, сунула в карман берет и выскочила на площадку. Когда выбежала из подъезда, черная «Волга» уже заворачивала за угол нашего дома. Я забралась на заднее сиденье. Полковник был в пальто и шляпе. За рулем сидел Борис Борисович. Я сказала: «Добрый день!», опустив официальное обращение «товарищ полковник», считая, что кое-когда можно и нарушать надоевшую субординацию. — Торопись, Борис Борисович,— сказал полковник.— Сорок пять минут осталось. Чего было Яковенко пораньше позвонить. — Поздно заметил, говорит. «Волга», визжа покрышками, выскочила на асфальт проспекта. Полковник спросил меня: — Что же не интересуетесь, куда едем? — Догадалась уже. Аэропорт. — А может — вокзал? — На вокзал бы не торопились. Он рядом. — Когда вы с вашим бухгалтером любезничали, он случайно не намекнул, что уезжать собирается?… Нет, значит. А может, там и не он… Оперативник у нас в Толмачёвском аэропорту — Яковенко. Позвонил: вроде бы, говорит, похож по фотографии. Но не уверен. Раньше его не видел. Так что, кроме вас, удостоверить некому. Я подивилась, как профессионально, мастерски вел машину Борис Борисович. В перегруппировках у светофоров он уверенно вступал в соревнование с шоферами такси, которые, как известно, сами любят брать «на испуг»; смело вклинивался в вереницу автомашин, памятуя правило «береги радиатор и правый бок!». Проскочил впереди автобуса, которому пришлось резко притормозить. Водитель высунул голову и прокричал что-то вслед. — Ругается!— улыбнулся Борис Борисович. — А ты бы не ругался на его месте? — сказал полковник.— Ему пассажиры сейчас «спасибо» говорят за такую езду… Не мог Яковенко хотя бы на полчасика пораньше позвонить. — Он же его у кассы увидел, тот свободный билет брал. Всего за час до посадки. Пока дежурному сообщил… Успеем! Мы миновали мост, проскочили, не снижая скорости, контрольный пункт ГАИ, где стояла дежурная машина. Инспектор засвистел нам вслед. — Некогда!—сказал полковник. Борис Борисович глянул в зеркальце: — В машину садится. Борис Борисович попытался обогнать колонну грузовиков, но шоссе было узкое, шли встречные машины. Оранжевые «Жигули» с синей полосой поравнялись с нами, инспектор показал на обочину. Борис Борисович вопросительно глянул наполковника. — Остановись! Молоденький лейтенант не спеша выбрался из машины, направился к нам. Полковник Приходько вынул служебное удостоверение, нетерпеливо помахал им. Инспектор что-то сообразил, двинулся быстрее. Козырнул лихо. — Вот что, лейтенант,— сказал полковник,— уж коли ты тут подоспел, включай свою «мигалку» и обеспечь нам «зеленую улицу» до аэропорта. Да торопись, милый, опаздываем! Лейтенант уже бегом вернулся к машине. «Жигули» юзом выскочили на дорогу. Отчаянно завыла сирена. Все машины, как встречные, так и попутные, послушно прижались к обочинам, пропуская нас. Возле площадки аэропорта Борис Борисович свернул в сторонку за стоящий у обочины грузовик. Машина инспектора притормозила впереди. — Хорошо, хоть догадался перед аэропортом сирену выключить. Перепугал бы тут всех. Лейтенант подбежал к нам, но полковник сказал: — Ладно, ладно, инспектор, не привлекай внимания. Можешь быть свободным. Теперь мы и одни управимся. Вот сюда, Евгения Сергеевна, сторонкой пойдем. Он повел меня через боковые двери, один раз ему пришлось показать удостоверение, и мы вышли на летное поле, миновав толпу пассажиров, ожидающих посадки. Белая туша самолета стояла на полосе, посадочный трап уже подкатил к объемистому брюху, ожидая пассажиров. По громадному полю аэродрома разгуливал холодный ветерок, вполне уместно было поднять воротник куртки и натянуть берет. Полковник огляделся. — Где же нам пристроиться? Возле железной решетки, ограждающей летное поле, стоял служебный автобусик. Шофер, присев на корточки у переднего колеса, затягивал гайки воротком. Лицо у шофера было красное и злое. Полковник ласково потрепал его по плечу. — Сынок!— сказал он.— Открой нам дверку, мы в твоем самокате посидим чуток. Шофер медленно выпрямился, недоуменно моргнул, нахмурился, а увидя меня, изумился уже окончательно. Но сказать он ничего не успел, полковник показал ему удостоверение. — Поторопись, пожалуйста! Ничего еще не понимая, однако подчиняясь повелительному тону полковника, шофер послушно забрался в кабину, повернул рычаг, открывающий дверку. — Полезайте, Евгения Сергеевна! Полковник поддержал меня под локоть, поднялся сам, и тут же искаженный динамиком голос дежурного объявил посадку на самолет Новосибирск — Сочи. Мы присели на заднем сиденье, шофер, прямой и настороженный, остался на своем месте за рулем, ему очень хотелось обернуться и разглядеть нас повнимательнее, но он опасался показаться излишне любопытным. Удостоверение полковника сразу настроило его мысли на детективный лад, и фантазировать можно было сколько угодно. Из дверей аэровокзала вышла девушка в голубой пилотке, за ней цепочкой потянулись пассажиры. Когда я увидела Башкова, мне стали понятны сомнения оперативника Яковенко. В нахлобученной на глаза серой мохнатой шляпе, закутанный до ушей в цветной шарф, бухгалтер мало походил на то изображение, которое лежало в кармане дежурного… Надо было отдать должное зоркости оперативника: он сумел заметить Башкова в толпе пассажиров. Полковнику Приходько было уже легче: он был готов его увидеть и узнал прежде, чем я успела показать. — В серой шляпе? — Да, это он. Мой бухгалтер шел налегке, не нес с собой ни сумки, ни портфеля. Шел спокойно, заложив руки в карманы пальто. Не вертел головой, слегка сутулясь, глядел под ноги. Я могла догадаться, что он сейчас думает. Он знает, конечно, что в залах аэропорта дежурят работники милиции, что у них есть его старая фотография. Но вот опознали его по ней или нет — этого он пока не знал и мог ожидать, что события развернутся на самых последних минутах, при посадке в самолет. Какая-то женщина, пробираясь вперед, нечаянно толкнула его. Он замер на мгновение, напряженно повернулся и последовал дальше, еще ниже опустив голову и еще глубже засунув руки в карманы. Пассажиры один за другим поднимались по трапу к открытому люку, где их встречала голубая стюардесса. Она улыбалась пассажирам профессиональной «аэрофлотовской» улыбкой — пожалуй, самолеты у нас единственный вид транспорта, где пассажира встречают так приветливо. Она улыбнулась и моему бухгалтеру, кажется, даже сказала что-то. Но он, не повернувшись к ней, не задержавшись ни на секунду, шагнул через порог и исчез в недрах самолета. Я взглянула на полковника. Уже в машине я поняла: если это действительно окажется Башков, мы не будем его снимать с самолета, в таком случае полковник заранее прихватил бы с собой еще пару оперативников, чтобы исключить неожиданности при задержании. Следовательно, он уже согласился с тем, что Башков, покинув Новосибирск, выйдет из-под наблюдения работников местного ОБХСС. Я не думала, что только мои соображения в отношении Башкова толкнули полковника на такой рискованный ход. — Побаиваюсь, конечно! — сказал он задумчиво, как бы отвечая на мой немой вопрос.— А что делать? Будем продолжать, как начали. Пусть летит. В Сочи, кстати, у меня старый приятель в отделе работает, попрошу, чтобы сам последил. Интересно, все же, посмотреть, к кому ваш бухгалтер направился… — У него жена в Краснодаре живет. — Может быть, может быть… Что-то очень уж много ниточек от Аллаховой на юг потянулось. Щуркин с дочкой, опять же. И большие подозрения у меня к этому В. В. Щуркину появились. Сегодня появились. — А почему сегодня? — А потому, что вчера их еще не было. Естественно, что у меня завертелись в голове всякие вопросы, но я вовремя прикусила язык. Шофер открыл нам дверку, полковник спустился первым, подал мне руку. — Вы идите к машине. Борис Борисович вам пока наши новости расскажет. — А вы? Мое любопытство, видимо, не показалось полковнику неуместным. — А я к здешней администрации загляну. С Яковенко поговорить. Надо нам узнать, под какой фамилией Башков билет получил. Нашу «Волгу» я нашла на прежнем месте, за грузовиком. Борис Борисович открыл было переднюю дверку, но я опять забралась на заднее сиденье. Он включил отопление салона. — Замерзли? — Нет, мы в машине устроились. — Узнали? — Конечно. — А что полковник? — Пусть, говорит, летит. А сам к администрации направился. Он намекнул, что у вас вроде новости появились? — Ну, новости не бог весть, но на какие-то размышления наводят. — По-моему, размышлений у нас и так более чем достаточно. — Да, размышлений много, вот фактов нет… Словом, пока ревизоры там бумажки перебирают, полковник решил к Аллаховой с другого боку подойти. Распорядился, чтобы дело ее передали другому следователю. Есть у нас такой, лейтенант Елистратов. Молодой, на вид простачок простачком. Полковник ему наказал, чтобы он Аллахову допросами не прижимал, вроде по неопытности. Лейтенант дело так тонко повел, что даже Аллахову убедил. Она и предложи ему взятку. — Вот как. А за что? — А пока ни за что. Намекнула ему, что если он её на девяносто третью тянуть не будет, то и она в долгу не останется. Десять тысяч обещала. — Ничего себе. — Следователь, конечно, возмутился. Но надежду у нее все-таки оставил. — Думаете, поверила? Так ведь, Евгения Сергеевна, это мы с вами не поверим. А она столько лет ворует, столько людей за деньги купила. У нее уже и психология соответственная выработалась, что любого купить можно. Дело только за ценой. — Понимаю,— протянула я.— Теперь Аллаховой нужно где-то эти деньги достать. — Правильно. А нам нужно за этим последить… Вот и наше начальство шагает. Полковник Приходько уселся рядом с Борисом Борисовичем, хотел захлопнуть дверку, задержался. — Забыл спросить, где самолет промежуточную посадку делает. — В Оренбурге,— сразу сказал Борис Борисович. — Как бы он не вздумал в Оренбурге сойти. Сколько до Оренбурга лететь будет? — Часа два, не меньше. — Тогда я из Управления позвоню. Поехали! Борис Борисович выбрался на шоссе, обошел пару грузовиков, пристроился за вишневой «Ладой». Она шла быстро, на заднем ее стекле болталась на присоске пластмассовая розовая ладошка с надписью по-английски: «Вау! Вау!» — Вот пижоны!— ворчал полковник.— Хлебом не корми, только дай какую-нибудь побрякушку к машине прицепить. Юмор, видите ли! Поднимающийся самолет пролетел где-то над нами, затих надсадный рев реактивных моторов. Полковник повернулся вполоборота ко мне. — Полетел ваш бухгалтер. Павлов — теперь его фамилия. Василий Васильевич Павлов. Достал-таки паспорт, как я и предполагал. — А если он там спрячется?— предположила я. — Если спрячется… Придется тогда нам с тобой, Борис Борисович, на пенсию идти. Заведем лодку, будем на море ездить, рыбку ловить. — Рыбку?…— вздохнул Борис Борисович.— Забыл уже, за какой конец удилище держат. — А ты Евгении Сергеевне наши новости рассказал? — Новости рассказал. — А про планы наши? — Планы? А какие у вас планы? Нет, про планы ничего не говорил. — Тогда я сам расскажу. Евгения Сергеевна, подвиньтесь поближе и дайте мне вашу руку… Борис Борисович, ты не на меня смотри, ты на дорогу смотри, а то как раз «Ладе» в «вау! вау!» въедешь… Это какая у вас рука, правая? А кольца на какой носят? — Смотря какие. — Ну, не обручальные же. — Кажется, на левой. — Кажется… Вы что, никогда колец не носили? — Терпеть их не могу. — И обручальное? — Обручальное тем более. — Ну-ну! Смотри, какая… Ладно, давайте вашу левую руку.
Полковник Приходько достал из кармана кителя бумажный пакетик, развернул осторожно… и надел мне на средний палец кольцо. — Вот, носите на здоровье. Совсем уже ничего не понимая, я присмотрелась к кольцу. Повертела его на пальце и так и этак. Оно было золотое и составлено из четырех тонких отдельных колечек, которые не были спаяны, а, хитро изогнутые, держались одно за другое. Я пригляделась внимательнее. — Интересно… где-то я его уже видела. — Так-так… — Конечно! Это же Аллаховой кольцо. — Точно! — Тогда… — Почему оно появилось и зачем оно вам? А для представительства. Как пароль. Вроде: «У вас не продается славянский шкаф с шишечками?» Не догадываетесь?… Слава богу, хоть чем-то ее удивил. А то у нас с тобой, Борис Борисович, такой пронзительный оперативник, даже что-то и рассказывать ей неинтересно — все уже знает! А вот тут не знает. Ты про уборщицу ей ничего не говорил? — Так я и сам еще ничего не знаю. Выпустили вы ее или нет? — Выпустили, выпустили. А то как бы я это кольцо достал. Не снимать же его было у Аллаховой… Тут такое дело, Евгения Сергеевна. Аллахова в следственном изоляторе, как положено, отдельно от своей компании сидит. А мы с ее склада еще и уборщицу забрали — помогала она Аллаховой, по мелочи. И решили мы уборщицу пока выпустить. Сказали ей об этом, а пока документы оформляли, сунули ее, как бы по ошибке, в ту камеру, где Аллахова сидит. Та сразу к уборщице, а дежурная все это заметила. Вызвали мы уборщицу в следственный кабинет. Расплакалась она и достала вот это кольцо. Оказывается, Аллахова просила ее слетать в Сочи… — К Щуркину?— догадалась я. — Конечно! Показать ему кольцо — записку, мол, писать некогда было,— и пусть он срочно везет сюда пятнадцать тысяч, свою бывшую жену выручать. А кольцо признает, говорят, он его сам Аллаховой на день рождения подарил. И даже если он денег не привезет, то встревожится, конечно. Может, и с места стронется. Словом, проиграть нам нужно эту версию. — Понятно,— уже сообразила я.— А когда лететь? Тут полковник Приходько замолчал и вполне натурально вздохнул: — Совестно мне, по правде сказать, посылать вас, Евгения Сергеевна. Только из одной передряги выпуталась, бюллетень еще не закрыт… врач узнает — меня живьем съест. — Да что вы!— заторопилась я.— Сочи — это же юг, курорт! Одно удовольствие. А здесь я от безделья только хуже раскисну. Когда лететь? — Ну, что нам торопиться… — Нет, серьезно. — А если серьезно, то чем скорее, тем лучше. Вот завтра и полетите. Успеете собраться? — Чего мне собираться? — Ну, там, платья — тряпочки. Курорт, все-таки. Чемодан-то у вас есть? — Куплю я чемодан, долго ли. — А зачем покупать. Борис Борисович, лежит у тебя в багажнике чемодан? — Лежит. Я думал, вы себе купили. — А мне зачем, я же на курорт не лечу. Чемодан, Евгения Сергеевна, видите, уже есть. Хороший чемодан, легкий, модный — в клеточку. С другими не спутаете. — А билет? — А билет… билет вот он. Место — возле окошка, специально просил. Жаль, сезон поздний, холодно. А то покупались бы там. Позагорали бы. Если повезет, своего Ромео встретите — совсем весело будет. Только вот что, Евгения Сергеевна, нас там рядом с вами не будет, так я очень прошу…
Петр Иваныч, узнав о поездке, заметно расстроился. — Господи, опять! — Что значит, опять? — На бюллетене еще. — Так я и еду отдыхать. Курорт, бесплатный проезд. — Это за что же бесплатный? — Как, за что?… За ударную работу. Посмотрю на море. Давно не видела. — Море вы уже видели, положим. — Это где же? Ах, здесь. Так здесь — не настоящее. А там — Черное! Есть разница? — Может быть. Если с нашего ненастоящего моря вас привезли еле живой… — Ну, не нужно, Петр Иваныч. Я больше не буду. — Чего не будете? — Кататься в лодке с посторонним мужчиной. Я прежде выйду за него замуж. — Болтуша несчастная… Завтра обещал приехать Максим. — Максим?—я чуть задумалась.— Что ж, Максим… Скажите ему «до свиданья!» и поцелуйте за меня. — Она еще кокетничает… Где вы достали такой чемодан? — Мне его подарили. — Гм… сколько ему лет? Полтораста? — Что вы, современный чемодан, на молниях, видите? — Вижу. В клеточку. Как штаны у мистера Пиквика… Положите в него свитер. — Зачем мне свитер. Я же еду не в Антарктиду, а в Сочи. — Я бы меньше беспокоился, если бы вы ехали в Антарктиду. На море сейчас время штормов. Где вы будете жить? — Я буду ездить. Загляну к вашей жене. — К моей жене? Это еще зачем? — Так просто, в гости. Она же меня приглашала, когда здесь была. А Краснодар — это рядом. У вас, конечно, есть ее адрес?…
ОПЯТЬ НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА
1
Я летела в Сочи в гражданской одежде. Полковник Приходько на этот раз выдал мне служебное удостоверение — все же я направлялась в другой город, в другое Управление, где меня никто не знал. Но регистрацию в порту прошла, конечно, по паспорту. Кольцо Аллаховой я так и оставила надетым на палец. Когда сняла его, оно рассыпалось на отдельные колечки, цепочку тонких, причудливо изогнутых звеньев — я кое-как собрала их опять в целое кольцо. Даже не могла запомнить, как мне удалось это сделать, поэтому решила больше кольцо не снимать. Кольцо — как кольцо. Только приглядевшись, можно было заметить необычность его конструкции. Вчера, вечером же, мы перебрали с полковником Приходько несколько легенд для сочинского варианта. Поразмышляли над темой будущего разговора с бывшим мужем Аллаховой. Конечно, все это были приблизительные прикидки, все должно определиться на месте, все зависит от того, как меня встретит, как поведет себя Всеволод Витальевич Щуркин. Мы мало знали о нем,— смутные воспоминания бывших сослуживцев да фотография шестилетней давности. Щуркин был снят за городом, на фоне травки и березовых кустиков. Полный, лысоватый, с тонкими губами, тонким и острым носом и маленькими острыми глазками — внешность его была весьма несимпатичная. В этом же альбоме нашлись и фотографии дочери Аллаховой Эмилии — Милочки. Несколько снимков в детстве и девичестве. Последняя фотография была уже из Сочи, пляжный снимок — тоненькая девушка в смелом «бикини». У меня не появилось к ней каких-либо претензий, даже к ее рискованному позированию перед фотоаппаратом… вот только лицом она уж очень походила на отца. Полковник Приходько продолжил тему, начатую еще в машине: — Вы поосторожнее там, Евгения Сергеевна, с вашими импровизациями. Всего предусмотреть, разумеется, нельзя, а в нашей работе часто присутствует и некоторая доля риска. Но у вас эта доля бывает слишком велика. Я понимаю, все от молодости, от нетерпения. Все же постарайтесь там больше думать и поменьше действовать. Надеюсь, вы правильно истолкуете мой совет. Подполковнику Григорьеву я уже звонил. Не давайте ему повода сказать: «Ну и ухари там у полковника Приходько работают!». — Постараюсь. — Не заставляйте нас здесь чрезмерно беспокоиться. — А почему вы так тревожитесь? — Признаться, не нравится мне физиономия этого Всеволода Витальевича. Да и по всему видно — человек он скользкий и вокруг пальца его, пожалуй, не обведешь. Как бы он сам вас не обвел…
Моей соседкой в самолете оказалась молоденькая девушка, она долго маялась, никак не могла застегнуть пряжки страховочных поясов — пальчики у нее были тоненькие, как птичьи лапки. Я помогла ей. Самолет шел над облаками, земли не было видно, а облака походили на серую вату, и смотреть на них было неинтересно. Я откинулась на спинку и собралась вздремнуть, но моя соседка — девушка — все время беспокойно возилась, на кого-то оглядывалась. Поэтому я уже не удивилась, когда возле нас возник энергичный молодой человек, который обратился ко мне: — Я сижу в конце салона, не могли бы мы с вами поменяться местами. Правда, мое место возле прохода, но… Моя соседка хотя и молчала, явно ждала моего согласия. Мешать ей я не хотела. Молодой человек провел меня на свой ряд, а сам торопливо вернулся и, не теряя времени, пустился с девушкой в оживленную беседу. А мой новый сосед — пожилой черноволосый мужчина — некоторое время наблюдал за молодой парой и сказал, как бы про себя, но достаточно громко, чтобы я могла, если пожелаю, поддержать разговор: — Именно так у нас и происходит. Случайно встретимся, случайно разговоримся, а потом этот случай оказывается нашей судьбой. — Может быть, они знают друг друга уже давно. — Они познакомились полчаса тому назад. Мы все стояли на регистрации билетов, девушка что-то уронила, нагнулась, он нагнулся тоже, они стукнулись головами, рассмеялись, извинились. Обыкновеннейшая случайность. — Чаще всего так и знакомятся. — Да, к сожалению. — Чего же здесь плохого? — А ничего, если это счастливая случайность. Но обидно думать, что такая вот случайность вдруг определяет всю нашу будущую жизнь. Статистика подтверждает, что в одном случае из трех это не то, что нам хотелось бы иметь. Я вспомнила свою короткую замужнюю жизнь и могла бы сказать, что от такого печального конца не гарантируют и достаточно длительные знакомства. Я заметила, как он обратил внимание на мое кольцо. — Это не обручальное,— сказала я. — А я это вижу,— он помолчал.— Когда вы последний раз встречались со Светланой Павловной Аллаховой? Вот тут я уже внимательнее пригляделась к своему соседу, жалея, что не сделала этого раньше. Несомненно, где-то я его уже встречала, лицо его было достаточно выразительным и запоминающимся. — Удивились? — спросил он. — Видела вас в управлении Торга. Вы — главный ревизор. — Бывший главный ревизор. Ушел на пенсию. — Пытаюсь вспомнить вашу фамилию. — Бабаянц. Илья Ашотович Бабаянц. Я вас тоже помню. Вы — товаровед, работали у Риты Петровны. Она сейчас приняла Главный склад. А вы? — Пока в отпуске, по болезни. — Понимаю. С вами случилась какая-то неприятная история. Чуть не утонули, попали в больницу. — Было такое. — А случилось это как раз перед тем, как исчез Георгий Ефимович Башков и арестовали Светлану Павловну, со всем ее штабом. Насколько был осведомлен отставной ревизор Бабаянц о моей причастности к этому делу, я не знала, но в наблюдательности ему отказать было нельзя. Он видел и запомнил кольцо Аллаховой. Наверное, его теперь интересовало, каким образом оно могло очутиться на моем пальце. Я уже сообразила, что сказать, если он спросит, но он сидел, сложив руки на объемистом животе, и спокойно, даже как-то сонно поглядывал перед собой. Впрочем, голова у него работала весьма четко, в чем я вскоре убедилась. За все время разговора он больше ни разу не взглянул ни на меня, ни на кольцо. — Да!—сказал он.— Очень жаль… — Чего жаль! — поинтересовалась я.— Что арестовали Светлану Павловну? Остроумие — колючая штука, применять его нужно с осторожностью; я запоздало сообразила, что отставной ревизор может обидеться, а мне бы этого не хотелось,— несомненно, он знал кое-что о вещах, которые меня интересовали. Он не обиделся. — Нет,— сказал он,— я совсем о другом. — А именно? — спросила я. Полусонное выражение не сходило с его лица, хотя оно и не вязалось со смыслом сказанного им. — Мне жаль, что все произошло без моего непосредственного участия. Будь я более сообразителен, это могло произойти года на два раньше, и государство наше от этого только бы выиграло. Вы думаете, почему я ушел на пенсию, хотя меня и просили остаться? Разумеется, я этого не знала. — Я работал в Торге со дня его основания. Хорошо был знаком с Аллаховой, еще до того, как она стала заведующей Главным складом. Я был членом комиссии, которая проверяла ее работу и отчетность ровно два года тому назад. — После статьи Максима Крылова? — Да, после его газетной статьи, где он высказал свои подозрения в адрес работников Торга. Сейчас я готов снять перед ним шляпу и просить извинения, если только это могло бы что-то исправить. Но тогда я тоже не поверил ему. У Крылова не было точных фактов, он не знал бухгалтерии, но куда лучше меня разбирался в человеческих характерах. Я оперировал только цифрами — рублями и копейками, верил только цифрам и не видел за ними живых людей. Крылов мыслил другими категориями, поэтому сделал верные выводы там, где я не замечал ничего преступного. Единственное мое оправдание — я был рядовым членом комиссии. Дирижером нашего бездарного оркестра был Георгий Ефимович Башков. Я провел свою партию так, как он этого хотел. Ревизор, который позволяет водить себя за нос,— уже не ревизор. Когда я это понял, я потерял веру в себя, понял, что мне уже нет места в контрольном аппарате Торга. — Ревизоры и сейчас ничего не могут найти. — Возможно, что и не найдут. Георгий Ефимович ушел на пенсию еще до проверки, еще до статьи. Если не принимать во внимание его моральные понятия — это был весьма способный бухгалтер, знал свое дело и, конечно, успел замести все следы. Но два года тому назад обнаружить кое-что было бы еще можно. Я мог поймать Аллахову на внезапной ревизии. И я ее провел. Только предварительно согласовав с замдиректора Королёвым. А когда задержали и Королёва, я понял. Ревизия, о которой предупредили, обычно не находит ничего. Мне нужно было догадаться, вместе с Крыловым, обо всем этом раньше. Я не сумел. Моя недогадливость обошлась государству в лишнюю сотню тысяч рублей. Это слишком большая зарплата главному ревизору… И я ушел. Лечу к сыну, в Оренбург. Нянчить внуков. Это будет полезнее для меня и дешевле для государства. А работники полковника Приходько тем временем будут исправлять мою ошибку… Здесь он совсем закрыл глаза и замолчал, всем своим видом показывая, что не имеет желания продолжать этот неприятный для него разговор. Мне хотелось, чтобы он еще что-нибудь мне рассказал, но быть навязчивой я тоже не могла. В Оренбурге, когда самолет пошел на посадку, Бабаянц, не глядя, уверенно и быстро застегнул ремни. Когда мы сели, а я хотела встать, чтобы выпустить его, он вдруг положил на мой локоть тяжелую ладонь: — Вы отдыхать едете в Сочи, не так ли? — Отдыхать,— согласилась я. — Конечно!— улыбнулся он одними глазами.— Зачем еще едут в Сочи?… Кстати, там сейчас живет первый муж Светланы Павловны — Владислав Витальевич Щуркин. Когда он работал у нас в Торге, я частенько проводил ревизии и у него. Даже чаще, чем обычно. Он был такой аккуратный в делах, а я ему почему-то не доверял. Но у него всегда все сходилось, копейка в копейку. Он развелся со Светланой Павловной, и все в Торге очень удивились этому. Я тоже… удивился. А потом Владислав Витальевич уехал в Сочи. Там, говорят, можно жить весело и привольно, особенно, если у тебя есть деньги. Да, если есть деньги… Я проводила глазами его грузную фигуру, спускающуюся по самолетному трапу, и подумала, что старший ревизор Бабаянц слишком рано сдал свою трудовую книжку. У него не было уверенности, что я работник полковника Приходько, но я могла им оказаться, и он окольным намеком, не вызывая необоснованных подозрений, давал мне понять, что там, куда я еду, можно поискать деньги Аллаховой.
2
В Адлере было тепло. Перекинув на руку куртку, помахивая своим «модерновым» чемоданчиком, я вышла на привокзальную площадь. К сочинскому автобусу, стукаясь и цепляясь чемоданами, спешили пассажиры. Женщины попутно прихорашивались, поправляли прически, мужчины приглядывались к соседкам,— новые встречи, знакомства. Курорт… Я осмотрелась и пошла в сторону стоянки такси, возле которых тоже собирались пассажиры, выясняющие «кому куда?» Все такси были стандартного светлого цвета, а одна черная машина, но тоже с «шашечками», стояла в сторонке с погашенным зеленым фонариком. Водитель, открыв дверку, благожелательно поглядывал на пассажиров и коротко вежливо отвечал: «заказан». Я прошла мимо, но вдруг он окликнул меня: — Вам в Сочи, девушка? Мне не очень понравилась избирательность его внимания. Я молча покосилась на него. Он был молод и улыбнулся мне мило и просто, и я решила простить ему эту «девушку». Две женщины с тяжеленными чемоданами заспешили было к нему, но он опять сказал: — Извините, гражданочки, заказан! Он подождал, когда они отошли, и сказал тихо: — Садитесь, Евгения Сергеевна! Он взял у меня чемоданчик, положил его на заднее сиденье, открыл дверку. Я села рядом с ним. Вырулив на шоссе, он повернулся ко мне и представился: — Лейтенант Ковалев! — Как вы меня узнали? — Словесный портрет. И чемоданчик, опять же. — И чемоданчик? — А как же, очень заметный чемоданчик. Я его раньше, чем вас, разглядел. Я догадывалась, разумеется, что меня будут встречать, но, признаться, ожидала чего-то другого, более оригинального, что ли, нежели этот достаточно потертый «таксомоторный» вариант. Однако вскоре я решила, что нечего было в этом случае тратить порох на какие-то сюжетные новинки, вроде: «у вас продается славянский шкаф с шишечками?» — А куда едем? — спросила я. — Приказано устроить вас не в гостинице, а на частной квартире. — Кто приказал? — Мой начальник, подполковник Григорьев. Там вам будет лучше. Жить будете одна, в отдельной комнате. Место удобное, до моря недалеко и до нас тоже недалеко,— улыбнулся он.— Правда, без этих самых удобств. Зато на квартире есть телефон. Если вам нужна будет наша помощь, позвоните. Номер простой, запомните и так. В телефонной книжке его нет, а вам ответят: «Бюро находок слушает!». Вы попросите меня, и я вам или позвоню, или приеду. И все. — Просто. — Конечно. И всем удобно. — А хозяева квартиры — тоже ваши? — Нет, вот хозяйка у вас будет самая настоящая, частница. Старушка — два рубля в день за отдельную комнату. — Я, конечно, не об этом. Звонить буду — она услышит. — А она глухая. — Совсем глухая? — Не совсем чтобы… Если погромче кричать — услышит. А так очень удобная старушка, вне подозрений. Сама в прошлом фарцовщицей была. Валютой промышляла. Мы ее давно знали, но не трогали. Через нее на крупных деляг можно было выходить. А тут она впуталась в историю, да не с валютой, а с золотом. Чего-то там не поделили, ее и стукнули кастетом. Так стукнули, что еле-еле отошла. Но слух у нее повредился. Она по-прежнему многих знает, но сама это занятие уже бросила. Здоровье не позволяет. Я к ней клиентов вожу. — По золоту,— улыбнулась я. — Нет,— он тоже усмехнулся.— Уже нет. Сейчас — просто курсовочников, отдыхающих. Ну, и по нашей части кое-кого. — А она не догадывается, какой вы таксист? — Нет, конечно. Для нее я самый настоящий автоизвозчик. Я ей клиента, она мне на бутылку. — Значит, и за меня получите? — Само собой. На бензин хватает. За разговором лейтенант Ковалев вел машину не спеша. Нас обогнало настоящее такси, багажник был приоткрыт от выпиравших из него чемоданов. На заднем сиденье целовались молодой человек с девушкой, причем она обнимала его, нимало не смущаясь присутствием сидевшего рядом пожилого пассажира. — «И жить торопится, и чувствовать спешит…» — прокомментировал мой водитель. Я ждала, когда он начнет рассказывать, как здесь приняли моего бухгалтера, но Ковалев молчал. Я спросила его об этом. Он помедлил с ответом. — Стыдно вам говорить,— сказал он.— Ушел он от нас. — Опять? — невольно вырвалось у меня. — Да, вот так,— хмуро согласился Ковалев.— Знаете, на ходу рассказывать трудно, сейчас проселок будет, я сверну в него. Там и поговорим. Движение по проселку небольшое, а если кто нас и заметит, так, наверное, что-нибудь свое подумает. Вы не возражаете, если подумают? Он шутил, хотя уже не улыбался. Мне тоже было не до улыбок. — Не возражаю,— согласилась я.— Пусть думают. Свернув с шоссе, мы пропылили метров двести по разбитой дороге и остановились за кустиками. Я выбралась из машины, Ковалев тоже. Солнце здесь грело совсем по-летнему, я уже соскучилась по теплу. То, что рассказал мне лейтенант Ковалев, несколько улучшило мое настроение, тем более, что печальный конец истории, который так удручал моего рассказчика, меня не тревожил. Георгия Ефимовича Башкова встречали в Адлере лейтенант Ковалев и сержант Кузовкин. Оба были, конечно, в штатской одежде и приехали не в такси, а на развалюхе — «газике», который специально выделялся для подобных целей, как совсем не привлекающий к себе внимания. Развалюхой, похожей на видавшую виды машину какого-нибудь нерадивого водителя, «газик» был только по внешнему виду; на самом деле на нем стоял новый мотор, вся ходовая часть была в отменном порядке,— объяснил мне лейтенант Ковалев. Башков в толпе пассажиров спустился с самолета, сел в автобус — вместе с Кузовкиным, а Ковалев двинулся на «газике» следом за автобусом. В городе Георгий Ефимович сошел возле Главпочтамта, Кузовкин последовал за ним,— Ковалев ехал поодаль, стараясь не терять их из виду, на тот случай, если Башков решит взять такси. Но он завернул в комиссионный магазин, сдал там золотое кольцо, получил деньги, зашел в ЦУМ и купил себе новый пиджак, за который расплатился — как заметил Кузовкин — из тех денег, которые получил за кольцо. Пиджак надел в примерочной, а старый попросил завернуть и взял с собой. Из ЦУМа зашел в ресторан, сдал сверток со старым пиджаком в гардероб, а сам некоторое время разглядывал на себе свою обнову в зеркале вестибюля и, по заключению того же Кузовкина, остался весьма недоволен покупкой. После обеда он взял сверток, направился в туалет, туда Кузовкин уже не пошел, тем более, что Георгий Ефимович тут же вышел, уже переодетый в старый пиджак, а новый он нес завернутым в бумагу. Желая расстаться с неудачной покупкой, он посетил комиссионный магазин, сдал новый пиджак на комиссию. — Понимаете, Евгения Сергеевна,— рассказывал лейтенант Ковалев,— вроде бы мой Кузовкин не попадался ему на глаза, но у нас обоих создалось такое впечатление, что ваш бухгалтер мог думать, что за ним следят. Что все его действия — это разыгранный по такому случаю спектакль… Он вышел из комиссионного магазина, и вот здесь мы его и потеряли. И даже не потому, что он собирался удрать, скрыться от возможного наблюдения. Нет, все получилось просто: возле магазина останавливается такси, выходит пассажир, он садится на его место. А Кузовкину уже места нет, и других машин поблизости нет, светофор движение перекрыл. Я в квартале от магазина стоял, вижу такое дело, иду на красный… и надо же — детский сад через улицу пошел, девушка впереди и малыш с красным флажком — минуту я потерял, и такси ушло. Нашли мы это такси. Через полчаса нашли. Водитель рассказал: пассажир, который сел возле комиссионного магазина, выбрался в районе автовокзала. Побегали мы там, побегали… Подполковник мне строгача пообещал, а фотографию Кузовкина самолично с доски Почета вытащил. Осрамили, говорит, меня перед новосибирскими товарищами, где хотите, там и ищите, а чтобы был потерянный. Так что виноваты мы перед вами, Евгения Сергеевна. И лейтенант Ковалев сокрушенно вздохнул. — Но вы не тревожьтесь, найдем! — успокаивал он.— Наши его в аэропорту сфотографировать успели. — Интересно! Покажите, как получился. Снимок был шесть на девять — поясной четкий портрет Георгия Ефимовича на фоне самолетного трапа. Снято было, конечно, телеобъективом. — Удачный снимок! Подарите мне, у нас такого нет. — Пожалуйста, Евгения Сергеевна. Могу даже на память подписать,— невесело пошутил Ковалев. — А я вашему горю попробую помочь. — Это как? — По-моему, с автовокзала он уехал в Краснодар. У него там жена. — Жена?! — Разошелся с ней шесть лет тому назад. Я ее знаю. Живет одна, и он вполне мог приехать к ней, так как она еще ничего не знает о нем. И то, что его милиция разыскивает, не знает тоже. А кроме нее ему здесь приютиться, по-моему, не у кого. — Евгения Сергеевна! Да вы нас просто спасаете. — Запросите Краснодарское отделение. — А вы ее имя-фамилию знаете? — Конечно. Даже адрес. — Так я и запрашивать не буду, сам поеду — надежнее. Нет, сам не могу… Я Кузовкина пошлю. — Не спугните Башкова. — Что вы, да Кузовкин там на цыпочках ходить будет. Как призрак. Только бы на месте оказался. Думаю, оперативники подполковника Григорьева действовали вполне профессионально и все шло как должно, пока в их действия и планы не вмешался всемогущий Случай… — А вот что за спектакль он здесь устроил,— сказала я Ковалеву,— это нужно проверить. Пройдусь я завтра по его следам. Проиграю его программу. — Вам чем-либо помочь? — Нет, лучше, если я одна прогуляюсь. Вы дайте мне что-нибудь для комиссионного магазина, понимаете? — Понимаю,— Ковалев задумался на секунду и вытащил из кармана авторучку.— Вот, «Паркер», с золотым пером. — Даже с золотым? — Юбилейный подарок. Такие ручки наш «Интурист» продает. Запросите за нее рублей восемьдесят. Не дадут, конечно, но повод для захода в комиссионку будет. Ковалеву не терпелось проверить мою версию. Мы забрались в машину и до места моего будущего жилья доехали уже без остановок. Маленький домик за каменной оградой выглядел вполне мило и невинно, ничто не напоминало, что здесь когда-то разыгралась драма, которая чуть не стоила жизни его хозяйке. Чистенькая старушка встретила нас во дворе. Вполне симпатичная, как и ее домик, и нельзя было подумать, что она была замешана в весьма неблаговидных делах. Лицо — зеркало души, все это, конечно, так, но я как-то присутствовала на закрытом процессе, где судили зверского растлителя с лицом симпатичным до чрезвычайности… — Она самая, Ирина Васильевна,— сказал Ковалев. Он прокричал ей на ухо, кто я и зачем. — Пожалуйста, пожалуйста! — пригласила нас Ирина Васильевна. При этом она улыбнулась так задушевно и так ласково, что я подосадовала на природу, которая отпустила Ирине Васильевне столь много привлекательности, наверное, в ущерб тем, кто этого вполне заслуживал. Она пропустила меня вперед, а сама вытащила из кармана пестренького халатика свернутую зеленую бумажку и ловко сунула ее Ковалеву. Тот не менее ловко ее принял. А когда Ирина Васильевна отвернулась, подмигнул мне весело и удалился. Внутри домик был такой же светленький и чистенький, как и его хозяйка. Перегородка делила его на две половины. В проходной комнате стояла кровать хозяйки, никелированная и даже с шишечками, а также круглый обеденный стол с самоваром. Комната за перегородкой была обставлена более современно: поролоновая тахта, покрытая пледом,— одеяло и постельное бельё убирались в тумбочку у изголовья, два мягких стула, полированный журнальный столик с телефоном, полочка с книгами. На стене, оклеенной обоями цвета морской волны, над тахтой висела фотография с роденовской скульптуры «Амур и Психея», которая, видимо, должна была настраивать обитателя или обитательницу комнаты на соответствующий лад. Я потыкала пальцем в тахту, поглядела на Родена… беззаботно пожить здесь с недельку было бы неплохо. Ирина Васильевна пригласила меня к чаю. Самовар, правда, был электрический, зато варенье вполне натуральное, кисленькое, как раз в моем вкусе, только я так и не поняла, из чего оно. Разговаривать с хозяйкой было трудновато, она еще не научилась угадывать слова по движению губ собеседника, зато сама поговорить любила, как все старухи. Я ограничивалась пока тем, что покачивала головой в нужных местах. После чая я познакомилась с наличием духовной пищи на книжной полке — несколько разрозненных журналов и выпусков «Роман-газеты», очевидно, оставленных моими предшественниками по тахте. На обложке журнала столбики цифр, то ли подсчитывали командировочные, то ли подводили итог расходам… Позвонила по телефону; энергичный мужской голос ответил: «Бюро находок слушает!» У меня пока не было вопросов к «бюро находок», я положила трубку. Вечером спустилась к морю. Солнца уже не было, дул холодный ветерок, море недовольно морщилось. Любители позднего купания уже все повыбирались на берег. Я присела в сторонке на еще теплый, нагревшийся за день галечник. Без особенных эмоций поглядывала на пустынный морской горизонт. Завтра придётся отправиться в путешествие по еще горячему следу моего бухгалтера. Каждый, с кем он встретился в ювелирторге, в ресторане, в комиссионном магазине, мог иметь отношение к его, а следовательно, и моим делам. Нужно подумать и попытаться разгадать, что скрывалось за покупкой нового пиджака, если он опасался, что за ним могут следить. В пиджаке легко что-то получить, а также легко и передать. Что, кому и зачем?… Пологие волны лениво, без плеска накатывались на берег. Пожалуй, я бы и еще посидела, но тут на пляже появилась компания с транзистором. «Девушка, почему вы одна? Вам не скучио?…» — и я ушла домой.
3
Я начала с ювелирного магазина. У окошка приемщика стоял, растопырив локти, молодой парень в защитного цвета рубашке, из распахнутого ворота выглядывала застиранная «морская душа». Приемщик был старенький и серенький, как мышь, в потертых сатиновых нарукавниках. Он сдвинул на лоб лупу, через которую рассматривал массивный браслет в виде свернувшейся змейки с синими камешками на месте глаз. — Из Индии? — спросил он. — А что? — насторожился парень. — А ничего. Приемщик подал браслет обратно его владельцу. — Не берете? — Такие вещи не берем. Подарите браслет своей девушке. Она, уверен, не разберется. Вполне сойдет за золотой. — Как?… — Очень просто — подделка. — Так проба же… — И проба тоже. Парень отодвинулся от окошечка и растерянно повертел в руках браслет. Насупился, ушел. — Что у вас? Я развернула бумажный пакетик и подала ему заранее снятое кольцо. Оно тут же рассыпалось в руках оценщика на отдельные звенья. — М—м!…— протянул он.— Знакомая конструкция. Похоже — Египет? — Не знаю. Мне его подарили. — Что ж, нормальное золото, только низкой пробы. Высокой пробы такие кольца делать нельзя, звенья были бы мягкие, а им нужно сохранять форму. Иначе кольцо не сложишь. Я бы не советовал вам сдавать его на вес, как золото. Выгоднее сдать его на комиссию. Можно получить за него раза в полтора больше. Я сделала вид, что колеблюсь. — Я подумаю. — Правильно, подумайте. Зачем в таких делах торопиться? Пока я ничего не узнала. — Скажите, а вы один здесь работаете? — А вы желаете обратиться к другому оценщику? — Нет, просто хотела узнать… Видите ли, вчера мой знакомый сдал вам золотое кольцо… Приемщик пригляделся ко мне, еще выше сдвинул лупу на лоб. — Скажите…— протянул он.— Какая погода у вас в Новосибирске? — Погода? — опешила я.— Обыкновенная погода. Вчера снег шел. — Вот он так же сказал. Вижу, удивил вас вопросом? — Признаюсь. — Был у меня гражданин, сдал золотое кольцо. Паспорт у него оказался с новосибирской пропиской. Я спросил, почему он не сдал кольцо у себя, он сказал, что некогда было. Фамилию его… вот фамилии у нас не принято говорить, знаете. Он, что — сдал ваше кольцо? — Что вы, совсем нет. — А то я подумал… Извините, что спрашиваю. Но я принял у человека золото, мне не хотелось бы услышать, что оно не его. — Мы вместе летели самолетом,— пришлось сочинять на ходу,— он увидел мое кольцо, предложил сменять. А тут я узнаю, что кольцо он уже сдал. — Зачем вам менять? Его кольцо — простой ширпотреб. Золото — и ничего более. А ваше — ручная работа, мастер выковывал его молоточком на наковаленке. Кольцо с сюрпризом. Он подал мне кольцо, распавшееся на звенья и ставшее похожим на цепочку. — Сложите, его, пожалуйста,— попросила я.— Я всегда так долго вожусь. Несколькими точными движениями оценщик собрал все колечки в одно, я протянула руку, он таким же точным движением надел кольцо на средний палец. — Спасибо! — Вам очень нужны деньги? — Нет, не особенно. — Тогда носите его на здоровье. У вас красивые пальцы, это кольцо вполне будет на месте. Я поблагодарила любезного приемщика. На сообщника фирмы Аллахова — Башкова он никак не походил. Затем я посетила ЦУМ. В отделе мужской одежды у молоденьких продавщиц я узнала, что вчера работали они же. На всякий случай спросила, нет ли среди них Эмилии Щуркиной. Затем прошла в ресторан, уселась за тот же столик в углу, где сидел незадолго до меня Башков, разговорилась с официанткой, черноглазой, улыбчивой украинкой, которая одновременно работала и училась на курсах поваров. Ничего существенного ни в ЦУМе, ни в ресторане я неузнала. Находка ожидала меня в комиссионном магазине. У дверей «Прием вещей на комиссию» расположилась небольшая очередь, четыре женщины с сумками и свертками, последним был мужчина, устало отдувающийся, вытирающий шею платком,— возле уличных дверей магазина стоял здоровенный полированный шифоньер, очевидно, его. Я дождалась своей очереди и вошла. За большим гладким, как у закройщицы, столом сидела приветливая молодая женщина, я поглядела на нее и разочарованно подумала, что «горячий» след, похоже, никуда меня не привел. Подала женщина «Паркер», назвала цену. — Так дорого? — Импортная,— пояснила я.— Всемирно известная фирма. С золотым пером. На любителя. — Понимаете, я в магазине недавно. Наш главный оценщик в отпуске. Но вы подождите минутку. Он в отпуске только с сегодняшнего дня. Я ему позвоню. Он опытный товаровед и, конечно, уже встречался с подобными вещами. Она искренне хотела мне помочь. Я присела на стул. Возле телефонного аппарата лежала затертая картонка с номерами телефонов сотрудников торгового управления и вообще нужных людей и учреждений. Она провела пальцем по номерам, повторив вслух фамилию, затем номер телефона… и пока она звонила, я повторила этот номер несколько раз, уверенная, что записывать его мне не придется. — Это из комиссионного магазина… Владислав Витальевич… ах, его нет… будет позднее. Извините меня, пожалуйста. Она положила трубку, повернулась ко мне. Но я уже узнала, что хотела узнать. Я поблагодарила женщину и ушла. Она не поняла, за что я ее благодарю, и несколько недоуменно и озадаченно поглядела мне вслед. Я вышла из магазина на улицу. «Поменьше действуйте — побольше думайте!» Я действовала целый день и решила, что настало время подумать. А где было удобнее всего думать, как не на морском берегу. Тяжелые тучи затягивали небо, дул холодный ветер, слегка штормило. Купальщиков не было. Кое-где на берегу сидели одинокие фигуры, поглядывая на море. Я выбрала место у самой границы прибоя. Тяжелые волны накатывались на берег, с шипением гасли, оставляя на гравии чуть заметный пенистый след. Поразмышляв пять минут, я убедилась, что мой сегодняшний успех вопросов не убавил. Скорее, наоборот. Когда Башков несколько дней тому назад произносил слова сожаления и раскаяния — я ему верила. Тогда он был искренним — я не ошибалась. Я ошиблась, когда подумала, что это раскаяние будет длительным, стойким. Слишком крепко держала его липкая паутина стяжательства, привычного эгоизма, чтобы он свернул с пути — с волчьего следа, по которому шел все последние годы. Полковник Приходько решил подождать с арестом Башкова. Теперь я понимала: полковник был куда дальновиднее, нежели я, решив, что, оставаясь пока на свободе, Башков будет нам более полезен. И вот Башков привел меня к Щуркину… Опасаясь слежки, Башков на всякий случай разыграл этюд с пиджаком. Чтобы иметь повод для встречи и — вероятнее всего — что-то с пиджаком передать. Что? Письмо? Вряд ли… Можно думать — деньги. Но зачем он вез их через всю страну, да еще с риском, что его задержат по дороге? На этот вопрос ответа не находилось. Видимо, здесь мне придется спросить самого Башкова. Или — Щуркина… Море равнодушно подкатывало к моим ногам волну за волной. Я огребла горсточку гравия и сердито швырнула в воду. Что же из себя представляет Щуркин?…
4
Дома Ирина Васильевна пожаловалась, что не может купить свежей рыбы на завтрак. Что местные рыбаки обленились, предпочитают ходить за рыбой не в море, а в соседний «Гастроном», что их вполне устраивает скумбрия в томатном соусе или рыбный паштет. Ирина Васильевна долго говорила о том, какую рыбку она едала раньше, и надоела мне несказанно. Наконец она захватила хозяйственную сумку и ушла. Господи! Какой простой, и бесхитростной, и бездумной может быть жизнь… Я присела к телефону и позвонила по номеру, который узнала в комиссионном магазине. Разумеется, у меня был адрес Щуркина, но для предстоящего разговора нужна была нейтральная обстановка. Мне ответил молодой женский голос: — Владик! К тебе опять из комиссионки. Когда они оставят тебя в покое, человек в отпуске… Голос не мог принадлежать Эмилии — Милочке Щуркиной, дочь позвала бы отца иначе. Вероятно, это была его жена. «Щуркин у телефона!» Чуть смешалась, услыхав этот спокойный бесцветный голос — будущего противника, с которым мне предстоит начать словесную пока схватку. — Я приехала из Новосибирска. Очень нужно с вами встретиться. Не могли бы вы подойти к комиссионному магазину? — А в чем дело? Он чуть помедлил с вопросом, я чуть замедлила с ответом: — Видите ли, это не телефонный разговор. По напоминанию о Новосибирске Щуркин мог догадаться, что разговор пойдет о делах его бывшей жены. А если он, в свою очередь, ещё связан с её делами, то не может быть уверен в неуязвимости и своего положения, поэтому любая информация в этом направлении должна будет его заинтересовать. Он же сообразительный человек и должен это понять. На этом я и строила свой расчет. Даже при самом надёжном алиби любой преступник постоянно испытывает опасения — не осталось ли за ним каких-либо не замеченных им следов. Щуркин мог отказаться от встречи. Сказать, что ему некогда, что он уезжает, да мало ли что можно придумать. В той игре, какую я начинала, все козыри были в его руках. И если он откажется от встречи со мной, придется мне переписывать свою роль, и новый вариант неизбежно будет хуже первого. От его ответа зависело многое, и я невольно затаила дыханье. — Хорошо!— услыхала я.— Приду через полчаса. До комиссионного магазина было минут пятнадцать ходьбы, у меня оставалось время, чтобы еще раз продумать предстоящий разговор. С полковником Приходько мы сочинили только весьма приблизительную схему, дальнейшее будет зависеть от того, как поведёт себя при встрече Владислав Витальевич. А судя по всему, он не из тех людей, которых можно водить за нос или напугать. Он, конечно, уже знает об аресте своей жены и подготовился на случай, если им заинтересуются работники ОБХСС. Единственное, чего он не мог предусмотреть,— моего появления. Что-то не очень спокойно я себя чувствовала. Разговор предстоял нелегкий, пожалуй, труднее, нежели в свое время с Башковым. Возле комиссионного магазина шныряли какие-то «жучки» в потрепанных пиджаках, молодые люди в простроченных куртках и джинсах «Вранглер» или «Большой Джон». Я разглядела Щуркина еще на другой стороне улицы. Он мало изменился с того времени, когда кто-то из его родных или знакомых нажал на спуск фотоаппарата. Пожалуй, выражение его лица стало еще более расплывчатым и скрытным. Пока он переходил улицу, я успела подумать, что в жизни он, вероятно, придерживался иных методов защиты, нежели Башков; если тот мог позволить себе риск, идти напролом, то Щуркин предпочитал прятаться в нору и действовать исподтишка, из-за угла. И еще подумала, что ничего полезного предстоящий разговор мне не принесет. Я пошла навстречу, пристально глядя на него. Он заметил меня, замедлил шаги. — Это я вам звонила,— сказала я.— Пройдемте куда-нибудь. Хотя бы на набережную. Я пошла не оглядываясь, уверенная, что если он пришел к магазину, то пойдет и дальше за мной. Дойдя до парапета набережной, я остановилась. Слева и справа поодаль от меня сидели и стояли приезжие всех возрастов, их легко было отличить от местных жителей, которые чаще всего по-деловому торопливо проходили по набережной, даже не взглянув в сторону моря. Он подошел и остановился рядом. Я положила руку на парапет. — Надеюсь, вы узнаете это кольцо? — Нет, не узнаю. Он ответил сразу, не приглядываясь, не задумываясь. По одному этому можно было заключить, что он врет. Я чуть подождала, торопиться мне не следовало, разведка шла на чужой территории. Но он продолжал молчать. Говорить пришлось мне: — А Светлана Павловна была так уверена… Она передала мне кольцо уже после ареста, ей некогда было писать записку, она сказала, что это кольцо может убедить вас, что я тот человек, которому она доверяет и которому, следовательно, можете довериться и вы… Тут он молча глянул поверх моей головы… повернулся и ушел. Вот так, не промолвив ни слова, просто повернулся и ушел, я услыхала четкий перестук каблуков, когда он ровным шагом переходил улицу. А я осталась у парапета набережной одна, с чужим кольцом на руке и вопросами, на которые не получила ответа. И, очевидно, не получу. Я растерялась. Неужто я сделала что-то не так, не так себя вела, не то сказала? Не могла его ни заинтересовать, ни обеспокоить — он просто отмахнулся от меня, как от надоедливой мухи. Нельзя было бежать за ним, напрашиваться на разговор,— тогда мое поведение выглядело бы более чем легкомысленным. В таком случае моя настойчивость наводила бы на мысль, что я мелкая шантажистка, которая хочет погреть руки, используя попавшие к ней чужие секреты и чужое кольцо. Мой личный розыск закончился ничем. Придется обратиться за помощью к подполковнику Григорьеву; это значило проявить полную свою несостоятельность, неумение вести подобные дела. Да и подполковник Григорьев мало чем мог здесь мне помочь. В отчаянии я поглядела в одну сторону, в другую… и увидела Ирину Васильевну. Она шла по набережной с кошелкой, сквозь петли которой поблёскивало тусклое серебро рыбьей чешуи. Рысьи её глазки тут же заметили меня. Вероятно, она разглядела меня даже раньше, нежели я её. — Гуляете, Евгения Сергеевна? Это хорошо. С молодыми людьми разговариваете… Это кто же там, уж не Владислав ли Витальевич? — Не знаю… подошел, спросил, который час. Ваш знакомый? — Знакомый, как же. Встречались. Раньше-то чаще встречались, это сейчас я стала старая да увечная, никому не нужна… Деловой был мужчина, Владислав Витальевич, деловой. Значит, который час, спросил? Так, так… А я вот свежей рыбки купила, сподобилась. Вы когда-нибудь свежую скумбрию кушали? Ну где там, чего я спрашиваю, она же в вашей Сибири не водится. К ужину не опаздывайте. Попробуете, что такое наша черноморская скумбрия. Ирина Васильевна просеменила мимо. Владислав Витальевич был уже на другой стороне улицы. Но вот он замедлил шаги, оглянулся вслед моей хозяйке. И только здесь я догадалась наконец, почему он ушел. Я тут была ни при чем. Когда Ирина Васильевна скрылась за углом, он повернулся и пошел обратно ко мне. Видимо, он тоже не возражал против конспирации. Если он желает прятаться, значит, у него есть причины на это… Я уже не смотрела на него, как будто меня ничуть не обеспокоил его уход. Присела на парапет в рассеянной позе скучающей женщины, которая приехала на юг развлечься, оставив дома все правила хорошего тона, и ничуть не будет возражать против новых знакомств. И тут же немедленно возле меня остановился некто, кругленький, вертлявый, с маленьким ротиком и в кремовых брючках, он уже готовился произнести первую дежурную фразу, но я побоялась, что он спугнет осторожного Владислава Витальевича, и сказала с прохладной выразительностью: — Проходите, пожалуйста! Если я кого и жду, то не вас. Он захлопнул свой птичий ротик, сделал ручкой некий неопределенный жест и удалился — этакая кустарная подделка под курортного донжуана. Владислав Витальевич подошел, пододвинулся поближе, опершись локтями на парапет, рассеянно поглядывая на море. Играть он умел, я уже начала побаиваться, как бы его игра не оказалась лучше моей…
5
— Откуда вы знаете эту женщину? — спросил он. — Ирину Васильевну? — удивилась я.— Так она же моя хозяйка. Я у нее живу. — Вы знали ее раньше? — Откуда? Меня привез к ней шофер, прямо из Адлера. Похоже, он всегда поставляет ей клиентов. Она вам чем-то не нравится? — Сплетница! — сказал он.— Так с чем вы прибыли ко мне от Светланы Павловны? Ага, значит, мою причастность к Светлане Павловне он все-таки признал. — Ни с чем,— спокойно возразила я.— Будет вернее, если вы спросите: зачем? Он чуть взглянул на меня. — Хорошо. Зачем? — Думаю, вам уже известно, что с ней случилось. Моя пауза здесь была естественна, однако он промолчал, предоставляя мне самой отвечать на мои вопросы… Какому святому молились раньше русские моряки, отправляясь в трудное плаванье? Приходилось принять его молчание за утверждающий ответ. — Она… И вдруг он перебил меня: — Можете не продолжать. Я догадываюсь. Я ее предупреждал. — Она рассчитывает на вашу помощь. — Вот как? Мы расстались со Светланой Павловной столько лет назад. Я переехал сюда. С тех пор мы ни разу, понимаете, ни разу с ней не встречались. Это «ни разу!», да еще повторенное дважды, мне уже понравилось. — У меня здесь семья, Светлана Павловна это знает. Чем я могу отсюда ей помочь, на что она надеется, вы не расскажете подробнее? Ага! Значит, кое-что его все-таки беспокоит… Я начала свой рассказ с правды, назвав себя, свое место работы товароведа, перешла на полуправду и закончила настоящей выдумкой, которую мы отработали с полковником Приходько. Собственно, автором выдумки была Светлана Павловна, мы с полковником только чуть-чуть подправили изложение, чтобы оно годилось и для нас. Это был не бог весть какой надежный ход — история с подкупом следователя, но другого повода для обращения к Щуркину у нас не было. «Если он про вас еще ничего не знает,— заключил полковник,— то это сойдет. Ну, а если знает…» Владислав Витальевич спокойно выслушал меня, поглядывая то на ненастное невыразительное небо, то на такое же море. — Сколько же она обещала следователю? Кажется, поверил! Для меня деталь с подкупом следователя казалась самой ненадежной, и тем не менее она сработала и у Аллаховой, и здесь, у Щуркина. Воистину был прав Борис Борисович, что психология у этих людей работает по другой программе… — Десять тысяч,— сказала я. — Так много? — Ну, знаете, дело идет о ее судьбе. Здесь не приходится торговаться, лучше передать, чем недодать. — И она считает, что я смогу достать десять тысяч рублей? — Она надеется. — Почему она не поищет их у своих знакомых? — Арестовали всех ее знакомых. Даже бывшего бухгалтера Торга и того забрали. Я закинула этот крючок, чтобы выяснить, как отреагирует Владислав Витальевич — он же видел Башкова не далее как вчера. Но Щуркин, что называется, и ухом не повел. — Странно,— продолжал он,— почему она так надеется именно на меня. Мы живем с женой на одну зарплату. У нас здесь дочь. Правда, Светлана Павловна изредка посылала дочери денежные подарки… Что ж, подумала я, настал, видимо, момент выложить единственный козырь, который имелся у меня. Единственный. Если он не поможет, то другого у меня нет… — Светлана Павловна сказала, что в апреле, когда вы были у нее… Я остановилась, как бы подбирая наиболее тактичное продолжение разговора, словно решив напомнить ему существенную деталь, о которой я знаю, а он почему-то решил забыть. Ни я, ни полковник, разумеется, не знали, зачем прилетал к Аллаховой в апреле ее бывший муж. Мы предполагали, что она передала ему деньги, предусматривая возможные осложнения с ОБХСС. Но она могла ничего не передавать… И если он сейчас спокойно согласится и скажет: «прилетал, ну и что?» — то, как говорится, крыть нам с полковником эту карту будет нечем. Владислав Витальевич промолчал. Ну, а мне и вовсе нечего было больше говорить. Пауза затянулась. Я решила чуть подтолкнуть его: — Поэтому она рассчитывала на вас. Вообще-то это не было ложью. Это было правдой. Только сказать эту правду должен был другой человек, не я. Владислав Витальевич решительно выпрямился: — Хорошо! Я попытаюсь ей помочь. Но десять тысяч, согласитесь— сумма! — Сумма,— согласилась я. — Ее так сразу не соберешь. Вы меня понимаете? — Понимаю… Я на самом деле начала понимать, вернее, даже не понимать, а чувствовать, что он ищет способ уйти от меня. — Мне нужно день-два, лучше, наверное, два дня — быстрее я не могу. Сегодня у нас четверг. Скажем, в субботу… У Ирины Васильевны, кажется, был телефон? Я уже плохо слушала. — Телефон… Да, да, есть телефон. Вам нужен номер? — Я знаю ее номер. Сделаем так: в субботу я звоню вам до двенадцати часов. Скажем, в одиннадцать дня. Мы встретимся, я передам вам деньги. Сам я поехать не имею возможности, да и не нужно мне там быть, понимаете? Это я тоже понимала, он уходил от меня, и мне нечем было его задержать. А я не могла сидеть и ждать его звонка, у меня не было никакой уверенности, что я увижу его через два дня. Нельзя также просить отдел подполковника Григорьева следить еще и за Щуркиным, хватит им и одного Башкова. И у меня нет никаких оснований для подозрений. Но я должна как-то зацепиться за него… — Я передам вам деньги и билет на самолет. А там вы сами найдете способ передать их Светлане Павловне. Итак, до субботы… — Одну минутку. — Что еще? — Светлана Павловна просила меня повидать ее дочь. — Дочь?… Это еще зачем? Он неожиданно резко повернулся ко мне. За все время нашей беседы он держался спокойно, чуть равнодушно даже, как будто разговор шел о вещах, уже мало его касающихся. Я догадывалась, что это поза. Он хотел узнать, что я представляю собой, что знаю и могу ли оказаться опасной, так как все, что имело отношение к Аллаховой и ее деньгам, в какой-то мере относилось и к нему. Он понял, что весьма нехитрой ложью легко может от меня отделаться. И вдруг мой, казалось, вполне невинный вопрос о дочери застал его врасплох. Почему ему изменила выдержка? — Зачем вам нужна моя дочь? — повторил Щуркин. — Светлана Павловна просила… — Мне кажется,— перебил он,— Эмилии незачем знать, что случилось с ее матерью. — Милочка — взрослая девушка и сумеет понять… — Она ничего не сумеет понять…— оборвал он. — Впрочем…— он посмотрел на меня прищурившись. — Встречайтесь, если хотите. Только здесь я вам ничем помочь не могу. — Разве дочь живет не с вами? — Именно, не с нами. Она поссорилась с моей женой и перешла в общежитие. Я сам не видел ее давно, она не бывает у нас. Итак, до субботы. Ждите моего звонка. Я сидела на парапете набережной и смотрела вслед уходящему Владиславу Витальевичу. Я не опасалась, что он оглянется, он догадывался, что я могу смотреть ему вслед, и шел уверенно и неторопливо, всем своим видом показывая, что разговор со мной его ничуть не потревожил. Я дала ему понять, что знаю, что деньги у него есть, стараясь, чтобы это не походило на шантаж. Он спокойно согласился, уверенный, что ничего опасного в его признании нет, так как все это были слова и только слова. Но вот в простом разговоре о дочери выдержка ему вдруг изменила. Правда, он тут же разыграл роль отца, обиженного на свою дочь, но это была уже новая роль, он к ней не подготовился, и она плохо ему удалась. Я убедилась, что приезжал он к Аллаховой именно за деньгами и эти деньги хранятся у него. Но пока Аллахова молчит, мои догадки будут выглядеть как беспочвенные подозрения. Программа на сегодня была закончена. Потерянный след моего бухгалтера меня не особенно тревожил. Почему-то я была сейчас стопроцентно уверена, что сам он сидит в Краснодаре у своей жены. Во всяком случае, сержант Кузовкин, конечно, уже там, и завтра я узнаю от Ковалева все новости. Размышляя на ходу, я незаметно добралась до дома. Отворив уличную калитку, почуяла аппетитный запах жареной скумбрии. Негоже было к такому столу прибывать с пустыми руками, я вернулась к ближайшему «Гастроному» и купила бутылку вина, надеясь, что качество его будет пропорционально цене, так как название вина мне было незнакомо. Рыба на самом деле оказалась превосходной — готовить Ирина Васильевна умела. Не знаю, как по части иностранной валюты, но в гарнирах к рыбе она тоже разбиралась, и давно я не ела с таким аппетитом. Под рыбу мы выпили по стаканчику. Ирина Васильевна не отказалась повторить еще и еще. Я пропустила свою очередь. Мне хотелось поговорить с ней о Владиславе Витальевиче, но при открытых окнах разговаривать на деликатные темы с Ириной Васильевной было затруднительно. Тут еще пришла ее соседка, ей тоже налили стаканчик. А я отправилась спать.
МИЛОЧКА ЩУРКИНА
1
Поднялась рано. Гимнастика йогов всегда казалась мне наиболее подходящей в новой обстановке, когда не хочешь тратить много времени на монотонное махание руками или бесконечные приседания. Ирина Васильевна еще спала, звучно похрапывая в своей кровати с никелированными шишечками. Я прошлась по просыпающемуся городу, побродила по пляжу. Поймала зазевавшегося крабика, который изловчился и больно ущипнул меня за палец, я выронила его на песок, он тут же втиснулся в чью-то норку под камнем; весь он туда не вошел, поэтому спереди прикрылся клешнями. Я протянула к нему руку, он сердито отмахнулся клешней, и я оставила его в покое. Прячущийся краб вернул мои мысли к Башкову, я подумала, что пора поинтересоваться, в какой норе он решил спрятаться. Я вернулась домой. Поднявшаяся Ирина Васильевна уже вскипятила самовар, а сама устремилась по хозяйственным своим делам. Я позвонила в «Бюро находок». «Ковалева нет,— ответили мне.— Что ему передать?» Я попросила, чтобы он позвонил мне, когда окажется поблизости. Я не назвала себя, ожидала, что меня спросят, но мне ответили: «Хорошо, передадим!» Сотрудники подполковника Григорьева работали четко. Затем набрала номер квартиры Владислава Витальевича. Просто так, чтобы только услышать его, но мне опять ответил женский голос, и я положила трубку. Чем больше я размышляла, тем меньше оставалось уверенности, что дождусь его звонка. Мне нужно было как-то ускорить события, сидеть сложа руки я уже не могла. Я решила, что пора встретиться с его дочерью. У меня не было к ней каких-либо вопросов, она случайно возникла в моей программе. Но повидать ее было нужно, посмотреть, что за дочь растет у такого ловкого отца. И почему отцу так не хочется,— а это я вчера ощутила,— чтобы я с ней встретилась. Он уверенно заявил, что дочь у них не живет, понимая, что это легко проверить, поэтому, думаю, не врал. Я направилась к киоску «Адресное бюро», сделала заявки на две фамилии — Щуркиной и Аллаховой. Я надеялась, что она еще не успела сменить одну из этих фамилий на третью. Через несколько минут у меня был адрес студенческого общежития, где прописалась Эмилия Всеволодовна Щуркина — у нее оказалась отцовская фамилия. Любезная девушка из «Адресного бюро» узнала также и телефон общежития, и даже сама позвонила туда. Там ответили, что Эмилия Щуркина проживает в 34-й комнате, но сейчас ее там нет, она приходит после трех. У меня появился вынужденный тайм-аут, я решила подождать звонка Ковалева дома. Взяла с полки первый попавшийся журнал и начала читать что-то без начала и с продолжением в следующем номере — мне даже показалось интересным восстановить прошедшее и догадаться о последующем… Тут звякнул телефон, кто-то осведомился об Ирине Васильевне и тут же повесил трубку, а я подумала, как он собирается разговаривать с глухой старухой, если я разбирала его слова с трудом. Следом позвонил Ковалев. Очень обрадовалась его звонку — хоть кто-то знакомый появился на моем тусклом горизонте,— да и у Ковалева голос был веселый. — Полный порядок! — заверил он.— По тому адресу, какой вы сказали. Сидит и никуда не выходит. Даже заходить не пришлось, чтобы убедиться. — Это как же? — Повезло! У нашего краснодарского товарища квартира оказалась в доме по соседству. Из нее тот дом хорошо просматривается. Мой Кузовкин теперь его караулит. — Один? — На пару с краснодарским товарищем. Так что — не беспокойтесь. Теперь не упустим. Подполковник Григорьев Кузовкину командировочную выписал — тоже доволен, что нашелся наш беглец. В ножки, говорит, ей поклонитесь — это вам, значит,— что найти помогла. Просил спросить, как ваши дела? — Пока не очень. С Щуркиным повидалась, об этом при встрече расскажу. Думаю навестить его дочь. — Наша помощь не нужна? — Пока нет. Вот в дальнейшем… — Не стесняйтесь, когда нужно будет. — Какие тут стеснения. Хотя к Щуркину присмотреться бы не мешало. Как он, кто он — может, что и узнаете. — Ладно. Щуркиным я сам займусь. Положив трубку, я почувствовала себя увереннее, менее одинокой, рядом, на другом конце телефонного провода, сидели мои товарищи… Помня известную поговорку: «Если хочешь быть здоров — делай в день десять тысяч шагов!»,— я направилась к студенческому общежитию пешком. Дежурная по общежитию, хмурая женщина гренадерского телосложения, с профессиональной подозрительностью — которой, кстати, отличаются все вахтеры — некоторое время разглядывала меня. Ее несколько успокоило то, что мне нужно видеть студентку, а не студента, но все же она хотела выяснить причины моего посещения. Зная по опыту, что для посторонних вахтер общежития и царь и бог, я смиренно ответила на все ее вопросы. — А то, знаешь, много кого тут ходит. Вот на прошлой неделе трубу унесли. — Трубу? — Из красного уголка, из оркестру. На которой играют. — Понимаю. — Здоровущая, вот такая! А уперли, дьяволы. — Как же ее мимо вас пронесли? — Наверное, с этажа в окошко спустили. Кто-то мне тут зубы заговаривал, а другой трубу спущал. Вот так, организация!… Значит, ты говоришь, из Сибири самой? — Из Новосибирска. — От ейной матери, значит, Щуркиной. — От нее. — А тут к ней уже гражданин приходил. — Какой гражданин? — встрепенулась я. — Пожилой уже, пожилой. Солидный такой. С портфелем вот таким, здоровущим. Я хотела сюда ее позвать, а он говорит — документы ей подписать нужно, а здесь неудобно. В портфеле документы. И прошел. Недолго побыл. Из порта, говорит. Портовские у нас часто ходят, студенты там на практике работают. Мне очень бы хотелось уточнить внешность посетителя, но вахтерша уже потеряла ко мне интерес, подошло время обеденного перерыва, уборщица принесла кастрюлю с борщом и булку хлеба. Вахтерша вытащила из стола ложку. — Ну, иди, иди! Чего стоишь. Раз от матери, значит, иди. Третий этаж, как с лестницы направо — санузел, а там найдешь. Грамотная, поди. Я поднялась на третий этаж. Нашла нужную дверь. Постучала легонько, потянула. Дверь была закрыта. Постучала сильнее. «Кто там? — спросили меня.— Подождите, минутку!» Если вы работник милиции и у вас появилось основание не доверять человеку, который в данный момент разговаривает с вами из-за закрытой двери и не спешит ее открывать, хотя на это у него могут быть вполне благовидные причины,— недоверие ваше к нему не уменьшается. В комнате послышались торопливые шаги, что-то стукнуло, зашуршало. Затем дверь открылась.
2
Невысокая тоненькая девушка, в шелковом халатике, наскоро наброшенном, поясок завязывала уже в дверях. У нее были черные волосы до плеч, красиво посаженная головка, и вообще она хорошо бы смотрелась — ее портили маленькие прищуренные глазки и тонкие холодные губы. Можно было не спрашивать — это была Эмилия Щуркина и никто более. Кроме того, я же видела ее на фотографии. Халатик на ней — насколько я разбиралась как товаровед — был, похоже, японский, стоил дорого и, конечно, был куплен не на студенческую стипендию. — Здравствуй, Милочка! — Здравствуйте… — Приехала к тебе от мамы. Я сразу перешла на «ты», считая, что такое обращение придаст большую непосредственность нашему последующему разговору. Я ожидала, что она удивится,— и ошиблась. — Проходите!— сказала Милочка. В небольшой чистенькой комнатке стояли две кровати. Нетрудно было догадаться, на какой спит Милочка. Если одна кровать была застелена серым «казенным» одеялом, то вторую покрывал дорогой шерстяной плед, а подушку — кружевная накидочка. Накидочка сдвинулась набок, а подушка выглядела так, будто под нее что-то засунули. Это «что-то» и сейчас лежало там — из-под подушки торчал белый матерчатый уголок. Вернее всего, она «что-то» примеряла перед моим приходом, она и сейчас выглядела несколько смущенной, я чуть подивилась такой застенчивости. Я присела на стул возле ободранного письменного стола с грубо намалеванным на дверке инвентарным номером — на этот счет у всех завхозов привычки одинаковы, могут написать свой номер на передней стенке полированного шкафа. Милочка устроилась на кровати. Когда я повернулась к ней, подушка была уже поправлена и из-под нее ничего не торчало. Я еще раз удивилась. Пожалуй, мне нужно было тогда поменьше удивляться… — Как дела у моей мамы? Вопрос был, что называется, «нейтральный», я ответила так же: — Видела ее два дня тому назад. — У нее… надеюсь, все хорошо? Я внимательно посмотрела на Милочку, она тут же застенчиво опустила свои мышиные глазки. Но вот здесь-то она уже не могла меня обмануть. Унаследовав от отца его внешность, она еще не успела развить врожденный актерский талант. Это приходит не сразу, а в процессе практики. Врать тоже нужно уметь. Нигде и никому, пожалуй, так много и изобретательно не врут, как на допросах следователю ОБХСС. За время практики по следовательской работе я такого вранья и сама успела наслушаться достаточно. Несомненно, Милочка уже что-то знала о своей матери, во всяком случае, о ее аресте и следствии. И сведения эти получила от своего отца, хотя он и уверял меня, что дочери незачем это все знать. Более того, у меня появилось убеждение, что мой приход ее тоже не удивил, а вот об этом ее мог предупредить только «солидный гражданин из порта, с большим портфелем». Почему Владислав Витальевич так воспротивился поначалу моему намерению встретиться с его дочерью, а затем и сам прибежал к ней, чтобы предупредить ее об этом? Несомненно, у него были на это какие-то важные причины. И я пожалела, что заранее сказала ему о своем желании увидеть его дочь. Приди я неожиданно, возможно, я узнала бы больше. Теперь было уже поздно. «Ревизия, о которой предупредили, обычно не находит ничего!» Когда я шла сюда, я не собиралась посвящать Милочку во все подробности. Какой бы плохой Аллахова ни была, она была ее мать. И заботилась о дочери, как могла. И дала ей все, что могла дать,— деньги и вещи, обеспеченную бездумную жизнь. Большего она дать ничего не могла, потому что у нее самой больше и не было ничего. Ни моральных, ни нравственных начал. Я надеялась, что «разумное, доброе, вечное» как-то еще могло отложиться в сознании дочери благодаря школе. Нет, и этого я не заметила. Воспитывать Милочку было уже поздно. Но правду я ей должна сказать. Пусть знает, куда приводят кривые дороги, по которым пошла ее мать. — Я встречалась с твоей мамой у следователя. Милочка удивленно вскинула глазки, на этот раз у нее получилось даже вполне натурально, но я уже не верила ничему. — Твою маму арестовали за хищение народного имущества. Идет следствие. Когда оно закончится, твою маму будут судить. Будут очень строго судить. Ей могут дать лет десять, а то и пятнадцать лишения свободы. — Ужасно… — В колонии строгого режима, без свиданий, без амнистий, без передач. — И ничего нельзя сделать? Я опять взглянула на Милочку, но она уже не смотрела на меня. Она перебирала тоненькими пальчиками складки халатика из блестящего японского шелка и не поднимала глаз. «А что если…» — подумала я. — Твоя мама считает, что ей еще можно помочь. Только нужны деньги. Очень много денег. Десять—пятнадцать тысяч рублей. — Так много… Где же их взять? — Твоя мама направила меня к твоему отцу. Он сказал, что поищет. Может быть, и найдет. Он обещал мне позвонить. — Когда? — быстро спросила Милочка. — В субботу. Я пристально смотрела на Милочку, но она по-прежнему не поднимала на меня глаз. Она была достойная дочь своего отца, я уже ничего не могла разглядеть на ее лице. Делать мне здесь больше было нечего. Я могла спросить, был ли у нее Владислав Витальевич, но уже знала, что она соврет. — Ты помнишь это кольцо? — Конечно. Это кольцо мамы, папа подарил ей на день рождения. О кольце предупредить Милочку Щуркин не успел. Я сняла кольцо с пальца. — Я передам его тебе. Дай-ка мне руку, а то сама можешь не надеть. Нет, не правую, это еще не обручальное. Кольцо плохо держалось на тоненьком пальчике. Милочке пришлось сжать руку в кулачок. — Носи и вспоминай почаще о своей маме. Она проводила меня до дверей. Пройдя коридор, я быстро обернулась. Притворив двери, она смотрела мне вслед, как бы желая убедиться, что я действительно ухожу. Так зачем же к ней приходил Владислав Витальевич?…
3
Дома у Ирины Васильевны был гость. Я услыхала его прежде, чем увидела. Они беседовали о прошлогоднем осеннем сезоне, и, думаю, не только я, но и жители соседних домов могли быть в курсе их разговора. Когда я открыла калитку, они сидели на крыльце. Это был молодой мужчина самой курортной внешности, томный и вкрадчивый, в замшевой куртке и вельветовых шортах, со сверкающей впереди застежкой-молнией. — Мой прошлогодний жилец,— представила его Ирина Васильевна. Он назвал имя, я не стала его запоминать. Ирина Васильевна собиралась было устроить коллективное чаепитие, молодой человек с готовностью её поддержал, с надеждой поглядывая на меня. Я не возражала бы против стаканчика чайку с домашним вареньем, но без добавления к этому еще и молодого человека в вельветовых шортах. По примеру лермонтовских барышень сослалась на больную голову и прошла к себе. Ирина Васильевна проводила гостя до калитки, но и оттуда я слышала их разговор… тут позвонил Ковалев и, не вдаваясь в подробности, сказал, что подъедет к столовой. «Есть новости!» — добавил он. По своему, пусть небольшому, опыту я уже знала, что когда в нашей работе появляются новости — это, чаще всего, плохие новости. К столовой я прибыла раньше, чем Ковалев. Он приехал на такси, я побыстрее забралась в машину, удачно опередив многих желающих. Ковалев свернул в первый же переулок и выехал на малопроезжую улицу. Он не торопился начинать разговор, но по его лицу я уже догадалась, что предчувствия меня не обманывали. — Да говорите, что случилось! — не выдержала я.— Георгий Ефимович сбежал? — Нет, Георгий Ефимович сидит, как мышь в норе. Других несчастий вроде у меня не предвиделось, я несколько успокоилась. — Даже на улице не показывается,— продолжал Ковалев.— Кузовкин только в окошке его и видит. — Как это ему удается? — Оптика. — Тогда какие еще новости? Ковалев пропустил на перекрестке «скорую» и повернул следом. — Ваш Щуркин потерялся. — Это еще как? — Говорят, улетел сегодня в Москву. Я после нашего с вами разговора к нему зашел. Дома его уже не застал. — Может, он от вас спрятался? — Нет, я пришел чинно-благородно, как страховой агент. — Он застрахован? — Конечно. На пять тысяч рублей. Меня встретила его жена. Она мне и сказала, что у Владислава Витальевича — туристская путевка в Болгарию. Местный комитет комиссионного магазина его наградил за отличную работу. — Вот не вовремя его наградили. — Срок начала путевки через три дня. Но он решил улететь пораньше, в Москве у него дела. Так сказала жена. И в комиссионном магазине неожиданно взял отпуск раньше, чем собирался прежде… Даже отпускные не получил. — Зачем ему теперь отпускные, у него и так денег полон карман. А может быть, он в Новосибирск улетел, а жене сказал… хотя вы, конечно, это проверили. — Конечно, проверили. Он на самом деле зарегистрировался на московский самолет, рейс, номер — все совпадает. Мог зарегистрироваться и не улететь, так мы, на всякий пожарный случай, связались с бортом самолета. Попросили второго пилота посмотреть, что за гражданин летит на восемьдесят четвертом месте. Пилот посмотрел, обрисовал. — Обрисовал? — Полный, лысоватый. Глазки маленькие. Нос и губы тонкие. — Он. — Так что Щуркин сейчас, уже гуляет по Москве. — Может быть, за деньгами полетел. Так нет, не должен, деньги у него с собой, конечно. Здесь где-то были. От меня он просто отмахнулся, чтобы ждала. А сам выручать свою подругу, попавшую в беду, видимо, не пожелал. Мне было приятно говорить с Ковалевым, проверить свои предположения и сомнения — надоело вариться в собственном соку. — Не пожелал,— согласился Ковалев.— Звериный закон — хромого волка в стае загрызают. — А может, я его спугнула? Что-то почуял старый хищник и убрался загодя. — Тогда он деньги просто с собой захватил. — В Москву? — В Болгарию. — Что он с ними будет делать в Болгарии? — Припрячет где-либо. В валюту переведет. Мы тут с подполковником даже подумали: возможно, он из туристской поездки возвращаться не собирается. — Останется в Болгарии? — Зачем в Болгарии, может и в Турцию махнуть. Он из тех людей, которые ради денег на все готовы. Болгария — Турция, это же рядом… — Здесь всех бросит, жену, дочь? — А что ему жена, дочь? — Вот так так… Об этом я, признаться, не подумала. — Так и я не подумал. Это мой подполковник предположил. Даже проверить решил, не бывал ли Щуркин раньше за границей. — Проверили? — Бывал. Правда, не в Болгарии, а в Румынии, но это тоже рядом. Так что вполне мог кое-какие знакомства там завести, на будущее. — Ну, в таких делах у меня опыта никакого нет. Здесь вашему подполковнику, конечно, виднее. Но если так, то деньги у Щуркина с собой. А что делать? Не можем же мы на основании одних подозрений его в Москве задержать. Ни один прокурор санкции на обыск не даст. И ваш подполковник настаивать здесь не будет. — Вообще-то, он человек решительный. — Но в сомнительные дела ввязываться, конечно, не станет. — Само собой. Он сказал: задерживать Щуркина в Москве нет смысла, денег при нем может и не быть. Но в Болгарию он их постарается захватить. Поэтому подполковник решил связаться с московскими товарищами, чтобы последили за Щуркиным, где нужно. И на границе тоже. — Найдем мы здесь деньги или не найдем, а уезжать буду, обязательно постараюсь к вашему подполковнику зайти, «спасибо!» сказать. Если примет, конечно. — А почему — не примет? Он у нас молодежь любит. И про вас меня спрашивает, как и что… Ковалев остановил машину на перекрестке. Откинулся на спинку, поглядывая на красный огонек светофора. А я перебирала в уме варианты, внезапно возникшие в связи с «заграничной» версией подполковника Григорьева. Понимала, что сделать сама здесь уже ничего не смогу, Щуркин вышел из сферы моего наблюдения. Осталась его дочь… Милочка Щуркина —дочь своего отца… я задумалась. Загорелся желтый, Ковалев включил скорость. — Что решили с Башковым? — спросил Ковалев. — Что?… Не знаю. Пока не знаю. — Кузовкин там его караулит. — Пусть еще денек покараулит. Башков, по-моему, пока никуда бежать и так не собирается. Думаю, он тоже Щуркина ждет. Что-нибудь тот ему пообещал, чувствую. Ведь Башков не знает, что Щуркин собирается удочки сматывать. А пока не знает, будет сидеть и ждать. Вот и пусть посидит и подумает. Ему есть о чем подумать. — А может, ему в КПЗ будет лучше думаться? — Трудно сказать… Сейчас у меня Владислав Витальевич Щуркин, что называется, из головы не идет. Ваш подполковник меня надоумил. Может оказаться, что Щуркин на запрещенные «заграничные» приемы мастер. Он человек сообразительный, рисковать не будет и на прямой «заграничный» ход не пойдет. Ох, Ковалев, что-то другое Владислав Витальевич затевает. Мне бы с ним еще разок потолковать… Но до него далеко, к сожалению. А вот до студенческого общежития отсюда уже близко. Высадите меня здесь, пожалуйста. — Что вы собираетесь делать? — Что?… Не знаю еще что. Посмотрю на его дочь. — Зачем? — Проверю еще раз теорию наследственности,— отшутилась я.
4
О том, что отец собирается в Болгарию, дочь, наверное, знала. Не могла не знать, зачем еще он заходил к ней перед отъездом. Разумеется, я не рассчитывала получить какие-то точные сообщения — дочь, судя по всему, стоила своего отца. Но она еще не так ловко умеет пользоваться лживыми словами, как ширмой, за которой можно прятать свои мысли и намерения. И если я умело поведу разговор и буду внимательна, возможно, у меня появятся дополнительные соображения о планах ее отца. В данном случае я не боялась оскорбить любовь детей к родителям и родительскую привязанность к детям — в создавшейся ситуации не было и намека на эти святые извечные чувства. Была игра двух сообщников — совместная подозрительная игра… А вот какая — это мне нужно было обязательно разгадать. Монументальная дежурная общежития была на своем месте. — Трубу не нашли? — спросила я. — Какую трубу? — Которую украли. Из оркестра. — А-а! — узнала она меня.— Не нашли. В милицию заявили, так там разве найдут. — Бывает, находят,— заступилась я.— Щуркина у себя? — Щуркина? — Из тридцать четвертой… — Ах, та? А ее нет. Ушла. С чемоданчиком. — С чемоданчиком?— всполошилась я.— Она что, тоже… уехала? — Нет, сказала, что белье в прачечную понесла. Если кто спрашивать будет, так она скоро придет, так и сказала. Пусть, мол, подождут. Вот и ключ висит — значит, нет. Я вышла из общежития, нашла неподалеку скамеечку, с которой хорошо просматривался подъезд, присела. Сидела долго, около часа. И чем дольше ждала, тем меньше у меня оставалось уверенности, что я ее здесь дождусь. Ушла в прачечную, скоро вернусь. Пусть подождут!… Уж не отцовский ли приемчик употребила дочь?… Я вернулась в общежитие. — Не пришла! — подтвердила дежурная. — А ключа на вешалке нет. — Так это ее сопарница взяла, Егорова. Они вместе живут. Тебе зачем Щуркину-то? — Хотела повидать перед отъездом. Может, письмо матери захочет написать, передала бы. — Вот-вот! Мать, поди, по дочери скучает, ночами не спит, а той письмо написать времени, видите, нет. Так ты пройди в комнату, с Егоровой потолкуй. Спроси, может, она знает, куда Щуркина ушедши. Я поднялась на третий этаж. Дверь на этот раз была открыта. Егорову — «сопарницу» Милочки Щуркиной по комнате — звали Анюта, так она сама представилась, протянув мне по-детски маленькую узенькую ладошку. У нее были пухлые щечки и покрытый симпатичными конопушками носик. Она пила чай за столом. С одной стороны чашки стояла коробка с сухарями «Кофейные», а с другой лежала раскрытая книжка, но явно не учебник. Анюта предложила мне чаю. Я не отказалась. И пить уже хотелось, и торопиться мне, как я думала, было пока некуда. Мы макали сухари в чай и не спеша беседовали. — Значит, вы от ее мамы? — От мамы. — Хорошо иметь такую маму. — Какую? — Богатую. Правда, что ее мама — директор магазина? — Вроде того. — Подарки ей присылает какие! Деньги, посылки разные. Халат такой, знаете, японский. С птицами. Красивый — ужасно! — Что, подарки прямо сюда приходили, в общежитие? — Что вы. Она за ними ходила. На почту. До востребования. — А у тебя мама есть? — Есть-то есть…— протянула Анюта.— Гардеробщица она, в драмтеатре. У нее кроме меня еще двое. Отец сначала был, а теперь его нет… А у Милочки и отец солидный такой. В прошлом году ей путевку достал. В Болгарию. — В Болгарию? — переспросила я. У меня даже дыханье чуть сбилось от неожиданности. Если до этого я просто пила чай, грызла сухари и просто так разговаривала с Анютой, а мои смутные подозрения бродили где-то по обочинам сознания, то сейчас они начали выстраиваться в четкую мысль. Очевидно, это отразилось на моем лице. — Вы мне не верите? — не поняла Анюта. — Почему же, верю, верю… — Она, знаете, из Болгарии туфли привезла. Парижские! — Неужели? Я думала о другом и произносила первые попавшиеся слова. — А свитер,— рассказывала Анюта,— белый, и слова на нем разные напечатаны. По-английски, конечно. А может, по-французски — не знаю. Слева, вот здесь — «экспорт!», а справа так же — «сюрприз!» А посредине девушка в черных очках из пистолета целится. Видели такие? — Такой не видела. Похожие — встречала… — Шикарный свитер, наверное, дорого стоит. — Наверное. Спросила бы… — Постеснялась. Вам налить еще? — Спасибо! — Мне было уже не до чая.— Ты давно здесь с Милочкой живешь? — Еще с прошлого года. Как Милочку сюда к нам перевели. Она из другого института. Я еще учусь, а она уже на практике. — Где же ее практика? — В Управлении Морфлота. — Что она там делает? — Так она на спецкурсе. Вроде как по торговой части. Грузы разные принимает, определяет, что куда. На теплоходе, значит. На сухогрузах. Знаете, такие есть с кранами разными. — Видела. — Туда, на спецкурс, трудно было попасть. Наверное, опять ей отец помог. — А почему трудно попасть? — Английский хорошо знать нужно. А Милочка его знает. — Английский-то там зачем? — Как зачем? Так со спецкурса они в загранплаванья ходят. Вот тут все стало на свои места, и в те слова, которыми я возразила Анюте, я уже не верила и сама: — Какое там загранплаванье? Плавают, должно быть, вдоль побережья — от Батуми до Одессы. — Что вы! Да они и в Турцию ходят, в Константинополь, в Стамбул. И в Грецию даже. Я не спорила с Анютой. Конечно, ходят! Это я понимала и сама. Сидеть и дожидаться Милочку я уже не могла. Её нужно было искать. И я чувствовала, что не успокоюсь, пока её не разыщу. — Долго что-то Мила не возвращается. Повидать мне ее нужно перед отъездом. Может быть, она на работе? — Может быть. Только я не знаю, как ее искать. Вы позвоните в деканат!… Хотя уже поздно, короткий день, и в деканате никого нет. Тогда прямо в пароходство. Телефона, правда, я не знаю. Но вы и так найдете. — Попробую. Я встала. Анюта проводила меня, задержалась у дверей. — Подождите, я вам ее туфли покажу. Загляденье — не туфли. Анюта открыла шкаф, достала коробку с французской надписью на крышке и лакированным изображением длинных женских ног в туфлях. Коробка оказалась пустой. — Странно…— удивилась Анюта.— И свитера ее нет. Она его на работу никогда не надевает, ни свитер, ни туфли. Куда же это она собралась?… С первого же автомата я позвонила в «Бюро находок» — Ковалева не было. Я не знала, когда буду дома, но просила передать ему, чтобы он позвонил, но предупредила, что могу сама позвонить еще раз. Поймала на улице такси и поехала в Управление. Был конец рабочего дня, а завтра — выходной. Люди, которые оставались на своих местах, не очень понимали, как мне помочь. «Эмилия Щуркина, говорите? Студентка на практике… Да, может быть, и работает где, вы знаете, сколько их у нас, практикантов. Очень нужна? Ах, от матери приехали, из Новосибирска… понимаем, понимаем! Только где ее сейчас искать. Может быть, подождете до понедельника, все будут на своих местах, и Щуркина тоже. Через отдел кадров сразу и найдем. А сейчас, понимаете, трудно. Отходят ли какие суда из порта и когда?… А вас, гражданочка, почему это интересует?…» Я не стала доставать свое служебное удостоверение. Конечно, ко мне отнеслись бы с большим доверием, но тогда мне пришлось бы искать начальника, который мог бы ответить на интересующие меня вопросы, объяснить, почему я интересуюсь Эмилией Щуркиной… этот медлительный путь я отвергла. Звонить отсюда при незнакомых людях в «Бюро находок» я не хотела. Нужно было срочно попасть домой. Я помахала на улице водителю-любителю, который был не прочь заработать тройку на бензин для своих голубых «Жигулей». В общежитии и в Управлении я потеряла почти два часа. И не знала, что потеряй еще полчаса, то вернулась бы из своей командировки ни с чем. Но мое беспокойство, превратившееся после разговора с Анютой в уверенность, что меня собираются провести,— если еще не провели, как школьницу,— заставило торопиться. Ирины Васильевны дома не было. Я открыла дверь своим ключом, который она мне доверила. Позвонила Ковалеву. На мое счастье, он ответил сразу. — Очень нужно! — сказала я.— И очень срочно. Узнайте в Управлении Морфлота, где и в какой должности проходит практику студентка Эмилия Щуркина. Ковалев сразу догадался о причинах моей тревоги, которую я, кстати, и не пыталась скрыть. — Узнаем, конечно! — успокаивал он меня.— Вы не тревожьтесь, сейчас все выясним. Еще что? — И какая вероятность, что она может попасть на судно, направляющееся в заграничный рейс? Весьма опасаюсь, что, пока отец отвлекал наше внимание на себя, дочь могла отправиться с деньгами за границу. — Даже так? — Да, очень подозреваю, что именно так. Я сидела на тахте и смотрела на телефон. На часы и на телефон. Ждала. Вышла из комнаты, налила холодного чаю и, когда Ковалев, наконец, позвонил, кинулась к своему столику, едва не уронив стакан. — Вы оказались правы, Евгения Сергеевна! — Неужели опоздали? — Еще не знаю. Но Эмилия Щуркина проходит практику на сухогрузе «Нахимов». Сегодня днем, в одиннадцать ноль-ноль, «Нахимов» отправился в Новороссийск. Там примет груз и пойдет в Стамбул. — А имеет право практикантка Эмилия Щуркина во время стоянки «Нахимова» в Стамбуле покинуть судно и территорию порта и выйти в город? — Имеет право,— ответил Ковалев.— Может покинуть порт, предъявив при выходе соответствующие документы. Они у нее есть. Мне показалось, что я молчала очень долго. Я пыталась сообразить: что еще можно предпринять… Не может быть, что уже ничего нельзя сделать, уже нельзя вмешаться в ход событий и они будут раскручиваться, подчиняясь чьей-то программе. Чьей-то чужой программе, а не моей… Ковалев, озадаченный моим молчанием, спросил, слушаю ли я его. А когда я высказала ему свои соображения, замолчал уже он. И хотя сейчас каждая минута у меня была на счету, я терпеливо ждала. Я знала, о чем он сейчас думает, и поэтому не торопила его. — Понимаете…— наконец сказал он,— фактического материала у подполковника Григорьева маловато, чтобы так решительно действовать. Но наши предположения — это ведь тоже материал, если их серьезно рассмотреть и, главное,— в них поверить. До новороссийского прокурора мы уже не дозвонимся, поздно. — Тогда постарайтесь добраться до здешнего прокурора. Доставайте все документы и поедем в Новороссийск. Сколько до него? — Часа за три доедем. — А сколько потребуется времени здесь, на оформление и все?… — Трудно сказать. Да и прокурора на месте может не быть. — Ковалев, голубчик, сделайте все, что можно. Деньги либо у отца, либо у дочери. Вернее всего — у дочери. Кроме того, отца мы еще можем придержать, проверить. А дочь — уже нельзя, если только мы с вами не поспешим. Обидно будет, если мы, догадываясь обо всем, ее за границу выпустим. — Это я понимаю. Думаю, подполковник нас поддержит… Словом, ждите у телефона. — Долго? — Ну, час-полтора, может быть. — Ковалев!… — Быстрее, ей-богу, нельзя. Бумажки, печати, подписи — вы что, не знаете? Минуты лишней не задержусь! Я опять прошла к Ирине Васильевне. Выпила холодный чай, который налила. Налила второй стакан, уже не знаю зачем — пить мне вроде не хотелось. Вернулась в комнату: присела на тахту. Легла. Уже старалась не смотреть на часы, а, закрыв глаза, лежала и ждала телефонного звонка… Я не знала, сколько может простоять под погрузкой «Нахимов». Ковалев тоже не знал, да и поздно уже было что-то узнавать. И задерживать судно в порту у нас тоже не было никакого права. Нужно ехать вот сейчас и надеяться застать «Нахимова» еще у причала. Мне показалось, что телефон еще только собирался зазвонить, как я схватила трубку. — Все в порядке, Евгения Сергеевна! Подполковник Григорьев поддержал наши предложения. Прокурора прямо из машины вытащили, в Хосту собрался ехать, отдыхать. Недовольный — страсть! Но обещал, главное. Ждите у столовой…
5
Время стало моим противником, оно работало на Милочку Щуркину, а не на меня. Уже возле столовой вспомнила, что еще не обедала и вообще не ела с самого утра, если не считать сухарик за чаем у Анюты. Народа в столовой было много, с трудом нашла место возле окна, из которого просматривалась площадка перед подъездом. Официантка приняла заказ и довольно быстро принесла солянку, которая на какое-то время даже отвлекла меня от циферблата часов. Но вот второе пришлось ждать. Затрепанная поговорка на тему «ждать и догонять…» как нельзя лучше могла передать мое состояние. А мне сегодня предстояло и то и другое. Я вертелась на стуле и смотрела уже в окно, а не в сторону кухни. И когда знакомая «Волга» развернулась на площадке, я положила на стол деньги, метнулась к дверям, кого-то задела, извинилась и выскочила из столовой, как чертик из коробочки. Ковалев даже улыбнулся сочувственно мне навстречу. Я забралась в машину, и тут какой-то гражданин с чемоданчиком выскочил на дорогу. Ковалев вынужденно притормозил. — До Адлера! — завопил гражданин.— Опаздываю… — Не могу, не по пути. Отойдите, пожалуйста, тороплюсь! — Заплачу!… Гражданин потащил из кармана две пятерки. — Еще раз повторяю,— посуровел Ковалев.— Вон за нами «Жигули» стоят. Помашите водителю своими пятерками, довезет. Ковалев юзом выскочил на магистраль. Я только молча взглянула на него. Он успокаивающе похлопал по боковому карману пиджака. — Все здесь! — Неужели?… И санкция прокурора?… Вы просто золото, Ковалев. Что бы я тут делала без вас. — Подполковнику скажите спасибо, это он все так быстро прокрутил. Прокурор было засомневался, на самом деле — документов-то пока никаких. Тогда подполковник говорит прокурору: пока мы из Новосибирска документов дождемся, они нам уже не нужны будут. И валюта за границу уплывет. Может уплыть… Убедил-таки. Просил передать вам: «ни пуха, ни пера!» Я только покачала головой: — Ох, и тошно мне будет, если мы «Нахимов» застанем, а денег у Милочки Щуркиной не найдем. Тогда мне к вашему подполковнику на глаза показаться будет стыдно. — Не переживайте вы, Евгения Сергеевна! Мы что, сами не понимаем — всякое бывает, конечно. И мы не в шахматы играем. А если наворованные деньги за границу уплывут — это хорошо будет? Там их не мало, надо полагать. — Надо полагать. Если это Аллаховой добыча, то денег там много. С малыми деньгами за границу не побегут. Что там делать без денег… Только бы «Нахимов» в порту захватить. — Захватим. Наши товарищи сказали, он обычно там задерживается. Пока догрузится, документы оформит, то да се… А вы пообедать успели? — Наполовину. Второго не дождалась. — Так я и думал. Час пик — курортники. Вон, на заднем сиденье, пакет. — А что там? — Пироги. С мясом. Жена напекла и на дорогу в карман сунула. Я достала пакет, развернула. Попробовала. — Ковалев, у вас чудо, а не жена. Какие пироги! Можно, я еще один съем? — Да ради бога, хоть все! Наконец мы выбрались из города, оставив светофоры позади. Холодный ветер рванулся в окна кабины. Я подняла стекло. Ковалев включил радио, предложил мне самой поискать что-нибудь занимательное. Я повертела ручку, переключила диапазон — «Маяк» передавал песни и музыку из кинофильмов: «…свистят они, как пули у виска,— мгновения, мгновения, мгновения…» Сейчас эти мгновения проносились с пулевым свистом мимо закрылков нашей «Волги». Ковалев вел машину так быстро, как позволяла дорога, которую он, видимо, хорошо знал, не снижал скорость даже там, где, казалось, снизить ее не мешало бы. Разумеется, я сидела и помалкивала, а если чуть ежилась, особенно на виражах, когда задние колеса юзом входили в поворот, то старалась делать это незаметно, и мы обгоняли всех, кто шел впереди нас. Почти без задержек проскочили Туапсе. На одном из поворотов встречный грузовик загнал нас на обочину, задние колеса занесло по гравию. Ковалев помянул черта, выровнял машину, не сбавляя хода. Солнце уже садилось, длинные черные тени перечеркивали дорогу. Вот показались дома… светофор… — Новороссийск! — сказал Ковалев.— Приехали. Он вырулил к порту. Затормозил у ворот. Показал удостоверение дежурному. — «Нахимов» где? — Погрузился уже, ушел. — Как ушел, куда? — В Турцию, в Стамбул. — Давно? — Да, пожалуй, с часок тому назад. Вон он, еще виден. Я посмотрела на море и возле самого горизонта увидела четкое белое пятнышко.
6
В учебниках географии — в доказательство того, что земля круглая, а поверхность моря, следовательно, выпуклая,— частенько помещают рисунок, где наблюдатель, стоящий на берегу, видит, как за чертою горизонта постепенно исчезают вначале корпус, палубные надстройки, а затем и мачты уходящего корабля. Вот и я, как тот наблюдатель из школьного учебника, сейчас наглядно убеждалась: да, земля круглая!— за выпуклой синей чертой исчезал белый корпус «Нахимова». Скоро он скроется совсем, затем исчезнут надстройки, трубы, а с ними и мои надежды, что новосибирский ОБХСС, посылая меня сюда, не потратил деньги даром и операция «Сочинский вариант» будет успешно завершена, а не останется только на бумаге. Я смотрела на горизонт и молчала. Ковалев быстро глянул на меня: — Ладно! Не расстраивайтесь, что-нибудь придумаем. Я только махнула рукой. Я уже не знала, что можно было тут придумать… — По радио связаться можно. Но — бесполезно. Айда к таможенникам. — Чем нам помогут таможенники? — Какой у «Нахимова» ход?—спросил Ковалев у дежурного. — Да какой у него ход — калоша старая. Узлов десять-двенадцать, не более. — У таможенников катер запросто дает тридцать пять, а то и сорок. Мы за час нагоним в море эту посудину. Только бы катер был на месте. Поехали! К таможенникам Ковалев направился один. Я сидела в машине; Ковалева не было долго — шесть минут. Корпус «Нахимова» почти полностью скрылся, начали исчезать, как бы укорачиваться надстройки. Скоро, очень скоро на море опустились быстрые ночные сумерки, а за ними и ночь. Наконец, Ковалев появился в дверях. Рядом шел, чуть по-морскому покачиваясь, вразвалочку, невысокий, почти квадратный мужчина в синем кителе с нашивками на рукавах — я не разбиралась в морских знаках различия. — Вот, Евгения Сергеевна, знакомьтесь, капитан Звягинцев — можно сказать, командующий флотом таможенной службы. Я быстренько выбралась из машины. — А это,— представил меня Ковалев,— работник новосибирского ОБХСС. Прибыла по особому заданию. Ладонь у капитана Звягинцева была тоже квадратная, шершавая, как невыстроганная доска, но рукопожатие мягким и вежливым. И улыбался он тоже мягко и деликатно. — Значит, уплывает ваше особое задание на «Нахимове»? — Уплывает, товарищ командующий. — Какой там командующий,— усмехнулся капитан Звягинцев.— Все суда в ремонте. Считай — один катер на ходу. — Но «Нахимова» ваш катер догнать сможет? Капитан Звягинцев неторопливо глянул вслед уходящему теплоходу. — А чего ж не догнать. Засветло еще достанем. Пойдемте к причалу. Я еще не верила, что все уже решилось так буднично и просто. А Ковалев за спиной капитана Звягинцева сделал мне энергичный ободряющий жест: «Вот видите, я же говорил!» Мы прошли через порт, спустились к набережной. Уткнувшись носом в причальную стенку, покачивался на волне беленький катерок с застекленной рубкой на носу. Он показался мне совсем крохотным. Дежурный матрос в дырявой тельняшке ширкал шваброй по борту. — Кончай аврал, Позвонков!— сказал капитан Звягинцев. — А куда, Степаныч?— начал было Позвонков, но, увидя посторонних, бросил швабру на причал и отчеканил в положении «смирно»:— Есть, кончать аврал. Машину готовить? — Готовь, готовь… Вон, видишь — «Нахимов» в море? — Вижу, товарищ капитан. — Догнать нужно. — Есть догнать! Через час будем у борта. — Так уж и через час? — Товарищ капитан, у нас же мотор — зверь! Сорок пять узлов, запросто… — Из тридцати пяти бы вылез. Запускай свой самовар, балагур. Пошли в рубку, товарищи! Но Позвонков, видимо, умел не только говорить, мотор заработал — мы еще не успели расположиться в каюте. Катер лихо развернулся «на пятке». Я качнулась на Ковалева. — Тихо ты, лихач! Гостей у меня повалял. Разводя в стороны белопенные усы,— как их рисуют и как любят снимать в кино,— катер выскочил из акватории порта и помчался, всплескивая и подпрыгивая на волнах. Капитан Звягинцев попросил у меня разрешения закурить, предложил и Ковалеву, тот отказался. Волна была пологая и не такая уж большая, но катер шел наискосок волне, входил на нее справа по носу, и его начало валять с боку на бок. И вот тут я почувствовала себя неуютно. Я никогда не плавала по настоящему морю и сейчас догадалась, что меня укачивает. «Вот еще будет скандал! На катере — укачало…» Я крепилась, как могла, хотя по лицу, наверное, было заметно, что мне не по себе. Ковалеву было хоть бы что, он попробовал занять меня каким-то «морским» разговором, но я почувствовала себя совсем плохо. Звягинцев догадался о моем состоянии и сказал Позвонкову: — Возьми круче на волну. Тот оглянулся вначале на капитана, потом на меня и тоже понял. — Есть, круче на волну. Теперь катер перестало валять с боку на бок, он стал просто прыгать с волны на волну, мне стало полегче. Мужчины дипломатично затеяли беседу между собой, а я, стиснув зубы, напряженно уставилась в окно, стараясь отвлечься зрелищем: из-за горизонта постепенно появлялись белые надстройки «Нахимова», а затем показался и корпус корабля. Вскоре громада его борта закрыла все окно. — Сколько времени прошло, товарищ капитан? — спросил Позвонков. — Ладно тебе, хвастун!— капитан взял со стойки мегафон.— Пойду покричу вахтенному. Взбунтуется, наверное, кэп, не положено в море задерживать. Скажет, чего в порту смотрели? Он вышел из кабинки. — Эй, на «Нахимове»!— услыхали мы. Как и ожидал Звягинцев, там наше требование приняли без всякого удовольствия. Но бурун за кормой корабля погас, с борта на катер упал веревочный трап. Корпус «Нахимова» прикрыл нас от волны, под бортом было сравнительно тихо, однако пологая волна поднимала и опускала катер, он стукался о борт корабля, хотя Позвонков предусмотрительно свесил за борт катера автопокрышку. — Эй, на катере!— свесился с мостика вахтенный,— Краску нам на борту не покорябайте своей скорлупой! — Ладно!— огрызнулся Позвонков.— Не покорябаем. Была бы тут краска. Он пренебрежительно оттолкнулся ногой. Веревочная лестница уходила прямо вверх. Корпус корабля отвесно нависал над головой. Ступеньки лестницы зыбко покачивались из стороны в сторону. — Подниметесь?— спросил Ковалев. — А как же,— ответила я.— Мне туда нужно. — Я тоже с вами,— сказал капитан Звягинцев.— Вас здешний кэп не знает, так я представлю. Ворчать будет, конечно. Мой брючный костюм пришёлся кстати, хотя и не думала, что мне придется карабкаться по веревочной лестнице на высоту примерно третьего этажа. Я храбро ухватилась за перекладину и полезла, стараясь не выглядеть неуклюжей, хотя никогда до этого не лазила по веревочным трапам. Добралась уже до фальшборта, когда вахтенный, разглядев, что поднимается женщина, крикнул: — Эй, Миронов! Помоги на борту. Но я уже перекинула ногу через железный поручень. Для Ковалева, а тем более капитана Звягинцева процедура подъема на борт по веревочному трапу не составила проблемы. Вахтенный спустился с мостика, вежливо представился нам с Ковалевым — капитана Звягинцева он уже знал — как старший помощник капитана Еремеев и добавил, что капитан ждет нас в каюте. — Рассердился, наверное, Федор Андреевич-то? — спросил Звягинцев. — А как вы думаете? Мы и так из графика выходим, с погрузкой задержались. Думали, в море нагоним, а тут вы со своим дополнительным досмотром. — Ничего, до Стамбула еще далеко, успеете войти в свой график за ночь. Если, конечно, рулевой за штурвалом спать не будет. Капитан был худощавый, седой и встретил нас весьма неприветливо. Увидев меня, чуть удивился, кажется, немного подобрел. Капитан Звягинцев представил меня и Ковалева и лаконично изложил причину, которая так экстренно и несвоевременно привела нас на борт его корабля. — Эмилия Щуркина? — удивился капитан.— Такая милая девушка. Студентка, очень расторопная, знаете. Она уже месяц у нас, впечатление самое хорошее… Не знаю, право, не знаю. Впрочем, вам, как говорится, с горы виднее,— заключил он неодобрительно.— Проверять так проверяйте. Документы соответствующие у вас, надеюсь, имеются? — Имеются! — подтвердил Ковалев. Капитан поморщился и повернулся к помощнику: — Что ж, Борис Петрович, проводите их, коли так. Практикантка Щуркина сейчас свободна. Я видел ее за ужином. Только поскорее, если можно. Мы прошли по коридору. Он был похож на гостиничный — двери налево, двери направо. Толстая краснощёкая женщина в беленьком коротком халатике стучала в одну из дверей. — Мила! Мила!… Вот заспалась, господи! Да открой же, это я — Глаша!… — В чем дело, Табакова? — спросил старпом — Достучаться до Милочки не могу. Скажи, спит как крепко. А я с дежурства только, вот на койку свою не попаду. Тут дверь открылась и на пороге возникла сама Милочка Щуркина, весьма натурально протирающая глазки. — Это ты, Глаша… Извини, заспалась я… Ох, простите!… Милочка увидела нас и запахнула воротник халатика. Всё это выглядело вполне естественно, но я ей уже не верила. — Эмилия Щуркина,— обратился к ней старпом.— Вот товарищи из таможни. У них дело до вас. — Дело? — удивилась Милочка.— Пожалуйста… Несколько минут спустя присутствующие здесь смогли убедиться, что перед нами выступала способная актриса. Ее непосредственность произвела впечатление не только на старпома, но и на Ковалева, кажется. Однако документы были у него, и он обратился к женщине в белом халатике: — Товарищ Табакова, вы живете в одной каюте с гражданкой Щуркиной? Он с профессиональной четкостью подчеркнул слова «товарищ» и «гражданка». А Табакова только сейчас заметила нас, посторонних людей, и растерянно одернула полы своего кургузого халатика. — Да, вместе…— пролепетала она. — Мы обязаны провести обыск в вашей каюте. В личных вещах гражданки Щуркиной. Я приглашаю вас быть понятой. — Понятой?… — Свидетельницей. — Я не знаю… хорошо, я буду свидетельницей. Обыск?… — Да, обыск,— повернулся Ковалев к Милочке.— Вот предписание, ознакомьтесь. Он протянул Милочке ордер, но она только покачала головой. — Я не понимаю… пожалуйста! А в чем дело, что вы собираетесь у меня искать? В коридоре уже начали собираться любопытные из судовой команды. — Пройдемте в каюту,— предложил Ковалев. Он быстрее меня вошел в свою роль, хозяйским жестом пропустил Милочку в каюту, следом Табакову, меня, старпома и вошел сам. В двери торчал ключ, он повернул его. — Гражданка Щуркина Эмилия Владиславовна? — Да, это я. — Ваши документы, пожалуйста… Спасибо! Вы подозреваетесь в том, что везете с собой большую сумму денег. — Что вы, каких денег? — Не принадлежащих вам и не заработанных вами,— вставила я. — А…— Милочка как будто только что заметила меня.— Здравствуйте, мы с вами… — Да, я у вас была. Так вот, мы спрашиваем вас, не везете ли вы с собой деньги, наши или иностранные, большую сумму? — Большую сумму? — Скажем, несколько тысяч рублей. — Что вы, откуда?… — Значит,— опять вступил Ковалев,— вы утверждаете, что с вами, в ваших вещах таких денег нет? — Конечно, откуда бы? — Тогда разрешите осмотреть ваши личные вещи. Где ваша койка? — Вот эта. — Товарищ Табакова, присядьте, пожалуйста, на свою койку. Товарищ старпом, вы можете присутствовать в роли второго понятого?… Можете, очень хорошо. Вот табуретка. А вы, Евгения Сергеевна, пока рядом с товарищем Табаковой. Вы разрешите? — Конечно, пожалуйста! — подвинулась Табакова. Ковалев принялся за осмотр половины каюты, которую занимала койка и вещи Милочки. Признаться, я смотрела не на него, я смотрела на Милочку. Она стояла возле стола, лицом к нам, опершись о стол закинутыми за спину руками. Халатик на ней был затянут пояском. И вот я смотрела на этот поясок, который туго перетягивал пополневшую талию Милочки. — Откройте, пожалуйста, ваш чемодан,— попросил Ковалев. Милочка поставила чемодан на кровать, отстегнула крышку. Я не смотрела на чемодан, я знала, что в чемодане денег нет. Деньги были здесь, в каюте, но не в чемодане. Я взглянула Милочке в лицо. Но ее маленькие настороженные глазки бесстрашно встретили мой взгляд. Да, все-таки она была достойная дочь своего отца. — Товарищи мужчины! — обратилась я.— Могу я попросить вас покинуть на время каюту? Старпом удивленно глянул на меня, но Ковалев понял сразу — все же он был настоящий оперативник. Он кивнул мне, открыл дверь, пригласил старпома. — Пожалуйста, выйдемте на минутку. Я подождала, когда за ними закроется дверь. Милочка по-прежнему стояла возле стола. Она смотрела на меня, а я на нее. Тень беспокойства появилась на ее лице. — Снимите ваш халат! — тихо сказала я. — Что? — Не нужно, хватит уже. Снимите халат, покажите, что у вас под ним. — Как вы смеете? — Смею. Я встала с койки, достала из заднего кармана брюк служебное удостоверение, раскрыла его, показала. Милочка, как бы не доверяя, взяла удостоверение, откинула свободной рукой волосы, упавшие на глаза. Долго вчитывалась, затем медленно сложила удостоверение. У нее вздрогнули губы. Она швырнула удостоверение мне в лицо. Она бросила его сильно и точно, я не ожидала этого, не успела отвернуться. Твердая картонка удостоверения больно ударила чуть ниже левого глаза. Я слыхала, что у людей в приступе дикой ярости белеют глаза. Я никогда не видела этого раньше и сейчас увидела в первый раз. Глядя на меня маленькими, страшно побелевшими глазками, она громким шепотом выдохнула сквозь сжатые зубы: — Дрянь… притворщица… казенная дрянь! — Замолчите, вы!… Я тут же взяла себя в руки, нагнулась, подняла удостоверение, положила его обратно в карман. Милочка шагнула к своей кровати, упала возле нее на колени, уткнулась лицом в подушку. Рыданий не было слышно, только плечи ее задрожали мелко-мелко. Табакова глядела на эту сцену, что называется, во все глаза и, конечно, пока не понимала ничего. Мне нужна была вторая свидетельница. Я посмотрела на дрожащие плечи Милочки и решила, что обойдусь и одной. — Хватит! — сказала я.— Снимите халат. Снимите, что у вас надето под халатом. Быстрее!… Судно стоит, нам некогда ждать. Или я буду вынуждена просить о помощи мужчин… Конечно, мы не имели права так делать, я даже не имела права так ей угрожать. Но глаз у меня болел, и сдерживаться мне было трудно. Не вставая с колен, Милочка непослушными пальцами развязала поясок халата. Что-то расстегнула под ним, сильно дернула. И к моим ногам увесисто упало нечто, похожее на стеганый купальный костюм или длинный корсет. Он был тяжел и набит плотно. Это его уголок я увидела под подушкой в общежитии… Милочка села на койку. Она не глядела на меня и уже не плакала. Губы ее тряслись, лицо кривилось. Она вытерла глаза рукавом халатика, запахнула его, завязала поясок. Я открыла дверь. — Можно войти! Следом за Ковалевым вошел и старпом. Оба вопросительно уставились на то, что я держала в руках. Хотя Ковалев, думаю, уже догадался. — У вас есть нож? Он достал из кармана перочинный нож, раскрыл, подал мне. Я вспорола одну стежку и вытащила плотную пачку. Срезала обвертку. — Господи!…— охнула Табакова.— Денег-то… Нам некогда было возиться с пересчитыванием, чтобы не задерживать судно. Понятые подписали акт, что у гражданки Щуркиной обнаружен надетый на тело матерчатый корсет с зашитыми в него пачками денег — советских и иностранных. У капитана нашелся инкассаторский мешок, мы вложили в него корсет, капитан наложил свою печать и выдал нам судовые документы на имя Эмилии Щуркиной. Взглянуть на нее он не пожелал. Побледневшая Милочка собрала свои вещи, и мы покинули теплоход. Больше она не произнесла ни слова. Послушно села там, где ей указали. Мотор взревел, катер помчался по темной воде. В порту уже зажгли огни. Так же молча Милочка встала, когда катер привалился бортом к причальной стенке. Ковалев взял мешок и чемодан, пропустил ее вперед. А я кивнула капитану Звягинцеву и крепко пожала его твердую ладонь. Милочка ожила в машине… Ковалев сидел за рулем, а я с ней на заднем сиденье. Она привалилась в угол, почти не различимая в наступивших сумерках, да, признаться, я и не смотрела на нее. Машины шли с зажженными фарами, то и дело луч света пробегал по кабине, и тогда краем глаза я видела лицо Милочки. Уж не знаю, что пришло ей в голову. Я только заметила, как она вдруг шевельнулась, напряглась, беспокойно задвигалась. Я успела только крикнуть: — Ковалев!… И поймала ее за левую руку. Но она перекинулась через спинку сиденья и вцепилась правой рукой в рулевое колесо. Ковалев рефлекторно бросил машину вправо: безопаснее было слететь в кювет или удариться о поребрик, чем выскочить на полосу встречного движения, по которой с тяжелым гулом проносились автобусы и тяжелые грузовики. Сделал он это скорее инстинктивно, но и нажать на тормоз тоже успел. Мы уперлись во что-то колесом. Машина остановилась. Я держала Милочку за левую руку, Ковалев за правую. Она побарахталась еще немного, хотела ударить меня головой в лицо — я подставила плечо. Тогда она затихла. Мы отпустили ее. Она опять забилась в угол, тяжело дыша. Ковалев вылез на дорогу: — Что нам делать с этой истеричкой? Наручников нет. Не связывать же ее… Он тоже разозлился. Под грузовик мы вполне могли попасть. И удар пришелся бы по левой стороне, по нему и по мне. Имелся у Милочки здесь какой-то расчет или это просто была вспышка ярости и отчаяния — я не знаю. — Садитесь к ней сюда,— предложила я.— Вам легче ее удержать, чем мне. Да и рядом с вами она успокоится вернее. А я поведу машину. Только водительских прав у меня с собой нет. — Ладно,— согласился Ковалев.— Если ГАИ остановит, объяснимся как-нибудь. Я села за руль, Ковалев на мое место. Правую руку положил на спинку переднего сиденья, отгородив таким образом Милочку от меня. Но она на протяжении всего пути даже не шевельнулась ни разу. Домой от Сочинского отделения милиции я пошла пешком. Ковалев предложил довезти, но я отказалась. Мне нужно было прогуляться перед сном. Ирина Васильевна сидела возле горячего самовара. И только тут, дома, увидев, как она наливает мне чай, я почувствовала, как устала, как у меня сухо во рту и как я хочу пить. У меня даже руки затряслись, когда я прикоснулась губами к чашке. — Хорошо прокатилась? — спросила Ирина Васильевна. — Отлично. Давно не получала такого удовольствия. — Ну-ну! — только и сказала Ирина Васильевна. И внимательно посмотрела на меня своими цепкими хитрыми глазками.
ЖИЗНЬ НИ ДЛЯ ЧЕГО
1
Осталось съездить в Краснодар. Честно говоря, я побаивалась этой поездки. Понимала, что мне предстоит опять трудный разговор, «игра на чужом поле». На душе становилось тревожно, как, скажем, бывало в школе милиции перед экзаменом у кандидата юридических наук подполковника Петрова. Этот желчный старик был убежден, что работа в милиции — занятие мужское, и поэтому спрашивал девушек с особым пристрастием. Но дело Башкова нужно было заканчивать. Я уже не опасалась, что он попытается скрыться. Зная размашистую натуру его, считала, что вряд ли он согласится жить как загнанный волк, озираясь и опасаясь каждого встречного. Но, кто знает, что вдруг может прийти ему в голову. Словом, откладывать поездку было уже нельзя. Я позвонила в «Бюро находок». — Сколько? — спросила я Ковалева. Он сразу понял. — Восемьдесят тысяч рублей нашими и в иностранной валюте на семнадцать тысяч долларов. — Только-то? — Да, всего-навсего. Моя зарплата до самой пенсии, не более того. Что собираетесь делать? — Ехать нужно к моему бухгалтеру. — Может быть, вас отвезти? — Не нужно. Доберусь автобусом. — Не торопитесь — вижу? — Как вам сказать… Пока время терпит. — Подполковник Григорьев хотел бы вас видеть… — Он у себя? — Был у себя. — Тогда немедленно иду к вам. Ковалев встретил меня у дверей. Видимо, о моем приходе уже знали и поглядывали на меня с любопытством. Начальник Ковалева был худощав и быстроглаз. Ему было за пятьдесят, благородная седина уже как следует высеребрила когда-то темные волосы, подстриженные коротким ежиком. Он вышел из-за стола мне навстречу. — Смотри, каких полковник Приходько сотрудников себе набирает. У него еще такие есть? — Не знаю, товарищ подполковник. Я у него недавно. Пока знакома только с его помощником. — Это оруженосец-то его, Борис Борисович? — Да, товарищ подполковник. — А что вы все: «товарищ подполковник, товарищ подполковник!» Это ваш начальник к такой строгой субординации вас приучил? — Нет, это еще со школы. — Ах, со школы… Ну, школа — школой, а у меня от этой субординации иногда в ушах звенит. Да вы садитесь, садитесь! И не обращайте внимания, если я по комнате бегать буду. Привычка, знаете, такая, говорить и думать на ходу. Не пробовали? — Нет, не пробовала. — Ну, вы еще очень молоды. А мне, старику, для согревания извилин часто побегать хочется. Стилем разговора Григорьев чем-то напомнил мне моего начальника. Может быть, сказывалось в этом отношение ко мне, молодой женщине, работающей в обстановке и условиях, которые они оба никак не могли признать подходящими для меня. — Нравится вам у Приходько? — Нравится. — Вот-вот, знаю, что нравится. Он на всякие выдумки мастер. И всегда таинственность ценил. Как граф Монте-Кристо. Поэтому молодежь у него работать любит. Романтику в работе он умеет находить. Ведь наша служба, если по правде, только в кино занятная. А на самом деле от одних бумажек угореть можно. Пишешь их, пишешь. Протоколы, донесения, акты-отчеты… Правда, ведь? — И такое, конечно, есть…, — Тут мне Приходько по телефону про ваши успехи рассказывал. Что ж, победителей и сейчас не судят. Наше начальство тоже такого правила придерживается. Рисковал, получилось — ладно. Не получилось — пеняй на себя. Не так ли? Подполковник Григорьев пробежался по диагонали кабинета, стремительно повернулся в углу. — Вот и с Эмилией Щуркиной. Рисковали мы с вами? Рисковали. Конечно, да еще как. Полной-то уверенности не было ни у вас, ни у меня. Если бы деньги не нашли, так нам бы шею намылили. А что было делать? Не моторы ремонтируем, людей исследуем. В уголовном розыске, я считаю, проще. А наш хапуга — он такой скрытный да хитрый, с ним ухо надо востро держать, ворон считать некогда. Нет, с Эмилией Щуркиной — это вы молодец! Даже прокурор поинтересовался, как это нам удалось, это он после, когда все определилось, такой добрый стал. Я ему объясняю: к нам специальный инспектор прибыл из Новосибирска, на интуиции работает… Прокурор просил передать вам его «спасибо». Вот, передаю, с удовольствием. Я не знала, как и что здесь ответить, и промолчала. — Значит, едете к своему «подшефному», в Краснодар? — Еду. Нужно. — Нужно… А не объясните мне, чего вы вздумали с ним в кошки-мышки играть. Краснодарское отделение уведомить. Цап-царап — и делу конец. Пришлось рассказать кое-какие подробности. Подполковник Григорьев даже перестал бегать из угла в угол, он остановился возле стола, поглядывая на меня как-то сбоку. — Вон какие у вас, оказывается, романы с продолжениями… Ну и ну! Если бы я вас не знал, то подумал, что мне басню рассказываете. Значит, это ваше изобретение, можно сказать, а полковник его поддержал. Да он сам-то верит, что Башков поумнеет бегаючи? Я сказала, что не очень верит. — Как же он решил его из своих рук выпустить? — Нужно было узнать, к кому он полетел. Ведь это он, Башков, вывел меня на Щуркина. Правда, я к Щуркину и ехала, но их встреча прибавила мне уверенности, что мы на правильном пути. — Так-то оно так… А вдруг ваш бухгалтер здесь бы сбежал? — Полковник на вас надеялся. — Надеялся… Это хорошо, что он на товарища надеялся. Приятно услышать, конечно… Но ведь в нашем деле на товарища надейся, но и сам не плошай! Я, признаюсь, снял бы прямо с самолета. Конечно, надежды мало, что Башков начал бы рассказывать. Зато на душе спокойнее, здесь он, под руками, искать не нужно… Кто знает, может, вы и правы. Человек — это не таблица умножения. Всего не рассчитаешь. А ваш Приходько смелый. И на психологии он любит поиграть. Чего греха таить — кто бы из нас, начальников, на такое согласился. Раз подозреваемый, да еще из-под стражи сбежал,— хватай и не пущай! А всякие психологические, так сказать, опыты — в этом, мол, пусть суд разбирается. И начальству важно, когда ты дело закончишь и в суд сдашь. Ну и торопишься, естественно. А вот Приходько любит к подследственному приглядеться. И своих следователей этому учит. Вы знаете, сколько ему благодарных писем приходит из колоний, от осужденных, он вам не говорил?… Вот скромничает. Я сам читал: «…вы первый во мне человека увидели, спасибо вам…» Многим из нас так напишут?… А Приходько — пишут… Вот это, по-моему, в нашей работе очень важно. И вы тоже так думаете, я знаю. Пока так думаете. Как лет через двадцать думать будете, не поручусь, но пока так думаете. Подполковник Григорьев опять пробежался по комнате и остановился в другом углу. — Я вот еще о чем: приедете вы к своему бухгалтеру, все новости расскажете и о Эмилии Щуркиной, и об ее папочке. И поймет Башков, что вы ему последнюю тропочку перекрыли. Не придет ли ему в голову что-нибудь такое. И он сделал рукой энергичный жест. — Кто знает… Но думаю, что больше не придет. Это уже раз приходило ему в голову. — Не от того ли случая у вас меточка осталась? Я погладила шрамик над бровью: — Думается мне, что такого он больше уже не повторит. Он человек разнообразный… — Разнообразный… У вас хоть пистолетик какой с собой имеется? Я невольно рассмеялась: — Последний раз держала его еще в школе. — Хотите, я вам свой подарю? Трофейный, так сказать. В сейфе моем давно лежит. Самый дамский, вот такусенький… Не желаете вооружаться? Ну, вам виднее…
2
До Краснодара доехала автобусом. В дорогу взяла с собой потрепанный журнал из запасов на моей книжной полке. В журнале было окончание детективной повести американского писателя Стаута «Бокал шампанского»,— что еще берут с собой в автобус или самолет. Я листала этот роман раньше. Прочитала еще раз о хозяине частного бюро Ниро Вульфе, который, не выходя из-за своего письменного стола, решал уголовные ребусы, пользуясь помощью наемных детективов. По Стауту выходило, что преступное начало — почти как наличие аппендикса, он есть у каждого человека, но вот будет аппендицит или нет — это как бог пошлет… В Краснодаре оставила журнал в автобусе — пригодится следующему пассажиру. Адрес Марии Семеновны у меня был. Долго ехала троллейбусом, почти на окраину города. Наконец, увидела нужный мне чистенький деревянный домишко за щелястым заборчиком. Он дожидался своего скорого сноса, приютившись под боком у новенькой девятиэтажки. На каком-то из этажей находилась квартира сотрудника районной милиции, у окна которой сейчас наблюдал Кузовкин. Как я убедилась спустя полтора часа, Кузовкин недаром получал свои командировочные, меня, во всяком случае, он разглядел… Щеколда на покосившейся калитке поднималась размочаленной веревочкой, и весь домик выглядел вполне по-деревенски, если бы не большое — вполстены — современных очертаний окно. Когда я вошла, за тюлевой занавеской промелькнуло чье-то лицо. Меня увидели. Я уже подошла к крыльцу, когда в доме стукнула дверь. На крыльцо вышла Мария Семеновна. Я ее узнала, а она меня — нет, и довольно неприветливо спросила: — Вам что, гражданка? Я поднялась на одну ступеньку: — Здравствуйте, Мария Семеновна! Она близоруко прищурилась, несколько напряженно улыбнулась: — Господи! Это же Евгения Сергеевна! Какими ветрами… Я прошла за ней в переднюю. Пока снимала свою куртку, оглядела вешалку в углу. Нет, там ничего не было из мужской одежды, только возле женских сапожек на полу лежала перчатка, на мой взгляд, великоватая для женской руки. Башков был здесь, значит, он прятался от случайных посетителей, вернее сказать, его прятала Мария Семеновна. Рассказал ли он ей всю правду о себе? То, что он скрывается от следствия, им, должно быть, знала. И все же дала ему приют. Что ж, по-человечески понять ее можно… Первая комната была, как видно, и кухней, и столовой. Дверь в следующую комнату была закрыта, и оттуда не доносилось ни звука. Мария Семеновна предложила мне стул, я села спиной к дверям. С трудом уговорила Марию Семеновну не поить меня чаем. Когда встречают хлебом-солью и ты не сможешь от этого отказаться, потом трудно бывает себя вести, как обязывают обстоятельства. А обстоятельства обязывали меня задать хозяйке неприятный вопрос, на который ей нелегко будет ответить. Я бы очень хотела, чтобы хозяйка пошла мне навстречу,— тогда можно было обойтись без вопросов. Но она не знала, кто я, и надеяться на это было нечего. Я терпеливо вела обычный разговор, отвечала на дежурные вопросы. Она расспрашивала меня о Петре Иваныче — ее первом муже — и пока ни слова не произнесла о втором. Я спросила про него. Я смотрела на нее внимательно. Не хотелось, чтобы Мария Семеновна начала мне врать. Но она по моему тону догадалась, что это не праздное любопытство, смешалась и покраснела. За моей спиной скрипнула дверь, Мария Семеновна испуганно глянула поверх моего плеча, я с трудом удержалась от желания обернуться. — Ладно, Мария Семеновна,— услыхала я.— Придется, видимо, мне самому занимать нашу гостью. Ведь пришла она не к тебе, а ко мне. Вернее — за мной. Здравствуйте, Евгения Сергеевна! Опять вы меня удивляете, не ожидал вас здесь встретить. — Рада вас видеть. — Так уж и рады?— усмехнулся Башков. — Конечно, рада, что не приходится вас долго разыскивать и вы сами появляетесь, когда нужны. Он поставил к столу еще один стул. Сел против меня. — Опять я вам нужен… Вы мой злой дух, Евгения Сергеевна. — А может быть, не злой? — Ладно, не будем играть словами. Мария Семеновна, да не пугайся ты, ничего страшного не случилось. Просто ты знала нашу гостью только как соседку Петра Иваныча, как работника новосибирского Торга, и, конечно, не догадывалась, что она еще и офицер милиции. Ты удивлена? Я в свое время, догадавшись об этом, тоже удивился и куда больше, нежели ты… Не знаю, какой она товаровед, но инспектор, могу сказать, неплохой. Если бы она была плохим инспектором, то я не сидел бы здесь у тебя, Мария Семеновна, как жук в коробочке. И вообще, все было бы иначе. — Почему иначе?— спросила я.— Вместо меня здесь сидел бы другой инспектор. — Может быть,— кивнул он.— Так уж пусть лучше вы… Мария Семеновна, угощай нас чаем. Евгении Сергеевне теперь нет причин отказываться, все уже сказано, все стало на свои места… Мария Семеновна вскочила, засуетилась, словно обрадовавшись возможности перевести разговор на менее острую тему. Принесла большой термос, чайник. Поставила вазочки с вареньем. Башков налил мне чаю. — Свежий, только что заварил. Собирались за стол садиться — вижу в окно: вы идете. Мария Семеновна перепугалась отчаянно. Если бы не она — я и прятаться бы не стал, ей-богу. Просто решил дать ей время успокоиться. Ведь скрываться мне незачем, да и некуда. Даже догадываюсь, что вы мне сейчас скажете. Что напрасно сижу и чего-то жду. Значит, ничего не вышло у Владислава Витальевича? — Не вышло. — Я так и подумал. — И вообще, зря вы ждали Щуркина. Он уже в Москве. Башков быстро взглянул на меня, хотел что-то спросить или сказать, но промолчал. Я отодвинула стакан с чаем. — Что же вы не расскажете, как собирались с Щуркиным сбежать в Болгарию? — Значит, его все-таки допрашивали? — Нет. Еще не допрашивали. Это сообщила его дочь. А он еще ничего не знает. Даже не догадывается, что незачем ему ехать в Болгарию. А тем более — в Турцию. У него нет денег. — Как нет? — Сколько вы ему здесь дали? — Двадцать тысяч. Все, что у меня было. — Не много ли за подложные документы? — Обещал половину вернуть… Там, за границей. Валютой. — Щуркин не собирался что-нибудь вам возвращать. Он просто решил присвоить ваши деньги, как присвоил деньги Аллаховой. Хотя и эти деньги не ее, как ваши — не ваши, но не будем уточнять. И ваш Владислав Витальевич не просто вор, он еще очень осторожный вор. Опасаясь, что его накроют на границе с деньгами, он приспособил для своих дел и свою дочь — Милочку Щуркину. Передал ей деньги и валюту. Ее сняли с теплохода. Башков слушал, не поднимая глаз. Услыхав о Милочке Щуркиной, он только кивнул, как бы говоря, что знает, чего она стоит. Мария Семеновна сидела, низко склонившись над столом, молча и нервно кроша на тарелку кусочек печенья. — Щуркину нечего делать ни в Болгарии, ни в Турции, тем более — никому он там без денег не нужен,— закончила я.— Да и вы там никому не нужны. Признаюсь, не думала я, что вы ударитесь в такие бега. Он положил ложку на стол и так же, как когда-то у меня в комнате, сильно потер лицо ладонями. Вот тут Мария Семеновна впервые взглянула на него. У нее мелко задрожали губы, но она сдержалась. Вероятно, она все еще любила своего непутевого мужа. А он улыбнулся криво и безрадостно: — Вы правы — никому я там не нужен. Ни там, ни здесь. Прости, Мария Семеновна, но такой я и тебе не нужен. Она молча, порывисто поднялась. Прошла в угол к этажерке с книгами, дрожащими пальцами выдернула из пачки сигарету, закурила. Она так и стояла там, не обернувшись ни разу к нам, сильно и часто затягиваясь и пуская струю дыма в угол под потолок. Да, никому…— повторил Башков.— Вот только вам нужен. Вам да полковнику Приходько… мне уже все равно, поверите вы или нет, но когда сюда ехал, не думал я бежать ни в Болгарию, ни в Турцию. Не по себе мне стало в Новосибирске, да и устал я уже, решил немного у Марии Семеновны отсидеться. Вы уж не вините ее за это. Ей я ничего не сказал… — А я и не виню. — Перед тем как ехать, я Щуркину в Сочи позвонил. Старые знакомые все-таки. При нем все наши дела с Аллаховой начались. Верили ему и я, и Аллахова. А верить-то, выходит, нельзя было. На деньгах была замешена наша дружба, я это уже здесь понял. По телефону я намекнул ему, что у меня кое-что с собой есть. Он говорит, когда приедешь, зайди. Я и зашел. Пиджак захватил для отвода глаз. Деньги в карманы натолкал. Вот Щуркин и предложил мне эту самую… Турцию. Деньги я ему отдал. Документы он обещал достать, валюту. А я подумал: будь что будет. И не хотелось мне в эту Турцию, да и здесь, вижу, уже не жизнь. И согласился. Он встал, засунул руки в карманы пиджака, устало повел плечами, ссутулился. Прошелся по комнате, остановился. Еще раз прошелся к столу и обратно. В далекой юности, когда жив был мой отец, он повел меня в зоологический сад. Остановились возле клетки с волком. Зверь бродил возле решетки и отрешенно смотрел поверх голов стоящих у клетки людей. И во всем его обличье я не почувствовала тогда той волчьей свирепости, о которой рассказывали детские сказки. Я сказала об этом отцу. Он объяснил мне, что волк — хищник, недавно пара волков зарезала в местном совхозе два десятка ягнят. Мне стало жаль ягнят, которых убили злые волки, но сейчас было жалко и волка, и я спросила, можно ли его приучить питаться травой? — Нет, нельзя!— ответил отец… Башков опять подошел к столу. — Что думаете делать?— спросила я. — А что вы мне предлагаете? — Моя командировка закончилась, завтра я возвращаюсь в Новосибирск. Могу предложить вам… Он перебил меня: — Вы меня задерживаете? — Я вас приглашаю,— подчеркнула я.— Вам удобнее вернуться в Новосибирск со мной, нежели одному. — А по приезде сдадите меня полковнику Приходько? — Вы напрасно торгуетесь. Задержать вас можно было и в Новосибирске. Мы же видели, как вы садились в самолет. — Вот как… — Да, так! — Значит, все еще не потеряли надежды сделать из меня кающегося грешника? — Так вы летите со мной или нет? — У меня нет денег,— огрызнулся он. — Я куплю вам билет. — Не хочу ехать за ваш счет. — Я впишу стоимость билета в авансовый отчет по командировке. Он усмехнулся как бы сам над собой. — Вам еще не надоело возиться со мной? — Мне надоело разговаривать с вами в таком тоне. — Да, да, конечно… У Марии Семеновны вырвался не то кашель, не то судорожный вздох. Башков быстро оглянулся на нее. — Хорошо!— сказал он.— До Новосибирска, во всяком случае, нам по пути. Но я вам ничего не обещаю… — А я и не прошу вас что-либо обещать!— Я встала.— Буду ждать вас завтра в Адлере в аэропорту. Он устало прикрыл глаза. Сказал тихо: — Хорошо. — Не опаздывайте. А то… — А то?… — А то билет пропадет… Прощайте, Мария Семеновна! Не поминайте лихом. Она ничего не ответила, даже не обернулась. Он вышел следом за мной в переднюю, подал мне куртку. По зеленому дворику я вышла на улицу. Металлически резко щелкнула щеколда. Не сразу сообразила, в какую сторону идти к троллейбусной остановке. Возле крайнего подъезда девятиэтажки сидел на скамейке молодой человек в сером плаще и кепке и весьма внимательно просматривал газету. Я невольно зацепилась за него взглядом. Люди его возраста обычно не сидят в одиночестве с газетами — находят более интересные занятия. Я прошла мимо него. Проверяя свою догадку, быстро обернулась. Молодой человек сложил газету и направился к подъезду. Наверное, сейчас поднимается в квартиру, откуда хорошо просматривался весь дворик соседнего домика. Можно было догадаться, что подполковник Григорьев по телефону распорядился, чтобы сержант Кузовкин спустился вниз и был поближе к месту моей встречи с Башковым. Так, на всякий пожарный случай…
3
За вечерним чаем Ирина Васильевна спросила сочувственно: — Невесела приехала из гостей? И в самом деле я еще и еще перебирала в памяти свой разговор с Башковым, словно бы прокручивала раз за разом запись на магнитофонной ленте и, слушая себя, искала более убедительные, более точные слова, которые нужно было сказать и которые я так и не сказала. Впрочем, я не находила этих слов и сейчас. Мне не хотелось думать, что темная душа Башкова уже закрыта для хороших слов и хороших поступков на тяжелый замок… В Управлении Ковалева не было. Я сделала заявку на два билета, на самолет. Называя фамилию своего попутчика, вначале обмолвилась, произнесла настоящую, потом спохватилась и переправила на ту, под которой Башков прилетел сюда. Нужно было проститься с заботливым подполковником Григорьевым. Я увидела его в коридоре. — Ну-ка, ну-ка! Зайдёмте ко мне. Поделитесь со мной, стариком, вашими молодежными приемами в наставлении грешников на путь праведный. Мы поднялись в его кабинет. Он предложил мне кресло, а сам опять, уже привычно для меня, забегал по кабинету от стены к стене и из угла в угол. Подполковник слушал меня внимательно. — Придет, думаете?… Впрочем, я тоже думаю, что придет. И в Новосибирск полетит, конечно,— деваться ему уже некуда. Ну, а там-то? Телеграфировать, чтобы вас наряд милиции встречал, вы — как я понимаю но будете. Джентльменское соглашение, так сказать… — Телеграфировать не буду. Но и уверенности, что он меня там не покинет, никакой у меня нет. — Понимаю. Уж очень быстро согласился. Сообразил, что с вами безопаснее вернуться. Так думаете? — Примерно так. — А если он все же спрячется? Правда, денег у него сейчас нет, прятаться уже труднее. Хлопот-то сколько — разыскивать… Не дождавшись моего ответа,— да и что я могла ответить подполковнику Григорьеву,— он снова заговорил: — Грешен, думаю, опережает Приходько время. Конечно, общество развивается, НТР и все прочее. Формируется человек по-новому. Обеспеченнее стал, образованнее — обязательное среднее… Телевизор каждый день смотрит. И наш хапуга на уровень тянется. Своего ближнего уже не обкрадет — карманников не стало, домушников тоже мало — не профессия! Стыдно! Но вот в государственный карман руку запустить — это еще можно. И ведь не от нужды лихой, а чтобы лишний рубль в кармане забренчал. И дача есть, и машина, и ковры, и Рижское взморье — нет, все мало. Пока мы не придержим. По старинке — за ушко! Интересно, что нам в будущем светит, как вы думаете, Евгения Сергеевна?… Преступников не будет, а будут нарушители общественного порядка. Вежливые такие нарушители, культурные. И мы, хранители порядка, будем их к себе приглашать по телефону, или что там будет — видеофон, что ли. «Уважаемый гражданин, не заглянете ли к нам в свободное время…» Подполковник Григорьев очень похоже передал интонации моего начальника, я улыбнулась невольно. — Вот жизнь у нас начнется, а?… Только я через два года на пенсию уйду. Ну их, устал уже! Это уже вы будете в беломраморных дворцах их перевоспитывать. А на мой век этого добра, вроде Эмилии Щуркиной, еще хватит. — А как со Щуркиным? — Путешествие в Болгарию ему отменили. Обходительно попросили прибыть в Сочи для дачи дополнительных разъяснений. Дочь все на папу с мамой свалила. И деньги не ее, и она тут ни при чем. И за границу не собиралась — ее, видите ли, папочка уговорил. Хотите почитать? — Нет, не хочу! Вероятно, это прозвучало у меня излишне категорично, и подполковник Григорьев глянул на меня понимающе, с сочувствием. — Надоели, чувствую. Вам, молодой женщине, и с этим жульем возиться. Уж на что я — старый зубр, привык вроде, а тоже временами устаю навоз разгребать. Ведь этот навоз куда гаже настоящего. На том — хлеб, цветы вырастить можно. А на этом? Послал я копии допросов Приходько, пусть покажет мамочке, посмотрит она, какое добро вырастила. А если говорят, что дочь характером чаще всего в отца, то, надо полагать, и Щуркин такого же поля ягода… Он проводил меня до дверей. — Привет сердечный вашему начальнику передавайте, как водится… И знаете, нравится мне, что Башков согласился с вами вернуться. Что там дальше будет — не знаю. Но вот сейчас, сам, без конвоя!… Рассказывать буду — не поверят. Фантастика!… В Адлеровский аэропорт меня отвез, конечно, все тот же Ковалев. Перед зданием аэропорта он, вдруг притормозив, свернул в аллейку, за пышные кусты какой-то незнакомой мне южной растительности. Я не поняла. — Сидит!— сказал Ковалев. — Кто сидит? — Взгляните вон туда, за кустики. Я выбралась из машины. В отдалении на скамейке, подняв воротник пальто, нахлобучив серую шапку, одиноко сидел Башков. Хмурый, неподвижный. На других скамейках сидели люди по двое, по трое, с ним же рядом никого не было. — Не буду вас провожать,— сказал Ковалев.— Еще застесняется. Я взяла с заднего сиденья свой «диккенсовский» чемоданчик. Ковалев достал из кармана «Паркер», с которым я ходила в комиссионный магазин. — От доктора Ватсона,— сказал он.— На память! Говорят, слово «да» имеет в произношении куда меньше интонаций, нежели слово «нет!». Хорошие чувства тоже выражаются малым запасом слов. — Спасибо! Большое спасибо вам за все… Что еще я могла сказать лейтенанту Ковалеву? А он улыбнулся, тронул машину и исчез из моей жизни — может быть, навсегда,— хороший человек, лейтенант Сочинского отделения ОБХСС — Ковалев… В самолете мы сели на свои места, согласно купленным билетам: Башков — у борта, я — с краю. За дорогу несколько дежурных, ничего не значащих слов. Он уже не разговаривал со мной — видимо, ему было не до того. Он даже не глядел на меня. Как и в аллее на скамейке, сидел сосредоточенный, отстранившийся. Иногда возился в кресле, устраиваясь поудобнее, и опять неподвижно замирал, уставясь в спинку переднего кресла. Я не вызывала его на беседу, предоставив ему держаться, как он хочет. Даже пробовала задремать. В Оренбурге самолет делал посадку. Пассажиров попросили пройти в аэровокзал. Когда объявили продолжение рейса, я оказалась в самолете одной из первых, села на свое место, откинулась на спинку сиденья и вдруг забылась в каком-то тревожном полусне. Очнулась, когда взревели моторы, самолет готовился к взлету. Двери были уже закрыты, зажглась надпись: «не курить…» Место рядом со мной было пустым. «Ну и черт с ним!»— ожесточилась я. Нервно и зло застегнула ремни. Опять закрыла глаза. — Вам плохо? Возле меня стояла стюардесса. — Нет, спасибо… Стюардесса улыбнулась и прошла мимо. Я опять закрыла глаза. Услыхала, как кто-то тяжело подошел ко мне. — Давно вошел,— сказал Башков.— Увидел, что спите, решил не беспокоить. Занял чье-то пустое кресло. Позвольте, я сяду на свое место. Устали? — Немножко. — Крепкие у вас все же нервы, Евгения Сергеевна. — Если бы. Уснуть не могу. — Я мешаю? — Нет, не вы. Мысли о вас мешают. За иллюминатором самолета внизу виднелась белесая туманная муть. Мы пролетели, наверное, с полтысячи километров, когда он опять заговорил: — Благодарен я вам, Евгения Сергеевна, — Это еще за что? — За то, что не спите из-за меня. Думаете про меня. Не важно, что думаете, важно, что про меня. Вы — единственный человек, который думает обо мне. — Ваша жена тоже думает. — Жена… Жена — это совсем другое, она по-своему думает. Обязанность ее такова. Я хотела сказать, что и моя обязанность такова, но промолчала, он тоже замолчал, отключился. До самого Новосибирска мы не произнесли ни слова. Когда самолет уже сел и очень долго подруливал к своему месту, разворачивался, Башков выпрямился. Я почувствовала, что он глядит на меня, но упрямо не поворачивалась к нему. Он сказал: — Я могу уйти, Евгения Сергеевна… Он не спрашивал разрешения, он как бы напоминал мне об уже разрешенном, договоренном. — Идите… — Мне хочется быть честным перед вами… — Вы бы лучше постарались быть честным перед всеми. Что это за выборочная честность? Впрочем, ваше дело. Не буду вас уговаривать. Мне просто по-человечески вас жалко. Не сегодня — завтра вас обложат, будут брать, как медведя в берлоге… Ведь рано или поздно вам придется… — Не придется! Я пристально посмотрела на него. — Я серьезно, Евгения Сергеевна. Без рисовки… — А ну вас!… Я отвернулась и закрыла глаза. Слышала, как пассажиры потянулись к выходу. Я сидела и ждала, когда он уйдет. Видимо, запасы моей нервной энергии подходили к концу. Я боялась, что из-за какого-нибудь пустяка я сорвусь и даже расплачусь по-бабьи тут же, в самолете, а потом никогда этого себе не прощу. Он повозился, встал, тихо произнес: — Спасибо вам. Я не шевельнулась. Не открыла глаз, не ответила ничего. И он ушел. Я осталась сидеть. Знала, что мне нужно быстрее покинуть самолет и с первого автомата позвонить, чтобы срочно гнали «оперативку» к аэропорту, что нужно обо всем сообщить полковнику Приходько… а я все сидела, будто ждала какого-то чуда… — Что с вами? Я открыла глаза. Опять она — стюардесса. — Простите, зазевалась. Я встала. Стюардесса опять улыбнулась, подняла с полу листок бумаги, сложенный вчетверо. — У вас упало что-то. — Это, кажется, не мое. — Бумага лежала у вас на коленях. Я развернула листок. И увидела длинный столбик цифр. Номера, даты, суммы в рублях. Не сразу поняла, что это такое. Стюардесса вопросительно глядела на меня. — Да, вы правы,— сказала я.— Спасибо. Это не мое, но это написано для меня.
4
Город встретил пронзительным ледяным ветром, проникавшим в рукава и за воротник куртки. Колючие снежинки пополам с песком больно хлестали по щекам, песок хрустел на зубах. С аэровокзала позвонила Борису Борисовичу, мне никто не ответил. Зато Петра Иваныча, приехав, застала дома. Обрадовался он мне очень. Помог снять мокрую куртку, разыскал и принес мои шлепанцы. Терпеливо ждал за дверью, пока я переодевалась, и с трудом расстался со мной, когда я направилась в ванную. Увы! горячей воды не оказалось. — Только что была,— оправдывался Петр Иваныч.— Это наши отопленцы мудрят, чтоб им пусто было. Готовятся, видите ли, к зимнему сезону, линии проверяют, паразиты… Но я могу предложить лучший вариант. Загодя подумал. — Какой же? Согреете чайник и вымоете меня в тазике? — Да…— вздохнул он.— А ведь совсем недавно я мыл в тазике свою дочь. Ей сейчас столько же лет, сколько вам. Господи! всего четверть века тому назад. Как жаль, что вам не два года… — Мне тоже жаль. — Вот я и предлагаю вам грандиозное мероприятие, для оздоровления вашего тела и души. Петр Иваныч достал из тумбочки березовый веник. — Это еще что? — Не видите — веник, березовый. — Это я вижу. А что с ним делать? — Удивительно бестолковая девчонка. Забирайте веник и идите в баню. Я бог весть сколько лет уже не была в бане, никогда не парилась, вообще представляла это только по кинокартинам. Но… баня так баня! Все равно горячей воды не было, а вымыться и погреться мне было необходимо. В бане я по инструкции Петра Иваныча распарила в кипятке веник и вошла в парную. На верхней полке какая-то любительница усиленно хлестала себя по спине. Было нестерпимо жарко. Я присела на нижней ступеньке. С сомнением повертела свой веник. Женщина откинула волосы с лица, и я узнала Жаклин. Надо же случиться такому! Мне совсем не хотелось с ней встречаться, тем более здесь. Я готова была уйти, но Жаклин уже разглядела меня. — Вот встреча…— протянула она.— Ты зачем сюда? — А вы? — Ну, я. Жиром обросла, ни в какие брюки не влезаю. А тебе, по-моему, сбавлять нечего. Она упорно говорила мне «ты». Спустившись на ступеньку ниже, она оглядела меня нагло и вызывающе. — Вот где свиделись.— Лицо Жаклин было распаренным, красным и неприятным.— Хотя здесь даже лучше, две голые бабы — всё на виду. Понимаю нашего папочку, чего он на тебя позарился. Жаклин явно напрашивалась на ссору. — А я всё думала, что ты просто очередное папочкино увлечение… Много их было. А ты, оказывается, вон кто, из этих самых… Веник лежал у меня на коленях Я по одному обрывала с него мокрые листочки. — Получаешь-то как, поштучно или на окладе? Я отломила всю ветку, — Вот что… Мне казалось, что я говорю спокойно и что выражение лица у меня спокойное, но Жаклин вдруг выпрямилась и даже приподняла руки, как бы защищаясь. — Вот что!— повторила я.— Твое счастье, что мы здесь, в бане, две голые бабы, как ты изволила выразиться. Но говорить с тобой я не хочу — противно. Поняла? А поэтому уходи отсюда. Ты слышишь, уходи сейчас же… Она молча сползла по ступенькам и пошла к дверям. Когда я вернулась домой, там уже пахло кофе «по-бразильски». Петр Иваныч усадил меня на почетное место в углу, налил кофе, поставил сковородку с «фирменными» гренками; открыл банку шпрот, уронил тарелку — к счастью. Принес из своего шкафчика бутылку «лекарственного» коньяку. Мы выпили — «под легкий пар!» — по рюмочке сосудорасширяющего. Петр Иваныч все разглядывал меня, по-птичьи поворачивая голову с боку на бок; он утверждал, что перемена позиции, как считают йоги, обостряет зрительное восприятие. — Ну, и что же вы увидели?— спросила я. — Недовольная вернулась с юга. Не все получилось? Мне пришлось согласиться: — Да, не все. — Но в море, хотя бы, выкупалась? — Куда там. Холодно было. — Вот вам и юг! А у нас было тепло. Мы с Максимом даже на рыбалку ездили. — Не знала, что вы еще и рыбак. — Она не знала! Да я… — Только не показывайте, каких вы ловили щук, а то посуду побьете. Скажите, как там Максим? — Все в норме у него. Сегодня был, уехал. Я говорю, подожди, Евгения Сергеевна приедет. — Вам-то кто это сказал? — Чувствовал. — Ну, разве так… А куда на море ездили? — Туда же, в Шарап. Попросил Максима показать, где он вас нашел. Побывали на островке, куда вас волной выбросило. Вот я там и подумал — повезло! Чуть в сторону — и вас бы пронесло мимо. До другого берега там километров семь-восемь, не менее. — Да, повезло… — Еще кофе? — Нет, спасибо. — Полчаса тому назад, без вас, значит, мужской голос звонил. Серьезный мужской голос, кажется, с погонами. Я сказал, что вы пошли в баню. — Вы что — серьезно? — Вполне. А что особенного — пошла в баню! Хотя я не помню, может, я сказал, что пошла на концерт, в консерваторию, слушать Баха… Нет, с Петром Иванычем невозможно было разговаривать серьезно. — Я не о том. Почему сразу мне не сказали? — Что я должен был сказать? — Что мне звонил этот… мужской голос, с погонами. — А чтобы вы не спеша допили свой кофе. А то суматошились бы… Да не беспокойтесь, позвонит еще… Ну, что я вам говорил? Звонил Борис Борисович. Поздравил меня с приездом. Спросил, не могу ли я прийти к ним в «домик под часами» к восемнадцати ноль-ноль. На этот раз двери открыл сам полковник Приходько. Он шутливо заглянул мне за спину, посмотрел в коридор, даже за дверь. Догадаться о смысле намека было нетрудно. — Одна, к сожалению, товарищ полковник. — Вижу. И то хорошо. Рад вас видеть, Евгения Сергеевна. Без вас мы тут с Борисом Борисовичем заскучали. Тихо, ни беспокойства, ни переживаний. Сюжетов нет, словом. Хоть у Бориса Борисовича спросите. Он вежливо открыл дверь в комнату, пропустил меня вперед. Я увидела на столе бутылку шампанского, вазу с виноградом. Вошел Борис Борисович с чайником и — подумать только — тарелкой с беляшами. Я ошибочно решила, что здесь счастливое совпадение случайности с моими вкусами. Мы сели за стол. Борис Борисович разлил шампанское,— уж и не знаю, где он достал бокалы. Полковник Приходько встал. Мы с Борисом Борисовичем, естественно, тоже. — Как положено, начнем с торжественной части. Приказом по Управлению лейтенанту Грошевой Евгении Сергеевне за успешное выполнение задания по разоблачению группы расхитителей досрочно присвоено очередное звание старшего лейтенанта, она премирована ручными часами с соответствующей надписью. Полковник выслушал мой ответ и вручил коробочку. — В дополнение к приказу я лично, как начальник отдела, благодарю Грошеву Е. С. за удачное завершение операции «Сочинский вариант» и от имени товарищей по работе уполномочен вручить небольшой подарок. Он положил передо мной на стол новенькие погоны старшего лейтенанта. Мы сели. — Ешьте беляши, Евгения Сергеевна. Я как-то Петру Иванычу звонил, о его здравии справлялся. Не надо ли, думаю, чего. Один остался, все-таки. Так он нам сказал, что вы беляши любите, а сладкое не любите. А мы вас пирожными закармливали. Борис Борисович сегодня за беляшами специально к ЦУМу ходил. Полковник глянул на часы. — Совещание у генерала в девятнадцать тридцать. Отчитываться будем. Я в том числе. Подполковник Григорьев и письменно, и по телефону сообщил о подробностях в самом восторженном стиле. Слушать его мне, как вашему начальнику, было и приятно, и интересно, но в таком тоне докладывать генералу не будешь. Так что вы расскажите сами. Я рассказала, как шла по следу Башкова. Как встретилась с Щуркиным и его дочерью. Как мы снимали ее с теплохода. Затем рассказала, как была у Башкова, как мы летели с ним из Сочи. Здесь я остановилась и вытащила из кармана куртки вчетверо сложенный листок бумаги. Я подала листок полковнику и объяснила, как он попал ко мне. Приходько пробежал взглядом по столбикам цифр. — Скажи, голова какая у человека. Ведь это все он на память написал, уверен. Возьми, Борис Борисович! Сегодня же ревизорам передай. Значит, Евгения Сергеевна, правильно мы не сняли тогда Башкова с самолета. Выходит, оправдался наш риск. Не чурбан же он все-таки — человек. Но вот сам к нам прийти так и не пожелал. И думаю, не придет. — Я тоже теперь думаю, что не придет. — Значит, так, Борис Борисович!— Полковник постучал пальцами по столу, помолчал, потом положил ладони на стол.— Башков отказался добровольно явиться. А теперь он нам нужен. По закону нужен. Будем искать. Саввушкин его к себе не пустит, побоится. — Саввушкин пока на свободе?— спросила я. — Пока ходит, до поры… К сыну Георгий Ефимович сам не пойдет. — У сына гараж есть,— сказал Борис Борисович.— Теплый. — Когда это выяснили? — Сегодня. Когда проверяли, откуда у сына машина взялась. — Ну, и как? — Папин подарок. На ворованные деньги куплена. — Значит, поставим вопрос о конфискации. — Сынок — пьяница, соседи по дому жалуются,— продолжал Борис Борисович.— Гулянки на квартире, парни подозрительные шастают. «Малина» целая. И жену сынок подобрал соответственную. — Жаклин,— подсказала я. — Эта самая Жаклин по паспорту Анна,— пояснил Борис Борисович.— Уже два раза ее задерживали. Спекулянтка, за коврами в Среднюю Азию ездит, потом здесь продает. Простили ее на первый раз. — Зря, наверное, простили,— заключил полковник.— Но машину следует конфисковать, это уже точно.
ПОСЛЕДНИЙ ХОД
1
Два дня подряд шел дождь пополам со снегом. Ветер обрывал последние листья, тополя уныло покачивали голыми чёрными верхушками. В окно даже не хотелось смотреть. Как обычно, к непогоде побаливала спина. Ходила в поликлинику, там — вопреки моим ожиданиям — врач продлил бюллетень еще на три дня. Поехала к Рите Петровне. На трамвайной остановке увидела Саввушкина — он, очевидно, возвращался с Главного склада. Хотела разойтись с ним, будто не заметила, но не удалось. Саввушкин растерял свою показную веселость, обычно свойственную ему. Сумрачный, потухший, он заметно похудел за эти дни. Даже со мной разговаривал без присущей ему сладковатой любезности. Но любопытство у него еще осталось. Впрочем — расчетливое любопытство. — Отдыхать, говорят, ездили? О моей поездке знали только в Управлении и дома — Петр Иваныч и Максим. — В Сочи ездила. К знакомым. — Хорошо иметь в Сочи знакомых. — А знакомых иметь всегда хорошо. Тут я догадалась, что знакомые в Сочи были не только у меня, но и у Саввушкина. Скорее всего, Саввушкину позвонил из Сочи Щуркин после встречи со мной, и Саввушкин мог высказать ему все догадки и предположения на мой счет. Поэтому Щуркин так заторопился с отъездом и попытался отправить с деньгами дочь. Излишек информации на пользу ему не пошел… — Что же вы сегодня на трамвае?—спросила я. — А на чем еще? — Возили вас, кажется. — Возили…— он колюче взглянул на меня.— Не знаете? — А что я должна знать? Он помолчал; но расстройство его оказалось сильнее недоверчивости ко мне. — Отобрали у Виталия машину. Пострадал за отцовские грехи… Так ничего и не знали? — Я же сказала. — Ну-ну! Понятно… Он явно не верил мне ни на грош. Его глазки пристально буравили меня, выражение их стало откровенно недобрым. Много у него накопилось злости, если она пересилила сейчас обычную его осторожность. Я почувствовала, что Саввушкин без колебаний, даже с великим удовольствием толкнул бы меня под колеса трамвая, если бы это, разумеется, ему безнаказанно сошло. Не прибавив больше ни слова, он повернулся и шагнул к дверям остановившегося вагона. Я недолго пробыла на Главном складе. Рита Петровна уехала в управление Торга. Ревизоров тоже не было, видимо, проверяли полученные номера по проводкам в бухгалтерии Торга. Я вернулась домой и увидела возле подъезда знакомый «Запорожец». Петр Иваныч и Максим играли в шахматы. Максим встал мне навстречу. Я очень ему обрадовалась, обняла и чмокнула в щеку. — Продолжайте, я отвернусь,— иронично хмыкнул Петр Иваныч. — Воспитанные люди делают это молча и заранее. — А я — невоспитанный. — Не хвастайтесь, это и так заметно. Почему вы не накормили Максима? — Он утверждает, что не хочет. — Он воспитанный, не в пример вам, поэтому застенчивый. — Мы ждали вас,— пояснил Максим.— Петр Иваныч сказал, вы скоро приедете. — Откуда он мог это знать?… Хотя он уже объяснял мне, что как-то это чувствует. А вы, Максим, так не можете? — Нет, я могу только догадываться. — Тогда догадайтесь, чем я собираюсь вас угостить. — Что тут догадываться,— злоязычил Петр Иваныч.— Гренки с сыром. — А что,— заметил Максим.— Гренки с сыром мне очень нравятся. — Еще бы они тебе не нравились. — Максим, не слушайте Петра Иваныча. Пойдемте на кухню. Я вас угощу чем-то вкусным. А вот этого вкусного Петр Иваныч не получит ни кусочка, в наказание за свое ехидство. Конечно, я тут же простила Петра Иваныча, мы пошли на кухню, и я угостила мужчин жареной индейкой, которую успела купить по пути домой. Петр Иваныч вытащил было коньяк, но вспомнил, что Максим на машине и ему нельзя. Мы пили кофе, Петр Иваныч задирал нас — «молодежь» — рассуждениями на моральные темы. Максим отшучивался за себя и за меня. А я просто смеялась, слушая их пикировку и глядя на них. Давно мне не было так хорошо и безмятежно-весело. Уже наступал вечер. Перед тем, как зажечь свет, я глянула в окно и увидела желтую «оперативку» с огоньком на крыше. Она остановилась перед нашими домами, из нее выскочили два милиционера и побежали куда-то за угол. «Оперативка» проехала еще немного и опять остановилась. Город жил своей вечерней жизнью. И не всем, видно, было так хорошо и беззаботно, как мне…
2
На другой день мне позвонил полковник Приходько. — Все верно,— сказал он.— Показали список фальшивых фактур Аллаховой. Надо было вам на нее поглядеть. Не ради какого-то удовольствия, конечно, человековедения ради. Поняла, что молчать бессмысленно. Добавила еще с десяток фактур по своим личным делам. — И много получается? — Много… Еще раз спасибо вам, Евгения Сергеевна! — Мне-то за что? Башкову спасибо скажите. — Скажу! Как только найдем, обязательно скажу. Дома у нас, как и на улице, было холодно. Вместе с горячей водой выключили и отопление. Петр Иваныч возмущался, звонил в домоуправление, там ему посоветовали обратиться в теплосеть, тем дело и закончилось. Теплее в комнатах не стало. Вечером попробовали сыграть в шахматы — не пошло, ссыпали свои черно-белые полки обратно в коробку. Долго читала в постели. Петру Иванычу тоже не спалось, я слышала, как он брякал стаканами на кухне, должно быть, пил свой облепиховый сок. И конечно, как только уснула, зазвонил телефон. — Вас девичий голос спрашивает,— сказал в дверь Пётр Иваныч. — Девичий? — Так мне ухо подсказывает. Я нехотя натянула халат. — А еще что оно вам подсказывает? — Она непорядочная девушка. Я никак не могла разыскать вторую туфлю. — Это — почему? — Порядочные девушки не звонят в одиннадцать часов. В одиннадцать часов они спят. — Разве?… А она это слышит? — Нет, конечно! Я нашла, наконец, свою туфлю и выбралась в коридор. Пока Петр Иваныч меня ждал и говорил со мной, он держал трубку в кармане пижамы. — Это я, Жаклин. Здравствуйте! Я не очень даже удивилась. За эти дни столько свалилось на меня всяческих неожиданностей, что я начала к ним привыкать. Повысился порог восприятия, как объясняли нам на лекциях по психологии. Жаклин перешла на таинственный шепот, я попросила ее говорить погромче. — Я из автомата говорю. Вы не обижайтесь на меня… Ну, за баню, ладно? И сразу же выпалила: — Папочка наш объявился! Вот тут я уже не знала, что ей сказать. Неужели Башков спрятался у сына, а Жаклин таким ходом решила поправить в глазах милиции свои покосившиеся делишки? Она вполне могла это сделать. Да, но в таком случае она обратилась бы, вероятно, не ко мне… — Вы меня слушаете? — Да-да, слушаю. Он сейчас у вас? — Нет, он просил вам позвонить. Ему нужно с вами встретиться. — Зачем? — Не знаю. — Почему он сам мне не позвонил? — Боится выйти на улицу. — Где он меня ждет? — Я вас провожу. Я говорю из автомата возле остановки «восьмерки». Знаете? — Знаю. Ждите меня там. Буду через десять минут. Петр Иваныч, разумеется, всполошился. — Это еще куда? Двенадцатый час — не рабочее время. — Не все у людей укладывается в рабочее время. — Одевайтесь потеплее! Я надела джинсы и толстый шерстяной свитер. Тот самый, в котором была на море. Мне в нем всегда везло… Но что надеть на ноги? Сапоги? Тогда джинсы придется выпускать поверх сапог, нехорошо! — Надевайте ботинки!— посоветовал Петр Иваныч.— Ботинки налезут на шерстяные носки. Я вытащила из угла туристские ботинки. Уж не помню, по какому случаю их купила, а надевала всего раз или два. Это были тяжелые ботинки на резиновой рубчатой подошве, с твердым, как копыто лошади, каблуком… А ведь могла надеть и сапоги на мягкой микропорке… Сколько еще бывает в нашей жизни таких вот не-предугадываемых случайностей, от которых зависит иногда многое… На улице было темно и холодно. Ветер забрасывал за воротник колючие снежинки. Земля была мерзлая и скользкая, и я почему-то подумала, как неприятно упасть и лежать, прижавшись щекой к этой скользкой холодной земле. Мне было несколько беспокойно, но и не идти я не могла. Слишком много вложила сил, нервов, переживаний в эту чужую изломанную судьбу, чтобы отказаться от сомнительной встречи… Как Жаклин могла все так верно рассчитать, чтобы выманить меня из дома, не знаю до сих пор. Воистину, нет у женщины более лютого врага, нежели женщина!… Еще издали я заметила темную фигуру возле телефонной будки. Вначале мне показалось, что там двое, но, подойдя поближе, увидела одну Жаклин, в дубленке и мохеровом беретике. Она вышла мне навстречу. — Пойдемте, это недалеко. Мы прошли квартал, свернули в туннель между домами. Жаклин уверенно направилась к рядам индивидуальных гаражей. Я не могла понять, куда она идет, но послушно следовала за ней, скользя и запинаясь на рытвинах и замерзших застругах, следах автомобильных колес. Свет с улицы сюда не проникал, между гаражами было темно. Откуда-то сбоку вышли две мужские фигуры, пересекая нам дорогу. Жаклин ойкнула и остановилась. Фигуры подвинулись ближе и материализовались в двух добрых молодцев. Лица их в темноте я разглядеть не могла. Один был повыше и потоньше, второй пониже и пошире, шел вперевалочку, засунув ладони рук в карманы светлых тренировочных брюк. Они остановились перед нами. Подвинулись ближе. Остро пахнуло водочным перегаром. Тот, что повыше, протянул руку к Жаклин: — Подай-ка сумочку! Жаклин отступила, повернулась ко мне. А я смотрела на молодцев, и какая-то ненатуральность чувствовалась во всей этой уголовной ситуации. Что именно — понять я не могла, но фальшь ощущалась. Почему-то я ждала, что они скажут: «Девушки, мы пошутили, идите спокойно!» Тот, что повыше, вырвал у Жаклин сумочку и повесил себе на левое плечо. — Ребята, что вы, ребята…— залепетала Жаклин. И это показалось мне тоже ненастоящим. — Тихо, мымра!— Высокий шагнул ко мне.— Девочка, пошарь в кармашках, на бутылку нам не хватает. Кому говорю! Он ухватил меня за воротник, я резким движением освободилась. — Скажи, она еще брыкается. Вдруг второй схватил меня сзади за локти и заломил руки за спину. Я запоздало рванулась. Но держал он крепко. Высокий не спеша взял меня за отвороты куртки, неожиданно и сильно ударил ладонью по лицу. Боли я не почувствовала. Только сверкнуло что-то перед глазами. Жаклин за моей спиной твердила сбивчиво: «Ребята, что вы, ребята… возьмите сумочку, только не бейте…» Высокий ударил еще раз. Я успела чуть нагнуться, и попал он не по лицу, а по голове, прямо по свежему еще шраму. Вот тут-то мне стало больно. Возникло ослепляющее ощущение ярости. Я дернулась изо всех сил, но тот, сзади, был тяжелее меня. А длинный левой рукой стянул на моем горле отвороты куртки, чтобы я не могла повернуть голову. Я подумала, что, пожалуй, достану зубами до его руки. Тут что-то блеснуло на его пальце — красноватая искорка, как отблеск тлеющей сигареты. Я узнала кольцо. И тут же узнала высокого. Тот самый, кто остановил машину Башкова-младшего возле Дома офицеров, разговаривал с Жаклин, потом уехал вместе с ними и Саввушкиным. Все стало понятным. Меня заманили в ловушку, решили проучить. Изобьют и оставят лежать здесь, между гаражей, на холодной мерзлой земле. Это — месть за ушедшее денежное благополучие, за отобранную машину, и режиссура, конечно, Саввушкина… Что делать?… Что-то нужно сделать… Высокий готовился ударить еще раз, я втянула голову в плечи, насколько позволял сдавивший мне горло ворот куртки, нагнулась вперед… и увидела ногу того, кто меня держал сзади, ногу в светлой брючине… Ведь на мне ботинки! Я уже не следила за высоким. Пусть бьет!… Я согнула колено и что есть силы ударила каблуком по ноге в светлой брючине. Я почувствовала, что попала. Не хотела бы я быть на его месте, каждый, кто хоть раз ушибал переднюю часть голени, где незакрытая мышцами кость, знает, как это больно. Может быть, я даже сломала ему ногу. Он только охнул глухо, со свистом втянул воздух. Он уже не держал, он сам держался за меня. А высокий все еще не понимал, что произошло, все еще тянул меня за отвороты куртки,да и реакция у него была плоховатая. Остальное, как говорят, было делом техники. В школе милиции на курсе нас было всего две девушки, и лейтенант Забродин специально оставался с нами по вечерам в спортзале. «Вы недостаток физической силы обязаны компенсировать повышенным знанием техники…» Коренастый опустился на землю, обхватив руками колено. Он покачивался взад-вперед и глухо матерился. Высокий стоял согнувшись, опустив низко голову, не издавая ни звука, и я знала, что ему еще не скоро удастся вздохнуть. Я шагнула к Жаклин. Она не стала ни защищаться, ни оправдываться. Прижалась спиной к железной стенке гаража. Ее глаза даже в темноте зло поблескивали, как у кошки. Я с мстительным удовольствием вернула ей одну пощечину. Я ударила хотя и безопасно, но сильно, так что сбила ее с ног. Не оглядываясь, из гаражного тупичка я направилась прямо к телефонной будке, уже зная, кого там найду. Саввушкин, видимо, принял меня вначале за Жаклин, потом запоздало попытался спрятаться. Я обошла будку кругом и встретилась с ним лицом к лицу. Здесь было светло от уличных фонарей, я могла разглядеть выражение страха на его круглой физиономии. Не знаю уже, что выражало мое лицо, только он качнулся, как от удара. — Саввушкин…— сказала я. Висок у меня болел, в голове шумело, и голос чуть прервался. — Идите, заберите свою шпану. И свою Жаклин тоже… Я замолчала, боясь, что не сумею сдержаться, и тогда Саввушкину придется плохо… да и я потом пожалею, что сорвалась… Приказ на арест Саввушкина завтра будет подписан, он этого не знал, но я это уже знала. Я сунула руки в карманы, взглянула в его округлившиеся от страха глазки, маленькие, как у хомяка, и ушла. Висок болел, и щека наливалась болью. Я присела на уличную скамейку, сгребла с нее горсть опавших листьев, приложила их к щеке. От листьев пахло тополем, пахло землей, они были холодные, и боль вначале усилилась, но я знала, что она утихнет. И когда она утихла, я встала и побрела домой. Мои часы показывали половину первого. Я постаралась тихо открыть дверь, но Петр Иваныч не спал. Он вышел из своей комнаты в домашней куртке,— он и не собирался ложиться. В передней горел свет, я запоздала нагнуться к ботинкам. — Господи!— только сказал он.— Где это вам повезло? Больше он не прибавил ни слова. Открыл аптечку, достал бинты, вату, соорудил мне большущий, в пол-лица, компресс, замотал дополнительно теплым шарфом. На кого я стала походить, уж не знаю. Он заставил выпить рюмку «сосудорасширяющего», дал какую-то таблетку, и я отправилась в постель. Уснула сразу… Утром, предварительно размотав все шарфы и компрессы, заглянула в зеркало. Конечно, глаз затек, его окружало матовое сияние. Но я ожидала, что буду выглядеть хуже. Видимо, помог компресс, умело поставленный Петром Иванычем. Я была обязана доложить об этом происшествии. Дозвонилась до Бориса Борисовича. Он порывался было навестить меня, но я его отговорила — не очень хотелось показываться в таком виде. Целый день просидела дома. Петр Иваныч изображал сиделку возле постели тяжелобольной, я видела, что это доставляет ему удовольствие, и не мешала. А он ни о чем меня не расспрашивал, только временами покряхтывал сочувственно. Днем отлучился на часок, принес полдюжины беляшей — конечно, бегал за ними в пирожковую,— и от товарища — новый номер толстого журнала. Я весь день читала, ела беляши и чувствовала себя совсем неплохо. К вечеру опухоль спала. С Петром Иванычем посмотрела международный футбольный матч,— вел передачу Николай Озеров,—а потом отправилась в постель.
3
Ночью внезапно проснулась. Часы показывали половину второго. Я накинула халат, вышла в переднюю, думая, что, может быть, что-то случилось с Петром Иванычем. Но он сам выглянул из своей комнаты, накинув на плечи плед. — Это звонили у дверей,— оказал он.— Спросите, кто там? С детства привыкла открывать дверь, не спрашивая. Так обычно поступал мой отец, хотя он был работник милиции. Мать, наоборот, всегда спрашивала, даже днем. Привычка отца мне нравилась больше. Я запахнула халат. И, открыв дверь, увидела Бориса Борисовича. — Евгения Сергеевна, извините! Я стояла к нему боком, и на мои синяки он внимания не обратил. — Ничего, здравствуйте, Борис Борисович! — Вы нужны полковнику. — Понимаю. Буду готова через три минуты. — Подожду вас в машине. Я закрыла дверь, и тут в прихожей появился Петр Иваныч, наспех натягивая домашнюю куртку. — Наденьте свитер. И шерстяные носки, обязательно. На улице минусовая температура. Что-то ворча про себя, он направился на кухню. Когда я одетая вышла из комнаты, он уже стоял у дверей, со стаканом горячего чая, который налил из термоса. — Я тороплюсь! — Ничего, подождут. Выпейте, а то замерзнете со сна. Я отхлебнула из стакана. От чая здорово несло коньяком. Я только покачала головой. Петр Иваныч пригляделся к моему лицу. — Почти незаметно. Не поворачивайтесь к собеседнику этой стороной. Вот, никогда не думал, что товароведение — такое хлопотное дело… Я сбежала вниз по лестнице. На улице было темно, хоть глаз выколи! Только лампочка у соседнего подъезда — наша почему-то не горела — освещала заледеневшие, мутно поблескивающие ступеньки. Машина стояла за углом. Борис Борисович открыл мне дверку, я, не хлопая, прикрыла ее за собой, и так же тихо мы отъехали от спящего дома. А случилось вот что. Дежурный инспектор на вокзале Новосибирск-Главный заметил среди пассажиров гражданина, похожего на Башкова,— его фотография висела на стенде, возле отделения милиции. Но тут объявили посадку, в толкучке гражданин затерялся в толпе. Поезд отошел, инспектор отправился по вагонам и увидел разыскиваемого в тамбуре. Документов у него не оказалось, инспектор сошел с ним на остановке «Барышевокий переезд». Задержанный оказал сопротивление, инспектор — молоденький, неопытный,— схватился за пистолет. Но гражданин сумел вырвать его… — Сбежал с пистолетом? — Сбежал, но недалеко. Там охрана, ночной наряд проходил. Словом, держат его. — Где держат? — А вот сами увидите. Полковник просил вас привезти. Мы проехали по ночным улицам города, затем по шоссе. У железнодорожного переезда, в свете фар возник на обочине лейтенант ГАИ. Борис Борисович притормозил. — К полковнику Приходько?— спросил он. Лейтенант кивнул и сел на заднее сиденье. — Через переезд и направо по дороге. За поселком дорога вышла к лесной опушке. Проехав с километр, мы увидели яркий свет автомобильных фар, выхвативший из тьмы запорошенные снегом сосны. Фары желтого милицейского «уазика» и «Жигулей» автоинспекции освещали водосток — бетонную трубу, проложенную под насыпью. Труба была около метра в диаметре и метров десять в длину. Оба выхода из нее контролировали сержант и младший лейтенант, причем они старались не показываться в просвете трубы, стояли в стороне. И у того и у другого в руках были пистолеты. Я выбралась на хрустящую под подошвами мерзлую траву. — Как в кино!— заметил Борис Борисович. Да, все это походило на киносъемку. Казалось, что вот в ярком свете прожекторов покажутся актеры и режиссер прокричит в мегафон очередную команду. Актеров я не увидела, но режиссер был. В милицейской шинели, в форменной фуражке, низко надвинутой на лоб, привалившись к капоту милицейской «оперативки», стоял полковник Приходько. Хмуро кивнул на мое приветствие и показал взглядом в сторону трубы: — Вот, сидит. Отстреливается. У Пилипенко полу шинели прострелил, тот хотел его в лоб взять… Я уже все поняла. — Да!— подтвердил полковник.— Хочу, чтобы вы с ним поговорили. В последний раз. Вас выслушает, думаю. Скажите ему, пусть больше не глупит. Все ясно — добегался. Из трубы мы его выкурим, конечно. Лучше ему добровольно выйти. — Я попробую. Признаюсь: я помнила совет Петра Иваныча и стояла к полковнику в полупрофиль. Честно говоря, это было наивно — прятать свои синяки, тем более, что Борис Борисович, конечно же, сообщил ему о моих приключениях. Впрочем, в создавшейся обстановке никому не было дела до чьих бы то ни было синяков. Полковник хотел что-то добавить, но только досадливо махнул рукой. Я подошла к трубе. — Куда вы!— остановил меня младший лейтенант.— Он же стреляет. — Пропусти, Пилипенко!— сказал полковник. Лейтенант растерянно глянул на полковника и отступил от трубы. — Вы осторожнее, все-таки…— тихо сказал он. Я кивнула, давая понять, что ситуация мне ясна и ему нечего беспокоиться. Но лезть в трубу все же не стала. — Это я! Вы слышите меня? Башков что-то ответил, я не поняла. — Я сейчас иду к вам. Низко нагнувшись, я поползла по трубе, опираясь руками о шершавые холодные стены, задевая своды головой. Отраженный свет фар проникал в трубу, я могла разглядеть Башкова. Он сидел, опираясь спиной на стенку трубы. Пистолет лежал на коленях. Он не взял его в руки, не отодвинул, когда я присела рядом. — Понимаю,— сказал он.— Это полковник вас пригласил. — Я бы и без приглашения приехала. Если бы знала, что вы в такую нору забрались. Как барсук. — Все шутите… — Какие уж тут шутки. Труба была холодная. Очень холодная. Я подобрала под себя ноги, обхватила колени руками. Видимо, он тоже замерз, поднял воротник пальто, зябко поводил плечами. Голос его звучал глухо. На меня он не глядел. — Уговаривать будете? — Буду. Зачем бы еще полезла сюда? Я не очень верила, что от моих слов будет здесь какой-либо толк. Но и молчать не могла. — Вы бы посмотрели, как все это выглядит со стороны. Сидите здесь, в трубе, как загнанный волк. Огрызаетесь и ждете. Чего вы ждете? — А я ничего не жду. Просто хочу еще полчасика на свободе побыть. — Это вы называете свободой?! Он промолчал. — Вас просто выкурят отсюда. Зачем вам вся эта возня? — Не я ее затеял. — Не передергивайте. Он откинул голову, опираясь затылком на стенку трубы. Закрыл глаза. Усмехнулся каким-то своим мыслям. — Вам бы воспитательницей работать, Евгения Сергеевна… — Мне это уже говорили. — Правильно говорили. Сеять разумное, доброе… — Вы считаете, здесь уже нечего сеять? — Поздно. Земля высохла. Раньше бы… Что ж, я понимаю: провинился — расплачивайся, все так… Значит, следствие, суд, соответствующая статья… Колония строгого режима, решетка железная. У меня печень больная… к чему мне все это. Он говорил как человек, который уже все обдумал. Пистолет лежал на его коленях. — Не обидно?— спросила я. — А что остается? Не то делал, не так жил. Материальные радости, как говорят. Они дешевые, эти радости, только платить за них нужно очень дорого. Привольная жизнь, беззаботная, сытенькая. Барахло всякое, красивое и не нужное. А оно тоже дорогое — это барахло. Поэтому деньги, деньги… и привыкаешь к этому. А они быстро утекают — и деньги, и радости, и не остается у человека ничего. Обидно за жизнь, прожитую ради этого ничего… Что-то звякнуло у конца трубы — видимо, лейтенант стукнул нечаянно пистолетом. Башков спокойно посмотрел в ту сторону, опять опустил голову. — А с Бессоновой получилось нелепо… Когда у вас был, хотел рассказать, да побоялся, что не поверите. Мол, оправдываюсь… Теперь мне оправдываться нечего, чего уж тут… Зашел к ней тогда по старой памяти, ключик-то у меня был… от прежних времен. Выяснить хотел, что она делать думает,— Аллахова упросила. Зашел — она спит. Ночник горит, вижу — пьяная. Сел на стул, думаю, что делать. Разбудить — будет ли толк?… Тут она сама поднялась, меня увидела: «Ага, говорит, прибежал, забеспокоился!», встала и на кухню прошла, стаканом звякнула — воду пила, похоже. Вернулась, опять легла: «А ты иди, откуда пришел. Завтра в милиции встретимся. А я спать хочу». Вот так и сказала, с шуточкой. Зло меня взяло. «Ах ты, думаю… На чужом несчастье у ОБХСС прошение вымолить хочешь?» Пошел я на кухню… и газ открыл. Поверьте, не ожидал, что так получится. Думал, одуреет немножко, поболеет денька два. А тут — на тебе! Вот так вокруг меня и накрутилось. Выходит, и здесь виноват. Так уж за все и буду отвечать… Он замолчал, зябко повел плечами. — Ладно, Евгения Сергеевна, чего вам со мной мерзнуть… Идите. — Георгий Ефимович,— я первый раз назвала его по имени.— Не нужно, а?… Отдайте мне пистолет… — Нет, Евгения Сергеевна. Не дам. Хорошо, конечно, что вы не поленились сюда забраться. Идите, а то простудитесь. Да и я уже замерз. Он отрешенно отвернулся от меня. Я выбралась из трубы так же, как забралась в нее. — Ну, что?— шепотом спросил младший лейтенант. Я посмотрела на него. Он был очень молод, наверное, только что из школы. Пистолет он держал на весу и даже палец был на спуске, и весь он был готов к действиям и подвигам, и в глазах его так и светился огонек азартного восторга. Я его понимала. Как же, впервые участвует в задержании преступника, да еще вооруженного бандита. Вот, шинель даже прострелили! — Поставьте пистолет на предохранитель,— посоветовала я.— А то еще невзначай… Полковник ничего не спросил,— все понял по моему виду. — Идите, погрейтесь в машине,— сказал он, сердито отвернувшись, но я понимала, что он сердится не на меня, а на упрямца, засевшего в трубе.
Еще не дойдя до машины, я услыхала приглушенный звук выстрела. Я ждала его, поэтому не обернулась, не остановилась. Открыла заднюю дверку кабины, забралась на сиденье, прижалась в углу. Пришлось достать платок — вытереть глаза. Но это были не слезы жалости. Это были слезы досады и бессилия, когда встречаешь такое, с чем не можешь ни согласиться, ни примириться, но не имеешь сил и возможности исправить это или предотвратить…
4
С Аллаховой и всей ее «фирмой» я встретилась уже в зале суда. Максим заехал за мной на «Запорожце». Одна я бы не пошла. С зимними морозами ко мне опять вернулись боли в ногах и пояснице. Врачи, опять посадив меня на бюллетень, предупредили, что нужно остерегаться холода, простуды, что боли ещё будут возвращаться, но к лету должны исчезнуть. В зале суда на скамейке за барьером я увидела Аллахову и остальных. Аллахова заметно постарела, на округлом ее лице выступили скулы, запали глаза, резче стали морщинки возле губ. Остальные изменились меньше. Только Саввушкин похудел, как будто из него выпустили воздух, когда-то кругленькие, его щёчки покрылись мелкими складочками. Председатель суда читал длинное обвинительное заключение — историю преступлений, начавшуюся еще пять лет тому назад. Я слушала судью и смотрела на Аллахову. Вдруг она подняла голову, и наши взгляды встретились. И хотя я сидела далеко, она узнала меня. Лицо ее дрогнуло, она глядела на меня несколько секунд, зрители в зале зашушукались. Но Аллахова тут же отвернулась и поникла. — Пойдемте отсюда!—сказала я Максиму. На улице светило солнце, ярко и весело поблескивал выпавший снежок. Но я торопилась поскорее вернуться домой. С трудом забралась на свой этаж. Петру Иванычу мой вид не понравился. Он и Максим пытались отправить меня в постель, но мне не хотелось оставаться одной. Я устроилась в кресле, а они сели играть в шахматы. И опять в памяти — в который раз — возник Башков, скорчившийся в холодной цементной трубе… «Они дешевые, эти радости,— вспомнились его слова,— только платить за них нужно очень дорого…» Петр Иваныч, словно угадав, о чем я думаю, сказал, не отрывая взгляда от доски: — Да, человек может и должен жить себе на радость и людям на пользу. Мудрости здесь особой не нужно, только захотеть… И еще: не делать ошибочного хода,— заключил он, передвинув фигуру.— Тебе шах, Максим, а через два хода — мат. Максим подумал и начал заново расставлять фигуры. — Хорошо в шахматах,— философски заключил Максим,— если ошибся и проиграл — можешь начать новую партию. И он двинул вперед королевскую пешку.
Д. Морозов, А. Поляков. Оглашению не подлежит. Повесть
50-летию ВЛКСМ посвящается
1. Гудят провода над Россией
Над заснеженными просторами России занимается неторопливый мартовский рассвет 1921 года. В предрассветной тишине на мартовском тревожном ветру гудят басовыми аккордами телеграфные провода. Они бегут из Москвы на юг, вдоль железной дороги, мимо сожженных станций и поселков, и неслышная посторонним звучит в них, как биение пульса, телеграфная дробь. Москва вызывает Ростов-на-Дону. Разговор по прямому проводу. МОСКВА: У АППАРАТА ПРЕД ВЧК ДЗЕРЖИНСКИЙ И ТОВ АРТУЗОВ ТЧК РОСТОВ: У АППАРАТА ЗАМ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПО СЕВЕРНОМУ КАВКАЗУ НИКОЛАЕВ ЗПТ ПРЕД ДОНЧК ЗАВКИН ТЧК МОСКВА: СООБЩИТЕ ЧТО ВАМ ИЗВЕСТНО О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРА НА ТЕРРИТОРИИ ДОНСКОЙ ОБЛАСТИ ВПР РОСТОВ: ОБЪЕДИНЕННАЯ РУССКАЯ АРМИЯ ЗАСЫЛАЕТ ИЗ СОФИИ ТЕРРОРИСТОВ МОСКВА: ЗДЕСЬ ЕСТЬ СВЕДЕНИЯ ЗПТ ЧТО ВРАНГЕЛЬ В СОФИИ ГОТОВИТ ДЕСАНТ НА ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ЗПТ ПЛАЦДАРМ ДЛЯ ВЫСАДКИ ГОТОВИТ ПОДПОЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОРА ЗПТ С ЦЕНТРОМ В РОСТОВЕ ТЧК К ВАМ ЗАСЫЛАЕТСЯ АГЕНТУРА ТЧК ЦЕНТРОМ РУКОВОДИТ КРУПНЫЙ ЦАРСКИЙ ГЕНЕРАЛ ФАМИЛИЯ НЕИЗВЕСТНА ТЧК В СОФИИ ЕГО НАЗЫВАЮТ “ВАЖНОЕ ЛИЦО” ТЧК СООБЩИТЕ ЧТО ЗНАЕТЕ ОБ ЭТОМ ТЧК РОСТОВ: (после паузы) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ НЕТ ТЧК ОРГАНИЗУЕМ ПОИСК МОСКВА: КТО ИЗ ТОВАРИЩЕЙ БУДЕТ РУКОВОДИТЬ ЭТОЙ ОПЕРАЦИЕЙ ВПР РОСТОВ: ТОВ ШАТАЛОВ ЗПТ ТОВ ЗЯВКИН ЗПТ ТОВ НИКОЛАЕВ ТЧК МОСКВА: У АППАРАТА ТОВ ДЗЕРЖИНСКИЙ ВСЕХ ТОВАРИЩЕЙ ЗНАЮ УВЕРЕН В УСПЕХЕ ТЧК ПРОСЬБА СЧИТАТЬ РАБОТУ САМОЙ УДАРНОЙ ТЧК НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА ДОНУ ТЧК ФЛОТ ВРАНГЕЛЯ ПОКА В БИЗЕРТЕ ТЧК О ВСЕХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯХ БУДЕМ ИНФОРМИРОВАТЬ ВАС ТЧК ВОЗМОЖНА ПЕРЕБРОСКА ДЕСАНТА НА ИНОСТРАННЫХ СУДАХ ТЧК ГЛАВНОЕ ПАРАЛИЗОВАТЬ ПОДПОЛЬЕ С КОМ ПРИВЕТОМ ДЗЕРЖИНСКИЙ ТЧК В небольшой комнатке на верхнем этаже здания Донской чрезвычайной комиссии два усталых человека молча смотрели на ворох бумажной ленты, лежавшей на полу. — Что думаешь? — сказал один из них, высокий, широкоплечий, с темными, коротко подстриженными усами. — Неудобно получается, — сказал второй, — в Москве знают о делах на Дону больше, чем мы. — У них информация из Софии. — А концы здесь. Нужно искать. Шагнув от стены, усатый собрал с пола телеграфную ленту. Широкими ладонями он смял ее в огромный белый клубок. Он извлек из клубка оборванный конец ленты, бережно, сантиметр за сантиметром, освобождая ее от петель. — Где он, этот кончик? — сказал Зявкин, положив кулак на холодный каменный подоконник. — Это, брат, задача. — Ясное дело, трудней, чем банду в камышах выловить. Ну, мы тебе, Федор, опытных ребят подберем. Словом, спать сегодня не придется, займемся планом. Первым делом всякой операции нужно шифрованное название. — “Клубок” подойдет? — спросил Зявкин. — А что же, отлично, — Николаев, накинув на плечи кожаную куртку, присел к столу. — Итак, что у нас есть? Без малого — ничего.2. Его высокоблагородие есаул Филатов
Есаул Филатов умел владеть собой. Поэтому, когда в дом в станице Пашковской, что около Екатеринодара, где он остановился на ночлег, ранним утром ворвались вооруженные люди, он, быстро оценив обстановку, не стал сопротивляться. Их было пятеро, да и снаружи через открытую форточку (есаул любил свежий воздух) слышались людские голоса и фырканье коней. — А ну, вставай, — сказал есаулу немолодой человек в штатском пальто, подпоясанном офицерским ремнем. Есаул сел в постели. — Позвольте, — мирно начал он, — по какому праву… — Мы из Чрезвычайной комиссии, из Екатеринодара, — сказал он, — из ЧК, значит. Документы имеются. Есаул нашел в себе силы вежливо улыбнуться. — Прошу, — сказал он и достал из-под подушки бумажник. — Сделайте милость: уполномоченный окпрода Филимонов. Командирован из Ростова по делам службы для выяснения, так сказать… — Оружие имеется? — Винтовка все еще смотрела на есаула. Он раздумывал всего несколько секунд. — В целях самообороны, — сказал он, доставая из-под подушки кольт. — Сами знаете, какое время… — Так! — сказал чекист. — Петро, посмотри, нет ли там еще чего. Молодой посмотрел под подушку, ощупал лежавшую рядом одежду. — Вроде больше ничего, — сказал он. — Вставай, одевайся, — снова повторил пожилой и только теперь развернул сложенную вчетверо бумажку, переданную ему есаулом. — Товарищ Филимонов, стало быть. — Он положил бумагу в карман. — Ну хорошо, там разберемся. Есаул уже ощутил в себе знакомый прилив энергии, который непременно охватывал его всякий раз, когда нависала опасность. Строгая тайна (и конспирация) окружала его поездку в Екатеринодар с поручением подпольного Ростовского центра ОРА. Документы абсолютно надежны. Он прошел с поднятыми руками через соседнюю комнату, где у стены, сливаясь цветом лица с ее серыми обоями, стояли насмерть испуганные поповны — хозяйки дома. Он вежливо кивнул им и шагнул за порог, где два красноармейца уже караулили Егора Поцелуева, его старого денщика. Впрочем, сейчас он был вовсе не Егором, а Кузьмой Коршуновым, кучером окрпрода. Едва Филатов ступил из дверей заднего крыльца, как воздух, словно сабельный клинок, полоснул женский крик: — Он! Он это! Кровопиец! Кат! Есаул остановился и медленно повернул голову в сторону крика. Молодая женщина билась в руках державших ее конвойных красноармейцев. К есаулу было обращено ее лицо с красным шрамом, пересекавшим его. Он посмотрел в эти неистовые, налитые темным гневом глаза и вспомнил… Это было еще летом 1919 года, когда он со своим карательным отрядом был на усмирении в одном из сел вблизи Анапы. Там мужики убили двух стражников-казаков. Есаул вспомнил, как он тогда построил на площади всех жителей и сказал им, что должен был бы расстрелять всех мужиков, но смилуется и расстреляет только каждого десятого. Так он и сделал. Там же, на площади, у стены лабаза. Но вот когда дошла очередь до молодого парня в синей рубахе, из толпы выскочила эта женщина. Есаул ударил ее плетью. Люди кинулись бежать. Есаул скомандовал, и каратели со свистом бросились рубить толпу. Много было карательных операций у есаула Ивана Филатова до и после, но глаза вот этой бабы преследовали его полтора года. Хоть и было это время полно жестокими и опасными событиями. Бои на Дону, бегство в Крым, служба во врангелевской контрразведке, потом нелегальное возвращение из-за границы под именем Филимонова. Есаул отвел глаза и криво усмехнулся. Надо иметь особое счастье, чтобы налететь теперь на эту бабу. Около пролетки есаулу связали руки. Егора не тронули, приняв, видимо, за настоящего кучера. Филатов сел в пролетку, рядом с ним Егор и усатый в штатском пальто. Небольшой отряд сопровождающих вскочил па коней, и они двинулись из станицы. За станицей Пашковской после часовни начинался спуск к реке. Недавняя оттепель и ночной мороз сделали свое. Пригорок отблескивал ледяной коркой, будто специально политый. Всадники, шедшие впереди, сдержали коней, и тяжелая пролетка обогнала их. Впереди, вдоль прибрежного лозняка шел плотный, укатанный путь. Егор хлестнул лошадей. Связанный есаул упал на чекиста, придавив его к спинке сиденья. Пролетка резко рванулась вперед. Лихо засвистев лошадям, Егор со звериной гибкостью бывалого всадника перегнулся с козел и обрушил страшный удар железного шкворня, лежавшего под сеном, на голову чекиста. Подвинувшись в сторону, есаул плечом выбросил тело на дорогу. Лошади рванули облегченную пролетку вперед. Сзади скользили по обледеневшему спуску конные красноармейцы. Нет, не зря шесть лет держал при себе есаул Филатов казака Поцелуева. — Уйдем, ваше благородие, ей-богу, уйдем! — крикнул Егор. — Разрежь веревку на руках, — прохрипел есаул. Вытащив нож, Егор повернулся к нему. — Трохи подвиньтесь, — сказал он. — Ваше благо… — и вдруг упал на есаула. Выстрел Филатов услышал потом, а может быть, это были другие выстрелы. Лошади, потеряв управление, несли, но скоро правая упала, сломав дышло, пролетка перевернулась, и есаул полетел на дорогу. Филатов пришел в себя в тюремном госпитале в Екатеринодаре, около его кровати, снова, как и тогда, в станице Пашковской, стоял остроносый парень. На следствии есаул отказался отвечать на вопросы. Но его ответы не очень были нужны. Жители рыбачьего поселка около Анапы опознали его, а факт убийства чекиста Никандрова был налицо. Поэтому революционный трибунал вынес приговор: расстрелять бывшего есаула Ивана Филатова как белого карателя и убийцу. Есаул усмехнулся. Он мог бы сказать им, что, расстреляв его, они сами встанут на краю могилы. Есаул вспомнил свою последнюю встречу с Врангелем. Барон выступал перед узким кругом офицеров и генералов своего штаба. Он был в хорошем настроении. Накануне в переговорах с союзниками было достигнуто соглашение о получении займа. Кроме того, англичане обещали, что в высадке нового десанта на Кубань примет участие 25-тысячный экспедиционный корпус. Филатов смотрел тогда на этого подтянутого человека в белой черкеске и с волнением слушал его высокий, немного надтреснутый голос. — За поруганную веру и оскорбленные ее святыни, — говорил Врангель, — за освобождение русского народа от ига каторжников и бродяг. Помогите мне, русские люди, спасти родину! — Врангель склонил перед собравшимися голову, резко вскинул ее, повернулся и вышел. Филатов заметил, у некоторых блеснули слезы. После приговора есаул Филатов кашлянул и внезапно охрипшим голосом произнес: — Если б ваши хамские морды попались мне, я бы вас четвертовал! — Уведите осужденного! — спокойно сказал председатель трибунала. Есаул Филатов, сохраняя твердую уверенность, что будет отомщен, отправился в камеру смертников ожидать приведения приговора в исполнение. О помиловании он не просил.3. Без малого — ничего
— Они, брат, в бирюльки с нами играть не собираются, — говорил Николаев, меряя шагами свой кабинет. — Ясно, что эти налеты, ограбления, покушения пока цветочки. Подготовить десант — вот их главная задача. Сколько бы мы ни ловили этих недобитых деникинцев, сколько бы ни разогнали банд, угроза не минует до тех пор, пока существует у нас под носом этот центр, пока у них есть связь с Врангелем. Николаев остановился перед Федором Зявкиным, сидевшим у стола. — Вот ты, как председатель Дончека, можешь сказать, что на сегодня среди массы казачества есть антисоветские настроения? Федор, молодой, широкоплечий, с темными, ровно подстриженными усами, провел ладонью по широкому лбу. — Нет, — сказал он и отрицательно качнул головой, — нет никаких таких настроений у массы казачества. После отмены продразверстки трудовой казак целиком за нас. И воевать людям надоело. — Но теперь смотри, — сказал Николаев. — Приезжает в станицу бывший царский генерал, собирает казаков. “Братья казаки, — говорит. — Отечество! Родина!” Всякие высокие слова. Тридцать человек из ста поднимает на коней? Это факт, поднимает! — Что ты меня агитируешь, Николай Николаевич? Всю эту обстановку я не хуже тебя знаю. У белого подполья опыт, там и контрразведка и охранка. А у нас? Вчера я опять разговаривал с Москвой, — сказал Федор, — с Артузовым. Несколько дней назад он направил нам в помощь из Астраханского ЧК одного опытного сотрудника. — Об этом я знаю. Не хотел раньше времени говорить тебе, — ответил Николаев. — Не знал, как ты отнесешься. Поручил кому-нибудь встретить этого товарища? — Миронову поручил. Пусть поселит его где-нибудь в городе. К нам этому товарищу ходить не следует, в городе его не знают, и хорошо. Николаев согласно кивнул головой. — Давай расскажи теперь, как у тебя с планом “Клубок”? Есть что-нибудь? — Без малого — ничего, — вздохнул Зявкин, открывая папку, на которой синим карандашом было написано всего одно слово: “Клубок”. — Смотрели мы снова все дела за последнее время. Как бы где зацепиться. Помнишь убийство на Братской улице? — Ну еще бы! Это из назаровской банды публика. Или от Маслака. Так ведь их осудили уже? — Вот тогда во время облавы был арестован некто Попов Юрий Георгиевич. Оружие при нем было, крупная сумма в валюте. Мануфактуру скупал. Выяснилось — бывший сотник, состоит в банде некоего есаула Говорухина и специально послан в Ростов. — Не томи, — сказал Николаев. — Сейчас-то он где? — Сидит, голубчик, у нас здесь, во внутренней тюрьме, и пишет покаянные письма. Прочел я их, вот они, — Федор вынул из папки небольшую пачку листов, исписанных неясными карандашными строчками. — Я тебе вкратце расскажу: был он эсером, это еще в студентах. А сам сын здешнего ростовского врача. На фронте был. Потом вернулся в Ростов, по настоянию друзей и папаши примкнул к Корнилову, участник “Ледяного похода”. В Деникине, как он сам пишет, разочаровался, верил Врангелю, но и тот, говорит, обманул. Бросили его в керченский десант, и после, считая, что иного хода нет, он примкнул к банде этого Говорухина. — А в Ростов зачем явился? — спросил Николаев. — Объясняет, что послали его за мануфактурой, оборвались казачки. Валюту получил от самого Говорухина. Я допрашивал его еще раз. Похоже, что не скрывает ничего. Рассчитывал за границу уйти. — Ну, за границу — это не так просто, если в одиночку. — Обещала ему тут помочь одна особа. Некая Анна Семеновна Галкина, — Федор открыл следующую страничку в папке. — Бывшая медицинская сестра в госпитале, где работал папаша Попова. Вот она и сказала сотнику, что есть у нее связи с надежными людьми. — Так, так, — Николаев заинтересованно присел к столу. — А что за люди? — Попов говорит, у него осталось впечатление, что Галкина связана с какой-то организацией, тем более однажды встретил у нее есаула Филатова, про которого слышал, что тот состоит в каком-то подпольном штабе. В дверь постучали. Секретарь Николаева заглянула в кабинет. — Здесь товарищ Миронов, — сказала она. — Я ему сказала, что вы заняты, но он… — секретарша пожала плечами. За спиной у нее уже виднелась кудрявая голова начальника разведки Дончека Павла Миронова. Николаев махнул рукой: — Ну заходи, что там стряслось? Павел Миронов втиснулся, наконец, всей своей могучей фигурой в кабинет. Был он в штатском пиджаке, гороховых новеньких галифе английского покроя. Крепкие ноги бывалого кавалериста туго схватывали кожаные краги цвета спелой вишни. — Это что же, — сказал он без всяких предисловий, — вроде насмешка над нами получается? Встретил я сегодня этого нового сотрудника, думал, действительно товарищ опытный, а это, я не знаю… — Миронов на секунду остановился и решительно сказал: — Хлюст какой-то, и только! К тому же птенец, я его пальцем одним задену… — А вот это не рекомендую, не задевай, — вдруг перебил его Зявкин. — Себе дороже будет. Тебе самому-то сколько лет? — Двадцать пять. — Ну, значит, вы с ним почти годки. Я Лошкарева немного знаю, — сказал Николаев. — Где поселили его? — На Торговой улице. — Сам-то хоть не появлялся там? — Обижаете меня, Федор Михайлович. — Ну хорошо. А что касается Лошкарева, то внешность его тут ни при чем. Тебе, как разведчику, пора бы понимать. — Да ведь обидно, значит, мы вроде своими силами не можем справиться, не доверяют нам? — криво улыбнулся Миронов. Николаев решительно поднялся со своего места. — Ты вот что, товарищ Миронов, — сказал он, — говори, да не заговаривайся. Ежели бы тебе не доверяли, так ты бы здесь и не был. Миронов в сомнении покачал головой. — Не знаю, — сказал он, — только очень уж он какой-то хлипкий, интеллигент, одним словом. И вообще, не внушает… — Чего он тебе не внушает? — спросил Зявкин. — Этот парень с малых лет на конспиративной работе. Ты вот что, Павел, для связи (с нами) назначь ему Веру Сергееву. Ни сам, ни твои ребята около Лошкарева вертеться не должны. Он пусть пока с дороги приводит себя в порядок. Веру я проинструктирую сегодня. Встретимся с ней за Доном. Обеспечишь это дело. Ну, а сейчас пока садись послушай. Они просовещались еще минут сорок. Миронов почти не вмешивался. Только один раз, когда он услышал, что за Галкиной не следует пока устанавливать наблюдения, запротестовал: — Так она сбежит, скроется! — Вот ежели установим наблюдение, го непременно сбежит, — сказал в ответ Николаев. — Учти, что вокруг нее не гимназисты ходят, а господа контрразведчики, этих на мякине не проведешь, клевать не станут. Уверен, что они и за тобой наблюдают не первый месяц. — Вот мы и дадим им не мякину, а зернышко, — вставил Зявкин, — пусть клюнут. — Но помяните мое слово, эта мадам смотается, — угрюмо сказал Миронов. На том разговор и закончился.4. Корнет Бахарев — невольник чести
Через четыре дня чекистам действительно пришлось вспомнить слова Миронова. Под вечер он пришел угрюмый и злой в кабинет Зявкина. — Так вот, сбежала мадам Галкина, и вещички оставила, Федор Михайлович. — Сбежала? — Зявкин широкой ладонью потер щеку. — И далеко? — Адреса, к сожалению, не оставила. Ведь говорил я! Наблюдения не установили. — Ой, Павел! — Зявкин хитро подмигнул Миронову. — А мне что-то кажется, что не сдержал ты слова. Зявкин был прав. Миронов действительно за два дня до неожиданного исчезновения Галкиной послал своего сотрудника Петю Ясенкова выяснить некоторые подробности. Ясенков был парень толковый и разузнал, что Анна Семеновна живет во флигеле на Малой Садовой, имеет возраст лет под тридцать, одинока и миловидна. Ведет себя тихо, скромно, с соседями дружбы не водит, но и не задается. — Она, вишь ли, кубыть не из простых, — говорила Ясенкову бойкая дворничиха. — То колечко золотое продаст, то серьги. Все ноне живут как могут, — вздохнула она в заключение. — Бывают и знакомые, как не бывать, женщина она видная. Только это все из госпиталя, барышня-то раньше в госпитале была милосердной сестрой. Ясенков строго-настрого предупредил дворничиху, чтобы никаких разговоров о его визите не было. Однако на следующий день произошли события, о которых ни Ясенков, ни дворничиха, ни сам товарищ Миронов ничего не знали. С утра Анна Семеновна чувствовала себя как-то особенно тревожно. Заваривая к завтраку морковный чай, она заметила небольшого паука, спускавшегося по окну кухни на едва видной серебряной ниточке. “Паук — это к письму!” — вспомнила Анна Семеновна примету. Попив чаю, она успокоилась, стала собираться на базар. Может быть, опять удастся встретить того грека? Он, пожалуй, дороже всех платит за золото. Она вышла в сенцы. На полу лежал измятый и замусоленный конверт. С замирающим сердцем она разорвала его. Почерк был ей хорошо знаком. “Драгоценная Аня! Шлю привет и целую крепко! Аня, меня на днях расстреляют. Напиши домой, сообщи им, где мое золото. А часть можешь оставить себе, ту, что у тебя. Карточек моих дома много, возьми себе на память. Целую вечно и прости! Иван”. Боже! Иван арестован! Когда написано это письмо? Она снова посмотрела на записку: “Екатеринодар, 29 марта”. Прошла целая неделя, может быть, она держит в руках записку покойника? Анна Семеновна вошла в комнату, медленно сняла с себя пальто. За что именно арестовали Ивана? Если это связано с теми поручениями, которые она передавала ему, то… Она живо представила себе, как в эту ее тихую полутемную комнатку врываются пьяные солдаты (в том, что они будут пьяные, она почему-то не сомневалась), ее хватают и увозят туда, в большой дом на Садовой. За дверью послышался шум. Схватив с комода сумочку, в которой у нее лежал маленький вороненый браунинг, она стиснула ее у груди, не в силах пошевелиться. Тихо. Должно быть, кошка. В углу мелькнула какая-то тень, и прежде чем она сообразила, что это ее собственное отражение в зеркале, ее уже била нервная лихорадка. Она вплотную подошла к зеркалу, в упор на нее смотрело бледное лицо с близко поставленными темными глазами. Оно казалось белее от темной косы, лежавшей на плече. — Нет, так с ума можно сойти, — сказала Анна Семеновна и сама не узнала своего голоса. Она решительно подошла к комоду. В углу самого нижнего ящика пальцы ее нащупали большую аптекарскую склянку. Открыв притертую стеклянную пробку, брызнула содержимым на тонкий платок. По комнате поплыл острый запах эфира. …Проснулась она в полной темноте от настойчивого стука в дверь. Не понимая и не вспомнив еще ничего, она зажгла лампу, держась за стену, дошла до двери и открыла. Перед ней стоял человек в зеленоватом, тонкого английского сукна казакине, отороченном барашком, в казачьей кубанке, которая как-то не очень шла к его явно интеллигентному молодому лицу с офицерскими тонкими темными усиками. Лицо его Анне Семеновне показалось знакомым, только она никак не могла вспомнить, где и когда именно его встречала. — Прошу прощения, сударыня, — сказал молодой человек, — могу ли я видеть Анну Семеновну Галкину? Голос пришедшего и свежий воздух, ворвавшийся в дверь, вернули Анне Семеновне ощущение реальности происходящего. — Входите, — ответила она. — Галкина — это я. С кем имею честь? Молодой человек не спешил отвечать. Он снял кубанку и шагнул через порог. В комнате, потянув несколько раз носом, он повернулся к Анне Семеновне. — Эфиром изволили баловаться? Не одобряю! У Анны Семеновны в голове трещало и гудело, развязность незнакомца вывела ее из оцепенения. — Что вам за дело до этого? — раздраженно сказала она и прибавила огня в лампе. — И вообще, прошу назвать себя. — Мое имя вам не знакомо, — ответил гость, — а насчет эфира-то я так, из медицинских соображений. Необычайно вредно. — Говорите, что вам надо! — уже не на шутку разозлилась Анна Семеновна. — Извольте, — молодой человек пожал плечами, — прочтите вот это письмо. — Н он протянул ей сложенный вчетверо лист бумаги. — Боже мой! Опять письмо! — Анна Семеновна с трудом поставила лампу на стол и присела рядом.“Дорогая Аннет! Человек, который принесет тебе это письмо, заслуживает всякого уважения и доверия. Он многое уже совершил для общего дела. Доверься ему, и вместе вам удастся облегчить мою судьбу. Прошу тебя об этом в память о папе. Любящий тебя Юрий”.В голове у Анны Семеновны был какой-то сумбур. Иван Филатов, теперь Жорж Попов! Она знала, что Жорж полтора месяца назад был арестован. Теперь они оба как бы объединились в ее представлении. Она ощутила странное и таинственное чувство, какое бывало у нее в прежние годы на спиритических сеансах. “Нет, я все-таки где-то видела его”, — подумала она, глядя на пришельца, а вслух сказала: — Кто вам дал это письмо? — Позвольте прежде представиться, — ответил он, — корнет Бахарев Борис Александрович, — он слегка поклонился и прищелкнул каблуками. — Письмо я получил из собственных рук Юрия Георгиевича. — Но ведь он арестован? Гость пожал плечами. — К сожалению, не один он. Мне тоже долгое время пришлось разделять с ним судьбу. Но, слава богу… — Значит, вы были вместе с ним! Как же вам удалось… — она остановилась в поисках слова. — Нет, нет, — сказал Бахарев, — не волнуйтесь, я не бежал. Видите ли, когда мы с вами будем больше знакомы, — он сделал многозначительную паузу, — я смогу подробнее рассказать. Деньги значат кое-что и в наше время. Анна Семеновна почувствовала, что мистика тает. — Так что же вы хотите от меня? — спросила она. — Я? — недоуменно переспросил гость. — Я совершенно ничего. Юрий взял с меня клятву, что я обращусь к вам и мы вместе попытаемся вызволить его. В данном случае я невольник чести. Анна Семеновна задумалась. Почему-то больше всего ее занимала мысль, где она видела этого человека раньше. — Собственно говоря, — начал он, — сотник Попов питал, может быть какие-то ложные иллюзии, и вы вовсе не намерены… — Нет, нет. — Анна Семеновна положила руку на плечо гостя. Она слушала давно известную ей историю Жоржа Попова о том, как сам генерал Корнилов прикрепил ему на шею “Анну с бантом”, о том, как он скрывался, потом как голодал, как, наконец, в тюрьме непрерывно рассказывал своему товарищу о любви к ней, а сама думала совсем о другом, о первом письме, полученном ею сегодня, об Иване Филатове. — Это хорошо, — сказала она наконец, — хорошо, что боевые друзья не оставляют друг друга в беде. Но… — она остановилась и вытерла слезы платочком, все еще зажатым в кулаке, — может быть, я буду непоследовательной, но есть случай более экстренный и трагичный. Она протянула Бахареву записку, полученную утром. Анна Семеновна видела, что корнет был искренне потрясен содержанием этих нескольких слов. Он вскочил и прошелся по комнате. — Иван Егорович Филатов? Я слышал о нем. Когда вы получили это письмо? — Сегодня! — И вы все еще здесь? А не кажется ли вам странным, что человек, который принес его к вам, не счел возможным зайти? Вам немедленно нужно переменить квартиру! — Сейчас? Но, боже мой, куда же я пойду? — Это я беру на себя. Корнет Бахарев картинно повернулся, и в свете разгоревшейся лампы Анна Семеновна внезапно узнала это лицо, вспомнила, где она его видела. Ну конечно! Он похож на Лермонтова! — Итак, — говорил он, — долг товарищества повелевает мне взять его судьбу в свои руки. Завтра утром я отправляюсь в Екатеринодар. Я не пожалею жизни, чтобы спасти Ивана. А сейчас собирайтесь. Вы будете жить в другом месте,
5. Отрывки из одного разговора
Ранним утром по ростовскому бульвару не спеша прогуливались два человека. Один из них, в старом купеческом картузе, с висячими усами подковой, был плотен, нетороплив. Второй, в инженерской фуражке и старом потертом пальто с бархатным воротником, ростом прям, чисто выбрит. Он нес в руках полированную ясеневую трость, на которой были видны следы снятых украшений. Человек в картузе говорил тихо, мягко и вкрадчиво: — Помилуйте, Александр Игнатьевич, я ведь и сам человек не новый, знаю, чего можно, чего нельзя. Поверьте, не стал бы вас тревожить, если бы не такой казус. — Казус! — перебил его человек с тростью. — У вас вечно, Новохатко, казусы. Подумаешь, девчонка сбежала. Испугалась, значит. Дура, истеричка, мне давноизвестно, что она кокаин нюхает! — Эфир, — уточнил усатый. — Но позвольте заметить вам, что сбежала не просто девчонка, а связная… — Потише вы со своими терминами! Не дома. Я еще не знаю, от чего будет больше вреда — от нашей с вами встречи или от ее побега. Что она, в сущности, о нас знает, кроме адреса Валерии? Ничего. Надеюсь, указания Филатову передавались в зашифрованном виде? — Вы что же, Александр Игнатьевич, считаете меня, простите, глупцом? — Ну, не сердитесь, Новохатко, вам известно, как мы вас ценим. Но сказать по правде, в штабе были раздражения, узнав о последней вашей акции. Ну чего вы добились, убив четырех комиссаров? Ровно ничего. Труднее стало работать, и несколько нужных нам офицеров оказались за решеткой. — Хорошо вам рассуждать, Александр Игнатьевич, а у меня в городе двести человек боевых офицеров. Их без дела держать нельзя — раскиснут. — Но объясните же им, что сейчас не то время. Нужно быть наготове. Растолкуйте им это. Все мы горим ненавистью к большевикам, но… Плотный человек в картузе крепко сжал локоть своего собеседника. — Простите, теперь, кажется, я забылся, — сказал тот. — Так что же все-таки было известно этой девице? — Она однажды видела князя. — Видела? — Высокий остановился. — Это другое дело. Вы меня поняли? Только, пожалуйста, чтобы все было тихо. Человек в картузе молча кивнул головой. — Какие последние сведения о Филатове? — снова обратился к нему высокий. — Плохие, Александр Игнатьевич, его приговорили к расстрелу, три дня назад туда выехал наш человек, попробует узнать, какие он дал показания. — Черт возьми, дурацкая случайность! Он был нам так нужен! Кого теперь посылать в Софию? Некоторое время они шагали молча. Потом высокий сказал: — Пользуйтесь случаем, что мы встретились, уважаемый Николай Маркович, я хотел бы сказать вам, что в ближайшее же время необходимо организовать проверку боеспособности людей Назарова. — Сделаем, — коротко ответил человек в картузе. — Я сам поеду. А что, предполагается скоро?… — Всему свое время. Ошибаться нам непозволительно, дорогой мой, мы должны ударить наверняка. — За офицеров я спокоен, но вот рядовое казачество — тут каждый день важен.6. Собственноручные показания начальника караула особого отряда Поликарпова Н.Н. от 6 мая 1921 года
По поводу побега из-под стражи осужденного, бывшего есаула Филатова, случившегося 2 мая, могу объяснить следующее. Накануне всемирного праздника трудового пролетариата, 30 апреля, я заступил в наряд по охране тюрьмы при революционном трибунале, где товарищ Кононов, отправляя меня на этот участок, особо предупредил: смотри, Поликарпов, в оба, поскольку всякая контра в канун нашего боевого праздника может проявлять всякие вылазки, рассчитывая на притупление с нашей стороны бдительности и сознательности. Но я заверил товарища Кононова, что ничего подобного мы не допустим и в день праздника службу будем нести как положено. В 12 часов ночи Первого мая прибывает в караулку нарочный с пакетом от товарища Кононова. Пакет был с пятью сургучными печатями, которые я лично осмотрел, и они были в полной исправности. А нарочного я лично знаю как Петра Храмова, служил с ним раньше в одном эскадроне. Пакет этот я лично после осмотра печатей и проверив документы нарочного вскрыл, где обнаружил предписание о срочной доставке к ночному поезду на Ростов осужденного, бывшего есаула Филатова, который содержался в одиночной камере перед исполнением приговора. Приказ был доставить лично мне, и подпись была товарища Кононова, которую я знаю хорошо. После чего я пошел будить осужденного, но он в своей одиночной камере не спал, а холил из угла в угол. Я ему сказал: “Собирайся и выходи”. А он мне ответил: “Наконец-то”. Я ему ничего не ответил, куда есть приказ его доставить, но он, выйдя из камеры в коридор, стал ругаться и произносить всякие контрреволюционные высказывания, где я его строго предупредил, чтобы он мне не булгачил остальных арестованных среди ночи. На станцию со мной поехали товарищ Кнопкин, как ездовой, и верхом сопровождал товарищ Жуков, а больше взять было некого, так как вскоре была смена. Осужденного я связал и посадил в пролетку. Сам сидел рядом. Верх, то есть крыша, был поднят, и он не мог видеть, куда его везут. По прибытии на вокзал товарищ Жуков спешился, оставил коня на площади, где был пост, и мы вместе повели арестованного к коменданту. При этом бывший есаул Филатов сказал: “Зачем мы приехали на вокзал?” Зашли к коменданту, его на месте не оказалось, и дежурный сказал подождать. Я посадил арестованного на табурет посреди комнаты, сам стоял рядом, а товарищ Жуков у стола стал пить кипяток, потому что недавно сменился с поста и поесть не успел. В это время в дежурку зашел гражданин, которого я сразу по обличью посчитал за сотрудника ЧК. На нем была надета кожанка и фуражка с красной звездой. После чего этот гражданин подходит прямо ко мне и называет меня по фамилии Поликарповым. Он сказал, что по поручению Кононова примет от меня арестованного. При этом присутствовал дежурный по станции, фамилию которого я не знаю. Этот гражданин предъявил мне документы, где он значился как уполномоченный Дончека Миронов. Я документ проверил, а он мне сказал, что выдаст расписку за арестованного, потому что поезд скоро уходит. Я сказал, что надо дождаться коменданта, но он ответил: вот же здесь есть дежурный — это все равно. После этого он написал расписку по всей форме. Я спросил, не надо ли ему помочь, чтобы конвоировать до вагона. Он ответил: “Сам справлюсь”, — и по-, казал оружие (кольт, который был у него в кармане куртки). Личность его я хорошо запомнил, потому что. он похож на знаменитого писателя Лермонтова. После этого он скомандовал арестованному выходить, а мы остались в дежурке ввиду того, что товарищ Жуков предложил мне вместе с ним попить кипятку. Примерно минут через пять в дежурку заходит комендант вокзала товарищ Лебедев и с ним незнакомый мне товарищ в штатском. Последний спросил у меня, где арестованный, которого нужно отправить в Ростов, на что я доложил, что сдал его под расписку товарищу Миронову из Дончека. Этот товарищ в штатском говорит: “Миронов из Дончека — это я, а кому ты сдал арестованного?” Тут я и товарищ Жуков стали у него спрашивать документы, но он стал на нас ругаться контрами и грозился применить оружие. Я хотел было выйти из дежурки, чтобы задержать того человека с арестованным, но товарищ Миронов приказал меня и Жукова обезоружить и посадить под арест, при этом я заметил, что дежурный по станции чего-то радовался. Потом была поднята в ружье рота охраны и оцеплена станция, а я нахожусь под арестом до сего времени. Ежели я в чем виноват, прошу рассмотреть меня по всей строгости революционного закона. К сему ПОЛИКАРПОВ Н.Н. РЕЗОЛЮЦИЯ: т. КОНОНОВ! Сдайте документ в секретный архив, а тов. Поликарпова переведите на другую работу. 7 мая 1921 г.7. Риск — благородное дело
Когда незнакомый человек в кожаной куртке вывел Филатова из комнаты коменданта Екатеринодарского вокзала, прошел вместе с ним сквозь все посты и под конец, сунув ему в руку кольт, сказал: “Теперь дело за вами, есаул, бегите”, — Филатов едва не потерял сознание. Незнакомец, лицо которого Филатов запомнил с фотографической точностью, назвал ему адрес, по которому он должен прийти в Ростове. Дальше все происходило как во сне. Он бежал через стрелки и тупики. Сзади была тревога, погоня, стрельба. Он пролезал под вагонами и платформами и, наконец, уже под утро втиснулся в какую-то теплушку, битком набитую дурно пахнувшими людьми. Проснулся он уже довольно далеко от Екатеринодара в вагоне, где ехали мужики-мешочники. Они поглядывали на постороннего довольно недружелюбно, и поэтому он счел за благо па первой же станции выскочить из вагона. Прямо возле эшелона, шипя и ухая, разводил пары поблескивавший новенькой краской бронепоезд с красными звездами. В первую минуту Филатов хотел было свернуть в сторону, но потом побоялся сделать даже и это. “Могут обратить внимание”, — подумал он и, внутренне сжавшись, нетвердо пошел вдоль зеленых бронированных вагонов. Миновав паровоз, впряженный, как водится, в середину состава, он проходил мимо раскрытой двери, как вдруг услышал: — Иван! Боже мой, ведь это Иван! — Какой-то грузный человек спрыгнул с подножки бронепоезда и встал перед ним. Филатов узнал своего родного дядю, Федосея Ивановича Куркина, брата матери. Всего на час зашел в тот день бронепоезд № 65 на станцию Тихорецкую, чтобы взять уголь, и именно в этот час здесь должны были сойтись пути людей, не видавших и не слышавших ничего друг о друге бесконечных четыре года гражданской войны. Федосею Ивановичу, бывшему офицеру, ныне командовавшему красным бронепоездом, не составило труда подбросить племянника на несколько станций поближе к Ростову, а потом устроить его на пассажирский поезд. Конечно, он ни на секунду не усомнился в том, что рассказал ему о себе племянник. Солнечным майским утром, преображенный дядиной бритвой и частью его гардероба, есаул Филатов вышел на привокзальную площадь в Ростове, понял окончательно, что он все-таки выжил, черт побери! Мысли его, пожалуй, в первый раз за все дни вернулись к тому незнакомому человеку в кожаной тужурке. Кто это был? Вряд ли центр ОРА стал бы связываться из-за него с таким рискованным делом. Они, конечно, выяснили, что арест его был случайным, и на том успокоились. Кто мог пойти на такой риск? Свернув от вокзала по направлению Сенной, Филатов прошел несколько кварталов и в путанице переулков нашел названный ему дом и квартиру. Он постучал. Дверь открыла Анна Семеновна Галкина… В тихой комнатке конспиративной квартиры сидели два немолодых господина, те самые, которые несколько дней назад гуляли в садике возле собора. Огня не зажигали, достаточно было довольно яркого света большой лампады, пламя которой множилось, отражаясь в золоченых ризах больших икон и ярко начищенном томпаковом самоваре, стоявшем на столе. Николаи Маркович Новохатко налил гостю — Александру Игнатьевичу Беленкову — второй стакан чаю и бережно передал его. — Хороший чай у вас, настоящий кузнецовский. Где достаете? — Пустяк, Александр Игнатьевич, есть кое-какие люди, за денежки все могут. Благо пока есть чем платить. Кстати, позвольте спросить, что слышно в штабе насчет новых ассигнований? — Следует ожидать, что они поступят после инспекции, которую вот-вот должен провести у нас Софийский штаб. И знаете, кто будет нас инспектировать? Сам генерал Эрдели. — Боже мой! — Новохатко перекрестился. — Одно это имя вселяет в сердце предчувствие успеха. Ну, да ведь у нас есть что показать! Не зря хлеб едим. — Да, вот что, уважаемый, ваш посланец из Екатеринодара вернулся? — Так точно, Александр Игнатьевич, как раз хотел вам об этом доложить. Обстоятельства задержания есаула в станице Пашковской вам, ваше высокоблагородие, уже известны. Далее — ни на следствии, ни на суде Филатов ничего не сказал о своих связях со штабом ОРА. Агент установил, что второго мая сего года есаул Филатов при конвоировании его на вокзал бежал… — Зачем его конвоировали на вокзал? — Было распоряжение отправить его в Ростов. — Чье распоряжение, черт подери? — Из Москвы… — С этого надо было начинать, милейший! Вы понимаете, что это значит? Расстрелять его могли и в Екатеринодаре. Ясно, этот мерзавец после приговора заявил, что он может дать сведения чрезвычайной важности. Это бесспорно, — кулак Беленкова слегка пристукнул по столу. — Ну-с, а дальше? — Его похитили по подложным документам. — Надеюсь, это был ваш человек? — Нет, ваше высокоблагородие. Наш агент был на месте, говорил с дежурным по вокзалу. Этот дежурный и описал человека, который пришел с подложными документами и забрал есаула. А потом явились чекисты. Ну, естественно, была тревога. — Естественно, вы считаете? — Беленков задумался. — Так кто же, по-вашему, этот человек? — Я полагал, это по вашей линии, — тихо сказал Новохатко. — Я бы дорого дал за это, — сказал Беленков. — Одно ясно, Филатов, спасая свою шкуру, продался им. Иначе не было бы вызова. Это могла быть только группа, неизвестная нам. Ну, скажем, от генерала Пржевальского или англичане. Словом, так или иначе нужно найти следы Филатова и этого человека, который его похитил. — Слушаюсь! — Что-то у нас в последнее время становится много неразрешенных загадок. Что с этой девицей Галкиной, вы нашли ее? — Адресок установили, Александр Игнатьевич. Переехала на другую квартиру, кто-то, видимо, спугнул ее. Живет около Сенного базара. Никуда почти не выходит, шмыгнет на базар и обратно. — Хорошо, пока наблюдайте. Если будет установлена связь с “чрезвычайкой”, ликвидировать немедленно. — Наблюдаем-с! — Так, теперь с вашим списком. В штабе ему придают самое серьезное значение. В день высадки десанта ваши боевики в городе должны будут в кратчайший срок уничтожить всех, кто там поименован. Учтите, что большевики часто меняют руководителей. Беленков не успел договорить, как в бесшумно раскрывшуюся дверь не вошла, а скорее вкатилась полненькая, круглая старушка. Она, не обращая внимания на гостя, нагнулась к уху Новохатко и что-то прошептала. — Прошу прощенья, Александр Игнатьевич, срочный визит оттуда, от Сенного базара, — и, не дожидаясь ответа, вышел. Беленков, скрывая раздражение, встал и прошелся по чистым, выскобленным половицам. Все-таки тяжелое наступило время. Ему, полковнику генерального штаба, кадровому разведчику, приходится иметь дело с каким-то Новохатко из охранного отделения, “Пришить” — это они могут. Размышления полковника прервал хозяин, с вытаращенными глазами влетевший в комнату. — Ваше высокоблагородие, Филатов вчера явился на новую квартиру Галкиной! И еще один там! Судя по описаниям, тот, который украл его у чекистов. Прикажете накрыть всех разом?8. Здравия желаю, господин полковник!
Хорунжий Говорухин пил уже третью неделю. Пил с того самого дня, когда узнал, что в камышах под Елизаветинской снова объявился полковник Назаров. — Выплыл-таки, трехжильный черт, — пробормотал хорунжий, услышав эту весть. И снова вспомнилась ему августовская ночь, когда плыли они вдвоем с полковником через быструю реку Маныч. Было это с год назад. Бесславно закончился десант, брошенный по приказу Врангеля из Крыма под Таганрог. Командовал десантом полковник Назаров. Половина десанта здесь же полегла на пустынном азовском берегу. Вторую половину удалось Назарову увести на север. С месяц шли они по правому берегу Дона. Творили расправу над Советами, над мелкими отрядами красных. Но у станицы Константиновской красные бросили на них регулярные части. Двое суток длился бой, и хорунжий до сих пор не может понять, как тогда удалось ему с полковником Назаровым уйти. У самого Маныча возле небольшого хутора настиг их какой-то отряд. Коней постреляли, а полковника ранило в плечо. Все же ушли, до вечера отлежались в перелеске, а ночью поплыли через Маныч. Хорунжий взял себе полковничье оружие. До середины уже доплыли, как полковник стал тонуть… Никогда не забудет хорунжий, как скользкая и холодная рука ухватила его за плечо, потащила под воду. Вывернулся хорунжий, ногой оттолкнул полковника и, не помня себя, напрягшись до судороги, выплыл на берег. С час лежал на песке. Никого не было… Потом вернулся на Дон. Здесь и нашел его представитель подпольного штаба ОРА из Ростова. Много тогда скрывалось в донских камышах белых армий и отрядов. Мало-помалу сошлись к нему зимой сотни две отчаянных, кому терять нечего. Ростовская организация снабдила деньгами, обещали большие чины дать. А главное — под большим секретом узнал Говорухин, что в середине лета ожидается английский десант с Черного моря и будет провозглашена независимость Дона. К весне сумел хорунжий поставить под свое начало в общей сложности тысячи полторы сабель. Были у него свои люди и в станичных Советах и в военных отделах. Конечно, всю силу вместе он не держал: кто в камышах, кто по хуторам. Однако если потребовалось бы, в несколько часов мог собрать всех. Говорухину намекали, что самому барону Врангелю доложено о его стараниях. В мечтах хорунжий видел на себе полковничьи погоны, а то и… чем черт не шутит… И вдруг Назаров. Словно ушат холодной воды вылили на Говорухина. Тут он и запил. Говорухин сидел в хате с командиром первой сотни Боровковым. На столе среди бутылок и мисок с закуской красным раструбом сверкал граммофон: Кровавое Вильгельм пляшет танго, Хоть и разбит он и с тыла и с фланга… — Вот вы, Фаддей Иваныч, — говорил Боровков, — были в Германии. Слышал, там тоже была революция. Ну, у нас-то, я понимаю, немцы революцию произвели. А вот у немцев кто же? — Не было у них революции! — сказал, по-пьяному растягивая слова, Говорухин. — Не было и не могло быть. Немцы, брат, народ аккуратный! — Что? — спросил Говорухин и, подняв глаза, увидел в дверях своего ординарца и незнакомого человека в гимнастерке без погон. — Кто такой? Я ж говорил, чтоб никого… — Позвольте доложить, ваше благородие, — отрапортовал ординарец, — они от их высокоблагородия полковника Назарова. Словно испугавшись чего-то, смолк граммофон, только игла продолжала с шипением скоблить пластинку. Говорухин стукнул по ней кулаком. Сотенный Боровков, чуя неладное, встал. — Кто такой? — мрачно спросил Говорухин, глядя на гостя. — Поручик Ремизов, с особым поручением господина полковника. — От полковника? — наконец переспросил он. — А как зовут полковника? — Иван Семенович, — удивленно пожал плечами поручик. Хорунжий, пошатнувшись, встал и вдруг дико заорал па Боровкова и ординарца: — Чего уставились? Геть отсюда! И чтобы ни одна душа!… Поручик, не дожидаясь приглашения, сел. Говорухин налил самогона в два стакана. Горлышко бутылки дробно позвякивало о край. — Пейте, поручик, — сказал он. — Может быть, сначала о деле? — С приездом, — ответил Говорухин, опрокинув стакан в горло. Ремизов хлебнул из стакана и брезгливо поморщился. Говорухин взял со стола соленый огурец. — Вам Иван Семенович говорил обо мне что-нибудь? — Н-нет, — под пристальным пьяным взглядом Говорухина поручик почувствовал себя будто бы неловко. — Я имею приказ назначить с вами встречу. — А какая мне в этом надобность? — Говорухин снова налил самогона, но на этот раз только себе. — Такова директива из Ростова. В отравленном мозгу Говорухина гвоздем сидела только одна мысль: помнит ли полковник Маньгч? Бывает, что люди забывают, или, может быть, он тогда потерял сознание? — Ладно, — сказал он. — Я встречусь с полковником. По только с глазу на глаз. Ну, скажем, в семь вечера. Мельница у хутора Сурчинского. — Я могу надеяться, что господин хорунжий назавтра не забудет? Красное лицо Говорухина побагровело еще больше. — Слушай, — сказал он вдруг тихо, — а если я тебя сейчас шлепну? — Вы будете нести ответственность перед штабом ОРА! — спокойно ответил поручик, и что-то в его тоне сказало хорунжему, что его полугодовая вольница кончилась. — Ну ладно, катись отсюда! — сказал он. На следующий день с десятью надежными казаками Говорухин поскакал к хутору Сурчинскому. Отряд шел открыто, потому что у всех были документы, удостоверяющие принадлежность всадников к милиции, что подписью и приложением печати подтверждалось. Часам к пяти на дороге, выходившей из балки, появились два всадника. Они посовещались о чем-то на виду у говорухинского отряда. Потом один двинулся к ветряку, а второй — неспешной рысью к роще, где стояли казаки.9. Кто есть кто…
У разведчика существует некое шестое чувство, которое вырабатывает в нем его сложная и опасная жизнь. Оно складывается из чуткого восприятия и немедленного сопоставления сотен мелких деталей: оттенков поведения людей, мимоходом брошенных фраз, случайных на первый взгляд совпадений — словом, из сотен пустяков, которые обычно остаются незамеченными. Борис Лошкарев обладал этим чувством, которое можно назвать интуицией. Операция “Клубок” была не первой, в которой он принимал участие. Он работал в Петрограде над раскрытием заговора Люкса. Одна из цепочек этого заговора тянулась в Астрахань, где и застало его распоряжение отбыть в Донскую чрезвычайную комиссию. Интуиция настойчиво твердила Лошкареву, что вот-вот начнутся главные события. Когда в квартиру, где “корнет Бахарев” так уютно устроил Анечку Галкину и есаула Филатова, под вечер пришла некая дама в строгом черном платье, Борис понял: “Есть!” От открыл ей дверь сам. Она спросила, не здесь ли живет Анна Семеновна Галкина. — Проходите, — спокойно сказал Борис, пропуская даму вперед. Долю секунды она колебалась, потом вошла. Он скорее почувствовал, чем услышал, что за дверью стоит еще кто-то, может быть, не один. Борис плотно закрыл дверь на щеколду и громко познал: — Анечка! К нам гости. Едва заметно дрогнули брови Галкиной, вышедшей навстречу. — Валерия Павловна, дорогая! — воскликнула она. — А я как раз завтра собиралась к вам с новостями. — Здравствуйте, милочка! — ответила дама низким голосом, бесцеремонно проходя в комнату, где у стола сидел настороженный есаул Филатов. — Это моя благодетельница, — сказала Анна Семеновна Борису, — разрешите, Валерия Павловна, представить вам: хозяин этого гостеприимного дома Борис Александрович Бахарев, корнет! Борис щелкнул каблуками, гостья протянула ему руку. Слегка прищурившись, она оглядывала комнату и вдруг, будто громом пораженная, широко раскрыла глаза. — Что это? — сказала она трагическим шепотом. — Иван Егорович? Да ведь вы же… — Полно вам, сударыня! — оборвал ее Филатов. — На сцене в Киеве у вас получалось значительно лучше. Скажите лучше, как вы нас нашли. Господин Новохатко не дремлет? Валерия Павловна сделала страшные глаза, указывая ими на Бориса. — Странно, Иван Егорович, — начала она. — Ничего странного, — сказал Филатов, резко вставая, — этому человеку я доверяю больше, чем себе. Он спас мне жизнь. Борис сделал протестующий жест. — Прошу прощения, я вижу, что вам надо поговорить. Я не стану вам мешать. Между прочим, вчера один грек на базаре обещал мне добыть бутылку вина. Она как раз была бы кстати. Анечка, постарайтесь насчет стола, я мигом. Борис взял с вешалки фуражку и пошел к двери. На противоположной стороне улицы он увидел человека, который упорно делал вид, что ничем не интересуется. Борис постоял, прикуривая у ворот. Потом зашагал к рынку. Из ворот вышел второй человек и двинулся за ним. Так они дошли до рынка. Несмотря на вечерний час, там еще было многолюдно. Не торопясь Борис шел сквозь толпу, незаметно посматривая, не отстал ли провожатый. Но тот, видимо, был не новичком в таком деле и ухитрился очутиться рядом с Борисом, когда он подошел к одному из ларьков, за прилавком которого стоял молодой черноволосый парень. — А! Здравствуй, гражданин-товарищ, — сказал он Борису. И, внимательно посмотрев на его лицо, добавил: — Что имеешь, сахарин, мыло? — Сахарин будет завтра, Костя, бутылку вина нужно. — Вино! — сказал Костя, глядя в сторону непрошеного свидетеля. — Опять ему, видно, выдали? Он нагнулся и достал из-под прилавка большую темную бутылку. — Три миллиона! — Бога побойся, Костя, ты ж православный… — А ты бога не боялся, — горячо подхватил Костя, и у прилавка вспыхнул обычный на ростовском рынке горячий торговый разговор. …А тем временем не менее горячий спор продолжался и в комнате небольшого домика неподалеку от базара. — Я не приму ваших обвинений, — сказал Филатов, когда Борис вышел из комнаты. — Я знаю только одно: никто, никто в тот трудный час не пришел ко мне на помощь, хотя я знаю, что у центра была такая возможность. Совершенно верно поступила и Анна, и этот корнет был для нас единственной надеждой. — Откуда такое всемогущество? — Валерия Павловна тонко улыбнулась. — У него куча денег, — ответил Филатов, кроме того, масса знакомых. Он каким-то образом связан родственно с епископом Филиппом, между нами, я подозреваю, что он его сын. — Что вы говорите? — Валерия Павловна даже приподнялась в кресле. — А он что, действительно корнет? — В этом у меня нет никаких сомнений, — Филатов подошел к маленькому письменному столу, на причудливых резных ножках, стоявшему в углу комнаты, — Анечка, посмотри, закрыта ли там дверь? Вот глядите, что я здесь обнаружил, — он передал фотографию Валерии Павловне. На снимке с отштампованной золотом маркой екатеринодарского фотографа Манштейна были запечатлены на рисованном фоне Кавказских гор три офицера. Слева, картинно положив руку на эфес сабли, стоял корнет Бахарев. — Вот этого, который сидит в кресле, — сказал Филатов, — я отлично знаю. Штабс-капитан Трегубов, корниловец, участник “Ледяного похода”. — А он, я имею в виду корнета, знает о существовании нашей организации? — Я думаю, догадывается, — ответил есаул, — но у него на этот счет свои убеждения. Он давно разочаровался во всяких организациях и действует на свой страх и риск. — Но помогает же ему кто-нибудь?! — удивленно спросила Валерия Павловна. — Ну, это люди другого плана — черный рынок, контрабандисты, коммерсанты. Отсюда и деньги, которых у нашего корнета больше, кажется, чем у наших общих знакомых. Валерия Павловна задумалась. — Во всяком случае, — сказала она наконец, — пока Бахарев ничего не должен знать о существовании нашего штаба. Я посоветуюсь. Постарайтесь узнать получше о его связях с епископом Филиппом. — На днях он получил от него письмо, — сказала Анна Семеновна, — но он носит его все время с собой. В дверь постучали. Явился Бахарев, улыбаясь, он поставил на стол бутылку вина. — Настоящее абрау-дюрсо, — сказал он с торжеством, — за подлинность ручаюсь. Этот грек, конечно, порядочная шельма, но за деньги представит хоть белого слона. Валерия Павловна собралась уходить только поздно вечером. Корнет счел своим долгом проводить ее. Она милостиво согласилась. — Боже мой, — говорила, несколько разомлев от старого вина, Валерия Павловна, — когда же все это кончится, этот мрак, тревога? Это не может продолжаться вечно. — Правда восторжествует, — сказал Бахарев. — Вы уверены в этом? — Я за это борюсь. Они вышли на Садовую улицу, и Валерия Павловна, поблагодарив своего провожатого, рассталась с ним. Две тени сопроводили Бориса обратно на Торговую.10. Наследство бедной матушки
После визита Валерии Павловны на Торговую улицу три дня было относительное затишье. Бахарев устроил “военный совет”, на нем было решено, что Филатов с Анной останется жить здесь, па Торговой. — А у меня, господа, — сказал Борис, — есть еще одна квартира. Сказать по чести, мне тяжело идти туда. Это квартира моей покойной матушки, здесь, недалеко, на Таганрогском проспекте. — Там кто-нибудь живет сейчас? — осведомился Филатов. — Воспитанница моей матушки Вера. — А это не опасно? Ваше появление после стольких лет… — Видите ли, — вздохнув, сказал Бахарев, — кроме этой женщины, Веры Никифоровны, меня там никто не знает. Дело в том, — он замялся, — что с моим рождением связаны некоторые обстоятельства… Я родился и вырос вне дома. Так было нужно… Словом, решено, — добавил он категорически, — я перехожу туда. Когда Бахарев вышел из комнаты, Анна Семеновна с горящими глазами зашептала Филатову: — Я же говорила! Мне теперь все ясно! Он — сын епископа Филиппа! — Может быть, — согласился Филатов, — во всяком случае, я уверен, что он порядочный человек и его нужно привлечь к серьезной работе в нашей организации. Корнет Бахарев нравился Филатову с каждым днем все больше. За свои деньги он приобрел для есаула новые документы на имя Василия Маркова. Документы были куплены у грека на базаре. Торговать бумаги они ходили вместе. Филатов, выходя из дома, тщательно осмотрел свой кольт. — Напрасные предосторожности, — спокойно сказал Бахарев, — я вчера говорил с Костей, он знает, когда на базаре предполагается облава. Сегодня не будет. — Хорошие же у вас друзья, — с некоторой иронией заметил Филатов. — Что поделаешь! — Бахарев улыбнулся. — По крайней мере они надежны, пока им платишь. А вы вот, Иван Егорович, не очень спешите к своим друзьям. — Это серьезная организация, — Филатов помрачнел, — я всецело доверяю вам, Борис Александрович, но пока мне не хотелось бы касаться этой темы, я просто не имею права. — Ну не будем! — ликуя в душе, подхватил Бахарев. Это был первый случай, когда есаул прямо сказал слово “организация”. На следующий день Бахарев пригласил Галкину и Филатова к себе на новую квартиру. Анна Семеновна была потрясена. В полутемной передней их встретила молодая женщина в платке, повязанном по-монашески. Она, скромно опустив глаза, поклонилась в пояс Борису. — Это мои друзья, Вера Никифоровна, — сказал он. — Добро пожаловать, — певучим голосом ответила женщина. — Проходите в зало, Борис Александрович. В переднем углу большой комнаты светился серебряными бликами иконостас, который мог бы сделать честь дому крупного духовника. Борис подумал: “Пожалуй, все-таки перехватил Миронов. И откуда они такой уникум раздобыли?” Однако, посмотрев на очарованное лицо торопливо крестившейся Галкиной и серьезную физиономию есаула, осенявшего себя крестным знамением, решил: “Нет, ничего, в самый раз”, — и, спохватившись, перекрестился сам. — Подарок одного человека моей матушке, — сказал он значительно. — Большая редкость. Матушка очень любила эти иконы. Борис дал время гостям осмотреться. Комната была обставлена добротной старинной мебелью. На стене, оклеенной темными тиснеными обоями, между двумя фотографиями виднелся большой четырехугольник, где обои не потеряли еще своего первоначального цвета. Заметив, что Филатов обратил внимание на это пятно, Борис сказал: — Здесь был портрет. Увы, пришлось пока снять его. Но, по счастью, он сохранился. Он вышел в соседнюю комнату и вынес сгтуда большой портрет. Из массивной черной рамы пристально смотрел бородатый старик в пышном облачении. Филатов и Галкина тотчас узнали епископа Филиппа — руководителя белогвардейской организации донского и кубанского духовенства. — Моя матушка, — сказал Борис, — была очень дружна с его преосвященством. — Он заметил, как мадемуазель Галкина тонко улыбнулась. — А вы? — спросила Анна Семеновна. — Что — я? — спокойно спросил Борис. — Вы были знакомы с епископом? — О, конечно, хотя, как я вам уже говорил, в силу ряда обстоятельств я почти не жил в Ростове. Меня воспитывали родственники матушки… — Бахарев подергал портрет в руках, затем добавил: — Он сейчас далеко, вы, должно быть, знаете, что большевики сослали его в Архангельскую губернию. Главное мое желание — это связаться каким-нибудь образом с ним. — Борис в упор посмотрел на Филатова. Тот молча постукивал пальцами по столу. — Ну, пусть уж хоть сегодня, пока я здесь, этот портрет повисит на своем месте, — сказал Борис. Он водворил черную раму на место невыгоревшего четырехугольника и едва не чертыхнулся. Пятно было намного больше рамы. Но гостям, захваченным своими мыслями, было, видимо, не до этого. — Я понимаю ваше стремление, Борис Александрович, — сказал, наконец, Филатов. — Может быть, мне удастся что-нибудь для вас сделать. В комнату вошла Вера. Она принесла самовар. Есаул замолчал. Вера расставила чашки и снова вышла. — Ей вполне можно доверять, — тихо сказал Борис, — преданный человек. — А мне больше нечего сказать, — ответил есаул, — мне надо посоветоваться. Во всяком случае, я думаю, что через месяц–два все изменится. Гости засиделись до позднего вечера. Бахарев рассказывал им о себе, о своей матушке. Вера почти все время молчала. Только в ответ на благодарность гостей за чай она произнесла: — Во славу божию! Наконец гости ушли. Вера сняла черный платок и… сразу помолодела. — Ну, — сказал Борис, — как будто все получается, все идет как надо, как ты считаешь? — Трудно мне, — она вздохнула. — Ничего, получается у тебя. Вера молчала, задумчиво разглаживая рукой на колене черный монашеский платок. — Смотрю я вот на тебя, Борис, — тихо сказала она, — и удивляюсь. Что ты за человек? Искренний ты или нет? — Ну, ты уж спроси чего-нибудь попроще. — Очень уж сильно ты меняешься, когда говоришь с ними, и лице у тебя становится другое. Вот я иной раз смотрю, и хоть знаю, что эго ты, а хочется подойти и треснуть тебя чем-нибудь. Борис засмеялся. — А ты возьми да тресни, — сказал он, — только не очень сильно. — Сейчас ты свой, — улыбнулась Вера. Через два дня под вечер к Борису пришел Филатов. — Поздравляю вас, Борис Александрович! — торжественно начал он. — Мои старания за вас не прошли даром. Вы имеете честь получить первое задание от нашей организации. — Какой организации? Присядьте, Иван Егорович, — он указал гостю на кресло. — Я не имею права пока сообщить вам подробности, — сказал есаул. — Ну, словом, есть организация, которая ставит перед собой цели, созвучные вашим убеждениям. Поверьте, подробнее пока не могу… — Ас чего вы взяли, уважаемый Иван Егорович, что я собираюсь выполнять задания какой-то организации? То, что я помог вам, не дает вам права… Я сделал это из чувства товарищества. — Но ваши убеждения… — Мои убеждения — это мое личное дело. Наступила пауза. Филатов, явно не ожидавший такого оборота разговора, не знал, что сказать. — Видите ли, — заговорил Борис, — я теперь привык во всем полагаться на самого себя. Иначе в наше жестокое время нельзя. Вам я верю. Но… Ведь здесь замешаны третьи лица. Согласитесь, я не могу лезть в компанию неизвестно к кому. Филатов встал. Лицо его было торжественно. — Даю вам честное слово русского офицера и дворянина, что речь идет о вашем участии в организации, призванной спасти нашу родину. Во главе ее стоит известный генерал, — есаул замолчал на минуту, — князь, имя которого вы, без сомнения, знаете… Борис Александрович, ради вас я нарушил клятву. Борис сосредоточенно рассматривал половицу. — У меня на этот счет свое мнение, — сказал Борис. — Без помощи извне в настоящее время власть большевиков не может быть свергнута. — У нас есть связь с бароном Врангелем в Софии, — ответил есаул. — Барон Врангель? Вы считаете его фигурой? — Но за ним иностранцы. — Ну, вот это другое дело. — Борис встал и сделал несколько шагов по комнате. — Да, конечно, я понимаю, что мои единоличные действия тщетны. Ну, вот я помог вам, может быть, мне удастся спасти Жоржа Попова, но Россия, Россия… Филатов подошел к нему. — У вас нет другого пути, поймите. Кроме того, я уже столько открыл вам, что… — Пугаете? — Бахарев резко обернулся. — Я знаю, что вы не из робкого десятка. — Ну хорошо, а в чем заключается задание? Филатов облегченно вздохнул. — Завтра нам нужно будет выехать в станицу Гниловскую для установления связи с отрядом хорунжего Говорухина. Лошадей нам обеспечат. Вы согласны? — А если там вас опять кто-нибудь узнает? — спросил Борис. — Ну, это не Кубань, — криво усмехнулся есаул, — там у Говорухина полторы тысячи сабель… Итак? — Ладно, — вздохнул Бахарев. Филатов вскоре ушел, а Борис принялся за письмо. Уже совсем поздно вечером Вера появилась около палатки Кости на базаре, а ночью у Николаева состоялось экстренное совещание. — Князь? — задумчиво сказал Федор Михайлович. — А ведь я кое-что слышал. Совещание затянулось надолго. И только под конец Зявкин вспомнил: — Семен Михайлович Буденный — вот кто говорил мне. Князь Ухтомский!11. Шутить изволите, господин поручик!
Борис прекрасно понимал, что филатовское начальство неспроста поручило им поездку в станицу. В этом, без сомнения, кроется какая-то опасность. Там белогвардейское подполье хозяин. В станицу Гниловскую они приехали на парной пролетке, которую добыл где-то сам есаул. Около станицы на дороге их остановила группа казаков. Потребовали документы. Есаул охотно предъявил их и назвал пароль: “Тридцать девять”. “Тридцать четыре”, — последовал ответ. Старший разъезда, мельком просмотрев бумаги, скомандовал: — Выходьте, господа, из пролетки, дальше пешком дойдете. — Приказываю доставить нас к хорунжему Говорухину, — сказал есаул. — Куда надо — туда доставим, — сухо ответил казак. По пустынной в этот поздний утренний час станичной улице казаки провели их к большой хате, стоявшей несколько на отшибе. В сенях толпилось еще несколько человек, кто-то грубо подтолкнул приезжих к двери. Борис шагнул за порог. Первое, что он увидел, был большой портрет Карла Маркса на стене. Под ним, положив на стол могучие руки, сидел краснолицый человек в расстегнутой гимнастерке, открывавшей волосатую грудь. По описанию Филатова Борис понял: вот этот — Говорухин. Рядом с ним у стола стоял щуплый человечек с тонкими чертами лица, в кожаной тужурке. На столе перед ним лежал маузер и фуражка с красной звездой. — Здорово, гости дорогие, — сказал Говорухин, вставая из-за стола. — Иван Егорович! Рад вас приветствовать! Он пошел навстречу Филатову. Борис быстро взглянул на есаула, тот был совершенно обескуражен. — Слава богу, добрались благополучно? — спросил хорунжий. — Что… что это за маскарад? — выдавил, наконец, есаул. — Зачем маскарад? — сказал Говорухин. — Я теперь, дорогой мой, начальник волостной милиции, перешел на сторону Советской власти. Представьте себе, сначала, когда пришло сообщение о вашем прибытии, мы решили было вас арестовать, а потом вот приехал сотрудник из Екатеринодарского чека, — Говорухин указал на человека, стоявшего у стола, — и псе выяснилось! Рад сердечно! “Провоцируют, сволочи”, — мелькнуло у Бориса. Быстро смерив глазами комнату, он толкнул есаула вперед на Говорухина и в один прыжок вскочил на невысокий подоконник. — Ни с места! — крикнул он, выхватывая из кармана гранату. Сзади, из-за окна, его кто-то ударил по голове…… Он пришел в себя в той же комнате. Над ним склонилось незнакомое лицо. — Пришли в себя, господин корнет? Я же говорил, черт побери, что это добром не кончится. Борис попытался приподняться. Его лицо и гимнастерка были мокры, видно, кто-то плеснул на него водой. — Да вы не волнуйтесь, все, слава богу, кончилось, я — поручик Милашевский из Ростова. Мы, конечно, сами немного виноваты, но… Словом, все обошлось. — Что обошлось? — спросил Борис. — Ну, эта проверка. — Какая, к черту, проверка, где есаул? — Борис пощупал рукой затылок. В комнату вошел Филатов, а за ним, расплываясь в улыбке, Говорухин. — Ну, Бахарев, живой! — сказал Филатов. — Представь себе, эти мудрецы задумали устроить нам проверку. Ей-богу, жаль, что ты не успел бросить гранату! Оказалось, что еще накануне полковник Беленков, посоветовавшись с Новохатко, послал в станицу поручика Милашевского. Этот двадцатипятилетний деникинский офицер состоял адъютантом подпольного штаба ОРА. Полковник поручил ему любым способом убедиться в том, не завербован ли Филатов чекистами. Свой выбор Беленков остановил на Милашевском именно потому, что Филатов не знал его в лицо. — Возьмем их на испуг, — предложил он. Когда стоявшему за окном казаку удалось оглушить Бахарева, за пистолет схватился Филатов, и двое казаков едва справились с ним. Теперь Милашевский и Говорухин чувствовали, что перехватили через край. А есаул был полон негодования. — Вы отсиживаетесь в Ростове, на квартире, — кричал он на Милашевского, — в то время, когда я, уже приговоренный к смертной казни, делаю основную работу! И вы берете на себя смелость не доверять нам? Я уверен, что его превосходительство не знает о ваших выходках. Борис заметил на лице Милашевского неподдельный испуг. “А парень-то трусоват”, — и решил добавить масла в огонь: — Вы мне говорили, Иван Егорович, что мне предстоит иметь дело с серьезными людьми. Есаул бушевал до тех пор, пока Борис, заметив, что и Говорухин начинает приходить в ярость, решил замять дело. — Может быть только одно оправдание, — сказал он, — что они действовали в интересах дела. Однако, оставшись наедине с Филатовым, Борис твердо сказал: — Он еще вспомнит нас, этот поручик! Вместе с Филатовым Бахарев приступил к “инспекции” разнокалиберного говорухинского воинства. Оно вело странную и беспокойную жизнь. Кто под видом мирного жителя осел на хуторах, зарыв в огороде винтовку и патроны, а большинство скрывалось в непроходимых зарослях камышей в пойме Дона. Борис быстро уловил настроение людей. Им все осточертело. Хотелось домой: близилось время жатвы. Однако мало кто представлял себе, каким путем это можно сделать. Сложить оружие эти люди боялись. Сказывался и воинский уклад, который каждый казак впитывал в себя, как говорят, “с младых когтей”. Борис все больше понимал правильность и гуманность решения партии — не допустить новых кровавых событий. Собственно говоря, и говорухинский и все прочие отряды могли бы в короткий срок быть уничтожены регулярными частями буденновской армии. Но при этом погибли бы сотни людей, вся вина которых состояла в неграмотности и темноте. А для того чтобы ликвидировать отряды мирным путем, нужно было оторвать основную массу казаков от белых офицеров. — Господа старики, — говорил есаул Филатов, собрав в штабе казаков постарше. — Я уполномочен вам сообщить, что час нашего выступления близок. Старики слушали серьезно, молча. Только один раз, когда Филатов упомянул Врангеля, кто-то из толпы сказал: — Без него обойдется! Но есаул сделал вид, что не слышал. Закончив инспекцию в камышах, Филатов собрал в штабе совещание. Речь шла о совместных действиях отрядов Говорухина и Назарова. План сводился к тому, что в назначенный день эти два отряда численностью более двух тысяч сабель должны ударить неожиданно с двух сторон на Ростов. Есаул сказал, что каждому отряду будут приданы офицеры, которые помогут найти всех коммунистов и чекистов в городе. Относительно дня выступления Филатов сказал, что это будетопределено после прибытия представителя из Софии. Его ждут со дня на день. — За моими ребятушками дело не станет, — сказал в конце Говорухин, — давно в Ростов рвутся, а вот как будет с полковником Назаровым? Я ему буду подчинен или же он мне? У него людей меньше моего. Недавно мы тут с ним встретились… — Это еще не решено в штабе, — ответил есаул. И Борис увидел, что ответ не очень понравился Говорухину. На следующее утро они собрались уезжать. Улучив минуту, когда хорунжий был один, Борис подошел к нему. — Да, Говорухин, — сказал оп, улыбаясь, — ты был прав вчера, когда спрашивал насчет полковника Назарова. — А что? — осторожно спросил Говорухин, и в его красных опухших глазах мелькнуло беспокойство. — А то, что в чинах мы с тобой небольших, рискуем вместе, а там как на нас поглядят? Повыше нас есть. Говорухин шагнул к нему вплотную, внимательно глядя прямо в глаза. — Ты к чему это говоришь? Знаешь что-нибудь? — Как не знать, — сказал Борис, чувствуя, что теряет нить разговора. — Мне полагается знать… — Значит, у вас там, в штабе, знают, — тихо заговорил хорунжий, — а я, признаюсь, все раздумывал, сказать есаулу или нет. Неделю назад, когда встретились мы на мельнице, я смотрю — самозванец. Назарова-то я, слава тебе господи, знаю, на моих глазах погиб, царство ему небесное. Но ты учти, я не открылся и казакам сказал, что он самый настоящий полковник Назаров, и только… Борис чувствовал себя как на канате над пропастью. — Что ж казаки? — спросил он осторожно. — Казаки верят как один. А что он за человек? — Нужный человек, — таинственно ответил Борис. — Смотри, пока ни слова. — И, подумав добавил: — В твоих же интересах. — Понятно, — с уважением сказал хорунжий.12. Как аукнется, так и откликнется
Наступил июнь. Ночи напролет не гасли огни в доме ЧК на Большой Садовой улице. Работы хватало. Волной захлестывала город спекуляция. С почерневшим от солнца и недоедания лицом мотался круглосуточно по городу Павел Миронов. Никто не спрашивал его, когда он спит. Да и сам он об этом никогда не задумывался — знал: начальству — Федору Зявкину и Николаеву — приходится еще туже. Больше всего из сообщений Бахарева чекистов заинтересовали сведения о полковнике Назарове. Из слов Говорухина можно было сделать вывод, что человек, который выдает себя за полковника Назарова, вовсе им не является. Но кто же он такой? Разобраться в этом поручили опытному сотруднику Дон-чека Тишковскому, который выехал в отряд. А на долю Павла Миронова с его группой выпало обеспечение корнета Бахарева от всяких случайностей. В папке с надписью “Клубок” уже появились адреса господина Новохатко и полковника Беленкова, была выяснена и подлинная фамилия Валерии Павловны — вдовы крупного сахарозаводчика с Украины. На схеме, которую вычертил Федор Зявкин на большом листе картона, все линии тянулись к центральному кружку. В нем крупными буквами была написана фамилия: “Ухтомский”. Семен Михайлович Буденный рассказал чекистам, что генерал-лейтенант царской армии князь Ухтомский ему известен давно. Представитель древнего аристократического рода, он слыл среди белых генералов как авторитет в области военной науки. Это он приложил руку к созданию крупных кавалерийских соединений, которые потом под командой Мамонтова и Шкуро дошли до Орла и Воронежа. Князь Ухтомский был ранен и только поэтому, может быть, не фигурировал в числе командующих какой-нибудь из белых армий наравне с Деникиным, Врангелем или Юденичем. Буденный считал вполне вероятным, что князь Ухтомский мог остаться в Ростове после эвакуации города. — Вспомните, сколько они сюда раненых понавезли, — говорил Семен Михайлович. — Мы ведь с лазаретами не воюем, вот они и спрятали этого князя под чужой фамилией на больничной койке. Ясное дело! А расчет у них такой: фигура среди белых известная, поэтому вокруг него можно будет организовать подполье. Зявкин и Николаев согласились с доводами командарма Первой Конной. Было понятно, что организация, возглавляемая такой крупной фигурой, как князь Ухтомский, должна иметь налаженные связи с заграницей. Ликвидировать ее можно было только после того, как будут установлены все ее связи. Вместе с тем времени оставалось мало. Из Москвы пришло шифрованное сообщение о том, что по сведениям, полученным из Софии, ростовское подполье должно приступить к активным действиям с середины июля. Ближайшим путем к центру организации Борис считал поручика Милашевского. Нужно было найти к нему ключ, либо заручиться его дружбой, либо вступить в борьбу. Еще на обратном пути из станицы Борис заметил, что есаул Филатов не собирается забывать промаха Милашевского с “проверкой”. Он постоянно напоминал ему об этом, пока окончательно не вывел поручика из равновесия. Вспылив, Милашевский сказал есаулу: — Не знаю, во всяком случае, вам еще предстоит объяснить полковнику Беленкову, почему это чекисты приказали отправить вас из Екатеринодара в Ростов. — С вашего разрешения, есаул, — сказал Борис, — я бы взял на себя обязанность объяснить все обстоятельства вашего побега господину полковнику… чтобы… — Борис сделал паузу, — никому не повадно было пачкать своими подозрениями честных людей. Удар был нанесен, враг нажит. Борис увидел, как удовлетворенно улыбнулся Филатов. Дня через два после возвращения из станицы вечером к Борису пришла Анна Семеновна Галкика. Она была одета наряднее обычного и заметно чем-то взволнована. — Простите, Борис Александрович, что я так, без приглашения, — была здесь рядом по своим коммерческим делам, — сказала она. — Вы знаете, я теперь скучаю без вас. Борис удивленно поднял брови. — Да, да, не удивляйтесь, — продолжала Галкина, — -вы так много сделали для меня в трудную минуту. Вообще мне нравятся люди смелые и решительные, Иван рассказывал мне, как вы там, в станице… — Пустяки, — прервал ее Бахарев. Галкина наговорила ему еще кучу комплиментов. Борис молчал, раздумывая: что ей надо. — 1 — Боже мой, — спохватилась вдруг Галкина, — а ведь уже поздно. Я надеюсь, Борис Александрович, вы проводите меня? — Сочту за счастье, — Борис учтиво поклонился. — Сию минуту, я отдам некоторые распоряжения. Борис вышел в переднюю и, постучав в комнату Веры, сказал: — Вера Никифоровна, я вернусь поздно, не запирайте парадную дверь изнутри. — Куда же вы на ночь глядя? — ответила Вера. — Я провожу Анну Семеновну. Когда он вернулся в комнату, Галкина стояла у самых дверей, покрывая голову черным кружевным платком.13. Долг платежом красен
Николай Орлов работал в ЧК восьмой месяц и потому считался уже опытным сотрудником. Несмотря на то. что на улице в тот час было очень мало прохожих, он сумел проводить Галкину и ее спутников до бывшей квартиры Бахарева. Анна Семеновна одна зашла в дом, а двое мужчин постояли па перекрестке, попрощались и… разошлись в разные стороны. Пока Орлов решал, за кем из них пойти, оба они как в воду канули. — Ты хоть там по улице не метался? — спросил его Миронов, когда Орлов доложил о результатах. — Ну ладно. Пойдешь завтра на базар к Косте, может быть, он знает. — Ну, теперь держись, ребята, — сказал Зявкин, — теперь самое главное начинается. Это — ясное дело — они его взяли к себе, иначе зачем бы здесь была мадам Галкина? — Интересно бы знать, насколько они доверяют ему? — задумчиво сказал Николаев. — Словам они не верят. Впрочем, в его активе кое-что есть. — Надо бы ему помочь, — Зявкин покрутил ручку телефона и поднял трубку. — Миронова ко мне пришлите, пожалуйста. Если не возражаешь, Николай Николаевич, — продолжал он, — я дам ход комбинации с Поповым. Открыв утром дверь, Вера увидела перед собой есаула Филатова. — Борис Александрович дома? — осведомился он. — Позавчера пошли провожать барышню, велели дверь не запирать, и вот до сих пор нет. Не знаю, что и думать. Время такое… Спаси нас господи, — сказала Вера и приложила платок к глазам. Но Филатов был изумлен, кажется, искренне. — Барышня была здесь одна? — спросил есаул. — Позавчера?… Вы не волнуйтесь, любезная, я постараюсь выяснить… После его ухода Вера немедленно отправилась на рынок. Позже между есаулом и Анечкой Галкиной разыгралась бурная сцена. — Это близко к предательству, — говорил Филатов, крупными шагами меряя маленькую комнатку. — Ты ходишь к нему, я не знаю, конечно, зачем, не хочу знать! Но при твоей помощи его заманивают в ловушку, это уже касается дела, ты не имела права скрывать! Галкина в углу тихо плакала. — Он меня убьет, — сказала она сквозь слезы. — Кто? — Новохатко. Есаул ничего не ответил. Он чувствовал себя скверно. Его озадачило, почему Новохатко, обычно доверявший ему и даже побаивавшийся его, на этот раз ничего не сказал о Бахареве. Филатов чувствовал, что его судьба связана теперь с судьбой корнета. Так или иначе он должен держать теперь его сторону. — Черт знает что! — сказал есаул. — Так не поступают порядочные женщины. Он ушел, громко хлопнув дверью. На улице его охватила злоба и жестокая тоска. Собственно говоря, в ту секунду, когда захлопнулась дверь, он понял, что идти ему некуда. В штабе на него смотрят с подозрением. Филатов был уверен, что всему виной эта сволочь поручик Милашевский. Есаул вышел на бульвар, прошелся из конца в конец несколько раз и вдруг увидел, как от здания Северо-Кавказского военного округа отъехали два всадника. Первый на гнедом дончаке, уверенно сдерживая горячего коня, пересек площадь, и есаул узнал в нем командира Первой Конной Семена Буденного. Задний, видимо адъютант, несколько отстал. Филатов, чувствуя, как теплой сталью вдавливается в живот засунутый изнутри за пояс кольт, пошел навстречу. Они будут знать есаула Филатова… Только бы не промахнуться. — Извините, гражданин, где тут Малая Садовая? — услышал он внезапно. Рядом с ним стоял высокий франтоватый малый развязного вида, в кожаных вишневого цвета крагах. — Что? — спросил есаул. — Я говорю, где Малая Садовая? — Вот она, рядом! — Ага, вот спасибо, второй час ищу! — Малый нагло, как показалось есаулу, улыбнулся и сказал: — Закурить не желаете? — Иди своей дорогой, — буркнул Филатов. Цокот копыт уже терялся где-то в улицах. Он вернулся обратно на бульвар. Сел на скамью. Там, почти не двигаясь, тупо глядя в одну точку, он просидел больше часа. — Боже мой! Иван! — встретила его Галкина с порога. — Пришло письмо от Жоржа Попова. Есаул выхватил у нее из рук небольшой листок.“Тетя уехала в Харьков, в Ростов заехать не смогла, чувствует себя хорошо. Велела кланяться и благодарить за пособие сердечно. Жорж”.— Откуда это? — По почте пришло. — Молодец корнет! Нет, я все-таки должен вмешаться в его дело. Ты сама отведешь меня к Новохатко! Вопреки ожиданиям Новохатко нисколько не разозлился при появлении Филатова. Наружные ставни были прикрыты, а сам хозяин в полотняной рубашке пригласил нежданного гостя к столу. — Неосмотрительно изволили поступить, Иван Егорович, — мягко сказал Новохатко. — А ну как за вами слежка? — Не волнуйтесь, — ответил Филатов, — если бы слежка была, то я бы здесь с вами не сидел. — Слышали, — Новохатко поскреб лысину, — и про то, как бежали, тоже слышали. Но все же нарушать конспирацию не стоит. Вы, боевые офицеры, привыкли все напролом. Мы здесь строим, плетем, открываем вам путь. А придет ваш черед, вы про нас забудете. Скажете — мы спасли Россию! Филатов молчал. — Я человек откровенный, Иван Егорович, — продолжал хозяин, — ваш путь будет в генералы, в губернаторы, в министры. А нам? Ступай опять на задворки? В подворотню? А между тем вот сейчас, в трудное время, к кому вы пришли? Ко мне пришли. Вот в чем дело. — Помилуйте, Николай Маркович, — сказал он и сам удивился смиренности своего тона, — ваши заслуги нам хорошо известны, могу сказать от имени казачества, они не будут забыты. — Спасибо на добром слове, если бы все так считали! — Кого вы имеете в виду? — Филатов насторожился. Новохатко посмотрел на него, словно приценяясь. Потом сказал: — Ну, есть офицеры. Из гвардии, например. Верите ли, руку подать стыдятся, а ведь под одним богом ходим. Вот и о вас недавно у меня был разговор с полковником Беленковым. — Новохатко выдержал паузу. — Ему, видите ли, не нравится, почему это чекисты затребовали вас в Ростов. Я-то проверял, вы уж меня простите: конвойного вашего, что на вокзал вас доставил, расстреляли большевики. А полковник все равно свое гнет. А в чем дело? Знает он, что среди казачества вы первый. Филатов молчал. — Вот что я вам скажу, господин есаул, — в маленьких глазах Новохатко проявился холодный свинцовый огонек. — Я так понимаю, что вы не зря ко мне пришли. Простите, деваться вам некуда… Есаул резко встал. — Не утруждайтесь, господин есаул, сядьте, — продолжал Новохатко. — Серьезного дела они вам больше не доверят. Но я вам друг, и вы мне верьте, у меня закваска. Должны мы с вами, Иван Егорович, о себе подумать. А первым делом убрать бы нам из штаба господина Беленкова и его правую руку Милашевского. — Вы так говорите со мной, — криво улыбаясь, сказал Филатов, — будто бы я уже во всем согласен с вами. — Эх, Иван Егорович, плох бы я был, если б сомневался. Вы, я да корнет Бахарев — мы тут их быстро в христианскую веру приведем. Скажу по секрету: князь мне больше доверяет, чем полковнику. — А где Бахарев? — А где же ему быть? У меня в надежном месте, мои ребятушки позаботились. Он, между прочим, человек хороший, поговорили мы с ним по душам. Письмо при нем было. От самого епископа Филиппа. — Это я знаю, — ответил есаул. В душе он был согласен с предложениями Новохатко, но считал необходимым поломаться. Это, конечно, не ускользнуло от Новохатко. И он дал гостю такую возможность. Оказалось, что Милашевский вместе с казначеем штаба Долгоруковым давно уже занимаются неприглядными финансовыми комбинациями. После бегства Деникина у Долгорукова остались клинге, с которых печатались “донские деньги” — “колокольчики”. Раздобыв где-то краски и печатный станок, Долгоруков и Милашевский печатали эти бумажки. Когда же в штаб поступали деньги на нужды организации в какой-нибудь другой валюте, они заменяли ее своими “колокольчиками”. Филатов был возмущен до крайности. — Это низость! В то время, когда все мы ежеминутно рискуем головой, они думают о корысти. Никакого суда они не достойны. Я сам их убью! — Ну зачем же вам рисковать? — Новохатко спокойно налил себе чаю. — Я уже сговорился, как это сделать. Все будет тихо и аккуратно. — С кем же это вы сговорились? — Да с вашим корнетом, не возражаете?
14. По русскому обычаю
Балканское полуденное солнце жгло нестерпимо. Виллу бывшего царского посланника в Софии с недавних пор сделал своей резиденцией Врангель. Из-за жары барон, принявший уже с утра в садовой беседке двух посетителей, решил перенести следующую беседу в кабинет в глубине дома. К тому же свидание предстояло особое. В ожидании его Врангель прошелся по затененной дорожке, усыпанной галькой, привезенной с морского побережья. Недавно ее полили, и она сохраняла тонкий, едва уловимый аромат моря, мешавшийся с пряным запахом лавра. Это сочетание снова напомнило барону Крым, горячие дн;; прошлого лета. Прорыв на Украину, который тогда казался началом победы. Да, это было ровно год назад. Всего год! А кажется, вечность! Барон был под впечатлением последнего визита. Только что у него был уверенный в себе и напористый господин по фамилии Цанков, глава какой-то новой политической группы, названия которой Врангель как следует не запомнил. Он усвоил только одно: господину Цанкову очень не нравится нынешнее болгарское правительство Александра Стамболийского. Не нравится по многим причинам, но прежде всего своими демократическими реформами. — А вам известно, барон, что думает Стамболийский о событиях в России? “Тот, кто любит русский народ, не будет сожалеть о падении царизма!” Я уверен, — продолжал Цанков, — что в ближайшие месяцы Стамболийский сговорится с большевиками. Вы понимаете? Это Врангель понимал. Он чувствовал, что новое правительство под давлением народного мнения все более неприязненно смотрит на врангелевское воинство, расположившееся в Болгарии, как у себя дома. Многие симптомы говорили о том, что пора уходить, пока не попросили. — Скажите, барон, — вкрадчиво говорил Цанков, — могу ли я рассчитывать, что русская армия, оказавшаяся ныне волею судеб на нашей дружественной земле, в случае возникновения каких-либо внутренних трений будет на стороне людей, стремящихся к истинному благополучию? Барон применил свой обычный козырь. — Я солдат, и не мое дело политика, — сказал он. — Вы скромны, генерал, я знаю вас и как политика, — ответил Цанков. — И смею вас заверить, наши политические платформы весьма близки. Сильная единая рука должна править государством. Не так ли? Единственно, что в ответ мы могли бы гарантировать вам некоторую финансовую поддержку. Это, конечно, меняло дело. И все же ответа он сразу не дал. Нужно было выяснить, как отнесутся к этому французы и англичане, да и проверить, какие финансы за этим Цанковым. — Надеюсь, — заговорил, наконец, Врангель, — что все инструкции специального характера вами уже получены. Я пригласил вас для того, чтобы сообщить вам лично некоторые сведения политического характера. Барон снова выдержал паузу. — Итак, вам предстоит встретиться с руководителями наших штабов в России князем Ухтомским в Ростове, генералом Пржевальским на Кубани. Вы должны посетить генерала Шиты Истамулова в Дагестане и Ганукомуллу в Чечне. В разговорах с ними и с их офицерами вам необходимо наметить те задачи, которые встанут перед ними после высадки десанта. Мы не планируем немедленного похода на Москву или хотя бы на север. Наша задача — закрепиться на любом участке нашей многострадальной родины. И тем создать предпосылку для ее полного освобождения. Барон встал. — Успех этого дела во всем зависит от предварительной подготовки. Каждый коммунист, комиссар должен быть на строжайшем учете заранее. Не дать никому уйти. Вот в чем задача. В первую же ночь десанта все большевики в Ростове должны быть на фонарях! И никаких пятых, десятых — все, кто способен оказать нам сопротивление! И это будет, будет в конце июля! — хриплый голос Врангеля прозвучал внушительно. — Я могу сослаться на этот срок? — спросил Васильковский. — Только самым доверенным людям. Барон нажал кнопку звонка. В комнату вошел слуга-болгарин, неся на маленьком подносе серебряные чарки. — Итак, господа, по русскому обычаю — за успех вашей миссии, полковник, — сказал Врангель. — Правда, водка пока болгарская, но не беда, скоро выпьем и русской. Все взяли по чарке. Единым духом опрокинув водку в широко открытый рот, Врангель провел белой ладонью по усам. — А вы где служили, полковник? — В штабе его превосходительства покойного генерала Май-Маевского. — Царство ему небесное, — сказал, крестясь, Врангель, — бог ему судья! Прекрасный был воин и полководец. Если бы не эта его слабость, — барон постучал длинным полированным ногтем по серебряной чарке, — возможно, поход на Москву завершился бы по-иному. Нолькен хитро взглянул на барона, словно хотел сказать: “Ну конечно, теперь пьяница Май-Маевский виноват! А как сами вы, ваше сиятельство, удирали из-под Царицына?” — Я попрошу вас, полковник, — продолжал Врангель, — передать мой личный привет князю Ухтомскому. Скажите Константину Эрастовичу, что по вполне понятным ему причинам мы нигде, даже в переговорах с союзниками, не называли его имени. Но узкий круг знает о его неоценимой деятельности, и, безусловно, в правительстве нового русского государства он займет достойное место. И еще одно. Предупредите князя, что к англичанам, по моим сведениям, откуда-то, помимо нас, проникают сведения о действительном положении дел в ростовской организации. Это может нам повредить. Они и так не особенно верят в силы нашего подполья. Хорошо бы выяснить источник. — Слушаюсь, — кратко ответил Васильковский. — А теперь, господа, — закончил Врангель, — сядем и помолчим перед дорогой. По русскому обычаю.15. Старые знакомые
В небольшой комнате домика на окраине города окна были снаружи закрыты деревянными ставнями, а изнутри вдобавок еще занавешены старыми одеялами. У письменного стола, освещенного керосиновой лампой — “молнией” с абажуром из красной меди, сидел старик с коротко подстриженной щеткой седых волос. Он писал, изредка останавливаясь и вздергивая вверх голову, отчего ярко вспыхивали стекла пенсне на тонком орлином носу старика. Из передней послышался стук в дверь. Старик не торопясь взял недописанный лист и, открыв в толстой верхней доске стола потайную дверку, спрятал его. — Степан, — позвал он сильным, с хрипотцой голосом. В приоткрытую дверь всунулась усатая физиономия. — Пойди посмотри, кто там. В передней послышалась какая-то возня, приглушенный голос. Старик встал, обнаружив высокий рост, и легко шагнул к стоявшей в той же комнате кровати. Он выхватил из-под подушки вороненый маузер и, сунув его под пиджак, сел на постель. В тот же самый момент дверь открылась, и в ней возник полковник Беленков. Он едва стоял на ногах, одежда на нем была изорвана и испачкана землей. Хозяин комнаты привстал ему навстречу. — Боже, что с вами, Александр Игнатьевич? — спросил он. — Только что, — выдохнул Беленков, — убит поручик Милашевский! Ради бога, воды! Мне пришлось бежать… Старик и усатый Степан молча смотрели на гостя, не двигаясь с места. Беленков переводил взгляд с одного на другого, силясь понять причину их молчания. Наконец он понял. — Нет, нет, ваше превосходительство, я никого не привел за собой. Вообще это нелепый случай… Тогда первым двинулся с места хозяин комнаты, он подошел к столу, двинул стул для Беленкова и потом сел сам. — Дай воды, Степан, — сказал он. — Докладывайте, полковник. Беленков жадно выпил ковш теплой, не успевшей остыть после дневной жары воды. — Убили Милашевского, — повторил он, — тело бросили в воду на моих глазах, мне чудом удалось спастись. — Нельзя ли по порядку? Кто убил? Зачем вы здесь? Беленков снова отхлебнул из ковша. — Убили бандиты Нас пытались ограбить здесь, недалеко, на берегу Дона. Под вечер мы встретились там с поручиком. Он должен был передать мне ваш приказ для Назарова… Разговор у нас затянулся. Поручик сетовал на ваши финансовые затруднения. — Я его на это не уполномочил, — сказал старик. — Измерьте мне, Константин Эрастович, я так и подумал… Мы заспорили… и вот… Беленков снова потянулся к ковшу. — Их было человек восемь или десять, — продолжал полковник. — Сначала они потребовали у нас денег, потом сорвали с меня пиджак. Милашевский стал сопротивляться. Меня свалили на землю, я отполз в кусты. Было уже темно, и я не видел, что там происходит. Слышал только удары. Потом кто-то сказал: “Ну, этот готов!” Я слышал, как они бросили тело в воду… Боже мой! — полковник закрыл лицо грязной рукой. — Ну, а вы? — спросил старик. — Про меня они, видимо, забыли. Я дождался, пока они уйдут… — Где приказ Назарову, господин полковник? — Остался в моем пиджаке, ваше превосходительство! — полковник встал. Поглаживая рукой стол, старик, спокойно гляди в глаза Беленкову, сказал: — В мое время офицеры предпочитали пустить себе пулю в лоб, чем отвечать подобным образом! Генерал князь Ухтомский брезгливо, сверху вниз смотрел на своего подчиненного. — Степан, — крикнул он через некоторое время, — подай Александру Игнатьичу умыться! Утром, захватив с собой только самое необходимое, Беленков и Ухтомский направились к Новохатко. У того, несмотря на ранний час, они застали гостей — Разрешите представить вам, Константин Эрастович, — сказал Новохатко, вводя князя в комнату, — дна самых боевых офицера нашей организации. Есаул Филатов Иван Егорович, приговорен большевиками к смертной казни. Есаул встал навытяжку. — Корнет Бахарев, участник “Ледяного похода”, — Новохатко замялся. — Близкий знакомый епископа Филиппа. Ухтомский внимательно посмотрел на Бориса и подал ему руку. — Вот как! — сказал он. — Я тоже был знаком с его преосвященством. А про вас, есаул, я много слышал, жаль, что раньше обстоятельства не позволили встретиться. Садитесь, господа. Беленков рассказывал подробности ночного происшествия. Услышав о том, как тело Милашевского злоумышленники бросили в воду, Новохатко встал is истово перекрестился в сторону горевших в углу лампад. Лицо его было полно скорби. Борис с интересом наблюдал за старым полицейским провокатором. Казалось, будто бы это совсем не он, не Николай Маркович Новохатко, всего полчаса назад в этой же комнате спрятал в карман деньги и документы поручика Милашевского и приказ князя полковнику Назарову. Принимая их от Бахарева, он сказал: — Ну, я чувствую, Борис Александрович, что ваши ребята охулки на руку не положат. Так они, говорите, и полковника припугнули неплохо? Дорого ли пришлось им дать? — Как по уговору, — ответил Борис, — они взяли половину. Виновник скорби господина Новохатко поручик Милашевский в это время живой и здоровый сидел в одном из продавленных кресел кабинета Николаева на верхнем этаже дома на Большой Садовой. Напротив него во втором кресле, как обычно вытянув длинные ноги, бледный от бессонных ночей, помещался Павел Миронов, у окна, сложив руки на груди, стоял хозяин кабинета, а за столом над стопкой исписанных листков трудился Федор Зявкин. Первый допрос подходил к концу. Зявкин добросовестно и подробно записал весь рассказ гражданина Лаухина о том, как он скитался по России в поисках пропавшей жены, о том, как он хотел и не смог уехать из Новороссийска и как, наконец, встретив в Ростове дальнего родственника Константина Ивановича Кубарева, поселился у него и поступил работать делопроизводителем в окрпрод. — Прочтите и подпишите, если все верно записано. Милашевский углубился в чтение. Николаев от окна сделал Федору неприметный знак: “Выйди”. Тот встал, прошелся, будто бы разминаясь, и пошел к двери. За ним Николаев. — Так ты мне расскажи, — попросил за дверью Николаев, — как прошла операция? — Да как по нотам. Я думаю, все в порядке, — Зявкин выпустил клуб табачного дыма. — Приказ и деньги мы ему вернули через Веру. Новохатко теперь убежден, что его пожелание в точности выполнено. Дескать, нанял бандитов. Для Новохатко это дело обычное. А поручик этот для нас клад. У него все связи. Собственно говоря, мы бы уже сейчас могли тряхнуть весь этот ростовский центр. — Ни в коем случае нельзя этого делать, — сказал Николаев, — главное ведь не в них. Я вчера опять говорил с Москвой. Они особенно подчеркивают: нужно добиться бескровного разоружения отрядов Назарова и Говорухина. Три тысячи человек не шутка! Так что тут нужно действовать безошибочно, чтобы ни один из руководителей штаба не ушел, а то они такой шум на Дону поднимут. Им терять нечего, казаков им не жалко. Когда чекисты снова вошли в кабинет, Милашевский обратился к ним: — Я уже спрашивал у товарища, — он показал на Миронова, невозмутимо рассматривавшего ссадину на пальце, приобретенную в ночной схватке, — но он мне ничего не ответил. Может быть, вы мне объясните: на каком основании меня задержали? Мне на службу пора! Зявкин взял со стола подписанный протокол допроса. На каждой страничке внизу аккуратно стояло: “К сему Лаухин”. Он убрал бумаги в стол и взял чистые. — Ну, а вот здесь, господин поручик Милашевский, вы напишете нам правду, — спокойно и даже несколько безразлично сказал он. — Забирайте бумагу — и в камеру. Когда напишете, скажете караулу, вызовем. До того времени беспокоить вас не будем. Нам не к спеху. Милашевский, казалось, оцепенел. Он тупо смотрел на лежавшую перед ним бумагу. — Что именно я должен написать? — наконец спросил он. — Все подробно и о своей деятельности, и о князе, о знакомых. Адреса не забывайте. Милашевский потянулся к карандашу. — Нет, не здесь, — остановил его Зявкин. — Я же говорю — не к спеху. В камере напишете. Милашевский покорно взял бумагу и пошел к двери. — Карандашик забыли, ваше благородие, — сказал, подымаясь за ним, Миронов.16. Служу Родине
На утреннем совещании в квартире Новохатко было решено, что князь Ухтомский перенесет свою резиденцию сюда, на квартиру Николая Марковича. Под помещение штаба отвели просторный полуподвал дома с наглухо закрытыми окнами. Из него на задворки дома вел потайной выход. Когда пошел разговор о преемнике Милашевского по штабу, Ухтомский сказал: — Этот вопрос я решу позже. Вы свободны, господа. Белен ков, Филатов и Борис вышли в переднюю. Уже у самых дверей полковник осторожно спросил Филатова: — Надеюсь, Иван Егорович, вы не в претензии на меня за прошлое. Вы понимаете, ведь я должен был проверить. Посудите сами… — Оставим этот разговор. Скажите лучше, что вы знаете относительно срока начала десанта? — Теперь уже скоро, — ответил Беленков. — Неделя, может быть, две. Борис торопился домой. Надо было связаться с Зявкиным. Он прикинул план на ближайшие дни. Надо сосредоточить внимание только на самом главном: связь с отрядами, связь с Врангелем. Дома в кресле он закрыл глаза, стараясь собрать воедино все известные ему уже сведения, и… не заметил, как уснул. Снилась ему Астрахань, он гуляет в саду — сзади подходит Беленков, берет его за плечо… — Борис Александрович, к вам пришли, — услышал он голос Веры. В дверях комнаты, необычайно взволнованный, стоял есаул Филатов. Вера торопливо вышла. — У меня чертовская новость! — зашептал есаул. — Князь назначил тебя своим адъютантом! — Меня? — спросил Борис. Он на секунду подумал, что все еще не проснулся. Ему вдруг стало весело. — Стоило будить из-за таких шуток! — сказал он. — Спать хочется! — Да нет, я серьезно, — есаул с досадой тряхнул его за плечо. — Не имей сто рублей, как говорят. Я сказал Новохатко, что если мы хотим иметь своего человека… Ну, а князь ему сейчас доверяет, должен доверять. Ведь все боевики в городе подчинены Новохатко. В тот же вечер корнет Бахарев снова предстал перед князем Ухтомским в домике Новохатко. — Мне рекомендовал Николай Маркович вас, корнет, — сказал князь, — как исполнительного и преданного нашему делу человека. Кроме того, ваше происхождение, — в этом месте Борис скромно опустил глаза, — убеждает меня, что в вашем лице я найду деятельного и верного помощника. Это особенно необходимо сейчас, когда мы стоим на пороге крупных событий. — Я буду счастлив служить вам, ваше превосходительство, — ответил Борис. — Не мне, а несчастной России, — поправил Ухтомский. — Так точно! — повторил Борис. — Родине! Когда Борис познакомился с делами штаба, он убедился в том, что, несмотря на сложную обстановку подполья, Ухтомский сумел разработать действенную систему мобилизации сил на случай высадки десанта. Для Бориса было неприятной новостью то, что в подпольном штабе ОРА постоянно имелись самые свежие сведения о дислокации частей Северо-Кавказского военного округа. “Неужели в нашем штабе кто-то работает на них?” — думал Борис. Новые загадки появлялись одна за другой. Только к середине июля Борису, наконец, удалось добыть полный список всех членов организации в городе. Лишенный возможности вести в штабе какие-либо записи, Борис зазубривал в день до двадцати фамилий с адресами. Вечерами он диктовал их Вере, и наутро они пополняли список Федора Зявкина. Этот список заставил Милашевского давать правдивые помазания. А в штабе постоянно теперь появлялись все новые и новые люди. Новохатко в эти дни чувствовал себя как рыба в воде. Он не мог жить без интриг. Это было его призванием. Борис видел, как этот человек прибирает к рукам все нити штаба, и, конечно, ни в какой мере не препятствовал этому. Напротив, как человек, попавший в штаб по протекции Николая Марковича, он во всем подчеркивал свое согласие с ним. Особенно не давал покоя Новохатко вопрос о том, откуда у полковника Беленкова английская салюта. — У него, несомненно, должна быть связь с генералом Хольманом, помимо пас, — сказал он однажды Бахареву. — А кто такой Хольман? — прикидываясь незнающим, сказал Борис. — Представитель английской разведки при штабе Деникина. Он, собственно говоря, и основал наш штаб. Видите, тут идет сложная игра. Хольман, конечно, интересуется сам, без третьих лиц, знать, как тут у нас обстоят дела. Он барону не очень верит. Однажды ранним утром Ухтомский сказал Борису: — Отправляйтесь сейчас на пристань. Около кассы вас будет ждать молодой человек в белой косоворотке, глаза голубые, блондин. Подойдете к нему и спросите: “Когда пойдет пароход до Константинов-ской?” Он ответит: “Пароход до Константиновской не ходит третий день”. Проводите этого человека по набережной до четвертой скамейки. — В котором часу я должен быть на пристани? — Немедленно, — ответил Ухтомский. Борис не решился забежать по дороге домой, чтобы сказать Вере о новом задании. “Это какой-нибудь связной от Говорухина или Назарова”, — подумал он. У старого дебаркадера, стоявшего у высокого берега Дона, на откосе, с которого тысячи ног стерли даже признаки какой-нибудь растительности, толпилось множество народу. Картина была обычная для того времени. Борис не без труда пробился к будке с покосившейся и полинявшей от дождей и солнца вывеской “Касса”. Рядом с кассой Борис заметил нужного ему человека. Его трудно было не заметить. Рослый, плечистый, с ярко-голубыми глазами, он выделялся в толпе каким-то особым, брезгливо презрительным выражением, не сходившим с его лица. — Когда пойдет пароход до Константиновской? — спросил у него Борис. — До Константиновской не ходит третий день, — ответил голубоглазый. Он поднял с земли серую холщовую котомку, в руках у него был потертый и выгоревший пиджак. — Идемте, я вас провожу, — сказал Борис. “А котомка у него тяжеловата”, — подумал он. Они вышли на набережную, где вдоль парапета тянулся ряд скамеек. Отсчитав четвертую с края, Борис пригласил гостя присесть. — Здесь! — сказал он. — Что здесь? — спросил приезжий. — Имейте терпение, узнаете, — ответил Борис. Гость посмотрел на него внимательно, но, ничего не сказав, присел на скамейку. Он положил рядом котомку и принялся скручивать самокрутку. “Табачок турецкий”, — заметил Борис. Он хотел было сказать что-нибудь на этот счет, но в следующую секунду замер: прямо по направлению к ним по набережной шел Павел Миронов. Он поравнялся с ними как раз в тот момент, когда приезжий, щелкнув зажигалкой, прикуривал. — Прощенья просим, — галантно сказал Павел, — позвольте прикурить. Борис чувствовал огромное напряжение. Зачем здесь Миронов? Что он собирается делать? — Благодарю-с, — сказал Павел и, даже не взглянув на Бориса, пошел по набережной дальше. Приезжий пристально смотрел ему вслед. — Мне кажется, — сказал он, — я сегодня видел этого человека на вокзале. — Они все одинаковые, — небрежно ответил Борис. — Кто это — они? — Спекулянты. — Откуда вы знаете, что это спекулянт? — А у кого могут быть такие папиросы, вы заметили? Потом одежда. Гость снова успокоился. В голове у Бориса уже шла напряженная работа. Это связной. Скорее всего из-за кордона. Павел появился для того, чтобы дать знать мне, что они уже засекли его, чтобы я не делал лишних шагов. Размышления его были прерваны появлением Ухтомского. Как обычно при встречах со связными, Борис встал и отошел в сторону. На соседнюю скамейку присели подошедшие два человека из команды Новохатко. Князь и приезжий сидели лицом к реке, на некотором расстоянии друг от друга, со стороны не было даже заметно, что они разговаривают. Борис занял скамейку с другой стороны. Как он ни напрягал слух, ему не удалось разобрать ни слона из разговора князя с гостем. Разговор продолжался больше получаса. Наконец приезжий встал, едва заметно поклонился князю и, подхватив на плечо свой потрепанный пиджачок, ушел. Тяжелая котомка осталась лежать на скамейке. Когда гость скрылся в улице, Ухтомский, захватив котомку, подошел к Борису. Он был взволнован. — Могу вас поздравить, Борис Александрович, — тихо сказал он, — выступление назначается на 23 июля. Нам необходимо срочно известить об этом отряды. — Этот человек от барона Врангеля? — спросил Борис. — Да, он из Софии, — князь передал котомку Бахареву, — несите, она что-то тяжеловата. Вечером в штабе состоялось экстренное совещание. Собрались руководящие члены организации в городе и представители из отрядов. Именно это последнее обстоятельство удержало Зявкина и Николаева на месте. В этом случае можно было бы наверняка ожидать немедленного выступления казачьих отрядов, остановить которое потом можно было бы только силой. На совещании Ухтомский дал распоряжение Борису огласить приказ по “Армии спасения России”. Начальником южного мобилизационного административного округа назначался полковник Назаров, ему же вверялось и командование всеми вооруженными силами округа. На совещании было решено, что Новохатко с командой своих “боевиков” будет полностью отвечать за ликвидацию в городе руководящих партийных работников. Участники совещания расходились, как всегда, по одному. Последними остались Бахарев, Беленков и Филатов, которого князь попросил задержаться. В углу на правах хозяина дома сидел Новохатко. — Все мы здесь, господа, друг другу доверяем, поэтому я хотел бы сказать вам об одной неприятности. Посланник Петра Николаевича, с которым я встречался сегодня, сообщил мне, что сведения о нашем штабе попадают в руки англичан каким-то образом помимо нас. Необходимо это обстоятельство устранить. Нам это крайне невыгодно, — сказал Ухтомский. Филатов и Новохатко, не сговариваясь, вместе посмотрели на Беленкова. Тот сидел как ни в чем не бывало. — Будет исполнено, ваше высокопревосходительство, — тихо, но внушительно проговорил Новохатко к снова посмотрел на Беленкова. — Теперь о вашем задании, есаул, — сказал Ухтомский. — Вместе с корнетом Бахаревым вам поручается нападение на тюрьму. Подберите себе людей сами. Я слышал, что у корнета есть знакомства среди служащих там охранников. Мы получили некоторые ассигнования и могли бы действовать не только оружием… Борис вспомнил о тяжелой котомке, оставленной сегодня приезжим. Значит, там были деньги, возможно, золото, подумал он. — Это облегчило бы нашу задачу, — улыбаясь, ответил генералу корнет Бахарев. В ту же ночь в здании на Большой Садовой совещались и чекисты. Сведения, сообщенные Борисом, полностью подтверждались другими данными и сообщениями Москвы. Была, наконец, обнаружена и линия связи с Врангелем. Еще несколько дней назад, когда полковник Васильковский сошел в Новороссийске с небольшого греческого судна “Апостолис”, он был взят под наблюдение советской контрразведкой. Чекисты не знали, куда и к кому именно явился этот курьер из Софии. Но когда на пристани в Ростове его встретил Бахарев, все стало ясным. Задерживать Васильковского пока не стали, надо было узнать, с кем он еще захочет встретиться. Итак, все было готово к ликвидации подполья в Ростове. Но, как это часто бывает, всего предусмотреть было невозможно.17. Я изменяю внешность
Поручик Милашевский этой ночью снова не спал в своей одиночной камере. Он прислушивался к тишине тюрьмы. У него не оставалось никакихсомнений в том, что в организацию проник агент красных и что этот агент — есаул Филатов. После побега Филатова оставалось много неясного. За долгие часы одиночества у поручика было время подумать и сопоставить факты, вспоминая случайно сказанные фразы и события последних месяцев. Вначале его подозрения распространились и на корнета Бахарева. Но затем он отверг их. Чекисты на допросах очень много спрашивали о Бахареве, в то время как о Филатове им было все известно. Потом Милашевский вспомнил разницу в поведении Бахарева и Филатова во время проверки у Говорухина. Корнет схватился за гранату, а Филатов что-то мямлил. “Дело было так, — думал поручик. — По просьбе Галкиной Бахарев пытался спасти Филатова, а чекисты, завербовав есаула, помогли ему бежать”. Потом пришли другие мысли. Допустим, красные сейчас не расстреляют его, учтут чистосердечные признания. Ну, а если произойдет переворот? Тогда вся вина за нынешний провал организации падет на него. И уж врангелевская контрразведка не простит ему его показаний. Что же делать? Эта мысль не оставляла Милашевского даже во сне. Утаив на допросе и карандаш, он написал записку Беленкову. В ней было всего две фразы, написанных примитивным шифром, которому научил его когда-то полковник: “Нахожусь в тюрьме. Есаул Филатов — предатель. Милашевский”. Уже четвертую ночь он вел осторожные переговоры с конвойным Кармановым, который, как казалось поручику, готов был выполнить его поручение. В коридоре тихо прозвучали шаги. Милашевский бесшумно подскочил к двери. Он открыл “волчок” — небольшое окошечко. У дверей стоял Карманов. — Давайте быстро, вашбродь, — зашептал он. — Зараз меняюсь. Только чтобы без обмана — золотом было уплачено. — Не сомневайся, братец, — сказал Милашевский, подавая в “волчок” записку. — Скажешь, что от меня, — заплатят. Отойдя от двери, поручик прилег на жесткую койку. Слабость охватила его. Куда пойдет сейчас этот дикий и жадный Карманов? К Валерии Павловне, как было условлено, или к Федору Зявкину? Но опасения Милашевского были напрасны. Рядовой Карманов из роты охраны Ростовской тюрьмы совершенно точно исполнил его поручение. Он отнес его шифрованную записку Валерии Павловне. Он сказал все, что было нужно, и что записка для господина-гражданина Беленкова, и что заплатить обещались золотом. — Хорошо, хорошо; любезный, мы заплатим. Зайдите к вечеру, — боязливо сказала Валерия Павловна, захлопнув дверь перед его носом. Однако вечером он был арестован. Но за то время, пока он отсыпался, произошли многие важные события. Получив записку, полковник Беленков, квартировавший у Валерии Павловны, заметался по комнате. — Черт возьми! Я так и знал! И это русское офицерство! — бормотал он. — Предатель на предателе! С меня хватит. Я ухожу к англичанам. Валерия, вам немедленно нужно уезжать! Куда? Куда глаза глядят. Собрав небольшой чемоданчик, тщательно осмотрев и перезарядив старый, но надежный наган, полковник осторожно вышел на улицу. Все было спокойно. Он быстро пошел к пристани, но на полдороге шаги его замедлились. Потом Беленков остановился. И вдруг решительно повернул к Торговой улице. В этот ранний утренний час на улицах было еще совсем пустынно. Анна Семеновна Галкина, услышав условный стук в дверь, осторожно встала с постели, и, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить есаула, подошла к двери, накинув халат. — Кто там? — шепотом спросила она. — Откройте, Анна Семеновна, свои! Она открыла дверь и увидела перед собой искаженное, как ей показалось, смеющееся лицо полковника Беленкова. Это было все, что она запомнила в тот момент; в следующую секунду тяжелый удар по голове свалил ее навзничь. Беленков вошел, тихо прикрыл дверь. И, перешагнув через лежавшую Галкину, крадучись вошел в комнату. Есаул Филатов мирно спал, раскинувшись на неширокой постели. Рот его был полуоткрыт, и в луче, проникавшем через занавеску, поблескивал золотой зуб. Полковник с минуту как зачарованный смотрел на эту золотую искру, словно о чем-то раздумывая. Потом, словно очнувшись, он коротко и быстро взмахнул зажатым в руке тяжелым наганом и ударил спящего в переносье… Он не ушел из комнаты, пока не убедился, что есаул Филатов мертв. Сняв свою фуражку с инженерными молоточками, полковник перекрестился. И, сняв со спинки кровати полотенце, деловито вытер им испачканный в крови наган. Стараясь не шуметь, он снова перешагнул через Галкину и, подхватив за дверью свой чемоданчик, зашагал по улице. Теперь он шел к штабу. Но если придерживаться последовательности событий, то именно в тот час, когда полковник Беленков, свершив свой суд, вышел на улицу, за двенадцать километров от Ростова на железной дороге около станции Аксай произошел такой случай. Поезд, шедший в направлении Новочеркасска, внезапно резко затормозил и остановился. По всем вагонам прошли люди, успокаивая пассажиров: — Спокойно, граждане, просим оставаться на месте, временная неисправность, сейчас поедем. А на площадке четвертого вагона в это время разговаривали два человека. Один из них молодой, с тяжелой колодкой маузера на боку, говорил пожилому, с висячими, подковой усами: — Гражданин Новохатко, давайте, чтобы тихо! Пусть ваши люди по одному выходят из вагона. Сопротивляться бесполезно, поезд оцеплен, и в вагоне половина наших. Новохатко стоял, прижавшись спиной к стене тамбура. Из дверей вагона на него хмуро смотрел второй чекист. Стиснув зубы, Новохатко взвешивал ситуацию. Еще в Ростове, садясь в вагон, чтобы с пятью своими телохранителями доехать до станции Кривянской, где их должны были встретить люди из говорухинского отряда, он заметил, что почти весь вагон занимают мужчины. “Что-то баб мало, — отметил он со своей обычной полицейской наблюдательностью. Но потом подумал: — Ну и пуглив я стал!” Действительно, ожидать засады в вагоне было трудно. Кто же мог знать точный день и час выезда? Только Ухтомский, который дал ему распоряжение. — Ну, так как, гражданин Новохатко, — повторил молодей человек с маузером, — будем ссориться или же тихо? — Черт с вами! — ответил Новохатко. — Доложите там, что без сопротивления. — Значит, жить хочешь, дядя? — белозубо улыбнувшись, сказал второй чекист. — Ну, правильно! Давай скомандуй своим. Через десять минут ростовский поезд уже снова мерно отсчитывал колесами стыки рельсов. А по направлению к городу пылил по проселку грузовичок, в кузове которого сидело человек двадцать. Столько же свободных мест оказалось теперь в четвертом вагоне. А в это время полковник Беленков, чувствуя в руках неуемную нервную дрожь, подходил к штабу. В сенях дома его встретила круглая старушка, которая всегда состояла при Новохатко. — Где Николай Маркович? — спросил у нее полковник. — А где же ему быть? — ответила она. — Нам неизвестно. Полковник с досадой плюнул. Из дверей показался усатый Семен. — Константин Эрастович здесь? — спросил полковник. — Внизу они, — Семен показал на подвал. — И господин Бахарев там. Цепляясь ногами за ступеньки, Беленков спустился вниз. В темном полуподвале Ухтомский и Бахарев при свете лампы возились с какими-то бумагами и картами. — Что случилось, полковник? — спросил Ухтомский, отрываясь от карты. — На вас лица нет. Кто-нибудь опять напал? — Теперь не до шуток, ваше превосходительство, — ответил Беленков. — Вам необходимо немедленно уйти отсюда, скрыться! — В чем дело, — в свою очередь, забеспокоился Бахарев, — почему именно сейчас? — Потому, что я не знаю, по каким причинам чекисты до сих пор еще не схватили вас! Организация провалена, нас выдал Филатов! — Ну, ну, спокойнее, — сказал корнет, — откуда это у вас такие сведения? — Я получил записку от Милашевского! Этого Борис никак не ожидал. Первым его порывом было схватиться за пистолет. Но в следующую секунду, уже овладев собой, он с улыбкой спросил: — От покойного? Ухтомский, больше удивленный, чем испуганный, снял пенсне, внимательно присматриваясь к полковнику. — В том-то и дело, что он жив и сидит в тюрьме, сегодня солдат из тюремной охраны принес мне его записку. — Может быть, фальсификация? — спросил Ухтомский. — Исключено. Записка написана шифром, который известен только нам двоим. Я его сам изобрел. С Филатовым я рассчитался. Теперь я ухожу в отряд. Ваше превосходительство, во имя дела спасения нашей родины вам необходимо скрыться, уйти из Ростова. Иначе… Анна Галкина медленно приходила в себя. В голове плыл какой-то колокольный звон. И вдруг она все вспомнила. Резко открыв глаза, она вскрикнула от боли в голове, но все же, держась рукой за стену, медленно поднялась и взглянула в сторону кровати. То, что она увидела там, снова подкосило ей ноги. С трудом открыв дверь в переднюю, Галкина добралась до умывальника. Выпив воды и не решаясь больше зайти в страшную комнату, она накинула прямо на халат пальто, укрыв голову платком, вышла на улицу. “Куда идти? — подумала она и тут же решила: — К корнету Бахареву”. На улице никто и не обратил на нее внимания. Держась за стены домов, она добралась до квартиры, где жил Борис. Дверь ей открыла Вера. — Боже мой, — сказала она, — кто это вас? — Где Борис Александрович? — Он ушел, — замялась Вера. — Я не знаю, да вы проходите. — Она подхватила падающую с ног Галкину и с трудом оттащила ее в гостиную на диван. — Беленков, — сказала, тяжело дыша, Галкина, — он ворвался к нам в дом, убил Ивана… он спал… ударил меня… ушел потом. Он револьвером ударил, ручкой. Он не придет сюда, не придет? Вы дверь заперли? — Она попыталась встать и снова упала, потеряв сознание. Вера положила ей на голову тряпку, смоченную водой. Постояла с минуту. “Обо всем этом немедленно должен узнать Федор Михайлович”, — подумала она. Как ни старался Бахарев затянуть разговор с. Беленковым, через полчаса ему пришлось согласиться — надо уходить. — Безопаснее всего — это отправиться пароходом по Дону, — сказал Бахарев. — У меня есть знакомые, они помогут устроиться на пароход. Он исчез и действительно, появившись часа через полтора, сказал, что все в порядке. Ему удалось договориться с капитаном парохода “Коммунар”, идущего вверх по Дону. — Поедем как боги, — сказал он, — нам дадут двухместную каюту. Князь не возражал. После прихода Беленкова на него напало какое-то безразличие. Полковник же всеми силами старался скорее уйти. Он даже не стал провожать Ухтомского на пристань. — Я изменю внешность, — сказал он, — и останусь в городе, но в ближайшее же время буду у полковника Назарова. С трудом пробившись сквозь толпу на пристани, князь и корнет Бахарев вошли в двухместную каюту, которую специально для них открыл матрос. Прозвучал пароходный гудок, и пристань, забитая народом, стала отходить назад. Где-то за городом уже садилось солнце. Бахарев закрыл дверь каюты и опустил деревянные жалюзи на окна. — Ну, кажется, позади этот сумасшедший день, — сказал князь. И, словно в ответ на его слова, дверь каюты отперли снаружи. В каюту вошли двое.18. Из воспоминаний бывшего начальника отдела представительства ВЧК Ефима Шаталова
Когда я и начальник отдела Дончека Васильев вошли в каюту, Ухтомский и Бахарев спокойно сидели друг против друга. Взглянув на нас, Ухтомский — он был одет в кавказский бешмет — обратился к Бахареву: — Что это за люди? Они будут сопровождать нас? Тот ничего не ответил. И мы предъявили им ордера на арест. Они прочли, и Ухтомский сказал: — Все кончено, я этого как будто бы и ждал. На первой пристани, кажется в Богаевской, мы их сняли с парохода и на машине доставили в Ростов, на Садовую, 33. С дороги предложили покушать. Князь был взволнован, ел мало, попросил крепкого чаю. После этого мы повели его в кабинет Н.Н.Николаева, где был и Ф.М.Зявкин. Допрос не был сложным. Вместе с князем Ухтомским в его портфеле привезли обнаруженный в копии мобилизационный план с разбивкой по округам. Все было ясно. Документы неопровержимы. Запираться ему было бесполезно. Он повторял только: — Я старый солдат, мне приказали, я не мог отказаться. Сложность дела заключалась только в том, что ростовский “штаб спасения” в то время еще не был ликвидирован. Операция еще не была закончена. Надо было доказать Ухтомскому бесцельность его борьбы и на этой основе попытаться убедить его и заставить содействовать бескровной ликвидации всех филиалов организации и ее вооруженных отрядов. Нужно было для этого, не прибегая к арестам, вызвать по распоряжению Ухтомского начальников отрядов, легализовать их и, в свою очередь, предложить обманутым рядовым казакам сдать оружие и разойтись по домам. Ухтомский упорно от этого отказывался. Утром к нам прибыл командующий Первой Конной армией С.М.Буденный, который долго вел беседу с Ухтомским, убеждая его, что Красная Армия сильна и ничего не стоит в короткий срок уничтожить все белогвардейско-бандитские формирования, но тогда кровь погибших останется на руках Ухтомского. Генерал долго отказывался и, наконец, согласился послать своего адъютанта Бахарева с приказанием полковнику Назарову срочно явиться в Ростов в штаб. Сложность всей этой операции заключалась во времени, нельзя было терять ни минуты. Был невероятный риск, что сведения об аресте Ухтомского могут просочиться, и все участники организации разбегутся, а вооруженные отряды начнут боевые действия… Москва, 1967 г. Е.ШАТАЛОВ член КПСС с 1918 г.19. Приказы и ультиматумы
— Вы сами, гражданин Ухтомский, и отдайте приказ вашему адъютанту, — сказал Федор Зявкин, — вас он скорей послушает. Когда Бахарев в сопровождении конвойного появился в кабинете, Ухтомский торжественно встал. — Обстоятельства, Борис Александрович, в данном случае сильнее нас, — он обвел глазами комнату, словно на стенах могли быть написаны нужные ему слова. — Вы молоды, впереди у вас вся жизнь… Сохранить и ее и сотни других жизней, может быть, это правильно. Только что я разговаривал с командармом Буденным. Он прав — наше сопротивление бесполезно. Борис стоял, опустив руки по швам, бледный от бессонной ночи. Уже несколько часов, во время допроса Ухтомского, он помогал Зявкину в завершении операции “Клубок”. Почти все члены подпольной организации были задержаны, но среди них не было полковника Беленкова. — Итак, — продолжал Ухтомский, — отправляйтесь сейчас к полковнику Назарову и передайте ему мой приказ: немедленно явиться в Ростов ко мне. Разумеется, о моем аресте ни слова. Так будет лучше и для вас и… для всех. — Он махнул рукой и сел на стул. — Слушаюсь, ваше превосходительство! Сидевший за столом Николаев обратился к Борису: — Мы дадим вам лошадей. Вас будут сопровождать наш сотрудник. Они остановились на хуторе Курган, где была передовая застава назаровского войска. Через нарочного вызвали полковника, и вскоре тот приехал в пролетке, запряженной парой лошадей. Впоследствии Назаров никак не мог объяснить себе, какая сила толкнула его тогда в пролетку. — Ведь чуял: не надо ехать, — стукнув кулаком по столу, сказал он через несколько часов, когда уже сидел в кабинете Николаева. — Ведь словно сила какая толкнула. — С князем потолковать захотелось, — сказал Зявкин. — Это мы понимаем. Итак, значит, честь имеем с полковником Назаровым? Разговор у нас будет короткий. Сейчас вы напишете приказ отряду сдать оружие, рядовым казакам разъехаться по домам, пройти в исполкомах регистрацию и мирно работать. Офицерам явиться с повинной в следственную комиссию; кто не участвовал в убийствах коммунистов и советских работников, будет амнистирован. Ясно? — Чего ясней! А если я такой приказ не напишу? — Тогда пеняй на себя! — жестко ответил Федор Зявкин. — Расстреляете? — Да нет, похуже будет! — Что же это похуже? — еле слышно выдохнул арестованный и судорожно глотнул. — А вот что, — Зявкин встал из-за стола и, обойдя его, подошел вплотную. — Свезем мы тебя обратно в Елизаветинскую и объявим перед всем народом, кто ты есть такой, сколько ты человек продал и сколько сейчас обманом довел до отчаянного положения, что им ни домой, ни куда не податься! Пусть они тебя своим судом судят! — голос Зявкина звучал ровно, спокойно. — А кто же я такой? — с глазами, полными ужаса, спросил арестованный. — Рассказать? — Зявкин взял со стола синюю папку с бумагами. — Авантюрист и предатель трудового народа, городовой четвертой части города Царицына Назар Моисеев — вот кто ты. В полковниках захотелось побывать? Как убил на берегу Маныча раненого Назарова, рассказать? Как документы присвоил, тоже рассказать? — Ладно, — сказал арестованный, — дайте бумагу, ваша взяла. Посланцы в Елизаветинскую, отбывшие с приказом полковника Назарова, не вернулись. Вместо них на следующее утро у подъезда Дончека осадили взмыленных коней пятеро казаков-делегатов. Вот что они привезли в ответ на приказ:“Уполномоченному Советской власти на юго-востоке России. Мы, сыны тихого Дона, притесняемые Соввластью, ознакомившись с приказом наших старших руководителей — князя Ухтомского и полковника Назарова, в коем мы призываемся к ликвидации нашего дела и добровольной сдаче оружия, за что нам Соввластью гарантируется полная неприкосновенность и гражданские права. Мы, со своей стороны, заявляем вам, что до тех пор мы не можем окончательно решить интересующие нас — обе стороны вопросы, пока не будут доставлены к нам князь Ухтомский и полковник Назаров, во всяком случае, последний обязательно. Срок доставки Назарова и Ухтомского назначаем к 12 часам в воскресенье. Присланных вами граждан мы по недоверию задерживаем до прибытия Назарова и Ухтомского, дабы точно удостовериться в правдивости их приказа и не был ли он писан под пыткой или угрозой расстрела. Наших представителей верните сегодня к вечеру. Комитет для переговоров с Советской властью. Подписи”.Чекисты собрались на срочное совещание. В середине совещания пришел Буденный. Он внимательно прочел послание казаков и, задумчиво поглаживая усы, сказал: — А где эти их делегаты? Мне бы с ними потолковать с глазу на глаз. — Пожалуйста, Семен Михайлович. Командарм ушел. Совещание продолжалось. Только к концу его Буденный снова вошел в кабинет. — Есть теперь и у меня предложение, — сказал он, хитро улыбаясь. Второй день станица Елизаветинская гудела митингами. Из окружных станиц и хуторов съехались многотысячные толпы казаков. Прибыли походным порядком и вооруженные сотни, скрывавшиеся в камышах. Огромный митинг, бурливший вначале на одной центральной площади, раскололся теперь на десятки малых, которые, как водовороты в пору половодья, носились по поверхности черного людского потока, захлестнувшего станицу. Они то исчезали, то появлялись в новых местах. — Сдаваться! — кричали в одном месте. — Нет больше терпения, братья казаки! Против своих идем! — Они тебе покажут, свои! Забыл девятнадцатый год? К полудню в воскресенье, к сроку, указанному в ультиматуме, страсти особенно накалились. Уже тяжко избили кого-то, грозились винтовками, с минуты на минуту могла вспыхнуть общая междоусобица, когда на станичную площадь влетели два молодых казачка, скакавших верхом без седел, охлюпкой. — Едут! Едут! — кричали они, истошными голосами покрывая шум. С гряды холмов по вьющейся пересохшей дороге течет вниз клуб пыли, а впереди него бежит небольшой открытый автомобиль. Он быстро влетел на площадь и остановился у самого края толпы, пофыркивая разгоряченным мотором и чадя непривычным запахом горелого бензина. Щелкнули дверцы. Два человека шли прямо на толпу. Впереди в полной форме, при всех своих краснознаменных орденах шел, придерживая рукой золотую шашку с алым орденским бантом, командарм Семен Буденный, за ним в кожаной куртке и фуражке со звездой шагал второй, в котором многие из толпы узнали председателя Дончека Федора Зявкина. Молча расступалась перед ними толпа. Приехавшие шли по узкому человеческому коридору. Потом, словно убедившись в реальности происходящего, люди снова заговорили: — Послухаем! — Эх! Орел Семен Михалыч! — Што ему! За бугром небось корпус стоит! Буденный и Зявкин поднялись на трибуну. Командарм обвел взглядом лица. — Здорово, станичники! — голос его, привычный к командам, звучал зычно. — Слышно меня? — Давай крой, слышно! — ответила толпа. — Тут кто-то про корпус сказал, — Буденный поискал глазами в толпе. — Ты, что ли? Нет с нами корпуса, и никого нет. Вон ваши пятеро скачут, приотстали. На дороге показались возвращавшиеся из Ростова делегаты. — Мутят вам головы, станичники, мы уже отвоевались, буржуев за море выкинули, а с вами, хлеборобами, чего нам воевать? Верно говорю: мутят вас, пора уж хлеб убирать, а вы воевать собрались? Полковника Назарова ждете? Нету никакого Назарова в природе. Вот товарищ Зявкин не даст соврать. Подбил вас на это дело бывший городовой из Царицына. Он полковника вашего убил в прошлом году на Маныче и документы его взял… Толпа зашумела. Справа от трибуны закипела какая-то свалка, кинули на землю человека, сомкнулась над ним толпа и расступилась. Осталось лежать распростертое тело. — Прапорщика Ремизова кончили! — крикнул кто-то. — Стрелять хотел! — Генерал Ухтомский сам подписал приказ, — продолжал Буденный. — Он человек военный, понял: ничего не выйдет. Конная армия в Ростове, а против нее кто устоит? Есть тут мои конармейцы? — Есть! — ответил с площади недружный хор голосов. — Вот пусть ваш делегат скажет! На трибуну поднялся пожилой казак. — Верно Буденный говорит, станичники, нету никакого полковника, а есть городовой. Я ему в рожу плюнул. А генерала Ухтомского мы сами видели, складайте, говорит, казаки, оружие во избежание дальнейшего кровопролития. Казак надел фуражку и, махнув рукой, сошел с трибуны. — Слушай меня, — голос Буденного гремел как перед атакой. — Бросай оружие здесь! — Он указал на небольшое пространство перед трибуной. — Расходись по домам! В тишине звякнула первая винтовка об утрамбованную землю, за ней вторая, и разом зашумела площадь. Летели на землю карабины, наганы, гранаты, пулеметные ленты, подсумки с патронами. В разных местах площади обезоруживали сопротивлявшихся офицеров. Буденный и Зявкин сошли в самую гущу толпы: — Ну что, станичники, — сказал, улыбаясь, командарм, — мы ведь в гости к вам приехали, забыли вы в своих камышах, как на Дону гостей встречают? И впервые за все два дня дружным хохотом, от которого сходит с сердца тяжесть, ответила толпа этой немудрой шутке.
ОБ АВТОРАХ
МОРОЗОВ Дмитрий Платонович родился в 1926 году. Во время Отечественной войны служил во флоте. После демобилизации работал следователем в Московской прокуратуре. Учился в Литературном институте имени Горького. Первый рассказ опубликовал в 1949 году в журнале “Советский воин”, затем выступал с рассказами на страницах центральных газет и журналов. С 1953 года Морозов — специальный корреспондент Всесоюзного радио. Автор повести “36 часов из жизни разведчиков”, которая опубликована также в ГДР, Чехословакии, Югославии. По мотивам повести Рижской киностудией снят фильм. Повесть “Оглашению не подлежит”, опубликованная в 1967 году в журнале “Сельская молодежь”, написана в соавторстве с А. Поляковым.ПОЛЯКОВ Александр Антонович родился в 1904 году в семье железнодорожного служащего на Дону. Окончил Морозовское коммерческое училище, где был секретарем комсомольской ячейки. В 1920 году добровольцем ушел в Восточную комсомольскую бригаду 11-й армии, освобождавшей Кавказ от меньшевиков. После освобождения Кавказа был направлен на работу в ЧК. Принимал участие в борьбе с бандитизмом на Дону, Кубани и Кавказе, в ликвидации белогвардейского подполья. В основу повести “Оглашению не подлежит” легли подлинные события, происходившие на Дону. Ее героями являются бывшие сослуживцы Александра Антоновича Полякова. А.Поляков — автор повести “Кодовое название “Медведь”, которая вышла в Ростове-на-Дону.
Юрий Перов Заложники любви
Светлой памяти дочери Маши посвящаю
Этот текст писался долго и трудно. Когда он был практически завершен, трагически погибла наша двадцатилетняя дочь Маша. Перечитывая текст в последний раз, я вдруг с мистическим ужасом обнаружил, что судьба дочери во многом схожа с судьбой его главного героя. О чем это говорит, я и сам не знаю. Порой мне кажется, что это некий знак, напоминание о том, чтобы мы все были внимательнее и добрее к нашим детям.Года два назад, долгим осенним вечером блуждая в полудреме по бесчисленным каналам телевидения, я случайно наткнулся на репортаж из Государственной Думы. Выступал какой-то депутат. Стоя на трибуне, он яростно отстаивал интересы мелкого и среднего бизнеса. Однако чувствуется приближение выборов — вяло отметил я, и хотел, было, перескочить на другой канал, но что-то задержало мой палец, уже нащупавший соответствующую кнопку. Лицо депутата показалось мне мучительно знакомым. Причем, знакомым не по телевизионным тусовкам, а давно, по той еще жизни. Приглядевшись внимательней, я узнал в депутате человека, которого много лет назад обвинял в убийстве, имея на то все основания… Я закрыл глаза, и предо мной встали события суровой зимы 1978/79 годов. Во всех ужасающих подробностях… В ту зиму я убежал от столичной суеты в подмосковный дачный поселок Щедринка, чтобы на пустующей даче друга, в полном одиночестве закончить свой первый, долго и трудно писавшийся роман. Так я стал невольным свидетелем этой трагедии… Я открыл глаза. Депутат, под одобрительные возгласы своих единомышленников, горделиво сходил с трибуны… Воспоминания эти снова сильно взволновали меня. Я вдруг увидел то время, откуда мы все вышли, и мне с безысходной ясностью стало понятно, почему мы сейчас живем так, как мы живем. Я решил описать события тех лет, добавив к собственному знанию рассказы очевидцев, документы, дневники, письма, записные книжки и прочие свидетельства эпохи, названной с чьей-то нелегкой руки эпохой застоя. При чем тут застой? Гниение — это очень бурный и трудно остановимый процесс. Авторского домысла — без которого, разумеется, не обошлось — в этом повествовании ничтожно мало.Ю. Перов
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ТИНА
17 марта 1978 г. Я поняла — ненавижу Наташу Ростову! Допустим, что Борис Друбецкой — это ее детское увлечение, но когда она встретила князя Болконского, она была взрослой. Когда она изменила Болконскому с этим красавчиком Лановым (исп. роли Курагина), то я не сдержалась и заплакала. Все мое существо восстало против нее. Я не могу согласиться с Л.Н. Толстым в том, что Ростова — положительный герой. Разве мы уважали бы девушку, если б ее жених пошел в армию, а она бы его не дождалась? Зверева говорит, что Ростова раскаивается и переживает, — значит, она хорошая. А я думаю, что переживают и плохие люди. Это ни о чем не говорит. Она просто глупая, что променяла такого человека на этого Курагина. По-настоящему глубокая и цельная девушка так поступить не могла. Не зря Л.Н. Толстой в конце произведения дает нам понять, что она самка и ограниченное существо! И ее увлечения Пьером Безуховым я не понимаю. По-моему, это компромисс. Она себя уговорила, что любит этого чудака. Конечно, это выгодная партия, но как можно любить такого человека, как Безухов? Любить можно только Андрея Болконского!!! А. немножко похож на него. И имена у них начинаются на «А». 18 апреля 1978 г. Долго не записывала. Была занята. Отец Ларисы Зверевой достал на базе настоящего джинсового материала. Голландского! Анюта-маленькая согласилась сшить за 30 рублей, как своим. Теперь нужно только достать пуговицы, зипы, лейблы — и будет настоящая фирма. Анюта шьет лучше фирмы. Она специально даже делает чуть-чуть кривой шов под фирму, ведь там конвейер. Говорят, пуговицы и клепки есть в Тарасовке. Говорят, не отличишь. Это будут первые настоящие джинсы в моей жизни. Кайф! Отец сказал, что скорее руку себе отрежет, чем купит мне «портки» за двести рублей. А если покупать готовые, привозные «Вранглер» или «Леви Страус», то дешевле не купишь. Настоящая «Монтана» еще дороже. А она лучше всех трется. Наш материал тоже хорошо трется, мы спичкой проверяли. Если проводишь спичкой, она должна синеть. Тогда — класс, фирма! А «Вранглеры» трутся хуже всех, зато ноские. Нам здорово повезло! Нам с Лариской джинсы со всеми делами обойдутся по 75 рублей. А отцу я сказала, что они стоят 50 руб. 25 руб. у меня было своих собрано. 19 апреля 1978 г. Зверевой повезло с родителями. У нее мама полная. Поэтому у Лариски грудь уже № 2. А мне вообще еще можно ходить без бюстгальтера. Если б мама не заставляла, то я бы и не носила. Хи-хи-хи, ха-ха-ха! Какие пустяки, какая ерунда! А Лариска врет, что А. схватил ее за грудь. Она, наверное, сама как-нибудь подставилась. Вечно прет, как танк, грудью вперед. Нашла чем гордиться! Это от нее не зависит. Зато у меня ноги длиннее и талия тоньше. И коса — девичья краса! 27 апреля 1978 г. Ура! Джинсы сидят в облипочку, как перчатки! 3 мая 1978 г. Вчера с утра шел дождь. Целый день валялась в постели. Все ходят вокруг, празднуют, телевизор смотрят, а я валяюсь. Какие все глупые! Я нос канцелярским клеем изнутри намазала — вот вам и насморк. А они врача вызывают, таблетки заставляют глотать, варенье на блюдечке подают… Сразу добренькие стали. Ненавижу! Всех! Как двести рублей родной дочери — так жалко, а как лечить — так наперегонки. А Лариску я все равно отравлю, чтоб не мучилась. Зачем ей, такой глупой, на свете жить?!! Толстая дура! Никогда не прощу! Ладно, допустим, ты дура, ну и дури на здоровье! А почему другие должны страдать? Зачем из других-то дур делать? Вот, спрашивается, зачем она Ленке Спиридоновой сказала? А та, конечно, все братцу выложила! А такого трепла, как Игорек Спиридонов, на свете больше нет. Ведь можно было все это сообразить. Ведь голова же не только для того, чтоб краситься. Господи, а как я готовилась к этой дискотеке! Ночь не спала. Все-таки первые джинсы в жизни! Они сперва немножко висели сзади, а главное, были широки в талии, а если их спустить совсем на бедра, то длинны в шаге. В общем, целая проблема. Хорошо, что у Лариски дом частный со своим отоплением. Мы натопили, заперлись, встали под душ прямо в джинсах и потом ходили, не присев, пока не высохли. Зато сидят теперь — класс! Лучше любой фирмы! А чем они, если разобраться, отличаются? Материал фирменный? Фирменный. Сшиты по фирме? По фирме! У Анюты все лекала фирменные, на любой размер. Лейблы, «флажки», железки подлинные, настоящая «Монтана», привозная! Нитки оттуда же, а не на кухне луком крашенные. Только клепки не настоящие. Но их даже в лупу не отличишь! Говорят, что наши прочнее, потому что металл толще. А все надписи на клепках — один к одному, как у фирмы. И вообще, кто же с лупой будет рассматривать? Еще в микроскоп посмотрите!.. Пришли на дискотеку — суперстар! Успех бешеный! Кузьмин минут десять рот закрыть не мог. Билюкина в своих задрипанных «Вранглерах» аж позеленела. А эти рокеры из 9-го «А» даже подсвистывать начали по-своему, когда мы с Лариской вышли в круг. Это у них высший балл. Потом девчонки окружили, щупают, спичками трут. А чего тут тереть — настоящее индиго. Фирма! Потом А. с Игорьком Спиридоновым показались. Они вечно всегда опаздывают, будто у них очень важные дела. Допускаю, что А. бывает занят, но какие дела у Игорька? У этого ботала! Язык бы ему отрезать! Ненавижу! С какой рожей он это произнес! Двинуться можно от злости! «А что, — говорит, — для самострока совсем неплохо выглядят!». А. отвернулся и, наверное, улыбнулся ехидно. Не хотел, чтоб я его улыбку видела. Пожалел! Нуждаюсь я в его жалости!.. Ненавижу! Влетела домой и дедушкиной бритвой отпилила косу. 9 мая 1978 г. Все еще праздники. Все еще празднуют. Я как посмотрю на косу, так плачу. Ее измеряли и взвешивали. Длина 63 см , а весит 770 г . Надо же, какой вес я на голове носила, как каторжная! Завтра — в парикмахерскую. Стрижемся под Гавроша и начинаем новую жизнь. Заходила Лариска. Видела А. с какой-то женщиной. Красивой. Вся тряслась от любопытства. А я знаю эту женщину. Это его мать. Она действительно красивая. Лариску я простила. Да здравствует новая жизнь!!! 14 июля 1978 г. Сегодня утром мы прилетели в Сухуми, и я решила записывать каждый день, прямо по свежим следам. Обидно будет, если то, о чем мечтала всю зиму, пройдет-пролетит и забудется. Когда мы приземлились, шел дождь. Это был тропический ливень. Правильнее будет сказать — субтропический. С ума сойти! Три часа — и я в субтропиках. Пальмы! После дождя мама раскладывала и сушила вещи, а мы вышли на набережную и ели настоящие хачапури, и пили настоящий кофе по-восточному в маленьких чашечках. А у нас дома пьют только растворимый, а в папин бокал вмещается почти пол-литра. И все равно он у меня хороший. Ведь если бы не он, не его рацпредложение, за которое он получил премию, я бы сейчас опять сидела у бабы Дуси в Добрянке. А то и вообще дома. Все и так говорят: «У вас дачная зона, вам никуда в отпуск ехать не надо». Посидели бы сами в этой дачной зоне!.. Зверева говорила, что когда ешь что-то первый раз в жизни, нужно задумывать желание, и оно сбудется. Я, когда ела хачапури и пила кофе по-восточному, оба раза загадала на А. Посмотрим-посмотрим… Так бы и писала бы! А может, у меня писательские способности? Да, кстати, джинсы здесь ни у кого не вызывают сомнения! Все пялятся — будь здоров. Особенно эти, грузины! Правда, у них тоже все клевое, сплошной вельвет, но все равно каждый оборачивается и смотрит, смотрит… Джинсы насквозь прожигают. Спать не хочется, а надо. Разумеется, я уже видела море. Совершенно невыразительное. Оно меня разочаровало. Вода и вода, только в тумане. Если завтра будет солнце, обновлю купальник. Все! Сплю! Сплю! 16 июля 1978 г. Какой ужас! Я сгорела и теперь дня три не смогу загорать. Погода вчера была непонятная, какой-то туман, солнце сквозь этот туман еле видно было, и совершенно не чувствовалось. Как сквозь марлю. Ничего себе марля! Я вчера чуть не загнулась. Пришла домой — ничего. Смотрю в зеркало — ничего, только чуть-чуть покраснела. Я ведь была уже загорелая. Зверева, когда узнала, что я точно еду в Сухуми, десять дней на пруды меня таскала, как на работу. Она сказала, что не допустит сраму и зажарит меня до кондиции, чтоб не стыдно было на приличном пляже раздеться. Правда, погодка была не ах, а я вообще плохо загораю. Но хоть чуть-чуть, но я загорела. А тут даже и не почувствовала ничего. Сели ужинать, а меня тошнит и знобит — вилку в руках держать не могу. Виолетта Михайловна, хозяйка, меня раздела, намазала сметаной, как блин, и — в койку. Температура у меня всю ночь была 39°, состояние — самое дурацкое, то в жар бросит, то в холод. Заснула только к утру. Сейчас уже все прошло, и я бы снова пошла на пляж, но Виолетта Михайловна не разрешает. Все еще 16 июля 1978 г ., вечер. Вчера, ночью, когда мне казалось, что умираю, я думала об А. И мне еще больше хотелось умереть. Раньше я думала, что счастье — это видеть его! Инфантилизм! Счастье — это обладать им! За эту ночь что-то изменилось во мне. Я стала другая, взрослая, решительная, сильная. Я знаю, что такое сильное чувство не может оставить его равнодушным. Он не сможет по-прежнему оставаться спокойным и высокомерным. Я верю в себя, в свою любовь. Я способна сделать его счастливым! P.S. Об обезьянах напишу завтра. Не могу же я на одной странице писать о нем и о них. И вообще, я, может быть, вырву этот листок. И эту горькую любовь я вырву из своего сердца. 19 июля 1978 г. Какой дневник?! При чем тут дневник? Купаться! Купаться и купаться! 21 июля 1978 г. Сухуми Зверева! Спасай! Я не шучу! Я нарушила все твои отеческие заветы. И не потому, что забыла о них. Помнила и нарушила. Я познакомилась с грузином! И пошла с ним в ресторан. Бедная мама, если б она об этом узнала, с ней был бы инфаркт. Она об этом узнает сегодня вечером. Ираклий придет знакомиться с моими предками. Я его увидела на третий день, когда, как дура, сидела сгоревшая под тентом и наблюдала, как другие купаются и загорают. Я сидела и читала «Декамерон» Боккаччо (из хозяйской библиотеки), а он лежал и спал, вытянув вперед сильную загорелую руку и положив на нее кудрявую, как у греческого бога, голову. Когда он проснулся, я чуть не прыснула со смеху, такой у него был дурацкий вид. Я думала, что это он со сна никак не может врубиться, а потом он мне сам признался, что как увидел меня, так просто остолбенел от потрясения. Не понимаю, с чего там столбенеть. Ты же знаешь, что когда я сгораю, то становлюсь вся свекольного цвета, как борщ по-флотски. Он настолько обалдел, что даже не решился со мной заговорить. Я, конечно, кое-что заметила, но вида не подала. Только книжечку чуть-чуть подняла, чтоб он название мог прочесть. Пусть знает, с кем имеет дело. В общем, он весь день как привязанный рядом крутился. У них там целая компания. Все черные, волосатые, страшные и гогочут по-своему. Страшные не в том смысле, что некрасивые, совсем наоборот, а в том смысле, что дикие. Лица у них разбойничьи или пиратские. Так и чудится кинжал в руках. А у Ираклия (правда, красивое имя? Как у Андроникова!) лицо греческого бога. Такой же нос прямой со лбом сливается, кожа нежная, бледная, глаза большие, а губы женские, чувственные. На другой день они играли в волейбол. Он прыгает, как пантера. Какая-то фифа сказала другой фифе: «Смотри, как он красив, как греческий бог! В нем ничего нет грузинского». Мне так противно стало. Разве можно так? Будто они в магазине духи себе выбирают… А на пальцах, в ушах! Так все и горит. Наверное, торгашки какие-то, а туда же, о греческих богах рассуждают. В общем, «в греческом зале, в греческом зале». Ой, кончаю писать! Пришел Ираклий. Сейчас пять, а он обещал в семь. Бегу. Представляешь, Зверева, какая я свинья, если только сегодня, 28 июля, вспомнила, что начала тебе письмо. Перечитала начало и решила ничего не менять. Пусть останется, как исторический документ о том, какая я была дура… Я прервала письмо в тот момент, когда пришел Ираклий. Я его теперь зову Ира… В тот день я тряслась, как дурочка. Он вдруг приходит не один, а со своим дядей Леваном. Такой большой, усатый и молчит, а вид как у главаря шайки. Когда он двинулся на нашего хозяина Анатолия Федоровича, я подумала: все! Сейчас душить будет! А они обнялись и стали целоваться. Здесь все мужчины при встрече целуются. Оказывается, этот дядя Леван и Анатолий Федорович знакомы. Оказывается, они оба «самые уважаемые люди в Сухуми». Тут, конечно, началось… Они привезли ящик шампанского, полвечера извинялись, что пришли без приглашения, но для этого есть причина, о которой будет объявлено позже… А на меня — ноль внимания. Дядя, тот один раз посмотрел и отвернулся, и физиономия каменная — ничего не поймешь. И тут я, дура, облегченно вздохнула… Честно говоря, я испугалась, когда Ира сказал, что придет в гости… Ну, как мне его объяснять? А тут вижу, что ничего объяснять не надо, и успокоилась. Только, как потом выяснилось, — зря. Но буду по порядку. Значит, перезнакомились все, сели за стол и началось… Пили за всех. Начали, конечно, с нас. Потом за дядю Левана, потом за хозяев, потом слово попросил дядя Леван и начал что-то хитрое гнуть про детей… Постепенно подобрался к Ираклию. Я аж покраснела. Рассказал, какой он примерный мальчик, как «почытаэт» папу и маму и бабушку; какая у него приличная семья; как он поедет в этом году учиться в Москву и будет, как папа… Я написала всего 10%. Они так длинно все говорят. Рюмку держать устанешь. А выпить нельзя и поставить нельзя. С этим у них строго. Потом встал Ираклий. Он сперва рюмку поднял, потом поставил и посмотрел на дядю и спросил: «Можно я так скажу, без вина?» Дядя кивнул. Знаешь, Зверева, дальше я постараюсь написать тебе слово в слово, как помню. Писать буду, разумеется, без акцента, потому что все это очень серьезно. Зверева, я влипла в очень серьезную историю. Видишь, за все письмо про А. ни разу даже не вспомнила… Это о многом говорит… О нем я еще напишу, но завтра, а сегодня больше не могу. Сегодня мы были в самшитовой роще, ловили рыбу на море, ели шашлыки и еще много, много было всего… Устала. Слипаются глаза. Бай-бай, Зверева! Ну вот, совсем другое дело! Провалялась до 9 часов. Ира придет в 11, есть время наконец закончить это многострадальное письмо. Итак, слушай, Зверева. Почему слушай? Неважно… Ираклий поднялся и заговорил, обращаясь к моим предкам: «Никто не знает, сколько он проживет. Никто не знает, что с ним будет завтра. Тем более трудно загадывать на много лет вперед. Но я очень хотел бы, чтобы ваша дочь была моей женой. Я понимаю, сейчас об этом рано говорить. Жалко, что тут нет моих родителей… Но я прошу поверить, что мои чувства никогда не победят моего уважения к вашей дочери и к вам. Может быть, жизнь распорядится по-своему, может быть, ваша дочь не сможет полюбить меня. Это не обидит меня, я все равно буду благодарен судьбе за то, что встретил ее. Мои слова могут показаться вам преждевременными, но поверьте, я сам не знал, что способен говорить такие слова. Сейчас я вас прошу только об одном — разрешите быть ей старшим братом. До тех пор, пока она не вырастет и сама не распорядится своей судьбой. До тех пор, пока вы не отдадите ее мне в жены». И сел. Потом поднялся, покраснел, поднял рюмку и сказал: «За вашу прекрасную дочь». И выпил. А дядя поцокал языком и сказал предкам и Анатолию Федоровичу: «Хорошо сказал, да? Мужчина!» А мой предок наклонился к матери и прошептал: «Мать, это что же, Тинку сватают, что ли?» А мать заплакала. Видишь, стержень кончился. А карандаш только красный. Куплю новый стержень, напишу новое письмо. Прощай, моя радость! P.S. Загорела я, как слон! Шкуру уже полностью сменила. А море все-таки ничего… Как там А.? Пиши: Сухуми, Главпочтамт, до востребования, Сапожниковой Валентине Валентиновне. 7 августа 1978 г ., Сухуми Зверева! Я влипла! Это какой-то ужас! Когда ты получишь это письмо, я уже, наверное, буду ехать домой, но, как говорил Л.Н. Толстой, «не могу молчать!» Ха-ха-ха! Я только что подумала, что ты подумала,что я влипла в известном смысле… Не пугайся, с этим делом все нормально, даже наоборот, но неизвестно еще, что хуже. Когда мы только познакомились с Ираклием, он мне даже понравился… Я тебе писала, что он очень красив. Но теперь я всю его красоту просто видеть не могу! Начали мы с ним встречаться. Он ведет себя скромно и вполне прилично. Хорошо, думаю, поначалу воспитанный молодой человек и должен так себя вести. Не всем же быть такими нахалами, как наш Игорек Спиридонов… Но, представляешь, Зверева, он до сих пор меня даже в щеку не поцеловал! Я уж и так садилась и этак, и придвигалась. Мне кажется, что ему это вообще не нужно. Он даже незаметно отодвигался от меня. Похоже, что он свое обещание быть мне только старшим братом понимает слишком буквально… Вот такие дела, Зверева. Но это было бы полбеды. Ведь он мне не очень нравится. Я, наверное, могла бы им увлечься, но он сам для этого ничего не сделал. Наоборот, он взял на себя какую-то дурацкую роль няньки. Представляешь, Зверева, он запрещает мне курить! И я, как дура, вынуждена ему подчиняться, потому что он вошел в контакт с моими предками. А те рады кому угодно спихнуть своего ребенка. Все дни и вечера мы проводим с ним. Это, Зверева, хуже, чем с матерью! Гораздо хуже! Та еще хоть что-то в состоянии понять и не звереет (прости за каламбур, Зверева), когда на меня кто-то посмотрит. Ей это даже приятно… А этот сразу хватается за воображаемый кинжал. Лицо у него делается серое, как штукатурка. Можешь ты себе это представить? А успехом я здесь пользуюсь фантастическим. Ираклий уже несколько раз затевал из-за меня драки. И один раз даже подрался с какими-то приезжими. А местные его почти все знают. Не скрою, Зверева, это очень приятно, когда из-за тебя дерутся, вообще приятно иметь успех, но очень противно, когда не можешь им воспользоваться. Пойми меня правильно — всех этих галантерейностей, знаков внимания, ухаживаний, угощений, подарков, путешествий, культурных мероприятий мне за глаза хватает. Просто в печенках у меня эти мероприятия. В широте и щедрости Ираклию не откажешь, но хочется чего-то другого… Да, кстати, он подарил мне клевые вельветовые джинсы фирмы «Леви Страус» песочного цвета. Говорит, что купил сестренке, но они ей малы. Наверное, выдумывает, но я верю. И предки мои верят. Они настолько уверены в его безобидности, что приняли подарок и глазом не сморгнули. Все это было им так преподнесено, что это мы ему сделали одолжение, просто выручили его, просто невозможно было не помочь ему в беде… Я ни разу у него в руках не видела денег. А вся красивая жизнь, все эти «Пацхи» — такие грузинские харчевни, где подают вяленую козлятину и красное вино «Аджолеши», — все эти машины, катера, все горы, ущелья, пещеры — это все как по волшебному слову. Скажет два-три слова по-грузински, и мы поднимаемся из-за стола и уходим не рассчитываясь… А официанты нас до дверей провожают и спасибо говорят. Вот это класс, Зверева! Я, кажется, уже привыкла к такой жизни. Все было бы хорошо, если б он был не грузин. Пусть даже будет грузином, но современным, без этих дурацких обычаев. Представляешь, он назначил меня своей невестой и успокоился. И может целый вечер сидеть с моим фазером и с Анатолией Федоровичем и произносить тосты. А я, как дура, должна сидеть тут же и делать вид, что все это меня ужасно радует. А тут еще одна радостная новость!.. Вчера окончательно выяснилось, что он едет в Москву учиться. Будет поступать на вечернее отделение в пищевой институт. А для этого он будет устраиваться на работу по лимиту. Теперь ты представляешь, как я влипла? И в Москве теперь буду «под колпаком у Мюллера». Веселенькая перспективка! Я чувствую себя буквально какой-то «проданной невестой». Все было бы ничего, если б он был нормальный парень. А то молодость проходит, и неизвестно что хуже: нахальный Игорек или стерильный и принципиальный Ираклий… Но одно полезное дело он все-таки сделал. Я представила, что было бы всего месяц назад, если б я прочитала про А. все, что ты мне написала… Был бы ужас, кошмар и попытка самоубийства. Теперь я холодна и спокойна, как айсберг. Меня совершенно не волнуют его романы. А с этой замужней у него все равно ничего не получится. Даже если и получится, даже если она такая дура и бросит своего мужа-журналиста и выйдет замуж за школьника, то все равно мне до этого нет никакого дела. Честное слово, Зверева. Все это куда-то ушло… Все это было в детстве… Да, на днях ходили с мамулей покупать бюстгальтер. Ираклий не одобряет, когда я хожу «бэз». Представь себе, у меня уже второй номер. И совершенно впритык. А папочка утверждает, что я даже подросла за этот месяц. Впрочем, это меня совсем не радует. Прощай, моя радость! Пришел Ираклий, и мы должны грузиться на машины — едем в Батумский дельфинарий. Целую тебя. Скоро увидимся. 1 сентября 1978 г. Сейчас прочла свою мартовскую запись насчет Наташи Ростовой. Смешно! Каким я, в сущности, была еще ребенком. Сколько во мне было детского экстремизма. «Ненавижу!» — и все! Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. А жизнь намного сложнее… Сегодня первый учебный день. Кончилось лето. У меня такое чувство, что еще что-то кончилось… Может быть, мое чувство к А.? Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! Красивая строчка получилась. Так и хочется ее еще украсить какими-нибудь крестиками и ромбиками… Ну, в самом деле, откуда такие дурацкие мысли? Что же в самом деле изменилось? А вот ничего. Только лето кончилось. Я, конечно же, волновалась, когда мы со Зверевой топали в школу. Господи, у нее лифчик уже третий номер! Что же дальше будет? Я чувствую, после родов ее разнесет ужас как. Никогда в жизни не опущусь, как некоторые… Замуж выйдут и считают, что жизнь кончилась, и начинают трескать сладкое и мучное. В конце концов, женщина ценится не на килограммы. Главное в женщине — шарм и стиль. Звериха радуется, что у нее — номер три, и не придает значения, что талия у нее уже 71 см . А у меня талия 58 см . Специально обвела рамочкой, чтобы видно было, чтоб через год и через два эта цифра была моей путеводной звездой, моим маяком и не позволяла распускаться. Все это — ерунда! А главное то, что я волновалась, когда шла в школу. Я придавала особое значение этой встрече. Я за три дня к ней готовилась. Почему? Потому что и вправду не только лето кончилось. Детство кончилось. Даже Зверева не только потолстела, но и повзрослела. А. похудел. Глаза стали темнее. Были совсем голубые, а теперь почти синие. Взгляд стал колючий… Был колючий, пока меня не увидел. Зверева меня предупреждала, что все упадут, но я ей не верила. Все-таки она трепло. Я боялась, что ничего во мне не дрогнет, когда я его увижу. И поэтому всю последнюю неделю я думала только о нем, о нашей встрече… В Сухуми мне иногда казалось, что мое чувство куда-то пропадает. И так жалко мне его становилось. Я имею в виду чувство. Странно, ведь я от этого чувства ничего, кроме неприятностей, не имела, а вот когда начала его терять, то тут же и пожалела. Странно устроена юная девушка. Ха-ха! Смейтесь, смейтесь, а я и есть юная прекрасная девушка! Которую без памяти любит красавец Ираклий Мелашвили и от которой просто обалдел весь класс, когда она вошла. В том числе и А. Конечно, мы с Лариской специально готовили мое появление, как цирковой трюк. Туфельки, юбочка, чулочки… Прическа, реснички чуть-чуть, едва заметно, чтоб учителя не зудели, колечко — подарок Ираклия, цепочка серебряная венецианского плетения. Зверева слюну, как собака Павлова, пустила, когда увидела. Я поклялась дать ей поносить. Но главное, как говорит Зверева, у меня появилась походка. То ходила и ходила, а теперь, как скажет Лариска, выступаю. Вот было бы интересно подсмотреть со стороны, потому что когда идешь мимо зеркала или витрины и смотришь на себя, то походка делается деревянной. Я и сама чувствую, что двигаюсь по-другому. Такое странное ощущение — сижу, стою, лежу, иду и словно чувствую все свое тело сразу. И оно одновременно и легкое, и тяжелое. Интересно будет прочитать эти записи лет через десять… Что-то я скажу по этому поводу? А мне наплевать! Слышишь ты, старая грымза? Наплевать на все твои кривые ухмылки и умные слова. Хочу на тебя посмотреть, как ты будешь ходить в свои двадцать шесть лет! Хочу посмотреть, кто тебя будет любить с такой же силой, как меня любит Ираклий? Он даже на прощание не позволил себе поцеловать меня в губы. Ведь я нарочно подставляла ему губы, а он чмокнул в щечку, и все. А сам аж дрожит весь. Я же чувствую! Вот это мужская выдержка! Хотя, конечно, это уж чересчур. Собираться жениться на девушке через полтора-два года и ни разу не обнять ее по-настоящему. А еще говорят, что грузины супермужчины. Ну все! И сама с собой в будущем поссорилась, и Лариску оговорила, и на Ираклия бедного накричала! Все сделала, кроме того единственного, ради чего дневник открыла. Вот и мама все время мне твердит, что не умею сосредоточиться. С этим надо как-то бороться! Начинаю. Записываю то, что собиралась с самого начала. Итак… Явились в школу мы с Лариской специально позже всех. Погода была отличная, во дворе гремела музыка, и директор через микрофон поздравлял первоклассников. Их насыпало целый двор. Мы тихонько подошли, и я сразу же увидела А. И сердце мое екнуло вопреки всем опасениям. Меня даже пот прошиб, и я, как говорит Зверева, покраснела до шеи. Хорошо, что мы подошли сзади незаметно. И весь митинг я видела А., а он меня не видел. Это позволило мне психологически освоиться. Потом мы с Лариской специально исчезли и проследили, как А. со своим вечным спутником Спиридоновым направились в класс. Потом, когда уже все вошли, поахали друг на дружку, поохали и немного успокоились, явились мы с Лариской… Сдавленный стон зависти и изумления прокатился по классу, когда стремительной и независимой походкой мы прошли за свою парту. Мне удалось дружески легко кивнуть А. и больше не смотреть в его сторону. Но боковым зрением я увидела, как расширились его глаза, как какая-то фраза застряла во рту, как недоуменно сошлись на переносице брови. Я всей кожей почувствовала, что он просто обалдел. И не только он. Но он больше всех. По-настоящему. Потом я весь день даже не смотрела в его сторону. Мне и не нужно было. Зверева служила мне перископом. Она сообщала о каждом его взгляде, о каждом движении… Когда мы выходили из школы после уроков, они с Игорьком, как миленькие, торчали около ворот. Потом тащились за нами почти до самого дома. Правда, им частично по пути, но тут все понятно без лишних слов. Итак — СВЕРШИЛОСЬ!!! Я счастлива!!! Оказывается, это очень, очень, очень приятно — быть счастливой. 19 октября 1978 г. Не понимаю, за что Пушкин любил осень? У нас в Щедринке это самое отвратительное время года. Листва облетает, и сквозь голые ветви становятся видны наши древние развалюхи во всех печальных подробностях. Как грустно, но красиво сказано! Жаль, что где-то я это читала… Может, когда-то эти дачи и были красивы, но сейчас… Все в гнилых заплатах. Где были витражи — серая фанера, вместо резных наличников — обломки, как обломки зубов в старческом рту. Или в рте? И то, и другое — некрасиво. И потом, эта желтая грязь… У нас четыре главные улицы засыпали дробленым известняком. Собирались асфальт положить, но почему-то раздумали. Так и осталось. И чуть дождь пойдет — расползается желтая грязь повсюду. Даже на стенки залезает. У нас в школе, хоть мы и переобуваемся, полы становятся грязно-желтыми. Остальные улочки и переулки осенью покрываются черной грязью. Идти можно только по кирпичикам и сиротским досочкам, которые хозяева выкладывают вдоль своих палисадников. И вороны, и галки… Они совершенно балдеют к осени. Галдят с утра до вечера. Собираются в огромные стаи и как бешеные крутятся над станцией. Боже, как меня раздражает это воронье! Невозможно спать по утрам от их галдежа. Есть что-то безжалостное в цифре «22». 23 октября Он ударил меня! 1 ноября Никогда не думала, что можно жить после… 3 ноября 1978 г. Неужели это и есть любовь? Но зачем же так больно? Ведь хочется праздника. Такого, как в тот день, когда мы вышли из школы, а они стояли с Игорьком и ждали нас… 3 ноября (вечер) Я никогда не верила в любовь, воспеваемую Мари-ванной. Меня всегда тошнило, когда она заводила на уроках свои песни о Джульетте, Татьяне, Онегине, Маяковском. Она у нас страшно левая, Мариванна. Она даже признает любовь Маргариты к Мастеру. После Мариванны книги в руки брать не хочется… Но я знала, что она есть. Другая, современная, красивая. И вот дождалась… Правда, я сама виновата, но кто же знал, что он будет так бешено ревновать… Ведь для меня Ираклий уже давно как родственник. Как двоюродный брат или как дядя… Когда он приходит к нам, то больше с предками общается. А на меня только глядит, как девица, печальными глазами. Нет, правда, я совсем как-то забыла, что он мой официальный жених… Из наших отношений не видно, что он будет моим мужем со всеми вытекающими… Хотя мне приятно, что он любит меня, каждый раз приносит цветы, конфеты, всякие милые подарки. Когда приезжает какая-нибудь импортная группа — привозит билеты в первые ряды. Представляю, сколько они стоят… Не будет же князь Ираклий стоять с ночи в очереди. Одним словом, меня Бес попутал. Саша что-то сказал, я обиделась и, чтоб поставить его на место, объявила, кто я такая и как ко мне некоторые относятся. Честное слово, это глупо, но у меня в голове как-то не связывались наши с Сашей отношения и Ираклий. Ираклий был там, где родители, бабушка, семья, а Саша — это другое, тайное, почти запретное и очень больное. Раньше я это скрывала от всех, кроме Зверевой, потому что любила безответно, а теперь потому, что боюсь наших безумств… Не знаю, как это у других, но у нас все чрезвычайно сложно. У него тяжелейший характер. Он ко мне не подходил десять дней. Да-да, заметил меня новую, взрослую 1 сентября, влюбился без памяти (я это теперь точно знаю) и не подходил. И вообразить не мог, как это взять и просто подойти к предмету любви. Вздыхал издалека. Преследовал тайно, как мальчишка. Мне уже начало казаться, что я ошиблась в нем, что он мельче, примитивнее того недосягаемого, неприступного А., который терзал мое воображение почти весь девятый класс… Чтобы еще больше не разочароваться в нем или, наоборот, разочароваться окончательно и спокойно забыть, я сама сделала первый шаг. Он был ошеломлен. Как потом оказалось, он даже и не подозревал о моей прошлогодней безответной любви. Браво, Сапожникова! Брависсимо! Когда я в нашем старом парке на берегу озера положила свои загорелые руки ему на плечи и поцеловала его в губы, он просто обалдел. Я даже испугалась, я думала, он или упадет в обморок, или закричит… Потом все разъяснилось. Он — поэт. В самом деле. Оказывается, у него, кроме меня, есть тайная страсть — Пушкин. Оказывается, он родился с Пушкиным в один день, 6 июня, и мать назвала его в честь Пушкина Александром, а по отчеству он Сергеевич. Оказывается, он пишет с самого детства. Он мне показывал свои детские сказки — очень мило. А в стихах его я, к сожалению, ничего не понимаю. Он пишет почему-то свободные стихи, без рифмы, без размера, очень похожие на переводы с иностранного. Называются эти стихи верлибры. Все это страшная тайна. И вообще жизнь моя стала тайной. Мы встречаемся тайком от всех. О наших встречах знает только Зверева. Он даже Игорьку не рассказывает о наших отношениях… Я совершенно другим его себе представляла. Он такой нежный, робкий. Но страстный… Поцелуями и ласками он доводит меня и себя до исступления. Были такие минуты, когда казалось, что все, больше нельзя! Еще одно движение, один поцелуй — и душа отлетит. А наутро нужно вставать, идти в школу… Там видеть его и не замечать. А коленки подгибаются, руки дрожат, на губах идиотская улыбка. Дальше поцелуев и ласк дело, разумеется, не зашло. Думаю, что и тут мне в конце концов придется проявить инициативу. У поэтов все так сложно… Представляю, что будет, если маменька засунет сюда свой носик. Дорогая мамочка, у тебя уже взрослая дочь выросла… А Зверева уже давно живет со своим Сережей и в голову ничего не берет. Ее Сережа говорит, что это не нравственные проблемы, а гигиенические, что в России традиционно ханжеское и примитивное отношение к сексу. Вся Европа давно отбросила предрассудки. У них давно уже не бывает трагедий на сексуальной почве. Это называется «сексуальная революция», мамуля. И это — факт жизни. А против факта, как скажет папуля, не попрешь. А я еще девица, в отличие от половины наших девчонок. Но не потому, что придерживаюсь твоей и Мариваннииой доморощенной морали, а потому, что так получилось. А могло получиться и по-другому. Вот так, мамуля! Привет папуле! Интересно бы узнать, как у вас все было. Да вы разве расскажете? Вы будете молчать, как партизаны. А может, у вас все так «положительно» было, что и рассказать стыдно? А меня неделю назад ударили! И я горжусь этим. Мне влепили настоящую пощечину, звонкую, на весь парк! Правда, я сама дура. Не стоило ему рассказывать об Ираклии… А назавтра он не пришел в школу. Зверева через Игорька выяснила, что он болен и врачи не могут понять, что с ним. Температура сорок и озноб такой, что зубы стучат, но никаких признаков простуды. Только я знаю, что с ним. У него любовная горячка! Мамуля, у папули из-за тебя была любовная горячка? Нет? Тогда молчи! Теперь ему лучше. Теперь-то у него нашли пневмонию. А почему сразу не нашли? Говорят, что с пневмонией можно проваляться двадцать дней. Значит, на праздники я буду одна… Приходить к нему он не разрешает, потому что поэт. Выйти ко мне не может, потому что больной поэт; Как же с ним сложно, Господи… И постоянно чего-то не хватает… Какого-то праздника. Словно купили тебе потрясное вечернее бархатное платье с декольте, а пойти в нем некуда… Я, наверное, на ноябрьские праздники поеду со Зверевой в Москву. У ее Сережи будет веселая компания. С девчонок собирают по пятерке, а с мальчиков — по десятке. Только бы в Москве с Ираклием не встретиться. Я ему наврала, что буду у Зверевой на девичнике, и запретила приезжать. Как это трудно и ответственно быть любимой! 10 ноября 1978 г. Сегодня — День милиции. Предки в гостиной смотрят праздничный концерт. Как я его ждала… Это было всего неделю назад, а вспоминаю об этом, как о другой жизни, другой эпохе. Высоковский выступает. Предки смеются. Милиционеры смеются. А мне неинтересно. Мать позвала. Я сказала, что болит голова. И тут же пожалела об этом. Мать тут же налетела коршуном: что болит? как болит? Ни-че-го! Просто ваш концерт дурацкий, с вашей дурацкой Пугачевой и с вашей дурацкой Толкуновой, и с вашим дурацким Хазановым мне неинтересен! Мамуля сперва жутко удивилась, потом обиделась и, поджав губы, уплыла. По-моему, она поняла, что имеет дело уже с другим человеком. Софию Ротару объявили. На ее месте я бы не согласилась участвовать в такой сборной солянке. Одно дело, когда ты гвоздь программы, а другое дело, когда вся программа из таких же гвоздей. Папашка говорит, что перед милицией, как перед Богом, все равны. Это у него шутка такая. По-моему, не очень… Господи! При чем тут милиция, концерт, папашка с его шутками?! Как трудно писать правду! Даже самой себе! А равных не бывает! Зверева хочет переходить в другую школу… Как она объяснит это своим родителям? А может, лучше мне перейти? А как я это объясню своим? Никуда я не буду переходить. Ничего я не буду делать. Никому ничего я не буду говорить. Потому что… Потому что я не виновата. Бедная Лариска, она это поймет очень нескоро или не поймет никогда! Сперва она ушам не верила. Потом долгое время не хотела верить своим коровьим, прекрасным глазам. А я поняла все сразу. Как только мы вошли к Сергею, я про себя шепотом, вернее не шепотом, а громко, но про себя, сказала: «Он!» По-моему, и он это почувствовал. Он даже немножко испугался и растерянно посмотрел на Ларису, как бы спрашивая: а что же с тобой теперь делать? А вот она ничего и не заметила. Она, как гусыня, выставила свою огромную грудь вперед и пошла вперевалочку, словно она хозяйка бала. «Мальчики, девочки, очень приятно, очень приятно, кто-нибудь хлеба купил? Где консервный нож?» Сергей лишь на секунду замешкался… Он тут же поймал мой взгляд на Ларису, понял мое к ней по-дружески ироничное отношение и включился в игру. В ту игру, в которую мы играли только с ним вдвоем… Он начал (а может быть, начала я, а он только поддержал, теперь трудно сказать) делать вид, что Зверева настоящая хозяйка в его доме, как я делала вид, что она настоящий командир в нашей паре. Я с каждым пустяком бегала к ней за советом или разрешением, а он, когда обращались к нему со всякими там организационными вопросами, отсылал всех к ней. Как с ним было легко! Какой он был тонкий, понятливый партнер! Как в нем все широко, щедро! Как элегантно он одет, как воспитан, с какой великолепной естественностью и непринужденностью держится! Бедная дуреха Зверева и сотой доли этого не может оценить. А как он мило сожалеет по этому поводу. Он дал мне это почувствовать в первые же пять минут знакомства. А какой великолепный тост он произнес. Он говорил, что сегодня счастлив по-настоящему, потому что его окружают друзья, потому что за столом столько прекрасных дам! Кроме нас со Зверевой, были еще две невнятные тетки, почти старухи, лет по двадцать пять, которые смотрели на нас свысока и разговаривали через губу. Но ничего, мы им показали! Потом он говорил, что только сегодня понял, что значит быть по-настоящему влюбленным… И смотрел при этом на Звереву, а та разомлела, расквасилась. Клянусь, я подумала, что сейчас она язык этим теткам толстоногим покажет, потому что одна из них, как мы с Лариской вычислили, была с Сергеем раньше. В общем, как писал дедушка Крылов, у Лариски «от радости в зобу дыханье сперло». А говорил-то он это мне! Все до последнего словечка, до последней точки. И никто на свете, ни Зверева, ни эти тетки, ни их кавалеры (неплохие мальчики, один из них такой забавный, Миша Галкин, потом Звереву утешал), никто ничего не понял. Зверева поняла лишь тогда, когда Сережа семь раз подряд пригласил меня на танец. Но она придумала себе, что Сергей на нее обиделся за то, что она кокетничала с Мишей Галкиным. Она начала выяснять с Сережей отношения и была при этом жалка и смешна. Потом она быстро напилась и стала плакать. Потом одна из теток начала выступать, и Сергей прогнал их обеих. Второй мальчик, не помню, как его зовут, поехал их провожать в Дегунино. Потом Миша Галкин увел Звереву в родительскую спальню. Сергей, оставшись наедине со мной, как-то смутился, засуетился и стал до того близким и родным, что у меня все внутри опустилось… Я подошла к нему, положила руки на плечи и, глядя прямо в глаза, сказала: — Ты собирался показать мне свою комнату. Теперь Гурченко! Вот образец несгибаемой воли и жизнеспособности. Надо же, имея так мало внешних данных, так много добиться в жизни. Моя мать была в молодости намного привлекательнее. Да и сейчас… И голос у нее сильнее, а много ли она имеет? Сидит в крохотной двухкомнатной квартирке и смотрит на чужой успех. Прости меня, мамуля, но это правда. Я люблю тебя, но если ты когда-нибудь прочтешь эти строки, я тебя возненавижу! Так и знай. Ты всегда говорила, что меня заносит на поворотах. Прости! Я знаю, что ты мой друг, но тебе не нужно за мной шпионить, я сама расскажу тебе все. Вот сейчас выйду, выключу телевизор и расскажу. Что, испугалась? Сиди, смотри и ничего не бойся. Я тебя не отвлеку от праздничного концерта. А жалко, что Гурченко не послушала. Через стенку — не то. Боже мой, какая я лицемерка и ханжа! Мамочка, не обижайся, но это твое воспитание. Все кручусь вокруг да около, все изворачиваюсь. Саня сказал, что я скрытая графоманка, когда я ему рассказала, что веду дневник и делаю длиннющие записи. А я и не собираюсь стать профессионалом. Я пишу только потому, что не могу думать в голове. Не все же такие умные, как он… Нет, серьезно, он очень умный. Я бы даже сказала., он «благородного ума человек», как Ираклий — человек благородной души. А какая я умная — с ума сойти! Конечно, он поймет, что я не могла поступить иначе! Что я НЕ ВИНОВАТА ни перед Зверевой, ни перед ним, ни перед Ираклием, ни перед всем светом. Я поступила так, как требовало, как приказывало мое женское естество. Во всех книжках по сексу (мы со Зверевой начитались — будь здоров!) сказано, что первый раз — самый главный. Мне все уши прожужжали, что это больно, что это страшно, что с первого раза ничего не узнаешь, а я узнала все! Все до конца. Я узнала нестерпимое наслаждение, пусть перемешанное с болью, но наслаждение! Я узнала счастье, к которому почти подходила, почти дотягивалась во время наших мучительных, сумасшедших встреч с Сашей! И еще я узнала власть! Ираклий не в счет, потому что мне никогда не нужна была власть над ним. А тут я пришла, сказала сама себе: «Он», и взяла его, несмотря на Звереву с ее грудью и прекрасными коровьими глазами, несмотря на теток, на то, что сам Сергей заранее не был готов к этому. Теперь я понимаю Наташу Ростову. Андрей Болконский был ее идеальной любовью, а Анатоль Курагин — страстью. А сопротивляться страсти — это безнравственно, это губить и ее, и себя. И неизвестно, как все обернулось бы, если б ей удалось уехать с Курагиным. Мне удалось! И теперь я… 21 декабря 1978 г. Вот это письмо: «Прощай, любимая! Как долго даже про себя я не мог выговорить эти два слова. Как долго я не мог поверить, что оба они — правда. И второе, и первое. Я не знал, что это будет так больно. Как долго я не хотел смириться с этим. Демоны ревности, подозрительности, мстительности раздирали меня на куски. Я убегал на озеро (помнишь поваленную липу?) и выл в голос, как собака по покойнику. Один раз я вспугнул своим воем влюбленных. Я их не заметил в сумерках и от стыда озверел. Кричал, прыгал, корчил рожи. А она оттаскивала своего парня за рукав. Она, наверное, чувствовала, что со мной нельзя было связываться. Потом я наконец заплакал. И с этой минуты мне стало легче. Боль усилилась, но очистилась от грязи, от душных ночных кошмаров, когда я вскакивал и начинал одеваться, чтобы пойти и убить его. Потом тебя. Потом себя… Малодушие, ярость, зависть, ревность, жалость к себе — это ушло. Спасибо тем влюбленным. Меня вдруг озарило, что ты это сделала не для того, чтоб меня обидеть, заставить страдать. Ты меньше всего думала обо мне… Я вдруг увидел вас вместо этих влюбленных. И тут я понял — ты не виновата, как не виноват я в том, что по-прежнему, или еще сильнее, люблю тебя. Я отчетливо увидел, как вы, прячась от людей и от меня, сидите на своем бревне среди снегов, как ты прижалась к нему и счастлива и не чувствуешь ни холода, ни времени. Прощай и прости меня, любимая. За все. За то, что было до… И особенно за то, что было после. Впервые я почувствовал это, когда ты пришла ко мне после праздников. Игорь сказал тебе, что я дома один и жду тебя. Ты передала с ним, что будешь через час. Я очень волновался, ведь ты первый раз шла ко мне домой. Я видел в этом какой-то особенный, скрытый смысл. Как только ты вошла, я сразу увидел, что это уже не ты. Но не поверил своим глазам. Мы поздоровались. У тебя были сухие, горячие, как при температуре, руки. Ты поцеловала меня… Ткнулась горячими, обветренными, как в лихорадке, губами в мою щеку, и едва уловимая гримаска исказила твое лицо. «Колючий», — улыбнулась ты. «Хорошо, я побреюсь… Ну, здравствуй!» Я обнял тебя за плечи и притянул к себе. «Здравствуй, здравствуй. Мы уже поздоровались», — и слегка повела головой в сторону, словно тебе воротничок тесен. Прости, любимая. Не читай. Я понимаю, что пытаюсь облегчить свою боль за твой счет. Порви и выкинь это письмо… Просто я не могу это удержать в себе. Все во мне насторожилось. Взгляд замечал любую мелочь. Да еще Игорь все уши прожужжал своими праздничными рассказами… Почему же она молчит о том, как провела праздники? Нет, не спрошу. Пусть начнет сама… А ты болтала о всяких пустяках, что-то про Звереву, про то, что она на тебя в очередной раз дуется (глупец, я не придал этому значения), о моей болезни, о Толстом. Оказывается, ты перечитываешь «Войну и мир». Что-то о школе… Потом ты заторопилась, стала искать свои перчатки. И когда ты уже положила руку на дверной замок, я не удержался и спросил: «Как праздники провела?» — «Нормально, — сказала ты, возясь с замком. — Если б Звериха не напилась и не начала буянить, было бы совсем хорошо. Этот ее Сережа — интересный парень… Ну, ты его знаешь, он в „Резисторе“ летом живет. У него мотоцикл „Иж-Планета“, такой красный. Там еще одна парочка была. Сережины друзья… А со Зверихой в приличном месте нельзя появляться, она со своими приколами просто смешна. У Сережи классные записи, весь „Бонн М“, потом еще новые, „Пинк флойд“, еще одна чикагская группа, забыла, как называется. Тяжелый рок». Ты сняла руку с замка и говорила, говорила… И не могла остановиться. Я наконец узнал тебя. Рассказывая о нем, ты вдруг стала прежней, родной. Я молча слушал тебя. Ты вдруг опомнилась и остановилась, словно споткнулась. И испугалась, и украдкой взглянула на меня, пытаясь понять, выдала ли себя? Заметил ли я? Нет-нет. Я ничего не заметил, захотелось мне крикнуть, продолжай! Я даже улыбнулся, даже покивал, даже попытался поддакнуть… Но ты уже поняла, что увлеклась, и, кивнув мне, выскользнула из квартиры. Меня колотила крупная дрожь. Я со стоном повалился на кровать и укрылся одеялом с головой. Я скрежетал зубами, я не знал, что это только начало. Хотя почему начало? В тот первый день я знал уже все во всех страшных подробностях. Но этого мне было мало. Я начал искать доказательства… Игорь мне врал. Наверное, он и сам сперва не знал. Его-то вы смогли обмануть. Потом, после болезни, я увидел его со Зверевой, и мне все стало ясно… Потом около магазина я невольно услышал рассказ Фомина. Красочный, с подробностями. Он истосковался с лета по любимому занятию и вдруг напал на единственное во всем поселке светящееся окно… Представляю, как он стоял и мерз, боясь переступить, чтобы снег не скрипнул под валенками, как он смотрел на счастливых любовников, рассеянно оставивших щель между шторами… А когда он назвал твое имя, я ударил его… Потом ничего не помню. Мне рассказывали, что я свалил его на землю и бил ногами. Этого я не прощу ни себе, ни ему… Сперва я искал доказательства в твоем взгляде, рукопожатии, во вранье Игорька, в сочувственных взглядах Зверевой, а после этой драки я стал от них прятаться. Но доказательства твоей подлости и неверности (прости, но тогда я так думал) буквально преследовали меня. Прости, любимая. Мне понадобилось много времени, чтоб понять самое главное. А самое главное в том, что мы оба — и ты, и я — хотим одного и того же — счастья тебе. А со мной ты не была и не будешь счастлива. Это я тоже понял, сидя на корявом липовом стволе, , еще не остывшем после влюбленных. И еще я понял, что любовь — это страшная болезнь, от которой никто не застрахован. Против нее не существует иммунитета. Вирус этой болезни дремлет в крови каждого живого человека, до поры до времени… Болезнь эта может вспыхнуть в каждую секунду, без всякого предупреждения, от одного-единственного взгляда… И тогда вся наша размеренная, спокойная жизнь разлетается на куски… И сделать ничего нельзя. Нет лекарства от этой болезни. Нет противоядия. Мы все — заложники любви. И своей и Его. Ведь чем Господь сильнее нас любит, тем большие испытания он нам посылает… Прощай, любимая. Спасибо тебе за счастье любить. Ведь этого у меня забрать нельзя. А». Я это письмо вынула из ящика только вечером, когда убегала к Сереже. Он ждал меня на своей даче. В подъезде и на улице было темно. Я только разглядела, что вместо обратного адреса там стоит «А». Как мне все надоело. Ну почему не подойти по-простому в школе, почему не спросить по-человечески: «Тинка, в чем дело?» Я бы ему все выложила, как на духу. Честное слово! Я сунула письмо в полиэтиленовый мешок, где лежала косметичка. Мешок этот с рекламой джинсов «Монтана» мне подарил Сережа. Ему предок из Штатов привез целую пачку в ладонь толщиной. Когда деньги у нас кончаются, Сережа берет из пачки штук десять и сдает знакомому фарцовщику по трояку. А тот их гонит по пятерке или по шесть. Мы пили настоящий заграничный джин с черными ягодками на этикетке. Сережа пил с тоником, а я — с пепси-колой. Балдеж! Джин — классная штука. Потом Сережа анекдоты рассказывал — сдохнуть можно! Я каталась от смеха. Просто до слез. Все ресницы потекли. Полезла в косметичку — письмо выпало. Сережа и виду не подал. Воспитание есть воспитание. Но я не захотела, чтоб у меня были тайны от него. И считаю, что поступила правильно. Я распечатала письмо (оно было без штемпеля, значит, приходил он сам тайком) и начала читать. Хорошо, что я ресницы по новой не успела накрасить, а то бы опять зарыдала черными слезами. У меня живот заболел от смеха. Даже обидно за него стало. Ведь вроде умный парень, стихами интересуется. Ну нельзя же таким дурачком себя выставлять… Некоторые строчки мы по два раза перечитывали… Сережа начал икать от смеха. Он чуть не навредил нам этим письмом. Мы совершенно обессилели от смеха. А силы нам были очень нужны… Мы встретились не просто так. И пили не просто так. Мы принимали меры… Да-да, мамулька. Жизнь — есть жизнь. Сережа очень надеялся, что эти таблетки и наши «экстренные меры» помогут. Почему-то не получилось. Хоть мы очень старались. Не будем делать трагедии… Дело житейское. Сережа обещал специальный укол. Я женщину сравню с вином: и так же голову кружит, и улучшает мир, и делает счастливым человека, и причиняет непереносимые страдания. Но главное их сходство в том, что так же, как вино, покорно сосуда принимает очертанья, собой его заполнив без остатка! 14 января 1979 г. 0 часов 22 минуты. Со старым Новым годом вас, Валентина Валентиновна! С новым счастьем!!! Здоровьица Вам, успехов в учебе и в личной жизни. Удачи во всех Ваших начинаниях И окончаниях. Предки допивают шампанское и, наверное, спать пойдут. Я тоже выпила. Но потом с кухни пахнуло жареной бараниной, и я еле успела выбежать… Это называется токсикоз. Обычное дело для беременных. Из раздела «любопытные факты»: меня рвало чистым шампанским, и оно было пенное. Мамочка очень подозрительным взглядом проводила меня. Мне кажется, что она все знает и только выжидает. Характер выдерживает. Как гриф-могильщик, сидит на скале и внимательно наблюдает за жертвой… Ждет, когда я брошусь к ней в ножки или сдохну! А я уже и не скрываюсь. Когда я по утрам после чашки чая в уборной давлюсь — на весь дом слышно. Ладно, отец, он всегда был дубовый и ничего, кроме своей работы, знать не хотел, но мать-то не может не слышать и не делать соответствующих выводов… Я тут поймала себя на том, что у меня давно готова целая оправдательная речуга. Я только добавляю в нее каждый день… Я скрывалась, скрывалась, а на самом деле сама ждала, чтобы мать заметила. Чтобы все разрешилось и закончилось хоть как-нибудь. — Все равно как! Но сама я никогда не скажу. Ох и скандалешник будет, когда все выплывет!.. Я даже знаю примерно все, что она мне скажет. Ненавижу! Скорей бы… Вот сдохну на самом деле, тогда посмотрим, как вы все запоете! Всех ненавижу! Нет во мне ни одного грамма любви. И следа ее нет. А еще полгода назад я была счастлива хоть издалека увидеть А. И этого мне хватало на целый день… Господи, как много может случиться с одним человеком за какие-то полгода. Какая я была счастливая! Какая глупая! Пролистала дневник на полгода назад и еще дальше. «Я ненавижу Наташу Ростову!» Боже мой, какой детский сад! А ведь мучилась, переживала… Денек бы так пожить. Неужели когда-нибудь наступят такие времена, когда я и сегодняшний день буду вспоминать с тоскою и завистью? Мне кажется, все все про меня знают, и только не показывают вида. Наблюдают из укромного местечка, чем же дело кончится? Ручки потирают от любопытства… Всех ненавижу! Кончаю дневник! Может быть, завтра сожгу, чтобы никогда самой себе не завидовать. Все! Все! Все! Все! Все! Все! Все! Все! Все! Все! Все! Все, наконец! 14 января 1979 года. 3 часа 47 минут. Не сожгла и не сожгу! Никогда. Вот если б сожгла, то кому бы сказала, что он подонок? Кому это интересно? И меньше всего — ему самому. Ну, хорошо, пусть случайность, пусть действительно вывихнул ногу, бедняжка, с кем не бывает… Допустим, что родители все время дома, но хоть по телефону можно по-человечески поговорить с любимой девушкой? К чему все эти игры, когда сперва занято, занято, потом: «Алло! Алло, перезвоните, я не слышу», а потом к телефону никто не подходит. И так несколько дней подряд. Если ты мужчина — скажи прямо всю правду. Зачем крутить? Зачем бегать от меня, глупенький! Ведь мне ничего от тебя не нужно… Ни твоих уколов бесполезных, ни твоих денег… Какая я старая стала. Смешно вспомнить, как ему в рот заглядывала, каждое слово ловила, каждый взгляд. И что он такого особенного говорил? Какие такие особенные слова? Названия фирм, названия групп, тяжелый рок! Ну, в машинах разбирается… Хотя откуда я знаю, что разбирается? Из чего это следует? Откуда я могу знать, что он не врет, когда говорит, что «БМВ» лучше «Мерседеса» или что «Форд» — это марка для клерков средней руки? И вообще, какое это имеет значение? Вчера Зверева заходила. Преступника всегда тянет на место преступления, это еще Достоевский говорил. Как только она вошла, я поняла, что она пришла, чтоб соврать. С ее мозгами только врать… От нее за версту несет его духами. А ведь мне нравилось, как он пахнет. И нравилось, что сильно пахнет… А может, взять и родить? А что?.. В соседней школе одна девчонка в восьмом классе родила, не убили же ее за это. Даже наоборот — отовсюду повышенное внимание. Стали относиться с уважением. А как же! Была школьница, а стала молодая мать… Взять и родить такого маленького Сереженьку, чтобы машинками увлекался, чтобы любил любовью под музыку заниматься, чтобы при малейшей трудности к телефону не подходил или отвечал чужим гундосым голосом: «Вы не туда попали, девушка». Взять и родить такого маленького подоночка… Спокойной ночи. 14 января 1979 г . 6 час. 15 мин. Вот и расплата! Я перечитала Сашино прощальное письмо. Теперь остается только удавиться. Так мне, скотине, и надо! Мало еще тебе, тварюга мерзкая! А ведь казалось, что все начисто забыла — и как пили, и как читали письмо по очереди, и как ржали, словно гиены в зоопарке, как потом под музыку «принимали меры» и, подкрепившись, снова читали «особенно смешные» места про то, что все мы «заложники любви». Гнида подлая… Сашенька, миленький, родненький, не прощай меня! Плюнь ты мне в рожу, когда встретишь. Убей ты меня, убей! Только не прощай! За такое нет прощения… Оказывается, ничего не забыла. Даже, как он письмом, словно веером, обмахивался, когда вспотел… Господи, благослови влюбленных! 2 февраля 1979 г . Сегодня я проснулась от (Это последняя запись в дневнике Тины Сапожниковой.)ИГОРЕК
Он вообще-то был нормальный пацан… Мы всегда вместе ходили. Ну, там в кино, на танцы, в декушку, в смысле в дека, в Дом культуры. Вообще-то я его всегда туда тащил, а он насчет этих дел был квелый. Но главный был он. Ну, знаете, как бывает, когда двое или трое пацанов дружат. Когда четверо — это уже не дружба, а двое — это по-настоящему, а когда четверо или там пятеро — это другое… Он всегда был центровой, а я сбоку. Нет, правда, другой бы стал вкручивать, а мне не стыдно, потому что он был центровой в натуре. Но на диско там, в киношку всегда я его тащил… Он насчет этого был квелый. Он не курил, не пил, а пацаны его уважали. Знаете, другой и так, и так, и вообще на него ноль внимания, или вообще за шестерку держат. А Саньку уважали. Позапрошлым летом один приехал из Москвы… Ну, дачник, на лето… Ну, такой упакованный весь… Сплошная фирма! Ну, такой, крутой Бес, так смотрит гордо, а Санек — ничего… Ну, мы с пацанами подвалили, мол, покурить, то, се… Ну этот шикарный Бес достает пачку «Мальборо», и мы закуриваем. А у нас Толян, дружок есть. Такой нормальный пацан, только маленький. Он в детстве болел… Ну, ростом, как пятиклассник… А на самом деле два месяца как от хозяина. Срок тянул… Ну, с зоны в общем. За драку сидел… Ну, этот Бес с «Мальборо» (а маечка на нем такая клевая — «Феррари»), Толяиу не дал, говорит, курить — здоровью вредить. И улыбается. А здоровый такой лоб, накаченный… Он всем пацанам дал — и уже вроде бы свой, а Толяну — фунт прованского… А тот такой кепарь носил, как до эпохи материализма… Бес ему этот кепарь на нос натянул и говорит: «Курить — здоровью вредить!» Он думал, что Толян — салабон. Ну, в смысле салага, пацан. Он же не знал, что у Толяна всегда «перышко» при себе, что он сейчас разлинует его, как школьную тетрадку… Мы вообще-то струхнули, потому что если Толян заведется, то его не остановишь. А если б он этого Беса пописал, то срок бы ему намотали на всю катушку, потому что вторая судимость. А «перо» у него такое клевое — на кнопочку нажмешь — выскакивает. Он его самопиской звал, в смысле авторучка, шутил. Ну, я вижу, он руку в карман. У него такой карман длинный на джинсах… И Саня видит. Ну, думаю, все… сейчас он в лапшу эту маечку «Феррари» распустит. А Саня не курил… Ну, да я уже говорил. Он тогда подошел к этому Бесу и руку протянул. Ну, этот москвич по пачке щелкнул по-фраерски и ему вроде бы сигарету предлагает. А Санек руку держит и даже не смотрит на него… А пацаны этого Беса вроде немного знали. Он лета три подряд приезжал… Они с ним вообще-то не очень, потому что тот всегда с понтами, но не трогали. Он на мотоцикле, потом жвачку импортную всегда носил… Но не уважали. А Толян как раз сидел, и Бес его не знал. Ну слышал, наверное, Толян, Толян, а так, в лицо не видел. Если б знал, то остерегся бы, а тут стоит и лыбится, а Толян в длинный кармашек двумя пальцами лезет. В общем, выщелкал Бес сигарету, а Саня руку не убирает и даже в его сторону будто не смотрит… Ну, тот допер и положил ему пачку в ладонь. Я подумал, что Саня отдаст пачку Толяну… Я бы отдал… Тут чего хочешь отдашь, потому что тот никак самописку из кармана вынуть не может, но ведь все равно вынет. А от Саньки никогда не знаешь, чего ждать. Нормальный пацан, центровой. Вот я бы отдал пачку Толяну, а тот еще неизвестно, что сделал бы… А Саня спокойно так вынул сигарету, Толяну в рот вставил, а пачку как была в руке, так и смял одним движением,только табак в стороны брызнул. Ну, он пачку в кусты бросил и так спокойно говорит Бесу: «Курить — здоровью вредить». Пацаны стоят ржут. И Толян заржал и руку из кармана вынул, чтоб прикурить. Бес видит, что ловить нечего, и потопал. В общем, если б не Саня — не знаю… Вообще-то Фомин нормальный мужик! Вот, к примеру, он вчера тебя заловил в чужом саду, а сегодня ты придешь к нему, тех же яблочков принесешь — и порядок: «Привет, дядь Вась!» — «Привет, Игорек!». Или бутылку «червивки», в смысле «плодово-выгодного». Ну, тут ты вообще лучший кореш! Он любит всякие фокусы. Вот ты пришел, и вас двое, а он наливает сразу в стопки, в складной стаканчик, в майонезную банку, еще в какую-то медицинскую фигню для полоскания глаза, еще во что-нибудь такое, пока всю бутылку не разольет. Выпили по рюмочке, потом еще, а он себе выбирает, куда побольше вмещается. И не останавливается, пока все не опорожнит. А ты хочешь — пей, хочешь — отказывайся, его это не колышет. А так вообще-то он нормальный мужик. Он сам эту штуку придумал — «телевизор» называется… Вы наши озера знаете, да? Там на высоком берегу, ну, где раньше усадьба была, такой дом стоит заколоченный. Ну, там еще клуб был, киношку крутили… Мы туда бегали, когда совсем еще пацанами были. Я рассказывал… Ну, там теперь вроде сарая, садовый инвентарь, тачки там, лопаты, метла. У Фомина от этого дома ключи есть. Кореша у него в тресте озеленения. Все повязано! Там, на чердаке, он и установил «телевизор». Это стереотруба такая двойная, военная. Как рога у улитки. Знаете вы ее, в кино видели. Ну, там у него вообще все в порядке. Он туда кресла, такие сколоченные по шесть штук в ряд, из бывшей киношки притащил. Урна там для окурков, стаканы — нормалек! Со всеми удобствами! Сидишь, как король на именинах, и смотришь в «телевизор», ну, в общем, в эту трубу… А там весь берег, как на ладони, и две кабинки пляжные, переодеваются в которых. Ну вот прямо руку протяни — и герла твоя, со всеми своими делами… Кайф! Целый день можно сидеть. Лучше чем в кино. И все кусты, где парочки, как на ладони… В сто раз лучше, чем в кино. Принес бутылочку червивки и смотри хоть целый день. Он эту трубу у генеральши получил, как говорят, за особые заслуги… Ну, за это самое, сами понимаете… И футляр такой клевый, кожаный. Он ее там на чердаке никогда не оставляет, прячет где-то, а то давно бы сперли. Я бы не тронул, конечно, а пацаны у нас деловые. Человек шесть уже с судимостями. Толян вообще все время с собой самописку носит. Это такой ножик автоматический. Я уже говорил. Санек тоже посмотрел раз или два. Я его потом звал, а он, бывало, отмахнется, мол, да ну его, и пойдет, посвистывая. Он Фомина не любил. Он его козлом вонючим звал. Вообще-то Фомин, конечно, воняет… Он «Памир» курит. К нему в сторожку без противогаза не войдешь! Шучу, конечно. Но амбре у него там — будь здоров! Нюхнешь разок — закачаешься. Потом принюхаешься, притерпишься, и вроде ничего. Фомин в баню-то только по большим праздникам ходит, да и собаки там у него. Хотя собаки лучше людей пахнут, потому что это животное, чего тут противного? Все натуральное. А вот когда Фомин на тебя перегаром после своей любимой червивки дыхнет, тут только держись… А у Санька нюх был, как у собаки. Он чуть что — брезгливо нос сморщит и отваливает. «Не могу, — говорит, — задыхаюсь». А в тот день мы с Витьком Фомину рубчик кинули, он за червивкой побежал, а мы устроились с комфортом. У нас с собой пивка три бутылочки было. В общем, сидим, пивко потягиваем, покуриваем, как белые люди. И «телевизор» с пятнадцатью программами, только без звука. Хочешь, в кусты смотри, хочешь, в раздевалки… Или в воде кто-нибудь свою герлу плавать учит… Ну, это у них так называется… Она визжит, пасть разевает, а не слышно — кайф! В тот день мы смотрим — Санек на пляже. С ним еще трое. Один такой деловой, упакованный, на «шестерке» ездит, музыка у него в машине клевая, японская. В общем — центровой мэн. Геннадием Николаевичем зовут. Они с Саньком корешманы были. Ну, а с ними еще парочка. Герла такая масластая, как цапля, и еще один фраерок — ни рыба, ни мясо. Вообще-то герла была ничего. Ноги из подмышек… И на фэйс, в смысле, на личность нормальная. Загорелая такая. Когда переодевалась, так тут и тут все белое, как нарисованное. А груди маленькие… Я мало видел. Это все Витек смотрел, его очередь была. У нас уговор — десять минут по часам. По-другому нельзя, не получается. Ведь бывает такое кино, что не оторвешься, а ведь другим тоже хочется… Витьку она не глянулась. Он таких не любит. Он любит, чтоб было на что посмотреть и за что подержаться. Ну, в общем, мне самый конец достался… Нет, она была нормальная, такая заводная… Им всем рыбу мешала ловить. Все время прыгает, ржет, за удочки хватает. Смотрю — Санек пасет украдкой ее… А «мне сверху видно все, ты так и знай». Он-то думает, что его никто не видит и на нее косяка кидает, а тут все видно. А ей приятно. Я так и сказал Витьку: «Смотри, — говорю, — она тоже на Санька глаз положила». А этот в очках с лысиной, здоровый, наверное, ее муж, ничего не сечет. А этот деловой, Геннадий Николаевич, на них поглядывает, свой кайф ловит… Потом была Витькина очередь. Я пивка глотнул, а когда снова к трубе приложился, они уже все купались. А Санька нормально плавал. Всех нас на спор перегонял. Он, правда, года два в бассейне занимался… А тут эта герла его вроде наперегонки приглашает. Поплыли. Смотрю, Санек ее вроде пропускает. Он ее сделал бы одной рукой, не глядя. Ясно — нарочно пропустил, с понтом. Ну, она первая выскочила на том берегу. Довольная, как муха на варенье… Ну, Санек поздравляет, руку жмет… Разлеглись, вроде загорают… То она на него посмотрит, то он на нее. А потом она с понтом глаза закрыла и якобы спит. Санек сел рядом, взял травиночку и по ноге ее тихонечко так повел, как муравей ползет. Ну, она с понтом рукой стряхивает, будто не понимает, что к чему… А ноги у нее классные, и купальник такой тоненький — одна полосочка. Мне и то все видно, а Санек вообще рядом. Я смотрю — он совсем завелся, у него встал, и он не знает, что делать… Ну, в воду скорей, охлаждаться… А она точно видела, что он завелся, что у него встал, потому что, когда он от нее к воде бежал, она глаза открыла и улыбнулась ему в спину. Ну, знаете, как они улыбаются, когда довольные… Потом, когда вечером мы все собрались, Витек и говорит: «Что это за герла была с тобой масластая?» Ну, Санек сперва смолчал, отмахнулся, мол, знакомая, в смысле дачница. Ну, Витек тогда с дуру и брякнул: «А мне такие не нравятся. Даже посмотреть не на что — доска и два соска». Санек ему так тихо: «Кончай трепаться!» А Витек если варежку открыл, то заткнуть ее уже нечем. «А почему это, — говорит, — я треплюсь? Мы ее, — говорит, — с Игорьком сегодня по телевизору видели… Ее крупным планом показывали. Только соски и торчат… Как у Найды, когда она щенков кормит». Тут Санек ему врезал. У Витька даже сосуд в глазу лопнул. Он потом месяц ходил, как Фантомас. В то лето Санек вообще с нами не гулял. На танцах ни разу не был. Он влюбился в ту длинноногую. Я его отловил разок вечером и говорю: «Ну, ты чего?» А он: «Не твое дело!» Ну я, понятно, больше не возникал. А в то лето клево было. Мои предки в отпуск уехали, в деревню, а меня с сеструхой оставили. У меня сеструха-двойняшка. Мы с ней не похожи, хоть и двойняшки. Она старше меня на два часа. Ее предки за старшую оставили. Все деньги, конечно, ей. А у нее подружка, Зверева Лариска, из нашего класса. Ну, мы загудели… У Лариски — магник. Высоты, четыре кассеты, еще «Бони М». В общем — класс музычка! Ну, мы гудели… Я звал Санька. Потом к сеструхе еще подружка из Москвы приезжала, Светка, продавщица из «Детского мира». Здоровая телка, курит, как паровоз. Ее в углу зажмешь, она только дышит. Ничего… Я Звериху попробовал зажать, так она такой хай подняла. Можно подумать! Я их видел с тем Бесом, которого Санек тогда с «Мальборо» наказал. Ну, дачник из Москвы, его Серега зовут. Ну вот, я их засек. Он Звериху куда-то на мотоцикле возил. Машина у него, центровая! «Планета-спорт». Он руль там поднял и подправил кое-что… Еще две фары поставил, что-то отхромировал, ну, в общем, класс! На вид один к одному «Судзуки». Ну, в общем, супер! У этого Беса предок — какая-то большая шишка. Машину ему купили, когда он в институт поступил. Вернее, его поступили. У его папаши там лапа волосатая. Я не завидую, на фиг мне этот институт?! В общем, я видел, что Серега возил куда-то Звереву на мотоцикле. Их часов пять не было. Понятное дело, парень с девкой — музыки не надо, как Фомин скажет. Мы тогда еще с Серым не дружили, и я подумал: Катайся, катайся, зараза, я тебе сделаю «козью морду». Есть такая шутка: натягивают проволоку между деревьями над дорожкой, ну, мотоциклист едет, по шее — чик, и нет головы. Ну это я так, с понтом, конечно… Это я Толяну со зла брякнул. Толян еще предложил шины порезать. Но мне машину было жалко. Крутая машина была. Серый, когда с места брал, она на дыбы вставала, как конь. Я Звериху понимаю. Когда Серый предложил мне проехаться, я рад был. Люблю технику! И когда Сашка пришел ко мне за деньгами, я у Серого взял. У нас с сеструхой уже не было, мы все, что нам предки оставили, прогудели. В общем, достал я тогда деньги, сели мы на мою «Верховину» (это мопед такой) и на соседнюю станцию, в цветочный магазин. А я и не знал, куда едем… Он мне сказал: надо — и поехали. Вот такие у нас были отношения. В магазине он купил корзину с цветами, туда сунул бутылку шампанского, и мы дунули обратно. Я сперва думал, что это у его мамаши день рождения. А когда мы подъехали к даче Геннадия Николаевича, где жила эта длинноногая герла, я просто обалдел. Я настолько обалдел, что ничего ему не сказал. *** Предположим, спишь ты как мертвый, потому что вчера у тебя был нормальный джем сейшен — ну, бардачок такой легкий с музыкой… А тебя будят грубым стуком. А ты только глаза закрыл в половине пятого… И вообще все тело ломает, как будто тебя палками вчера отчухали. Честное слово, я еле встал. Мы, правда, квасили всю ночь, в смысле газовали, но дело не в этом… Просто оказалось, что Светик — чемпионка Москвы по гребле. Мы с Серым решили «посошок» организовать, типа «расходняк». Мои предки в понедельник приезжали, а суббота — наша. И мани были — Саня вовремя должок Серому вернул. Я же говорил, что Санек никого никогда не кидал. За это его все уважали. А Серега-Бес говорит: «У меня этот угол свободен». Угол — это четвертак, двадцать пять рублей. Мы — на его «Планету» и к Нюрке толстой. Я от вокзала Светику в «Детский мир» позвонил. Она как раз на работе оказалась. Телефон там у начальства на столе, ну она мне в ответ: «да», «нет», «не знаю». В общем, я у нее спрашиваю, как насчет сейшена с легкой музыкой? А у Серого записи — класс. У него даже эта рокопера есть «Иезус Кристос — суперстар». Fly, в общем, Светик говорит: «Не знаю»… Ну, я надавил на психику — она говорит: «Да». — «Только не поздно». Я говорю, что будем пить, мадам? А она: «Не знаю». Я говорю — коньяк, виски, джин? А она: «Я только сладкое». Ничего, да? Ну ладно! Мы для себя взяли бутылку виски «Клаб-69», а для девочек «Салюту» шесть бутылок. Нормально, да? Я так жалел, что Серый с Саньком не контачат… Они же оба нормальные пацаны… Ну, в общем, приехала Светик. А Серый ее еще не знал, только слышал от меня. Он как увидел ее и говорит: «Привет, Крошка». К ней эта кликуха так и прилипла. А у нее рост 175 сантиметров . У нас с Серым было намечено первым делом сеструху мою Ленку вырубить. Она хотела, чтоб мы кого-нибудь для нее позвали, но я не захотел. Во-первых, некуда. У нас двухкомнатная квартира, и если все будет путем, то где мы все разместимся?.. А во-вторых, она же мне все-таки сеструха. Ну чего я буду ее своими руками под кого-то подкладывать? Пусть даже под Витька? Был бы у нее кто-нибудь — тогда ладно, и то я бы еще посмотрел… Когда Серега предложил мне устроить сейшен с ночевкой, я засомневался… Ну, чего, думаю, Светка останется? Она же целоваться, обниматься — пожалуйста, а чуть что посерьезнее — так брыкается, что летишь и кукарекаешь. Честное слово! А главное, я только в ту ночь узнал, что она чемпионка Москвы по гребле на байдарках. А Серега говорит, что не бывает неприступных женщин. Тут главное — не спугнуть. Ты бы сразу всю батарею на стол выставил — знай наших! Ну и все! Считай, соскочили. А тут надо аккуратно… Поставил одну бутылочку «Салюта» на стол, включил музычку… Танцы-шманцы, обжиманцы… Разгорячились, всем жарко, в глотке пересохло, а тут еще одна запотевшая появляется. Она пролетает в одно касание! И опять танцы… Потом они уже сами попросят, мол, не найдется ли чего-нибудь попить… А там уже после третьей — дело техники. Ну все точно расписал Бес, как по нотам. Я бы и вправду на стол всю батарею сразу выставил и попер бы, как на буфет. Я тогда еще глупый был… А он мне говорит: «А ты вообще-то пробовал хоть раз?» — «Конечно — говорю, — у меня была одна… Моя дальняя родственница. Ну, она взрослая совсем, ей лет под тридцать. Мы с ней один раз за грибами ходили… Она специально к нам приезжала за грибами. Она разведенка. Ну, мы там в лесу с ней и начали… Это еще в прошлом году было». Вот так я и вру целый год про эту нашу родственницу. Ну чего, спрашивается? Она нормальная баба, и в лес мы с ней ходили, и я даже нечаянно подсмотрел, как она за кусточком писала… И вообще у нас с ней дружба. Мы так разговариваем, будто у нас с ней все уже было… Она мне все рассказывает. Наверное, все могло и быть. Я очень хотел и она хотела, как я теперь понимаю, только я никак начать не мог… А тут, когда Светик согласилась приехать на сейшен, меня как током ударило — «сегодня». Я нормально к ней относился. Конечно, не так, как Санек к своей длинноногой. Я вообще считаю, что все это придуманное, ну, всякая любовь там… Хочешь девчонку — это я понимаю. Нормально. Так ты и эту хочешь, и ту, и от той не отказался бы… Так человек устроен, природа… А все остальное — фуфло! Придумали, чтоб то, что есть на самом деле, скрывать. И у девчонок — то же самое. Все они вроде недотроги, все вздыхают — ах артисты, ах любовь! А сами такие же, как мы. Это я в тот же вечер понял. А Светка мне нравилась. У нее такие брови густые и на переносице сходятся. Красиво. Ну ладно, мы, как по графику, третью раскупорили. Все шло нормально. Зверева с Серым, я со Светиком, а Ленка не вырубается, зараза, хоть я ей больше всех подливаю. Она вдруг начала гулять по буфету — сама себе наливает, хохочет. Надыбала, что у нас в холодильнике еще есть, и принесла сразу две. Сейчас, говорит, мы устроим салют. Отвинтила проволоку, а пробки не вылезают. Холодные бутылки. Она их и трясла, и ногти обламывала, и зубами пыталась… А музыка центровая! «Бонн М», «Распутин», «Вавилон» и еще группа как-то называется, вроде «Чикаго фраер». Ну, я отвалил на минутку, а прихожу — чуть фары на лоб не вылезли. Сеструха, дура, голая на столе танцует. Ну, не голая, это мне со страху так померещилось, а в купальнике. Это она перед Серым исполняла танец живота. И при этом лифчик пытается расстегнуть… Ну, думаю, зараза, ты у меня сейчас спляшешь. А шухер поднимать не хочется, чтобы весь кайф не поломать. А то от скандала все протрезвеют… Ну, я тогда, наоборот, Светику говорю: Ну, а ты, Крошка, так умеешь?» Та тоже на стол залезла, правда, в джинсах. Но рубаху вынула и на животе завязала. А живот у нее такой… Где-то загореть успела. Ну, думаю, я не я, а сегодня обязательно! Сегодня я уж начну как-нибудь. А то все ребята давно попробовали, а я только делаю вид, что центровой, а сам, как фраерок, начать боюсь… Потом вообще сеструха Серому на шею кинулась и стала целоваться — это чтобы Зверихе навредить… А та надулась. Она вечно из себя целку-невидимку строит. А как же, интеллигенция! Папаша — директор базы! Ну потом мы доперли, с чего сеструха так гуляла. Мы с Серым пошли за виски, оно у нас было в буфете заныкано. Смотрим, а бутылка открыта и граммов сто не хватает. В общем, сеструха минут через пятнадцать отъехала. Мы ее сволокли на ее девичью кроватку в другую комнату. Я-то сплю на диване в кухне… Спеленали ее там, как младенца, но она еще дала нам шороху… Дальше все, как по нотам. Моя Крошка вдруг собралась домой. А мы уже и пятую бутылку «Салюта» оприходовали… Только мы теперь туда еще и виски по пятнадцать капель добавляли. Ну, Крошка намылилась, значит, домой, а поезд-то уехал! Последний! Потом я не все помню… Нет, правда! Вообще-то все, что было, я помню, только вот что сперва, а что потом — не помню. Ну, а Серый центровой! Нормально градус держит — ни в одном глазу. Я ему на кухне (мы там виски в «Салют» доливали) говорю, ну, ты как? А он говорит: «Я сейчас такую музычку врублю — они кипятком ссать будут!» Ну он врубил! Ну центряк! Секс-музыка! Ну, там герла стонет! Ну, просто всего переворачивает!.. Даже Звериха, смотрю, заерзала. А Крошка все пляшет и животом работает, как веслами, не останавливаясь. Тренировка! Только, смотрю, живот у нее заблестел от пота. Меня это просто… Я подошел, ну, и вроде в шутку, похлопал. Вот, думаю, Саньку все расскажу! Это я другим лапшу на уши вешаю, что у меня с моей теткой двоюродной все было. Он-то знал, что я так и не смог начать. Не то чтобы побоялся, а как-то не получилось. Ну, как начнешь ни с того, ни с сего? Идем, треплемся о том, о сем… Она мне рассказала, как у нее муж (он мне настоящий дядя, а она по мужу — тетка) запил, как он вообще импотентом через водку стал, как за ней с битой бутылкой по квартире бегал. Ну, в общем, идем, болтаем… И что я, ни с того ни с сего — и полезу? А она точно хотела. Поэтому я всем и рассказывал, как будто все уже было… Ну, в общем, я не помню, как мы с Крошкой на Диван ушли. Я ведь был уже сильно вмазанный… Помню только, что свет мы погасили, а около наших окон как раз фонарь и как днем видно все. Ну, я Крошку положил и начал раздевать незаметно. Рубашку-то я снял, а джинсы как снимешь? Они в облипочку. Сама, небось, с мылом надевает… Начал я их потихоньку стягивать. Смотрю, она лежа выгнулась, задницу приподняла — помогает. Ну, думаю, сейчас точно начну. Но рано радовался… Только я ее раздел, как свет на кухне вдруг зажегся, я еле успел Крошку шмотьем прикрыть. Это сеструха явилась. Она стравить решила и дверью ошиблась. А сама мертвая, глаза белые. Я даже испугался. Сволок я ее в уборную, ее там и вывернуло. В общем, она раз десять ходила. Потом Серому со Зверихой чуть кайф не поломала… Вдруг начала к ним в комнату рваться. Хорошо, что у предков дверь запирается. Это от Ленки. Она у нас лунатик, ходит по ночам с закрытыми глазами. Ну, часам к трем или к четырем она отрубилась окончательно. А то я ее к кровати уже хотел привязывать. Честное слово! Зло взяло, только нацелишься, а она тут как тут. И Крошка уже нервничать начала. Ну, успокоилась сеструха, мы и начали свою классическую борьбу. Я не шучу! Оказывается, у Крошки натура такая. Целоваться, обжиматься — это пожалуйста, а как дело доходит до главного, то ее словно всю судорогой сводит. Сопротивляется, как партизан, до последней капли крови. Я уж у нее спрашиваю — что, у тебя никого не было? Она молчит… Ну, так чего ж ты? Ничего, говорит, не могу с собой сделать. Ну, меня зло взяло! Неужели, думаю, опять не попробую… А она действительно здоровая, как лошадь, руки накачанные, не хуже чем у меня. Два раза меня вообще с дивана скидывала. Потом притихнет, подвинется к стенке, а как лягу — целует, обнимает, того и гляди задушит. Ну, в общем, часам к пяти у нее силы кончились. В общем, попробовал. Боль жуткая сначала, потом ничего. Отдышались мы… Она в ванную побежала. Уже вообще меня не стесняется. А фигура у нее ничего, крепкая! Потом она прибежала и как начала ржать!.. Ты чего? — спрашиваю. Она хохочет, не может остановиться, ну просто до слез. Успокоилась кое-как и на диван показывает. А на диване такое покрывало у нас светлое и все в крови. Ну ничего, говорю, не переживай, со всеми когда-нибудь случается… А она снова покатилась и потом говорит — это ты невинность потерял, Игорек. У меня уже были ребята… Я смотрю, а это действительно моя кровь… Потом оказалось, что у меня там какая-то уздечка порвалась. А в девять часов пятнадцать минут раздается стук в дверь, звонок у нас не работает, и входит участковый Васильев. Я еще и голову от подушки отодрать не успел, а он входит и говорит, что дверь была открыта нараспашку. Я обалдел спросонья. Гляжу, Крошки не видно, и шмоток ее нет. А Васильев кухню оглядел и дальше пошел. Я хотел за ним броситься, да вспомнил, что голый. Подождал, пока он выйдет, трусы натянул — и в комнату. Смотрю, Зверихи тоже нет. А Серый лежит — ни в одном глазу, покуривает и права качает. Вам, говорит, известно о неприкосновенности жилища? В Англии, говорит, вас вообще дальше кухни не пустили бы, а тут вы расхаживаете, как по собственной квартире. Вот центровой пацан! Даже Васильев немного смутился и никаких нотаций не читал. Только заглянул в комнату сеструхи, под стол посмотрел, где у нас пустые бутылки стояли, огляделся и спросил: «А дамы где же?» А Серый как ни в чем не бывало: «Надеюсь, — говорит, — вы не потребуете еще и фамилий?» А Васильев посмотрел на него, почесал в затылке и говорит: «Ты, Кострюков, не очень выступай, а то привлеку тебя за спаивание малолетних». Серега, конечно, дернулся, но взял себя в руки и говорит: «Игорек, а ты что, пьяный? Нет? И не пил вообще? Ну вот… А товарищ участковый утверждает, что я тебя спаиваю и развращаю». — «Ладно, ладно, — говорит участковый, — спите, отсыпайтесь. Только вот вы что мне скажите… Хорошо мы живем?» — «В каком это смысле?» — спрашивает Серый. «Ну, — говорит, — вообще, в философском смысле». — «Не знаю, как вы, — Серега отвечает, — а мы отлично живем! Правда, Игорек?» — «Конечно, правда, — ответил я, — нормально живем». И подумал: «Хорошо, что герлы слиняли». Это они, наверное, дверь открытой оставили. Она у нас теперь не защелкивается, а то Ленка сколько раз выходила, захлопывала, а ключи дома оставляла. Она у нас вообще двинутая на всю голову. Серый кинул меня, как пацана. Мы с ним железно договорились, а он в последний момент все переиграл. Он сказал, что сперва предки хотели свалить из дома, а фазер заболел, и теперь они никуда не сваливают. «А деньги?» — спросил я. «Ну, это пусть будет в счет твоего долга. Ты мне должен был сорок два, а теперь пусть будет двадцать семь». — «Ладно, — сказал я и хотел повесить трубку, но не повесил. — Что же теперь делать? Давай что-нибудь придумаем». — «Да понимаешь, я тут… — сказал он. — В общем, одна старая знакомая меня пригласила». — «Ну и пойдем», — сказал я. «Понимаешь… — сказал он, — я и сам туда не очень… В общем, это такой дом и… Нам вместе туда не получается… В общем, ты не обижайся… А после праздников сразу повидаемся. Ты позвони, и я подскочу или ты ко мне. Так получилось, я же не виноват, что фазер заболел… А о тех двадцати семи рублях не думай, не горит». Я повесил трубку и долго еще не мог понять, с чего он распелся? С какого хрена он такой ласковый. Ну, кинул и кинул. Не в первый же раз! Он вообще всю жизнь делал, как ему удобнее. Ему на друзей всегда было наплевать. Меня это никак не колышет. Я от него другого и не ждал. Только одно непонятно — чего он так рассыпается? Даже как-то не по себе стало. В общем, предчувствие у меня было. Я решил — ничего, посмотрим… Плохо было то, что он лажанул в самый последний момент. У меня со Светкой из «Детского мира», ну с той самой, гребчихой, все было уже заряжено. Она уже дома договорилась. И я от предков неделю отбивался… Они хотели сеструху-лунатичку на меня повесить. Еле отмазался. И с деньгами он меня подставил. Я еле собрал эти пятнадцать рублей. Ну, сказал бы заранее, и я из шкуры вылез бы, но достал, а эти у меня были на праздник отложены. Я и позвонил-то шестого вечером, чтоб уточнить, когда собираемся, в три или в четыре, а он меня, как серпом по яйцам… Куда, думаю, мы со Светиком теперь денемся? И Санька болел. Я зашел к нему тогда же, шестого, думаю, может, подскажет чего. Санек не любил Серегу. Тот ему еще ничего плохого не сделал, а Санька будто знал, что обязательно сделает. Да что-нибудь такое, за что и убить не жалко… Но внешне они поддерживали нормальные отношения. Никаких таких особых отношений меж ними, конечно, не было. Они здоровались, и только. Когда я к Саньку шестого вечером заскочил, у него была температура 38, 9. Он лежал весь сухой, огненный, но улыбался. А глаза, как лакированные. Матушка угостила меня чаем, а мне бы стакан портвагена с горя… В общем, я рассказал ему. «Да, — говорит, — надул тебя дружок». — «Кинул, — говорю, — как пацана… Хотя, может, и вправду у него фазер заболел. Это ведь от него не зависит… Если у него действительно фазер заболел, — подмигнул я Саньку, — значит, у него дача свободна… А там у него наливки, закусон, настойки… Ну ладно, — сказал я, — пусть мне будет хуже». Мы встретились со Светиком на вокзале. Я пятерик у сеструхи занял до позавчера, и мы купили две бутылки «Салюта». Потом сели в электричку и поехали в Щедринку. Там прямым путем к Серегиной даче. Подошли. Я ей говорю — подожди здесь на лавочке, а я сейчас. Забор у них сплошной — перескочил, и нет тебя. Щеколду на кухонной форточке я поднял ножом, открыл окошко, залез. Ключи, как обычно, лежали в жестяной банке с надписью «корица». На двери летней кухни у них английский замок. Я открыл его и вышел через дверь как человек. А в калитке у них врезной замок. Я открыл калитку, вышел на улицу и позвал Светку. «Здорово! — сказала она, когда я ей показал бутыли с наливками, закрутки, рыбные консервы, тушенку, холодильник, старый телевизор, приемник „Фестиваль“, она сказала: „Вот живут, паразиты!“ Приемник, правда, был без проигрывателя, но музыки нам хватало. Я сразу поймал какую-то зарубежную станцию и врубил на полную катушку. „Ты чего?“ — испугалась она. „Для маскировки“, — объяснил я. Потом мы холодильник включили и „Салют“ — в морозильник. Потом я в погребок сходил и специальной трубочкой отсосал пару литровых банок домашнего винца и тоже поставил в холодильник. А Светик тушенку грела и банки с помидорами и огурцами открывала. Потом я принес трехлитровую банку с маринованными патиссонами. „Вот класс!“ — завизжала Светка. „Пусть нам будет хуже!“ — сказал я, и мы вмазали по стаканчику. А потом Светик стала картошку чистить. Только хлеба у нас не было… Первым приперся, конечно, Фомин. Получил свой стакан и свалил. Потом заглянул Васильев. Как же без него! А я заметил, что у него на багажнике велосипеда авоська с хлебом, и расколол его на полбуханки. А пить он не пил, он вообще не пьет, так что никакого вреда, кроме пользы, от Васильева не было. Уже сев на велосипед, он спросил: «А хозяин-то где?» — «За невестой в Москву уехал». — «А когда приедет?» — «А кто его знает? Он вам нужен?» — «Да нет, — говорит, — не особенно… Хотел предупредить его, что за всю компанию он один отвечает, как единственный совершеннолетний». — «Почему единственный? — вдруг выступила Светка. — Мне уже девятнадцать». — «Ну, тогда все в порядке», — сказал Васильев и уехал. Я налил по стакану и сказал: «Пусть нам будет хуже!» Потом мы заперлись и решили никого не пускать, хотя никто больше и не приходил. Можно сказать, что только в эту ночь я по-настоящему во всем разобрался. Я был не прав тогда. Секс — классная штука! Кайф невыносимый!.. Все-таки у баб голова устроена как-то по-другому… Какие-то у них там лишние извилины имеются. Понять их невозможно. Мы со Светиком уже после всего сидели и смотрели праздничный «Огонек», как вдруг она говорит: — А Сережка дома… — А родители? — спросил я. — А родители уехали, как и собирались. — Да ладно тебе, — сказал я, — он нормальный парень… Не будет он меня так парить. Мы же свои ребята. — А ты позвони, — хитрым голосом сказала она. — Ну пошли! А если его нет? — Он дома. — А если нет? — Тогда с меня что хочешь… — Тогда с тебя желание… — Хоть два. — Ох ты, расхрабрилась! — Да ты сам не испугайся! — Ну пошли. — Ну пошли! — сказала она. — Подожди… — сказал я. — Нет, пусти. — Ну немножко подожди… — Нет, пойдем, я тебе докажу… — Ну ладно, подожди, успеем. — Нет, пойдем. — А там дождь идет. — И пусть. Ты мне не веришь? Не веришь? — Верю, верю… Ну серьезно, ну подожди… — Нет, пусти… Конечно, если б она захотела, то скинула бы меня как котенка. У нее мускулы будь здоров! Гребчиха ведь. Потом, после этого, мы все-таки оделись, выпили «на посошок» и пошли на станцию. Свет и телевизор не выключили для конспирации… Светик сама набрала номер, подождала два гудка, повесила трубку и набрала снова. — Условный сигнал, — сказала она. Светка мне рассказала, что была с Серым раньше, полгода назад. Я не сильно переживал по этому поводу… Но когда она звонила условным кодом, меня немножко царапнуло… Она передала мне трубку. Долго не отвечали, потом подошла Зверева и замяукала, как пьяная кошка. Я специально изменил голос и попросил Сергея. — Серенький! Тебя… Потом подошел он, тоже вмазанный, веселенький. — Алле-е-е! — Серый, это я, Игорь… Чего же ты, Серый, — все это я говорил уже по инерции, потому что трубку моментально повесили, на первом же слове. Я набрал снова. Никто не подходит. Я и так, и по-другому — дохлый номер. — Можешь не стараться, он отключил телефон, — сказала Светка. — Вот сука! Подожгу я его дачку-факачку с четырех углов! — При чем же здесь его родители? — спросила она. Мы решили лишних ртов не собирать. Я, Витек, Толян, который недавно с зоны вернулся, и Саня. Больше никого не надо. Сперва все было хорошо. Они же все нас знают, как облупленных. Кусок ливерной колбасы — и вперед. Жучка, Жучка, Жучка, на, на, на… Потом веревку на шею, и к Фомину. И вся работа. Расчет на месте. Пятерка в кармане. Три раза так получилось, а потом как отрезало. Они, дуры, как возьмешь их на веревку, хай поднимают на весь поселок. Визжат, как резаные. В общем, перестали даваться… А одну черную Толян своим пальто накрыл. Веревку мы ей на шею накинули, только отпустили, только отпустили, а она на Толяна как кинется… А тот еще пальто не успел надеть, пальто у него драповое, на вате. Пальто его спасло. А так она ему рукав пиджака порвала и всю руку от плеча до локтя располосовала. Мы говорим, надо к врачу, а Толян смеется. Он говорит, что на зоне его сразу четыре покусали, и то ничего. Он веревку к забору привязал, оторвал штакетину подлиннее и сказал, что сейчас приведет эту суку к присяге. «Это кобель», — сказал Санек. «Все равно», — сказал Толян и перетянул ее по хребту, она завизжала, как резаная, вжалась в забор, но бежать-то ей было некуда. «Подожди», — сказал Саня и встал перед Толяном. «Чего?» — сказал Толян. «Знаешь, почему она тебя укусила?» — спросил Санек. Я понял, что ему самому это только что пришло в голову. «Ну?» — спросил Толян. «Она никуда не хочет с тобой идти». «А кто ее спрашивает? — усмехнулся Толян, — это ее трудности…». «Понимаешь, ей совсем не хочется быть на веревке и идти с тобой… Даже если ты ведешь ее в колбасный магазин», — задумчиво сказал Санек, придерживая на всякий случай его руку, которая была со штакетиной. Но говорил он вроде не Толяну, не Витьку и даже не мне, он говорил все это как бы одному себе, и сам сильно удивлялся своим словам. «Но ведь ты сам это все придумал», — сказал Толян и шевельнул рукой с зажатой штакетиной. «Подожди, — уже прямо ему сказал Санек и улыбнулся, будто он виноват, — я, наверное, ошибся…» А ведь действительно это он нам сказал, что в какой-то космический институт для каких-то там «экскрементов» (Это Толян так говорит) нужны собаки. И что за каждую собаку нам заплатят по пятерке. Витек три дня бегал по всей Щедринке и прикидывал, сколько всего собак. По его подсчетам, получалось около сорока… Это же сумашедшие деньги! — как скажет Райкин. А сколько их в других поселках… «Понимаешь, я не думал, что они не захотят…». «А что же ты думал?» — ехидно спросил Толян. «Я думал, что им все равно. Я думал, что в институте им лучше. Там их кормить будут. Там они пользу принесут». «А ты им объясни, что им там лучше, может, они тебя послушают», — предложил Толян и снова шевельнул здоровой рукой со штакетиной. А из покусанной руки у него текла кровь. Они разговаривали спокойно, будто сидели на лавочке и болтали от нечего делать, только смотрели при этом не на проезжающие машины, а друг на друга. Они даже не повышали голоса, но всем было ясно, что Толян вот-вот потянется свободной рукой в кармашек за «перышком», а Санек все равно не отпустит его руку. «Я не думал, что так будет, — сказал Саня. — А эту пятерку в общий котел отдам я». — «Нет», — сказал Толян и сузил свои и так узкие глазки. Рукой он больше не дергал пока. «Но ведь нужны здоровые собаки, целые». — «Нет, — сказал Толян, — эту пятерку в общак заплачу я». А я тихонько подкрался к забору и отцепил веревку. Ош. так смотрели друг другу в глаза, а Витек так следил за свободной рукой Толяна, что никто этого не заметил. Опомнились, когда собака у них между ног прошмыгнула и дунула напрямик по сугробам. Витек рыпнулся ласточкой и даже за кончик веревки ухватил, но был в рукавицах, и веревка выскользнула. Мы эту собаку только через неделю поймали. Сачком, который придумал Саня. Сам он больше с нами на охоту не ходил, но сачок сделал. Чтобы ни они нас, ни мы их… Большой сачок, сантиметров семьдесят в диаметре. А сетку он взял около овощного магазина. В таких сетках капусту осенью продавали. Он из двух сеток и сшил сачок. Я часто думаю, чем бы тогда дело кончилось, если б я не отвязал втихаря собаку? Ясно, что никто бы из них не отступил. Саня был намного сильнее Толяна, но Толян был злее. И «перышко» всегда у него при себе. Острое, как бритва. С этим сачком Толян с Витьком охотились, а я тогда недели на две выбыл из игры. У меня такие дела пошли… Я говорил, что мы с Ларисой Зверевой, давно еще… Ну, встречались не по-настоящему, а так… Я давно ходил за ней. В общем, можно сказать, и не встречались… В кино ходили, на танцы. А насчет чего посерьезнее — она ни в какую, хоть режь. Потом у нас как-то само по себе кончилось… Она начала встречаться с Серегой, с Бесом. Уже по-настоящему. Потом у них кончилось. А я со Светиком… Ну, когда у нее время свободное от работы и тренировок. Я же говорил, что она гребчиха. Плечи — во! А ноги!.. Если шуткой коленку зажмет — не выдерешь, а грудь маленькая. Спортсменка… И характер слабый, ей чего скажи, она со всем согласна. Ну, в общем, Светик, как Светик. Нормальный Светик! И тут вдруг Звериха подваливает к нам с сеструхой вечерком. Ну то, се, чайку попили. А я никак не врублюсь, зачем пришла. Ну, чаю попили, она у сеструхи выкройку, что ли, какую-то попросила или еще чего-то, я уж и не помню, не имеет значения. Она мне потом сама призналась, что все это придумала, чтоб повод был. Потом Ларка засобиралась, но чего-то мнется… Сеструха ей — ты чего, мол? Страшно, говорит, темно, собаки бегают. И как это ловко у них получается, даже не сговариваются, даже не перемигнутся, а все делается как по нотам. Сеструха тогда и говорит: «Игорек, будь джентльменом, проводи девушку». Мне бы самому и в голову не пришло. Я взглянул на нее и почувствовал, что она сама хочет… Честное слово! Только не говорит. Голову наклонила и так исподлобья смотрит, словно спрашивает, неужели не пойдешь? Ну, я оделся, и мы пошли. Вышли, а я не знаю, что говорить. Ну просто язык к небу прилип. «Почему бы тебе не предложить даме руку?» — сказала она. «Пожалуйста». Я согнул руку крендельком. Неудобно страшно. Было бы пальто, можно за отворот или за пуговицу уцепиться, а когда куртка с молнией, да еще нейлоновая, рука елозит туда-сюда. Идешь как дурак — не люблю. Но она взяла как-то и к себе прижала, к самой груди. У меня все внутри замерло. Иду и виду не подаю, боюсь шевельнуться. Рукав у меня тоненький, мягкий, все чувствую. А она еще больше прижимается. А грудь у нее… Подошли к ее дому. Я думаю, ладно, была ни была… Ну что она мне в конце концов сделает? В подъезд зашли, я ее прижал к батарее, а она сама губами тянется… А потом руки вдруг подняла и меня за шею обняла. Как в кино! У меня даже шапка слетела. Я дернулся, чтоб поднять, а она держит, не пускает… Потом взяла мои руки и говорит: «Какие холодные». Расстегнула верхние пуговицы и мои руки к себе под пальто… А там так горячо, меня сразу пот прошиб. А грудь у нее, а губы!.. Я думаю, что у всех так бывало. Вот ты чего-то хочешь. Очень сильно. Ну, там не есть, не пить, не всякую такую мелочовку, про которую знаешь, что она у тебя все равно будет, не сегодня, так завтра, — а что-то другое, чего никогда не будет… Вот смотришь в кино, как там миллионер на собственной яхте и матрос в белом ему коктейль подает, а рядом в шезлонге красотка… Ведь знаешь, что никогда у тебя не будет ни яхты, ни красотки, а все равно хочется! Сильно! И только оттого что хочется, ты уже вроде удовольствие получаешь… Или когда читаешь про путешествия по Америке или по Индии, или когда по телевизору про космонавтов передают… Когда мне было лет тринадцать, я в дикторшу одну влюбился… И вот ходил, ходил вес время, думал о ней. Один раз я школу даже из-за нее прогулял. Поехал в Москву в Останкино и целый день там проторчал. Пока сообразил, что можно внутрь войти, что милиционеры только на лестнице пропуска проверяют, чуть дуба не дал. А внутри хорошо, светло, ветерок около двери теплый, кайф! Потом какой-то артист знаменитый вошел (фамилию не помню, у меня с этим делом туго), потом артистка. Потом милиционер пришел, встал рядом и стоит посматривает. Я, конечно, делаю вид, что жду кого-то. Ну, в общем, освоился, на милицию ноль внимания. Смотрю во все глаза, чтоб не пропустить МОЮ… Так я ее называл всегда про себя… В тот день я ее так и не увидел. Часов в пять, когда уже темнеть начало, свалил я домой. И как-то поостыл к ней с тех пор. Будто это она виновата, что я ее не увидел, будто она обманула меня. Ну вот теперь представьте, что было бы, если в самый разгар моего дежурства ОНА появилась бы в дверях и прямиком ко мне. И руки бы мне на плечи положила и наклонилась бы (я думаю, она выше меня тогда была) и поцеловала бы меня прямо в губы… Конечно, я бы тогда этого не вынес. Или убежал бы, или расплакался, или сморозил какую-нибудь глупость со стыда. Конечно, я о Лариске не мечтал, как о той, МОЕЙ. И все же то, что она сама обняла меня руками за шею, просто вырубило меня. Я же ведь точно знал, что этого никогда не будет, что этого не может быть. И вот она сама пришла. Что уж тут удивляться, что я выбыл из игры на две недели. А деньги нужны были позарез… Игорек, Витек и Толян (тот, что недавно освободился) ловили беспризорных собак с каждым днем увереннее и ловчее. Огромный сачок, придуманный Саней, они заменили компактной складной удавкой, составленной из двух палок наподобие бамбукового удилища. Вдоль палок были набиты проволочные пропускные кольца. Сквозь эти кольца проходил тонкий металлический тросик, один конец которого был закреплен на палке, а другой находился в руке у ловца. Шнур образовывал подвижную петлю-удавку. Петля накидывалась на собачью шею, и ловец затягивал петлю. Броситься на обидчика собака не могла, ей мешала двухметровая палка. Собаке надевали прочный брезентовый ошейник с длинной веревкой, потом кто-то из ребят подставлял большой мешок, и ловец засовывал в него упирающуюся и хрипящую собаку. Потом горловину мешка перекручивали и завязывали веревкой, йотом отпускали свободный конец петли и вынимали из завязанного мешка всю удавку. Конец толстой веревки от ошейника оставался снаружи. Потом мешок со скулящей собакой (они почти никогда в мешке не лаяли) грузили на детские санки и везли к Фомину. Тот привязывал конец торчащей из мешка веревки к старой груше, развязывал мешок и отходил на безопасное расстояние. Когда собака выбиралась из мешка, он платил ребятам пятерку и намекал, что с них причитается. Ребята предлагали ему получить с Академии наук и уходили. Они были убеждены, что собаки поступают в какой-то закрытый космический институт для сверхсекретных экспериментов. В начале зимы Сашка обратился к Геннадию Николаевичу за советом. Ему нужны были деньги, и он не знал, как их заработать. Геннадий Николаевич предложил ему отлавливать бродячих собак для космической науки. Сашка согласился, но потом отказался от этого дела. Первым шел Витек, за ним — я, а за мной с санками — Толян. Он шел последним не потому, что с тех пор боялся… Я имею в виду тот случай, когда его покусала собака. Он не боялся. Наоборот. Просто у каждого была своя работа. Витек хорошо работал с удавкой, я быстрее всех завязывал веревку на шее, а Толян наловчился одним движением набрасывать на собаку мешок из-под сахара. Еще он должен был отгонять остальных собак, если они кинутся защищать своего. Для этого у Толяна был здоровенный березовый дрын. Толян просто мечтал, чтоб они кинулась… Потом мы все вместе грузили мешок на санки и везли к Фомину. Что интересно — ни одна тварь не гавкнула, пока мы их ловили. Все как-то молчком. Только повизгивают, как щенки. И вся стая тоже — отбежит подальше и сидит смотрит. Не вмешивается, будто так и должно быть. Если б они всей стаей защищали своего, то плакали бы наши денежки… Кто их знает, почему они своих не защищали? Может, они думали, что мы и вправду их для института космического отлавливаем, где люди в белых халатах их каждый день чайной колбасой кормить будут? Может, они так представляли себе собачий рай? Однажды, только от Фомина отъехали, а навстречу нам рыжая, лохматая «дворянка». Хорошо, что мы колбасу всю не скормили. Колбаса всегда у меня в пакете была. Сперва ее Витек носил, потом мы смотрим, что-то она быстро кончается… Другой раз ни одной собаки не встретим, а колбасы как и не было. А Витек только улыбается. Ну что с ним сделаешь? Растет человек. В общем, достали мы колбаску, отломили кусок, подкормили. Витек накинул удавку, а я тут же веревку завязал. Это нетрудно. Нужно только сзади подойти, зажать собаку между ног, как бы верхом на нее сесть, чтоб не крутилась. Я долго не мог понять, почему они этой веревки больше всего боятся. Пока собака на удавке, она еще ничего, а как достанешь веревку — ей словно задницу скипидаром смазывают. Волчком начинает вертеться. Поэтому приходилось сперва зажимать ее между ног, а потом только веревку доставать. Веревок было две. Одна толще, другая тоньше. На одной собаку приведешь — Фомин привязывает ее к груше, а нам другую выдает. В тот день я понял, почему они так боялись этих веревок. В общем, засунули мы эту дворнягу в мешок и назад к Фомину. Пришли, а его нет. И той черненькой собачки, что мы перед этим к нему приволокли, тоже нет. Мы уже уходить собрались, смотрим, в пожарный сарай дверь открыта. И вот там-то мы все и поняли… Витька сразу затошнило, он впечатлительный. А я ничего, хотя неприятно, конечно. Эта черненькая висела головой вниз, и глаза открыты. И блестели почему-то. Я думал, у мертвых они не блестят. Ну вот, значит, висела она головой вниз,а зубы были почему-то оскалены. А с верхних (то есть с задних ног, примерно от колена, черт знает, как это у них называется) до половины туловища кожа была спущена. И кожа, и те места, с которых она была спущена, дымились на морозе. День был солнечный, а в сарае темновато, и такой косой луч через дверь, и в этом луче пар. И глазки, как пуговички стеклянные. Я думал, что только у живых они так блестят… А Толян сразу врубился. «Ну ты, Васька, волчара! И сколько же на каждой шкуре выручаешь?» — «За свою шкуру испугался? — засмеялся Фомин. — Не боись, Толян. Фомин на друзьях не наваривает! Фомину вообще на деньги насрать, это все знают… Сколько ты имеешь, столько и я. Хошь, местами поменяемся? Я ловить буду, а ты забивать и обдирать». — «Делов-то! — сказал Толян. — У нас на зоне для начальства целое стадо баранье было. Мы с корешем пристроились у них на разделку. А чего?.. Баранов легко резать. Верхом сел, голову за рога задрал и „перышком“ по горлышку, а корешок ведро для крови держит. Мы потом из нее кровяную колбасу делали. Кишки-то тоже нам отходили. Ну, конечно, повара, суки, — в доле. Без них не сделаешь ничего… Но не жалко… Давай я доделаю». Он достал из специального кармана на джинсах свое «перышко» автоматическое, на кнопочку нажмешь — лезвие само выскакивает. Он поэтому и называл его самопиской. А оно у него всегда, как бритва. И сам за Фомина докончил. Обдирает он шкуру и приговаривает, шуткой, конечно: «Ну чего, Вась? Ну что, умею? А? На хрена теперь ты нам нужен? Теперь будем прямо клиенту шкуры сдавать… Вместо тебя, а?» А Фомин ему тоже в шутку отвечает: «Сдавай, сдавай, пока самого не сдали… Я конкуренции не допущу! Ванька Васильев — мой друг детства, сам знаешь. Я ему только шепну, он с тебя самого шкуру спустит». Посмеялись мы. А Витек так и не смог в сарай зайти. Весь забор обрызгал. Мы его потом с этой новой пятеркой к Нюрке за чернилами послали, чтобы не замерз без дела. А Толян с Фомина стал два пятьдесят требовать за то, что полшкуры снял. А Васька пятерку на вино дал. Он нормальный мужик. Чего-чего, а на деньги не жадный, когда они у него есть. Правда, они у него долго не задерживаются, поэтому он и шакалит с утра до вечера. А так ничего — не жлоб. А потом хохма была… Это Толян придумал. Витек сбегал и пять «фаустпатронов» вермута принес. А закуски никакой. Васька говорит: «Пойдем ко мне, рожков сварим». Не знаю как кто, а я у него не очень люблю из-за вони. Ну мы решили завалиться на дачу профессора Курьева. Курьева-Пурьева, как Фомин скажет. Васька, конечно, посопротивлялся для приличия (как-никак сторож!), и мы пошли. Мы давно туда тропочку по задам протоптали… Вернее, не тропочку, а один только следочек. Мы всегда след в след туда ходим, чтоб участкового Васильева не дразнить… Поди плохо! У нас там одна комнатка протоплена была, мы туда со всех дач электрокамины стащили, через пять минут — Ташкент. Ну, зашли, затопили, какие-то банки из подпола достали. Они только сверху ржавые, а внутри — нормальные. Одна банка с тушенкой даже попалась. Мы ведь просто так даже в подпол не лазаем. И ничего не берем. Только если на закуску. Такой закон. У профессора там целая продовольственная база в подполье, но все равно, если каждый раз туда спускаться, то никаких запасов не хватит. Придется другую дачу искать. А другую такую, чтоб и с телевизором, и теплую, и с харчами, не скоро найдешь. И вообще мы тут прижились — жалко уходить. Короче, расположились мы, налили по стакану и поехали… А Витек, когда тянет свою дозу, всегда глаза закрывает. В общем, высосал он свой стакан, открыл глаза, чтоб закуску увидеть, а Толян (никто и не заметил, как он это сделал) ему на подносе черную собачью голову подносит. Глаза открытые, а в оскаленной пасти горящая беломорина. Витек пискнул: «Мамочка» — и бряк в обморок. Натурально отрубился. Мы испугались, а потом Толян собачью голову за дверь, в сугроб, а Витьку щеки снегом потер. Витек оклемался и говорит: «Вы что, совсем уже? Я вообще, — говорит, — этого не перевариваю». А Толян говорит: «Что? Ты о чем?» — «Ну, эта голова». — И снова побледнел. «Какая голова?» — спрашивает Толян на полном серьезе. Мы так и не раскололись. Он весь вечер к нам приставал с этой головой. А мы — ни в какую. Целый вечер так хохмили. Потом, когда уже три «фауст-патрона» прикончили, Витек выбежал на крыльцо побрызгать и тут же обратно, а у самого зуб на зуб не попадает. Мы спрашиваем: «Чего?» — «Там это… Собачья голова на заборе». — «Ну ты даешь! — рассмеялся Фомин. — Вы у него штаны потрогайте, небось мокрые». — «Честное слово, голова! — прошептал Витек. — Вот такая! — Он показал. — Больше лошадиной. И глаза горят». — «И что она тебе сказала?» — спросил Фомин. «А ну вас», — обиделся Витек. А потом я отрубился и ничего не помню… А Толян с Фоминым еще добавлять куда-то ходили. Потом утром около забора, в том месте, где Витек видел голову, мы нашли здоровенные собачьи следы. «Это не пять рублей, это целый червонец», — сказал Толян. Что бы там ни делалось, как бы ни наворачивалось одно на другое, но каждое утро в восемь тридцать мы собирались в одном классе. Зверева, Сапожникова, Санька и я. И сидели мы парами. Я с Санькой, а Тинка со Зверевой. Нам-то с Санькой нечего делить, а вот тем двоим каково? И ничего… Сидят, смотрят, слушают, в тетрадочки что-то аккуратно записывают про деда Щукаря, про Макара Нагульнова… Я четвертак принес, как и обещал. Правда, не сказал, что деньги у Фомина взял, авансом… Вернее, червонец он был нам должен, а пятнадцать я взял вперед, хотя к тому времени собачий бизнес стал ненадежным. Собачки ученые сделались. Да и поубавилось их. В общем, я не сказал, что это за деньги. А может, и зря. Он их не взял бы, и ему не с чем было бы ехать в Москву. Он их точно не взял бы… После гулянки с собачьей головой я приполз в школу на полусогнутых, еще пьяный, и растолковал Сашке, для какого такого космического института мы собачек отлавливаем… Я думал, он психанет, а он усмехнулся тогда и сказал: «Когда нас с тобой отлавливают, то тоже думают, что для высоких целей… Не расстраивайся. Ты же всегда можешь отказаться». Я тогда не стал ему напоминать, что первый раз о собаках я от него услышал. Хоть в этом меня никто упрекнуть не может… Мы вышли из школы вместе, но Сашка побежал домой переодеваться, ему срочно нужно было в Москву, а я пошел провожать Звереву. Тинки в тот день в школе не было. Зверева… — Сука она продажная! Я ей так и сказал. Я их засек с Серегой. Он тоже сука порядочная. А вроде друзья были… Мы шли с ней по улице, и даже жалко было, что такая погода клевая. «Ну что, — говорю, — что ты думаешь, я перед тобой на коленях буду Ползать? Меня что, на помойке нашли? Я что, просил у тебя чего-нибудь? Сама пришла. Забыла? Руки, — говорю, — пачкать об тебя, об суку, не хочется». — «Ты что, совсем, Спиридонов?» — И бровки так поднимает, вроде как удивлена, с понтом… «Еще не совсем, — говорю. — Был бы совсем…» — Тут я Толяновой «самопиской» щелк у нее под носом. Лезвие на солнце так и сверкнуло. Она чуть в сугроб не села. «Ты что, Игорек?!!» — «Ничего! Только не надо мне лапшу на уши вешать. Я видел, как вы с Серым на дачу к нему завалились. Я хотел облить вас керосином и сжечь. Скажи спасибо, керосину не достал. А то так бы и сгорела в объятиях». — «Да ты что, Игорек?! Он меня позвал насчет Тинки поговорить… Ничего не было, ты что?» — «Ну да… А что, ты скажешь, если было?» — «Честное слово… — говорит, а сама на нож смотрит. — Ну ты что, совсем, что ли? — И пятится. — Ну, говорю же, ничего не было». — «Ну да, — говорю, — все три часа ничего и не было». Но нож я тогда убрал. Я все-таки проводил Звереву. Потом я зашел домой, бросил сумку с книжками, схватил большой кусок хлеба с.двумя котлетами, сунул в пакет и побежал к Витьке. Он был на больничном. Мы с ним еще вчера договорились встретиться и пойти половить собак. Он думал, что я от Фомина денежки принесу, а я денежки Саньке отдал. «Да ладно, деньги у меня есть», — сказал Витек. «Ну, что тогда, будем?» — спросил я. «Что? Ловить?» — спросил Витек. «Ну, это само собой. Я насчет „Биомицина“. Если деньги есть, может, сходишь?» — «А где пить будем? — спросил Витек. — К Фомину я не пойду, меня там тошнит». Вся штука была в том, что три дня назад приезжал профессор Курьев и понавесил на свою дачу кучу новых замков. Кончилась наша лафа. «А мы к Серому подвалим, к Бесу». — «А что, у тебя ключи?» Витек подмигнул, потому что Серега мне давал раньше ключи, чтоб мы там со Зверевой встречались, когда он на Тинку переключился… Другая бы не пошла, а этой Зверевой все равно. Честное слово! У нее вместо души одни сиськи. Светик уж на что чудная — и то душевнее. «Ключи, ключи, — подмигнул я ему в ответ. — Есть и ключи». В магазин он пошел один. Ему уже было восемнадцать, а моя мамаша просила Аннушку мне вино и сигареты не продавать. А удавка и мешок остались у меня… Я на всякий случай ждал его чуть в стороне. И тут я увидел рыжую собаку, за которой мы давно охотились, потому что шкура у нее была, как у лисы. Мы прозвали ее Каштанкой. Она сидела посреди дороги. Я просто обалдел. Она будто ждала кого-то. Ну, как собак оставляют около магазина, они сидят и ждут и смотрят на дверь. Только Каштанка смотрела не на дверь магазина, а на закрытый переезд, на товарняк, который полз в Москву. Я еще удивился, что она оказалась здесь, на станции, во владениях станционной стаи. Уж чего-чего, а повадки их мы изучили. Пока я думал все это, мои руки автоматически налаживали удавку. Тросик у нас был от старых велосипедных тормозов, составной и всегда путался, потому что узелок вечно задевал за все, цеплялся. Мы пробовали что-нибудь другое приспособить, но тросик оказался лучше всего. Во-первых, никакая собака его не перегрызет, а во-вторых, петля не висит, как веревочная. Как ты веревочную накинешь на собачью голову? А тут петля на конце палки стоит колечком. Вроде сачка, только без сетки. В общем, рассказывать долго, а привести в боевое положение удавку дело минутное. Наладил я ее и к Каштанке. Котлеты я уже съел, но кусок белого хлеба, рядом с которым они лежали, у меня еще был. Кусок пропитался котлетным жиром. Я бросил половину Каштанке. Красивая же, стерва, подумал я. Она проглотила кусок с лету и сидела, вытянув лисью мордочку и перебирая от нетерпения ногами. Наверное, хозяева, около которых она приживалась летом, угощали ее котлетами. Ведь сколько раз она не покупалась на колбасу… Потом я протянул левой рукой кусок, а правой начал осторожненько подводить сзади петлю. Она так уставилась на хлеб, что ничего не замечала. Но подойти и схватить боялась. Только лапами перебирала и попискивала от нетерпения… Я объясняю долго и не очень понятно, а длилось все это не больше минуты. И краем глаза увидел, что из телефонной будки выбежал Саня. Значит, это он там звонил, подумал я, заводя петлю, значит, еще не уехал в Москву. И тут я наконец накинул петлю на голову Каштанки и дернул за тросик. Каштанка тявкнула вроде даже удивленно и начала пятиться, крутя головой, и я почувствовал, что петля ей велика, что она вот-вот выскочит, а Саня бежал ко мне и что-то кричал, а я тянул за тросик (этот чертов узелок не пускал) и не понимал, что он кричит, а Каштанка уже почти уши протащила сквозь петлю, а я тяну что есть силы за тросик, а узелок не пускает, и вот он с хрустом с таким проскочил в скобочку и я почувствовал, как петля упруго сжимает ее горло, и тут наконец врубился в то, что Саня кричал на бегу, а он подбежал, вырывая удавку, и отпихнул меня. Я упал. Там дорога накатанная была, скользкая. Я даже обиделся. «Ну ты даешь!» — сказал я. — «Беги, идиот! Разорвут!» — закричал он. «Да нет же никого». И тут поезд наконец прополз через переезд, и я увидел стаю, впереди, голову набок, медленным, крупным галопом летел огромный черный корноухий пес. «Саня, атас! Атас! Саня!» — заорал я, лежа на дороге, и будто подлетел в воздух. И оттаскиваю Саню, а он растягивает петлю у Каштанки, а узелок в обратную сторону не проскакивает. «Отвал, Саня!» — кричу я. Он отшвырнул меня (я отъезжаю — скользко) и кричит: «Палку найди, палку!». И рвет руками петлю. Каштанка кусает его голые запястья, а корноухий летит… Саня сидел на корточках, когда он налетел. Саня, может, устоял или увернулся бы как-нибудь, но вся штука в том, что он сидел на корточках и пытался разорвать петлю, а тросик от велосипедных тормозов голыми руками не разорвешь… Корноухий врезался в Саню башкой. Саня вскинул руками, и опрокинулся и стукнулся затылком об укатанную ледяную дорогу. На какую-то долю секунды остался так лежать с раскинутыми руками, с открытым горлом… Я заорал: «А-а-а-а-а», — и на половине крика сорвал голос, перешел на сип. А пес и не слышал меня, он завис над Саней в мягком, тяжелом прыжке и, находясь еще в воздухе, своей разинутой пастью (я увидел, как шел от нее пар) дотянулся до Саниного горла… И тут я завизжал и шагнул к нему, и мне было трудно и больно шагать, потому что на ногах у меня висели черные грязные собаки, а я стал молотить их кулаками по спинам, по мордам, по хребтам, а Фраер крутился передо мной, и я обдирал руки о его клыки, а корноухий неподвижно стоял, уткнувшись пастью в Санино горло, и только кожа на его спине подрагивала волнами… И тут я увидел, как Санина рука царапнула ногтями дорогу, и Фраер наконец бросился на меня, и я, поскользнувшись, стал медленно падать и, падая, увидел, как корноухий теснее приник к Сане и потом дернул головой вверх, и что-то розовое, какие-то дымящиеся лоскутки свисали из его сомкнутой пасти, а из того места, где было белое Санино горло, в разные стороны, как из плохого крана, била черная кровь… А я все отталкивал и отталкивал слюнявую пасть Фраера, а ноги мои небольно рвали «братья», крутилась волчком Каштанка, пытаясь сбросить давящую петлю, Мефодий опасливо кашлял в стороне. Из магазина, размахивая пустой посудой, бежали кричащие люди, а корноухий стоял с задранной окровавленной мордой, как будто позировал перед фотографом. Я отключился… Когда мы начали опускать гроб, я вдруг поднял глаза и увидел в толпе между могилами Серегу. Меня как толкнули. Когда мы несли гроб, я ничего не видел — только дорогу скользкую. Я только и думал, чтоб не поскользнуться. И ни разу не заплакал. Только заикался сильнее. У меня в тот день, когда погиб Саня, заикание началось на нервной почве. И прядь волос на затылке поседела. Меня за это на зоне Чиграшом звали. Я точно знаю, что затылок у меня поседел, когда я упал и увидел, что из Саниного горла в разные стороны кровь забила, как из порванного пожарного рукава… Я взглянул — тогда на кладбище — на Серегу, и кто-то внутри меня сказал: «Вот кто виноват!» Потом я пил с ребятами, потом я пил на поминках, я хотел, чтобы Серегино лицо не маячило передо мной. Потом я понял, что ничего у меня не получится. Вызвал его на улицу, медленно достал Толянову «самописку», щелкнул лезвием (я все еще думал, что не сделаю этого) и вдруг заорал, как там, на площади перед магазином, и почувствовал, как снова похолодела и омертвела кожа на затылке. Бес побежал от меня, я — за ним. Мы долго бежали раздетые. Потом он споткнулся, упал. Я споткнулся о его ноги и, валясь на него, с удовольствием ударил его ножом в грудь. Потом я скатился с него в сторону. Потом подбежали ребята. Они мне рассказывали, что он поднялся и бил меня ногами. Я промазал. Нож скользнул по ребру. Судья (хороший мужик, между прочим) сказал, что это самосуд, что я не имел права его судить и приговаривать… Он, наверное, прав, а тогда на суде я только и мечтал выйти побыстрее с зоны, приловить где-нибудь Серегу и от всей души, с удовольствием ударить. Только поточнее…НАТАША
Я и не знала, что так может быть. Когда мы приехали в Москву, когда стало ясно, что мы переехали, что с Одессой все связи оборваны, я любила Левушку. Тогда я любила его сильнее всего. Может, не сильнее, но как-то ярче, трепетнее, больнее… Мы тогда уже полгода жили практически как муж и жена. Он уже не в Одессу приезжал в командировки, а в Москву. Настоящий дом его был там, на Слободке у бабы Шуры… Нет, я все же не понимаю, как это могло быть… Неужели это заложено в каждой? Или только я такая дрянь? Когда ехали в Москву, я все про них знала наперед. Левушка говорил, что они увидят меня и полюбят. Как они такие могли меня полюбить? Если б это произошло, я бы пошла на чердак и удавилась. Отец вышел в полосатой пижаме. Как в плохих фильмах пятидесятых годов. Он вышел с газетой подмышкой и с сигаретой во рту. Я хихикнула про себя. Я подумала, что он собрался идти в сортир, а мой приход ему помешал. Он молча посмотрел на меня и ушел в свою комнату, и больше я его ни разу в жизни не видела. Тогда я подумала, что он, наоборот, вышел из сортира, и хихикнула уже вслух, а из глаз покатились слезы. В жизни этого ему не прощу! Подохну, в гроб лягу и из гроба крикну: «Будь ты проклят!» А мать поила нас чаем и говорила: «Пожалуйста… Хотите еще варенья? Очень свежее печенье… Овсяное печенье, когда мягкое, похоже на миндальное пирожное…» А я в темноте, когда голая и если мне рожу полотенцем прикрыть, похожа на Марлен Дитрих. Я пила чай, и слезы в чашку капали… До сих пор не понимаю, почему я ее простила… Наверное, потому, что сама дрянь. Нет, серьезно, вы только представьте себе… Вам двадцать один год, вы закончили университет с отличием, биофак, и за вами пол-Одессы бегает. У вас есть жених — механик на пассажирском судне, он вас любит без памяти. Чуть постарше, чем хотелось бы (ему тридцать семь), но выглядит моложе своих лет. Зато отгулял свое, успокоился. На женитьбе сам настаивает, а я тяну… Подруги не понимают, чего я ломаюсь, и смертельно завидуют. Одна так и говорит: «Смотри, уведу! Хоть убей меня — уведу!» Но нет! У вас, видите ли, искания, сомнения, тяга к высокому и прекрасному, как у Зои Синицкой из «Золотого теленка». Та, между прочим, тоже была одесситка. Я, правда, не чистая одесситка, я из Дофиновки, но это же тридцать-сорок минут от центра. Зато у нас собственный дом с летней кухней, огородик, виноградник, десять минут до моря… В общем, девушка что надо, упакованная во всех отношениях. Как Николай, жених говорил: «Вполне оснащенная для дальнейшего прохождения счастливой жизни». Он был очень надежный парень. Лысоват, правда… Так ведь и Лева теперь лысеет. И тогда, в семьдесят седьмом, когда мы только познакомились, было понятно, что скоро полысеет. В общем, встретились. Любовь, Москва, другая жизнь… Лева — журналист. Центральное телевидение, программа «Время», собкор. Пишет сценарии для кино, правда, пока для документального. Но показывал мне начало игрового сценария. Мне понравилось. А как могло не понравиться?! Он мог вообще ничего не читать… Когда тебе двадцать один год и в душе, кроме «неясного томленья», ничего нет, достаточно одного слова: «Кино». Николай мне сказал: «Я ухожу в рейс на полгода. Ты молодая. Я люблю тебя. Ты мне подходишь во всех отношениях. В тридцать семь лет это уже можно понять. А ты еще себя не знаешь. Не понимаешь, что тебе нужно. Я ухожу на полгода, и когда вернусь, ты мне скажешь „да“ или „нет“. Полгода для романтики достаточно». Оказалось, недостаточно! Ну и что?! Я ни о чем не жалею! Этот, в полосатой пижаме, тогда посмотрел на меня и подумал (все его мысли вот такими буквами были написаны на его мясистом лбу. Я словно наяву их услышала): «Хорошо, — подумал он. — Левка дурак, и у него это скоро пройдет. Для меня в его возрасте тоже важнее всего были ляжки и груди, но у него, слава Богу, есть я! И пока есть я, ты, хищница, здесь не пообедаешь. Тебе еще встанет мой Левушка поперек глотки». Я чуть не расхохоталась ему в лицо. Я ему ответила про себя: «Иди, иди, умник, в свой сортир! Много мне корысти в твоем сынке и в тебе… Все, что ты на нем видишь, я ему купила или сшила. Иди, иди куда идешь, куркуль несчастный, и хоть там не жмись». Но я ни о чем не жалею. Особенно сейчас, когда понимаю, как нам на самом деле было хорошо! Даже несмотря на то, что жить нам было негде. Целую неделю я ночевала у знакомых по фамилии Звонкины. Отдыхали у нас на море когда-то… Встречались мы днем у его друзей. И у меня была замечательная подружка, у которой родители днем работали. Она, солнышко, сидела по три-четыре часа внизу на лавочке у подъезда. Я была уверена, что она ходит по делам, что наши свидания не такой ценой оплачиваются, а потом случайно из окна увидела ее. Когда я ей выговаривала за это, она вдруг покраснела и сказала: «Ну что ты, разве мне трудно… Я там сидела, читала. Ведь это же любовь!» И вот подлая бабья натура — нам трудно, а какой-то бесенок во мне нашептывает: «Посмотрим, посмотрим, на что он способен, как он выкрутится из этого положения». Бедный Левушка мотался по Москве с утра до ночи. Искал квартиру. Ему и работать еще надо было. Это там, на юге, в провинции он был генерал, а здесь, в метрополии, как он сам выражался, сразу попал в рядовые. И это все из-за меня. А заниматься всякими бытовыми делами он не привык. Всю жизнь он по сути своей был маменькиным сыночком. В общем, хлебнул он со мной горячего в тот год прямо со сковородки… Потом, наконец, прибегает радостный, гордый собой. Триумфатор. «Все, — кричит, — живем! Полтора месяца живем по-королевски, двухэтажная дача, шесть комнат, две веранды, два туалета, ванная, бар, бильярд, сауна во дворе с бассейном. И все это в нашем распоряжении… Хозяин — мой старый друг, Генка, гениальный мужик. Он неделю поживет с нами, потом отваливает на Иссык-Куль в какой-то суперсанаторий, потом в горы ловить форель. Красиво жить не запретишь!» «И не научишь», — подумала я. Можете представить, что там было, как мы дорвались друг до дружки… А по утрам, когда мы втроем с хозяином собирались внизу в просторной светлой столовой за огромным круглым столом под старинным низким абажуром, и я раскладывала по тарелкам омлет с помидорами (мое фирменное блюдо), а хозяин, Геннадий Николаевич, рассказывал что-то очень интересное, и улыбался, и шутил тонко и умно, я не могла на него смотреть! Честное слово! Просто физически не могла. Не могла себя заставить. Только воровски, в зеркало, когда он не видит. Или в спину, в профиль… Что это было со мной? Ведь я спускалась еще горячая от объятий, еще помнящая губы, руки, счастливая, как никогда в жизни. Я любила Левушку исступленно, истерично, так что постоянно и неотступно преследовало желание укусить его. До крови. А на Геннадия Николаевича боялась смотреть… И все это в одно и то же время. Ну и дрянь я была! Вот такой он ее увидел. Наташа вышла из стеклянной двери на втором этаже и стала медленно, шлепая вьетнамками, спускаться вниз по открытой лестнице, еще не замечая его, отчаянно зевая и загорелой пятерней расчесывая свалявшиеся за ночь выгоревшие короткие волосы. Она была в кисейном платье, которое моталось вокруг ее длинных шоколадных ног, как необъятная цыганская юбка. Солнце поджигало кончики ее волос и пробивало платье насквозь. Сашка видел, как с ленивой грацией ломалась от каждого шага ее длинная тонкая талия, как вздрагивали маленькие груди с вызывающе твердыми сосками. Она потянулась всем телом, подняв над головой сцепленные руки. И тут увидела Сашку. Он стоял, как по стойке смирно, держа, словно фуражку, на отлете ржавую консервную банку с мясистыми, красными, влажными навозными червями… Наташа опустила руки, передернула, как в ознобе, плечами и прохрипела спросонья: — Ты кто? — Она засмеялась над своим басом, прокашлялась и уже своим голосом переспросила: — Ты кто, дружок? А голос у нее был глуховатый и низкий настолько, насколько низким может быть женский голос, чтоб не потерять женственности. Сашка протянул вперед банку с червями и сказал тоже внезапно охрипшим голосом: — Отличные червяки к вашему завтраку. Жирные, свежие и недорого… — А не мелковаты? — через секундную паузу спросила Наташа. — В прошлый раз мне подсунули каких-то недомерков, вилкой не подцепишь… — Обижаете, хозяйка, мерный червяк, подбирал, как для отца родного… За Сашкиной спиной раздались негромкие хлопки и довольный голос Геннадия Николаевича: — Молодцы, молодцы. Замечательно! Вы спокойно можете работать парный конферанс. Ну ладно, этот вундеркинд совершенно сумасшедший, от него можно всего ожидать. Но ваша реакция, сударыня, выше всяких похвал, поздравляю! Геннадий Николаевич возвращался с утренней пробежки. Пот лил с него ручьями. Через пятнадцать минут Геннадий Николаевич вышел в столовую в сухом и мягком спортивном костюме с влажными после душа волосами. Спустился и Левушка. Все много смеялись утреннему происшествию и увлеченно делали апельсиновый сок. Наташа мыла апельсины, Левушка и Сашка резали их на четыре части, а Геннадий Николаевич ловко забрасывал их в ненасытное жерло соковыжималки фирмы «Браун». Машина молниеносно поглощала их, истерично взвывая, и выплескивала пенную струю густо-оранжевого сока. Солнце золотило бревенчатые стены столовой и пробивало зеленый абажур насквозь, как недавно платье Наташи… Потом пили горьковатый от цедры, остро пахнущий апельсиновый сок, и Геннадий Николаевич, прочно выстраивая каждую фразу и обязательно договаривая ее до конца, негромко рассказывал: — Меня угощал шеф-повар ресторана «Пекин». Этот негодяй сперва дал мне попробовать нечто невообразимо вкусное, а потом объявил, что это не что иное, как жареные черви. Я не поверил. Он меня окончательно убедил, когда рассказал технологию приготовления этого блюда. Земляных червей моют и помещают в глиняный горшок с творогом. Как известно, дождевой червяк живет тем, что пропускает через себя землю, извлекая из нее питательные вещества. И основная задача кулинара сводится прежде всего к тому, чтобы очистить червяка от земли и снаружи, и внутри. И вот червяк, по обыкновению своему, начинает пропускать через себя за неимением земли творог. Творог в горшке меняют много раз, пока червяки не станут стерильно чистыми, нафаршированными творогом, свежайшим и нежным. Далее идет сложная кулинарная обработка, в подробности которой я уже не вникал. Уверяю вас — замечательное блюдо. Настолько замечательное, что я попросил добавки, уже зная, из чего оно приготовлено. Потом завтракали. Потом Левушка поехал на студию, а Наташа, Геннадий Николаевич и Сашка, захватив банку с червями и удочки, пошли на озеро ловить ротана, который за последние пятнадцать лет выжил из подмосковных водоемов всякую другую рыбу. Ротан клевал круглые сутки, когда лучше, когда хуже. Сашка сел так, чтобы постоянно видеть Наташу в профиль, видеть, как натягивается от каждого движения ее облегающая майка, как проступают сквозь нее точки сосков. У Сашки все утро перехватывало горло, и он разговаривал хриплым ломающимся баском и все время чуть слышно покашливал. Это случилось на восьмой день. Мы уже собирали Геннадия Николаевича в дорогу. Левушка принес шампанского. Сашка пришел. Еще какой-то Владик, приятель Геннадия Николаевича, с какой-то умирающей девицей. Нет, действительно умирающей. Я как увидела ее, честно говоря, дернулась. Нет, действительно потрясающе красивая, но такая мертвая… И такое высокомерное, брезгливо-усталое выражение на лице, что так и хочется чернилами брызнуть и посмотреть, сумеет ли она его сохранить. Но я ее, слава Богу, сразу раскусила… Она в ванную зашла, а дверь не прикрыла, мол, не такая я, не думайте… Есть такие, которые никуда не заходят, вроде они и не материальные. А у меня дурацкая привычка по дому босиком ходить. Ну, наверное, я бесшумно шла. Она не видела и не слышала. Быстро оглянулась и ручками так быстро, мелко по полке с косметикой прошлась. Один флакончик схватила, другой, третий, дезодорант понюхала, за пазуху два раза шикнула, крышку закрыла и на место. И еще повернула, как было. Вот этот доворотик-то меня и доконал. Ну, думаю, нет, дорогая, ты не конкурентка. Если так на вечерок, на ночку, еще можешь снять кого-нибудь, а всерьез ты не тянешь… Когда она потом появилась в столовой со своим высокомерным, брезгливо-усталым выражением лица, то я чуть не расхохоталась. И весь вечер была к ней усиленно внимательна и вежлива. Та от такого внимания даже начала меня побаиваться. Вот ведь стерва! Это я о себе. Ну чем мне девочка помешала? Она ни на кого, кроме Владика, и не смотрела, она за Владика дрожала весь вечер. А он, конечно, когда я разошлась, чуть шею в мою сторону не вывихнул. Ну, разве не стерва? Зачем мне нужен этот папенькин сынок, который через слово о папе упоминает, чтобы, не дай Бог, не забыли, что у него такой важный папа есть. Он когда что-то рассказывает, то говорит о себе в третьем лице и называет себя по фамилии… Чтобы лишний раз произнести эту фамилию. Я думаю, он от этого сексуальное удовлетворение получает… А папа у него действительно хорош. Вот с папой я бы познакомилась. Я помню, класса с третьего была в него влюблена. У меня над кроватью штук пятнадцать открыток висело. Из всех его фильмов. Сашку было жалко. Он в этой компании на порядок тоньше всех был. Ни одно слово, ни жест, ни взгляд мимо не пропустил. Особенно если этот жест или взгляд касался меня… Остальные слишком были собой заняты. И Левушка, к сожалению, не исключение. С каким убитым видом бедный Санечка сидел! Ведь Владик-то папино имя над головой, как знамя, — и вперед, не разбирая дороги. И меньше всего его интересовало, есть у меня муж или нет. А Левушка ничего, сидит посмеивается, даже наоборот, доволен. Приятно, что я таким успехом пользуюсь. Это ему всегда льстило. А Геннадий Николаевич был, как всегда, спокоен и мудр. Я просто не знала, что с Сашкой делать, смотрю, у него глаза уже побелели. Я его позвала на кухню помочь самовар поставить, а он шишкой в трубу попасть никак не может — руки трясутся. Я подошла к нему сзади, обняла за плечи, ткнулась ему носом в ухо и говорю: — А правда было бы здорово, если б мы с тобой были братишка и сестренка? — И чмокнула его в щеку. А волосы у него жесткие и речкой пахнут… Он замер, натянулся весь, как струночка. А я говорю: — А правда, этот папенькин сынок смешной? Ему бы с папиным портретом на груди и на спине ходить… Как в Америке живая реклама, знаешь? До сих пор, как вспоминаю этот момент, комок в горле… Дай вам Бог хоть раз в жизни увидеть такого счастливого человека. Он даже не вспыхнул, он взорвался радостью! Я уж не помню, что он делал. Что-то кричал, кружил меня по кухне, на руках стоял. Я весь вечер потом ходила обожженная его радостью, его счастьем. До сих пор не знаю, куда записать этот мой поцелуй, в плюс или в минус. Может, целовать мне за него на том свете раскаленную сковородку, а может, и простится мне что-то за этот поцелуй… Ведь это была правда. Больше всего на свете мне бы хотелось иметь такого брата. Нет, не такого, а именно его. Мне кажется, я его спасла бы. И тогда бы вся моя жизнь — не зря! Наверное, из-за Сашки у меня в тот вечер началась истерика. Сашка внес самовар на вытянутых руках. Они все захлопали, а я свой комок никак не могу проглотить. А Левушка в восторге! Ну как же! Чудный вечер, его жена имеет успех, все мужчины (кроме Геннадия Николаевича) в нее влюблены, лучший друг оставляет дачу, а сам уезжает в горы ловить форель! Левушку почему-то именно это обстоятельство радовало больше всего! Оно его просто в восторг приводило. Он то и дело говорил: «Ну ты, старик, просто как Хемингуэй!» — «Это правда, — скромно улыбался Геннадий Николаевич, — только экипирован получше!» — «Вот сноб! — восхищенно кричал Левушка. — Вы посмотрите на него! Он экипирован лучше папы Хэма! И что самое удивительное — я верю тебе, клянусь!» — «Что же тут удивительного, — спокойно объяснял Геннадий Николаевич, — во времена Хемингуэя не было углепластика и еще множества современных материалов. По классу наше с ним снаряжение на одном уровне. Только мое современнее. Лучше моих снастей на сегодняшний день не существует в природе. Их не только еще не сделали, но еще и не изобрели. Может, существуют где-то платиновые катушки, золотые блесны и удилища с инкрустацией, но, уверяю вас, ни один уважающий себя спортсмен подобную ерунду и в руки не возьмет». Он объяснял все это отмороженной девице, но по тому, как усиленно он только к ней обращался, я поняла, что говорит он это только для меня… Боже! Зачем? Защити! Не надо, не хочу! Пусть уезжает скорее, немедленно. Не знаю, как у меня хватило сил спокойно подняться, пробормотать, что я на минуту, и спокойно добраться до нашей спальни. Там я бросилась на его подушку, и меня стало выворачивать плачем, как рвотой. Я искусала подушку, чтоб не закричать на весь дом, на весь поселок, на весь свет… Поздно вечером Владик, сильно поддатый, сел за руль и повез свою девушку в Москву. Геннадий Николаевич даже не попытался оставить его ночевать: — Пора спать, друзья. Завтра рано вставать. Поверьте, мне грустно покидать вас, — сказал он, глядя на Леву. — А как нам грустно, — сказал Лева, обнимая друга за плечи. — У вас Сашка остается, — улыбнулся Геннадий Николаевич. Наташа вздрогнула. Сашка покраснел и потупился. — Червями к завтраку вы обеспечены, все снасти я оставляю на его попечение. Геннадий Николаевич дружески подмигнул Сашке. Тот снова покраснел. На этот раз от удовольствия. — Ну да, ну да, — мрачно улыбнулся Лева и плюхнулся в кресло. — Очень мило… Славный монтаж, настоящее кино. Кто-то едет в горы ловить форель, а кто-то остается ловить бычков в пруду… — Я готов с тобой поменяться, — улыбнулся Геннадий Николаевич, глядя прямо ему в глаза. Наташа внутренне ахнула. Она весь вечер ждала какого-нибудь выпада, укола, уже устала ждать, уже расслабилась, отвлеклась, и вот, когда все, казалось, кончилось, когда все позевывая отправлялись спать, она его получила… — Ты посмотри на него, — польщенно засмеялся Лева, обращаясь к Наталье, — и этот готов со мной поменяться! Владик мне уже втихаря предлагал махнуться девочками… Сашка сидел, вжавшись в глубокое кресло, смотрел на свои обшарпанные, зазелененные травою кеды и никак не мог найти удобного момента, чтобы встать и пойти домой. Наташа поднялась и сухим тоном сказала: — Ну все! Завтра действительно всем рано вставать. Вообще-то за такие предложения морду бьют. На втором этаже в спальне на кровати Лева вяло проглядывал шестнадцатую полосу «Литературной газеты». Наташа лежала в ванне и рассматривала свое увеличенное зеленоватой водой тело. Вода остывала, но Наташа лежала, не меняя положения и ничего не предпринимая, и думала, что хорошо бы закрыть глаза и незаметно умереть… Она слышала, что самоубийцы вскрывают вены в ванной. Она медленно привстала и пустила горячую воду. Из душа на гибком шланге по бедрам побежали мелкие пузырьки. Вода вновь стала горячей. Ее лоб покрылся испариной. Она потянулась, выключила воду, потом, не ложась, тем же движением взяла с подзеркальной полочки безопасную бритву. Снова улеглась в ванну, невольно намочив бритву. Покрутила бритву в руках, зачем-то подбрила золотистый пушок на руке возле кисти, потом стала раскручивать станок. То ли руки были мокрые, то ли станок крепко затянут — у нее ничего не получалось. Она взялась покрепче, приложила усилие, станок провернулся, оставив на подушечках указательного и большого пальцев два глубоких пореза. Боли она не почувствовала, так как кожа была распарена и сморщена, словно после стирки. Наташа сперва и не увидела ранок. Потом вдруг из обоих пальцев обильно полилась кровь, заструилась, расползаясь по мокрой руке, закапала в воду, образовывая мутно-розовые облачка. Наташа несколько мгновений молча смотрела на эти облачка, потом швырнула станок в раковину, с шумом, проливая воду, поднялась, выпрыгнула из ванны, поскользнувшись и стукнувшись локтем о кафельную стену, охнула, схватила полотенце, зажала его между порезанными пальцами (полотенце сразу покраснело) и, шлепая мокрыми ногами, побежала в спальню. Там она кинулась Левушке на грудь так стремительно, что тот не успел убрать газету. Наташа зарыдала в голос, представляя, что было бы, если б она раскрутила станок и вынула лезвие, чувствуя, как толчками начинают болеть подушечки пальцев и как ноет ушибленный локоть, как пощипывает и студит кожу высыхающая на спине вода, как ей холодно и неуютно, как липнет к груди намокшая газета, как испуганно и растерянно обнимает ее Лева. — Не надо, пожалуйста, — сказала Наташа и убрала его руку с бедра. — Ослабь узел на большом пальце, ты слишком перетянул, больно… Лева развязал и снова завязал бинт. Наташу трясло. Лева осторожно обнял ее рукой и попытался придвинуть к себе. — Не надо, я умоляю тебя, — дрожа всем телом, сказала Наташа. — Я хочу согреть тебя, — обиженно оправдался Лева. — Не понимаю, чего ты сорвалась?! Все было так хорошо… Ты из-за этого Владика? Ну его к черту! Ты его больше не увидишь. Мало ли наглецов на свете, плюнь на него! — Зачем ты пьешь? — Что? — Зачем ты п-постоянно пьешь? — стуча зубами от озноба, переспросила Наташа. — В каком смысле? — искренне удивился Лева. Ну, ты даешь! Да сколько я пью? Какая тебя муха укусила? Я не больше тебя пью. — А з-зачем ты куришь? — все еще дрожащим голосом спросила Наташа. — А ты? — удивился Лева. Он встал, закурил и стал нервно ходить по комнате, держа в руке большую хрустальную пепельницу. — Дай и мне… — тихо сказала Наташа. Лева дал ей сигарету. Щелкнул зажигалкой. Наташа сделала несколько жадных затяжек и с силой ткнула сигаретой в пепельницу, сломав окурок. — Я люблю тебя, — строго, словно возражая кому-то, произнесла она. — Поцелуй меня. Лева, отведя неловко руку с пепельницей, в которой дымилась сигарета, нагнулся и нежно поцеловал Наташу в губы. Она мгновенно обвила его одной рукой, впилась сухими, воспаленными губами в его рот и, больно надавливая на шею, изо всех сил привлекла его к себе. Лева охнул от неожиданности, а Наташа все крепче и жарче, все исступленное целовала его, прижимая к себе левой рукой, а правой лихорадочно выдергивала одеяло, застрявшее между ними… До конца дней своих Лева будет считать, что это была самая счастливая, самая ослепительная ночь в его жизни. Похоже, что первый раз она изменила своему мужу с ним же самим. За три недели до возвращения Геннадия Николаевича разбилась большая хрустальная ваза. Разбила ее я. Мы с Сашкой ходили в лес, и я набрала целую охапку фиолетового иван-чая и еще каких-то голубых цветов, нанизанных на длинные стебли. Они обычно растут около железной дороги на насыпи. Букет уже не помещался в одной руке, а Сашка все скакал по траве и приносил то один, то другой цветок. И я прибавляла его к букету, а потом я положила букет на сгиб руки, и Сашка начал подносить цветы непрерывно. И всякий стебелек укладывал собственноручно и каждый раз касался моей груди тыльной стороной ладони. Неужели он думал, что я не замечаю этих прикосновений? А если знал, что замечаю, неужели он думал, что мне это тоже приятно? Тогда он просто нахальный мальчишка. Тогда его стоило отодрать за уши! Но он меньше всего был похож на нахального мальчишку. А мне это действительно было приятно… Не в том смысле, а просто приятно наблюдать, как его рука, словно намагниченная, неодолимо тянется… Или как хитрый, юркий зверек, готовый ежесекундно удрать и который непрерывно тычется острой мордочкой во все стороны… И к чему там тянуться… Всю жизнь комплексовала по этому поводу… У нас на Украине девчонки грудастые, налитые. Я вечно среди них цаплей выхаживала… В общем, приятно, приятно, зачем самой себе врать? Он очень красив. И кожа… Такая кожа может быть только в шестнадцать лет. «Где мои шестнадцать лет?» Нет, и у меня кожа пока еще ничего, но тогда, в шестнадцать… Глупо жизнь устроена. Самое острое чувство, самые нестерпимые желания в этом возрасте, и каждый день бесконечен, и каждый завтрашний день — загадка и обещание счастья. Идешь одна по шоссе, а впереди человек показался или машина притормозит — сердце обрывается, и в голове неясный такой гуд: «А вдруг?» А что вдруг — неважно… Вдруг! И так каждый день, ты, как натянутая струна. Тут не только рукой, тут взглядом заденет кто-нибудь — и зазвенела!.. А тебе еще только шестнадцать. Ничего нельзя. Дурацкая учеба в школе, нелепая школьная форма, смехотворные запреты, кошмарные обязанности — и все это ради какой-то будущей жизни, когда вот она, настоящая, клокочет, клубится в тебе, как лава в вулкане, и ты из последних сил удерживаешь ее в себе, чтоб не выплеснула огненным столбом. Я Сашку очень понимаю. Особенно в эти редкие минуты, когда он становится вдруг задумчив. Нет, он совсем не нахальный мальчишка! В нем есть глубина чувств… И мне это приятно. Я понимаю, что это пройдет у него, что это обычное явление у мальчишек, это все равно, что влюбиться в учительницу или в киноактрису, но мне все равно приятно, потому что в меня влюбился именно он, Сашка. И, честное слово, если б могла, я бы облегчила его страдания. Но даже если я ему дам то, чего он больше всего на свете сейчас хочет, о чем мечтает по ночам, что в мыслях его уже давно произошло, — это не облегчит его жизнь, а, наоборот, только все усугубит. Сразу же окажется, что он хотел от меня совершенно другого, что ему нужно не только спать со мной, ему нужно, чтоб я полюбила его, и не так, как я его уже люблю (как братишку или сыночка), а на равных, той же большой, жгучей любовью, которой он любит меня. А это невозможно. Это совершенно невозможно. Он вдруг сделался печален, замолчал, потемнел, словно в тень вошел. Я хотела спросить — что с тобой? Но в последнее мгновение удержалась, поняла, как фальшиво прозвучит вопрос, ответ на который я прекрасно знаю. А он словно почувствовал это мое внутреннее усилие, испытующе взглянул на меня и как бы в благодарность за мое молчание криво улыбнулся и вроде небрежно предложил: «Хочешь, стишок прочту? Я молча кивнула, побоялась звуком нарушить его так неловко скрываемую от меня печаль. Он начал медленно читать: Дождь прошел стороной… Не коснувшись оврага, И улиц кривых не коснувшись… Только ветер принес Одуряющий свежести запах И затих. И опять духота, И желанье уехать куда-то. И тут я чуть не разревелась, как дура… От бессилия и стыда. И стала противна себе за то, что попыталась заслониться Сашкой от того… Сашка долго объяснял, что это — верлибр, свободный стих, долго уклонялся от ответа на вопрос, кто автор. И было ясно, что это его стихи. Я попросила прочитать еще, он застеснялся вдруг, покраснел, как девчонка, потупился, наотрез отказался, чуть не убежал. Потом признался, что это его стихи. «А правда, ничего?» И тут мне стало так тоскливо, что я повернулась и пошла домой. Там я, придерживая цветыодной рукой, налила в эту несчастную вазу воды и со злостью воткнула в нее букет и словно в замедленном кино увидела, как ваза пошатнулась, легла на выпуклый бок и покатилась, изрыгая из себя воду, как она скатилась на край стола, задержалась на долю секунды, и в это время Сашка кинулся к ней и не успел, а может, и помог ей упасть неловким движением, и ваза с ужасным звуком грохнулась на пол, и цветы развалились почему-то веером. Я увидела побелевшее лицо Сашки, его зря протянутую руку и первое, что мелькнуло в голове: «Так им и надо!» Как я понимаю теперь, им — это моему благоверному, которому теперь придется раскошелиться, и Геннадию Николаевичу. Ваза-то все-таки его, и ваза какая-то уникальная, авторская, как и все в его доме… Когда на грохот из своего кабинета спустился Лева, по его пришибленному виду и виноватому, собачьему взгляду было понятно, что он опять не написал ни строчки. Я молча ушла на кухню готовить обед. У Геннадия Николаевича из кухни в столовую прорезано окошечко, для подачи пищи. Оно закрывается скользящей деревянной дверцей, чтобы в столовой не пахло кухней. Я подняла эту дверцу. Лева и Сашка сидели на корточках и подбирали осколки и цветы. — Завтра с утра мы переезжаем на «Юго-Западную», в квартиру Жарковского, — сухо сказала я. — Но почему завтра? Ведь еще три недели… — Лева глядел на меня снизу, сидя на корточках. — Ты можешь остаться и еще поработать… — сказала я с сучьей улыбкой. — А с меня довольно! Завтра на десятичасовой электричке я еду в город. И потом весь вечер уговаривала Сашку, что это не он разбил вазу, а я. Я не была раньше на этой квартире. Лева ездил с Жарковским один. Когда я стала укладывать в сумку мыло, шампунь и еще какие-то хозяйственные мелочи, Лева таинственно улыбнулся и выложил все это из сумки. — Тебе это не пригодится, — сказал он. — Ты хочешь сказать, что мне не нужно мыться, раз тебя не будет? — Не в этом дело. Там все есть. Возьми с собой только косметичку. Я пропустила его слова мимо ушей. Слишком много квартир мне пришлось снимать в Одессе. Наемная квартира так и осталась в моем представлении узким пенальчиком с разболтанной кроватью, со старомодным пустым сервантом, со сломанной деревянной линейкой в ящике. И хорошо, если в коридорчике, приспособленном под кухню, находилась и раковина. Квартиры с ванной или душем мне не попадались. Когда я очутилась в квартире Жарковского, то просто остолбенела от восторга. Квартира была превосходно обставлена. Все было так, словно никто никуда не уезжай… В прихожей стояли в ряд красивые шлепанцы, в ванной висели свежие, еще со складочками полотенца, на полках сверкали флаконы с шампунями и одеколонами, на кухне в шкафчиках был идеальный порядок. Постели были застелены свежим бельем. Все было так, будто хозяева ушли на работу и скоро вернутся. Я долго, как сомнамбула, бродила по комнатам, а когда наконец поняла, что в этой роскоши мы будем жить целых два года, то бросилась на кровать, завизжала и задрыгала ногами. Потом я, как кошка, обследовала все углы, выдвинула все ящики, открыла все дверцы, перетрогала и перенюхала все флаконы в ванной и выскочила в магазин. Мне не терпелось что-нибудь приготовить на новой кухне, на электрической плите. Внизу я нос к носу столкнулась с Сашкой. — Ты куда? — К вам. — А как адрес узнал? — Вы же сами… И Лева тогда на вашем дне рождения говорил. — И ты запомнил? Ну, что молчишь? — Я сначала запомнил, а потом вышел на кухню и записал. — Интересно, зачем? — Так… на всякий случай. — Ты сказал Леве, что едешь ко мне? — Нет… Я не к вам ехал… У меня тут недалеко товарищ живет. Потом, думаю, почему бы и вас заодно не проведать. Все это он говорил вроде бы небрежно, но голос его предательски подламывался. — Ну хорошо, пошли в магазин, — сказала я и вручила ему большую красивую сумку, хозяйскую между прочим. Денег мне Лева дал много, больше, чем требовалось на неделю. Мы ходили с Сашкой по магазинам и покупали сыр, помидоры, хлеб, курицу, какую-то зелень у старушки, торгующей прямо около входа в магазин. У меня вдруг возникло какое-то бесшабашное настроение. Стало очень весело, чуть ли не до слез, так, словно веселишься в последний раз. Я и Сашку заразила этим шальным весельем. Мы ходили и хохотали, как сумасшедшие, по каждому поводу. Дурачились… Сашка с полной сумкой прыгал через железное ограждение тротуаров, рвал цветы на клумбах и торжественно, на одном колене, держа сумку в зубах, преподносил их мне. И все это на глазах у изумленной публики. Все нам сходило в тот день с рук. Ни одного милиционера поблизости не оказалось. Я не помню, кому пришла в голову мысль купить шампанское и торжественно отпраздновать мое новоселье. Мы купили две бутылки. Потом мы жарили в .духовке курицу, готовили салат, накрывали на стол в гостиной. Отыскались даже свечи. Работал у Жарковских проигрыватель (какое чудо!), были мои любимые пластинки. Я поставила Глюка «Орфей спускается в ад», и Сашка просто обалдел. Он слушал Глюка в первый раз. — Значит, ни одна душа в мире не знает, что ты у меня? — шуткой спросила я у Сашки. — Ни одна, — серьезно сказал он и вдруг покраснел. А я, стерва, вместо того, чтоб свести мою глупую шутку на шутку, наоборот, понизила голос и прошептала: — Поклянись же, что ни одна живая душа об этом не узнает… — Клянусь, — так же шепотом ответил Сашка. И тут пришел мой черед покраснеть. Шампанское еще лежало в испарителе, а курица топырилась четырьмя обуглившимися конечностями в духовке, как еретичка на костре… Я заглянула в духовку и именно так подумала. И еще что-то веселое об аде… Я подумала, что если б он был, то черти за сегодняшний вечер наверняка будут меня точно так же поджаривать в своей духовке. Вину я тогда чувствовала уже не перед Левой. И не ему назло поступала. Про Леву я тогда забыла, словно его резинкой стерли, так, одни лохмушки остались на бумаге. Видишь, что было написано что-то, но не разобрать, что именно. Нет, так нельзя сказать, «чувствовала вину». Не все же время я ее чувствовала, как, скажем, больной зуб. Было какое-то неясное мгновение, заглянула в духовку, пошутила сама с собой насчет ада, чертей, краем сознания (так видишь что-то краем глаза) подумала, что, наверное, не стоит так издеваться над Сашкой, ведь все равно это безнадежно, все равно ни я его не может быть. И тут же тоже мимоходом проскочило: «А почему нет? Ведь ему эта мука приятна. И мне его мука приятна. И вообще нечего комплексовать, то, что будет — пройдет без следа. И ни одна живая душа… Да и что будет? Разве он осмелится? Да у него руки дрожат, когда он к ладони случайно прикасается. Ведь не буду же я сама!.. Интересно, что бы он стал делать?.. И ведь ни глотка шампанского еще не выпила. Это просто какая-то лихорадка». Я вдруг заметила, что у меня у самой дрожат руки. Меня это даже разозлило. Я выскочила в ванную, умылась холодной водой, растерла щеки полотенцем (знаю, знаю, что этого не стоит делать), взлохматила свои короткие жесткие патлы и долго-долго смотрела на себя в упор. Потом сказала сама себе: «Стерва — вот ты кто!» И сама себе ответила: «Да? Ему можно ездить по горам с какими-то шлюхами, а мне нельзя?» — С кем вы разговариваете? — крикнул Сашка. — Со своей совестью. — Ну и как? — Я ее уговорила. Нам нужно выпить на брудершафт. А то когда ты мне выкаешь, я начинаю чувствовать себя твоей бабушкой. Курица получилась смешная, сверху — обугленная, а внутри — ледяная. Мы ведь не потрудились ее разморозить. С ума сойти — он меня бросил! Я дала себя уговорить, пожалела его, приласкала (практически по-матерински), сама себя убедила, что это ему поможет, что это его спасет, а этот молокосос взял и бросил меня. И поделом мне, старой дуре! «Впредь тебе, бабушка, наука — не ходи замуж за внука». Но почему же так больно? За что? Неужели это всегда так больно? Даже когда есть за что, даже когда еще не успела полюбить… А может быть, успела? Да нет же! Это смешно! Просто у него кожа атласная и тонкая, и под ней он весь чувствуется, каждая жилочка, каждая косточка… И куда ни прикоснись, он вздрагивает всей кожей, как жеребенок. И пахнет от него молодым горьким потом, похожим на запах зеленоватой черемуховой коры или на запах низкой степной полыни. Я, когда была еще девчонкой, так любила растирать ее между ладоней. А потом все — и губы, и хлеб, и черешни — было горьким. Все началось в тот раз, когда Сашка внезапно приехал ко мне в Москву. Мы пили шампанское, спалили курицу, которая внутри оказалась совершенно сырой. Было так беззаботно, так хорошо, так не хотелось думать ни о каких последствиях… Я страшно удивилась, когда поймала себя на том, что глажу его по плечам, по груди, что моя рука пробирается к расстегнутому вороту его рубахи, туда, где горячая и сухая, загорелая кожа… Но он, по-моему, удивился еще больше. А как было трогательно, когда в какой-то момент он вдруг замер, остановился… Я спросила: «Что с тобой?» Он густо покраснел и через силу, еле слышно сказал: «Я ничего не умею». — «Я у тебя первая?» — тут же не удержалась я, хотя и так все было ясно. Но мне обязательно нужно было услышать собственными ушами. А как же! Не просто же так… Надо взять все, что можно! «Ну что ты молчишь? Я у тебя первая? Ты никого не любил до меня?» — «Никого», — прошептал он. И хоть я заранее знала ответ, меня обдало жаром от этого шепота. Я готова была раздавить его в объятиях… Я чувствовала, что сама покраснела не меньше чем он, а в висках почему-то застучало «пропадаю, пропадаю, пропадаю». А потом вдруг промелькнуло озлобленное: «Ну и пусть! Ну и черт с ними!». Расставаясь с ним в пять часов утра, мы попрощались навсегда. Я ему сказала, что это была причуда, может быть, слабость с моей стороны, и поэтому мы больше не должны встречаться. Это все равно ничем хорошим кончиться не может, бесконечно твердила я. А он молча кивал мне в ответ. «Не сердись, — говорила я и в искренности своей совершенно не сомневалась, — ты уже взрослый человек, ты должен понять, что лучше всего нам расстаться сейчас. Лучше всю жизнь благодарить судьбу за то, что она нам послала такую ночь, чем утопить все это во лжи. Пусть все останется волшебным сном. Ты понимаешь меня?» — «Понимаю», — побелевшими губами прошептал он, и мое сердце защемило от жалости. «Прощай», — сказала я, глотая комок. «Прощай», — ответил он и бесшумно затворил за собой дверь. Я вообще не собиралась подниматься с постели на другой день, но когда уже в двенадцать часов дня раздался звонок в дверь, я открыла и увидела на пороге свежего, пылающего румянцем Сашку с огромной охапкой явно ворованных отовсюду понемножку цветов и с бутылкой шампанского, то очень обрадовалась. И понеслось, поехало… Он являлся ко мне каждый день и всякий раз с бутылкой шампанского. Он словно боялся, что без этих ритуальных предметов ничего не состоится. Он боялся, что все может оборваться в любую минуту… Эта неделя длилась целый год, никак не меньше. Когда на четвертый день он опоздал на три часа (потом выяснилось, что отменили дневные электрички), я уже места себе не находила, металась по квартире, как голодная, разъяренная пантера. Поджег он меня своими сухими огненными руками. А я позволила себя поджечь. Вся эта бесконечная неделя прошла под лозунгом: «Пропади все пропадом». Потом позвонил со станции Левушка и сказал, что возвращается Геннадий Николаевич. Я в который раз предложила Сашке расстаться, пока не поздно. Лева приехал издерганный и жалкий. Я старалась его успокоить, но каждое мое сочувственное слово он оборачивал против меня. Мне это надоело, и я замолчала. Это взбесило его еще больше. Кончилось все грандиозной истерикой. Он плакал у меня на коленях, и мне стало по-настоящему его жалко. Проигрывать тоже нужно уметь. На Сашку мои запреты не действовали. Он подстерегал меня на каждом углу, звонил с утра до вечера и ставил меня в дурацкое положение тем, что не хотел скрываться. Когда к телефону подходил Лева, он вежливо с ним здоровался, представлялся и просил позвать меня. Лева однажды не выдержал: — Это когда-нибудь прекратится? — взревел он, когда я повесила трубку. — Нашла себе приятеля! Не понимаю, о чем можно с ним трепаться часами. Не воображай, что я ревную! Просто у меня в голове это не укладывается. Неужели удовольствие нравиться какому-то сопляку перевешивает в тебе здравый смысл? Ну понимаю, там на даче рыбалка, пляж, безделье… Он был нам оставлен вроде приданого, как собачонка, которую нужно кормить, или как цветы, которые нужно поливать… А теперь что? Не понимаю… — Он пожал плечами и ушел в другую комнату. Я усмехнулась ему в спину и решила завтра же встретиться с Сашкой. Встретились мы с ним только в четверг, так как у его матери по средам был творческий день и на работу она не ходила. Мы встречались с ним почти каждый день. Если можно было, я ехала к нему, если его мать была дома, мы встречались в городе и шли в кино. Или просто ходили по улицам, по каким-то неизвестным мне переулкам, и он показывал мне Москву. Откуда он ее знал? Когда я спрашивала его об этом, он только улыбался и рассказывал, кто жил в красивых, уютных особняках, какие гости туда приезжали. Он как-то очень быстро успокоился. Не остыл, а именно успокоился… В первые дни он не мог ко мне прикоснуться — его сразу начинала бить крупная дрожь. Внешне мы ни у кого не вызывали удивления. Мы смотрелись почти ровесниками. И по умственному развитию он был не ниже меня, во многих вещах даже наоборот. А душою он был, пожалуй, старше меня, вернее, глубже, зрелее… И все равно я относилась к нему, как к ребенку. Дорогому, любимому, такому родному. Я любила мыть его в ванной и шлепала, когда он начинал шалить. Наверное, я без тени смущения смогла бы вытирать ему нос… Не знаю, как он относился ко мне. Может, как к старшей сестре или как к матери или просто подстраивался, чувствуя мое к нему отношение, но очень быстро перестал дрожать от любого прикосновения. Нет, он не охладел, даже наоборот, распалялся день ото дня. Он был совершенно неутомим в любви, и случалось, выматывал меня до бесчувствия. Ему теперь постоянно не хватало времени, чтобы насытиться мною. Но стоило нам выйти на улицу, просто на кухню — он тут же переключался, становился смешлив, остроумен, говорлив. Я уже не ловила на себе его обжигающих взглядов. Его руки уже не искали повода прикоснуться ко мне. Когда я ему об этом однажды сказала, он стиснул меня в объятиях с такой силой, что хрустнули косточки, и закружил в воздухе и засмеялся во все горло. Нет, не обидно, не оскорбительно, а просто весело. Он был доволен, что я его немного ревную к прошлому. Он так и сказал об этом. А потом он меня бросил. Наташа приехала к нему в двенадцать. Саша сорвался с уроков — занятия уже начались — и встретил ее в школьной форме. Наташа сразу почувствовала что-то неладное. Не было шампанского. Сашка в своей нелепой форменной курточке хлопотал на кухне, все время приговаривая: — Сейчас чаю попьем с вареньем, с пряниками. Ты же любишь мятные пряники… Он старался не встречаться с ней взглядом. Наташа некоторое время с любопытством и удивлением наблюдала за ним, потом пожала плечами и пошла в ванную. Там она разделась и долго стояла под душем. Сашка что-то кричал ей из-за двери, но она даже не пыталась вслушаться. Потом она растерлась полотенцем и, обвязав его вокруг бедер, прошла в комнату и, отвернув одеяло вместе с покрывалом, легла на кровать. И тут в комнату вошел Сашка. В руках у него был поднос с чашками. От чая шел пар. Пряники лежали высокой горкой в керамической плошке. — С чего ты взял, что я хочу чаю? — усмехнулась Наташа. — А где же традиционное шампанское? Я бы выпила глоток чего-нибудь холодного. Он застыл с подносом посреди комнаты. — Ну что ты стоишь как истукан? Черт с ним, с этим чаем. Иди ко мне… — Наташа протянула к нему обнаженные руки. Сашка отпрянул от нее, и горка пряников с тихим стуком рассыпалась по подносу. — Может, все-таки чаю попьем? — пробубнил он. — Ну так… — решительно сказала она и села на кровати. — Да поставь ты этот дурацкий поднос. Ты с ним как половой в трактире! Что происходит? — спросила она строго. — Нам нужно поговорить… — О чем? — усмехнулась Наташа. — По твоему торжественному виду можно подумать, что ты собираешься сделать мне официальное предложение. — Наоборот. — Что значит, наоборот? Как это понимать — наоборот? — Нам с тобой не нужно больше встречаться. — Что-о? Что такое? — Нам не нужно больше встречаться, — повторил он, не глядя на обнаженную Наташу. — Почему? — с веселым любопытством спросила она и поправила мокрые после душа прядки волос. — Понимаешь… Я думал, это не имеет значения… Одно другого не касается… Оказывается, это не так. — О чем ты, милый? — подняла одну бровь Наташа и, передернув плечами словно от холода, натянула одеяло до подбородка. — Понимаешь, я думал, что можно думать об одной, а с другой…. — А с другой спать? Ну и о ком же ты думаешь? — Я думал, что это просто так… Я не хочу вранья. Кажется, я полюбил другую девушку. — Кажется или полюбил? — Кажется, полюбил. — А она тебя? — Это не имеет значения. — Ты это все придумал? — Нет. — Это чтоб меня подзадорить, правда? — Нет. — И кто же эта счастливица? — Она учится в нашем классе. — И она, наверное, отличница? Да? Ну что ты молчишь? Ее к тебе прикрепили, чтоб она тебя подтянула по литературе, да? Это у нее было общественное поручение? Признавайся, это же не стыдно в твоем возрасте. — Перестань, — нахмурился он. — Ну, хорошо, хорошо, не буду, — вдруг легко согласилась она и переменила тон: — И давно это? Давно ты о ней думаешь? — Больше недели… — Она что, новенькая? — по-дружески, участливо спросила Наташа. — Да нет, — пожал он плечами. — В том-то и дело… — Значит, ты раньше ее не замечал, а тут вдруг увидел? — Понимаешь, теперь это совершенно другой человек. У нее даже походка стала другой. Глаза другие. Я имею в виду выражение… — Она просто повзрослела, такое с девушками бывает… — Нет, — горячо возразил Саша, — конечно, она повзрослела, но не в этом дело. Она стала вся светиться изнутри… Понимаешь? Я не могу выразить… Мы все одинаково повзрослели, но другие девчонки рядом с ней, как незажженные лампочки рядом с горящей. — Значит, ее кто-то полюбил, — задумчиво сказала Наташа. — Кто? — Не знаю… — Она пожала плечами и, выпростав одну руку из-под одеяла, поманила его. — Ну какой же ты дурачок. Я думала, и вправду произошло что-то непоправимое… Иди ко мне. — Это очень серьезно, — вспыхнул Саша. Конечно, конечно, серьезно, кто спорит. Но это же другое… Ну, хватит дуться. Я же не виновата в твоих переживаниях. Иди сюда, сядь поближе. Иди же, дурачок. Ну вот так… Не съем же я тебя на самом деле… Понимаешь, это другое, — ласково говорила Наташа, поглаживая его по колену. — Ведь и я люблю Леву, и постоянно думаю о нем, и переживаю его неудачи… А с тобой мы друзья. Нежные друзья, у которых всегда есть друг для друга немножко тепла и нежности. И это тепло и эта нежность принадлежат только нам, это невозможно отдать другому. — Для других у нас другие чувства, ведь так? Он молча кивнул. — Ты не сердись, что я так о ней говорила. Я чуть-чуть разозлилась… Нельзя же так неожиданно. С друзьями так не поступают. Да сними ты эту дурацкую курточку, у тебя руки из рукавов торчат, как у второгодника. Здесь же тепло, даже жарко. — Она отпустила одеяло. — Ты должен был как-то по-другому мне рассказать. Ведь оттого, что ты стал думать об однокласснице, я не стала хуже, правда? И ты не изменился, и наши отношения… Ведь у нас всегда найдется друг для друга немножко ласки?.. — говоря это, она дрожащими руками, торопливо расстегивала его рубашку, ловила эти упрямые пуговицы на коротких тесных манжетах. — Принеси мне воды, — сказала Наташа, устало откинувшись на подушку, — мне весь день хочется чего-то холодного. Он встал, натянул плавки и пошлепал босиком на кухню. Там он открыл воду и подставил ладонь под струю, долго ждал, пока пойдет холодная. Он улыбался и сам этого не чувствовал. Когда он пришел, Наташа лежала на спине, вытянув руки вдоль бедер. Щеки ее пылали, глаза были закрыты. Сашка бесшумно подкрался и поставил холодный мокрый стакан ей на живот. — Что за дурацкие шутки! — сказала Наташа, даже не вздрогнув, и посмотрела на него прямым твердым взглядом. Она ладонью стряхнула воду с живота, приподнялась на одной руке и взяла у него стакан. Долго, маленькими глотками пила. Потом поставила стакан на тумбочку, поднялась и, обматывая бедра полотенцем, сказала между прочим: — Да, кстати, я приехала сказать тебе, что это наша последняя встреча. Ты, конечно, славный парнишечка, но мне становится с тобой скучно… — Она направилась в ванную и на пороге столкнулась с Сашиной матерью. — Добрый день, — со всей иронией, на какую была способна, произнесла она, закрылась в ванной и пустила в полную силу воду, чтобы ничего не слышать. Мне не удалось обмануть себя. Все равно ОН меня бросил. Я ехала в электричке и в такт колесам бормотала: «Так и надо, так и надо, так и надо, так и надо». Ну все, думала я, теперь я свободна! Теперь я сильная, теперь мне ничего не страшно. Я буду любить, беречь и жалеть Левушку. Теперь ему ничего не угрожает… Этот позор выбил из меня всю дурь, все мои страхи… Я буду самой послушной, самой преданной женой. Мы обязательно будем счастливы. Во что бы то ни стало! Назло всем! Мне нужно было это пережить, чтобы понять, как дорог мне Лева. Теперь пусть приходит ТОТ, на которого я боялась смотреть, от которого пыталась спрятаться за Сашкину спину… Я ничего не боюсь! Лева рассказал мне, от какого «заманчивого» предложения он отказался. Рассказал мимоходом, так, словно это случилось год назад, с легкой иронией, как о курьезном случае. Я не перебила его ни разу. Как только он заговорил о «товарной бреши», я сразу поняла, о чем он собирается мне сообщить. Геннадий Николаевич мне рассказывал о шапочном промысле. Чтобы облегчить и себе и ему задачу, я принялась мыть посуду. Нужно что-то делать руками, чтобы выдержать все это и не сорваться. Я с самого начала знала, что он отказался. Ведь для того, чтоб ухватиться за это дело, не нужно раздумывать три дня. Это время ему понадобилось, чтоб найти оправдания… Когда он кончил, я домыла вилки и ложки, вытерла их полотенцем, побросала в ящик в разные отделения, с треском задвинула ящик, повесила полотенце на место и только тогда спросила: — Почему? — Что, почему? — Почему ты отказался? — Понимаешь… — он замялся. — Это все не так просто… Ты же знаешь, что я работы не боюсь, но это все дурно пахнет. — В каком смысле? — спросила я. — В прямом и переносном. Главное, в переносном. Я специально ходил в нашу библиотеку и листал Уголовный кодекс… — Ну и что же? — Это запрещенный промысел, со всеми вытекающими отсюда последствиями… — А какие будут последствия, если мы не займемся этим, ты подумал? — Но мы же живем как-то… Я совершенно уверен, что постепенно все образуется. — Каким образом? — В конце концов я сделаю что-то стоящее… Или мои предки убедятся, что у нас с тобой все прочно, поймут, что не правы, и… — И что? — перебила его я. — И пропишут тебя. — И что дальше? — Ну, ты сможешь работать по специальности, и нам легче будет собрать на кооперативную квартиру. — И когда это, по твоим подсчетам, произойдет? — Не знаю… — он пожал плечами. — Во всяком случае, у нас есть два года в запасе. Пока не приедет Жарковский… А он может задержаться еще на один срок, тогда над нами еще два года не каплет… — А над тобой вообще не каплет, — стараясь не повысить голоса, сказала я. — Что ты имеешь в виду? — У тебя обеспечены тылы. Что бы ни случилось, тебя ждет твоя мамочка. Да и папуля, я думаю, раскроет объятия именно тогда, когда что-нибудь случится… Поэтому ты и спокоен… — Ты не должна так говорить. — Это почему же? — Я заметила, что, произнося эту фразу, уперла руки в боки, как торговка в рыбном ряду на «Привозе». — Потому что я люблю тебя. Ты мне бесконечно дорога, и я сделаю все возможное, чтобы сохранить нашу любовь. — Все, кроме этого… — усмехнулась я, опустив руки и потом скрестив их на груди, так как девать их было совершенно некуда. — Да, все, кроме этого! — торжественно сказал он. — Потому что это разрушит нашу любовь! Я не хочу строить наше счастье грязными руками. — Тогда этим займусь я! — сказала я и с облегчением вздохнула. У меня словно камень с души упал. Теперь, после того как он отказался ради меня, ради нас поставить на карту свои фарисейские принципы, я почувствовала себя свободной, и значит, ни в чем не виноватой. Вот если б он во имя нашей любви бился головой о стенку, карабкался, срывая ногти, тогда бы меня грызла совесть, а так… В одну секунду стало все ясно. Я нужна ему, как нужно человеку пообедать… А чтобы слаще было, он заводит красивую посуду. Это вполне в его духе. За те же деньги, да еще с любовью, с романтикой, с красивыми словами… Весна, осень и короткая зима в Дофиновке ужасны! Да и лето ужасное. Вот если б можно было не уходить с моря… Мы переехали в Дофиновку из райцентра Крестцы Новгородской области, когда мне было одиннадцать лет, а младшей сестренке Надьке — четыре года. Я до сих пор так и не знаю, из-за чего и зачем мы туда переехали. Отец все время намекал на какую-то историю, на гонения… Мы жили вчетвером в большой несуразной комнате с колоннами. Честное слово! Посередине потолка пролегала квадратная балка, которая опиралась на настоящие дорические колонны. Когда я узнала, что место, куда мы переезжаем, называется Дофиновка, и что это в пятнадцати километрах от Одессы, — во мне кто-то тихо ойкнул и замер. Я выбежала на улицу, по которой суетливо растекались ручейки в сверкающих ледяных берегах. На дне ручейков виднелись чистенькие промытые камешки. Стены купеческих кирпичных двухэтажных домиков потемнели, забрызганные капелью. Я шла по нашей улице и представляла себе Дофиновку. Какое красивое название! Я тогда как раз читала «Трех мушкетеров», и Дофиновка виделась мне каким-то волшебным королевством с пряничными домиками, под островерхими крышами, с жестяными вывесками ремесленников, поскрипывающими на ветру. Я шуршала ледяным крошевом, загребая ногами в маминых резиновых сапогах, и думала о стенах, увитых виноградом… Больше всего в Дофиновке меня поразила грязь. Жирная, липкая, обильная. Это было непривычно. У нас в Крестцах почвы были песчаные, сухие, чистые. Пряничных домов не оказалось. Стояли низенькие, синюшного цвета побеленные саманные домики, штакетные заборы как и у нас в Крестцах, и автобусная остановка из серого кирпича, заляпанная грязью до самой крыши; продовольственный одноэтажный магазин и какой-то полуразвалившийся саманный сарай рядом с ним. Потом на этом месте построили кафе «Парус». Потом большинство домов поселка заменили на каменные. Сразу за сараем было море. Серое, холодное, теряющееся в серой дымке. Я не удержалась, пробралась между штабелями бочек, воняющих рыбьим жиром, к самой кромке воды. С холодным плеском и шипом нахлестывались серые волны на темный утрамбованный песок и откатывались, оставляя грязные разводы пены. Я потрогала воду рукой, зачерпнула и лизнула с ладони… Вода была холодная и горькая. Я долго плевалась. Дул ветер. Я плакала. Пока я горевала, наступило лето. Оно обрушилось внезапно, когда я уже ничего хорошего от жизни не ожидала. Это был какой-то бесконечный карнавал. Сперва поспели черешня и клубника, потом покраснели вишни. Море стало таким нестерпимо лазурным, что я с рассветом убегала смотреть на него и смотрела, смотрела, пока солнечные блики не выбивали из глаз слезы. Это лето было самым долгим и самым коротким в моей жизни. Мне кажется, что тогда я прожила все радости и восторги, что были отпущены на весь мой век. Потом карнавал кончился. Дачники — москвичи, ленинградцы, одесситы, киевляне — разъехались, и наступила осень. И снова грязь, ветер, дождь. Грязные, заплеванные подсолнечной шелухой полы в клубе, танцы по субботам… Кучка глупо хихикающих девчонок… Парни лет с четырнадцати считали своим долгом перед танцами пропустить по стакану или по два домашнего вина. Особым шиком считалось незаметно курить прямо в зале во время кино. Это было потом, когда мне самой исполнилось четырнадцать. Это уже после того, как моя одноклассница Жанка, предводительница дофиновских девчонок, пробегая мимо меня, вроде бы нечаянно толкнула меня локтем. Я стояла в одной босоножке на осклизлом от водорослей валуне и, сполоснув другую ногу, надевала вторую босоножку. Я полетела вверх тормашками, подняв кучу брызг. А Жанка, хохоча, уплывала в море. Константин, наш дачник из Черновцов, даже не успел поддержать меня. Девчонки — их была целая компания — демонстративно повалились от хохота на песок… Я, как была в платье и в одной босоножке, бросилась за Жанкой, рискуя сломать ноги между скользкими камнями, потом споткнулась, плюхнулась животом на воду и поплыла, ничего не видя перед собой от бешенства. Я быстро догнала ее и начала топить. Жанка была толще меня и, наверное, сильнее, но на воде она была передо мной котенком. На воде они все были передо мной котятами, даже мальчишки. Это море было мое. У меня с ним были свои отношения. У нас была тайна. Мы любили друг друга. По вечерам, когда пляжи пустели, я тайком приплывала в свое укромное местечко на каменную гряду, метрах в пятидесяти от берега, снимала с себя купальник, ложилась спиной на покрытый шелковистыми водорослями бетонный куб и закрывала глаза. Вода еле-еле покрывала меня, и нежные волны перекатывались через грудь, лаская ее. Это было мое море. Я была в нем хозяйка и утопила бы Жанку, если б она тихо не пискнула: «Мамочка, родная». А пока она ругалась, я безжалостно и бездумно топила ее… Потом мне пришлось на себе переть ее к берегу. У нее уже не было сил плыть, она здорово нахлебалась. Я испугалась только на берегу, когда у нее изо рта полилась мутная вода… После этого случая они наконец перестали травить меня. А на танцы вместе с ними я начала ходить гораздо позже. Отец быстро сошелся с местными мужиками, а мы с матерью и сестренкой долго оставались чужаками. Я целыми днями и вечерами читала. Все книжки из школьной библиотеки я уже помнила наизусть, узнавала их в чужих руках издалека, по обложке, и ревновала, потому что с каждой книжкой я проживала яркую, волшебную жизнь, так не похожую на бесконечную осень и зиму за окном. Отец долго не верил в домашнее вино. Года через три он научился его делать не хуже чем соседи, но и тогда не верил в него, не опасался. Потом один раз свалился, другой… Потом мать начала скандалить, просить его не пить, сестренка плакала, он обещал, клялся, сам плакал, потом начал гоняться за нами с молотком. Есть девчонки, которым с самого детства ничего не надо. Они толстые, спокойные, едят и пьют, помогают по хозяйству, добры по-своему, удачно выходят замуж за соседа или одноклассника, рожают полных розовощеких детишек и ничего другого им и не надо. Таких у нас в Дофиновке было больше половины. А для других, живых, с неугасающим огнем в глазах, самым важным местом, неиссякаемым источником тайных надежд был… автобус. Да-да, обыкновенный рейсовый автобус, который проходил из Григорьевки, где уже тогда строился новый порт, в Одессу. На этом автобусе ездили молодые монтажники, портовики и моряки из Григорьевки, офицеры из Чабанки… И каждый был возможной судьбой. Проезд до Одессы стоил двадцать пять копеек. Мы собирали эти полтинники по копейке. Сейчас странно и смешно об этом вспоминать, но автобус был для нас всем. К тому же ведь были положительные примеры. Три, нет даже четыре девчонки познакомились со своими будущими мужьями в автобусе. Одна с моряком, одна с военным, кажется, с прапорщиком, и две с простыми рабочими ребятами. А сколько там было встреч, незаконченных романов!.. Поймаешь чей-то взгляд, отвернешься, вроде ты недовольна, а сама лихорадочно вычисляешь человека. Кто такой? Откуда? Куда едет? Почему не видала раньше? Украдкой рассматриваешь его отражение в окошке. Вот глупый, уставился в затылок и пялится с такой силой, что уши краснеют и волосы на темечке шевелятся, а в окошко взглянуть не догадается… А он ничего… Что это он приятелю шепчет? Заржали, жеребцы! Про меня, наверное… Ну чего, чего уставился?! Вот показать бы тебе язык! Это же неприлично за спиной обсуждать человека… А потом он едет один и опять смотрит… Уже робко, украдкой. А ты меряешь его ледяным взглядом и снова гордо отвернешься. Жалко только, что день, и его отражение в окне еле видно… И вот между вами уже существует невидимая ниточка, а он все никак не решается подойти. Потом ты едешь с подругой и уже ты шепчешься с ней и хихикаешь, а у него краснеют уши от смущения. Потом однажды ты встречаешь его в городе в кино-театре, и он бросается к тебе, как к старой знакомой, как к землячке. А подруга, недоумевая, смотрит на вас… Она ведь точно знает, что вы не знакомы, а вы разговариваете так, словно продолжаете прерванную беседу. Потом начинаются свидания… На той же автобусной остановке. Не будешь же торчать посреди деревни, как столб. Автобус для нас был единственным окошком в другую, светлую, счастливую жизнь, полную высоких чувств, отчаянных приключений и еще чего-то, о чем не думалось словами, что звучало в душе прекрасной музыкой. В Одессе девчонки не знакомились. Они боялись города. Ходило в Дофиновке несколько историй об изнасилованиях, ограблениях, о коварстве и развращенности одесситов, и особенно приезжих курортников, которым от девушки только одного и надо… Веры городским не было. Случались, правда, романы с горожанами и с благополучным концом, то есть со свадьбой, но потом все равно в семьях с городскими зятьями что-то начинало потрескивать, лопаться, разваливаться… Словом, дофнновская традиция городских отвергала. А местных ребят, знакомых с грудного возраста — Колей, Петей, Ваней, лузгающих семечки в клубе и довольствующихся дофиновской сытой, пьяной и нетрудной жизнью, — никто всерьез не принимал. Они как бы заранее были предназначены нашим медленным, коротконогим, глуповатым и домовитым толстушкам, на которых и женились без всяких романов, волнений, пожалуй, и без любви. Люди, ездившие в автобусе, были золотой серединой, желаемым компромиссом между местными и городскими. Я еще училась в десятом классе, когда наша соседка Тамара выходила замуж за своего прапорщика, добытого летом в переполненном, душном и пыльном автобусе. Она шила у моей матери свадебное платье и поэтому не могла не пригласить меня. Свадьбу играли в Дофиновке, хотя у Саши, у ее жениха, была самостоятельная, как говорят в Одессе, квартира в гарнизонном доме. Тогда еще не гуляли свадьбы с таким размахом, как сейчас, но все равно собралось около ста человек, и были ребята из Сашиной части. С одним из них, с лейтенантом Гришей, мы самозабвенно целовались на задворках, в кромешной темноте. Дело кончилось тем, что я влезла белой босоножкой в свежую коровью лепешку. Наутро, отмывая босоножку и вспоминая свадьбу, шумных румяных офицеров, прогулку по задворкам, поцелуи и бессвязный, горячий шепот лейтенанта Гриши, я поняла, что ни за что не останусь в Дофиновке. И в Чабанке, и в Григорьевке не останусь… Я поняла, что буду жить другой жизнью или не буду вообще. И еще я поняла, что никто мне этой другой жизни не преподнесет на «блюдечке с голубой каемочкой». Я взялась за учебу. Это было неожиданно для всех. Я сидела над учебниками, как проклятая. Мама, глядя на меня, тихо радовалась и боялась сглазить. Она окончательно обалдела, когда я попросила ее научить меня шить. Раньше усадить меня за машинку было просто невозможно, теперь же я замучила ее своими вопросами. Я твердо усвоила, что соседка Тамара, входившая в самый аристократический дофиновский кружок, не могла не пригласить нас на свадьбу, потому что шила у мамы подвенечное платье. Я поняла, что умение шить — это пропуск в любое общество. Через два года я поступила в Одесский университет на биологический факультет. Увидев в списках свою фамилию, я приехала домой, тихонько пробралась в свою комнату, заперлась, укрылась ватным одеялом и, наверное, целый час ревела, стараясь не выдать себя ни звуком. Потом целый час я ждала, пока глаза и нос примут человеческий вид. И все это время в голове у меня стучало, гудело, крутилось одно-единственное слово — «Начинается». Начинается другая жизнь… Я прекрасно понимала, что характер у меня тяжелый, нелюдимый, что я трудно схожусь с людьми. В Дофиновке у меня так и не было близких подруг. После того случая, когда я чуть не утопила Жанку, девчонки приняли меня в свои, но я их своими так до конца и не считала. Я боялась, что не смогу сойтись и с новыми, нужными друзьями. Я могла ездить на занятия из дома, но сняла комнату в Одессе, на Слободке. Ту самую комнату, в которой мы потом жили с Левой. Я перевезла туда швейную машину. В первый же месяц я сама заработала на жизнь и на плату за комнату. Повторяю, я могла бы ездить на занятия из Дофиновки. На дорогу до университета со Слободки у меня уходило только на пятнадцать минут меньше. Но если б я оставалась дома — это была бы прежняя жизнь. А я хотела «другую». И я заработала право на эту самостоятельную, «другую» жизнь в первый же месяц. В Дофиновку я приезжала на воскресенье. Это была моя вторая, главная победа. Третий раз я сказала себе «Браво, Наталья!», когда меня пригласили на Новый год в ту компанию, в которую я сама хотела попасть. И не думайте, что это было просто. На нашем курсе многие до самого диплома так и оставались одиночками… Конечно, они были в комитете комсомола, несли общественные нагрузки, но стоило им выйти за пределы альма-матер и… стоп. Проводить было некому. Были, правда, еще и другие. Девчонки маленькими стайками терлись по танцплощадкам, мечтали выйти замуж за иностранцев, дежурили у ресторанов. Иностранцев было много в университете. Элиту составляли девчонки в основном из моряцких семей. А одна была даже дочкой профессора. Они держались обособленно, и проникнуть в их компанию постороннему человеку было невозможно. Некоторые из них и до университета были знакомы, а незнакомые прежде как-то очень быстро выделяли друг друга из толпы. По каким-то только им понятным признакам. К ним-то и тянуло меня неудержимо. Никаких других компаний, в которые меня постоянно зазывали, я не признавала. И как потом выяснилось, правильно делала. Если б я себя скомпрометировала дружбой с ними, то вход в высшее университетское общество был бы для меня заказан. И вот в эту компанию меня, как бы на пробу, пригласили встречать Новый год. Это была моя третья победа. И я ее заработала своими руками. И это было ой как нелегко! Попробуйте на стипендию, на гроши, которые я зарабатывала, обшивая слободских модниц, конкурировать с моряцкими и профессорскими дочерьми в одежде, когда они буквально купаются в «джинсухе». Я вылезала только на фантазии и наглости. Я выдавала такой авангард, что когда в новой шмотке приходила на лекцию, у доцента язык отнимался. Никто на факультете и понятия не имел, что я из Дофиновки. К тому же и книжек я прочитала побольше их всех, вместе взятых. В свое время я поняла, что ни постоянно склоненная над швейной машиной мама, ни вечно поддатый отец не дадут мне культуры, достаточной для вступления в «другую» жизнь, и поэтому добросовестно и последовательно изучала мировую литературу. Чтоб не промазать, я читала классиков собраниями сочинений от первого тома до последнего, вместе с письмами. Золя, Горький, Алексей Толстой, Бальзак, Паустовский, Гончаров, Генрих Манн, Уэльс, Куприн, Блок, Маяковский, Есенин, Мопассан, Грин, Джек Лондон, Жорж Санд, Вересаев, Герцен — вот имена, которые первыми вспоминаются. На самом деле список прочитанных мною классиков гораздо длиннее. Вот только с музыкой у меня ничего не получалось… У нас в Дофиновке стоял приемник с проигрывателем «Урал», такой длинный, черный. Когда-то был модный… Я сама в магазине «Культтовары» покупала пластинки. Оперу я так и не поняла. Балет тоже. Я, правда, долго смотрела его по телевизору и, только поступив в университет, начала ходить в оперный театр, но, честно говоря, в Одесском театре мне больше всего понравилось само здание театра. Зато танцевала я классно. У меня, говорят, выдающаяся пластика. В университете… В общем, в университете, когда меня пригласили в ту компанию, а главное, когда я в этой компании осталась, я стала королевой курса. И эту марку я держала до конца. Следующим этапом в «другой» жизни было знакомство с Николаем. Когда мы с ним начали жить, я даже начала подумывать, что этот этап — последний. Квартира, машина, мебель, одежда… Все эти вопросы, останься я с Николаем, решались бы в рабочем порядке, без проблем. И моя работа, и аспирантура, и кандидатская диссертация — все это образовалось бы само собой, за это уже не нужно было бороться. Все это пришло бы в результате нормальной, спокойной, планомерной жизни. С приложением определенных усилий, разумеется, но без борьбы. Но тогда получалось, что Николай — это «потолок» моей «другой» жизни, у меня порой возникало ощущение, что я уже живу в своем будущем… Это же страшно! Это значит, что впереди — ничего… Ничего «другого», о чем стоило бы мечтать. И тут появился Лева. И «потолок» этот вдруг взлетел на головокружительную высоту. И вновь ожили надежды, мечты… Я и слов-то таких раньше не употребляла — «собственный корреспондент»! В этих словах было все — и экзотические страны с пальмами, и встречи с академиками, с писателями, с Софи Лорен… Лева когда-то брал у нее коротенькое интервью. И какая-то неясная слава, и имя Левы аршинными буквами на киноафишах по всему городу, и ужины в ресторане Дома кино, и еще столько всего… И вот теперь я должна была от всего отказаться только потому, что Лева боится испачкаться? Он врет, что боится испачкаться в переносном смысле, что боится нарушить закон. Да если уж за такую каторжную работу сажать, тогда нужно всю страну за решетку упечь. Все чем-то подрабатывают… И почти все это противозаконно. Никто никого не грабит, не убивает, не насилует, но все равно это, видите ли, противозаконно. Вот кому, скажите на милость, я сделаю плохо, если начну шить шайки? Покупателям? Но если им плохо, пускай не покупают. Это же не первая необходимость, это же не хлеб. А раз покупают, значит, их все устраивает. Собакам? Птичку жалко? А ягненочка невинного не жалко на шашлык и на ту же шапку? А белочку? А кролика ушастого? Государству плохо? Да, плохо! Доходы мимо его кармана. Но ведь если б я не шила эти шапки, а просто сидела бы и суп варила, какой от меня ему был бы прок? Только расходы. А так я хоть шапки буду производить. Сделаю сотню, так ему на ту же сотню их делать меньше надо. Ведь логичнее меня наказывать, когда я бездельничаю, а не тогда, когда работаю… И вообще, дало бы оно мне возможность спокойно за свои деньги приобрести жилье, тогда бы я и занималась своим делом… А то ведь оно своими дурацкими законами поставило меня в зависимость от Левиных предков, и пока они меня не пропишут… Ну вот, сорвалась на любимого конька. О чем бы я ни заговаривала, меня заносит на одну и ту же песню, как заезженную пластинку. Лева не моральной грязи испугался, а натуральной. А я ничего не «боюсь. Мне отступать некуда. Я все за собой сожгла — и Дофиновку, и Одессу, и Николая… А здесь еще не все потеряно. Я это поняла. Спасибо Геннадию Николаевичу. Так что с Левой ли, без Левы, но я добьюсь «другой» жизни, чего бы это мне ни стоило. И в ней будет праздник! Он меня просто купил! И что самое интересное, он и не собирался меня покупать! Не было у него такой задачи. Я и так уже была его… Со всеми потрохами… Мы легально встретились у него на даче. Он позвонил Левушке и поплакался, что нужно, дескать, ехать на дачу консервировать се на зиму, прибрать кое-что, окна заклеить и так далее… Левушка тут же-, естественно, предложил мою помощь. А сам он действительно замотался в последнее время. И работа, и шкуры — и все это одновременно. Аскерыч, мастер, обучавший Левушку всем премудростям кожевенного ремесла, оказался занудой и после каждого Левиного опоздания поднимал густые, торчащие кустами, как у филина, брови и говорил, что он никого не принуждает учиться, что если у Левы такая важная работа, с которой нельзя вовремя уйти, то зачем обучаться другому ремеслу? Геннадий Николаевич заехал за мной, и мы покатили на дачу. Это была наша седьмая или восьмая встреча. Сначала я их считала, а потом пошел какой-то сумбур… Нет, я не потеряла голову, просто пошла какая-то суетливая жизнь, встречи были полулегальные… Он приезжал, мы пили шампанское (Геннадий Николаевич, разумеется, только пригубливал), потом ехали куда-нибудь обедать, потом забрасывали Левушку или домой, или к Аскерычу, а сами ехали как бы по моим скорняжным делам… Или приклад доставать, или какие-то сверхдефицитные и сверхэкономичные лекала, или за вторым «болваном». За швейной машиной, шьющей кожу, мы ездили раза три или четыре. На самом же деле все скорняжное оборудование в полном комплекте хранилось у Геннадия Николаевича на даче, и мы каждый раз забирали по одному предмету. Словом, первая горячка, когда пересыхают губы, трясутся руки и подгибаются колени, прошла, и наступила некоторая организационная суета. Любовные будни, если можно так выразиться. И вот за неделю до ноябрьских праздников Геннадий Николаевич предложил мне пойти в праздничный круиз на теплоходе «Одесса». Как он объяснил — это будет показательный рейс, в котором наших туристов (меньше всего это слово подходит к участникам круиза) будут обслуживать, как иностранных. Я выслушала его, почувствовала, как ногти впились в ладони, как судорогой свело кулаки, и сказала: — Нет. — Почему? — удивился он. — Лева здесь будет работать, пахать как негр, а я поеду развлекаться? Это слишком! — А то, что ты делала до сих пор, это не слишком? Снявши голову, по волосам не плачут. — Ну, знаешь… Это другое. Мы перешли с ним на «ты», хоть это было мне нелегко. Я то тыкала, то выкала. — Не вижу разницы, — пожал плечами он. — Впрочем, как хочешь… Там будет славно. — Надеюсь, я тебя не подвожу своим отказом? — Нисколько. — Ладно, — сказала я, — когда надо ехать? — Пароход отходит седьмого утром и возвращается девятого вечером. Я уехала из Москвы на другой день и провела два дня дома в Дофиновке. Отец опять пил. Мать мучалась с давлением. Я, как сумасшедшая, металась по дому, хватаясь за все сразу. Затеяла ремонт на кухне, заклеила окна, перестирала кучу тряпья. Я словно замаливала грехи, а по ночам шила себе туалеты… Седьмого мы встретились с Геной у морвокзала и прошли на судно. Когда мы наконец очутились в нашем двухместном люксе с цветным телевизором, холодильником, телефоном, я скинула с себя одежду, вошла в душ и долго стояла под горячими, острыми струями, смывая с себя усталость, чувство вины, чувство берега, заботы, сомнения, злость на отца, боль за мать, бессильную жалость к сестренке, которой уже не выбраться из Дофиновки. Ведь не будь ее, я бы не смогла бросить мать и уехать. Да и отца бы я не бросила… Выходило, что я живу в Москве за ее счет. Мои богатые университетские подруги, ходившие по многу раз в подобные круизы со своими родителями-моряками, с упоением рассказывали о них. Я их с интересом выслушивала, но даже мысленно не примеряла эти праздники к себе. Сознание бунтовало. Для девушек моего круга был только один способ попасть на такой круиз — в качестве «девочки на круиз», но я его с возмущением отвергала. Однажды механики из автосервиса приглашали нас с подружкой на пароход. Она согласилась. Я гордо сказала — «нет». Может, в память того «нет» я и Гене сперва сказала «нет»? Стоя под душем и чувствуя, как твердеет под кожей и наливается силой тело, я вдруг вспомнила, что подруги говорили о каком-то специфическом пароходном запахе, который, по их словам, нельзя спутать ни с чем. Я не почувствовала этого запаха. И теперь, смывая с себя суету последних дней и готовясь к празднику, я вдруг испугалась: а что если праздник не состоится? Вернее, состоится, но для других, меня не затронет? Что если я не смогу его почувствовать, как и пароходный запах? Я выключила воду, вытерлась, причесалась, вышла из душевой кабины и почувствовала этот запах и удивилась тому, что не уловила его раньше. Им была пропитана вся мебель, шторы, потолки. Это была смесь дорогого табака, дорогих духов, дорогого вина и кофе. Только выйдя из душа, я услышала тихую музыку, заметила на столике изящно напечатанную программку круиза, где по часам и минутам были расписаны все культурные и увеселительные мероприятия. Наше окно выходило на пирс, и я невольно обратила внимание на то, что публика, прибывая на пароход, несет с собой огромные чемоданы, словно готовится в дальнее путешествие. — Что у них в этих чемоданах? — спросила я у Геннадия Николаевича. — Сама увидишь, — усмехнулся он. — Когда? — Скоро… Самое обидное то, что мне некому было рассказать о пароходе. О том, как я попала «в лапы к однорукому бандиту», как Гена принес мне целый мешок жетонов, и я в первые же минуты выиграла два раза по двести рублей, как я визжала, как кричали и аплодировали болельщики, как неведомо откуда появилось шампанское и как я пыталась за него заплатить, и как все снисходительно улыбались. Я не успокоилась, пока не просадила все, до последнего жетона, и мне самой это показалось ужасно забавным. Незаметно подкрался праздничный ужин. В ресторане было выключено электричество, и на каждом столике горели свечи в шандалах, и огоньки свечей отражались в хрустале и начищенном мельхиоре. Вспыхивали бриллианты на дамах, которых я узнавала с трудом, так как они сменили не только одежду, но и прически и грим. Мужчины были подчеркнуто корректны и красивы в сливающихся с таинственным полумраком велюровых пиджаках. Их ослепительно белые рубашки резали глаза. Негромко играл оркестр. Бесшумно скользили между столиками винные стюарды с тележками, уставленными винами и коньяками. Оглушительно и всегда неожиданно, то тут, то там хлопали в потолок пробки шампанского. Чопорная публика становилась постепенно веселее, говорливее, развязнее. К сожалению, мне некому рассказать, как две дамы обнаружили, что совершенно одинаково одеты, и под добродушный смех побежали переодеваться и вскоре появились снова почти одинаково одетыми, и как одна из них, ухарски махнув рукой, осталась, а вторая переоделась в третье платье и кричала через весь зал сопернице: «Предупреждать нужно, Изабелла!» Как потом в ресторан пробралась маленькая пушистая собачонка и, жалобно попискивая, искала в потемках свою хозяйку, и за каждым столом ее ласкали и кормили бутербродами с икрой, шоколадом и куриными шницелями. Потом все начали танцевать, и тут я показала класс! Меня единодушно избрали королевой круиза, и эти разряженные в парчу и бархат дамочки позеленели от злости! За мной ухаживали все мужики и наперебой приглашали танцевать. Наш столик был завален цветами и уставлен шампанским. Гена был доволен мной. В мою честь заказывались песни и танцы, засовывались новенькие сотенные бумажки в отверстие гитары. Внезапно музыка смолкла, барабаны забили дробь, и на специальных тележках вкатили подожженные, мерцающие синим пламенем торты-сюрпризы, внутри которых оказалось твердое мороженое. Праздник начал растекаться по судну, взрываясь то здесь, то там хохотом и музыкой. Дамы переоделись в четвертый или в пятый раз, и до меня наконец дошло, зачем им большие дорожные чемоданы. Мне тоже захотелось переодеться, и я потащила Гену в наш люкс. Переполненная счастьем, радостью, благодарностью, я набросилась на него. Он был весело удивлен этой внезапной вспышкой страсти. Потом мы, не успокоенные вовсе, а словно бы еще больше возбужденные, оказались в баре, где висела рында (корабельный колокол), и я лихо прозвонила в него три раза, потому что было три часа ночи. И оказалось, что я обязана всем собравшимся в баре три раза поставить выпивку — такова традиция. Гена одобрительно улыбнулся мне и мигнул бармену, который начал наполнять ряды рюмок. Какой-то семнадцатилетний юноша, наверное, еще школьник, запинаясь и краснея, прочел стихи, посвященные мне и написанные тут же в баре, и я почему-то плакала, хотя стишки были пошлы и бездарны. Потом мы поднялись в свою каюту. К нам еще долго кто-то ломился, но мы никому не открывали… Поздним утром нам принесли завтрак в постель, мы не спеша завтракали, опоздали со всеми на экскурсию в Ялту и вдвоем бродили по городу, обедали в каком-то ресторанчике. Там был замечательный хлеб — такие длинные и плоские лепешки, горячие, с хрустящей корочкой. Мы вернулись на «Одессу» только вечером, ко второму праздничному ужину. Господи, как же это было смешно. После поездки в Одессу, через месяц примерно, он утратил ко мне интерес. Я это поняла сразу, как только он предложил купить мне кольцо. Старое и очень красивое. Маленький ярко-синий сапфир и вокруг него бриллиантики, как он мне с плохо скрываемой гордостью объяснял, очень хорошей огранки. Это было «маленькое бриллиантовое колечко с сапфиром». Такой жанр. Но главное было в том, что у меня ни дня рождения, ни именин в обозримом будущем и не намечалось. Надо было видеть, как он ходил кругами вокруг меня, не решаясь объявить о нашем расставании. И чем я ему мешала? Ведь я ему почти ничего не стоила… Не от чего было откупаться. Даже наоборот, мы с Левой еще оставались у него в долгу… Я сколько раз хотела вернуть ему деньги, которые он давал на приобретение машинки, «болвана», химикатов (ведь мы начинали с нуля, и денег в то время никаких не было), но он каждый раз отмахивался и говорил: «Потом, потом, подождите, пока раскрутитесь». А вел он себя так, будто не я ему, а он мне был должен и замышлял сбежать, но опасался, что я догоню и накажу. Он словно добивался, что бы я сама, добровольно его отпустила. Клянусь, я бы сказала ему: «Беги, родной, беги», если бы не опасалась, что он, по обыкновению, поднимет удивленно брови и спросит: «Куда, дорогая? Почему я должен бежать? Я вовсе не собираюсь. Это твои фантазии». Короче говоря, он решил дать мне отступного, но не желал в этом признаваться. — Есть одно колечко… — сказал он, как бы между прочим. — Не хочется упускать. Его хозяева ценят его практически как лом. Оно досталось им случайно. А там самое ценное не караты, а работа. — А сколько стоит? — спросила я. — Честно говоря, мне сейчас не до колец… — Ерунда! — улыбнулся он. — Деньги — пыль. Я уверен, что оно тебе понравится и ты не сможешь от него отказаться. — Этого я больше всего и боюсь… — Ерунда. Заедем, посмотрим. И по дороге, чуть ли не наслаждаясь его замешательством, я спросила: — Уж не собираешься ли ты мне его подарить? Он рассмеялся: — Ну вот! Ты с твоей проницательностью никогда не даешь мне сделать тебе сюрприз. — Мы что, расстаемся? — спросила я. — Это прощальный обед и подарок на память? — Неужели ты думаешь, что у меня не хватило бы смелости сказать об этом впрямую? — Он удивленно поднял брови и на секунду оторвался от дороги. Мы ехали обедать в Дом литераторов. Он всегда обедал там, а ужинал или в Доме кино, или в «Берлине». Везде его знали, везде ждали и даже любили. Он не скупился на чаевые. Однажды он так ответил на мой вопрос о чаевых: «Люблю поощрять обслуживающих меня людей. К этому роду деятельности отношусь с большим уважением. Тут я их полный сторонник. Мы становимся в эти минуты единомышленниками, почти друзьями. Ведь цель у нас в эти минуты общая — доставить мне удовольствие и удобства». — Нет, у тебя не хватило бы смелости сказать об этом впрямую, — подумав сказала я. — Ну почему я не могу подарить кольцо просто так? — сказал он. — Просто из желания сделать тебе приятное… — Отчего же не сделать приятное, — усмехнулась я, — обязательно сделай, если хочешь. Это я ему сказала. А хотела сказать, что, когда нечем платить за любовь, платят деньгами. Это же гораздо проще… Это так убедительно доказывает любовь… И не надо прятать пустые глаза. Можно смотреть с самодовольным вопросом во взоре: «Ну, и как тебе мой подарок?», что означает: «Ну и как тебе моя любовь?» Но я ничего не сказала. Я отдала инициативу, предоставив ему самому выкручиваться… И это было забавно. Это было смешно. Дело в том, что на пароходе, когда мы шли мглистым, серым морем домой, в Одессу, стоя на палубе, я вдруг поняла, что ничего больше не будет… Что — все! Конец. Нечего больше ждать. В этом круизе я словно увидела целый пароход Геннадиев Николаевичей. Они, конечно, все были хуже моего, грубее, глупее. Но все они были вылеплены из одного теста. Одни хуже, другие лучше. У них была одна общая черта. Они покупали то, что нужно было заслуживать. Мне это пришло в голову, когда я, продрогнув на палубе, вернулась в каюту, легла на мягкую пароходную койку и, замерев, всем телом ощутила скрытую, напряженную вибрацию судовой машины. Мне даже показалось, что это меня лихорадит, и я сообщаю вибрацию матросу, палубе, всему пароходу. Ну, ничего не предвещало. Я и помыслить о таком не могла… Думала, что кого-кого, а уж себя-то я знаю, как облупленную. А ведь как спокойно было на душе. Во всяком случае, так хотелось покоя. Я думала, что все это ушло. Оказывается, нет. Только отстоялось. Всякая легкая чепуха и дрянь всплыла и слилась через край. Настоящее осталось на самом дне, куда и заглядываешь-то редко. Я его даже не сразу узнала. Открываю дверь — стоит парень в синей нейлоновой курточке, рукава короткие, руки красные торчат. Шапка бесформенная, облезлая, когда-то, вероятно, черная, а теперь какая-то пятнистая с коричневато-фиолетовыми разводами. Конечно, привычно подумала я, это же кролик, фабричная работа. И куда делась моя злость?! А ведь я была на него зла, ой как зла! Только сама себе в этом не признавалась. Ну как же, стыдно злиться на мальчишку! Кто он такой, чтоб я на него злилась? Молено подумать… Так я себя уговаривала и злилась. Я набросилась на него, стала раздевать… И слова из меня посыпались горохом, и такие бабьи, такие простые, каких я в себе и не предполагала даже: — Санечка, родненький, солнышко мое золотое, как же я рада тебя видеть. Ну что ж ты, дурачок, пропал? А я к тебе ехать боялась. Боялась опять с мамой твоей встретиться… Мальчишечка мой любимый, проходи, садись. Да брось ты эту драную шапку, мы тебе новую, красивую сделаем, оденешь — все девчонки твои будут. Пойдем скорее, сейчас такой пир горой устроим! Ты только посмотри в холодильник, ты только глянь, что у нас есть. Ты ведь голодный, я по глазам вижу… Причитаю я таким образом, а сама все поглаживаю его, целую в холодные щеки, волосы ему тереблю. Ну, словно сынок из армии в отпуск приехал. Насмотреться не могу. А он и вел себя так, словно согласился на эту роль. Я ведь говорила, что когда мы с ним встречались, я не ощущала нашей разницы в возрасте. Даже, наоборот, иногда чувствовала себя моложе его. А тут просто захлебывалась от материнской, что ли, любви. И так мне самой это приятно было, так легко, светло… А главное — безопасно. Поэтому я и позволила себе распуститься, поэтому и пошла вразнос. Я вдруг такую бурную деятельность развила, что немного напугала его. Во всяком случае, сбила с толку, он не скоро вспомнил, зачем пришел. А может, просто не захотел меня сразу расстраивать. Мы устроились на кухне. У меня просто сердце зашлось от удовольствия, когда он не удержался и, округлив глаза, изумленно присвистнул. А я метала и метала на стол все подряд — и балык, и икру, и сырокопченую колбасу, и семгу, и ветчину, и баночное пиво, и шампанское, маслины, соленые орешки, маринованные чеснок и черемшу, свежую редиску и зелень, два красных помидора (это в январе, заметьте), какой-то импортный шоколад, еще что-то… Это было похоже на игру. Сперва он присвистнул удивленно, потом озадаченно, потом весело. Потом он взял орешек, весело прохрустел им и сказал: — Большое спасибо. Можно убирать. Я все равно не верю, что это не мираж… — Мы дружно захохотали. Он сквозь смех спрашивал, откуда такое изобилие, а я сквозь смех объяснила, что Левушка в последнее время «совершенно двинулся» на запасах и заготовках, что Геннадий Николаевич лично отвел его в какие-то жутко закрытые закрома, в какие-то спецмагазины, и Левушка как начал возить харчи картонными коробками, так не может остановиться. — Ну хорошо, — сказал Саня, — а откуда у него столько денег? — Ты себе даже представить не можешь, — продолжала я, не замечая его вопроса. — Еще недавно он считал каждую копейку. Чтоб купить колготки, я должна была спрашивать у него разрешение, а теперь он, что увидит хорошее, то и покупает. Надо, не надо… — Откуда же у него деньги? — повторил свой вопрос Саня. Я не собиралась ему врать, но взять вот так и рассказать все про шкуры, про шапки, про деньги, про всю эту новую жизнь я еще не была готова. И я сказала: — У него какие-то дела с Геннадием Николаевичем… По реставрации. Так что деньги теперь у нас есть. Мы долго будем сидеть и смотреть? — А как же мы будем есть? Куда мы поместимся? — улыбнулся Сашка. Кухонный стол был так завален продуктами, что тарелки ставить было некуда. Я вдруг решила, что пировать мы будем в гостиной. Дала ему задание все переносить в комнату, а сама ушла в спальню переодеться. Прежде всего я затолкала все свои заготовки, лекала, меховые лоскуты в большой мешок, приготовленный специально для срочной эвакуации, накрыла чехлами машины. Убираясь, а потом выбирая, что надеть, я не переставала ехидно улыбаться. Я словно наблюдала за своей суетой со стороны и даже издевалась сама над собой вполголоса: — Ну и что? И зачем ты убираешься? — Ну нельзя же все так оставлять… Нельзя же, чтобы он видел. Лева специально предупреждал. — Достаточно просто закрыть дверь, и он ничего не увидит. Может, ты собираешься затащить его сюда? — А если и собираюсь? Тебе-то что? — Расхрабрилась? А если он опять скажет — нет? Как это тебе покажется? — Не скажет. — А если скажет? — Ну и пошел он к черту, сопляк! — Но я бы на твоем месте спросила у него, зачем он пришел, прежде чем расстегивать ему штаны. — А вот это деловой совет. — И последний вопрос. — Пожалуйста. — Ты сама себе не кажешься чокнутой с этими разговорами? — На себя посмотри! Словом, веселилась вовсю. И долго не могла выбрать, что надеть. Одно слишком закрытое, другое слишком строгое, третье не по сезону, четвертое… — Слишком трудно снимается? — Заткнись! — А ты выйди к нему голая… Я плюнула и вышла к нему в том, в чем и была — в заплатанных джинсах и в свитере с растянутым горлом. Он все, мой мальчишечка дорогой, перенес в гостиную, как я и велела, все расставил, пока я там металась в сомнениях, и сидел на диване, закинув ногу на ногу и обхватив их своими длинными худыми руками. И думал о чем-то, наморщив лоб. Я, как увидела его, посмотрела в его печальные зеленые глаза, так во мне все и обмерло. Господи, поняла я вдруг, да я же люблю его без памяти. И мне плакать захотелось. А ведь еще утром ничего не предвещало… Он почти ничего не пил. Бокал шампанского так и не осилил. А к еде даже не притронулся. Только орешки все схрумкал. Праздника не получилось. Мне так и не удалось его развеселить. Я, конечно, побаивалась «лезть в воду не зная броду», конечно, я собиралась последовать собственному совету и спросить его, зачем он ко мне пришел, но временила с этим делом, не торопилась, словно чувствовала, что с этим вопросом оборвется последняя моя надежда. И он не торопился. Хотя я видела, что ему очень нужно заговорить. Задать этот проклятый вопрос. Он сам его, бедняжка, боялся. Я пила шампанское (допила-таки бутылку), что-то болтала, смеялась, рассказывала, как мне казалось, с юмором о праздничном круизе, о том, как круизные дамы по три-четыре раза за ужин бегали переодеваться, какие они чемоданы для этого на себе тащили, ведь деньги есть, а посыльных и швейцаров все равно нет, а мужьям не до того, они делом заняты. Он улыбался. Что же это делается? Ведь только что уговаривала себя, что рада ему, как сыночку, как младшему братишке. Ведь только и хотелось, что прижать к груди и гладить, гладить по голове. Ведь только поэтому я и позволила себе распуститься, расслабиться, и вот… Неужели там, в спальне, когда я вместо того, чтоб переодеваться, как дура сама с собой разговаривала, я была права? Допивая шампанское, я уже только и смотрела на его шею в расстегнутом вороте клетчатой рубашки… И уже даже внутренне над собой не усмехалась. Мне уже было не до этого, мне было страшно, я с замирающим сердцем ждала, когда же он заговорит. Ничего хорошего я от этого разговора не ждала. Он явно собрался заговорить, подошел к окну, очевидно, так ему было легче, прислонился к холодному стеклу лбом и хриплым, застоявшимся голосом чуть слышно сказал: — Помнишь, я… — Подожди, я сейчас… — перебила я его и выбежала из гостиной. Когда я вернулась, он так и стоял лицом к стеклу. Я на цыпочках подкралась и, как корону, надела на него лучшую мою шапку. Она была из тонкого пушистого, разлетающегося от дыхания меха, черная с дымчатыми подпалинами, легкая, мягкая, приятная на ощупь. И совершенно непохожая на собачью. Мой маленький шедевр. От неожиданности он втянул голову в плечи, быстро снял шапку, мельком взглянул на нее и положил на стул. — Ты посмотри, как она тебе идет! — возмутилась я. — Надень сейчас же, мальчишка! Посмотри, какая красота! — Нет… — сказал он и покраснел. — Прости. Я полчаса его уговаривала, и так и этак вертела его перед зеркалом, трясла перед ним обеими шапками (его и моей) и вопрошала трагическим голосом, какая лучше. Он соглашался, что моя лучше, но принять ее в подарок отказывался с необъяснимой твердостью. — Ну и черт с тобой! — крикнула я, швырнула шапку куда-то под телевизор, забилась с ногами в уголок дивана и уткнулась носом в диванную подушку. Я все еще надеялась, что он подойдет, как раньше, обнимет за плечи и зашепчет что-то смешное, щекоча своим горячим дыханием ухо и шею. Но вместо этого он сказал: — Помнишь, я говорил тебе о девушке? Я молчала, затаив дыхание, ожидая, куда он повернет. Ведь оставался еще шанс, что он скажет: «С ней все кончено. Это была ошибка, прости». Через невыносимую паузу он продолжил: — Ее зовут Тина. Она учится в нашем классе. Я молчала. — У нее неприятности, она… В общем, она беременна и не знает, что делать. — Пусть рожает. От тебя должен получиться красивый ребенок. — Это вырвалось у меня помимо моей воли. . — Это не… — так же бессознательно вырвалось у него. И потом уже сознательно, уже решившись, он сказал: — Это не мой .ребенок. — А чей же? — Это не имеет значения, — почти не разжимая побелевших губ, сказал он. — Ничего не понимаю… — пробормотала я, пытаясь справиться с бешеной каруселью, которая завертелась у меня в голове. — Все очень просто, — по-прежнему глядя в окно, ровным голосом объяснил он, — она полюбила другого. У нее теперь должен появиться ребенок, которого тот, другой, не хочет. И она сама не хочет… Мелькнула мысль, что уместно было бы по-сатанински расхохотаться, я даже воздуха набрала, но я взглянула на его старчески сгорбленную спину и спросила: — А как же ты? — Это не имеет значения. — Для меня имеет… — Я люблю ее. — И ты пришел ко мне? — Мне больше не к кому идти. Совсем. И ей тоже. — И что же вы хотите? — У тебя, наверное, есть врач. — Есть. А как же ты… — Это не имеет значения, — сказал он. — Насчет денег пусть он не беспокоится. Я достану… Ты только скажи, сколько надо. Я молча взяла его за руку, подвела к секретеру, откинула крышку и открыла картонную коробку из-под моих итальянских туфель, в которой мы держали наши деньги… — Не говори мне больше о деньгах! — сказала я с какой-то злостью. — Нет, — сказал он, — я обязательно заплачу сам, только скажи, сколько. Я слышал, что это стоит пятьдесят рублей. Это правда? — Наверное. Я узнаю. Ты правильно сделал, что пришел ко мне… Мы ведь друзья, правда? — Да, — обрадовался он. — Ну и хорошо, — вздохнула я. — Будем пить чай. Или кофе? — Спасибо, я, пожалуй, побегу, — виновато улыбнулся он. — Я тебе сегодня же позвоню! Господи, ну конечно, он побежит. Он ведь заработал себе повод увидеть ее. Может, даже вызовет ее на улицу. Может, даже она согласится погулять с ним, пока они обсудят все подробности. Может, она даже чмокнет его в щеку в знак благодарности… — Ну хорошо, беги… Только вот насчет шапки ты зря. Левушке она все равно мала, а тебе как раз. Может, еще подумаешь? Ведь я чисто по-дружески. — Нет, — с прежней твердостью сказал он, — прости. Когда он ушел, я убрала все несъеденные продукты обратно в холодильник, допила его шампанское, решила, что еще рюмочка коньяка мне не повредит, и выпила ее, ополоснула бокалы и терла их полотенцем до тех пор, пока один не лопнул у меня в руках. Я даже и не почувствовала, что порезалась. Я поняла это, только залив все кухонное полотенце и джинсы кровью. Я выбросила осколки в мусорное ведро, зажала рану полотенцем, заревела в голос и повалилась на угловой кухонный диванчик. И тут я увидела то, что он, при его росте, не мог не заметить, то, о чем я впопыхах забыла. Наверху, на кухонных полках, в самом теплом месте квартиры, сохли четыре разномастные собачьи шапки. Три из них были натянуты на опрокинутые трехлитровые стеклянные банки, а одна — на деревянного «болвана». Мне и самой в тот день было неудобно с ним встречаться. Три дня до этого я сидела без кожи для шапок и вынужденно простаивала. И вот наконец кожа и весь остальной приклад появился, мех у меня на несколько шапок был раскроен, и я собиралась зарядиться на авральную работу. Он позвонил рано утром, перед школой, и сказал, что хочет вернуть деньги. Я могла сказать — приезжай немедленно, как мне хотелось. Или — приезжай завтра, как мне было бы нужно. Я. выбрала третий, какой-то лицемерный вариант. Я сказала ему: «Приезжай после школы». Я оправдывалась тем, что и сама успею поработать, и он не пропустит школу. Еще можно было бы сказать, что мне не нужны его деньги, что он может приехать просто так… Но тогда он бы и слушать меня не захотел. Я вообще могла бы отложить его визит на потом. Он и не рвался ко мне. Наоборот, ему хотелось быть в Щедринке, рядом с Тиной, у нее под рукой, на всякий случай. Он хоть и не разбирался в возможных последствиях, но не мог не заметить, как она бледна, как неестественно блестят ее сразу повзрослевшие глаза… Но ему было важно вернуть долг. А я, считаясь только со своим желанием, позвала его. И при этом сама себя убедила, что делаю это исключительно для его душевного спокойствия. Очень хотелось его видеть… Ни для чего. Я ни на что не надеялась и не рассчитывала. Просто видеть. Может быть, ободрить, поддержать. Я посмотрела в расписание и сказала: — Электричка идет в 14.28. Я сама назначила время его гибели… Первую рюмку я выпила в половине третьего. Клянусь, когда раскололось на две почти равные половины зеркальце, я про себя ахнула: «Сашка!» Мне и самой теперь кажется, что я себе все напридумала задним числом, но ведь я тогда крикнула шепотом, одними губами: «Сашка!» Меня вдруг начало колотить. Я заметалась по квартире, не отдавая себе отчета в том, что делаю. Да-да, надо выпить, подумала я, и открыла бар. Потом зачем-то пошла на кухню. Это я помню. Я отчетливо помню все, что было в тот день, буквально по минутам. На кухне я взяла чайник и притащила его в гостиную. И только поставив его на стол, я вспомнила, что собралась выпить. Но прежде я сходила к мусоропроводу и выбросила оба осколка зеркала. И слушала, наклонившись, как они летят по трубе, звякая о стенки. Первую рюмку коньяка я даже не почувствовала. И не почувствовала никакого действия, никакого успокоения. После второй рюмки сразу отпустила тревога, и сделалось весело. Я подумала, что вот будет смешно, если он приедет, а я пьяненькая, и начну к нему приставать, начну расстегивать ворот рубашки, неслушающиеся тугие пуговички на его тесных коротких рукавах. Эта картина так развеселила меня, что я, хлопнув третью (самую вкусную, самую сладкую) рюмку коньяка, вдруг начала смеяться. Да что там смеяться — безудержно ржать, до икоты, до слез… И чтоб успокоиться, я, давясь и кашляя, сквозь слезы, выпила четвертую рюмку. Потом позвонил Геннадий Николаевич и долго, крадучись подбирался скользкими, лживыми, дрожащими от нетерпения словами к этой бедной девочке. Чтобы прошло ощущение застывшего, прогорклого жира на губах, мне пришлось выпить пятую рюмку. Потом вернулся Лева, и я увидела, что всю оставшуюся жизнь я буду врать ему, потому что не смогу сказать правду даже самой себе. А вся правда в том, что больше всего на свете, больше солнца, моря, счастья, мне хочется расстегивать воротничок застиранной ковбойки на Сашкиной худой и сильной шее, что за это я готова заплатить спасением своей души, что ни за какую плату мне этого не получить. Я попросила у Левы прощения за все вперед… И мы с ним выпили по рюмочке. И я начала плакать по Леве и по себе, и смеяться над собой и над Левой. Потом мы с ним выпили шампанского и позвонила в дверь Тина. Я не знаю, как она доехала. Не могу этого представить… И как у нее еще хватило сил мне рассказать о том, что произошло на площади перед винным магазином… Когда ее с сильным кровотечением и с температурой отвезла в больницу «скорая гинекологическая помощь», я налила себе стакан водки и выпила залпом. И ничего со мной не произошло.ЛЕВА
Какое счастье иметь настоящих друзей! Наташка, смешная, зовет его Геннадием Николаевичем и говорит ему «вы». Он не возражает. Он любит шутить: «Мы, снобы (ударение на последнем слоге), живем трудно, но интересно». А я получаю удовольствие от их церемонности. Честно говоря, я, когда вез Наташку в Москву, немножко побаивался. Как все будет? Что? Теперь трудно сказать, действительно рассчитывал я на своих предков или просто вел себя по-страусиному, уговаривал и себя, и Наталью, что все будет хорошо. Но, клянусь, это для меня не имело значения. Главным был тот подъем, который я чувствовал в себе, биение мысли, кипение в крови! Клянусь, когда предки ее не приняли, я не расстроился. То есть, по-человечески, рикошетом от Натальи, конечно, расстроился, огорчился, но ощущение внутреннего подъема не пропало. Наверное, где-то на периферии сознания или даже подсознательно я был готов к такому исходу. Я только за Наталью боялся. Ведь самым ярким бывает первое впечатление. Она могла не принять Москву… Какое счастье, что есть человек, ради которого хочется работать, творить! Чьим именем, как заклинанием, хочется заполнять чистые страницы! Господи! Кто бы мог подумать, что я, усталый циник, способен исторгать из себя подобные слова. И главное — свежие мысли, образы… Все во мне кипит, рвется наружу, распирает. А я, вместо того чтоб работать, должен каждый день ездить на службу, придумывать эту дурацкую, насквозь фальшивую передачу для женщин. Эти Маврикиевны-Никитичны бесконечные, модельеры, цветоводы, хореограф… Как испечь торт, что будем носить зимой, как воспитывать взрослую дочь? О боже! С ума можно сойти! И все равно я счастлив. И это счастье мне подарил Генка, старый педант и сноб, с виду сухой и черствый, а внутри добрейший и деликатнейший человек. Мы на полтора месяца по его милости обеспечены роскошным, бесплатным, что немаловажно, жильем. Это значит, мы прорвались! Не может быть, чтоб за полтора месяца что-то не образовалось. Все! Довольно обиняков! Находясь в здравом уме и твердой памяти, ответственно заявляю: я никогда в жизни не был так счастлив, как сейчас! А как исступленно мы любим друг друга! Откуда в Наташке, в этой девочке, столько чувства, такой зрелой, сильной, открытой страсти? Двадцати дней достаточно, чтобы написать сценарий или пьесу. По крайней мере, первый вариант. Обычно, как утверждают опытные люди, сперва запойно пишется черновик, «протаскивается» фабула, основные перипетии, а главное — фиксируется настроение, атмосфера, без чего не бывает живого диалога. До полной готовности, бывает, и годы проходят. Но все-таки сперва нужно написать первый вариант. И это самое мучительное. Это и есть, собственно, роды. Все остальное уже дело техники. Без этих подробных разъяснений непонятна ситуация, сложившаяся в ту осень. А ситуация была уникальная. Выражение «ирония судьбы» очень близко к ней по своему смыслу, но недостаточно сильно. Я привез Наталью из Одессы, где мы только что зарегистрировали свой брак. У меня к тому времени кончился срок отработки по распределению. Я был собкором программы «Время». Не маленькая должность. Дежурная «Волга», большие полномочия, директора бегут к двери за руку здороваться. Как говорится, жить можно. Но нельзя в конце концов проторчать всю свою жизнь в Одессе. Да, из Одессы много вышло музыкантов, художников, писателей. Но ведь они все из нее «вышли». Ни один туда не вернулся! Мне очень нравится Одесса. Я тихо умиляюсь оттого, что в один вечер можно пешком обойти нескольких знакомых и пешком же неторопливо вернуться к себе в гостиницу. Мне нравится это блаженное неощущение воздуха летними ночами, дома, выступающие из белоснежной пены цветущей акации; мне нравится, как блестит экономно политая брусчатка на Пролетарском, бывшем Французском, бульваре; мне нравится, как по ночам синий луч прожектора шарит по морю и кипятит воду, прикасаясь к верхушкам волн; мне нравятся одесситы и одесситки. Но я москвич и люблю Москву. Одним словом — в Москву, в Москву! Едем! Я полон планов, сюжетов, идей. Некоторые даже обговорены с режиссером. Не зря же я торчал три года в Одессе… Не хватает только времени, чтобы сесть и записать… Точил меня, правда, червячок сомнения по поводу родителей… В матери я был уверен, а вот батя… Он из отцов-ревнивцев. Свое бешеное, неудовлетворенное честолюбие проецирует на родное дитя, и жизни от этого нет никакой. Что бы я ни сделал, все недостаточно хорошо. А если хорошо, то мало за это получил, обошли чинами и славою. Было у меня два приличных публицистических сюжета, вполне острых и заметных. Один на тридцать минут, а другой аж на все пятьдесят. Оба прозвучали, показывались по первой программе, пришло по мешку писем, была пресса, критика. Но, вопреки ожиданиям моего папаши, начальником ВСЕГО меня не сделали. И ордена не дали. Поговорили и замолчали. Пошли другие темы, другие сюжеты. Батю чуть инфаркт не хватил. Он, бедолага, все газетки повырезал, в альбомчик наклеил, фамилию красным карандашом… И кто бы ни пришел, он в заветный ящичек — и за альбом… А никто уже не помнит. Поезд ушел, а когда следующий — неизвестно. Вот и насчет моей женитьбы у него были свои соображения. А возможно, и кандидатуры. Наталья была не из его списка. А это значит, что меня опять обошла судьба. Отец князя Болконского вышел знакомиться с невесткой в халате, а мой — в пижаме. С какой же силой его сжигает честолюбие, если он способен на такое. Так в один вечер мы стали сиротами. Потом инстинкт самосохранения направил меня к всемогущему Генычу, и он так волшебно легко разрешил наши проблемы. А через месяц у Натальи был день рождения. И судьба приготовила к этому дню кучу подарков, которые я принял за чистую монету, а Наталья сказала: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловках». И была права. Это была ловушка. С великолепной изобретательностью и с тончайшей иронией подстроенная Провидением. Когда-нибудь я об этом напишу. Эта вещь будет называться «ШУТКА». У всякого начинающего писателя обычно больше задумано, чем написано. Причин тому много: неуверенность в себе, заботы о куске хлеба, отсутствие собственного письменного стола, стук за стеной, дети, жена, необходимость обедать и думать об обеде, о том, что нужно купить хлеба, разогреть борщ, поджарить яичницу и т.д. Мне больше всего мешала моя работа на телевидении. Невозможно пропустить через свою нервную систему двадцать страниц чужого (если не сказать, чуждого) для тебя текста, а потом прийти домой и, отрыгнув все дневные слова, мысли и заботы, сесть за стол и «гнать нетленку». Это необходимое предисловие. Итак, жилье наше дачное через три недели кончалось. Никакого другого я не нашел, хоть через день бывал в Банном переулке, на квартирной бирже. Прописать к родителям Наташку не представлялось возможным. У меня не оставалось другого выхода, как вступать в жилищно-строительный кооператив. А для этого нужны были деньги. Того, что я зарабатывал, едва хватало на житье, да еще предстояло снимать квартиру и платить за нее рублей шестьдесят-семьдесят в месяц. У меня не было другого выхода, как реализовать, наконец, хоть один из моих замыслов, написать и продать сценарий. Но чтобы писать, я должен был иметь хотя бы уверенность, что через три недели не окажусь на улице. А квартиру снять все не удавалось — не было времени. Заколдованный круг. Без квартиры нет сценария, а без сценария нет квартиры. И вдруг в Наташкин день рождения я прихожу в родную редакцию, и шефиня объявляет, что мне наконец предоставлены два причитающихся мне отпуска, из которых отгулять мне предлагается полтора, за что я должен кланяться в ножки и бежать за шампанским, что я и делаю. Ну, думаю, лафа. Теперь смогу как следует подежурить в Банном переулке. Гуляем мы в отделе, и вдруг вваливается Лешка Жарковский. Тоже с шампанским. Выясняется, что у Жарковского свой повод ликовать. Оказывается, он зашел попрощаться. Уезжает собкором в Латинскую Америку. Тут, естественно, новый взрыв энтузиазма, я рассказываю что-то о шашлыках и красном вине, народ согласен ехать ко мне на дачу, только Жарковский должен заскочить в Банный переулок в отдел поднайма жилплощади, чтобы сдать какому-нибудь приличному человеку свою двухкомнатную квартиру. — Разыгрываешь, да? — подмигнул я ему. — Тебе кто-то про меня рассказал? — Никто не рассказывал… — пожал плечами Жарковский. — А что случилось? Вот так. Поверить в такое трудно. Мы могли бы переехать в квартиру Жарковского через неделю. Мы решили сделать это через три. Пожить по-барски на даче. — Ну, чем не дом творчества, чем не Переделкино? — сказал я. — Вот здесь с завтрашнего дня я наконец начну сценарий. Для написания первого варианта достаточно двух недель. У меня впереди три… Я не написал ни единой строчки. К последнему, сороковому дню я чувствовал себя полным ничтожеством. Писатели! Благословите жен и детей, тещ и соседей, начальство и стихийные бедствия, мешающие вам работать! Не допускайте возникновения идеальных условий для работы. Вам не на что будет свалить свои неудачи. Хорошо! Пусть во всем виноват я сам, но это же не гвозди заколачивать… У нас в университете была такая игра: кто-нибудь шутливо предлагал — попробуйте не думать о синей обезьяне. Что за синяя обезьяна? Кто о ней думал? Кто о ней знал до этого момента? И вот вопрос задан, и все, особенно люди ответственные, начинают напряженно думать о том, как бы им не думать о синей обезьяне. Как тот велосипедист, который боится наехать на битую бутылку и обязательно наедет, словно его черти под руку толкают. То же самое произошло и со мной на даче в Щедринке. Я оказался в психологической ловушке. Я был обязан написать сценарий! Я должен был доказать Наталье, что не трепач. От этого сценария зависело все наше будущее. Да еще находясь в щенячье-восторженном состоянии, я сболтнул шефине, что наконец-то у меня будет время записать давно придуманную историю. И в довершение всего Сашка каждый день являлся с немым вопросом в глазах. А потом еще выяснилось, что он (как и все мы в этом возрасте) пописывает стишата, и его немой вопрос сделался совершенно невыносимым. Я готов был возненавидеть его за то заметное старание, с которым он обходил все разговоры о работе и о литературе вообще. За сочувственно-понимающие взгляды, которыми они обменивались за моей спиной с Натальей. Уж лучше бы она с ним целовалась. Отсюда вполне понятно, что однажды я отозвался о Сашкиных стихах не то чтобы пренебрежительно, но без должного, видите ли, уважения. Больше того, я их даже похвалил, но, как выяснилось, недостаточно серьезно и искренне. Я сказал: — А что! Очень милые стишки. У меня тоже где-то целая общая тетрадь валяется. Только у меня были рифмованные стихи. Такие, знаешь, злые, рубленые. Против мещанства, против предательства. Что-то такое: Вейте ветрыпопутные, Вейте ветры счастливые! К черту норы уютные! Вейте ветры попутные! Подожди, это же конец, а там еще начало было такое отчаянное. Ага, вот, вспомнил: Рождены мы под знаком Венеры, Наплевав Всемогущему в бороду, Отреклись мы от истинной веры Под улыбкой кокетки Венеры. На широком дворе Не играть детворе, Мы постреливаем На широком дворе. Бригантины в снастях запутались И спустили пиратские флаги, Вдовы в черные шали закутались. Бригантины в снастях запутались. Мы напьемся воды из касок И раздарим детишкам погоны, И расскажем им кучу сказок, Как мы пили воду из касок. И споем, расплетая ванты, Поднимая пиратские флаги. Под стозвон молотков музыкантов Мы споем, расплетая ванты: Вейте ветры попутные, И так далее… — И об этих стихах ты говоришь «тоже»? — прищурилась Наталья. — Что ты имеешь в виду? — уточнил я. — Это ты называешь стихами? — Ну, знаешь… Было другое время. Мы вообще другое поколение. У нас были другие кумиры: Маяковский, Рождественский, Евтушенко. Так что мерка здесь только одна — талантливо или не талантливо… — Не… — перебила Наталья. — Что-что? — Не талантливо, не самостоятельно, не честно! — Ну уж, положим, насчет честности ты не права… И вообще, по-моему, ты слегка преувеличиваешь своего юного поклонника. — «Мы напьемся воды из касок и детишкам раздарим погоны» — это и есть вершина твоей честности. Крик души ветерана… А насчет поклонника я не поняла… — Я могу повторить. Ты преувеличиваешь таланты своего поклонника. — Я попробовал свести все на шутку. — Впрочем, каждой женщине приятно, когда ее окружают воздыхатели. Я тебя не осуждаю. И тут Наталья взбесилась: — Ах, он не осуждает! Он мне снисходительно прощает мои маленькие женские слабости… И совершенно напрасно! Мне более чем приятно знать, что он влюблен в меня. И поверь — ты не очень-то выгодно выглядишь на его фоне. Ты совершенно напрасно вылез со своими чудовищными стихами. Если сам не можешь ничего сделать, то научись хоть к чужим вещам относиться без зависти… — А может, ты уже с ним переспала? — Идиот! Тупица! — Ого, какая реакция! Похоже, я попал в цель. А что? Молодой, смазливый щенок, целыми днями под рукой… Кто бы не соблазнился? — Перестань, — прошипела Наталья сквозь сжатые зубы. — Почему я должен перестать? — не унимался я, и перед глазами вставали картины одна страшнее другой… Я сам вдруг поверил собственным словам, брошенным наугад. — Почему я должен молчать? Ты с ним каждый день ходила на рыбалку, как на работу. И ни разу не проспала, а я знаю, что значит для тебя встать в шесть часов… — Дурак, я уходила, чтоб не мешать тебе работать. — Да? Спасибо тебе! Ты, бедняжечка, поднималась ни свет ни заря, чтоб создать муженьку все условия. А муженек сиди и думай, чем расплачиваться за такую жертвенность, как соответствовать? Много тут напишешь? А потом муженьку еще заявляют, что он бездарь, что даже сопливый мальчишка талантливее и самостоятельнее его! Продолжай в том же духе! Тебе остается сказать, что у него кожа нежнее, волосы гуще, глаза больше… И это все будет правда! Все ясно! На свежатинку потянуло… Можно представить себе, в каком я был состоянии. И весь текст какой-то деревянный, не мой. Я и слов-то таких раньше не употреблял. Да и при чем здесь Сашка? И стихи у него действительно хорошие, особенно для его возраста… Но и меня можно понять. Я, может быть, погибал в тот месяц как художник. А вместо помощи и поддержки меня добивали. Клянусь, мне не раз казалось, что жить больше незачем. И неизвестно, на что нужно больше мужества — наложить на себя руки после такого сокрушительного поражения или продолжать жить и даже в положенный срок выйти на работу и булькать в общем котле повального энтузиазма и творческого кипения. А в тот день Наталья впервые влепила мне пощечину и заперлась в спальне. К вечеру мы помирились. Я жаловался на судьбу, плакал от бессилия и жалости к себе. Потом была ночь. Бурная и страстная с моей стороны… Наталья была не холодна, нет, она была добра ко мне в ту ночь. Через три дня она уехала в Москву, а я остался, чтобы сделать последнюю отчаянную, истерическую попытку. Я слышал, что в экстремальных ситуациях сценарии пишутся и за неделю. За эту неделю я настучал на машинке тридцать пять страниц. Писал в каком-то трансе, без оглядки, не просматривая даже предыдущие сцены. Потом, в последний день, вынул из машинки тридцать пятую страницу, подложил вниз под готовые, прочитал все от строчки до строчки, покраснел и медленно, с мазохистским наслаждением, листок за листком, сжег все в камине. Постоянно при этом крутилось в мозгах издевательское сравнение с Гоголем, и я шизофренически хихикал. Больше всего меня бесила ее тактичность и чуткость. Она ни разу не заговорила про сценарий. Я дождался возвращения хозяина, сдал ему дачу с рук на руки в целости и сохранности, за исключением той самой разбитой хрустальной вазы. Слава Богу, Гена не мелочный человек. Он только поинтересовался, не об мою ли голову она была разбита. И на этом все мои дальнейшие объяснения решительно пресек. Я, естественно, пытался выяснить у него, сколько она стоит, но он и слушать не захотел. Такие друзья — как глоток свежей воды в пустыне… Да, я сентиментален! Но есть и пострашнее грех — неблагодарность. Когда я перебрался в Москву, Наталья встретила меня как солдата побежденной армии, потерявшего на поле сражения руку. Она ни о чем не спросила. Все и так было написано крупными буквами на моей кислой роже. Естественно, я прямо с порога объявил о торжественном сожжении рукописи… И сподличал, сказав «рукопись». Понимай, как знаешь. Вроде и не соврал, что сжег целый сценарий, но и не признался, что меня хватило лишь на половину. Наталья в это время накрывала на стол. Она и бровью не повела. Раскладывая вилки и ножи, она произнесла таким тоном, будто уговаривала малыша: — Ну ничего, в следующий раз получится. Не расстраивайся. — Что ты говоришь? — взревел я. — Как я могу не расстраиваться! Ведь все полетело к черту! Рухнули все надежды! В какой другой раз? Когда он будет, этот другой раз? Завтра я выхожу на работу, в эту мясорубку. — Чего же ты от меня хочешь? Я не нашелся, что ей ответить. Действительно, что я хотел? Утешения? Но ведь она утешала. Не так? Значит, по-другому не могла. Я извинился, и больше мы на эту тему в тот день не заговаривали. Но каждый раз я чувствовал, как она с прилежностью примерной ученицы обходит эту опасную тему. В доме повешенного не говорят о веревке — согласен! Но ведь это в доме повешенного, черт меня раздери! Я-то еще живой! Со мной-то еще не покончено! Я еще напишу и свой сценарий, и роман, и сборник рассказов, плотных и тяжелых, как пули, и каждый в десятку, в яблочко… Но когда я пытался ей это объяснить, она уклонялась от разговора. Я просто физически это ощущал. Я вдруг увидел, что вся квартира будто увешена веревками с петлями, из которых вынули по покойнику, и Наталья, куда бы ни ступила, постоянно уклоняется от болтавшихся веревок и брезгливо передергивает плечами. Мне это надоело, и однажды вечером я усадил ее в глубокое кресло под большим мохнатым торшером, придвинул другое, сел напротив, колени в колени, так, чтоб она не смогла выскользнуть, и спросил прямо, что она обо всем этом думает. — Дурачок, — мягко ответила она и, дотянувшись до меня рукой, взлохматила мне волосы. Когда мне лохматят волосы, у меня начинает болеть кожа на голове. Я дернулся, но сдержался. Мне необходимо было получить прямой ответ на прямо поставленный вопрос. Наташа, видимо, почувствовала, что в этот раз ей не удастся уклониться. Она долгим взглядом окинула меня всего, ласково улыбнулась и сказала: — Глупый, я люблю тебя. Я люблю тебя таким, каков ты есть, со всеми твоими слабостями, привычками, капризами… Ты мой муж, и я не откажусь от тебя после любой неудачи. Да и в чем ты видишь неудачу? Не получился сценарий — не велика беда. Ты же здоров! На работе тебя уважают. Жилье у нас на время есть, а там что-нибудь придумаем. Главное, что мы вместе. Для меня не имеет значения, кто ты — писатель, сценарист, журналист… — Мясник, — продолжил я за нее, — жестянщик, таксист… Ты меня любого будешь любить, не правда ли? — Не понимаю, чего ты добиваешься? — сказала Наталья, встала, отодвинула коленями мое кресло и вышла. — Ну хорошо! — прокричал я ей в спину. — С завтрашнего дня я иду в таксисты. Это сразу решит все наши проблемы. Денег кучу буду зарабатывать. И на кооператив, и на все хватит. Правда, от меня бензином будет слегка попахивать, но ничего, ты же меня любишь всякого… — Не смешно, — сказала Наташа. — Между прочим, твой любимый Геннадий Николаевич целыми днями из машины не вылезает, но что-то я не помню, чтоб от него бензином пахло. А что касается денег, то они нам действительно не помешали бы. С твоей зарплатой мы на кооператив все равно не соберем, даже если будем питаться одним хлебом. Я бы и сама пошла работать по лимиту хоть дворником или уборщицей, но меня не примут, милый, у меня высшее образование. Так что я бы на твоем месте не иронизировала на эту тему… — А я и не думаю! Завтра же иду в таксопарк! Когда я рассказал все это Генычу, он долго смеялся. — Ну и что же она тебе на это сказала? — Она спросила, сколько мне придется учиться, чтобы получить водительские права… Генка расхохотался еще сильнее. — Вот это хватка! У тебя прекрасная жена, держись за нее, с такой не пропадешь! — Ты что это, серьезно? — Вполне. А что тебя в ней не устраивает? — Не знаю… Это так трудно выразить… Понимаешь, мне нужно было от нее сочувствие… Но не просто сочувствие, а сочувствие с пониманием, когда тебя не жалеют, как раздавленную лягушку, когда к тебе относятся, как к солдату, пусть и проигравшему важное сражение, но не проигравшему всю войну. В общем, все это трудно объяснить… — Отчего же, я понял. Тебе мало того, что тебя просто любят, тебе хотелось бы, чтоб тебя любили за то, за что ты сам себя пытаешься любить. Но ведь ты можешь и обманываться на свой счет. Со стороны порой виднее… — С ее стороны? — И с ее тоже. — Ах, тоже!.. И ты считаешь, что писателя из меня не получится? — Я этого не сказал. Но я предпочитаю «борщ отдельно, а мухи отдельно». — Что в данном случае борщ, а что мухи? — Видишь ли, дорогой мой, ты отождествляешь две редко совместимые вещи — служение чистому искусству и успех, с вытекающим из него материальным благополучием. Насколько я понимаю, ты еще не достиг совершенства? — Нет. — Стало быть, тебе еще предстоит, обдирая ногти, карабкаться к лучезарным вершинам мастерства. Это была твоя первая попытка написать художественный сценарий? — Предположим. — Значит, это была в какой-то степени ученическая работа? — Допустим. — Тогда смотри, что получается. Ты взялся за дело всей жизни, а результатов, положительных результатов, хочешь уже сейчас, на первых же шагах. Зачем? Если победа так легка, разве может быть это делом всей жизни? Или ты собираешься работать победителем? Напрасно. Такой должности нет и не было даже для великих. Ты должен отделить зерна от плевел. Без этого тебе не выпутаться. Дело всей жизни, любимая работа, приносящая тебе высокое удовлетворение и заработок, — вещи чаще всего разные. К огромному сожалению. Никому, в том числе и мне, прямое зарабатывание денег не доставляет удовольствия. Это нудное, не всегда чистое во всех смыслах дело. Разумеется, я не говорю о тех людях, для которых зарабатывание денег и есть призвание. А если уж ты решил стать настоящим художником, то должен отчетливо представлять себе, на что идешь. За все нужно платить. Тем более за чистое искусство. Тут цена особенно высока. Тут нужно расплачиваться жизнью. Но имеешь ли ты право требовать такой платы от другого человека, виноватого лишь в том, что он имел несчастье полюбить тебя? Может, ты и готов терпеть лишения ради мук творчества, но зачем же впутывать в эту историю других? — Я никого насильно не тяну… Так уж… — усмехнулся Черняк. — Небось, когда знакомился с ней, хвост распускал не хуже павлина… Ведь она выходила замуж за ведущего тележурналиста, в скорейшем будущем международного комментатора, собственного корреспондента, скажем, в Италии или во Франции, а в отдаленном будущем — большого писателя, как, скажем, Генрих Боровик. А что оказалось? Рядовой сотрудник московской редакции и очень сомнительные перспективы роста, потому что эту работу ты не любишь и ходишь на нее, как на каторгу. А творчеством ты не можешь заниматься, потому что эта телемясорубка выжимает из тебя все соки. Так? — Предположим… — Ну, вот мы и выяснили, почему ты взвился, почему тебя не устроило ее неквалифицированное сочувствие. Тебе хотелось, чтобы она тут же дала расписку в том, что готова на бесконечные неудачи, на лишения, на то, чтобы терпеть твои истерики, приступы ипохондрии и мизантропии, лишь бы ты стал писателем. Короче говоря, она должна была, не раздумывая, поставить свою молодость и свою жизнь на тебя, в то время как ты сам еще не решился это сделать, потому что пока не до конца уверен в том, что станешь писателем. Вот если бы у тебя появились определенные гарантии, тогда бы ты… — Этих гарантий никто дать не может. — Так что же ты хочешь? — Не знаю… — Но ты же не просто так ко мне пришел? — Просто так… — Ну, хорошо, попытаюсь сам сформулировать то, что ты стесняешься выговорить. Скажи, если б у тебя была квартира и немного денег на пропитание, это разрешило бы твои «неразрешимые» проблемы? — Пожалуй… — Стало быть, все дело в деньгах. У меня, пожалуй, нашлась бы нужная сумма, но дать я ее тебе не могу. До меценатства в таких размерах я еще не дорос. К тому же я убежден, что меценатство в наше время губит художника. Вот в прошлом веке, когда… — Так что же мне делать? — перебил я его. — Я помогу тебе заработать эти деньги. — Как? — опешил я. — Пока не знаю… — сказал Черняк. Когда Лева пришел к нему через неделю, Геннадий Николаевич начал издалека: — Любой человек в любой стране несет с собой по жизни мешок законов… Тебе интересно? — Пока я не совсем представляю, куда ты клонишь… — пожал плечами Лева. Это нормально, так и должно быть, — улыбнулся Геннадий. — Я продолжаю. Любой детсадовский ребенок, если он нормально развит, живет уже по нескольким законам. Прежде всего, это закон его семьи. Второй закон — это закон, установленный в его детсадовской группе. Третий — это закон группировки, то есть компании друзей. Этот последний закон ребенок накладывает на себя сам, добровольно. Он для ребенка самый суровый. И именно этот закон чаще всего вступает в противоречия с первыми двумя. И чем дальше — тем больше законов одновременно действуют на человека. И почти все они находятся в непреодолимом противоречии друг с другом. Человек стремится, например, жить по законам товарищества, но вдруг оказывается, что он преступник и повинен в коррупции. Соблюдая закон вежливости, человек должен врать и тем самым нарушать нравственный закон. А живя только по нравственному закону, человек нарушит не только законы вежливости, но и законы общежития. Кто же потерпит, когда про него будут говорить только правду… Воинский закон перечеркивает законы гуманизма… Это положение практически не требует разъяснений, достаточно вспомнить, как ссылались на приказы командования военные преступники. Существуют законы продолжения рода, законы выживания, национальные законы, законы борьбы за власть, законы искусства и так далее… Законов такое множество, что, нарушая любой из них, человек может оправдывать себя тем, что делает это для соблюдения другого закона, на его взгляд, более важного. Он всегда подберет в своем мешке что-нибудь удобное для данной ситуации… — Я понял, что именно ты хочешь сказать, но по-прежнему не понимаю, для чего… — усмехнулся Лева. — Не собираешься же ты передо мной оправдываться… — Вполне возможно, что подсознательно мною руководит именно это желание, хотя впрямую я об этом не думал… — В чем же ты хочешь передо мной оправдываться? — Ну хотя бы в том, что не даю тебе взаймы… И еще в том, что собираюсь предложить тебе нарушить один из законов, вступивших в противоречие с жизнью твоей семьи… Я не боюсь черной работы. В студенческие годы я много ездил со стройотрядами и пахал наравне со всеми по двенадцать-четырнадцать часов в сутки. И сам удивлялся своей выносливости. Но тут я психологически не был готов принять предложение Черняка. Хотя, прими я его, и одним махом решались все наши проблемы. И, повторяю, никакой грязной работы я не боюсь. Но тут как заколодило… Предложение, честно говоря, было… Дело в том… Нам предлагалось выделывать собачьи шкуры и шить из них шапки. — Мы еще вернемся к той чепухе, которая вертится сейчас в твоей сентиментальной голове, — сказал Геннадий, — а пока послушай меня и постарайся не перебивать… Через некоторое время наступит зимний сезон, и люди наденут меховые шапки, и каждая двадцать пятая будет собачья… Видишь ли, дорогой Лева, если бы ты почаще ходил в магазины, интересовался ценами, спросом и предложением, то знал бы, что сегодня на меховом рынке имеют место интересные явления. Меха, как ты, может быть, слышал, за последнее время несколько раз подорожали. Это было бы полбеды, но они не только подорожали, но и исчезли. Ты, наверное, и сам наблюдал огромные очереди за кроличьими шапками… И хоть кроличьи шапки самые дешевые, добрая половина людей из этой очереди готова заплатить в два раза дороже, лишь бы не стоять целый день. Но наша торговля сразу после кроличьих шапок предлагает норковые с разницей в цене не в два, а в двадцать раз. Кроме норковых шапок, имеются каракулевые пирожки и суконные солдатские шапки. Пыжиковых, ондатровых, бобровых, беличьих, рысьих, волчьих, сурковых, енотовых в широкой продаже нет. Они все продаются или в «Березке», или в двухсотой секции ГУМа. А именно эти шапки были, есть и будут в ближайшие сто лет пользоваться повышенным спросом. Цены на все эти шапки начинаются с двухсот-двухсот пятидесяти рублей. И вот получается, что между кроличьими и норковыми шапками образовалась товарная брешь. Ее-то и заполняет собачий мех. И с успехом. Расцветка у него самая неожиданная, густота, лохматость — самого широкого диапазона. К тому же прекрасная носкость. Собачьи шапки прочнее кроличьих на порядок, а дороже всего в четыре раза. Если ты в принципе согласишься, то я тебя определю на месяц в ученики к моему знакомому мастеру, который занимается выделкой шкур. Наташу я на тот же месяц определю к мастеру-скорняку. Платить вам ничего не придется, потому что вы будете работать на этих людей, и работать серьезно. При желании за месяц можно и зайца научить играть на барабане. Думаю, что вершин мастерства за месяц вы не достигнете, но для изготовления шапок его будет достаточно. Затем я сведу вас с людьми, которые достанут необходимое оборудование, машины, химикаты, инструменты и сырье. Деньги на приобретение всего этого я вам дам. Это не очень дорого. Вы сможете отработать в первую же неделю. Кажется, твоя Наташа умеет шить? Я молча кивнул. — Вот и хорошо, — продолжал Геннадий. — Значит, она через месяц уже реально сможет встать на поток. Теперь посмотрим, во что это может для вас вылиться… Геннадий достал записную книжку. — Значит, так… За каждую шкуру вы будете платить по пятьдесят рублей, независимо от размера и качества. На кожу, ватин, химикаты и прочие накладные расходы у вас будет уходить десятка на одну шапку. Из каждой шкуры получается в среднем (это проверено многолетним опытом) две с половиной шапки. Стало быть, из двух шкур — пять. Сдавать готовую продукцию вы будете оптовикам по девяносто рублей за шапку. Он немного помолчал, что-то чиркая в записной книжке, и потом объявил: — Путем несложных подсчетов получаем сумму чистой прибыли за одно изделие — шестьдесят рублей. При хорошо поставленном производстве за нормальный рабочий день можно сшить три шапки, что составит сто восемьдесят рублей в день. Он замолчал, прошелся по комнате, налил мне и себе ароматного жасминового чая, отхлебнул и как бы между прочим заметил: — Что же касается нравственно-этических восклицаний, которыми ты был полон в начале разговора, то советую вспомнить овеянные романтикой собачьи унты и блюда корейской кухни из собак… И вообще, если у тебя есть непреодолимая потребность кого-то пожалеть, то пожалей совсем уже безвинных кроликов, которые спасают от мороза наших передовиков производства. Для окончательного успокоения твоего эстетического чувства могу добавить, что тебе будут поставляться в основном шкуры северных ездовых собак, к которым там традиционное отношение как к тягловому скоту. Кроме того, ты ни с кем, кроме меня, не будешь иметь дело. Я возьму на себя труд быть посредником между поставщиками сырья, тобой и оптовиками. Ты сможешь заниматься делом, практически не выходя из дома. Единственный недостаток этого бизнеса в том, что он дурно пахнет… — В каком смысле? — спросил я. — В самом прямом, — усмехнулся он, — шкуры при обработке жутко воняют. И это предлагалось писателю, интеллектуалу, будущему лауреату Нобелевской премии… Я был даже рад, что Наталья уехала в Одессу. Хотя слово «рад» здесь меньше всего подходит, потому что причина ее отъезда была малорадостная. Позвонила Надежда, ее сестренка, и сказала, что с матерью стало хуже. Она давно страдала гипертонией, и этот приступ был, наверное, не тяжелее прежних, но матушка вдруг захотела увидеть Наташу. В таких ситуациях не раздумывают. Наталья наутро улетела. И тем самым облегчила мне жизнь. Я решил первую партию шкур выделать самостоятельно за время ее отсутствия в квартире. О том, чтобы заниматься здесь этим постоянно, не могло быть и речи. Предстояло снять подходящее для этого помещение. Но прежде нужно было убедиться в том, что я смогу это делать. Что у меня получится. Я решил взяться за это ремесло всерьез. До сих пор не понимаю, как я сразу не врубился в эту историю… И опять помог Генка. Он на листочке бумаги в пять минут подсчитал, что на первый взнос в кооператив этим делом можно заработать за двадцать дней, а за следующие двадцать можно заработать мою полуторагодовую зарплату. До сих пор не понимаю, почему я не врубился сразу. Ведь это же свобода! Можно плотно, пусть даже на износ, поработать только одну зиму и обеспечить себя на три года вперед. Это значит, что я смогу уйти на вольные хлеба (как член Союза журналистов, я имею на это право) и, наконец, написать свою книгу. И свой сценарий. И больше никогда в жизни не заниматься постылой, изматывающей, унизительной литературной поденщиной. Свобода! Что может быть прекраснее и заманчивее. И для этого не нужно ни грабить, ни убивать, ни обманывать. Я заработаю ее своим трудом. Упорным, грязным. Руками, вымазанными по локоть в кровище и в вонючем собачьем сале. С риском… Да, государство не поощряет этот промысел, но оно и не дает мне другого способа заработать. Ведь я не хочу ни двухэтажных вилл, ни белых пароходов. Все, что я хочу, — это спокойно жить в собственной квартире, купленной на честно (чтобы там ни думали) заработанные деньги, и работать, работать! Работать в конечном счете на благо этого же государства. И я имею на это право по конституции, и, осуществляя это основное право, я не чувствую себя виноватым. И пойду этой дорогой до конца. Наталья не будет видеть этого ужаса, этой грязи, крови, вонищи. Я уберегу ее от этого. Мужик я или нет? Я буду ей приносить уже выделанные шкуры. Гена сказал, что рынок в этом году по прогнозам специалистов будет неограниченным. Можно будет работать столько, сколько хватит сил и желания. Главное — это шкуры. Он отправился на Север договариваться о поставках. У него везде есть концы. Он гениальный человек. На загнивающем Западе он бы давно был миллионером, главой какого-нибудь концерна. А здесь он связан по рукам и ногам. Самое гнусное человеческое качество — это чувство неблагодарности. Сколько я буду жив, я буду помнить о том, что он сделал и продолжает делать для меня. На днях, когда я его спросил, не возмущаются ли художники из реставрационных бригад его фантастическими заработками, он с убийственным остроумием ответил: «Ведь не возмущаются токари или строгальщики завода имени Лихачева высоким окладом генерального директора…» Какое счастье, что я его встретил в жизни! Странная штука деньги. И страшная. Что-то вроде болезни. Только не подумайте, что я оправдываюсь. Просто обидно! В конце концов, всему свое время. Есть время разбрасывать камни, а есть время собирать. Иначе все теряет смысл. Мы же ввязались в эту историю, чтоб собирать… И ведь не просто так, а чтоб потом из этих «камней» сложить наш дом, нашу жизнь. А Наталья вдруг стала относиться к этим деньгам, как к чужим, к казенным. Что урвал, то и твое. Началось все буквально в первую же получку. Гена назначил день выплаты на четверг. В тот первый четверг мы должны были получить за двадцать восемь шапок. Гена вручил мне пухлый конверт из плотной коричневой бумаги, в котором, как это уже потом, дома, выяснилось, лежало 2620 рублей. Из этой суммы после вычетов всех накладных расходов (не считая долга за оборудование и химикаты) у нас осталось чистой прибыли 1680 рублей. За десять дней. — С ума сойти! — прошептала Наташка. Честно говоря, и меня эта сумма ошеломила, я, разумеется, наизусть знал содержимое конверта, и не заглядывая туда. Все давно было подсчитано, невелика математика, но когда вынул деньги и отложил накладные расходы (они тоже были подсчитаны и выписаны в отдельный реестрик), мне стало плохо… Вернее, мне стало сильно хорошо. Ведь еще ровно столько, то есть еще десять дней работы, и у нас есть первый взнос на любую, самую дорогую двухкомнатную кооперативную квартиру. А следующие двадцать дней работы — это год безбедной жизни. Год моей свободы для творчества… В этот же вечер мы отправились в ресторан. Стыдно вспомнить, как мы там себя вели… Хотя зачем обобщать и прятаться за слово «мы». Позорно вел себя я. Наталья только брови поднимала и хихикала. Я заказал все, что можно заказать. Три порции черной икры, три порции красной (это на двоих, заметьте), две порции рыбы, жульен с грибами, какое-то мясо, фрукты, шоколад (опять почему-то три плитки), мороженое, кофе. Из всех имеющихся в наличии коньяков я заказал «Камю-Наполеон». Почему? Потому что дороже ничего не было. Наталья пила только шампанское. И почти ничего не ела. Она посасывала дольку апельсина и разглядывала меня, словно впервые увидела. И улыбалась уголками губ. — У тебя ведь не было голодного детства? Или я не все про тебя знаю? — сказала она задумчиво. — Я так долго не мог для тебя сделать что-нибудь… — Ты считаешь, что это, — она кивнула на стол, — то, о чем я мечтала? — Ну зачем ты так! Просто я хотел сделать тебе праздник. — Купить праздник, — поправила она с загадочной улыбкой. — Кстати, о праздниках… — Она порылась в сумочке и достала завернутое в бумажную салфетку колечко с маленьким синим камешком. — Вот мне предлагают за шестьдесят рублей. — Что это за камень? — Искусственный сапфир. А вокруг искусственные алмазики. Я понимаю, что не Бог весть что, но за шестьдесят… И мне нравится… — Если тебе нравится — берем. Такие вопросы не обсуждаются. — Я поднял рюмку с коньяком. — За тебя, дорогая! За нашу новую жизнь! Где-то в середине вечера я вспомнил вдруг тот мучительный месяц у Гены на даче, когда я выдавливал из себя сценарий, который потом сжег с мазохистским наслаждением… Боже мой, какими смешными мне показались в тот вечер в ресторане «Карпатские узоры» все мои страдания. Какое новое, глубокое понимание жизни ощутил я в себе. — За книги, которые я напишу! — За книги, которые ты напишешь, — повторила Наталья и чокнулась, глядя в свой узкий бокал. Через три дня она по случаю купила дубленку за 1200 рублей. Продавала ее подружка по университету. Отказываться было просто глупо. Это понимал даже я. Меня успокаивало только то, что одному человеку десять дубленок не нужно. Потом подвернулся кожаный пиджак на меня. Конечно, я давно мечтал о таком пиджаке. А в Дом журналистов или в Дом литераторов без такого пиджака и являться было не совсем прилично… В этих Домах кожаный пиджак был чем-то вроде униформы… Да и четыреста рублей за новый, привезенный из Греции пиджак было не дорого, но не время, не время было «разбрасывать камни»… Правда, думалось об этом как-то вяло, косвенно… Ведь не мог же я выставить себя жмотом и жлобом. В конце концов, сколько той жизни?! А деньги будут и завтра, и послезавтра… Сколько хочешь. Нужно только немножко потрудиться. И все-таки я опомнился первым. Сел, прикинул на бумажке, и оказалось, что за три недели мы потратили 2500 рублей. И притом из крупных вещей были куплены только дубленка и пиджак, на 1600 рублей, а остальные 900 утекли бесчувственно сквозь пальцы. Вот тут я опомнился и сказал себе — стоп! Две тысячи пятьсот рублей — это была сумма, необходимая мне на год свободы для творчества, на год вольных хлебов. И вот за три незаметных, сумбурных недели, без всякого праздника и почти без удовольствия растрачен год моей писательской жизни… И потом это было больше половины первого взноса за кооперативную квартиру. Я высказал свои опасения и сомнения Геннадию. Он похлопал меня по плечу и успокоил, заверив, что деньги еще будут и расстраиваться особенно нечему, но впредь следует быть поаккуратнее. — Деньги — странная штука, — задумчиво сказал он. — И очень неожиданная… Я, кажется, рассказывал тебе о Петеньке Никифорове… Художник. Работает у меня в бригаде. Ведь был алкаш законченный. Теперь его не узнаешь. Бросил пить. Похудел. Глаза горят. Я его женил на хорошей женщине. Вдвоем они зарабатывают больше тысячи рублей. А он ходит в прежних лохмотьях, и питаются они супчиком из пакетиков, который варят в гостиничном номере кипятильником. Что это? Я спросил (не у него, конечно, а у его жены, по старой дружбе), как ей удалось заставить его бросить пить? Может, он к врачу обращался, подшился? Ничего подобного. Деньги заставили его бросить. Пока денег не было, их и не было жалко. Теперь, оказывается, он копит на машину. Потом будет копить на дачу. Потом еще на что-нибудь, потом просто так… Он конченый человек. Деньги его победили. Ради денег он теперь пойдет на все. Уж лучше бы он их не пробовал… А бывает наоборот. И довольно часто. Вполне спокойные люди, ведущие скромный образ жизни, попробовав денег, срываются с нарезки. Этих даже больше, чем таких, как Никифоров. Похоже, что Наталья из их числа. Поверь моему опыту — остановить ее будет очень трудно. Хорошо, что она не пьет… На моих глазах несколько человек спились от больших денег. — А ты к какой категории себя причисляешь? — с улыбкой спросил я. — Я? — переспросил он, слегка шевельнув бровями… — Я отношу себя к редчайшей категории людей, которые победили деньги. — Как это? — Во-первых, я привел свои заработки в соответствие со своими потребностями, а не наоборот, как это часто бывает. Во-вторых, я не живу «на конечный результат»: как, скажем, тот же Петечка Никифоров. Ведь конечный результат, если говорить по большому счету, для всех одинаков и известен… Я научился считаться с ценностью каждого дня. А это значит, я не откладываю на завтра то, что могу получить сегодня. Я не имею в виду примитивные блага, не надо морщиться. Получать можно впечатления от прекрасного, новую информацию, острые, необыкновенные ощущения, высокие волнения, повод для работы ума, духовное и высокоинтеллектуальное общение, наслаждение искусством или полетом человеческого духа. И, наконец, в-третьих, я умею заставить деньги хорошенько потрудиться на себя. Все, что я потребляю, бывает только высочайшего качества. А это, как ты знаешь, очень нелегко в наше время, с любыми деньгами. Нужно иметь строгий вкус, чтоб не скатиться на пошлый купеческий разгул с беспробудным пьянством, прикуриванием от сторублевых бумажек и купанием официанток в ваннах с шампанским. Поверь, они, бедняги, там долго не выдерживают. Холодно, и очень быстро пьянеют… А что может быть хуже пьяной женщины?ИРАКЛИЙ
Ило Мелашвили, отец Томаза Мелашвили и дед Ираклия Мелашвили, родился в рачинской деревне (Рача — один из горных районов Грузии). С семнадцати лет он начал работать пекарем в маленькой пекарне в Авлабаре, старом районе Тбилиси, и проработал там всю свою жизнь. Ило был веселым человеком. Его все любили. Когда в тесной, жаркой пекарне, выпекающей лаваши, толпились женщины, дожидаясь свежего хлеба, Ило тайком подмигивал напарнику, брал в руки раскатанное тесто и, навалившись грудью на край печи, прилеплял лепешку на ее глиняную раскаленную стенку. Ноги его при этом отрывались от земли и как бы нечаянно задирали юбку ближайшей женщины. Поднимался шум. Помощник смеялся, женщины громкими гортанными голосами ругали Ило и шлепали его по белой от муки спине. Ило смеялся и кашлял. Его все очень любили. Никто на него не сердился. Он жил рядом в Нахаловке, в доме, построенном собственными руками. Его знал и любил весь Тбилиси. А когда он умер, все убедились, что Ило был великим человеком. Перед самой смертью он посмотрел на убитых горем родственников, похлопал младшего брата Мито по руке: — Теперь ты старший в роде, будь мужчиной… Потом повернулся ко всем, улыбнулся, шевельнул головой на подушке и сказал: — Ну, что такие грустные? Подумайте, мне каково? Вы теряете одного меня, а я — вас всех… — И снова улыбнулся, и две мутные слезинки выбежали из уголков глаз и медленно поползли вниз, пробираясь сквозь седую кустистую щетину. Ираклию тогда было семь лет, но эти две слезинки он запомнил на всю жизнь. А ту великую фразу он слышал много-много раз потом и не смог бы ее забыть, даже если б захотел. Ираклий очень гордился своим дедом. Он был единственный сын в семье. У него было еще две сестры. Старшая была уже замужем. В детстве Ираклий хотел быть пекарем в маленькой кустарной пекарне — как дед. Друзья звали его Ира. Нельзя сказать, что Ираклий не любил работать. Он умел работать и хорошо работал, когда увлекался, но все же больше всего на свете он любил веселиться и пировать с друзьями. Его отец Томаз Ильич Мелашвили, рассудительный и медлительный, как все рачинцы, с одной стороны, был доволен, что сын его так похож характером на своего деда, а с другой стороны, опасался, что времена теперь другие, и просто добрый и веселый человек — это не профессия. Он был кандидатом технических наук и работал заместителем директора научно-исследовательского института, и поэтому даже помыслить не мог о том, что его сын станет пекарем. К тому же в Тбилиси все меньше и меньше становилось маленьких пекарен. Изменился и Авлабар, необратимо превращаясь в туристский квартал, похожий на театральную декорацию. Подновлялись и укреплялись его старинные здания с тонконогими резными балкончиками, протезировались щербатые булыжные мостовые, красились новыми синтетическими красками старые стены и исчезали привычные живые запахи. Дольше всех держался запах свежего хлеба. На семейном совете было решено, что Ира будет поступать в институт пищевой промышленности. Раз уж он так стремится стать пекарем, то пусть будет директором хлебозавода. Честно говоря, Ираклию (если уж не суждено быть пекарем в маленькой пекарне) было совершенно все равно кем и где работать. Он твердо знал только одно — кем бы он ни был, он всегда найдет повод и возможности для дружеской пирушки. И никакая должность не помешает ему быть веселым человеком. Таким, как дед Ило. Впрочем, таких слов он даже мысленно, про себя, не произносил. Он просто жил, любил и очень почитал родителей, был предан друзьям, очень влюбчив, хорошо пел, знал много тостов, мог поддержать любую беседу и никогда даже на самой разудалой пирушке не забывался и не терял человеческого достоинства и облика. В первый год после окончания школы он не поступил в институт и пошел в армию. Отец два раза приезжал к нему в часть, расположенную под Москвой, дважды встречался с его командирами и каждый раз выслушивал много хороших слов о сыне. Томаз Ильич гордился своим сыном и подробно рассказывал о его успехах родственникам и знакомым. Ираклий Мелашвили (по-русски его фамилия означает Лисичкин или Лисицын) в детстве очень плохо ел и был чрезвычайно худым ребенком. Каждое удачное кормление было событием в доме. Когда Ираклий пошел учиться в первый класс, он весил двадцать один килограмм. Прежде чем отдать его в школу, все многочисленное семейство Мелашвили, включая дядьев и теток, родных и двоюродных, а также взрослых племянников, вместе и порознь советовалось по этому поводу с докторами. Весь первый год отдельную сумку с яблоками, виноградом и бутербродами носила в школу бабушка Кето, Екатерина Владимировна. Ираклию было тяжело нести сразу и портфель, и сумку. На первой же перемене Ираклий устроил раздачу гостинцев. Дети вежливо брали по кусочку и чинно отходили, поблагодарив. Ираклий добросовестно пытался есть вместе со всеми, но у него ничего не получалось. Гиви Мониава, его сосед по парте, сказал: — Если ты не будешь ничего есть, ты умрешь. Ираклий заплакал, запихнул в себя кусок еще теплого, завернутого во много бумаг, прозрачного от масла хачапури, и его стошнило прямо в коридоре. Лужица была небольшая, и Гиви, вынув из ранца большой носовой платок, растер лужу по полу, а грязный платок засунул за горшок с геранью. — Отныне ты мой друг навсегда, как Автандил! — торжественно произнес Ираклий. Через неделю ребята привыкли, и все продукты Ираклия разбирали в мгновение ока. На десятый день Ираклий захотел есть. Ощущение голода было ему настолько неизвестно, что он испугался и заплакал. А когда он пришел домой, схватил кусок черствого хлеба и начал есть, испугались уже его родители. В тот год, когда Ираклий вернулся из армии, отец направил его в Сухуми к своему родному брату, который был председателем колхоза. Дядю звали Леван. Через несколько дней Ираклий обзавелся новыми друзьями, и они каждый вечер пировали или у кого-то дома, или в ресторане. Вскоре Ираклий познакомился с замужней очень красивой женщиной, и у них начался типичный курортный роман. Свое знакомство с этой женщиной Ираклий скрывал от друзей по ее просьбе, так как у нее был очень могущественный и очень ревнивый муж, который должен был приехать в Сухуми, но все не приезжал и не приезжал из-за каких-то неотложных дел государственной важности. Поэтому Ираклий нигде с этой женщиной не появлялся и, отправляясь к ней на свидание (чаще всего попозднее), принимал все необходимые меры предосторожности. Все дни напролет Ираклий проводил со своими новыми друзьями на пляже. Иногда они играли в волейбол, иногда в преферанс, а иногда он отсыпался под тентом после ночных приключений. Однажды, проснувшись на топчане под тентом, он открыл глаза, увидел рыжеволосую девушку с зелеными глазами и влюбился. В тот день он отсыпался после изнурительного ночного свидания с женой очень высокопоставленного человека. Он был молод и здоров, и времени для восстановления сил ему требовалось совсем немного. Не проспав и двух часов, Ираклий проснулся, не меняя положения, слегка приоткрыл глаза и увидел на соседнем топчане рыжеволосую, зеленоглазую девушку с обгоревшей кожей. Он закрыл глаза и подумал, что эта девушка ему привиделась. Но и с закрытыми глазами он видел ее лицо и обгорелые плечи. Он решил не открывать глаза. Мгновение назад ему снилась женщина, у которой он провел ночь, снилась так, словно он и не уходил от нее, словно эта бесконечная ночь еще продолжается. Сон был настолько реален, что Ираклий отчетливо ощущал на губах след ее бархатистой кожи… Из сознания выпало туманное, душное утро, мацони, которое он пил у дяди, дорога на пляж, понимающие ухмылки друзей, неосвежающая теплая вода… Он и не помнил, как рухнул на топчан и укрыл голову махровым полотенцем, не чувствовал, как полотенце сползло и упало на песок, как зеленоглазая девушка подняла его под настороженными взглядами целой компании молодых грузин, расположившихся неподалеку. — Ара! — крикнул вполголоса кто-то из сидящих кружком, когда Тина подняла полотенце и, стряхнув песок, хотела положить на место — на курчавую голову спящего юноши. — Ара, ара, девушка, не надо! Ты его разбудишь… Тина положила полотенце в ногах на топчан, передернула плечами и сильно прогибаясь в спине, побежала к воде. Побежала она, чтоб не обгореть еще больше по дороге и еще потому, что знала, какой у нее красивый и легкий бег. Ничего этого Ираклий не видел и не знал, и потому, когда он открыл вновь глаза и опять увидел рыжеволосую девушку, читающую красную книгу, в голове его мелькнуло: «Красивая, нравится». И какая-то внутренняя пружина щелкнула и начала раскручиваться, готовая подбросить его в любую секунду. Он представил, как стремительно поднимается, бежит к морю, с разбегу всем телом обрушивается в воду, поднимая тучи брызг, долго плавает, потом выходит, играя ожившими, набухшими мышцами, блестя смуглой кожей, подходит к рыжеволосой девушке и начинает ничего не значащий, обычный в таких случаях разговор. Он уже готов был сорваться с места, но какой-то внутренний голос тихо и отчетливо сказал: «Не делай этого. Не делай, как обычно. Это другая девушка. Не обычная». «А как же делать?» — в растерянности сам у себя спросил Ираклий. На этот раз внутренний голос промолчал. В полном недоумении, имея при этом вид самый смешной, сидел Ираклий, свесив с топчана ноги, и пялился на рыжеволосую девушку. Вид у него был такой нелепый, что девушка, взглянув на него украдкой поверх книги, не выдержала и прыснула, и Ираклий неожиданно для самого себя сказал: — Вы подождите, пожалуйста, никуда не уходите! Я сейчас пойду умоюсь и все вам расскажу… И он не полетел длинными пружинистыми скачками, а поплелся на ватных ногах к морю. Когда он вернулся через некоторое время, девушка все так же читала книгу. Почему-то дрожа всем телом и покрывшись мурашками, Ираклий присел на краешексвоего топчана и, словно ни к кому не обращаясь, вполголоса заговорил. Он не задумывался над тем, что сказать, не подыскивал нужных, правильных русских слов, за него словно говорил тот же внутренний голос: — Понимаете, каждый ребенок о чем-то мечтает… Кто-то хочет стать моряком, кто-то хочет стать космонавтом, а может, кто-то никем не хочет стать и мечтает, как будет лежать всю жизнь на диване и есть конфеты и хурму. Взрослые тоже мечтают. Когда я был в армии, у каждого моего товарища была невеста или просто девушка… У меня тоже до армии были знакомые девушки, но это все было по-другому, и в армии я ни о ком не вспоминал. Товарищи рассказывали о своих невестах, носили фотографии с собой. У меня никого не было. Но я мечтал. Я мечтал, что встречу девушку, которая станет моей невестой, потом женой, потом матерью моих детей, бабушкой моих внуков, родоначальницей целого рода… Я видел эту девушку так отчетливо, что если б я был художником, то нарисовал бы ее. И если б вы посмотрели на этот портрет, то сказали бы, что я нарисовал вас. Когда я увидел вас, мне стало страшно, потому что я знаю — ничто не сбывается так, как мечтаешь. Мечты мечтами, а жизнь есть жизнь. Я даже сперва подумал, что вы мне привиделись. Как привидение… Я боюсь, что вы, как привидение, растаете, исчезнете… Не исчезайте — мне будет очень тяжело, очень плохо… — Почему я должна исчезать? — удивленно вскинула брови девушка. — Я здесь каждый день отдыхаю под этим тентом. Ираклий и сам не помнил, какими словами он убедил Тину пойти пообедать. Он очень удивился, когда узнал, что это первый ее выход в ресторан. Едва они вошли, высокий полный официант подошел к Ираклию, обнял его за плечи и с ласковой улыбкой начал что-то говорить по-грузински, ни разу при этом не взглянув на Тину. Но она не почувствовала никакой обиды. Напротив, ей почему-то было ясно, что на нее не смотрят из деликатности, чтоб не смущать. Словно по волшебству на столике появились закуски, ваза с фруктами, хрустальные бокалы, тяжелые мельхиоровые приборы, горячий лаваш, нарезанный полосками и укрытый салфеткой. Толстый официант почтительно, как настоящей даме, показал этикетку шампанского. Бутылка была укутана в салфетку. Тина лишь в последнее мгновение сообразила, что следует как-то среагировать, и величественно, как ей показалось, кивнула. Официант с чрезвычайной ловкостью бесшумно открыл бутылку, обтер горлышко салфеткой и налил шампанское в высокие хрустальные бокалы. Тина выпила целых два фужера. Это придало ей уверенности. Она чувствовала себя совершенно пропащей. Ираклий, которому внутренний голос сказал, что это необычайная девушка, изо всех сил старался относиться к ней как-то по-другому, не так, как к другим девушкам. Предупреждал любое ее желание, но когда она протянула руку за сигаретами, Ираклий мягко, но решительно накрыл пачку загорелой ладонью и сказал: — Не надо. Пожалуйста. Вы же не курите. Не стоит привыкать. Тина приготовилась было «пропадать совсем», но обед закончился неожиданно быстро. Ираклий отвез Тину домой, пообещав зайти за ней вечером. Во время очередного ночного свидания жена высокопоставленного чиновника спросила у Ираклия, что это за девушка, с которой она видела его в городе вот уже три раза подряд. Ираклий нахмурился, привстал, опершись локтем на подушку, долго смотрел в веселые глаза женщины и потом сказал: — Если ты хочешь, чтобы мы встречались, никогда больше не говори об этой девушке. Женщина хотела в ответ пошутить, но, внимательнее всмотревшись в его лицо, промолчала и обняла его за шею мягкой, налитой рукой… Перед своим отъездом на учебу Ираклий Мелашвили с друзьями отправился к Крестовому перевалу в горное селение, расположенное в 112 километрах от Тбилиси, за барашком. В том горном селении жили дед и бабушка одного из его друзей. Дорогой они весело болтали, обсуждая предстоящий праздник. Готовились торжественные проводы Ираклия в Москву. Горы были еще совсем зеленые, ветви яблонь, груш и айвы в садах гнулись под тяжестью плодов, начинала румяниться хурма, наливался виноград. Было тепло. Но летние, августовские жары прошли, и встречный ветерок не обжигал, а ласкал лица друзей. Хорошо отлаженный двигатель «Жигулей» уютно урчал, еле слышно шуршали шины по ровному асфальту Военно-Грузинской дороги, не мешая разговору, звучала музыка. Настроение у всех было прекрасное, и в веселом разговоре друзья решили купить не одного, а двух барашков. Дедушка товарища был уважаемый человек, известный во всем районе. Он не ждал внука, потому что в горах нет телефона. Когда к его дому подъехала машина с молодежью, он брился, чтобы поехать в районный центр в больницу, подобрать очки. У него на семьдесят третьем году жизни началась старческая дальнозоркость. Услышав автомобильный гудок, он резво спустился с галереи второго этажа, где брился, как и был с одной выбритой, а с другой намыленной щекой. Он забыл о мыле. Он сперва открыл железные, разукрашенные местным сварщиком ворота, впустил во двор машину, потом, скупо, расставляя руки, начал крепко обнимать внука и его друзей, пачкая всех мыльной пеной. Все долго смеялись по этому поводу, показывая друг на друга пальцами. Смеялся и дед. Его звали Александр. Потом они пошли в загон и выбирали барашков. Потом долго и азартно торговались. Правда, это была торговля наоборот. Дед Александр, узнав, зачем понадобились барашки, решил их подарить. Внук, не предполагавший такого поворота, весело с ним согласился. Ираклий и слушать об этом не захотел. Начались бесконечные выяснения отношений, в которых дед ловко манипулировал «почтением к старшим», а Ираклий — «сыновней почтительностью». После того как Ираклий решительно объявил, что такого подарка он принять не может и вынужден искать барашков у других хозяев, дед Александр наконец согласился продать и в знак своей решимости хлопнул кепкой об пол. Однако цену он назвал неправдоподобно низкую, и Ираклий снова поднялся к выходу с самым решительным видом. Дед Александр преградил ему путь своим сухим крепким телом и спросил цену Ираклия. Тот назвал неправдоподобно высокую, уверяя, что барашки стоят еще больше. Дед Александр загорячился и слегка набавил свою цену, и так далее… Они торговались до тех пор, пока не дошли до той цены, на которую Ираклий и рассчитывал с самого начала. Пока они торговались, в доме накрывался стол, пеклись на тяжелых сковородах прозрачные от масла хачапури, жарились цыплята, разливалось в глиняные потеющие кувшины вино. Потеть кувшинам было положено. Они были из необливной глины, и их стенки пропускали влагу. Влага с внешних стенок кувшинов испарялась, и стенки при этом охлаждались. Вино в таких сосудах всегда было на несколько градусов прохладнее окружающего воздуха. Потом они пировали. Выпили за Ираклия, за его отъезд, за то, чтобы праздник, на который куплены барашки, удался. Пили за здоровье деда Александра, за его дом, за прекрасную его хозяйку, которая приготовила такие хачапури, лучше которых нет в районе. Хозяйка специально подошла к столу, чтобы выслушать эти приятные для нее слова, слегка краснея, смущаясь, и принялась усиленно потчевать дорогих гостей, подкладывая своими крепкими руками, покрытыми мелкими трещинками, куски жареных цыплят прямо в тарелки уже сытым гостям. Потом много шутили над Нодаром, владельцем машины. Ему предлагали наесться до полного опьянения. Но без вина у бедняги не было никакого аппетита. Потом немного пели. Потом горячо поблагодарили хозяев и стали собираться. Барашки стояли около машины, привязанные за заднюю ногу к забору. За ногу, а не за шею их привязывали для того, чтоб они случайно со страху не удавились. Потом стали не спеша, основательно обсуждать, как лучше связать барашков. Нодари настаивал на том, чтоб связать им ноги не попарно, задние и передние, а все четыре ноги вместе, чтобы они не могли биться в машине. Так и поступили. Сложили барашков в багажник, одного на другого и захлопнули крышку. Целуясь с дедом, Георгий, так звали внука, укололся о щетину и напомнил деду, что одна щека так и осталась у него невыбритая. Все снова принялись смеяться, и громче всех смеялся дед Александр. Потом со смехом расселись в машине, включили музыку погромче и весело тронулись. Солнце уже скрылось за западными вершинами гор, но вечер еще долго не наступал. По дороге они много пели, а магнитофон играл сам по себе. Ираклий пел вместе со всеми своим сильным и нежным молодым голосом. И когда в песне говорилось о любимой девушке, а о ней говорилось во всех песнях, он думал о своей золотоволосой Тине. На проводы Ираклия Мелашвили собралась половина Тбилиси. Потом шутили, что другая половина города не пришла, потому что обиделась на Ираклия за его отъезд. Приехал на проводы и дядя Леван из Сухуми. Он привез два бочонка «Аджолеши». Злая на язык молодежь шутила, что эти проводы по своей пышности не уступали похоронам. Томаз Ильич Мелашвили взял недельный отпуск за свой счет и поехал вместе с сыном в Москву. Он хотел лично убедиться в том, что его дальний родственник и бывший сосед Мансурадзе, работающий теперь на вечернем отделении Московского пищевого института, помнит родство и соседство. Общежитие, куда должен был заселиться Ираклий Мелашвили, устроившийся инструктором-собаководом на водопроводную станцию, находилось не в самой Москве, а в небольшом рабочем поселке сразу же за Московской кольцевой дорогой. Поселок этот состоял в основном из частных строений и только в центре имел несколько длинных трехэтажных домов казенного вида без балконов. Общежитие было в одном из таких домов. Комната, куда поселили Ираклия, была на третьем этаже в самом конце длинного коридора. В противоположном конце коридора была огромная кухня, в которой стояли вдоль стен самодельные столики, принадлежавшие не кому-то отдельно, а целой комнате. Справа от окна располагались четыре почерневшие от копоти и нагара газовые плиты. Днем в этой кухне, особенно по субботам и воскресеньям, толклось до двадцати человек, не считая детей и кошек. Ночью на кухне хозяйничали неистребимые тараканы. Ираклий боялся тараканов, потому что был чрезвычайно брезглив. Рядом с кухней была туалетная комната с несколькими плохо запирающимися кабинками и тремя чугунными со стершейся эмалью раковинами. Комната, где Ираклию была предоставлена отдельная койка и отдельная тумбочка, была большая и квадратная, с одним огромным квадратным окном. В комнате были четыре железные кровати с панцирными сетками. Посреди комнаты стоял большой квадратный стол на толстых квадратных ногах. Вокруг стола толпились казенного образца тяжелые квадратные стулья с кожаными лоснящимися сиденьями. К одной из стен прислонился облезший фанерный шкаф времен военного коммунизма. В этой комнате Ираклий пробыл пять часов. Он приехал, раздвинул тяжелые цельнодубовые крышки стола, застелил его за неимением скатерти новенькой накрахмаленной простыней, выданной ему комендантом общежития, выставил батарею лучших грузинских вин и коньяков, горы фруктов, всевозможной провизии, пригласил всех, находившихся в это время в общежитии, и устроил пир по поводу своего официального поселения в этом доме, по поводу знакомства с товарищами по работе и но поводу своего поступления на вечернее отделение Московского пищевого института. Ираклий уехал из общежития на заказанном такси около двадцати трех часов и больше не появлялся там никогда. Пирушка продолжалась и после его отъезда и затянулась далеко за полночь. Обитатели общежития были сражены наповал невиданным размахом. Они были настолько ошеломлены, что в этот вечер на всем этаже не возникло ни одного пьяного скандала, хотя выпивки было столько, что даже осталось, — случай и вовсе неслыханный в общежитии. Когда все разошлись по комнатам, а объедки и грязная посуда были снесены на кухню, и свет был наконец выключен, к своему пиршеству приступили тараканы. Они тоже были поражены невиданным обилием и высочайшим качеством объедков. В команде служебного собаководства Н-ской водопроводной станции, а говоря короче, на собачнике, работали четырнадцать человек. Пятнадцатым был начальник Глотов. Вместе эти люди собирались редко, так как дежурства были суточные, через трое суток на четвертые. Встречались они лишь на каких-нибудь собраниях. Команда на собачнике подобралась пестрая. Сережа Уфимцев был по призванию бард, актер и художник. Он приехал в Москву, чтобы найти применение хоть одному из своих талантов. А если очень повезет, то и всем сразу. Суточная работа на собачнике и место в общежитии давали ему возможность ежедневно развивать таланты. В первый год по приезде в Москву Сережа поступал во все театральные вузы столицы. Во второй год он пытал счастья в художественных институтах и училищах. На третий год у него был намечен всего один институт — ВГИК, но поступать он решил сразу на два факультета: режиссерский и сценарный. Его напарником по смене был Ваня Охоткин. Бардов он очень не любил, а вместе с ними и всю эстраду с опереттой. Ваня собирался стать оперным певцом. Он был альбинос, голосом в быту обладал тихим и дребезжащим, а пел басом, «под Шаляпина». Он пел весь шаляпинский репертуар и копировал великого певца с невероятной точностью. Люди, сидящие за стеной, на спор не могли определить, звучит пластинка или живой голос. Преподаватель вокала, к которому Ваня обратился в Москве, долго не мог понять причину хрипов и сипов в Ванином голосе. И только изрядно поломав голову, он понял, что Ваня, выучившийся петь по пластинкам, со всей старательностью воспроизводит недостатки грамзаписи. Когда преподаватель попросил его пропеть специальные вокальные упражнения, Ваня спел чистым сильным голосом. Характера Ваня был непреклонного. Он методично обошел все учебные заведения, все театры, все концертные организации, всех известных певцов, везде добивался приема, везде пел и неизменно вызывал одну и ту же реакцию. Сам он рассказывал об этом так: «Когда я пришел к Магомаеву, он страшно удивился. Но еще больше он удивился, когда я запел. Он даже оглядываться начал. Потом, когда я кончил, пожал мне руку и говорит: „А по-другому вы петь можете?“ — „Зачем же по-другому, если Шаляпин признан гением?!“ Он только руками развел и ничего не сказал. И все они так». Инструктор-кинолог Егор Ламин (представлялся он Георгием) был по своему настоящему призванию брачный аферист. Он был красив, хорошо сложен, неглуп, достаточно начитан, имел прекрасные, правда несколько старомодные, манеры и поставил целью своей жизни выгодную женитьбу. Львиную долю своей зарплаты он тратил на одежду, косметику и на билеты в Большой театр, консерваторию и прочие места, где надеялся найти свою судьбу. Еще на собачнике работали: студент факультета журналистики МГУ; шофер с отобранными правами; мастер-отделочник высшего класса, занимавшийся ремонтом частных квартир; тихий наркоман-таблеточник Кузя, который носил с собой неизменную бутылку пива и через каждый час, отвернувшись от людей, глотал две какие-то маленькие таблетки и запивал их глотком теплого, погасшего пива; тетя Клава, многодетная бабушка, щеголявшая и зимой и летом в форменном, лихо заломленном берете; и угрюмый человек Власов, о котором никто ничего не знал, кроме того, что зовут его Индустрии. На собачнике его звали Индусом. В той же команде работал и студент литературного института Валерий Ш., мой друг. Его бесконечные рассказы о собачнике, остроумные и точные наблюдения доставляли мне всегда огромное наслаждение. Заканчивались они всегда одинаково: «Я обязательно напишу о собачнике, об этой компании новых растиньяков, приехавших завоевывать Москву. А эпиграф к этой книге будет такой: «Извлечение из положения о паспортной системе в СССР, утвержденного Постановлением Совета Министров СССР от 28 августа 1974 г. 6. Граждане подлежат… прописке по месту жительства, а также прописке или регистрации по месту временного проживания»». Но пока пишу об этом я. Наверное, хуже и беднее, чем он, но мне необходимо рассказать о том месте, куда пришел работать Ираклий Мелашвили, чтобы получить московскую прописку и право учиться на вечернем отделении института, и о том, какие противоречия возникли между ним и начальником команды Глотовым. На праздник 7 ноября Ираклию пришлось дежурить. Он вышел на работу взбешенный. Дело в том, что еще за неделю до праздников он, когда узнал, что ему выпадает дежурство, договорился с Сережей Уфимцевым, что тот выйдет на работу вместо него. Он поставил Сереже бутылку коньяка, поставил бутылку водки бригадиру (тот коньяк не пил), договорился со своими грузинскими друзьями, что на праздник они соберутся у него в просторной двухкомнатной квартире, которую он снимал в центре, что придет та женщина, с которой он встречался в Сухуми, потому что муж ее лежал в госпитале на обследовании. Ираклий планировал также 7 ноября в первой половине дня съездить в Щедринку. Если б у Ираклия кто-нибудь спросил, почему он не пригласит на вечеринку свою официальную невесту Тину, вопрос вызвал бы у него искреннее недоумение… Его земляки, которых в Москве оказалось достаточно, такого вопроса ему не задавали, хотя прекрасно знали, что у него есть рыжеволосая красавица невеста. Словом, у Ираклия все было готово к празднику, но когда он зашел в кабинет к начальнику команды служебного собаководства Глотову, чтобы поставить его в известность о том, что они с Уфимцевым поменялись дежурствами, тот никак не отреагировал на это сообщение. Он просто сидел и пристально смотрел на Ираклия. Пауза тянулась мучительно долго. Наконец Ираклий, считая дело оконченным, сказал, тщательно и трудно выговаривая русские слова: — Я пойду, Константин Константинович? И снова в ответ было молчание. — Константин Константинович, я все, что положено, отработаю… — смутившись сказал Ираклий. Глотов открыл амбарную книгу с графиком дежурств и углубился в его изучение. — Константин Константинович, — в голосе Ираклия послышались не свойственные ему просительные нотки, — я два раза отработаю. Очень надо! С меня самый лучший французский коньяк. — Глотов молчал. — Константин Константинович, я вам тоже что-то приятное сделаю… С меня ужин в «Арагви», — умолял Ираклий. Глотов захлопнул амбарную книгу и по-отечески строго взглянул на Ираклия. — Выйдете в свое дежурство, и впредь с кем-либо договариваться за моей спиной без моего разрешения не советую. — Но почему нельзя? Кому плохо? — Порядок есть порядок! — значительно произнес Глотов и твердой походкой вышел из кабинета. Ираклий принес на станцию килограмм сарделек, привел своего любимого пса Норта, с которым подружился с первого дня, в дежурку и принялся вычесывать репьи из его густой шерсти, скармливая ему по одной сардельке. В дежурке работал старенький КВН с линзой, и из него слышались хриплая музыка, здравицы, и дружное «ура» участников демонстрации. Друзья Ираклия звонили ему каждый час, сообщали, как двигается застолье, и пересказывали ему произнесенные тосты. Ираклий весело ругался им в ответ и трепал по загривку Норта. К обеду Ираклий совсем развеселился. Потом пошел дождь со снегом, и они с Нортом гуляли по водопроводной станции. Норт шел у его левой ноги, словно его вели на поводке. Ираклий Мелашвили спал в дежурке. В последнее время он постоянно не высыпался. Хорошо, если ему удавалось поспать часа три-четыре в сутки, а то и этого не случалось… Он был молод, здоров и весел. Проснуться и встать с кровати без посторонней помощи было для пего подвигом, на который он чаще всего не был способен. Он не просыпался, даже если его поднимали и ставили на пол, поддерживая на всякий случай. Однажды его слишком рано отпустили, и он натурально рухнул, как сбитая кегля, и разбил себе нос. Зато и уложить его ночью было невозможно. В те вечера, когда он не пировал с друзьями, он встречался с молодой женщиной, женой высокопоставленного чиновника, с которой он познакомился летом в Сухуми. Ее звали Елена Михайловна. Ее муж после госпиталя уехал на целый месяц в зарубежную командировку и каждый вечер звонил ей. Когда раздавался звонок, Елена Михайловна всегда делала один и тот же предостерегающий жест, пригвождая им Ираклия к месту, и начинала сердито выговаривать мужу за то, что он не думает о себе, о своем здоровье, об отдыхе, что только зря тратит деньги на звонки, что лучше бы он купил что-нибудь для себя, что у нее все в порядке, ей ничего не делается, она скучает и ждет. Повесив трубку, она сидела некоторое время с закрытыми глазами, потом, не открывая глаз, протягивала к Ираклию руки, чтобы через мгновение ощутить его крупные сильные и нежные ладони и быть выдернутой из глубокого кресла и очутиться в крепких, до боли, до хруста в косточках, объятиях. И только тогда Елена Михайловна открывала глаза и видела горящие, оливковые глаза Ираклия и влажные молодые зубы, обнаженные в безудержной, азартно-хищной улыбке. До телефонного звонка Елена Михайловна не позволяла Ираклию ни объятий, ни поцелуев. Она любила и уважала своего мужа. Елена Михайловна была старше Ираклия, ей было двадцать девять лет, а Ираклию — двадцать два. Выглядела Елена Михайловна моложе Ираклия. Муж был старше Елены Михайловны на тринадцать лет. Для своего возраста он занимал очень высокий пост. И занимал его давно. Вернее, давно поднялся (взлетел) на очень высокий уровень и дальше неуклонно и безостановочно, хоть и понемногу, продвигался еще выше, показывая себя на каждой ступеньке карьеры человеком незаурядным, волевым и добросовестным. Елена Михайловна вышла за него в двадцать лет и была свидетельницей и участницей его стремительного взлета. Она была верным товарищем и толковым помощником. У них было полное взаимопонимание во всем, что не касалось любви. Елена Михайловна, как уже было сказано, очень любила своего мужа. И он любил ее. Казалось бы, чего же больше? Но вот именно тут у них и начинались серьезные расхождения. Муж понимал любовь как последовательное и настойчивое стремление окружить любимого человека рыцарской заботой и вниманием. Что он и делал. Последовательно и настойчиво. Елена Михайловна имела на этот счет собственное мнение. Его настойчивое, неослабевающее ни на мгновение внимание не раздражало ее, но как-то чувствовалось… Так бывает, не болит, не беспокоит сердце, но ты вдруг чувствуешь, что оно у тебя есть. А вчера еще не чувствовал. Елена Михайловна считала, что в любви важнее другое. Она понимала, что муж очень занят на работе, что он устает, что в его возрасте и в его положении не до страсти, не до самозабвенных чувственных наслаждений, и благоразумно не требовала этого от мужа. И то, что она не требовала от мужа больше, чем он мог ей предложить, как бы давало ей законное право искать эти страсти и наслаждения в другом месте. Единственное условие, которое она себе при этом ставила, — это никаким образом не причинить боль своему мужу и не повредить его карьере. За все восемь лет совместной жизни она ни разу это условие не нарушила. Но и недостатка в страстях не испытывала. Муж безраздельно доверял ей. Звонил он ежедневно не потому, что ревновал или в чем-то подозревал Елену Михайловну. Этими звонками он просто выражал свою любовь. То, что муж доверял Елене Михайловне, было правильно. Она в своих внебрачных связях не тратила ничего такого, что принадлежало мужу и пользовалось с его стороны хоть малейшим спросом. Однажды (всего однажды) Елена Михайловна открылась своей ближайшей подруге. Та, не задумываясь, назвала ее мужа импотентом и была совершенно не права. С тех пор ни с какими подругами Елена Михайловна интимными подробностями не делилась. Своей личной жизнью она занималась только на отдыхе или во время командировок мужа. Зато уж в это время была жадна и неудержима. И каждый денечек называла золотым. «Время, времечко золотое уходит», — бесконечно напоминала она, созваниваясь с Ираклием и не принимая никаких его отговорок. Впрочем, он и сам каждую свободную от занятий и друзей минуту стремился к ней. Елена Михайловна ему очень нравилась. Она была красивая, и он подолгу не давал ей заснуть. Ему было жалко отпускать ее в сон. Он полулежал, высоко подбив себе под бок подушку, и усталыми глазами рассматривал Елену Михайловну и дотрагивался чуткими пальцами до ее носа, губ, бровей. И говорил ей какие-нибудь глупости, чтоб она засмеялась и проснулась. Ему было жалко расставаться с ней. Она довольно улыбалась и то и дело проваливалась в сладкую дрему. Она от любви уставала больше, чем он. Когда она окончательно засыпала, Ираклий откидывался спиной на подушку и думал о Тбилиси, об институте, о друзьях, о собачнике, о Норте, о маме, о Сухуми, о Тине, которую по-прежнему считал своей нареченной, хотя его уже не обдавало жаром, когда он вспоминал о ней. «Кто знает, — думал он, — может, я и погорячился, когда назвал ее своей невестой, может, чувство пройдет за этот год или два… А может, ее чувство пройдет. А может, его у нее и не было. Зато как хорошо было в Сухуми… И как хорошо будет. И как хорошо сейчас». Ираклий чихнул во сне, открыл глаза и увидел начальника команды служебного собаководства водопроводной станции Глотова. Когда Глотов явился в дежурку, Ваня Охоткин и Сережа Уфимцев играли в нарды (они называли эту игру на восточный манер — «шэш-бэш»), а Ираклий спал на дерматиновом диване, подложив под голову сложенную телогрейку и укрывшись замасленным черным тулупом. Он спал настолько крепко, что не слышал ни грохота костей по доске, ни восторженных воплей игроков. Ираклий спал уже три с половиной часа. За это время он ни разу не вздрогнул, не шевельнулся, не переменил положения, несмотря на то, что осоловевшие игроки все три с половиной часа, не останавливаясь ни на мгновение, гремели костями, стучали фишками, кричали и матерились. Нардами собачник «заразил» Ираклий. До него на станции играли в шахматы. Глотов запрещал и то и другое. Первым увидел начальника Ваня Охоткин. Он сидел лицом к двери. Он первый заметил что-то необычное в его облике. Сережа Уфимцев, уловив встревоженный взгляд партнера, резко повернулся всем телом. При этом он задел за доску и с грохотом опрокинул ее на пол. Ваня и Сережа подумали, что их грозный начальник Константин Константинович Глотов пьян в стельку. Шапка на нем сидела прямо, но из-под шапки на лоб и в разные стороны торчали его длинные, обычно ровно зачесанные назад волосы. По лицу начальника текли неудержимые слезы. Ваня Охоткин присвистнул от удивления. Сережа Уфимцев, тщетно пытаясь попасть взглядом в мутные от слез глаза начальника, обалдело сказал: — Здравствуйте… Глотов не обратил на них никакого внимания. Он, не отрываясь, смотрел на диван. Ираклий лежал, укрывшись с головой, Глотов на цыпочках подошел к Ираклию и осторожно (у игроков замерли сердца) потянул вниз полушубок, приоткрывая лицо спящего. Ираклий вкусно почмокал губами и рукой попытался натянуть полушубок обратно на голову, но Глотов слегка придерживал полушубок, и рука Ираклия так и застыла с зажатой полой. Много позже впечатлительный Сережа Уфимцев рассказывал, что в этот момент ему показалось, что Глотов собирается убить Ираклия. Так необычно было его поведение, так вкрадчиво-жутки были все его жесты. И когда Глотов сомнамбулическим движением потянулся в карман пальто, то Сережа даже рванулся к нему, чтобы предотвратить убийство, но Глотов извлек из кармана какую-то бумажку, и Сережа замер на месте и, затаив дыхание, продолжал наблюдать за начальником. Это была прощальная записка бросившей его сегодня утром жены. Глотов положил ее на полушубок, опустился на колени и начал бормотать что-то… Игроки испуганно переглянулись и невольно начали прислушиваться к булькающему, прерываемому всхлипами бормотанию. Вскоре они начали различать некоторые несвязные, на их взгляд, слова: — Зачем ты меня волнуешь? Мне доктор не разрешает волноваться… Борщ съел специально. Дети по полу катаются. Это все мать твоя! Она всю жизнь хотела нас поссорить… Пойдем. Ты помнишь эти розы? Пойдем домой. Детям надо спать. Дети тут ни при чем. Потом тур вальса вдвоем. Я все прощаю… Ты так любил, так смеялся звонко, как радио. Пойдем… — Эй! — осторожно сказал Ваня Охоткин. — Товарищ начальник… Константин Константинович! Глотов его не слышал. Охоткин подмигнул Уфимцеву и звонко пощелкал себя по горлу. Уфимцев подмигнул ему в ответ и выставил большой палец. Им было приятно видеть своего нелюбимого начальника в таком состоянии. Это тешило их многократно уязвленное Глотовым самолюбие и давало на будущее неубиваемый козырь против него. Они многозначительно переглянулись и тихонько попятились на свои места, приготавливаясь как можно дольше понаслаждаться приятным и редким зрелищем пьяного в лоскуты начальника. Между тем Глотов с каждой минутой вел себя все более странно, и вскоре игроки начали сомневаться в том, что он пьян. Перестав всхлипывать и булькать, глотая слезы, какое-то время он стоял на коленях перед спящим Ираклием недвижно и безмолвно. Потом робко взял его руку и начал осторожно и неумело ее целовать. Уфимцев и Охоткин растерянно переглянулись и замерли с широко открытыми глазами. Потом Глотов стал медленно и чутко поглаживать кончиками пальцев Ираклия по подбородку, по щеке, дотронулся до спекшихся во сне губ. И тут Ираклий, которого обычно не будили ни похлопывания по щекам, ни щипки, ни даже дружеские тумаки, сморщил нос, чихнул, открыл глаза и строго посмотрел на Глотова. Глотов, словно только и ожидал этого взгляда, заговорил быстро и горячо, всовывая бумажку в руку Ираклию: — Вот… Возьми. Я ничего не видел. Я не принимаю… Ты не имеешь права… Пошли домой, детям пора спать, потом тур вальса и розы… — И он снова принялся целовать Ираклию руки и прижимать их к своим мокрым щекам. До этого момента Ираклий оцепенело его слушал, пытаясь вникнуть в смысл происходящего, но когда начальник начал целовать ему руки и орошать их слезами, он, как показалось Сереже и Ване, прямо взвился в воздух. Полушубок отлетел в одну сторону, начальник в другую, а телогрейка и диванный валик в третью. Оказавшись посреди дежурки, на затоптанном цементном полу в белых шерстяных домашней вязки носках, Ираклий разразился длинной гневной тирадой на грузинском языке. Отброшенный в угол Глотов поднялся на четвереньки и с удивительным проворством пополз к Ираклию, с явным намерением схватить Ираклия за ноги, но тот в последний момент увернулся и заметался по дежурке, ища глазами свои форменные кирзовые сапоги. Глотов все тем же манером (то есть на четвереньках) преследовал Ираклия, путаясь в полах своего пальто из твердого армейского сукна и бормоча что-то совершенно нечленораздельное. Ираклий, не переставая ругаться по-грузински, прятался за спины своих товарищей, присутствия которых Голотов просто не замечал. Наконец Ираклий нашел свои сапоги и впрыгнул в них. Подобрав на ходу полушубок, он выскочил на улицу. Уфимцев и Охоткин, сорвав с гвоздей свои форменные шинели, последовали его примеру. Выскочив на мороз, они заглянули в проталину замерзшего окна. Глотов стоял на коленях перед диваном и, засунув под диван в узкую щель руки, пытался выцарапать оттуда бумажку, с которой пришел. Ираклий отодвинул Охоткина от окна и припал к проталине. Не отводя взгляда от Глотова, сказал уже по-русски: — Слушай, он что, с ума сошел? Охоткин схватил прислоненный к дежурке лом, которым сдалбливали намерзшую собачью баланду с санок, и ловко подпер им дверь. И вовремя он это сделал. Через минуту Глотов первый раз стукнулся в дверь… Пока приехала машина спецслужбы, Глотов разнес всю дежурку. Он выбил окна, поломал мебель, выпустил всю требуху из дивана, распоров оказавшимся в дежурке старым напильником его дерматиновую обивку, и залил все стены кровью из многочисленных порезов на руках. Охоткин потом хвастался, что сообразил подпереть ломом дверь. Над Ираклием долго смеялись всей станцией, делая оскорбительные намеки по поводу его тайных отношений с бывшим начальником. Он злился и чуть ли не лез в драку, но потом сам стал посмеиваться, вспоминая тот случай. Елене Михайловне на следующий день он ничего не рассказал о случившемся. Не рассказал он и друзьям. Этот случай так и не вышел за высокий бетонный забор станции…ГЛОТОВ
Константин Константинович Глотов каждое свое решение и тем более распоряжение, каким бы произвольным оно ни было, считал единственно верным, непререкаемым и требовал беспрекословного и немедленного его исполнения. Так он привык. Пятнадцать лет назад полковник медицинской службы Никодимов нашел у Глотова нервное истощение. Этот диагноз вызвал у пациента глубочайшее уважение к самому себе. Случилось это после того, как Глотова обошли должностью, на которую он рассчитывал. Пришел молодой офицер (из молодых да ранних), проявил, как это обычно и делается, инициативу и захватил вожделенную майорскую должность. А капитан Глотов остался при собственном интересе и с очень слабыми надеждами на повышение в чине. По этому поводу он взял полагающийся отпуск и поехал в свою маленькую деревушку под Кинешмой, где по совету местных специалистов и запил горькую. Запил он с кумовьями и братанами, которые, узнав о его приезде, загодя поставили бражку. По молочной сорокалитровой фляге каждый. Сам Глотов почти совсем не пил, но тут кумовья, узнав о его сложных служебных обстоятельствах, настояли на том, что надо снять нервное напряжение и вообще: «Гори оно все огнем! Главное — отдохнуть по-человечески». И Глотов начал прилежно «отдыхать»… Вот после этого отдыха полковник медслужбы Никодимов и обнаружил у него нервное истощение. С тех пор Глотов решительно и бесповоротно перешел на щадящий режим жизни. Служил он в армии с девятнадцати лет, некоторые годы его службы засчитывались каждый за два. И поэтому положенная выслуга, двадцать пять лет, у него набралась к сорока годам. В день своего сорокалетия в связи с болезнью он торжественно ушел на пенсию. И с того самого дня вся его жизнь была подчинена одной идее — сохранению истощенной нервной системы. Методов же сохранения ее оказалось неожиданно много. Прежде всего дома своей жене Лиденысе Глотов объявил, что повышать голос в его присутствии не рекомендуется. Также недопустимо поднятие им тяжестей и занятие мелкой кропотливой работой, требующей напряженного внимания. Ему категорически запрещалось попадать в конфликтные и стрессовые ситуации. Решительно отвергалась врачами деятельность, связанная с материальной или любой другой ответственностью. Рекомендовалось следить за работой органов пищеварения, а также за мышечно-двигательным аппаратом. Следовало уделять особое внимание дыханию и не допускать переутомления органов зрения. Одним словом, жизнь теперь для Глотова, а также для его родных и близких, стала тяжелой, ответственной работой. Первые года три Глотов отдыхал. С утра, если погода благоприятствовала, он обычно брал транзисторный приемник, пачку газет и тихой походкой шел на берег Москвы-реки в Серебряный Бор, расположенный поблизости от его дома. Там он задумчиво бродил по березовым аллеям или сидел на лавочке. Приемник висел у него через плечо, как офицерский планшет. Чаще всего приемник не работал. Глотов включал его раза два-три, чтобы прослушать новости по «Маяку». Он и брал-то его только для того, чтоб «не отключаться от текущей жизни». Глотов считал себя тонким политиком. Он знал все, что происходит в мире. Это позволяло ему, с одной стороны, находиться как бы в гуще событий, а с другой стороны, сохранять свою истощенную нервную систему, потому что его нервная система, к счастью, чрезвычайно слабо реагировала на события в расистской ЮАР или на забастовочное движение английских горняков. Дома он с удовольствием и охотой брался за исполнение посильных обязанностей — ходил за кефиром, за хлебом, за макаронами, в мясные же и в овощные магазины он даже не заходил. В первые — из-за ответственности (не дай Бог, не тот кусок выберешь), а во вторые — из-за очередей и тяжести продуктов. Зато он продолжал вести трезвый образ жизни, курить так и не начал, на чужих женщин не заглядывался и был вполне самостоятельным, солидным человеком, и потому жена его Лиденька души в нем не чаяла и в обязательном порядке приводила его на все праздничные вечера в свою проектную организацию, где работала чертежницей. Здоровый цвет лица, высокий рост, представительная внешность, а также какая-то особенная надежность и стабильность, крупными буквами написанная на его челе, вызывали у Лиденькиных подружек по работе неизменную зависть. Лиденька именно в такие вечера была совершенно счастлива. Дети Глотова, десятилетняя Катя и девятилетний Степа, его боялись. Ходил он всегда ровной солидной походкой, величественно неся свою голову и глядя поверх толпы, благо рост ему позволял это. Если ему случалось споткнуться, он останавливался, замирал и удивленно смотрел: обо что же это он споткнулся? И при этом склонял голову то вправо, то влево. Потом оглядывался вокруг, не видел ли кто его конфуза, плевал на камень или железку, о которую споткнулся, и шел дальше. Через три года, когда он уже видеть не мог речные пейзажи, когда березки начали вызывать в нем глухую ненависть, а сам отдых оборачивался явным вредом для его здоровья, Глотов всерьез задумался о дальнейшем существовании. В результате многодневных размышлений он пришел к печальному выводу, что необходимо как-то перестроить свою жизнь, организовать новый, здоровый ритм в щадящем режиме. Глотов понял, что для этого нужно устроиться на работу. Сразу возникло множество проблем. Специальности у Глотова, кроме военной, не было никакой. Единственное, что он умел делать профессионально, — это заставлять других работать. Причем он умудрялся это делать, не принимая близко к сердцу конечный результат труда. Его талант (а это был именно талант) не зависел от того, разумна или совершенно бессмысленна исполняемая его подчиненными работа. Он, не затрачивая на них ни грамма (если так можно выразиться) душевного здоровья, умудрялся одним жестом, одним движением бровей, одной негромкой, но ясной фразой привести в трепет самого отпетого бездельника. В армии солдаты, сержанты и младшие офицеры боялись Глотова до судорог, так же, как боялись его родные дети, Катя и Степа. Глотов же относился к своим подчиненным по-отечески. Было ясно, что устраиваться нужно только начальником, но таким, который ни за что не отвечает. Вот в чем была щекотливость положения. Нельзя сказать, что Глотов не любил или не умел подчиняться, но он должен был при этом и сам командовать. Другому он не был обучен. Словом, он был идеальным представителем так называемого среднего звена. К тому же предполагаемая работа его не могла быть удалена от дома более чем на три километра, чтобы дорога пешком неторопливым шагом не занимала более тридцати пяти минут. В городском транспорте, особенно в часы пик, Глотову ездить было категорически запрещено. Таким образом, эмпирическим путем родилась идея о военизированной или межведомственной охране. Ну, и следующим логическим шагом было устройство Глотова начальником команды служебного собаководства, на ту самую водопроводную станцию, куда для прохождения дальнейшей службы был переведен контуженный на границе и ослепший на один глаз, огромный беспородный пес Норт. Константин Константинович Глотов ни разу ни на одну минуту не опоздал на работу. Он и не мог опоздать. Вся его жизнь и жизнь его семьи была спланирована и построена так, что опоздание было полностью исключено, потому что само по себе опоздание, а также связанные с ним волнения и спешка могли травмировать и без того истощенную нервную систему Глотова. Ложился спать Глотов никак не позже 22 часов по будням и во столько же по выходным дням и праздникам. Конечно, он мог бы в праздники лечь на час позже и встать, соответственно, позже на тот же час, но к чему подвергать организм перестройке без крайней на то нужды?.. Ну что, скажите на милость, даст этот несчастный час? Что он может изменить? А для нервной системы все-таки сшибка. А против сшибок поднимают свой голос все невропатологи и психиатры. И даже терапевты этих нервных сшибок не одобряют. И во сколько должен ложиться человек, который каждый день встает в шесть часов? Ведь меньше восьми часов даже здоровым людям спать не рекомендуется. Да и детям тоже полезно пораньше лечь. Телевизор смотреть допоздна вовсе не полезно. Ну, а жена может ложиться во сколько ей вздумается. Она взрослый человек и должна уметь распределять свое свободное время самостоятельно. От нее ведь только и требуется, что приготовить утром чай, сварить одно яйцо всмятку и накрыть на стол. Глотов не был привередлив в еде. Напротив, вот уже двадцать лет он съедал по утрам одно яйцо всмятку с двумя тонкими кусками хлеба, намазанного маслом, и выпивал две чашки не очень крепкого, но непременно свежезаваренного чая. Только после такого неторопливого, вдумчивого завтрака, с непременным прочтением третьей полосы газеты «Красная звезда», у Глотова начинал функционировать кишечник, и он довершал свой утренний ритуал в туалете. Строжайшим образом в его доме было запрещено: 1. Издавать какие-либо звуки после 22 часов, особенно в первый и второй час его сна, потому что если Глотов просыпался именно в это время, то ему грозила мучительная бессонница, которая выбивала его из колеи на целую неделю и глубоко травмировала его нервную систему; 2. Рваться в туалет в то время, когда там находился хозяин дома. Это сбивало весь настрой и спазматически действовало на его кишечник, что тоже приводило к недельному расстройству и желудка, и нервной системы. За этим особенно строго следила Лидия Антоновна. К чести семьи Глотова нужно сказать, что все эти несложные правила соблюдались в его доме неукоснительно. Его дети, как бы ни заигрались в своей комнате, никогда не забывались настолько, чтоб громко крикнуть или уронить что-то на пол. Они совершенно безропотно ложились спать вовремя и, прежде чем дернуться в туалет, останавливались как вкопанные на полном скаку и смотрели на положение наружной щеколды, на выключатель или на полоску света внизу под дверью. Хитрый Степа бежал в такихслучаях в ванную, включал воду и справлял там свою малую нужду. Катенька же тихонько становилась в сторонке и терпеливо ждала, не сводя глаз с двери и переминаясь с ноги на ногу. Совершив все предписанные устоявшимся утренним ритуалом действия, Глотов неспешно и тщательно, по погоде (прогноз прослушивался им лично по репродуктору не менее двух раз), одевался и ровно в двадцать минут восьмого выходил из дома. Зимой в гололед он выходил в семь часов пятнадцать минут. Это позволяло ему являться на водопроводную станцию за десять минут до развода дежурной смены, т.е. до начала его, Глотова, рабочего дня, установленного им самим же. Прошлый начальник, тоже отставник, ветеран ВОВ Трохимчук, приезжал на работу к девяти, а развод смены производил с 9 до 10 часов. Трохимчука, умершего в дежурке во время послеобеденного сна, все старожилы к месту и не к месту поминали добрым словом. Глотова не любили ни старички, ни молодежь, но боялись и те, и другие. Глотов очень бы удивился, узнав, что он живет по принципу одного древнеримского императора, который в свое время заявил: «Пусть не любят, лишь бы боялись». Никакими особыми принципами Глотов в своей жизни не руководствовался. Просто ему было безразлично — любят его или ненавидят подчиненные. Он вовсе не замечал их оценки и был совершенно недоступен для любых неуставных отношений. Он не испытывал никаких эмоций к своим подчиненным. Изредка лишь на его непроницаемом лице возникало удивленное выражение. Это случалось, когда его распоряжения не выполнялись или подвергались сомнению. Глотов в таких случаях изумленно поднимал брови, смотрел на виновного, как на камень или кусок арматуры, о который споткнулся, и автоматически назначал провинившемуся меру наказания, предусмотренного инструкцией. И каждый раз ему было невдомек — как это люди решаются на проступок, если им заранее известно наказание. Надо ли добавлять, что собак он вообще как бы не видел. В тот день, когда пограничник ефрейтор Ломазов привез на станцию Норта, Глотова так беспокоил и раздражал долгий и надоедливый лай собак, что он вынужден был вставить в уши по куску ваты и только после этого смог продолжать оформлять документы по приемке на довольствие беспородного кобеля черной масти по кличке Норт. Все утро 7 ноября Глотова не покидало странное чувство… Это была не тревога, не тяжелое предчувствие, не обида. Это было какое-то неосознанное и необъяснимое раздражение. Словно он забыл что-то, правда, не очень важное, но и не совсем пустяковое. Словно он укололся о кактус, и невидимый кончик иголки остался в пальце, в самой подушечке, и мешал. Ничего страшного вроде бы и не случилось, но неприятно, раздражает… И вытащить невозможно ни зубами, ни ногтями. Совсем крошечный кончик… Но мешает, портит настроение. Глотов без всякого удовольствия посмотрел военный парад, потом физкультурный. Ему не понравилась форма физкультурников и физкультурниц. Не понравились ему упражнения с мячами и обручами. Правда, выступления акробатов он одобрил. Он даже не стал смотреть демонстрацию и выключил телевизор. Во всем доме, и сверху и снизу, и через стенку, слышалась бодрая музыка и приветственные выкрики демонстрантов, а в квартире Глотовых стояла напряженная тишина. Дети ходили на цыпочках и украдкой поглядывали на телевизор. Жена Глотова, Лидия, осторожно, стараясь не бренчать, мыла посуду. Сам Константин Константинович прилег на диван с праздничным номером газеты «Красная Звезда», но читал недолго. Заметки показались ему скучными, неувлекательными. Он сложил газету и, поднявшись с дивана, обвел квартиру строгим, прямым, как луч прожектора, взглядом. И все, кто попадал под этот взгляд, невольно втягивали голову в плечи. На счастье домашних, никакого беспорядка Глотов не обнаружил. Тогда он, чтобы не оставаться стоящим посреди комнаты, подошел к платяному шкафу и вытащил свой содержавшийся Лидией в безупречном порядке парадный мундир со всеми орденами и регалиями. Неожиданно для самого себя переодевшись, Глотов надел на мундир шинель, фуражку и направился к выходу. Встретив удивленный взгляд Лидии, он, ни на секунду не задумываясь, объяснил: — Пойду на станцию, посмотрю, как там дела… Слова эти сорвались с его языка совершенно непроизвольно, так как минуту назад, начав примерять форму, Глотов не знал, что выйдет в ней на улицу, и, уже начав выходить, он еще не знал, зачем он идет. И только услышав свой ответ жене, он понял, для чего совершил этот ряд действий. И тут же Глотову стало ясно, что ему совершенно необходимо на станцию, что именно это он чуть было не забыл. Двигаясь размеренной и твердой походкой по привычному маршруту, он осознал, зачем именно он туда идет: обязательно нужно было проверить, как несет дежурство этот разгильдяй и нахал, предлагающий ему ужин в «Арагви» за нарушение графика. Этот купеческий сынок, уверенный, что за деньги все продается и все покупается, что его, Глотова, можно соблазнить французским коньяком. И как только он это понял, складка на его переносице дрогнула и пропала, тень раздражения сошла с его чела, и мышцы лица расслабились. Он почувствовал облегчение, будто кто-то взял тончайший пинцет, под сильным увеличительным стеклом разглядел занозу и одним легким и точным движением бесчувственно вынул ее из пальца. И теперь можно было трогать и мять подушечку другими пальцами и ощущать лишь приятный след боли. Поняв, кто был причиной испорченного праздника, он сильно рассердился на этого наглого юнца. Глотова раздражала не столько сама попытка подкупа, сколько то, что этот «грузинский князек» с легкостью готов был заплатить тридцать, а то и все пятьдесят рублей за такую пустяковую услугу. Глотов вошел на территорию станции через проходную и пошел прямо к кухне. Он был совершенно уверен, что котлы, в которых варилась собачья похлебка, после утренней кормежки остались грязными. Он был убежден, что этот князек, направо и налево разбрасывающий полусотенные бумажки, так прямо и варит в жирных, вонючих, закопченных котлах, к которым намертво пригорела перловка. Приятно размышляя таким образом, глядя ровно перед собой и печатая шаг начищенными офицерскими полуботинками, он двигался в глубь станции. И тут из-за поворота навстречу ему такой же мерной, строевой походкой вышел Норт. Глотов внутренне окаменел, в то время как ноги его продолжали по инерции двигаться в том же темпе и направлении. Норт, увидев человека в форме и узнав в нем начальника, внутренне оживился, но воспитание и огромное собственное достоинство не позволили ему с щенячьей непосредственностью броситься навстречу начальству. Он даже не ускорил шага, и только шевельнувшийся хвост мог выдать внимательному наблюдателю истинные чувства пса-ветерана. Когда между ними осталось несколько метров, Глотов остановился, вытянув руки «по швам» и плотно прижав их к телу. Остановился и Норт. Он прямо и вопросительно поглядел на Глотова. От того никаких действий и команд не последовало. Норт нервно зевнул, словно хотел сказать: «Ну? Что? Да говори же, наконец! Что молчишь?» До Глотова, который до сего момента просто не замечал вверенных ему собак, так и не дошел смысл происходящего, и все его тело от страха покрылось обильным потом. Закричать, побежать, влезть на дерево он не мог по двум причинам: во-первых, где-то глубоко в памяти хранилось правило «не беги от собаки», а во-вторых (и это главное), ему не позволял так поступить мундир. Не будь он в мундире, Глотов наверняка не устоял бы на месте, несмотря на все «собачьи» правила. У него вдруг сами собой, непроизвольно напряглись ноги, вот-вот готовые сорваться с места и понести его, не разбирая дороги, но он удержал их, и на это ушло столько душевных сил, что Глотов облился второй волной пота. Она была обильнее первой. Он почувствовал, как пот стекает с висков по щекам на гладко выбритый подбородок и ручьем бежит по желобку на спине. Норт, почуяв сильный запах страха и убедившись, что перед ним не враг, но и не друг, еще раз, но уже презрительно зевнул, неторопливо повернулся и оскорбительно расхлябанной походкой потрусил назад. И тут из-за поворота показался напевающий веселую грузинскую песенку Ираклий Мелашвили. Он шел и беззаботно жонглировал тремя маленькими зелеными мандаринками, присланными ему дядей из Сухуми. «Чтобы ты не забывал родного запаха. А кушать будешь позже…» — так было написано в сопроводительном письме. Мандаринки постоянно падали и шустро раскатывались но сырому черному тротуару. Завидев Ираклия, Норт крутанул хвостом и тяжелым галопом двинулся к нему навстречу. Добежав, он стал прыгать, делая вид, что хочет поймать мандаринки. Ираклий весело бранился по-грузински и просил не мешать ему жонглировать. Он говорил, что собирается поступить в цирк клоуном, что такого старого и глупого пса туда не возьмут, потому что он ничего не умеет, а только мешает, что если он будет хорошо вести себя и не мешать тренироваться, то, может быть, Ираклий возьмет его с собой в качестве скакуна, и он будет работать вороным кабардинцем, и что они могут попробовать прямо сейчас… Ираклий весело попытался оседлать Норта, а тот весело увернулся… Увлеченный игрой Ираклий не заметил Глотова. Он не увидел, как тот некоторое время наблюдал за ними, потом четко, по-строевому развернулся и пошел прочь, так и не сказав ни одного слова. Девятнадцатого декабря Глотов пришел домой с работы и не нашел ни жены, ни детей. На столе лежала записка: «Я ушла от тебя. Пока мы не разменяемся, я буду жить у мамы. Пожалуйста, не преследуй меня. Из этого ничего хорошего не получится. Ты только вынудишь меня скрываться. На работу не звони и не приходи. Там одобряют мое решение. Я позвоню тебе сама, когда смогу. Прости меня, но от алиментов я не откажусь. Без них я не смогу поднять детей. Я считаю, что я заслужила эти деньги. Семнадцать лет я на тебя батрачила… Лида». Глотов, не раздеваясь и не снимая шапки, присел за обеденный стол, прочитал записку еще два раза, потом поднялся, открыл дверцы шкафа, перебрал свою одежду (другой в шкафу не оказалось), заглянул под кровать и с удовлетворением убедился, что и чемоданов нет, вышел в прихожую и прощупал все вещи на вешалке. Ни Лидиных, ни детских вещей там не оказалось. Тогда он вернулся в комнату, выдвинул ящик серванта, достал полиэтиленовый пакет, где хранились документы, гарантийные талоны и паспорта на бытовую технику, перелистал все по листочку. Ни одной бумажки, свидетельствующей о том, что у него (не когда-то, а вот сейчас, еще утром) была жена, там не обнаружилось. Он снова вернулся в прихожую и в дальнем углу тумбочки для обуви нашел старые домашние тапочки жены с оторванным помпоном и с ободранными, лохматыми носами. Он взял тапочки в руки и долго крутил, рассматривая. Вспомнил, что эти тапочки подарила жене теща на 8 Марта. Он вспомнил, что в тот праздник принес жене букет мимозы, честно отстояв за ним полтора часа на улице Горького. Он всегда покупал цветы на 8 Марта и всегда покупал в магазине на улице Горького. Он, все еще не раздеваясь, прошел в комнату и опять присел к столу, поставил на него драные тапочки и в который раз медленно перечитал записку. Сложил ее и сунул в карман тяжелого пальто, сшитого из перекрашенного в черный цвет плотного офицерского сукна. Время было обеденное (обедал он всегда в одно и то же время, в шесть часов), и Глотов, прислушавшись к себе, понял, что ему хочется есть. Он прошел на кухню. На плите стояла открытая пустая кастрюля с прилипшим лавровым листом и кусочками свеклы — все, что осталось от борща. На сковородке валялась половина котлеты и горстка засохших рожков. В мойке вкривь и вкось лежала беспорядочно сваленная посуда. Он заглянул в холодильник. Кроме скользких сосисок в сморщенном целлофане и пожелтевшего майонеза на дне банки, он ничего не нашел и отстранение удивился, что еще утром все было — и еда, и порядок, и чистота. И это было настолько привычно, что он и не замечал этого. В последнюю очередь он заглянул в комнату детей. По всему полу были рассыпаны старые цветные карандаши с обломанными грифелями. Занавеска на окне была сорвана и висела на одном крючке сбоку. Глотову захотелось сорвать занавеску и накрыть ею кровать с залежанным серым бельем. Он шагнул к окну, нога его поехала на карандашах, как на роликах, вперед, и он упал на спину. Карандаши брызнули из-под него во все стороны, как живые. Он сильно стукнулся затылком, но не почувствовал боли. Его защитила плотная офицерская шапка. Он не сразу понял, что произошло. Он лежал и рассматривал потолок, трещины в углу около окна, люстру. К ее рожкам были привязаны два спущенных шарика, вяло колышущихся в воздухе, который он привел в движение своим падением и резким взмахом левой руки. Правая его рука так и осталась в кармане пальто. Она судорожно сжимала прощальную записку. Какое-то время спустя в бегущих по потолку горящих строчках он прочел точную причину всего случившегося. Такие строчки он видел на некоторых зданиях Москвы. Он всегда останавливался и добросовестно считывал рекламу Госстраха или кинопроката. Он закрыл глаза, обдумал все как следует, похрустел бумажкой в кармане, поднялся, подошел к зеркалу, поправил шапку и шарф и вышел из квартиры, тщательно, по обыкновению, заперев оба дверных замка. Он вышел из подъезда, придержав за собой дверь на тугой пружине, и, четко отмеряя левой рукой шаг, а правую держа в кармане с запиской, двинулся исправлять положение и восстанавливать справедливость. Несгибаемый человек… Он не согнулся. Он сломался. Жена Глотова узнала о несчастье, случившемся с мужем, в тот же день и не мешкая отправилась в психиатрическую больницу имени Ганнушкина в Сокольники на Потешную улицу. Ничего утешительного ей там не сказали. Буйных припадков у Глотова с того дня больше не было. Он всех узнавал, понимал, где он и почему. Единственное, в чем выражалась его болезнь, — это в невероятном аппетите. Он съедал все, что давали, просил добавки, подъедал на тарелках за больными, опустошал больничные холодильники в других отделениях, воровал у лежачих больных их порции. Надо ли говорить, что он в один присест уничтожал передачи, которые два раза в неделю приносила ему жена. Она вернулась в их квартиру и считала себя виноватой в болезни мужа. Врачи запрещали ей носить такое количество продуктов, но она, подкупив сердобольных нянечек, передавала Глотову еду тайком. Она посещала своего мужа по утрам. С работы ей уйти было легче, чем выкроить от детей время вечером. В тот день, попрощавшись с ним как обычно, Лидия Антоновна, по заведенному ритуалу, подошла под окна десятого отделения, где лежал Константин Константинович, помахала ему рукой и деловой походкой пошла прочь. Константин Константинович послал ей воздушный поцелуй. Едва скрывшись за углом, Лидия Антоновна оглянулась по сторонам и торопливо, почти бегом, направилась не на трамвайную остановку, а вокруг третьего корпуса обратно в проходную. Снова поднялась на второй этаж и робко постучалась в дверь заведующего отделением. Там она долго запиналась и краснела перед молодым ясноглазым, украшенным чеховской бородкой заведующим и наконец рассказала, что супруг ее, Глотов, сегодня во время свидания, когда они оказались вдвоем, пытался пробраться рукой к ней под юбку и делал это так настойчиво, что чуть не порвал шерстяные рейтузы и колготки. Потом он через ворот свитера пытался добраться до груди и растянул ворот невероятно. Она при этом оцепенела и чуть в обморок не упала от страха… — Гм-гм, — молодой заведующий прямо посмотрел ей в глаза. — Нечего тут бояться… Физически ведь ваш муж совершенно здоров. Даже наоборот, отдохнул у нас, набрался сил. Вынужденная изоляция… Вы часто расставались? — Бывало, — тихо ответила Лидия Антоновна. — Ну вот… Вы же сами все прекрасно понимаете. То, что вы сообщили нам о его реакциях, это хорошо, но уверяю, тут не о чем волноваться. Дело житейское… Что вас, собственно, смущает? — Да, но… — она снова замялась. — Он этого не делал никогда в жизни… — А в молодости, — поднял брови заведующий, — когда вы только начинали сближаться? — И в молодости тоже не делал, — окончательно смутившись, сказала Лидия Антоновна. — Он всегда в этом отношении был очень стеснительным человеком. А так чтобы под юбку…ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ФОМИН
Сторож дачного кооператива Фомин воровал не ради наживы. Он считал, что не украсть там, где можно украсть, — глупо и даже безнравственно. Это значит гнушаться тем, что случай сам посылает в руки, впадать в гордыню и испытывать судьбу. По тем же соображениям он не отказывался ни от какой халтуры, а халтуры в дачном кооперативе «Резистор» было достаточно. Про Фомина знали, что он крадет, и это было очень удобно. Когда его звали, чтоб подправить штакетник, или вскопать грядки, или врезать замок, хозяйка просто убирала все с его пути и с рабочего места, а потом стояла и молчаливо наблюдала, как он работает, и провожала до калитки, чтобы он ничего не прихватил по дороге. Зато долги Фомин платил регулярно. И никогда в жизни не трогал прибранную или тем более спрятанную под замок вещь. И всегда легко возвращал украденное. Никто в поселке не знал, сколько Фомину лет. Сам он помнил, с какого он года, но неточно. То ли с тридцатого, то ли с тридцать первого. Он помнил, что где-то было напутано, то ли в свидетельстве о рождении, то ли в старом паспорте… Его новый паспорт лежал у начальника паспортного стола, в поселковом отделении милиции, в сейфе. Когда меняли паспорта, он его просто не получил. Паспорт Фомину был не нужен. Участковый уполномоченный Васильев сказал ему: — Обязательно зайди и получи паспорт. Что такое, понимаешь? Как можно жить без паспорта? — А на хрена он мне? — спросил Фомин. — Как это, на хрена? Ты мне эти разговорчики, понимаешь, брось! Или ты не советский гражданин, как все? А если поехать куда, или по почте чего получить. В милицию наконец попадешь… Паспорт — вещь необходимая, предписанная паспортным режимом, и не тебе его отменять! — А если не поеду и не попаду? — Катись ты… — вспылил Васильев. — Остряк, понимаешь, нашелся. Они были одногодками, учились в одном классе, но в последние лет десять-пятнадцать перестали понимать друг друга. Вернее, силился понять и не понимал своего бывшего дружка Васильев, а Фомин и не стремился понять Васильева. Он просто о нем не думал. Жил Фомин в сторожке. Когда-то у него был дом, порядок в котором поддерживала старушка мать. Фомин по роду своей службы должен был ночевать в сторожке на территории кооператива. Днем он обычно приходил домой и немного спал, потом снова уходил сторожить. Когда мать умерла, он окончательно перебрался в сторожку. А собственный его дом постепенно ветшал и разваливался. Он стоял с выбитыми стеклами, продуваемый всеми ветрами. Фомин даже окна не потрудился досками заколотить. Дома ему жалко не было. Дом ему был не нужен. Хватало сторожки. Сторожил он добросовестно — и три, а то и четыре раза за ночь обходил поселок. Обходы он совершал вместе с двумя своими собаками — Джеком и Найдой. Джек, большой гладкошерстный пес, явно имевший среди своих предков русских гончих, бесшумно скользил между заборов, задерживаясь около каждого кустика и столбика. Он метил свою территорию, куда входил весь дачный поселок. Он любил, безраздельно уважал и понимал Фомина. Эти ночные обходы ему нравились и напоминали охоту. Найда, маленькая бородатая сучка, нелепая помесь фокстерьера с болонкой, была скандальна по натуре и этих ночных обходов не любила. Она их боялась. Как только Фомин начинал собираться и брал малокалиберную винтовку и допотопный карманный фонарик с треснутым стеклом, Найда начинала жаться к порогу, дрожать тщедушным тельцем и подскуливать. Борода ее при этом жалко, по-стариковски тряслась… Она не хотела идти на обход. Никто ее и не понуждал, но она вставала и шла. Все собаки поселка считали своим долгом ее облаять. Найда же молчала. Зато днем она брала свое. Громче, заливистей и противней ее лая в поселке не слышали. Фомин любил эти ночные обходы. Он разработал несколько маршрутов, и на каждый час ночи у него был свой… В первую стражу он шел прямо к даче профессора Курьева, где по вечерам в беседке играли в преферанс и пили пиво или вино. Фомин, каждый раз останавливаясь перед беседкой, говорил свое неизменное: — Какой счет, профессор? И профессор ему неизменно отвечал: — Семерная без трех на бомбе… И наливал стаканчик вина, который Фомин выпивал манерно, глоточками, после чего благодарственно замечал: — На шару и уксус сладок… На это замечание профессор гмыкал, подмигивал своим партнерам и говорил: — Хорош гусь! «Напареули» для него уксус! Затем Фомин шел на соседнюю улицу, где была дача одинокой врачихи Гвоздеевой. Гвоздеева была примерно одного с ним возраста, высока, дородна, беспрерывно курила, читала книги и пила кофе. Завидев Фомина, она говорила низким прокуренным голосом: — Только уберите своих животных, Фомин. Они потопчут мне клумбы. Из всей растительности на ее участке приживались только цветы. Однажды Фомин для интереса посадил у нее огурцы. Огурцы выросли и даже зацвели, но почему-то не завязались. Только один сморщенный, крючковатый, колючий огурчик вырос. Фомин откусил от него и выплюнул. Огурчик был горше перца. — Полейте мне дальнюю клумбу, Фомин, только лейте поаккуратнее. Вы в прошлый раз мне все цветы вымыли. — Так оно же с напором, — говорил Фомин и шел за шлангом. — А вы вверх, вверх лейте, дождичком, не в одно место… — Ага, — говорил Фомин, — помахивать надо, понимаю… Пока он поливал, собаки сидели за забором и следили за каждым его движением. Полив грядки, Фомин подходил к круглому столику, где уже стояла стопка спирта, и на тарелке лежал бутерброд с дорогой и твердой копченой колбасой. — Только прошу вас, сядьте, Фомин, — с брезгливой гримасой говорила Гвоздеева, — что за привычка пить стоя. — Лучше пить стоя, чем умирать на коленях, — ухмылялся Фомин и, не выпуская из поля зрения стопку, волочил по земле плетеный скрипучий стул. — Только ради Бога, перестаньте острить, — еще брезгливее морщилась Гвоздеева и закуривала новую беломорину. Фомин выпивал спирт, долго и шумно дышал, выпучив глаза и открыв рот, а потом, закусив бутербродом и жмурясь от удовольствия, бубнил с полным ртом: — Я ничего не понимаю, Клавдия Витальевна… Вы такая видная женщина… Все при вас — и дача, и зарплата, и вообще… Сами из себя еще ничего. И все равно тоска и одиночество, а из удовольствий — одни книги. А есть некоторые мужчины, которые… — Ой, только не надо, не надо, Фомин! Я на работе так устаю от глупостей… Ешьте молча. Кстати, я тут на веранде оставляла книжку… — По женской функциологии? — радостно подхватывал Фомин. — Прочитал, прочитал, полезная для общего развития вещь. — Когда вы перестанете нести эту жеребятину, Фомин? Ну как не надоест? И кто вам позволял брать эту книгу? — А как же! — искренне удивлялся Фомин. — Так ведь лежала… — Ну и что? Мало ли что и где лежит, — устало говорила Гвоздеева. — Как, ну и что? А дождик?! — Так она на веранде лежала, под крышей. — А если косой дождь? — хитро щурился Фомин. — Ну хорошо, хорошо, только не забудьте принести. — На память не жалуемся! Чего ей, памяти, с одной-то рюмочки? — браво рявкал Фомин. — Ступайте, ступайте, Фомин, мне нужно читать. Фомин доканчивал маршрут первой стражи, шел в сторожку, ложился на панцирную кровать, устланную тремя ватными матрацами, и дремал, поджидая и предвкушая второй обход… Счастливый человек… Все три ватных матраца на кровати Фомина были разного цвета и происхождения. Нижний матрац в красную полоску с огромной, прожженной папиросой дырой Фомин утянул из рабочего поселка, где он висел на турнике возле общежития трикотажной фабрики. Фомин про себя думал так: «Матрац прожгли, залили водой и вывесили сушиться». Фомин подошел и аккуратно скрутил его в трубочку. Он вынул из кармана пиджака обрывок веревочки, туго перевязал матрац, взвалил его на плечо и не спеша пошел в дачный поселок. Щедринка когда-то раньше была богатой деревней, принадлежавшей большой барыне, известной своей строгостью. После отмены крепостного права земли вокруг деревни скупила компания купцов, нечувствительно для себя перерождающихся в промышленников. Постепенно и обветшалая усадьба перешла из рук обнищавшей семьи Щедриных к одному из купцов, некоему Трофимову Игнатию Севастьяновичу. Трофимов перестроил ее в соответствии со своим вкусом и приспособил под дачу. Все флигели и служебные пристройки, включая некогда грандиозные конюшни, псарни, летние чайные и прочие павильоны, Трофимов оборудовал под жилье и сдавал летом дачникам, что, собственно, и послужило началом дачной славы этого места. После революции деревня около трикотажной фабрики начала неуклонно превращаться в рабочий поселок. Земельные наделы бывших крестьян, естественно, усекались и превращались в приусадебные участки. Жители поселка жили теперь не с земли, а с фабрики. Но уклад их жизни долго оставался крестьянским. Разница была лишь в том, что теперь, встав засветло, похлебав щей и поев жаренной на домашнем сале картошки с луком, люди шли не в иоле, а на фабрику. После революции усадьба Щедриных опустела, стала ветшать и разрушаться. Постепенно в сознании жителей поселка она превратилась в подобие склада строительных материалов и запчастей. Скажем, прогорала у хозяина вьюшка печная, или сломался шпингалет на окне, или потребовалась дверная ручка, хозяин брал топорик, шел в усадьбу и отдирал то, что ему приглянулось. При этом он даже испытывал определенное моральное удовлетворение, так как пропадающая втуне вещь приносила очевидную пользу. Фабрика начала бурно расширяться. Вместе с фабрикой рос и поселок. Вскоре в нем появились двухэтажные барачные постройки, кирпичное с колоннами фабричное управление, больница, собственная пекарня, чайная у дороги, магазины, небольшой базарчик, словом, все, что положено иметь поселку городского типа. Неподалеку от разрушенной усадьбы в тридцатые годы образовался дачный поселок. Его основателями были люди, прикипевшие в былые времена душой к этому месту. Поселок бурно разрастался, и каждое лето в начале дачного сезона окрестные сосновые леса и березовые рощи наполнялись детскими голосами и женским смехом, как погремушка горохом… Потом была война, потом наступили трудные для дачников времена. Стало считаться, что иметь дачу плохо, а порой и преступно. Потом и эти времена прошли, и вновь владение дачей, разведение сада и огорода было признано делом полезным, и возле старого дачного поселка, имя собственного не имевшего и прозывавшегося вкупе с рабочим поселком Щедринкой, вырос садово-дачный кооператив, названный в честь очень важной и популярной в ту пору радиодетали «Резистором». Дачный кооператив хоть и занимал площадь поменьше, чем старый дачный поселок, был населен куда гуще. В силу молодого возраста членов-пайщиков он был энергичнее и жизнеспособнее. Он примыкал одним своим боком почти вплотную к территории фабрики, зато другая его сторона вклинивалась в не тронутый застройщиками лес. Это радовало. Да и не к самой фабрике примыкал «Резистор», а к общежитию — пятиэтажному кирпичному зданию, окруженному спортивными и детскими площадками, где Фомин и стянул свой нижний матрац в красную полоску с черной дырой посередине. Когда Фомин стянул прожженный матрац из общежития, у него уже имелось два целых. Корысти в этом матраце ему было немного. Он решил положить прожженный в самый низ, чтоб дыра не чувствовалась. Верхний матрац ему достался от упоминаемой генеральши, когда та привезла на дачу новую мебель. Средний матрац остался у Фомина после смерти матери. Он его приволок из своего дома. Дом его стоял недалеко, на краю рабочего поселка. При домике был довольно приличный по нынешним временам участок — двадцать пять соток. После смерти матушки в 1971 году осенью, Фомин даже картошку до конца не выкопал. Участковый Васильев, явившийся на поминки без формы, выпив стопку водки и обняв своего школьного дружка за плечи, проникновенно сказал: — А картошку мы тебе с Валей поможем выкопать… — Тебе нужно, ты и копай… — безразлично предложил Фомин. — А тебе, понимаешь, не нужно, да? — А на хрена она мне? — А жрать что будешь? — . Все равно я ее чистить не могу. Хочешь — копай. — А как же ты, Вася? — А так… Вермишели в воду бросил — вынул и сыт. — Я не о том… Как же ты без матушки… Кто приготовит, постирает? Участковому Васильеву почему-то и в голову не приходило, что его дружок может жениться, хотя было Фомину в то время ровно сорок лет. Вскоре Фомин окончательно переселился в сторожку, где у него хранился всевозможный инструмент, пустые пыльные бутылки, собранные по всему поселку и сдаваемые Фоминым раз в месяц в магазине на станции. Фомин тщательно их перемывал, аккуратно расставлял в разнокалиберные ящики и коробки, грузил ящики на ручную тележку собственного производства на четырех колесиках от детских велосипедов и торжественно вез на станцию. Второй обход ценился Фоминым выше чем первый, но ниже чем третий. Второй обход он начинал в 23.30 и заканчивал в 0.30. Перерыв между вторым и третьим составлял час-полтора. В этот перерыв он спал и просыпался без будильника. Четвертый, и последний обход он совершал с 4.30 до 5.30 Об этом последнем обходе разговор особый. Итак, Фомин в половине двенадцатого поднимался со своей панцирной кровати с тремя ватными матрацами, брал электрический фонарь, театральный перламутровый бинокль, надевал неизменный пиджак, рассовывал по карманам сигареты и спички и выходил из сторожки. Собаки молчаливо следовали за ним. Причем Джек с неизменным удовольствием, а Найда, как всегда, через силу. Джек со временем научился так распределять свои возможности, что в каждый из обходов умудрялся что-то пометить. Найда же была собака «скрадчивая, подкожная», как называл ее Фомин, и о ее личной и тем более интимной жизни никто ничего не знал. Она даже питалась отдельно от Джека. Фомин своих собак не кормил вообще. Разумеется, когда кто-то из дачников давал ему кулек с куриными костями или прокисшими котлетами «для собачек», он не поедал это сам, но собственноручно ни разу ничего собакам не купил и не сварил. Больше того, сама мысль готовить собакам показалась бы ему более чем странной. Он и для себя-то готовил не чаще двух раз в месяц. Да и что это была за стряпня?.. Он варил в алюминиевой кастрюле на электроплитке суп из пакета или рожки. Рожки он поливал постным маслом, посыпал сахаром и ел прямо из кастрюли. С супом он управлялся подобным же образом. Тарелки в его сторожке были, но пользовался он ими редко, так как не любил их мыть, и поэтому тарелки стояли на подоконнике намертво слипшейся стопкой, и для того чтоб пустить их в дело, следовало сутки их отмачивать в каустике, потом ножом соскребать все, что осталось, и только потом мыть в десяти водах с горчичным порошком. Представить себе Фомина за этим занятием не позволяет даже самая необузданная фантазия. Фомин, мягко говоря, был неприхотлив в быту. Более того, он плевал на быт. Кормежка составляла крайне малую, периферийную часть его жизни. Он редко о ней думал и крайне редко предпринимал что-либо для того, чтобы прокормиться. Другое дело — питье. Было бы ошибочно думать, что Фомин был законченным алкоголиком. И все-таки пил он почти каждый день. В питье он, так же, как и в пище, был совершенно неприхотлив, или, уместнее сказать, неразборчив. Но если о пище он не думал, полагаясь в этом вопросе полностью на Провидение, то о выпивке он думал постоянно. И не только из-за необходимости, но и для удовольствия. Думать о выпивке, вернее, о ее приобретении, было для него наслаждением, как для других людей разгадывание кроссвордов или раскладывание пасьянсов. Жизнь, в этом смысле, ставила перед ним ежедневно все новые и новые задачи, решать которые было для Фомина смыслом существования, некоей сверхзадачей и одновременно удовольствием. И даже спортом, потому что всю естественную потребность человеческого существа в риске, азарте, выплеске сильных эмоций Фомин удовлетворял процессом доставания выпивки. На этом поприще он оттачивал свой ум, реакцию, углублял познания жизни, складывал по крупицам житейский опыт, учился приспосабливаться к любым, самым тяжелым обстоятельствам. Остается неразрешимой загадкой, как он не стал алкоголиком, когда все основания для этого были налицо. Подглядывание не было для Фомина сильной, главенствующей страстью. Это было, скорее, его хобби. Эротическую окраску этого своего развлечения Фомин явно преувеличивал, особенно перед молодежью. И его можно понять — он ничем другим и не смог бы объяснить эту свою привычку. Сам же про себя он думал, что любопытен от природы, как сорока, и не одобрял этого своего качества, поэтому вслух об этом никогда не говорил. Не одобрял же любопытства он потому, что считал его лишним для человека. Как, скажем, пуговицы на полах пиджака — нужны, а пуговицы на рукавах, да еще по три в ряд, — лишние. Он их не отрывал, но и не пришивал, когда они отрывались естественным образом. Второй обход Фомина был спланирован таким образом: он начинал его с тех улиц, где раньше ложились спать, то есть где раньше начинали стелиться, переодеваться, выяснять сложные семейные отношения… Он почти не задерживался около дач. Взглянет опытным тренированным глазом, и если ничего интересного не предвидится, идет дальше. Причем, все цели у него были «пристреляны». Подходя к очередной даче с заманчиво горящим окном, он сразу направлялся к заведомо выбранной, единственно удобной точке наблюдения. Он никогда и головы не поворачивал в сторону некоторых домов, потому что знал, там шторы плотные, люди въедливые и никогда ни единой щелочки в этих шторах не оставляют. К даче доктора Гвоздеевой он подходил во вторую, в третью, а то и в четвертую стражу. И каждый раз видел одну и ту же картину. Гвоздеева лежала на обширной своей кровати, разметавшись с книгой в руках, выставив из-под одеяла то одну большую, пухлую ногу, то другую, то обе вместе; а иной раз и вовсе откинув одеяло. Комаров она почему-то не боялась. Когда на даче Геннадия Николаевича появилась молодая супружеская пара, Фомину пришлось отыскивать пути к окошку на втором этаже. Он сперва попробовал залезть на дерево, но каждый раз не налагаешься, к тому же в кромешной тьме. Тогда он нашел выход. Рядом с деревьями, в их тени, стоял электрический деревянный столб, как и все столбы в поселке, посаженный на бетонный пасек. Он был притянут к четырехугольному, врытому в землю пасеку хомутами из толстой, свитой жгутом проволоки. Хомуты эти, служившие ему ступеньками, были на большом расстоянии друг от друга. Фомин не поленился принести и положить под столбом выкорчеванный с чьего-то участка пень и наложить между двумя настоящими хомутами третий — ложный, имеющий назначение быть дополнительной Ступенькой. Теперь он мог в любой темноте по этим хомутам, как по лестнице, подняться на четырехугольный торец пасека и оказаться на своеобразной смотровой площадке, на которой, правда, с трудом, но помещались оба его ботинка. И если Фомин обнимал одной рукой гудящий столб, то вторая рука у него оставалась свободной, и он доставал ею из кармана заранее настроенный перламутровый бинокль и с жадностью прикладывал его к глазам, сдвигая на затылок мешающую кепку. Корешочек мой закадычный, Ванька Васильев, любит сказать: «Незнание закона не освобождает от ответственности». Это что же получается? Они понапридумывают законов, а Фомин отвечай! Они завтра напишут, что мужики должны ссать сидя, а я — исполняй? А если буду стоя, так меня за цугундер? Нет, Ванюшка, на хрен мне сдались такие законы! Моя покойная мамаша, бывало, лоб перекрестит и просит у своего Бога — прости ты его, говорит, ради Христа (это она про меня), ибо не ведает, что творит. Вот это правильный закон. А то возьмем того же мусульманина. Он себе имеет штук пять жен и в ус не дует. А по нашему закону — он многоженец. Его судить за это будут. Так на хрена ему наши законы? Плевать он на них хотел. А Ванька говорит, что все равно высшая справедливость есть. А может, эта справедливость за мусульман или за евреев, или вообще за китайцев? Вот тогда нам мало не будет. Мы ведь хоть умри, ни одного китайского закона не знаем. А может, у них там положено ссать сидя, а мы все — стоя! Вот нас за это место виновное и притянут к ответу на том свете. Я как эти соображения милиционеру хренову высказал, так он аж затрясся… Он говорит, что тот свет тут ни при чем. А где, говорю, на этом свете твоя справедливость долбаная? Он в ответ пык-мык и заткнулся. Сказать нечего, и «да» хорошо, как моя мать-покойница говорила. А у Ваньки Васильева эти разговоры о справедливости с детства. Он с третьего класса задвинулся на этих разговорах. А какая тут на хрен справедливость? Да объяви ты эту справедливость завтра с утра по радио, так все в подвалы и погреба со страха попрячутся. У каждого рыло в пуху. И вообще, ее не может быть, этой Ванькиной справедливости. Ведь что для одного справедливо, для другого нож вострый. Правильно мать-покойница говорила, что трудом праведным не построишь палат каменных. А раз так, то на хрена и корячиться. Нужно, как в Писании сказано: птичка Божия не знает ни забот и ни хлопот, день-деньской она летает, а шамовки полный рот. Вот я по этому Писанию и живу и ни о какой другой справедливости не задумываюсь. От мыслей волосы вылезают. А тут день прожил — и хорошо! Будет день, будет и пища, а не будет пищи — и хрен с ней, без закуски обойдемся. А вообще-то я за вином не гонюсь. Будет — выпью, а не будет — хрен с ним. Убиваться не стану, как другие синюшники. И вообще я ни за чем не убиваюсь. Вот только без курева не могу. Сколько раз, когда ночью табак кончится, ходил на станцию бычки собирать. А что? Чего брезговать? Я же через мундштучок. Какая на хрен бактерия через мундштучок переползет? Вон когда чистишь спичкой, так оттуда прямо деготь каплет. Тут не только бактерия невидимая, тут сам глотни — коньки отбросишь. Капля никотина убивает лошадь. Ванька никогда не курил. Щеки-то у него вон круглые и румяные, как у бабы. И зимой и летом румяные. Только когда распсихуется, они у него белеют. У других буреют, а у него белеют. Все не как у людей. Когда он в тот день ко мне утром прибежал, то бледный был как смерть. Я испугался, что его в тот же миг кондрашка хватит. Мало того, что он меня разбудил после работы, так надо еще душу трясти, кто вчера был, что пили, куда подевались. Ну, были люди, зачем скрывать? Товарищи, которые не брезгуют, как некоторые, с Фоминым стаканчик дернуть, об жизни поговорить. А то некоторые кореша закадычные большим начальством стали, носом крутят. Все им пахнет не так… А у меня не парикмахерская, чтобы духами вонять. Хреновую, между прочим, моду мужики взяли, одеколонятся, как бабы, скоро губы красить начнут… Посмотришь на такого — с души воротит. А по мне лучше протухнуть, чем замерзнуть. Как это в пословице говорится — лучше яйца в йоту, чем в инее. А ради слабонервных я форточки настежь держать не буду. Не нравится — не нюхай. А я никакого такого запаха и не чую. Ну, от собак, особенно после дождя, немножко псиной подванивает, так это ничего — натуральный запах, никакой тебе химии… Перегар ему не нравится. Мы же ведь не духи французские пьем… Пахнет, видишь, ему! А мне плевать! Свое дерьмо не пахнет! В тот день, когда у госпожи Хурьевой-Пурьевой (это я ее так прозвал) кто-то кольца помыл, Иван впился в меня, как клоп. Кто был, откуда, когда ушли? А я знаю, когда ушли? Что я их, пасу, что ли? Я проснулся в одиннадцатом часу ночи, когда Джек с меня одеяло стащил. Он всегда меня будит, лучше любого будильника. Ну, продрал я глаза, смотрю — никого нет. И все пусто! Хоть бы глоток по ошибке оставили, заразы! Ни капли не выжмешь. Вылизывают они бутылки, что ли? А во рту, как кошки насрали… Тут бы глоточек бормотухи. Освежает лучше газировки. Организм сразу в жизнь включается. Хорошо, что у меня пачка «Примы» была припрятана, а то бы и ее искурили, а мне опять на платформу бежать… Послал я тогда Ваньку Васильева на хрен и снова спать лег. Я всегда сплю, если делать нечего. А чего зря топтаться? Вот если б халтура какая или кто пузырь поставил, тогда — другое дело. Васильев, как я ему и велел, сел на свой лисипед и поехал на хрен. Около окошка моего остановился и пригрозил, зараза. Моли, говорит, Бога, чтоб это не твои орлы кольца те помыли, а то притянут тебя как соучастника. Ну, я, понятное дело, пообещал помолиться. Пообещал даже при случае свечку поставить… Ему, Васильеву, в жопу. Горячим концом наружу, чтоб вытащить не смог и чтоб как стоп-сигнал она у него работала. У сторожа Фомина была любимая поговорка: «Волк по утробе вор, а человек — по зависти». Сообразуясь с этой поговоркой, он относил себя к волчьему племени, а свою ночную деятельность именовал охотой. Людей, крадущих ради корысти, он презирал. У него была своя жизненная программа, которой он гордился. Однажды он высказал ее Ваньке-дергунчику за бутылкой вермута: — Фомин — то, Фомин — се, Фомин воняет! А Фомин поумнее многих чистоплюев. Ну, суетятся так, что жопа в мыле, а что толку? Ну, жрут получше… А мне наплевать на жратву! Утробу набил — и ладно. Когда брюхо напихаешь под завязку, тебе уже все равно, что в нем лежит, от любой шамовки воротить начинает. А хаваешь-то минут десять. Вот и все удовольствие. Так буду я себе жилы рвать, чтоб десять минут во рту сухую колбасу держать, а не мокрую? Да в гробу я видел всю жрачку! И одежду! И в телогрейке тепло! Даже теплее, чем в шевиотовом костюме. И полежать на ней не жалко, и под голову подложить… И сплю я мягко, и ем на столе, и сижу на стуле, и не собираюсь рогом упираться из-за полированной мебели. А кайфа у меня и без того больше. Я свободный волк, а они рабы своего брюха, своих жен, детей, соседей, перед которыми им хочется выпендриться. Уж про начальство я не говорю… А главное — жизнь моя по сравнению с ихней надежнее. — Это точно! — поддакнул Ванька-дергунчик и потянулся за бутылкой. — Фуечно! —передразнил его Фомин, отнял бутылку и налил сам. — Не шестери! Собственной жене готов поддакнуть за лишний глоток. — Ну ладно, Вась, ты чего?.. Я говорю, правильно все! Ободряю! — Да как же ты можешь меня ободрять, когда в мысль мою проникнуть тебе не дано от природы? — Ну, ты… это… Я ведь тебя уважаю… — пробормотал Ванька-дергунчик, косясь на налитые, захватанные липкими пальцами стаканы. — А на хрен мне твое уважение? — усмехнулся Фомин. — Ладно, поехали, — наконец сжалился он, — все равно я тут перед тобой без пользы мудями воздух рассекаю! Они, чокнувшись стаканами, выпили, отщипнули от плавленого сырка. Ванька-дергунчик, перед тем как отправить сыр в рот, внимательно осмотрел кусочек и сковырнул с него зеленое пятнышко плесени. Фомин проглотил свой кусок, не разглядывая и почти не разжевывая, словно проиллюстрировал преданность своей социально-гастрономической теории. — Вот почему жизнь моя надежнее? — Он снисходительно взглянул на Ваньку-дергунчика. — Слушай и запоминай, пока я жив. Вот выдали мне в кооперативе телогрейку и тулуп — я доволен, тепло. А твоя Актиния Карповна (ее звали Аксиньей. Актинией про-» звал ее за характер Фомин, начитавшись в журнале «Наука и жизнь» про обитателей океана) купит себе шубу каракулевую и тоже вроде довольна и счастлива. А соседка ее и товарка Тонька Избыткова купит от отчаяния шубу нутриевую, лохматую, и у твоей от зависти желчь по нервной системе разольется. И если б не жадность, то она бы свое каракулевое манто в капусту порубила бы со злости. А потом их третья товарка, какая-нибудь Тютькина, себе норковую справит — и пошло… Они уже обе страдать будут. И могут до того дострадаться, что серной кислотой Тютькину обольют. И кайфу в их жизни никакого. Одни переживания. Если и позволяют себе какое-нибудь маленькое удовольствие, то тайком, под одеялом, чтобы кто чего не сказал… И так в страхе за колбасу и за лишние портки всю жизнь живут с оглядкой. А я никого не боюсь. У меня отнимать нечего. Делаю что хочу, от чужих слов не завишу. Наливай, Ванек. И забудь, что я сказал. Тебе эта философия ни к чему. Была бы она на бумаге, ты бы в нее колбасу завернул, а пока она в воздухе — от нее для тебя никакой пользы. Наливай! Ванька-дергунчик шмыгнул носом и вытер непрошенную слезу. Джек, стуча хвостом по полу, почуяв слезы, полуползком приблизился к лавке и ткнулся твердой тяжелой головой Ваньке в колени. Он всегда переживал, когда чувствовал запах слез. Найда в ответ на такое его действие ревниво заворчала из своего угла и тем самым заслужила от хозяина грозный окрик: — Смолкни, падаль завистливая! Найда истерично взлаяла, а Фомин запустил в угол только что опорожненную банку из-под килек в томатном соусе. Банка отскочила от стены и закрутилась волчком, разбрызгивая по полу остатки томатного соуса. Когда она остановилась, Джек неторопливо поднялся и стал методично слизывать красные пятна. Найда из своего угла, трусливо и глухо, одной грудью рычала. КИНИКИ, ЦИНИКИ (гр. kynikoi, лат. cynici) — последователи философской школы, основанной в IV в. до н. э. Антисфеном и названной по месту в Афинах, где происходило обучение (kynosarges); к. отвергали нравственные общественные нормы и призывали к аскетизму, простоте и возврату к природе, считая это средством достижения духовной свободы. ЦИНИЗМ (гр. kynismos) — бесстыдство, наглость, грубая откровенность, вызывающе-презрительное отношение к общепринятым нормам нравственности и морали. ЦИНИК — 1) циничный человек; 2) ЦИНИКИ — см. киники. (Словарь иностранных слов, М., 1984 г.) После второй стражи Фомин возвращался в сторожку около двенадцати часов ночи. Обычно он оставлял свет в сторожке, потому что кооперативного электричества ему было не жалко, а возвращаться, когда окна светятся, веселее. Так было и в тот день. Но, когда он вернулся, окна сторожки были темны. Как человек, не обладающий богатым воображением, он не был труслив и рассуждал так: «Или пробки перегорели, или лампочка накрылась… А другой нет. Хреново будет в темноте сидеть». Вынырнул из темноты Джек, подбежал было к сторожке, но что-то насторожило его, он замер и зарычал, вздыбив шерсть на загривке. Подкатила откуда-то из-за кустов Найда и, не разобравшись что к чему, залилась визгливым лаем. — Во, блин! — удивленно воскликнул Фомин. — Кто-то вперся. Он ни секунды не сомневался, что это кто-то из сегодняшних дружков-собутыльников вломился в сторожку и завалился спать на его матрацах. — Ну, блин! Сейчас я кому-то покажу, как без стука входить! Вперед, Джек! Когда вспыхнул в сторожке свет, сидевшая на кровати Анна Сергеевна сдавленно ахнула и закрыла лицо маленькими пухлыми ладонями. — Здрасьте, — ухмыльнулся Фомин. — Замолкни, падла! — крикнул он Найде и отшвырнул ее ногой в угол. Джек, узнав знакомый запах, приветливо размахивал тяжелым хвостом. — Кончай шестерить, — потрепал его по загривку Фомин. — Ты чего без света сидишь? — Я? — переспросила Анна Сергеевна и указала взглядом в угол, на обшарпанный канцелярский стол. — Я навестить тебя пришла, Вася… Стол был укрыт белоснежной скатертью, уставлен сервизными тарелками с красной рыбой, копченой колбасой, помидорами, яблоками, виноградом. Золотилась румяная корочка курицы, сверкала серебряная фольга на шампанском, и янтарным огнем мерцал коньяк. Какая-то зелень была навалена грудой. Стояли до неправдоподобия чистые рюмки и бокалы. — Ага, родительский день, — ухмыльнулся Фомин и сглотнул слюну. — А чего без света сидишь? — Я искала, чем окно занавесить… У тебя даже газеты нет, — слегка задыхаясь от волнения, не своим голосом произнесла Анна Сергеевна. — А на хрена мне занавешиваться? Я фальшивые деньги не печатаю. А ну пошел! — прикрикнул он на Джека, который потянулся носом к столу. — Ты смотри, скатерть, коньяк! Что, у тебя «чернила» кончились? — Понимаешь, Вася, я хотела как-то торжественно… — Ты бы оркестр наняла, вот было бы торжественно! Как на похоронах… — На эту тему нельзя шутить… — Она суеверно поплевала через плечо. — Васенька, давай хоть чем-нибудь окошко занавесим. — Да ладно, занавесим потом… — откликнулся Фомин. Он сколупнул коньячную пробку и кивнул на табуретку. — Давай, садись сперва. — Может, лучше стол сюда, к кровати придвинем? — смущенно предложила Анна Сергеевна. — Да кто тебя увидит… К стенке сядь, если так боишься… Тебе коньяку или «шампуню»? — Да не боюсь я ничего, Васечка, поэтому и пришла, — прерывисто, как дети после плача, вздохнула Анна Сергеевна. Она тяжело поднялась, и кровать со стоном и скрежетом выпрямилась. — Табуретки у тебя хлипкие… Анна Сергеевна все-таки настояла на своем, и они занавесили окно его старой рубашкой, подаренной ему кем-то из дачников. Только после этого Фомину удалось налить себе коньяка, а Анне Сергеевне — шампанского. Но едва он торопливо чокнулся и плавно понес рюмку ко рту, как внезапная мысль пронзила его, и он поставил рюмку на стол и въедливо прищурился на Анну Сергеевну. — Анюта, а с чего это ты приперлась, если выгнала меня и велела больше не приходить? Анна Сергеевна поставила свой бокал на стол и, уже убирая руку, совершенно машинально прихватила ломтик колбасы и неуловимым движением кинула его в рот. — Не надо так однобоко толковать… Все можно перевернуть. Я просто сделала тебе замечание, что нельзя так запускать себя, что можно хоть раз в неделю помыться, переменить белье… Но я была не права, я просто не представляла, в каких условиях ты живешь… — Не то! — кровожадно воскликнул Фомин. — Ты еще говорила! Другое! — Но ведь действительно нельзя в таком виде… — замялась Анна Сергеевна, комкая угол скатерти. — Что нельзя? — зловеще переспросил Фомин. — Нельзя… — Она снова машинально кинула в рот кусок колбасы. — В таком состоянии тебе нужно было немножко отдохнуть, а ты требовал еще вина… Я просто испугалась за твое здоровье. Ты был такой бледный… — Ага! Больной был! — торжествуя, воскликнул Фомин. — Поэтому ты меня и выгнала? — Я тебя не выгоняла, ты сам ушел. Ты сказал: «Раз так, я пошел!» — А ты? — А я сказала: делай, как хочешь… — И все? — вкрадчиво спросил Фомин. На верхней губе и на висках Анны Сергеевны выступила испарина. — Ведь у меня тоже есть нервы, Васенька… — Короче! — неумолимо требовал Фомин. — Я сказала, что если ты уйдешь, то можешь не приходить… — Ага! — Фомин удовлетворенно крякнул и сверкнул глазом на рюмку. — А говоришь, не выгоняла! — Но ведь ты мог не уходить, Васенька! — Кто же после таких слов останется? — Он снова взглянул на рюмку. — А теперь, как я понимаю, ты мириться пришла? — Понимай как хочешь… — Что значит, как хочешь? Мириться или не мириться? — Ну, мириться… — Анна Сергеевна отщипнула виноградинку. Это другой разговор! — Фомин подхватил свою рюмку и чокнулся о стоящую рюмку Анны Сергеевны. — Тогда поехали… — Он выпил, с шумом втянул в себя воздух и продолжал: — А чтоб помириться, что нужно сделать? — Закуси, Васенька, — пододвигая к нему блюдце с лимоном и рыбу, сказала Анна Сергеевна. — Чтобы помириться — нужно повиниться, — продолжал, не обращая на нее внимания, Фомин. — Ты должна попросить у меня прощения. — Он снова налил себе, чокнулся о ее все еще стоящую рюмку и выпил. — А я еще посмотрю, простить или послать тебя с твоей курицей… Ну? — Что? — Проси прощения. — Прости меня, Васенька… — За что? — За то, что я так тебе сказала… — Что сказала? Анна Сергеевна беззвучно заплакала. Фомин налил третью рюмку, чокнулся. — Давай, давай выпей. Я тебя прощаю. Анна Сергеевна, вытерев слезы крошечным кружевным платочком, выпила и робко предложила: — Я разрежу курицу, пока она теплая… Да хрен с ней, с курицей, — сказал Фомин, наливая четвертую и чувствуя, как противная сухость во рту проходит. — Ты слушай, что я сейчас видел… Ну, давай, поехали! Ух ты, блин… Тоже ничего, хоть и коньяк! Не очень воняет этими… Ох и дали мы по газам сегодня… Ну, думаю, звиздец! Иду и думаю: все, отпрыгался Фомин. Им, паразитам, что? Они завалились и дрыхнут, а Фомин сторожи. Ты молодец, Анюта! Знаешь, как мужики тебя зовут? Реанимация. Так и говорят: «Пойдем в реанимацию». Давай, давай, а то ты только чокаешься… Да хватит тебе на хавку жать, боишься похудеть? Ха-ха-ха, шучу! Ты что, не понимаешь? Ну и дура! Давай, поехали. Ну, слушай, что я видел. Иду мимо Генкиной дачи… Ну, я тебе говорил, козырной такой, художник, по церквам работает… Не пьет, между прочим, а водку держит. Всегда угощает, не жмется. Я говорю, зачем тебе водка, если сам не пьешь? А он говорит: «Для глупых гостей». Свое здоровье бережет, а гостей травит. И не жалко, спрашиваю. А он говорит: «Глупцов не жалко. А умные в жалости не нуждаются». Ну, поехали, поехали, поднимай рюмку-то… Ты не пей, ты только чокайся — такая поговорка есть. И еще: «Девочка, не бойся, мы только полежим». Слышишь, девочка, хи-хи, мы только полежим, не бойся! — Он ущипнул зардевшуюся Анну Сергеевну за нежную шею. — Слушай, а чего я на Генку соскочил, не помнишь? — Ты, Васенька, проходил мимо его дачи и что-то увидел. — А-а, точно, точно, — шлепнул себя по лбу Фомин, — никакой памяти не стало. Давай еще по чуть-чуть, пока не забыл, и расскажу. — Скушай курочку, Васенька, — безнадежно сказала Анна Сергеевна и решительно отодвинула от себя ополовиненную тарелку с колбасой. Ну вот, — махнув рюмку и наспех глотая кусок красной рыбы, продолжал Фомин, — иду я мимо дачи, а в окнах свет. Ну, думаю, наверное, какую-нибудь телку привез или целую компанию. А там сбоку у меня одно местечко пристроенное есть. Ну, я тебе рассказывал. Оттуда хорошо видно… Гляжу, у него там полумрак, музычка-фуюзочка — все как положено, и они вдвоем. И как ты думаешь, с кем? А с той мосластой длинноногой девкой, которая у него летом с мужем жила. Я тебе говорил… Ну, та самая, по которой этот пацаненок Сашка сохнет. Я же тебе рассказывал, как они на пляже загорали. Вспомнила? Так вот, Генка теперь с ней. Сперва танцевали, а потом она сама раздеваться начала. Догола. Потом подошла и на нем рубашку начала расстегивать. Вот сучара, да? Ну, поехали… — Васенька, — глядя в сторону, тихо сказала Анна Сергеевна, — переезжай ко мне, насовсем. Костюм тебе куплю… Я буду рубашки стирать, я вязать умею. Переезжай… Ну что ты здесь без всякого ухода? — Я понял, понял, — с пьяной хитростью прищурился Фомин и погрозил ей пальцем. — Ты за этим и пришла. Угадал? Угадал? — Какое это имеет значение… — А чего же молчала? Вот блин, пришла и молчит. Сказала бы сразу, и дело с концом. Наливай своего «шампуню»! — Так ты согласен? — А чего тут думать? Дело хорошее. Поехали! Анна Сергеевна сдавленно вздохнула и подняла бокал с шампанским, нежно отставив крохотный мизинчик. Она знала, что хорошо опохмеленный Фомин и на собственный расстрел согласится с энтузиазмом, но предпочитала об этом не думать. 1. Ведро эмалированное — …..4 руб. 70 коп. 2. Электронасос «Агидель» — …..43 руб. 40 коп. 3. Набор садовода-любителя — …..16 руб. 4. 250 крышек для консервирования-…..7 руб. 50 коп. 5. Женский бюстгальтер (новый) — …..6 руб. 70 коп. 6. Электрошашлычница — …..18 руб. 7. Сковорода чугунная — …..1 руб. 10 коп. 8. Половина резинового шланга (10 м)-…..8 руб. 55 коп. 9. Клеенка (потертая) — …..4 руб. 80 коп. 10. Мясорубка (подержанная) — …..5 руб. 70 коп. 11. Электромассажный прибор — …..11 руб. 12. Карты игральные синтетические, импортные….. — 3 руб. — Ну и что прикажешь? Кровью мне теперь блевать? — спросил Фомин. — Я в том смысле, что ты очень расходился, — сказал Васильев, свернув вчетверо листок с перечнем украденных за последний месяц предметов и постукивая ребром бумажки по столу. — Чего? — спросил Фомин. — Того! — В каком смысле? — В таком. Очень ты, понимаешь, расходился. Никакого удержу тебе не стало… — А при чем здесь я? — При том! Ты ваньку-то не валяй… — Какого? — Такого. — Ваньки разные бывают… Некоторые даже в милиции служат. — Ладно, хватит! — Чего хватит-то? — Хватит придуриваться! Где вещи? — Какие вещи? — Эти! — Васильев, еле сдерживая себя, швырнул Фомину под нос бумажку. — Эти и другие, которых пока еще не хватились. — А я откуда знаю… Ты вон с кольцами на меня грешил, а оказалось, что их ворона утащила. Слушай, Вань, а как ты допер, что это вороны? Мы с мужиками и так и эдак кидали, ничего не понимаем… — Это к делу не относится, — перебил его участковый, чувствуя, однако, что несколько растерял свою официальную непреклонность. — Я тебя спрашиваю, где краденые вещи? — Это еще нужно доказать… Мне-то не заправляй… Я пришел к, тебе по дружбе, не как участковый. Ты бы отнес все на место, и дело с концом. Я все заявления порву. Вась, или у тебя уже нет ничего? — А если нет? — А куда же ты дел? Небось, Ваньке-дергунчику отнес? Так ты сходи к нему, попроси обратно. Хочешь, вместе сходим. Я тебе обещаю дело не открывать… — Да я не в том смысле, — ухмыльнулся Фомин. — Я сказал, а что, если их совсем у меня не было? — Да-а-а… — тяжело вздохнул Васильев. — Значит, разговора у нас с тобой не получается. Ну, тогда послушай меня. Лифчик там, сковородку, карты я, может, и не найду, а насос — расшибусь, но найду. И шашлычницу. Они далеко не ушли. Где-нибудь здесь в поселке и осели. Найду, найду, не беспокойся! На насосе заводской номер есть. Он в паспорте указан! А то расходился, понимаешь! Хозяином себя почувствовал! «Доказать надо». И докажем, не сомневайся! Не такие задачи решали. Умник, понимаешь, нашелся. — Вот когда докажешь, тогда и бухти… А пока нехрена здесь мудями воздух рассекать. — Ладно, подождем. Я только хочу спросить: ты что, совесть-то совсем уже пропил? Или еще остались крохи? — А что такое совесть? Чего вылупился? Объясни мне, что такое совесть. Где она лежит, и с чем ее едят? — Совесть… Совесть — это такое чувство, чтобы человек жил по справедливости… Чужого не заедал. — Не понял, туманно очень. — Как точнее?.. Совесть — это такой прибор, который показывает, где зло, а где добро… Значит, там, — Фомин постучал себя по груди, — есть прибор, вроде вольтметра, когда человек делает добро, стрелка идет вправо, а когда зло, то влево, так? — Не так примитивно, но похоже… — Ну а если стрелка начинает слева зашкаливать, что тогда? — В каком смысле? — В прямом. — Все шутишь? — нахмурился участковый. — Спрашиваю, — возразил Фомин. — Тогда человеку становится стыдно. — А стыдно — у кого видно! — торжествующе хохотнул Фомин. — Что видно? — побледнел Васильев. — Чего психуешь? Пословица такая есть, детская… Рассуди спокойно. Перед кем этому человеку стыдно, если никто не видит, что у него стрелка зашкалила? Прибор-то у него не на лбу. Что же, он сам будет бегать по улицам и кричать: ой, братцы, зашкалило! Ой, я зло совершил! Нет, Ваня, никому он в этом не признается! И поскорее забудет. А если его на этом зле застукали, то срок впаяют без всякого прибора. Если, конечно, он вовремя не отмажется… Вот тебе и вся справедливость. Ты ее тридцать лет ищешь. Нашел? Где она, твоя справедливость? Назови мне хоть одного человека, который строго по этому прибору живет, и я сам тебе все, до последней вещи, притащу. Только на себя, на дурака, не показывай. Чокнутые не в счет. Ну, кто без греха? Молчишь! Тогда и с меня ничего не требуй! Врешь, Ванька! — еще больше побледнев, твердо сказал Васильев. — Есть такие люди! Ты передергиваешь! Какой же честный человек скажет тебе, что он совсем без греха? Да наоборот, чем он честнее и порядочнее, чем совестливее — тем больше за собой грехов отыщет. И старается меньше грешить. Не позволяет себе распускаться. Есть такие люди! Если б их не было, земля остыла бы и в камень превратилась. — Не знаю… Может, они и есть. Тебе, как начальнику, виднее, но я пока таких не встречал. Одна курица из-под себя гребет, и та — дура. Фомин обычно начинал праздновать дня за три до любого праздника. Он был холост, имел отдельное жилье, и поэтому его сторожка служила как бы барометром общественного настроения. Особенно поздней осенью и зимой, когда распивать под кустом становилось скучно и неуютно. В аванс и в получку устремлялись к нему по двое, по трое страждущие. А уж о праздниках и говорить не приходится. Вернее, о предпраздничных днях, потому что в сами праздники мужики попадали под домашний арест, надевали нейлоновые рубашки с негнущимися воротничками, отглаженные до блеска галстуки, пропахшие нафталином, шерстяные костюмы и сидели прямо и торжественно за семейным столом. И каждый раз, потянувшись к фиолетово-радужному графинчику, ловили на себе встревоженные взгляды супруг и невольно тосковали о скрипучих табуретках и о застеленном пятнистой газетой валком столике Васи Фомина, об удалом мужском застолье. Без всяких ограничений. В праздники в сторожке Фомина было пустынно и одиноко. В ноябрьские праздники, если была хорошая погода, Фомин брал большую, леченую разноцветной проволокой грибную корзину, надевал болотные сапоги и отправлялся в окрестные леса. Шел он не за грибами, хоть и уважал собирать грибы. Он шел за бутылками. Поселок «Резистор» к этому времени пустел. На двух-трех дачах оставались люди, но не за тем, чтоб праздновать, а чтоб докопать, скажем, картошку, разобрать парники или закончить ремонт. С такими не попразднуешь. Они-то были бы рады позвать на помощь Фомина и даже накатили бы стаканчик-другой за труды, но Фомин никогда не опускался до работы в большие всенародные праздники. И у Фомина были правила. Он из чистого суеверия никогда в будни не упускал халтуры, никогда не трудился по праздникам и никогда не брался за две халтуры сразу. Он любил повторять: «Главное, чтоб глаза не были больше, чем рот». Итак, в поселке Фомину делать было практически нечего, но в окрестные леса, случалось, еще наезжали на машинах любители шашлыков и пикников. Случались и пешие туристы. Ни автомобилисты, ни пешеходы порожнюю посуду с собой обратно не забирали. Места у Фомина были пристреленные, посуда, как мы уже знаем, принималась от него без ограничений, и поэтому Фомин в праздничный день без своего законного трояка не оставался. Так было и в этот раз. Он довольно быстро выскочил на большую группу пеших гитарно-костровых туристов и вполне внятно «похристосовался» с молодежью, то есть по своему обыкновению вежливо подошел, улыбнулся и молодецки поздравил все общество «с наступлением». Они его поздравили ответно и поднесли половину алюминиевой кружки розового портвейна. Фомин одним духом проглотил, еще более молодецки крякнул и проникновенно поблагодарил. Это у Фомина и называлось «похристосоваться». Потом он, как бы между прочим, поинтересовался, не имеется ли ненужного «хрусталя», и доброжелательные туристы нанесли ему индивидуальной посуды из всех палаток и указали, где находится кладбище общественной. Фомин отоварился, сорвал «на посошок» и побрел искать автотуристов. Там посуды доставалось меньше, зато угощение было качественнее и публика была поинтереснее. Места стоянки автотуристов у него были тоже пристреляны. Он еще издали почуял запах шашлыка. Бухала «дорогая» музыка. «Дорогой» музыкой Фомин называл музыку из импортной аппаратуры, в которой хорошо прослушивались барабаны. Фомин любил барабаны. Пока он подходил к стоянке, музыка кончилась. Он невольно сбавил шаг. На полянке дымил потихоньку мангал. На раскладном столике стояли бутылки с какими-то иностранными напитками, на пластмассовых тарелочках сохли остатки шашлыка, заляпанные багровым соусом. Шаткие раскладные стульчики все как один валялись. Людей не было. Фомин огляделся. Сбоку, несколько в стороне от мангала и столика, разделенные кустами стояли две машины: «Волга» и «Жигули». В салонах обеих машин различалось какое-то ритмичное движение… Фомин пригляделся и пожалел, что не прихватил с собой бинокль. И тут он заметил «дорогую музыку». На ровном пеньке стоял и молчал двухкассетный «Шарп», и его длинное блестящее тело не умещалось на пеньке. И посередке сверху была такая удобная ручка… Фомин хранил магнитофон на чердаке заколоченного Дома культуры, где у него летом стояла армейская стереотруба, которую он сдавал поселковым ребятам за бутылку червивки в час, и те, сопя от возбуждения, наблюдали за пляжными кабинками для переодевания. Там в старый диван он и спрятал «Шарп». Дело было в том, что на кассете, которая стояла в «Шарпе», была записана секс-музыка. Выяснив у Анны Сергеевны, как включается магнитофон, Фомин включил и обомлел. Он о таких штуках даже не слышал. Анна Сергеевна брезгливо прогнала его со своей музыкой, и он, три раза подряд прослушав ее на чердаке, уже прикидывал, что за подслушивание можно будет получить с пацанов не меньше, чем за подглядывание в стереотрубу. Тем более что для стереотрубы был не сезон. Зимой ему незачем было вставать с постели. В поселке не было никакой жизни, а стало быть, и халтуры или какой-нибудь другой поживы. Он знал, что ребятишки лазают но дачам. Он также знал, что пробираются они на дачи со стороны леса или со стороны фабрики, где перелезают через высокий дощатый забор, опутанный поверху колючей проволокой. Он также знал, что улицы и переулки «Резистора» завалены глубоким снегом, по которому даже собаки бегают неохотно, совершая нелепые вертикальные прыжки и спеша вернуться на твердую дорогу. Он не любил туда ходить зимой. Встретив изредка на станции кого-нибудь из ребят, своих летних клиентов по чердаку Дома культуры, Фомин говорил: — Конечно, кому на хрен Васька Фомин нужен зимой! Сами по дачам наливку сосут, а тут хоть сдохни от жажды. А Фомину ведь за все отвечать. Хоть бы кто банку занес… А то ведь у Фомина терпение-то лопнет… Ребята заносили. Фомин маленькими глоточками, смакуя, выпивал, снова ложился на койку и предавался воспоминаниям. Он вспоминал лето, сцены, подсмотренные сквозь неплотные занавески душными безветренными ночами, предутреннюю охоту, магнитофон «Шарп», который пришлось вернуть, бутылочную охоту по праздникам… Так он и лежал в полумраке, не включая лампочку. Так и засыпал, без всякого аппетита пожевав перед сном слипшиеся рожки, политые постным маслом. Сторожка всю ночь освещалась густо-малиновым светом от раскаленного «козла». Джек, спасаясь от духоты, ложился к самому порогу, прижимаясь боком к щели под дверью — единственному источнику прохлады и чистого воздуха. Найда по привычке спала под кроватью. Ее тоже донимала жара, спала она беспокойно и чутко, по нескольку раз за ночь просыпалась и тоскливо ворчала. А иногда, не сдержавшись, взлаивала. Джек вскакивал, как ошпаренный, и тоже лаял хриплым спросонок голосом. Фомин матерился и швырял в собак пустыми консервными банками. Лаяла Найда на врагов. Не было в поселке ни одной собаки, с которой Найда не поскандалила бы хоть раз в жизни. Поэтому любая собака, пробегающая тихой ночью по скрипучему от мороза снегу, была узнаваема ею и вызывала злобное рычание. А когда пробегала стая собак, Найда не могла сдержаться, и ее прорывало неудержимым лаем. Конец толстой веревки от ошейника оставался снаружи. Потом мешок со скулящей собакой (они почти никогда в мешке не лаяли) грузили на детские санки и везли к Фомину. Тот привязывал конец торчащей из мешка веревки к старой груше, развязывал мешок и отходил на безопасное расстояние. Когда собака выбиралась из мешка, он платил ребятам пятерку и намекал, что с них причитается. Ребята предлагали ему получить с Академии наук и уходили. Они были убеждены, что собаки поступают в какой-то закрытый космический институт для сверхсекретных экспериментов. В начале зимы Сашка обратился к Геннадию Николаевичу за советом. Ему нужны были деньги, и он не знал, как их заработать. Геннадий Николаевич предложил ему отлавливать бродячих собак для космической науки. Сашка согласился, но потом отказался от этого дела. Как только ребята уходили, Фомин через форточку или просто так, подойдя вплотную, стрелял собаке в голову. Когда собака издыхала (иногда это случалось после двух или трех выстрелов), он тащил собачий труп в пожарный сарай, где хранились пожарная помпа, ящик с песком, лопаты, багры и топоры. В сарае он привязывал собачий труп задними ногами к короткой палке и цеплял эту палку на толстый крюк, на котором до этого висел скатанный пожарный рукав, и тут же начинал обдирать собачий труп, пока он еще не остыл. Затем он отволакивал ободранную тушу в небольшой овражек неподалеку от сторожки. Вороны, внимательно и заинтересованно наблюдавшие за действиями Фомина, как только он отходил от овражка, неторопливо поднимались с ветвей, набирали высоту, совершали небольшой круг безопасности над сторожкой, оврагом и примыкающими улицами и беззвучно планировали на еще дымящийся на морозе труп. У них тоже была задача не упустить момент, пока труп теплый. Правда, на другой день новые вороньи подразделения настойчиво и сноровисто расклевывали уже замерзшую собачью плоть, но свежее, парное мясо им, очевидно, было больше по вкусу. Характерная орнитологическая деталь: сколько бы ворон ни собиралось, во время пиршества никогда не возникало серьезных разногласий. Иногда лишь дружеским тумаком награждалась какая-нибудь не в меру зарвавшаяся товарка, но она и не обижалась, а как бы принимала к сведению. Создавалось впечатление, что это пирует одна большая, очень дружная семья. И еще: как бы птицы ни были голодны, всегда на ближайшей к месту оргии березке, на самой выгодной для кругового обзора точке оставался дежурный наблюдатель. Он время от времени ровным деловым голосом докладывал обстановку. В случае опасности он подавал сигнал, и стая взмывала высоко над молодым прозрачным перелеском, овражком, домами… Когда же приходил Фомин с очередным фиолетовым, в красных порезах, блестящим, словно покрытым прозрачной пленкой собачьим трупом, вороны не взлетали высоко, а поднимались на нижние ветви березок и осин. А некоторые (очевидно, самые старые и опытные) отходили в сторонку просто пешком. При этом они важно и одобрительно оглядывались. Для Фомина, стало быть, у дежурного был особый сигнал. Затем Фомин в том же сарае посыпал шкуры изнутри крупной желто-серой солью, выдаваемой ему для посыпки скользких дорожек, складывал их в ларь для метел и закрывал ларь на большой амбарный замок. На все процедуры, даже с самым большим экземпляром, у него уходило не больше часа. Иногда, когда у Фомина было веселое или, точнее сказать, игривое настроение, он долго забавлялся с собакой, пугая ее выстрелами и пролетающими впритирку к голове пулями. Собаки, едва их, уже привязанных к груше, вытряхивали из мешка, понимали, чем для них кончится это дело, и порой утрачивали все свое собачье достоинство. Правда, некоторые держались до конца мужественно и злобно. Но таких было меньше. Наверное, не последнюю роль тут играл запах свинца, пороха и смерти, которым пропиталось вытоптанное место у груши. Фомин забрасывал кровь снежком, но с запахом он ничего сделать не мог. Воронам на поедание собачьего трупа требовалось три или четыре дня. Это зависело от крепости морозов. Раз в неделю на своем «Жигуленке» приезжал к Фомину Геннадий Николаевич и платил по десять рублей за каждую шкуру, независимо от ее размера. Шкуры, несмотря на то, что были обильно пересыпаны солью, замерзали на морозе, как выстиранное белье, и Фомин заносил их сперва в сторожку, где они быстро оттаивали, после этого он их складывал в большой полиэтиленовый мешок и относил в багажник машины. Во время всей этой операции Геннадий Николаевич сидел в теплом салоне автомобиля и слушал музыку. Иногда он читал или работал с документами, проверяя свою бухгалтерию. Из машины он не выходил. Когда Фомин захлопывал багажник и подходил к дверце, Геннадий Николаевич слегка опускал стекло и в щель протягивал Фомину его гонорар. Фомин при этом каждый раз приговаривал, что шкуры первый сорт и что с Геннадия Николаевича бутылка. Тот ему неизменно отвечал: «Пить — здоровью вредить». Фомин смеялся в сторону (он знал, что Геннадий Николаевич не любит, когда на него дышат перегаром), наклонялся, прикладывал волосатое ухо к щели в стекле, прислушивался и спрашивал: — Секс-музыка? Геннадий Николаевич весело и необидно смеялся и отвечал: — Это, Вася, соната номер шесть, ми мажор, для флейты и клавесина. Иоганн Себастьян Бах, — или что-нибудь в таком же духе. — Тоже красиво, — говорил Фомин и отдавал честь Геннадию Николаевичу, потому что тот поднимал стекло и мягко трогал с места. Затем Геннадий Николаевич ехал к Левушке. Не на квартиру Жарковского, а на ту, которую Левушка специально снимал для выделки шкур. Наташа не могла смотреть на то, как он соскабливает кровавые куски жира со шкур. К тому же она совершенно не переносила запахи, неизбежные при выделке шкур. Член-корреспондент Академии медицинских наук профессор Курьев, внимательно изучив рентгеновские снимки Фомина, испытующе посмотрел сперва на Анну Сергеевну, потом на Васильева, которые обратились к нему за консультацией на правах дачного землячества. — А что вам сказали в вашей поликлинике? — В поликлинике нам дали направление в районный онкологический диспансер, — ответил Васильев. — Ну, хорошо, и что же вам сказали в диспансере? — Сказали, что вне сомнения — это рак. Уже не операбельный. — Что назначили? — спросил профессор Курьев, похрустывая рентгеновскими снимками. — Вот. — Васильев протянул рецепты. — Понятно, — сказал Курьев, мельком взглянув на рецепты и даже не дотрагиваясь до них. — А что же вы от меня хотите? На этих словах Анна Сергеевна, кренившаяся изо всех сил, беззвучно разрыдалась, сотрясаясь всем своим огромным телом. Васильев успокаивающе похлопал ее по плечу и сказал, глядя на профессора с жалобной надеждой: — Неужели нельзя ничего сделать?.. — он замялся, покраснел, потупился и пробормотал еле слышно себе под нос: — Ведь можно же что-нибудь сделать… За деньги, не бесплатно, мы понимаем… — Что же, я ему новое легкое вставлю за деньги? — с привычной жесткостью спросил Курьев, упирая на слово «деньги», и добавил помягче: — Да и бесполезно это… Можно было бы удалить часть легкого, даже все, и с одним легким люди живут, но поздно, поздно. Он уже не операбелен. Метастазы уже разошлись… — Он снова, хрустнув снимками, поднял их на свет. — Очень сожалею, но… Если бы вы обратились ко мне год назад, можно было бы говорить об операции. Очень сожалею, — повторил он и, повернувшись к Анне Сергеевне, спросил: — Это ваш отец? Анна Сергеевна снова разрыдалась, а Васильев ответил за нее: — Это Фомин, сторож вашего дачного кооператива. Вы, наверное, его знаете. — Ну как же! — оживился Курьев. — Знаменитая личность! — В глазах у Курьева мелькнула улыбка, которую он, тут же спохватившись, погасил. — Да-а, — протянул он задумчиво и снова вгляделся в снимки, — ничего не поделаешь — поздно! В дежурке щедринского отделения милиции было много народа, когда туда ввалился пьяный фомин. Он растолкал милиционеров, готовящихся к выходу на дежурство, поймал за рукав начальника отделения капитана Степанова и, дыхнув на него невыносимым перегаром, вежливо поинтересовался: — Товарищ милиции капитан, разрешите поинтересоваться, где эта сука позорная, мой бывший дружок Ванька Васильев? Имеется очень большое желание в рожу ему плюнуть… — Что-о?! Кто привел? — строго спросил Степанов, окидывая дежурку начальственным взглядом. — Что значит, привел? Кого привел? Ваську Фомина? Да я… — И он начал с каким-то даже наслаждением грязно и изощренно ругаться. И не замолчал, когда два дюжих милиционера подхватили его под руки и усадили на скамью задержанных, за невысокий деревянный барьерчик. Чтобы прекратить это безобразие, один из милиционеров был вынужден зажать Фомину рот ладонью в толстой кожаной перчатке. Фомин продолжал ругаться в перчатку, как в микрофон. Он поносил Васильева, милицию вообще и всех по отдельности, ловко пользуясь знанием слабостей каждого из присутствующих. Эта выходка была настолько цинична и беспрецедентна по своей наглости, что милиционеры даже не догадались его побить или каким-нибудь другим способом привести в чувство… Со стороны могло показаться, что эта изощренная матерщина даже доставляет им некоторое удовольствие. Во всяком случае тем, кого она в данный момент не касалась. Наконец, как и подобает начальнику, Степанов первым пришел в себя и четко распорядился: — Убрать паскудника! В «светелку» его и привести в порядок. Утром ко мне лично. «Светелкой» милиционеры в шутку называли крошечную без окон комнатку с толстой, обитой оцинкованным железом дверью, в которой имелось маленькое квадратное зарешеченное оконце. Милиционеры, притащившие Фомина в «светелку», уже начали неторопливо стаскивать с себя шинели и поддетые под них для тепла меховые безрукавки, чтобы начать приводить Фомина в порядок, когда дверь раскрылась. На пороге стояли Степанов с разочарованным лицом и Васильев с озабоченным. — Ну вот что, — сказал Степанов, — пускай катится… — и длинно, не хуже самого Фомина, выматерился. Милиционеры забрали шинели, безрукавки и ушли. Степанов понаблюдал, как Васильев поднимает упирающегося Фомина и выволакивает из «светелки», и, матюгнувшись про себя еще раз, ушел в дежурку, где сел за стол и стал что-то писать. Васильев наконец вытащил Фомина из «светелки» и повел по дежурке мимо расступившихся и ухмылявшихся милиционеров. Когда они проходили мимо стеклянной перегородки, за которой сидел склонившись над бумагами Степанов, Фомин поднял руку и ловким движением локтя, защищенного толстым рукавом тулупа, разбил одно из стекол перегородки. — Я вставлю, вставлю, — закричал Васильев, набрасываясь сзади на Фомина и хватая его поперек туловища так, что Фомин уже не мог двигать руками. В таком виде они и вывалились на улицу. В прямом смысле этого слова. С низенького крыльца прямо в сугроб. Когда они поднялись и Васильев начал стряхивать с дружка снег, Фомин некоторое время наблюдал за ним с ехидным любопытством, потом ухмыльнулся и сказал: — Чует кошка, чье мясо съела? — Это в каком смысле? — уточнил Васильев. — А в таком. Я приходил тебе в рожу плюнуть, а теперь не буду. — Почему? — По хрену и по кочану! Слюны на тебя, гнида, жалко. Я думал, что ты человек, а ты — мусор долбаный, сука позорная, козел вонючий… Это были самые безобидные слова из десятиминутного выступления Фомина, которое Васильев выслушал до конца. Впрочем, в подробности он не вслушивался. Он напряженно размышлял над причинами такого поведения Фомина. Он был в полном недоумении. А случилось вот что. У Тони Избытковой, известной щедринской цветочной торговки, наступил день рождения. После того как ей стукнуло сорок, она очень переживала каждый свой день рождения. Обычно праздник растягивался на целую неделю. Три дня она внутренне готовилась, день пила «по-черному» (с истериками, скандалами, уходами, возвращениями, мордобитием, продажей личных и чужых вещей, пожарами и наводнениями) и три дня отходила. Была тиха, слезлива, очень предупредительна и частенько внезапно засыпала. Пила она в эти дни только пиво или сухое вино, которое ласково называла «сухариком». «Отходняк» она обычно устраивала у своей лучшей подруги Актинии Карловны. На такой «отходняк», на самый сладкий, первый его день, и попал Фомин. Надо сказать, что попал он туда не случайно. Он готовился к этому приятному событию за неделю. Сперва они пили пиво, и Тоня Избыткова вздыхала, а Актиния Карповна все подвигала к Фомину тарелку с салом и приговаривала: — Поешь, Вася, сальца. Домашнее, натуральное, полезное… Потом Фомин вызвался сбегать на условии, что для себя купит портвейна, а то от кислятины у. него зубы болят. Когда он вернулся, женщины допили свое пиво и, сидя рядышком на диване, пели грустную песню о том, что «один раз в год сады цветут». Завидев Фомина, они даже слегка всплакнули. Фомин начал к ним присматриваться. Его кольнуло какое-то неопределенное предчувствие. Выпили. Закусывала одна Актиния. Тоне ничего в глотку еще не лезло, а Фомин вообще не любил это дело. Да и не до того ему было. Чем больше он наблюдал за подругами, тем яснее ему становилось, что они что-то скрывают. Притом это касается непосредственно его, Фомина. Он пробовал их «раскрутить» на откровенный разговор, аккуратно подливал, зачастил с тостами, но подруги не поддавались. Тогда он, понимая, что Тонька Избыткова вот-вот заснет и все пойдет насмарку, решил опередить ее. Пошатываясь, он поднялся, сходил на двор, а возвращаясь, будто не дошел до стола, будто сильно притомившись, опустился на диван, томно потянулся и со словами: «Сейчас, сейчас, девочки, наливайте» — приклонил голову на круглый, замасленный локтями валик и тут же захрапел, удивляясь, как нетрудно изображать храп… Странное дело, стоило ему прилечь, как он действительно почувствовал, что притомился, что прилечь ему было просто необходимо, что храпит он натурально, что давно пришел дружок Ванюша и уже пропустил стаканчик портвейна, а расчувствовавшаяся до сладких, похмельных слез Тонька Избыткова рассказывает ему что-то страшным шепотом, кося в сторону спящего Фомина красным, заплывшим от водки и слез глазом: — У Андриянова глаз точный, как скажет, так и будет. Он старик, хоть и слепой, но профессию знает. Что нужно видит… — Ну, — сказал Ванька-дергунчик и сам покосился на Фомина. — Не нукай, Ванечка, тут такие дела — сердца не хватает. — Натворил он там чего? — предположил Ванька. — Да Бог с тобой. Рак у него. Во все легкое. Вот что Андриянов-то определил. В последней уже стадии. А доктор-то молоденький ему не поверил, в диспансер снимки те направил… Ваську-то туда не дотащили. «Было дело, не дотащили», — удовлетворенно подумал Фомин и продолжал слушать дальше. — Ну, а там что решили? В диспансерах разбираются, — уважительно сказал Ванька, всю жизнь имеющий дело с диспансером. — Там подтвердили, — сказала Избыткова и зарыдала в голос. — Да-а… — сказал Ванька и потянулся к бутылке. — Вот как без бабьего-то присмотра, — мстительно сказала Актиния Карповна и обиженно поджала губы. — Не ценишь, Ирод чахоточный, а случись что со мной — и месяца не протянешь!.. — Но я ведь слушаюсь, я ведь, как ты скажешь… — пробормотал Ванька и отодвинул свой стакан. А дружок его Васильев, милиционер, — продолжала слегка успокоившись и подкрепившись стаканчиком «сухарика» Тоня Избыткова, — не поверил и повез эти снимки к профессору в Москву. Он еще тут, в кооперативе живет, рыжий такой. Петухов, что ли… — Курицын, — поправил ее Ванька-дергунчик. «Курьев, дубина», — машинально поправил его про себя Фомин. — Да черт с ним, хоть Индюков, — отмахнулась от Ваньки Тоня, — какое мне до него дело? В общем, и профессор подтвердил. — И сколько же ему осталось? — еле слышным шепотом спросил Ванька. «Интересно, — подумал про себя Фомин, — сколько же мне дал этот Курьев-Хурьев?» — И затаил дыхание. Тонька, очевидно, что-то показала на пальцах, потому что Ванька выдохнул, не сдержавшись: — Да ты что! — Так-то вот! — подытожила Актиния Карповна. Фомин открыл глаза, чтобы увидеть, сколько показала Избыткова на пальцах, но она уже этой рукой держала стакан и чокалась с товаркой. Фомин снова закрыл глаза и подумал: «Вот как! Значит, так! Значит, такая выходит хреновина. Выходит, отгулялся кондитер! Но ведь что-то осталось? Значит, выходит, что-то оставил сука-профессор на похмелку. Эх вы, хурьевы-пурьевы-мурьевы-курьевы!» В тот же вечер он со станции позвонил профессору Курьеву в Москву. — Привет красной профессуре! Какой счет, профессор? — Какой счет? Кто говорит? — удивился профессор. — Фомин говорит, сторож ваш дачный. — . А-а… привет, привет. Что-то на даче случилось? — Фуилось! — хохотнул Фомин. — У Фомина ничего не случается, на то он и Фомин. Вы лучше, это, профессор, приговорчик зачитайте… — Я не понимаю… — Ладно, профессор, тут все свои, нас не подслушивают. Сколько мнеосталось? — Ну, знаете, на такие вопросы… — Еще короче. До весны я протяну? — Знаете, никогда не надо отчаиваться, бывают совершенно невероятные случаи. Чего только в этой жизни не бывает. Но нужно следить за собой, не простужаться… Курить нужно немедленно бросать… С этим делом тоже как-то поаккуратнее… Так, рюмочку в обед, для аппетита. — Слушай, профессор, а от него точно умирают? — Ну, в общем… Я не понимаю вопроса! — Я говорю, у меня точно этот, с клешнями? А то разбежишься, а нога в говне… — Куда резбежишься? Я не понял… — Я говорю, понадеюсь на вас, а там, глядь, и не умру… — Я же вам говорю, бывают разные… — Значит, до весны располагаю? — Почему обязательно до весны. Что за сроки? Если будете себя беречь… — Благодарю, профессор! С меня бутылка. — Не за что… — задумчиво сказал профессор и повесил трубку. Фомин долго слушал, как пикало в наушнике, потом резко дернул трубку и вырвал провод с корнем из автомата. Выйдя из будки, он за конец провода раскрутил трубку над головой и забросил ее через железную дорогу. Фомин подставил ящики, разбил стекло и вынул ее из рамы, вделанной в церковные ворота. Церковный сторож слышал, как разбилось стекло, но побоялся выйти. А собаку с церковного двора Фомин свел еще раньше. Васильев пообещал отцу Алексею, что найдет икону. — Значит, я могу надеяться? — переспросил отец Алексей. — Я сделаю все, что в моих силах, — сказал Васильев. — А заявление? — Никакого заявления не надо. Вам ведь важно, чтоб икона вернулась на место. — Стало быть, вы знаете, кто это сделал? — спросил отец Алексей и с интересом взглянул на Васильева. — Предполагаю. На то я и участковый. — А заявление все-таки возьмите, — сказал отец Алексей, протягивая Васильеву бумажку. — Зачем? — спросил Васильев. — Не знаю… — пожал плечами протоиерей. — Вы непременно хотите, чтобы вор был наказан по закону или вам достаточно вернуть икону? — Но тогда он останется убежденным в своей безнаказанности, — сказал отец Алексей. Фомин и не думал продавать икону. Деньги у него были. Он быстро выяснил, что Анне Сергеевне известно о его болезни. Она долго и глупо по-бабьи запиралась, потом, припертая его звонком к профессору, с истерическим плачем «раскололась» и долго истово каялась, оправдывая свое поведение гуманными побуждениями. Разговор этот происходил в магазине, в подсобке, в обеденный перерыв. Фомин простил ее. После этого он молча вынул из ящика пять «фауст-патронов» «биомицина», т.е. «Белого мiцне» и так же молча покинул магазин. С этого момента Фомин в деньгах не нуждался. Он украл икону не для продажи… На другой день после разговора с профессором Курьевым он привязал к груше обеих своих собак и застрелил. И ободрал. Потом он через открытую форточку стрелял ворон. Вороны очень быстро приспособились к новым обстоятельствам и перелетели на безопасное расстояние — в мертвую зону, где были недосягаемы из форточки. Они не обиделись на Фомина. Когда он вышел с винтовкой из сторожки, вороны улетели. Но когда он отнес винтовку в помещение, они снова были тут как тут и добродушно перекаркивались, словно говорили ему: «Привет, дорогой! Как дела, как жизнь?» Выломанную из церковных ворот икону с изображением Николая Угодника Фомин прибил к штакетному забору и через форточку методично расстреливал, целя последовательно в глаза, в нос, в лоб… Когда Васильев застал его за этим занятием, он воскликнул в ужасе: — Ты что?! Совсем охренел? Ты соображаешь? Как дал бы!.. — Так его же нет, — осклабился Фомин. — А если есть, то как он мне, так и я ему! Фомин повесился на старой груше около своей сторожки. Он висел метрах в пяти над землей и слегка раскачивался от ветра. Удавку он сделал из веревки, на которой держал собак перед расстрелом. Веревка была темной и сальной от собачьей крови. Зимой, когда обнажаются кроны высоких лип и тополей, старую грушу видно издалека. Труп Фомина сразу бросался в глаза и вызывал цепенящее любопытство и страх у редких прохожих. Очень скоро около сторожки собралась толпа. Послали за участковым Васильевым, которого долго не могли найти. Никто не решался снять Фомина с груши. Люди стояли, задрав головы, и переговаривались громкими голосами, пытаясь перекричать невероятный вороний гвалт. Казалось, что сюда слетелись все вороны округи. Они гроздьями облепили все соседние деревья, и только на груше не было ни одной птицы. Вороны вели себя странно. Они не клубились, не мельтешили, как обычно собираясь на свое ежевечернее вече, они расселись словно по заранее определенным местам и, вытягивая шеи в сторону висящего Фомина, голосили, что было сил. Из их широко раскрытых клювов шел заметный пар. В этом оглушительном хоре, если внимательно вслушаться, угадывалась даже некая трагическая гармония, но вслушиваться в вороний хор никому и в голову не приходило, все ждали властей. Наконец явился запыхавшийся Васильев и, приставив к груше, очевидно, отброшенную самим Фоминым, стремянку, полез наверх, сам еще не понимая зачем. Добравшись до сука, на котором висел Фомин, Васильев задумался. Ведь не обрезать же веревку, чтобы тело рухнуло с пятиметровой высоты. Нужно было что-то придумать… И тут на него налетела первая ворона. Она сзади, молча спикировала на Васильева и сбила милицейскую шапку с его головы. Вторая ворона больно клюнула его в затылок. Третья — в шею за ухом. Они все налетали сзади. Васильев поспешно слез со стремянки. Фомин висел до тех пор, пока со станции не приехала ремонтная машина с поднимающейся площадкой. Чтоб обороняться от ворон, кто-то пошел за охотничьим ружьем. Но стрелять не пришлось. Как только появилось ружье, вороны, возмущенно галдя, снялись с деревьев и улетели.АННА СЕРГЕЕВНА
Продавщица винно-водочного отдела Анна Сергеевна страдала сердечной недостаточностью и нарушением обмена веществ. При росте один метр шестьдесят семь сантиметров она весила сто семьдесят четыре килограмма. У нее были огромные, чуть выпученные от базедовой болезни голубые печальные глаза и нежнейшая младенческая кожа. При ней никто не смел ругаться матом и не решался пересчитывать сдачу. Много лет Анна Сергеевна сидела на всевозможных диетах, лечилась у дорогих врачей, в том числе гомеопатов, травников и просто знахарей. Никто ей не помог. Ей удалось за месяц лечебного голодания сбросить двадцать пять килограммов веса, но за следующие два месяца она набрала двадцать семь. У Анны Сергеевны была тайна. Она чудовищно много ела. Она ела постоянно. В ящиках ее прилавка рядом с коробкой, переполненной мятыми трешками и пятерками, всегда лежали бутерброды, пирожные, шоколадные конфеты. Она научилась есть незаметно. Могла, наклонившись, положить в рот половину заранее разрезанного бутерброда с сырокопченой колбасой или с балыком и прожевать и проглотить его на глазах у покупателей так, что никто этого не замечал. На ее большом печальном лице не было при этом ни малейшего движения. Анна Сергеевна страдала этим невероятным аппетитом с тринадцати лет. В тот год, когда у нее начались регулы, она начала неудержимо толстеть. Родители сначала радовались, но скоро забили тревогу, обратились к врачам. Врачи определили, что причиной этого заболевания являются нарушения эндокринной системы, предписали диеты и различные ограничения. Это все мало помогло. Наоборот, в результате бесконечных ограничений и неусыпного родительского контроля она привыкла есть украдкой, воровски. Еда ей доставляла чувственное удовлетворение. Очевидно, в связи с этим у нее развилось своеобразное отношение к продуктам питания. Стоило Анне Сергеевне подумать о каком-то продукте или блюде, как она начинала его желать с такой силой, с такой страстью, что у нее иной раз кружилась голова, и она на долю секунды теряла сознание… Она больше ни о чем не могла думать, кроме как о желанном продукте, и не успокаивалась до тех пор, пока не доставала его. Достав, она запиралась в квартире и, предвкушая наслаждение, сдерживая себя нечеловеческим усилием, начинала, восторженно постанывая от наслаждения, потихоньку поедать вожделенный продукт. Это могли быть помидоры или виноград в январе, цветная капуста или спаржа, любые копчености, самые невероятные сладости, рыба, крабы, икра или вдруг черные сухарики с солью, натертые чесноком, или гречневая каша с молоком и свежим черным хлебом, посыпанным солью, или просто хрустящая корочкой, румяная, горячая, ноздреватая поляница, за которой она отправлялась немедленно в Москву в филипповскую булочную, на улице Горького, и съедала всю без остатка, едва переступив порог своего дома. Денег на еду у Анны Сергеевны уходило невероятно много, а официальная зарплата у нее была всего сто двадцать рублей, и поэтому она смирялась с работой в винном отделе, хотя работа эта была ей не по душе. Тут она зарабатывала вместе с зарплатой около шестисот рублей в месяц и то еле сводила концы с концами. На одежду, косметику и прочие женские напасти она старалась тратить как можно меньше, хотя ее габариты создавали дополнительные трудности. Ей приходилось все, начиная с обуви и кончая головными уборами, шить на заказ. Труднее всего было с чулками… Ни отечественная, ни зарубежная промышленность чулок таких исполинских размеров не производила. Словом, ее существование нельзя было назвать легким и безоблачным. Несмотря на это, Анна Сергеевна была мечтательна, сентиментальна, очень много читала и непрерывно смотрела телевизор, так как обожала всякое искусство, а ходить на концерты, на спектакли стеснялась… Причины ее стеснения могут показаться кому-то смешными: Анна Сергеевна не помещалась в стандартные кресла зрительных залов. Была в жизни Анны Сергеевны еще одна тайна. Она сожительствовала с Фоминым. На последний мой день рождения наша заведующая Тамара Ивановна подарила мне напольные весы. Ей, наверное, не нравится, что я все время хожу взвешиваться в подсобку. Весы, конечно, оказались совершенно бесполезными. Они больше ста тридцати кг не показывают. А это мне не подходит. А жаль. Не пришлось бы ходить в бакалею. Мне и самой это неудобно… Господи! Если ты есть, за что ты меня так наказываешь? В чем я перед тобой провинилась? Ведь если и есть за мной грехи, то не стоят они таких мук. И они все после… Они в ответ… Потому что у меня нет другого выхода… Ненавижу лето! Ненавижу себя летом. Ненавижу этих алкашей, которые целый день дышат на меня перегаром, кильками, табаком, еще чем-то кислым. Господи, если ты есть, ты не можешь наказывать меня за них. Те копейки, которые я с них беру, им же идут на пользу. Они меньше «чернил» вылакают, этой отравы. Господи, я уже думаю на их языке. Скоро начну смотреть их глазами! Господи, если ты есть, сделай хоть что-нибудь! Ну почему ты вынуждаешь меня краснеть, обманывать, ловчить мерзко, копеечно? Ты ведь начал наказывать еще ту тоненькую девочку с большими наивными глазами. Чем же она провинилась перед тобой? Нет тебя, Господи! Если б ты был, то был бы справедлив и великодушен. Ты пожалел бы ни в чем не повинную девочку, ты не заставлял бы меня каждое лето терпеть адские муки. Как только температура поднимается выше двадцати градусов, все тело покрывается омерзительным липким потом и начинает зудеть, как обожженное крапивой. А помыться невозможно, потому что в обеденный перерыв я не успеваю дойти до дома, принять душ и вернуться. Даже если б я успевала, то все равно нельзя отойти из отдела, не запечатав подсобку, а для этого нужно, чтоб Митька перетащил туда все ящики с посудой. Иначе он раздаст посуду своим корешам. Придешь с обеда, и тебе начнут продавать твою же посуду. В трубу вылетишь. Все воруют, за всеми глаз да глаз нужен. Мне приходится самой ворочать ящики до тех пор, пока не наберется двенадцать полных в коридоре. Тогда я открываю большой железный засов и впускаю Митьку и смотрю, как он цепляет своим железным крюком стопку ящиков и волочит по каменному полу в подсобку. В стопках по шесть ящиков. Они все полные. Украсть нельзя. У нас с Митькой договор: если пропадет из подсобки хоть одна пустая бутылка или разобьется — он платит из своего кармана. Поэтому он следит, как за своим. Иначе нельзя. Все растащат. Господи, которого нет, о чем только приходится думать! Вечером я читаю Тургенева или Бунина Ивана Алексеевича, засыпаю далеко за полночь, просыпаюсь поздно, едва успеваю позавтракать, приготовить что-нибудь с собой — и на работу, в эту кисло-табачную вонь. И это после Бунина, после «Антоновских яблок»! За что? А эти ночи, когда вдруг пообещает прийти Фомин… Я часами ворочаюсь в постели и уговариваю себя заснуть, зная, что все равно он раньше двух-трех часов не придет. Никогда в жизни он не променяет свой очередной обход на меня… Он так и говорит: третий обход — святой. Это он говорит после второго стакана портвейна, который я для него постоянно держу в доме и сама ему наливаю. И выражение лица при этом у меня должно быть соответствующее — радушное. Если я задумаюсь о чем-то своем, перестану следить за лицом и налью ему машинально, Фомин сразу губки поджимает и отодвигает стакан. У него тоже есть своя гордость, и подачек ему от меня не нужно. Господи, если б ты был, то простил меня только за то, что я единственный на свете человек, перед которым у Фомина возникает «своя гордость». А собственную гордость я с утра до вечера сама топчу своими тяжелыми слоновыми ногами… Я топчу ее, когда он после второго стакана становится словоохотлив и рассказывает подсмотренные подробности чьей-то жизни, которые в его пересказе становятся гнусными, грязными. Господи, что я делала со своей гордостью, когда ему вдруг взбрело в голову рассматривать меня. Однажды он принес с собой бинокль и смотрел на меня, развернув его наоборот, так чтоб я ему казалась маленькой… Как он хихикал! Но иногда, когда он вдруг становится печален и слезлив, бывает хорошо. Я ласкаю его, как маленького ребенка. Он уходит на рассвете, чтобы совершить четвертый обход. В этот обход он собирает по участкам и на обычных местах пикников пустые бутылки, забытые вещи, крадет, что плохо лежит, что забыли убрать, и видно, что забыли. Вещь убранную он брать не решается. И каждый раз он с гордостью и азартом рассказывает о своей добыче. Как заядлый грибник или рыболов. Для него этот четвертый обход — что-то вроде охоты. Не было случая, чтоб он его пропустил. Зимой он иногда остается у меня на всю ночь. Мне тогда удается помыть его, сменить на нем белье… Но зимой он скучный и вялый, словно сонный барсук. Но все равно хорошо. И зимой он пьет меньше. В основном только у меня. А для этого, хочешь не хочешь, а он должен прийти ко мне. На работе я ему ничего не даю. Это у нас было обговорено заранее. Как и то, что он должен приходить затемно, незаметно и не рекламировать наши отношения. Ни то, ни другое, ни третье условие он пока не нарушил. Значит, и я чем-то ему дорога. Выпивку ведь он может достать в любом другом месте. Это не трудно. И без всяких условий… Вставание с постели по утрам для Анны Сергеевны было пыткой. Она открывала глаза, смотрела на часы и понимала, что пора подниматься, иначе не успеет помыться и позавтракать. Она отдавала своему телу команду и пыталась хоть шевельнуться, но это было не так просто. Та сторона ее тела, на которой она лежала, к утру затекала и деревенела от непомерного веса. Она ее совершенно не чувствовала. С трудом ей удавалось пошевелить пальцами на руке и на ноге. Потом постепенно весь бок начинал болезненно покалывать миллионом назойливых иголок, потом руке и ноге становилось горячо, и только после этого Анна Сергеевна могла медленно и осторожно спустить ноги с кровати. В тот день она едва открыла глаза, когда мимо окон проехал на своем смешном велосипеде участковый Васильев. Потом она услышала, как Васильев прислонил велосипед к крыльцу, поднялся по ступенькам и позвонил. Анна Сергеевна крикнула, что сейчас откроет, и чуть не заплакала от злости — она не могла пошевелить ни рукой, ни ногой… Она кое-как перекатилась к краю кровати и встала на ноги, причем правая нога подогнулась, и она чуть не упала. От страха ее прошиб холодный пот, потому что падать ей было нельзя. Кости у нее были тонкие и хрупкие, совсем как у той тринадцатилетней девочки. Она каждый раз, когда падала, боялась, что не поднимется совсем… Она влезла левой рукой в рукав халата и пыталась правой рукой поймать пройму, но рука еще не поднималась. Анна Сергеевна сообразила снять халат, надеть его сперва на замлевшую правую руку, а уж потом на левую. Когда она наконец справилась с халатом и пошла открывать, ей стало страшно во второй раз. Она поняла, что Васильев просто так в такую рань к ней не пришел бы. Значит, что-то случилось. По дороге она прихватила пепельницу, полную окурков, и высыпала в помойное ведро. Васильев знал обе ее тайны. Он вошел, поздоровался, извинился, что разбудил и попросил кофе. — У тебя, Аннушка, очень уж вкусно получается, как в кафе из автомата, — сделал он неумелый комплимент. Анна Сергеевна покраснела от удовольствия. Она догадывалась, что Васильев все про нее знает, и поэтому любое сказанное им слово приобретало для нее особый смысл и вес, а уж похвала — тем более. Когда она принесла кофе и стала сосредоточенно разливать в маленькие чашки, Васильев украдкой оглядел ее всю. Она не похудела, да, пожалуй, и не поправилась. Так же отсвечивала нежно-розовым цветом ее матовая кожа, и так же влажны и печальны были ее большие голубые глаза. При всем ее огромном весе и необъятных размерах, лицо ее хоть и было полновато, но не заплыло сплошь жиром и сохраняло миловидные, правильные черты. Оглядев ее, Васильев сокрушенно про себя вздохнул, отпил глоточек из чашки и сказал: — Вот что, Аннушка, я по делу к тебе. Я ведь не просто так, понимаешь, тебя с постели поднял… — он отпил глоток, почмокал от удовольствия и продолжал: — Жена профессора Курьева, ты ее знаешь, такая видная, с чернильными волосами, вчера на рукомойнике во дворе два кольца бриллиантовых оставила. А сегодня утром хватилась — колец нет. Она грешит на Фомина, потому что вчера вечером, в одиннадцать часов, Фомин заходил к ним, и они угощали его вином. Она не помнит, чтобы Фомин подходил к рукомойнику, но и гарантировать, что он не подходил, не может, так как вчера вечером тоже была слегка под газом. Я лично почти уверен, что Васька эти кольца взять не мог, потому что не подходил вчера вечером к рукомойнику. Для того чтоб принять стаканчик вина, он руки мыть не станет и утром, а в свой последний обход он их заметить не мог. Я специально ходил и смотрел из-за забора. Жена профессора Курьева по моей просьбе клала еще два кольца в эту мыльницу, а я из-за забора смотрел — ничего не видно. А на участки во время обходов, когда хозяева на даче, он редко заходит. Вот теперь ты ответь мне, Аннушка, на два вопроса. Во-первых, правду ли говорит жена профессора Курьева, что эти кольца в общей сложности стоят больше пяти тысяч? Анна Сергеевна, пожав плечами, проглотила кусочек сыра, который секунду назад машинально бросила в рот и незаметно жевала. — Нет, — сказала она и закашлялась. Сырная крошка попала ей в дыхательное горло. — Нет, Фомин не брал эти кольца… — сказав это, Анна Сергеевна густо покраснела, на глазах у нее выступили слезы. — Это, Аннушка, мой второй вопрос, — сказал Васильев застеснявшись, словно невольно вынудил женщину признаться в чем-то постыдном. — Но это неважно, главное, понимаешь, в том, что ты тоже уверена, что Фомин не брал. А почему ты так уверена? — Он бы мне рассказал. — Почему? — удивился Васильев. — Он мне все рассказывает, — еле слышно, как о чем-то запретном, сказала Анна Сергеевна. — Так все и рассказывает? — простодушно удивился Васильев. — А почему? — Он меня не стесняется… — сказала Анна Сергеевна. — Да-а… — проговорил Васильев, — неужели все-все рассказывает? И про стереотрубу? Анна Сергеевна кивнула. — И про все остальное? Анна Сергеевна снова кивнула. — Вот подлец! — в сердцах воскликнул Васильев. — Ну просто отъявленный, понимаешь, негодяй! Да… — он хотел сказать: «Да гони ты его поганой метлой от себя! Мало ли людей на свете! Может, кто и получше встретится», — но вместо Лого сказал: — Да, брат, Аннушка, такие дела… Он что, был у тебя сегодня? Анна Сергеевна кивнула. — И ничего про кольца не рассказывал? — Нет, — твердо сказала Анна Сергеевна. — Он про другое рассказывал. — Ну, хорошо, — сказал Васильев, — а насчет цены жена профессора правду сказала? — Я же не могу так, за глаза определить. Есть кольца и дешевле, есть и дорогие… А какой величины там камни были? — Она говорит, полтора карата и карат. — Ничего не могу сказать… Цена зависит от чистоты камня, от формы, от огранки… Бывают очень дорогие кольца, особенно старинной работы… — Ну да, ну да, — поддакнул Васильев, — у тебя-то случайно нет бриллиантов, мне для наглядности? — Откуда? — печально улыбнулась Анна Сергеевна и повела вокруг рукой. Широкий рукав ее китайского в драконах халата соскользнул к плечу, оголив руку. Обнаженной бело-розовой руки вдруг оказалось так много, что Васильев невольно отвел взгляд. — Вот все, что у меня есть… Никаких запасов, — сказала Анна Сергеевна, закончив плавное движение и уложив слегка уставшую руку на огромное круглое колено. — От мамы оставались разные безделушки, да и те продала. Все до копеечки проживаю, иногда до получки не хватает. — Ну да, ну да, — сказал Васильев, — понимаю. Ты вот что, на этого Долькина из ОБХСС не очень рассчитывай… Вот вы кормите и поите его с директоршей, а случись что, он же первый вас и припрет. Выгораживать не станет — так и знай. — Да за что же нас, Иван Петрович! — вспыхнула Анна Сергеевна. — Это уж не мое дело! — резко прервал ее Васильев. — Как говорит моя благоверная, если каждый участковый всех судить начнет, то невиновных не останется. Я тебя просто по старой дружбе предупредил, чтоб не очень на его счет обнадеживалась, потому что этого Долькина я знаю как облупленного! И ничего хорошего в его оправдание сказать не могу. А дальше уже — твое дело. Спасибо тебе большое за кофе. Он поднялся и пошел к выходу. В дверях задержался и решительно сказал: — А с Фоминым, с Васькой, ты все же разберись… Не дело это хоронить себя в таком возрасте. А если Уж судьба никого лучше не пошлет — и потерпеть не грех. Не все в жизни делается, как нам хочется. Иногда надо и потерпеть. Уж лучше быть одной, чем с Фоминым, хоть он всем нам и друг детства. Выйдя от Анны Сергеевны, Васильев сел на свой велосипед с маленькими, словно игрушечными колесами и не спеша поехал, размышляя: «Не знаешь, что и думать… Или действительно все виноваты, или вообще никто не виновен. В чем же, например, Аннушка виновата? Хотя, конечно, могла бы и потерпеть». «А ради чего?» — ответит она в свое время. Нет! Не понимаю, кому лучше! Васька теперь еще больше ворует и попадется в конце концов. А если воровать не будет, то начнет таблетки и мозольную жидкость глотать… Я-то перетерплю, как он велит, буду по ночам подушку грызть, но терпеть! И у меня есть человеческое достоинство… Если б он знал, что значит сохранять человеческое достоинство при весе 174 килограмма. Когда с утра до вечера мучительно хочется есть, когда каждый проходящий смотрит на тебя, как на редкого зверя. Одни не скрывают любопытства, другие скрывают изо всех сил, что еще хуже… А ради чего терпеть? Кому будет лучше, если я откажусь от всего? В чьих глазах я буду хорошо выглядеть? Кому до меня есть дело? Ваньке Васильеву, этому блаженному? Это ради его одобрения я должна терпеть? Что значит стыдно? Перед кем? Перед этим сбродом, который готов на животе ползать, лишь бы я в долг поверила. Нет у меня перед ними стыда! Не надо меня стыдить, не надо достоинством попрекать… Другая бы на моем месте давно удавилась, а я живу, Ваня. На свете любым тварям место есть. И худшим, чем я. Никто не заметит моего терпения, как не замечают и страданий. А ты, Ваня, и так простишь… — Когда? — спросила я. — Ты что, дура? — усмехнулся он. — Ты что, не можешь ответить? — Да уехали они, понимаешь, уехали… Я потом из сторожки видел, как они поехали. — Боже мой! Что теперь будет? — Может быть, выбросить? — с вкрадчивой улыбкой спросил он. — Тебя найдут. — Кто? — Приедет милиция с собакой, и тебя обязательно найдут. — А ты поплачь… Я люблю, когда ты плачешь. — Тебе нужно было пойти и незаметно вернуть! Господи, ну почему… Я заплакала. Он улыбался. Ему было бесполезно что-либо говорить. Хорошо, что Ванька-дергунчик испугался… Если б он взялся продать этот «Шарп», они наверняка на другой же день попались бы. Господи! Мне-то что? Что я переживаю? Ну, попались бы и попались — туда и дорога. Жалеть-то о чем? Тут кто-то закричал из очереди, и я сказала Фомину: — Уходи! И уноси эту штуку. И ко мне с подобными вещами никогда не являйся. — О! О! О! Раскудахталась! — Он даже присел, захлебываясь собственной глумливостью. — И лучше всего тебе прямо сейчас пойти к Ване Васильеву и сказать, что ты нашел эту штуку в лесу… — Ага! Сейчас побегу! Только разуюсь и шнурки поглажу. — Все, у меня там очередь. — А ты иди. — Мне надо закрыть подсобку. — Ладно, ухожу… Нужны мне твои бутылки. Ты лучше прочти мне, как она включается, а то я тычу, тычу в кнопки, и все мимо денег… Анна Сергеевна не видела самой драки, точнее, избиения Фомина. Она слышала крики разнимающих, вопли Фомина, но у нее была очередь и отойти от прилавка она не могла. Очевидцы, выбегавшие из очереди на улицу, рассказывали, что Фомин выплюнул на снег свой гнилой зуб вместе с черной кровью. И еще смеялся, что теперь к врачу не надо идти, и намекал, что этот зуб пацану обойдется дороже золотого. Фомин не появлялся целую неделю — случай совершенно беспрецедентный. Потом заходил Васильев и словно между прочим сообщил, что у Фомина скорее всего треснуло ребро в правом боку, но утверждать точно можно только после рентгена. Фомин же, упиваясь собственной болезнью и портвейном, валяется на своих матрацах. Деньги у него по причине того же ребра появились, в гонцах и собутыльниках недостатка нет, и в сторожке идет круглосуточный гудеж. Васильева, когда тот настаивал на походе в поликлинику, Фомин послал… А участковый врач Сережкин без рентгеновского снимка за диагноз не отвечает. Он боится, что у Фомина печень отбита или еще что-то повреждено… Но насильно в поликлинику Фомина не сведешь и рентген к нему в сторожку не затащишь, так что положение совершенно безвыходное. Рассказывал все это Васильев ровным и тихим голосом и вроде бы в сторону, но, замолчав, вопросительно взглянул на Анну Сергеевну. Она, ни слова не говоря, начала собираться. Когда уже уходили, около самой двери Васильев сказал: — Ты, Аннушка, это… Ну, помнишь, я осенью выступал… Мораль тебе читать пытался. Ты, это… Прости дурака, если можешь. Бывает, знаешь, затмение найдет… Начинаешь себя считать умнее других. Прости… — Я не сержусь, Ваня, — ласково ответила Анна Сергеева. — Я так и подумала, что у тебя какие-то неприятности… Ты просто был расстроенный. Ведь для чего терпеть-то? Кого этим удивишь? Ради кого? Жизнь-то одна. Ведь никто не терпит, Ваня, никто! Все только хапают. Я хоть никого не обижаю. — А вот в этом вопросе ты, Анна… — вскинулся было Васильев, но, окоротив себя, махнул рукой и, тяжело ступая по дощатому полу, вышел на улицу. Что-то странное делалось около сторожки Фомина. Анна Сергеевна долго не могла понять, в чем дело. Потом догадалась, что именно ее смущает. Это были вороны. Они запятнали все окружающие деревья своими темными телами и так плотно забили воздух криком, что звук казался материальным, как ветер или вода. Он накатывал волнами. К высокой старой груше была привязана собака. Она вела себя загадочно. То захлебываясь, лаяла на сторожку, то, поджав хвост и поскуливая, пряталась за черный толстый ствол, к которому была прислонена непомерно длинная лестница-стремянка. Вороны, рассевшись по корявым, трагически изломанным ветвям груши, с любопытством наблюдали за собакой. Стоило Анне Сергеевне открыть дверь, как из сторожки двумя мохнатыми клубками вылетели Найда и Джек. Найда захлебывалась и срывалась на визг от безудержной злобы. Обычно спокойный Джек, заведенный своей сожительницей, вторил ей простуженным лаем. Они облаивали пса, привязанного к груше. Фомин сидел около открытой форточки в разбитых валенках, в телогрейке, в корноухой своей шапке. Горло его было обмотано грязным вафельным полотенцем. Оглянувшись на Анну Сергеевну, он сказал: «Ага» — и, кивнув ей на расшатанную табуретку, снова уставился в окошко. Анна Сергеевна на табуретку не села. Она осторожно и брезгливо опустилась на кровать. Потом поняла, что долго так в духоте не высидит и начала раздеваться. — Нюра, смотри, смотри, сейчас фокус покажу, — сказал Фомин, не отрываясь от окна и приманивая Анну Сергеевну рукой. Только тут она заметила, что меж колен у него зажата малокалиберная винтовка. Когда-то в молодости Фомин занимался стрельбой. У него даже был первый разряд и разрешение на покупку малокалиберного оружия. — Смотри, смотри, — с горловым, сиплым смешком приговаривал он. — Смотри. Он осторожно высовывал ствол в форточку и прицеливался в рвущуюся на привязи собаку. Едва маленькая черная точка ствола показывалась в белом тумане, застилавшем форточку, собака поджимала хвост и забегала за толстый ствол груши. — Смотри, смотри, вот стерва! Смотри, убираю! Он убрал ствол, и тут же привязанная собака чертом выскакивала из-за ствола, и, поднявшись на дыбы, задыхаясь в тугой веревочной петле, исходила злобным лаем на Джека и Найду. — Смотри, смотри, высовываю… — сипел, брызгая слюной от удовольствия, Фомин. Он осторожно поднимал винтовку и высовывал в форточку самый кончик ствола. И снова собака укрывалась за грушей. — Вот зараза! — восхищенно восклицал Фомин. — Ну просто Наполеон, а не собака. Ты смотри, ты смотри, что делает! — И снова поднимал винтовку. — Васенька, — осторожно позвала его Анна Сергеевна. — Да подожди ты, — отмахнулся он. Но тут же спохватился и метнул острый точный взгляд на ее объемистую хозяйственную сумку. — Ну ладно, — сказал Фомин, захлопывая форточку. — Об этом позже. Здравствуйте, Анна Сергеевна, давно не виделись. Я смотрю, вы похудели от разлуки… Анна Сергеевна, не желая поддерживать этот хамовато-насмешливый тон, тяжело поднялась с застонавшей под ней панцирной койки и, подойдя к столу, начала разгружать свою сумку. Первым делом она достала обожаемый Фоминым портвейн. Фомин, сглатывая слюну, промурлыкал: — Ну человек, ну человек, Анна Сергеевна! — Васенька, тебе флюорографию надо сделать, — вставила Анна Сергеевна, сочтя, что момент самый благоприятный. — Фуерографию, — мгновенно отозвался Фомин, цепляя полиэтиленовой пробкой за специальный гвоздь в стене. — Ведь надо, Васенька, доктор велит. Он без снимка не может тебя лечить. — А кто его просит меня лечить? Пусть свою тещу от геморроя лечит, — беззлобно возразил Фомин и примирительно улыбнулся, отыскивая глазами стаканы. Закуска его не интересовала. — Я тебя очень прощу, Вася. Я никогда тебя не просила. Сделай это ради меня. — Нет. — Но почему? — Потому! — отрезал Фомин. Анна Сергеевна решила, что Фомин не хочет раздеваться при врачах. Стесняется своего грязного белья. — Мы сегодня пойдем ко мне, я тебе ванну приготовлю. У меня белье для тебя свежее есть. Поужинаем, поспишь нормально, а утречком прямо в поликлинику. От меня пять минут ходьбы. — Нет, — сказал Фомин. — И вообще… — Он оглядел накрытый стол и снова сглотнул слюну. — Мне тут некогда с тобой, Нюра, рассиживаться. Мне идти сейчас надо. — Куда идти? — По важному делу… Так что, давай по стаканчику, и почесали… — Куда ты, больной? — испугалась Анна Сергеевна. — Фуйной! Я здоровее тебя! Давай, давай, Анюта, говорю, некогда… — Послушай меня, Васенька, — взмолилась Анна Сергеевна, — нельзя же так… Тебе обязательно надо провериться. Она подошла к нему и робко протянула руку к его боку. Фомин отпрянул. — Ладно, ладно, чего руки-то распускаешь? — возмутился он. — Говорят же тебе — некогда… — Сильно болит, Вася? — Да чего ты привязалась?! Я говорю, сейчас ко мне люди придут… Ты хочешь, чтоб тебя здесь увидели? — Фомин расчетливо бил в самое больное место. — Ну и пусть! — отчаянно заявила Анна Сергеевна и решительно села. Фомину показалось, что кровать под ней начала складываться. — Полегче, полегче, — проворчал он, — у меня не мебельный магазин. И вообще, некогда рассиживаться… Я же сказал. — То ты сказал, что тебе нужно идти, теперь вдруг выясняется, что к тебе придут… Совсем заврался. — Анна Сергеевна вдруг заговорила с ним тем тоном, каким распоряжалась алкашами в своем винном отделе. И Фомин, втянув голову в плечи, стал трусовато оправдываться: — При чем тут заврался, Анюта. Скажешь тоже… Зачем мне врать? Я что, кому должен? — бормотал он, лихорадочно ища выход из положения. — Я и говорю, что за мной сейчас зайдут и мы пойдем по делам. — И какие же у тебя дела? — скрещивая руки на груди, иронично и подозрительно спросила Анна Сергеевна. — Ну честное слово, Нюра, — залебезил вдруг Фомин, — ну что уж, у меня дел не может быть? Я же тебе говорил про Геннадия Николаевича… Фомин многозначительно понизил голос и, сделав страшные глаза, выглянул в окошко. Но на Анну Сергеевну это не подействовало. Она слегка шевельнулась на кровати, утверждаясь поосновательнее, и объявила свое окончательное решение: — Я с места не тронусь, пока не дашь слово, что пойдешь в поликлинику. И пускай приходит кто угодно. — Ну хорошо, хорошо, Анна Сергеевна, даю слово! Честное пионерское! Вечером приду к тебе, и выступим по полной программе. А сейчас по стаканчику, и разбежались… — А не обманешь? — Обижаешь, Анна Сергеевна. Фомин сроду никого не обманывал. Это была такая беспардонная ложь, что от неожиданности она ему поверила. И сразу же оставила свой рабочий тон. — Значит, часиков в восемь? — заискивающе спросила она. — В девять, — возразил Фомин только для того, чтоб сразу не соглашаться. Анна Сергеевна, бесконечно понукаемая приплясывающим от нетерпения Фоминым, наконец ушла, так и не пригубив свое вино. Только она ушла, Фомин выдул одним махом ее стакан, пожевал ломтик ветчины, позвал в сторожку собак, облегченно перевел дух и рухнул на кровать, поморщившись слегка от боли в правом боку. В поликлинику он и не собирался. Он не хотел лечиться, потому что так ему было легче требовать деньги с матери своего обидчика, которую и ждал он сегодня с непонятным нетерпением. Он передал через Васильева свою просьбу (или требование) о том, чтоб она пришла именно сегодня. — Пусть обязательно сама придет, — туманно сказал Фомин. — Да ты понимаешь, что говоришь? — возмутился Васильев. — Ты что себе в голову вбил? Ты дурачок, оказывается. Смотри, Васька, если я что узнаю… — Да ладно, ладно, что я, не понимаю… Что я, себя не помню? Только пусть придет. В последний раз… — еще туманнее сказал Фомин и улыбнулся. Ирине Сергеевне, Сашкиной матери, Васильев ничего не сказал. Он рассудил, что нечего Фомину наглеть. Пусть поостынет маленько. А там время пройдет и видно будет… Ей послышалась фамилия Фомин (а на самом деле кто-то назвал парня, который недавно побил Фомина), и Анна Сергеевна выскочила на площадь перед магазином вместе со всей очередью. Увидев лежащего человека, она сослепу (еще не привыкнув после полумрака винного отдела к режущему, отраженному снегом солнечному свету) решила, что это опять валяется побитый Фомин, а красные пятна вокруг него — это вермут из разбитых бутылок. — Зачем он это сделал, как ты думаешь? — спросила я. — Что сделал, — переспросил Васильев, — повесился? — Зачем он залез так высоко? Что это, демонстранция? Бунт? Вряд ли… — задумчиво сказал Васильев. — Ему было совершенно наплевать на то, как он будет выглядеть на суку. Ему было до лампочки, что он может кого-то напугать, шокировать, ему было на всех наплевать. Он и раньше-то не придавал большого значения своему внешнему виду, а когда узнал, что жить осталось несколько месяцев, — совсем распустился, потерял последний стыд. Мог помочиться прямо посреди улицы. Не умывался, не брился. Щетина у него была не ровная, а какая-то серая с ржавчиной… Старухи, увидев, крестились. Икону из церковных ворот выломал, прибил на забор и из винтовки расстреливал… Я думаю, он так высоко залез только потому, что ниже сучка не нашлось… Тут, у груши, кооперативная стремянка стояла. Он залез, накинул веревку с петлей, на которой ему ребятишки собак приводили, — и готово… — А в икону-то зачем он стрелял? — Око за око… — Значит, во что-то верил? Все-таки бунт? — Ни то и ни другое… — туманно ответил Васильев и испытующе посмотрел на меня, словно примерившись, стоит ли меня просвещать или не стоит, пойму ли. Очевидно, решил, что пойму, и продолжал: — Это гордыня, понимаешь? — Не совсем… — сказала я. — Понимаешь, — снизив тон и почему-то оглянувшись, сказал Васильев, — он возомнил, что хозяин самому себе, что может с собой делать все, что захочет… — Как это? — Очень просто, — сказал Васильев. — Хочу — ухаживаю за собой, а хочу — плюю на себя. И не ваше собачье дело, уважаемый товарищ! Пропадаю — и черт со мной, никто не запретит. Вы мне болезнь в наказание, а я на грушу, и в гробу я вас видел в белых тапочках! Гордыня его съела. Он и профессору Курьеву позвонил не из страха, а чтоб наверняка узнать: все теперь дозволено или нет? Позвонил, пришел домой, своих собак привязал к груше и пристрелил. И ободрал. И дело тут не в портвейне, портвейна у него стало хоть залейся, ты сама постаралась… — А в чем? — спросила я. — Сохранять себя надо! Содержать! Как дорогую машину, данную тебе напрокат. И душу и тело свое надо беречь. — Как это, напрокат? — спросила я. Васильев не захотел отвечать мне на этот вопрос.ВАНЬКА — ДЕРГУНЧИК
Ванька-дергунчик был невысокий, какой-то высосанный мужичонка с желтой плешью среди редких, мышиного цвета волосиков и с крохотными, всегда очень грязными ручками. Дергунчиком его прозвали оттого, что у него в постоянном тике дергалось левое плечо. Он при этом неловко и как бы через силу поводил головой и сладко жмурил глаза. Поселковое предание гласило, что дергаться он стал после того, как Актиния Карповна перетянула его сзади по хребту только что приобретенной им пешней, имевшей вид тяжелой кованой пики на толстом березовом древке. Она узнала, что заказана эта пешня местным умельцам была за счет заначенного Ванькой трояка. Огрела она муженька осмотрительно деревянным концом, предполагая еще кое-какую пользу от него в будущем. Ванька же, не считаясь с ее хозяйской рачительностью, взял и начал дергаться. Фомин, когда прознал про это, публично удивился. По его мнению, за целый трояк живых денег Актиния Карповна вполне могла и порешить благоверного. Ванька (тогда еще не дергунчик) с самого раннего, ясного детства был помешан на рыбалке. И когда женился па энергичной, хваткой Аксинье (она тогда еще тоже Актинией не была), друзья-рыболовы предупреждали его: «Смотри, Ванюша, наше дело сторона, но уж больно она хваткая, как щуренок прожорливый». — «Ну и пусть ее, — усмехался беззаботно Ванюша, — все ведь в дом, а не из дома… Мотовка не лучше». Промахнулся Ванюша. Недомыслил он до такой простой истины, что раз тянет молодуха со всех, кто под руку подвернется, будет и с него тянуть с таким же азартом. Так оно и получилось. С годами прожорливый щуренок вымахал в матерую щуку. Пока была еще рыба в местных озерах и рыбалка имела, кроме спортивного, определенный экономический смысл, Актиния ничего против этого Ванькиного увлечения не имела. Но когда рыба в озерах иссякла, и вместо лещей, плотвы и окуней поселился в окрестных водоемах бессмысленный бычок-ротан, рыбалка Ванюше была запрещена. А так как для него рыбалка была единственной отдушиной и, можно сказать, страстью, то это запрещение вступило в серьезное противоречие со всей его жизнью. Сначала он убегал на озера, пользуясь тем, что умел просыпаться затемно. Бесшумно, как тать во нощи, он выскальзывал из постели, а затем из дома. По возвращении Ваня был готов к любым наказаниям, которые и сносил безропотно, с каким-то даже обидным равнодушием. Актиния в сердцах поколачивала рыбака, но пользы это не приносило. Тогда она пошла на крайние меры. Теперь по ночам она деловито и аккуратно пристегивала его правую ногу колодезной цепью к никелированной спинке кровати, запирала цепочку на замок, клала ключ на буфет и спокойно засыпала. Ванюша знал, что просить бесполезно и даже вредно, что ничего, кроме тумаков, он не выпросит, поэтому, лежа на спине, он бесшумно плакал, и горячие крупные слезы медленно затекали ему в уши. По профессии Ванька-дергунчик, как и его супруга Актиния Карповна, был рыночный барыга. Сегодня это настолько редкая профессия, что необходимы специальные разъяснения. «Барыга» — на воровском жаргоне — скупщик краденого. «Рыночный барыга» — это скупщик случайных, в том числе порой и краденых вещей. Скупает он их на рынке и тут же перепродает ни в чем не повинным колхозникам по цене, разумеется, существенно повышенной. Постоянной клиентурой такого рыночного барыги бывают все окрестные «синюшники», т.е. алкаши-доходяги, готовые «с похмелюги» родную бабушку за рубль «толкнуть» (продать). Дело это азартное, вроде рыбалки. Выходя на «работу», рыночный барыга никогда не знает, что сегодня попадется ему на крючок с наживкой в виде замасленного трояка. Однажды Ваньке-дергунчику попались золотые часы с тремя крышками и с боем. История эта стала легендой на Преображенском рынке, где в ту пору «работал» Ванька — еще не дергунчик. Было это в 1962 году. Новые деньги только появились, и все по привычке переводили цены на старые. Подъехала однажды на полной скорости к главным воротам рынка голубая «Волга», выскочил из нее растрепанный кавказскоговида человек, окинул беглым опытным взором суетящуюся воскресную толпу, зацепил с первого огляда Ваньку и безошибочно направился к нему. Не говоря ни слова, кавказец схватил Ваньку за рукав, отволок в сторону, вынул часы, нажал на кнопочку. Крышка откинулась с мелодичным звоном. Затем кавказец нажал на другую кнопочку, и часы пробили двенадцать раз. В Москве был полдень. — Сколько? — пересохшим ртом просипел Ванька. — Триста. — На старые? — На керенки, — ухмыльнулся кавказец, обнажив плотный ряд золотых зубов. — Золото! Проба есть. Девяносто шестая. Двести пятьдесят. Быстро надо! — Где проба-то? — чтоб выиграть время, боясь, что добыча сойдет с крючка, сказал Ванька. — Есть проба, везде проба. Давай двести — быстро надо! — Кавказец всунул ему часы в руку, и Ванька невольно прикинул их на вес. — А они ходят? — волынил Ванька, интуитивно понимая, что именно такая тактика ведет к успеху. — Ходят, не ходят! Какая разница? Здесь золота пятьдесят граммов. Давай сто пятьдесят. Очень быстро надо! — Конечно, можно было бы взять… Но ведь старые, дореволюционные, если сломаются, кто чинить возьмется?.. — Совсем глупый! Давай сотню, клади часы в карман! Прошу, как друга. — Можно было бы взять… — тянул резину Ванька, часы, однако, из руки не выпуская, — только таких деньжищ у меня при себе нет. Подожди минут десять, я достану. — Смеешься, да? Говорю, быстро надо! Совсем быстро, сейчас надо! Сколько есть? — Полтинник… — вдохновенно соврал Ванька, и внутри у него все натянулось и замерло. — Давай! — Кавказец вырвал из Ванькиных рук новенький, еще не сломанный полтинник, прыгнул в машину, грохнул дверцей и умчался. Ванька долго еще стоял не шелохнувшись. Это была самая крупная победа в его жизни. Дело в том, что в другом кармане у него благополучно лежали «дежурные» триста рублей, без которых он просто не выходил на работу. Это был, так сказать, основной капитал. Целый год Ванька купался в лучах ослепительной славы. Часы оказались редкой фирмы и прекрасной работы. Он их целый год не продавал. Потом не удержался и толкнул за «штуку» (тысячу рублей) какому-то коллекционеру. Находясь в ореоле славы, Ванька покорил сердце Аксиньи Карповны, которая до этого случая внимания на него не обращала. Она являлась крупнейшим на Преображенском рынке специалистом по предметам дамского туалета, обладала железной хваткой и щучьим аппетитом. Но, наделив ее такой необыкновенной прожорливостью, Бог словно в насмешку не дал Аксинье ума. Поэтому она промышляла по мелочам, так и не дорастя до крупных операций. Все нажитые деньги она тратила на уют, то есть захламляла тесный Ванькин домик всевозможными коврами, ковриками, гобеленами, салфеточками, статуэтками, раскрашенными фотографиями в золотых овальных рамках, хрусталем и фарфором. Она поклялась хоть под старость «выйти в люди» и зажить барыней. К Ваньке Аксинья перебралась только после того, как они официально в загсе «записались», и Ванька у нотариуса «переписал» домик на ее имя. Она рассчитывала, что Ванька долго не протянет и дом отойдет ей в награду за ее к Ваньке снисхождение. Так она об этом говорила вслух, не стесняясь. Дело в том, что Ванька с самого детства болел туберкулезом легких. Он учился вместе с Фоминым и Васильевым и был их одногодок, но в пятом классе у него нашли очаг в левом легком и перевели сперва в спецлечебницу, потом в санаторий, потом в лесную школу. Он считал, что ему с этим туберкулезом крупно повезло. Беспокойств болезнь доставляла немного, а выгоды были чрезвычайные. Во-первых, он получал пенсию по инвалидности, во-вторых, раз в году он лежал в прекрасной больнице, а в-третьих, он ежегодно получал бесплатные путевки в санаторий. Фомин любил пошутить на эту тему. Он говорил: «Ванька, поплюй на меня, может, тоже в санаторию пошлют». Обманулась в своих расчетах Аксинья. Живучим оказался Ванька, неистребимым. Уже всех барыг на Преображенском рынке пересажали, все скупки снесли, и от прежней роскоши остались там одни воспоминания, уже у самой Аксиньи половина зубов повыпадала, и ноги отекли, и звать ее с легкой руки Фомина стали Актинией Карповной — а Васька все не помирал. Только плешь стала больше, да с Преображенки он на родной щедринский базарчик перебрался. Да вот еще дергаться начал. А так вроде и без перемен. И в Щедринке у него вскоре подобралась постоянная клиентура. И первым среди прочих был Фомин. В последнее время Фомин активизировался, потому что Анна Сергеевна, его тайная пассия, отказала ему от дома и, естественно, в кредите. Ой, не бейте муху! Руки у нее дрожат..- Ноги у нее дрожат… (Исса, 1763-1827. Последний великий поэт средневековой Японии.) Ванька-дергунчик в праздники маялся от безделья и ожидания. Его личный праздник наступал обычно на другой после праздника день, когда умирающие с похмелья мужики, у которых, по их собственному определению, «горели трубы», тащили к нему из дома все, что попадалось под руку. В такие дни была самая азартная и самая захватывающая охота. Поэтому сами праздники тянулись для Ваньки бессмысленно долго. Актиния же Карповна, чей рынок практически не зависел от праздничных рецидивов, напротив, любила попраздновать со всем народом, чтоб у нее все было, как у людей, чтоб ни в чем недостатка не было. Она на 7 ноября обычно пекла пироги с капустой, варила холодец и делала треску под маринадом. Обычно с самого утра она накрывала стол новенькой клеенкой, которая, будучи извлекаема из комода только по праздникам, не утратила ни своего сильного приторно-горького запаха, ни острых складок на сгибах. Еда и вино выставлялись на стол и находились там, постепенно меняя свой облик, до глубокой ночи. Актиния Карповна обычно звала на праздники товарку Тоню Избыткову, торговку цветами, которая числилась санитаркой в поликлинике. Они садились за стол перед включенным телевизором и, манерно оттопырив мизинчики, чинно чокались хрустальными рюмками со сладким портвейном и беззлобно ругались на Ваньку-дергунчика за то, что тот опять выдул свой стакан, не чокнувшись и не выслушав праздничного тоста. Телевизор орал, товарки, перекрикивая телевизор и друг друга, вспоминали «минувшие дни». Воспоминания неудержимо перерастали в выяснения и заканчивались, как правило, легкой потасовкой, в которой всегда побеждала Актиния Карповна, так как была агрессивнее и вертче. Ванька же дергунчик, убаюканный монотонным ликованием в телевизоре и бабьей руганью, потихоньку, прямо за столом, засыпал. Будь его воля, он бы на скорую руку вытянул сразу всю свою долю портвейна и отключился на весь праздник, чтоб очнуться, когда вся эта праздничная маета окончится и наступит долгожданное всеобщее похмелье. Вся сложность ноябрьских, а особенно майских праздников заключалась для него в том, что праздновались они по нескольку дней кряду, и это время тянулось для Ваньки невыносимо медленно. Правда, за три дня народом и пропивалось в три раза больше, и похмелье у народа было в три раза тяжелее. Следовательно, и Ванькина власть над жаждущим населением становилась почти безграничной и охотничий азарт увеличивался в те же три раза. Ванька спал и на этот раз. Его супруга уже помирилась с Тоней Избытковой, и они обе сосредоточенно смотрели репортаж о празднике в республиках Закавказья. Там плясали лезгинку. В середине танца Тоня оскалилась, обнажив двадцать одну золотую фиксу и прорычала: — Ненавижу! Актиния Карповна молча кивнула и не стала уточнять, кого и за что. Она понимала, что у Тони есть причины ненавидеть кавказцев, прямых конкурентов на свободном цветочном рынке. Тоня вообще мужчин не любила. Они ей отвечали тем же. Ни один из них даже не попытался на ней жениться. Актиния с нежностью посмотрела на мирно посапывающего Ваню, и на ее глаза, воспаленные от телевизора, навернулась сладкая слеза. Тоня, заметив блеск в глазах подруги, расценила его как знак сочувствия и, навалившись на товарку своей твердой сухой грудью, цепко обняла ее черными тонкими руками и запела, раздувая жилы на шее: Лица желтые над городом кружатся, К нам в постель они та-ра-ра-рам ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться, Лица желтые, скажите, как напиться? Лица желтые над городом кружатся… И тут с большой грибной корзиной, доверху заваленной зеленым лапником, в телогрейке и приспущенных болотных сапогах, без всякого стука в комнату вошел Фомин. — Васенька, Васенька! — заискивающе вскричала Актиния, а Тоня еще шире осклабилась и низким, осипшим на рыночном ветру голосом пробубнила: — Грибник пришел хренов! Фомин никак не отреагировал на слова товарок. Надо сказать, он их вообще в упор не видел, за что они его и уважали, тогда как все остальные поселковые мужики (особенно «доходяги-синюшники») эту лихую парочку побаивались. — Готов уже! — снисходительно заметил Фомин, подходя к Ваньке. Тот спал, подперев свою легонькую головку кулачком. Фомин приблизился к нему и, шкодливо улыбаясь, аккуратно, двумя пальцами, сдвинул Ванькин локоть со стола. Ванька грохнулся лбом о стол, зацепив при этом край тарелки. Тарелка опрокинулась ему на плешь, залепив ее растаявшим студнем. Все. истерически заржали, а Ванька долго не мог ничего понять и размазывал студень по темечку. Потом он взял с комода кухонное полотенце, вытер им голову, зачем-то понюхал полотенце, швырнул его на комод, нашарил глазами свой стакан с портвейном, приложился к нему сухими губами и высосал одним духом. Честная компания все это время стонала, икала, булькала от смеха и не могла остановиться. Фомин подождал, пока Ванька выпьет, взял его стакан, налил себе, выпил, зацепил пальцами кусок трески в маринаде, прожевал и хлопнул Ваньку по плечу: — Пошли. — Куда? — удивился Ванька. — За грибами, — улыбнулся Фомин. Товарки снова залились хохотом.. Ванька, однако, поднялся и, нацепив свое тяжелое ратиновое пальто, вышел вслед за Фоминым. Во дворе Фомин раздвинул лапник в корзине и обнажил сверкающую никелем и стеклом длинную стереофоническую магнитолу «Шарп». — Врешь! — воскликнул Ванька-дергунчик. — Ну ударила, ну и что? — Ванька-дергунчик спросил это с такой отвагой, так отчаянно, что Актиния Карповна невольно опустила руку. Ведь этот паразит даже не пригнулся, даже руки не поднял для защиты. Как стоял, так и стоит, и хоть кол на его плешивой голове теши. Еще даже и шею вытянул, мол, на тебе — бей. И вправду, дернув на этот раз как-то даже горделиво своей цыплячьей головкой, Ванька зажмурил глаза и истерично прокричал: — Ну ударь! Ударь еще! Сколько хошь бей! Все равно не поумнеешь. Все равно дурой останешься. Ой-ой-ой! Держите меня! — захлопала себя по крутым бокам Актиния Карповна. — Ой, умный нашелся, специалист хренов! Пескарь чахоточный! Когда ты сдохнешь наконец?! Когда освободишь мою душу грешную? — Лайся, лайся, — снисходительно разрешил Ванька. — Можешь даже Тоньку позвать. Вдвоем у вас громче получится. Но и Тонька тебе подтвердит, что ты — дура. Тут Актиния Карповна снова замахнулась, но уже не для того, чтоб ударить, а, скорее, чтоб проверить суженого «на вшивость», чтоб убедиться — и вправду он будет стоять на своем до конца или уже подломился чуток? Ванька даже не зажмурился. Актиния Карповна, чтоб»не опускать задаром руку, шлепнула его чисто формально по легонькому затылку и села на диван. Ванька стоял насмерть. Актиния обессилела. Она тяжело сказала: — Ну? А твое слово какое? — Мое слово правильное, — сказал Ванька и удовлетворенно сел, словно отстоял свое до самого конца. — Ну сколько, сколько? — нетерпеливо прокричала Актиния. — Ты можешь по-человечески сказать? — Я думаю, — не обращая внимания на презрительный взгляд супруги, важно произнес Ванька, — я думаю, что объявлять нужно двести. И смотреть. А ту, коричневую, с подпалинами, нужно объявить двести пятьдесят и смотреть. — Вот тебе — выкуси!!! Актиния Карповна ткнула своим крепким кукишем супругу прямо в нос. Да так неловко, что Ванька по-собачьи взвизгнул от боли и повалился на диван. Из его носа хлынула алая, красивая кровь. И было непонятно, как в этом хилом, блеклом существе может содержаться такой яркий цвет. — Ох ты, Господи, — испуганно запричитала супруга, — на спину, на спину повернись! Всю обивку зальешь… Ванька перевернулся на спину, закрыл страдающие глаза и замер, сглатывая собственную соленую кровь. Спор у них зашел вот о чем. Накануне Васька Фомин привел к ним в дом человека, который назвался Геннадием Николаевичем. Как положено, выпили бутылочку водочки (Геннадий Николаевич был за рулем и не пил), закусили квашеной капустой, на которую Актиния была мастерица, которой она и приторговывала, когда на рынке других дел не было. Потолковали о том, о сем, Васька Фомин завелся и хотел слетать к Нюрке за второй, но Геннадий Николаевич инициативы не поддержал и намекнул, что торопится. Тут все немного помолчали, а Фомин засобирался. Когда он ушел, Геннадий Николаевич раскрыл свою большую спортивную сумку, на которую давно уже посматривала Актиния Карповна, и извлек из нее пять больших, пушистых, разноцветных шапок-ушанок. Еще не имея никакого реального плана и даже не успев подумать о том, что такой план нужен, инстинктивно, как уклоняется человек от летящего в него предмета, едва завидев шапки, Актиния Карповна запричитала по-старушечьи: — И-и-и, мил человек, сейчас это не продашь, сейчас люди по ондатре убиваются, а это не поймешь не разберешь что. Да и на прилавок не выложишь — милиция скрозь простреливает, и сезон не тот — зима уже вовсю. Вот бы осенью, мил человек, так совсем другое дело… Все это она пропела одним духом, самозабвенно, как глухарь, не видя и не слыша ничего вокруг. Ванька же имел время наблюдать за пришельцем и потому кривился от слов супруги, как от зубной боли. Геннадий Николаевич выслушал ее терпеливо и покивал даже в знак того, что оценил профессионализм и темперамент. Когда Актиния кончила, он сказал, словно продолжая начатую фразу: — Мне нужно получить за каждую шапку сто тридцать пять… — Сто десять… — блеснув отличной реакцией, вставила Актиния. — …рублей, — продолжал лишь на долю секунды запнувшийся Геннадий Николаевич. — Здесь пять шапок, значит, всего шестьсот семьдесят пять. Деньги мне нужны ровно через неделю. Сегодня вторник, значит, во вторник я и приеду. — Да как же мы, мил человек, ко вторнику такую пропасть шапок скинем, — запричитала Актиния, жадно перебирая руками коричневую с подпалинами, тонкого, пушистого меха шапку. — Да ведь дорого, дорого, кто возьмет? И за сто тридцать в другой раз не отдашь, да и нам за труды… Пойди постой на морозе. У Ванечки вон чахотка застарелая, он в тубдиспансере всю жизнь на учете. Он пенсию, мил человек, по инвалидности получает. На лекарства пенсии не хватает, мил человек, пожалейте вы его, ради Христа нашего Господа… Покажи пенсионную книжку, Иван… Вы бы, мил человек… Очевидно, у Геннадия Николаевича совсем не было времени. Он взглянул на часы и заговорил, не дожидаясь паузы или остановки: — От вас самих зависит, как будут развиваться наши деловые отношения. Если я буду вами доволен, если вы будете вести себя аккуратно — товара будет много. Без работы сидеть не будете. Товар вам будет привозить молодой человек. Он сошлется на меня. Деньги я буду забирать сам. Меня не интересует, за сколько, кому и где вы продадите, но у меня есть одно существенное условие: никто не должен знать, сколько вы мне за них отдаете. И вообще советую не трепаться на эту тему и сменить рынок. Здесь, в Щедринке, вы много не продадите. Здесь покупатель местный или транзитный, случайный. В Малаховке сейчас хорошая конъюнктура… — Что-что? — бойко переспросила Актиния. — В Малаховке, — терпеливо, как старый опытный педагог, повторил Геннадий Николаевич, — в этом году хороший рынок по субботам и воскресеньям. Приезжает много народа и с ближайших станций, и даже из Москвы. Практически неограниченный рынок, к тому же вас там не знают… Это тоже пойдет на пользу торговле. В Щедринке вам трудно рассчитывать на слишком большое доверие к себе. Следующий товар получите, только отдав деньги за эту партию. Вопросы есть? — Есть, — мгновенно отозвалась Актиния Карповна. — Можно хоть пятерочку скинуть за труды? Ведь ехать через Москву. На одну дорогу деньжищ сколько уйдет, и вообще командировка получается, надо бы суточные, ведь… — Так… — удовлетворенно кивнул Геннадий Николаевич, — значит, вопросов нет. Я с вами прощаюсь до вторника. Буду во второй половине дня. Постарайтесь не забыть или лучше запишите общую сумму — 675 рублей. Желаю удачи. Он наклонился, застегнул длинную молнию на сумке, перекинул сумочный ремень через плечо и вышел. В доме Ваньки-дергунчика долго молчали. Раздался с улицы звук запускаемого автомобильного движка, потом характерное урчание мотора на задней передаче, потом снова на передней, и, когда наконец звук мотора затих, Актиния Карповна сказала: — Двести пятьдесят, а коричневая — триста. — Нет, — вдруг возразил никогда не возражавший Ванька-дергунчик. Актиния, словно споткнувшись, замолчала. Она уставилась на него, как на цыпленка, вдруг запевшего голосом Иосифа Кобзона. — Двести пятьдесят, а коричневая триста, — повторила она в надежде, что или он не понял ее, или она не расслышала. — Нет! — мужественно повторил Ванька. — Что-что? — вкрадчиво переспросила супруга. — Нет, — сказал Ванька. И тогда она потихоньку начала его бить. Ваньке-дергунчику пришел срок ехать в туберкулезный санаторий. Пришла повестка. Ванька в тубдиспансер не пошел и не позвонил. — Некогда разъезжать по санаториям, — строго сказал он. Актиния Карповна ничего ему не ответила. Это и насторожило Ваньку. Он опасливо покосился на супругу. Та мыла посуду в большом мятом алюминиевом тазу, обильно посыпая ее горчичным порошком и чихая от него короткими энергичными сериями, по четыре-пять раз подряд. — С милицией не потащат, — задорно дернув плечом, развил свою мысль Ванька и вновь стрельнул глазом в сторону супруги. Та ответила короткой очередью чихов. Тогда Ванька решил развить успех. Это его и сгубило. — Ничего! Один раз можно и пропустить! — объявил Ванька и, торжественно разорвав повестку пополам, бросил ее в мусорное ведро. Едва он это сделал, как получил хлесткую мокрую затрещину. — Подними, — не повышая голоса, приказала Актиния Карповна. Ванька, поеживаясь от горчичной воды, стекающей по худенькой серой шее за ворот, достал порванную путевку из ведра, отошел с ней на безопасное расстояние и затаился у комода. Он даже не брался предугадать следующий ход супруги. Актиния же Карповна, отряхнув руки, вылила горчичную воду в помойное ведро, выплеснула ведро в сугроб на улице, помыла под пластмассовым рукомойником руки, вытерла полотенцем, подошла к супругу, вынула из его бесчувственных рук половинки повестки, сложила, прочитала про себя, шевеля губами, положила в ящик комода и сказала с явным сожалением: — Придется ехать. Сказала и забыла, и занялась своими домашними делами, и даже не заметила, что Ванька так и застыл у комода, облокотившись на него худенькими локотками и не чувствуя в них боли от толстых и жестких кружев. Неожиданное решение супруги его, мягко говоря, озадачило. Он сразу же заподозрил что-то неладное. Какой-то злой умысел против шефа, то есть Геннадия Николаевича, которого он даже про себя в пароксизме конспирации называл только шефом. Ведь не о его же, Ванькином здоровье, она печется, сроду этого не было… Он еще и не знал толком, в чем этот злой умысел, но был готов дать ему решительный отпор. Так он решил про себя, но внешне это никак на нем не отразилось. Он, как стоял, облокотившись локтями о комод и подперев ладонями свою бедовую голову, так и продолжал стоять. Актиния Карповна забыла об этой повестке, как о деле решенном. Ведь не станет же он артачиться и выступать против своей же пользы. Она закончила хозяйственные хлопоты и уселась на диван смотреть фигурное катание по новому, цветному телевизору, который она и купила-то только ради фигурного катания. Очень уж красота по цветному… Совсем другое дело. Жалко, что ее любимая Людмила Пахомова со своим Горшковым не выступает, вот можно было бы рассмотреть ее во всех подробностях. Линичук с Карпоносовым тоже, конечно, красиво, но Карпоносов какой-то непонятный, несамостоятельный и слишком чернявый. А сама Линичук такая… Пахомова была своя, а эта больно уж этакая… Так сладко рассуждала про себя Актиния Карповна, когда ее внимание привлек характерный звук рвущейся бумаги. Ванька (когда только, паразит, успел достать!) стоял все так же у комода и методично рвал, вернее, дорывал повестку. От неожиданности Актиния Карповна решила, что ее благоверный на радостях свихнулся. Ванька обычно ждал этого санатория целый год. Дело в том, что санаторий располагался недалеко от Москвы на берегу большого заповедного озера. Главврач и весь остальной медперсонал прекрасно знали и, можно сказать, любили Ваньку-дергунчика (дергунчиком, к слову, здесь никто его не называл) за тихий, приветливый и безотказный нрав, и отдельно за то, что он снабжал весь означенный персонал свежей рыбкой. Главврач личным распоряжением разрешил ему выходить на рыбалку в любое время суток и пользоваться для этого летом санаторской лодкой и любыми крупами из санаторской кладовой для сложных прикормок и насадок, а зимой — тулупом, валенками и ватными штанами, принадлежащими сторожу. Актиния Карповна, навещавшая его в санатории, знала об этом. И вот от этого рая он добровольно отказывался. Было над чем призадуматься. Она даже забыла рассердиться на Ваньку за то, что, кроме всего прочего, еще и ослушался ее, чуть ли не взбунтовался. Таким образом, они оба друг в друге ошиблись. Ведь и Ванька, честно говоря, не ожидал, что супруга будет настаивать на отъезде. До сих пор она, если и отпускала Ваньку в санаторий, то лишь сильно скрепя свое беспокойное ревнивое сердце и с глубокой убежденностью в том, что собственными руками отпускает его дурака валять. Она была убеждена, что рыбалкой от туберкулеза не лечатся. Но в этот раз, вынув повестку из почтового ящика, она почему-то пожалела Ваньку. Она подумала, что всех денег не заработаешь, а хрусталь, ковры и фарфоровые статуэтки с собой в могилу не возьмешь. Все равно от Ваньки на рынке немного проку. Он никогда не мог удержать назначенную еще дома, обговоренную, обскандаленную цену шапки. Обязательно хоть пятерку да скидывал. Сперва она думала, что он только говорит, что скидывает, а на самом деле кладет эту пятерку в карман. И чтобы проверить свою гипотезу, она несколько раз, приведя его домой под строгим конвоем, устраивала тотальные обыски с раздеванием. Только что в уши ему не заглядывала, но нигде пятерок этих не находила. И не могла найти. По будням, когда они торговали на родном щедринском рынке, к Ваньке, делаясь под покупателей, подходили различные малознакомые или вовсе незнакомые личности из окружения Васьки Фомина. Долго примеряли шапки, норой ради чисто спортивного интереса подолгу торговались и чуть не били в сердцах собственной драной шапкой оземь, получали незаметно условленную пятерку и, поглядывая на стоящую в соседнем ряду Актинию Карповиу со скрытым злорадством, удалялись. Эти пятерки Ванька переплавлял другу Фомину безвозмездно. Ему этих пятерок было не жалко. Ведь брал-то он, строго говоря, не из собственного кармана, а из общего семейного, которым безраздельно распоряжалась супруга. У самого же Ваньки потребностей почти не было. Вернее, были, но уж совсем нереальные. Он, например, безнадежно мечтал о японском углепластиковом спиннинге, о японской же или французской жилке, о надувной легкой лодке, да и мало ли о чем… Но даже мечтать о таких несбыточных вещах он позволял себе лишь наедине с самим собой и в укромном месте. Ванька опасался, что его мечты будут прочитаны на его лице и немедленно поруганы. — Ничего, — с тихой угрозой сказала Актиния Карповна, — повестку, если понадобится, тебе новую выдадут. — А я и ее порву, — звенящим, освобожденным голосом выкрикнул Ванька и вызывающе дернул плечом. Было бы нескромно подробно описывать то, что произошло в доме Ваньки-дергунчика в последующие полчаса… Да и к чему эти подробности? Отметим лишь то, что победил неожиданно Ванька. Даже хочется его по такому случаю назвать полностью по имени-отчеству — Иваном Сергеевичем. И не в этом главное, а в том, что наступающей (кричащей, стучащей кулаком по столу, замахивающейся и так далее) стороной был супруг. Это было так неожиданно, что Актиния Карловна в первые же мгновения потасовки потеряла инициативу и не только не проявляла ответной агрессии, но и сопротивлялась-то слабо. Никуда Иван Сергеевич не поехал. Мотивировал он тем, что работать надо. Было решено, что в санаторий он отправится весной, когда сезон на шапки закончится. С этого дня хозяином в доме стал Иван Сергеевич. Человек с возрастом не становится ни хуже, ни лучше, человек с возрастом усугубляется. Очевидно, Иван Сергеевич и родился с талантом служения, верности и преданности, но в силу неудачно сложившихся жизненных обстоятельств, из-за коварной болезни, лишившей его с самого детства обычной человеческой судьбы, он никогда, нигде и ничему не служил. И эта потребность лежала на дне его души, невостребованная и нереализованная. Лежала и накапливалась. И вот появился в его жизни таинственный, великий и недосягаемо прекрасный Геннадий Николаевич. В нем-то Иван Сергеевич и обрел «кумира для сердца своего». И в мягкого, расплывчатого и несколько даже бессмысленного Ваньку-дергунчика словно вставили несгибаемый нравственный стержень. Отныне все, что шло на пользу шефу, принималось и исполнялось, а все, что было во вред, решительно отвергалось. Личной корысти, как уже сообщалось, Иван Сергеевич в этом деле не имел. Инспектор ОБХСС Долькин бился с Вапькой-дергунчиком второй день. Он спрашивал: — Неужели ты думаешь, что мы тебя не расколем в конце концов? Ванька молча глядел в сторону. — Вот как трахну тебя телефонной трубкой по башке, небось сразу голос подашь, — беззлобно предположил Долькин. Ванька молчал. И чем больше ему угрожали, тем выше и упрямее он поднимал голову. — Да ты понимаешь, что мне лично все равно, откуда ты получил шапки. Хоть бы ты их родил… Я же тебе, дураку, стараюсь облегчить жизнь… Ты-то мне совсем не нужен. Я могу и вообще отпустить тебя, если скажешь, кто дал шапки. От кого ты их получаешь? И на суде это тебе зачтется, как добровольная помощь следствию. На тебя еще могут навесить незаконный промысел, а так бы ты чисто проходил, по мелкой спекуляции. Я же о тебе, дураке, беспокоюсь, а ты молчишь. Я вот к тебе даже какую-то симпатию испытываю, как к невинно пострадавшему. Я тебя хочу вытащить из этого преступного болота. Ты что думаешь, мы не знаем, кто шапки шьет? Плохо ты о нас думаешь… Мы все знаем. Я только хочу, чтоб ты свою совесть облегчил, чтобы ты стал честным человеком. Ну, кто? Ванька горделиво отвернулся к окну. — Ну хорошо, тварь! Ты у меня заговоришь, гнида! Ты у меня запоешь, — прошипел в бешенстве Долькин, сам еще не зная толком, в результате чего у него «запоет» молчащий до сих пор Ванька-дергунчик. Молчал Ванька натурально, то есть не произносил ни одного слова вообще. И не потому, что его личный адвокат избрал молчание способом защиты. Не было у него адвоката. Молчание для него было активным выражением его преданности Геннадию Николаевичу, его борьбой. Этот способ борьбы был явно им заимствован из какого-то кинофильма, увиденного по телевизору. Он был навеян образом партизана-подпольщика, пойманного фашистами и вкладывавшего всю свою ненависть и презрение в яростное и гордое молчание, которым он отвечал на любые, даже безобидные, вопросы.ВАСИЛЬЕВ
Смеется в основном тот, кто не понимает! Ведь не смеются, когда видят на велосипеде простого человека. Привыкли, понимаешь. А раз едет человек в форме, то можно на него пальцем показывать… На Толстого, когда он на велосипеде ездил, тоже пальцем показывали. Так то были необразованные, обыватели, мещане, купцы и забитое крестьянство. Что же эти, которые, понимаешь, и школу, и ПТУ, и техникум, а некоторые и институт закончили (на моем участке, по паспортным данным, таких тридцать пять человек), пальцем показывают? Начальству легко рассуждать, когда к его услугам и патрульная и оперативная машины, и мотоциклы… Когда он едет на оперативной машине по своим личным делам в Москву или еще куда-нибудь, то на него пальцем никто не показывает… Молчат все. И я молчу. Ну, и ты в ответ прояви хотя бы человеческое уважение, раз понять не в состоянии. Начальник и подчиненный, будьте взаимно вежливы! Конная милиция до сих пор существует. Я специально обращался в библиотеку. Удалось достать несколько снимков велонизированной милиции. И никто, между прочим, пальцем не показывал. Имели уважение и доверие. Раз милиция — значит, так надо, значит, знают, что делают. И велосипед был тогда не игрушкой, а серьезным транспортным средством. А сейчас каждый мальчишка может иметь… Другой еще и нос воротит, мопед ему подавай… И подают! Чего для родного дитяти не сделаешь? Отсюда и распущенность. Потом хватаются за голову. Откуда, что, почему? Растленное влияние Запада! Распущенность нравов! А у нас своего Запада и своей распущенности хватает. Еще почище западной. Приезжайте к нам в Щедринку в пятницу или в субботу вечером. На пляже все пьяные, кругом бутылки, и притом не простые, а заграничные. А как же! Интеллигенция, понимаешь! Потом тут же в кустах блудят! Я однажды спугнул одну парочку. В чем мать родила были. И не поздно, светло еще и около дороги прямо. Я подхожу, понимаешь, а они и бровью не повели. Ну, придвигаюсь я к ним боком, чтоб не видеть всего этого… Я же не Фомин в конце концов… А они хоть бы хны… Покашлял, погмыкал, глянул бегло — они оба смотрят на меня, а она еще и подмигивает. Чего, говорит, товарищ старший лейтенант, испугались? Присоединяйтесь к нашей компании. Ну, понимаю, припекло, .увлеклись, себя не помнят, выпивши, предположим, так должны бы вспорхнуть, как воробушки, врассыпную… Хоть прикрыться бы как-нибудь… Нет. Ухмыляются. А девица, да уж взрослая, лет под тридцать, при полном хозяйстве (хочешь не хочешь, увидишь! Все в глаза так и лезет), она даже руки тянет, извивается и стонет, понимаешь, как по-настоящему: «Ну что же ты, лейтенант, неужели не хочешь… Или я для тебя нехороша? Ну, посмотри, посмотри, не бойся!» Сейчас, говорю, сейчас, милая… А у самого голос сел, сиплю, понимаешь, как петух придушенный. Сейчас, говорю, а сам глазами рыскаю. Тут на счастье старая, злая крапива, в рост. Вырвал целый веник и начал их охаживать без разбора. Вот тут-то они вспорхнули. Я думал, парень в драку полезет, уже приготовился, но тот ничего. Только подстилкой укрылся, на которой они устроились. С девки своей стянул и укрылся. Попарил я их всласть, сел на велосипед и уехал, не оглядываясь. Захотят жаловаться — найдут. Не так много у нас милиционеров на велосипедах… Вечером я все рассказал жене. Я не ханжа и не буквоед какой-нибудь. Занимайся ты, чем хочешь, хоть и любовью. Если по обоюдному согласию, то милиция тут ни при чем. И весь мир ни при чем. Царь Соломон понимающий был мужик, так он в свое древнее, доисторическое еще время говаривал: «Ненависть порождает раздоры, а любовь покрывает все грехи». Это в том смысле, что если ты любишь, то ты безгрешен. Но кто же свою любовь на люди понесет, если это любовь. Нет, это блуд, когда на людях, когда детишки рядом. А в милицию их вести штрафовать и на работу сообщать — значит, блуд этот ворошить и смаковать… Народ последнюю совесть прямо на глазах теряет. Жена говорит, что это от сытости и от пьянства. Начальник нашего отделения уверен, что все оттого, что милицию перестали бояться. И не преминет уколоть при этом, что именно такие, которые разъезжают в форме средь бела дня на детском велосипеде, окончательно подрывают авторитет милиции… Во-первых, велосипед не детский, а складной, «Кама». Дефицит, к тому же, страшный. Очень удобен для работы. Не приходится каждый раз, как садишься, ногу через раму задирать, будто ты кобель… А если у меня, скажем, ноги короткие от природы и шинель? Хоть с пенька или со ступеньки садись… А во-вторых, велосипедом ничей авторитет уронить невозможно. А вот когда у нас на повороте под горкой стоят гаишники в кустах со своим радаром и с помощью дорогой техники трояки сшибают — это авторитета не прибавляет. Или когда пьяный в одном автобусе с милиционером матерные анекдоты дружку рассказывает и гогочет похабным смехом, а милиционер, домой с дежурства возвращающийся, в окошко смотрит и делает вид, что не слышит, — вот тогда вера в милицию у народа пропадает. Народ начинает понимать, что милиционер — не символ справедливого закона, действующий круглосуточно, а такой же обыватель, как и он сам, и так же стремится отбыть свои рабочие часы, а дальше — хоть трава, понимаешь, не расти. А то прямо на моих глазах приходит наша дачница, доктор Гвоздеева, к дежурному с заявлением, что у нее пропал гамак. Она приехала с работы — гамака нет. Ну, дежурный Кутепов с улыбочкой ей и говорит: «А вы к Фомину сходите, у него в сторожке не заперто. Если у него нет, то, считайте, пропало. Мы вашим гамаком заниматься не будем. Тут более ценные вещи пропадают, и то мы ничего сделать не можем… И вообще, — говорит, — как вам не совестно из-за такого пустяка заявления писать, людей от дела отрывать?» Это надо же?! Он ее еще и посовестил за то, что она пришла и попросила его выполнить служебный долг. И улыбнулся, и развел руками, и она вроде устыдилась своих претензий… Она ушла, я ему хотел сказать и вдруг понял, что ему уже поздно говорить. И ей поздно. У нее теперь все довернулось в мозгах и улеглось. Навсегда. А велосипед, к слову сказать, не только вредит, но и помогает. Я ведь на велосипеде везде успеваю. И к магазину, когда Долькин в штатском со своим «дипломатом» из него выходит. А в «дипломате» у него непременно две палки сухой кооперативной колбасы да шпротов пару баночек или лосося, коньяк, вот и считай… Однажды я взял грех на душу, и когда тот в дежурке «дипломат» забыл, я крышечку открыл, да так и оставил. Смотрите, дорогие сослуживцы, и завидуйте. Его минут пять не было, а когда вернулся, и бровью не повел, как те голые в кустах. Защелкнул и пошел. Где же заведующей и Аннушке на Долькина набраться? Я их не защищаю, но ведь им нужно и свое наваривать, и Долькина оправдать. А Долькин им обходится минимум в тридцатку каждой. Чаще раза в неделю он не ходит. Совесть имеет… Однажды Калинычеву за пивом он так и сказал. Вот таким он словом пользуется — «совесть». А чего не воспользоваться, раз оно есть! Правильно говорит, понимаешь. Ведь другие и два раза в неделю приходят… Кого Долькину бояться? Прокурора? Так они вместе с прокурором по субботам в сауне парятся и чай с мятой пьют в целях дальнейшего оздоровления собственных организмов. А прокурор, он человек язвенный, непьющий и неподкупный, и с утра до вечера занят делами, масштабы которых нам, простым смертным, и умом окинуть невозможно. Да разве до старшего ему лейтенанта Долькина, который, к тому же, швейцарское лекарство от язвы через свои многочисленные каналы достает. Начнешь все перечислять — зубы с тоски ноют… Но не это самое страшное. Страшно то, что все на глазах у ребятишек наших делается. Без всякой застенчивости, без оглядки. А ведь будем и мы старыми и беспомощными, а детки займут наши места. Ох и не завидую я всем нам… Вот за деток бы я всех… Тут крапивой не обойдешься! Но возникает законный вопрос: с кого начинать? За кого ни возьмись, он всегда может или на соседа, или на начальника кивнуть. И каждый может задать справедливый вопрос: почему именно с меня начали? Ведь только оглянись, и в любой соседней луже, как сказал классик, найдешь гада еще гаже… Вот так-то, дружок… Тут-то и подумаешь, что Фомин, живущий без паспорта, ворующий гамаки и початые бутылки, чуть ли не ангел. Это как же теперь их мерить? Чем? Количеством украденного? Тогда Фомин точно ангел, даже по сравнению с Долькиным. Я сам не святой. И за мной грехи водятся, но я же их стесняюсь. Я в них раскаиваюсь. Я перед детишками рюмки себе не позволяю, дурного слова. А как же! Как же мне с них потом спрашивать, если я сам себя не соблюдаю! А у меня их четверо. Пир во время чумы! Вот как я это называю. Все живут будто в последний день. Ничего не стоит обмануть соседа… Как же так, думаю, тебе же с ним еще всю жизнь жить! Как же ты ему в глаза-то будешь смотреть? Все живут, как будто завтрашнего дня не будет. Да, я занудствую, да, завожусь из-за мелочи — и так можно сказать. Но только слепец так скажет. Ведь чем пустяковее дело, тем страшнее. В этом-то и весь ужас, что из-за червонца идут на обман, на попрание дружбы, добрососедских отношений. Галина Ивановна, женщина кругозора обширного и характера уже устоявшегося, как-то рассказала, что в соседнем районе целую подпольную трикотажную фабрику раскрыли, миллионами люди ворочали. Так они, когда их за жабры взяли, успевали не трижды, а семижды в день друг от дружки отрекаться, и то ничего. Никто не охает, не ахает, волосы на себе не рвет, в грудь не стучит. Попались — отсидят. А выкарабкался — значит, молодец. — По-твоему выходит, кто ловчее соврал — тот и не виноват? — Выходит, так. Виноват или нет, у нас народный суд определяет. А если каждый участковый начнет судить… — » Ну хорошо, хорошо, пусть не участковый, пусть. Но если суд ошибся, если его обманули, подкупили, если вообще ворюга не попался, то кто же ему судья? — А никто! — сказала она. Договорить мы не успели. Прибежала жена профессора Курьева Александра Павловна. У нее бриллиантовые кольца пропали, которые она на алюминиевом рукомойнике во дворе оставила. Хватилась утром — колец в пустой мыльнице на рукомойнике нет… А вечером там около дачи Фомина видели. Так они его каждый день видят. Галина Ивановна моя терпеть не может эту Александру Павловну. Та ходит в таких обтягивающих рейтузах, что каждую ямочку на заднице видно. А обтягивать там есть что! Будь здоров! И под кофтой у нее никакого белья нет, хозяйство ее от каждого шага так из стороны в сторону и болтается. И волосы она носит фиолетовые, и детей у нее нет (у Курьева в прежней семье две дочки), и взяла она своего профессора с боем, со всеми бабскими увертками, которые только нам, мужикам, и не видны, а для женщины они все как на ладони. И вот ее материальные интересы я обязан защищать как свои. Вот уже два года, как меня мучает этот простой и даже дурацкий вопрос — как мы живем? Я его всем задаю. Все плечами пожимают. Одни говорят — плохо, и начинают жаловаться, что в магазинах ничего нет, ничего не достанешь, ни мяса, ни масла, ни импорта — ничего. Но как раз у них-то все есть. Достали! С переплатой, в очереди, но достали. Другие говорят: ты вспомни — раньше щи с мясом раз в неделю ели, колбаса, сыр, консервы только по праздникам… А теперь тащат все целыми батонами! И все плохо живем… Частных машин — не протолкнешься, около каждого дома места не хватает ставить… И все мало! По-ихнему выходит, хорошо живем. Только стоит ли жизнь колбасой мерить? А может, они правы, может, человеку больше ничего и не надо? А что? Сыты, дети здоровы, одеты, обуты, на машинах разъезжают, чего же больше? Никогда не забуду один случай. Попали мы с женой на семейное торжество, к ее старинной подруге. Меня заранее предупредили, чтоб я не заводил там своих душеспасительных бесед, потому что будут очень крупные «деловары». Не знаю, какими делами они занимались, но про одного ходил слушок, что он миллионер. Дело было зимой. Он приехал на «Волге» с личным шофером. Сам весь в бобрах, жена в норке. Золото, бриллианты, и все это крайне уж беззастенчиво, с гордостью, как ордена. А все окружающие и смотрят на это, как на ордена, с почтением, с завистью. Подарок этот жулик привез какой-то баснословный — старинный хрустальный кувшин с серебряной ручкой и крышкой. Говорили, рублей семьсот стоит. А я даже и не злился. Я на это смотрел уже просто с любопытством, как на двухголового теленка. Когда выпили за хозяйку, за ее родителей, детей, миллионер встал и сказал со всей серьезностью: — Друзья мои! Выпьем за нашу кормилицу, за нашу мать родную — за Советскую власть, благодаря которой мы имеем то, что мы имеем. Многие ей лета! Нет, нехороша наша жизнь, если больше всех ею довольны жулики. Через три дня Васильев явился на дачу к Курьевым. Профессор был на работе, а Александра Павловна хлопотала на веранде в пышном розовом пеньюаре. Завидев Васильева на его зеленом велосипеде, Александра Павловна всплеснула руками, опрокинула турку с кофе и полетела навстречу участковому, раскидывая на бегу полы невесомого пеньюара. — Ну что, ну что, голубчик, Васильев, нашли жуликов? — Нет, — Васильев в смущении отвернулся от прелестей Александры Павловны, — пока не нашли. Ищем… — Васильев, голубчик, — взмолилась Курьева. — Вы не стесняйтесь, скажите, если нужно кого-то поощрить, подтолкнуть, мы готовы немедленно, любую сумму. И вас лично я прошу учесть… Если вы найдете кольца, вас ждет премия, как мы и говорили. Мы свое слово умеем держать. Я думаю, вы только один можете… Мы совершенно уверены, что это мерзавец Фомин. И если вы, как старожил, по-свойски, по-мужски на него надавите, то он обязательно расколется. Ну в крайнем случае, пообещайте и ему деньги, ну, выкуп, что ли. Ведь он же, мерзавец, и продать эти кольца не сможет, он же, скотина, их за бутылку отдаст. Васильев, голубчик, я очень прошу вас, ну сделайте холь что-нибудь. Я не знаю, как буду вам благодарна… Вы меня понимаете, голубчик? — Понимаю, понимаю, — поморщился Васильев. — Я вот что хотел уточнить… Вспомните, пожалуйста, поточнее, когда вы в то утро подошли к рукомойнику, где находилась мыльница, в которой вы оставили кольца? — На земле, точно. — А может, это вы сами ее нечаянно уронили? — Ну что вы, я еще в своем уме! — Ну, хорошо… Вот у меня какое дело… Я хочу проверить одну гипотезу. Я не гарантирую, что обязательно найду кольца, но проверить надобы… Чтоб не думать больше об этом. — Пожалуйста, пожалуйста, проверяйте любую гипотезу, я только «за»… — Но, понимаете, Александра Павловна, мне для этого нужен литр водки или червонец. Начальство никаких таких частных денег мне не выпишет, а это именно частные деньги… Для уплаты частному лицу. — Ради Бога, голубчик, ради Бога, сколько нужно, столько и заплатим. — Но понимаете, Александра Павловна, я не могу ничего гарантировать… Может, эта гипотеза и ошибочна. — Я вам беспредельно верю! — патетически воскликнула Александра Павловна. Взметая полы пеньюара, она упорхнула в комнату и вскоре вернулась с Двадцатипятирублевой бумажкой. — Вот вам, голубчик, пожалуйста, — и пожала Васильеву руку. — Но у меня нет сдачи, — забормотал Васильев. — Какая сдача! Бог с вами! Берите, сколько потребуется… — Да вы что?! — побледнел Васильев. — Да мне нужен червонец или литр водки! Или вы думаете, что я эти деньги себе хочу?.. — Ничего я такого не думаю… — испугалась Курьева. — Я имела в виду, что сдачу можно и потом. Васильев сунул четвертак в карман, махнул раздраженно рукой, вскочил на свой зеленый велосипед и умчался. Через час с четвертью он въехал в дачный поселок на огромной импортной машине с люлькой на длинном двухсуставном подъемнике. Васильев с сосредоточенным видом сидел рядом с водителем, а велосипед был приторочен за кабиной. Машина остановилась около дачи Курьевых. Васильев проворно забрался в люльку, машина взревела, и ее длинная рука стала медленно распрямляться. Васильев, бледный и торжественный, стоял, вцепившись в края люльки, и под натужный вой гидравлических насосов медленно возносился в небо. Замерев и открыв рты, смотрела на него неведомо откуда набежавшая детвора. Были тут и взрослые. Предположения по поводу того, что же собрался сделать их чокнутый участковый, стали высказываться самые смелые и неожиданные. Васильев, к счастью, их не слышал. Он был уже высоко, над вершинами самых высоких деревьев. Он сделал знак шоферу, и стрела подъемника замерла. Вот она (опять же по знаку Васильева) подалась вправо, потом немного назад, потом опустилась, и Васильев, перегнувшись через борт люльки, стал копаться в кудрявой березовой макушке, скрывшись в ней с головой. Потом он вылез из листвы, отряхнулся и сделал шоферу новый знак. Машина, не опуская люльки, медленно и осторожно передвинулась к другому дереву. И опять шофер, управляемый Васильевым, долго прицеливался люлькой, пока не опустил ее в нужное место, и опять Васильев скрылся в листве по пояс. Так они объехали с добрый десяток деревьев. Потом вдруг Васильев вынырнул из очередной макушки и заорал во все горло: — Майнай! Шабаш! Майнай! — и замахал рукой. Когда люлька опустилась, он выбрался на землю, отвязал свой велосипед, прислонил его к забору, пожал руку шоферу и отпустил машину. Затем отыскал в толпе любопытных и почему-то испуганных дачников жену профессора Курьева, подошел к ней и протянул ей пятнадцать рублей. — Вот, Александра Павловна, ваши деньги, сдача. — Александра Павловна не осмелилась возражать и безропотно взяла деньги. — А вот ваши кольца, — выждав, пока она уберет деньги, сказал Васильев и протянул ей кольца на раскрытой ладони. Любознательная публика, окружавшая их, мертво молчала. Я думал, Фомин сразу догадается, зачем я к нему пришел. Я и спросил-то у него шуткой, чтоб разговор начать: — Когда ты бутылки-то заберешь? — Какие бутылки? — спросил он. — Ну те, которые ты у дороги оставил. — Около какой дороги? — Ты мне дурака-то не валяй! У той дороги, где стоянка машин была. — Каких машин? — Обыкновенных! На которых ездят… — Мало ли на каких ездят… — А ты все-таки забери бутылки, там рубля на три. — И где же мне их забрать? — Да они у меня в сарае… — А машины где? — Машины уехали. — Так чего же ты мне голову морочишь? — Нет, это ты мне голову морочишь. Ишь, разошелся! Ну-ка дыхни! Пил? — А ты меня угощал? Поставил бы другу в честь всенародного праздника. — А зачем тебе ставить? Ты бутылки сдай и купишь себе червивки. — Какие бутылки? — Те самые, на которых твои отпечатки остались. — Ах, те самые! — состроил удивленную рожу Фомин. — Те самые. — А разве ты мне их отдашь, с отпечатками-то? Они же тебе как вещественные доказательства потребуются. — Отдам, если магнитофон вернешь. — Какой магнитофон? Он специально придуривался, чтоб завести меня. Но ничего у него не вышло. Я был совершенно спокоен. Я успокоился с того самого момента, когда те люди сказали, что это не их бутылки лежат под кустом орешника. Я совершенно отчетливо увидел, как поставил Фомин на землю свою знаменитую «бутылочную» (бывшую грибную), заштопанную разноцветной проволокой корзину, как начал осторожно, чтоб не звякнуть, выкладывать под куст пустые бутылки, как огляделся по сторонам (интересно, где эти туристы в это время были?) и подошел своей скрытной воровской походкой к пеньку. Я увидел, как они непохожи… Фомин в своем замасленном ватнике и новенький, сверкающий «Шарп». И тут я спросил у туристов: «А вы-то где были?» Я это и без того знал, но мне хотелось уточнить. Они замялись и стали переглядываться. У обоих мужиков лица сделались сразу немужицкие, а женщины (они были намного моложе) скривили презрительно губы. Одна ухмыльнулась и сказала: — Мы в машинах были. — Понятно… — сказал я. — Мы там любовью занимались… — Меня эти подробности не интересуют! — одернул я ее, но она закусила удила. — Мальчики думали, что им это дешевле обойдется, но ничего, правда, мальчики? — Татьяна, перестань… — А правда, что мы будем проходить по делу свидетелями, если вы найдете жуликов? — Татьяна, перестань! — прикрикнул на нее тот, что постарше. Потом он, очевидно, принял решение и отвел меня в сторону. — Вы, надеюсь, понимаете, что никто не заинтересован в огласке. Хотелось бы, чтоб эта история осталась между нами. — Вы что, не хотите, чтоб было заведено дело? — спросил я у него. — Понимаете, товарищ старший лейтенант, дело это несколько щекотливое, и если… Вы, конечно, попытайтесь найти магнитофон, по… — Я попытаюсь, — пообещал я ему, собрал бутылки в авоську, укрепил на багажнике и покатил в поселок. Бутылки я взял, конечно, не для того, чтоб снимать с них отпечатки Васькиных пальцев. Они были нужны мне как аргумент в разговоре. Мне нужно было только упомянуть ему о том, что они есть и лежат у меня в сарае. — Ну так что? — спросил я. — Что-что? — переспросил Фомин. — Отдашь магнитофон? — Когда? — Что, когда? — Когда отдать? — Сейчас. — Нет, — вздохнул Фомин, — сейчас не отдам. А дня через три отдам. — Что это еще за три дня? Он еще торгуется, понимаешь! Как миленький отдашь и в ногах будешь ползать, понимаешь, чтоб я тебя в тюрьму не посадил. — В тюрьму ты посадить не можешь, на то твоей власти не хватит. Самое большое, что ты можешь, — это посадить меня в КПЗ. — Сейчас нет КПЗ, — поправил я его. — Сейчас есть следственный изолятор. — А хрен редьки не слаще, — ответил он на мою поправку. — Значит, не хочешь возвращать? — с угрозой спросил я. — Я же сказал, через дня три. Тебе-то не все равно? — Но почему? — не сдержал удивления я. — Музыку послушать хочу! — сально улыбнулся он, словно произнес какую-то похабщину. — Ты не шути тут, понимаешь! Музыки ему захотелось… Ну, где ты эту музыку прячешь? Давай! Некогда мне тут с тобой… Я заглянул под кровать, в тумбочку обшарпанного письменного стола. Магнитофона там не оказалось. Других укромных уголков в его сторожке не было. Он вообще был весь нараспашку, мой школьный товарищ Фомин. Он не стеснялся и не скрывал ни одного своего порока. И от этого они казались не такими уж страшными. — Ну, ладно, — я сменил тон, — ты можешь по-человечески объяснить, почему сейчас отдать не хочешь? Ведь странное, ей-богу, положение получается. Милиционер поймал жулика, а тот не хочет возвращать украденное, и милиционер его, как ребенка, уговаривает. Ведь я тебя, Вася, действительно посадить могу. — Ну, во-первых, ты меня не поймал, во-вторых, ты не милиционер. — А кто же я? — Да так… Нянька из детского сада. Был бы ты настоящий милиционер, давно бы всех жуликов пересажал. Их в нашем «Резисторе» навалом. Через одного. А ты нашел крайнего, Ваську Фомина, и пригребываешься к нему с утра до вечера. А музыку эту я действительно послушать хочу. Дня два-три послушаю и верну. Был бы ты, Ванька, человеком, я бы и тебе завел… — он опять скабрезно ухмыльнулся. — Там такая музыка! Одна баба там такое ноет! Потом послушаешь, когда отдам. Только сперва запрись в кабинете… — он опять улыбнулся и подмигнул. — А если хочешь побыстрее — то сам найди. В дачном поселке главные улицы были хорошо укатаны, а кое-где и посыпаны песком, поэтому даже зимой я пользовался велосипедом. Все-таки расстояния у нас большие и везде не поспеешь при всем желании. Проезжал я однажды мимо нашего промтоварного магазина. Одна стена у него почти вся стеклянная. В тот день девочки-продавщицы к Новому году готовились, елку устанавливали и завесили все стекло изнутри черной тряпкой. День был ясный, солнечный, тихий, снега сверкали, и витрина отражала нашу действительность, как настоящее зеркало. Ехал я в тот-день по очень неприятному делу, голова моя была забита всякими невеселыми мыслями, и поэтому ничего вокруг я не замечал. Крутил я потихоньку педали, смотрел под колеса, чтоб не наехать на скользкий бугорок, и, поровшись с магазином, я вдруг боковым зрением уловил какое-то бесшумное параллельное движение. Оглянулся и вижу: по солнечной белоснежной улице на нелепом маленьком велосипеде едет несуразный толстенький милиционер в кургузой шинельке, задравшейся сзади щенячьим хвостом. На голове его криво сидящая, жеванная какая-то шапчонка. На толстых щеках младенческий румянец. Я не узнал себя. То есть не сразу узнал. И какую-то долю секунды я себя видел таким, каким меня видят все люди. И жена. И дети. В эту долю секунды я успел и усмехнуться над собой, и осудить, и запрезирать… И как только я понял, что это и есть я (это случилось уже в следующее мгновение), то всего меня обдало жаром. Кровь бросилась в голову. Я затормозил, не слезая с велосипеда, встал ногами на землю и уставился на себя во все глаза. Начал подробно и внимательно рассматривать, что же я собой представляю на самом деле? Потом я пытался вспомнить, каким же я себя видел раньше. Но тот, прежний взгляд не возвращался. Я уже не видел себя обычным, вполне терпимым самим собой, таким, с которым свыкся, которому прощал все. Есть такие рисованные головоломки, на которых, скажем, изображена старуха, а ты должен в ее чертах рассмотреть молодую, красивую женщину. Ты долго ее не видишь, хоть глаза сломай. И вдруг наступает какое-то просветление, и ты перевоплощаешь безобразное старушечье лицо в молодую красавицу. И все! Назад пути нет. Ты, конечно, можешь усилием воли заставить себя разглядеть прежнюю старуху, но при беглом взгляде видишь только красавицу. Примерно то же самое произошло и со мной. С той только разницей, что мне еще очень долго не удавалось увидеть себя прежнего. Это так поразило меня, что в тот же вечер, когда дети угомонились и заснули, я захотел рассказать об этом жене. Я уже и рот раскрыл и что-то про витрину начал говорить и, наверное, вовремя осекся… — Ну и что? — позевывая, спросила жена. — Я говорю, Новый год скоро, — соврал я. — Все готовятся. Елки наряжают. Нам, наверное, надо игрушек подкупить. — Ничего, — зевнула жена. Она очень уставала за день. — Купим больше серебряного дождика, он дешевый. Галина Ивановна заснула, а я лежал и чувствовал, как кровь шумит в голове и как горят щеки. И вдруг я сильно струсил. Я подумал, что и у Галки на меня другой взгляд. Тот, еще молодой. Я вдруг представил себе, что с моей наводки она посмотрит на меня новым взглядом и увидит то, что увидел сегодня в витрине я. А если она не сможет вернуться к тому прежнему взгляду? Я еще долго ворочался и вздыхал. У каждого есть за спиной поступки, которых он стыдится всю жизнь. Те поступки, в которых он даже со временем так и не сумел оправдать себя. А каково же смотреть на эти поступки новым, беспощадным взглядом? Таким взглядом, каким, возможно, смотрели на эти поступки посторонние люди. Если существует «тот свет» и если вправду душа бессмертна (Господи, как хотелось бы в это верить), то ад создаем мы сами, в самих себе. Страшно представить, что ты навечно (если душа бессмертна) останешься один на один с этими воспоминаниями. Жизнь милосердна, она не дает возможности быть постоянно сосредоточенным на своем стыде или страшнее того — позоре. Эти воспоминания вытесняются из сознания насущными заботами. А каково же на том свете без бренной плоти и без суетных забот о ней, без всякого прикрытия, без лицемерия, без психологических уловок, один, навечно, перед своим прошлым, перед прожитой с позором жизнью, в которой ничего изменить уже нельзя? Вот это — ад! Это пострашнее, чем раскаленную сковородку лизать. Такая вот была у меня ночка. А тем злополучным днем я ехал на своем велосипедике к Сашкиной матери Ирине Сергеевне с неприятнейшим разговором. Ехал и не знал, как смогу ей объяснить, что Фомин данный ею четвертак уже пропил и требует второй. Я боялся, что этим просьбам теперь конца не будет. Нужно было ей объяснить, почему Фомин посылает свое циничное требование через меня, представителя власти и закона. И почему я покорно выполняю его паскудное поручение. Уж больно много у Фомина было свидетелей. Сашка избил его около винного магазина. Велосипед я сложил пополам и задвинул за старый шкаф в сенях. В шкафу этом висела ненужная одежда, которую жалко было выбросить. Да и сам шкаф, если бы выбросить все его содержимое, оказался бы совершенно ненужным. Да и велосипед, оказавшись за шкафом… Начальник отделения капитан Степанов выматерился с облегчением и перекрестился натуральным образом, когда я это сделал. — Наконец-то, — сказал он. — Дошли до Бога мои молитвы. Я уж и не надеялся. Я думал, ты не только меня, я думал, что ты и свой собственный разум переупрямишь. Нашел упрямого! Упрямые в этой жизни кое-чего добиваются. А я даже своего права ездить, как мне удобно, на велосипеде отстоять не смог. Да и в остальном… Лейтенантские погоны к сорока семи годам… Учиться надо было в свое время. А то я десятилетку дотянул кое-как и на фабрику, потом в армию, оттуда по направлению в милицию… Предложили поступать на юридический, но тут Галина Гришку родила. А молоко у нее на второй неделе пропало. Простудилась. Можно сказать, собственными руками Гришку выкормил. Каждый день на молочную кухню на велосипеде гонял. У меня тогда еще отцовский «Х.В.З.» был. По-другому туда никак не доберешься, тогда и привык на велосипеде зимой ездить… Все, покончено с велосипедом! Раз и навсегда. Во всяком случае, до лета… А то действительно стыдно. Прав Степанов. Никогда не думал, что будет стыдно. Живешь, живешь и вдруг. И не только за велосипед, за все! И за маленькие чины, и за то, что много детей. Всегда этим гордился, а тут вдруг стыдно стало. И за то, что живот вырос… Аннушку жить учу, а сам? У нее хоть болезнь, а кто мне, здоровому, брюхо жирное простит? И за то, что мал ростом, стыдно, хоть в этом и совсем не виноват. И за пацанов поселковых, которые сорвались с нарезки. Пьют и курят все поголовно и на джинсах помешались, мать родную продадут. Всех собак по поселку переловили… Витька Коршунов свою Дамку к Фомину отволок. Я его встретил на улице, спросил: «И не жалко?» — «А ей меня жалко?» — спросил он в ответ. «Ей тебя жалко. Она за тебя, случись что, медведю в глотку вцепится». — «Так нет же медведей!» — засмеялся Коршунов. Она, правда, у них всегда полудикая жила. Только спала под крыльцом, а так шлялась по всему поселку, воровала. Однажды двух соседских крольчат задавила. Коршуновы еле червонцем откупились. Правда, ночью по улице мимо дома не пройдешь. Выкатится шаром под ноги и заливается. А голос — «чистое супрано», как Фомин скажет… И за Фомина стыдно, и за этих… Ну что, посадить их всех за незаконный промысел? Так ведь еще и не посадят. Оштрафуют сперва. И больше всех того же Фомина, Ваньку-дергуичика, этих ребят, что у Черняка дачу снимали. Только тому, кто все это придумал и организовал, ничего не будет, потому что его за руку не поймаешь… Да и за что их сажать? Кому они сделали плохо? Они хоть что-то производят, одевают население, а что производит инспектор ОБХСС Долькин, который два раза в месяц, как пчелка, с магазинов свою взятку собирает? Так почему же нужно сажать именно их, а не всех остальных? Не торговых работников практически поголовно, не работников общепита тоже поголовно, не крупных дельцов, которые жируют у всех на виду, не стесняясь и не прячась? А спекулянты? Да сейчас практически любого можно арестовать. Было бы желание. Всю страну, все население. И начинать нужно с начальства. Рыба гниет с головы… Ведь до того дошло, что сразу и не назовешь людей, которые не воруют, хоть немножко… Хоть гвоздик, хоть скрепочку, хоть конвертик казенный с марочкой, а то и вовсе без. Который и стоит-то копейку. Ведь начали воровать даже те, кто сроду к этому не был расположен. Рабочий ворует! Если не несет с производства, если не пилит, не строгает себе домой что-нибудь из общественного материала, на общественных станках, то уж обязательно приписывает, наряды липовые сочиняет, прогуливает, а зарплату цельную получает. Пьет на рабочем месте… Колхозник ворует! Служащий! Тем, что ничего не делает, вредит только, а зарплату получает. Учителя, врачи — каждый по-своему воровать начали. К кому ни зайди — в руки заглядывают: что принес? Куда же дальше? Кто не ворует? Какой контингент? Ученые? А кто в соавторы всякие лезет, кто младшего по званию за батрака держит? Кто еще?.. Писатели? А горы никому не нужной макулатуры — .это что, не воровство? А то, что па хороших писателей в результате бумаги не хватает, это как? Солдат не ворует… Да и украсть ему нечего и негде. А если и стянет с поля огурец или яблоко из сада, так это не во грех. Солдат всегда есть хочет. А про генералов, про их дачи я и говорить не хочу. Так что же теперь, всю страну сажать? Да и как? Колючей проволокой ее, что ли, обнести и ввести лагерный режим? Так она и без того обнесена границей, а граница, как известно, на замке. Стыдно! И за то, что работать не любим и поэтому не умеем. И за то, что общественного воровства не стыдимся. И за то, что, несмотря на мою двадцатилетнюю образцовую службу, жизнь в поселке с каждым годом все хуже и хуже, хоть и богаче на первый взгляд. Стыдно за то, что тот ворюга с перстнями и в бобрах пьет за Советскую власть, которая дала ему все, что он имеет… Стыдно… И только одна спасительная мысль так и не пришла ему в голову. И автор не подсказал… Мысль простая и утешительная. Во всяком случае дающая возможность жить: не будь его, старшего лейтенанта Васильева, с его двадцатичетырехлетним образцовым служением, в поселке жилось бы еще хуже. После посещения профессора Курьева всю обратную дорогу Васильева мучил незаданный ему вопрос: сыграли ли свою отрицательную роль побои, полученные Фоминым недавно? Наверное, нет, думал Васильев, он же сказал, что нужно было год назад приходить. Значит, болезнь началась год назад или еще раньше. Как она могла не начаться? Разве можно жить в таких скотских условиях? Странно еще, что болезнь не началась давно… Сколько же можно пить? Сколько можно жрать все подряд, курить одну за одной всякую дешевую дрянь? Разве можно было его затащить в поликлинику на флюорографию год назад, когда у него еще ничего не болело? И сейчас-то он пошел не потому, что в боку болит и спину дергает, а потому, что Аннушка посулила за это четыре бутылки портвейна. Как же так рассуждать можно? «Я хозяин самому себе! Что хочу, то с собой и делаю. И не ваше собачье дело, уважаемый товарищ». Нет, дорогой, наше. Мы на то и есть цивилизованное общество, чтобы нам было дело до всякого заблуждающегося. Если плох — изолируем и исправляем, если хорош — награждаем и величаем, если болен и слаб — лечим. А то ишь ты, сам себе хозяин нашелся, понимаешь. Живешь в человеческом обществе — будь добр соблюдать законы этого общества. И отвечаешь перед этим обществом за сохранность своего организма, за работоспособность человеческой единицы. Он, видите ли, «положил на общество». Не получится, понимаешь, пока само общество на тебя не положило… Так, сидя в электричке, Васильев мысленно полемизировал с Фоминым. Анна Сергеевна спала, положив свою тяжелую голову на его лейтенантский погон. Даже рассуждая про себя, неслышно и, стало быть, не для протокола, Васильев боялся признаться себе в том, что и его самого в последнее время не совсем устраивает такая строгая подотчетность и зависимость личности от общества. Это происходило потому, что в последние несколько лет, когда он пытался, опять же мысленно, представить себе это общество, то перед его внутренним взором в каком-то бесовском хороводе кружились безобразные, мерзкие рожи, среди которых угадывались личности из окружающей его повседневной жизни. Перед кем же отчитываться? Осмотр места преступления показал, что Фомин подставил ящики, разбил стекло и вынул ее из рамы, вделанной в церковные ворота. Церковный сторож слышал, как разбилось стекло, но побоялся выйти. А собаку с церковного двора Фомин свел еще раньше. Я пообещал отцу Алексею, что найду икону. — Значит, я могу надеяться? — переспросил он. — Я сделаю все, что в моих силах, — сказал я. — А заявление? — Никакого заявления не надо. Вам ведь важно, чтоб икона вернулась на место. — Стало быть, вы знаете, кто это сделал? — спросил отец Алексей и с интересом взглянул на меня. — Предполагаю. На то я и участковый. — А заявление все-таки возьмите, — сказал он, протягивая мне бумажку. — Зачем? — спросил я. — Не знаю… — пожал плечами протоиерей. — Вы непременно хотите, чтобы вор был наказан по закону или вам достаточно вернуть икону? — Но тогда он останется убежденным в своей безнаказанности, — сказал отец Алексей. Он два года назад окончил Загорскую духовную семинарию и после смерти отца Михаила получил направление в наш приход, считавшийся одним из лучших в области. Я слышал, что распределили его к нам по блату. Его родной дядя занимал высокий пост в Московской патриархии. Кстати, его дядя и был тот человек в патриархии, который имел деловые отношения с Геннадием Николаевичем Черняком. — Его уже поздно исправлять, — сказал я. Мы помолчали. Отец Алексей забрал у меня листок, перечитал свое заявление и порвал. Не зная, как поступить с бумажками, сложил их аккуратной стопкой и положил на край моего стола. Он был в сером дорогом костюме, в рубашке с темным в крапинку галстуком, завязанным большим модным узлом. Я смахнул бумажки в корзину и в знак благодарности, что ли, чтобы как-то его ободрить, сказал: — Мы с покойным отцом Михаилом хорошо ладили. На Пасху он всегда приглашал меня на крестный ход… Ну и за порядком приглядеть. Я всегда приходил. Добрейшей души был старичок. Чайком любил побаловаться до страсти. Сидит, бывало, упреет от тепла и уютно так рассуждает. К каждому человеку, говорит, приставлен маленький бесенок. Чуть человек зазевается, бесенок тут как тут, толк его под руку… Как на дурной поступок толкнул, так ему благодарность в подземной канцелярии, а то и премия. И чем крупнее подлость человек совершает, тем чертенку больше награды и чины… А я с ним не согласен. Не рационально столько бесенят содержать. Никакой аппарат с таким штатом не справится. Я считаю, что зло не за спиной у человека, а в нем самом… Человек рождается с равными долями добра и зла в себе. А дальше он свободен выбирать, в какую сторону склоняться. Какой частью души пользоваться, светлой или темной… Темной проще и слаще, светлой — труднее. Ведь чтобы совершить злой поступок, труда не требуется. Труд нужен, чтоб удержаться от зла. И на каждое доброе дело требуется душевное усилие… Вот так, в бесконечном борении и живет человек. Не ангел и бесенок борются меж собой за человечью душу, а он сам борется с собой за себя… Вот, как вы думаете, для чего существует дьявол? — Для погибели рода человеческого, — тихо ответил отец Алексей. — Вот! И отец Михаил так говорил. А я с ним решительно не согласен! Не получается! Не станет дьявол рубить сук, на котором сидит. Ведь если он уничтожит человечество (ну, скажем, с помощью атомной войны), то автоматически лишится смысла своего существования. Так что, пока он есть (если он есть) — человечество бессмертно… Что вы на это скажете? — Я, право, не готов… — Вот-вот. Отец Михаил называл меня стихийным христианином. А я просто гомо сапиенс. Так что всегда обращайтесь… На Пасху или так. А икону, я думаю, мы вернем… Морозы чуть спали, и вдруг выглянуло в этот день солнце. Я медленно с удовольствием шел по поселку, лениво размышляя о том, кому Фомин мог «сдать» икону. Собственно говоря, у меня было три кандидатуры: Ванька-дергунчик, Аннушка и в крайнем случае Геннадий Николаевич Черняк. Но вся штука в том, что ни один из названных взять у него эту икону не мог, потому что в поселке уже знали, откуда она украдена. 2 февраля 1979 года в 14 часов 15 минут я находился на улице Вокзальной около дома № 7, в двухстах метрах от железнодорожного переезда. Меня остановил Степан Андреевич Величко, член дачного кооператива «Резистор». Величко жаловался на то, что кто-то сорвал замок с его хозяйственного сарая и украл двухметровые обрезки шпунтованных половых досок. Притом следы он обнаружил на участке только заячьи. Пока мы обсуждали этот странный случай, мимо нас пробежала собачья свадьба. Пушистая темно-рыжая сучка трусила впереди. За ней неторопливой тяжелой рысцой двигался исполинский черный пес с порванным ухом. Я сразу вспомнил разговоры о разорванной ресторанной овчарке и прочие ужасы, приписываемые большому корноухому псу. Я подумал, что нужно вызвать настоящих собачников, чтобы они отловили пса, пока он не натворил дел… Еще я подумал, что нужно поговорить с ребятишками, чтобы они не связывались с этим псом-убийцей. Он им явно не но зубам. Когда он пробегал мимо, то повернул свою морду в мою сторону, и мы встретились взглядами. У меня мурашки по спине поползли. Его взгляд мне показался каким-то мертвым. Я не знал, что он не видит правым глазом и потому всегда держит морду на сторону. Перед самым переездом черный пес остановился около помеченного собаками сугроба, за ним, словно уткнувшись в преграду, остановилась вся стая и, сгрудившись около вожака, тоже стала обнюхивать сугроб, а темно-рыжая сучка шмыгнула через железнодорожные пути. Она и не увидела, что стая задержалась. Она не оглядывалась. Она была уверена, что все кобели, как привязанные, неотступно следуют за ней. Стая исследовала сугроб и деликатно, пропустив вперед вожака, двинулась торопливой рысцой к переезду, но тут дорогу ей преградил длинный товарный поезд. Стая расселась полукругом, пережидая состав. Мы разговаривали с Величко, а я поглядывал в сторону переезда, словно ожидал чего-то… Когда поползли по путям низкие открытые платформы, я разглядел, что кто-то из ребят крутится около рыжей сучки. Хоть бы она не далась, подумал я, а то поезд проедет, стая перескочит через рельсы и разорвет дурачка. Величко что-то говорил и говорил мне, а я уже не слушал его, выглядывая конец товарного состава. Прервав Величко на полуслове, я побежал к переезду, уже на ходу крикнув ему, чтоб он принес заявление… В конце состава были вагоны-цементовозы. В промежутках между ними мелькало изображение парня с палкой-удавкой в руке, вырывающейся из петли рыжей собаки и бегущего к ним второго парня. Мне оставалось метров пятьдесят до переезда, когда состав наконец кончился, и собаки устремились через заиндевелые рельсы на выручку к своей подружке. Мне осталось всего метров пять до переезда, когда с другой стороны с тревожным ревом гудка стремительно надвинулся встречный товарняк. Все, что произошло на площади перед магазином, я видел, присев на корточки, в просветы между колесами. Если б я никого не послушался и не засунул сложенный велосипед за гардероб в сенях, то по такой накатанной дороге я бы успел. Я бы перескочил путь вместе со стаей.МАТЬ
Большую часть своей жизни Ирина Сергеевна считала, что виноватых на этом свете нет. Ведь все хотят одного и того же, рассуждала она, все стремятся к счастью. Мы идем к счастью одним путем, другие — другим. Нам этот другой путь кажется неверным. Так в чем же виноваты идущие этим путем? Они только заблуждаются… Их не осуждать, их жалеть надо. Ведь если мы правы, они не найдут счастья. А если найдут? Значит, ошибались мы. В чем же мы виноваты? Теперь Ирина Сергеевна считает, что невиновных нет. Когда я начала его терять? Ночью, в полнолуние, когда не можешь заснуть и ворочаешься, ворочаешься, и все тебе неудобно — и подушки в морщинах, и одеяло тяжелое, душное, и вода капает на кухне. Вот тогда вдруг и возникает этот вопрос. Меня словно подбрасывает на кровати. Обычно я одеваюсь, иду на кухню, ставлю чайник, беру какую-нибудь книгу, пью чай и читаю… Все равно что, все равно с какого места. Бессмысленно вожу глазами по строчкам, возвращаюсь к начал}, спохватываюсь, что давно уже далека от текста, и, снова шевеля губами, произнося чужие слова вслух, соскальзываю на свой безответный вопрос: «Когда же я начала его терять?» Маленький он был такой смешной… Сперва очень много кричал. Выматывал меня до истерики. Чуть что не но нем — сразу в крик. Я любила его безумно. И он меня любил, просто светился весь, когда я к нему подходила, но мы еще не были друзьями. Просто мать и сын. А потом, как-то незаметно, я даже не помню когда именно, мы стали друзьями. Провал в памяти, что-то неясное, суматоха какая-то, мельтешение и вдруг отчетливая картинка: мы сидим рядышком на диване и пишем сказку. Пишу я, а он самозабвенно диктует. При этом морщит лобик, бровками двигает, то хмурится, то улыбается и ревниво в блокнот заглядывает и спрашивает: «Ты записываешь, записываешь?» Записываю… «Идет зайка по лесу и песню поет. Вдруг навстречу лиса: — Куда идешь, прелестный? — В огород, капусту сажать. — Иди. Пошел зайка дальше. Идет, песню поет. Вдруг из-за дерева выходит тигр, лохматый, похожий на льва…» Какие прекрасные были времена. Он еще много сказок сочинил, стихов. Я все записывала. И все сохранилось… А как он заступался за меня, когда кто-нибудь повышал на меня голос! Мы жили тогда в коммунальной квартире. Соседи были хорошие, простые люди, но очень уставали на работе. Павел Васильевич был шофером «скорой помощи». А его жена Антонина Ивановна работала прессовщицей на механическом заводе. Она не умела тихо разговаривать… Однажды она мне что-то увлеченно рассказывала, а Санечка накинулся на нее, стал оттаскивать за юбку и кричать: «Не ругайся на маму!» Однажды дедушка, мой отец, посадил Сашку на колени. Сашка дотронулся до его небритой щеки и сказал — «коль-коль». А потом мы читали сказку про ежа, и, естественно, он получил прозвище Коль-коль, а его маленький сынишка стал Коля. И вот каждое утро я спрашивала у Санечки: — Кто тебе приснился? — Ежик Коля, — не задумываясь отвечал он. — И что же он делал? — Ходил в… океан-море… И начиналась сказка. Каждый раз новая. Я поняла, что у него дар слова, еще тогда, когда он не все слова выговаривал. В двухлетнем возрасте он сказал: — Мама, смотри, слова «обожать» и «обижать» похожи. «Обожать» — слово хорошее, а «обижать» — плохое. Я, должно быть, преувеличивала его достоинства. Я, например, считала, что он самый красивый. Я сравнивала его с другими детьми и старалась быть объективной, но неизменно побеждал он. Один только раз я встретила мальчика с льняными кудрявыми волосами до плеч и с такими ясными глазками, что даже вздохнула с облегчением. «Вот, — сказала я себе, — этот ребенок безусловно красивее моего. Значит, могу я быть объективной. Значит, он действительно красивее многих». Вот и вся цена моей объективности. Но что касается литературного дара, тут я не ошиблась. И доказательство этому — его записная книжка в темно-вишневой кожаной обложке, вырезанной из старого китайского портфеля, которую он мне так и не показал… Я нашла эту записную книжку в самодельной обложке через два месяца после его похорон. Все эти два месяца я суеверно боялась зайти за его ширму. Там все осталось так, как было… Я ничего не собиралась трогать, только хотела стереть пыль. Я не ожидала ничего такого… Еще болело все во мне, еще жизни не было, но боль была уже тупая, привычная… Я не ожидала нового удара. Когда книжка выпала из кармана старой куртки и раскрылась, я подумала, что книжка чужая, не Сашина. Почерк у Саши был понятный, но ужасно неряшливый, некрасивый, с бесконечными помарками и каждый день чуточку разный: то крупнее, то мельче, то круглее, то угловатее, а тут строчки были без единой помарки, ровные, буковки одна в одну, почти печатные. Потом я вспомнила, что именно таким почерком он писал адреса на почтовых конвертах и посылочных ящиках. А тогда я с каким-то сонным, машинальным любопытстом открыла книжку и прочла: Три дня метель И оттепель В четвертый, И хрупкий воздух загустел, обмяк, И завтрашний мороз Оставит все, как стало: И черный тротуар, И след мой одинокий… У меня сдавило сердце… Я сама еще не понимала отчего… Я подошла к окну, заложив пальцем страницу. Был конец апреля. Земля была голая, грязная, вся в обрывках бумаги, пробках, молочных сдавленных пакетах. Всюду какие-то тряпки, все, что зимой укрывал снег. Я еще подумала, что зимой люди сорят охотнее из-за безнаказанности… Выброшенный мусор канет в снег и пропадет. Потом я еще раз прочла стихотворение, и вдруг мой затылок похолодел, и я ощутила кожу на голове, наверное, такое происходит, когда у человека волосы встают дыбом. Я вдруг поняла, что это Сашины стихи. Стихи, о которых я ничего не знала и даже не догадывалась. Сперва еще были сомнения, потому что стихи были записаны печатными буквами, и я подумала, что Саша так писать не мог, но потом где-то между стихами на последних страницах я нашла его торопливые каракули, и сомнения отпали. Значит, это его книжка, значит, это он написал: «И след мой одинокий…». Я снова наугад открыла книжку: …Мы вместе с ним не можем Вытащить правую ногу из центра, А левую мы не можем остановить… Мы вместе с ним Бесконечно Описываем самих себя. Это из «Поэмы о циркуле». Но ведь это писал взрослый человек, уже имеющий опыт писания. Даже какую-то усталость профессиональную. Нет, это не Сашка! Так я пыталась себя успокоить. И читала дальше: …Так, голову склонив, Один среди жнивья Последний колос Теряет зерна, Чтоб завтра вновь родиться. Моя надежда, Ты — бессмертна! Ты — неисполнима… Стихотворение так и называлось: «Надежда». Я ничего не понимала. Господи, да откуда в нем это отчаяние, эта безысходность, совсем не детская? Почему же я ничего этого не видела? …Спиной к стене — не оглянись, Смотри вперед — не оглянись, И со спины опасности не жди. Живи смелей! Не оглянись… А вдруг там нет стены? В ком же он мог так сильно разочароваться? Опять задаю вопросы. Зачем? Разве я хочу услышать ответ? Ни за что! Наверное, правда, от которой невозможно заслониться никакими оправданиями, — это и есть ад. Так я тогда подумала и прочла, словно увидела его сдержанную, больше внутреннюю, усмешку. …Та правда, которую я говорил, И то, во что верил вчера, Нынче — ложь. И сколько б сегодня я ни ступил, Сколько б ни сделал шагов, Завтра все будет — ложь. И вновь усмешка. На этот раз, очевидно, в мой адрес: В моей авторучке голубая кровь, Моя авторучка изящна, как леди. Но все равно Я не смущаюсь, Я ею вожу по бумаге И вывожу порою глупости… Но все равно Ей не мешает это Иметь голубую кровь. Печатные буквы говорят о том, что он переписывал в эту книжку совершенно готовое. Или только самое лучшее. Значит, были черновики, была работа? Какая, сколько ее было? Где он работал, когда? Ведь я его в последние год-полтора ни разу не видела за старым, самодельным столиком, на котором под толстым стеклом он держал мои фотографии. Год назад он их убрал. Честно говоря, тогда меня это не сильно встревожило. Я это отнесла на счет переходного возраста. Мальчишки в 14-15 лет все грубеют, начинают стесняться любого проявления ласки, боятся показаться сентиментальными… Да-да, мальчишки, но не человек, написавший такое: …Хорош я или плох — не мне судить. Умен я или глуп — не мне судить. Оставлю память или нет — не мне судить. А честен ли всегда, во всем? Кому ж судить?.. Когда Саше было двенадцать лет, он вдруг начал просить у меня собаку. Я очень люблю животных, сама в детстве мечтала о собаке, но мы жили тоже в коммуналке, да еще в сыром полуподвале, комната была тесная, душная. Около восьми квадратных метров. Я спала в проходе на раскладушке. Нам только собаки не хватало. Авенир Захарович, мой отчим, видя мои страдания, купил мне на птичьем рынке щегла в маленькой клетке, и ту пришлось поставить на гардероб. Этот щегол молчал целую неделю и подозрительно нас рассматривал. Потом вдруг начал петь. Дело было летом. Запевал он с восходом солнца, часов в пять. Мы стали накрывать клетку платком. Щегол непонятно как стаскивал платок и все равно пел. Однажды его накрыли моим старым одеялом. Утром щегла нашли мертвым, наверное, он задохнулся. Больше у меня животных не было. Даже когда мы переехали в шестнадцатиметровую комнату, которая нам казалась дворцом. И вот Сашка в двенадцать лет тоже захотел собаку. Я решила: ладно, собаку так собаку. Переговорила с соседями — те ни в какую. Они были люди простые и не понимали, как это собаку можно держать в доме. Собака должна жить на улице и сторожить. Я решила, что можно будет и без разрешения соседей завести какую-нибудь маленькую комнатную собачку, скажем, карликового пуделя. Тут вдруг выяснилось, что он хочет овчарку. Потом вдруг через неделю в нашем доме появился пузатый, как бочонок, пушистый щенок. Сашка с гордостью заявил, что это чистопородная кавказская овчарка. Я в бессилии опустилась на стул. Щенок ползал возле моих ног и тыкался мокрым чудесным носом мне в лодыжки. «Где ты взял?» — спрашиваю. «У мальчика». — «Он ITO, тебе его подарил?» Молчание. «Ты купил у него?» Молчание. Меня пот прошиб от нехорошего предчувствия… Год назад мы начали собирать на цветной телевизор. Если хоть что-то удавалось сэкономить в конце месяца, мы эти деньги торжественно откладывали в жестянку из-под растворимого кофе. Я знала, что там должно было собраться сто четырнадцать рублей. Кинулась я к этой баночке, вытряхнула содержимое на стол, пересчитала… Не хватало пятидесяти. Я его била первый раз в жизни. Плакала и колотила чем ни попадя. Какими-то туфлями, старой пластмассовой выбивалкой для ковра. Она была треснутая, и острым концом поцарапала ему руку до крови. Собаку я сама отнесла. Адрес мне дал Сашкин дружок Игорек. А Санечка молчал целый месяц. Ни одного, ну ни единого слова. Ни звука. Только один раз ночью горько-горько безутешно плакал. И вот опять повторился весь этот ужас… Саши не было дома. Мне зачем-то понадобился однотомник Марины Цветаевой. Я зашла за ширму в его закуток и посмотрела на полку, где он обычно стоял. Книжки не было. Еще не было объективных причин для беспокойства. Саша мог взять ее с собой, мог дать кому-то почитать. Мог потерять в конце концов, хотя очень бы не хотелось. Я, зная, как он интересуется поэзией, с трудом купила эту книжку за тридцать рублей, и при этом мне объяснили, что я взяла задаром. Это был синий том из большой серии «Библиотека поэта» и стоил он на книжном черном рынке никак не меньше пятидесяти. Словом, я запсиховала. И ничего не могла с собой поделать. Я перевернула весь дом и села ждать Сашу. На сердце было тяжело… Часов около трех ночи я, кажется, задремала на диване под своей черной вязаной шалью. Саша явился в половине седьмого утра. Принюхался. Вся квартира провоняла валокордином. Он сказал: — Извини, я был в Москве и опоздал на последнюю электричку. Мне пришлось спать на вокзале. Если б у нас был телефон, я бы позвонил. И я, вместо того чтобы радоваться, что он жив и здоров, накинулась на него из-за этой книжки. Я кричала, кричала… Как заводная твердила, что он еще не вправе ничем распоряжаться в этом доме, что он еще ни копейки не заработал, что я со своими ста пятьюдесятью рублями в месяц не могу допустить анархии, что только строжайшая дисциплина позволяет нам сводить концы с концами. — Но я считал, раз ты мне подарила книгу, значит, она моя, — сказал он. — Я ее продал. — Что значит твоя? — взвилась я. — А почему ты обо мне не подумал? Разве я не имею права взять ее в руки? Или ты теперь будешь все вещи делить на твои и мои? Тогда будь добр, не пользуйся ни этим диваном, ни этим чайником, ни ложками, ни стульями… Вот такая бредятина… Мы договорились до того, что он стал складывать в рюкзак свои вещи. И тут пришел участковый Васильев. Пришлось и мне и ему спустить пар. Я засуетилась, стала предлагать Ивану Петровичу чай. Он вдруг охотно согласился. Я накрыла на стол. Сашка сел как ни в чем не бывало, а меня охватил страх. Я все связала в один узел: и то, что Саша дома не ночевал, и пропажу книги, и вообще его замкнутость в последнее время. А Васильев сидел, посмеивался, мое соленое печенье с тмином похваливал. Потом с Сашей о рыбалке заговорил. Спросил: что ловится, когда в последний раз ловил? Не ходил ли сегодня? Я тут и брякнула, что он сегодня дома не ночевал. Васильев удивился, бровки свои домиком поставил. Переспросил, где же это он был. Саша сказал, что в Москве, на электричку опоздал, ночевал на вокзале. — А что же ты делал в Москве? — добродушноспросил Васильев. — В кино ходил, — буркнул Саша. — Один? — еще выше поднял бровки Васильев. — С товарищем, — усмехнулся Саша. — Так кино же рано кончается, на электричку можно успеть. — Он далеко от вокзала живет… Пока поговорили, пока я его проводил… — Ах, проводил! — воскликнул Васильев. — Ну тогда другое дело! Тогда все ясно… — и он подмигнул с улыбочкой Саше. Но Саша ему в ответ не улыбнулся. За неделю до этого Саша у меня просил взаймы двадцать пять рублей. Я спросила, зачем ему деньги. Он не сказал. Я объявила, что не дам, пока он не скажет, зачем ему эти деньги. — Как хочешь, — сказал тогда он. И я вдруг почувствовала, что со мной живет совершенно чужой человек. Я даже не удержалась и сказала ему: — Если ты стал настолько самостоятельным, что не нуждаешься ни в моем участии, ни в моей дружбе, то навязываться я тебе не буду, но и терпеть твое хамство я не намерена. — Лучший способ защиты — нападение, — усмехнулся он. Я поняла, что он имел в виду, и покраснела… Не верю тем женщинам, которые якобы ради своих детей отказываются от всякой личной жизни. Они или врут окружающим и встречаются с любовником украдкой, или врут себе, упиваясь собственной жертвенностью и гордыней, или им эта личная жизнь не нужна по их природе. Я не захотела врать ни себе, ни Саше. За что и поплатилась. «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман»… Саша вдруг начал спрашивать: «Где ты была? Почему задержалась?» Я и раньше задерживалась. Раза два в месяц мы собирались с университетскими подружками, такими же неприкаянными, как и я, покупали вскладчину несколько бутылок «сухарика», запасались сигаретами и целыми вечерами пережевывали наши горемычные судьбы. И поклонники периодически возникали в моей жизни, и с ними я порой задерживалась допоздна; и на работе — то аврал, то Восьмое марта или Двадцать третье февраля. Или билеты на какой-то интересный спектакль вдруг доставались… С тех пор как Саше исполнилось двенадцать лет, я за него не волновалась. Он никогда не был беспомощным ребенком, который себе суп разогреть не может. Мы жили одни, а я всегда работала, тут уж хочешь не хочешь станешь самостоятельным. Был у нас «явочный» телефон — на всякий случай. Если я внезапно задерживалась, то Саша мог со станции позвонить Марине, моей ближайшей подруге, и узнать, в чем дело. Я в таких экстренных случаях звонила ей и предупреждала. Но Сашка так ни разу и не позвонил. Мне было даже обидно. Я ему об этом сказала. «Но ведь с тобой ничего плохого не случилось», — невозмутимо заявил он. «А если б случилось?» — «Тогда я бы позвонил». — «А как бы ты узнал?» — «Я бы почувствовал». Он говорил правду. Я в этом убедилась, когда он начал меня спрашивать, почему я задерживаюсь и где бываю. Я перестала предупреждать Марину, тут она сама позвонила мне на работу: «Ну ты, мать, даешь! Хоть бы ввела в курс дела. Сашка телефон оборвал. Я молчу, как партизан, а он мальчишечка въедливый, не больно-то отмолчишься… Хоть посоветуй, что врать?» — «А ты не ври». — «То есть как это? Я же не знаю, что с тобой происходит». — «Вот так ему и скажи», — посоветовала я. «Ну ты, мать, даешь! Неужели что-то серьезное? Привела бы посмотреть». Он все чувствовал. Я отмалчивалась или переводила разговор на другую тему, но он не отставал. Наконец мне надоело, и я ему сказала, что полюбила человека, что его зовут Олег Владимирович, что мы с ним встречаемся… Сашке было тогда четырнадцать лет, и ростом он был уже выше меня на голову. Когда я, краснея, как школьница, рассказала ему об Олеге Владимировиче, он вдруг начал дико ржать. Именно ржать, другого слова не подберешь. Он просто упал на диван и катался по нему, держась за живот, всхлипывая и вытирая слезы. Я закусила губу и, сцепив ладони с такой силой, что побелели косточки, стояла, отвернувшись к окну. Я не могла в ту минуту на него смотреть. Когда он наконец успокоился, высморкался, откашлялся, я не поворачиваясь спросила: «Не правда ли, это очень смешно, что кто-то, кроме тебя, имеет право на жизнь?» — «Ну что ты, мамочка, — ответил он, — это я от счастья. Я так рад за тебя, что слезы на глаза наворачиваются». Это он процитировал нашу любимую фразу из «Мертвых душ». Мы часто ее повторяли в ироническом смысле. Я была готова влепить ему пощечину. Пытаясь себя сдержать, я медленно повернулась. Его в комнате не было. Он пропал на три дня. Мы с участковым Васильевым обзвонили все морги, подняли на ноги всю московскую милицию. Я перестала ходить на работу. Маринка переехала ко мне на эти дни, чтобы отпаивать меня валокордином… Через три дня он пришел сам. Грязный, исхудалый. От него пахло вокзалом. Не помня себя, я бросилась к нему на шею. Со мной была самая настоящая истерика. Он гладил и целовал мои руки, и ногти у него были с траурной каймой. Мне так и не удалось узнать, где он скрывался эти три дня. На другой день — это было воскресенье — я с утра стала печь его любимые блины. Его разбудил вкусный запах кислого теста и поджаренной луковицы, которой я маслила сковороду. Он прибежал на кухню в одних трусах, неумытый, схватил политый растопленным маслом блин и, обжигая пальцы, начал рвать его и есть, глотая большими кусками, как волчонок. Он и был чем-то похож на волчонка, голенастого, ушастого, тощего, веселого. Он был рад, что вернулся домой, что можно уже не обижаться и не создавать трагедий на пустом месте. Ну, хорошо, хорошо, пусть у него были причины ревновать меня, но ведь ничего трагического не произошло. Я позволила ему украсть еще два блина, а потом погнала умываться. Когда мы сидели за столом в нашей маленькой, но очень уютной кухоньке и чинно завтракали, Саша как бы невзначай спросил: — А как мы будем все жить, когда он сюда переедет? Я прекрасно поняла, о ком он спрашивает, но он так неожиданно спросил, что я невольно переспросила: — Кто переедет? — Ну… этот… Олег Владимирович, — сказал Сашка и сам смутился. — Он к нам не переедет. — Значит, мы к нему переедем? — чему-то обрадовался Сашка. И тут я смутилась: — Видишь ли, Санечка, мы с Олегом Владимировичем пока не можем жить вместе… — Почему? — Ну, во-первых, я сказала тебе, что влюбилась… — Ты сказала, что полюбила, — перебил он меня. — А разве это не одно и то же? — Нет, — отрезал он. — Ну ладно, пусть будет, полюбила. Но это еще не значит, что мы должны тут же начинать совместную жизнь. Мы мало знаем друг друга… И вполне может оказаться, что не годимся для супружеской жизни… Ты уже взрослый, должен понимать такие вещи. Потом еще неизвестно, как вы сойдетесь характерами. Ты думаешь, кому-нибудь понравится, если ты будешь постоянно убегать, как дикий заяц? — Ручными бывают только кролики. А во-вторых?.. — Что во-вторых? — Ты сказала «во-первых», значит, должно следовать и во-вторых? — Ах да, я отвлеклась… А во-вторых, Олег Владимирович женат. — Понятно, — сказал Сашка и налег на блины. Доев последний блин и вытерев по дурной привычке губы тыльной стороной ладони, он с шумом перевел дух, похлопал себя по набитому животу и сказал: — Спасибо большое, мамочка! Ты не беспокойся, я больше никуда не убегу. Я же не знал, что вы с ним просто любовники. Но это оказалось не «просто». Олег Владимирович ничего не хотел менять в своей жизни, но и не мог отказаться от меня. А я ни на чем не настаивала. Мне так было хорошо после стольких лет вынужденной спячки. Я была благодарна ему за любовь, которую он сумел вызвать во мне, за то, что он разбудил меня… Сашка больше ни разу не заговаривал со мной на эту тему. Он больше ни разу не спросил меня, где я бываю по вечерам, где задерживаюсь. И все у нас было вроде бы по-прежнему. Вроде бы… Второй раз он вспомнил об этом спустя два года… Была долгая и теплая осень. Природа не спешила прощаться с летом. Деревья стояли совсем зеленые, промытые частыми грибными дождями. Я ехала в электричке домой и, не отрываясь, смотрела в окно. Окно тоже попалось промытое и на удивление чистое — это такая редкость в электричках… Поезд шел мимо Андроникова монастыря, и я, каждый раз проезжая мимо, любовалась белокаменной церковкой, в которой захоронен Андрей Рублев. В этом день я сидела в полупустом вагоне (время было неурочное) и даже заранее приготовилась к встрече с моей любимицей. И все равно она ошеломила меня своей свежей чистотой и легкой строгостью. И всю остальную дорогу я ехала в приподнятом, даже возвышенном настроении. Я мечтала пойти на озеро купаться и загорать. В то утро я сдала срочную работу, за которую начальство поблагодарило меня и в виде поощрения отпустило досрочно домой. Что-то напевая под нос, я поднялась на наш второй этаж, отперла дверь и чуть не упала в обморок. Мимо меня в ванную прошмыгнула голая женщина. Честное слово. На ней было только полотенце, обмотанное вокруг бедер, и больше ничего. Пробегая мимо меня, она пискнула: «Добрый день» — и заперлась в ванной. В комнате на моей разобранной кровати сидел Сашка, уже успевший натянуть трусы. Он глупо ухмылялся. Я никогда не видела у него такой ухмылки. Мне показалось, что это не мой сын, а какой-то чужой пьяный мужик, который прямо на глазах давит в себе остатки совести и сейчас с грязной, трусливо-наглой ухмылкой подойдет и облапит меня руками, воняющими селедкой. Я пулей выскочила на кухню и втиснулась в угол между столом и холодильником, зажала уши ладонями и закрыла глаза… Мне бы вообще убежать из дома, но я не могла пройти мимо ванны, где плескалась (я все-таки слышала сквозь ладони) эта наглая тварь. Прошла бесконечность, прежде чем я услышала воровской щелчок замка. У меня болели веки — так сильно я их зажмурила. Когда я открыла глаза, Сашка стоял передо мной и уже не ухмылялся, но я отчетливо видела на его лице следы этой грязной ухмылки. — Прости, мы не знали, что ты так рано придешь… Я промолчала. — Ты не хочешь со мной разговаривать? Но ведь никакой трагедии не произошло… Я каменно молчала. — Ты не переживай, мамочка, — его губы тронула едва уловимая усмешка. — Не придавай этому большого значения. Мы просто любовники… После того как я застала его с этой девицей, мы по молчаливому уговору не вспоминали об этом. Делали вид, и довольно успешно, что ничего не произошло. Лишь однажды он нарушил этот договор. Ни с того, ни с сего он вдруг задумчиво сказал: — Мам, а знаешь, вы с Наташей могли бы быть подружками… В вас много общего. Как только я сдержалась!.. Мгновенно перед глазами встала та картина во всем ее бесстыдстве. И мерзкая ухмылка этой наглой твари, и Сашкино лицо… Вернее, уже не Сашкино, родное, знакомое до родинки, до жилочки на шее, а пакостная рожа какого-то чужого мужика… И скомканная, сжеванная простыня… Но я сдержалась. Я только сказала: — Я прошу тебя, никогда больше не вспоминай об этом… — Разве мы уже не друзья? — спросил он. — И все только из-за того, что я начал половую жизнь на год раньше, чем ты?.. — Ради Бога, замолчи! — взмолилась я, холодея внутри. Ведь он имел все основания так говорить. Он родился, когда мне только исполнилось девятнадцать лет. Так какого же черта я к нему цепляюсь? Какие могут быть претензии? Да, умом я все понимаю, но все равно стучит в висках, как только вспоминаю эту сцену. — Но почему? Разве друзья не могут поговорить обо всем? — спросил он. — Мы друзья, но всему есть мера. Есть вещи, о которых не говорят… Тем более с матерью. — Не понимаю, — он пожал плечами. — Я все давно знаю, ты это прекрасно знаешь. А я знаю о том, что ты все про меня знаешь… Короче, все все знают, но говорить об этом нельзя! Почему? — Если ты сам не понимаешь, почему сын с матерью не должен обсуждать кое-какие вещи, то я тебе это объяснить, пожалуй, не смогу… — Вот теперь все стало ясно! — развеселился он. И больше на эту тему мы с ним не заговаривали, но она как бы постоянно присутствовала в любом нашем разговоре. Кажется, это было в воскресенье, потому что мы никуда не торопились, завтракали долго, пили кофе со сливками, болтали о чем-то. Санечка взял золотистую алюминиевую крышку от бутылки, разгладил, сделал дырочку, нашел какую-то пеструю ленточку от коробки конфет, продел в эту дырочку, на податливом алюминии шариковой ручкой выдавил «Медаль», а чуть ниже — «Безумству храбрых» и повесил эту медаль мне на шею. Мы хохотали как припадочные, остановиться не могли. Я захотела снять, но он не дал. — Не снимай, не снимай! И на работу так ходи. — Ну подожди… — хохотала я. — При чем тут храбрость? Я же трусиха, сам говорил, что я от грома приседаю. — Храбрая, храбрая! — смеялся Сашка. — Безумно храбрая! Я сам это только недавно понял. Что-то в его тоне меня слегка насторожило, какая-то необычайная для шутливого разговора настойчивость. И, отсмеявшись, я переспросила: — Ну ладно, пусть храбрая. Но все-таки объясни, с чего ты это взял? — Потом, в другой раз, — махнул рукой Саня. — Что за манера, — слегка даже рассердилась я. — Начал, так договаривай. — Ну хорошо. Объясни мне, как мы живем? — Что-о? — На какие деньги ты одеваешься, меня одеваешь, кормишь, кофе покупаешь, которое стоит двадцать рублей килограмм? — Я не понимаю твоего вопроса… — растерялась я. — Сейчас поймешь. — Он сходил в комнату, принес бумагу, ручку и спросил риторически: — Итак, ты получаешь сто пятьдесят рублей? — Да… — уже догадываясь, куда он клонит, ответила я. — После всех вычетов у тебя остается?.. — Сто тридцать шесть рублей, — сказала я. Он записал. — Прекрасно! — воскликнул он. — За квартиру, за свет, за газ мы платим?.. — За квартиру десять семьдесят, за газ семьдесят две копейки, а за свет рублей пять в месяц. — Великолепно! На дорогу ты тратишь сколько? — Шесть рублей стоит единый и 80 копеек в месяц получается сезонка на электричку. — Подсчитаем, что на жизнь нам на двоих взрослых людей остается сто двенадцать рублей тридцать восемь копеек. А если учесть мой аппетит? Разве это не безумная храбрость решиться жить на такие деньги? Никому не пожелаю, чтоб в один прекрасный момент собственный ребенок у вас спросил: «Мама, а почему ты так мало получаешь?» — Я живу как все… — вяло возразила я. — Не как все, — сказал Сашка. И опять меня насторожила какая-то подспудная настойчивость в его тоне. — У нас в отделе одиннадцать человек, и только трое старших редакторов получают больше моего, а двое младших — вообще меньше… И я не понимаю, куда ты клонишь, и почему вообще ты завел этот разговор? — Видишь ли, как-то недавно Геннадий Николаевич сказал, что ему содержание машины обходится в сто пятьдесят рублей в месяц, но он много ездит и платит людям за мойку, доставку бензина на дом и за мелкий ремонт. Обычно же машина обходится в сто рублей в месяц. Это примерно столько же, сколько мы с тобой тратим на жизнь… И вот с тех пор я смотрю на бесконечные потоки машин и думаю, чем же эти люди отличаются от нас с тобой? Может, они умнее нас, выше во всех отношениях? Или у них права другие, другая каста? — Видишь ли… — начала я и поймала себя на том, что подстроилась, попала ему в тон, что тон в этом разговоре задает он, а я как бы оправдываюсь, впрочем, без всякой убежденности. — Понимаешь, Санечка, большинство, пусть не большинство, а просто очень много владельцев автомобилей зарабатывали на них нечестным трудном… — А разве бывает нечестный труд? — Пожалуйста, не хватай меня за язык. Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. — Это не лучший способ уйти от ответа, мамуля. Я не буду хватать тебя за язык, ты только признайся — ты просчиталась? Ты надеялась на другую, на лучшую жизнь, а у тебя не вышло? — Я не понимаю, чем тебе моя жизнь не нравится? — нахмурилась я. — Да нет, нормальная жизнь, бывает и хуже… Я в смысле зарплаты… Нет, я не предполагала другой жизни. После филфака вообще трудно найти работу но специальности, и сто пятьдесят рублей считается неплохой зарплатой… — Так если ты все знала заранее, то зачем меня-то родила? Не дай вам Бог услышать такой вопрос от своего ребенка. — Зачем все это? — спросил он меня как-то за завтраком. Это было наше любимое время, особенно когда нужно спешить, когда каждая минута общения сладка и почти запретна. В выходные мы тоже любили болтать за завтраком, но это было уже не то… — Что, это? — переспросила я. — Все, — беззаботно улыбнулся Саша, — зачем ты ешь яйцо, например? — Не понимаю, что ты имеешь в виду, — пожала я плечами и придвинула чашку с дымящимся чаем. — Ничего особенного… Впрочем, ты права. Вопрос не совсем корректный. Вернее, это начало целой цепи вопросов. Я попробую на них отвечать за тебя, до тех пор, пока смогу и пока ты будешь согласна с моими ответами. Итак, ты ешь яйцо, чтобы поддержать свои силы и пойти на работу, так? Так. На работу ты идешь, чтобы зарабатывать деньги и обеспечить себя и меня одеждой, кровом и продуктами питания, так? — Не совсем так. Ты забываешь… Ничего, мамочка, я не забываю, и мы к этому еще вернемся. Итак, ты обеспечиваешь себя жизненными ресурсами, чтобы продолжать эти ресурсы как можно дольше потреблять. И я рожден и взращен тобою, чтобы продолжать сие славное дело… — Это примитивно! — возмутилась я. — И ты сам это прекрасно знаешь. — Это не примитивно, это упрощенно, схематично. Разумеется, на этом пути есть куча развилок. Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше, а потом — где еще лучше, и так бесконечно. Но сколько бы мы в этом направлении ни двигались, сколько бы вариантов ни прокручивали, все равно в конечном итоге (если упростить до схемы) получится, что человек бьется и жизнь кладет, чтоб ресурсы, им потребляемые, были обильнее и более высокого качества. Говоря иными словами, чтоб колбасы было больше, и вся она была бы сырокопченая… И куда бы мы ни прыгали, весь этот путь, включая сюда и воспитание детей и обеспечение их ресурсами и обучение добывать эти ресурсы самостоятельно, упирается в колбасный забор. Есть возражения? — Ты все сказал? — Пока нет. Но хотелось бы услышать твое мнение по этому поводу. — Можно я тебе потом на все сразу отвечу? — спросила я. Он мне очень нравился в это мгновение. Глаза азартно горели, щеки разрумянились, руки нервно подрагивали… — Хорошо, — согласился он. — Посмотрим на все с другой точки зрения. Пойдем, как говорили вожди, другим путем: итак, ты едешь на работу, чтобы производить определенные общественные ценности, внести свой вклад в общее дело. В какое? Он замолчал. Я не сразу поняла, что он задает уже не риторический, а конкретный вопрос. Он молчал, и я молчала. Он переспросил: — В какое общее дело ты вносишь свой вклад? — Ты это серьезно? — наконец очнулась я. — Вполне, — сдвинув брови, сказал он, хотя я отчетливо видела, как прыгали чертенята на дне его зрачков. — В дело построения светлого будущего… — Значит, предполагается, что светлого прошлого у нас не было? Оставим это. Можешь не отвечать. Ответь мне лучше на вопрос: в построении чьего светлого будущего ты так заинтересована? — Твоего! Твоих детей, внуков, всей страны, всего человечества в конце концов! — клянусь, я легко говорила, потому что говорила правду. — Хорошо! — прокурорским тоном отрезал мой юный демагог. — Оставим в стороне проблемы сортировки человечества на тех, ради чьего светлого будущего следует жить и работать, и на тех, которым светлого будущего просто не хочется… Хотя, честно говоря, смешны наши с тобой героические усилия во имя светлого будущего клана Рокфеллеров или Дюпонов. У них с этим будущим все в порядке. Тут, если разбираться, сам черт ногу сломит… Но мы заколотим эту дверь и брякнемся в соседнюю. Каким ты представляешь себе это светлое будущее? — Ну, знаешь… Ничего, ничего. Если вас затрудняют мои вопросы, я могу по-прежнему отвечать на них самостоятельно… Возражений нет? Итак, светлое будущее нам представляется, как полное отсутствие эксплуатации человека человеком, а также человека государством (что в конечном счете одно и то же), отсутствие насилия над личностью, грубого, непроизводительного, нетворческого труда, который (в отличие от рабов в Римской империи) возьмут на себя машины, освободив нам достаточно времени для так называемого творческого труда, который сводится к дальнейшему изобретению все более совершенных механизмов, добывающих (пора посмотреть правде в лицо) все ту же колбасу. — А искусство? А духовная жизнь? — я пустила в ход тяжелую артиллерию. — Вот с этим и вправду загвоздка. Тут необходимо договориться, что такое искусство, и что такое духовная жизнь. Или это просто развлечения человечества, забава, — не обращая внимания на мои протестующие жесты, спокойно продолжал он, — а некоторая игривость свойственна и корове. Или… — Или, — перебила его я, — искусство служит для формирования и развития личности. — И стало быть, для того, чтобы она лучше умела добывать или производить (как уж вам будет угодно) все ту же колбасу? — Ты мне надоел. — Да или нет? — Нельзя так упрощать. — Да или нет? — Это вульгарный материализм. Еще минута, и ты скатишься на теорию разумного эгоизма. Вот уж никак не думала, что у меня под боком собственный Лужин растет. Не под боком, а за пазухой, — со смехом парировал Сашка, — и не дави на меня эрудицией. Читывали и Достоевского. Именно это местечко и навело меня на довольно крамольные мыслишки. — Интересно… — Как ты думаешь, мамуля, борьба не за свою, а за чужую колбасу может оправдать наше существование? — Не поняла, как это, за чужую? — Ну, за колбасу не для себя, а для своего ближнего. — И далась тебе эта колбаса! Что ты к ней привязался? — Это обобщенный образ. Метафора. Для простоты… — Мог бы для простоты подобрать и другую метафору! А то колбаса… Фу, невкусно… — Зато емко и точно. Но от прямого ответа на мой вопрос ты все-таки уклонилась. — В конце концов, ты сам знаешь ответы на все свои дурацкие вопросы. Ты просто меня разыгрываешь. — Нисколько, если б знал — не спрашивал. Вот скажи, зачем человеку совершенствоваться? Что это за задача такая? Крокодил, ни на волос не изменившись, шестьдесят миллионов лет, с мезозойской эры, живет и прекрасно себя чувствует. И сытенький, и здоровенький, и здоровых деток выводит. А человек, видите ли, непременно должен развиваться, плодиться, заполнять все жизненное пространство на земле и снова развиваться, завоевывать космос, изобретать искусственные обиталища и синтетическую колбасу, чтобы снова плодить детей и снова развиваться, чтобы плодиться дальше. Зачем? Ведь и сине-зеленые водоросли, если с ними не бороться, при определенных условиях ведут себя так же! — Меня оскорбляет сравнение человечества с водорослями. — Меня тоже. Придумай другое. Он меня просто восхищал своей логикой и парадоксальностью мышления. И спорила я скорее ради спора, чтоб высекать из него блестки остроумия. И все еще не принимала этот разговор всерьез, хотя машинально отвечала и возражала ему в рамках своих убеждений. Но душу не вкладывала. Чуть-чуть снисходительно, что ли, разговаривала. А он вообще говорил все якобы в шутку. И так ловко за шутливым тоном скрывался, что я во время разговора так и не поняла, насколько для него все это серьезно. — И все-таки зачем? — Что, зачем? — Зачем человечество должно беспрерывно и бесконечно развиваться? — Чтоб достичь мировой гармонии, — не задумываясь, ответила я. Хорошо. А что такое мировая гармония? Это когда у всех вдоволь колбасы, и ничто и никто не мешает ее спокойно есть? А в свободное от этого дела время все будут заниматься искусством, которое будет посвящено не борьбе за нее, за колбасу, как сейчас, а проблемам лучшего ее переваривания. Знаешь, я как-то размечтался на уроке литературы и представил себе время, когда человечество достигнет такого могущества, что исчезнут навсегда проблемы жизненного пространства и ресурсов. Все жизненные блага будут добываться раз и навсегда запрограммированными, самовоспроизводящимися и самообучающимися роботами. Все социальные и национальные противоречия исчезнут, о войне забудут даже историки, и в нашей вселенной добро раз и навсегда окончательно победит зло. Ведь таково твое представление о мировой гармонии, не правда ли? — Мое личное? — И твое личное! — серьезно подтвердил он. — Ну и что? — рассеянно сказала я, глядя на часы. — Но ведь если надежда сбывается, ей конец, да? — В каком-то смысле да… — А как же жить без надежды? — Человечество всегда будет на что-то надеяться, к чему-то стремиться… Не переживай очень по этому поводу, — беззаботно сказала я, допивая свой чай и споласкивая чашку. — Человек рожден для лучшего, как сказал бы Фомин, — грустно усмехнулся Сашка и пошел к раковине споласкивать свою чашку. — Только он имеет в виду портвейн марки «Лучший», а не колбасу. Колбаса его не интересует. Да и меня колбасный рай в конце пути тоже мало устраивает… — Выходит, в том, что я съела это яйцо, нет никакого смысла? — крикнула я из прихожей, натягивая пальто. — Есть! — крикнул он, гремя посудой. — В чем же он? Только быстрее… — поторопила я его, застегивая молнию на сапогах. — В любви, мамулечка, в любви… — Ну, тогда я пошла! — Между прочим, ты зря хихикаешь, — сказал он, появляясь в дверях. — Потому что любовь — это… — Это, безусловно, самое главное! — я захлопнула за собой дверь и крикнула уже с лестницы: — Особенно в твоем возрасте… Вечером к нам пришла Мариночка с мужем, мы пили сухое вино (и Сашка тоже), ели шашлыки, приготовленные в духовке, и на эту тему больше не разговаривали. Часы летят, а грозный счет Меж тем невидимо растет. Это было какое-то наваждение. Ведь это строчки о веселой пирушке с друзьями. Ведь у Пушкина: Шум, споры — легкое вино Из погребов принесено… Да и заглянула я в томик рассеянно, даже не для гаданья. Но все-таки по старой привычке гадать взглянула прежде всего на те строчки, куда лег палец и отчего-то вздрогнула. «Часы летят, а грозный счет». Да нет же, нет, ерунда! Я специально прочитала сначала всю строфу, потом всю десятую главу. Помнится, я даже головой тряхнула, отгоняя дурные мысли, даже попыталась беззаботно рассмеяться или хотя бы усмехнуться над этим дурацким наваждением, но в голове упрямо стучало: «Часы летят, а грозный счет меж тем невидимо растет». Мне начало казаться, что писал он вовсе не о молодой, удалой пирушке, что он шифровал… А может, и не шифровал, а сам того не замечая, подсознательно… Нет-нет, решила я, у Пушкина все очень сознательно и все конкретно. Саню больше всего восхищала именно эта невероятно точная конкретность. «Ни одного слова вообще, ни одного слова как бы!» — кричал в каком-то экстазе он. Что же меня так насторожило, во что попали эти строки? Что их превратило в мрачное предостережение или предсказание? Выходит, не в пушкинских стихах была тревога, а во мне. Она только воплотилась в стихах. Часы летят, а грозный счет Меж тем невидимо растет… Я целую неделю как заклинание твердила эти слова — и про себя, и вслух, позабывшись. Саня однажды услышал и усмехнулся, словно застал врасплох: — Почему так мрачно? Это всего-навсего ресторанный счет. — Всего-навсего… — повторила я и заговорила о другом. В эту неделю я порвала с Олегом. Он очень удивился, когда я ему объявила об этом. Он спросил: — Почему? Я ему ответила: — «Часы летят, а грозный счет меж тем невидимо растет»… Бред какой-то! Наваждение! Я не хотела этого говорить. Это вышло само собой. Я сама испугалась. Олег ничего не понял. Он смертельно обиделся и не захотел ничего слушать. А потом я, уверенная, что сделала все, что нужно, что исполнила свой долг, успокоилась. И Сашка поправился, стал веселый и. все время ел. Я с утра до вечера готовила. Это были, как я только теперь понимаю, лучшие дни моей жизни. Мне стало казаться, что так будет вечно, что больше ничего ни мне, ни ему не нужно… Потом явился наш участковый Васильев и сказал, что Саня избил до полусмерти дачного сторожа Фомина. Он сказал, что у Фомина выбит зуб и треснуто ребро, что заявление Фомина уже лежит у Васильева, но Фомин пока не велел заводить дело, а велел мне явиться к нему и поговорить «по душам». Он велел передать, что сроку он дает два дня, а там пустит заявление в ход. Мне приходилось кое-что слышать об этом Фомине, и я не сомневалась, что он осуществит свою угрозу. Васильев приходил вечером. Утром я по телефону отпросилась с работы, выстояла очередь в ломбарде, чтоб заложить единственную драгоценность — бабушкины сережки, вернулась в поселок и пошла искать сторожку Фомина. Я ничего не стала спрашивать у Саши. Я знала, что просто так он человека не ударит. Я знала, что если он не рассказал мне сам, то никакие расспросы не помогут, я знала, что он запретит мне идти к Фомину. Я и не рассчитывала, что встречу интеллигентного человека, добряка, но то, что я увидела… Фомин сидел на кровати, а мерзкая бородатая собачонка вылизывала между пальцами его босые ноги… И некуда отвести глаза. И этот запах водки, селедки и лука, когда он открывал рот и, оттянув грязным пальцем нижнюю губу, демонстрировал свежую дырку между черными гнилыми зубами. О, Господи! И эта раскаленная печка, и эта кровать, на которой он седел, и эта подушка… А я заискивающе улыбалась, и эта улыбка мне стоила десятка лет жизни… Я была близка к обмороку. Желудок стянуло судорогой. Я так сжимала зубы, что казалось, они раскрошатся… Потом у меня несколько дней болели скулы. Он говорил медленно и договаривал слова до конца, желая показать, что он не пьяный. Споткнувшись о слово «компенсация», он замолчал, пошевелил пальцами ног, на которых блестела собачья слюна, и повторял это слово до тех пор, пока не выговорил. Я была готова бросить на грязный, в винных разводах стол четыреста рублей — все, что у меня было, — и бежать, бежать но снегу, глотая холодный свежий воздух, и не сделала этого только потому, что была не в состоянии открыть сумочку. Руки не слушались. Потом до меня дошли его слова: «…красивая женщина, а Фомин понимает женскую красоту». Он мог бы вообще, как положено джентльмену, только ручку поцеловать и адью, мадам. Но Фомин не джентльмен и никогда к этому не стремился, потому что это — суета. Фомин честно и прямо говорит: «Любой угол». — Не понимаю?.. — сквозь стиснутые зубы простонала я. — Угол. Четвертак. Двадцать пять карбованцев, если мадам не затруднит… Не помню, как достала деньги, как считала, как вывалилась из этой выгребной ямы. Очнулась я на утоптанной тропинке между высокими сугробами, за которыми чернел лес. Над головой тучей клубились вороны. Бог наказал меня душевной слепотой. За что? Чем я провинилась? Тем, что только однажды проявила слабость и возомнила, что имею право на счастье? Так я очень быстро справилась с этой слабостью. В чем же еще я виновата? В том, что у Саши была своя жизнь, в которую он меня не пускал? Так он и отца бы в нее не пускал. Может, действительно в том, что родила Сашу без разрешения отца? Но ведь у него я не могла спросить, он бы не разрешил… И вообще не было тогда человека, которому я бы поверила… Я не знаю, за что Бог лишил меня материнской интуиции. В то утро мы завтракали, как обычно, шутили, как обычно. У него был прекрасный аппетит. Помню, я так и подумала этими же словами: «Какой прекрасный аппетит!» О чем мы разговаривали в то утро, я не помню, а вот эту дурацкую мыслишку запомнила навсегда… Уходя в школу, Саша спросил: — Ты сегодня, как обычно? — Если будут силы и настроение, к Марине заеду ненадолго… — Можешь не торопиться, — сказал он. Я удержалась и не спросила его ни о чем. Это были его последние слова… И ничто во мне не дрогнуло, не шелохнулось… Я даже не взглянула на него из окошка. У нас в издательстве в тот день давали рыбный заказ: две банки шпротов, полкило красной рыбы чавычи, килограмм воблы, банку красной икры и две банки кальмаров. Я все утро дозванивалась до Маринки, чтобы выяснить, будет она брать заказ или нет. Если б она брала, то и я взяла бы один заказ и отдала ей красную рыбу и икру (у нее день рождения двенадцатого февраля), а все остальное забрала бы себе. На целый заказ у меня не было денег. К тому же я присмотрела Саше нейлоновую куртку на весну. Наша сотрудница привезла своему мужу из-за границы, куртка оказалась ему мала. Она продавала недорого. У Маринки я и хотела занять на курточку. Дозвонилась я ей только в половине второго. Маринка попросила взять два заказа. Из второго она отдала мне всю воблу. — Санька обожает воблу, — сказала она.ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Славную, славную девчушку привез Левушка из Одессы. А мы-то думали, где это он пропадает? На кортах не появляется, соревнования по бриджу пропустил. В последний момент пришлось искать ему замену. В бридже партнерство — чрезвычайно тонкая вещь. Пары подбираются годами. Мало хорошо играть, необходимо кожей чувствовать партнера, знать малейшие оттенки его мимики, психологию, привычки. Мне пришлось за три дня до первенства Москвы пригласить Жихарева для тренировки. Мы раза два или три играли с ним на Домбае. Но одно дело составить партию для развлечения и совсем другое — первенство Москвы. Жихарев сам по себе замечательный игрок, но партнерства у нас с ним не получилось. Проиграли. Жаль… Нет, действительно славную девушку привез Лева из Одессы. Живую такую, порывистую, постоянно заведенную. Пальцы чуткие, как у слепой, сухие, но вместе с тем не худые, сильные, но без этих выпирающих жил и косточек, прекрасной формы, длинные, как и все в ее теле, скорее удлиненное. Если б мне показали ее руку, то дал бы собственную голову на отсечение, что это рука музыканта или скульптора. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что Наташа не играет ни на одном музыкальном инструменте. Я всегда утверждал, что Хемингуэй — это не литература, это образ жизни. Ну действительно, разве можно говорить о нем всерьез как о писателе, когда только среди его современников мы знаем Джойса, Фолкнера, Томаса Манна. Дос-Пассоса, Генри Миллера в конце концов… А дальше просто обоймами можно перечислять: Пруст, Кафка, Камю, Сартр; латиняне — Маркес, Кортасар. Не говоря уже о наших китах девятнадцатого века, века русской, безусловно, литературы, можно вспомнить, что современниками Хемингуэя были: Булгаков, Платонов, Пастернак, Набоков, Андрей Белый. Нет, если говорить всерьез о Хемингуэе, то так можно договориться и до Ремарка и еще черт знает до кого. Но ведь именно Хемингуэй и Ремарк были властителями дум среди молодежи 50-60-х годов. Вот что удивительно! Но со вкусом пожить папа Хэм умел. В этом ему не откажешь. У него даже теория своя была. Он считал, что писатель должен писать только о том, что хорошо знает. Должен испытать все на своей шкуре. Что-то в этой теории меня не устраивает. Мне сразу некуда девать Булгакова, Кафку, Толстого с его «Войной и миром», Достоевского, Гоголя. Слабоватая теория в смысле отображения многосложного и противоречивого мира. Но для какого-нибудь плейбоя, для спортсмена, вроде меня, эта теория вполне полезная. Описание Хемингуэем ловли форели в «Фиесте», а также в рассказах «На Биг-Ривер» и «На Ист-Ривер» может служить прекрасным руководством для начинающего спортсмена. Руководством тем более ценным, что служит оно не для приобретения элементарных навыков в ловле форели, а для извлечения из этого превосходного спорта наивысшего удовольствия и удовлетворения. И поверьте, можно довериться этой инструкции всецело. Тут папа Хэм ни на йоту не отступил от своей теории. Он тут ничего не придумал. Каждая строчка — это результат многократно проверенного, отобранного и обобщенного опыта. В этом смысле Хемингуэй бесценен. У нас о ловле форели неплохо писал Фазиль Искандер. У него, например, можно прочитать даже то, чего нет у самого Хемингуэя: очень верное и тонкое замечание, что форель охотно берет на крупную красную икру. Но вот в чем Хемингуэй был совершенно прав, так это в том, что путешествовать нужно только с людьми, которых любишь. Это у него в «Празднике, который всегда с тобой»… Там он описывает путешествие еще малоизвестного и бедного писателя Хемингуэя с уже известным и богатым Френсисом Скоттом Фицджеральдом. Он пишет, как плохо ему было… Я был в горах несколько в ином положении… Со мной были художники-реставраторы из одной моей бригады — муж с женой и их приятельница, тоже художница, только не реставратор, а декоратор, специалист по торговому дизайну. Оформление витрин, торговых помещений, реклама. Интересная профессия. Чрезвычайно увлекательно рекламировать то, что нужно скорее прятать и создавать впечатление, что товары в магазине есть, хотя там их нет и вообще никогда не было. Да, я был совершенно в противоположном положении по сравнению с Хемингуэем. Скорее, мой спутник, Петенька Никифоров, был зависим от меня больше, чем я от него. Петенька — чудесный парень и ни на минуту не забывал, что именно я вытащил его из жуткого сырого подвала, пропахшего рыбьим клеем и мышами. Его мастерская находилась в старом доме в районе Таганки и располагалась, как он сам любил шутить, на три метра ниже уровня Ваганьковского кладбища. Там постоянно и нестерпимо гудели дроссели ламп дневного света. Я лично никогда не мог находиться там больше часа. Голова начинала гудеть в унисон с этими дросселями, и начинался аллергический насморк то ли на мышей, то ли на рыбий клей… А мой бедный Петюньчик пребывал там сутками, пил портвейн или того хуже — дешевый и вонючий вермут, который ему приносили друзья, заводил проигрыватель «Концертный» — жуткую мыльницу со стершейся иглой, слушал хриплую и глухую, как из железной бочки, музыку и писал серии своих гениальных «Скерцо» и «Ноктюрнов», которые никто не покупал. Выставлял он их на Малой Грузинке. Знатоки цокали языком, писали в «амбарную книгу» восторженные отзывы, приходили в мастерскую коллекционеры и иностранцы, но никто ничего так и не купил. Коллекционеры выпрашивали какую-нибудь почеркушечку на халяву за бутылку водки или даже коньяку и говорили, что работы большие, музейные, и держать их в частных коллекциях грех, да и денег таких нет… А иностранцы беззастенчиво спрашивали, может ли Петечка изобразить им Загорский монастырь в натуральном виде, и чтоб звезд на голубых куполах побольше. Петенька их джин-тоник пил и пивком баночным не брезговал, но в глубине души тосковал по портвейну и «Жигулевскому», к которому он привык с молодых ногтей. На этом их деловые отношения и кончались. Я же ему дал стабильный заработок — 500 рублей в месяц и интересную работу. Понятно, что при его золотом (пока он трезвый) характере, он во время нашего путешествия стремился как-то угодить мне, сделать что-то приятное. Впрочем, это без всякого заискивания или унижения. Жена его Соня тоже опекала меня по-матерински, и подруга их Зоинька была ко мне благосклонна, но все-таки прав Хемингуэй — путешествовать надо с людьми, которых любишь. Беда вся была в том, что их представления об удовольствиях очень сильно отличались от моих. Они каждую свободную минуту старались обеспечить себе красивую, с их точки зрения, жизнь: дорогая выпивка и бесконечные разговоры, пересыпанные двусмысленностями, на сексуальную тему, которые под кайфом выглядят невероятно остроумно. Или непрекращающийся треп на другие, не менее мучительные для меня темы: об искусстве или о политике. И так каждый день. А прибавьте бесконечные сигареты и кофе. Полную нравственную раскованность и ночные бдения до пяти утра и спанье до двенадцати. Я даже не смог прочитать те пару книг, которые взял с собой. Хорошо еще, что во время ловли они дрыхли, как сурки. А потом Петруня сломал спиннинг стоимостью в двести рублей. Денег не жалко, но хорошего настроения это не прибавило. Потом Зоинька, человечек, в сущности, не пустой и даже в чем-то интересный, начала шутить о том, что у нас могут получиться красивые дети… Потом Сонечка по жуткой пьяни пришла ко мне в номер… Трудно все это выдержать трезвому человеку. Отправляясь с друзьями в горы на ловлю форели, Геннадий Николаевич не слишком рассчитывал на веселое путешествие, но оно, вопреки всем его расчетам, вышло невыносимо скучным. Была у Геннадия Николаевича команда для отдыха и путешествий, укомплектованная еще много лет назад, но как это часто случается, у его старых, проверенных друзей что-то не сложилось, а на местах, то есть на этапных базах маршрута, курки, как говорится, были уже взведены, и Геннадий Николаевич оказался перед дилеммой: или не ехать вообще, или набирать новую команду. О том, чтобы не ехать вообще, и речи не могло быть. Геннадий Николаевич решил взять с собой Петеньку Никифорова, свое последнее «приобретение». Никифоров четыре года назад с большими трудностями закончил Суриковский институт. Трудности были такого рода: Петенька на очередной осенний «обход», то есть выставку работ, привезенных с летней практики, выставил перед высокой комиссией четыре листа оргалита размером 120 х 140 см. На загрунтованных листах были причудливо разлиты автомобильные эмали — голубая, желтая, зеленая и коричневая. На одном листе преобладала голубая, на другом — зеленая, на третьем — желтая, а на четвертом преобладал белый грунт. Листы эти, по замыслу Никифорова, должны были изображать четыре времени года. И надо признать, изображали. Никифоров попытался позиционировать свои новые работы как экспрессионистические, но деканат расценил его искания как чуждый и пагубный для нашего искусства абстракционизм и поставил вопрос о его, Никифорова, исключении. Никифоров сказал: «Ах так?! Исключайте, черт с вами!» — и завалился в пивбар на Масловку. Рядом были худфондовские мастерские, и поэтому в пивбаре постоянно толклись художники и скульпторы. Петеньке было кому рассказать о своей борьбе. Он приобрел популярность на Масловке. Однако лафа скоро кончилась. В деканат, прознав о случившемся, явилась Петенькина мать, маленькая женщина с испуганным, птичьим личиком и бухнулась в ноги начальству. Петенькину маму звали тетей Любой. Она работала приемщицей на хлебозаводе № 6 около Усачевки и растила сына с четырех лет одна. За эти двадцать лет она твердоусвоила, что Петечка еще глупенький и своей пользы еще не знает, и что нужно только перетерпеть, пересилить этот тяжелый момент, а там дальше легче будет — Петенька поумнеет. Матери не убудет, чего она ни сделай ради сына. Слова «бухнулась в ноги начальству» следует понимать в буквальном смысле. Тетя Люба пришла в деканат, выяснила, кто самый главный, и прямо у порога с громким стуком опустилась на колени. Декан живописного факультета окаменел. Придя в себя, он бросился поднимать тетю Любу, что было совсем не просто. Потом отпаивал ее водой, вытирал своим платком безудержные слезы, усаживал на тяжелый дубовый стул, с которого тетя Люба непрерывно сползала обратно на колени. Изрядно попотев, декан факультета наконец выяснил, в чем дело. Через полчаса Никифоров был восстановлен. Когда тетя Люба ушла, декан с удивлением принюхался. После тети Любы в кабинете остался отчетливый запах теплого черного хлеба. Практика Петеньке была зачтена, но теперь за ним закрепилась слава авангардиста. Преподаватели начали коситься на него, как на зачумленного. Три последних семестра Никифоров в основном доказывал, «что он не верблюд». Диплом он каким-то чудом получил, но вышел из института гол, как сокол, — не только без опеки и помощи со стороны преподавателей, но и со славой скандалиста и ярлыком авангардиста. Куда ему было идти? В тот же пивной бар на Масловке? Он пробовал сунуться в живописный комбинат, но там у него саркастически спросили, как он представляет себе портрет передовика производства или руководящего работника, выполненный в экспрессионистической манере? С огромным трудом он устроился оформителем в большой продовольственный магазин. Промыкавшись два года в магазине, Никифоров вступил в молодежную секцию, выставился на двух молодежных выставках, выхлопотал мастерскую и бросил работу в магазине. Два года он нищенствовал, перебиваясь случайными заработками, потом примкнул к группе «20 московских художников», что ни заработков, ни славы ему не принесло. Даже наоборот. В те далекие времена «Малая Грузинка», то есть Горком художников-графиков, которому принадлежала «Двадцатка» и МОСХ (Московское отделение Союза художников), которому принадлежала молодежная секция, враждовали между собой. И совершенно естественно, что Петенька считал Геннадия Николаевича, давшего ему постоянную работу и высокие заработки, своим благодетелем и спасителем. Геннадий Николаевич был бригадиром и организатором производства двух реставрационных бригад, работающих по договорам с Московской патриархией. Бригады занимались реставрацией действующих церквей. Геннадий Николаевич доставал для них заказы, строительные леса, белый камень, кирпич, цемент, краски малярные и художественные, лаки, сусальное золото, кисти, доски, фанеру и т.д. Кроме того, он набирал и формировал бригады, куда входили и резчики по дереву, и белокаменщики, и позолотчики, и, конечно, живописцы. Сам Геннадий Николаевич был по профессии художником. Он и возглавлял в обеих бригадах живописные работы. Слово «возглавлял» в данном контексте имеет несколько каламбурный оттенок, так как Черняк занимался только ликами святых на иконах или фресках. Он, как модно говорить, был играющим тренером. Правда, мало играющим. Львиная доля работы выпадала на художников вроде Никифорова. Надо сказать, что в области снабжения у Геннадия Николаевича информация, связи и приемы были отлажены безукоризненно. И все эти многочисленные проблемы, только на перечисление которых у нас ушло так много времени, решались Геннадием Николаевичем несколькими звонками по телефону. В обеих бригадах у него имелись особенно преданные люди из числа облагодетельствованных им недавно. Они с удовольствием и рвением исполняли при нем роль порученцев или попросту курьеров. Развозили и подписывали всевозможные требования, накладные, договоры и прочее… Отвозили подарки людям, которые, по мнению Геннадия Николаевича, их заслуживали. Зарабатывал он различными способами от полутора до двух тысяч рублей в месяц в каждой бригаде. В сумме это составляло от трех до четырех тысяч. Роман Геннадия Николаевича с Сонечкой Никифоровой (в девичестве Ушаковой) кончился полтора года назад. У нее хватило ума превратить их любовные отношения в дружеские, и она сумела остаться для Геннадия Николаевича преданным и энергичным помощником, его правой рукой во второй бригаде. Сонечка на работе не пила даже в большие праздники, и это качество делало ее человеком труднозаменимым. Однако Геннадий Николаевич платил ей столько, сколько и остальным художникам. Он искренне считал, что Сонечке доставляет удовольствие помогать ему и быть добровольным заместителем. Зоя была ближайшей подругой Сонечки, вместе учились в Полиграфическом институте. Она-то и познакомила Сонечку с Никифоровым. Они понравились друг другу и вскоре поженились. Никифоров, естественно, был сразу же представлен Геннадию Николаевичу. Тот посмотрел Петенькины картины, потолковал с ним о том, о сем и предложил работу. Вот таким образом все они — и Сонечка с Петей, и Зоя — оказались спутниками Геннадия Николаевича в его путешествии. Сонечка Никифорова, уставшая от собственной строгости и трезвости в бесконечных отъездах, расслабилась. Петенька всегда был не дурак погулять. Зоя поддержала их компанию… Дело кончилось тем, что Сонечка явилась к Геннадию Николаевичу в номер, в одно мгновение сбросила халат, надетый на голое тело, и юркнула к нему под одеяло. Геннадий Николаевич отложил книгу, которую пытался читать, поднялся с кровати и не спеша оделся. — Зойка лучше? — хриплым голосом спросила Сонечка. Геннадий Николаевич промолчал. Он налил стакан воды и протянул его Сонечке. Она улыбнулась, мягко протянула обнаженную руку и в последний момент выбила стакан из его руки и расхохоталась. Стакан, заливая гостиничный ковер водой, разбился вдребезги. — Брат милосердия! — восхищенно воскликнула Сонечка. — Как трогательно. — Она хихикнула. — Как мило! Не надо увлажнять глаза слезами умиления. Я сегодня совсем не пила. Я вообще никогда не пью! Ну только чуть-чуть… — Она снова хихикнула. — На ночь… Чтоб заснуть и забыть. Ведь ты меня бросил, Геночка. Ты, конечно, забыл об этом, но мне нужно выпить коньяку, чтоб забыть. Сто пятьдесят и таблетку седуксена. И тишина!.. А ты и вправду решил, что Зойка лучше? Бедненький Геночка! Все вы павианы надутые, бездари! Вас вокруг пальца вот так, вот так… — Она поводила одним неверным пальцем вокруг другого. — Сколько угодно, а вы только щеки раздуваете. Она же врет тебе все! Она совершенно фригидная! Ей это дело вообще до лампочки. Она вздыхает и охает, только чтоб тебе удовольствие доставить, а ты, дурачок, принимаешь все за чистую монету. А как же! Еще одна от тебя с ума сходит! Выпалив все это, Сонечка сжалась в комок, ожидая вспышки гнева, а может, и удара, но Геннадий Николаевич, наливая воду в другой стакан и бросая туда таблетку алкозельцера, которая бурно зашипела, выделяя пузырьки углекислого газа, добродушно усмехнулся и сказал: — «Ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад». Какое мне дело до ее сексуальных проблем? Фригидна — тем хуже для нее. Пусть и дальше старается, обманывает… На вот, выпей — это вкусно. И не шали больше. Где твой халат? Соня молча выпила, поднялась, взяла брошенный на кресло халат и оделась. — Утром приди, пожалуйста, подбери осколки, — попросил Геннадий Николаевич. Соня молча кивнула. — Да, я вот еще что хотел сказать, — Геннадий Николаевич запнулся… — Я тебя понимаю, тебе хочется разрядиться. Но будь поосторожнее с Петечкой. Его нужно крепко держать в руках, иначе он сопьется к чертовой матери. Кому он тогда будет нужен? Хотя, может, тебе в радость содержать непризнанного гения? Может, в этом твое призвание? Но учти — гении в какой-то момент начинают вещи продавать и драться… — Спасибо за совет, Геночка. Ты всегда был добр ко мне и к Петечке. Я пойду, начну держать его в руках. А тебе, Геночка, спасибо большое за все. Да, я вот тоже собиралась все спросить тебя… Скажи, тебе было бы приятно, если б тебя хотя бы в шутку назвали гением? Геннадий Николаевич взял Наташу с собой на «Одессу» по трем причинам. Во-первых, идти в праздничный круиз без дамы было не принято. Во-вторых, для него был заранее куплен двухместный люкс, то есть место все равно было оплачено. И наконец, в-третьих, Геннадий Николаевич подумал: «А почему бы действительно не сделать девочке приятное?». Он был приглашен в Одессу в качестве эксперта. После смерти старого коллекционера поступила в продажу большая и очень ценная коллекция древнерусской живописи, т.е. икон, а также старинной церковной серебряной утвари и книг XVII-XVIII веков. Вдова коллекционера назначала совершенно несуразные цены. Геннадию Николаевичу предстояло атрибутировать и оценить коллекцию. Он был одним из немногих людей, понимающих не только истинную ценность подобных вещей, но и знающих их рыночную стоимость. Пригласили его потенциальные покупатели коллекции. Чтобы предупредить известные просьбы и предложения, Геннадий Николаевич сказал по телефону: — Только учтите, что атрибутировать и ценить я буду в соответствии с собственной компетенцией, а не по вашему желанию. Доброе имя дороже денег. Я — профессионал, и честь мундира… — Что вы, что вы, — мягко возразили ему, — вам не придется кривить душой. Мы очень ценим не только ваш высокий профессионализм, но и доброе имя. Поэтому мы и обращаемся именно к вам… У вас найдутся иностранные каталоги 1962-1963 годов? — Кажется, есть. — Хотелось бы знать точнее… — Точно есть. — Было бы хорошо, если бы вы именно эти каталоги захватили с собой… Ведь у вас могло и не оказаться последних, не правда ли? — Могло и не оказаться… — усмехнулся про себя Геннадий Николаевич. — Значит, мы вас будем ждать. И не забудьте каталоги. «А действительно, почему у меня обязательно должны быть свежие каталоги? — подумал Геннадий Николаевич. — Совсем это не обязательно… Я покажу каталоги и объявлю цены 1963 года с точностью до пенса, а остальное меня не касается. В конце концов, без меня вдова и этой цены не получит. Они просто не подпустят к ней других покупателей…» Дело было в том, что с 1963 года цены на древнерусскую живопись и на антиквариат поднялись больше чем в три раза. Потом уже, когда коллекция была перевезена на квартиру к покупателям, ему пришлось атрибутировать и оценивать каждый предмет сообразно с каталогами 1978 года. Гонорар его составил 13 500 рублей, т.е. 5% от 270 тыс. рублей, той суммы, за которую была приобретена коллекция. Деньги и билеты на «Одессу» (они были как бы премией к основному гонорару) Геннадий Николаевич принял с сухой благодарностью и с самым независимым видом. Он с трудом переносил развязную и снисходительную доброжелательность своих одесских клиентов. Пойти в круиз его заставило лишь то обстоятельство, что на судне его обещали свести с людьми, располагавшими большими возможностями в области строительных материалов. Это было необходимо ему для основной работы. Круизов, особенно праздничных, да и самих пароходов он не любил. Ему претила их атмосфера безудержной до обжорства гульбы, душный табачно-винный запах, которым они пропахли. Раздражала алчная погоня за примитивными удовольствиями участников круиза, их индюшиное чванство (в одежде, в тратах, в красоте прихваченных с собою девиц) в начале праздника и свинское подстольное братание в конце. Однажды он шутливо предположил, что окажись в таком круизе пяток мужичков-трактористов из псковского колхоза «Путь Ильича», и будь у них под рукой хоть ломаные дробовики, то пароход этот не вернулся бы из круиза. «Рабочая» квартира находилась на первом этаже, и Геннадий Николаевич, подъезжая к дому, коротко сигналил два раза. Выходил Левушка, открывал багажник, вынимал большой черный полиэтиленовый мешок и волок в квартиру. Потом выносил конверт с деньгами и протягивал через щель в окне Геннадию Николаевичу, Тот, не открывая конверта, кидал его в бардачок. Он знал, что там лежит сумма из расчета по пятьдесят рублей за каждую шкуру. Расчет на месте производился не из-за недоверия партнеров друг к другу, а для того, чтобы не путаться и не накапливать долгов. Самому Леве было так удобнее. Раз в неделю в багажнике Геннадия Николаевича лежали два мешка. Один большой со шкурами и другой поменьше с прикладом (замша, кожа, подкладочный материал). Приклад обходился Левушке по десять рублей на шапку. Геннадию Николаевичу он доставался по восемь. В последний месяц Лева почти все свое свободное время проводил с Геннадием Николаевичем, выполняя при нем роль не то чтобы личного секретаря, а что-то вроде офицера по особым поручениям. Исполнял он эту роль охотно, с каким-то даже рвением, считая, что выполняет свой долг. Он считал себя обязанным Геннадию Николаевичу по гроб жизни. В ответ па ехидные замечания Натальи он говорил, что да, он предан и услужлив и не считает это зазорным, и что одно из самых отвратительных человеческих чувств — чувство неблагодарности. Геннадий Николаевич никогда не забирал Леву из рабочей квартиры. Всегда получалось так, что Лева успевал съездить домой, помыться, переодеться, побрызгаться хорошим одеколоном. Геннадий Николаевич, как и Наталья, не переносил дурных запахов. Сшитые Натальей шапки Лева в большой спортивной сумке с надписью «СССР» отвозил к Ваньке-дергунчику. Тот принимал их с глубокомысленным и многозначительным молчанием, подчеркнуто и слегка даже демонстративно соблюдая все условия, поставленные «благодетелем», то есть Геннадием Николаевичем. Шапки на малаховском рынке шли от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти рублей, принося от пятнадцати до ста пятнадцати рублей чистой прибыли продавцам, которые были вынуждены даже разделиться, чтобы обеспечивать своевременный сбыт двадцати-двадцати пяти шапок за два (суббота, воскресенье) базарных дня. По вторникам Геннадий Николаевич заезжал за выручкой. Если часть шапок оставалась непроданной (это хоть и редко, да случалось) он требовал предъявить оставшиеся шапки. Он, конечно, верил в то, что Актиния Карповна не допустит обмана, пока не почувствует, что золотоносная жила выработана до дна, до пустой породы, но каждый раз все равно просил предъявить остаток. Делал он это исключительно для ее же пользы. Таким образом ей самой было легче блюсти финансовую дисциплину. В тот же день, той же ездкой Геннадий Николаевич забирал шкуры у Фомина и отвозил их Леве. За шапки он рассчитывался с Левой по четвергам, в номере Центральных бань, который снимала постоянно сплоченная компания, состоящая из художников-реставраторов и деловых людей различной специализации… Геннадий Николаевич платил Леве по девяносто рублей за каждую (любую) шапку. В результате всех этих операций получалось вот что. Ребята-ловцы зарабатывали по пять рублей за каждую пойманную собаку. Фомин зарабатывал по пять рублей за каждую шкуру. Лева и Наталья получали за шапку чистой прибыли шестьдесят рублей. Поставщики приклада (он им доставался бесплатно и состоял из отходов кожевенного производства) получали по восемь рублей из расчета на одну шапку. А Геннадий Николаевич зарабатывал шестьдесят три рубля на каждой проданной шапке. Женщина, которую разлюбил, подобна высохшему пруду… Еще вчера зеркало воды отражало легкие облака и прибрежную осоку, плавали в заводях желтые кувшинки, плакучие ивы касались воды нежными прядями ветвей, по вечерам в тишине, сверкая золотой чешуей в багровом закатном солнце, плескались тяжелые караси. И вот — сухо. Вода ушла. Только в середине маленькая лужица, в которой, мешая воду с жирным илом, сонно ворочаются одурелые от жары тритоны. Торчат из потрескавшегося на солнце илистого дна проржавевшие консервные банки. Обнажилась старая шина, повсюду видны похожие на головешки мореные куски дерева, застывшие лягушачьи следы… Все-таки истинных художников (к коим без всякой иронии я отношу и себя) всегда отличает некий баланс между пылкостью воображения и чувством меры. Ведь не вставил же я в картину высохшего пруда мелькнувший мысленно печальный кошачий остов, объеденный раками, с остатками шкуры на хвосте. Хотя какие, к черту, в пруду раки? И все-таки кошку я не вставил, хотя разлюбленная, выпитая тобою до дна женщина… Странным образом ее достоинства, так волновавшие (заводившие) тебя еще недавно, без всяких видимых изменений, прямо на твоих глазах превращаются в недостатки. Стройность и легкость фигуры становится худобой, простоту и безыскусность манер ты уже считаешь преснятиной и ограниченностью, прямоту — грубостью, силу характера и цельность — тупым упрямством и так далее… Но главный недостаток женщин, которых разлюбил, в том, что они, как правило, не умеют расставаться по-человечески. Даже если в продолжении отношений не заинтересован никто. Во всяком романе существует некое трудноуловимое мгновение, что-то вроде точки неустойчивого равновесия, после которой отношения могут свалиться в любую сторону с одинаковым успехом. Молено их продолжать. До следующей точки, до кризисной. А можно и прекратить. Тихо и мирно, по обоюдному согласию… По согласию, повторяю, обоюдному, без всякого нравственного и эмоционального ущерба для обеих сторон. Как правило, мужчина в этот момент бывает внутренне готов к расставанию. Больше того, он тяготеет к нему, порой не признаваясь в этом даже самому себе. А вот женщина к расставанию всегда не готова. Вопреки здравому смыслу, вопреки очевидности, вопреки всему. Она словно специально доводит отношения до кризисной точки, чтобы получить свою порцию душевной (порой и физической) боли. Мой приятель Лапин говорил, что «женщина благороднее мужчины в любви и подлее в ненависти». Очень, по-моему, точная фраза. С другим моим приятелем, Сидором, психиатром по профессии и по образу жизни, мы как-то обсуждали природную, что ли, расположенность женщины к мазохизму. Нашу смелую гипотезу мы основывали на том факте, что все основные этапы сексуальной и физиологической жизни женщины так или иначе связаны с болью. Это и начало регул, и дефлорация (потеря невинности), и роды, и аборт, а зачастую и кормление ребенка. Так или иначе, но по нашим обобщенным наблюдениям, все женщины в большей или в меньшей степени явные или скрытые мазохистки. Недаром же существует ряд народных пословиц на эту тему: «Бьет — значит, любит», «Без тумаков, как без пряников» и так далее… Иначе трудно объяснить, почему они всегда затягивают расставание до критической точки, чтобы быть в конце концов брошенными и упиваться своими душевными муками. После праздничного круиза как-то само собой стало ясно, что это и есть та самая точка, время «Ч», как говорят военные, то есть время принятия решения. Наталья быстро поняла, что расставание (в сексуальном смысле) мало что меняет в наших отношениях, что оно даже выгодно, так как снимает некоторую двусмысленность и натянутость в общении с Левушкой, к которому мы оба (и я, и Наталья) неплохо относимся, и упрощает наши деловые контакты. После принятого решения кажутся нелепыми и бессмысленными взаимные претензии, становится проще, искреннее и веселее общение, отпадает надобность в нагромождениях лжи, и даже обостряются очищенные от вынужденного лицемерия чувства друг к другу. А что же теряется? Эти пресловутые, достаточно редкие по техническим причинам, полчаса близости… Есть ли о чем горевать? Одним словом, мне показалось, что Наталья способна на мужской (т.е. благородный и благоразумный) поступок, но вскоре я убедился, что мои надежды были напрасны. Хотя надо отдать ей должное, она старалась. — Я не знаю, чего ей это стоило (честно говоря, и не хочу знать), но держалась она великолепно до того единственного момента, когда с ее стороны и потребовалось проявить благородство… Должен сказать, что я со своей стороны, выполняя чисто дружеский долг, потратил на нее чертову уйму личного времени. А время — это единственное, что я не могу купить за деньги. Хотя… Можно, конечно, сконструировать довольно изящную формулу, из которой будет следовать, что за деньги (платя за услуги и не тратя ни минуты на досадные бытовые мелочи) можно купить и самое время, но уверяю — это уже стоит очень дорого. Гораздо дороже удовольствий. Но речь сейчас не об этом… Когда она позвонила и спросила, не смогу ли я порекомендовать одну девочку врачу, к услугам которого она с моей подачи прибегала совсем недавно, то я, ни секунды не раздумывая, сказал «да». И сделал это. Больше того, отвез их туда сам, подождал, пока Миша (так зовут врача) сделает свое дело. А делает он его, как я понимаю, на высочайшем профессиональном уровне. Потом ждал, пока девочка придет в себя после обезболивающего укола, потом отвез их на квартиру к Наталье, распивал с ними чаи, давая время девочке окончательно прийти в себя, и даже предложил отвезти девочку домой… Когда я это предлагал, я еще не знал, что она из Щедринки. Потом, когда я узнал об этом, то, естественно, стал «настаивать на своем предложении. Девочке совершенно неполезно было трястись на перекладных по морозу. На дворе стоял мороз — 28°, а мне действительно было нужно туда попасть. И почему я все придумал? Мне давно следовало туда поехать, но я все откладывал. А теперь, когда все так удачно сложилось, я решил совместить эти два дела… Тут-то Наталья и уперлась. Я ее вообще никогда такой не видел. Притом она не только не имела на это никаких прав, раз уж мы расстались, но и никаких оснований. Да, мне понравилась девушка. Ну и что из того? Мало ли кто мне может нравиться? Не означает же это, что я тут же в машине наброшусь на эту беспомощную девушку, истекающую в буквальном смысле кровью. И какое Наталья имеет право распоряжаться чужой жизнью? А вдруг я и есть ее, Тины, судьба по самому большому счету? Почему обязательно надо подозревать в человеке прежде всего дурные намерения? Я ничего не хочу знать о том, что было у Тины до меня, но я совершенно убежден, что все претенденты на ее сердце были недостойны ее. Более того, они даже не могли оценить ее по достоинству. Я теперь припоминаю, что видел ее где-то с Сашкой, моим щедринским приятелем… Кажется, он мне что-то говорил о ней, но я не придавал значения. Он, конечно, славный мальчик, но… В конце концов, последнее слово всегда за женщиной. Насильно мил не будешь. Вы бы видели эту волчицу! Она отвела меня в спальню, зажала между шкафом и швейной машиной и прошипела с такой злобой, что у меня просто мурашки поползли по спине: — Никуда она с тобой не поедет! Я сама отвезу ее на такси! Ты не получишь ее, пока я жива! — Какие страсти! — сказал я. — Глупо. Если захочу, я ее все равно найду. И не вздумай ее предупреждать или отговаривать, запретный плод всегда слаще. Ну, послушай, мне на самом деле нужно в Щедринку. Ваньку-дергунчика поймали с шапками. Нужно все выяснить на месте… — Хорошо, — сказала она, внезапно успокоившись. — Извини, я сорвалась. Но нам действительно лучше самим поехать. Ей нужно хорошенько прийти в себя. Мы и так задержали тебя. Спасибо за все, что ты для нас сделал… — Ты можешь иронизировать сколько угодно, но я действительно много для всех вас сделал… Хорошо бы вы всем этим сумели с толком распорядиться.НОРТ
Зимой в Щедринке хозяйничали три стаи. Каждая стая имела свою территорию, свою зону влияния и своего вожака. Они вполне мирно уживались между собой. Возникали, правда, редкие конфликты, но дело ограничивалось, как правило, пограничными стычками, до настоящей войны не доходило. Все три стаи существовали, не затрагивая или почти не затрагивая интересов друг друга. Хотя интересы были у них схожи. Это были стаи ворон, собак и мальчишек, возрастом от десяти до семнадцати лет. Резиденция мальчишек была в покинутом дачном кооперативе «Резистор», где они облюбовали несколько законсервированных на зиму дач. Они проникали внутрь и устраивали там в соответствии с возрастом и интересами «штабы», «логова», «заныры», от слова «занырнуть». Хотя ребята были и не прочь стянуть что-нибудь съестное, сладкое (варенье, компот) или что-то представляющее для них свой мальчишеский интерес (красивый нож, электромоторчик, порнографический журнал, забытую зажигалку и т.д.), воров среди них не было. Дачам, на которых они собирались покурить, переброситься в картишки, распить бутылочку плодово-ягодного или сладкой хозяйской наливочки, было строжайше запрещено наносить существенный материальный ущерб: гадить, ломать мебель, прожигать одеяла. Эти негласные правила существовали с незапамятных времен и были продиктованы инстинктом самосохранения. Когда хозяева дач в свои редкие наезды обнаруживали некоторую недостачу компотов, наливок и варенья, они хоть и возмущались беспорядком, но в милицию (т.е. к Васильеву) с этими мелочами не обращались. Хорошо, что хоть окна целы. А то и вообще могла бы сгореть… Бывало и такое. Один щепетильный член-пайщик кооператива (по дачной молве, старый холостяк и сквалыга) обнаружил весной пропажу нескольких репродукций с картин Рубенса, вырезанных им из журнала «Огонек», и начал скандалить. Васильев успокаивал его как мог и обещал найти. Поселковые ребятишки (это было еще позапрошлое, более суровое, послевоенное поколение) подняли его на смех. Член-пайщик не унимался, написал заявление на имя начальника отделения милиции. Васильев получил выговор. Через три дня, ночью, дача жалобщика загорелась. Васильев тогда еще разъезжал на старом дорожном велосипеде «Харьков». Он подоспел вовремя и боролся с пожаром так, словно горело его собственное родовое гнездо. Он понимал, что является косвенной причиной возгорания. Этот случай был принят членами-пайщиками к сведению. С тех пор хозяева мирились с непрошенными постояльцами как с небольшим стихийным бедствием. Фомин, специально поставленный препятствовать этому бедствию, к зиме утрачивал свой сторожевой азарт и впадал как бы в спячку. Он нещадно жег кооперативное электричество, раскаляя добела своего «козла» — самодельный отопительный прибор, сделанный из асбоцементной трубы и толстой нихромовой проволоки, и лежал на трех разноцветных матрацах, глядя в низкий потолок, оклеенный пожелтевшими газетами и засиженный мухами. Собак в дачных поселках, и в старом, и в новом, и на станции, было много. Летом они, выражаясь образно, «нанимались на работу» на дачи. Делали они это, как правило, явочным порядком. В прямом смысле этого слова. Является, к примеру, этакая славная собаченция, с преданными глазами, с хвостом, работающим от восторга точно вентилятор, садится перед верандой, где вы со своей семьей пьете чай, и смотрит неотрывно сперва на хозяина, а потом на того (обычно это бывает ваша маленькая дочка или внучка), кто первый кинет ей ломтик колбасы или кусочек торта. Вы заявляете, что эта собаченция просто симпатяга, только нельзя трогать ее руками… На другой день, явившись точно к завтраку, собака получает кличку. Чаще всего ее называют по масти — Чернышом, Рыжиком, Белкой или Шариком за особую пушистость. Люди иронические частенько называют их Дружками, подчеркивая тем самым, что не верят в такую скоротечную дружбу и преданность. Так или иначе, вы вскоре привыкаете и к собаке, и к кличке. И вот что интересно — едва получив вторую или третью подачку (даже для бродячей собаки это слово оскорбительно), они тут же стараются превратить ее в жалованье, то есть отрабатывают своим единственным собачьим способом: начинают сторожить. Стоит кому-либо «чужому» появиться около дачи, Рыжики и Черныши облаивают их с такой страстью, будто не только они и не со вчерашнего дня, а их деды и прадеды честно служили этой фамилии. У кого не дрогнет сердце? Даже самый скептический человек, хоть и улыбнется криво, но покрутит головой и подумает: «Наконец нашла, кому служить, и счастлива». Их очень любят на дачах за какую-то даже преувеличенную преданность, за веселый нрав, за неприхотливость в еде и еще за то, что никаких забот эти собаки своим хозяевам не доставляют. Им не нужно делать будок, покупать ошейников, варить специальную собачью похлебку, выгуливать по утрам и вечерам в любую погоду, отвечать за их неблаговидные поступки, наконец. Всегда ведь можно сказать, что пес беспризорный и к вам не имеет отношения. Удовольствие же от этих сезонников люди получают большое. Эти собаки дорожат любым вниманием, любой, хоть крохотной, лаской, не капризны, сговорчивы и если бывает нужно, то бесстрашны. С окончанием сезона дачники разъезжаются, а своих Чернышей, Рыжиков и Дружков оставляют. Кто равнодушно, кто с сожалением, кто со скандалом, объясняя своей дочке или внучке: — Но мы же не можем везти его с собой. Во-первых, у тебя аллергия на собачью шерсть, во-вторых, нам и без Шарика тесно, в-третьих, кто будет с ним гулять, если ты на продленке, а мы целый день на работе? Вот на будущий год, — говорят самые опытные, — мы вернемся, и ты снова будешь с ним играть и ходить на озеро купаться. А зимой он будет сторожить нашу дачу. И всю зиму ваша дочка или внучка живет ожиданием встречи с Рыжиком и все время к месту и не к месту вспоминает его и откладывает то кусочек сахара, то конфетку из своего новогоднего подарка, приговаривая: «Это для Черныша». Поздней осенью, когда пустеет «Резистор» и разъезжаются две трети жильцов из старого дачного поселка (некоторые дачи переродились в зимние дома с постоянными жильцами), собаки начинают сваливаться в стаи. Обычно их бывает две. Одна базируется в старом поселке, где еще теплится жизнь, другая — при станции. Каждая стая владеет своей территорией с четко обозначенной границей и очень редко ее нарушает. Территория «Резистора» является ничьей, вернее, это территория Джека и Найды, но ни одна из стай с ними не считается. Встречаясь на ничейной территории, стаи обычно в драку не вступают. Лишь изредка какой-нибудь молодой и слишком ретивый кобелек в приступе беспричинной самоуверенности врезается в чужую стаю, чтоб куснуть за бок слабого и отставшего и стремглав летит обратно, косясь назад испуганным глазом. В погоню за нахалом кидается вся стая, и тогда другой стае приходится или вместе с хулиганом бросаться наутек, или, вздыбив загривки, молча ожидать разъяренных сородичей пострадавшего. А сам скандалист уже крутится в задних рядах и оправдывается перед своей стаей заливистым лаем, пытаясь свалить свою вину на пострадавшего. Стаи сшибаются, кто-то достает труса, сбивает его широкой тяжелой головой с ног и прихватывает прямо за голосистую глотку, из которой тут же слышится придушенный, жалкий визг, и как но милицейскому свистку, множество рычащих, лязгающих зубами клубков распадается. Стая с обидчиком отбегает на безопасное расстояние и уже оттуда высказывает все, что думает о противнике, а сам зачинщик потасовки, жалобно повизгивая, юлой крутится по снегу, напрасно пытаясь языком достать до помятой глотки, и помогает себе лапами. В пристанционном поселке стая бывает многочисленнее и сильнее. Это место привилегированное. На станции живут люди попроще, в основном рабочие с фабрики, и поэтому на местных помойках больше пищевых отходов. Тут и подпорченные продукты, и просто недоеденные, а то и только надкусанные куски. Словом, в рабочем поселке много добра выбрасывается на помойку. Отчего? То ли это генетическая память о голодном прошлом, и оттого постоянные чрезмерные запасы впрок, то ли это безудержная, неразумная реализация возросшего благосостояния, и отсюда какой-то новый, неслыханный прежде шик — оставлять кусок на тарелке, надкусывать и выбрасывать… Стая из старого дачного поселка, заселенного в основном пенсионерами, такой тучной кормежки не имеет, и поэтому она предприимчивее и мобильнее пристанционной. Она постоянно совершает дерзкие рейды через замерзшее озеро, мимо недвижных рыболовов к кооперативному ресторану «Русская сказка». Испорченных или полуиспорченных продуктов там, правда, не бывает — производство там безотходное, и все идет в дело, но недоеденных кусков и там хватает. Правда, рачительные кооператоры выкармливают на этих кусках свиней и кур, но перепадает кое-что и стае. При ресторане, расположенном в лесу, живут две толстые собаки, овчарка и крупная дворняга. Они отупели от жирной пищи и обилия хозяев, т.е. людей, раздающих эту пищу. Стая, научившись терпению, подкрадывается к ресторану и затаивается в соседних кустах. Будь ресторанные собаки не такие закормленные, они наверняка бы учуяли противника, но эти и ухом не ведут. Стая ждет и час, и два… Стая умна и не шевелится даже тогда, когда в дверях появляется человек в замызганном белом переднике с огромной кастрюлей в руках. Ресторанные собаки не спеша поднимаются, потягиваясь, зевая и вразвалочку трусят к нему. При этом они не забывают лицемерно махать хвостами, выражая преувеличенную радость по поводу его появления. Это махание похоже на приклеенную улыбку теледикторши. А стая ждет… И стоит человеку с кастрюлей скрыться в помещении, как на ресторанных сторожей налетают бесшумные яростно-голодные тени. Молниеносная схватка, утробный страшный рык, жалобное повизгивание, и вот стая торопливо, по-волчьи не прожевывая, заглатывает оставленные кем-то на тарелке куски шашлыка «по-карски» из кооперативного мяса по пять рублей двадцать копеек за порцию. Через минуту на ристалище пусто. Ни собак, ни кусочка пищи. Но ресторанные сторожа (вернее было бы называть их швейцарами) еще не скоро выползают из своих щелей. Вороны собирались на свое воронье вече в одну густую мрачную стаю перед самым заходом солнца. Сперва они все слетались на верхушки вековых лип и вязов знаменитой парковой аллеи, разделяющей «Резистор» со старым дачным поселком. Подлетали они десятками, пятерками без особого шума и почти незаметно. И хоть в кронах могучих деревьев было самое крупное в округе воронье гнездилище, птиц по вечерам здесь собиралось гораздо больше, чем обитало. Постепенно прозрачные вершины начинали чернеть и гнуться от тяжелых вороньих тел. С каждой минутой крики их становились громче, споры и пререкания азартнее, между паутиной голых ветвей начиналось броуновское хаотическое движение, вниз сыпались сухие сучки, стынущий на лету вороний помет, серые, одного цвета с зимними сумерками перья и снег. Все это было похоже на толкотню в фойе перед началом какой-нибудь представительной научной конференции. Все друг друга знают хотя бы понаслышке или по публикациям. У всех за время разлуки возникла друг к другу масса вопросов и возражений. Все оживлены. Но вот прозвенел звонок, и все тесной толпой, оживившись еще больше, направляются в зал решать важные, принципиальные вопросы. Так и в вороньем месиве, звучит какой-то неразличимый для человеческого уха сигнал, и вся воронья туча одним духом взмывает в серое небо, делая его черным. Зачем? Какие важные вопросы решает стая, клубясь живым облаком над горизонтом, над рваными краями далекого леса? Нельзя даже и предположить. Но каждый вечер регулярно роится воронье над липовой аллеей. Днем воронья армия, разбившись на роты, взводы, а то и просто отделения, равномерно рассредоточивается по поселку. Вороны не суетливы, точны, мудры и ироничны. Они не знают конкуренции. Костяк стаи, ее сержанты и офицеры — стары. Во всяком случае, они намного старше собак и не относительно, не вороньим или собачьим возрастом, а абсолютно, по нашим, человеческим меркам. Они живут много дольше собак и намного опытнее. Вороны независимы и горды. В тех случаях, когда собака полагается на человека, на его разум и чувство справедливости, ворона полагается только на себя, хотя живет рядом с человеком и постепенно обучается всем премудростям» цивилизации. Человек может обмануть ворону, но не больше одного-двух раз. На третий раз ворона приспосабливается к его вероломным уловкам. Собакам же вообще никогда не удается обмануть ворону, и поэтому отношение ворон к собакам всегда носит некоторый оттенок высокомерия. Завидя приближающуюся к себе собаку, ворона, сидящая на земле, не паникует, не суетится и даже будто не обращает на собаку никакого внимания, и лишь в какой-то одной ей известный момент она лениво подпрыгивает и с тяжелой грацией, махая упругими крыльями, поднимается ровно на такую высоту, которая необходима для ее безопасности. Собака может беситься, прыгать, захлебываться лаем (обычно на это способна лишь молодежь), ворона только наклоняет то вправо, то влево голову и поблескивает бусинками глаз. Когда наблюдаешь за подобной сценой, тебя не оставляет ощущение, что глазки эти смотрят лукаво и насмешливо. И ты готов биться об заклад, что если б твердый вороний клюв был способен растягиваться, то ворона, глядя на незадачливого молодого брехуна, ехидно улыбалась бы. Истоки их слегка насмешливого и даже философского отношения к собакам, наверное, не только в ощущении безнаказанности. Вороны явно осознают свое полное жизненное превосходство над мохнатыми соседями. Им сверху лучше видна объедочная конъюнктура. Они первыми замечают новые поступления на свалки и помойки. Скорость у них выше собачьей. И никакая собака не может отнять кусок колбасы, ухваченный зоркой и быстрой вороной. Кроме того, можно предположить, что вороны никогда не забывают о том, что в конечном итоге они бывают могильщиками своих четвероногих соседей, они расклевывают до костей трупы сдохших собак, а вот наоборот почти никогда не бывает. И вместе с тем эти мрачноватые птицы любопытны, как дети, игривы, любят все яркое и блестящее, вороваты и изобретательны, умеют подражать чужим, в том числе и человеческим, голосам. Рассказывают, что в Щедринке жила ворона, которая любила изводить одну злобную цепную собаку тем, что садилась на забор рядом с собачьей будкой и начинала лаять различными собачьими голосами. Рассказывают, что эта собака, крупная лохматая дворняга, чуть не удавилась па собственном ошейнике от злости. Васильев, лично наблюдавший эту сцену, сказал: — Этот мерзавец, а я стопроцентно уверен, что это был самец, устраивал представления для своей супруги. Она обычно сидела на крыше сарая и заливалась своим вороньим хохотом. — А может, это была просто подружка? — предположил я. — Нет, — сказал Васильев, — у них подружек не бывает. У них только жена. Одна и на всю жизнь. Ведь надо же, как все устроено, — добавил он задумчиво. — Ведь кто?! Ворона! Презираемое и гонимое человеком существо имеет столько разума и преданности… Как же бессмысленно и безобразно выглядим в их глазах мы… — Чехов говорил, что интеллигентному человеку и перед собакой стыдно, — вспомнил я. Не то, не то! — болезненно поморщился Васильев. — Другое! Это не стыд… Как глупы мы, что судим и осуждаем, и презираем… И не глупы, а хуже. И теряем, теряем… И оглянуться некогда, понять, ради чего? И не нужно уже, вот что страшно! И с каждым днем хуже, хуже! А все рожаем… Рожать — вот что стыдно, если подумать. Ничего не сделал, попустил, не нажил, а рожаешь. Норта перевели на одну из московских водопроводных (водораспределительных) станций с действительной военной службы на северо-западной границе. Когда его везли через всю европейскую часть страны в Москву, Норт был спокоен. Он развалился посередине купе, мешая проходу, и ровно мелко дышал, вывалив язык. Сопровождавший его проводник, ефрейтор Ломазов, двухметровый красавец с черными блестящими глазами, всю дорогу лежал на нижней полке и читал. За двадцать часов дороги Норт не съел ни крошки, лишь вылакал шесть ресторанных металлических мисок воды. Когда ефрейтор Ломазов выводил его выгуливать, стоящие в коридоре пассажиры в страхе вжимались в свои купе. На улице, как бы мало времени у них ни было, Норт вел себя степенно. Шел он всегда твердой, строевой походкой и отправлял свои естественные потребности на глазах у многочисленных зевак, не теряя собственного достоинства. А зеваки всегда находились, потому что Норт был редких статей, непонятной породы и весил 84 килограмма. На границу он. попал исключительно благодаря своим личностным качествам — уму, характеру, силе. Родословная тут была ни при чем. В питомник его отдали в возрасте четырех месяцев, когда стало окончательно ясно, что его мать, чемпионка породы, медалистка, красавица Альма, каким-то невероятным образом осуществила неплановую вязку, и отец шестерых крепких малышей неизвестен. Понятно было одно — это не восточноевропейская овчарка. Мнения специалистов по поводу предполагаемого отца расходились. Одни считали, что это «кавказец», то есть кавказская овчарка. Другие, ссылаясь на ровный черный окрас и довольно длинную и густую шерсть, считали, что отцом был какой-то выдающийся «дворянин», то есть беспородный кобель, который в свою очередь являлся отпрыском ньюфаундленда или «кавказца». В питомнике Норта твердо планировали как сторожевую собаку. Нельзя сказать, что он поглядывал на розыскников с завистью. Скорее всего он не отличал своего социального положения от ихнего. Но на занятиях, которые были несколько различны для «розыскников» и для «сторожевиков», он с одинаковой легкостью выполнял и свои, и чужие упражнения. Просто повторял за «розыскниками». Это был удивительно уравновешенный и добрый пес. Единственное, чего он не мог терпеть, — это чужого лидерства. Его же лидерство признавалось всеми окружающими собаками сразу и безоговорочно. Он для этого и лапой не шевелил. В тех редких случаях, когда появлялся чужак, не желающий считаться с существующим в данном обществе положением вещей, Норт, едва повернув в его сторону голову, издавал глухой ужасающий рык. И никогда не находилось охотников требовать к этому тяжелому рыку обеспечения. Норт же при этом даже клыков не обнажал. Самой яркой чертой его характера было невероятное, не собачье даже упорство. Он с такой целеустремленностью повторял все упражнения, что в конце концов был переведен в группу служебно-розыскных собак и с блестящими результатами закончил обучение. На четвертом году безупречной службы он получил контузию в голову. Ситуация была обратной тем, к которым привыкли на границе. Нарушитель шел не оттуда сюда, а отсюда — туда. Это был серьезный преступник, убегающий с награбленными ценностями от правосудия за границу. Преступник был вооружен автоматическим пистолетоми двумя противотанковыми гранатами старого образца. Перед самой контрольной полосой, когда Норт начал безмолвно настигать бегущего из последних сил преступника, тот бросил гранату. Ветеринар, столкнувшись с необычной картиной болезни, был вынужден обратиться к старому военврачу, который вот уже пятнадцать лет был на пенсии. Ветеран медслужбы долго в удивлении цокал языком, находя у контуженной собаки симптомы болезни, весьма и весьма схожими с человеческими. Через месяц Норт был практически здоров, но вскоре выяснилось, что он ничего не видит правым глазом. Его комиссовали и перевели на одну из московских водопроводных станций, где он должен был нести сторожевую службу и где абсолютное зрение было не обязательно. Ввиду того, что Норт не был чистопородным псом и все время находился при исполнении служебных обязанностей, детей, даже случайных, у него не было. Преступника, контузившего Норта, застрелил в четырех метрах от контрольной полосы ефрейтор Виктор Ломазов. Он был родом из Рязани, и в качестве поощрения его послали сопровождающим с Нортом в Москву и дали еще семь суток отпуска. Виктор считал, что ему здорово повезло. Н-ская водопроводная станция, куда перевели Норта, меньше всего была похожа на водопроводную станцию. Это была обширная территория, обнесенная по всему периметру глухим бетонным двухметровым забором с одними всего лишь воротами. Вдоль забора с внутренней стороны шла загородка из сетки. Это был вольер. Расстояние от сетки до забора было метра четыре. Вольер был поделен на участки от сорока до ста метров. Это были загоны. В каждом таком загоне, предназначенном для одной собаки, была дверца, открывающаяся вовнутрь. Открывались они редко, лишь когда нужно было выкосить буйную лебеду в загоне или починить будку. Каждая собака имела просторную будку. В сетке еще было маленькое отверстие, в которое с трудом пролезал разливной черпак, похожий на гигантский половник, насаженный на длинный деревянный черенок. Перед каждым отверстием в загоне стояла литая увесистая алюминиевая миска со слегка загибающимися внутрь, как у старинного чугунка, краями. Вдоль вольеров шла асфальтовая дорога, по которой летом на тележке, а зимой на санках развозилась дважды в день собачья пища. В центре станции рос ухоженный плодоносящий сад. Посреди сада стояло невысокое здание насосной станции, караульное помещение с примыкающим к нему небольшим загончиком-изолятором, где содержались на излечении больные собаки и постоянно жила красавица Диана — восточноевропейская овчарка, рекордсменка породы. Глубоко под землей, под садом и вольерами, были огромные резервуары с водой. Святая святых станции. Когда ефрейтор Ломазов привез Порта на такси на станцию, то Норт, привыкший ко всякого рода собачьим общежитиям, повел себя спокойно и даже удовлетворенно. Он, наверное, понял, что они прибыли, наконец, на место его нового назначения. Его сразу же отвели в пустующий загон, поросший гигантскими лопухами и лебедой. Ломазов прошел вместе с ним в загон, посадил Норта у двери, подкосил и вынес ворох лопухов с уже подсохшими и цепкими репьями и только после этого разрешил Норту подняться. Норт, благодарно шевельнув хвостом и не обращая внимания на отчаянно лаявших соседей, неторопливо обошел свои новые владения, обнюхал каждую заборную стойку, каждый прутик вездесущих топольков, пометил все, что считал нужным, обследовал будку и долго стоял, засунув голову в темное ее отверстие и мелко вздрагивая всем телом. После этого он подошел к миске, куда Ломазов навалил застывший комом утренний перловый суп с нитками потемневшего мяса, и съел все и долго вылизывал миску, гремя ею по убитой до асфальтовой твердости земле. Ломазов с грустью наблюдал за Нортом. Потом достал из кармана размякшую конфету «Ромашка», развернул ее и протянул на ладони Норту. Тот деликатно забрал конфету и облизал ладонь. Вторую конфету Ломазов съел сам. Когда Ломазов ушел, Норт отправился исследовать свою территорию во второй раз. Его сосед слева, старый кобель Чомбе, уже успокоился и замолчал. Когда Норт приблизился к решетке, разделяющей их загоны, Чомбе тоже подошел, и они молча, через решетку, обнюхались. Чомбе отошел первым, всем своим видом показывая, что он не против такого соседства. Соседом справа у Норта был молодой, темпераментный пес Казбек. Он не прекращал лаять с тех пор, как в загоне появился новичок. Когда Норт уже во втором обходе приблизился к его загону, Казбек в бешенстве бросался на решетку, сотрясая ее до основания. Норт спокойно дошел до конца перегородки и в знак презрения повернулся к Казбеку задом. Это привело Казбека в неистовство. Он даже упал от ярости, отброшенный спружинившей решеткой, взвизгнул от неожиданности, вывернулся всем молодым упругим телом и снова кинулся на решетку. И тут, уже уходя в будку, Норт издал свой ужасающий рык. Казбек отскочил от решетки, словно его ударили палкой по носу… В вольере наступила тишина. В собачьем питомнике, а дальше в собачьей школе служебного собаководства Норт знал, что цель его существования — это как можно выше прыгать через препятствие, точнее брать след, ходить по бревну, задерживать «нарушителя» и выполнять еще множество команд и требований, чтобы заслужить похвалу и расположение хозяина (инструктора). Похвалы и расположения инструктора добивались все собаки, с которыми тот работал. Собаки не ревновали инструктора друг к другу, принимая за данность то, что у каждого инструктора (хозяина) много собак. Их соперничество выражалось только в желании заслужить большую любовь и внимание. Между собой собаки в питомнике — и молодежь, и старожилы — не грызлись, чувствуя себя одной большой стаей во главе с вожаком — начальником питомника, а затем и школы, — и выделяя его по отношению к нему инструкторов. На заставе Норт легко привыкал к новым проводникам. Других собак, а также всех остальных пограничников он считал членами своей новой стаи, во главе которой стоял начальник заставы, которого Норт сразу же выделил своим безошибочным чутьем. По волнению, охватывавшему всю заставу, поднятую по тревоге, он понимал, что работа здесь, на севере, в холод, в дождь и снег настоящая в отличие от тренировочной, ненастоящей, в школе. Здесь, на заставе, поднятой по тревоге, пахло настоящим, скрываемым страхом смерти. Природа наделила Норта, как и всех других собак, умением различать этот запах. На заставе Норт знал, что смысл его существования — охрана своей стаи во главе с хозяином от чужой, имеющей чужой, ненавистный запах смерти. И он даже не ждал за это никакого поощрения. Он просто не мог жить для другого. Когда его посадили в вольер на водопроводной станции, Норт в первые дни ждал тревог, нарядов или хотя бы тренировок. Но ничего этого не было. Инструкторы-проводники менялись каждый день. Они приносили пищу, которая была лучше, чем на заставе. Она состояла из овсяной или перловой, довольно густой каши, в которой чувствовалось, а иногда и попадалось мясо. Доставались Норту и кости, на которых тоже было мясо. Чаще всего оно было уже протухшим, и Норту это не очень нравилось, но это было лучше, чем каша без мяса или вообще тюря из размоченных хлебных корок с тресковыми головами. Норту достался маленький, сорокаметровый загон. В дощатую, крашенную суриком будку Норт помещался с трудом. Инструкторы относились к Норту доброжелательно. Они знали о его боевом прошлом, о контузии и всякий раз, наваливая ему каши в глубокую миску с загнутыми внутрь краями, старались зачерпнуть погуще и дружелюбно разговаривали с ним при этом. Подходил и начальник команды служебного собаководства Глотов. Когда он подошел, Норт стал ждать, что он прикажет что-то инструктору, его выведут, пристегнув к ошейнику длинный брезентовый поводок, и начнется работа, которая и составит смысл его существования на новом месте. Но произошло все наоборот. Инструктор, сильно труся и распространяя при этом возбуждающий запах страха, с большой ржавой лопатой вошел в вольер к Норту. От лопаты пахло собачьим пометом и прокисшей пищей, и Норт понимал, что инструктор вошел к нему, чтоб убрать в вольере. Он только не понимал, почему инструктор боялся. Чтоб не смущать его, Норт ушел к себе в будку и улегся там, свернувшись кольцом и чувствуя хребтом дощатые стенки. Человек, которого Норт принял за вожака, вскоре ушел. Инструктор торопливо соскреб в кучку остатки пищи с утрамбованного собачьими лапами пятачка и, подцепив эту кучку на совок лопаты, зашвырнул в заросли лебеды и полыни. Все это он делал, не спуская глаз с будки Норта. Когда он наконец выскочил наружу, то сперва с облегчением выматерился, а потом сказал извиняющимся тоном: — Ты, Нортик, хорошая скотинка, то есть собаченция, но черт тебя знает, что у тебя на уме. Звали этого инструктора Ваня Охоткин, и он работал на собачнике первый год. Через месяц Норт уже перестал ждать работы. Он жил, как в полудреме, не принимая участия в вечерних и утренних собачьих перепалках, которые стихийно возникали при каждой раздаче пищи. Он все больше и больше спал или вдруг принимался бегать вдоль своего коротенького загона. Он и сам не знал, зачем бегает спокойной ровной трусцой. Кто-то из инструкторов однажды пошутил, глядя на бегающего Норта: — Бегом от инфаркта. Прямо как пенсионер на бульваре. Шутник, сам того не зная, попал в точку. Норт и вправду бегал для моциона. Только убегал он не от инфаркта, а от ожирения и преждевременного одряхления. Бегать его заставлял инстинкт самосохранения, который начал в нем просыпаться, задавленный прежде чувством долга и беспредельной преданностью хозяину (инструктору) стаи и вожаку. Норт и не подозревал, что его бесцельное существование в этом загоне, бессмысленные пробежки взад-вперед, чуткая дремота днем, выкусывание обязательных летних блох, поедание каши с тухлым мясом, тревожный, прерывистый ночной сон — все это и есть его настоящая и полезная служба, которую он несет днем и ночью, которая и является смыслом его теперешнего существования. Он не знал, что, просто живя в своем загоне, он охраняет жизнь и здоровье такой большой стаи, что невозможно даже представить себе всю ее огромность и многоликость. Он постоянно слышал ее шумы и голоса, доносящиеся до него через бетонный забор, различал бесчисленные, незнакомые запахи и не знал, что это и есть его стая. Если б кто-нибудь ему все это толково объяснил, может быть, он и понял бы. И тогда жизнь его была бы не такой тоскливой. Что уж там с собаки спрашивать, когда мы сами большей частью «не ведаем, что творим». Норт наконец прекратил свои ежедневные пробежки но вольеру. Теперь он целыми днями лежал около будки, положив голову на лапы, и только по сужающимся и расширяющимся зрачкам и по еле заметному движению бровей можно было понять, что он жив, что в его тяжелой, круглолобой голове идет непрерывная работа, никак не связанная с насущными собачьими интересами, которыми жили его соседи. Он не волновался во время раздачи пищи, не прыгал от нетерпения на сетку. Он подходил к алюминиевой миске, когда соседи уже доканчивали свои порции. Ел он неторопливо и аккуратно, брезгливо морща кожу на носу. И в больших перепалках, когда вдруг весь собачник ни с того ни с сего начинал истерически передаиваться, Норт не участвовал. На холодные пронзительные ветры не обращал внимания. И только когда начинался крупный и настойчивый по-осеннему дождь, он неохотно убирался в тесноватую будку. И оттуда из глубины, он неотрывно, с собачьим непостижимым терпением смотрел на широкую асфальтовую дорогу, которая шла кольцом вдоль всего забора с вольерами. Норт ждал хозяина. Он боялся его пропустить. Он ждал не кого-то из прежних хозяев (каким-то чутьем он понимал, что прежняя жизнь не вернется), а нового, который по-хозяйски войдет в вольер, которому Норт начнет служить, которого будет со спокойным и чистым терпением ждать, который сделает его собачью жизнь полной и осмысленной. Норт давно уже понял, что человек, раздающий пищу сегодня, появится снова через несколько дней, после того, как около вольера перебывают еще трое. Вот из этих четырех, кормящих его людей он и выбирал себе хозяина. Сперва он решил, что хозяином будет беловолосый, розовощекий, постоянно пахнущий жареным салом и луком Ваня Охоткин. Ваня приехал в Москву завоевывать оперные подмостки из деревни, затерянной на северо-западе Московской области. Деревенька его была от веку маленькой, а теперь называлась неперспективной и постепенно истаивала. Каждый год к осени (почему-то именно к осени) раздавался в Дядькине, так называлась деревня, характерный, ни с чем не сравнимый стук, когда обухом топора приколачивают крест-накрест случайные доски к оконным резным наличникам. Изба при этом играет роль невольного резонатора и жалобно и надрывно гудит на всю деревеньку, которую она покидает, не двигаясь с места. Откуда эта печальная картина? Что ее вызвало? Не розовые же щеки и безмятежно-голубые глаза Вани Охоткина, тоскующего скорее по несбыточному будущему, чем по незамеченному, неоцененному прошлому, которое вернется к нему только через много бесполезных лет, когда вернуть что-либо будет невозможно. А может, он и доживет до своего нелепо придуманного «светлого будущего». Вот он сам удивится! Не меньше, чем те знаменитости, к которым он приходил показываться… Родители Вани были люди не богатые и пожилые. В совхозе они уже не работали, жили приусадебным участком, маленькими пенсиями и еще тем, что держали несколько свиней. Свиньи у них были почти дикие, покрытые крупными черными пятнами, заросшие густой щетиной, длинноногие, поджарые и предприимчивые. Они свободно паслись небольшой храброй стаей в окрестностях деревеньки и держали в страхе ее престарелых жителей, собак, кур и уток. Сала они нагуливали немного, зато и себестоимость его была невысокая. Все свиньи, кроме поросой матки и одного из поросят, к первому снегу закалывались. Часть мяса продавалась на московских рынках; другая, большая, часть солилась, коптилась, превращалась в колбасу и отсылалась сыночку Ванечке, который этим салом в основном и питался. На вырученные деньги старики покупали Ване различные вещи. Денег в чистом виде они Ване не давали, полагая, что деньги — соблазн и корень всех грехов. Еще они слали Ванечке лук. Он на свою зарплату докупал картошку, макароны, пшено и безбедно проживал в общежитии, наполняя его уютным запахом жареного на сале лука и пропитав этим запахом всю свою одежду. Ваня был добрый малый, и Норт это почувствовал и потянулся к нему. Но когда Ваня зашел в вольер, чтоб подкосить вновь поднявшиеся лопухи, и Норт, помахивая тяжелым хвостом и сдержанно улыбаясь, легкой трусцой направился к Ване, тот, распространяя неприятный запах страха, бросив косу, выскочил из вольера. И так было каждый раз. С Ваней Охоткиным у Норта ничего не вышло. Он стал присматриваться к высокому и хладнокровному человеку, от которого постоянно и резко пахло чем-то непонятным. Слова «одеколон» Норт не знал. Оно почти не встречалось в его жизни и не было жизненно важным. С ним не были связаны ни служба, ни пища, ни наказание, ни поощрение. А такие слова он не запоминал. Ефрейтор Ломазов, шутки ради, подсчитал, что Норт знает сто двадцать три слова. На самом деле их было гораздо больше. Норт помнил все клички собак, с которыми воспитывался в питомнике, а также имена инструкторов и всего личного состава заставы, сменившегося почти полностью на его глазах два раза. Кроме того, он знал много слов, относящихся непосредственно к учебному процессу в питомнике. Ломазову и в голову не могло прийти, что в словаре у Норта имеются такие слова, как «экзамен», «отбраковка», «парадная выводка» и даже «перманент». Этим словечком питомниковые инструкторы называли стрижку тех собак, которым она требовалась, и вычесывание перед ответственными выступлениями. Нельзя сказать, что эти слова постоянно крутились в его голове, что он «думал» этими словами. Конечно, этого не было. Но когда вдруг произносилось какое-то давно неупотребляемое и вроде бы забытое слово, Норт узнавал его и соответственно реагировал. Слова «одеколон» он не знал и не мог понять природу резкого запаха, исходящего от Егора Ламина, но, несмотря на это, пытался с ним сблизиться. От Егора хотя бы не пахло страхом. Этот человек его не боялся, потому что не замечал… Какие бы знаки расположения Норт ни выказывал, Егор оставался к ним глух и равнодушен. Бард Сережа Уфимцев не подходил к роли хозяина, потому что в нем не было силы. В нем было много эмоций, он был порывист, болезненно самолюбив, но отзывчив и добр. Норт любил его и относился к нему если не как к младшему, то как к равному, и хозяином признать его не мог. Мой друг Валерий Щ., учившийся в Литературном институте, рассказывал, что пока он был в отпуске, в их собачник поступил с границы огромный черный пес, к которому он сразу же проникся уважением и большой симпатией. И Норт со временем начал его выделять среди всех. И это было особенно приятно, если принять во внимание сдержанность и разборчивость пса. Но Валерий вскоре с водопроводной станции ушел. На место моего друга поступил Ираклий Мелашвили. Его-то и выбрал своим хозяином Норт. Ираклий в первый раз вышел на работу в паре с Ванечкой Охоткиным и развозил утреннюю кормежку. Ванечка где-то замешкался, и Ираклий оказался перед вольером Норта один. Норт лежал около своей будки, положив голову на лапы. Тяжелая алюминиевая миска с загнутыми внутрь краями была отодвинута от отверстия в сетке, через которое большим черпаком наливалась в миску баланда. Проводники, чтобы подвигать миску назад к сетке, приспособили специально загнутый кусок толстой проволоки. Крючок этот валялся в траве, и Ираклий его не заметил. Он открыл дверцу, закрытую на проволочную скобу, вошел в вольер, неся двумя руками полный черпак, вылил содержимое черпака в миску и пододвинул миску к сетке. — Ну что лежишь? Иди, кушай, если сможешь… Я бы не стал это жрать… Даже если б год не ел. Норт неторопливо поднялся, пригнул к земле лобастую голову и слегка помахивая толстым тяжелым хвостом, пошел к миске. — Слушай, да ты кавказец! Земляк! Гамарджоба, генацвале! — воскликнул Ираклий и расставил руки, как для объятий. И тут с Нортом, который давно уже не слышал в человеческом голосе радости, обращенной к нему, произошло что-то самому ему непонятное. Еще ниже и немного набок пригнулась голова, в неудержимой улыбке сами собой раздвинулись губы, как маятник, заработал хвост, и из самой глубины груди вырвалось непрошенное, стыдное щенячье повизгивание, которое Норт поспешил заглушить заливистым, звонким, приветственным лаем. Он подбежал к Ираклию, легко отделил от земли огромное свое туловище, опустил передние лапы ему на плечи и лизнул его в ухо. Ираклий запустил руки в густую глубокую шерсть на холке и слегка потрепал его, добродушно приговаривая: — Слушай, ты такой тяжелый, земляк… Норт от нервного возбуждения зевнул, обдав Ираклия жарким, приторным дыханием, и тут раздался вопль Ванечки Охоткина, который вернулся из отлучки и застал страшную картину: Норт набросился на новичка Ираклия с разинутой пастью… Ванечка не кричал какие-то определенные слова, из его тренированной глотки вырвался истошный, нечленораздельный вопль. Норт мгновенно подскочил к решетке. Ванечка еле успел захлопнуть дверь, открывающуюся внутрь. Норт злобно и осмысленно (чего с ним давно уже не было) облаял Охоткина. Тот в страхе отскочил, и Норт оглянулся на Ираклия, как оглядывается собака на хозяина, ища одобрения и поощрения за службу и преданность. — Молодец, земляк, молодец! Зачем сердишься? Иди ко мне! Норт замолчал, ровной трусцой подбежал к Ираклию и замер у его левой ноги. И никто в мире не сказал бы, что этот пес минуту назад повизгивал, вилял хвостом и лизался, как щенок. — Ну ты даешь! — восхищенно воскликнул Охоткин. — Он же тебя слушается. Норт только повел бровями в его сторону. Проводник-собаковод Виктор Ломазов демобилизовался в чине старшего сержанта. За время службы Ломазов по крохам собрал довольно приличную для него сумму денег — сто пятьдесят рублей. Домой он ехал в прекрасном настроении. Чтобы попасть в родную Рязань, Ломазов должен был в Москве переехать с Ленинградского вокзала на Курский. Но вместо этого он ни с того, ни с сего решил заглянуть на водопроводную станцию и посмотреть на Норта. Он собрался было купить собаке гостинцев — колбасы, печенья, сахару, но не сделал этого. Какое-то внутреннее чувство подсказало ему, что входить в тесный контакт с псом не стоит. Чтоб не травмировать ни его, ни себя. Во-первых, Норт мог его забыть (в этом Ломазов глубоко сомневался), во-вторых, он мог уже привыкнуть к новому хозяину, в-третьих, он мог обидеться на Ломазова и считать его предателем… И еще множество соображений пришло Ломазову в голову, и он решил гостинцев не покупать и только посмотреть на Норта со стороны. «Ну, посмотрю, ну и что дальше? Только время потеряю без толку», — думал Ломазов и собирался же выйти из вагона метро, пересесть на встречный поезд и вернуться, но все-таки продолжал свой путь. На проходной его долго не могли вспомнить и не пускали. Дежурила не та смена, которой он сдавал собаку. Начальства не было никакого. Случайно выходил на обед через проходную Сережа Уфимцев и, услышав слово «Норт», остановился. Почему-то с опаской оглядываясь по сторонам, он выслушал Ломазова и, ничего ему не ответив, позвонил по внутреннему телефону какому-то Ираклию. Очень скоро пришел Ираклий. Он сразу же не понравился Ломазову. Ему не понравилось в этом человеке все — то, что он был слишком красивый: и дубленка, и дорогая ондатровая шапка, и шарф с какой-то заграничной «лейбой» и ковбойские сапожки, в которые были заправлены вельветовые джинсы. И поздоровался он с какой-то незаслуженной Ломазовым предупредительностью, и избегал смотреть в глаза, и суетился как-то… В общем, не понравился. — Подожди, дорогой! Одну минутку! — попросил он Ломазова и, виновато улыбнувшись, выскочил на улицу. Ломазов, которого так и не пропустили на территорию станции, смотрел в окошко, в ту сторону, где, как он помнил, был вольер Норта, где он выкашивал лебеду и лопухи. Но то было летом, а теперь выпавший снег и голые деревья решительно изменили облик станции, и он ничего не узнавал. Собак в вольерах видно не было. Ломазов в который раз чертыхнулся и проклял себя за то, что затеял эту волынку. Был бы сейчас уже на полпути к Рязани. Он, правда, не сообщил своим точную дату приезда, чтоб не напрягать мать понапрасну. А то она начала бы ездить каждый день в Москву и таскать оттуда продукты мешками. Летом, когда он приезжал в отпуск, так и было. В проходную вбежал этот грузин в распахнутой дубленке и в развевающемся шарфе и потащил Ломазова на улицу, приговаривая: — Пожалуйста, дорогой, прошу вас… На улице их ждало такси. Ломазов, который на такси нечасто ездил, питал к этому виду транспорта некоторое недоверие. — Куда ехать? — уперся он. — Я не поеду. Мне домой надо. Я только хотел собаку посмотреть. Если нельзя, так и скажите. — Зачем нельзя? Я сам весной демобилизовался. Поедем, дорогой, потом я тебя сам домой отвезу. Поедем, я прошу тебя, — говорил грузин, заталкивая Ломазова в машину. «Что он, на самом деле, зарежет меня, что ли? А денег у меня нет. Откуда у пограничника деньги? Был бы я стройбатовец…» — так думал про себя Ломазов и втискивался в «Волгу». Грузин упал на переднее сиденье и проклокотал своим горловым голосом шоферу: — «Арагви», дорогой! Потом оглянулся, свесился через спинку переднего сиденья и, заглядывая в глаза Ломазову своими большими ласковыми глазами, сказал: — Как дела, дорогой, как поживаешь, как служба? — Нормально, — буркнул в ответ Ломазов. Его смущал ласковый и настойчивый взгляд грузина. — А куда едем-то? Что, Норта перевели? — Слушай, какой пес! Да?! — восторженно вскричал Ираклий. — Красавец! Я таких красавцев не видел! Я с ума сошел, когда поднял его, он тяжелее меня! — Его что, перевели куда? — переспросил Ломазов. — Слушай, дорогой, зачем сейчас говорить? Кто в машине говорит? Ты из армии домой едешь, у твоей мамы праздник, у папы праздник, посидим немножко, скажем хорошие слова… Перед входом в ресторан «Арагви» Ломазов снова уперся. — Подожди, мы что, туда? — Понимаешь, я плохо еще знаю, где в Москве можно посидеть, а тут я кое с кем познакомился, — оправдывался Ираклий. — Подожди, — сказал Ломазов, — у меня нет денег. Деньги у него, как мы уже знаем, были, и он невольно потянулся было рукой к нагрудному карману, где они лежали, но вовремя спохватился и отдернул с полдороги руку, как от горячего, и смутился, испугавшись, что грузин заметит и расшифрует его движение. — Какие деньги?! Причем тут деньги?! Я с ума сойду, клянусь. Зачем обижаешь? Я тебя приглашаю посидеть скромно, очень скромно, несколько слов сказать о твоих родителях, о твоих друзьях, о службе. Я сам был солдатом, весной демобилизовался. — И он так открыто и дружелюбно улыбнулся, что даже немного понравился Ломазову. — Я убью его, честное слово! — горячо повторял Ираклий, сжимая запястье Ломазову и заглядывая ему в глаза. — Скотина, честное слово, его вся станция ненавидит. — Ираклий разлил коньяк, поднял свою рюмку и, пристально глядя в глаза Ломазову, сказал: — Я хочу, чтоб мы выпили за любовь… — За любовь, это можно! — согласился Ломазов, не заметив, что перебил Ираклия. Тот вежливо переждал и продолжал: — За то, что она такая разная. За ее власть, потому что нет ничего сильнее любви. За ее радости и за ее печали, потому что и наслаждение и боль, которую она дает нам, — это настоящая жизнь, а все остальное — пиль. — Что-что? — переспросил Ломазов. — Пиль, грязь, которая под ногами лежит, — смущенно пояснил Ираклий. — А, пыль, — кивнул Ломазов. — Да-да, пиль, — повторил Ираклий. Ломазов задержал рюмку на полдороге к губам, замер в таком нелепом положении и с обреченным видом поджидал конец витиеватого тоста. А грузин, казалось, специально тянул. — Я совершенно уверен, — сурово сдвинув брови, говорил он, — что и животные могут любить. Собака любит своего хозяина и ненавидит врага. Враг хозяина — ее враг. Друг хозяина — ее друг. Я уверен, что если бы Норт был здесь с нами, он бы радовался, что мы собрались все вместе. Давай выпьем этот скромный бокал за великое чувство любви, которое объединяет все живое на этой земле! Они выпили, Ломазов, который в силу своего возраста и роста был постоянно голоден, принялся азартно закусывать, а Ираклий, пожевывая ломтик лимона, с удовольствием (хоть и не явно) за ним наблюдал и тактично подкладывал то гурийской капусты, то сациви из фарфоровой вазы на ножке, то лобио. Ломазов только кивал в знак благодарности. Когда наконец Ломазов откинулся, чтобы перевести дух, и посмотрел на бутылку, Ираклий тут же налил и сказал: — Теперь выпьем за Норта. Пожелаем ему побольше еды и свободы. Пожелаем найти хорошего хозяина, если ему этого захочется. Пожелаем ему удачи в нелегкой собачьей жизни. Сейчас мы выпьем за нашего друга, а потом я расскажу, что с ним произошло… Они выпили, и Ломазов подумал: «Черт с ними, с деньгами! В конце концов, у кого праздник, у меня или у него? В конце концов, кто дембель — я или он? Расплачиваться буду я». Тем временем Ираклий, который нравился Ломазову все больше и больше, начал рассказывать о Норте. Делал он это сразу на двух языках. Когда, с его точки зрения, у него что-то слабо и невыразительно звучало по-русски, он повторял это по-грузински, вкладывая в гортанные, горячие фразы весь свой темперамент. Вот что Ломазов понял из его рассказа. Ираклий полюбил Норта в первый же день. Его предупреждали, что пес непонятный и неизвестно, что у него на уме. Что входить к нему в вольер не стоит. Ираклий не послушался и вошел. Они подружились. Как мог дружить Норт, Ломазов знал. Потом Ираклий заметил, что между Нортом и чемпионкой породы Дианой, содержавшейся в примыкавшем к собачьей кухне отдельном вольере напротив Норта, что-то происходит. Они или одновременно начинали нервно ходить вдоль сетки, или одновременно останавливались и замирали, как вкопанные. А когда Диана распорола себе лапу, Норт очень переживал и даже жалобно подскуливал, что на него совершенно было непохоже. Потом начальник собачника Глотов без какой-либо видимой причины возненавидел Ираклия, а вместе с ним и Норта. Он запретил прогуливать Норта по станции и тем более за ее пределами даже на специально купленном Ираклием ошейнике. Объявил Ираклию строгий выговор за нарушение собачьего рациона и подкормку Норта посторонними продуктами — мясным фаршем, колбасой, сахаром. Затем, прослышав об особых отношениях, возникших между Дианой и Нортом, Глотов распорядился перевести последнего в дальний вольер на противоположный конец станции, чтобы собаки не могли даже видеть друг друга. Диана начала рыть подкоп, а Норт отказался от пищи. Это происходило между дежурствами Ираклия. Когда он пришел на смену, Диана сидела на цепи, а Норт стоял, уткнувшись тяжелой мордой в угол вольера и страшно выл. Ираклий, несмотря на предостережения товарищей по смене, вывел Норта из его вольера и, проведя на глазах у всех по станции, запустил в вольер к Диане, освободив ее от привязи. И тут все поняли, что у Дианы началась течка. Глотова в этот день не было. Он заседал на каком-то совещании в районном УВД и явился только на другой день. Ему моментально доложили обстановку, и он приказал вернуть Норта в его дальний вольер, Диану же он приказал посадить на цепь, а Ираклию Мелашвили объявил строгий выговор с предупреждением. Приказать-то он приказал, но охотников исполнять его приказ не нашлось. Тогда он сам, проявив несгибаемую волю и непреклонный характер, вошел в вольер к Диане, вооружившись взятым на проходной у охранника наганом и проволочной удавкой на двухметровой водопроводной трубе. Норт на удивление спокойно встретил Глотова. Он еще не знал унижения удавкой. Глотову, облаченному в ватный стеганый спецхалат для натаски служебных собак, удалось почти беспрепятственно надеть проволочную петлю Норту на шею и затянуть. И тут Норт почему-то еще не сопротивлялся. Первой опомнилась Диана и начала со злобным лаем бросаться на Глотова. Начальник, недосягаемый в толстом халате, отогнал ее тремя выстрелами из нагана в воздух. Ему удалось вытащить недоумевающего, не ожидавшего от своих предательства и насилия, Норта из вольера и передать трубу Ванечке Охоткину и Сереже Уфимцеву. И они вдвоем потащили Норта к его вольеру. Начальник, очень гордый собой, скинул халат и направился к проходной, чтоб вернуть наган охраннику. Охоткин и Уфимцев, истекая на ледяном ветру потом от нечеловеческих усилий и от страха (Норт наконец начал упираться), дотащили пса до вольера, протолкнули в клетку и прикрыли ее, оставив в щели лишь трубу. Они собирались, распустив петлю, скинуть ее с Норта, вытянуть в щель трубу и задвинуть щеколду. Более массивный Охоткин привалился для страховки к калитке всем телом, пока щуплый Уфимцев манипулировал трубой. Норт, едва с него соскользнула петля, с такой силой бросился на калитку, что Охоткин и Уфимцев были отброшены и упали. Норт тяжелым галопом понесся по центральной аллее станции. Его сопровождал истеричный лай всех растревоженных собак. Уфимцев и Охоткин закричали. Глотов, шедший размеренным строевым шагом, оглянулся и увидел несущегося на него пса. Он метнулся по аллее, как заяц, вправо и влево, но укрыться было некуда. До проходной добежать он явно не успевал. Тогда он начал беспорядочно, почти не целясь, стрелять в Норта и отстрелил ему кончик уха. Это видели все. Ираклию потом показывали кровавый крап на утоптанном снегу. Норт же не только не отвернул, но даже не прибавил бега. Он надвигался на Глотова мерно и неотвратимо, как сама судьба. На счастье начальника, со станции выезжала продуктовая машина (грузовой фургон, привозивший раз в две недели протухшее мясо и мешки с крупой). Глотов, уже расстрелявший все патроны, на ходу вскочил на подножку, вломился в кабину, захлопнул дверцу и закричал шоферу: «Гони!». Машина выкатилась за ворота и понеслась по городу. Норт, пригнув к земле окровавленную голову, бежал за машиной. Шофер, попетляв по улицам минут десять, остановился. Глотов не решился вылезти из кабины. Через мгновение в конце переулка показался пес. Машина кружила по городу, пока не выскочила на кольцевую трассу. Там шофер прибавил скорость и через час въехал в город почти с противоположного конца. Больше Норта на станции не видели. Когда Ираклий кончил рассказывать и они молча выпили, Ломазов сказал: — У него никогда не было подружки. Все работа и работа. Одна работа. Та огромная собачья голова над дачным забором, которую увидел пьяный Витек, была голова Норта. Как он очутился в Щедринке — трудно сказать. Он с таким же успехом мог попасть в любой подмосковный поселок. Он мог также обосноваться в окраинных полуобжитых кварталах Москвы, не выходя за пределы кольцевой автодороги. Однако он оказался в двадцати с лишним километрах от города. Можно было бы предположить, что в Щедринку он забрел потому, что эта станция расположена на дороге, по которой Норта привезли в Москву, что он направлялся на свою родную заставу, что его появление в поселке нужно расценивать как временную задержку, привал и т.д. Но мы боимся, что это выглядело бы натяжкой. Если мы примем для себя эту версию, то неизбежно будем вынуждены предполагать в этом, пусть даже выдающемся псе, умение разбираться в частях света, знание города (ведь поезд, прежде чем вырваться за пределы Москвы, долго пробирается через ее промышленные окраины), а также невероятный патриотизм. Ведь, как мы знаем, хозяева на границе у Порта постоянно менялись, и он мог быть привязан только к самой заставе, к месту своего жительства, что более свойственно кошкам. Норт объявился во владениях стаи, которая контролировала территорию старого и нового дачных поселков. К моменту его появления в некогда многочисленной и процветающей стае оставалось всего пять собак: маленькая, обаятельная сучка, рыжая, пушистая, с лукавой лисьей мордочкой (ребята-ловцы так и прозвали ее, Каштанкой) и с лисьими хитрыми повадками; большой кобель серой масти с пушистой ровной и чистой шерстью, на толстых лапах, с тугим сильным хвостом. Породу его определить было невозможно. В нем было что-то и от лайки, и от овчарки, и от русской гончей. Словом, это был чистопородный «дворянин», необыкновенно чистоплотный и самолюбивый. Ловцы прозвали его Фраером; два кобелька, похожие друг на друга, как братья. Очевидно, они и были братьями. Может, они и отличались друг от друга какими-нибудь особенностями расцветки, но эти особенности скрывались под толстым несмываемым слоем грязи. Длинная их шерсть на животе и на бороде (в них явно чувствовалась кровь каких-то терьеров) свисала грязными сосульками. Ребята между собой окрестили их Два брата-акробата; и старый, дряхлый, хромой и шелудивый пес, служивший в свое время в сторожах у нескольких сезонных хозяев подряд и имеющий даже имя собственное. Его звали Мефодий. Он постоянно глухо кашлял, останавливаясь и пригнув плешивую голову к дороге. Ни в каких драках он не участвовал, за пищу не боролся. Никто его не трогал. Даже самые отпетые хулиганы из конкурирующей, пристанционной стаи, столкнувшись с ним, брезгливо воротили нос. Ловцы тоже обходили его стороной, несмотря на очевидную легкость добычи. Днем он питался отбросами, то есть тем, что оставалось после здоровых собак. А после них на помоечных развалах оставались лишь селедочные головы, сырые картофельные очистки, гнилые картофелины и сморщенная морковь. По ночам, ближе к утру, когда стая устраивалась на отдых в подвале заброшенного Дома культуры, Мефодий неслышно и незаметно исчезал. Припадая на хромую ногу и изо всех сил сдерживая предательский кашель, он пробирался мимо старой груши с вытоптанным кровавым пятном перед ней, по которому ночами метались тени застреленных собак, мимо пожарного сарая, где в песчаном ящике хранились пересыпанные крупной серой солью собачьи шкуры, мимо сторожки Фомина, где чуткая, стервозная Найда, не считаясь ни со своим, ни с чужим покоем, начинала скандалить, взвизгивая от неутоленной злобы. Тревожно оглядываясь на сторожку, Мефодий проскальзывал к оврагу, на секунду останавливался, втягивая в себя режущий глотку морозный воздух со страшным запахом смерти, и осторожно начинал спускаться по крутому, занесенному свежим снегом склону. Хромал Мефодий на переднюю лапу. Спускаясь вниз, он опирался всем телом на здоровую правую, лапа подворачивалась, он терял равновесие и летел кувырком через голову, набирая снег в уши, в ноздри и под обвисшие, сухие губы. Долетев до дна, он долго отряхивался и отфыркивался от колючего снега. Потом подходил к запорошенным собачьим трупам, безошибочно находил среди них самый свежий, самый необклеванный воронами, поворачивался к нему задом, опирался на здоровую переднюю лапу и, покачиваясь в неустойчивом равновесии, начинал задними лапами сбрасывать с трупа снег. Со стороны было похоже, что он исполняет танец победы и презрения над поверженным врагом, а на самом деле он просто не мог работать передними лапами. Все остальные собаки обходили эти страшные места стороной, и поэтому пищи для Мефодия всегда было вдоволь. Вороны, как правило, не успевали расклевывать до конца свежий труп. По ночам они, к счастью, все до одной спали. Однажды Мефодий отважился появиться в овраге днем и еле унес ноги. Вороны прекрасно понимали, что он не боец, и устроили ему настоящую бойню, проклевывая местами до крови и без того слабую от старости, натянутую морозом шкуру. Если бы не овраг, Мефодий давно бы сдох от голода. Из всех органов и членов его отжившего тела у него нормально функционировали только челюсти и желудок. Для независимой собачьей жизни этого было мало. И несмотря на это, Мефодий был счастлив. Он давно не надеялся на лучшее. Он вообще ни на что не надеялся, и поэтому каждый лишний день жизни, каждый кусок пищи были для него подарком судьбы. До появления в поселке Норта вожаком стаи был Фраер. Норт появился перед самым Новым годом. Первым его заметил Мефодий. Стая жадно пожирала целое ведро разобранных на холодец костей. В одной из старых дач готовились к большому наезду гостей. Стая была так увлечена мягкими, еще теплыми, сочными костями, что ничего не видела вокруг. Мефодий, оттертый и слегка покусанный дружными братьями, обреченно пригнув голову к снегу и, пуская вязкую слюну, покорно наблюдал за ними, не имея сил отвести взгляд от этой оргии. Когда ему наконец это удалось, он увидел идущего по дороге Норта. Гигантский пес неторопливо и твердо шел по блестящей на солнце снежной тропинке и даже не смотрел на пирующих собак. Во всяком случае, его голова была повернута слегка в сторону на дачные заборы, словно он шел не к беспечным, глупым собакам, а разыскивая дом хорошего знакомого. Для полного сходства ему не хватало бумажки с адресом в лапе. Никто в поселке еще не знал, что Норт почти не видит правым глазом и поэтому его голова всегда слегка повернута вправо. Мефодия не обманул этот взгляд в сторону. Он сразу понял, с какими намерениями приближается незнакомец, но залаять не осмелился, потому что в подобном положении лаять нужно было на грозного пришельца. Но вместе с тем чувство долга перед стаей, пусть даже помыкавшей им, но все-таки терпящей бесполезного, противного старика, взяла верх над страхом и осмотрительностью, и Мефодий решил предупредить стаю, подать голос. И умудрился сделать это, не навлекая на себя гнева страшного чужака. Он еще ниже (приниженнее как бы) пригнул голову к дороге и гулко, надсадно закашлял. От неожиданности жрущие собаки вздрогнули, замерли и посмотрели на доходягу, а через него — на дорогу и на Норта. Братья ухватили наспех по первому попавшемуся мослу и, поджав хвосты, отскочили от развалки в разные стороны. Они всегда разбегались в разные стороны, такая у них была тактика. Уверенная в своей красоте, а отсюда и в безнаказанности Каштанка, кокетливо помахивая хвостом, легкой, танцующей походкой направилась навстречу незнакомцу. Мефодий просто сошел с дороги в сугроб. Фраер стоял, картинно вздернув голову, и грозным лаем хозяина предупреждал пришельца, что тот нарушает границы его владений. Впрочем, его ненадолго хватило. По мере приближения Норта голова, а главное, вытянутый и напряженный хвост неудержимо опускались. Наконец хвост провалился между задних лап, и Фраер, неожиданно для себя пискнув по-щенячьи, отпрянул в сторону и поскакал по снежной целине, утопая в снегу по брюхо. Отбежав метров на сто, он остановился и обиженно залаял. Норт даже не посмотрел в его сторону. Каштанка между тем приблизилась к чужаку вплотную и, доверчиво задрав свою лисью мордочку, еле дотянулась до носа этого верзилы. Они обнюхались носами, йотом Норт потянулся мордой ей под хвост, и она стыдливо прижала хвост к телу. Когда Норт, сделав окончательные выводы, направился к куче костей, он предоставил новой знакомке место на дороге слева, рядом с собой, и Каштанка снова принялась помахивать хвостом. На этот раз ее движения были томны и слегка небрежны. Так красавица хозяйка бала с ленивой грацией отмахивается роскошным страусовым веером от чересчур смелых комплиментов бесчисленных поклонников. Норт подошел к костям и стал неторопливо, с достоинством их поедать. Каштанка приблизилась к нему справа и испуганно отскочила, когда он резко повернул к ней огромную свою голову. Она тоже еще не знала, что он не видит правым глазом. Но он ничем не выразил своего недовольства, и она снова подошла. Потом, предварительно вежливо кашлянув, прихромал Мефодий. Норт лишь слегка шевельнул бровью в его сторону. Вслед за ним, крадучись, короткими перебежками, то зажимая грязные хвосты между ног, то истово молотя ими по воздуху, приблизились к костям Два брата-акробата. Перед самой кучей они присели, синхронно стуча хвостами по дороге, всем видом своим показывая, что они немедленно и с удовольствием удалятся, если на то будет высочайшее указание. Указания удалиться не последовало, и ониделикатно ухватили по самой маленькой косточке. И только Фраер бегал взад-вперед на безопасном расстоянии и то подскуливал, то вдруг обиженно лаял. И каким-то непостижимым образом было понятно, что лай его предназначается вовсе не новому начальству, а этим иудам, его бывшим подчиненным. И даже слышалось в его лае какое-то выстраданное предупреждение преемнику. Три дня Фраер держался в некотором отдалении. Иногда принимался скандалить, обращаясь уже непосредственно в высокую инстанцию, но за все три дня не услышал от нового вожака даже рыка. На четвертый день Фраер вернулся в стаю. Это произошло так. Каштанка (а именно она была заводилой, пока еще Норт плохо знал местные условия) привела стаю к лесному ресторану. Стая, став малочисленной и слабой, уже давно не совершала набегов на раскормленных ресторанных сторожей. Подойдя к месту засады, стая привычно залегла за кустами. Норт сел. Он понял, что нужно чего-то ждать. Ждать он выучился на границе профессионально. Наконец, выпустив во двор клубы ароматного пара, из кухни показался человек в белой, перепачканной жиром и кровью куртке с большой кастрюлей в руках. Каштанка от волнения привскочила и придушенно пискнула. Норт расценил это движение как сигнал к действию и большими скачками понесся к ресторану. Ресторанные псы, может быть, и не стали бы ввязываться в драку с этим черным дьяволом из-за привычных, неиссякаемых харчей, но перед хозяином-кормильцем вынуждены были держать марку. Они вдвоем бросились навстречу Норту. Братья только плотнее вжались в снег. Мефодий закашлялся. Каштанка, не сходя с места, залилась предостерегающим лаем. Сторожа налетели на Норта по всем правилам собачьей драки с двух сторон одновременно. Тот, который был слева, со стороны здорового глаза, был в первое же мгновение опрокинут. И Норт непременно добрался бы до его глотки, если бы не второй пес, предательски прокрадывающийся к Норту в пах. Норт огрызался на него, придерживая лапой поверженного. Неизвестно, как долго ему удалось бы держаться в подобном положении, если бы неведомо откуда не выскочил Фраер и не наскочил на этого второго. Сторож был вынужден отстать от Норта и заняться Фраером. Почуяв свои тылы в безопасности, .Норт одним точным и будто неторопливым движением подсунулся пастью к горлу извивающегося на снегу пса. Раздался сиплый, тонкий писк, тело лежащего пса сжалось в комок, а потом судорожно распрямилось. Норт дернул головой и поднял вверх окровавленную пасть… Тело лежащего на боку пса еще подрагивало и скребло когтями утоптанный снег, а голова с выкатившимися глазами и прикушенным языком была уже неподвижна. На месте горла зияла кровавая рана, из которой будто белые сломанные пластмассовые пружинки, топорщились останки вырванной трахеи. Повар, сорвавший было с противопожарного стенда красный багор, застыл, встретившись глазами с Нортом. Выставив вперед багор, он попятился к двери и скрылся в кухне, во всех окнах которой тут же появились человеческие лица. Второй ресторанный пес не преднамеренно, а скорее в пылу схватки с Фраером, задом налетел на Норта. И снова неторопливое движение головы, и в окровавленной пасти Норта хрустнула задняя лапа сторожа. Через мгновение пес валялся на спине, три его лапы торчали вверх, а четвертая сложилась пополам, перекушенная в районе колена. Сустав висел лишь на лоскуте кожи. Фраер подошел к кастрюле с объедками, опрокинул ее на снег и почтительно посторонился, давая место Норту. Так он снова вернулся в стаю. Случай с ресторанными собаками стал в тот же день известен всему поселку. По Щедринке поползло тревожное слово «убийца». Ребята-ловцы, связав воедино все факты, пришли к выводу, что этот «убийца» и есть тот самый пес, чью огромную голову видел над забором пьяный Витек и чьи неправдоподобно большие следы они нашли утром под забором. — Да, — сказал Толян, — это точно не пятерик, это целый червонец… — А я и за сотню не хотел бы встретиться с этим «червонцем», — сказал Игорек. За несколько дней до начала течки у Каштанки Фраер начал проявлять признаки беспокойства и ревности. Он то подобострастно заигрывал с нею, опасливо оглядываясь на Норта, то начинал ее игриво покусывать, то отгонял от нее чумазых братьев. Каштанка жалась к Норту и совсем не шуточно кусала беднягу Фраера за самые чувствительные места. Он взвизгивал и отскакивал. В то утро, когда у нее началась течка, Каштанка преобразилась. Первым делом она куснула великана Норта прямо за нос, когда он, покорно опустив голову, потянулся к ее хвосту. Фраер бегал на некотором отдалении, заливаясь обиженным лаем. Братья подкрадывались к Каштанке, вертя грязными хвостами, а Мефодий принюхивался к следам Каштанки и кашлял, поднимая кашлем пушистый ночной снежок. Она сидела посреди дороги. Она будто ждала кого-то. Как собака, оставленная около магазина, сидит и ждет и смотрит на дверь. Только Каштанка смотрела не на дверь магазина, а на закрытый переезд, на бесконечный товарняк, который полз в Москву. Игорь удивился тому, что она оказалась здесь, на станции, во владениях станционной стаи. Уж чего-чего, а повадки их он изучил. Думая все это, он автоматически стал налаживать удавку. Тросик был от старых велосипедных тормозов, составной и всегда путался, потому что узелок вечно задевал за все, цеплялся. Ребята пробовали что-нибудь другое приспособить, но тросик оказался лучше всего. Во-первых, никакая собака его не перегрызет, а во-вторых, петля не висит, как веревочная. Веревочную-то не вдруг — накинешь на собачью голову. А тут петля на конце палки стоит колечком. Вроде сачка, только без сетки. И привести в боевое положение удавку — дело минутное. Наладив ее, Игорь направился к Каштанке. Котлеты, которые он носил в кармане с утра, были уже съедены, но кусок белого хлеба, рядом с которым они лежали, еще оставался. Он был пропитан котлетным жиром. Он бросил половину Каштанке. «Красивая же, стерва», — подумал он. Она проглотила кусок с лета и сидела, вытянув лисью мордочку и перебирая от нетерпения лапами. Наверное, хозяева, около которых она приживалась летом, угощали ее котлетами. Ведь сколько раз она не покупалась на колбасу… Потом Игорь протянул левой рукой кусок, а правой начал осторожненько подводить сзади петлю. Она так уставилась на хлеб, что ничего не замечала. Но подойти и схватить боялась. Только лапами перебирала и попискивала от нетерпения… Краем глаза Игорь увидел, что из телефонной будки выбежал Саша. Значит, он звонил в Москву, подумал Игорь, заводя петлю, значит, еще не уехал. И тут Игорь наконец накинул петлю на голову Каштанки и дернул за тросик. Каштанка удивленно тявкнула и начала пятиться, крутя головой, и Игорь почувствовал, что петля ей велика, что она вот-вот выскочит, а Сашка бежал к нему и что-то кричал, а он тянул за тросик (этот чертов узелок не пускал) и не слышал, что тот кричит, а Каштанка уже почти уши протащила сквозь петлю. Игорь тянул, что есть силы, за тросик, но узелок не пускал. Наконец он с характерным хрустом проскочил в скобочку, и Игорь почувствовал, как петля упруго сжимает собачье горло. Саша, что-то крича, подбежал, вырвал удавку и отпихнул Игоря. Тот упал, так как дорога в том месте была накатанная, скользкая, и даже обиделся. — Ну ты даешь! — досадливо буркнул он. — Беги, идиот! Разорвут! — закричал Саша. — Да нет же никого… И тут хвост поезда прополз через переезд, и Игорь увидел стаю. Впереди, голову набок, медленным, крупным галопом летел Норт. — Атас, Саня, атас! — крикнул Игорь, все еще лежа на дороге. Потом вскочил, и стал оттаскивать Сашу. Тот пытался растянуть петлю у Каштанки, а узелок в обратную сторону не проскакивал. — Отвал, Саня! — срывая голос, заорал Игорь. Саша отшвырнул его и крикнул: — Палку найди, палку! — Он попытался голыми руками разорвать металлическую петлю. Каштанка кусала его запястья, а Норт летел через площадь… Саша сидел на корточках, когда тот налетел. Может, он и устоял бы или как-нибудь увернулся, но он сидел на корточках и пытался разорвать петлю, а тросик от велосипедных тормозов голыми руками не разорвешь… Когда Норт врезался в Сашу головой, он вскинул руками, опрокинулся и стукнулся затылком об укатанную ледяную дорогу. На какую-то долю секунды остался так лежать с раскинутыми руками, с открытым горлом… — А-а-а-а-а… — завопил Игорь и на половине крика сорвал голос и перешел на сип. А Норт и не слышал его, он завис над Сашей в мягком, тяжелом прыжке и, находясь еще в воздухе, своей разинутой пастью, от которой шел пар, дотянулся до его горла… Тут Игорь завизжал не своим голосом и шагнул к нему, и ему было трудно и больно шагать, потому что на ногах у него висели черные, грязные собаки, и он молотил их кулаками по спинам, но мордам, по хребтам, а Фраер крутился перед ним, и он обдирал руки о его клыки. Норт неподвижно стоял, уткнувшись пастью в Сашино горло, и только кожа на его спине подергивалась волнами… Игорь увидел, как Сашина рука царапнула ногтями дорогу, и Фраер наконец бросился на Игоря, и тот, поскользнувшись, стал медленно падать. Падая, он увидел, как Норт еще теснее приник к Саше и потом дернул головой вверх, и что-то розовое, какие-то дымящиеся лоскутки свисали из его сомкнутой пасти, а из того места, где было белое Сашино горло, в разные стороны, как из плохого крана, била черная кровь… А Игорь все отталкивал и отталкивал слюнявую пасть Фраера, в то время как его ноги небольно рвали Братья. Крутилась волчком Каштанка, пытаясь сбросить давящую петлю, Мефодий опасливо кашлял в стороне, из магазина, размахивая пустой посудой, бежали кричащие люди, а Норт стоял с задранной окровавленной мордой, как будто позировал перед фотографом. Игорь потерял сознание…Эпилог
Восстанавливая в памяти события той далекой зимы, я несколько раз ездил в Щедринку и узнал о том, как сложилась дальнейшая судьба остальных участников этой печальной истории.Тина Сапожникова долго лежала в больнице с воспалением придатков и вышла оттуда бесплодной. Врач, который ей делал аборт на дому, находился под следствием, но потом с помощью Геннадия Николаевича дело замяли.
Геннадий Николаевич возил Тину лечиться на курорт, но это ей не помогло. Она долго работала в одной из бригад Геннадия Николаевича художником-реставратором. Теперь она руководит работой всех реставрационных бригад «и пользуется особым доверием Геннадия Николаевича.
Игорек Спиридонов, Сашин друг, отсидел полные шесть лет в колонии. Там он работал токарем. При заточке резца от наждачного камня отлетел острый осколок величиной с пшеничное зерно и выбил ему правый глаз. Игорек, конечно же, пренебрегал правилами техники безопасности и затачивал резец без очков. Домой он вернулся одноглазым, но весьма авторитетным человеком. Живет он неплохо. «Держит» щедринский рынок, еще несколько торговых точек и станцию автосервиса. Он до сих пор не женат, но недостатка в женщинах не испытывает. Ему по субботам в его собственную роскошную баню привозят по три или четыре девицы сразу. Все девицы с Тверской улицы его прекрасно знают и любят. Он никогда всерьез их не обижает. А за внешней его грубостью скрывается нежное сердце. Да и платит он щедро и аккуратно.
Лариса Зверева через год вышла замуж за Сергея Кострюкова, того самого, которого ранил Игорек. Тогда, на поминках, Сергей отделался легким испугом. Его спасла толстая кожаная куртка мотоциклиста. Нож скользнул по ребру и только разрезал кожу на левом боку. Метил, однако, Спиридонов в сердце. Они через несколько лет разошлись, и теперь Лариса воспитывает сына, которого назвала Александром. Впрочем, в деньгах она не нуждается, получая очень хорошие алименты.
Сам Сергей, или Серый, или Бес, как звали его в поселке, закончил в свое время Плехановский институт и стал финансистом. Занимает высокий пост в крупнейшей нефтяной компании.
Витек, их товарищ, поступил в Холодильный институт, окончил его и уехал работать в Африку, в какой-то рыбный порт. Там он заболел экзотической африканской болезнью и умер. Его тело перевезли на холодильном траулере в цинковом гробу и похоронили на щедринском кладбище.
Толян, чьим ножом («самопиской») Игорек Спиридонов пытался зарезать Сергея Кострюкова, поступил работать сторожем в дачный кооператив «Резистор» на место выбывшего по известной причине Фомина. Первое время, когда в поселке еще оставались беспризорные собаки, он заменил Фомина и в цепочке собачьего промысла, сам в одиночку ловил собак и обдирал с них шкуры. Правда, малокалиберную винтовку Фомина реквизировал Васильев, и Толяну приходилось собак вешать. Делал он это в пожарном сарае. В этом деле было только одно неудобство: потом, когда собака затихала, ему приходилось ее перевешивать за задние лапы… Со временем он стал неотличимо похож на Фомина. Правда, к рожкам с постным маслом и сахаром он равнодушен, а любит отварную картошку с майонезом. Впрочем, майонезом он поливает всю потребляемую пищу. А когда ничего другого нет, то ест его с хлебом. Когда нет и хлеба, ест его ложками. В сторожке его не воняет, так как постоянно открыта или дверь, или форточка.
Ираклий Мелашвили так и не закончил институт. Он несколько раз брал академический отпуск по состоянию здоровья, и это влетело в копеечку его родителям. Он женился на грузинке «московского разлива», как он любит шутить. Ее зовут Медея. У них родилась дочка Катя — Кето. Он стал настоящим москвичом, но не забывает Грузию и родные обычаи. После грузино-абхазской войны у него постоянно кто-то проживает из сухумских родственников. Он всем помогает, как может. Он примерный семьянин и ради дочки даже бросил курить. Правда, сильно растолстел после этого.
Наташа Соснина и Лева построили кооперативную квартиру, родили дочку Аню. Шапками вскоре перестали заниматься. Этот бизнес после известных событий кончился сам но себе… Лет через десять они разошлись с Левой. У Наташи теперь своя швейная мастерская, купленная ей на прощание Левой. Она хорошо зарабатывает и ведет вполне светский образ жизни. Ее часто можно видеть на всевозможных презентациях, в ресторане Центрального Дома литераторов, в модных ночных клубах и казино, на премьерах в Доме кинематографистов. С Геннадием Николаевичем они не встречаются даже случайно. У них разные тусовки.
Лева имеет свой собственный бизнес. Когда начался компьютерный бум, он успел сколотить достаточно солидный первоначальный капитал. Потом он добавил к этому бизнесу бытовую электронику. Вы наверняка что-то покупали в его магазинах или хотя бы видели их рекламу. Это довольно известная торговая фирма. Лева наконец осуществил свою тайную мечту о кинематографе. Правда, он подошел к ней с неожиданной стороны. Он теперь еще и кинопродюсер. Хорошо налаженная торговая фирма не требует его постоянного внимания, и все свободное время и деньги он отдает кинематографу. Сам подбирает темы для кинопроектов, находит сценаристов, режиссеров. Принимает живейшее участие в кастинге. Словом, получает полнейшее моральное удовлетворение. Теперь он мечтает еще и зарабатывать этим делом. Лавры Спилберга не дают ему покоя.
Ванька-дергунчик держался на следствии, как партизан. Инспектору ОБХСС Долькину так и не удалось выяснить происхождение шапок. Он обложил Ваньку штрафом и оставил в покое. Да и не Ванька-дергунчик интересовал инспектора Долькина. Как-то, напившись шампанского (он очень любит «сладкое»), в порыве пьяной откровенности Долькин признался, что копал под Фомина. Когда же Фомин своевольно распорядился своей пропащей жизнью, Долькин успокоился и начал планомерную осаду Анны Сергеевны, которую, оказывается, вожделел давно, но опасался скандалиста Фомина. На месте Ванькиной развалюхи некий фармацевтический магнат решил построить дом типа замка для своей дочери от первого брака. Актиния Карповна (будем по привычке называть ее так) мгновенно просчитала ситуацию и уперлась намертво, пока магнат, построивший свой замок неподалеку, не поднял цену до несуразной. Этих денег хватило бы не только на двухкомнатную квартиру, но и на десять лет безбедной жизни. Актиния Карповна, по сути, повторила коммерческий подвиг Ваньки-дергунчика, купившего в свое время золотые часы за пятьдесят рублей. Получить свои деньги она получила, но правильно распорядиться ими так и не смогла. Квартирку она купила в Кузьминках, тесную и сырую, на первом этаже в панельной пятиэтажке. А остальные деньги с присущей жадностью вложила в «Чару» и в акции МММ. Деньги, разумеется, пропали. А Ванька вскоре умер без рыбалки и свежего воздуха. Актиния Карповна теперь торгует цветами около станции метро «Кузьминки». От судьбы не уйдешь…
Анна Сергеевна вскоре покорилась Долькину, который допек ее бесконечными ревизиями и проверками. Долькин, как и Фомин, ходил к ней украдкой, потому что был женат. Жена у него была молоденькая и хорошенькая и приходилась ему троюродной сестрой. Она была из его родной деревни во Владимирской области. Вышла за него не по любви, но он ее про любовь и не спрашивал. Зачем ему понадобилась Анна Сергеевна, так и остается загадкой.
Васильев ушел на пенсию майором. У него сразу же после описываемых событий родился пятый ребенок — мальчик, которого он назвал Иваном. Долгое время он, уйдя на пенсию по выслуге лет, работал охранником у дочки фармацевтического магната, во дворце, выстроенном на месте дома Ваньки-дергунчика. Купил себе подержанную «Таврию». Он теперь бегает трусцой по утрам и стал заметно стройнее.
Сашина мать вышла замуж за Олега Владимировича, давнишнего своего поклонника, и счастлива (в чем боится признаться). В бумагах покойного сына она обнаружила еще много стихов. Теперь она собирает деньги, чтобы напечатать их отдельной книжкой. Она до сих пор считает себя виновной в гибели сына. Ведь если бы он обратился к ней за этими проклятыми деньгами, то все было бы по-другому… Она думает, что сын не сделал этого из-за инцидента с томиком Цветаевой, который он продал. Она часто вспоминает и рассказывает о сыне. Особенно новым знакомым. Охотно читает его стихи. Олег Владимирович, который слышал эти рассказы и стихи много раз, обычно уходит хлопотать на кухню.
Глотов давно вернулся домой. Его психика и аппетит в относительном порядке. Он по-прежнему с преувеличенным вниманием относится к своему здоровью и с еще большим подозрением — к своим близким. Ему теперь кажется, что его пытаются отравить. Домашние Глотова уже перестали его бояться и относятся к нему, как к больному ребенку. Он этого демонстративно не замечает. И все-таки еще очень много ест.
Команда на собачнике уже много раз полностью поменялась. Прежние люди разошлись кто куда. Сережа Уфимцев (бард) стал художником-декоратором на киностудии. Ваня Охоткин (певец) окончил журфак МГУ. Он работал в одной из центральных газет и погиб во время войны в Чечне. Егор Ламин (вечный жених) по-прежнему мечтает выгодно жениться. Он почти начисто облысел, но это не мешает его успеху у дам. Валерий Ш. (мой друг) давно окончил Литературный институт. Пишет пьесы, которые пока большим спросом не пользуются.
Собаки, как и раньше, летом самораспределяются по дачам, а зимой снова сваливаются в стаи. Их с каждым годом становится больше, потому что мода на собачьи шапки давно прошла.
Норта с тех пор никто в глаза не видел. Он пропал, как только на площадь перед магазином сбежался народ.
Геннадий Николаевич заседает в Государственной Думе. Когда начались новые времена, он всерьез занялся строительством и вскоре стал владельцем крупной строительной фирмы. Получив правдами и неправдами несколько «сладких» госзаказов, он настолько укрепил свое финансовое положение, что приобрел контрольный пакет акций крупнейшего горно-обогатительного комбината, став председателем совета его директоров, и прочно вошел в двадцатку самых богатых людей России. Впрочем, это не мешает ему получать скромную, но стабильную прибыль с нескольких реставрационных бригад, руководит которыми Тина Сапожникова. Так что он по-прежнему близок к Богу. Свои поспешные обвинения в смерти Саши я с него давно снял. В процессе работы над этими записками, я понял, что в гибели Саши в той или иной мере виноваты все. И даже я сам, бывший всего лишь свидетелем описываемых событий. Такая была жизнь… Но другой у нас не было.
Прежде чем написать слово «КОНЕЦ», я должен записать фразу, которая преследовала меня с самого начала работы над этими записками. Собачий мех очень ноский. И сегодня на улицах мы можем встретить людей в шапках, сшитых зимой 1979 года.
Вадим Пеунов Иосиф Чернявский ЧП НА ТРЕТЬЕЙ ЗАСТАВЕ Повесть
Светлой памяти Крупнова Анатолия Ильича, который защищал Родину, восстанавливал Донбасс, осваивал Арктику

Художник Амброз Жуковский
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ЭКОНОМГРУППЫ
Аверьян прямо от порога шагнул к огромному, явно чужому в этой холодной комнатушке столу и протянул хозяину кабинета запечатанный конверт. Начальник Турчиновского окротдела ГПУ Иван Спиридонович Ласточкин взломал сургуч и, мельком глянув на копию послужного списка вновь прибывшего, сунул ее в приоткрытый ящик стола. Его скуластое, узористо расписанное морщинами лицо не выражало ничего, кроме усталости. — Садись, — кивком головы он показал на лавку, сиротливо стоящую у стенки. Аверьяну показалось, что на месте новой работы его встречают уж слишком неприветливо. Нахмурился, туго схлестнулись на переносице сбежавшиеся в складочку белесые брови. В серых с зеленцой глазах замельтешили светлячки. Только кто их днем-то при свете заметит? В ответ па проявленное равнодушие начальника окротдела Аверьян Сурмач хотел рубануть что-нибудь резкое, но его удержала гримаса боли, неожиданно перекосившая лицо Ласточкина. Отодвинувшись от стола, тот вынул ногу и начал яростно растирать колено, которое морозно поскрипывало под жилистой рукой. На костлявой ноге гармошкой гуляла штанина черных суконных клешей. «Старая рана…» — понял Сурмач. У него у самого на непогоду ныло простреленное плечо. — Шестой год Советской власти, — заговорил Ласточкин, — а наши рабоче-крестьянские деньги всего лишь — «совзнаки». Ну, не обидно ли? Коробка спичек — тысяча двести рублей! — В хрипловатом голосе простуженного насквозь человека звучала досада. «К чему эти базарные разговоры?» — подивился Аверьян. Ему было неприятно, что начальник окротдела не прочитал толком его документы. А в них сказано: «Аверьян Сурмач проявил себя в боях с белополяками и в операциях по разгрому банды атамана Усенко, за что награжден орденом Красного Знамени». За наградой Сурмач ездил в Москву. Привинчивая орден к борту кожаной куртки, Аверьян, «чтобы издали было видно», подложил под него красный кружок, вырезанный из кадетского погона. А начальник окротдела и внимания не обратил на высокую награду. Жаловался, жаловался Ласточкин на разные трудности, а потом сказал так, будто это уже сто лет было известно новичку: — Пойдешь, Сурмач, в экономгруппу. Там уполномоченным Тарас Степанович Ярош. Толковый мужик, но одному ему трудно: дел невпроворот. Сейчас он подался в погранотряд. Надо узнать, кто из жителей нашего округа занимается контрабандой, кого задерживали пограничники. — Не нужен — отправьте в губотдел, — сказал недовольный Сурмач. Казалось, Ласточкин даже не заметил возмущения нового сотрудника: он растирал яростно ногу. Охал. Кряхтел. Наконец не вытерпел и выругался: — Рассвирепели все болячки сразу. — Выглянул из-за огромного «буржуйского» стола, казалось, вросшего в пол кривыми, раздувшимися ножками, и попросил Аверьяна: — На окне, за шторкой, бутылка со спиртом. Дай-ка. Озадаченный Аверьян почти машинально взял фигурную, слепленную треугольником, темную бутылку с окна и подал ее начальнику окротдела, невольно поболтав. Содержимого — на донышке. Судя по всему, больной человек частенько прикладывался к нехитрому лекарству. — Плесни чуток! — подставил начальник окротдела широкую ладонь с заскорузлой от тяжелой работы кожей. В измученных болью светловато-карих глазах читалось: «Извини… браток». — А славным кочегаром на «Святом Павле» был балтийский моряк Иван Ласточкин, пока проклятый ревматизм не доконал, — с грустинкой проговорил он и вновь сел за буржуйский стол, положив на него натруженные руки с жилистыми кистями. — Сколько тебе годков-то? — спросил он мягко, будто разговаривал не с новым сотрудником окротдела, а с сыном друга, который погиб: «Жалко парнишку…» — Двадцать три… У Аверьяна исчезло последнее желание спорить с мудрым человеком, который знал нечто такое, о чем Сурмач просто не догадывался. Он понял, что уже никуда отсюда не уедет. А насчет отправки в губотдел, так это — сгоряча. Ведь Аверьян добивался, чтобы его назначили в Турчиновку. В тридцати верстах отсюда есть городок Белояров. А там у злой-презлой тетки живет Оленька, кареглазая дивчина из Журавинского хутора, где Аверьян с тремя молодыми чекистами: Славкой Шпаковским, Леней Фроловым и Анатолием Крупновым — весной девятнадцатого года разоружили, застав на пьяном ночном привале, недобитую сотню известного в округе своей жестокостью бывшего петлюровского хорунжего Семена Воротынца. Впрочем, не помоги им Оленька, девчонка из Журавинки, разве четверо чекистов управились бы с семеновцами! Словом, жила в Белоярове дивчина… — Двадцать три… — в раздумье повторил Ласточкин. — Школу какую-нибудь кончал? Ну, кроме той, где учителем сабля и наган? — Была у нас… — ответил Сурмач и застеснялся, а застеснявшись, рассердился: — Поп с дьячком вколачивали грамоту. Он вспомнил, как долдонили тринадцать шахтарчуков-сыновей горнорабочих: «аз», «буки», «веди»… Прописать «ижицу» — это не букву вывести тупым карандашом в тетрадке в клеточку, а высечь нерадивого привселюдно розгами, спустив холщевые штаны до колен. У батюшки с дьячком — лихим мастером по части «ивовых поучений», вымоченных специально в горячей соленой воде, — всего две книжки: «Часослов» и «Божий закон». Аверьяну больше нравилось читать по «Божьему закону»: буквы покрупнее, и картинки есть такие смешные, — летит херувим в длинной до пят рубахе и белыми крыльями, словно бабочка-капустница, машет. А над кудрявой головой колечко — нимб. Не с той ли поры всех образованных Аверьян заранее относил в разряд «контры» и только для учителей и врачей делал скидку, да и то не для всех. Начальник окротдела вновь вздохнул. Четче обозначились на худощавом лице глубокие, редкие оспинки-ямочки. — Не получится из тебя финансовый министр, — сделал он неожиданное заключение. Аверьян обиделся: «Ну и загнул начальник окротдела: его, чекиста-орденоносца — в финансовые министры! А еще старый большевик, балтийский моряк!» Финансы — это капитал. А при капитале капиталист — отъявленный буржуй, словом, — недобитая контра! — Мне это без надобности! Иван Спиридонович несогласно покачал головой. — Кто-то должен вести счет рабоче-крестьянским рублям, иначе мы свое государство, как тот помещичий сынок, получивший наследство и дорвавшийся до столичного ресторана, вмиг по ветру пустим. А ну-ка, напиши мне миллиард словами и цифрами, — он пододвинул Аверьяну папку, поверх которой лежал листок бумаги. Протянул карандаш. — На! — Миллиард? Это десять миллионов? — Да нет — и в сто не уберешь. И вот держат валютчики и спекулянты в сундуках и погребах два миллиарда рублей золотом. Сколько заводов и фабрик можно поднять из развалин на эти денежки, сколько голодных накормить! Сурмач почувствовал, что его грудь наполняется неутолимой жаждой действия. Вот с таким чувством он давал лошади повод, устремляясь в атаку. Шашка еще в ножнах, до противника — еще далеченько. Но Аверьян мыслями уже весь там, где клубится под копытами вражеских коней густая, въедливая пыль, застилая четкую видимость, оповещая в то же время округу о грядущем… Кавалерийская атака начинается не с того момента, когда выхватываешь шашку из ножен, а тогда, когда ты понял, что встречный бой неизбежен, и весь внутренне подобрался, приготовил себя и коня к яростному рывку. «Вернуть! Вернуть стране украденное!» Сел на место Иван Спиридонович. Вздохнул. — Жить будешь у наших, в доме купца Рыбинского. Они там поселились коммуной. И тебе койку поставят… Сурмач собрался уже уходить, когда в кабинет начальника окротдела вошел дежурный — неказистый паренек, сверстник Аверьяна. Длиннополое черное пальто делало его еще более худым и несуразным. Встревоженный. Глаза настороженно изучают постороннего. «С недоброй вестью», — понял Аверьян. Дежурный кашлянул в кулак, намекая начальнику окротдела, что хотел бы переговорить с ним с глазу на глаз. Ласточкин махнул рукой: — Наш новый сотрудник. Будет в экономгруппе. Дежурный еще раз с ног до головы оглядел Сурмача и доложил: — На границе ранен Ярош. — Тяжело? — сразу посуровел Ласточкин, встопорщились косматые брови. — В больницу отвезли в бессознательном состоянии. — Эко его угораздило… — подосадовал Иван Спиридонович и в то же время посочувствовал чекисту. — Прорывались через границу контрабандисты, — пояснил дежурный, — их засекли. Они начали отстреливаться. Убили двоих бойцов и ранили Яроша. — А что с контрабандистами? — Один убит, остальные прорвались в наш тыл. — Что еще? — допрашивал нетерпеливо Ласточкин. — Иных подробностей не знаю, — ответил дежурный, невольно чувствуя себя виноватым, понимая, что начальнику окротдела сейчас необходимо знать как можно больше о случившемся. «Ранен… На границе», — подумал с невольным сочувствием Сурмач о Яроше. И сразу в нем вспыхнуло ощущение, казалось бы, ничем не оправданной неловкости перед этим неведомым ему человеком. Впрочем, чувство невольной вины возникало в Аверьяне всегда при виде раненого или убитого. Это чувство ответственности здорового и живого перед теми, кто в трудном бою взял на себя важное и опасное. Такой долг живые не в состоянии возвратить, даже если будут до ста лет каждый день ходить в решающую, победную атаку. «Его — нет, а ты — есть!» Это — не упрек мертвых живым, это ответственность, которую они, уходя, оставляют нам, ответственность за дело, во имя которого отдана жизнь. У нее нет а не может быть повторения. А они… ради тебя, ради общего дела… «Вот тебе и экономгруппа», — еще раз подумал Сурмач о Яроше. — Получай первое задание, — сказал после долгого молчания Иван Спиридонович. — Поедешь в погранотряд. Попробуй разузнать поподробнее, как это все… Может, есть какие-то сведения о тех, кто прорывался. — Вздохнул и проворчал: — Иди знай заранее — где ждет чекиста пуля…
ПРОРВАЛИ ГРАНИЦУ…
Сурмач надеялся, что представится он начальнику окротдела и… махнет в Белояров к Ольге. Хотя точного адреса он не знал, но был уверен, что разыщет ее. Белояров — городок невелик, а Ольгина тетка — акушерка. Кто же не знает в местечке такого нужного человека! Любая женщина укажет, где можно найти повитуху. Но поиски его доброй знакомой Ольги довелось отложить до более благоприятного случая: Аверьян выехал в погранотряд, на одной из застав которого при непонятных (если не сказать — странных) обстоятельствах были убиты двое бойцов-пограничников и тяжело ранен сотрудник ГПУ Тарас Степанович Ярош. На конечную станцию, именуемую Разъездом, новый сотрудник экономгруппы окротдела ГПУ прибыл вечером. Поезд — три теплушки, оборудованные нарами. Он привез всего пятерых. Четверо — жители соседних сел. Они, не колеблясь, взвалили на плечи пустые корзины, какие-то узлы с городскими покупками и юркнули по тропинке в лес. Сурмач еще какое-то время потоптался на так называемом перроне, затем обошел домишко, служивший вокзалом и квартирой двум—трем семьям, которых злой удел загнал в этот далекий и глухой угол огромной страны. «Никого! А где же встречающий?» И это было более чем странным! Начальник окротдела Ласточкин послал в погранотряд специальную телеграмму. «И никого!» От Разъезда до погранотряда — километров восемь. Может, пограничник задержался… Дорогу развезло… Но что это за пограничники, которые не успевают ко времени! У таких, конечно, контрабандисты будут прорываться через границу и стрелять сотрудников окротдела ГПУ… И полчаса топчет Аверьян старый снег у порога вокзала, и час… Сердит себя разными мыслями. Наконец терпение его иссякло. Он — к начальнику Разъезда. Рванул на себя разбухшую дверь, на которой была прибита какая-то до неузнаваемости выцветшая трафаретка, и очутился… в квартире. Слева, в углу, стояла большая деревянная коробка телефонного аппарата и стол. А справа, за отдернутой занавеской, кровать. В ней, под пестрым лоскутным одеялом, жался при виде постороннего в кожаной куртке человек неопределенного на первый взгляд пола и возраста в дурацком колпаке с кисточкой. Аверьян опешил от неожиданности. — Мне надо срочно позвонить в погранотряд, — показал он странному человеку свое удостоверение личности. Не вылезая из-под одеяла, тот ответил: — Звони… Только до погранотряда через город. Случается, и полдня мало. Аверьяну повезло; не прошло и часа, как отозвался дежурный погранотряда. — Вы телеграмму от окротдела получали? — спросил Сурмач. — Может, и получали, только попадают они в штаб. А что такое? — Так я второй час жду лошадей! — возмутился Аверьян. — У нас только и заботы — окротделовцев встречать! Дежурный был недоволен всем: и тем, что его потревожили, и тем, что за приезжим все же придется посылать кого-то с лошадью. А кого? У каждого — свое дело, свое время… Отрывай от дела, выкраивай время для совершенно чужих забот. «Ездят тут… на нашу голову, а потом их контрабандисты стреляют!» И Сурмач понял, что он для пограничников не из тех гостей, для которых пекут праздничные пироги.* * *
Начальник погранотряда со своими заместителями еще утром уехал на третью заставу, где минувшей ночью случилось происшествие. Представителя окротдела встречал дежурный по заставе. Знакомство он начал с проверки документов, потом долго выспрашивал, что прибывшему надо. Сурмач окончательно убедился: приехал он не ко времени. Все захлопотанные, запятые. Дежурному — в минуту десять звонков. Кому-то отвечает, кого-то ругает, кого-то вызывает, кого-то с поручением отправляет. Наконец окротделовцу дали почитать книгу рапортов, где было записано донесение начальника третьей заставы: «В ночь на первое ноября в районе заставы произошел прорыв границы. Контрабандисты наткнулись на секрет. В перестрелке были убиты пограничники Иващенко и Куцый, ударом в голову тяжело ранен представитель окротдела, оказавшийся тоже в секрете. Из прорвавшихся убит один. Документов при нем не обнаружено. На месте боя найден небольшой баул с контрабандой: три пары фильдеперсовых чулок, одни женские ручные часы, сто порошков сахарина, пятнадцать метров польского коверкота „в рубчик“ и двадцать швейных иголок». Сурмач перечитал дважды донесение, но никак не мог понять, за каким лешим контрабандистам потребовалось отстреливаться, если у них была такая никчемная контрабанда, ну явно для личных нужд. Разве что часть иголок и сахарина на продажу… Он поинтересовался, как наказывают за такое. — Контрабанду таможня конфискует, проводим душеспасительные беседы, стыдим. Ну и все такое. Дежурный помощник командира погранотряда — это не обязанность сроком на одни сутки, это — работа. Александр Воскобойников на границе — второй год. Он из тех, кто моментально осваивается в любой обстановке и становится необходимым для дела, незаменимым для товарищей: «Александр…», «Сашко…», «Щурка…». «Башковитый парень» — это о нем. Голова на троих бы хватило, одному досталась. Лоб бугристый, кожа на висках просвечивается, все жилочки можно пересчитать. Еще замечательнее у Воскобойникова брови. Какие-то бесконечные. Тянутся в три ячменные соломинки к вискам, и где-то там их хвостики совсем размываются. Дежурный помощник о своей особе и своей работе самого высокого мнения. Запищал зуммер, Воскобойников не позволяет ему раскричаться — хватает трубку: «Воскобойников слушает!» «Воскобойников тебя подводил?» «Воскобойников сказал — считай, что сделано». Вначале приезжий окротделовец был для него «обузой». Но когда Аверьян очутился в кругу деловых интересов погранотряда, Воскобойников начал относиться к нему, как к одной из своих прямых обязанностей. А свою хлопотную работу он любил нежно и преданно. Рассказывая с невольной гордостью окротделовцу о сложности обстановки, дежурный помощник расцветал, превращаясь в свойского парня, который любит побахвалиться, если есть перед кем. На его длинной лошадиной физиономии было написано: «Вот какие мы!» — Застав много. Каждую ночь где-то переходят границу контрабандисты. А сколько еще нарушений, о которых мы ничего не знаем! Граница неспокойная. Не привыкли к ней люди. На этой стороне кум, на той — сват. Как не сходить в гости на престольный праздник или на именины? Корова паслась — нейтральную перешла, мальчишки за ягодами или грибами ходили и заблудились. Много политических перебежчиков с той стороны. И нельзя не принять: коммунисты, разные политические эмигранты. А ко всему еще и контрабандисты. Они тропы и лазы знают не хуже пограничников. Сурмач удивился: «Рассказывает о нарушении государственной границы с таким удовольствием, словно бы речь ведет о девчонках, которые были на посиделках». А по мнению Аверьяна, умышленный переход границы — это преступление. Вольно или невольно ты его совершил, но ты его все равно совершил. Тут надо, конечно, разобраться: корова паслась и не определила, глупая, где «свое» пастбище, а где «чужое», а мальчишка, который проморгал ее, побежал вслед за буренкой. Это местный инцидент. Провел беседу, предупредил на будущее… А если идет контрабандист — то тут двух мнений быть не может — наказание самое строгое… Иди, разберись, с каким намерением прорывается через границу человек. Говорит: «Сахарин и швейные иголки несу». Это в мешке. А в голове что? Может быть, у него задание кого-то убить или чем-то навредить молодому рабоче-крестьянскому государству. — А поляки как мирятся? — поинтересовался Сурмач. — Контрабандисты и у них границу нарушают. — А никак, — пожал плечами дежурный. — Оттуда к нам плывет всякое барахло. А от нас в Польшу — ценности: валюта, золото царской чеканки, бриллианты, художественные произведения, которым цены нет. Вот однажды на второй заставе дядьку задержали… Семь холстов в трубочках, картины мировейших художников. За каждую по миллиону долларов не жалко. Сурмач посмотрел на дежурного с недоверием: «Миллион долларов за картину! Ну и загибает». А дежурный помощник бьет себя в грудь костлявым кулаком, доказывая, что это еще не так уж много. — Есть такие картины — за них по сто миллионов долларов дают! Это тебе Воскобойников говорит! — Так продать их капиталистам! — воскликнул Аверьян. — Сколько на те деньги можно будет построить домов, восстановить заводов и шахт! Воскобойников вытаращил глаза, словно бы у него в глотке застрял огромный кусок мяса: хватанул по жадности, а проглотить не смог. — Ты что! Продать! Капиталист — он тебе не дурак, цену копейке знает. Покупает картины — значит, не без выгоды. Картина — она что? Вот ты на нее поглядел, и твоя душа от того стала богаче, и невтерпеж тебе — тянет подвиг совершить для людей, для родного государства. Ты посмотрел, другой посмотрел, и десятый, и сотый… И у каждого душа от счастья запела. А картина от тех взглядов не линяет. Ты любуешься ею, обогащаешься, а ей хоть бы что… И выходит, ценность ее вечная. А выручил ты за нее миллион, в дело пустил — и нет уже того миллиона. Сурмач не согласился: — Если в дело пустил миллион, то к тебе вернется два или три миллиона. Воскобойников посмотрел на окротделовца с сожалением: — Дярёвня! Аверьян обиделся: — Я — с Донбасса! Шахтер! — А против мировых произведений искусства — все равно деревня. Аверьян возражать не стал: «Про картины — не по делу это». — Где контрабандисты берут товар? — При каждой стражнице для них есть специальный магазин. Чего хочешь купишь, было бы за что. — И оружие? — И оружие, — подтвердил дежурный. — Только простой контрабандист за пистолет не берется. Отстреливается тот, кто знает, что попадаться ему в наши руки нельзя. — А эти? — Сурмач похлопал ладошкой по книге рапортов, где было записано донесение начальника третьей погранзаставы. — Эти — особые. Они не просто отстреливались, они атаковали секрет и уничтожили его. — Но остался жив наш чекист, — напомнил Сурмач. — Тяжело раненный, он им уже не мешал… А может, приняли за убитого. Такое впечатление, что они шли на полное уничтожение наших людей. Зачем это им было нужно? Казалось бы: прорвался через границу — и топай своей дорогой. Нет же! «Убрали свидетелей прорыва? — невольно подумал Сурмач. — Кто-то кого-то узнал? Или мог узнать…» Он начал раскладывать по полочкам сведения: Что стало известно? 1. Первого ноября в районе третьей погранзаставы прорвала границу хорошо вооруженная группа. 2. Она вела бой до полного уничтожения пограничного секрета. 3. Потеряв одного убитым, нарушители ушли в глубь нашей территории. Что можно было предположить? 1. Иголки и сахарин — далеко не самое важное и ценное, что несли с собою контрабандисты. 2. Возможно, среди нарушителей находились люди, для которых главное было — перейти границу. 3. В пограничном секрете были люди, которых контрабандисты знали в лицо (или наоборот, которые опознали контрабандистов). Поэтому прорывавшиеся позаботились, чтобы живых свидетелей не осталось. Что было неизвестно? 1. Сколько человек прорывалось? 2. Цель прорыва? 3. Кудапрорвавшиеся ушли? (Хотя бы ориентировочно, район поиска).* * *
Дальнейший маршрут Сурмача — на погранзаставу, основное место трагического происшествия. Осмотреть место секрета, поговорить с людьми… Аверьян готов был немедленно отправиться туда. Но дежурный помощник на него зашумел: — Ну, ты как с луны свалился! Барон Мюнхаузен! Ночью — на заставу! А где я тебе добуду сопровождающего? Сурмач понимал правоту Воскобойникова, но все равно — обидно… «Обзывает!» Он не знал, что за тип этот Мюнхаузен, чем знаменит и в каком мире, но уже одно: «барон», то есть недорезанный буржуй, говорило о многом. И все-таки в тоне, каким Воскобойников произнес это имя (добрая улыбка по отношению к «бывшему»), не позволило Сурмачу возмутиться открыто. Еще попадешь впросак по неведению, побреешь лысого, как говорят в таком случае горняки. — Сам ты — Мюнхаузен! — выпалил Аверьян. Воскобойников рассмеялся. — Да это знаменитый писатель. Заливать умеет — сто полковых брехунов в одного уложишь, и мало будет. Есть у него побасенка, как он с луны свалился… Ну ты губы кренделем не крути, — подытожил Воскобойников. — И если уж сон тебя не берет, поезжай в больницу к своему раненому. Лошадь я тебе определю. До Разъезда путь знаешь, а оттуда две версты: дорога такая — не заблудишься. Только кобуру расстегни, поедешь лесом, маузер может пригодиться в любое мгновение: где те, которые прорвались через границу, — неизвестно. — Да уж наверняка чесанули вглубь, подальше от беды. — Ну-ну… На бога надейся, а сам не плошай! Выехав за ворота казармы, Аверьян все же расстегнул кобуру, откинул крышку: «Не эти, так другие…» Добираясь до Разъезда, все время присматривался к лошади: в случае чего она первой учует чужих людей. Лошади — они не хуже собак в этом: опасность за версту определяют.* * *
Не так-то легко оказалось ранью-раннею попасть в больницу. Аверьян дважды обошел длинное, похожее на барак или на казарму, здание, стучался во все двери, заглядывал в темные окна. Ни единого звука. Тогда он, привязав лошадь к дереву, начал стучать рукояткой маузера в широкую двойную дверь главного входа. Стучался долго, настойчиво, зло. И вдруг его сзади окликнули. — Чего охальничаешь? Люди спят. Аверьян обернулся и увидел женщину лет сорока пяти, о которой подумал: «Пожилая». Это впечатление создавало плоское, скуластое лицо, побитое крупными оспинами. Она хмуро смотрела маленькими, показавшимися Сурмачу совершенно не злыми глазами. Он почувствовал себя виноватым: — Я из ГПУ. Тут наш товарищ лежит. Раненый… — Так ты же, милый, не в ту дверь. Эту с войны не открывают. Женщина повела представителя ГПУ в обход. Она припадала на левую ногу, которая была чуточку короче правой. Они спустились по крутой узкой лесенке в подвальное помещение, а уж оттуда вышли в широкий коридор. — Если из Гепеу, то людей тревожить надо! Раненые, милый, спят. Им сон — первое лекарство, — журила тепло, по-матерински Сурмача, понимая, что не ради удовольствия приехал к раненому товарищу ночью этот глазастый, настойчивый паренек в кожаной куртке. Подвела Сурмача к старой, пожелтевшей от ветхости двери: — Сейчас свечку зажгу. Тут у нас лежат тяжелые. В палате было темно. Огромная комната с тремя высокими, стрельчатыми окнами, которые пропускали с улицы бледный свет наступающего дня. Медсестра достала из тумбочки, стоявшей рядом с дверью в палату, два огарка. Один чуть побольше, другой чуть поменьше. Взвесила их на руке. Тот, что побольше, по-хозяйски убрала на место. — Ты у своего друга не рассиживайся — тяжелый он. Она прихватила полой синего бумазейного халата стекло и сняла его с керосиновой лампы. От коптящего фитилька зажгла свечку. Вошла в палату. Там теснилось с десяток кроватей. — А который? — шепотом спросил Аверьян, проникаясь уважением к той тишине, что жила в просторной комнате. — Он один такой-то. Весь перевязан. Саданули его прикладом, как только голова осталась целой, — зашептала она в ответ. — Прикладом? — не сумел скрыть изумления Сурмач. Он был уверен, что Яроша ударили рукояткой пистолета. Не могло быть у контрабандистов винтовки: громоздкое, неудобное оружие, в карман не спрячешь. — Милый, я фронтовая медсестра, — добродушно тараторила пожилая женщина, — по ране скажу, из чего в человека стреляли или чем ударили. А твоего чекиста — прикладом. И не с размаху, а ткнули, видать, размахнуться было не с руки — стоял близко. «Прикладом!» Пылкое воображение Сурмача нарисовало картину короткого, но жестокого боя. Секрет пограничников подпустил контрабандистов. Последовала команда: «Стой! Руки вверх!» Наверно, остановились, подняли руки, дали возможность подойти к себе, а потом… Аверьян знал, как это делается: шаг вперед, навстречу направленной на тебя винтовке. Схватил за дуло, отвел чуть в сторону от себя. В это же время — удар ногою в живот нерасторопному хозяину винтовки… Свалка. Наших — трое, контрабандистов — больше… Пятеро… Шестеро… Десяток… Короткий рукопашный бой. Опытный чекист Ярош успел кого-то застрелить, тут его и ударили прикладом… А справиться с молоденькими, растерявшимися пограничниками контрабандистам уже ничего не стоило… У окна на двух куцых ватных подушках полусидел-полулежал человек, у которого голова была замотана бинтами. Видны лишь правый глаз да рот. Не голова, а тряпочный мячик. И уж такой удачно круглый. Мальчишки в шахтерском поселке гоняли по улицам такие, из тряпок. «Да как это я о человеке думаю!» — обругал себя Сурмач и постарался придать лицу сочувственное выражение. — Сурмач Аверьян, — представился он. — Ваш новый сотрудник по экономгруппе. Иван Спиридонович прислал разузнать, как и что с вами. Ярошу трудно было говорить, мешал бинт. — Голова гудит… Дай попить, — прохрипел он, делая попытку взобраться с помощью локтей на комкастую подушку. Сурмач взял было с тумбочки жестяную кружку, хотел поднести ко рту Яроша, но хлопотливая медсестра отобрала питье. — Ему с ложечки… Она напоила раненого, взбила жесткие подушки, помогла умоститься поудобнее. — Милый, — обратилась она к Сурмачу, — ты его поначалу долго-то не мучай, такому покой нужен. Аверьян и сам понимал. Он заспешил, торопливо задавая вопросы. — Сколько их было? — Много. Голова трещит… Какие-то огненные круги перед глазами. — Чего ж так близко подпустили? — Не знаю… Я в секрете был младшим. Наверно, живыми хотели взять. — А они хотели всех угрохать. И вышло по-ихнему: оба пограничника убиты… Вы один остались в живых. Да и то, считайте, счастливым родились. Ярош прикрыл глаза, вздрогнул от внутренней боли, потом тяжело вздохнул: «Уф…» — Жаль ребят… — после долгой паузы заключил он. Аверьян помнил одно из предположений дежурного помощника начальника погранотряда: «Контрабандисты шли на уничтожение секрета…» — Знакомых, случайно, среди прорывавшихся не встречали? — как бы между прочим поинтересовался он у Яроша. — Окротдел контрабандистами только начинает заниматься… Это у меня с ними первое братание. — А у пограничников… по части знакомых?.. — продолжал выпытывать Аверьян. Ярош рассердился: — У них и спроси! Весь эпизод — в секунды укладывается. А я лежал чуть в стороне, за соседним пеньком. Извини, не успел поинтересоваться… Аверьяну стало неловко за свои неуместные вопросы. — У меня еще никакого опыта по работе в экономгруппе. — Опыт придет, — примирительно сказал Ярош, понимавший, что он излишне погорячился. Аверьян знал, что с раненым надо бы поделикатнее… Словом, думать прежде, чем спрашивать. — На погранзаставу-то как вы попали? Ехали ведь в погранотряд. — Умный стороной обойдет, а дурной сам наскочит, — пояснил Ярош. Он явно был недоволен собой. — Я уже выборку по журналу сделал, кого задержали из нашего округа с контрабандой. Вдруг звонят с третьей заставы: есть свеженький — Грицько Серый из Белоярова. Привезли его в погранотряд, он и раскололся: мол, на ту сторону ходили вдвоем. По фамилии напарника не знает. Зовут Степаном. Он, Григорий, вернулся, а дружок на чьих-то именинах остался. Уговорил я замнача взять меня на заставу. А там уже и в секрет. — Ярош замотал головой, застонал: — У-у, голова… Мозги расплавились! Тетя Маша, льда! — Нельзя, родимый, потерпи, а то застудишь голову — дурачком станешь, — ласково уговаривала раненого медсестра. — Вот что, милый, — потребовала она от Сурмача, — не мучай ты его вопросами-допросами, пусть отдыхает. Но Аверьян не выведал еще самого главного: — Тарас Семенович, как же вас-то угораздило? Ярош долго мычал от боли. Аверьян уже решил было, что не услышит ответа, и намерился уходить, но раненый все же собрался с силами. — Не помню, — прохрипел он. — Меня ударили, я выстрелил. Они шли мимо. Их окликнули. Они и бросились на секрет… А больше ничего не помню… Сурмач расстался с Ярошем, пообещав проведать его после того, как побывает па заставе. Той ниточки, с которой начинают разматывать клубок, Аверьян в больнице не нашел. И все же сказать, что ездил сюда напрасно, нельзя. Познакомился со своим сослуживцем. Это раз… И… появилось еще несколько «почему», на которые не было ответа, но найти их нужно было во что бы то ни стало. Гвоздем в мозгу засело: «Григорий Серый… Контрабандист… Задержан па третьей заставе. Живет в Белоярове… Там же, где и Ольга… Серый?..» Что-то неуловимо знакомое было в этой фамилии…* * *
Возвращался в погранотряд — дремал в седле почти всю дорогу: все-таки укатали сивку крутые горки. Его мучил тревожный сон: то на него замахивается прикладом — борода лопатой — контрабандист, то кто-то убегает, оставляя на рыхлом снегу глубокие, словно колодцы, следы… Но каким бы коротким сон в седле ни был, он согнал острую усталость: в погранотряд Сурмач вернулся собранным, подтянутым. Такое состояние его охватывало каждый раз перед трудной операцией. Он теперь может забыть о еде, об отдыхе и будет всюду думать только о том, что предстоит. Воскобойников «расчихвостил» окротделовца, как суровый отец блудного сына: — Я ему завтрак держу, а он — исчез. А ты тут думай разную чертовщину: уехал — сгинул. И коня увел. Оставив свой пост возле телефона, он отвел Сурмача в столовую и проследил, чтобы тот поел. — Там, на заставе, тебе окочуриться с голоду тоже не позволят. Я уже позвонил заму по оперработе. Мужик надежный. Аверьян с благодарностью пожал руку дежурному помощнику. — «Воскобойников сказал — считай, что сделано!» — процитировал он любимое изречение головастого парня. Тот удивился: — А похоже! Посадил бы тебя, за аппарат, и там, на заставах, поверили бы: говорит Воскобойников. Голос мой. На заставу Сурмач с сопровождающим выехали около десяти часов. Лошади шли шагом, у них под ногами фонтанами взрывалась грязь. Она забрызгивала Аверьяна до самых ушей. Вначале он еще стирал лепки с лица, но вскоре понял, что это бесполезно. Отпустил поводья и ехал, думая все об одном и том же. Прорыв границы… Ярош и погибшие пограничники. Вдоль узкой лесной дороги — два конника рядом не проедут, — упираясь острыми макушками в низкое ватное небо, стояли сосны. Могучие, степенные, они со снисходительностью мудреца посматривали па все, что делалось у их ног, под их негустой кроной. Время подпалило их бока, а осень навела рыжий глянец. Над соснами и елями времена года не властны. Лес пах хвоей и живицей. Но жило в этом запахе для Аверьяна что-то таинственное, грозящее опасностью. Он терпеть не мог осени, он всей душой любил пробуждающийся по весне лес. Его тонкие запахи, его призывные голоса заставляли сердце биться в истомном, радостном предчувствии, вселяли огромную, всепобеждающую надежду на свершение необычного, давно желанного… В родном Донбассе деревья для Сурмача были друзьями: они помогали укрыться от зноя, они кормили вкусными яблоками и вишнями, грушами и абрикосами. А здесь, в этом сумрачном осеннем лесу, деревья помогали бандитам и контрабандистам. Это они укрыли от глаз пограничников нападающих, это они помогли скрыться убийцам…НА ТРЕТЬЕЙ ЗАСТАВЕ
Застава номер три. В продолговатой комнате — Ленинском уголке — стоят рядом два гроба, обитых кумачом, обвитых черными лентами. Пахнет хвоей и живицей, как в лесу. Застава — в трауре, застава сегодня хоронит своих героев… Почтить память и разобраться в происшествии, которое привело к их гибели, приехало начальство из погранотряда, из полка, из губотдела ГПУ… Сопровождающий, видя такое дело, забрал коня и подался восвояси, дав ему напоследок добрый совет. — Подождите малость, — сказал он Сурмачу. — Вы тут — чужой, а на чужого на погранзаставе обязательно обратят внимание и спросят: кто таков и по какому праву на территории. Сопровождающий красноармеец оказался пророком. Пока Сурмач искал, к кому бы обратиться, все от него отнекивались: «Подождите!», «Не до вас!», «Вы что, не видите, чем все заняты?» Но стоило ему присесть на деревянные ступеньки, ведущие в помещение штаба, как перед ним появился пограничник в желтоватом полушубке, заеложенном на локтях, словно бы его владелец постоянно ползал по-пластунски. Широкий ремень располовинил его по талии. Он встал уверенно, по-хозяйски, ноги чуть пошире плеч, втоптался в землю. Вот так основательно ладятся, прежде чем рубануть по сучкастому полену. Показал па Аверьяна коротким сильным пальцем и решительно, словно бы произносил приговор, не подлежащий обжалованию, сказал: — Воскобойников дважды уже звонил. Приметы сходятся: в кожанке командира бронепоезда, который всю гражданскую тер ее по узким люкам и неудобным переходам, маузер — трофейный, ремень засупонен до предела, сапоги каши просят. И если молчит, то брови друг о друга на переносице бьются, и хмуринка — через весь лоб свальной бороздой… Значит, Сурмач из окротдела. Аверьян невольно посмотрел на свои сапоги. Действительно, они изрядно потрудились. И если бы к ним относиться по-людски, то следовало подбить подметки да и латку пришить: протер почти насквозь самодельное шевро бугристый мизинец правой ноги. Пограничник в полушубке представился: — Свавилов. — Он, видимо, официальным, уставным отношениям предпочитал простоту, которая ведет к взаимному доверию. — Павел, — назвал он имя. — Зайдем ко мне, потолкуем. Свавилов открыл дверь, пропустил гостя. Сорвал с себя надоевшую фуражку, тряхнул головой. Получив свободу, озорно рассыпались длинные, словно бы из вымоченного льна, волосы. Свавилов — типичный русский парень из какой-нибудь северной губернии: лицо — клинышком, глаза небольшие, зеленовато-голубые, с открытым, приветливым взглядом. Пододвинул окротделовцу стул, сам плюхнулся на другой, привычно подтолкнув ножку носком сапога. Ловко это у него вышло. — Как наш-то работник попал в секрет? — поинтересовался Аверьян. — Я перестарался. С Турчиновским окротделом мы постоянно контачим: то они нам полезные сведения принесут, то мы им работенку подбросим… А накануне мы тут у себя задержали одного… Возвращался. — Григория Серого? — уточнил Сурмач. — Он, — подтвердил замнач. — На допросе проговорился, что на ту сторону уходил с каким-то. Степаном. А по имеющимся сведениям в районе заставы через границу челноком ходит един из белояровских. Ну я и поставил на тропе самых надежных ребят. Из погранотряда приехал ваш Ярош. Просится: «Пустите в секрет, авось пригожусь: половину белояровских в лицо знаю». Я клюнул на это. Само собою, проинструктировал окротделовца… Ярош — работник со стажем, по части засад и секретов сам любому инструктаж выдаст. Но ждали одного, а их шло на прорыв до десятка. Словом, мы караулили лису, а напоролись на медведя… Свавилов был откровенен, и это вызывало в Сурмаче чувство доверия. — Уж очень зло разделались с секретом, — высказал он мысль, которая давно тревожила его. — Ребята там были цепкие. Иващенко — бывший конармеец, на границе с первого дня. Куцый против него — новичок, по тоже второй год на заставе. У каждого не по одному задержанию. От таких не отвертишься, — пояснил Свавилов. — Вот с ними и разделались. — Такие опытные, а… позволили, чтобы с ними разделались, — усомнился Аверьян в характеристике. — Что уж упрекать погибших! — вздохнул Свавилов. Аверьян и не думал упрекать, просто он увидел в этом нечто особенное, необъяснимое для себя: опытные пограничники, хваткие чекисты — и попали впросак. Один Ярош чего стоит! Трое лежали в засаде. Не в открытом поле, а в засаде! И все трое пострадали. Контрабандисты атаковали, они должны были понести более ощутимые потери… И всего один убитый. Разве что остальных убитых и раненых унесли с собою, а этого, последнего, не сумели. Но тогда — почему? Что помешало? Секрет перестреляли, застава по тревоге только поднималась… А контрабандисты оставили, можно сказать, «свидетеля». Убитого опознают, потянется ниточка… — Как там получилось, — продолжал Свавилов, — мы сейчас можем лишь гадать. Разве что Тарас Степанович, очухавшись, прольет свет. — Был я у него в больнице, спрашивал. Толком ничего не помнит: все дело в секунды уложилось, а кроме того, саданули его прикладом, ну и поотшибло память. — Прикладом? — удивился Свавилов. — Это он сам сказал? Аверьян смутился. «Насчет приклада…» Уверовал в слова медсестры. Но она так убедительно говорила: «Не с размаха, мол, ударили, а ткнули — размахнуться не было возможности». — Нет, не сам… Медсестра определила. — А… Тогда считай, что это пока не факт. С карабинами и винтовками могут быть лишь бывшие петлюровцы… А по имеющимся у меня сведениям, в районе нашей заставы таких гостей пока не наблюдается. — Значит, сведения не точные, — предположил Сурмач. Свавилов прищурил глаза, посмотрел на окротделовца долгим взглядом и ничего не ответил на это. — Сейчас покажу заключение врача… Но там об ударе прикладом, по-моему, ни слова. Впрочем, Яроша почти сразу увезли, оказали первую помощь — и на тачанку. Действительно, о ранении окротделовца в медицинском акте была всего одна фраза: «Тяжелое ранение в голову». А вот об убитых — подробнее. Оказывается, одного из пограничников убили выстрелом в упор, в затылок, даже волосы обгорели, завились от огня. А второго — в лицо. Пуля вошла в подбородок и вышла в затылок. — Выходит, в этого, второго, стрелял лежачий? — удивился Сурмач. — Пограничник нападал, атаковал, а контрабандист сидел или лежал на спине и отстреливался?! — А я на это не обратил внимания, — признался Свавилов. Они с разных точек смотрели на происшествие. Для заместителя начальника погранзаставы случай прорыва границы был рядовым явлением. Необычное для него заключалось в том, что прорывая границу, контрабандисты уничтожили секрет (двух убили, а одного, случайно там оказавшегося, тяжело ранили). Для него инцидент на этом, в основном, и заканчивался. Конечно, в случившемся можно усмотреть и его, Свавилова, личные упущения. Но кто от подобного застрахован? Граница беспокойная, всего можно ожидать… Для окротделовца, не искушенного в делах пограничников, прорыв границы и гибель людей представляли одно целое. На этом событии главное для него лишь начиналось. Теперь ему предстояло как можно больше собрать на месте происшествия фактов и так их выстроить, чтобы они повели по следам исчезнувших в глубине территории контрабандистов. — Нельзя ли глянуть на место, где все стряслось? — спросил Сурмач. Свавилов поморщился: — Граница… За каждым нашим шагом с той стороны наблюдают. — А потом вдруг согласился: — Добро, сегодня у нас тут людно, да и секрет в глубине. Сам я пойти не смогу, дам в сопровождающие толкового парня, Леонида Тарасова. Когда началась катавасия, он со своим отделением первым прибежал на место происшествия. Но никого из живых не застал. Леонид Тарасов был угрюмым и неразговорчивым. На голову выше Сурмача и в плечах пошире раза в полтора. Посматривает на окротделовца в кожаной куртке с явным недоверием. — Покажешь секрет, — сказал ему Свавилов. А он — бука букою: — Не положено посторонним… Тут граница, а не сенная площадь. — Р-разговор-р-чики! Тарасов! — прикрикнул на него незлобиво замнач и уже совсем иным тоном досказал: — Леня, тех, кто прорвался, надо найти. — Пусть ищут… в своем округе… А на границе тех, кто убил Иващенко и Куцого, уже нет. — Тарасов! — повысил голос командир, — Покажешь уполномоченному окротдела место происшествия и ответишь на все вопросы. А по возвращении — доложишь. «Ну и тип!» — подумал Аверьян, испытывая взаимную неприязнь. Свавилов, поняв, что из этих двоих не получится побратимов, решил: — Для пользы дела — и я побываю на месте. Они отправились втроем. Опять все тот же лес. Но теперь Аверьян присматривался к каждому деревцу. Сосны-великаны стояли редко. Идущего человека в таком лесу видно издали. «Впрочем, это днем. А ночью?» — Ночью видно хуже, зато слышно лучше. Снег, выпавший неделю назад, превратился в болото, чавкает под ногами, — пояснил Свавилов. — Почему же, в таком случае, прорывавшиеся сумели подойти к секрету впритык? Пограничники не дремали? Тарасов мгновенно рассердился: — Если и дремали, то за компанию с вашим окротделовцем! — Наши встретили их на подходе, — примиряюще начал рассказывать Свавилов. — Убитый контрабандист лежал метрах в двадцати от секрета. Так, Леня? Тот кивнул: мол, все именно так. — Иващенко с Тарасовым давнишние друзья: в Конной армии служили. И па границу их судьба вместе завела. Переживает. Вот теперь Сурмач этого бирюка начал понимать. Но все равно чувство неприязни осталось. — Контрабандиста уложили — убегал, что ли? — Нет, пуля встретила, — буркнул Тарасов — В грудь, под левый сосок. Секрет — это два огромных пня метрах в пяти друг от друга. Присев сначала за один, а потом за другой, Сурмач осмотрел подходы и по достоинству оценил прозорливость тех, кто выбирал место для засады. — Да, обзор — вся округа как на ладони. Застать врасплох сидящих в секрете невозможно. — И это была оценка работы командира отделения Леонида Тарасова. — Отделённый, — обратился Аверьян к угрюмому пограничнику, стараясь втянуть его в свое дело, — я лягу в секрет, а ты пройдись «контрабандистом». Только осторожничай. Сможешь? Тарасов не спешил откликаться на просьбу окротделовца, который принес с собой новые хлопоты. Но Свавилов притронулся к рукаву его шинели: — Леонид! Для пользы дела. И Тарасов отправился топтать тропу, по которой шли прорывавшиеся. Аверьян лег в снег. Рука пробила остекленевшую корочку и попала в холодную жижу. «Как же ребята в секрете в этой мокрой стуже — всю ночь? Грелись, поди… Вставали, на ладошки хукали. Уж не таким ли способом себя и обнаружили?» Но говорить пограничникам о своих догадках не стал. Из-за пенька было видно, как от сосны к сосне перебегает пограничник. Чавкал под сапогами жидкий снег. У земли все звуки усиливались, становились четче, приобретал свой характер и голос. «А ночью — хуже видно, но лучше слышно…» Когда Тарасов подошел к тому месту, где был убит контрабандист, Аверьян крикнул: — Стой! Руки вверх! Пограничник прыгнул за ближайшую сосну. Сурмач подумал, что если бы держал прорывавшегося на мушке, то успел бы выстрелить. Аверьян встал, отряхнул с куртки и штанов липкий снег. — Если бы каждый из наших сделал по прицельному выстрелу, и то троих бы положили. Невозможно промазать из винтовки, если стреляешь лежа, с упора, а цель в пятнадцати—двадцати метрах. Свавилов хмыкнул неопределенно, ткнул пальцем в козырек фуражки, сдвинул ее чуть на затылок. И сразу стал похож на сельского сорванца. — Невозможно, — согласился он. — Тем более Иващенко был на заставе лучшим стрелком, а Куцый все упражнения по стрельбе выполнял на «хорошо» и «отлично». Как, Леонид Иванович, — обратился не без подспудного смысла замнач к командиру отделения, с которым они, по всему, были большими приятелями. — Закавыка! — пробормотал тот, как бы заново озирая место происшествия. — А закавыка в том, — высказал Аверьян свою догадку, — что прорывавшихся было две группы: одна отвлекала внимание сидевших в секрете, а вторая напала на них сзади. Тарасов закрутил в досаде головой: «Нет и нет!» — Чтоб обойти секрет, надо знать, что он есть и где именно. — Знали! — стоял на своем Сурмач. Молчун Тарасов взорвался. От возмущения не может найти подходящих слов, несет какую-то околесицу. — Пока посторонних на границе не было, про наши секреты контрабандистам и на ум не приходило. «Вон куда он гнет! Камешек — в Яроша, а второй, поувесистее, в Сурмача». Свавилов тоже не согласился с окротделовцем. — Никто, кроме меня да Тарасова, о секрете не знал. Я его замыслил. Начал разбираться в оперативных сведениях. Идет контрабандист. Челнок. Опытный, от удачи пообнаглевший. Границу переходит, как коридор в собственном доме. Такой за семь верст киселя хлебать не станет, постарается перед самым нашим носом пройти. Я пять постов дополнительных и выставил. Является командир отделения ко мне на развод. Я ему: «Пост номер два — Иващенко и Куцый. Выставляй». И он повел. Просочиться за пределы заставы сведения о секрете не могли: времени на это не было. — А секрет был атакован с двух сторон! — стоял на своем Сурмач. Пограничники переглянулись. Свавилов подергал себя за мочку уха. — Леонид Иванович, как ты считаешь? — Я уже сосчитал… убитых. Пограничный секрет — не сенной базар, куда доступ для всякого. Он был упрям и объяснял все случившееся одним: в секрете был посторонний. — Как лежали пограничники и окротделовец? — спросил Сурмач командира отделения. Медлительный Леонид Тарасов долго присматривался к месту происшествия, потом ответил: — Иващенко так и присох к винтовке за пеньком. — Иващенко, это которого в затылок? — переспросил Аверьян. — Да. Он и свалил контрабандиста на подходе. А Куцый… Куцый почему-то лежал на Иващенко, лицом вверх, — вспомнил и удивился при этом Тарасов. — Видимо, пятился, запнулся и упал. — Что его подняло из-за своего пенька? — выспрашивал Аверьян. — Он же был дальше от нападающих, чем Иващенко? — Ну, дальше… — вконец растерялся Тарасов, чувствуя, что его припирают какими-то непонятными ему фактами. — Где была винтовка Куцого? — У пенька, за которым он был в секрете. Сурмача поразила догадка: «Яроша ударил прикладом Куцый!» Но он понимал, как это должно прозвучать, и хотел, чтобы пограничники самостоятельно пришли к тому же выводу. — А как лежал окротделовец? — Тоже на спине… Я подбежал — кровь из разбитой головы хлещет — снег вокруг потемнел. — Могли его садануть контрабандисты? Вырвали у Куцого винтовку… — вел Аверьян расспросы в нужную ему сторону. В разговор ввязался посуровевший Свавилов. Маленькие глазки заискрились синими холодными зарницами. Он понял, к чему клонит Сурмач, постарался быть объективным. — Контрабандист привык к пистолету. Отбирать винтовку у пограничника — на это нужно время. А тут мгновение цена жизни и свободе. Расстрелять патроны им было некогда… Так что… — Но его мысль билась о другое. И это «другое» было чудовищным. Он восстал: — Да не мог Куцый, не мог! — Чего не мог? — притворился Сурмач непонимающим. — Ударить окротделовца прикладом, — чеканя каждое слово, произнес замнач. — Во имя чего? И Сурмач понял, что приобрел в лице Свавилова недоброжелателя. Но Аверьяном уже владело упоение исследователя: «А что? А как? А почему именно так?» Свавилов колупнул носком сапога снег, поддав его, словно детский мячик. Руки в карманах полушубка. Поелозил на месте, как бы вдавливаясь в землю. Почмокал недовольно губами, выражая всем этим высшую степень возмущения. — Как это ловко получается: мы здесь, па границе, «выращиваем» шпионов, «пестуем» диверсантов, а вы, территориальники, у себя в округах их вылавливаете. «Ну, чего он лезет в бутылку! — с сожалением подумал Аверьян. — И неглупый человек…» — Я за Куцого ручаюсь головой! — резко, словно бы и в самом деле отдавал голову, чиркнул Тарасов ребром мясистой ладони по бугру кадыка. — Два года с ним хлеб-соль делили… Тут у нас человек раскрывается… Аверьян получил разрешение осмотреть убитого контрабандиста. Ему помогал Свавилов. «Здоровяк!» — подивился Аверьян. Лицо у контрабандиста белое, чистое, без веснушек. А глаза должны быть голубыми. Аверьян с трудом откатил задубевшее веко. Зрачок был неестественно большим и не круглым, а чечевицей, повернутой боком. Смерть налила в белки мути и вытравила из зрачков синеву… «Умер не сразу, — определил Сурмач. — Успел испугаться. А пуля-то — в самое сердце. Выходит… что-то увидел или услышал перед смертью. Может, окликнули пограничники?» Но этот вывод не вязался с тем, который уже сделал для себя Аверьян: «Контрабандистам помогал Куцый. А если помогал, то напал первым — на Яроша. У контрабандистов, в таком случае, было преимущество. А убитый перед смертью все же испугался. Странно». Они прощупали каждую складочку одежды убитого, вспороли на ботинках подошвы и сорвали каблуки. Ничего. Не дало результатов и самое тщательное знакомство с контрабандой, — просмотрели на свет и прогладили горячим утюгом все сто бумажек, в которых был завернут сахарин. Вскрыли часы. Ничего, достойного внимания. Явился дежурный и сообщил, что «замнача вызывают». Свавилов ушел. Аверьян начал заново осмотр. Через часок вернулись с похорон пограничники. Вместе с ними появился и Свавилов. С полушубком и фуражкой расстался, оделся в гражданское, под местного дядьку. — Выходи на свежий воздух, хватит киснуть в подвале! — крикнул он Сурмачу с порога. Обиды, которую он унес с собою, словно бы и не бывало. В голосе звучала скорее дружеская просьба. Сурмач вышел на порог. — Дело есть, — пояснил Свавилов. — Надо бы нам с тобою в Лесное мотнуться. До Лесного километра четыре. Шли и молчали. Впрочем, разговаривать было некогда: Свавилов — ходок опытный, такой марш-бросок затеял… Село встретило их заливистым лаем звонкоголосых собак. Над хатами плыл сладковатый дымок, он приятно щекотал ноздри и напоминал, что есть на свете огромные запашистые караваи, выпеченные на поду в больших печах. У этих караваев вкусные, хрустящие корочки… «Богатое село», — подумал Сурмач, присматриваясь к белым аккуратным хатам, высокие каменные фундаменты которых хлопотливые хозяйки подмазали цветной глиной еще летом. Осенние дожди до холодной синевы вымыли стены, мокрый снег надраил их до блеска, словно лихой взводный хромовые сапоги, отправляясь на свидание. Леса здесь не жалели. Добротными заборами Лесное напоминало Сурмачу Шуравинский хутор. Некоторые хаты крыты щепой — специальными, очень тоненькими досточками. Чуть ли не под каждой завалинкой вылеживалось несколько сосновых и дубовых колод. Со временем распустят их на брусья, на доски, смастерят телегу, колеса, склепают бочки и вывезут свое ремесло на базар, в город… «Богато живут, — еще раз подумал Сурмач, испытывая приятное чувство удовлетворения: — Когда-то все будут печь подовой хлеб…» Огородами они подошли к каменному дому под новой щепой, который стоял чуточку на отшибе. Дубовое крыльцо и оконные наличники украшены искусной резьбой. Во дворе — добротные постройки. Это была настоящая харчевня. Посещали ее, видать, многие. Хозяин поставил два широких, самодельной работы стола и тяжелые лавки. («Как у Ольги в хате», — вспомнил Аверьян.) Столы были аккуратно выскоблены ножом, а лавки заеложены до блеска. Сегодня в тайной харчевне был всего один посетитель: чернобровый парнишка лет восемнадцати—девятнадцати с тоненькими усиками на верхней нервной губе. У него были веселые, плутовые глаза. «Видел! Уже где-то видел!» — было первой мыслью Сурмача. — Знакомьтесь, — предложил замнач, не называя имени. Чернобровый парень встал. На голову выше Аверьяна. Улыбнулся, обнажив ровные, белые, один к одному зубы. Протянул руку. — Дзень добрый… Мягкий, певучий голос. И Сурмач вспомнил: «Славка Шпаковский!» Только этот чуток помоложе, зато пошире в плечах и ростом, пожалуй, пониже. Славка Шпаковский родом из Перемышлян, это на Львовщине, где-то в предгорьях Карпат. И был у него брат… Юрко. — Я знал твоего брата, Владислава, — вдруг неожиданно даже для себя заявил Аверьян. — Славку Шпаковского. Оторопел Юрко, переглянулся с пограничником. В глазах — недоумение. — А как вы пишетесь? Фамилия… — Сурмач. — Аверьян? — обрадовался паренек. — Йой, Славка мне рассказывал и про вас, и про панянку Ольгу, — карие глаза озорно заблестели. — Про Ольгу? — Да, да! — От переизбытка чувств он замахал сразу обеими руками, будто бил в барабан сигнал атаки. — Но где ты его видел? Когда? У Свавилова гора с плеч: не надо таиться от своего, все знает. Улыбнулся — рот до ушей. — Шпаковский… вернулся… на родину… Аверьян присвистнул: «Вот куда Славку занесло!» — Славка наказывал передать, — начал докладывать Юрко, — позавчера границу перешли пятеро из УВО.[1] Готовил их сам атаман Усенко. У него теперь кличка Волк. — Жаль, что ушел он тогда от нас, — не без злости проговорил Сурмач, вспоминая Журавинку и осечку с Воротынцем и Усенко. — Славка говорил, — продолжал Юрко, — что их на вашей стороне кто-то встречал. Казалось, Сурмачу бы только радоваться: подтвердилась его правота. Еще несколько часов тому назад опытные пограничники Свавилов и Тарасов считали Аверьяна тюхой-матюхой, тюлькой азовской, когда он предположил, что нападение контрабандистов на пограничный секрет — дело далеко не случайное, и к нему имеет отношение Куцый. Но недобрым было бы сейчас это торжество. «Пятеро из УВО… прорывались… секрет уничтожили — не ради же того, чтобы пронести сахарин и швейные иголки». Свавилов еще там, на месте происшествия, где окротделовец разбирался в деталях прорыва, понял, что Сурмач, несмотря на свою молодость, — чекист опытный: «Вот и орден…» — А здорово это у тебя получилось: кто как лежал, кто в кого стрелял да из какого положения, и, пожалуйста, вывод: «контрабандистов встречали на границе». И в самом деле… завелась какая-то моль. Впрочем, может, не; на самой границе… Уж такие надежные были ребята: что Иващенко, что Куцый… Да, — потужил он, — пока дойдем до истины — попреем еще мы с тобою. И не только мы… Резон в словах замнача был, проверить такое предположение стоило, но для Сурмача и без того было все ясно: Куцый — вот кто встречал контрабандистов. Но если это так, то факт для заставы ох какой хлопотный. Вот Свавилов невольно и отодвигает неприятности подальше, авось не на самой границе ждали «волчат»… Юрко Шпаковский продолжал: — И еще Славка говорил, что у тех, из УВО, была вализка, берегли они ее, очень берегли. «Вализка? А… вализка — это чемодан… Наверно, Шпаковский говорил о бауле. Но что за секрет в нем?» Уж кажется, Аверьян обнюхал бандитскую поноску со всех сторон. Юрку показали фотокарточку убитого. Но Шпаковский рыжего контрабандиста видел впервые. — Они в магазине Щербаня сидели. А ушли ночью, — пояснил он. «Щербань?» — Аверьян от удивления даже присвистнул. — Щербань! Роман? Юрко подтвердил: — Он. — Субчик-голубчик! Жив! И неплохо пристроился! Эх, добраться бы до него! — Щербань — фигура, — заговорил Свавилов. — Резидент «Двуйки».[2] Вербует среди контрабандистов пополнение для УВО и для польской разведки: словом, на хозяина работает не за страх, а за совесть, и себя не обижает. Юрко распрощался с Сурмачом и ушел. Свавилов некоторое время молчал, потом спросил Аверьяна: — С чего будем начинать? Найти пятерку лихих надо непременно. — Может, для начала еще покопаться в бауле? Есть же в нем какая-то заковыка. — Ну что ж, покрутим баул, а я по своей линии еще поищу, наведу у сведущих людей кое-какие справки, — решил замнач. С тем они и вернулись на заставу. «В чем же секрет баула?» Аверьян со Свавиловым разобрали бандитскую поноску до последнего гвоздика. Дно действительно было двойное. И в этом тайнике-схроне более пятисот пакетиков сахарина и до сотни швейных иголок. «Вот она, настоящая контрабанда!» Опять гладили утюгом бумажки из-под белого порошка, уже не надеясь, что хоть на одной из них тепло проявит тайнопись. Эта нудная работа своим однообразием, своей кажущейся глупостью высушивала мозги и сердце. — Может, у той святой пятерки был еще какой-нибудь чемоданишко? Вновь собрали, сколотили баул. Баул как баул, самоделка из фанеры. Уж она походила по дорогам и тропам, путешествуя в чьих-то сильных руках: вон как заелозили ручку из сыромятного ремня. «Ручка! Из тройного широкого ремня, увязанная в два следа суровой ниткой…» Разматывал Аверьян нитку и удивлялся старательности и терпению хозяина. «Ах, вот почему он был такой настырный…» Между ремнями зажата записочка. С какой осторожностью, даже с нежностью, расстелил ее Аверьян на столе и бережно разгладил. Мелкие-мелкие буквы: «„Двуйка“ требует действий. Передайте Казначею, что „наследство“ необходимо перевезти за границу. Квитке отчитаться перед Григорием. Его приказ — ото наш приказ. Для личных нужд подполья оставьте сотню. Волк».* * *
По пути в Турчиновку Аверьян заехал к Ярошу в больницу, уж очень ему хотелось, чтобы Тарас Степанович вспомнил, как пограничник Куцый ударил его прикладом. Ярош был в прежнем состоянии. Лежал раскидисто на ватной небольшой подушке, подсунутой под плечи. Сурмач рассказал ему о первой удаче поисков, о содержимом баула и начал выспрашивать о подробностях боя в секрете. — Кто вас прикладом-то долбанул? Пограничник? Но Тарас Степанович не помнил подробностей. — Напраслину на человека возводить не хочу. Меня долбанули. Не ожидал я… Ну и сгоряча выстрелил… А кто меня огрел и в кого я пальнул — не помню, видать, сознание уже терял. Сурмача сердила такая неопределенность, а с другой стороны, вызывала невольное уважение к опыту чекиста: не убедился, не проверил — не утверждай. И с этого момента Аверьян признал над собой моральное старшинство Яроша. Он процитировал тайный приказ Волка, который помнил дословно. Заволновался Ярош: — Объявился… Гроши ему потребовались! А, по всему, награбил немало! Только оставить для своих нужд разрешил Квитке сто тысяч. — Сто тысяч? — удивился Сурмач. — Не сто же рублей! — Так сколько же в том «наследстве»? Миллион? — Придет время — сосчитаем, — пообещал Ярош. Вначале Сурмач не мог преодолеть гнетущее чувство сострадания к тяжелораненому: лица не видно — сплошь затянуто бинтами, мерцает один глаз да шевелятся обескровленные губы. И невольно смотришь только на них. Но вот посидели они с часик, поговорили о всякой всячине, и Сурмач понял, что перед ним мужественный человек, который меньше всего нуждается в жалости.* * *
Начальника Турчиновского окротдела доедало беспокойство: новый сотрудник уехал в погранотряд, и третьи сутки от него ни слуху ни духу. И вот — появился. — Разрешите доложить… — Разрешаю… Аверьян — сдержан. Никакой отсебятины, никаких эмоций: как встретили, как на Разъезде мурыжили, как па заставе с командиром отделения поцапался — ни слова. Только — по существу. Начальник окротдела слушал внимательно, вопросов почти не задавал, разве уточнит что-нибудь. Но когда Аверьян по памяти переписал приказ Волка, а Ласточкин его прочитал, тут уж его сдержанность вмиг испарилась. — Господин Усенко не последний козырь в колоде УВО, — заметил он. — Подо Львовом недобитые петлюровцы готовят правительство на случай, если до Киева доберутся. А бывший полковник, видно, метит па пост военного министра. Националисты понимают, что свалить в одиночку Советскую власть — у них кишка топка, вот и ищут себе помощников, а если не темнить — то хозяев. Использует националистов немецкая разведка, а Двуйка — ответвление второго отдела польского генштаба, военная разведка, — вообще взяла УВО на свое содержание. Иван Спиридонович по-детски открыто радовался. В глубоко посаженных глазах появилась лукавинка. От возбуждения он уже не мог сидеть на месте, прошелся по кабинету, гулко топая по полу сапожищами. И вдруг молодцевато повернулся на каблуке, очутился рядом с Аверьяном, легонечко толкнув его в грудь. — Не даром хлеб ешь! Молодец! Теперь можно и бабки подбить, как говорят у нас на флоте. Прорвать границу у пятерки из УВО была особая причина: «наследство». Они пришли за ним, должны взять и вернуться восвояси. Вот тут-то мы их и поищем. Второе: занимаются «наследством» знакомые нам с тобою люди — из бывшей банды атамана Усенко, по-сегодняшнему — Волка. Знаем мы и конкретных исполнителей: какой-то Григорий, какие-то бандиты по кличке Квитка и Казначей. — И Куцого знаем. Это он Яроша прикладом… Ласточкин сел, задумался. И сразу прорезались на крутом лбу продольные морщины. Глубоко их вспахала жизнь, ничем уж теперь не заборонуешь: ни лаской, ни счастьем… — Вот с Куцого и начнется наше «возможно, но не уверен» и «не знаю». Второе, непроверенное — кто убит на границе? А третье… Тут бери уже погуще: кто такие Квитка и Казначей, где обитают… «Ну чего еще тут сомневаться! — думал Сурмач. — Куцый долбанул Яроша. Это факт…» — Казначеем у Воротынца был Щербань, — высказал он предположение. — Не о нем ли речь? — Когда был-то? Три года тому. И потом — у Воротынца. В приказе Волка речь идет о должности покрупнее — казначей при наследстве, от которого малая частичка в сто тысяч укладывается. И, смекни, не в совзнаках же собирал «наследство» атаман Усенко, грабя нашу округу: золото, думаю, драгоценности, ну и — ассигнации. У Ивана Спиридоновича было отличное настроение, которым он заражал и Аверьяна. Поселилась в сердце большая надежда на удачу. Ласточкин продолжал размышлятьвслух: — Но ассигнации, сам понимаешь, бумажки. Были николаевки, были керенки… Словом — ассигнация, которую выпускало несуществующее ныне правительство, вещь ненадежная. А на черном рынке в Белоярове, по имеющимся данным, скупают за ассигнации золото. Да, теперь Аверьян кое-что начал соображать. Но каким далеким и изломанным показался ему этот путь: через черную биржу к… Григорию, Казначею, Квитке и их кладу. — Ну, на сегодня хватит, — подытожил Ласточкин, — пойдем, отведу тебя к нашим в коммуну, познакомлю.
АНОНИМКА НА БЫВШЕГО ФОТОГРАФА ЦАРСКОЙ ТЮРЬМЫ
В длинном коридоре, в который можно было попасть только с веранды, ни одного окна и пять дверей: две — направо, две — налево и одна — прямо. Ласточкин привел Сурмача в комнату, окна которой были заколочены досками, и, жестом щедрого хозяина показав «апартаменты», сказал: — Не то, что в Крыму лотом, но ни один еще до смерти не замерз. — И на снегу доводилось спать, выдержу, — заверил бодрячком Аверьян, чувствуя, как опахнуло его стойким холодом остывшего помещения. В комнате находилось шестеро чекистов, каждый занимался своим делом: один — курчавый такой, как молодой Пушкин, читал. Двое чинили по-солдатски одежду, а остальные просто отдыхали. Курчавому начальник окротдела сказал: — У нас новенький, попросился в экономгруппу к Ярошу. Завтра покажешь ему все, что есть у тебя на «кухне» по белояровской толкучке, по спекулянтам валютой. А сейчас возьми-ка его под свое крылышко. Да чтоб все было на уровне: кровать и прочее. — Ласточкин повернулся к Сурмачу и представил ему курчавого. — Борис Коган, парень из проворных: дай задание — он тебе из тундры жареного мамонта приволокет. Борис сделал новичку обзор. Пробежался взглядом по потертой куртке, по маузеру. Рассмотрел сапоги. — На полу спать не будет, — заверил он начальника окротдела. Ласточкин ушел. Сурмач сразу оказался в центре внимания населения коммуны. Все уже знали, что новичка звать Аверьяном Сурмачем, что он ездил в погранотряд, где ранили Яроша. Пришлось отвечать на десятки вопросов: да как это случилось, да каково самочувствие Тараса Степановича. Больше других суетился Борис. Кровать для Сурмача он «организовал» за полчаса. Оказывается, она стояла в подвале и ждала своего часа. — У буржуев конфискована. Двуспальная, широченная, при необходимости на ней можно было бы разместить целое отделение. Аверьяну даже неудобно было ложиться на такую.! — А чего-то… пролетарского, годного для горнорабочего, случайно не найдется? — Полатей и нар — не держим-с! — Борис, словно купеческий сынок, только что обученный «галантному» обхождению, низко, чопорно поклонился, сделал рукой этакое «наше вашим» и шаркнул ногой по паркетному полу. Но тут же преобразился, стремительно налетел на Аверьяна: — Привыкай, Сурмач, к тому, что пролетарий — властелин мира! Понежились буржуи на пуховых перинах — наш черед. Женат? — Нет, не женат пока еще, — ответил он, вспоминая Ольгу. Борис, пожалуй, на годок—другой помоложе Сурмача, но он легко и просто брал на себя инициативу и в беседе, и в деле. А главное — ему нельзя было ни в чем отказать, так напористо, цепко он за все брался, с такой искренностью спешил стать нужным тебе человеком. — А сам-то чего не женишься? — Некогда, — отмахнулся он. — Дел — во! — и ребром ладони чиркнул по кадыку. Рука у него была маленькая, мальчишечья, с хрупкими пальцами. — Завершим мировую революцию, построим коммунизм — вот тогда… И несмотря на то, что ответ был полушутливым, прозвучал он вполне серьезно. «Когда произойдет мировая революция? Когда построим коммунизм?» Аверьян Сурмач был человек действия. Не умел он, вернее, трудно ему было размышлять над таким далеким и неконкретным: «мировая революция». Вон доски на окнах вместо стекол. По городам и селам — детишек беспризорных, будто вся страна осиротела… А бывший петлюровец, по кличке Волк, прислал какого-то Григория, чтобы вывезти за границу награбленное…* * *
На дворе была еще тьма-тьмущая, когда Борис разбудил Аверьяна: пора! Пришли в окротдел, Борис Коган высыпал перед Сурмачем кучу писем и извлек из стола другие материалы. — Разберешься… Которые нужны — возьмешь, а остальные вернешь. Аверьяна уже через два часа начало подташнивать от этих писем. Корявые, написанные неразборчиво, строчки рябили в глазах. Он злился, что не может порою прочитать фамилии или адреса. Бросал непонятные письма в кучу неразобранных. Но потом вновь за них принимался. «А вдруг то неразборчивое — самое нужное, самое важное». Коган в этом отношении был оптимистом: — Всех не прочитаешь. После обеда еще будет… А пишут — кому не лень, разную чертовщину: на базаре надули — к нам, с соседом кошку не поделили — опять к нам. А чего-то толкового — ни-ни. Где-то к полудню Сурмач начитался писем до полного одурения: в глазах — светлячки и маленькие чертики, голова гудит, как старая печная труба на ветру. — Это с голодухи, — решил Борис. — Пойдем в столовую. Сегодня — пшенная каша с постным маслом. Вкуснотища! Как вспомню о ней, так сразу в животе заурчит, словно там грызется свора собак. И действительно, похлебал Сурмач ржаной затирухи, поел каши-размазни, и сразу тошнота из-под горла ушла, мысли вернулись на свое место. — Сто лет так здорово не ел. Они поднялись из-за стола, понесли миски к посудомойке. Борис закричал на друга: — Ты что, ночевать здесь собрался! Миску — на посудомойку, ложку — дежурному. Без ложки не выпустят. Это как пропуск на выход. И действительно, входили они в столовую, дежурный каждому по ложке выделил. А теперь стоит каменной стеной в дверях и молча руку протягивает: «Отдай!» Вернулись в окротдел — свежая почта: полмешка писем. Ухватил Борис тару за уголок, вытряс на широкий подоконник содержимое. — Поищи-ка, Аверьян, тут свое! Сурмач от досады чуть не плачет. Думал, разбирая вчерашнюю почту: «Ну — все!» А тут — целая гора свежей. — И так — каждый день, — заверил его Коган. — Так что пошевеливайся. Берет Аверьян два верхних письма… Первое — анонимное. Автор отправил было его в окрисполком, а уже оттуда переслали в ГПУ.«Вы хоча б зашли на Гетманскую в Белоярове, там живет под двинадцатым номером Василь Демченко. Он хватограф а без патенту и робит все в ночи. Он все покупает на черном рынке бо вин спекулянт.Второе письмо было адресовано на окротдел, послал его… Василий Филиппович Демченко. Он писал о том, что по своим нуждам бывает на черном рынке и там сейчас появилось много медикаментов. «Хоть воз покупай». — Вот тебе и готовый адрес! — решил Коган. — Дуй. И немедленно. «Белояров! Ольга… — В сознании Аверьяна теперь эти два слова сливались в одно понятие. — И такой случай!» Сурмач показал письма Ивану Спиридоновичу. Прочитав их, начальник окротдела оживился: — Демченко! Я ж его хорошо знаю. Он работал фотографом в тюрьме, здесь, в Турчиновке. Это было еще при царе-батюшке. Тогда он оказывал политическим разные услуги: передавал письма на волю, носил тайком передачи. И сказывали, будто укрывал одного нашего, бежавшего из заключения. По моим сведениям, он из правдоискателей. Знаешь, есть такие, что правду-матку в глаза режут, кто бы ни был перед ними. Я таких люблю, с ними жить проще и легче. Так что присмотрись к Демченко. Человек он хотя с заскоками, но честный. Вот пишет в ГПУ и свою фамилию ставит — выходит, не боится. А тот, «честный патриот», хочет в сторонке прожить. Нет большей подлости, Аверьян, чем вот так исподтишка жалить. Сегодня «честный патриот» нам пишет на друзей и близких, а завтра на нас с тобою доносы начнет строчить. Моя бы воля, я б этих анонимщиков… — он поднял кулак и потряс им. Но у Сурмача что-то не лежала душа к бывшему фотографу царской тюрьмы. — А ежели Демченко и в самом деле без патента? И материалы на черном рынке покупает? Тогда как же? Враг — он и есть враг! Аверьян всех людей делил на два лагеря: «наши» и «враги». По его понятиям середины нет и не должно быть. Вот и в песне поется: «Кто не с нами, тот наш враг». Ласточкин, грозный, в представлении многих, чекист, вдруг стал каким-то невероятно простецким, домашним. Поскреб пятерней затылок, виновато улыбнулся. И вмиг просветлели оспинки на лице. — Время трудное, тяжелое… Старое мы разрушили, новое построить не успели. А людям-то каждый день есть надо… Ну, хотя бы два раза. Кому, по-твоему, в такое время тяжелее всего приходится? Аверьян не знал, что ответить, и вообще весь этот «жалобный разговор» был ему непонятен. «К чему клонит Иван Спиридонович? О чем это он?» А Ласточкин смотрел на молодого чекиста, который нравился ему своей горячностью, своей хваткой, дотошностью, невольно вспоминая себя в эти годы. Отец утонул в море. Мать рано умерла, оставив Ивану одно завещание: против силы но восставать, всякому бьющему покоряться. «Тихому-то, Ванюша, спокойнее живется. Вот отец твой бунтовал… А чего достиг?» — Тяжко сейчас рабочему люду, особенно городским. Ни запасов, ни капиталов… Пять лет бедствует страна. Какое было барахлишко — давно променяли в селах на картошку. А дети есть хотят, а дети с голоду пухнут. И умирают. Государство все это видит, но помочь пока в полную меру еще не может. В такой ситуации друга за врага не трудно принять. Иной трудяга идет на черный рынок, потому что идти больше ему некуда. Конечно, есть и сволочи дремучие. А мы с тобой, Аверьян, на то и поставлены народом, партией, чтобы разобраться, где настоящий враг, а где случайность, ошибка поневоле, по необходимости. Надо уметь прощать человеческие слабости, надо уметь отличать подлость от несчастного случая, словом, чекисту положено иметь при горячем сердце еще светлую голову. В чем-то не соглашался Аверьян с такими рассуждениями Ивана Спиридоновича. Но он безгранично верил этому мудрому человеку. «Конечно, по одному закону надо карать врагов, а по другому — миловать друзей. Это уж точно».Чесный патриот».
ТОТ, КОТОРОГО УБИЛИ
Белояров — на семи дорогах. Узловая станция. Но добраться до него из Щербиновки все равно нелегко. На проходящий поезд не сядешь. Даже если ты вырвал у кассира билет, это еще ничего не значило. Проводники предпочитали держать тамбуры закрытыми наглухо: чтобы — ни щепочки, чтобы даже зацепиться было не за что. Разве что тебе здорово повезет и кто-то из пассажиров выходит на твоей станции… Но тут ты должен проявить изворотливость циркового клоуна-акробата и прошмыгнуть в приоткрытую дверь или хотя бы всунуть в притвор ногу, чтобы с этого плацдарма потом начать затяжные переговоры с проводником, совать ему под нос билет с мандатом. А он будет истошно вопить: «Вагон — не резиновый, местов нету!» Поэтому местные жители предпочитали пассажирским красавцам свой «пятьсот веселый» — пяток стареньких товарных вагончиков-теплушек, оборудованных широкими — от прохода до стен — нарами в два этажа. На обшарпанных, в далеком-далеком прошлом кирпичного цвета дощатых стенках жила надпись: «8 лошадей или 40 человек». Из Турчиновки до Белоярова — километров тридцать. «Пятьсот веселый» одолевал их за два с небольшим часа. Останавливался он у каждого овражка, у каждой тропки, у каждого столба, заменявших собою вокзалы. Там его поджидала пестрая, многоликая толпа жаждущих попасть на белояровский знаменитый базар. Едва теплушки, лязгнув звонко буферами, гнусаво пискнув тормозами, останавливались, начинался штурм. В широкий зев незакрывающихся зимой и летом дверей летели корзины, котомки, мешки, ведра… Затем уже втягивались в вагоны или вскарабкивались сами хозяева. Машинист не отправлял поезд, пока с насыпи не поднимется последний пассажир. Но все равно спешили, ругались до хрипоты, до драки. Сурмачу повезло, он успел юркнуть в полупустой вагон и занял место на средних нарах у окошка, забитого для тепла досками. В ногах у него на вершковом гвозде, вбитом в стенку, висел фонарь, который никогда не зажигали, — свечки в нем от роду не бывало. Коснулся фонаря сапогом. Железная кубышка качнулась, казалось, дала толчок поезду. — Слава тебе, господи! — кто-то из женщин громко возблагодарил бога за то, что тот был сегодня к ней особенно милостив и отправил «пятьсот веселый» из Щербиновки без заметного опоздания. Аверьян улегся поудобнее, посматривая на человеческий разноголосый муравейник, который кипел, матерился, стонал внизу. Лениво постукивали колеса на стыках. Времени с избытком. «Ольга…» Какая она? Встретит ее Аверьян — из тысячи узнает. А вот вспомнить выражение лица не может. Круглолицая. Милая. И все. Да, еще он помнил ее глаза: добрые, доверчивые. Пожалуй, ничего больше в его памяти не сохранилось. До обидного мало! Но будет больше. Вот разыщет он ее в Белоярове. А ото совсем не трудно сделать. Спросит в милиции, куда ему все равно надо зайти: «Где тут у вас акушерка с племянницей живут?»* * *
Милицию нашел без особого труда. Шел-шел по улице, заплывающей грязью, и вдруг дом с широким крыльцом. Над крыльцом — козырек, крытый новым тесом. На крыльце — две лавочки. «Для посетителей». Дежурный — бывший красноармеец в шинели неряшливого вида. Поседевшая от времени, обветшалая, она висела на худых плечах, как на палке. Дежурный перематывал обмотки. И пока не завершил эту сложную, требующую сноровки и ловкости операцию, не оторвался от занятия, хотя посетитель в кожаной куртке стоял перед ним. А освободившись, натужно выпрямился, упираясь обеими руками в поясницу: — Слухаю. — Мне бы переночевать тут у вас. Я из ГПУ, — пояснил Аверьян. Дежурный долго рассматривал мандат. — А чего не переночевать, — согласился он, возвращая документ. — Место на лавке не протрешь. Узнав, что уполномоченного ГПУ интересует местный фотограф Демченко, дежурный долго выяснял, что именно привело чекиста к этому человеку, и обрадовался, когда Аверьян ответил: — Надобно порыться в старых фотографиях. — Беспокойный мужик, — осуждающе произнес дежурный, усаживаясь на лавку возле стола, прижавшегося к невзрачному подоконнику. — До всего ему дело: и до помоев, что бабы на улицу выплескивают (летом, говорит, заразы не оберешься), и до хлеба, на котором пекарь с продавцами наживаются, и нас, милицию, поругивает: дескать, на черном рынке развели спекулянтов. Но городок маленький: все друг друга в лицо знают. Появился ты, а спекулянты весь запрещенный товар заховали. И только ухмыляются, поглядывая на тебя. — Городок маленький, а черный рынок самый большой в округе, — пробурчал недовольный Аверьян. Милиционер в этом был, конечно, не виноват, и напрасно Аверьян вот так на него… Раздражение шло от усталости, от нудно ноющей под ложечкой пустоты, порожденной вечным голодом. К этим чувствам примешивалась досада: в старенькие сапоги набралось столько воды — хоть выплескивай. И она там чавкала, наливая тело костенящей усталостью. — Железная дорога виновата, — начал оправдываться дежурный. — Со всех сторон поезда жалуют: и в день, и в ночь. А своего ГПУ нет… Вот базарным королям и живется привольно. Оказалось, что Демченко обитает рядом с милицией, за углом. Дежурный вышел на крыльцо и показал в жидкую, вечернюю темноту: — Вон тот, кирпичный, под железом. Домик ничего. Буржуйским не назовешь, но строил его хозяин при деньгах. Ставни закрыты наглухо. Сурмачу даже показалось, что их сто лет уже не открывают: почернели доски от гнили и плесени. Крыльцо с покосившимися, древними ступеньками. На дверях старинная, полинявшая, явно откуда-то перекочевавшая сюда вывеска: «Фотография исполняет все заказы на лучшей заграничной бумаге». Фамилию хозяина фотографии кто-то не очень тщательно соскоблил, легко угадывалась первая буква «Ф» и четвертая — «ять». Сурмач толкнул дверь и попал в темный коридор. Наткнулся на какой-то ящик. — Васыль, к тебе пришли, — послышался хрипловатый женский голос. Распахнулась дверь из комнаты, в коридорчик проник свет, торопливо разлился по рухляди, лежащей здесь в явном беспорядке: никому не нужные стулья без ножек, диван без пружин, пустые ящики. — Сюда проходите. Осторожнее, — предупредил Демченко. Он пропустил нежданного гостя в комнату, которая чем-то напоминала склад старья. Аверьян бегло осмотрелся. Хозяева этого дома когда-то жили неплохо. Но это было так давно… А сейчас все-то здесь дышало ветхостью. Все, кроме Демченко. Василий Филиппович — цветущий, розовощекий мужчина лет тридцати пяти. Высокий чистый лоб, умные темные глаза. Офицерская статность во всей фигуре, И даже черный халат сидел на нем ладно, с форсом. — Я вас слушаю, — Демченко слегка поклонился: весь внимание. Сурмач вместо ответа протянул хозяину письмо, которое тот написал в ГПУ. Письмо свое он узнал сразу. Только глянул, разворачивать не стал, вернул чекисту. — На черном рынке и законы черные, — сказал он певуче. — Нет там Советской власти: все продается и покупается. От махорки — до оружия. Говорил я об этом в милиции, успокоили меня: «Разберемся». Да что-то не спешат разбираться. А базарные короли наглеют. — Есть факты? — спросил Сурмач. — Есть, — подтвердил Демченко. — Мне для фотографии нужны химматериалы. Обычно они бывают у провизоров. А теперь на рынке появилась уйма ценных медикаментов. Причем продают их почти в открытую, но только за валюту. У белополяков где-то неподалеку был большой медицинский склад. Отступали, вывезти не успели. Медикаменты тогда все же исчезли. Не они ли сейчас появились? Сурмач насторожился. «А что, если Демченко прав и медикаменты на черном рынке действительно из бывшего склада белополяков? Сколько же можно собрать на этом иностранной валюты, золота, ценностей?» Сразу его мысли унеслись к тайному приказу атамана Усенко: «„Двуйка“ требует результатов. А „Двуйка“ — это разведцентр при польском генштабе. Драпали с Украины белополяки — перепрятали склад, теперь о нем вспомнили. Медикаменты, конечно, не вывезешь. Срок годности их давно прошел. Но для несведущих сойдет. Словом, можно все это старье превратить в валюту, в золото…» — Вы… — Сурмач не знал, как обращаться к Демченко: по фамилии, по имени-отчеству? Решил просто на «вы», — …на черном рынке, видимо, свой человек? — Приходится там появляться, — спокойно, как что-то само собой разумеющееся, подтвердил Демченко. — Поможете взять тех, с медикаментами? — Показать я их вам покажу, а руки связывать не буду. Это дело милиции. На том и порешили. Разорились, договорившись встретиться завтра рано утром. У Сурмача в Белоярове было еще одно задание: разыскать того контрабандиста Степана, с которым ходил «на польскую сторону» Григорий Серый, задержанный за два дня до трагического случая на третьей заставе. Познакомиться с Серым Аверьяну хотелось еще и потому, что тот когда-то был в банде атамана Усенко и одним из первых дезертировал из сотни капитана Измайлова, был амнистирован Советской властью. И вот жило в Сурмаче неясное желание проверить: нет ли связи с переходом границы бывшим усенковцем Григорием Серым и прорывом пятерки Волка. Сурмач зашел в милицию, расспросил, где улица Мельничная. Оказывается, это на самой окраине, у старого кладбища. — Если там не бывал, в потемках заблудишься, — предупредил Аверьяна дежурный, которого, оказывается, звали Василием Степановичем (дядей Васей, как он велел себя величать). — Я тебе дам сопровождающего. Посиди чуток, охолонь после разговоров с Демченко. Замордовал он, поди, тебя своей праведностью? Пока Аверьян выспрашивал дядю Васю, не знает ли он в Белоярове такого человека — Григория Серого, бывшего бандита, а ныне контрабандиста, минуло с четверть часа. От удара ногой распахнулась наружная дверь, ведущая с крыльца в сенцы. Она глухо ткнулась в дощатую стенку широкой деревянной ручкой. По скрипучему полу затопал кто-то тяжелый и неторопливый, словно бы он шел, боясь упасть. «Пьяный, что ли? — мелькнуло у Аверьяна подозрение. — И за стенки держится». Но дядя Вася, заслышав эти звуки, улыбнулся. Улыбка была добрая, ласковая. Она закатным, теплым солнцем озарила вылепленное из мелких морщинок лицо. — Петька! — сообщил он чекисту из окротдела и поспешил к дверям. Открыл их осторожно, словно бы боялся, что они в сенцах кого-то заденут. В заботливо приоткрытые двери вплыло железное ведро, почти по венчик наполненное водой. Дядя Вася тут же перехватил его и поставил у порога. А вот и сам Петька. В правой руке у парнишки второе ведро, деревянное, наподобие тех, какие цепляют к журавлю или вороту в глухих селах. «Тяжеленько!» — отметил Аверьян, видя, как резко откинуло в сторону паренька, который поставил это деревянное рядом с железным. Петьке — лет шестнадцать. Одет он был по самой шикарной моде беспризорника тех лет: великолепный, в далеком прошлом, рыжий салоп из сукна, в который можно было бы обрядить целую ораву тощих ребятишек вроде Петьки. Пелерина когда-то, видимо, была оторочена по краям соболями, но мех давно спороли. На голове — татарский треух из лисьих хвостов. Но мягкий подшерсток пожрал пухоед, шапка оплешивела. Да кто-то (из озорства, что ли?) обкорнал ей по каемку уши. Торчит свалявшейся собачьей шерстью вата из почерневшего от времени прорана. На ногах у паренька огромные солдатские сапоги. Подметки у них приторочены к верху медной проволокой, такой толстой, что, казалось, сносу ей не будет. — Ну, как мамка? — спросил вошедшего дядя Вася, топчась возле него, словно наседка около повзрослевших цыплят, которые вот-вот разбегутся. — Теперь уж не околеет, — стараясь басить «по-взрослому», ответил Петька. — Нынче сама чай приготовила: морковку постругала, подсушила и заварила. — Дядя Вася, — обратился он к дежурному, — вода постоит немного у печки, согреется, и я подотру полы. — На чем твоей воде греться? Печка инеем покрывается, — ответил дежурный. — Принеси дровишек, я протоплю. А тебе тем временем будет задание: отведешь чекиста на Мельничную, третья от кладбища хата — Григория Серого. — Да я этого Серого как облупленного знаю. Петька уважительно поглядел на кожаную куртку чекиста и с мальчишеской завистью ощупал взглядом плотную кобуру маузера. — А чё, могу и завести на Мельничную. — Он запахнулся в салоп, как в одеяло, закинув растрепанный до бахромы подол за левое плечо. — Вот только полешков дяде Васе наколю. Он ткнул взявшимся коростой от грязи кулачком в край треуха, отбросил его на затылок, открыл лицо. Петька был белобрысым, курносым, светлоглазым. Правая бровь приподнялась, придала лицу озорной вид. Губы по-девичьи пухлые, нижняя с ямочкой, которая тянулась вниз, к остренькому подбородку. «В баню бы его! Отпарить, отхлестать до розовости дубовым веником, шевелюру вымыть дегтярным мылом, и обернулся бы замухрышка Бовой-королевичем». Петька был словоохотливым и дотошным. Вышли они на крыльцо, парнишка спросил: — А как тебя звать? Проклятое купеческое имя! Сколько оно доставляло Сурмачу неприятностей! Вот и сейчас… Не может, не может — и все тут — Аверьян назвать свое имя этому остроглазому. — Владимиром, — как уже не однажды, назвался он. — А ты — всамделишный чекист, правда? — А что, бывают невсамделишные? — Сколько хочешь! Нынче все записываются в чекисты, вон даже дядя Вася. — А чем он не чекист? Служит в милиции. — У всамделишнего чекиста должен быть наган или маузер, как у тебя, к примеру. А у дяди Васи даже винтовки нет. Да такого никто и бояться не станет. — А надо, чтоб непременно боялись? — А разным спекулянтам — махорочникам и барахольщикам — тебя любить не за что, ты — власть, ты им ихнюю вонючую жизнь заедаешь. И нужно, чтоб они боялись одного твоего вида. И тут без нагана не попрешь. Аверьян на мальчишку смотрел по-взрослому, покровительственно. Для уличного сорванца боевое оружие — почти легенда. А Сурмачу пришлось взять в руки винтовку в Петькином возрасте, ну, может, на годик постарше был. Сурмач считал, что ему здорово повезло, — он своими руками устанавливал свою, Советскую власть в Донбассе, очищая родной край от беляков. Повезло… Когда мальчишке совсем деваться некуда, фронт — превосходный выход. И если там коченеешь на лютом морозе или отчаянно голодаешь — это ничего, ты мерзнешь, чтобы буржуев холодный пот прошибал, ты голодаешь во имя сытой жизни миллионов… А куда было податься оборвышу из Белоярова Петьке? Хоть шрапнелью по этой мокрой слякоти, хоть из пулемета по заколоченным окнам магазинов: ни дров, ни хлеба от этого не прибавится. Но есть у Петьки завтрашний день, есть! Вот только Аверьян и его товарищи выведут недобитую контру и нечисть… Петька, не боявшийся самого черта, повел чекиста через кладбище: «Так сподручнее и ближе». Вышли они прямо к нужной хате. — Ты маузер в руки возьми, — посоветовал он. — А вдруг Серый на тебя кинется, когда ты его арестовывать начнешь! Сурмач нахлобучил Петьке треух на лоб. — Мотнись-ка лучше по соседям, узнай, как звать жену Серого. Через три—четыре минуты парнишка вернулся. — Тетка Фрося, — сообщил он. В одном из окон хаты горел свет. Сурмач постучался в него: два длинных, два коротких удара. Он, конечно, не знал, какими условными сигналами пользовались бывшие петлюровцы, но воспользовался самым простым. — Кого принесло? — спросила сердито женщина из-за дверец. — Свои, тетка Фрося, открывай! Щелкнула задвижка, Аверьяна впустили в хату. Петька по его настоянию остался за углом. Хата как хата. Угол с иконами, тлеет лампадка у лика божьей матери. Но стулья городские: тесть штук, один в один, огромный черный буфет во всю стенку. Как его только вносили? По частям, что ли? — Где Грицько? — спросил Аверьян. Женщина испуганно глянула на вошедшего, видимо, ее насторожила кожаная куртка. Сурмач перехватил встревоженный взгляд хозяйки и, не давая ей опомниться от неожиданной встречи, уточнил свой вопрос: — К Степану подался? — К нему, — подтвердила она. — Что-то там случилось… — Пограничники наших перехватили. — Аверьяну важно было доказать, что он «свой человек и в курсе всех событий». — Одного наповал. — Степана! — вырвалось у тетки. Аверьян чуть повел плечом: мол, знаю, а сказать не могу. — Господи! Что же теперь будет с Галкой, — завздыхала, запричитала тетка Фрося. Аверьян направился было к двери, но от порога обернулся: — Ночь, хоть глаз выколи, заблудиться недолго. Провела бы к его жене. Он не сомневался, что Галка — жена контрабандиста. Тетка Фрося засуетилась, заметалась. Одевала короткополое плюшевое пальто, долго не могла попасть в рукава. Едва накинула большой серый платок на голову — и к дверям. — Идем, идем… Вышли. Аверьян свистнул Петьке, как они и уговорились. Подозвал мальчишку к себе, шепнул ему, предупредив, что язык надо теперь держать за зубами и ничему не удивляться. «Почему не вернулся Степан? Остался в Польше, или на границе перехватили?» — размышлял Аверьян. Жена Серого попыталась затеять разговор на эту же тему, но Сурмач отмалчивался, он обдумывал, как ему себя вести в доме контрабандиста. Это был домина! Кирпичные стены, крыша крыта черепицей. Забор добротный, ни единой щелочки. Калитка на запоре. Подошли, прикоснулись к щеколде — по ту сторону мгновенно взбесился огромный пес. — Кто там? — послышалось из глубины двора. — Галка, это я! Забери Пирата, — отозвалась жена Серого. Ее узнали по голосу. — Это ты, тетя Фрося? Пса увели вглубь двора и приковали накоротко к будке. Но злой сторож не хотел примириться со своей неволей, он яростно гремел цепью, норовил вырваться на свободу, растерзать пришельцев… Калитку открыла молоденькая женщина, по виду почти девочка. На ее плечи был накинут кожушок. И еще что сумел Сурмач рассмотреть в темноте — это тугую косу, спущенную тяжелым свяслом через правое плечо. Аверьян вновь оставил Петьку на улице. Тот обиделся. Он был убежден: если там, у Серого, чекист никого не арестовал, то уж здесь-то обязательно арестует. И самое интересное Петька не увидит. А можно было бы такое порассказать потом ребятам! Лопнули бы от зависти. Пропустив гостей в дом, молодая хозяйка спустила с цепи огромного Пирата. «Чтоб он околел!» — выругался про себя Аверьян, понимая, что в случае чего не уйдешь так просто от этого волкодава. Вошли в теплый коридор, и тетка Фрося, ткнувшись лицом в плечо удивленной хозяйки, заголосила: — Сиротка ты несчастная! Как же теперь жить-то будешь! Нет больше твоего Степана… Горе, неожиданно свалившееся па молодую женщину, лишило ее сил. Она обмякла, всхлипнула и… без чувств сползла на пол. Аверьян едва успел подхватить ее. — Воды! — приказал он тетке Фросе. Распахнулась дверь из соседней комнаты, и на пороге… Аверьян даже замотал головой, но видение не исчезло: она, его Ольга! — Володя! — вырвался у девушки возглас удивления. В Журавинке Ольга была простецкая, «своя» — одета в самотканое рубище, крашенное дубовым «орешком». И эта рабочая простота одежды сельского трудяги вызывала у бывшего шахтера понимание и доверие. Сейчас на Ольге было все городское. «Дамочка». Коса увита в тугой кружок на затылке. Кофта из зеленого миткаля с цветами. Юбка из синей польской, по всему, контрабандной шерсти — почти по щиколотку. На ногах высокие коричневые башмаки, утянутые фабричными шнурками. Шнурки длинные-длинные (по моде), концы висят бантом в четыре хвостика. Застонала хозяйка дома, которую поддерживал подмышки Аверьян. — Воды! — крикнул он Ольге. Та метнулась в кухню, принесла в черепке воды. Аверьян брызнул в лицо очнувшейся. Она приоткрыла глаза. Тогда он, как маленького ребенка, поднял ее на руки. Ольга поспешно распахнула дверь в комнату. — Вот сюда, сюда. Пропустила Аверьяна вперед, потом юркнула у него под рукой, успела раньше к кровати: сдернула синее покрывало и сняла лишние подушки, громоздившиеся горой. Над кроватью в позолоченной рамочке висел фотопортрет новобрачных: не сумевшая скрыть своего удивления, худенькая, почти еще ребенок, невеста в пышной фате и удалой, с наглыми навыкате глазами парень. Непокорные густые волосы в буйном смятении плескались почти по плечам. «Он!» Это был тот красивый, рыжеволосый контрабандист, которого убили при переходе границы. Нашелся первый из пяти, посланных атаманом Усенко за «наследством». Но где же остальные четверо? Впрочем, теперь уже есть ниточка, за которую можно тянуть. «Но как Ольга попала в этот дом?»«КТО ТЫ, ОЛЬГА ЯРОВАЯ?»
Никаких подробностей Галине Вельской о смерти ее мужа Степана Сурмач рассказывать не стал. «Убит на границе… А может, и ранен… Одним словом — „там“». Аверьяна донимала вопросами жена Серого. Побледневшая и ставшая еще больше похожей на подростка Галина молчала, покусывая тонкие, нервные губы. У Сурмача даже жалость появилась к молодой вдове. «Любила…» Впрочем, не для нее ли рыжий контрабандист нес с той стороны женские часики, чулки, швейные иголки? В углу комнаты стояла ножная швейная машина, накрытая чехлом из суровья. Оставив возле Галины Вольской жену Серого, Аверьян увел Ольгу с собой. Злющий волкодав охотно послушался ее окрика, подошел. Девушка обняла пса за шею. Петька, дежуривший по ту сторону ворот, уже опасался, что с его новым товарищем случилась беда. — Я хотел бежать в милицию, — сознался он. В душе Сурмач был благодарен пареньку за такую заботу, но все же отчитал: — Чекист сработан из терпения! Вышла Ольга. Аверьян шепнул своему прыткому помощнику: — Держись чуть подальше и смотри в оба. Паренек воспринял его распоряжение как важнейшее задание. Он тут же растворился в темноте, пропустив чекиста вперед. Так уж распорядилась судьба… В прошлый раз, в Журавинке, она выделила на свидание весеннее мокропогодье, а в этот раз, в Белоярове, — осеннее непролазное бездорожье. Там была им помощницей глухая ночь, здесь их двоих от всего мира, от его тревог, от завистливых взглядов заботливо укрывала тьма-тьмущая. Впрочем, чего сетовать на судьбу, ее надо благодарить: она привела Аверьяна однажды к Ольге. Правда, потом разлучила… Но только для того, чтобы у них было время на раздумья, па воспоминания, на проверку чувств. Так кто же они теперь? Случайные знакомые? Суженые? А может — враги? Три года — такой срок! Тебе было семнадцать, теперь — двадцать. Может, ты, как и похожая на девчонку Галина Вольская, нашла друга жизни… тоже среди контрабандистов. А чему удивляться? Говорят, с кем поведешься, от того и наберешься: твоя сестра ушла с Семеном Воротынцем, а мать когда-то засватала тебя за самого жестокого из бандитов — за Вакулу Горобца. Каждый живет свою собственную жизнь. И нельзя родиться за другого, умереть вместо кого-то… Нельзя даже у самого близкого занять хотя бы день, хотя бы час, чтобы дотачать к своей судьбине… Правда, у тебя была ночь разгрома бандитской сотни… Но что она положила в твою душу? Приумножила ты этот клад? Или он предан забвению? Аверьян шел рядом с Ольгой, вернее, на полшага позади. Вот так прогуливаются по деревенским улочкам влюбленные. — Тебя даже собака знает в этом доме, — заговорил он. — Галка — моя троюродная сестра, — пояснила Ольга, — тоже из Журавлики. — И давно она замужем? — На Петра да Павла свадьбу справили. «Три месяца тому», — отметил про себя Аверьян. — А где же они нашли друг друга? — Да в Журавинке. Он у Семена Григорьевича служил. «Бандит», — присвистнул Аверьян. И вновь в его душе ожила прежняя обида: надул, обхитрил чекиста Сурмача Семен Воротыпец, сам ушел и награбленное увез. «Потянулась ниточка в прошлое… Если жив господин хорунжий, может, встретимся». Ох, как хотелось Сурмачу добраться до Семена Воротынца. Уж теперь-то он не был бы такой рохлей, не упустил голубчика. Сурмачу надо было узнать о Степане как можно больше. Особенно его интересовали люди, приходившие к Вольскому. Но Ольга помочь ему в этом не могла. По всему, Степан был опытным конспиратором и близким не доверял. Когда он ожидал гостей, то жену отсылал на посиделки к ее троюродной сестре. Так что никого, кроме Григория Серого, Ольга не видела. И тут Аверьяна озарила одна догадка: Григорий Серый! Не тот ли это Григорий, о котором в своем тайном письме упоминал Волк? А почему бы и нет? Серый дезертировал из сотни Измайлова одним из первых. Его амнистировали как человека, порвавшего с бандой. Но первых, кто внял предложению Советской власти и принял амнистию, усенковская контрразведка жестоко карала, вырезали всех родственников, близких и дальних. Серого эта доля миновала. Почему? Усенко, думая о будущем, мог готовить агентуру заранее. Не по его ли Приказу ушел из банды этот Григорий? А если Серый тот Григорий, которому теперь подчиняется все усенковское подполье, то можно предположить и другое: он переходил границу один, без сопровождающих. Так проще и безопаснее. Задержали, отобрали мелкую контрабанду, отпустили. Ольга заметила возбужденное состояние Аверьяна: — Замерзли? Зайдемте в хату, согреетесь. Тут неподалеку, Людмила Петровна уехали в деревню принимать роды. «Людмила Петровна — это ее тетка», — понял Аверьян. Ольга не спускала глаз с Володи. Этот вихрастый, смелый парень не однажды приходил к ней в тревожных девичьих снах, он жил в ее воспоминаниях. Невольно она сравнивала с ним своих знакомых. Но не было среди них даже чуточку похожих на отчаянного чекиста. Ей бы отправиться по свету на ею поиски! Но она убедила себя, что в разных направлениях идут их стежки-дорожки. А вот — пересеклись. Дом акушерки походил на маленькую крепость: каменный забор, железные ворота. Калитка запирается на специальный замок. Оленька открыла его тяжелым церковным ключом. — Только собаку привяжу. Здесь, как и во дворе Степана Вольского, разгуливал огромный пес, способный, казалось, вмиг перекусить человека пополам. Аверьян свистнул, появился из темноты Петька. — Зайдем, обогреемся. Петька зацокал языком: — Хо! Знаю эту акушерку. Скряга. У нее в саду растет белый налив. Мы с огольцами летом обнесли его начисто. — А собака? — удивился Сурмач. — Собака у нее глупее старого сапога. Одни дразнили у забора, а другие — в сад и на дерево. — А если пес учует и вернется? — Не вернется, он же недоумок, хоть и велик, как тоголетошный телок. Ольга ввела их в дом. Здесь, как в церковном алтаре, иконы, иконы… Горят лампадки, пахнет ладаном и еще какой-то сладковато-приторной чертовщиной. — Вы раздевайтесь, раздевайтесь! — суетилась Ольга. Она даже хотела расстегнуть на куртке Аверьяна пуговицы. Он легонечко взял девичьи руки в свои… Мягкие, нежные… Заглянул в глаза, на дне которых жила радость и… какое-то второе, непонятное для Сурмача чувство. Не оно ли развело их в прошлый раз? Но нет, теперь Аверьян не позволит ему взять верх над Ольгой, над собою… Отстранил девичьи руки, повернулся к Петьке: — А знаешь, какая она замечательная! И отчаянная: жизнь мне спасла. — Чё ж тогда у сквалыги живет? — удивился Петька. — Людмила Петровна — хорошая женщина. И меня любит, — вступилась Ольга за тетку, невольно глянув на свою юбку из польской шерсти и на башмаки на высоком каблуке. Девушке очень хотелось, чтобы Володя и его дружок поверили ей, сменив враждебное отношение к тетке на уважительное. «Черт разберет эту самую Людмилу Петровну, — подумал Сурмач в тот момент. — Может, Петька подзагнул? Ну, обносил он с такими же сорванцами сады. Кому это поправятся? Приняла хозяйка меры. А ему не по нутру». Но вот начала Ольга припасать на стол, и вновь смутное чувство настороженности вернулось к Сурмачу. Акушерка жила по-буржуйски, а в представлении Аверьяна это было равнозначно преступлению. Ольга сидела за столом торжественная, чинная и счастливая. Она все уговаривала: — Ешьте, ешьте… Может, Володя, вам спирту налить? И только теперь Аверьян понял: за время, что они не видались, Оленька заметно изменилась. И повзрослела, и похорошела… Но вместе с тем в ней появилось что-то чужое, наверное, от этого каменного, похожего на старинную крепость дома, от ее хозяйки, которую Аверьян еще не знал, но уже ненавидел. Акушерка Братунь была из чужого ему мира, это она подменила в Оленьке то, за что он когда-то полюбил девушку… Впрочем, Ольга не замечала за собою никаких перемен, она была счастлива тем, что ее Володя сидит за одним столом с нею, ест и пьет то, что она подала ему. — Я тебя искал, искал, — сказал вдруг он. Она засмущалась, улыбнулась. — Хочешь, с собой заберу? — Так сразу?! — растерялась она. — Людмила Петровна не позволит… И… без венца… Аверьян опять уловил в девичьих глазах всплеск тревоги. «Откуда она?» — Я еще приеду! — заявил он, уходя. А она верила и не верила, надеялась и боялась. И разревелась бы, стоя с Володей у калитки, если бы за ними не наблюдали внимательные, злые глаза уличного оборвыша Петьки.* * *
— Который час? Застанем кого в милиции? — спросил Сурмач своего спутника. — Дядя Вася там днюет и ночует, — рассудительно ответил тот. — Мамка легкие поморозила, в пургу ее чуть не замело. Так я покамест за пес… Мальчишка все больше нравился Аверьяну своей независимостью, взятой у суровой, голодной жизни. Он не унывал, он чувствовал себя превосходно на улицах ночного города. — Видать, ты не из местных? По говору чую. — Донбассовский, — степенно пояснил Петька. — Земляки! — обрадовался Аверьян. В милиции, как и предсказывал Петька, кроме дежурного, никого не было. Да и тот дремал, растянувшись на лавке возле печки. Дяде Васе за сорок, пожалуй, даже ближе к пятидесяти. Вялый, неторопливый. Спустил ноги с лавки, попал прямо в ботинки. Сел, закурил: — Все наши в отлучке. Из шестерых — четверо по селам разъехались. Начальник приболел. А я здесь. Можем и взять спекулянтов. Тут в разговор ввязался Петька. Он весь нахохлился, взьерепенился. — Да ты, дядя Вася, понимаешь, про што лопочешь? Он один всех базарных горлохватов возьмет! Чхать они на тебя одного хотят. — Тоже мне — чекист. Твое дело третье — помалкивай, пока не спросят, — без злости ответил пареньку дежурный. Видимо, у него с Петькой была давняя дружба, которая разрешала забыть разницу в годах. — Отдыхай до утра, — посоветовал он Сурмачу. — Наш Матвей Кириллыч к пяти будет… Всегда к пяти приходит, аккуратный мужик. Аверьяну оставалось только ждать. Петька принес дров, подложил в печку. Зашипели, затрещали сырые полешки. — Вы дрыхните, а я пока полы подотру, — решил он, пододвигая к теплой стенке широкий стол. — Уместимся потом вдвоем, — по-хозяйски распоряжался он. — Сапоги сюда, пусть сохнут, и портянки… А утром… Мы с огольцами тебе поможем, возьмем, как миленьких, твоих спекулей! У меня, знаешь, какие хлопцы! — Он показал большой палец и сделал вид, что присыпает его солью. Петька скинул дурацкий салоп и остался в стеганой душегрейке, надетой на полосатую рубашку-зебру, именуемую гордо «тельняшкой». Взял с припечка железное ведро, обмакнул в воду палец. «Нагрелась!» — остался он доволен результатом исследования. Принес из сенцов старый мешок — тряпку. — А ну, по лавкам! Не мешай рабочему люду!ОШИБКА ПО НЕОБХОДИМОСТИ
Начальник милиции, Матвей Кириллович, появился в пять. Аверьян с Петькой спали, а дежурный дядя Вася растапливал потухшую было печурку. Он разгреб золу. Под нею еще сохранился жар. Встал перед печкой на колени и начал раздувать угли, подсовывая небольшие полоски березовой коры. Матвей Кириллович, болезненного вида, с широкими синюшными подглазинами мужик, совершенно лысый (как тещино колено, — сказали бы в Донбассе), сидел рядом с дежурным на порточках, подавая кору, и рассказывал про житье-бытье Белоярской милиции. Хотя его повесть была жалобной, Матвей Кириллович, в действительности, не плакался. — Людей — раз-два и обчелся, а район поболее иной державы, к примеру Люксембурга или Монако.Есть такие: две улицы, три переулка, четыре дома по пять жильцов, а уже княжество. Словом, разослал я свое войско по селам. Но если что срочное, можем кликнуть комсомольцев и коммунистов с сахарного. Я всегда за помощью — к вил. Толковые хлопцы, сообразительные. — Мы их позовем непременно, — согласился Сурмач, — по вначале надо присмотреться, кого брать и с чем. С пустыми руками возьмешь — в дураках окажешься. Так что пошастаем по базару, приценимся, что и почем. Тут я возлагаю надежду на Демченко. Он их всех знает и ненавидит, а они от пего не очень-то таятся: обнаглели. Чтобы не привлекать ненужного внимания к Демченко, Сурмач решил встретиться с ним не у базара, а здесь, в милиции, и послал, пока еще было темно, за фотографом Петьку. Демченко пришел почти сразу. Армейские сапоги начищены до блеска, короткое «интеллигентское» пальто с бархатным воротничком в обтяжку, фуражка с лаковым козырьком. Выбрит до синевы. Хоть сейчас под венец. Вошел, присел к столу. Помалкивает, ждет, что скажут, что спросят. Скромный, но знающий себе цену. — С чего начнем? — спросил Аверьян. — Потолкайтесь там, где махорка, — посоветовал Демченко. — Я подойду. С кем заговорю, тот вам и нужен. Только у них при себе настоящего товара нет, так, крохи, напоказ. А склад где-то в ином месте. — А много их? — Да как считать… Есть и наводчики, есть барышники, а есть хозяева… И потом день на день не приходится. Но с десяток таких коренных, пожалуй, наберется. — Время дорого, — пояснил Сурмач. Он думал о тех, кто прорвал границу и уничтожил секрет третьей заставы. — Поручите Петьке, — предложил Демченко. — Он со своими архаровцами все устроит как нельзя лучше. Они на ноги шустрые и в любую щелку пролезут — комар носа не подточит. Петька прижался спиной к печке, не спускает с чекиста настороженных глаз: «Поверит? Не поверит? Л если поверит, то доверит ли такое?» У каждого из нас бывает минута, когда на вопрос всей жизни надо ответить «или-или». Вот и для Петьки в тот момент… Аверьян почувствовал: откажи он умному, шустрому беспризорнику — вмиг умрет та настоящая мужская дружба, которая родилась у них минувшей ночью. — Подумаем, — ответил он фотографу. Проводив Демченко, Сурмач вернулся и еще раз глянул на Петьку. Тот так и застыл в своей неудобной позе, прижавшись ладошками и спиной к теплой печке. Ждет. «А почему бы и не привлечь этого воспитанника улицы к настоящему? Пусть приучается защищать Советскую власть, пусть вызревает в нем классовая ненависть к врагам революции». Сурмач кивнул Петьке: «Подойди». Тот шагнул к чекисту. От внутреннего напряжения взволнованный парнишка даже побледнел. — Дело не шуточное, — предупредил его Аверьян. — Сам знаю, — буркнул тот. Получая задание, Петька был необычайно серьезен. Посуровел взгляд, исчезло с лица ухарское выражение, он как-то весь подтянулся. Впрочем, как можно «подтянуться», если на худеньких плечах висит несуразный балахон без единой пуговицы.* * *
— Пода-айте, Христа ради, копе-ечку-у-у ин-валиду-у, пострадавшему на войне… — канючит у входа на рынок мордастый дядька с бородавкой на носу. — Вытекли мои глазоньки, стал мир для меня темной ноченькой… Изредка подходят к слепому прилично одетые дяди и тети, бросают в шапку у его ног смятые ассигнации. — Совзнаками меньше сотенной не принимает, — шепнул Петька чекисту, кивнув на нищего в темных очках. В ответ на подаяние нищий бормотал, видимо, слова благодарности. Толчок… Базар… Рынок… Черный рынок. Здесь свои законы, свои права и обычаи… Стоят длинными шеренгами женщины, похожие одновременно на монахинь и вдов. Несуразные фигуры в несуразной одежде, постные, болезненные лица, тусклые, безразличные взгляды. Если и вспыхивает в глазах измученных беспросветным ожиданием продавщиц старья и обносков какое-то чувство, то это безумие и отчаяние. В дальнем углу, возле самого забора, под небольшим навесом, сколоченном наспех из старых тарных ящиков, пристроились махорочники: перед каждым — раскрытый мешок, а поверх «товара» — два стаканчика: граненый и «сотка» — мерки. Деловитость, степенность в облике махорочников. Они не расхваливают свои товар, не суетятся, знают — все равно продадут. — Почем махра? — Демченко запустил руку в мешок, взял щепотку, понюхал. — Плесенью, что ли, пахнет? — усомнился он в качестве товара. Хозяин протянул покупателю приготовленный на этот случай лоскут газеты. Продавец был в белом, как первый снег на лугу, полушубке, в серых катанках с глубокими литыми галошами, в собачьей ушанке, настолько мохнатой, что из-под нее едва выглядывали глаза. Насмешливые, умные. Скручивая козью ножку, Демченко о чем-то шептался с дядькой в белом полушубке. Потом вдруг сунул тычком в мешок, в махорку, готовую папиросу: — А совесть у тебя есть? — Была совесть, да вместо нее… — хохотнув, выругался махорочник. Демченко пошел прочь. — Этого — на мушку? — спросил Петька, не отстававший от Сурмача. — Начинай. Петька привел на базар ватагу таких, как он сам, полураздетых, полуодичавших мальчишек. При виде голодной, нахальной ребятни, которая прочесывала базар, как саранча, вмиг исчезло с прилавков все, что можно было схватить и унести. Петька завел в своей ватаге жесткую дисциплину. Приподнял правую бровь — двое отделились ото всех. Теперь уже они будут сопровождать дядьку в белом полушубке, как тень в ясную погоду. Демченко потолкался возле еще одного продавца махорки. Этакий казачина: усы, хоть за уши закладывай. Смушковая, серого каракуля, папаха, поверх нее рыжий башлык, отороченный широкой желтой каймой. Уши башлыка закинуты за спину и затянуты узлом. Торчит огромный, рыже-лиловый нос человека, промерзшего до костей и согревшегося с помощью стакашка самогона-первака. Из-под короткополой суконной бекеши, подбитой овчиной, видны широкие, синего плиса шаровары, заправленные в яловые сапоги. Все-то на этом дядьке добротное, чему износу нет, да и сам он кряжистый, устойчивый, словно колода, на которой рубят конину мясники. Демченко что-то шепнул усатому. Тот кивнул в ответ, кого-то поманил из толпы рукой. Вмиг к нему подскочил парень лет двадцати пяти. Из шустриков. Такие есть на каждом базаре, при каждом «наварном» деле. На парне — куртка, перешитая из офицерской шинели, видимо, на вате. Шея охвачена в два витка темным шарфом. Наверно, синим… А может, даже черным. В добротных сапогах, промазанных дегтем, не боящихся слякоти… Черной завистью позавидовал в тот момент Аверьян этим добротным сапогам. А он шел в своих и через подошву чувствовал все камешки и ямочки, весь холод мокрой снежной кашицы. — Постой-ка чуток, схожу погреюсь, — распорядился усатый казачина. Петька повел бровью, и вслед за Демченко и усатым отправились четверо. Еще двое остались, чтобы проследить за парнем в куртке, перешитой из офицерской шинели. Сурмач продолжал толкаться в базарной многоголосой толпе, стараясь не выпускать из виду махорочных королей. Здесь, на толкучке, как и в мире, было два враждебных класса: вот эти самодовольные, уверенные в себе и своем будущем махорочные, сапожные, мануфактурные короли и… те изможденные, раньше времени состарившиеся вдовы и солдатки, которые принесли сюда свою беду. Ходит Сурмач вокруг да около спекулянтов и думает: «Вот он, вражина, рядом! Видишь, а не ухватишь!» Да, ушли времена яростных атак конной лавой… Теперь враг тебе приятно улыбается, предлагает закурить. Усатый вернулся. Демченко с ним не было. К Аверьяну подошел Петька и, шморгнув носом, сообщил: — Хватограф купил кулек какого-то порошку и смылся. А тебя засекли, хотят узнать, кто этот в кожанке. Уходи, да смотри не озирайся. Мои хлопцы провернут все, как надо. Деловой, серьезный, куда только делись его вчерашние настойчивое любопытство и мальчишеская удаль. Впрочем, жизнь Петьки была не из легких, приучила к борьбе… На выходе с базара Сурмач приметил того парня в куртке из офицерской шинели, который подменил усатого. «Следит за мной». Шел Аверьян по просторной улице, не оглядывался, но когда сворачивал за угол, обернулся: парень топал метрах в тридцати. Наметанный глаз чекиста успел заметить, что за торгашом в куртке увязался один из Петькиных оборвышей. В двух шагах за углом — крылечко. Сурмач поставил на него ногу, счищает палочкой грязь с сапога. Торгаш не ожидал встречи. Остановился, словно в стенку уперся. В его темных глазах промелькнула злоба, потом они налились решимостью. Аверьян понял, что парень готов к нападению. Вот сейчас выхватит нож… Но благоразумие взяло верх, и торгаш прошел мимо. Аверьян хотел вернуться, но потом подумал, что возвратится и махорочник, наткнется на Петькиного подчиненного, и тот уже не сможет вести наблюдение. Пошел в прежнем направлении, обогнал парня в куртке из офицерского сукна, а потом направился на станцию. По длинному открытому тракту торгаш не посмел его преследовать. Аверьян вернулся в милицию. — Что будем делать? — спросил страдающий задухой Матвей Кириллович, когда выслушал рассказ чекиста. — Ждать пацанов… Но, скажу, у этих махорочников дело поставлено туго, во всем чувствуется хватка. Кстати, а кто этот нищий с бородавкой на носу, который сидит при входе на базар? — поинтересовался Сурмач. — Каждый захожий ему кланяется и получает в ответ благословение. — Чужой, из приезжих. Как большой базар, так и тут: в четверг и воскресенье всегда торчит у входа. — Откуда он? — Приезжий! — пожал дядя Вася узкими плечами, да так энергично, что лопатки за спиной, как почудилось Сурмачу, стукнулись друг о друга. Из головы не выходил этот слепой при входе на базар. Вспоминая, как нищий обращался с теми, кто к нему подходил, Аверьян невольно сравнивал его с распорядителем. А не наводит ли этот слепец зрячих на махорочных королей, спекулирующих медикаментами из склада, оставленного белополяками в годы гражданской войны? «Надо выяснить», — решил Аверьян. Базар обычно расходился, когда начинало смеркаться. Времени было еще порядочно, и начальник милиции позвал Сурмача к себе. — С утра голодный. Пошли, похлебаем каши-плюй. Овсяной дерти привез с полмешка, наслаждаемся с женою. Каша из овсяной дерти — роскошная еда: если и не наешься, то вволю наплюёшься жесткой, колючей шелухой. — Надо ребят подождать, — отказался Сурмач, как бы разделяя участь белояровских беспризорников, которые сейчас ему помогали. Он всегда хотел есть, вечно подсасывало «под ложечкой». К этому ощущению пустоты в животе он уже привык. «Потерплю еще — не окочурюсь!» Начальник милиции сходил домой, принес в солдатском плоском котелке своей хваленой каши-плюй. Приглашая окротделовца к столу, он успокоил: — А чё, ничё каша. Соли бы ей только… Начало темнеть, когда вернулся Петька. Он был какой-то злобно-возбужденный. Вызвал чекиста на улицу, решив, что принесенные им сведения можно сообщить только с глазу на глаз. — Тот, который за тобой увязался, — наш, белояровский, Колька Жихарь! А живет он неподалеку от акушерки и вовсю женихаются с твоей Оленькой. Вот! Словно ржавым гвоздем ткнули в сердце Аверьяну. Похолодели руки, на лбу выступила испарина. Стоял, не смея шелохнуться, не смея поднять руку, чтобы вытереть холодный пот. — Откуда взял? Тот легонечко освободился от цепкой Аверьяновой руки. — Очень бы хотела, ушла бы с тобою от тетки, — доказывал Петька свою правоту. И ни слова, а Петькин тон окончательно убедил Сурмача: все так и есть… «Ну что ж… Аверьян не будет ей мешать». — Это об Ольге. «Эх, жаль, что ты прошел там, у крыльца, мимо и не завелся. Уж я бы тебе!» — это о Жихаре. Вернулись в комнату. — Кто такой Николай Жихарь? — спросил он у милиционеров. Ни дядя Вася, ни Матвей Кириллович о таком и не слышали. — Это который по пятам за мною ходил, — пояснил Аверьян. — За нож намеревался взяться. — Проверим, что к чему, — пообещал начальник милиции. Вскоре пришла первая пара Петькиного войска. Свистом вызвали своего командира. Петька пошептался с ними на улице, вернулся и доложил: — Усатый в бекеше сел на поезд. За ним увязался Кусман, один из наших. Мальчишек пригласили в комнату, расспросили. Ничего существенного они рассказать но могли, твердили одно: «С толчка прямо на станцию — и укатил». — Колька ему сидор приволок. — Откуда? — Из дому. Тяжелый такой, будто с камнями. Вскоре подошло еще несколько мальчишек. Они принесли с собою девять штук листовок. — На толкучке нашли. Листовки были напечатаны на розовой бумаге типографским шрифтом, заголовок сделан толстыми, приземистыми буквами: «Освободим Украину от кацапов, жидов и коммунистов, которые продают нас немцам». Все в Сурмаче заныло, закричало, заломило Душу. «Бедная ты, Украина моя! Ты столько вынесла на своем веку от разных атаманов, гетманов и прочей петлюровщины, что уже не позволишь проходимцам рыскать по твоей земле святой, забивать колодцы замученными, грабить и без того обездоленных, насиловать дочерей твоих…» Ждали вестей о том, в белом полушубке, с которым не сторговался Демченко. За ним ушел один из самых, по заверению Петьки, пронырливых мальчишек, по кличке Кусман. Перевалило за полночь. Ожидание становилось невыносимым. Сидела, прижимаясь к печке, Петькина ватага, дремал бессменный дежурный дядя Вася, колобком катался по комнатке сутуловатый толстячок начальник милиции Матвей Кириллович. Уже переговорили обо всем, о чем можно было. Кто-то из мальчишек предложил было сыграть в карты: «в буру… или в очко…». Но Петька так треснул дружка по затылку, что у того только зубы ляснули. — Я тебе… заделаю буру, мекать начнешь. А тот лишь виновато потупился, даже не огрызнулся, убрал замусоленные карты и притих. Тревога в душе Аверьяна нарастала, он не выдержал: — Петь, а твой Кусман знает, куда надо прийти? Парнишка не ответил Сурмачу, кивнул своим: — А ну… пошарим… В его словах прозвучала такая угроза расправиться с вероотступником, что Сурмач поспешил предупредить: — Рукам воли не давать. Дошло? Взял Петьку за плечо, повернул к себе, заглянул в серые помутневшие от возмущения глаза. — Угу, — пробурчал тот и увел ватагу. Сурмач досадовал, что, по-существу, остался не у дел. Он уже помог повлиять на исход операции, оставалось ждать. «Спихнул все на пацанов», — сердился он на себя. Чтобы как-то скоротать время, вышел на крыльцо. Подмораживало. Над головою просветлело, вызвездилось. Низкое небо всегда угнетало Сурмача, как-то прибивало, прижимало к земле. Непогода заставляла почувствовать, что человек беспредельно мал и немощен. А тут — и вздохнулось полегче. Вспомнилась Ольга. Стояли они у калитки. Коснулся Аверьян девичьей ладошки, а она как лед… Мял ее пальцы, согревал дыханием. «А может быть, сама Ольга и ни при чем… Пристраивает ее тетка, подбирает жениха по своему вкусу, вот как когда-то мать засватала за человека с деньгами — за Вакулу Горобца». …Расплывается по глади души горящая нефть, выжигает все дотла! Унять пожар, расспросить Ольгу, освободить истину от кривотолков и наветов, а очистив от мусора, вознести в бескрайность голубого неба… И после этого самому удивиться ее величию и чистоте, той чистоте, которую дарит стали огонь закалки. Он пошел бы, полетел бы в тот же миг, если бы был уверен, что найдет ночью в незнакомом городе дом акушерки Братунь. Но через мгновение Аверьяну стало уже стыдно за такие мысли: «Прежде — сделай дело, амуры — на потом…» Потоптался на крыльце, поостыл душою и вернулся в дежурку. И тут с новой силой вспыхнуло чувство досады: «На чужом горбу в рай собрался, все на мальцов взвалил!» На него с надеждой посмотрели и дядя Вася, и Матвей Кириллович, словно бы он должен был принести им с улицы какие-то вести, какую-то конкретность. Родилась тревога: «Где же пропал Петька со своими?»* * *
Петькина ватага вернулась — голосили первые петухи. Кусмана не нашли. — Добре. Спать! — распорядился Сурмач. Легли вповалку на полу. Даже начальник милиции не пошел домой, примостился рядом с Сурмачем на столе. Тревога! Тревога! Тревога! Кто-то нашептывал Сурмачу в самое ухо. «Случилось несчастье! Случилась беда! Настырливый, но неопытный парнишка Кусман попал в западню, и в том виноват ты!»* * *
Матвей Кириллович разбудил Сурмача. Аверьян сел на край стола, спустил ноги. — Скоро рассвет. Просыпались ребята, хмурые, неотдохнувшие. Кто-то торопливо постучал в наружную раму. Начальник милиции открыл дверь. — Входи, кто там? Вкатилась толстуха, одетая явно наспех. Высокие ботинки на босу ногу, пальто — на нижнее белье. Глаза от страха залубенели, не мигают. — Убиенный у меня на огороде. Вышла утром на корову глянуть, а он лежит… Недоброе предчувствие сжало сердце Аверьяна. Всполошились и мальчишки. Собрались, пошли за теткой. Она жила почти на окраине Белоярова, на берегу речушки Белой. На огороде, неподалеку от сарая, раскинув руки, ткнувшись лицом в мерзлую землю, лежал мальчишка в старом матросском бушлате. Сурмач приподнял его. Кто-то рубанул железным прутом, как шашкой, и развалил голову почти надвое. — Кусман, — прошептал Петька. Он встал перед погибшим на колени, хотел поправить волосы. Но они, смоченные кровью, смерзлись. Петька зашмыгал носом и неожиданно заплакал. Смерть дружка тяжело подействовала на мальчишек, они стояли кучкой и не подходили к мертвому. Осмотрев место, Аверьян решил, что Кусмана убили не здесь, а сюда занесли и бросили: мороз сохранил отпечатки следов нескольких человек — двух или трех. Убившие явились с улицы и опять туда же ушли, не очень старательно затаптывая дорожку, проторенную по нехоженому остекленевшему снегу.* * *
Аверьяну надо было возвращаться в Турчиновку. Можно было бы подождать парнишку, который увязался вслед за усатым казарлюгой в бекеше, подбитой овчиной, может быть, следовало арестовать Жихаря и произвести у него обыск… Но Сурмач решил, что вначале лучше доложить обо всем Ласточкину. Что уж тот скажет… Может, кого выделит в помощь? Он приехал в Турчиновку во второй половине дня и сразу же направился в окротдел. Но Ивана Спиридоновича на месте не оказалось. — Родственницу поехал встречать, — сообщил Борис Коган, который уже считал, что они с Аверьяном закадычные друзья. — Слушай сюда, тебе с вокзала звонили. Там какого-то архаровца задержали. Он говорит, что ехал по заданию чекиста из Белоярова. Сурмач помчался на вокзал. «Что с этим Петькиным воякой? Задержали, поди, как безбилетного, и проворонил он усатого в бекеше!» В железнодорожном отделе мальчишки не оказалось. — Отвезли в больницу. — Почему в больницу? — с тревогой спросил Сурмач. Дежурный помялся и сообщил: — В карман залез… Поймали и самосуд учинили. Едва совсем не убили. Аверьян видел эти привокзальные расправы. Людей в первые годы после войны кормили колеса и нош. Везли барахлишко в села, оттуда — картошку, муку, а иногда кусок сала. В пути мешочников поджидали воришки и грабители, тоже голодные, готовые за кусок хлеба убить человека. И когда уж такого ловили на месте преступления… Сплоченная диким инстинктом «мое», толпа мешочников кидалась с воем и гиком на преступника. И били! И топтали, как стадо ошалевших от овода быков, превращая человека в кровавое месиво. Мальчишку он нашел в бывшей земской больнице. Врач сообщил: — Отбито внутри все, не выживет. Но пока еще разговаривает. Он вас ждет, хочет сообщить что-то важное. Советую: «Мне скажи». «Нет, — говорит, — не могу. Чекиста позовите». Аверьян подсел к мальчонке, рядом с которым стоял таз. Петькин дружок постоянно сплевывал кровавую мокроту, его душил жестокий кашель. — Что у тебя случилось? — спросил Аверьян, взяв его за худенькую, синюшную в запястье руку. Ладошка была потная. — Прикатили в Турчиновку, — прохрипел мальчишка. — Усатый свой сидор какому-то дядьке передал и взял билет на винницкий поезд. Думаю, уйдет… Я и пошарил по его карманам, може, думаю, какие бумажки тяпну. Засекли… Не милиция — убили бы. Усатому уж очень хотелось прикончить меня. Видать, опознал. Я же возле него и в Белоярове крутился. Тяжело было Аверьяну: еще одна жертва его неосмотрительности. Нельзя, нельзя было втягивать в это дело мальчишек! Но что поделаешь? Если сразу надо быть в десяти местах — не разорвешься. Избитый мальчишка умер через два дня. Хоронили его всей коммуной.* * *
Что же теперь было известно: 1. Убитый на границе проводник посланцев Волка — Степан Вольский — давнишний знакомый Григория Серого. 2. В Белоярове на черном рынке орудует хорошо организованная шайка, готовая идти на убийства. 3. Один из членов шайки — Николай Жихарь. Что можно было предположить: 1. Григорий Серый имеет прямое отношение к групповому прорыву на границе (не он ли тот Григорий, которого послал Волк?). 2. «Наследство», возможно, не что иное, как медикаменты, оставшиеся после войны. Их продают на черном рынке, собирая валюту и золото. 3. Тогда и Жихарь, и усатый казачина в бекеше, и тот, второй, в белом полушубке, с которым не сторговался Демченко, — все это одна шайка-лейка с Григорием Серым, Степаном Вольским и Волком. 4. Если так, то, наверно, и листовки — дело их рук…
ВТОРОЙ ИЗ «СВЯТОЙ» ПЯТЕРКИ
Борис Коган ворвался в комнату и заорал: — Урр-а! Коммуна варит борщ! У него в руках огромная желтая свекла с тупым, похожим на колун, носом. Сурмач за последние дни чертовски устал. И вот наконец появилась возможность снять с себя гимнастерку, освободить от мокрых сапог-кандалов ноги, пошевелить онемевшими пальцами и… блаженно потянуться. Лег, уснул, будто в теплую воду нырнул. А тут Борис. Схватил за край кровати, тряхнул, едва не сбросил Аверьяна. — Нам с тобой задание: организовать дрова! Дрова учреждениям отпускаются по экономной норме. А коммуна давно уже свою на этот месяц израсходовала, так и не нагрев ни разу по-человечески старый, полуразбитый бывший дом купца Рыбинского: не замерзает к утру вода в ведре, которую ставит на табуретке в углу спальни дежурный по коммуне, и то преотлично. Но так туго с дровами у всех, кто не имеет возможности привезти из лесу сухостоину, спиленную вне лимита исполкома. А леса вокруг окружного города Щербиновки давно почистили — это не Белояров, где все пока еще под рукой, — и ближайшая сухостоина, поди, верст за пятнадцать—двадцать, не ближе. «В смысле дров» у Бориса был «гениальный план»: — Железнодорожники ремонтируют вагоны. И есть среди них свои ребята… Наберем щепы. Длинный коридор чекистской коммуны, превращенный в кухню, гудел от множества голосов. Здесь собралось все свободное от работы население. Двери — настежь, чтобы светлее было. На широком столе шипит-ревет примус. На табурете, вытянув ноги чуть ли не через весь коридор, сидит Иван Спиридонович, а рядом с ним хозяйничает высокая, худая женщина. Она огромным, тяжелым ножом лихо сечет капусту. — Маша, вот еще двое наших. Знакомься, — пробасил Ласточкин. Она улыбнулась молодым чекистам. Высокий лоб в морщинках, под глазами синева. И весь-то вид говорил, что ей на долю выпала нелегкая жизнь. И все-таки она была обаятельная, по-своему красива. Такой ее делали добрые, глубокие глаза с застенчивым взглядом да тугая, до пояса, русая коса, откинутая по-девичьи за спину. Руки заняты стряпней, и она поздоровалась с чекистами кивком головы: — Тетя Маша. Сразу стало ясно, что иначе ее и не назовешь. Тетя Маша — это значит добрый, приветливый человек. Иван Спиридонович рядом с нею стал молодцом: глаза поблескивают задором. Улыбается празднично, счастливо. И надо бы притушить улыбку, а она на весь рот растекается. Кажется, что ему так и хочется всем сказать: «Гляньте, какая молодчина моя Маша!» Коган плутовато подмигнул Аверьяну, будто приглашал принять участие в веселой игре. Вытянулся подолжностному и лихо доложил: — Товарищ начальник окружного отделения ГПУ, особый отряд в составе двух чекистов Когана и Сурмача направляется на заготовку дров. Разрешите выполнять? Ласточкин махнул рукой. — Да не опаздывайте! — Это на борщ-то? — удивился Коган. И трудно было понять тому, кто не знал его, что Борис шутит. — Ну что вы! Как только ложки-миски забренчат, в тот же миг по щучьему веленью и явимся. Когда вышли на улицу, Аверьян недоуменно спросил: — И в самом деле, зачем дрова? Борщ варится на примусе. — Вот так и сказывается незнание теории… — Борис заговорщицки подмигнул Сурмачу. — Кто приехал к Ивану Спиридоновичу? — Родственница, — пожал Аверьян плечами. — Может, какая сестра… Борис затряс головой: нет и нет! — Был у нашего Ивана Спиридоновича закадычный дружок: всю войну, всю революцию вместе. Но убили его под мятежным фортом «Серая Лошадь». Осталась у дружка жена Маша с тремя детьми. Иван Спиридонович всю зарплату и паек высылал ей. Ну вот… Она и прикатила в гости. А в комнате у Ивана Спиридоновича — волков морозить, — он опять подмигнул Сурмачу. — Понимать надо! Коммунары приняли решение: натопить его комнату. А он думает, что мы о себе печемся. Аверьян вспомнил об Ольге и подумал, что у каждого человека должно быть свое личное счастье. Захотелось рассказать Борису, как он разыскал девушку. Но постеснялся. Ему казалось, что Борис обязательно будет смеяться над такой привязанностью Сурмача к девчонке. Но скорее всего Аверьяна заставляло молчать иное: «Женихается с твоей Ольгой Колька Жихарь, спекулянт и бандит…» А Борис, угадывая мысли Сурмача, спросил: — Ну, видел в Белоярове свою будущую жену? — Видел, — вынужден был сознаться Аверьян. — Что такой грустный? — Тетка у нее сволочная, за другого сватает. — А она? Аверьян рассказал, как Ольга привечала их с Петькой. — Пиши рапорт Ивану Спиридоновичу, и завтра же поедем в Белояров, привезем ее. А тетку… Беру на себя!* * *
Друзья среди железнодорожников у Когана были отмененные. Они дали чекистам охапку щепок и ведерко угля. На стенках одного из вагонов намерзло, ремонтники поделились своим богатством с веселым балагуром, который так и сыпал шутками-прибаутками. Возвращение Когана и Сурмача коммунары приветствовали громким криком «ура!». В «музыкальной зале» (самой большой комнате) стояли два широких стола. На одном из них возвышалась преогромнейшая двухведерная кастрюля. — Борщ! Да еще с толченым салом! Вкуснотища! — определил Борис, потянув носом воздух, словно настороженная мышка, учуявшая сыр. — Ивана Спиридоновича вызвали, — сообщила чуточку растерянная тетя Маша, для которой все в коммуне было непривычным, все удивляло, особенно ритм жизни. — Вызвали? — Борис сделал вид, что думает: левую руку в бок, правой, растопыренными пальцами, уперся в лоб — м-ы-с-л-и-т-е-л-ь! И вот его осенило: — Ну это не на часок, он человек обстоятельный. Так что пока вернется, борщ, чего доброго, прокиснет. И я умру от сожаления. Так что, тетя Маша, если не хотите смерти хорошему человеку Борису Когану — налейте тарелочку. И побыстрее. А она не знает, как реагировать на такую тираду, озирается по сторонам в поисках поддержки. — Умрет обжора Коган — нам больше достанется, — зашумели коммунары. — Есть решение — подождать Ивана Спиридоновича, почитай-ка, Борис, пока стихи. У тебя натощак это здорово получается. Коган соорудил из двух стульев трибуну и забрался на нее. И только он произнес: «Демьян Бедный. „Советский часовой“», как появился запыхавшийся дежурный: — Сурмача вызывает Иван Спиридонович. Срочно. Недолги сборы чекиста: кобуру с маузером под кожанку, куртку на плечи — и готов. — Может, пока горячий, тарелочку борща съедите? — предложила тетя Маша, понявшая, что чекисты уходят по вызову действительно не на часок: может, на весь день, а может, и на всю ночь… Борщ… По мнению Сурмача, не было еды вкуснее борща, который когда-то готовила его покойная мать. И этот густыми, сытными запахами напоминал ему далекое детство. — Нет, уж все вместе, — отказался он благородно, хотя ему очень хотелось отведать запашистого варева. В кабинете начальника окротдела сидел взволнованный человек. Бородка клинышком. Рука с серой шляпой опирается на костяную ручку черного зонтика. На ногах хромовые сапоги с галошами. «Интеллигент», — определил Сурмач. — Емельян Николаевич, расскажите еще раз обо всем, — попросил гостя Ласточкин и представил его Сурмачу. — Врач Турчиновской больницы. Врач явно волновался. Вынул широкий клетчатый платок, старательно вытер вспотевший лоб и лысину. — Значит, позавчера вечером… Приходят двое и говорят, что ребенок упал на борону: глубокие раны, истекает кровью. Я собрался. На улице нас ждала повозка, запряженная парой коней. Поехали. Спутники мои молчат. Я начал было расспрашивать, как все это случилось и какая первая помощь оказана мальчику. Но меня сердито оборвали: «Приедем — увидите». А выехали за город — остановились, один из них говорит: «Ты, доктор, не бойся, но глазки мы тебе завяжем». Вижу, обрез у другого в руках: куда денешься, подставил голову: «Завязывайте». Лошади минут десять ехали прямо, а потом круто свернули направо. Меня закутали в тулуп, так что ехал — не замерз. Развязали глаза, когда ввели в хату. Я увидел человека, который лежал на столе посреди комнаты. Его готовили к операции: на лавке, накрытой белой простыней, стояла горячая вода, спирт, йод, тут же были необходимые инструменты. Всем руководила женщина в халате. Лицо у нее было закрыто белой маской. Я осмотрел раненого: стреляная рана в левое плечо, повреждена кость. — Чем? — спросил начальник окротдела, который внимательно слушал рассказ врача. — Я вынул из плеча пулю от русской трехлинейки. — И старая рана? — Да нет, не особенно… Дня четыре… Но она инфицировалась, началось нагноение. Иван Спиридонович оживился: — А ну-ка, Сурмач, запиши, что говорил Емельян Николаевич. Думаю, что это второй из «святой» пятерки. Аверьян сам уже догадывался об этом. «Выходит, Иващенко сумел двоих взять на мушку». Начал вспоминать подробности: «Иващенко так и не поднялся из-за пенька… Контрабандистов остановили метрах в двадцати от секрета. Сколько нужно времени, чтобы пробежать эти двадцать метров после окрика „стой!“? Если уж прижало — мгновения два—три. Иващенко успел прицелиться в Степана Вольского и выстрелить, потом перезарядить, прицелиться в следующего и вновь выстрелить… Прыткий парень был». Но что-то в таком выводе не устраивало Аверьяна, настораживало. «Проверить бы, как можно управиться со всем этим за три секунды?» И росло и крепло у Сурмача солдатское уважение к расторопному и хладнокровному пограничнику Иващенко: отстреливался до крайности. Уже и за него принялись, а он свое, целится, стреляет, чтобы побольше их, этих сволочей, положить на землю с пулей в сердце! А обернись он вовремя, может, жив бы остался… С врачом беседовали долго. Работникам ГПУ хотелось выяснить как можно больше фактов, пусть даже мелких, на первый взгляд незначительных подробностей. — В какую сторону вас повезли? — выспрашивал Ласточкин. — Выехали за вокзалом в поле, — вспоминал врач. — Ехали минут девять… Свернули круто вправо… Почти в обратную сторону, — уточнил он. — Знаете, я был так взволнован… Честно сказать, и напуган… — Негусто сведений, — подытожил Иван Спиридонович. — Да, вспомнил. Я уже операцию заканчивал, когда где-то неподалеку загудел паровоз, — встрепенулся Емельян Николаевич. — Что же вы сразу об этом не сказали, — оживился Ласточкин. — Значит, ехали часа три? Гнали лошадей? — Поторапливались, но не очень. Жалела животных. Дорога трудная. — Выходит, отмахали верст пятнадцать — двадцать… Какие же станции от Турчиновки на этом расстоянии? Две! — подытожил Ласточкин. — По Винницкой дороге — Щербиновка и тупиковая — Вапнярка. На известковый завод поезд ходит раз в день: утром — туда, вечером — обратно. А вы когда услышали гудок? — Часа в три ночи… Может быть, позже… — Щербиновка — и только она! — Иван Спиридонович от удовольствия потер руки. — Теперь о самом деле. Со всеми подробностями. — Меня привезли с завязанными глазами я, прежде чем увезти, вновь надели повязку. Многого я не видел. — Врачу было досадно, что так скудны его сведения. — А в доме? Ну, какие столы, стулья, кровати? — подсказывал Аверьян. — Хозяева зажиточные, — начал поспешно Емельян Николаевич. — Стояла в углу швейная машина «Зингер». Раненого положили на никелированную кровать… Белые простыни, белые наволочки… Как в хорошей городской семье. Щербиновка — довольно большая станция. Она обслуживала карьер и сахарный завод. Станционный поселок слился с богатым селом Щербиновкой, в котором тысячи полторы дворов. Разыскать там дом, в котором есть швейная машина «Зингер» и никелированная кровать с белыми, а не цветными наволочками на подушках… Задача! — Емельян Николаевич, что о людях скажете? Хотя бы о возчиках? — продолжал допрос Ласточкин, почувствовав, что и об особых приметах обстановки от врача не доведаешься: страх порядком поиспортил его память. — Двое, что приезжали, уже немолодые, — объяснил тот, невольно радуясь, что хоть чем-то может помочь чекистам. — За сорок обоим. Один из них, видимо, хозяин дома, горячую воду подавал, кормил меня. А второй… В полушубке… Такая лисья физиономия, увидел — узнал бы. — А женщина? — По-моему, опытный врач, но не хирург. Она отлично ассистировала мне. Помогала, — пояснил он, решив, что слово «ассистировала» не всем понятно. — Она была все время в маске, так положено при операции. Помню только: у нее черные, с пристальным взглядом глаза и властный голос. Она не кричала, но все ловили ее взгляды. Даже когда я сказал: «Уберите из-под ног таз», то хозяин хаты вначале глянул на нее, а уж потом убрал. — Сколько ей лет? — Не знаю… Но стройная… Я по привычке начал экономить спирт и перевязочный материал, а она говорит: «Доктор, не жалейте, все, что нужно и в необходимом количестве, мы достанем…» — Говорила по-русски? — поинтересовался Иван Спиридонович. — Да. И не только обращаясь ко мне, но и с теми, кто ей отвечал по-украински. Чистый, московский, я бы сказал, выговор: «г» твердое, а не украинское «ха». — И чем все кончилось? — Продержали меня сутки. Вывозили все так же: завязали глаза в доме и развязали уже на подъезде к городу. В подводе сидел один, похожий на лису. Он проводил меня до самого дома. Внес с пуд пшена, полмешка картошки. Был кусок сала фунта на четыре и девять долларов. Вот они, — врач вынул из кармана и положил на стол зеленоватые купюры. Ласточкин, посмотрев на них, вернул врачу. — Деньги как деньги… Уходя, врач виновато пояснил: — Понимаю, надо было бы сразу к вам, как только меня привезли. Но, по-моему, они следили за домом всю ночь. — И правильно вы сделали, что выждали, — заверил взволнованного врача Иван Спиридонович, — но если еще что-то узнаете, к нам сюда сами не приходите, вызывайте в больницу. Так удобнее. Емельян Николаевич вспомнил: — Вот еще подробности… Может, пригодится. Перед самым отъездом это случилось. Женщина спрашивает: «Как с подводой для доктора?» А хозяин ответил: «Штоль обещал. Будет». Врач еще раз извинился, что побеспокоил чекистов, и ушел, обескураженный: ничего больше рассказать он не мог. Проводив его, Иван Спиридонович прочитал записи. — Пишешь ты, Сурмач, как курица лапой. Цепкий парень, прирожденный чекист. А грамотишки… Впрочем, нам всем этого не хватает, — с невольным сожалением проговорил он. — Но на одном энтузиазме далеко не ускачешь. Время атак с шашкой наголо миновало. Чувствуешь, какая каша заваривается? И есть среди наших врагов люди умные, разные университеты пооканчивали, книжек воз перечитали, и на русском, и на немецком, и на французском… — А мне это ни к чему, — почему-то обиделся Сурмач. — На французском… На немецком… «Ну, не кончал разных там университетов — ладно. Еще закончит, ежели это нужно. А книжки на разных языках!.. И вообще… Чекиста сравнивать с недобитой контрой!» — Очень даже к чему, — мягко успокаивая Сурмача, доказывал начальник окротдела. — Чекист должен знать все, что знают враги Советского государства, да еще сверх того, что они и не знают. Вот тогда ты сквозь землю будешь видеть… Иван Спиридонович решил, что записи Сурмача еще перепишутся. — А пока бабки подобьем. Раненный в плечо из винтовки — наверняка один из пяти, переходивших границу. В Щербиновке у них есть свои люди в доме, где стоит машина «Зингер» и никелированная кровать с подушками в белых наволочках. Выходит, хозяин живет по-городскому. Один человек. Второй — с лисьей мордой. И еще есть женщина — врач, на лекарства она не скупится, на доллары тоже. Уразумел, куда ветер березоньку клонит? — В Белояров на толкучку. — Во-во! Отправляйся с утра туда. Уговори Демченко помочь нам. Фотограф, он ездит по селам в поисках заработка. Пусть обойдет богатые хаты в Щербиновке. А ты в той же Щербиновке в сельсовете разведай, кто таков Штоль. Это может быть и фамилией, и кличкой бандитской… А я займусь врачихами. В округе их не так уж много, всех проверим. Вопросы есть? — уже полушутя спросил Ласточкин. Чувствовалось по всему, что настроение у него боевое: если обмозговать сведения, которые принес турчиновский врач, то есть за что уцепиться опытному чекисту. Аверьяна мучило одно недомыслие: — Не все до меня доходит из того, что стряслось на границе. Вольского убил пограничник. В этого, щербиновского раненого, стреляли тоже из винтовки. — А что тебя тут смущает? Сурмач сам не мог толком разъяснить, что ему не по душе, чем вызваны его сомнения. — Кто в кого и когда стрелял — совсем запутался. Вот гляньте. — Он пододвинул к себе лист бумаги, из тех, на котором записывал протокол беседы с врачом, и начал рисовать схему: пенек, за ним пограничника с винтовкой. Подписал: «Иващенко». Второй пенек и второй пограничник: «Куцый». Рядом — «Ярош». — Увидели пограничники контрабандистов, крикнули: «Стой!» Те открыли в ответ стрельбу. Тогда выстрелил и Иващенко, убил Вольского, затем ранил второго… Тут Куцый прихлопнул его. А что делал в это время Тарас Степанович? По схеме он находился между Куцым и Иващенко, разделял их. Иван Спиридонович принялся изучать схему, все еще не понимая, что во всем этом смущает Сурмача. Но он уже верил чутью настойчивого, дотошного оперативного работника. — Куцого пристрелил Ярош… уже после того, как Куцый в упор застрелил Иващенко. Вот и получается ерунда, — сетовал Аверьян. Иван Спиридонович уточнил, сколько метров было от убитого контрабандиста до Куцого и Иващенко, сколько между пограничниками. Вписал цифры: «22–23», «5», «20». — В бою рядом лежат двое, — продолжал Сурмач. — Вдруг один встал… В трех метрах убил пограничника и вернулся, чтобы прикончить первого. А тот ждет, как агнец божий, когда его трахнут прикладом. — Да… На Яроша это не похоже, — согласился начальник окротдела. — Вот и выходит: Куцому помогал кто-то четвертый, тот, который пристрелил Иващенко; Куцый разделался с Ярошем, а тот — четвертый — с Иващенко. Иван Спиридонович покачал головой: — Ну и фантазер ты! В пограничном секрете вдруг оказался посторонний, о котором никто ничего не знает! — А вот и есть такой, — кипятился Сурмач. — Командир отделения Тарасов говорит, что прибежал на выстрелы раньше всех, наряд обогнал. На сколько он его обогнал? Что делал на месте происшествия, пока не подбежали пограничники? Если ему надо было избавиться от живых свидетелей, не мог ли он добить раненого? — Ну и подзагнул! — И ничего не загибал! Если Куцый спелся с польской стражницей, то не один же он все проворачивал! На заставе у него должен быть помощник, из начальства. Не мог Куцый сам встать в секрет, мимо которого непременно пройдут прорывающиеся бандиты. А Тарасов, в последний момент узнав, где Свавилов решил расставить секреты, мог на нужном месте внедрить своего, то есть Куцого. И выходит, один без другого они жить не могли. — Накрутил… семь бочек арестантов, — подивился Ласточкин. Еще раз посмотрел на схему: — Какие-то концы с какими-то концами тут не сходятся — это ты подметил точно. Но — проверим. Поговорю про твои додумки в губотделе. На том деловой разговор и закончился. Иван Спиридонович вдруг потужил: — А борщ, поди, остыл без нас! Сквасился. Аверьян вспомнил рассказ Когана о странных отношениях Ласточкина с приехавшей женщиной. И без обиняков спросил: — Иван Спиридонович, а правда, что вы всю зарплату и паек тете Машиным детишкам отсылаете? Ласточкин поскреб пятерней затылок, затем кашлянул в кулак, стараясь справиться с нахлынувшими чувствами. — Для кого революцию мы делали? Для себя? Нет. Для детей, для внуков. Фабрику построить или тот же линкор — пять, а то и десять лет уйдет. А новую жизнь? Чувствуешь, сколько тяжкой работы ждет наших рук, наших сердец? — Почему сердец? — удивился Сурмач. «Руки — это да! Разрушенные заводы надо восстановить, затопленные шахты откачать, поля запахать и засеять…» Помолчал Иван Спиридонович и тихо, как будто сам с собою, заговорил: — Мусора от старого времени в наших душах осталось — горы. От дедов-прадедов копилось… Сжились мы с этой дрянью. А настоящая-то любовь, по-моему разумению, и должна помочь докумекать, что к чему. Чистая она, никакая грязь к ней не пристанет. Вот по ней, по любви к людям, к Родине, к делу святому нашему, надо выверять себя. — Вздохнул Иван Спиридонович как-то трудно, тяжко и подытожил: — Завидую я, Сурмач, тебе. С хорошего, с большого начинаешь жизнь. «О чем он, об Ольге? Или о том, как Аверьян рубал уланов подо Львовом, очищая землю от врагов? Наверно, о том и о другом…» Рассказал Аверьян обо всем: как девушка из Журавинки спасла ему жизнь (пристукнула капитана Измайлова, который душилчекиста), как помогла разоружить недобитую сотню хорунжего Воротынца и, придя к раненому чекисту в госпиталь, радовалась: «Жив!» Но потом судьба-злодейка развела их. У девушки умерла мать. Сестра, невеста Воротынца, вместе с суженым исчезла. Осиротев вконец, Ольга решила уехать из Журавинки. Продала дом. Перебралась к какой-то дальней родственнице в Белояров. — Сейчас живет у тетки. А тетка — контра. Икон у нее, как в ризнице, и серебряные ножи с ложками… Улыбнулся Иван Спиридонович, взъерошил пятерней жесткие волосы Аверьяна. — Серебряные ложки — это еще не контрреволюция, — заговорил он. — Иконы — тоже. С богом на Руси рождались, жили и умирали. Хоть и не полагались на него особенно. Заповеди вспомнил: «не убей», «не укради». Они же добру учат. Но вместе с этим добром в душу заползало черное зло: все от бога, и не властен человек над своей судьбой, ибо он червь. А ты помоги своей Ольге почувствовать себя не рабой господней, а человеком. Помоги ей взглянуть на все твоими глазами. Научи ее любить, что тебе дорого, ненавидеть врагов твоих. И будет тогда она тебе самым верным другом па белом свете. Как-то не задумывался Сурмач, что любовь — это сложная и ответственная обязанность. Ну… встретились двое, понравились друг другу. Поженились, детей нарожали. Так было тысячи лет. А теперь этого уже мало. Надо любимой подарить светлый мир надежд и радостей, надо научить ее жить в этом мире… — Судя по твоему рассказу, будет из журавинской девчушки подруга чекисту. А вот о сестре ее поспрашивай: водилась с Семеном Воротынцем, где она сейчас, чем дышит? — напомнил Иван Спиридонович Сурмачу, когда они расставались. И в самом деле, Аверьян ничего не знал о сестре Ольги — Екатерине. Не додумался спросить, а по совести говоря — не до того было… О многом он еще не успел переговорить с Ольгой.В ЩЕРБИНОВКЕ
Вместе с Сурмачем в Белояров отправился Борис Коган. Он всегда с удовольствием отрывался «от бумажек ради стоящего дела», и когда не хватало людей для операции, начальник окротдела посылал его. В Белоярове у них было несколько дел. Два — первоочередные: немедленно произвести обыск у Вольского и уговорить Демченко проведать Щербиновку. Зашли в милицию: для обыска им нужен был сопровождающий. Забрали с собою неизменного дежурного дядю Васю, который повесил на дверь милиции тяжелый амбарный замок. Долго не могли чекисты попасть в Степанову крепость. За высоким забором, дышавшим холодом, чувствуя чужих, хрипло лаял и гремел угрожающе цепью злющий волкодав Пират. — Ну и ворота! — Коган попробовал толкнуть ворота плечом. Где там! И не вздрогнули. — Нагнись-ка, Сурмач! — потребовал Борис. — Подставь спину, махну через эту тюремную ограду. — Да уж лезь на меня, я пожилистее, — предложил милиционер дядя Вася. — Со спины — на плечи, встанешь — и будешь на месте. Но в это время кто-то отозвал пса, распахнулась калитка. Ее открыла Галина Вольская. Простоволосая, запахнутая в странный мужской зипун, который закрывал ее от шеи до пят, подчеркивая, сколь мала и худа эта женщина… Даже Сурмачу она показалась в этот раз какой-то очень жалкой и несчастной. Коган вообще принял Галину за подростка. — Девочка, а где хозяйка? Сурмач толкнул его в бок: — Так это и есть Галина Вольская! — Совсем девчушка! — присвистнул от удивления Борис. Галина узнала Сурмача, кивнула ему, приветствуя. Привязав злющего кобеля накоротко, впустила непрошенных гостей в дом. Коган протянул ей мандат: — ГПУ. В мандате было сказано, что «предъявитель сего Коган Борис Ильич действительно является уполномоченным Турчиновского окружного отдела ГПУ. Тов. Когану предоставляется право: а) проверять документы граждан и задерживать подозрительных лиц; б) производить обыски и изымать предметы, которые могут послужить вещественным доказательством. Тов. Коган не может быть задержан и арестован без санкции органов ГПУ». Но Вольская мандата читать не стала, чем уязвила самолюбие ретивого чекиста. Глянула на Сурмача, ожидая, что он хоть что-то ей пояснит, растолкует. И надо было ей что-то сказать, но он не знал, что именно и с чего начать. Инициативу взял на себя Борис. — Как зовут молодую хозяюшку? — спросил он, превосходно зная, что жену Степана Вольского зовут Галиной. Она вернула удостоверение личности не Борису Когану, а Сурмачу, признавая в нем старшего, ожидая от него защиты от напасти, явившейся к ней на порог. — Вы знаете, что случилось с вашим мужем? Она догадывалась: он ушел, сказал «дня на два», а не возвращается уже целую вечность. Потом приходил с теткой Фросей вот этот… в кожаной куртке, Володя, давний знакомый ее троюродной сестры… И Галина поняла, что судьба от нее отвернулась. И все же на дне души жила надежда, что несчастье — всего лишь наваждение, тьма. Вот настанет новый день, взойдет солнышко, и рассеется бесследно жуткий морок. Она тупо смотрела на чекиста, не понимая, чего от нее хочет этот черный, взъерошенный, словно выпавший из гнезда галчонок, лупоглазый человек. — Он погиб. Прорывались бандиты через границу… Взметнулись брови, словно всполошенная ласточка поднялась на крыло, заметалась, спасаясь от невесть откуда взявшегося сокола-пустельги, страх наливает глаза болотной зеленью, а нежные бархатистые щеки белит известью. — Для вас он был, может, и неплохим мужем, — продолжал Борис, — а для других — кем? Он знал, что ему не простят. И чтобы не поймали, он убивал… Не сразу дошло все сказанное до сознания Галины. Она настороженно посматривала то на Сурмача, то на Когана: верила — не верила. Но вот убедилась: «Убивал… Ее Степан убивал!» Но смириться с этой злой правдой («Он убивал, и его убили») не могла и не хотела: отчаянно закричала: — Нет! Нет! Нет! Она плюхнулась на ближний стул, уткнулась в ладошки и горько заплакала. Но что могли изменить в совершившемся ее чистые слезы? — Я ничого-ничого не знала, — молила она поверить ей. Борис принес из кухни воды. Вольская ухватилась за зеленую широкую кружку обеими руками, припала к ней и принялась пить большими, захлебистыми глотками, словно бы спешила добраться до дна, где могла жить хоть крохотная надежда. Сделали обыск. Галина Вольская показывала все закоулки своего большого дома. Но ничего существенного найти не удалось. Составили по этому случаю протокол. С тем и отправились восвояси. Всю дорогу угнетенно молчали. Сурмач и сам был удручен. Надо было как-то отвлечься от событий в доме Ольгиной сестры. — Может, к фотографу зайдем? Не так еще поздно, в хатах свет горит, — предложил Аверьян. Борис согласился: — Само собою, сходим! Демченко поздних гостей встретил вежливо. Разговор состоялся короткий, фотограф с полуслова понял, чего от него ждут, и согласился помочь чекистам. — В Щербиновке я давно не был, а село богатое… Коган ему разъяснил: — Время не терпит, каждый час дорог. Мы тоже с вами поедем. Поработать будем независимо друг от друга. — В половине второго проходит киевский — успеем, — сразу практически решил вопрос Демченко. — В ночное время и людей поменьше, закончившие базарные дела к этому времени расползаются. Сборы его действительно были недолги: все необходимое лежало под рукой; сунул в плетеную из ошкуренной лозы квадратную корзину фотоаппарат, пластинки, проявитель-закрепитель, кое-что из продуктов — и готов. Из Белоярова в Щербиновку поезд шел через Турчиновку. Демченко поехал дальше, а чекисты вернулись домой. Передремали оставшуюся часть ночи, а утром Аверьян доложил начальнику окротдела о результатах поездки в Белояров. Ласточкин интересовался всеми подробностями обыска. Сетовал: — Так-таки ничего! А должно что-то быть, хотя бы какая-нибудь мелочишка. А так думается: или вы плохо искали, или Вольский надежно схоронил. Коган петушился: — Все перещупали, каждую щелочку обнюхали! Вольский — не дурак, ничего дома не держал. — Почему? Знал, что его застрелят па границе? — Этого, положим, не знал, а готовить место для тех, кто придет из-за границы, мог. — А что, вполне, — согласился с ним Ласточкин. К величайшему огорчению Когана начальник окротдела в Щербиновку его не пустил. — Справится один Сурмач, а ты нужен на месте. По предварительной согласованности Демченко должен был обойти добротные хаты в районе вокзала в поисках машины «Зингер» и никелированной кровати с «городскими наволочками» на подушках. А Сурмачу следовало выяснить, что такое «Штоль».* * *
Большое село Щербиновка было зажато между «колеей» — железной дорогой и «каменкой» — дорогой, мощеной булыжником. Сады, огороды, дворы теснились на этом узком клине, а поля начинались через дорогу и длинными лоскутами уползали к далекому бугру, выбирались на него и, перевалив неохотно за горизонт, исчезали. Казалось, за этим далеким бугром кончался Щербиновский мир… Сельсовет находился на краю села, «у черта на куличках». «И кому потребовалось загонять его туда!» — недоумевал Сурмач. Он было подумал, что сделано это ради помещения: подобрали просторную, удобную хату. Но Щербиновский сельсовет разместился в старой лачуге. Правда, двор при ней был просторный. Но какой от него прок сельсовету? Хатенку, видимо, летом ремонтировали: пристроили крылечко, соорудили навес. К нему вершковыми гвоздями прибили красный флаг. Гвозди расщепили тоненькое древко. Истрепанный ветрами, застиранный дождями, флаг побелел, выцвел. Вначале Сурмач попал в квадратный темный коридорчик с выщербленным полом. А уж из коридорчика широкие, распахнутые настежь двери вели в просторную комнату. Здесь было людно и почему-то тихо. Аверьян остановился у порога, за спинами у присмиревших собравшихся. Жались к стенам молчаливые, угрюмые мужики. А за широким длинным столом, накрытым кумачовой скатертью, сидел председатель сельсовета Лазарь Афанасьевич Тесляренко. Перед ним стояла высокая коробка телефонного аппарата с массивной никелированной трубкой. Подивился Аверьян, глядя на телефонный аппарат: «На кой леший здесь эта игрушка, если, считай, до самой станции нет ни одного телефонного столба? Может, провод но земле пущен? Но вряд ли! От станции до сельсовета — как от Земли до Луны, где взять столько провода». Председатель сельсовета чуть привстал из-за стола, ударил по краю кулачищем: — Ну, Филипенко! Толпа выплеснула на середину хаты тщедушного мужичка в старом, латаном-перелатанном пальтишке. Очутился он против стола председателя, затравленно огляделся и… вдруг повалился на колени. — Лазарь Афанасьевич, не губи, деточек пожалей… Семеро… Что мог — державе отдал. А сверх этого — не могу. Еще ж и посеять надо. — И не проси, Филипенко! Не мне — государству дай! — Мордастый, неуклюжий председатель Щербиновского сельсовета тяжко, всем телом обернулся и показал на портрет Ильича. — Лазарь Афанасьевич, отец родной, но хоть маленькая справедливость должна быть. У меня четыре десятины на десять едоков, у Нетахатенко — двадцать пять десятин. А что с меня, что с него — одинаково по десять мешков. — Не я законы пишу — Советская власть! — ответил председатель сельсовета. — Он посмотрел на телефон, вздохнул тяжко, будто тащил на гору мешок с горохом. Снял поблескивавшую трубку с телефонного аппарата. Похукал на нее, потер рукавом полосатого пиджака и начал яростно крутить ручку вызова. Звоночек нетерпеливо позвякивал, передавал куда-то во внешний мир упрямую настойчивость человека. Не сразу, но ответ, видимо, пришел: заблестели выпуклые глаза Лазаря Афанасьевича. — Девушка! Алё! Алё! Девушка, ты мне вызови Москву! Алё! Алё! Да не бросай ты, милая, трубку. Мне надо поговорить по важному государственному делу. — Он помолчал, видимо, ожидая, когда телефонистка соединит его с Москвой. От нетерпения Лазарь Афанасьевич поколачивал легонечко толстым пальцем по рычажку вызова, и звоночек постоянно тренькал, тихо, невнятно, вот так бормочет во сне ребенок. Но именно это и напоминает матери, что чадо живо и спит нормально. — Алё! Алё! — обрадовался вдруг Лазарь Афанасьевич. — Товарищ, вы извиняйте, что од державных дел оторвал вас. Я бы не стал беспокоить, но народ домогается. У нас тут есть многодетный бедняк Филипенко. За Советскую власть воевал. Не по силам ему продналог. Что мог — уделил державе, а три мешка за ним остались. Как в таком случае быть? — Лазарь Афанасьевич вдруг полез в карман и достал большой серый клетчатый платок. Вытер лоб, давая понять, что ему не по себе от того, что он слышит. — Я понимаю, дорогой товарищ, оно, конечно… Хлебушек всем нужен: и нашим рабочим, и немецким. Я так и растолковывал, но общественность настаивала. — Он осторожно, двумя руками положил трубку на рычаг, затем крутнув рукоятку вызова, дал отбой. Посмотрел на тщедушного Филипенко, который, застыв, окаменел в ожидании решения своей судьбы. И вдруг гаркнул: — Рабочие в Москве и за кордоном с голоду подыхают, а ты тут про своих детишек! Завтра же сдать останние три мешка! — Лазарь Афанасьевич, — по-бабьи завыл Филипенко. — Долги раздал, государству отвез. Осталось семенное. Но что это за послабление крестьянину, коль выбирают до последнего, как при батьке Усенко! — Перед Советской властью все равны: положено — сдай, хоть и семенное. Дикое отчаяние руководило тщедушным мужичонкой Филиппом Филипенко. Он кинулся к Тесляренко, но его перехватили двое дюжих парней — телохранителей при особе председателя. — Шоб ты кровью залился с твоей справедливостью! — вырывался из рук охранников одичавший от горя человек. Наотмашь, сплеча ударил Лазарь Афанасьевич наскочившего на него односельчанина. Аверьян даже представить не мог, что у всех на глазах так будут издеваться над Советской властью. Он прекрасно помнил столб из коряжистой сосны перед хатой сельсовета: от него к окну тянулись два провода. «Неужели щербиновские мужики до того темный народ?!» — возмутила его рабская покорность. Но еще больше он негодовал по поводу самого Лазаря Афанасьевича: «Именем Советской власти творит кулацкую расправу над бедняком!» Помутилось все в голове у Аверьяна. Выхватил маузер. Люди опешили. Этот, с оружием в руках, появился среди них неожиданно, неприметно. Расступились, пропустив человека в потертой кожанке к столу, за которым сидел Тесляренко. Аверьян подошел. Не спускает глаз с председателя сельсовета. Потрогал дулом маузера телефонный аппарат. Тихо, вкрадчиво попросил: — Будь добр, Лазарь Афанасьевич, звякни еще разок в Москву. Тесляренко потянулся было рукой к трубке. Даже снял ее. Но тут же положил на место. Нервно рассмеялся, словно бы его щекотали русалки: — Я же… пошутил. Старался хлебушек для государства запасти. Может, это самое… Того… Пересолил чуток, так извините, товарищ, темноту нашу сельскую. Филипенко медленно приходил в себя. — Что?.. Нет такой директивы от Советской власти, чтобы многодетного бедняка обдирать, как липку, до последнего зернышка! Никто ему не ответил. В комнате, забитой народом, поселилась настороженная тишина. Она вдруг взорвалась протяжным криком: в нем жило отчаяние и злость, торжество и жажда кровавой мести. — А-а-а… Моих деточек голодом хотел поморить! — Он вдруг вцепился в своего врага, как клещ. — Филипенко! Ты что, рехнулся? Успокойся! — Сурмач сунул в кобуру маузер и попытался оттащить от Тесляренко дышавшего злобой и ненавистью мужика. — Заберите его! — Сурмач отыскал глазами в толпе двоих: — Ты! — сказал он человеку в красноармейской шинели, стоявшему ближе всех к столу. — И ты! Сурмач увидел высокого и худого, как Кащей Бессмертный, дядьку. «Иван Дыбун!» Это оп первым бросил к ногам Аверьяна оружие там, в Журавинском хуторе, в поместье у пани Ксени, это он, прикипев к пулемету, сводил личные счеты с удиравшим Семеном Григорьевичем Воротынцем. Оттащили Филиппа Филипенко от посипевшего, полупридушенного председателя сельсовета. Обиженный злобно выкрикнул: — Деточек моих… Паскуда! Он вдруг сел на пол у ног толпы и заплакал. Горючие, крупные слезы выкатывались из его маленьких глаз, он по-детски растирал их кулаком. — И вы, — сердито выкрикнул Сурмач в лицо толпе, — позволяете себя дурачить! — Не позволяли бы… Да кладбище далеко, — бросил Аверьяну в ответ реплику тот, в красноармейской шинели, который оттаскивал Филипенко. — Кто-нибудь из вас за Советскую власть воевал? — спросил Сурмач. — Ну я, к примеру, — опять отозвался мужик в красноармейской шинели. — Пулю под Перекопом поймал. — Как тебя звать? — Зовут зовуткой, а величают уткой, — недобро ответил бывший красноармеец. — Олексой Пришлым, — мягко, покровительственно пояснил за того долговязый Иван Дыбун. — За такую власть ты кровь проливал? — спросил Сурмач Алексея Пришлого, показав на председателя сельсовета. Бывший красноармеец вдруг рассердился: — Я, что ли, сажал его на председательское место? В чем-то он был прав, этот злой человек, штурмовавший Перекоп. В чем-то. Вот именно, в чем-то. Но не в главном. — Ну, с меня, как с гуся вода: пи кола, ни двора, ни жены, ни собаки. А ему каково? — ткнул Пришлый кулаком в спину Филипенко, сидевшего на полу. — Деникину юшку красную пускал. А его теперь с бывшим бандитом Нетахатенко уравняли. Тот три года округу грабил. Приперли к стенке — покаялся. Простили, вольготную жизнь устроили. — Дыбун! И ты, Пилип, — нечего сидеть на полу, — поможете мне отвести вашего Лазаря Афанасьевича на станцию. А ты, Пришлый, забери ключи от сельсовета. Тесляренко выдвинул ящик, выложил на стол печать. Пошарил в карманах полушубка, висевшего на гвозде, и передал чекисту два ключа. — Може… ко мне в хату зайдем? Пообедали б… — вдруг предложил он. — Одевайся! — прикрикнул на него Аверьян. Тесляренко одел белый, как первый снег на лугу, полушубок, напялил мохнатую шапку, вышел из-за стола. «На ногах валенки в резиновых литых галошах…» Он! Махорочник с белояровской толкучки! Он!!! За ним увязался Кусман, беспризорник из Петькиного войска. «Ну, хороший гражданин, вспомнишь ты у меня кузькину мать!» — подумал Сурмач.
ЛАЗАРЬ АФАНАСЬЕВИЧ УПОРСТВУЕТ
Тесляренко на допросах от всего открещивался: «Махорку в Белоярове не продавал. Картоху — мог бы… Махоркой — не занимаюсь. О медикаментах слыхом не слыхивал. Я на здоровье не жалуюсь, на кой ляд мне медикаменты. Если простудился, то лучшего лекарства, чем банька и шкалик, нету. Вашего беспризорника в глаза не видывал. Гоняет их, беспризорных, по базару голод. Подойдет какой: „Дяденька, дай“. Ну, что есть — уделишь: кусок хлеба, пару картофелин… Вот насчет продналога — это точно, дал промашку. А все из-за чего? Не хочет люд сдавать продналог. Словом, довелось попреть… с малосознательными… Может, на этом и перестарался. Но как оно? Из окрисполкома — уполномоченный за уполномоченным: „Где хлеб? Где картошка?“ Ну и… переусердствовал. Накажите! Есть за что. Жаловаться не буду». И так — до бесконечности. У Сурмача всякое терпение иссякло. — Агнец ты божий, Лазарь Афанасьевич! Послушать тебя, так ты — первая жертва: и земотдел из тебя жилы тянет, и прокурор жить не дает, а ГПУ — так вообще живого в землю зарывает. — А что — не правда? Кто чуть поднялся над тобой, тот и норовит под себя подмять и притом пикнуть не позволяет. Посидели бы вы па моем месте в сельсовете, послушали бы, что люди говорят, и совсем другое было бы понятно у вас про сельское житье-бытье. А то ведь вес из газеточек, с чужих слов… И в подтверждение каждого такого довода у Лазаря Афанасьевича примеры: называет имена, называет числа, кто был из исполкома, да как притеснял! Когда Сурмач докладывал о результатах допроса Ласточкину, тот говорил: — Этот Тесляренко нас с тобой политграмоте учит. И у врагов, Аверьян, есть чему поучиться. Враг — он очень точно указывает на твои ошибки и просчеты. Так что бери на учет все, что подносит этот Лазарь Афанасьевич. Будем принимать меры по его заявлению. Но — время шло, а дело с места не двигалось. Тут уже начал досадовать Иван Спиридонович. Он сам полдня занимался бывшим председателем Щербиновского сельсовета. И ничего существенного. — Или он и впрямь не тот, за кого приняли, или мы все тут даром хлеб едим. Борис Коган посоветовал Аверьяну: — Подобру-поздорову ты с этим Тесляренко ничего не добьешься. Он же понимает: за убийство беспризорника, за связь с усенковцами по головке не погладят. Аверьян растерянно тёр подбородок. — Но как заставишь его говорить? — Чего проще. Он убил беспризорника? — Я так думаю. — Устрой ему свидание с Петькиным войском. Пришел срок решать дальнейшую судьбу Лазаря Афанасьевича. Ласточкин побывал у прокурора, передал представление на арест. Но прокурор санкции не дал. — Да что он, прокурор, заодно с контрой? — возмутился Аверьян, узнав об этом. — Без нее, без строгой законности, нет вперед хода, — вдруг начал защищать прокурора начальник окротдела. — Была Чрезвычайная комиссия — ЧК, а ныне ГПУ. Ты думаешь, только название изменилось? Нет! Была война, потом свирепствовал бандитизм. Саботажники дохнуть нам не давали. И выставлял пролетариат против вражьей жестокости — свою жестокость, против вражьей силы — свою силу. А теперь мы победили. И выходит, уже не с руки нам, не по-государственному это — без соблюдения строгой законности. — Но если явная контра, как этот Тесляренко? — Что он контра — ты и докажи, — настаивал Ласточкин. — А пока у тебя против него одни слова, мы не добыли ни одного стоящего факта, который можно было бы взять на ладошку, а он бы, как кусок антрацита, тянул руку к земле. Пока ты знаешь доподлинно одно: бывший председатель сельсовета Тесляренко проводил неправильную политику в Щербиновке. Написали мы представление в исполком. Сняли Тесляренко с должности. А дальше? Связан по рукам и ногам с УВО? Так это ты так считаешь. А он — отнекивается. Откуда мне, прокурору пли судье, знать, кто из вас двоих прав: кто брешет, кто ошибается. Факты нужны! — Будут! — заверил Аверьян. — Вот когда будут… Понимаешь, Сурмач, в чем тут загвоздка… — Иван Спиридонович усадил Аверьяна на стул и сам подсел. — Мы с тобой — не семи пядей во лбу. Можем и ошибаться. В таком разе — пострадает невинный. А если в государстве страдают невинные, то страдает от этого честь государства. Беда научит есть кашу без ложки… Аверьян вспомнил совет Когана показать Лазаря Афанасьевича беспризорникам. «Ну, всей ватаге — нельзя, а вот Петьке Цветаеву, пожалуй, стоит. Тесляренко требует свидетелей, которые видели его на базаре в день гибели Кусмана, свидетели — будут». — Иван Спиридонович, надобно подержать у нас Тесляренко еще денек. На мою ответственность. Нанду людей, которые видели его на базаре. Только мотнусь в Белояров. Туда и обратно. Заодно проведаю Демченко. Что-то сгинул он, никаких вестей не подает. Любил Аверьян наблюдать, как Ласточкин думает. Густые брови натопорщит, складки на лбу начинают мельчать — выравниваться. Глаза светлеют, наливаются глубиной и добротой. Словом, молодеет человек. Сегодня начальник окротдела выглядит вообще молодцом. — Василий Филиппович — человек обязательный, — заметил Ласточкин. — Коль не отзывается, значит, есть причина. А какая? Не натворил бы бед, усердствуя. Те, которые заложили в Щербиновке тайный лазарет, тоже не лыком шиты, а после ареста Тесляренко наверняка держат ушки на макушке. Словом, начальник окротдела согласился задержать Тесляренко еще на денек: «Ну, тут не только твоя ответственность!» — А ты в Белояров; одна нога здесь, другая — там. И обязательно навести нашего фотографа. Может, он как-то дал знать о себе жене? «Пятьсот веселый» приходил в Белояров в удобное время, к вечеру. Пока Аверьян добирался до Гетманской улицы, совсем стемнело, так что можно было заглянуть к Демченко, не привлекая к этому факту внимания случайных прохожих. Долго стучался в старую, пропитавшуюся сыростью дверь. Никаких признаков жизни в доме. И полоснуло по сердцу холодом: «Как тогда с беспризорниками?..» Собрался уже в милицию («Не довелось бы дверь вскрывать!»), как из сеней отозвался надтреснутый, болезненный, с хрипотцой женский голос: — Тебе кого? — Фотографа… — Клиент, что ли? — Клиент… — Не вернулся еще из села. Аверьян ощущал чувство неловкости из-за того, что не видит лица собеседника. — Отоприте на минутку, — попросил он. Но женщина вдруг испугалась: — Ишь, отопри! А ты — топором по башке. Потом на куски изрубишь, мясо в мешок сложишь. Аверьяна словно бы в прорубь скинули: «Сумасшедшая». Он в тот момент посочувствовал фотографу: «Как он с такой живет под одной крышей!» В милиции Сурмач застал знакомую картину: Петька драил шваброй полы. Босой, клёши до колен закатаны, на плечах неизменная душегрейка. Дядя Вася выгревал кости, прижавшись поясницей к печке. — Я — за тобою, — сказал от порога Сурмач пареньку. Топать грязными сапогами по чистому полу не хотелось, жалко было труда. — Ты мне в Турчиновке нужен. Петьку долго уговаривать не пришлось. — Я только пол дотру. А чё, кого-то на мушку взяли? Мы на толчке караулим: ни того в белом полушубке, ни усатого, ни Кольки Жихаря. А Колька даже домой не является. А нам бы только кого из них уследить! Мы бы за Кусмана, за Ужака… Им! — хрипло выдавил он. И бледное лицо вдруг вспыхнуло, словно бы его окатили кипятком, взялось багровыми буграми. — На мушку — не на мушку, — уклончиво ответил Сурмач, удивленный впечатлительностью обеспризорившегося Петьки. «Босота! Казалось бы, что с него взять… А поди ж ты, такое чуткое сердце». В тот момент жила в чекисте профессиональная осторожность, замешанная на суеверии: «Не вспугнуть бы удачу!»* * *
К решающему допросу Сурмач готовился не спеша, тщательно обдумывая каждую мелочь: как сам сядет, что в первую очередь спросит у Тесляренко, куда посадит его, какие вопросы задаст потом, где в это время будет находиться Петька, который должен, по замыслу Аверьяна, все видеть, и слышать, но быть неприметным. Сурмач вызвал бывшего председателя Щербиновского сельсовета и, пока того доставляли из внутренней тюрьмы, предупредил Петьку: — Увидишь и услышишь многое. Но чтобы сидел и — ни гу-гу. Твое дело смотреть и помалкивать. Дошло? Конечно, дошло. Повторять такое Петьке без надобности. Он давно смекнул, что не шутки шутить привез его в окротдел ГПУ чекист, паренек догадывается, что разговор пойдет о тех, кто убил Кусмана и избил до смерти второго беспризорника, по кличке Ужак. Забился Петька в угол, весь ощетинился, стал злым и настороженным. Ждет. Конвойные привели Тесляренко. Тот уже научился держать себя, как многоопытный арестант. Вошел, руки назад. Стоял у стола, пока чекист не предложил ему: — Садитесь. Ну что, Лазарь Афанасьевич, выдохлись мы с вами. Пришло времечко сказать: «Возьми ты свои куклы, отдай мои тряпки — я с тобой не играюсь», — бодрячком вел себя Аверьян, давая понять арестованному, что допросы в основном закончены. — Что знал — сообчил, — заученно-монотонно, будто шарманку прокручивал, ответил Тесляренко. Сурмач встал из-за стола, прошелся по кабинету, отвлекая внимание арестованного от того угла, где сидел Петька Цветаев. Остановился перед бывшим щербиновским председателем сельсовета. — Ну, что мне с вами делать, Лазарь Афанасьевич, а? Может, вы и в самом деле не врете, правду, как она есть, выкладываете? — Чистую правду, — взмолился Тесляренко, почувствовав смену в настроении чекиста. — Убей меня бог! Да чего бы это я с проходимцами путался? Хозяйство у меня справное, жена, дети малые. Мужики выбрали, доверие оказали, поручили блюсти Советскую власть. От добра добра не ищут. Ну, чуток перестарался. Так думал — оно для пользы дела! Но сглупил по недоумию. А вы научите, так мы за Советскую власть… Он бы еще говорил и говорил, но Аверьян, не сумев справиться с собой, со своими чувствами, оборвал задержанного: — Точка! Сейчас принесут полушубок и шапку. — З-з-а-а-чем? — оторопел Тесляренко. И на мощном, бычьем лбу, испещренном вертикальными морщинами, как иная земля оврагами, выступили капельки пота. Они копились в ложбинках-морщинках, затем побежали по их дну. Но натолкнулись на высокие холмы — надбровные дуги, где и вспухли озерцами. — Подписывайте протокол и… — Сурмач сделал длинную паузу, стараясь породить панику в душе задержанного, чтобы тут же ошеломить радостью, — домой! — Аверьяном в тот момент владело сложное чувство ненависти и брезгливости. Оно-то и заставило бросить задержанному ядовитую реплику. — Что это вас, Лазарь Афанасьевич, страх до пяток пробирает, если вы перед Советской властью, яко младенец новорожденный после купели? — От человеческой слабости это, — ответил тот, уже приходя в нормальное состояние. Аверьян читал бывшему председателю сельсовета протоколы всех его допросов. Тесляренко слушал внимательно, ловил слова, уточнял их смысл, а потом подписывал каждую страничку. — Вот и все, — подытожил Аверьян. В это время конвойные принесли добротный, белый, как первый снег на лугу, полушубок Тесляренко и мохнатую шапку из длинного собачьего меха. Одевается Лазарь Афанасьевич и на радостях шепчет чекисту: — А уж я в долгу не останусь: может, мешочек крупчаточки или полпоросеночка… Только шепните — куда… — Ладно, дам адресок, — выпроваживал Аверьян задержанного. В нем клокотала ненависть: «Гад! Чекисту — взятку». Но надо было сдержать себя, иначе весь замысел — кошке под хвост. — Шапку-то наденьте, — посоветовал Сурмач, — надует уши. Очень важно было для опознания, чтобы Тесляренко принял «базарный» вид, стал таким, каким он был в Белоярове в махорочном ряду. Лазарь Афанасьевич послушно натянул шапку на голову. В этот момент Петька и узнал его. Поверив, что чекист намеревается отпустить «махорочника», кинулся к Тесляренко, вцепился в мохнатые отвороты белого полушубка: — Это ты, ты Кусмана приштопорил! Ты! Его ненависть породила такую дикую ярость: держит огромного плечистого дядьку за отвороты и смешно, по-петушиному подпрыгивая, бьет, бьет головой в лицо. А тот, ошарашенный неожиданностью, подавленный ужасом, пятился, стараясь отделаться от паренька. — Петро! — прикрикнул Аверьян. — Перестань! Но Петька уже не реагировал на слова, он хотел тут же, на месте разделаться с врагом. Пришлось Сурмачу оттаскивать Цветаева. Усадил на лавку. А мальчишка от ярости как в лихорадке дрожит, глаза мутные-мутные. — Мы тебе, гад, за Кусмана… жилы вытянем. Отпустят — все едино найдем! Сдохнешь — из могилы выроем! Тесляренко стоял у стены и вытирал ладонью разбитый до крови нос. — Науськали мальчишку! Петька вновь было сорвался с места, но чекист опять его осадил: — Уймись ты! — Я знаю, какой махоркой ты торговал! — выкрикнул с обидой Петька. — Медикаментами. А с твоей махрой Колька Жихарь стоит! — Он сожалел, что не может добраться до ненавистного человека. Вот теперь-то Тесляренко сник. Упоминания о медикаментах, о Николае Жихаре доконали его. Вытирает шапкой вспотевшее лицо, поглядывает с опаской на своего разоблачителя: — Ну что, Лазарь Афанасьевич, будем пооткровенней? — спросил Аверьян. Важно было сейчас, пока еще Тесляренко не пришел в себя, не замкнулся, заставить его говорить. И даже не важно, о чем на первых порах, лишь бы говорил. — А склад с медикаментами у Жихаря в доме! — выкрикнул Петька, вновь вскакивая со стула. — Да не знаю я ни про какие медикаменты, — забормотал Тесляренко. — Чтоб я околел… Ну, насчет махры — было дело, — выдавил он из себя, но тут же оправдался: — Однако ж не возбраняется это по новым законам. У кого что есть — вези на базар. — Законы знаешь, — гневно оборвал Сурмач разглагольствования допрашиваемого. — У кого ночевал в Белоярове? — А зачем ночевать? С поезда — и на базар… Да, по-прежнему не собирался Тесляренко откровенничать. — Рассказывай, как справился с беспризорником, — потребовал Аверьян. — Не расправлялся я с ним, — пробурчал Тесляренко, с опаской поглядывая на Петьку, восседавшего рядом с чекистом. — Ну так как же все было? Тесляренко насупился: не хотелось, ох не хотелось ему исповедоваться. — На базаре я его приметил: вьется и вьется. Пошли — и он за нами… — С кем пошли? — Да ни с кем, сам я… Вижу — на пятках висит. Думаю, на кошелек зарится. Ну, увел я его в темное место, припугнуть решил. А он — с ножом. Отобрал нож и сгоряча пристукнул. Хоть у кого сердце не выдержит, ежели на тебя с ножом… — Чем же ты его?.. — все напряглось в Сурмаче. — Чем? — переспросил Тесляренко. Он явно выгадывал время, стараясь придумать что-нибудь, похожее на правду. Сжал кулак. Огромный кулачище! Посмотрел на него. — Вот этим, — сказал и, кажется, сам поверил. — Трахнул… И не думал, что такое хилое, такое негодное. Вижу: упал и словно бы не дышит. Душа у меня в пятки: человека пришиб. И — бежать, — уже охотно рассказывал Тесляренко. Сурмач не выдержал, грохнул кулаков по столу. — Врешь! Прутом его секанули. Сзади подошли. Не ждал мальчишка. Кто был второй? — Колька Жихарь! — крикнул Петька. Лазарь Афанасьевич притих, как сурок. — Он рубанул мальчонку железным прутом? — требовал признания чекист. Понял Тесляренко, что уже не выкрутиться ему, в отчаянии кивнул головой: «Он». — И медикаментами он снабжал? — Нет. На станции один… Ты ему золотишко, а он — товар. — Кто такой? — Не знаю… Я ему — гроши, он мне — что надо… Присмирел Тесляренко, уже, казалось, сдался. Ан нет, все еще ходит вокруг да около. Почему? Что заставляет его скрывать дружков, когда и за то, в чем признался, уже положено — на всю катушку? Терять ему, казалось бы, нечего. Но поди ж ты, выкручивается, как гадюка под палкой. «А, может, правду говорит?» — Кто тебя свел с ним? — Да он сам меня нашел. Расторговался с картошкой, барыши подсчитываю, обмозговываю, что домой купить. Он подходит, улыбается: «Хочешь заработать?» А кто ж не хочет? — Ладно. Послезавтра — базарный день, покажешь его, — заключил Сурмач. И опять помутнели от ужаса глаза Тесляренко, опять от нахлынувших чувств у него перехватило дыхание. — А вдруг его там не окажется? Он же не дурной, увидит, что я не сам… — Ну, уж это не твоя печаль. Больше ничего Сурмач в тот день у Тесляренко не узнал, хотя и спрашивал об «усатом», и о «нищем» с бородавкой на носу, и о Жихаре. Лазарь Афанасьевич утверждал, что никого, кроме Жихаря, который наводил на него покупателей, не знал. «А Кольке я за это приплачивал за каждого человека».* * *
Доложив Ивану Спиридоновичу о результатах допроса, Сурмач сделал вывод: — Жихаря надо брать. Он убил Кусмана. Больше некому. — Он-то он… — в раздумье произнес начальник окротдела. — Но за что? Двое испугались, что мальчишка отнимет у них кошелек с деньгами? — Нет, конечно. — То-то и оно… Что-то он узнал про них. Но что? В тот же день прокурор дал санкцию на арест Жихаря и Тесляренко. — Но с обыском потерпим, — разъяснил Ласточкин свой замысел. — За что взяли председателя Щербиновского сельсовета? За превышение власти. Вот пусть так все и думают. — Не выходит из головы Кусман, — признался Сурмач. — Получается, что я заслал мальца на погибель. И второй, которого избили на вокзале, — тоже умер по моей вине. Завьюжило светлые глаза начальника окротдела. Хмуро проговорил: — Детишек всегда жалко. Для них и живем. Вот вчера приехали мои-то. Тощие, синюшные. — Своими для него стали дети тети Маши. — Не ты виноват в смерти беспризорников. Где-то про войну уже и забыли, а мы по-прежнему в атаке. В атаке на паскудство старой жизни, что перешло нам в наследство вместе со всем прошлым. И в той борьбе, как солдаты, погибли твои пареньки — Он помолчал, и решил: — Пристроить бы к какому-то стоящему делу этого сорванца Петьку и всю его компанию. Поговорю в окрисполкоме.* * *
На следующий день к обеду вернулся из Щербиновки Демченко. — Ничего конкретного. В семи хатах видел швейные машинки «Зингер», в одиннадцати — городские кровати, но чтобы все вместе, да еще подушки с белыми наволочками — не встречал. Меня же во многих дворах привечали собаками. Конечно, глупо было надеяться, что Демченко, съездив в Щербиновку, привезет оттуда необходимые адреса. И все же такой результат: «ничего конкретного» — испортил Сурмачу настроение. — А что в Щербиновке говорят об аресте председателя сельсовета? — Разное. А в общем-то люди вздохнули, — видать, в кулаке он многих держал. Да, кстати, вы просили поинтересоваться фамилией Штоль. Нет такой фамилии, это уличная кличка Тесляренко. Прадед его или дед, в общем, кто-то из родственников, отбывал солдатчину. А вернулся и заладил к месту и не к месту: «што ли» да «што ли». Ну и получил кличку Штоль. — Владимир Филиппович, — возликовал Сурмач, впервые проникнувшись уважением и доверием к фотографу, — да эта весть десяти других стоит! «Вот на чьих лошадках отвозили доктора после операции раненного на границе усенковца». Аверьян готов был немедленно бежать в окротдел и вновь допрашивать бывшего председателя сельсовета. У него уже созрел план действий. «Покажу Лазаря Афанасьевича врачу. Может, опознает, тогда Штолю деваться некуда. И заговорит, непременно заговорит!»СВАДЬБА ЧЕКИСТА
Но заняться служебными делами Сурмачу в тот день так и не удалось. Едва он появился в окротделе, дежурный сообщил: — Зайди к Борису, он какую-то девку допрашивает. Велел тебе сообщить, когда появишься. В непонятном предчувствии заволновался Аверьян. Распахнул дверь в «чекистскую кухню» и застыл на пороге: «Ольга!» Пальто нараспашку, серый шерстяной платок откинут на плечи. По всему — она тут давненько: упарилась, одурела от непривычного, кажущегося страшным. При виде Сурмача поднялась со стула. Глаза — лубяные. Виноватая. Растерянная. — Что случилось?! Борис подсунул Сурмачу под нос листок бумаги. — Да вот… призналась. — В чем? Неистово билось сердце, готовое вырваться, — тесно, невмоготу ему… В голове возникло миллион предположений: «Ольга — и Воротынец… Оленька — и Жихарь… Ольга — и жена Степана Вольского…» — Ну, повтори, — потребовал строго Борис у задержанной. А она потупилась. Молчит. Ямочки на пухлых щеках наливаются жаром, как яблоко «джанатан» — солнышком. Аверьян схватил листок, протянутый Борисом. «Я, Ольга Митрофановна Яровая, действительно люблю Аверьяна Сурмача больше своей жизни и согласна выйти за него замуж». И подпись, разборчивая, четкая, каждая буковка выписана. Все это было столь неожиданно, так не вязалось с тем, что нарисовало пылкое воображение Аверьяна! Он еще раз прочитал «протокол допроса». А Борис уже не мог сдержать себя. Он хохотал. В изнеможении повалился на стол, захламленный конвертами, папками, кучей прочих бумаг, и, не в состоянии продохнуть, только покрякивал. — Ох… ах… хо-хо… — Что это? — спросил Аверьян у Ольги, показывая написанное ею. — Все они, — кивнула она на хохочущего Бориса. — Пришли к нам… Забрали… Аверьян был безмерно благодарен верному другу, но уж слишком неловко чувствовал себя в положении будущего мужа. — Куда же ее теперь? — Пока в коммуну. Условия для семейной жизни у тебя превосходные, есть одеяло, кожанка. Чего еще? Со временем подыщем какое-нибудь жилье. Пошли. — Он поднял с пола чемодан, вскинул его на плечо. — А корзиночку и узелок, Аверьянчик, уж ты сам. Проклятая корзина булыжниками нагружена. Привыкай таскать бремя. Жена — это, брат, такая загогулина! Еще хлебнешь горюшка. И тут девушка вся как-то вдруг взъерошилась, словно воробей, которого скворец выселяет из скворечника. — Без венца — грех! — Оленька! — воскликнул Борис. — С венцом — это значит с попом! Зачем он вам? Попадется толстый, лысый, пьяница и бабник. Благословит такой — и до конца жизни от грехов не очистишься. А вот сводит вас жених в исполком… Ольга готова была расплакаться. — Я не какая-нибудь, чтоб невенчанной… — Попы — мракобесы, а религия — опиум для народа. Подумайте, Оленька, о позоре, какой падет на голову вашего возлюбленного. Чекист! Большевик! И чтобы пошел на поклон к попу? На колени перед ним встать? — Боль-ше-вик! — ужаснулась Оленька и с тоскою посмотрела на Сурмача. Она явно не верила. — И я — большевик, — заверил ее Борис — А рогов у нас нет. — Он наклонил голову: мол, на, посмотри и убедись. — Ну, то вы… Вы ж еврей, некрещеный. А Володя… Она осеклась, еще больше смутилась от своей откровенности. Замолчала, и уже слова не могли от нее добиться. Борис было процитировал шутливый «протокол», под которым девушка подписалась: «согласна выйти замуж». В ответ — ни гугу, как будто язык откусила. — По Аверьяну сохла, а теперь, когда только и осталось — пожениться, мучаешь парня. Глянь, как он, бедняга, похудел: кожа да кости. По ночам бредит: «Оленька, Оленька!» — и подушку целует. Борис продемонстрировал, как трудно спится Сурмачу по ночам. Тут уж Аверьян не выдержал: — Ничего такого не было! Сплю не хуже тебя. Сказка-шутка, сочиненная Борисом, рассердила Сурмача. «Дурака из меня делает». А Борис, пропустив выкрик друга мимо ушей, продолжал уговаривать девушку: — Слышишь, кричит? Почему? Нервным стал. И всему виной плохой сон. Врач прописал ему: жениться, иначе совсем изведется. Но Ольга упрямо твердила одно и то же: «Невенчанной — грех, и от людей стыдно». Говорила с дрожью в голосе, со слезами на глазах, в отчаянии. И стояло за ее короткими словами: «Как же без божьего благословения? Как же можно жить без господа в душе? Страх перед всевышним останавливает руку преступника, желание благости ведет к добрым делам. Весь порядок в мире держится на божьем имени. А забудут его люди — начнется светопреставление, наступит век хаоса и повального греха». Вся коммуна была в курсе Аверьяновой беды. Слыхал он и такое:«Да не связывайся ты… Чекист, а выбрал поповскую прислужницу». Легко судит лишь тот, кто ни о чем толком поведает, и никакие сомнения не грызут его душу: «Да!» — «Нет!» — и весь сказ. Но что такой скороспелый судья знает о журавинской девчушке, о том, как она в одну ночь сожгла всех идолов, которым поклонялась, совершила подвиг, поверив, можно сказать, на слово правде Аверьяна Сурмача, чекиста, большевика? И это в то время, когда такие слова для невесты Вакулы Горобца, для сестры воротынской любушки было страшней любой анафемы, отбирающей надежду на вечную жизнь в раю, обрекающей на вечные муки в аду. Как же он, большевик и чекист, может сейчас отречься от нее, оставшейся без друзей, без близких, отречься и предать ее надежду, ее святую веру в торжество дня над ночью, весны над зимой, любви над насилием, добра над злом… Аверьян был благодарен тете Маше, когда та увела Ольгу к себе. — Что мужики понимают в нашем, бабьем деле? — сказала она мягко девушке. — Вот почаевничаем мы с тобою, посумерничаем, душа и оттает. Хоромы начальнику окротдела достались от тещи купца Рыбинского, который, видимо, не очень-то жаловал старуху. Комната была бы просторной, если бы не разные шкафчики, кушеточки, столики, пуфики. Ласточкин было сдвинул их в один угол, взгромоздил одно на другое, но тетя Маша вернула вещи на свои места, только определила им совсем иные должности. Два пуфа и стул — кровать для младшего. Круглый стол, на котором старуха, бывало, раскладывала загадки — пасьянсы, — кухня. На столе — примус, под столом — мешок с картошкой. Комната пахла жильем. Было тепло. Крутились по полу, играя в «догонялки», трое мальчишек. Все светловолосые, все один в другого. Старшему лет одиннадцать, младшему года четыре. Они заполняли комнату визгом, смехом. При виде всего этого обычного, человеческого счастья Ольга начала успокаиваться. — Отец моих Иванычей погиб в восемнадцатом под Питером, — начала рассказывать тетя Маша. — А Иван Спиридонович? — спросила Ольга, которая преисполнилась доверием к хозяйке. — Мой Иван умер у Спиридоныча на руках. Были закадычными друзьями. От топ поры Спиридоныч заменил сиротам отца. Можно сказать, спас от голодной смерти. Потом и ко мне самой повернулся сердцем. По ласке да по человеческому теплу мы, бабы, ох как скучаем. Ольга внимательно слушала исповедь женщины. Никто еще так по душам не говорил с нею о своем, о сокровенном. А хотелось знать, как же все это у других происходит. Ольга уже успела понять, что обитатели коммуны любят и уважают Ласточкина. Он для них — самый первый, самый важный. А со слов тети Маши, грозный начальник ГПУ выглядел совсем-совсем простым: добрым, ласковым, ну точь-в-точь как Ольгин Володя. — Иван Спиридонович… большевик? — спросила девушка. Тетя Маша мягко улыбнулась, подлила насторожившейся гостье свежего морковного чая. — Большевик, — подтвердила она. — И отец их, — кивнула тетя Маша на озорных сыновей, — тоже коммунистом был. Вот послушай, как я за него замуж выходила. И смех и грех. С молитвой ложилась, с молитвой вставала, с молитвой садилась за стол. Славила господа бога и перед работой, и после нее. Удивляться нечему, в купеческом приюте воспиталась. Ни отца, ни матери не помню, — начала свой грустный рассказ женщина. — Пожаловал как-то к нам матросик. Сам — голь беспросветная, вот и решил засватать сироту. Выстроились мы, невесты, в линию, как солдаты. И у каждой на руках рукоделие. Посмотрел он на нате шитье… У всех одинаковое. И на лицо, кажись, одна под одну. Тогда сзади обошел. Увидел мою косу. А она ниже пояса. К свадьбе стали готовиться. Пошли к попу. Тот приказывает: «Три недели говеть. Иначе, — говорит, — исповедь не приму, а не приму исповедь — не повенчаю». Венчаться надо было в мужнином приходе. Иван пришел в мой приход, взял справку, что я и постилась, и исповедовалась. В приюте у нас насчет этого было строго: блюли. А поп из Иванова прихода — ни в какую: «Не верю сиволапому. Святости б нем нет: богохульник». Это он о нашем, о приютском. Три недели Ивану ждать нельзя — он уходил в плавание. Собрал магарыч, сколько уж там, не знаю, повел невесту к попу. Зашли мы с черного хода. Меня оставил в прихожей, а сам подался в светелку. Дверь не прикрыта. Я глянула в щелку. Гуляют у батюшки гости. Моему Ивану стакан поднесли. Поп мзду принял и согласился: «Сейчас исповедую рабу божью». Завалился ко мне в прихожую, дверь за собой поплотнее прикрыл. Ну и полез целоваться. Окаянный так ущипнул, что с месяц синяк не сходил. Признаюсь, я тогда больше за батюшку испугалась, чем за себя. Ну, думаю, за такое святотатство господь тут же зальет его горячей серой или лишит дара речи. Но ничего с ним не стряслось ни в тот момент, ни потом. Я подождала да и потеряла доверие к господу (если ты есть, то как можешь терпеть таких пастырей?) и уважение к попам. Обычные они смертные, все-то у них земное, даже грешат, как последний смертный. — А венчались? — вырвалось у Ольги. Каждое слово тети Маши она воспринимала как откровение. Но сейчас ей важно было знать одно: да или пет? Мария Петровна прижала голову девушка к своей груди: «Глупышка ты моя, глупышка». — Венчались. Выписал черт безрогий бумажку. Ольга с облегчением вздохнула. — А как же невенчанной… Стыдно перед людьми. Узнав об этих «требованиях-минимум», Борис Коган заявил: — Справка от попа будет. Ольгу тетя Маша поместила на ночь к себе, а Ивана Спиридоновича отправила к «холостякам», там ему выделили койку. На следующий день Борис отправился «к одному знакомому», к попу, а Сурмач с Иваном Спиридоновичем стали готовить «вокзальную встречу» Тесляренко с продавцом медикаментов. Ольга осталась па хозяйстве вместе с тетей Машей.* * *
Только было они с Ласточкиным уселись в кабинете, чтобы обмозговать, что к чему, как на весь коридор закричал радостный дежурный: — Тарас Степанович вернулся! Живой! Захлопали двери служб. Кое-кто закричал даже «ура!». — Тарас Степанович! Наконец-то! А Ярош — уже на пороге кабинета. — Разрешите доложить? Он по-приятельски поздоровался с Иваном Спиридоновичем. Тот подставил ладонь, и Ярош, будто бы с размаху, но в общем-то не сильно, хлопнул по ней. Увидел Сурмача, поднявшегося ему навстречу. Чуть отстранил Ласточкина и — к Аверьяну: — Ну, вот и встретились! — Он нежно, как доброго друга, обнял сотрудника экономгруппы. — Вовремя ты, Тарас Степанович, вовремя! — суетился Ласточкин, на радостях не зная, куда и усадить сотрудника, который, можно сказать, вернулся с того света. — Дел — невпроворот, а людей — сам знаешь. Твой боевой заместитель такое закрутил: банду выявил и заговор. — Он хитро подмигнул Сурмачу: мол, сам понимаешь, тут без пережима не получится. Ласточкин начал вводить Яроша в курс дела о махорочниках на базаре: — Известны — двое. Один из них — задержан: бывший председатель Щербиновского сельсовета Тесляренко. А на Жихаря уже санкция есть. Но пока решили не пугать. О втором из пятерки Волка: — Не нашли квартиру-лазарет. Зато знаем, что лошадей доктору готовил Штоль. А Штоль — это уличная кличка все того же Тесляренко. В воскресенье выведем его на вокзал, пусть поищет того, кто снабжал его медикаментами. Уверен, это лишь басни. Но когда станет ясно, что он водил нас до сих пор за нос, мы его поприжмем, и он расскажет, кому давал лошадей или с кем сам ездил. Доктора для этого случая подключим. Сурмачу хотелось порасспросить Яроша поподробнее о том, как прорывалась пятерка через границу, как напали на секрет и уничтожили его. А, если откровенно, Аверьян ждал, что Тарас Степанович подтвердит его вывод: окротделовца ударил прикладом пограничник Куцый. Но Ярош так углубился в подготовку операции «Вокзал», что перебивать его, отвлекать от основного занятия в то время было просто неловко. Пограничный инцидент принадлежал уже прошлому, операция «Вокзал» — будущему. «В следующий раз. И не мельком, а обстоятельно, со всеми подробностями…» — подумал Аверьян. На операцию «Вокзал» были мобилизованы все сотрудники окротдела. Узнав, что Коган еще не вернулся «от попа», Иван Спиридонович посетовал: — Напрасно я его отпустил. С попом успелось бы. А тут есть дело как раз по его суматошному характеру. И хотя начальник окротдела говорил безо всякого намека, Сурмач почувствовал себя виноватым: по его, Аверьяновым, делам уехал Борис. Задерживается. «Ну что Ольга артачится! Дался ей поп, черт бы из него пива сварил! А я еще и потворствую старозаветной блажи». Иван Спиридонович доводил до сведения чекистов разработанный им план: — Завтра — базарный день. Тесляренко надо доставить к нам из тюрьмы заранее. Этим займутся Сурмач и Ярош. Тарас Степанович, как, справишься? Или отдохнешь еще? — обратился начальник окротдела к раненому. — Да я же совершенно здоровый! — обиделся Ярош. Когда он сердился, карие глаза становились зеленоватыми и маленькими-маленькими. — Тогда под твою ответственность, — согласился Ласточкин. — Чтобы ни один волосок не упал с головы Тесляренко. — Вы меня знаете, — ответил Ярош. — Тесляренко одеть в обычную его одежду, — продолжал инструктировать сотрудников отдела Ласточкин. — И о «сидоре» подумайте. Ни одна деталь не должна ускользнуть от вашего внимания. Людей к поезду набьется, шила не просунешь. Так вот, чтобы эта толчея не испортила нам погоду… Словом, надо обеспечить оперативный простор для своих действий в этой давке. Пошлем человека четыре наших, пусть займут скамейки напротив выхода.* * *
Борис Коган появился под вечер. Радостный, торжествующий. Созвал в холостяцкую комнату всех коммунаров. Специально сходил за женой Ласточкина: «Тетя Маша — вы за посаженную мать». И начал свою комедию. — Венчается раба божия Ольга с большевиком Аверьяном, то бишь, с Владимиром! — торжественно объявил он. Ольга зарделась. Она никак не могла привыкнуть к странным выходкам Бориса. Он заставил Сурмача взять Ольгу за руку и заголосил: — Любишь ли ты, Сурмач, эту черноглазую дивчину, которая и мне самому нравится? — Пошел ты к черту! — выругался смущенный Сурмач. — Значит, любишь и согласен взять ее в жены, — истолковал Борис по-своему ответ Сурмача. — А ты, Оленька, любишь ли нашего Аверьянушку-Владимира и согласна ли выйти за него замуж? — Только… чтоб как у людей было, — пролепетала девушка. — Вот тебе справочка от батюшки; ты теперь венчанная. В яблонивской церковной книге про то есть запись, — он передал ей бумажку. Ольга так разволновалась, что даже не посмела заглянуть в справку. А хотелось, а нетерпелось… Вдруг эту церемонию прервал Ярош, сидевший до этого на своей койке у окна и молча наблюдавший за происходящим: — Перестань паясничать, Борис! И это было сказано с такой неприкрытой ненавистью, что все невольно повернулись в его сторону. Сурмача поразило выражение лица Тараса Степановича. Тонкие губы дрожат, посинели, словно бы он побывал в проруби и вот выбрался с трудом на хрупкий лед. Глаза — злые. Прищурил их, смотрит, не мигая: «зырит», сказали бы мальчишки-шахтарчуки и полезли бы в драку за такой взгляд. «Ты че?.. — Я ниче. А ты че? Во-от как дам!» «Чего он так? — подивился Аверьян. — Ну, строит Борис из себя дурачка… Так ото же шутя, всем на потеху, а другу Аверьяну и его Олюшке — на утеху…» — Тут — не балаган, — скрипел, словно старая ветла на осеннем штормовом ветру, Ярош. Он прошелся взглядом по лицам присутствующих и догадался, что его не понимают и не поддерживают. И тогда разъяснил причину своего неудовольствия. — Друга выбирают на всю жизнь, не стоит превращать серьезное дело в ярмарку со скоморохами. Надо в исполком, расписаться. О квартире подумать… А комедия с попом — за такое из партии надо исключать! …Ольга уже верила каждому слову Бориса. Она готова была пристроить Когана в красном углу вместо иконы и молиться на него, как на Николу-угодника.ОПЕРАЦИЯ «ВОКЗАЛ»
Ярош и Сурмач появились на вокзале в половине четвертого. Ярош оделся под деревенского, натянул почти на глаза шапку, спрятал бинт. И сразу стал неузнаваемым. У него даже походка изменилась, когда он, накинув на плечи огромный вещмешок, подошел к станции вместе с Тесляренко, который тоже нес поклажу. Сурмача поразило умение Тараса Степановича перевоплощаться. Раньше он считал, что чекист должен работать со «своим» лицом, а тут почувствовал, что порою и переодевание может пригодиться. «Любой спекулянт примет такого человека за своего, за горлохвата и не будет таиться». Неприятный, мокрый холод загонял людей в помещение. Перед приходом поезда пассажиров в вокзале набилось — не протолкнешься. Над головами плыл к потолку сизый махорочный дымок. Хотя курить и запрещалось, мужики попыхивали исподтишка, пряча огоньки в рукавах и кулаках. Здесь царствовал полумрак, и три лампочки, свисавшие с потолка, не в силах были с ним бороться. Сидит Тесляренко на скамейке, уставился на мешок в ногах, не смеет поднять головы. — А вы, дядя, оглядывайтесь почаще, оглядывайтесь — присматривайтесь, — постоянно напоминал Ярош. — А я што? Я ничего, — бормочет в ответ совершенно задавленный страхом арестованный. И это чувство обреченности четко прописано на его физиономии, оно во всей согбенной фигуре. «Да какой дурень к этой мокрой курице подойдет! — думал Аверьян. — На меня бы, так я его седьмой дорогой обошел, сразу видно, что тут дело темное». Он сердился на Тесляренко. И все же Сурмач начеку. Все слышит, все видит. Но… никто к Тесляренко не подходит. И он никого не окликает. И только когда уже захрапел останавливающийся поезд, глухо крякнул на перроне колокол и вся людская начинка вокзала хлынула к дверям, бывшего председателя Щербиновского сельсовета опознали. — Лазарь Афанасьевич! А брехали, что тебя арестовали — против Ленина шел, хотел подмять под себя Советскую власть. — Мужик хитрый, прищурил один глаз, голову чуть влево наклонил: знает все наперед, а выведывает. — Врали, врали, а твое какое дело? — огрызнулся Тесляренко. Ох, не хотелось ему попадаться на глаза односельчанина. А хитроватый щербиновец продолжал допытываться: — А ты, Лазарь Афанасьевич, случаем, не от суженой скрылся? А она там печалится. Завел зазнобу в Турчиновке! Тесляренко, как затравленный зверек, озирается, ищет глазами помощи у чекистов. Но те и виду не подавали, что знают его. Тесляренко не выдержал язвительного допроса и громко выругался: — А пошел ты со своей зазнобой знаешь куда! Его земляк рассмеялся: — Вот теперь вижу, что ты, Лазарь Афанасьевич. Расскажу твоей старухе, что видел тебя в полном здравии: лаялся последними словами. Поверит. А без матюков, без угроз что ты за Лазарь Афанасьевич? Так, тюлька соленая. В это время колокол прогудел еще два раза, и мужичка словно ветром сдуло. Поезд ушел, вокзал опустел. Следующий поезд должен был прийти через три часа сорок минут. Никто из чекистов уже не сомневался: дело не удалось. Тесляренко просто водил их за нос, а может, и того хуже: своим появлением на вокзале в Турчиновке кого-то предупредил: «Я попался». И все-таки дождались второго поезда. И опять бесполезно. — Обижайся теперь на себя, Лазарь Афанасьевич, — зловеще предупредил Ярош арестованного, когда они вышли на привокзальную площадь. — В «дурачка» поиграли достаточно, теперь в «свои козыри». А все твои — на чужих руках, собрать ты их не удосужился. Тесляренко люто глянул на чекиста, взмахнул тяжелым «сидором» и, ударив им Яроша по голове, бросился было бежать. Но Аверьян успел подставить беглецу ногу. Тот — тяжелый и громоздкий — со всего размаха грохнулся о землю. Сурмач подскочил и, не позволяя вывернуться, принять оборонительную позу, рывком заломил ему за спину правую руку. Тесляренко лежал ничком, не шевелясь. Аверьян было подумал, что задержанный, ударившись с лета о мостовую, потерял сознание. Но нет: широкие плечи под белым полушубком начали подрагивать, и послышался плач. Вначале Лазарь Афанасьевич поскуливал тихо, по-бабьи, а когда стали его поднимать, заголосил навзрыд. Встав, он начал неумело вырываться, выдергивая зажатую руку, затем в отчаянии попытался укусить чекиста. Удар по больной голове для Яроша оказался губительным. Едва доплелся до окротдела, и там у него началась рвота. — Лежать тебе, Тарас Степанович, да лежать, — посочувствовал раненому Иван Спиридонович. — Это, брат, контузия. Сразу за нее не примешься — инвалидом на всю жизнь можешь остаться. Ласточкин хотел отправить его в больницу, по Ярош запротестовал: — В такое-то время? Да мне больница и так осточертела! Я в ней окончательно закисну. Ну, отлежусь, ну, отдохну… — Тарас Степанович, ты делу нужен здоровый. А так мы тебя можем и потерять. — Но видя, как болезненно реагирует чекист на его слова, смягчился: — Черт с тобой… Оставим решать врачу. Вызовем Емельяна Николаевича, уж что он скажет. — Ласточкин оживился. Лицо — хитроватого мужика, который намерился обвести вокруг пальца купца. — Вызовем врача к тебе и устроим ему «случайную» встречу в коридоре с Тесляренко. Как они друг на друга посмотрят? Он позвонил в окружную больницу. Но Николая Емельяновича на месте не оказалось: «Уехал на вызов». — Вернется, пусть немедленно позвонит в ГПУ, начальнику, — предупредил Ласточкин дежурную медсестру. — У нас тут стало плохо чекисту, который но излечился от недавней контузии. Ярош откровенно порадовался тому, что врача нет на месте. Воспрянул сразу духом, приободрился весь: — Пока он не вернулся, я займусь Лазарем Афанасьевичем. Надо ковать железо горячим. Тесляренко вполне созрел для серьезного разговора. Иван Спиридонович пожурил его: «Оглашенный, загонишь себя». Но ото лишь для виду. Такая настойчивость и преданность работе импонировала старому коммунисту. Ярош распорядился, чтобы привели арестованного. — А ты, Аверьян, отправляйся в коммуну, — посоветовал он Сурмачу. — Решай свои семейные дела. Пока без тебя справлюсь, а потом подменишь. Сурмач вначале отнекивался, он видел, как плохо чувствует себя Тарас Степанович, но тот настойчиво уговаривал: — Да я из тех, кого работа лечит. Вернется турчиновский эскулап, запрет в лазарет, и я вконец там заплесневею. А пока буду чувствовать себя человеком. Ну что скажешь на такую мольбу? — Только вы тут себя не доводите до белого каления… — Иди, иди, жених. Превращайся в мужа. Да не забудь в свое время Тараса Яроша пригласить на крестины. — А я сейчас приглашаю. Только вы не забудьте придти в свое время.* * *
Борису Когану неделю есть-пить не давай, в черном теле держи, но позволь после этого часок пофорсить. Вот уж любил удивлять, ошарашивать, приводить в восторг, «сшибать с ног», ошеломлять неожиданностью. Стоит во дворе коммуны тачанка, запряженная парой коней. У буланого жеребца хвост от нетерпения — дыбом, и полощутся волосинки степным ковылем на ветру. А второй — гнедой, из молодых, кованым копытом по отвердевшей земле: «цок-цок». Гривы в косы заплетены, а в косах семицветье лент. Наскочил порывом ветер, озорно встрепал ленты, и заплясали они, словно лихая цыганка. Озорничает, аж в главах рябит. Борис — за ездового. Натянул вожжи, делает вид, что едва держит ретивых коней, а на самом деле горячит их. Молодых в исполком сопровождает все население коммуны. Ольгу ведет тетя Маша. Белое платье невесты боярским подолом метет по снегу, который сумел ухватиться за землю, когда расчищали дорожку дворницкой деревянной лопатой. Ольга готова была мерзнуть, лишь бы ехать в подвенечном платье. Но тетя Маша уговорила ее: — Пальтецо хоть накинь на плечи, долго ли простыть! Ольга уговорам уступила, но надеть хотя бы поверх фаты платок так и не согласилась. А в белой кружевной фате, красующейся кокошником, розовая от волнения, счастливая, она выглядела красавицей. По шутливым репликам в его адрес, по стремлению чем-то быть полезным невесте в то мгновение, пока она шла по веранде, спускалась по скрипучей лестнице, шествовала к тачанке, Сурмач догадывался: Ольга пришлась чекистам по душе. И он невольно гордился в тот момент ею: «Аи да молодчина, Аверьян! Углядел какую!» Невесту посадили на одну сторону тачанки, жениха — на противоположную: спинами друг к другу. — Еще наглядитесь — весь век у вас впереди. Тетя Маша — за посаженную мать — рядом с невестой. — Пока Иван Спиридонович занят в окротделе, я — за посаженного папу. Чем не посаженный, сижу за главного на тачанке. Захочу — в исполком отвезу, а взыграет душа — в чисто поле ускачу! — балагурил Борис. Ворота — нараспашку: — Р-р-аступи-сь! Р-р-азай-ди-ись, православные! И с места — в карьер. Аверьян — словно бы во сне. А все, что происходило, — это не с ним. Это не он, а какой-то другой, хотя тоже Аверьян Сурмач, стоял перед столом секретаря исполкома рядом со смущенной, счастливой Ольгой. Пожимала им руки женщина в шерстяном платке, наброшенном на плечи, озоровал верный себе Борис Коган. Внемля его словам, хохотали чекисты. «Муж и жена!» «Чудно!» А пока мужское население коммуны сопровождало молодых в исполком, женщины готовили свадебный пир: в Ленинскую комнату (залу, где мерз рояль), снесли со всего дома столы, стулья и даже табуретки, которые прозябали в подвале со времен бегства купчины. На кухне, которую никогда не использовали но прямому назначению, потрескивала сырыми дровами плита. То ли труба забилась, то ли печь остыла до основания, но тяги долго не было, дым почему-то шел не в трубу, а в щели чугунной дверцы. Не надеясь на плиту, призвали на помощь все три коммунарских примуса. Заправленные самодельным спиртом, они заворчали, расчихались было, но постепенно раскочегарились и потом делали свое дело привычно, безотказно. Что-то шкварилось-жарилось, прело, тушилось, выплескивалось, шипело. — Девчонки! Мясо сгорит! — Ой, еще картошка не начищена. — А масло для винегрета? Где масло? Кто его видел?* * *
Свадьба была шумной, веселой, озорной. Да и какой ей быть, если невесте — двадцатый годок, жениху — двадцать первый, и друзья — им под стать. Но вот резко встал из-за стола мрачный Тарас Степанович и бросил свадьбе упрек: — Устроили буржуйскую обжираловку! — И вышел из зала. Все как-то сразу притихли, почувствовав себя участниками черного заговора. Переглядываются. Аверьян до этого не задумывался, откуда взялось разносольное изобилие на свадебном столе. — Хлопцы, да наш Тарас Степанович который день животом мучается! Ему мясо — не впрок! Но женятся раз в жизни! И потому — горько! — Горько! — поддержала Когана тетя Маша, сидевшая по правую руку от Ольги. Но у Аверьяна кусок в горле застрял: ни туда ни сюда. «Откуда в голодное время это купеческое богатство?» Тетя Маша вышла из-за стола, подошла к Сурмачу и, полуобняв за плечи, шепнула на ухо: — Не суши голову! Ольга готовилась к свадьбе несколько лет. Рассказывала мне, как ждала тебя… И отложила три золотых пятерки из того, что получила за продажу дома. Едим-пьем не ворованное. Ну, горько! — притронулась она граненым стаканом к Аверьянову стакану. Но и после этого совесть Аверьяна продолжала мучить: «Люди голодают, беспризорников — армия, столько нужды еще повсюду, а мы… устроили обжираловку. Прав Тарас Степанович…» Он зыркнул на Ивана Спиридоновича, который сидел рядом. А тот переглянулся со своей Машенькой. Улыбнулся: — Или мы — не люди! Владимир Ильич с Надеждой Константиновной венчались в ссылке. Ты бы знал, какие преграды этому возводило царское правительство! И разрешения-то на проезд не давали, и в пути разные препятствия чинили. А Надежда Константиновна все-таки приехала к своему Володе. Местный кузнец им из медных пятаков «золотые» свадебные кольца выковал. Пришли друзья — такие же ссыльные, поздравили молодых, подняли заздравную чару за их счастье, разделили с ними радость. Человек во всех случаях жизни должен оставаться человеком, — заметил Ласточкин. — Во имя этого и революцию совершили. Сурмача поразили слова начальника окротдела: «Ленин — венчался в ссылке… И ради этого Надежда Константиновна приехала к нему в далекую Сибирь! И была там — свадьба, было застолье… Но… наверное, не такое обильное, как сейчас у него… Откуда у ссыльных деньги? Дома с садом и службами Надежда Константиновна не продавала…» Не мог Аверьян избавиться от чувства уничижения: «Все-таки в чем-то прав Тарас Степанович… Свадьба, скромная… это одно, и явная обжираловка — совсем иное». Но всем было весело. — Хочу танцевать! — вопил Борис, перекрывая общий гул. Еще не все песни спели, еще не натанцевалась вволю свадьба, когда в зал заглянул Ярош и от порога сообщил: — Иван Спиридонович, из окротдела дежурный звонит. — Что там у него? — спросил Ласточкин, которого затянуло в веселый водоворот свадьбы. — Требует вас. Срочно. Уж если дежурный даже в общих чертах не сказал Ярошу, зачем потребовался начальник окротдела… Ласточкин сразу посерьезнел. Гармошку передал кому-то из чекистов. — Тут, за меня… — и поспешил на второй этаж, где был установлен телефон. Танцы — завяли, разговоры — смолкли, веселье — сникло. Ждали, с чем вернется Ласточкин. Он явился темнее осенней тучи. Уже одетый. — Сурмач! Тарас Степанович! Со мною. Борис, тачанку, живо! Свадебный выезд… Еще не расплели на лошадях косички, еще красуются в гривах ленты. Такой фальшивой показалась в тот момент Сурмачу нарядная мишура — где-то стряслась беда, а они тут — свадьбу справляют. Невольно подумал: «Прав Тарас Степанович, упрекая…» Беря в руки нетерпеливо вожжи, Иван Спиридонович проворчал: — Тесляренко отравился. — Отравился? — невольно усомнился Ярош. — Но откуда у него яд? — Да уж конечно не из Щербиновки привез с собою! Сурмач его не однажды до ниточки прощупал. Аверьян вдруг почувствовал, что слова начальника окротдела каким-то образом взвалили па него часть вины за случившееся. Не он один проморгал, но главная вина — на нем. «Прошляпил. Но где? Когда?» По пути заехали в больницу за врачом. И тут — неудача. — А он третий день, как уехал по вызову, — сообщила дежурная медсестра. — Уж мы не знаем, что и подумать. Жена беспокоится, приходила к нам, спрашивала, не знаем ли мы чего. Он уехал ночью. Какие-то знакомые. Ребенок на борону сел. Емельян Николаевич его уже оперировал, но мальчику плохо. — Третий день! — подосадовал Ласточкин, когда они отъехали от больницы. — А мы и ухом не новели! Тарас Степанович, я тут займусь случаем с Тесляренко, а вы с Сурмачом берите ребят из оперативного состава — ив Щербиновку. Надо перекрыть дороги. Повезут назад врача, необходимо перехватить возчиков. Брать живыми! А после того, как их накроете, сделаете обыск у Тесляренко. Терять нам здесь уже нечего. Ярош подумал и возразил: — Сделаем обыск у Тесляренко — все его щербиновские дружки сразу смекнут, что к чему. Поэтому пока мы берем тех, кто повез Емельяна Николаевича, надо арестовать в Белоярове Жихаря. И этим пусть займется Сурмач. Упустим помощника Тесляренко — Жихаря, боюсь, что и зацепиться не за что будет. Ярош был прав. После смерти Тесляренко, который унес с собою тайну щербиновской хаты-лазарета, Жихарь оставался единственной ниточкой. И нельзя было позволить, чтобы она оборвалась. Скрепя сердце, согласился Иван Спиридонович на арест Жихаря. — Чувствую, промахнемся мы тут. Проморгали уже Тесляренко, из-под носа увели такого свидетеля! Даром хлеб едим! — сердился он.«КТО ДАЛ АРЕСТОВАННОМУ ЯД?»
В обстоятельствах смерти бывшего щербиновского председателя сельсовета разбирался сам Ласточкин. Прежде всего подозрение пало на бойцов из войск особого назначения — ОСНАЗ, охранявших арестованного. Один из них был коммунистом, а двое — беспартийные. Все говорили приблизительно одно и то же. В ночь перед выходом на вокзал Тесляренко почти не спал. Все сидел в углу. С вокзала он вернулся какой-то издерганный, нервный. Его часа два допрашивал Ярош. Но после повторной контузии (удар по травмированной голове тяжелым вещмешком) его тошнило. Изнемогая, он пару раз вызывал дежурного: «Покарауль этого… А то рвота из меня душу вынимает, боюсь ослабеть, а он смотается…» Часа через два Ярош все же вынужден был попросить дежурного: — Вызови охрану, пусть возвращают его на место. Тесляренко увели. Сопровождали его двое бойцов. Один из них, по фамилии Безух, в ту ночь дежурил по внутренней тюрьме и незадолго перед смертью Тесляренко сопровождал арестованного в уборную, находившуюся в глубине двора. Но при первом собеседовании скрыл этот факт. Безуха вызвали на допрос. Это был сутуловатый, болезненного вида человек лет тридцати пяти. Впалые щеки землистого цвета, глубоко запавшие глаза, подведенные синевой подглазины. Стоит перед грозным начальником окротдела — руки по швам. Синюшные губы покусывает. Глаза налились страхом. Ни единой мысли в них. — Почему умолчал о том, что водил Тесляренко в гальюн? — допытывался Ласточкин у бойца, на красных петлицах которого были вышиты крупные буквы — ОСНАЗ. А тот — ни слова в ответ, ни полслова, лишь таращит глаза на начальника окротдела. «Из последних трусов!» — подумал Сурмач, с открытой неприязнью рассматривая Безуха. «Мог или не мог этот человек передать яд или отравить Тесляренко?» Сурмач решил: передать яд не мог, для этого нужна смелость, тут дело рискованное, а отравить — легче. Трусливого тянет на подлость. Ласточкин был спокоен, словно допрос шел по заранее разработанному им плану. Он ни разу не повысил голос, не требовал от Безуха немедленных ответов. Поняв, что осназовец отупел от страха, сказал как-то просто, по-домашнему: — Садись, Иван. Воды дать или закурить для успокоения? Безух отказался от всего: — Благодарствую… И это рабское, старорежимное «благодарствую» (словно бы половой в трактире, получивший чаевые) окончательно убедило Сурмача, что Безух в чем-то виноват, вернее, чувствует себя виноватым. «А если за тобою ничего нет, то что же ты трусишь?!» Иван Спиридонович настаивать не стал: «не хочешь, как хочешь, была бы честь предложена», и спросил: — С англичанами приходилось тебе встречаться? Ошарашил Безуха такой вопрос. Озирается по сторонам, словно ищет опоры, поддержки. Неуютно ему в тесном кабинете начальника окротдела. — Нет, не приходилось. — А с немцами? На остреньком, пегом носу допрашиваемого выступили росинки пота. Стер их тылом ладони: — Нет. Сурмач наводил о нем справки: Безух из местных, многодетный, живет с женой ладно, детей любит, особенно старшую — дочке четырнадцать лет. Мужик хозяйственный, да и как иначе — семь ртов надо кормить. По службе — исполнительный. «Мог или не мог такой отравить Тесляренко?» Сурмач уже давно бы прямо обо всем спросил допрашиваемого, а Иван Спиридонович все вокруг да около ходит. — А мне приходилось сталкиваться и с немцами, и с англичанами, — неторопливо, в раздумье продолжал Ласточкин. — Знаешь, как они нас всех окрестили? Иванами. Вся Русь для них — Иваны. Вот какое большое имя у нас с тобою, Иван Карпович, — не без гордости закончил начальник окротдела. — Выходит, мы, Иваны, в ответе за нашу державу, на ее будущее перед своими детьми. Они, наши строгие судьи, во всем потребуют отчет. К удивлению Аверьяна, Безух преодолел свой страх: — Только я, Иван Спиридонович, не виноват ни в чем. Струхнул малость — это верно. Да кто тут спокойным останется, по делу выходит, будто я арестованному что-то дал. — А как было? Боец тяжело вздохнул, зачмокал губами, собираясь с мыслями. Махнул отчаянно рукой: «Эх, была — не была!» — Я в тот день на смену пришел пораньше. Взводный дает распоряжение: «Сходишь с Плетневым в окротдел, доставите арестованного». Привели мы его, и я заступил на пост. Несу свою службу. Обхожу камеры, заглядываю в глазок. И вот вижу: сидит этот, которого мы привели из окротдела, в углу на корточках. Мордой в руки ткнулся. Сидит и сидит. Я через окошко спрашиваю, мол, дяденька, что с тобою? А он поднял голову, глянул на меня: глаза мутные, страшные, ну вот как у смертельно раненного. У меня аж мурашки по спине поползли. Опять допытываюсь: «Что с тобою?» — «Ничего», — говорит Ну, ничего и ничего. Понимаю: был у него в ГПУ серьезный разговор, вот и переживает. А он через полчасика кличет меня, за живот держится: «Хочу по нужде». Открыл камеру. Вывел его. Долго он сидел в уборной. Я даже заглянул к нему раза два. А он побелел и корчится. Ну, я тут струхнул: думаю, учудил он чтой-то над собой, а меня под трибунал. Считай, на себе отволок его в камеру. Разводящего вызвал. А когда тот пришил, арестованный уже скончался. Выговорился Безух. Глаза просветлели, в них мысль какая-то появилась, сбросил человек с плеч непосильную ношу. — А я не виноват. Ей-богу. Я же за Советскую власть два ранения имею, одно — в ногу, тяжелое. Он готов был сию минуту продемонстрировать свои шрамы. Но Иван Спиридонович успокоил его: — Я тебе верю. Иди. Безух ушел, унося с собою затаенную радость. Иван Спиридонович постоял посередине комнаты, задумавшись, потом спросил Аверьяна: — Ну что, Сурмач, скажешь? Аверьян не сразу нашелся, что ответви. Сбил его с панталыку рассказ Безуха. — Черт его знает… Может, и не брешет. — Черт, может, и не знает, а мы с тобой — обязаны. ОСНАЗ — отряд особого назначения — нес караульную службу у государственных учреждений, под его охраной находилась и внутренняя тюрьма. В ОСНАЗ принимали бывших фронтовиков. Жили осназовцы в обычных домашних условиях, а в отряд являлись лишь на дежурство. И все же ОСНАЗ был чекистской базой, нередко бойцы ОСНАЗа становились со временем оперативными работниками. Так неужели яд арестованному Тесляренко передал кто-то из осназовцев? Может быть, и не Безух, ведь в точение полутора педель во внутренней тюрьме дежурили многие. В общем-то это была удобная и спасительная мысль, она позволяла снять подозрение с Ивана Безуха. Но… она могла увести и от истины. А как важно было сейчас чекистам знать истину. Что значило перепроверить весь отряд? Это надо было просмотреть все личные дела, побеседовать с каждым. И не однажды. Попытаться нащупать связи с внешним миром. Словом, работы на несколько дней. И надо было бы съездить в Белояров, как планировалось вначале, но времени для этого не выкроили. Провозились три дня — и никаких результатов, ни одного даже самого пустяшного намека, где искать. — Может, Ярош прольет свет на это темное дело? Тарас Степанович вернулся со своей группой на следующий день, к вечеру. Злой. — Если у Тесляренко и было что в хате, то давно исчезло. И доктора не видели. С какой стати мы решили, что он уехал в Щербиновку? Трое суток мерзли, перекрывая дороги! Иван Спиридонович вконец расстроился: — Чувствую, с Емельяном Николаевичем случилась беда: неделю пет дома. А насчет Щербиновки — это точно. Первый раз за сим приезжали, говорили: «Мальчишка на борону напоролся». И в этот раз — та же басня. А как с Тесляренко вышло? О смерти Тесляренко Ярош тоже ничего конкретного сказать не мог. — По-моему, он после операции на вокзале свихнулся. Говорил бессвязно, нес какую-то чепуху. Да вы в протоколы загляните. А насчет яда… Ума не приложу. Своих обвинять не решаюсь. Так можно и меня, и Сурмача, и вас, Иван Спиридонович… Только крякнул начальник окротдела при таком перечне подозреваемых. — Уж очень ловко сработано. Казалось, все они у нас в кулаке. Оставалось добраться до щербиновской квартиры. И в один миг как топором рубанули: концы в воду — и не за что ухватиться. — А Жихарь? — подсказал Тарас Степанович. Ласточкин отмахнулся: — До Белоярова руки не дошли. Работали с осназовцами. Про себя — молчу. А вот он, — показал на Аверьяна, — пятый день женат, а родную еще в глаза не видел. В коммуну не ходили, здесь ночевали. Ярош вскипел: — Но мы же договаривались! Жихаря следовало взять до обыска у Тесляренко! А теперь явимся на пустое место. Вы это понимаете? Ласточкин понимал. — Нельзя сразу сесть на два стула, если они в разных городах. — Осназовцы — никуда бы ни делись! А Жихарь — союзник Тесляренко. — Не Жихарь передал яд арестованному, а кто-то из нас, или из осназовцев. Здесь искали! — резко ответил Иван Спиридонович. — Искали! А что толку? — Неизвестно, какой был бы толк, если бы занимались Жихарем. — Да теперь-то уж, думаю, никакого не будет: вторые сутки на исходе, как мы перетряхнули все в доме Тесляренко. Надо было исправлять положение. — Возьмем Жихаря и Серого, который каким-то образом связан с Вольским; по крайней мере, вместе ходили за контрабандой. Иван Спиридонович собрал у себя всех, кто должен был принимать участие в предстоящей операции. — Вы, Тарас Степанович, берете с Коганом Жихаря, мы с Сурмачом — Серого. Разработали подробный план, уточнили все детали. Дотошно начальник окротдела вникал во все мелочи, требовал от каждого скрупулезного знания своих обязанностей. Коган откровенно радовался предстоящему хлопотному делу: — Хоть встряхнусь немножко, а то закоржавеешь, плесенью покроешься, копаясь в бумажках, и слопают тебя мыши, приняв за какую-то старую подшивку.* * *
Добрались до Белояровской милиции. Матвей Кириллович оказался на месте. Он только что вернулся с происшествия: в селе Гусаковке ловко воровали скот, особенно лошадей. — Думаю, кто-то из своих. Сурмач объяснил ему цель приезда. Опытный милиционер предложил послать вначале Цветаева разведать обстановку. — Петькино войско на Николая Жихаря имеет свои виды и следит за каждым его шагом. Вскоре появился Петька с двумя ведрами воды. Дядя Вася, как и обычно, помог ему втащить их в Дежурку. Увидев Сурмача, Петька с обидой сказал: — Ушился твой Жихарь! Вот! — Как это «ушился»? — вырвалось у Аверьяна. — А просто. Четыре дня тому они с Серым пригнали подводу. Затянули в нее два здоровенных ящика, притрусили соломой и укатили. Им помогал нищий с толкучки, тот, с бородавкой на носу. Прозрел, гад. Мотался — будь здоров. А лошадей нахлестывали, словно за ними волки гнались. — Чего и следовало ожидать! — резко заметил Ярош и тем самым возложил всю ответственность за случившееся на начальника окротдела, который в свое время пренебрег его советом. — Четыре дня тому? — вслух размышлял Сурмач. — Четыре дня тому и… с Тесляренко… Ярош выразительно пожал плечами: «Откуда мне знать!» — В любом случае арест Тесляренко заставил всех его сообщников насторожиться, а мы им дали время принять меры и скрыться. «Четыре дня, как отравили Тесляренко… Четыре дня, как скоропалительно исчез Жихарь со всеми своими…» Аверьяну не хотелось бы видеть в этом связи, пусть уж лучше простое совпадение. Но факты! Чекисты разделились на две группы. Иван Спиридонович и Сурмач отправились к Серому. С ними пошел начальник милиции. Долго никто не отзывался на стук. Тетя Фрося открыла лишь тогда, когда Аверьян с начальником милиция попытались высадить дверь. — Где Грицько? — спросил Аверьян, войдя в темную хату. — Где-то запропастился… Как ушел неделю тому назад… В доме ничего подозрительного не нашли. На чердаке тоже. Во дворе и на огороде прощупали землю шомполом. Никаких тайников. Заглянули в коровник. Переворошили сено. Тут-то Иван Спиридонович и наткнулся на какие-то рваные бумажки, втоптанные в землю под стеной сарая. Собрал их, принес в хату и начал очищать от грязи, взяв у хозяйки чистую тряпочку. Вначале Аверьян не придал значения находке, а на занятия начальника окротдела смотрел с легкой иронией. Он был уверен, что Серый, если имел что-то, уличающее его, то давно все спрятал или уничтожил. Внимательно присмотревшись к мятым обрывкам, Ласточкин прочитал слово «Штоль». — Ого! — воскликнул он. — Да нашего Тесляренко в этом доме, похоже, неплохо знали! Еще раз обыскали весь двор. Но в темноте не много разглядишь. Пришлось ждать рассвета. Как только рассвело, поиски возобновились. И усилия не пропали даром: обнаружили еще один обрывок записки. Ее порвали на клочки, потом скомкали. Некоторые совсем затерялись. Прочитать удалось всего несколько слов: «Штоль… лея. Печать срочно… Доктор в ГПУ… начей». — «…начей». «Казначей». Это же Казначей, Иван Спиридонович! — радостно воскликнул Аверьян. Начальник окротдела улыбнулся: — Не шуми. Сам вижу. — А Казначей писал печатными, — отметил Иван Спиридонович. — Конспиратор опытный. Теперь многие факты вытягивались в одну цепочку. «Штоль… лся» — «попался». Затем: «Печать срочно перепрячьте». Какую еще печать? И самое тревожное: «Доктор в ГПУ…» Выследили! И вот увезли из города. Вернулись в милицию. Ярош и Коган были уже там, они справились со своим заданием довольно успешно. — В домике у Жихаря была подпольная типография. Вот! — Борис показал пачку листовок. В подвале у Жихаря нашли несколько гор-стен шрифта, металлические линейки, забытые, видимо, второпях, и пуда три—четыре розовой бумаги в листах. Узнав о содержании записки, которую Иван Спиридонович нашел во дворе у Серого, Борис заявил: — Печать — это же типография! — Прошляпили, — сердито пробурчал Ярош. — Вначале все-таки надо было взять Жихаря и Серого, а потом уже делать обыск у Тесляренко. Ошибка. Промах… Иди предугадай, как будут развиваться события! Но чекист должен быть семи пядей во лбу, обязан знать все наперед. Если чекист ошибается — торжествует враг. Казначей!.. Мысль о том, что невидимый враг где-то рядом, не давала Сурмачу покоя. Бандит даже приснился Аверьяну. Плечистый дядька со всклокоченной, грязной бородой. У него через плечо висела толстая кожаная сумка, набитая царскими золотыми пятерками и десятками. Он потряхивал ею и насмехался над Сурмачом: «Накось, выкусь!» Со всеми своими сомнениями на следующий день Аверьян пришел к Ивану Спиридоновичу. Но специальный дежурный у дверей остановил его: — Наказано никого не пускать. Подивился Сурмач, но делать нечего, и направился к Борису выяснить, в чем же дело. Борис,хлопнув себя по щеке, пояснил: — Кашу заварили! У нашего балтийца сидит представитель губотдела. Интересуется Казначеем. Ласточкин освободился только после обеда, когда проводил на поезд товарища из губотдела. И первым вызвал к себе Яроша. Беседовал с ним долго, а отпустив, пригласил Сурмача. — Ну, что ты думаешь о Казначее? — Он о наших делах знает не меньше нас самих. Значит, он — среди нас. А коль так — тут стоит проверить каждого. И без обиды. Начинайте с меня. — И Ярош считает, что надо проверять всех поголовно. И вот еще что: до тебя, Сурмач, у нас в окротделе ни о каких Казначеях слыхом не слыхивали. Сурмач побагровел. Он готов был возмутиться. Но Иван Спиридонович, видя, как в одно мгновение перевернуло сотрудника, примиряюще сказал: — Не сердись. Не от веселья так шучу — от обиды, от горечи. И опыт есть, и смекалкой бог не обидел, злости к нашим классовым врагам — на троих хватит. А вот чувствую, что все же чего-то не хватает. Знаний, — вдруг решил он. — Академий особых не кончал. А надо бы. Ох, как нашему брату-чекисту нужны знания! — Иван Спиридонович прошелся по кабинету. Повернулся к Аверьяну. — Губотдел просит у нас человека в школу ГПУ. Закончим это накостное дело, выловим подручные Волка, найдем его «наследство», и отправлю я те бя, Аверьян, в столицу. Затрепетало от радости сердце. Но он только кивнул головой. — Проверять, конечно, будем. Служба наша такая… — подытожил Ласточкин. — Но никакой Казначей без неопровержимых фактов не заставит меня смотреть на товарищей-соратников искоса, с недоверием. Нет среди нас предателей, так я думаю! Однако к концу дня произошли события, которые заставили по-иному взглянуть на все происходящее: исчез Безух, боец ОСНАЗа, охранявший когда-то Тесляренко. С шести вечера он должен был заступить на дежурство, но не явился. Тревогу подняли почти сразу. Допросили жену. Она заявила, что муж ушел еще утром. Кто-то позвал его. А кто — она не видела, возилась на кухне. — Безуха надо было арестовать, — заявил возмущенный Ярош. — Элементарно! Выяснили, что он скрыл важный, уличающий его факт, а мер не приняли. Расчувствовались: жена, дети. А он спрятал за этим обывательским свою классовую сущность. Скрылся и спасибо не сказал ротозеям. «Да, надо было», — теперь Сурмач думал так же. Но как не поверить столь правдивому пояснению поступка, какое дал Безух тогда: «Испугался, все было против меня». А главное, как он все это говорил! Голос! Выражение лица! «Так где, где эта граница между доверием и го-ло-во-тяп-ством? Между подозрительностью, оскорбляющей, унижающей друзей, и бдительностью?» Когда закончилось совещание, Ласточкин всех отпустил, а Сурмача попросил задержаться. Он сидел за столом, положив перед собою большие жилистые руки. Казалось, изучает синие жилки, которые переплелись на тыльной стороне кистей. А Сурмач не сводил взгляда с начальника окротдела. И прокрадывалась в сердце упругая жалость. Ну, сказал бы Иван Спиридонович: «Сурмач, прыгни в огонь!» Прыгнул бы. Прыгнул, если бы чем-то мог помочь человеку, которого безгранично уважал. Наконец Иван Спиридонович заговорил: — Глянуть со стороны на то, что у нас делается, — нетрудно подумать, будто мы даром хлеб едим. Н-да… Всех упустили: Тесляренко, Жихаря, Серого, нищего с базара, а теперь и Безуха. Как он мою веру в людей подсек! Да… За такое ротозейство, Аверьян, надо отдавать под трибунал. Ты, Иван Спиридонович, оказался вражеским пособником, помог врагам отечества. И даже если ты это сделал без умысла, зло, которое ты причинил, не стало меньше. — Отпустите меня в Щербиновку, я обойду все хаты, наймусь в батраки к какому-нибудь кулаку, но хату-лазарет разыщу. — Аверьян наседал на Ласточкина, спрашивал, требовал: — Вы мне верите? Верите? Встал Ласточкин, оперся руками о край стола, как оратор на трибуне. Но сказал совсем тихо, по-простецки: — Верю. Нашел бы… Только временя у нас в обрез. И по такому случаю есть в губотделе соображение: не сходить ли тебе в Польшу? По дороге познакомишься с контрабандистами и на той стороне встретишься с нужным человеком. «Со Славкою Шпаковским!» — догадался Аверьян. Но догадок своих высказывать не стал. «Вот когда скажут, что к чему…» — Не прольет ли этот человек свет на наши темные дела? — А как же! Высветит! Ласточкин улыбнулся: — Поживем — увидим. Но об этом до поры, до времени — ни другу, ни приятелю. — Само собою! — обиделся Сурмач. Начальник окротдела сделал вид, что не обратил внимания на тон. — Для наших в окротделе придумаем причину попроще: надо побеседовать кое с кем из пограничников по старому происшествию в секрете. Словом, держи хвост револьвером. От ободряющих слов на душе у Аверьяна стало светлее.* * *
Разговор с Ласточкиным заставил Сурмача вновь вспомнить о своих подозрениях в отношении пограничников Куцого и Тарасова. «А нет ли у Тарасова связи с Безухом?» Сурмач решил поговорить с Ярошом. Тараса Степановича он застал в экономгруппе. Тот еще и еще раз изучал список людей (жителей Турчиновского округа), которых когда-либо задерживали пограничники с контрабандой. — Неплохо бы проверить, кто из них имел отношение к банде батьки Усенко. Не верю, что Волк оставил бывших своих подчиненных в покое. Ты, Сурмач, когда-то разоружал сотню Семена Воротынца, почти всех видел в лицо. Не смог бы сейчас при встрече опознать хотя бы некоторых? — Не ручаюсь. Разве я в тот момент приглядывался к лицам? Было не до того. Да и темно. — А попробовать стоит. Вот тут есть адреса… Одних — вызови, потолкуй, других — сам проведай. «Ну что ж, с чего-то начинать надо!» — согласился Аверьян. — Тарас Степанович, вот не идет у меня из головы одна догадка: я и так, и эдак прикидывал, что произошло в секрете, и выходит, что вас огрел прикладом Куцый. А как оно на самом деле было? Ярош откинулся на стуле. Поглядел пристально на Сурмача и ответил: — Как оно было? Приехали мы на заставу. Свавилов расставляет секреты. Ну и я попросился в какой-нибудь. Он предложил мне вместе с Иващенко и Куцым, мол, ребята надежные. Познакомились. Иващенко мне сразу понравился. Свойский парень, из конармейцев. А Куцый — уж очень странным показался. Все о чем-то шептался с командиром отделения, да так, чтобы я не слышал. Ну, я и не навязывался в поверенные. Пришли. Тарасов отвел мне место за тем же пнем, что и Куцому, только по другую сторону. Я просился к Иващенко. Но, сам понимаешь, гость. Сказал отделенный: «Нет». Я и притих. Им виднее. Ночь холоднющая. Снег под тобой талой водой напоен и чавкает, лишний раз не шелохнешься. Сколько лежали так — не скажу, я уже, грешным делом, начал подумывать, что напрасно влез в эту затею. Но вдруг зачавкал под ногами идущих снег. Я достаю наган. Взвожу курок. Идут. Цепочкой. Сколько — не видно. Но чувствую — много. Жду, что предпримут пограничники. Иващенко крикнул: «Стой! Руки вверх». А они — открыли стрельбу в несколько стволов. Вижу, на нас мчатся. Иващенко выстрелил. Он лежал за пнем, который был метрах в пяти от меня, поэтому я его не видел. Тьма — хоть глаз выколи. А тут — выстрел. Я тоже в кого-то пальнул. Что-то такое темное. И в тот момент инстинкт мне подсказал, что рядом — человек. Кто такой? Откуда взялся? Я хотел к нему повернуться, даже наган вскинул… И все. Очнулся в больнице. — Куцый! — торжествовал Сурмач. — Чего не знаю, того не знаю. Старшим в наряде был Иващенко. Бывалый, спокойный. Пока Тарасов нас выводил к секрету, мы с Иващенко успели перекинуться несколькими фразами, и он мне сразу понравился: степенный такой мужик, добродушный С юморком. В секрете я все внимание отдал ему. Куцый — мальчишка. Двадцать первый год. Заносчивый такой… — Он! — настаивал Аверьян. Ярош выдвинул ящик стола и достал конверт. Он был самодельный, из коробистой серой бумаги. Распечатан, торчит уголок письма. — В нашем деле, Аверьян, поменьше всяких догадок. А вот объективные сведения. Когда ты приехал ко мне в Молочное, в больницу, и высказал свои подозрения, я начал сопоставлять факты и анализировать их. Потом попросил знакомых ребят из губотдела дать мне почитать личное дело Куцого. Он из Винницкой губернии, село Пятихатки, то есть местный. Прошелся я по списку ближних родственников. А когда уже вернулся из больницы, попросил Когана навести о них справки в Пятихатском сельсовете: не якшался ли кто из них с бандитами, нет ли кулаков среди них. И вот ответ, — он протянул конверт Сурмачу. Тот извлек письмо. «Куцый Стефан Данилович, 58 лет. Живет своим домом в селе. Воевал на австрийском фронте. Был в плену. Вернулся в двадцатом. Имел семь десятин поля, три десятины сада и луга. Сад и луг числятся за падчерицей, три десятины отписал дочери. Куцая Матрена Поликарповна, 60 лет. Дочь мельника, убитого в русско-японскую. От первого мужа Казимира Полонского прижила дочь Ядвигу, а от Стефана Куцого — сына Стефана и дочь Вроньку. Ядвига бежала из Пятихаток в двадцатом году. Сказывали, что сейчас в Польше, за офицером. Стефан служит где-то на границе, письма пишет постоянно. А Вронька на Спасов день вышла замуж за Сташенко Петра, из Пятихаток, и живет при родителях». — Ну, что скажешь? — спросил Ярош, принимая письмо от Сурмача. — Да вот эта Ядвига… Как о ней пишет председатель сельсовета? Не уехала, а сбежала. В двадцатом. Это значит, с каким-то белополяком… — Самое интересное, что пограничник Стефан Куцый о своей старшей сестре в автобиографии даже не обмолвился. Скрыл, что имеет за границей родственников, да еще таких: замужем за белополяком. Сурмач вспомнил еще одну деталь: «десять десятин поля, сада и луга». — Бедняцкой семью Куцого по назовешь. А как он в документах записал? — Тут у него все в порядке. «Из середняков». Сад и луг записаны на сбежавшую Ядвигу, — пояснил Ярош. — Дом остался от Казимира Полонского. Его зарезали на какой-то свадьбе. А поле Стефан Данилович поделил между дочерью, которая сейчас уже Сташенко, и сыном. Вернется пограничник из армии — четыре десятины его. — Не вернется, — подытожил Сурмач. — Вы об этом обо всем, — кивнул он на письмо, лежавшее на столе, — в погранотряд или в губотдел сообщили? — Когда? Письмо из сельсовета пришло только вчера. Куцый, видимо, был связан через сестру с польской «Двуйкой», а через «Двуйку» — с Волком… Если раньше у Аверьяна и могли быть какие-то сомнения на этот счет, то теперь окончательно исчезли. «Вот побываю у Славки Шпаковского, и все подтвердится», — думал он.НОЧНОЙ РАЗГОВОР
Как-то под вечер в коммуну примчался радостно взволнованный Борис Коган и, заключив Сурмача и объятия, начал трясти его: — У-р-р-а! Сегодня смотрины, завтра новоселье. Нашел! Хоромы! Царю на зависть! «Царскими хоромами» оказалась крохотная комнатенка в хате под соломенной крышей, Хозяйка этих чертогов — вдова «замордованного» поляками сторожа железнодорожных пакгаузов. — Оксана Свиридовна, — пропела она, протягивая Аверьяну пухлую и мягкую, как у ребенка, руку. — Сколько надо платить? — спросил Сурмач. Хозяйка отмахнулась: — Договоримся. Сами видите, никому не сдавала. А это так, для хороших людей… Скучно одной. Новоселье было скромное. Выпросили у коменданта ГПУ тачанку, перевезли кровать и корзину с чемоданом. Борис «организовал» огромный ящик из-под спичек. — Один начинающий непман от своего достатка уделил, — посмеивался он. Это стол. Хозяйка расщедрилась, дала старенькую лавку. — Все ничего, только вот прохладно, — поежился Аверьян, когда снял куртку и на него пахнуло застоялым воздухом нежилого помещения. — В холоде лучше сохранишься, — похлопал Коган друга по плечу. Ольга тут же принялась наводить порядок. Что такое счастье? Говорят: большое, настоящее, личное, маленькое, чужое… Но как его намерить? Чем? На фунты? На метры? На литры? Нет! Мера ему — человеческое сердце. Вот, казалось бы, и не с чего, а улыбаешься. В глаза любимой глянул — и чувствуешь, что счастлив. — Оля… Он подошел к ней. Она замерла с вышитым полотенцем в руках, так и не постелила его на подоконник. Притихла, присмирела. Ждет, прижав руки к груди. — Оленька… — Что? — Ничего… Ему приятно произносить шепотом ее имя. Это как клятва на верность. Не надо уже таиться, опасаться каждого угловатого движения. Одни. И весь мир: солнце и звезды, ветры и небо, поля, шуршащие спелой пшеницей, — все радости земные, выдуманные и невыдуманные, поселились в тот миг в крохотной комнатке с отсыревшим углом и покатым полом. Ольга сидела на кровати, ноги калачиком. Руку мужа к себе на колени положила — поглаживает. — А вот эта рука мне подсказала, что я за тебя замуж выйду, — таинственным шепотом сообщила она. — Рука? — Ну да. Ночью, накануне, как ты в Журавинке появился, я видела сон. Мы с тобою бежали по лугу. Солнышко такое… А цветов! А цветов! Ты меня за руку держишь и за собой ведешь. — Я? Да как я мог тебе присниться, если ты, пока я в Журавинке не появился, в глаза меня не видела и даже не подозревала, что я есть на белом свете! — А вот видела! — торжествовала Ольга, чувствуя свою правоту. — Лица я не помню, а руки… Ты нарвал ромашек и подаешь мне. «Погадай на счастье», — говоришь. Я и увидела руки… Они у тебя очень добрые. Вот ты иногда сердишься. Нахмуришься, мысли у тебя холодные, мне непонятные. А руки всегда ласковые, добрые. Как душа. Когда ты к нам в хату зашел, я просо толкла… Ты держишь в руках инструмент. Я как глянула на руки, так и узнала их. А в голове шум стоит: «За мной пришел». Сны на святую пятницу всегда сбываются до захода солнца. — Сны — поповские бредни! — не удержался он от замечания. Ольга не обиделась. — Я попам теперь не верю, — заявила она. — Борис — еврей, а поп ему благословение продал. Значат, не от бога оно, раз его купить можно. У нее была своя логика, свой взгляд па мир, на события, происходящие в нем. Она прижалась к руке Аверьяна мягкой, нежной щекой. И все недовольство, которое льдинкой всплыло в сердце, начало исчезать. «Ладно, когда-нибудь поймет, что без попов и богу не на чем держаться». Он сменил тему разговора. — Ты теперь жена чекиста, и запишут тебя на веки вечные в мое личное дело. Но и о ближних родственниках спросят: твои отец-мать, братья, сестры. Отец утонул еще в гражданскую, мать умерла — это я знаю. А вот сестра Катя? Помнится, она тогда ушла из Журавинки вместе с Семеном Воротынцем? — Да. У Кати ребеночек должен был родиться. Аверьян уловил в рассказе Ольги какую-то важную новость. Еще не осознавал, какова она, но уже ощущал ее присутствие. — Где же Катя теперь? — У родителей Семена Григорьевича, в Щербиновке. Они тогда ее забрали. Только Катя мертвенького родила. Не пошел ребеночек, задохнулся. — Что же… так у стариков и по сию пору живет? Нетерпеливое возбуждение заставило вначале Аверьяна сесть, а потом встать с кровати. — Босыми ногами… Пол земляной, застудишься, — забеспокоилась Ольга. Он подсел к ней. — Ну, про сестру, дальше… — Ничего, — ответила Ольга, не понимая, чего он от нее ждет. — Так при них и живет. — А Семен Григорьевич? — Он за границей. Ушел тогда со Щербанем. Аверьян чувствовал, что жена не договаривает. Не умела она таиться, все у нее на виду, а тут — какие-то недомолвки. Глаза прячет. Он взял ее за подбородок, приподнял голову. — Оля! Ты чего? — Катя опять ребеночка ждет. Они в доме работника держат, так вот… Катя с ним прижила ребеночка. Ольге было стыдно за сестру. Она в душе осуждала ее, но в то же время сочувствовала. Сурмач удивился: «Живет в доме свекра, а любовь крутит с батраком. И свекор все знает. Как же он с этим мирится?» — А ты… этого… ну, работника, видела? — Угу Некрасивый такой. Семен Григорьевич лучше был. «Эх, бабий ум». — Твой Семен Григорьевич бандит. Сколько он людей загубил! А ты — «лучше был», — попрекнул Сурмач жену. Она стушевалась и быстро, скороговоркой оправдалась: — Я же про то, что он моложе… У Сурмача появилось желание посмотреть па старика, который позволяет невестке хороводиться с батраком, полюбоваться на свою новую родственницу, на ее очередного возлюбленного. «Старики круты нравом, порядки любят строгие. Чем же взял этот батрак, что ему так много позволяют?» — А не съездить ли нам к Кате в гости? — предложил Аверьян и подумал: «Ольгина сестра живет в Щербиновке, где находится хата-лазарет». Ольга обрадовалась предложению. — Правда? А я так боялась, что ты прошв Кати. Ну, за Семена Григорьевича сердишься. — Вот выберу время — съездим, — пообещал Аверьян. — Бориса с собой прихватим… При первом же удобном случае Сурмач рассказал о своем замысле Ивану Спиридоновичу. Тот долго расспрашивал обо всех подробностях, а потом согласился: — Ну что ж, ото дело стоящее, проведай свояченицу.ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ
Однако на этот раз побывать в Щербиновке Аверьяну не удалось. Из погранотряда на имя начальника окротдела пришло письмо: «Сотрудника ГПУ А. И. Сурмача приглашают на третью заставу». — Может, что-то о Куцом прояснилось? — предположил Аверьян. Он рассказал Ласточкину о том, что Куцый скрыл важную деталь своей биографии: его старшая сестра в свое время ушла с белополяками, видимо, с офицером и сейчас живет в Польше! — Есть письмо из Пятихаток, от председателя сельсовета. Я говорил Ярошу, что надо обо всем написать в погранотряд, а он считает, что достаточно сообщить в губотдел. — Факт неприятный, — согласился Ласточкин. — Но Ярош прав, губотдел погранохраны сам уже позаботится, а наше дело — сообщить по инстанции. Сборы в дорогу — недолги: побывал дома, сказал Ольге: «Еду… Когда вернусь — не знаю», затем сообщил Ярошу: «Вызвали на заставу». Тарас Степанович обиделся и тут же пошел к начальнику окротдела: — Иван Спиридонович, почему мой подчиненный получает задание через мою голову? И второе: почему на заставу приглашают только Сурмача? Все, там случившееся, меня касается в не меньшей степени. Мне необходимо побывать на месте происшествия, посмотреть на обстановку свежим взглядом. Вот у Сурмача есть кое-какие подозрения в отношении двух пограничников. Пока это всего лишь одни подозрения… Но они любопытны, и разобраться в них было бы желательно. Сел Ярош из скамейку. Тонкие губы сжал. Нога на ногу, ладошка на ладошку. Ласточкин выбрался из-за стола. Сел рядом с обиженным на лавку. — Тарас Степанович, ну чего ты лезешь в бутылку! Если по полным меркам — ты еще больной. Я тут совершаю преступление, позволяя тебе заниматься делами, тебя надо в больницу. И — на месяц, не меньше. Ты погляди на себя в зеркало: зеленый, как весенняя лягушка, губы — синюшные. Глаза блестят, словно у того, что в тифу бредит. И правильно решили в погранотряде, что ты где-нибудь сейчас на курорте восстанавливаешь силы. Но Ярош не слушал никаких доводов: — А очутись вы, Иван Спиридонович, на моем месте, отлеживались бы в больнице? Нагуливали бы на курортах буржуйский живот и шоколадный загар? Нечего ответить начальнику окротдела. В невольном смущении потер ладошкой нос: — Уел! Что уж там… И я этих больниц терпеть не могу… Но если приневоливает необходимость! — Побывать на заставе — это необходимо, — решил Ярош. — Дело зашло в тупик. Может, удастся оттуда потянуть ниточку? Ведь что интересно? Двоюродная сестра Безуха Анастасия замужем за… командиром отделения третьей заставы Тарасовым. Свадьбу отгуляли в прошлом году. Вот когда покинула Сурмача сдержанность: — Безух и Тарасов знают друг друга! Что же вы об этом молчали, Тарас Степанович! — Не просто знают, а состоят в родственных отношениях! — Досаде Ласточкина не было предела. — Проверяешь-перепроверяешь всех сотрудников, и вдруг однажды выясняется, что где-то проморгал. И не просто «где-то», а в самом опасном месте. — Теперь понятно, почему Тарасов на меня смотрел волком, когда я приехал на заставу разобраться в происшествии, — вспомнил Аверьян. — «Пока чужих не было, у нас ничего по случалось», ишь, куда гнул, тень на плетень наводил! Спрашиваю замначальника Свавилова: «Чего ваш отделенный бука букою?» Он отвечает: «За друга переживает. Они с Иващенко еще в Конной вместе служили». Я и поверил. Посочувствовал. А он другу — пулю! У! Контра! Он! Он через Безуха снабдил ядом Лазаря Афанасьевича! Аверьян был в этом абсолютно уверен. А вот Ярош, вечный сомневающийся, не согласился. — Я бы так категорично не утверждал. Тарасов был знаком с Безухом — это факт. А все остальное пока — гипотезы, которые требуют доказательств. — Каких еще доказательств! — горячился Сурмач, досадуя на Яроша. — И слепому видно! — Слепому — не может быть видно. А померещиться — вполне, — парировал Тарас Степанович. — Наше дело, Сурмач, добывать факты. Я лично верю только фактам, вернее, цепочке фактов. Я еду на погранзаставу вместе с Сурмачом, — решил Ярош. Ласточкин воспротивился: — Какая погранзастава! Я тебя сейчас по приказу отправлю в больницу. С креста краше снимают! — Не слишком ли много мы за последнее время всего проворонили?! Давайте оборвем последнюю ниточку! Я против Сурмача ничего не имею — с хорошей чекистской хваткой, дотошный. Но вы чувствуете, как он настроен? «Яд для Тесляренко передал через Безуха Тарасов». Да он тут таких дров наломает! Рассорит нас с пограничниками, вспугнет причастных, если такие есть. «„Если такие есть…“ Почему Ярош ставит под сомнение все?» — Мне с Тарасовым детей не крестить, — пробурчал Аверьян. — И если он работает на «Двуйку» или на Волка — чего тут играть в прятки. После такою «милого» разговора Ласточкин уже не отговаривал Яроша от поездки на границу вместе с Сурмачом.* * *
До конечной станции Разъезд они добрались без особых приключений. Ярош отмалчивался, Сурмач на разговор не набивался. Обоим, видимо, были неприятны воспоминания о стычке в кабинете начальника окротдела. За приземистым, как бы вдавленным в землю зданием станции, у небольшой коновязи приехавших поджидал уже знакомый Сурмачу красноармеец-проводник. Он удивился, когда узнал, что окротделовцев двое. — А помдеж приказал мне: «Заберешь того белобрысого в потертой кожанке». Ярош позеленел от подобных слов. — Нас — двое! — А как же быть? — недоумевал проводник. — Ничего, доберемся! — заверил Аверьян. — У меня ноги крепкие, десять верст для них — пустяк. Второй раз следует Аверьян по этой лесной дороге в погранотряд. Но тогда он ехал верхом, сейчас топает пешком. А пешеход видит мир иначе, чем конник, и воспринимает все четче, ближе. Погружается лес в полутьму, окутывается туманцем, смахивающим на старую рваную сеть: в одном месте стачаешь — в ином полезет. Холодно в эту пору деревьям-великанам, пронимает их непогода. Поплотнее бы им прижаться друг к другу, вон как молодые сосенки-елочки, почти в обнимку. Ольха у них в компании: побурела кора, от туманов набухла. Осина белоствольная тут же пристроилась. Притихла, будто побаивается, что вот-вот на нее прикрикнут: «А ты куда?» Громады-сосны уж слишком степенны, каждая хочет доказать всем остальным, что она самая важная и значительная персона в этом лесу. Притих лес, будто ушла из него жизнь. А чуть распогодится, выпадет снежок, прикроет земную наготу белой скатертью, укроет искристой шубкой кусты, что зябко ощетинились голыми сучьями, и тогда затарахтят похожие на яблоки-райки краснобокие снегири, застрекочет говоруха-сорока, сообщая лесному миру сплетни-новости. Ночью заухают, застонут сычи, нагоняя суеверный страх на случайного прохожего. Самозабвенно любил Сурмач лес. В любую пору. Может, потому, что близок его духу, понятен разноголосый шум дубрав? Его не пугал даже ночной вой молодых волков, которые где-то на опушке застигли добычу, сами уже наелись до отвала и вот вещают о своей радости старшим по рангу. Через час—два на этот вой явится матерый волчище, отец и вожак стаи, надерет мяса и понесет его в своем желудке первогодкам, которых греет в логове мать… Проводник несколько раз предлагал Сурмачу свою лошадь: — Передохни, я ноги разомну. Все-таки десять перст. Но Аверьян отказывался: — Кто ходит пешком — живет долго. В нем сидело ощущение сродни вот такому: взялся за гуж, не говори, что не дюж. Он отдал лошадь, присланную за ним, Ярошу. А если бы воспользовался предложением проводника, то лишний раз напомнил бы о несуразной ситуации Тарасу Степановичу, чем уколол бы его самолюбие.* * *
Головастый помдеж погранотряда Александр Воскобойников встретил Сурмача, как доброго друга, с которым не виделся вечность: жмет руку, по плечу радостно хлопает. Но и он, увидев вместе с Аверьяном Яроша, удивился: — Чего вы вдвоем-то приперлись? Эта обычная для общительного человека манера «приятельского» обращения покоробила Яроша. Сурмач поспешно, как тогда на станции, у коновязи, проводнику, объяснил, что с ним прибыл старший, тот самый, которого в секрете… Воскобойников зашумел на Сурмача: — Ну ты совсем тронулся! Пешком десять верст. Уж коль так не терпелось, звякнул бы со станции, как в прошлый раз, я бы выслал навстречу, верстах в семи отсюда перехватили бы. «И в самом деле…» — Аппетит нагуливал. — Ну, тогда, прежде чем на заставу, в столовку. У нас сегодня лапша по-флотски. С мясом! Язык проглотишь! Он повел их в столовую. Воскобойников своим дружеским прямодушием растопил-таки ледок, который заморозил было душу Яроша. Уминая хваленые макароны, Тарас Степанович спросил: — Вызывали-то нас зачем? — Понятия не имею, — ответил Воскобойников. — Застава соскучилась по Сурмачу. Вы у нас числитесь среди раненых. — Выкарабкиваюсь в люди, — ответил польщенный Ярош. — Работа лечит. — Это точно! — согласился Александр Воскобойников и начал рассказывать историю своего деда, «которого работа лечит до самой смерти». С заставы прибыл коновод-проводник. Он пригнал лошадь для «товарища из окротдела». Лошадь, конечно, была одна. К этому уже следовало бы привыкнуть, но Яроша вновь покоробило. — У вас в отряде для меня лошадь найдется? — спросил он у Воскобойникова. — Лошадь-то найдется, — замялся тот. — Но пропуска на вас нет. Выписан па Сурмача. Представляя, как сейчас вскипит Ярош, Сурмач поспешил растолковать помдежу: — Мы с ним — по одному делу. — Но пропуск заказан на одного. А без пропуска на погранзаставу — ни-ни! После того случая в секрете на третьей — тут так всех причесали. Свавилову — выговоряку, начальника погранзаставы чуть было под суд не отдали, но помиловали — списали на гражданку, и все. Так что без пропуска — и не суйся. Это тебе Воскобойников говорит. — А Воскобойников сказал — заметано, — пошутил было Сурмач, испытывая неловкость перед Ярошем. — Кто выписывает пропуска? — спросил Тарас Степанович. — Выписывает помдеж, но заказывает его теперь для посторонних губотдел погранвойск, а подписывает командир погранотряда. Его сейчас нет. «Что делать?» — Поезжай один, — решил Ярош, — раз уж все так осложнено. А я подожду тебя здесь. Вернется начальник погранотряда… — Да он уехал с инспектором по заставам. Это дня на три. А столько времени находиться постороннему в погранотряде… Воскобойникову неприятно было выставлять окротделовца за ворота… Но что поделаешь: служба есть служба. Сурмач в душе негодовал: «Развели тут… разных Куцых и Тарасовых, а не по делу проявляют сверхбдительность». Он отошел с Ярошем в сторону: — Как мне там себя вести? Встречусь с Тарасовым… — Ты ничего не знаешь… Он — командир отделения заставы… А остальное — оставь за мною. И никакой отсебятины, иначе все дело запорешь. Тарас Степанович взял с Сурмача слово, что тот не обмолвится па заставе ни о сестре Куцого, которая проживает в Польше, ни о жене Тарасова, которая является двоюродной сестрой Безуха, отравившего Лазаря Афанасьевича во внутренней тюрьме.* * *
Хорошо, когда у тебя есть друзья, хорошо, когда ты им нужен. Свавилов поджидал гостя, стоя у ворот. От заеложенного полушубка, в котором красовался в прошлый раз, оп избавился. В шинели. Подтянутый. Настоящий командир. Он принял у Аверьяна повод, когда тот соскочил с коня. Ноги подзатекли. Пришлось поразмяться. — Жду-жду… Уже Воскобойникову звонил: «Где Сурмач?» — «Выехал». Я опасался, что Александр не сумеет отправить назад Яроша. — А зачем это потребовалось? — невольно насторожился Сурмач. — Тут тебя ждет одно задание… «Одно задание! Встреча со Славкой!» — догадался Аверьян. Сколько надежд он возлагал на эту обещанную ему встречу со Шпаковским! Сколько вопросов он задаст другу при встрече! Свавилов принес карту-трехверстку сектора погранзаставы. — Все тропы и лазы ты должен знать не хуже настоящего контрабандиста. Задание тебе предстоит боевое… Пожалуй, повеселее того, которое выполнял в Журавинке. — А про Журавинку откуда известно? — удивился Аверьян. — А нам с тобою работать в паре, так что уж я постарался узнать, что ты за фрукт и чего стоишь. Свидетель рассказывал, как ты с двумя гранатами в сарай к бандитам зашел и беседу проводил. Приятны Сурмачу эти слова. В них суровое солдатское уважение. — Надо привести с той стороны человека, очень нужного нашей контрразведке. По он, конечно, не та невеста, которая спит и во сне видит, как ее ведут к венцу. Опытен. Опасен. Изучали карту. Свавилов рассказывал об особенностях района погранзаставы. — Сплошные леса. Надо бы делать вырубку вдоль границы, да руки пока не доходят. Отсюда все сложности. Утром у Аверьяна состоялась встреча с представителями контрразведывательного отдела погранохраны губернского ГПУ. Свавилов привел Сурмача в кабинет начальника погранзаставы и вышел, кивнув на прощание приветливо головой. В кабинете были двое. Оба — в гражданском. Один — постарше, лет пятидесяти, сидел за столом. Второй, заслонив собою окно, оперся руками, заложенными за спину, о подоконник. — Аверьян Иванович, — обратился к Сурмачу тот, который сидел за столом. — Мы долго подбирали кандидатуру для этой… я бы сказал, деликатной операции. Щербань. Говорит вам о чем-нибудь фамилия? — Казначей в сотне Семена Воротынца! — невольно воскликнул Аверьян, загораясь нетерпением предстоящей встречи. — Ушел он тогда в Журавинке от нас. — За все злодеяния, которые совершены им на территории Украины, Щербань заочно приговорен судом к высшей мере. Но дело не только в этом. Щербань на сегодняшний день является главным резидентом, который подбирает и засылает к нам агентуру. Сейчас он вновь появился в стражнице, в магазине для контрабандистов. А если уж Щербань вблизи границы — жди неприятностей. И прорыв пятерки в районе третьей заставы — это, думается, не единственная акция. Словом, есть острая необходимость заполучить Щербаня. Понимаете сложность операции? Аверьян понимал: — Щербань — не простак. — Ну так как? — спросил тот, который постарше. — Что «как»? — не понял Аверьян вопроса. Он был весь во власти нетерпения. — Вы можете отказаться от участия в операции, — сказал тот, что помоложе. Он вновь вернулся к окну и подпер подоконник спиною. — Почему? — удивился Сурмач. — Я его тогда в Журавинке упустил, я его и возьму. — Но деликатность состоит в другом: Щербаня надо выманить на нашу сторону… В крайнем случае — вывести к самой пограничной полосе. Мы ищем с Польшей мира, и у нас начинают налаживаться межгосударственные отношения. Так что никаких инцидентов, которые можно было бы использовать враждебным элементам в целях антисоветской пропаганды. Аверьян и это понимал: «Все — без шума!» К нему подошел тот, который стоял у окна: — Аверьян Иванович, Щербань нужен живой. Он очень много знает. Уж в этом плане у Сурмача были свои виды на Щербаня: «Поможет! Поможет распутать загадку гибели секрета да и дружбы Тарасова с осназовцем Безухом». Тот, что постарше, кивнул: — Вашу кандидатуру для этой операции рекомендовал ваш друг. — Славка?! — Нужен такой человек, которому бы он доверял, как самому себе. Аверьян и это понимал. В душе он был благодарен Славке Шпаковскому: «Вспомнил так-таки обо мне! Аи да Славка! Молодчина!» Два дня ушло на подготовку. Свавилов заставил назубок выучить схему района заставы. — Подойдешь на ту сторону с опытным проводником. Ты его знаешь. Он тебя доставит туда и обратно, — пояснил замнач Сурмачу. — Но всякое может случиться, так что дорогу надо знать, чтобы при необходимости вернуться самому. Аверьяна переодели в гражданское, в «цивильное», как говорил Свавилов. Дали штаны из самодельного суровья, крашенные фиолетовыми чернилами, старую стеганку, какую-то шапчонку и десять долларов. Это тоже па всякий случай. Никаких документов и, конечно же, никакого оружия. Впрочем, вместо документов он выучил биографию Ивана Слободенюка из Турчиновки. Путь на ту сторону начинался не от заставы, как думал Аверьян, а из глубины своей территории. Свавилов провел его к хозяину тайной корчмы и сказал всего одно слово: — Вот. — И ушел. В тот же день, когда уже стемнело, хозяин корчмы переправил Аверьяна в одну избушку, верстах в пятнадцати от границы. Это была лесная сторожка, затерявшаяся в дебрях соснового бора. Сурмач еще никогда не переходил государственной границы. На фронте не однажды доводилось гулять по вражеским тылам. Но, пересекая фронт, он совсем иначе чувствовал себя. И по ту сторону была своя земля, свои люди, которые ждали тебя, были рады тебе. Лес, лес… Угрюмый, настороженный. Лишь иногда зашуршат слегка макушки сосен. Под ногами — болото. Хорошо, что его успел схватить легкий морозец, и кочки не проваливаются, выдерживают человека. Государственная граница Союза Советских Социалистических Республик. Где ее пересекли «контрабандисты», которых вел Юрко Шпаковский? Шли осторожно. Порою подолгу стояли, вслушиваясь в непонятные звуки ночи. Но, видимо, только для Сурмача они были чужими, непонятными. Вот Юрко скомандовал, и «контрабандисты» побежали. А потом, тоже по его команде, начали расходиться. И все молча, понимая скупые жесты проводника. Поднял человек руку: «Я пошел». Получил в ответ кивок: «Иди». Как-то все уж слишком просто, будто детская игра.УБИЛИ ПРЕЗИДЕНТА ПАНА НАРУТОВИЧА
Славку Шпаковского трудно узнать, так он переменился. Был тощий, длинный. А теперь налился силою. Чуточку раздобрел. И к его приятному, с румяными щеками лицу человека, который по утрам обливается холодной водой, удивительно шли черные усики-стрелки. Одет франтом. Лихо сидит на нем шинель, узкие галифе. С высокими задниками и твердыми голенищами сапоги… Пан. Но это внешняя сторона, а душой он прежний. Тискает Аверьяна в объятьях, будто проверяет крепость костей. — А мне Юрко тогда говорит: «Видел Сурмача. В кожанке». Вот я обрадовался: нашелся Аверьянчик! А потом решили брать Щербаня. Спрашивают: «Кто бы мог? Кому ты доверяешь?» Говорю: «Сурмач. Другого не знаю, кто мог бы такое деликатное дело без осечки сделать». Славко от удовольствия похохатывает. Голос у него стал басовитым, солидным. В доме, куда он привел Сурмача, видимо, жила женщина. На высокой, резной, с финтифлюшками, спинке деревянной кровати, застланной розовым познанским покрывалом, — халат красного шелка. На тахте дремлет пушистый кот — этакий домашний тигренок. Погладил Славко его мимоходом по легкой расчесанной шерсти, он выгнул спину, потянулся со сна сладко, как барчук, и что-то замурлыкал, запел свое. Затем соскочил на пол и начал тереться боком о сапоги человека, в котором признавал хозяина. Славка закрыл плотные, двойные занавеси на окнах, снял шинель и, повесив ее на плечики у дверей, посоветовал Сурмачу: — Раздевайся — Здесь отдохнешь и поговорим. А ночевать Юрко отведет тебя в другое место. — Дом чей? — спросил его Аверьян, еще раз осматривая обстановку. — Одна половина пани Зоси, — за брата ответил Юрко, — а во второй — мы с мамой и Славкой. В его ответе Сурмач уловил непонятный намек. О чем он предупреждал гостя? А может, просто подтрунивал над братом. — Невеста? Догадавшись, какие сомнения тревожат друга, Шпаковский пояснил: — Наша стражница особая. «Двуйка» отсюда перебрасывает своих агентов за границу. А Зося ведает учетом агентуры, которую стражница засылает в Советский Союз. Если она выйдет замуж, то ей придется расстаться с этой работой. Ну, теперь что-то уразумел? — Кое-что. Юрко принес в ведре картошку. Начал ее чистить. Аверьян не мог оставаться безучастным, попросил нож. — Помогу. Славко колдовал у стола, расставляя тарелки, раскладывая ножи и вилки. «Барином живет», — отметил Сурмач. По его понятиям нож нужен для того, чтобы нарезать хлеба, мяса, еще чего-нибудь. А если ешь картошку, то зачем нож? Поддерживать еду на вилке, пока несешь ее от тарелки ко рту? Но, коль ты такой ротозей, то возьми ложку! Всю войну прожил Сурмач без вилки, не умер с голоду: ложка в кармане или за обмоткой… Она выручит. — Как ты на стражницу попал? — поинтересовался Аверьян. Славко отмахнулся: мол, не спрашивай. Сурмач решил, что пришло время поговорить о деле, ради которого он перешел границу. — Славко, ты не знаешь, у Щербаня были свои люди на погранзаставе? — спросил он. — Да как тебе сказать… — задумался Шпаковский-старший. — Они работают против нас, мы — против них… Всего я, конечно, не знаю… Но когда я сидел еще в магазине, я вывел Щербаня на одного хлопчика, на Стефана Куцого. — Как ты вывел? — не поверил Аверьян своим ушам. — Да это он долбанул прикладом нашего Яроша! Славко встал, прошелся по комнате. Заскрипели сапоги, вторя шагам. Постоял. Достал из узкого кармана галифе серебряный портсигар. — Будешь? — предложил он. А потом, вспомнив, что Аверьян не курит, взял папиросу и громко захлопнул крышку портсигара. Прикурил от замысловатой зажигалки: дернул за ухо, а изо рта разъяренного льва выплеснулся огонек. — Как получилось… Щербаню нужен был «свой» человек на одной из застав. Я доложил об этом в ГПУ. Было ясно, что Щербань проверит и перепроверит. Ну и прислали на третью заставу новичка… Я Щербаню говорю: «Попробовать бы… Сестра у него в двадцатом сбежала от Советов. Сейчас замужем за офицером генштаба. Отец — из зажиточных: десять десятин земли». Как Щербань выходил на Стефана, я не знаю: сватанье состоялось уже без меня. — Но Куцый не написал в автобиографии, что его сестра сбежала с белополяком… — воскликнул Аверьян, холодея от мысли, что все его предыдущие предположения о Куцом идут прахом. — И я… в то же время ушел с белополяка-ми, — ответил Славко, — и не пишу в автобиографии, что служил в Красной Армии. Сурмач почувствовал себя круглым дураком. Таращит глаза на друга: — Так что, она… как и ты? — А об этом не суши голову, — улыбнулся Славко. — Но скажу одно: кому надо было знать, где Стефанова сестра, тот знал. Нет, не мог! Не хотел! Не имел права Аверьян согласиться со всем, что узнал от Шпаковского. — Но он, он, твой Стефан, долбанул нашего Тараса Степановича прикладом. И ты его считал своим, и Щербань. А кому он больше служил? Пришло от Щербаня задание: «Пропустить сегодня ночью пятерых». А тут случайно Ярош подсунулся. По всем планам Куцого третьего в секрете быть не должно. Ну вот он и убрал лишнего свидетеля. Славко нервничал. Смял папиросу, бросил в топку плиты, отодвинув кружок одной из конфорок. — Что я могу ответить? Не знаю. Как, что произошло в секрете? Я о прорыве узнал поздно, послал Юрка, но он не успел оповестить Свавилова. А о чем и через кого Щербань предупредил Стефана — понятия не имею. — Через кого же еще? Через Тарасова. Командир отделения! Это он пристрелил второго в секрете, Иващенко. — Говорю же — не знаю! — Он! Сурмач рассказал о том, как они у себя в Турчиновском округе нащупали было следы к пятерке, которую послал через границу Волк с особым приказом. — Их можно было брать… А один уже сидел у нас. Но его отравили, или сам принял яд. А помогал боец ОСНАЗа — Иван Безух, шуряк этого Тарасова. Чувствуешь, куда ниточка тянется? Славка лишь посочувствовал Сурмачу. — Возьмем Щербаня, может, просветлеет это темное дело. Что у меня под носом делается, я и то не всегда знаю. — Только как же его через границу? — недоумевал Аверьян. — Через границу — это наше с Юрком дело. А на той стороне встретят. Но как его взять? Осторожный, как напуганная кошка. Один не ходит, всегда при нем пара молодцов. — На именины придет, — заверил Юрко, закончивший к этому времени чистить картошку. — И без этих самых своих холуев. Он налил в ведро воды, тщательно вымыл картошку и вышел по хозяйственным надобностям во двор. — У Зоей завтра именины. Приглашает и Щербаня. Он обязательно придет, Зося ему нужна. Подопьет. Я попробую вывести его во двор. Но брать надо его в одно мгновенье и так, чтобы мышь не всполошилась. Сам понимаешь. Хватятся искать Щербаня почти сразу, так что времени — в обрез. Уразумел? Вернулся со двора Юрко, принес дрова. — Что-то случилось на стражнице, — сообщил он. — Тревогу объявили. Сержант Януш так спешил, так спешил… Шинель одевал на ходу. И тебе велел передать. Славко с Сурмачом переглянулись. Оба забеспокоились: «Что бы это могло значить?» — По тревоге мне положено быть на стражнице. Пойду. Юрко, Аверьяна на всякий случай — в схрон. Славко ушел, Юрко отвел Сурмача в тайник, выкопанный в сарае: лисья нора, у которой было два выхода. Тьма — как в дальнем штреке в шахте. Под боком охапка примятой соломы: ложишься на нее, а она не хрустит, лишь податливо шуршит. Залег, как медведь в берлоге. Неуютное местечко. Гнетет душу недоброе предчувствие. Наливает тревогой. Скупы звуки подземелья. В лаве — не просторнее, тоже — на пузе живешь: работаешь, передвигаешься, саночники уголек вытаскивают — волокут за собою небольшое корыто на деревянном полозе. Но в шахте к Аверьяну никогда не приходило ощущение западни. Там его разведчиками были упавшие камешки. Как они падают — осторожно или бойко, захруститперед этим уголек или просто зашипит газовый родничок, замурлычет сытым котенком. В тесной лаве все было знакомое, привычное, поэтому казалось безопасным. Здесь же, в этой поре, где тянуло легким сквознячком, — все чужое. «Западня! Отсюда можно вылить парой ведер воды, как мышь-полевку из норы». Аверьян постоянно ловил себя на том, что он боится неизвестности, которую породила фраза, сказанная Юрком: «„Объявили тревогу!“ По какому поводу? Уж не стало ли кому-то известно, что минувшей ночью с особым заданием перешел границу чекист? И он где-то неподалеку от стражницы». «Придут… А у тебя даже нагана нет. Не отстреляешься… Последней пули для себя не сбережешь. Выкурят из этой дыры, свяжут по рукам и ногам, отвезут на допрос к тому самому Щербаню, за которым ты пришел. И получится, как в той пословице: пошел за шерстью, а самого побрили». «Выбраться! Вырваться!» Но удерживала на месте привычка к дисциплине. …И он уснул. Неожиданно, сразу. Привиделась ему Ольга. Взявшись за руки, они бежали по просторному лугу, где росли ромашки. Много-много ромашек. Цветы расступаются, открывая двум счастливым дорогу, а пропустив их, вновь встают непреодолимой упругой стеной. Но откуда-то взялся Борис Коган. — Аверьян, Аверьян, — шепчет он. Нет, это не Борис, это Юрко. Он дергает Сурмача за ногу. — Славко вернулся. Сурмач вылез из норы, отряхнул с себя солому. — Такое случилось! Такое случилось! В Варшаве убили нашего президента пана Нарутовича. Кордон закрыли, поставили засады на тропах контрабандистов. — Юрко говорил шепотом. — Что ж теперь? — Славко думает, — заверил паренек. На этот раз Юрко привел Сурмача уже не к пани Зосе, а к себе в комнату. Там их ждал Славко, встревоженный, хмурый. Строг. Сдержан. Это была первая черта его характера, о которой до сих пор не знал Аверьян. — Обстановка изменилась. На границе усилены посты. Пришел приказ задержать всех контрабандистов. Сурмач увидел в этом новую возможность. — Так мы этого самого Миколу и возьмем под шумок! — Не тот человек, — возразил Славка. — И где его теперь искать? Но уходить отсюда с пустыми руками Сурмач не мог. Есть приказ: переправить па ту сторону хозяина магазина. Да, обстановка измелилась. И если Сурмач вернется не солоно хлебавши, никто его не упрекнет. И, возможно, через какое-то время сделают вторую попытку взять Щербаня. Но этим будет заниматься уже не Аверьян. Он не виноват в неудаче, но… все равно причастен к пей. И потом, когда еще удастся сделать вторую попытку? Сколько уйдет времени? Месяц? Год? За это время пятерка, присланная Волком, соберет «наследство» и, натворив черных дел, уйдет восвояси. А люди, для которых это не останется тайной, будут думать: «ГПУ даром хлеб ест!» — Я без Щербаня вернуться не могу! — решил Сурмач. — Понимаю, — согласился Славко. — Пока он на кордоне — и взять можно, и переправить легче. А вернется в Краков, к себе в штаб, ну-ка добудь его. Надо помозговать. А это натощак у меня получается плохо. Юрко, как твоя картоха? Посинела от холода? — Я ее в одеяло закутал, поставил на перину и маминой подушкой накрыл, — улыбнулся Юрко и, разведя руки в стороны, показал Аверьяну: «Во какая подушка!» Здешние подушки Сурмач знал — была одна такая у Ольги. Спать на ней невозможно — гора горою. Но она считалась необходимой принадлежностью супружеской кровати, ее клали поверх одеяла, как некий символ, как украшение. Заговорили братья о пустяшном. «Картошка… подушки…» и тревога на сердце начала опадать. Вспомнив о своей Ольге, Аверьян подумал о Славкиной Зосе. Захотелось ее увидеть. «Какая она?» — А пани Зоей все еще нет? — спросил он. Славка на мгновение замялся. Вопрос застал его врасплох. Но он не думал что-либо скрывать от друга, просто подыскивал нужные слова. — Лучше теперь вам не встречаться. — За меня боишься или за нее? — насторожился Аверьян. — И ни за тебя, и ни за нее. Зося знает, что я воевал в Красной Армии. Ну и обо всем остальном догадывается, — рассказывал Славко, — она мне немало помогает. Но после смерти президента пана Нарутовича Польша расколется на два лагеря. Вернее, она уже раскололась. Сурмач не понимал, о чем идет речь. Он знал, что Нарутовича президентом выбрали недавно — в газетах писали. И, кажется, дружно. Он об этом сказал Шпаковскому. Тот покачал головой: — Пан Нарутович — либерал, оп хотел, чтобы все жили одной, дружной семьей: Речью Посполитой. А в Польше есть и коммунисты, есть и фашисты. — Кто же его убил? — спросил Сурмач, сочувствовавший президенту. — Художник Невядомский. Фашист. 10 декабря президент посетил осеннюю художественную выставку. Невядомский выстрелил ему несколько раз в спину. — Арестовали? — Да. — Почему же несчастье должно разделить Польшу? — недоумевал Сурмач. — Горе, наоборот, в кучу сбивает. — При аресте Невядомский заявил, что Нарутовича на президентское место посадили евреи и враги Польши, — продолжал рассказывать Славко. — А пан поручик Костинский, начальник стражницы, уже зачислили фашиста Невядомского в «национальные» герои Польши. — Твоя Зося тоже? — Нет, она умница. Но пока ничего конкретного о моей работе она не знает. И лучше ей не знать. Как все теперь повернется — неизвестно. Может, ей придется расставаться со стражницей. После хорошего сытного ужина друзья проболтали о всякой всячине чуть ли не до утра. Аверьян рассказал о том, как женился: — На Ольге… Она нам в Журавинке помогала. Помнишь? Славко помнил все до мелочей. Надул щеки, ткнул их пальцами: «Пф!» — показав, какой симпатичной пухляночкой была девчушка. — Это я тебе ее сосватал! — улыбнулся Славко. — Говорю: «Лучше парня не бывает, держись его!» Послушалась. Эх, молодость! Ты хороша тем, что не умеешь оглядываться. Да тебе и оглядываться не на что — у тебя еще нет прошлого — только будущее. Ты ничего не знаешь о сложности мира, ты еще не умеешь отвечать за других — только за себя. И в этом неведении — твоя сила. Ты, как конь в бою с шорами на глазах, смело идешь на преодоление любых препятствий. Поэтому ты можешь побеждать даже там, где опыт лишь топчется на месте, поэтому ты открываешь там, где другим открыть уже не дано. Великое, славное время — молодость. И как жаль, что у нее короткие крылья. Впрочем, насчет коротких крыльев это, пожалуй, неверно. Молодость человечества — вечна, ибо вечна жизнь. Славко погрустнел: — И родит она тебе сына: Владимира Аверьяновича Сурмача. Столько в словах Славки было грусти, замешанной на безысходности, что у Аверьяна заныла душа. — Женишься на Зосе… Славка покачал головой: «Нет!» Сурмачу стало жаль друга: судьба отобрала у него право быть обычным человеком, оставила только одно: служить делу, служить будущему. Аверьян в этот момент понял, вернее, уверовал, что Славка Шпаковский — особенный человек.КОНТРРАЗВЕДКА ПРОТИВ КОНТРРАЗВЕДКИ
Три дня и три ночи отлеживался Аверьян в «берлоге». Отоспался на месяц вперед, как в госпитале. Впрочем, это, пожалуй, к лучшему, иначе от безделья и неизвестности заели бы тоскливые мысли. Три раза на день приходил в сарай, где было Аверьяново лежбище, Юрко: утром перед рассветом, вечерком, когда стемнеет, и днем — если появится время. Приносил поесть. Аверьян ждал утешительных вестей и засыпал паренька вопросами: — Ну, как там? Где «там» — он не уточнял: на границе ли, у Щербаня ли, в Варшаве ли, где хоронили одного президента я выбирали другого. Юрко в ответ пожимал плечами: — Да ничего… Славко в эти дни вообще исчез. Юрко знал только одно: брат занят. Чем? Когда освободится? Неопределенность да еще безделье наполнили сердце непонятной тревогой. Пока Аверьян лежал в тесной норе на соломе, было еще сносно, только тоскливо, а когда вылезал… Не может человек столько времени бездельничать. Мускулам, мозгам, памяти нужна работа. Мысли уносили его на Родину, где остались друзья, Ольга… Нетрудно понять, как он обрадовался, когда пришел Юрко и, отодвинув бочку, прикрывавшую лаз, протяжно свистнул, мол, вылезай. Все было, как всегда, как десяток раз до этого, и время — ближе к вечеру. И все-таки он понял: свист Юрка на этот раз извещал о том, чего он так долго ждал, чего так страстно желал: действия. — Пошли, — сказал Юрко, не объясняя, куда и зачем. Сурмач и не спрашивал. Из одного сарая — в другой, точнее — в стодолу. Новое прибежище было на отшибе, метрах в двухстах от села. Когда-то кто-то на том подворье жил. Но хата сгорела, остались от нее лишь камни фундамента да торчало несколько фруктовых деревьев, видимо, опаленных огнем и засохших. А вот стодола уцелела при пожаре, и никто ее почему-то не разобрал после, хотя плахи, из которых она была собрана, могли пойти на любую постройку, даже на хату. — Тут перебудем до темноты, — пояснил Юрко, поудобнее усаживаясь на старой соломе возле приоткрытых дверей так, чтобы видно было тропку, — Щербань сейчас в стражнице. Его там Славко и Зося задержат дотемна. Возвращаться он будет вон по той дороге, — Юрко извлек из кармана небольшой листок бумаги, на котором была нарисована химическим карандашом схема. Сурмач принялся изучать ее. Он хотел представить себе, как все эти тропки-пунктиры и домики-квадратики расположены на местности. — Вот тут кустарник, — пояснил Юрко, — показывая пальцем па схеме. — Ото файное место: тихое, мало кто ходит. И недалеко от границы. Славко приведет Щербаня… Начали обсуждать детали операции. Аверьяна интересовало все: какого роста Щербань, чем вооружен, владеет ли левой рукой? Мелочей в этом деле не могло быть. Сурмачу казалось, что взять Щербаня будет гораздо проще, чем потом переправить через границу, где усилена сторожевая служба. Юрко успокоил: — Славко скажет, где сегодня засады, — обойдем. — Он постоял, подумал и решил: — Гляну на то место, где будем брать Щербаня. Да и тропу к границе проверю. Сурмач остался один. Он прислушивался к шорохам, жившим в этом пасмурном вечере. Оседал туман. «К лучшему, — подумал чекист. — Приглушит звуки…» В сердце вползала неясная тревога: знакомое чувство ожидания, когда уже все подготовлено. Вскоре вернулся Юрко. — Можно. Умел этот парнишка ходить тихо, двигаться, как тень. Молодость, тяга к романтике помогли ему сжиться с опасностями. Он стал мудрым и очень осторожным. Юрко показал место, где лучше устроить засаду, провел Аверьяна чуть дальше, познакомил с дорогой, рассказал, как добираться до ориентиров, от которых ведет дорога «на ту сторону». Потом они заняли свои места: Юрко — по одну сторону тропы, Аверьян — по другую. Тропа неширока. Если по ней пустить подводу с сеном, то орешник, обрамляющий опушку, выщипает половину. Холодный туман оседал на кустарнике. Ветки плакали холодными слезами. И эти слезы падали Сурмачу за шиворот. Сердце Аверьяна то совсем замирало, так, что дышать трудно, то вдруг, вспомнив о своих обязанностях, срывалось в галоп. Тук! Тук! И наливались виски болью, а голова — невероятным гулом. «Уж скорее бы…» Нетерпение — мать поспешности. А поспешность ведет к неудаче. Но неудачи быть не должно. Не имеют на нее права чекисты. Нервы напряжены. Аверьяну порою казалось, что он слышит, как они гудят в онемевших ногах, в отяжелевших руках. Но вот в густой лесной тишине родились человеческие голоса. Сквозь волны тумана Аверьян заметил две пары ног. Одни в сапогах, а другие в ботинках с крагами. Ноги остановились. — Кто тут? — коротко, резко бросил во тьму Щербань. Сурмачу очень важно было сейчас знать, что делает Щербань. Может, выхватил из кармана пистолет и приготовился ко всем случайностям? Послышался напряженный храп двух сильных людей, сошедшихся в отчаянной схватке. Аверьян понял: Славко пытается обезоружить Щербаня. Он кинулся на помощь. Славко прижал Щербаня к себе спиной и одной рукой зажимал рот, а другой не позволял дотянуться до кармана… Неожиданно Славко взлетел вверх: мелькнули ноги, шмякнулось о дорогу тело. Это произошло всего в полутора метрах от Сурмача. Но Щербань, так ловко применивший против нападающего прием, еще не успел сменить позы, как Сурмач с ходу ударил его головой в бок. Ойкнув, Щербань выпустил на землю пистолет. В тот же миг к поверженному подскочил Юрко, захлестнул веревку. Она перечеркнула ему рот, «зануздала»: ни вскрикнуть, ни дернуться. Вывернули Щербаню руки, связали их. «А что же со Славном?» Тот поднимался с земли. — Здорово он меня… — ему было явно неудобно за свою оплошность. — Голова гудит… Но это пройдет. А вы с ним побыстрее отсюда! — Поднимайся, пошли! — приказал Юрко, натягивая веревку. Щербань будто и не слышал команды. Юрко подбодрил его пинком, потом потянул за веревку, которой по-прежнему был зануздан пленный. Застонал, заерзал от боли Щербань, но не поднялся. Тогда Юрко принес из стодолы, видимо, заранее припасенную толстую жердь. Связанного по рукам я ногам Щербаня надели па жердь, как волка, и подняли. Спешили. Каждая потерянная минута могла привести к неудаче. Юрко превосходно знал местность. Шел по ночному лесу, будто днем по улице города, — уверенно, быстро. Тяжела была ноша. «У, кабан, разъелся! Пудов на шесть!» — поругивал Аверьян в душе Щербаня. Может быть, на того, кто шел сзади, приходилась большая тяжесть? Щербань висел на жерди головой к Сурмачу. Аверьян несколько раз перекидывал зыбко гнущуюся жердь с плеча на плечо. И ладошки-то подкладывал. Ничего не помогало — плечи горели. «Знать бы заранее, можно было рукав телогрейки сложить в два-три раза и подсунуть». А Юрко — хоть бы что! Лишь дважды перекинул ношу с левого плеча на правое. Правда, ему достался толстый конец, от комля: он пошире и не так давит. Наконец Юрко предложил передохнуть. — Уже близко! С каким удовольствием Аверьян снял проклятую жердь с плеча! Висеть па перекладине спутанному Щербаню тоже, видимо, было не сладко, тем более что и дышать свободно он не мог — рот «зануздан». Сбросили его вместе в жердью на землю, застонал, начал извиваться. В это время Юрко услышал что-то подозрительное и приложил палец ко рту: — Т-с-с-с… Аверьян нащупал в просторном кармане стеганки рукоятку пистолета, который отобрал у Щербаня. «Влипли!» Тревожился он в тот момент не столько о себе, сколько о Щербане. «Его же обязательно надо доставить живым. Живым! Иначе не стоило и огород городить». Потекли секунды, каждая — вечность. Извивался на земле, стонал Щербань, надеясь хоть этим привлечь внимание польских пограничников. Сурмач вынужден был зажать ему огромный нос рукой. Дышать стало нечем, и Щербань моментально успокоился. А когда Аверьян убрал руку, пленный, потянув жадно, ненасытно воздух, уже перестал сопротивляться, лежал смирно, поняв, что шутки шутить с ним не намерены. Юрко долго вслушивался в неясные звуки ночи, потом решил: — Ушли… То дозор. Чтобы не рисковать, он все же проверил дорогу. Вернулся, по-хозяйски развязал Щербаню спутанные ноги. — Совесть надо иметь, пане Щербань. Ножками, ножками, а то как та невеста на руках молодого. Хозяин магазина для контрабандистов примирился со своей участью. Юрко вел его за собою па веревке, словно коня в оброти на водопой. Аверьян замыкал шествие. Он постоянно оступался на кочках, обрывался на лесных ямах, вырытых дикими кабанами и предательски засыпанных жухлой листвой. Шли и шли. Сурмача подташнивало. «От усталости, что ли?» — недоумевал он. — Стой, кто идет? Этот окрик прозвучал рядом, даже чуть сзади. — Штык! — отозвался Юрко. — Затвор! — послышалось в ответ. «Свои». Сколько раз Аверьяну приходилось возвращаться из разведки, но, кажется, он никогда не испытывал такого острого облегчения: «Свои!»
СЛАБОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
Сурмачу было явно не по себе. С вокзала до окротдела едва доплелся: в глазах расплывались круги, подкашивались ноги. «Да что это со мной? Никогда так не уставал…» Ни Ивана Спиридоновича, ни Яроша в окротделе не оказалось. Аверьян зашел к Борису, благо тот почти всегда был на месте. Отодвинув от себя ворох бумаг, Коган поднялся навстречу другу. — А мы уже думали, нашего молодожена зайцы с горчицей съели! — пожав руку Аверьяну, он удивился: — Ты весь горишь! Усадил Сурмача на стул, пощупал лоб, потрогал ладошкой кончик носа и выразительно присвистнул: — Сорок градусов! Где ты их набрал? Аверьян виновато отшутился: — Пограничники ромом угощали. — В постель! В больницу! Немедленно! — заволновался Борис. — Схожу к коменданту, пусть дает тачанку. Сурмачу было неудобно, он не привык, чтобы за ним ухаживали. Если не считать ранения, то еще никогда, ничем в жизни не болел. И как-то не верилось, что взрослый, сильный человек может вот так неожиданно ослабеть. — Зачем тачанку? Я сам… И не в больницу, а домой. — Может, и домой, но все равно на тачанке. С болезнью, брат, не шутят. Вот жаль, что Емельяна Николаевича уже нет, он бы мигом поднял тебя на ноги. — Не нашли? — спросил Сурмач, вспомнив, как исчез главный врач больницы. — Нашли. Убитого. В лесу за станцией, замучили, гады! Борис ушел «организовывать» тачанку. У Аверьяна кружилась голова, по-прежнему подташнивало. Порой даже казалось, что вот-вот потеряет сознание. Он отчаянно тряс головой и во всю силу легких вдыхал воздух. Но тогда появлялся кашель. Сухой, жесткий, он буквально выщипывал легкие. «Простудился, — подумал Аверьян. — А приходилось в ледяной воде купаться, спать неделями на снегу… Ходит, бывало, дежурный, каждые двадцать минут будит, велит перевернуться, чтобы бок не прихватило. И оставался здоровехонек. А тут распустил нюни, скапустился». Тачанка нашлась довольно быстро. Борис приказал: — Собирайся. Сурмач встал со стула, шагнул к двери, и… подкосились ноги. Взмахнул странно руками, будто за воздух хотел ухватиться, и рухнул бы на пол, не подхвати его Борис. — Ну, ты мне тут не падай, потерпи до больницы, — шутливо ругнул он Сурмача. Тоненько зашумела в ушах надоедливая нотка, в глазах поплыли синие, желтые, оранжевые круги, качнулся потолок и повалился на Аверьяна, придавил собою…* * *
Аверьян впал в забытье. Он носился па лодке по широкой горячей реке. От воды шел пар, и было очень жарко. — Володя, Володечка, не открывайся… Потерпи еще немножко, потерпи. «Ольга! Это ее голос!» И вот уже чудится Аверьяну, что лежит оп на животе, а спину подставил жаркому солнцу. — Потерпи, потерпи… Сейчас сниму. Легкие, заботливые руки Ольги сняли тряпку. В нос ударил резкий, острый запах. «Горчичники…» — Повернись, Володя, повернись. Теперь на грудь… И откуда только у девчонки из Журавинки это умение уговаривать больного, это адское терпение, способное одолеть капризы! — Вот куриный навар. Да ты ней, пей! Врач велел. И ножку должен съесть. Курицу тебе привезла Галка. Узнала, что ты заболел, и приехала из Белоярова. Она еще принесет, если надо будет. У них там можно купить. «Жена Степана Вольского. Чего она вдруг расщедрилась? Враг или не враг? Кто она, эта красавица, похожая на девчонку? Жена бывшего бандита из сотни Семена Воротынца, одного из подручных Волка. Разве может она простить смерть любимого? Вот и выходит, что Галина Вольская — враг чекиста Сурмача. Но… она подруга Ольги, даже родственница, правда, седьмая вода на киселе, но у Ольги — беда, и Галина пришла на помощь. Так кто она?» А Ольга, будто угадала его мысли, тараторит и тараторит: — Галка, она хорошая, душевная. Я ее очень люблю. Все это так. Но наполняется сердце тревогой: — Как Галина проведала, что я больной? Живет в Белоярове. — А Оксана Спиридоновна ей родня по мужу. Была в Белоярове на базаре, увидела и сказала, что я вышла замуж и живу у нее. Галка и приехала. Пока тебя не было, она ко мне три раза приезжала. Ей Борис понравился… «Борис? Он, конечно, проведывал Ольгу, пока меня не было. Но Борис и Галина? Вольская и Коган». — Галка по Степану траур носит, а увидит Бориса — так и смеется, так и смеется… Смешной он. «Почему смешной? И вовсе не смешной. Сердечный. Ох, уж эти бабы — все по своей мерке перекраивают». Но эта мысль почти тут же уступила место большой ласковой радости: — Оленька! — Что, Володя? И когда только она спит? Днем — рядом, ночью — тут же. Не уходит, дежурит, караулит лютую хворь, не дает ей над любимым взять верх. То горчичники поставит, то компрессы, то растирания. А порошки заставляет принимать минутка в минутку: «Так прописал доктор». Зашел однажды Борис, удивился: — Да у тебя румянец во всю щеку, как у девицы. Ай да молодая жена! Мертвого заставит подняться. Уж не жениться ли и мне на такой случай? Цвела Ольга от этих слов. Борис пришел не только поболтать. Он, как бы в шутку, попросил молодуху пойти прогуляться по коридору, а когда она ушла, сообщил: — Неприятное дело… Пока Галина ездила в Турчиновку к Ольге, в Белоярове в ее доме кто-то похозяйничал. Сорвали полы в комнатах и вырыли глубокие ямы в подполье. Так же старательно перекопали все в сарае. — Ограбили? — Из вещей ничего не тронули. Должно быть, искали что-то посолиднее. Наверное, нашли и увезли. Так думает Ярош. Он был па месте. — Нашли! — вырвалось у Аверьяна. Первой его мыслью было: «наследство». Эх, надо было старательнее обыскать дом Степана Вольского! Конечно, срывать полы и рыть ямы без прямых улик никто не стал бы, но если бы… Если бы они по-настоящему провели обыск у Вольского, если бы не провозились тогда с проверкой осназовцев и сделали обыск у Серого и Жихаря, как советовал Ярош, если бы не упустили «слепого» нищего с белояровского базара, то, может быть, сейчас уже были бы известны и квартира-лечебница в Щербиновке, и ее хозяин, и бандиты не сумели бы увезти и убить главного врача Турчиновской больницы, а Безух не отравил бы Лазаря Афанасьевича — очень важного свидетеля. Невысказанная досада, жгучая обида на самого себя родились в тот миг в сердце Сурмача. — А я тут, как бревно, лежу. К черту врачей! Я уже могу ходить! Он готов был немедленно вскочить и поспешить туда, где сейчас решается судьба поиска. — Аника-воии! Под руку водят, а он — в драку! Лежи, выздоравливай! — резко осадил Аверьяна Коган. — Ишь, нервным стал. Аверьян закрыл было глаза, откинулся на подушке. — Пилюля для тебя зреет горькая, — продолжал Борис. — Ярош мне как-то пожаловался: мол, вернулся Сурмач с погранзаставы и скрытничает. Недоговаривает что-то… И вообще, мол, он стал какой-то не такой. — Нечего мне скрывать, — пробурчал Сурмач, невольно отводя в сторону глаза. Пришел к нему однажды в больницу Ярош. Принес живой цветок. Белый, колокольчиком. С желтым внимательным глазком. Нежный, весь стеснительно светится. Посреди зимы живой цветок! Надо же. Спрашивает Ярош. Глаза улыбаются. — Чего ты целую неделю на заставе пропадал? Я уже начал тревожиться, что и тебя занесло в секрет, а там какой-нибудь куцый-стриженый — прикладом. — Приболел, — ответил Сурмач. Выкручивается Сурмач, врет напропалую. А Ярош видит, что он врет. Вот ведь какое дурацкое положение. Самолюбие человека вновь страдает: «Скрытничает Сурмач». А это правда, скрытничает. Не по своей вине, но Тарасу Степановичу этого не объяснишь. Борис Коган выкладывал новости: — Подкует тебя Ярош. Он не из тех, кто обиды прощает. Вот заявил Ласточкину, что мы с тобою у Вольского не довели обыск до конца, потому что Галина родственница Ольги. Сурмача будто кипятком обдало. Он рывком сел на кровать. И тут же обмяк, застонал от злости. От злости на самого себя. «Ярош загибает. Но если честно — с обыском проморгали». Борис предупредил: — Думаешь, Ярош только с Ласточкиным поделился своими сомнениями? Начинал с Ивана Спиридоновича, а затем и в губотдел написал. Аверьяна начало раздражать такое разглагольствование Бориса. — Ты меня с Ярошем не ссорь! Ненужное это: одно дело у нас. А насчет обыска он прав: проморгали мы с тобой. Покачал Борис головой и с явным сожалением сказал: — Дурак ты, Аверьян. Впрочем, за эту сердечную чистоту и жена в тебе души не чает, да и я… люблю… Он ушел, оставив Сурмача один на один с его сомнениями. Вернулась Ольга. Глянула на мужа, встревожилась: — Володя, что с тобой? Ты побледнел! Я врача вызову. Она сорвалась было с места, по оп остановил: — Не надо! — И видя, что она колеблется, еще раз повторил: — Не надо!НА РОЖДЕСТВО К ГРИГОРИЮ ЕФИМОВИЧУ
Врач восхищался: «Могучее сердце, здоровый организм. Одно слово — молодость». А Сурмач думал иначе: «Оленька». Это она своей неусыпной заботой подняла его на ноги. Аверьян пролежал в больнице полторы недели. Так утверждала Ольга. А он помнил всего дней пять-шесть. Остальное — в беспамятстве. И вот его выписали домой на амбулаторное лечение. Врач предупредил Ольгу: — Надеюсь только на вас. Проследите за режимом. По опыту знаю: такие, как он, едва встанут на ноги и уже считают себя совершенно здоровыми. Приехали из больницы на извозчике. Ольга подхватила Аверьяна под одну руку, Борис — под вторую. Выбежала навстречу хозяйка-толстушка, радостно заголосила: — Выздоровел, родимый! Неудобно стало Аверьяну: что он, немощный старик? — Сам могу ходить! Свежий воздух пьянил. Кружилась голова. Но это было приятное ощущение: ог-го! Мы еще повоюем! Распахнула Ольга дверь в комнату, переступил Сурмач невысокий порожек и остановился, пораженный чудом: холодная, с обвалившейся штукатуркой и выбитым полом комнатушка превратилась в горницу. Стены сияют белизной, пол выровнен и подкрашен глиной. А главное — мебель… От нее даже тесно в комнате. Стол с пузатыми ножками покрыт вышитой скатертью, тут же четыре стула. Буфет со множеством дверок, в нем посуда: видна стопка тарелок. Новая швейная машина под накидкой, на которой вышиты красивые розы: «Как живые». На полу — дорожка. Оксана Спиридоновна тут как тут, цветет, будто это к ней пожаловал гость. — Петушка я сготовила, как и заказывала молодая хозяюшка. А как же иначе, нынче рождество! Аверьян видел, что для Ольги возвращение мужа — большой праздник. И не стоило его портить из-за каких-то мелких недоразумений. Что надо, он ей потом скажет, когда они останутся вдвоем. Засиделись. Оксане Спиридоновне явно нравился Коган, уж она возле него увивалась, каждый раз предлагая: — Идемте, Боренька, поищем карты, я погадаю… А пока наши молодые друг на друга полюбуются. Но Борис отказался. — Я не суеверный. Уж вы сами… Она принесла карты, начала их раскладывать. — Боря, на какую даму вам погадать? — Я и так наперед все знаю, — отнекивался он. — Вот лучше Оленьке скажите: кто у них с Аверьяном будет — сын или дочь? Смутилась, спряталась за спину мужа Ольга. — Ой, Боря, ну разве такое наперед говорят? А он достал из кармана газету. — Вот специально для вас с Аверьяном приберег. — Развернул ее: — «В Брянске, в театре „Металлист“, произошли первые советские крестины. Новорожденным сыновьям рабочие завода „Красный Арсенал“ дали имена Маркс, Коминтерн и Локомотив истории — революция». Сурмач удивился: — Маркс — это же фамилия. Все, что о нем написано в той книге, которую ты мне дал, я прочел. А последнее имя… Оно было трудное, с одного раза Аверьян даже не запомнил. Борис подсказал: — Локомотив истории — революция. — Вот-вот. Так оно скорей для девочки подходит: «Революция». Ольга переводила настороженный взгляд с Бориса па мужа. Не могла она согласиться с таким предложением Когана. — Нет-нет, мы сына Володей назовем. — Как Ленина, — подтвердил Сурмач. — Я же не дочитал газету. Вот послушай дальше. «Новорожденные получили подарки от губженотдела — по куску мануфактуры, от отдела материнства и младенчества приданое — бумазеевые распашонки, чулки и прочее, от юных пионеров — костюмы и значки пионеров. „Вместо креста — символа рабства, — сказал представитель юных пионеров, обращаясь к новорожденным Марксу, Коминтерну и Лиру (Локомотив истории — революция), — мы поднесли вам значок юных пионеров с надписью: Будь готов!“» — Борис торжествующе посмотрел на Ольгу. — Поняла? Не поп, а рабочий класс теперь дает имена. Новые! — выкрикнул он. — Ванек, Манек, Агапок не будет! Коминтерн! Это звучит. Свадьбы будут — пролетарское! Весь мир — рабоче-крестьянский! Ольга слушала его, будто завороженная. Таращит глазищи, стынет, густеет в них огромное, неуклюжее сомнение: «„Коминтерн“… Слово, конечно, красивое…» Ей очень нравилось, как обо всем толкует Борис. Так убедительно, будто сам не раз и не два побывал и па пролетарских свадьбах, и на пионерских крестинах, а сейчас приглашает Ольгу и Аверьяна в этот чудесный сказочный рабоче-крестьянский мир. Хочется Ольге обойти из конца в конец неведомую страну, где, наверное, живут только такие правильные люди, как Иван Спиридонович, тетя Маша, Борис Коган… И хочется, и боязно. Со слов Бориса, там все хорошо. Так Борис — совсем иной человек. Может, тот мир специально для него? А каково будет Ольге? Она уже свыклась с этой маленькой, сыроватой комнатушкой с земляным полом, при одном узеньком окошке. Сколько труда вложила, пока обновила полинявшие, заплывшие плесенью стены, пока выровняла, пригладила ухабистый пол. Вот в этом огромном, отвоевавшем полкомнаты столе на кривых ножках, в этой двуспальной кровати с тремя пуховыми подушками под потолок, в этих чашках и блюдцах, вилках и ложках — ее осуществившаяся мечта, ее долгожданное счастье. Девчонкой она начала копить денежку на приданое. Повзрослела — дом продала в Журавинке, землю, ту землю, что ее отца с матерью, деда с бабою кормила. Ехала в Белояров к Людмиле Петровне, грезила о большой, светлой любви. Теперь у нее есть все, о чем только можно было мечтать: муж, свой угол. А придет время — у них найдется мальчик, весь в папу. Будет ли это все у Ольги в том рабоче-крестьянском мире, куда заманивает ее Борис Коган? Вдруг придется отказаться от чего-то, очень милого сердцу… Ну вот как от привычного и красивого имени Ванюша… Посидев еще немного, Борис собрался уходить. — Пора! Ольга, улучив момент, предложила: — Володя, Боря, давайте съездим в гости в Щербиновку, к Кате, Мы же собирались. А сейчас рождество, праздники. Она эту мысль выгревала давно. Любила Ольга своего мужа, гордилась им — «вон какой красивый да ладный». Не терпелось ей показать его родным и знакомым: приехать в Щербиновку, взять под руку, пройтись по селу из конца в конец. А все бы смотрели пм вслед и ахали: «Какая красивая пара. А он-то — тополь! Да и она!..» Испокон так было: съезжались па свадьбу все родственники, ближние и дальние. Гуляли два-три дня: пили, ели, плясали. А потом развозили по округе весть: «Ольга-то Яровая, ну, старой Явдохи младшая дочь, замуж вышла за чужого. Из города. Работает, при хорошей должности. И собою красавец». Одно только тревожило Ольгу: не могла она, не имела права говорить даже родной сестре, что ее Володя в ГПУ. А она бы дни и ночи рассказывала и рассказывала, как он для людей старается, какое большое и щедрое у него сердце: «Он самый-самый лучший на свете». Но если уж нельзя рассказывать о нем, то показать-то можно. Не было у Ольги разгульной деревенской свадьбы, так пусть люди увидят теперь ее счастье. Ни Аверьян, ни Борис не подозревали, сколь глубоко и серьезно стремление Ольги съездить в гости к сестре. Но они в этом увидели свои возможности. «Когда-то, до истории со Щербанем, Иван Спиридонович одобрил такую поездку. Может, сейчас…» — А что, возьмем и съездим! — согласился Борис. — Только отпрошусь у нашего балтийца.* * *
«Едем!» Хлопот у Ольги по этому поводу — по уши. — Подарки нужны. И Кате, и ее родственникам. — Старику Воротынцу? — удивился Сурмач. Ольга поняла ход его мыслей: отцу Семена Григорьевича. Но нельзя, нельзя было ей приехать без подарка. Мужа везет на показ. Что о нем подумают? Должны думать только хорошее. Пусть знают, что он добрый, щедрый. Встал вопрос о том, какие подарки и где их взять. К удивлению Сурмача, у Ольги уже было все припасено. Аверьяна все больше удивляла Ольга. Оказывается, он ее раньше совсем не знал, только думал, что знает. И вот сейчас открывает в ней все новое и новое. — Володя, подарки должен дарить ты, — решила она. Но Аверьян запротестовал: — Еще чего! Чтобы я облагодетельствовал отца злостного врага Советской власти! Ольга видела, что тут уж Володя не пойдет ни на какие уступки. Вот отсюда и начинался Аверьян Сурмач, большевик и чекист, которого она не понимала, а потому чуточку побаивалась. Нет, пожалуй, не то слово, не побаивалась, а не узнавала. И в такие моменты ей становилось тоскливо, хотелось, чтобы он стал прежним, ее Володя, мягким и добрым. Она сразу же предложила компромиссное решение: — Тогда ты Кате подаришь, а я — им, старикам. — А этому работнику? Ну, от которого она ждет ребенка? — спросил Аверьян. Ольга вдруг потупилась, зарделась. — Как же можно, он же с ней… не по закону. — Не венчанные? — не без насмешки спросил Сурмач. — Не по закону… — Эх, сколько еще глупости в тебе сидит! — посетовал Сурмач. — А если она любит? А если у них — по закону любви? Ольга притихла. Аверьян начал замечать, что она уже научилась избегать разговоров на неприятную тему. Стоило ему насупиться, жена моментально улавливала его настроение и как-то вся внутренне менялась, становилась иною, будто поворачивала к нему сердце другой стороной.* * *
Молодые только поднялись, когда явился Борис. Оживленный, шумный, он переполошил всех. — Так жизнь проспите, лентяи! А ну — раз-два! Чтоб через минуту были на ногах. Я же рысака для вас нанял. Действительно, чтобы отвезти Сурмача и Ольгу на вокзал, Борис Коган подрядил какую-то клячу. Под окнами на телеге сидел хмурый, давно не бритый дядька. До Щербиновки добирались киевским поездом. Приехали. Станция встретила разноголосым шумом. Вагон еще не остановился, а на его ступеньках повисли два дядьки, ловко вскинув перед собою по тяжелому мешку. А за ними уже бежали, суетились, толкались очумевшие, боящиеся опоздать, не попасть в вагон, люди. Богатое, торговое село Щербиновка, не взирая на праздники, спешило на базар в столицу. Крепкий мороз разукрасил лица: подбелил усы, расписал румянцем щеки. От скученной толпы валил парок, как от взмыленных лошадей. — Но-но! Табун! — покрикивал с высоты вагонной площадки на мужиков Борис Коган. — Разбежись, дай людям сойти! Но его не слушали, лезли и лезли напролом в открывшиеся двери. Тогда Борис, подхватив мешки, которые тяжело легли у его ног, выбросил их па платформу. Владельцы мешков заголосили и, вовсю работая локтями и кулаками, полезли вслед за поклажей. В образовавшуюся брешь прошмыгнул Борис и потянул за собой Ольгу. Потом пробился и Аверьян. — За чем бы это они на базар так перлись? — спросил Коган у Ольги и сам же ответил на свой вопрос: — Советский червонец покою им не дает. Твердая валюта. Вышли со станции. Морозец крепчал. Ни ветерка. Над трубами голубоватыми прозрачными вехами — дымок. Казалось, он родился однажды, очень давно, да так и застыл, закоченел на этом холоде, будто примерз к синей бесконечности. — Хор-рошо! — вдруг заявил Борис. Действительно, дышалось свободно, здорово, во всем теле ощущалась птичья легкость. Набрал Борис пригоршню снега, кинул в Аверьяна. Только не долетела снежка, рассыпалась. И всем весело. Ольге хочется быть степенной. Ну как же, не девчонка — замужняя. А задорный чертик, что поселился в ее душе при виде игривого Бориса, так и подмывает наскочить на озорника, толкнуть его, засыпать снегом, завизжать от удовольствия на всю улицу, на всю деревню. — Да ну тебя, разыгрался, как стригун![3] — сказал Аверьян другу, сам едва управляясь с улыбкой. — Эх, Аверьян, — пошутил Борис, — женился — и в старики записался. — Но балагурить уже перестал: слишком пристально присматривались к ним встречные прохожие. А дальше пошло все так, как представляла себе Ольга. Она взяла своего Володю под руку, а Борис рядом, несет подарки. Встречают и провожают их любопытными взглядами щербиновцы. Дом, в котором жила сестра Ольги, был добротный: на высоком фундаменте, под черепицей. Скотный двор и сарай покрыты гонтом[4] — тоже большая роскошь. Забор — как крепость, из остро затесанных горбылей. Ворота тяжелые, подворотня закрыта доской. Так вот вдруг и не зайдешь. «Журавинская ухватка», — подумал Сурмач. Стучались довольно долго, лаял злой пес. Наконец калитка открылась. Сурмач увидел плечистого, крепкого дядьку с приятным лицом. Высокий чистый лоб, умные глаза. — Ольга? Вот новость! — радостно встретил он пришельцев. — А мы только что говорили о тебе. Ольга выставила Аверьяна вперед, подтолкнула. — А это мой муж, Володя, — представила она Аверьяна. — А это его товарищ, Борис, — показала на Когана. Старый Воротынец пожал мужчинам руки, поцеловал Ольгу и пригласил всех в дом. — Гость на праздник — святой гость, — он мельком глянул на кожаную куртку Сурмача. Просторный двор. По всему чувствуется, что здесь живет рачительный хозяин. Он насыпал всюду дорожки: и к скотному двору, и к сараю, и к калитке. Даже к навозной куче можно подойти в любую распутицу. Семья сидела за праздничным столом. — Позвольте приветствовать вас в вашей хате, — поздоровался Борис, по обыкновению моментально осваиваясь с обстановкой. — Пусть сопутствует вам счастье па всю долгую жизнь! Глянул Сурмач на тех, кто за столом, и удавился: рядом с пустым стулом, с которого недавно встал хозяин, сидит… Ольга. Его Ольга. Только постарше этак лет на пять. Тот же овал лица, те же черные глазищи, правда, с синими подглазинами. «Катерина!» Ольга еще раз всем представила своего Володю: — Это мой муж, — она даже передала пожилой, совершенно седой женщине церковное удостоверение, купленное Борисом у попа. «Мать Семена Воротынца», — догадался Сурмач. Женщина была благообразна. Довольно полная: рыхлая складчатая кожа ходила на шее ходуном. «По виду не подумаешь, что она родила и выкормила бандита. Впрочем, наверняка, мать того не хотела. Учила добру и злу в меру своего понимания жизни. А что получилось?» Началась церемония вручения подарков. Екатерина с трудом вышла из-за стола. Аверьян догадался: на сносях. «А где же этот… работник?» Он сидел по другую сторону стола — тихий, будто прибитый. На вид лет под пятьдесят. Небольшого роста, плюгавенький. Нос утиный, глазки маленькие, ехидные. Этот человек был явно несимпатичным. Когда-то Ольга его поругивала: «Такой уж некрасивый». Сели за стол. Седая хозяйка поставила стопки, тарелки. — За приятное знакомство, — предложил тост старик Григорий Ефимович. — Да чтоб из сторонились родные родных. Сурмач уже был взялся за стопку, как вдруг Ольга запротестовала: — Ему врач запретил, он после больницы. Такое воспаление легких было, едва не умер. Борис заикнулся было: «А вчера…», но Ольга так зыркнула на него, обожгла взглядом, что он замолк. Сурмач почувствовал, что Ольга чем-то невероятно взволнована. Он перехватил ее пристальный взгляд, брошенный в сторону возлюбленного сестры. Тот низко опустил голову, скребет ножкой по дну. «Ну и тип!» — подумал с неприязнью Аверьян. Когда налили по второй стопке, возлюбленный Екатерины вдруг встал из-за стола. — Я, пожалуй, пойду… Спасибо за уважение. А у меня — работа. Ольга под столом толкает и толкает мужа ногою. Чувствует Аверьян, что она чего-то требует от него, а догадаться не может. Тогда она заговорила, обращаясь к работнику: — Что это вы, Григорий Титович, сбегаете, будто мы вам по нраву не пришлись. И вареники не доели. Какая работа в праздник! Посидите с нами хоть немного. Стоит растерянный Григорий Титович посреди комнаты, не знает, как быть, на хозяина дома вопросительно смотрит. А Ольга ка-ак ущипнет Аверьяна за ногу. Дошло: она не хочет этого дядю отпускать! Но почему? Почему? Ольга говорила, что видела возлюбленного сестры один раз. А к этому дяде обращается, как к старому знакомому. Да и он… тоже ее хорошо знает. «Не тот, не тот работник! Но кто же тогда? Кто?» Поднял Аверьян стопку, направился к Григорию Титовичу: — Если бы скотина ревела голодная в стаенке, я бы еще понял, почему надо сбегать от праздничной чарки. А ваши буренки довольны всем и молчат. А не выпить в таком случае — грех. Хоть мне врач и запретил… Аверьян встретился с Григорием Титовичем взглядом. В маленьких серых глазах остывающего свинца — ужас. Не смеет отвернуться, смотрит на гостя, не мигая. Потянулся было дрожащей рукой к стопке, которую Аверьян ему предлагал. Но вдруг ударил по ней, оттолкнул Сурмача и бросился к дверям. Аверьян в два прыжка настиг его, ткнул кулаком в шею. Дядька, с разгону ударившись о дверь, рухнул на колени, едва перевалив через порог. Сурмач моментально заломил беглецу за спину правую руку, сделал это так резко, что тот, достав лбом пол, застонал от острой боли в ключице. Подоспел Борис. Дядьку скрутили. — Кто такой? — спросил Аверьян у хозяина хаты, кивнув на связанного, у которого из рассеченного лба сочилась кровь. Старик стоял сумрачный, недобрый. — Работник. Был тут до него один… Довелось выгнать. Но хозяйство требует здоровых рук. А у нас — сами видите. Он показал на беременную Екатерину, на свою рыхлую, седую жену. — Документы у него какие-то есть? — спросил Борис. Хозяин пожал плечами. — Какие-то, наверное, есть… Я особенно не выспрашивал. Пришел, говорит: «Мне посоветовали к вам обратиться, вам нужен помощник». Где они, твои документы, Григорий? Тот лишь злобно выругался: — Чтоб ты подавился теми документами! Аверьян решил узнать у Ольги, кто же это такой, но спросить в присутствии ее родственников не решился. Пошел на хитрость. — По-моему, я его где-то видел… А где — не припомню. — Да ты ж был у негов хате. И пришел к Галине с его женой теткой Фросей. — Серый! — воскликнул Аверьян. Коган выразительно присвистнул: — Григорий Титович, рад с вами познакомиться. Мы в самом деле приходили к вам в гости. Дважды. Но, к сожалению, дома не застали. И это как-то нехорошо с вашей стороны. Пригласили па чарку, а сами — в бега. И вот свиделись наконец-то! Григорий Серый! Вот уж он вспомнит, кто прислал ему записку и предупредил: «Штоль попался. Печать немедленно перепрячьте. Доктор был в ГПУ». Нет, не случайно оказался в доме Семена Воротынца бывший подчиненный хорунжего. — Схожу в сельсовет за подводой, — решил Сурмач. — А ты подожди здесь, — сказал он Борису. Заголосила, запричитала хозяйка. — Мы приняли вас, как родных… — Мама, перестань! Разве они понимают, — довольно властно потребовала Екатерина. «Мама? — удивился Сурмач. — И после того, как невестка прижила ребеночка от работника, которого выгнали!» Старуха послушалась невестку, притихла. «Нет, ребенок у Екатерины не от работника! А от законного мужа, от Семена Воротынца! Как заботится о наследнике старик, не дает сесть пылинке на невестку!» Старик, действительно, взял Екатерину под руку, усадил на стул, — у псе, видимо, начались колики. Закусила губу, скорчилась. На лбу у нее и на губах появились темные пятна. Ольга кинулась было к сестре: — Ой, Катя! Но та оттолкнула ее: — Сестру на чекиста променяла! Чтоб ты захлебнулась в собственной крови! Опешила Ольга. В глазах слезы. Не знает, как вести себя. Ведь она же к сестре всей душой, от чистого сердца.* * *
Шагая на край бесконечного села, Аверьян поминал злым словом тех, кто загнал в такую даль сельсовет. Но сельсовета на прежнем месте не оказалось. Осиротел двор. На двери — замок. Заглянул Сурмач в окно: пусто. Зашел в соседнюю хату. Там сказали: — Перебралась наша сельская власть. От станции по ту сторону ищи, добрый человек. Вчера перед вечером и перебрались. Ругнул себя Аверьян за нерасторопность и подался назад. Над резным крыльцом, на высоком фундаменте дома реяло кумачовое полотнище: «Здесь Советская власть Щербиновки». Сурмач увидел Пришлого. По-прежнему в красноармейской шинели. Вместе с долговязым Иваном Дыбуном он прибивал к степе большой портрет Владимира Ильича. В сельсовете толпятся люди, вернее, каждый занят делом: прихорашивают комнату. — Кто тут председатель? — спросил Сурмач. — Ну, я, — подошел Пришлый, передав молоток Дыбуну. Он сразу узнал Сурмача, обрадовался встрече. Отобрал у Дыбуна стул, на котором тот стоял, подал его Аверьяну. — Садись! Как видишь, с твоей легкой руки — командую. Утвердил Совет. Каким Фомой неверующим был Алексей Пришлый в прошлый раз! А теперь совсем иной человек. Да и вокруг него все какие-то живые, энергичные. Хозяйничают на новоселье. — Есть дело. — Зайдем в комнату, там нет никого, — согласился Алексей Пришлый. Когда они остались с глазу на глаз, Аверьян объяснил: — Нужна подвода. Мы тут взяли старого Воротынца и еще одного, заезжего, да двух женщин. Их, пожалуй, отправим поездом. Необходимо сделать обыск у Воротынца. Поможешь, председатель? Надо, чтобы при том деле был законный представитель Советской власти. Пришлый крикнул, приоткрыв дверь в соседнюю комнату: — Иван! Явился Дыбун. «Хоть раз в жизни он был бритым!» — невольно подумал Сурмач. Но ему приятно было видеть этого бывшего усенковца, который помог чекистам в Журавинке. — Вот добрый знакомый, — кивнул председатель сельсовета на Сурмача, — приглашает на рождество к старому Воротынцу! — А чего б не заглянуть на чарочку к Григорию Ефимовичу! — осклабился Дыбун, обнажая большие, сильные зубы. И не без удовольствия добавил: — Дед кабанчика заколол. Хороший был кабанчик, уже и на ноги не вставал. Только хрюкал. Пудов на восемь—десять. Наделала Воротыниха кровянок — колбаса с кровью и с гречкой. А я люблю эту кровянку до смерти. — Семена Воротынца последнее время встречать не приходилось? — поинтересовался Аверьян. — Нет, — покачал головой Дыбун. — В Щербиновку ему путь заказан. — Заказан, говоришь? А вот невестка старого Воротынца рожать скоро будет. — Слыхал про такое. Но говорят, дед за этот грех работника выгнал. Аверьян еще больше утвердился в своем мнении: наведывается Семен Григорьевич домой.* * *
Начался обыск. Процедура малоприятная и для хозяев, и для обыскивающих. Надо заглянуть в каждую щелочку, ничего не пропустить. Сдвигались со своего места кровати и сундуки, кадушки в погребе и кормушки в коровнике. Дыбун даже опустился на веревке в колодец. Осмотрел стены, выстукал их. «Ничегошеньки! По всему, Семен Григорьевич свое хранил не в доме отца». «Может, и к лучшему», — невольно подумал Аверьян, которому не хотелось бы припутывать к делам бывшего хорунжего его благообразного отца, пухлую, страдающую одышкой мать и Ольгину сестру Екатерину. «Ну, чего они все должны страдать из-за одного барбоса? В окротделе допросят и, если ни к чему не причастны, вскорости отпустят». Он не сказал себе: «И будет такой исход радостью Ольге». Но где-то в глубине души ото чувство в нем жило. Аверьян посоветовал женщинам одеться потеплее. Ольга рьяно запротестовала: — Как же Катя поедет?.. Она не может! На мгновение в душе Аверьяна родилась жалость к женщине, которая готовилась стать матерью. Но тут же решил, что жалость к Екатерине совсем не деловая, видит он в любушке Семена Воротынца родную сестру своей жены. — В Турчиновке есть больница, — решил он. Пока Аверьян с Алексеем Пришлым одевали со всеми предосторожностями старого Воротынца, Пилип Дыбун все присматривался к печке. Он даже заглянул в широкую духовку (духовка пришла в эту хату явно из города.). Ничего подозрительного. Но Дыбун усомнился: — Почему холодная? Печка теплая, а эта штука словно бы на улице стояла. Он потянул духовку к себе. Она легко подалась. Под духовкой оказался ход в подполье. Дыбун снял с себя ватник. Зажег керосиновую лампу. Зарычал спутанный накрепко Серый: — Чекистам продался! Еще поджарим тебя на вертеле вместе с твоим выводком! — Замолчи! — отозвался Дыбун. — Кончилось ваше с Семеном Григорьевичем времечко. Дыбун спустился в подполье. Вскоре он выбросил оттуда толстую пачку увязанных бумаг. «Опять листовки!» Вслед за ними на свет божий Дыбун выкинул шрифт, гектограф и другие принадлежности ручной типографии. В том же подполье обнаружили ящик винтовочных патронов, два смитвессона и браунинг. — Патроны в наличии. А где же винтовки? — допытывался Сурмач у хозяина дома. Воротынец упорно молчал. Пришлось обыск начинать сначала. Чердак, сеновал., Вывели из коровника коров, из свинарника — свинью с поросятами. Рыли, прощупывали землю щупами. Ничего. Короткий зимний день умирал. Легли длинные тени. Они вытягивались. Их вытесняла будущая темнота. — Ну, пора кончать, — решил Аверьян. Но не хотел успокаиваться Дыбун. Он принялся разваливать стожок сена, стоявший во дворе. А потом прощупал шомполом землю. — Есть! Есть! Что-то тут есть! — закричал он радостно. В две лопаты разметали не успевшую замерзнуть под сеном землю. На глубине менее метра лопаты наткнулись на брезент. В нем оказался разобранный станковый пулемет. Смазан он был добротно, на долгое хранение. Расчистив яму. Дыбун вновь ее проверил щупом и опять на что-то наткнулся. На этот раз вытащили ящик. Он был невероятно тяжел. Замахнулся Дыбун топором: раз! раз! И… потекли на землю желтые кругляшки. — Золото! Ого-го-го! — кричал Дыбун, смешно, по-петушиному пританцовывая вокруг находки. Золото. Монеты, кольца, ожерелья. Разбегались глаза при виде всего этого богатства. Сколько слез, сколько человеческих жизней вместил в себя ящик с драгоценностями? Неужели это то самое «наследство»? — Не отдам! — Екатерина вдруг упала па драгоценности, рассыпавшиеся по мягкой, влажной земле. — Наше с сыном, — голосила она. С каким удивлением смотрела на все это Ольга! — Откуда оно у тебя? — с опаской спросила она сестру. — Семен Григорьевич подарил? А где он взял? Екатерина тяжело села, уперевшись руками в кучу. Лицо позеленело, на носу выступили капельки пота. Женщину полосовала боль. Застонала. Сгребла в пригоршни землю и потянула в рот. — К врачу ее! — закричал Сурмач на Дыбуна, словно тот был виноват в происходившем с сестрой Ольги. Пока Дыбун ходил за подводой, Борис составил протокол обыска. Сосчитали деньги: сто тысяч двести пятьдесят рублей в царской чеканке. Тщательно описали все драгоценности, оценили на глаз: этак еще тысяч на сто пятьдесят. — А ну, председатель, расписывайся под протоколом да принимай в свое ведение бывшее бандитское хозяйство, — предложил Борис Алексею Пришлому. Никто из арестованных даже не глянул на протокол. Старый Воротынец отвернулся, старуха заплакала, а Екатерина, хотя и чувствовала себя очень плохо, попыталась порвать бумагу, которую ей протянул чекист. — Да покарает вас бог за мои муки! — выкрикнула она после того, как Борис, ожидавший какой-нибудь ее выходки, ловко отвел руку с протоколом в сторону. Ольгу покоробило кощунство сестры: — Катенька, при чем туг божье имя? Награбленное своим считаешь! — толкнула она ногою золотой клад, увязанный в мешки, — коснуться рукою не захотела, будто перед нею лежало что-то гадкое, противное. Екатерина с трудом привстала с лавочки и плюнула сестре в лицо: — Иуда! Ольга отерлась: — Грех обижаться сейчас на тебя, Катенька. Пригнали подводу. — Борис, мы с Дыбуном повезем арестованных и оружие, а ты с женщинами поездом, — решил Сурмач. — Пришлый тебе поможет. Борису показалось, что его обходят, самое ответственное Аверьян берет на себя. Но, глянув на Ольгу и на ее сестру, согласился. — Доставлю в целости и сохранности. Посадили на подводу арестованных. — Соседку позовите, — сказала Екатерина председателю сельсовета. — Скотина пропадет. Тот пообещал: — Скотина — она не виноватая. Присмотрим.
ДОПРОС
На допросах невероятно быстро проявляется человеческий характер. Старая Воротыниха — тетя Мотя, все время плакала и причитала. Если ей верить, то она ничего, ничего не знает и не понимает. — Кто привез листовки и все остальное в вашу хату? — Ой, что вы меня мучаете? Я ж совсем неграмотная! — Кто печатал листовки и кто их забирал? — Он, дайте спокойно умереть старой женщине! На что уж был терпелив Иван Спиридонович, но и он не выдерживал — выходил из кабинета и давал волю своим нервам, на чем свет стоит заочно костил упрямую Воротыниху. Екатерину поместили в больницу. Допрашивать ее ходили туда Иван Спиридонович и Ярош. Но многого узнать тоже не удалось, допросы приостановил врач. Дело в том, что у будущей матери обнаружили что-то ненормальное в беременности. — Вовремя ее к нам привезли, — говорил врач, — в деревне она бы умерла вместе с ребенком. Екатерина сообщила, что месяцев девять тому назад в доме у родителей с неделю гостил Семен Воротынец. — Он мой муж! — кричала она в истерике. Аверьян видел Екатерину всего однажды. Ольга проведывала сестру, носила ей передачу, а Сурмач сопровождал. За время пребывания в больнице Екатерина осунулась с лица, почернела. Глаза да нос — только и осталось от прежней, столь похожей когда-то на его Оленьку. Ей было очень трудно, она невероятно мучилась. Губы, искусанные в кровь, запеклись. Ольга выпроводила Аверьяна из палаты. — Иди, иди, не мужское это дело. Странно, все происшедшее примирило сестер. Старшая видела в младшей свою спасительницу, она уже знала, что умерла бы, не очутись по воле злого случая в больнице. Свояченица Аверьяна больше думала о себе, о своем ребенке, чем обо всем остальном, что происходило рядом с нею. Она невероятно боялась смерти: двадцати четырех лет, еще так мало видавшая хорошего, Екатерина страстно хотела жить. — Ты меня спасла. Ты! — твердила она Ольге и проклинала свекра и свекровь, которые не разрешали ей показаться врачу, уговаривали: мол, все пройдет, все так мучаются. Сурмача удивляла ситуация. Жена Воротынца, злейшего врага Советской власти, рожает ребенка. Она могла бы умереть, и кончился бы на этом бандитский род. Так нет же, врачи днюют и ночуют возле нее, беспокоятся о будущем младенце. Видимо, верит власть Советская в будущее воротынецкого отпрыска, коль так печется о его появлении на белый свет. Самым трудным из всех четверых, задержанных в Щербиновке, оказался старый Воротынец. Крепкий мужик входил в кабинет, здоровался и садился на стул посреди комнаты. Умный, знающий цену каждому слову, он не спешил отвечать на вопросы. Умел, не таясь, не скрывая своей сущности, не говорить о главном, что важно было знать чекистам. — Золото? Мое. Всю жизнь копил на черный день. Помножила ли мои сокровища гражданская? А как же! — Он любовался широкими в ладонях руками, пряча в уголках губ усмешку, спрашивал: — Разве земля меня не понимает? Может, я ее не лелеял? Если найдете на моем поле хоть какой сорняк, наплюйте старому хлеборобу в глаза. Где иной брал с десятины сорок пудов, я — сто. А каждая хлебина в голодные годы — это золото. Шел город к селу и отдавал свой достаток за кусок хлеба, за картофелину. И я брал, что мне несли, и давал то, что просили голодные… Откуда пулемет? Остался с гражданской. Бежали хлопцы от чекистов. Кинули. Я его разобрал, смазал. Душа хозяина не позволила выкинуть такую машину. Сколько в ней людского труда! Да к тому же и время было темное, как все повернется, никто не знал и сказать не мог… Вот на всякий случай и сберег… Вполне логично он объяснил и появление в его доме подпольной типографии: — Привезли неделю тому: Семен просил перепрятать до лучших времен. Для вас Семен — бандит, а для меня — родная кровинка. И что бы я был за батько, если бы не помог сыну в тяжкую годину. Где он сейчас? Ну, если вам нужен, то и поищите. А я доволен уже и тем, что пока он еще не попал в ваши руки… Кто такой Серый? Так, хвост при собаке, хозяин подойдет — руки лижет, волка увидит — между чужих ног прячется… Кто привез типографию? Человек, посообразительнее Серого… Где тот человек? Ушел — мне не доложил. Сурмача злил умный, хитрый старик. «Контра явная! К стенке такого!» Со старым Воротынцем не однажды беседовал Иван Спиридонович. На такие разговоры он не приглашал никого из подчиненных. Запрутся и «калякают о жизни» с глазу на глаз. — Ты уж извиняй меня, Григорий Ефимович, что я с тобою — на русском, а не на твоем родном. Балтика была мне матерью, флот — отцом, украинскому не научили. Понимать понимаю, что попроще — скажу, а когда нужно что-то из самой души — не хватает слов. — Разве дело в том, на каком языке мы с тобою говорим? О чем говорим! О чем думаем — это нас и разводит, — отвечал старый Воротынец. — Я Порт-Артур сдавал японцу, в плену три года пилил лес — и был тогда русским. Были со мною и татары, и белорусы, и даже один кавказец — из лезгин. По-русски — ни бельмеса, а все равно против японцев считал себя русским. — Ты, Григорий Ефимович, хлебороб, землепашец. И знаю, больше одного работника не держал. Вставал — ни свет ни заря; ложился — налюбовавшись вдосталь звездами. На работе — не было тебе равных, и платила тебе за все земля своей щедростью. Да вот такой-то трудяга, ты для Советской власти — первый человек. Но вынуждена она тебя покарать, так как стал ты для нее классовым врагом. В ответ на эти слова начальника окротдела вздохнул старый Воротынец и спросил: — Дети у тебя взрослые есть? — Взрослых нет, — ответил Иван Спиридонович, — трое малых. — Подрастут, — заверил Григорий Ефимович, — и поймешь меня, когда твои сыны потянут в другую сторону. Рос мой Семен. Как я думал: возьмет отцовскую любовь к земле, помножит на науку — и великие дела закрутит. А оно, видишь, как обернулось… Что нужно хлеборобу? Надежная власть — раз. Хорошие цены на хлеб, а городские товары чтоб подешевле — два. Оно все и шло к этому. Говорю Семену: «Не мути людей, хватит. Дай им пожить в мире. Новая власть тебя не простит, уходи в Польшу, а мне останется внук. Присмотрю». Он — свое, — сожалел старик. — И теперь из-за его ненависти к людям нет жизни ни вам с женою, ни вашей невестке. Вот родится у нее ребенок — каково ему будет? А если бы ты, Григорий Ефимович, пресек все это на корню… — Нет уж, против сына не пойду, — возразил старый Воротынец. — Свидетельствовать против него не стану, друзей его — не выдам. Через них и до Семена доберетесь. А он — моя кровь. Не одобряю его и готов был не однажды проклясть, когда он приносил в дом свои трофеи. Ни одной копейкой его не попользовался, на дармовое ни разу но польстился… Но вам Семена своими руками не отдам, а возьмете — буду защищать, пока жив. Сын он мне, в нем моя боль, моя загубленная надежда. «Силен человек своими слабостями», — подумал тогда Ласточкин. Больше надежд возлагали на Григория Серого. Первый же беглый допрос, который учинил ему Сурмач в присутствии Яроша, убедил, что Григорий Титович быстро перестанет сопротивляться: выложит все, как на духу. Григорий Серый был связным между подпольем УВО в Турчиновском округе и магазином для контрабандистов, где хозяйничал Щербань. Потом последовали новые и новые задания. Но когда Сурмач спросил: «Какие?», Григорий Серый будто осекся. Побледнел. Руки неуемно трясутся. Он даже присел на них, но страх был слишком велик и сотрясал нещадно все его хлипкое тело. Под глазами у Серого синие болезненные разводья. Тяжелыми морщинами — складки па лбу. — Кто такой Казначей? — прикрикнул на него Ярош. Серый уставился на чекиста и ни гугу. Ярош было замахнулся — рубанет сейчас с плеча. Но сдержался. — Не ручаюсь за себя. Я уже устал от него. Не могу. Попробуй ты, — сказал он Аверьяну, уходя. Эти мизерные результаты по сравнению с затраченными усилиями вконец измотали нервы. Все в Сурмаче заныло, заскрипело, он понял, что Серый тоже будет молчать или юлить вокруг да около, как и старый Воротынец. Но тот был лишь бандопособником, а этот — активный участник и банды, и подполья. Сурмач сейчас сожалел о том, что рисковал так бездумно собою и друзьями, неся в логово бандитов весть об амнистии «всем, кто сложит оружие и порвет с бандой». Серый сложил оружие и, как казалось, порвал с бандой, но только для того, чтобы вновь пакостить. А что стоило тогда Аверьяну метнуть под нары, под оцепеневшего от страха Серого с дружками обе гранаты, с которыми он зашел в сарай, где на свой последний привал устроилась недобитая сотня Семена Воротынца… И — не пришлось бы сейчас нянчиться с этим… — Контра! — вырвалось у Сурмача. — Тебя в девятнадцатом помиловали, а ты — за старое! Ну уж в этот-то раз простофилей не буду! Григорий Серый вдруг замычал как-то странно, замотав головой, и сполз со стула, потеряв сознание. Ярош, переступивший было порог, обернулся и увидел происходящее: — Что ж ты наделал! — обругал оп сгоряча своего подчиненного. Встал перед лежавшим ниц на колени, приподнял двумя пальцами веки и заглянул в зрачки. Затем приложил ухо к груди. — Какого свидетеля угробил! — сказал он с сожалением Сурмачу. — Какого свидетеля! — повторил он и вышел из комнаты. Аверьян тупо смотрел на лежащего на полу человека, не понимая, как тот попал сюда и какое отношение он, Сурмач, имеет к поверженному. Дверь распахнулась. В комнату ворвался начальник окротдела. Весь взъерошенный. Лицо багровое. Ворот рубашки-косоворотки распахнут. Из сапога торчит углом портянка — видимо, растирал балтиец ревматическую ногу и не успел толком одеть сапог, так и выскочил. — Врача! Звони! А навстречу за ним — тачанку, — приказал он Ярошу. Он сел у Серого в головах и, зажав в кистях его руки, начал энергично разводить их в стороны, прижимать к груди: так откачивают выловленного утопленника, если он пробыл под водой не очень долго. Но губы Григория Серого синели все больше и больше. «Умер. Зачем он его истязает?» — подумал Сурмач, осознавая бесполезность того, что делал начальник окротдела. На пороге и у дверей в коридоре толкались окротделовцы, не решаясь войти в комнату. И даже Борис Коган (в иное время всем товарищ и брат) лишь издали покачивал головой: «Ну и ну…» Врач явился удивительно быстро. Пощупал пульс, приоткрыл веки и сказал: — Я тут уже не нужен… Нельзя было делать ему искусственное дыхание… Покой! С места не трогать. — Такого свидетеля угробили, — проворчал Ярош. В комнате воцарилось тяжелое молчание. Ласточкин, оживляя мертвого, устал. На крутом лбу — тяжелые капли пота. Он вытер их рукавом. Это был жест уставшего пахаря, который от зари до зари шел за плугом. — Как это случилось? — спросил он, не обращаясь конкретно пи к кому. Ярош поджал топкие губы. Насупился. Оп считал, что отвечать на этот вопрос должен Сурмач. А тому нечего было сказать. На вскрытии Григория Серого присутствовал Иван Спиридонович, Сурмач и Ярош. С напряжением ждали они заключение врача. Тот констатировал: — Коронарная недостаточность… Больное сердце не выдержало психической нагрузки. Приложив к медицинскому свидетельству, удостоверяющему причину смерти Григория Серого, рапорт Яроша и объяснительную Сурмача, Иван Спиридонович отправил дело со специальным нарочным в губотдел. Миновало три дня. Напряженных три дня, которые ни на шаг не продвинули следствие. И вот Иван Спиридонович вызывает к себе Сурмача. Аверьян ожидал неприятностей (откуда быть хорошему?). Зашел он в кабинет к начальнику окротдела. А Ласточкин улыбается. Вышел навстречу, показал на стул: мол, садись. Хлопнул в ладоши, потер руки, будто мыл их под теплой приятной водой. — Вот, Сурмач, можем сказать: не даром хлеб едим. Крестник, — это он о Щербане, — ценнейшие сведения дал, в самое логово стежку-дорожку указал. Живет в Щербиновке один кулак по фамилии Нетахатенко. У него в доме и оперировали Семена Воротынца, раненного на границе. Завтра мы его возьмем, субчика-голубчика, а там, глядишь, и все остальное прояснится. Зови Яроша. Но едва Сурмач взялся за ручку двери, Иван Спиридонович остановил его: — Постой. Такое дело-то… Я тут сам покумекал, с врачом потолковал. Он считает, что рано ты взялся за дело. Глянь на себя: кожа да кости. С лица что белая бумага — ни кровинки. Сурмач понял: начальник окротдела почему-то не хочет брать его в Щербиновку. Обидно! — Серого и старого Воротынца мы с Коганом брали, где был этот врач с умным советом? Явно смущенный, Иван Спиридонович поскреб пятерней затылок. — Понимаешь, штука какая… Ярош все уши мне прожужжал, что я его оттираю от дела и все поручаю тебе. Сурмач вспомнил, как обиделся Тарас Степанович, когда на заставу пригласили лишь его, подчиненного. Позже, когда Аверьян вернулся с заставы и слег, а Ярош пришел к нему в больницу с цветами, Аверьян начал юлить перед своим начальником, как лиса хвостом перед борзыми, которые ее настигают. «Не по-товарищески!» Аверьян не мог поступить иначе. Но об этом-то Ярош не знал и никогда не узнает. Борис предупреждал друга: «Перешел ты дорогу Ярошу». Не хотел этого Аверьян, но получилось вроде бы и так. — Если уж необходимо… То пусть в этот раз — без меня. Желая дать ему хоть какую-то отраду, Ласточкин сказал: — Ты побудь, сейчас придет Ярош, прикинем, что к чему. Ты в Щербиновке бывал, твой совет пойдет к делу. Пришел Ярош. Скупо поздоровался с Сурмачом. Ждет, что скажет начальник окротдела. — Присаживайся, — предложил ему Ласточкин. — Надо обсудить одно сложное дело. По сведениям губотдела явочная квартира находится в Щербиновке в доме Ивана Нетахатенко. Это семнадцатый дом от станции. Крыша черепичная. Нетахатенко надо брать живым во что бы то ни стало: он связан с Квиткой и Казначеем. — Иван Спиридонович невольно вздохнул, посмотрел на обоих подчиненных и удрученно сказал: — Сурмач, видишь, какой? Смерть ходячая, ему придется остаться на хозяйстве. А мы с тобой возьмем оперативную группу и — в Щербиновку.* * *
Весь день Аверьяна снедало нетерпение. Буквально места себе не находил. Торчать одному в экономгруппе и копаться в бумажках было совсем невмоготу. Отсиживался у Бориса в информационном отделе. Болтали о всякой всячине и — ни слова о Щербиновке, где в это время чекисты «трусили» кулака Нетахатенко. Аверьян хорошо запомнил эту фамилию. Еще в бытность Лазаря Афанасьевича председателем Щербиновского сельсовета, доведенный до отчаяния тесляренковской уравниловкой, Филипп Филипенко кричал: «У Нетахатенко — двадцать пять десятин на четыре едока, у меня три на одиннадцать, а ты с нас поровну, по десять мешков!» Но уж теперь-то восторжествует пролетарская справедливость для бедняка Филипенко. Иван Спиридонович и Ярош вернулись из Щербиновки вечером. Приехали поездом, а не на подводе. Без арестованных… Оба мрачные: — Только мы к дому, а там вспыхнул пожар. Да такой, что и не подступиться, — рассказывал Ярош. Его одежда пропиталась тонким сладковато-приторным запахом пожарища, который чем-то сродни трупному — такой же въедливый и нестерпимый. Шапка пообгорела, а брови прихватило чуть огнем, подвило их. Лицо было смазано гусиным жиром. Видать, он побывал в самом пекле. — Жену сжег и ребенка, сам скрылся, — подытожил Иван Спиридонович. Это было что-то ужасное. Даже не верилось: жену и ребенка сжег! Аверьян ставил себя на место Нетахатенко. Случись беда, он бы Ольгу от любой напасти собою прикрыл… — Может, случай какой несчастный? — недоумевал Сурмач. — Никакого несчастного: дом соломою обложил, двери запер, — рассеял последние сомнения Сурмача Иван Спиридонович. — Мы к нему явились — петухи лишь вторую зарю пели, да все же опоздали. Вновь неудача. Да еще какая! Ушел из-под носа тот самый Нетахатенко, на которого указал Щербань. И выходило, что Славко Шпаковский и Аверьян Сурмач старались напрасно. Никакой пользы делу от хлопотной и опасной затеи. Иван Спиридонович почернел с лица. Мелкие морщины, посекшие лицо, углубились, глаза ввалились, синева под ними загустела, огрубела. Ласточкин заперся у себя в кабинете, чтобы одному обдумать случившееся. В окротделе установилась кладбищенская тишина. Старались ходить не топая, говорили друг с другом полушепотом, двери открывали и закрывали так, чтобы те не пискнули, не скрипнули. Ярош тяжело переживал неудачу. Сидел за столом в экономгруппе, обхватив голову руками, будто она у него разламывалась от внутренней боли и он из последних сил старался удержать ее. Сурмач понимал, каково сейчас Тарасу Степановичу, и вопросами не донимал. Явился Борис. Чадит самокруткой, дыму сразу напустил — дышать нечем. Ярош закашлялся (после контузии он табачный дым совсем не переносил). Аверьян отобрал у Бориса «козью ножку» и выбросил ее в форточку: — Совесть имей. А с Бориса как с гуся вода. — Тарас Степанович, — обратился он к Ярошу. — Расскажите толком про эту проклятую Щербиновку! — Работали по готовым адресам: приходи и бери умненько! И — на тебе… Да, губотдел пострижет нас всех за провал операции, — сделал он заключение. Сурмач в душе с этим согласился: «А с Ивана Спиридоновича взыщут в первую очередь». — Эти, из УВО, тоже не лыком шиты, — рассудил он. Ярош его поддержал: — Не будь у них опоры на селе, да и в городе, — дня бы не продержались: с голоду бы опухли, в поле без крова закоченели. Борис, конечно же, не согласился (он по любому поводу имел собственное мнение). — Тарас Степанович, ну, Сурмачу еще простительно, но вы-то во всем разбираетесь, как же вы не уловили политической особенности текущего момента? Время этих воротынцев и нетахатенок кончилось: вот как осенью всякой порхающей-летающей гадости приходит крышка. После приморозков остается в живых только та цокотуха, которая укрылась в хате. Да и ее вскорости прихлопнут тряпкой, потому что нет от нее покоя: гадит и жужжит… Ласточкин уехал в Винницу, в губотдел. Пробыл там несколько дней. Вернулся и сообщил: — Сами мы тут у себя навести порядка не можем… приедет уполномоченный. Но сидеть сложа руки, уповая на мудрость губернского уполномоченного, не приходилось. Оперативный состав собрался в кабинете у начальника окротдела. — Кто что может предложить? — спросил Ласточкин. — Есть один хвостик, о котором мы забыли, — отозвался Борис. — Галина Вольская. Хотел бы я знать, по чьему наущению она уехала из дому на два дня? Кто ее услал, тот и похозяйничал без нее в доме. Ярош согласился: — А что, это мысль. Главное — зацепиться. Аверьян вспомнил, как Ольга кормила его бульоном, курицу для которого привезла Галина. — Наша с Ольгой хозяйка какая-то дальняя родственница Степану Вольскому по покойному мужу. Галину она знает. Встретила ее на базаре в Белоярове и пригласила: дескать, приезжай, глянь на подругу, живут с мужем в моем доме. А вот как ты к Оксане Свиридовне нашел дорожку? — Раздобыть жилье, сам знаешь, — легче к японскому императору в гости напроситься. Весь город облазил — и ничего, — вспомнил Борис. — Тарас Степанович и посоветовал: «Сходи на застанционный поселок. Домики там на деревенский лад, но с простыми людьми и договориться проще». Я — на поселок. Зашел в крайнюю хату, попал на Оксану Свиридовну. Она вначале думала, что я для себя ищу, но потом и на семейных согласилась. — Черт бы побрал эти случайности! — выругался Ласточкин. — Надо побывать у Галины Вольской, — предложил Ярош. — Я завтра еду в Белояров по своим делам, зайду к ней, — согласился Борис. — Выведаю. На том и порешили. Пока Коган ездил в Белояров, Сурмач, по совету Яроша, побеседовал со своей квартирной хозяйкой Оксаной Свиридовной. Чтобы это не выглядело отсебятиной, он пригласил ее в окротдел, а беседу оформил протоколом. — Оксана Свиридовна, кем доводился Степан Вольский вашему покойному мужу? — Не он, а его отец был моему Лександру кумом. Лександр крестил у него старшую дочку. После она померла. — А откуда вы знаете Галину? — Степан меня на свадьбу приглашал. — А чего вы тогда на белояровский базар поехали? — Да твоя ж Ольга уговорила маслица для тебя купить и с дюжину яиц… — А как Галину встретили? — Да просто: гляжу, петуха продает. Ну и подошла. Спрашиваю, нет ли у нее яиц, а то купила б… Квартирант, мол, у меня из ГПУ… Застудился. «А живет он с Ольгой Яровой из Журавинки. Не помнит ли она такую?» Галка — тоже из Журавинки. Ну она и говорит: «…То моя сестра». А коль сестра, говорю, приезжай и курочку привези, больному бульон нужен. Я тогда от нее узнала, что ее муж, Степан-то, убит на границе. Потужила. Справный такой мужик был. Удалой. Плясал на свадьбе! Сурмач показал протокол допросов Ярошу. Тот решил: — По-моему, приглашая Галину Вольскую в Турчиновку, Оксана Свиридовна имела только одну цель: сварить бульон для больного чекиста ил подаренной курицы. Ушлая тетка! Вернулся из Белоярова Коган, зашел к Сурмачу в экономгруппу. Тот был один: — Похозяйничали в доме у Галины Вольской изрядно, — сообщил Борис. — Вещей, правда, не тронули, но покорежили многое. Доски на полах порубили, подполье перекопали, а землю прямо в комнаты выбрасывали. В горнице яма метра в два глубиною. И в сарае не меньше. Но заподозрить ей некого. Долго они в тот вечер обсуждали случай, который произошел в доме Галины Вольской. — Оксана Свиридовна встретила Галину на базаре случайно. Пусть так. Но кому она говорила, что поедет в Щербиновку? — Просила жену Серого, тетю Фросю, приглядеть за домом, пока съездит в Турчиновку, корову подоить. — Просила жену Серого… Нашла кого ненадежнее. А что говорит эта самая тетя Фрося? — Понятия ни о чем не имеет. Корову в обед выдоила и ушла домой. Никто не приходил к Галине, никого она не видела. А когда Галина вернулась, открыла дом и ахнула: все перерыто. И тут будто бы кругло, никаких концов. Впрочем, жена Серого, может, что-то и знает, но молчит. Борис сообщил Сурмачу еще одну новость: — Акушерка никакая не тетка твоей Ольге, хотя та и жила у нее на правах бедной родственницы. Сосватали девчонку в прислуги к Людмиле Братунь родители Семена Воротынца. — А они откуда ее знают? — Спроси у Григория Ефимовича. — Григорий Ефимович… Григорий Ефимович… С этого немного возьмешь, — пробурчал Аверьян. И все же он вызвал из внутренней тюрьмы старого Воротынца. — Белояровскую акушерку Людмилу Братунь знаете? — спросил его Сурмач. — А кто же не знает ее, — ответил старик. — Она первые роды у моей невестки принимала, еще в двадцатом, когда Катруся мертвого родила. А Сурмач черт-те что начал было об этом думать! Но почему Ольга не рассказала ему, что Людмила Братунь никакая ей не тетка? Неприятная мысль! Какой-то песок остался от нее па душе, хрустит, натирает до боли…ЧЕМ ХОРОШО ПЛОХОЕ
Невезение. Постоянное невезение. Оно не только расхолаживает, оно отбирает веру в успех, в собственные способности. Одна неудача… Ну что ж, бывает. Проморгали. Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Вторая неудача… Задумайся, почему она к тебе пришла. Проверь и перепроверь, где, в чем и почему ты ошибся. Третья… Четвертая… Пятая… Приглядись к ним! У твоих неудач уже — свое лицо, свой голос, свой характер. А если пройти по этим неудачам, как по болотным кочкам? Может, выведут на сухое место? Отравился Тесляренко-Штоль. Казначей предупредил Серого и Жихаря о том, что врач Емельян Николаевич побывал в ГПУ Конечно, это не обошлось без Ивана Безуха, бывшего бойца ОСНАЗа. Серый умер. Тут уж чистый несчастный случай. Медицина говорит: «коронарная недостаточность». А если попроще — окочурился со страха. Но вот обшарили дом Галины Вольской и что-то забрали в то время, когда Галина возила для больного чекиста курицу. Явно и слепому — тут все подстроено. И тот, кто уследил, что Галина поехала в Турчиновку, живет в Белоярове. Из-под носа чекистов ушел Нетахатенко. Каким-то образом он в самый последний момент узнал, что работники ГПУ — уже в Щербиновке. Предположим, кто-то из его людей знает в лицо начальника окротдела или Яроша. Или обоих. Увидел, как чекисты сходят с поезда… И предупредил главаря. Но почему Нетахатенко решил, что приехали именно за ним? …Впрочем, чему удивляться… После того, как врач сообщил в ГПУ, что хата-лазарет где-то в Щербиновке, стало ясно, что ее будут искать. Безух предупредил сообщников, что Емельян Николаевич побывал в окротделе, они приняли меры: раненого Семена Воротынца перепрятали, а хату решили сжечь: мол, пожар все концы залижет. Но появление чекистов в Щербиновке всполошило их, они так спешили, что… не успели вывести из хаты спящих жену и детей Нетахатенко. Устроить пожар мог и не он, кто-то другой. А чужому ни жены, ни детей Нетахатенко было не жалко; разбудить их и увести в безопасное место было некогда, а они могли бы стать свидетелями, ну их… вместе с домом… Все это — промахи. Но были же и удачи! Арестовали Тесляренко-Штоля, очистили Щербиновский сельсовет от кулацкого засилья, тем самым укрепили веру в Советскую власть. Но это, так сказать, вторая сторона дела. Ликвидирована подпольная типография, арестован Серый. Тоже явный успех. Выявлены, хотя и гуляют на свободе, многие участники подполья. И главное — Щербань в ГПУ. А он многое сумеет вспомнить. Выходит, отчаиваться причин нет. Надо искать! Работать.* * *
Старый Воротынец никаких показаний уже не давал, и его оставили в покое. Екатерина родила мальчика. Ольга ежедневно проведывала сестру. Радовалась, будто это ее собственный сын: — Десять фунтов! От Екатерины удалось узнать, что типографию к ним в дом привезли Серый и Жихарь, а печатал листовки Николай Руденко. — Ну… тот наш работник, на которого говорили… Оказывается, Жихарь и Руденко в тот день, когда приехали в гости Сурмач с Ольгой и Борисом Коганом, рано утром повезли куда-то листовки. — Какой он из себя, Николай Руденко?! Екатерина ничего толком сказать не могла. — Да уже старый, за сорок… — Какого роста? — Да вот как вы, — говорила она, не зная, как обращаться к новому родственнику. — Только в плечах пошире. — Во что одет? — В серое пальто. Словом, ничего конкретного. А вот Ольга, видевшая «работника» всего раз, оказалась более наблюдательной и сообразительной. — Ходит он осторожно-осторожно, будто боится на колючку наступить. Хитрый такой. Нос — во! — показывала она, согнув крючком указательный палец. — В церкви таким бы свечи гасить. А рядышком с носом — бородавка. Говорят, ото чертова отметка. «Бородавка на носу! Уж не тот ли „нищий“ с белояровского базара?» — подумал Сурмач. — А черных очков ты у него не видела? — Но он же не слепой, — удивилась Оленька. — Знаю, что не слепой… Сурмач рассказал о нищем, который обычно сидел у входа на белояровский базар. Нет, Ольга его не видела. На толкучку она почти никогда не ходила, нечего было там делать: акушерке все привозили на дом. — Но как же выглядит этот «работник»? Как? — досадовал Сурмач. Тогда Ольга взяла карандаш, старую выкройку и начала на ней рисовать портрет Николая Руденко. Широкие брови, густые-густые. На лбу — челка, как у призовой лошади. Нос — загогулиной. Бородавка. Скулы широкие, татарские. Раньше Ольга рисовала цветы, птичек, которые потом умело вышивала. И вот впервые она взялась за человеческий портрет. — Он! Он! Белояровский нищий! — обрадовался Сурмач, узнав в неказистых контурах, родившихся на бумаге под неопытной рукой Ольги, знакомого нищего. Он неистово целовал жену. — Молодец! Ты у меня молодчина! Тебе надо учиться, художником станешь! А она рдела, заливаясь румянцем от его похвалы.* * *
Пришло время — Екатерину выписали из больницы, и Ольга повезла сестру в Щербиновку. С великой неохотой отпускал Аверьян жену. — Что ты там не видела, в этом бандитском гнезде? Он считал, что отныне Ольга должна прервать всякую связь с сестрою и забыть ее. Но Ольга необычно резко запротестовала: — Сердца у тебя, что ли, нет! Она чуть не умерла. Еще такая слабая, а теперь на ней будет все: и хозяйство, и ребеночек. — Пусть свекровь помогает! Старую Воротыниху отпустили еще на прошлой неделе, решив, что толку от нее никакого. Ольга отвезла родственницу в Щербиновку, наготовила там ей еды, прибрала в доме и уговорила соседей приглядывать за старой женщиной. Сейчас Ольга возмутилась: — Тетя Мотя совсем-совсем немощная! От нее помощи не жди! Она как ребенок, все ей подай, все за ней прибери. Я в Щербиновку ненадолго… На недельку всего. Помогу Кате. Она окрепнет — и я вернусь. Ехать Ольге с сестрой в Щербиновку или не ехать? Все в Сурмаче восставало против поездки. Но с другой стороны, если подойти по-человечески… Аверьян решил посоветоваться с Иваном Спиридоновичем. Начальник окротдела тоже долго думал, наконец решил: — Пусть едет, она у тебя сообразительная. Вот ты как-нибудь поделикатнее и попроси ее, пусть поинтересуется Степаном Нетахатенко. Узнает, с кем он водил дружбу, что в селе говорят о пожаре. — Это она сделает, — заверил Сурмач. У него на душе стало легче, будто камень свалился: «Ольга едет по делу». Аверьян провожал на вокзал жену и свояченицу: нес узелок с пеленками. Ольга не выпускала из рук племянника, она даже матери не доверяла кроху, ей казалось, что Екатерина и держит не так, и пеленает неправильно. Держа на руках маленького Воротынца, завернутого в лоскутное одеяло, Ольга цвела от счастья. Уехала Ольга. Поезд еще из виду не скрылся, а Сурмач уже затосковал по жене. Сам он за короткий срок, что они живут вместе, не раз и не два уезжал и как-то не задумывался, какие мысли будоражат Ольгу в такой момент, Наверно, ей вот так же тоскливо. Может, даже хуже. У Аверьяна есть работа, а у нее что? Только он, муж. Миновала неделя. Но в четверг, как обещала, Ольга не приехала. «Ну задержалась на денек…» Но не было ее и в пятницу. «Уж не случилось ли чего в этой чертовой Щербиновке?» Сурмач поделился своей тревогой с Борисом. Тот обругал его. — Иди к Ивану Спиридоновичу, отпрашивайся. Да не забудь уговорить балтийца, чтобы и меня отпустил. Ты же опять в какую-нибудь беду влезешь, если Борис Коган тебя не будет охранять. Иван Спиридонович понял тревогу Сурмача сразу. — Я сам хотел тебя спросить, чего это твоя Ольга загостилась. Берите с Коганом розвальни, через четыре часа будете в Щербиновке. А ближайшим поездом туда доберетесь лишь к вечеру. Но ехать в Щербиновку не пришлось. Аверьян был еще в кабинете у Ласточкина, когда дежурный на весь окротдел закричал: — Сурмач, на выход! Выскочил он в коридор — Ольга. Радость встречи затопила уже всколыхнувшуюся было в сердце тревогу: «Поехала в бандитское гнездо…» Но тут он разглядел под платком полоску бинта, которым была обмотана голова. — Что с тобою? Шагнул к ней, взял за руку. Ладошки — холодные-холодные. Ольга виновато поглядывала на мужа. — Кто-то стрельнул, и ухо оторвалось. Час от часу не легче. Сурмачу не хотелось, чтобы Ольга о случившемся рассказывала при Яроше (это дела семейные, да и отношения с Тарасом Степановичем становились все более натянутыми). И он повел Ольгу не к себе, в экономгруппу, а к Борису, в «чекистскую кухню». Усадил на стул. Осторожно, чтобы но причинить боли, развязал стянутые на затылке концы платка, снял его. — Ну! Оказывается, с Ольгой это случилось позавчера вечером. Она вышла из дому, чтобы набрать в колодце воды. Залаял пес. Ольга окликнула: — Кто там? В ответ полохнул выстрел. Пуля оторвала ухо. Ольга упала, потом быстро отползла в сторону, спрятавшись за сруб колодца. Прогремело еще несколько выстрелов… Утром Екатерина принесла со двора жестяное ведро, пробитое в двух местах пулями. — Ведро светлое, его и попутали со мною, — пояснила Ольга. Сурмач был сам не свой: «Могли убить!» — Почему же ты сразуне вернулась? — с тревогой спросил он. — Про Степана Яковлевича разузнавала. — Про какого еще Степана Яковлевича? — Ну, про Нетахатенко. Как стемнеет, так я к его дому. — Чего ты там не видела? — Первый раз просто так пошла, сказывали, что по ночам бродит душа его сгоревшей жены. — И ты не испугалась духа? — пришла очередь удивиться Борису. — Духи, они добрые, — заявила уверенно Ольга. — Я хотела спросить ее… — Духа? — Ну да. Если Степан Яковлевич ее вместо с ребеночком предал насильной смерти… Думаю, может, она сердита на него и мне все расскажет. Предела этой милой наивности не было. Сурмач сердился и восхищался одновременно. — Ну, как выглядел дух? — нетерпеливо, готовый рассмеяться, спросил Борис. — В простынь завернут? — А я не видела, — простодушно созналась Ольга. — В сарае, в уголке, лежала свежая земля. Я подумала: откуда она? На следующий день пришла, а земли стало еще больше. Я поняла: кто-то копает. По вечерам, так, чтобы не заметили, стала искать. Роют в подвал к Степану Яковлевичу, хотят пробиться под стену. Хотела узнать, кто же роет… Не узнала, — виновато закончила она. — Дух клад искал, — насмешливо пошутил Борис. — Нет, духи, они не могут. Дух, как тень: он есть и его нет… Копали люди. — Из-за своего любопытства едва пулю не схлопотала! — сказал Сурмач, стараясь за внешней суровостью скрыть тревогу, которая в нем жила, порожденная возможным несчастьем. — Дом сгорел, а подвал уцелел, — размышлял Коган. — Что же в том подвале спрятано? — Пошли к балтийцу, — предложил Аверьян. — Пока не уехал, — согласился Коган. — А куда он собирался? — В губотдел. С докладом. В окротделе Ивана Спирндоновича не оказалось. — Ушел домой, — пояснил дежурный. Втроем поспешили в коммуну. Но Ласточкина уже и там не было. Принимать какие-то меры самим, без согласования с начальником окротдела, Сурмач не решился. Но ждать, когда тот вернется, нельзя. — Упустим, упустим, — метался Борис Коган в поисках выхода. А потом решил: — Была не была. Поезжай в Щербиновку. Понаблюдай за домом. А вернется Иван Спиридонович, я ему доложу. — И Яроша пет, — потужил Аверьян. — Я уж тебе говорил, ты с Ярошем… поосторожнее, он тебя еще так подкует! На четырех не устоишь. — Видя, как нахмурился друг, примиряюще сказал: — Поезжай. Ярошу я уж сам доложу. Время дорого, может, засечешь того «духа», который пробивается к подвалу. На том и порешили.* * *
Сурмачу предстояло в Щербиновке доведаться, кто копает, сколько человек, откуда приходят, куда исчезают с рассветом. В этом дело ему нужны были надежные помощники. Од явился в сельсовет. Повезло: председатель собрался в окрисполком, да замешкался. Не таясь, Аверьян рассказал Алексею Леонидовичу всю историю с подкопом на нетахатенковском пожарище. Подивился председатель сельсовета: — Вы в округе, а лучше нас знаете, что делается в Щербиновке. Ходят по селу слушки: мол, шастают духи вокруг сгоревшей хаты. Я думал — бабы треплются. А оно вон как… Что ж, возьмем копателей. Мы теперь — сила. Своя партийно-комсомольская ячейка появилась: два большевика и два комсомольца. Комбед у нас в большом авторитете. После того, как вы забрали старого Воротынца, а Нетахатенко свое хозяйство спалил, щербиновские кулаки совсем попритихли. С малоземельных и многодетных мы сняли часть налога, на них перекинули. И ни гугу: везут. На широком подворье сельсовета стояли подводы, груженные мешками с зерном. Хлеб… Его ждет город, ждет страна, чтобы в обмен выдать крестьянину плуги и бороны, подковы и гвозди… Да мало ли еще что нужно людям. Все, чем гордился довольный председатель Щербиновского сельсовета, было приятно Сурмачу, ведь в этом была и его толика. Но сейчас разговор должен быть о другом. — Брать копателей пока не надо, а вот проследить за ними… Алексей Пришлый подумал минутку, пнул комочек застывшей земли: — А чего ж не проследить… Проследим. Хата Дыбуна напротив.ЧЕКИСТ, КОТОРЫЙ ПИСАЛ СТИХИ
Почту в окротдел доставляли перед обедом. В тот день среди прочей корреспонденции прибыло два конверта из губотдела, помеченные литерой «А». Обычно такие письма вскрывал начальник окротдела, а в его отсутствие — секретарь. Ласточкин еще не вернулся из Винницы, поэтому секретарь, проверив почту, пригласил Яроша и передал ему одно из писем. — Тарас Степанович, тут о вашем уполномоченном… А сам не смеет глаз поднять на Яроша. — Ты чего? — спросил тот. — Прочитайте, — только и ответил секретарь. Письмо было небольшое. Но, пробежав по его строчкам глазами, сдержанный обычно Тарас Степанович изменился в лице и протяжно свистнул. — Ну и ну! — вырвалось у него. Прочитал письмо еще раз и сказал секретарю, не скрывая досады: — Вот теперь кое-что начинает проясняться в этом темном деле! Он вызвал двух человек из оперативного состава и предупредил: — Предстоит деликатное дело. Застанционный поселок уже спал, когда Ярош явился на квартиру Сурмача. Поднял негромким стуком хозяйку. Та, не одетая толком, долго торчала у окна, пытаясь разглядеть в потемках, кто это там торчит под дверями. — Оксана Свиридовна, открывайте! — потребовал Ярош. — Из ГПУ. — Но Аверьяна Ивановича нет, — попробовала было хозяйка отсидеться в своей крепости. — А где же он? — подивился Ярош. — В Щербиновке. — Чего его туда понесло? — Свояченицу проведать. Что-то передать ребенку. — Тем хуже для него. Мне, собственно, нужен не столько он, сколько его жена. Открывайте! Переполошенной Ольге, которая сидела в кровати, закутав плечи и голову в широкое одеяло, он сказал решительно: — Собирайтесь. А она совершенно по понимала, что от нее хочет начальник Аверьяна. Недобрый, грозный… Правда, он всегда такой — недоступный, хмурый. — Я без Володи никуда не пойду. Вот вернется… — Для вас — уже не вернется. Поднимайтесь! — Что-то с Володей? — ойкнула Ольга. Страх родился в сердце и холодными струйками растекся по телу, сковал льдом руки и ноги. Не пошевельнуться. Торчавшая в дверях Оксана Свиридовна запела было тоненьким голоском: — Как же это мужнюю женщину вытаскивать из постели ночью? Ярош выставил хозяйку за дверь. — Дойдет и до вас очередь, уважаемая. Ольга оделась. Ее увели. Только Оксана Свиридовна не была бы Оксаной Свиридовной, если бы позволила этак просто увести постоялицу, к которой уже привязалась душой. Она пошла следом за конвойными. Добралась до окротдела. А оттуда — в коммуну, к Борису Когану. Горлицей взлетев по скрипучей, шаткой лестнице на веранду, затарабанила мягкими кулаками в дверь. К ней вышла тетя Маша. Со сна. — Двери-то в коридор не заперты. Только надо было потянуть их на себя. — А я их — толкала, толкала, — пояснила запыхавшаяся Оксана Свиридовна. — Мне бы Борю… — Когана? — Да, да, его! — Бори-ис! — позвала тетя Маша, уверенная, что ночная гостья ухитрилась своим стуком разбудить всех жильцов коммуны. Он уже в дверях. Словно бы собрался на утреннюю физзарядку: сапоги — на тощих ногах, без брюк — лишь в длинных черных трусах. Правда, на плечах — внакидку пальто. Держит себя за лацканы. Увидел Оксану Свиридовну и все сразу понял: — Что-то с Ольгой? Оксана Свиридовна кивает головой: мол, с нею, и заговорщицки манит Когана пальцем: — Боренька, мне бы с вами с глазу на глаз. По секрету. — Сейчас! Он оделся. Они вышли во двор. И только там, убедившись, что их никто услышать не может, Оксана Свиридовна громким шепотом сообщила страшную тайну. — Забрали ее. В ГПУ. Приходил с двумя начальник Аверьяна Ивановича. Злой-презлой, аж зубами щелкает. Говорит: «Дойдет и до вас черед, уважаемая». А на веранде уже и тетя Маша, и другие коммунары. Встревожены. — Борис, что там случилось? — Не знаю толком. Пойду разберусь.* * *
Борис заглянул в экономгруппу. Ольга сидела на стуле посреди комнаты, как и положено арестованному при допросе. Увидев на пороге Бориса, вздрогнула, закусила губы. А в черных глазах глухие всплески, как в глубоком омуте перед грозою. Ярош протянул Когану лист бумаги. — Из губотдела переслали. Полюбуйся. «Вы бы постарательнее выбирали себе жен. Оженился ваш чекист Сурмач Аверьянка с Ольгой Яровой… А не спросил, что она за птица. А она была полюбовницей Вакулы Горобца, который грабил и мародерствовал вместе с Семеном Воротынцем. Это она предупредила Семена Григорьевича, что в Журавинку пришли чекисты. А тот на коней, награбленное забрал и деру… Она и сейчас тянется к сестре. А как же, одна кровь… Вот оно как, товарищи чекисты». Письмо было без подписи. — Анонимка! И по такой фальшивке допрашивать жену своего товарища чекиста?! — возмутился Борис. Тогда Ярош без слов протянул ему протокол допроса. «Я, Ольга Митрофановна Сурмач (девичья фамилия Яровая)…» В конце подпись Ольги: старательно выведенные буквы. «Призналась! В чем?» «Я предупредила хорунжего Семена Григорьевича Воротынца про то, что в Журавинке чекисты, что они уже разоружили людей Вакулы Горобца и отряд, ночевавший в имении помещицы Ксении Измайловой, и вот-вот явятся сюда, в дом к моей сестре Екатерине». «Но это же не ее слова! Все написано под диктовку», — пришла Борису первая мысль. Впрочем, в данном случае слова — лишь форма, оболочка. А главное — смысл. «Пре-ду-пре-ди-ла бандитов!» И это превращало жену чекиста в бандопособницу. Борис подошел к Ольге. Она смотрела на него не мигая, зажала рот рукой… — Разве не ты… пристукнула капитала Измайлова, который вместе с Вакулой Горобцом хотел надругаться над тобой? Она с надеждой глянула на Бориса, веря, что он хочет ей помочь. — Без тебя Аверьян с друзьями не смогли бы управиться с бандой Семена Воротынца. Ты ото знаешь? Она кивнула: да. — Так почему же ты пожалела Семена Воротынца? Из-за сестры? Она опять закивала: да-да. — Катю с Семеном Григорьевичем в тот вечер венчал батюшка. Ярош не без раздражения, но сдерживая себя, сказал: — Работа в ЧК и ГПУ научила меня в первую очередь считаться с фактами. Совершено предательство. Побудительные причины не снижают тяжести последствий этого преступления. И вы, Коган, это прекрасно понимаете. Если бы Ольга Яровая не предупредила злейшего врага Советской власти, мужа своей сестры, Семена Воротынца, то чекиста Сурмача не ранили бы во время журавинской операции, командира сотни взяли бы вместе с награбленным, и золото попало государству. И сегодня мы бы уже не искали «наследства» атамана Усенко, не гибли бы люди на пути к нему. Сколько их: и мальчишки-беспризорники, которых втравил в это дело Сурмач, и доктор Емельян Николаевич, и пограничники на заставе. Да и я сам едва не угодил па тот свет. У предательства нет оправданий, нельзя его прощать за давностью срока. Все в Борисе восстало: — Хотел бы я знать, чем определяется мера человеческой подлости, — прохрипел он, едва сдерживая себя. — Вы завидуете Сурмачу. Он — удачливее вас, потому что больше предан деду, чем вы. И вот теперь, улучив момент, сводите личные счеты! — Нет, Коган, вы ошибаетесь, — негромко возразил Ярош. — Ничего личного. Я стою на твердой классовой позиции. А моя жесткость вызвана необходимостью, Я никогда не был мягкотелым либералом, я — чекист, я верю только фактам, оставляя право на эмоции другим. И прошу не мешать беседе с задержанной. Когану оставалось лишь удалиться. Начальник окротдела приехал из Винницы дневным поездом. Борис ходил встречать. По дороге рассказал Ивану Спиридоновичу о происшествии. Тот, выслушав внимательно, невольно воскликнул: — Когда-нибудь будет конец этим новшествам?! Так можно в сглаз поверить! Не хватало для полного набора еще этого: жена чекиста — бывшая бандопособница. — А по-моему, — возразил Коган, — Ольга в тот день порвала с рабством, которое взлелеяли в ее душе и мать, и батюшка из соседней церкви, и сестра, словом, вся-вся жизнь. Вырвала, с болью, с мясом. Остался крохотный корешок… Бросилась спасать сестру — это же по-человечески хорошо. Борис рассказал, как Ольга в Щербиновке узнала, что кто-то на пожарище нетахатинского хозяйства ведет подкоп под стену, видимо, пробивается к подвалу. — В нее стреляли! Она для дружков Нетахатенко — не сестра Екатерины Воротынец, а жена чекиста Сурмача, а по этому случаю и сама чекист. Придя в окротдел, Ласточкин познакомился с анонимным письмом и с протоколами дознания. Затем пригласил к себе Ольгу. Ее тряс озноб — сидеть на стуле не могла, уцепилась за сидение обеими руками. Глаза — по плошке, таращит их на Ивана Спиридоновича. — Разберемся. На-ка для успокоения воды. Налил в кружку. Подал. Но Ольга не могла оторвать рук от стула, в который вцепилась мертвой хваткой. На тугой подол платья падали и разбивались в мелкие брызги слезы. Понимая, что она на грани нервного припадка, Ласточкин прижал Ольгину голову к своей груди и влил в рот несколько глотков. Но и после этого Ольга далеко не сразу обрела дар речи. — Славко тогда мне сказал: «Беги! Сейчас стрелять будут!» Я испугалась за Катю: у Семена Григорьевича — пулемет, у чекистов — аж пять. Всех, думаю, побьют в доме, И сказала Кате: «Беги! Чекисты связали хлопцев Вакулы, обезоружили всех, кто был с ним и на подворье пани Ксении. Сейчас будут здесь». А Семену Григорьевичу я ничего-ничего не говорила. Я его даже не видела. — Посиди тут… Он оставил Ольгу в кабинете, а сам направился в экономгруппу к Ярошу. Остановился около стола. Постукивает ладошкой по глади. — Прочитал анонимку… Протоколы… Побеседовал с Ольгой. Все верно: она предупредила сестру, а та — мужа, а в результате Семен Воротынец сумел уйти. И спасибо, Тарас Степанович, тебе за бдительность. Но что же делать теперь с женой нашего товарища? — Вы — начальник окротдела, вам и решение принимать, — ответил уклончиво Ярош. — Мое дело проверить письмо. Ласточкин закивал головой: мол, все это правильно. — А если бы ты был на моем месте, как бы поступил? — Тут двух мнений быть не может. По законам пролетарского государства жену Сурмача надо судить как активного бандопособника, умело скрывавшегося столько лет. А самого Аверьяна — отстранить от дальнейшей работы. Не исключена возможность, что утечка секретных данных из отдела происходила через него. — Эка хватил! — поморщился Ласточкин, стараясь утихомирить Яроша. — Сурмач — чекист, каких поискать. — Он мог просто выболтать жене, та сестре, а от сестры дальше, — стоял на своем Тарас Степанович. — А если я не прав, объясните, почему о наших секретах знает весь базар не только в Турчиновке, но и в Белоярове? — Разберемся, что к чему, — решил Ласточкин. — А пока, Тарас Степанович, освободи жену Сурмача. — Я — солдат, и обсуждать приказы считаю преступным. Но как чекист убежден, что личная привязанность к Сурмачу мешает вам беспристрастно оценить ситуацию и дать ей политически правильную оценку. О своем мнении я проинформирую губотдел. Прошу по этому случаю разрешить командировку в Винницу. — Ну что ж… отговаривать не буду. Непримиримость твою не осуждаю. Вижу — она от убежденности. Можешь быть свободен на двое суток, — Ласточкин шагнул к дверям. Взялся рукой за косяк. Обернулся. — Доброты бы твоему сердцу, Тарас Степанович. — Зачем? — резко спросил тот. — Идет классовая борьба, борьба на уничтожение: или мы их, или они — нас. Доброта лишь умножит жертвы с той и другой стороны. Ольга Сурмач была доброй к своей сестре. А это привело к гибели десятков людей. Ласточкин не согласился: — Владимир Ильич Ленин как-то разговаривал с одним иностранцем. «С кем вы собираетесь строить социализм, господин Ленин? — удивился иностранец. — Россия — страна полуграмотных людей с тяжелыми инстинктами». А Владимир Ильич ответил: «А вот с теми, какие есть, поскольку иных в России нет». И в этих словах — мудрость класса, который победил. С открытыми, ясными врагами — да, следует быть суровым. Но с заблуждающимися, с теми, кто случайно ошибся, — надо быть добрым: учить, воспитывать. — Учить дураков и перевоспитывать врагов — нет уж, увольте! Это — не по мне. — Жаль, — потужил Ласточкин. — Мне всегда жаль умных, которые совершают глупости.* * *
Ярош, воспользовавшись разрешением начальника окротдела, первым же поездом выехал в Винницу. После обеда из Турчиновки выехало двое саней-розвальней. Коган с Ласточкиным и еще одним чекистом ехали впереди. Кони резво бежали рысцой. Лихо поскрипывала под дубовыми полозьями накатанная дорога. Во всем чувствовалась необыкновенная легкость. Вечерняя заря, что ли, так прикрасила мир! Небо — синь-бирюза. По одну руку — солнце из жидкого золота, а по другую — из кованого серебра луна. Если долго смотреть на небо, лежа на спине, слушать мерное цоканье копыт, вдыхать тонкий аромат прихваченной морозцом соломы, то в какое-то мгновение почувствуешь, что не кони тебя несут, а ты сам летишь. Это как в детском сне: оттолкнулся от земли и взвился в вышину, прямо к солнцу, а оно протягивает тебе навстречу теплые ласковые лучи. Впрочем, можешь сигануть и к Луне, если есть охота. Луна — поближе. Правда, отправляясь туда, надо запастись тулупом. — Иван Спиридонович, — спросил Борис лежавшего рядом па соломе начальника окротдела, — а вы хотели бы побывать на Луне? Ласточкин, погруженный в свои размышления, не сразу понял, о чем говорит Коган. — На Луне? Я еще и на Земле всей-то работы не переделал! Вот уж который раз еду в эту Щербиновку. Да хоть бы однажды с толком. — Нет, Иван Спиридонович, человеку все-таки интересно, какая она, Луна! А вдруг чистое серебро? Сколько бы из него можно было для всех понаделать разных красивых вещей! Люблю красивое, — мечтательно проговорил Борис. — Красивое — оно наливает душу благородством, делает нас умнее, зорче, — согласился с ним Ласточкин. — Только Луна — осколок Земли, говорят сведущие люди. Так что, если серебро там и есть, то надо попотеть, пока добудешь руду, пока выплавишь из той руды металл. — Вы бывали в Одессе? — задал Коган еще один неожиданный вопрос. — Нет. — Жаль. А приедете, первого встречного одессита спросите: «Где живет каменщик Илья Коган?» Сразу покажут. Отец у меня особенный. Ростом полторы сажени. И в плечах — будь здоров. Я в мать пошел. Она крошечной была. Отец ее любил. Но я это понял, когда ее уже не стало. — Умерла? — спросил второй чекист, который правил лошадьми. — Погром унес. У отца — золотые руки, так что он зарабатывал неплохо. Только все пропивал. Работу закончит, нам с матерью выделит на пропитание, а остальное — в кабак. Неделю, две гуляет. Потом явится, подарки принесет. Однажды берет меня к себе па колени и на стол ставит фигурку. Женщина, вылита из серебра. Безрукая, и написано: «Венера». Говорит мне: «Узри, сынок, пойми красу. Богатым стать нетрудно: продал душу дьяволу, а об остальном он сам побеспокоится. А вот чтоб человеком на всю жизнь остаться, надо красивое понять». Ну, тут мать на него и наскочила, схватила эту самую голую Венеру: «Сам пакостник и сына к этому приучаешь!» Спрятала подарок… А через полгода погром все унес из дому. И маму, и все наше скудное имущество. — Борис помолчал и продолжал: — После гибели матери отец ко мне привязался всей душой. Ремеслу начал учить. Так что я — каменщик. Первостатейный! — признался Борис не без гордости. — Но очень отцу хотелось, чтобы его сын побольше ума-разума набрался. И послал меня в реальное училище. Еврей — в училище! Чего это стоило отцу! Я уже кончал учебу, когда пришла вторая беда. Как-то заявляется отец чернее тучи и ставит на стол пашу безрукую Венеру. И ни слова. Хочу спросить: «Где ты ее взял?» Но язык в горле колом. Чувствую, стряслось что-то с ним. Час сидит, молчит, на Венеру уставился, второй час — ни с места. А у меня мурашки бегают по спине. Потом расплавил красивую богиню. «Вот, — говорит, — сын, нам память о матери». Вынул горсть денег, сунул их мне под подушку. «Все, сынок! Исчез из Одессы Илья Коган, каменщик. Меня ты не видел уже три дня». И ушел. А утром является полиция: «Где этот каторжник?» Оказывается, он прибил купца Соболева с сыном. — Разными путями шагало по России горе, — проговорил Иван Спиридонович, взволнованный исповедью Когана. — А сейчас где твой батя? — поинтересовался третий чекист. — В Одессе. После февральской революции объявился, — ответил Коган, гордясь своим отцом. Борис выпрыгнул из саней и побежал рядом. Ездовой решил над ним подшутить, чуть тронул вожжи, кони прибавили шагу. Но Борис бежал и бежал, не отставая. — Иван Спиридонович, — приглашал он, — Ноги отморозите, выбирайтесь из саней. Хорошо-то как! Ласточкин послушался совета и выпрыгнул по другую сторону розвальней. Какой-то озорной дух вселился во всех. Борис подхватил горсть снега и, запрыгнув опять в сани, принялся натирать им лицо ездового. Тот завалился назад, невольно потянул вожжи. Лошади рванули резко в сторону. Вывернув сани, вывалив в белое поле двух веселых озорных парней, они остановились, нервно раздувая ноздри. А Коган и ездовой сидели по пояс в хрустком снегу и громко смеялись. Подъехали вторые сани. Из них выскочили чекисты, кинулись на Бориса. — Куча мала! Завихрился снег, вызвездился в потоке косых лучей заходящего солнца. Обычно деловито-озабоченный начальник окротдела сейчас ласково, по-отцовски смотрел на беззаботную возню своих подчиненных. Пора было бы им вставать, впереди еще часа два пути, но вот не поворачивается язык прикрикнуть на молодых, а они сами и не догадываются, что время не ждет. — Простудитесь. Вставайте! Ишь, масленицу устроили! Но клубок барахтавшихся в снегу тел подкатился к нему и как-то впитал, вобрал в себя человека с седыми висками. — Куча мала! Куча мала! Когда наконец разошлись по саням и кони вновь зарысили по укатанной дороге, Коган сказал: — Люблю зиму, хотя и родился на юге. Дышится уж очень здорово. В двадцатом мне повезло: побывал в Москве. В городе хозяйничал голод. Тоска зеленая. А попал я в Сокольники и ахнул. Стоят деревья, будто заколдованные. Елочки в собольи шубы одеты. Так хочется подойти, шепнуть заповедное слово и расколдовать их. Подивился Ласточкин: — Вот смотрю я, Борис, на тебя и думаю: кто ты? Сурмач — прирожденный чекист. Иным я его не мыслю. А ты? Стихи, поди, пишешь? Едва зашло солнце, за работу принялся мороз. Ветер срывал поземку: норовил добраться до лица. Не от того ли и расцвели щеки Когана? — Только, Иван Спиридонович, не смеяться! — потребовал он. — А над хорошим в человеке одни дураки потешаются, — ответил Ласточкин. — Тогда слушайте. Вчера написал. Это… ну, про вечность жизни, что ли…* * *
Когда добрались до Щербиновки, село уже отошло ко сну, уставившись темными окнами на звездное небо, подсвеченное серебряным серпом месяца. — Где искать Сурмача? — В сельсовете. Так уговорились. Алексей Пришлый появился вместе с Сурмачом. Аверьян доложил: — Есть у нас с председателем сельсовета такая думка: Нетахатенко спалил свой дом, чтобы не добрались до подвала. — Гад, жену и дочку не пожалел! — невольно выругался Борис Коган. — Но почему? В спешке? По нечаянности? Или свидетелей убрал? Аверьян и сам хотел бы это знать. Оп лишь пожал плечами. — Кто-то копал под фундамент, — продолжал он докладывать обстановку. — На два метра заглубились. Проход под стену уже готов. В подвал можно пролезть запросто. — Не ходили? — спросил Иван Спиридонович. — Выжидаем. Может, хозяин пожалует. Осмотрев двор, место подкопа и сложенную в сарае землю, Иван Спиридонович без дальнейших рассуждений решил: — Денька два—три подежурим, если никто не придет, доведется без хозяев добираться до подвала. Сидеть в сарае можно круглые сутки, но входить и выходить незаметно — только с наступлением сумерек. В первой засаде остались Сурмач и Коган. — На рассвете сменим, — пообещал Иван Спиридонович. Лежали в темноте, ловили каждый шорох, каждый всхлип ночи. Тихо. Будто вымер мир. Нет ни людей, ни домов, ни распаханных полей. Только ночь… Вот такое тревожное чувство охватывает шахтера, когда у него гаснет лампа и он остается один на один с вязкой, как остывающая смола, глухой, словно кладбищенская стена, тьмою. Но среди сарая вдруг появилось привидение. Именно привидение, иначе не назовешь человека, который оказался в сарае. Он прошел рядом с лежащим Сурмачом, его ноги были буквально в двух вершках от головы Аверьяна. Схватить бы за них, повалить! Тут бы и K°ган подоспел. Но — нельзя. Надо выжидать, может, еще кто-то пожалует. Нащупав в темноте лопату, ночной пришелец взял ее и по-прежнему тихо вышел во двор. Что они делали в подкопе, Аверьян не видел, но по тяжелому дыханию работавших догадывался: расширяют вход. Сурмач почувствовал, что сзади него стоит Борис Коган. — Будем брать? — спросил он шепотом. — Надо бы разведать, куда пойдут. — Упустим! — тревожился Борис. — Посты вокруг. Иван Спиридонович не позволит уйти… На всякий случай надо быть готовым ко всему. Припали к двери, наблюдают, слушают. Двое ночных работяг исчезли было в подкопе и не появлялись более часа. Но вот они вновь вылезли наружу. Каждый нес что-то тяжелое. Один, видимо, постарше, страдал одышкой: дышал тяжело, с присвистом. Что-то у него в горле клокотало и булькало. Носильщики старались ступать тихо, но под двойной тяжестью похрустывали угольки, раскиданные вокруг при тушении пожара. Сурмач понимал, что они свои ноши должны куда-то унести, и решил, что есть смысл проследить, куда именно, и взять при втором заходе (они же должны вернуться). В это время один из идущих, видимо, оступился. Он вскрикнул. Ноша хряснула о землю. Носильщик повалился на бок и громко застонал, не в силах справиться с острой болью. — Не поднимай шума! — потребовал второй. — Нога… У-у, — замычал первый. Тогда второй подхватил его под мышки и поволок к сараю. Сурмач и Коган притаились. Но разве удержишь дыхание? Сбросил бандит на кучу свежевыкопанной земли дружка и сразу почувствовал, что он здесь не один. — Кто тут? — он метнулся было к выходу, по Сурмач преградил ему путь. Зная, вернее, угадывая, где в этот момент могут быть руки бандита (оружие из кармана достает), он попытался обхватить того чуть повыше талии и прижать руки к туловищу. Но просчитался. Бандит оказался опытным. Он подставил колено, и Сурмач в темноте ударился о него лицом. От неожиданности и тупой боли на мгновение опешил. Этого для бандита оказалось вполне достаточно, чтобы пнуть нападавшего чекиста в живот. Перехватило дыхание. Аверьян раскрыл рот, как рыба, выброшенная на лед, хочет набрать в легкие воздуха, а не может. Что рядом с ним случилось в следующее мгновение, он толком осознать не мог. Сплелись два тела. Это кинулся на помощь другу Борис. Потом загремели выстрелы. Один, второй, третий. Глухие, захлебнувшиеся… В упор! «Борис! Бо-орь-ка-а!» При вспышках выстрелов Сурмач сумел сориентироваться. Откуда силы взялись! Невероятно длинным прыжком настиг стрелявшего, схватил его за руку, вооруженную пистолетом, рванул на себя, подставил плечо… еще раз рванул вниз. Что-то хрустнуло. Что-то поддалось. Рука бандита сразу ослабела, повисла плетью а сам он дико заголосил: — А-а-а-а!.. Истошный крик ударился с стены сарая, вырвался наружу и помчался по ночной сельской улице. К ногам Аверьяна упал пистолет. Он отшвырнул его ногою подальше в сторону, в темноту. Сурмач в пылу схватки не забывал, что в сарае есть еще второй человек. Он тоже вооружен. Аверьян ждал выстрела и невольно осторожничал, стараясь во время борьбы встать так, чтобы его противник очутился между ним и тем вторым, который будет стрелять. Действительно, грохнул выстрел. Всего один. И тишина. В первое мгновение Сурмач даже не понял, в чем дело, но инстинкт подсказал, что второго выстрела уже не будет. Он не задумывался над тем, почему не будет, главное — можно не опасаться. Вывернуть левую руку бандита за спину было уже легче, хотя тот еще пытался отбиваться. Но сломанная правая рука причиняла ему острую боль, и он как-то сразу скис, смирился. Уже бежали к сараю на помощь чекисты во главе с Иваном Спиридоновичем и Алексей Пришлый со своими комнезамовцами. — Вот… — прохрипел Сурмач, передавая бандита, который стоял на коленях, ткнувшись головой в твердый пол сарая. Вспыхнула зажигалка в чьих-то узловатых пальцах. На куче земли лежал с пистолетом в правой руке полный, какой-то весь очень круглый человек. Дыбун подошел к нему, бесцеремонно приподнял голову мертвого за волосы, вившиеся на затылке, заглянул в лицо: — В штабе у Семена Григорьевича крутился. Левашев не Левашев… Пришел к нам уже в самом конце. Зажигалка продолжала чадить в сухопалой руке Дыбуна. Ее блеклый, угасающий свет не мог разогнать густой, многослойной темноты, скопившейся в сарае. Дыбун очертил вокруг себя зажигалкой круг, стараясь заглянуть в дальние уголки. У самого входа, схватившись за живот, подогнув под себя ноги, будто бы намерился встать, лежал неподвижно Коган. «Убит!» — без ошибки определил Сурмач. «Уж эта такая знакомая поза тяжело раненного в живот, который скончался». — Борис! Похолодело в груди, словно бы в нее медленно вгоняли штык. Все глубже, все страшнее… Над поверженным склонились. Заглядывали в глаза, зачем-то тормошили и похлопывали по щекам. Но Аверьян знал, что это совершенно бесполезно. Не откроет Борис глаз, не засмеется трезвонисто, не скажет: «Хлопцы! Я же вас разыграл! Разве может вот так ни за что умереть Борис Коган». …Убит… Борька Коган. Как же это ты?.. Кудрявый… Смешной… Сколько книг еще тобою не прочитано, сколько песен не написано, звездочек на серебряном небе не сосчитано, Борька Коган…
«А ЕСЛИ ОНА — БАНДОПОСОБНИЦА?»
Бориса внесли в хату, где горела плошка, прилаженная к углу печки. Положили на стол, с которого Дыбун сбросил на пол какую-то миску и ложки. Всхлипывала перепуганная хозяйка. От того, что Бориса несли за ноги и подмышки, он вытянулся. На широком, добротном столе лежал вольно, словно бы наслаждался той свободой, которую наконец получил. Гримаса боли с его лица сходила и рождалась полуулыбка мудреца, который заглянул туда, куда ход другим запрещен. Заглянул. Увидел. Узнал — и родилось в нем чувство превосходства. Позднее, когда уже вернутся в Турчиновку, Иван Спиридонович признается Сурмачу: — Стар я стал, чтобы терять друзей. Сердце размякло. Плакать хочется.* * *
Задержанного «землекопа» завели в хату Дыбуна. Крепыш. Голубые глаза с острым взглядом. Молодая рыжая борода — лопатой. Густая-густая. Смотрит Сурмач па перекошенное болью лицо, улавливает что-то знакомое, а узнать не может: «Сбрить бы эту бороду». Задержанный левой рукой прижимал к боку правую, которая висела плетью, «Перелом». — Две дощечки бы и бинт или длинную тряпицу, — сказал Ласточкин хозяину хаты, видя, как мучается задержанный. Занесли в хату брошенные было бандитами на пожарище тяжелые ящики. В таких возят патроны; добротные, сбитые крепко-накрепко, с ручками по бокам. Не сразу удалось жилистому, ловкому Дыбуну, вооружившемуся топором, подцепить крышку. Желтые кругляшки! Они лежали аккуратными столбиками, плотно, тесно друг к другу, да так, что тряхни, брось на землю — ни одна монетка не звякнет. Сурмач с Дыбуном спустились через подкоп в подвал. В углу, возле бочки с капустой, обнаружили еще три таких же ящика. С большим трудом вытащили их наверх по узкому лазу. Когда их вскрыли, то обнаружили золото в брусках. Ничего подобного Аверьян в своей жизни не видел и даже представить не мог. «Словно чушка чугуна». И это было разочарование. В тускловатых брусочках не было никакой красоты. Золото и монетах как-то волновало, а от вида множества колец, брошей, медальонов (как тогда, у старого Воротынца) — перехватывало дыхание: «Ух ты!» Но это, по всей вероятности, потому, что за каждым кольцом, за каждой серьгой виделась судьба человека, обязательно трагическая: «Убили… Ограбили». А бруски были немыми, они ни о чем не говорили. Они существовали, как камни, из которых вымощена дорога, как осколок ржавого снаряда, который не первый год лежит в земле… — И вот это миллион Волка? — удивлению Сурмача не было предела. — И из-за этой муры погиб Борис! Ласточкин понял его, попытался утешить. — Думаю, и в два миллиона не уложишься. Но дело совсем в ином: выпило усенковское золотишко до капли всю ту кровь, которая ей была предназначена судьбою. Все! Точка!* * *
В Одессу, знаменитому каменщику Илье Когану, ушла телеграмма: «Ваш сын героически погиб при исполнении служебных обязанностей…» В тот же день из Одессы пришел ответ: «Без меня не хороните. Выехал киевским. Илья Коган». И странно было видеть эту подпись: «Коган». Глаза пробегали имя, останавливались на фамилии. «Коган» — вот он! Прислал телеграмму. Так почему же? Почему он лежит в больничном морге на льду! Память, душа, все чувства не хотели мириться с этим. Сурмач дважды проведывал морг, находил причины, чтобы еще и еще раз взглянуть на погибшего. Пока Борис был рядом, живой, как-то не ощущалось, сколь он нужен и незаменим. Уезжал Аверьян в командировки и не вспоминал о друге неделями. А теперь впору подрядиться в плакальщики. …Сняли мерку, чтобы гроб смастерить… …Тетя Маша вымыла покойного. Обрядили Бориса в последний путь во все повое, которое выдал прижимистый в иное время комендант окротдела… Там же, в морге, Аверьян встретился с Ярошем, Тарас Степанович вернулся из Винницы, из губотдела. Поздоровался с Сурмачом за руку, как в былые времена. — Сказали… И — не верится… Колокольчик утренний… Кто же нас теперь разбудит на физзарядку? В окротдел возвращались вместе. Смерть Бориса стерла все те недоразумения, которые за последнее время начали было разводить двух сотрудников экономгруппы. — Он взял на себя, может быть, ту пулю, что была предназначена мне, — потужил Аверьян. — А если б ты узнал, по чьей вине все это произошло? — спросил осторожно Тарас Степанович, кивнув назад, на дорогу, по которой они возвращались из морга. — У меня рука не дрогнула б! — Сурмач потряс кулаком. — Твоя непримиримость к врагам дает мне право на полную откровенность. Придем в окротдел, покажу документы… Шли, а Сурмач всю оставшуюся дорогу думал: «Что же это за документы? О чем? Какое отношение они имеют к смерти Бориса, которого застрелил Жихарь? Выходит, есть кто-то другой, который направил руку убийцы! Но кто он, этот гад?!» Пришли в экономгруппу. — Садись, — предложил Ярош. — Только будь мужественным. Надеюсь, что, узнав правду, глупостей но натворишь. Он протянул ему конверт и несколько листов — протоколы. Сурмач, недоумевая, почти машинально извлек письмо. «Вы бы постарательнее выбирали себе жен. Оженился ваш чекист Сурмач Аверьянка…» Прочитал, и первой мыслью было: «Навет! Клевета!» Но тут же вспомнил предупреждение Тараса Степановича: «Узнав правду, глупостей не натвори». Глянул на Яроша. Тот поджал губы, прищурил глаза. Протягивает протоколы. И — ни слова. «Я предупредила хорунжего Семена Григорьевича Воротынца о том, что в Журавинке чекисты…» И подпись Ольги. Буквы крупные, одна в одну, хотя и выводила их дрожащая рука. «Правда!» Она переворачивала вверх тормашками всю жизнь, все убеждения, она кидала в грязь все, что было свято для Сурмача. — Я тебя понимаю, — продолжал Ярош. — Со мною бы такое… Но ты — скала. Ты переживешь, я верю… Когда вернулись из Щербиновки, Бориса завезли в окротдел. Собрались возле погибшего чекисты, пришло все население коммуны. И с ними Ольга. Плакала навзрыд. И так расстроилась, что тетя Маша вынуждена была ее увести. И дома, когда Аверьян вернулся почти ночью, тоже все плакала и плакали. Может, удрученная этим горем, она словом не обмолвилась, что с нею случилось: «Анонимка… Протоколы…» «Умолчала! Скрыла!» — Если бы вы тогда Семена Воротынца взяли, — продолжал тихо, задушевно Ярош, — то скольких бед избежали бы сейчас. Да начни с того, что тебя ранили. А уже в наше время… Погиб этот беспризорник. Как его? Кусман. Потом — второй мальчишка, которого на вокзале избили. А пограничники? Двое. А Емельян Николаевич! И, наконец, Борис… Разве имеет сейчас значение: по злому умыслу все это было сделано или по глупости, по недомыслию? Да, Ярош прав: если бы Семена Воротынца тогда взяли… — Я взываю к твоей совести, — говорил Ярош. — Ты — коммунист, честный и справедливый человек, так вот не мне и даже не себе — партии скажи: может ли активная бандопособница быть женою чекиста? Активная бандопособница? Быть женою чекиста? Нет, не может! Но… но как-то не липло к Ольге это слово «бандопособница». — Ты — из однолюбов, — рассказывал Ярош. — У таких одна привязанность на всю жизнь. Но Ольга искупала тебя в грязи… Вот и решай. Решай! Легко это сказать. По как решить? Жизнь поставила перед Аверьяном вопрос: или Ольга, или работа в ГПУ. Был еще один выход — пулю в лоб! Но это выход для труса. Там, в сарае, на куче земли застрелился бывший офицер… «Решай, Сурмач, решай! Только не ошибись! Но помни — через день будут хоронить Бориса. Как ты посмотришь в глаза его отцу? Что ты скажешь друзьям-чекистам, когда они узнают, что по вине твоей жены…» Если бы Ольга не была его женою, что он сказал? Под суд! Так бы он сказал о ком угодно. Об Ольге — язык не поворачивается…* * *
«РАПОРТ
Начальнику Турчиновского окротдела Ласточкину Ивану Спиридоновичу от сотрудника экономгруппы Сурмача А. И. Моя жена, Ольга Митрофановна Сурмач (в девичестве Яровая), три года тому в Журавинке предупредила бандита и кровавого палача Семена Воротынца про то, что в хуторе чекисты. И по этой причине Воротынец сумел скрыться сам и увез награбленное. Она и по сей день продолжает поддерживать родственные отношения с женой Воротынца (своей сестрой Екатериной) и с семьей бывшего бандита. Я перед лицом пролетарского государства принимаю на себя всю вину за смерть чекиста Бориса Ильича Когана, которого застрелил помощник Семена Воротынца, а также готов отвечать и за других, которые погибли из-за предательства моей жены. Я не имею права работать в ГПУ. Прошу передать мой рапорт в губотдел.Он отнес рапорт секретарю начальника окротдела и попросил зарегистрировать как документ.Аверьян Сурмач.20 февраля 1923 года».
* * *
Вышел Аверьян из окротдела и наткнулся на Петьку, который крутился возле крыльца. — А я тебя жду, жду! — шагнул к нему навстречу паренек. — И в коммуне уже у вас был. Ты будто сквозь землю провалился. — Борис погиб, — ответил Сурмач, объясняя этим все. Зашмыгал носом Петька. — А он ничего… Стоящий был. Легкий такой… Веселый. — Что у тебя случилось? — спросил Аверьян, понимая, что Петька разыскивает его неспроста. — Фотограф велел передать, что ты ему нужен. Но чтоб домой не заходил, ждал в милиции. — Зачем? — Не сказал. Только сказал: что ты ему нужен, а сам он приехать не может. Демченко был не из тех людей, кто станет беспокоить по пустякам. Подумав так, Аверьян сразу ощутил тоску. Он подал рапорт и, казалось бы, тем самым снял с себя ответственность за происходящее. На днях рапорт уйдет в губотдел, оттуда последует приказ: «Отчислить Сурмача А. И. из состава ГПУ согласно поданному рапорту». Но это значило бы перечеркнуть все то, чем он жил все эти годы, во имя чего разоружал банду в Журавинке, мерз в засадах, подставлял свою голову под вражескую пулю. «Рапорт… Не измена ли это тому делу, во имя которого погиб Борис Коган?» Но… Ольга… «Облила жена тебя грязью», — сказал Тарас Степанович. «Ладно, — решил Аверьян, — вот придет приказ из губотдела… А пока…» — Бориса будут хоронить через день, может, через два, когда приедет ого отец. Сейчас отпрошусь у Ивана Спиридоновича. Ты меня тут подожди. Петька вытащил из тайников своего необъятного пальто листок розовой бумаги: — Нашел, в поезде. Видел я того, с бородавкой на носу. Ходит по вагонам, гундосит: «На пропитание за ради Христа». А после него остаются на лавках и в барахле у теток и дядек эти бумажки. Сурмач торопливо развернул листовку: «Та самая!» Петька рассказывал: — Я за тем бородавчатым гадом ходил, ходил, ходил… В Турчиновку приехали, он сошел — ив город. Я — не отстаю. Он подался на биржу. Топтался там, топтался. Подходит к нему один. Шапку надвинул на глаза. Пальто и не плохое, и не хорошее. В хромовых сапогах. Тоже потолкался на бирже. Потом пощупалзачем-то мешок Бородавчатого и ушел. А Бородавчатый — тут же ходу. За угол отошел, мешок со спины снял, вытащил оттуда крохотную бумажку — и в карман ее. Я опять за ним пошел. Но он, гад, должно быть, меня заметил. Смылся. Зашел в один дом и не вышел. Я ждал, ждал, потом сунулся во двор, а двор-то проходной. Как парнишка сожалел, что не сумел до конца выследить своего врага. Аверьян подумал: «Руденко — это один, но кто же „в не плохом и не хорошем пальто“, да еще в хромовых сапогах!» Когда Сурмач подошел к кабинету начальника окротдела, оттуда сопровождающие вывели Жихаря, у которого сломанная рука была в гипсе, на перевязи. «Иван Спиридонович проводил первый допрос, — понял Аверьян. Вспыхнуло сложное чувство досады, раскаяния и обиды: — Вот и обошлись без меня». У Ивана Спиридоновича сидел Ярош. Он собирал протоколы допроса. Затеять сейчас с Иваном Спиридоновичем разговор о поездке в Белояров было просто невозможно. «Хотя бы Тараса Степановича не было. Тогда еще можно было бы с Ласточкиным по душам: „Не могу без Ольги“. А Ярош настроен против нее. И потом неизвестно еще, что скажет Иван Спиридонович о рапорте. Может, и такое: „Ну что ж, отправлю в губотдел, как там решат… А до поры до времени… Сам понимаешь, привлекать к делу — воздержусь“». — Садись, — сказал Ласточкин, убирая в стол рапорт Сурмача. — Жихаря допрашивали с Тарасом Степановичем. Молчит. Хоть с горчицей его ешь. Где Нетахатенко, он понятия не имеет. Золото со штабс-капитаном Левашевым добывали для себя лично. Кто навел? Штабс-капитан. Откуда он узнал, в каком именно углу подвала и под какой бочкой закопаны ящики, Жихарь понятия не имеет. Словом, валяет дурачка. И в открытую, — заключил Ласточкин. — Но! — он поднял указательный палец и подмигнул Сурмачу с Ярошем. — Есть у меня один козырь, который я приберег для следующего допроса: шифровка из губотдела, кое-что из биографии Нетахатенко. «Щербань эти сведения дает!» — порадовался Аверьян, вновь чувствуя себя сопричастным к большому делу. — До четырнадцатого года, то есть до войны, Степан Нетахатенко жил в Харькове. Родной отец его умер, когда мальцу шел третий год. Так что в люди выводил Степана отчим. Мать — из Щербиновки. Пока жила в Харькове — сдавала землю вместе с домом в наем. А как только началась война, город начал голодать, она вернулась в село на свое хозяйство вместе с невесткой и детьми старшего сына. Был у нее и младший. Учился в кадетском корпусе. На германском фронте воевал офицером. Куда девался потом — неизвестно. Но будто бы писал матери из плена. Впрочем, сведения непроверенные, а проверить негде: отчим умер от холеры в гражданскую, мать не пережила двадцатого года. Степан Нетахатенко гулял по нашему округу с Усенко, после амнистии вернулся в Щербиновку и осел на земле. — Эти сведения — уже что-то! — заметил Ярош. — Адреса, где жил Нетахатенко в Харькове, губотдел не сообщает? — Нет. — Одному надо ехать в Харьков. Тамошнее ГПУ поможет. А второму — в Щербиновку, может, кто-то и что-то знает о брате Нетахатенко? Офицер, фронтовик. Если такой служил батьке Усенко — мог далеко пойти. Надо знать связи Степана Нетахатенко. Где-то после пожара он отсиживается! — предложил план действий Ярош. Иван Спиридонович согласился: — Я тут Жихаря покручу. А вы, Тарас Степанович, с Сурмачом решайте, кому куда. — Я могу и в Харьков, — сказал Ярош. — Город знаю, когда-то жил там. — Ну что ж… после похорон и отправляйтесь, — одобрил начальник окротдела. — Выжидать двое суток, пока доберется из Одессы отец Бориса? Это неразумно. Выезжать надо сегодня же, в крайнем случае завтра, утренним поездом. Ласточкин подумал и согласился. — Тогда в дорогу, Тарас Степанович. Он отпустил Яроша и попросил остаться Сурмача, вынув из стола рапорт. — Ну, что я тебе могу сказать про твое творчество, — прикоснулся он кончиками пальцев к краешку листа. — С огоньком написано. Только подумал ты про то, кому это надо, чтобы из ГПУ ушел опытный, хваткий чекист? Стыдно Сурмачу. — Но Ольга… Это она предупредила тогда в Журавинке Семена Воротынца… Выходит, Борис по ее вине… Пристукнул Ласточкин ладошкой по столу: — Слышу, с чьего голоса поешь. А вот Борис считал, что тогда в Журавинке Ольга выкорчевала корни, что связывали ее с дурным прошлым. Но остался крохотный обрывочек. Он-то и стал всему причиной. — Ласточкин осторожно повернул Аверьянов рапорт так, чтобы тот смог его рассмотреть и прочитать. — Впрочем, чужой в этом деле — не советчик. Спроси у своей совести. Только не спеши, пусть перегорит на душе. А рапорт я пока оставлю у себя. На том дружеская беседа закончилась, начался деловой разговор. Аверьян рассказал о приглашении Демченко. Иван Спиридонович посоветовал: — Поезжай к Василию Филипповичу. Человек он дотошный, по пустякам беспокоить не стал бы. А я тут подниму всех на ноги, попробуем спять с поезда твоего нищего с бородавкой па носу. Отпуская Сурмача, Ласточкин спросил: — А где же твой шустрый помощник? — Ждет па улице. — Проведи, — распорядился Иван Спиридонович. — Хочу порадовать мальца. Договорился в окрисполкоме, чтоб его братву устроили на работу: кого в извозчичью артель, кого на хлебопекарню. Двоих — в механические мастерские. Сурмач хорошо знал, как тяжело было в стране с работой. Кончилась война — появились биржи труда, где с утра до поздней ночи толпились люди. Они хотели одного — работы. Но ее на всех не хватало. Война разорила деревни, обездолила города. Правда, минувшим летом на полях поднималась пшеница, а не желтоголовая сурепа, понемногу и заводы принимались за дело. Идет рабоче-крестьянская страна на подъем. Год тому назад и речи не могло быть, чтобы пристроить к делу шестнадцать беспризорников. А теперь вот получилось. Сурмач вышел на улицу. Петька топтался у крыльца. — Мы опоздали на последний поезд! — навалился было паренек на своего старшего товарища. — Да я же — не чаи гонял, — возразил Сурмач, невольно оправдываясь. — На работе. И бросить все, поехать вот так, вдруг, не могу, должен получить разрешение. — Получил? — Получил. Но теперь загвоздка не во мне, хочет тебя видеть начальник окротдела. — Меня? — подивился Петька. — Тебя, Петра Цветаева. — Ну так чего мы в ступе воду толкем! Пошли, — и он первым устремился к входным дверям. Но в кабинет Петька входил уже не так бойко. Пропустил вперед себя Сурмача. Начальник окротдела поздоровался с ним за руку, предложил стул. — Ну что, Петр Гаврилович, пощипали базарных торговок твои пацаны — пора и на свои харчи переходить, на трудовые. ГПУ расстаралось — нашло для вас шестнадцать рабочих мест. Глянь-ка, — протянул он список. Петька взял листок. Прочитал и солидно ответил: — Дело стоящее. Промеж собою потолкуем.* * *
Аверьян увел ночевать Петьку к себе. Предстоял тяжелый разговор с Ольгой. Каких усилий ему стоило заставить себя идти. Никогда Аверьян раньше не задумывался, что застанционный поселок так далеко от окротдела. Без малого час ходьбы, шел — ноги едва волочил. А раньше единым духом одолевал это расстояние. Какой бы усталый и голодный ни возвращался, дорога к дому казалась легкой. А теперь… Дом, в котором живет Ольга, его это дом или не его? Если уже не его, то почему так неистово бьется сердце? Почему он волнуется, будто идет на первое свидание? На пороге Сурмача с Петькой встретила хозяйка. Прошлой ночью она постояльца не видела: пришел поздно, ушел рано. — Родимец! — всплеснула пухлыми руками Оксана Свиридовна. — Да кто за делами оставляет молодую жену на такой долгий час одну? Извелась, сердечная, любимого поджидаючи. Оля! Олюшка! — закричала громко она. — Вернулся твой-то! За минувший день Ольга побледнела. Исчез с пухлых щек румянец, затуманились глаза, и что-то очень взрослое появилось в выражении лица. Отложила в сторону кусок шелка, па котором вышивала, грустно глянула на мужа. Вздохнула. — Утомился? — спросила, и вновь у нее вырвался тяжелый вздох. — Оксана Свиридовна, вы погуляйте, а нам с Ольгой надо поговорить, — без церемоний предложил он хозяйке. Та не обиделась. Хихикнула, подмигнула плутовато: — Идем-ка, Петя, ко мне. Чаем напою. — Забрала она паренька с собою. Проходя мимо пышной кровати, на которой громоздились огромные подушки, она погладила покрывало и притворно вздохнула. — Чудная она, Оксана Свиридовна, — глядя хозяйке вслед, проговорила Ольга. — Просит: «Выдай меня замуж за вашего Бориса». А теперь Бори нет… — По твоей вине! Тяжелые, гнетущие слова. От них у Ольги даже дыхание перехватило. Она замахала руками: «Неправда! Неправда!» Потом зажала себе рот, чтобы не закричать, не заголосить. Сурмач слышал, да, да, не только видел, но и слышал, как Ольгины глаза кричали: «Неправда! Не по моей вине! Случайно! Случайно!» — Я… тогда только Кате сказала, а Семена Григорьевича… и в глаза не видела! Разве я знала! Разве я думала, что так все обернется. Катю пожалела. — Первое слово — шепотом. А потом все громче и громче, и наконец вырывается крик отчаяния, призыв о помощи. — Какая же я была глупая! Какая темная! Нет мне прощения и не будет… «Впрочем, об этом уже поздно… А о чем еще не поздно?» — Где можно найти Семена Григорьевича? — Не знаю… Я его видела только раз… после того… — Где? Когда? — Давно… Я только-только перебралась к Людмиле Петровне… — Так он что, к твоей акушерке приходил домой? — Ну да… Воротынец знаком с белояровской акушеркой Братунь! И давно! — О чем они говорили? Ольга не могла вспомнить. Сидит на стуле виноватая, жалкая, вся съежилась. Беспокойная, тревожная ночь, сотканная из тяжелых сновидений. Обычно после возвращения из поездки Аверьян спал как убитый. А тут сна — ни в одном глазу. Они с Петькой на кровати ворочаются, Ольга примостилась у плиты на лавке — тоже не спит: с боку на бок, как юла. Аверьян слышал каждый шорох, его будило каждое ее движение. Стоило ему закрыть глаза, и появлялась во сне Ольга. В белом платье, в длиннополой фате. В руках три белые бумажные розы и зеленые веточки с мелкими-мелкими листочками. Мирта. Венчальный цветок. Проснется, откроет глаза, и вновь одолевают воспоминания. Он вернулся к ней: «Петьку привел, надо же где-то пареньку переночевать». Но это отговорочки. Не захотел бы — и на аркане не затащили бы. А появился здесь, в этой теплой, уютной комнате, где владычицей — нежная, терпеливая Ольга, и… будто бы примирился со всем случившимся. Нет, не простил. Но примирился. Мог бы уйти ночевать в коммуну, к ребятам…«ВЫ НЕ ДУМАЙТЕ О ЛЮДОЧКЕ ПЛОХО!»
— Есть новость, — сказал начальник Белояровской милиции, пожимая чекисту руку. — У нашего Демченко умерла жена, и он сошелся с акушеркой. Она собирается продавать дом, а пока разделывается с имуществом. И откуда у человека столько барахла? Каждый день вывозит куда-то по две-три подводы. Кому продает? Кто покупает? «Демченко сошелся с акушеркой…» Кажется, все правильно. Жена у него была старая, полоумная. Вряд ли он ее любил. Правда, после смерти прошло меньше месяца. А он уже с другой. Не это ли и навеяло неприятное чувство досады и тревоги? Демченко должен зайти в милицию попозже, к обеду. У Сурмача в запасе было время, и он решил проведать Галину Вольскую… «Борис Коган так тепло отзывался о ней… Надо сказать о его смерти…» Он хотел взять с собой Петьку, но тот отказался: — Я тут с хлопцами насчет работы… поговорю!* * *
Достучаться до Галины Вольской оказалось еще труднее, чем в прошлый раз. Куда-то запропастилась собака. Аверьян перелез через высокий забор, постучал в окно, закрытое ставнями. Ни звука в ответ. Еще раз постучал и назвал себя. — Галя, это я, Володя, Ольгин муж. Наконец хозяйка отозвалась. Долго громыхали и шелестели многочисленные запоры. — А где ваш Пират? — спросил Аверьян. — Убили его, — ответила как-то безразлично Галина. Она завела гостя в комнату. Сурмач увидел искореженный пол. Доски были уложены кое-как. Галина не спрашивала, что привело к ней мужа Ольги, сидела молча и ждала. Как объяснить все? Надо ли? Может, ей будет совсем безразлично? Отвернется или, недоумевая, пожмет плечами: «Я-то здесь при чем? Ну, убили… Не он первый, не он последний. Мужа моего тоже убили. Через два дня Когана хоронят? Пусть земля будет ему пухом». Но нет, не должна так ответить Галина… А хозяйка уже начала догадываться о чем-то. Беспокойно заерзала на стуле. — Что-то с Ольгой? — С Борисом. Она в волнении поднялась, прижав маленькие кулачки к груди. — Погиб. Послезавтра похороны, — сказал Аверьян. Ему бы исподволь, а он с плеча: погиб. Присела на стул, окаменела молодая женщина и дышать, кажется, перестала. Потом уронила на стол руки, худенькие руки девочки-подростка. Белые-белые, а прожилочки голубые, едва-едва намеченные. Такой безысходной тоскою повеяло от молодой женщины, что Аверьян почувствовал, как у него к горлу подкатывается комок. — Человеческое слово я от пего от первого услышала. Все хотел вернуть мне погубленную душу. Все приговаривал: «Ты такая молоденькая, хорошенькая, у тебя все еще впереди». — Она замолчала было, погрузившись в воспоминания, но потом вновь заговорила: — Ну кто я ему была? Жена убитого контрабандиста. А он мое горе старался ополовинить, тяжкую долю себе взять. — Она вдруг схватила Аверьяна за руку и взмолилась: — Я поеду к нему! Обмою! Уберу квитами-травами! Аверьян согласился: — Поезжай к Ольге. А у меня тут дельце есть. Он собрался уже уходить, когда его осенило спросить: — Может, что-то слышала про Нетахатенко из Щербиновки? — Не-е… Он убил? Не отвечая прямо на ее вопрос, Аверьян задал свой: — А мужа Катерины, Семена Григорьевича? — Они — Бориса? Он подтвердил. — Без них уж тут не обошлося. И тогда она решительно заявила: — Где-то тут, в Белоярове, Семен Григорьевич! Видела как-то, выходил с кем-то от Людмилы Петровны. «Опять Людмила Петровна!» Сурмач участливо распрощался с Галиной.* * *
В милиции его дожидался Василий Филиппович. Они зашли в свободную комнату. Демченко запер за собою дверь, просунув в ручку ножку стула. — Штоль у вас в ГПУ умер? — спросил он. Подивился Сурмач такой осведомленности болояровского фотографа. О смерти Тесляренко пока знали очень немногие. — Да, умер. — Его отравили мышьяком? Тут уж Аверьян не выдержал: — Откуда это вам известно?! Об истинной причине гибели Тесляренко знали восемь человек из всего окротдела, а о том, что он принял (или ему дали) мышьяк, — пятеро: врач, делавший вскрытие, Иван Спиридонович, Борис Коган, Ярош и Сурмач. От кого это пошло по белому свету? От врача? Демченко прислушивался к тому, что делалось в соседней комнате — в дежурке, и лишь после этого начал рассказывать: — Только вы меня не осуждайте, постарайтесь понять, как мужчина мужчину. Жена моя была гораздо старше меня, человек больной и физически, и умственно. Вполне естественно, что я полюбил молодую, интересную женщину. — Местную акушерку? Пришел черед удивиться Демченко. Взмыли вверх широкие, будто нарисованные брови. — Вам это известно? — он с облегчением вздохнул. — Тем лучше, проще будет разговаривать. Таких женщин бог создает раз в сто лет: умна, хороша собою и вообще… — он сделал неопределенный жест рукою, как бы рисуя в воздухе идеальную женскую фигуру. А Сурмач вспомнил совершенно иную характеристику Людмилы Петровны: монашка, ведьма. «Вот тебе и монашка!» — Когда-то мы с нею встречались в Турчиновке. Специально ездили туда, — продолжал Демченко. — А после того, как умерла моя жена — вы ее когда-то видели, — нам с Людочкой ужо не надо было принимать такие предосторожности. Мы решили: вот пройдет год траура — и поженимся. У Людочки я бывал часто. А когда уехала служанка Ольга, даже оборудовал маленькую фотолабораторию для себя в се доме. По педели две тому назад Людочка вдруг заявила, что лучше всего нам перебраться пока ко мне, а ее дом продать. «Я хочу уехать отсюда куда-нибудь подальше», — мечтала она. Вы, может быть, знаете, как трудно спорить с женщиной, которую любишь? Она перебралась ко мне. Людочка ничего не хотела брать из своего дома, говорит: «Лучше переведем на червонцы». У Людочки есть брат Григорий, он живет, кажется, в Харькове. А может, и в Виннице. Но, прежде чем впустить брата в дом, она и раньше меня всегда прятала. «Любовь паша, — говорила она, — греховная, я не хочу, чтобы о ней узнал брат». Но он все же доведался… Или догадался. Так уж вышло, — сокрушался Василий Филиппович. — И вот как-то сижу я в лаборатории — это еще в ее доме было — и проявляю пластинки. Он приходит с каким-то человеком. Людочка начала припасать па стол. Вообще, она очень хлебосольная хозяйка. В кухню — из кухни, а они разговаривают и поминают, между прочим, про мышьяк. Григорий спрашивает: «А этого хватит?» Второй отвечает: «Пол-экскадрона лошадей свалит, а одного Штоля и подавно». Слушаю я дальше. Григорий сетует: «Успеем? Не расколется Штоль раньше времени?» Тогда второй заверил его: «Я надеюсь на Казначея. На такой случай он там и сидит». Казначей. Вот кто отравил Тесляренко. «На такой случай там и сидит». Кто же он? Кто? Безух? Конечно, Безух, кому же еще быть! А по виду — сирота казанская. Как притворялся! Артист! — Эх, Василий Филиппович, что же вы до сей поры молчали? — попрекнул Аверьян своего помощника. — Опытный человек… — Не молчал, — начал оправдываться Демченко, чувствовавший себя виноватым. — Три раза ездил в Турчиновку, звонил, вас не было. Все время в разъездах. — Разве кроме меня в окротделе никого нет? — укорял Аверьян. Как-то весь переменился Василий Филиппович. В глазах появился страх. — А откуда мне знать, кто таков Казначей? Явлюсь — и прямо к нему. А назавтра — пулю с спину: я не из трусливых, вы знаете это, Аверьян Иванович. Но тут особый случай. Вам доверяю. А остальным… Демченко развел руками: мол, увольте. Тут уж вы как-нибудь сами… — Упустили, — досадовал Сурмач. — Где теперь искать этого Григория? — Не надо его искать, он сейчас гостит у сестры, то есть у меня в доме. И не один. Чего я и вызвал вас срочно. Понимаете, в чем дело, Аверьян Иванович, — Демченко вдруг смутился, без нужды поглаживает усы. — Только вы меня правильно поймите, Аверьян Иванович… Не ревность мною руководит, совсем иное. Надоела дрянь в жизни, хочется настоящего, хорошего. Давно уже у Сурмача исчезла неприязнь к этому красивому, аккуратному человеку. Держаться гордо, независимо, с достоинством — это еще не значит быть буржуем. Дело не в том, как человек одевает сапоги и носит пальто. А вот что он думает, как живет в буднях и каков он в трудных ситуациях, вроде этой, в которой сейчас очутился Демченко. — Говорите, Василий Филиппович, говорите, — подбодрил его Сурмач. — Есть у меня подозрение, что Григорий никакой не брат Людочке. Может быть, прежняя симпатия? Позавчера это было. Я опять в лаборатории сижу. У себя дома. Слышу, разговор идет обо мне. Григорий со злостью говорит: «Завела себя хахаля!» Его собеседник отвечает: «Живому — живое. А ты никак старое вспомнил?» Матюкнулся в ответ Григорий, потом продолжает: «Но у нее любовь до гроба с этим фотографом. Хотел я его к делу приспособить — не согласилась». Присвистнул его собеседник, удивился: «Похоже, отцвела наша Квитка, проснулась в пей баба. Чего доброго, рожать захочет». А мы с Людочкой действительно подумывали о ребеночке. Зазвенела, заныла душа Сурмача, будто туго натянутую струну ущипнули. «Отцвела наша Квитка». «Квитка… „Двуйка“ требует результатов…» Она! И Емельяну Николаевичу при операции помогала она. Чтоб усидеть па месте, чтобы по выдать своей радости, сжал Сурмач кулаки, прижимает с силой к ладошке поочередно пальцы, считает их: «Раз… два… три… четыре…» Это помогает, успокаивает. До поры до времени Демченко не должен подозревать, кто его Людочка. Любовь порою бывает слишком слепой. Она помогает человеку совершать подвиги, по она толкает и на преступления. Как поступит Василий Филиппович, узнав правду о любимой? Бросится выручать? Предупредит? Уведет? — Прошу вас, Аверьян Иванович, — убеждал Демченко, расставаясь с Сурмачом, — не думайте о Людочке плохо. Она женщина порядочная. Уверяю! Что ж, Василий Филиппович по-своему прав. Оп видит в пей только любимую, мать своих будущих детей. А для Аверьяна Людмила Петровна Братунь, по кличке Квитка, — враг. На ее белых, холеных руках, которые целовал Демченко, кровь Украины, ее сыновей и дочерей…ПЕТЬКА И КАЗНАЧЕЙ
На последний поезд Аверьян не успел. Обидно. Но куда денешься? Оставалось дожидаться утреннего. Пришел Петька. — Я тут со своими поговорил. Согласились на работу. Чтоб без обиды, кого куда — тянули жребий. Список заделали. Отвези Ивану Спиридоновичу. — А чего я? Сам и передай. Ему будет приятно. Может, что-то захочет спросить. Список был составлен на клочке газеты, иной бумаги у беспризорников не оказалось. Сурмач бегло прочитал его. «Что же Петьке досталось?» Палец бегал по словам, написанным чернильным карандашом. Ага! Вот! Цветаев Петр Гаврилович — механические мастерские. Повезло парню. Аверьян уже хотел было вернуть газетный обрывок Петьке, но обратил внимание на сообщение: «23-го февраля полномочный представитель СССР в Польше Л. Л. Оболенский был принят польским президентом Войцеховским, которому вручил верительные грамоты чрезвычайного и полномочного министра СССР в Польше». Подосадовал Сурмач на себя: все в поездках, в поездках — и пропустил такое! Сообщение показалось ему очень важным. Славко Шпаковский опасался, что после убийства президента Нарутовича Польша расколется на два лагеря. «Выходит, верх взяли не те, кто считал убийцу Невядомского национальным героем… Может, и Волка с его волчатами поприжмут?» — с надеждой подумал Сурмач. А ото имело прямое отношение к нему самому. Ослабнет помощь иностранных государств контрреволюционному подполью, и сразу притихнет УВО. Завянут и отомрут квитки и казначеи. И забудет о них трудолюбивая Украина, как забывает здоровый о своих прошлых болячках.* * *
Аверьян переночевал в милиции, на столе у теплой печки. А утром вместе с Петькой вернулся в Турчиновку. Выпустили узенькие двери вагонов толпу, зашумел перрон, загалдел. Продирается Аверьян к выходу. Петька держится поближе к нему. Сурмач увидел Яроша. Тот спешил к поезду. Поздоровался. — Ну, что нового? — спросил Тарас Степанович. — Да вот… пригласил Галину Вольскую на похороны Бориса Когана. Аверьян словом не обмолвился о сообщении Демченко. Какая-то особая осторожность появилась в нем. Ярош поморщился презрительно. — Разве она Когану родственница? Или уже успела… — неприкрытая злость звучала в этих словах. Ярош сплюнул. — Впрочем, чему удивляться? У чекистов это в моду входит: если не с бандопособницами, то с женами бандитов. В иное время за такой бы намек Сурмач… Но сейчас он потушил в себе гнев. — Куда вы? — В Харьков. Надо кое-что проверить о брате Нетахатенко. Ярош направился к поезду. И тут Петька судорожно вцепился Аверьяну в рукав. — Он! Это он подходил на бирже к Бородавчатому! Только был не в кожанке, а в пальто. По глазам узнал. Как у кабана весною: злые-презлые. «Ярош! Он допрашивал Тесляренко и мог подсыпать мышьяка». Вспомнилось: «Я надеюсь на Казначея. На такой случай он там и сидит». Казначей! — Тарас Степанович! Тарас Степанович! — бросился Аверьян к вагону. Он растолкал мешочников, единым духом влетел в тамбур, где стоял Ярош. — Тарас Степанович, самое-то важное забыл! — Ну! Что еще там? — Не здесь же… Они вышли на перрон. Сурмач отвел Яроша к вокзалу. Тарас Степанович нервничал. — Да говори, на поезд опоздаю! — А вам лучше остаться, — выдохнул Аверьян. — Позволь, Сурмач, мне самому знать, что лучше и что хуже. Ты и так за последнее время… — Я же Григория нашел. У Серого в доме прячется. В маленьких мутноватых глазах Яроша появилось любопытство. — Надо срочно брать, — сказал Сурмач. — Обойдется без меня, — жестко ответил Ярош. — Сейчас главное — нащупать Нетахатенко и его брата. — Так, может, Григорий — это только кличка Нетахатенко. Сурмач встал так, чтобы Ярош был между ним и стеной вокзала. Слева — тоже была глухая стена, этакий выступ углом. От Яроша не ускользнуло поведение Сурмача. — Я по кличкам не специалист. Пропусти, некогда. Паровоз в это время свистнул, состав вздрогнул от рывка, лязгнули буфера. — Без вас такую операцию? Тарас Степанович! Сурмач знал, что Ярош сейчас должен взорваться или… или уступить и вернуться в окротдел. Но он, видимо, уже догадался, что Аверьяну что-то известно о нем. Правая рука Яроша в кармане. Там — наган. У Сурмача в кармане тоже оружие. Но слишком уж неравное у них положение: Ярош будет стрелять, а Сурмач не имеет права. Ярошу надо убить чекиста, а тот должен взять Казначея живым. Вот и караулит Аверьян каждое движение Тараса Степановича, смотрит ему в глаза — там прежде всего отразится решение, которое примет Казначей. Надо ударить по руке раньше, чем тот успеет выстрелить. Ярош руки из кармана не вынимает. Но вот начала оттопыриваться пола кожанки. «Через карман будет стрелять!» — как молния, блеснула мысль. В следующее мгновение Сурмач обхватил Яроша, прижался к нему. Но Казначей успел нажать спусковой крючок. Аверьян почувствовал, как чуть повыше колена хлестнула огненная боль. В глазах зарябило. Искаженное злобой лицо Яроша начало расплываться. «Выпущу — уйдет». Только это и позволяло Аверьяну не потерять сознание. Но силы иссякали. Ярош выдернул руки из кармана. Уперся Сурмачу в подбородок и давил, давил. Уже слабел Аверьян, уже вырывались пальцы, выскальзывали из цепкого замка, на который он их сомкнул за спиною врага. «Все… сейчас Казначей уйдет». И никто не посмеет его задержать: для всех, кроме Аверьяна, он все еще чекист. Сурмач не подумал о том, что Ярош, прежде чем уйти, попытается добить раненого, который сумел разгадать его тайну. Но вдруг Тарас Степанович охнул и сразу обмяк. Обвисли мускулистые руки, пытавшиеся свернуть Сурмачу шею. Ярош рухнул на землю. Резкая боль в ноге еще более затуманила сознание. Аверьян сцепил зубы, чтобы не закричать. Последнее, что он успел заметить, это Петьку с финкой в руках. К пареньку бежали люди.* * *
Очнулся Аверьян от резкого, неприятного запаха. Открыл глаза, глубоко вздохнул. Рядом с его койкой, накинув на плечи белый халат, сидел Иван Спиридонович. Молоденькая девушка терла Аверьяну виски ваткой, смоченной нашатырным спиртом. Сурмач вздохнул. — Ожил? — участливо спросил Иван Спиридонович. — Что у вас с Ярошем произошло? Аверьян лежал на старом жестком диване в небольшой комнате, — видимо, здесь в свободные минуты отдыхали работники больницы. Иван Спиридонович вежливо отослал медсестру. — Я уж тут не дам ему помереть. А нам посекретничать надо. — Я буду в коридоре, позовите, — сказала девушка. — Выкладывай, — еще раз напомнил Иван Спиридонович. — Мы Казначея черт-те где искали, а он был под боком, — пояснил Аверьян. — А ты уверен в этом? — Чего бы он в меня стрелял? Я же его на операцию в Белояров звал, говорю, Григорий там. А он пальнул. Да и Петька его опознал, с нищим-то на бирже встречался Ярош. Крякнул от неудовольствия Иван Спиридонович, стучит от возбуждения кулаком по колену. — Ясно. — Где он? — спросил Аверьян. — Операцию делают. Здорово его Петька пырнул. — Кабы не Петька, ушел бы Казначей и всех остальных предупредил. Аверьян рассказал обо всем, что ему удалось узнать в Белоярове. Не сразу ответил начальник окротдела. Сидит на табуретке у изголовья кровати, ссутулился. — Трудно своего-то обвинять… невмоготу, — заговорил Ласточкин. — Врага судишь — себе докажи его вину, друга обвиняешь — десять раз усомнись: может, кто-то оговорил, может, все стряслось независимо от него. А может, к цели ведут два пути: ты ведаешь один, а он нащупал иной. И оба хороши. Так не вини его в своей близорукости. А если уж назвал недругом, так пусть и он уразумеет, за что именно… — Ну, а если враг прикидывается другом? — спросил Сурмач. — Тогда как? Пока мы панькаемся с ним, он столько крови перепортит. — Я же и говорю: нужна пролетарская бдительность, — сказал начальник окротдела. — Вот возьмем всю эту белояровскую компанию сегодня же ночью, они и растолкуют, кто такой Ярош: Людмилу Братунь я давно подозревал кое в чем, — продолжал Ласточкин. — Думал, она к продаже медикаментов имеет отношение, по чтоб ведущей в стае… — Он встал, собираясь уходить. — Время дорого. Надо подготовиться толком, чтобы не на головешки прибыть, как в Щербиновке. — Не пойму, как же все-таки Ярош попал в ЧК? — недоумевал Аверьян. — Кто он на самом деле? — К нам его перевели из Винницы более года тому, — начал рассказывать Иван Спиридонович. — До войны он учительствовал, потом воевал на германском фронте. Прапорщиком. Так записано в личном деле. После войны, году в девятнадцатом, не помню точно, работал в Знаменке, в наробразе. И вот однажды туда нагрянули бандиты. Устроили резню, выбивали всех поголовно. А Ярош с группой работников парткома засел в милиции. Фронтовой опыт сказался сразу. Ярош взял оборону па себя. Они там не только отстрелялись, но сделали вылазку и взяли нескольких пленных. Ярош умело их допрашивал, они дали ценные показания. Через день бандитов вышибли из городка. Ярош принимал в операции участие. Вскоре он вступил в партию, потом его взяли в органы. — За три с лишним года работы в ЧК сколько вреда он нанес! Аверьяна вдруг осенила догадка: там, на границе, — тоже он. Он убил Иващенко, который вел огонь по бандитам. Он и с Куцым расправился, хотя тот успел двинуть его прикладом. И уж совсем ни при чем тут командир отделения Леонид Тарасов, дальний родственник бывшего бойца ОСНАЗа Безуха. Скверно было на душе: заподозрил в предательстве людей, которые погибли, защищая Родину! «Может быть, и Безух — ни при чем? Свалили на него, а потом — убрали!»
«ПОБОЙТЕСЬ БОГА, ТИХОН САВЕЛЬЕВИЧ!»
Проводив в последний путь Бориса Когана, Ласточкин вернулся в окротдел. На поминки, которые должны были состояться в коммуне, не пошел, не позволяли дела. Он попросил дежурного провести к нему, как только вернется, Петьку Цветаева, которого предупредил еще на кладбище: «Зайдешь». В кабинете начальника окротдела Петька чувствовал себя неуютно. Он все еще был под впечатлением похорон. Невольно притих, внутренне присмирел и оробел. Ласточкин спросил: — Ну, что вы там у себя решили насчет работы? — Да вот… — Петька протянул начальнику окротдела газетный обрывок. Иван Спиридонович, пробежав глазами список, отложил его в сторону. — Пусть приезжают. Их ждут на местах. Сейчас вот о чем… Ты подворье фотографа хорошо знаешь? — Еще бы! — оживился паренек. — У него старый сад. Ну мы и… Петьке вдруг стало стыдно. Не мог он, как прежде, с гордостью сказать: «Обносили начисто…» — Нарисуешь план? — Еще как! Ласточкин дал пареньку лист бумаги и карандаш. — Дом — второй от угла, — начал пояснять паренек свой рисунок. — На одну сторону выходит крыльцо и три окна. Два из них замурованы наглухо. Черный ход из сеней в сад. Ходят тем ходом в сарай за дровишками и за водой к соседу. Забор за сараем плохонький, из старого сушняка. А в углу — совсем разобран. В сад из дома выходят три окошка. Все закрываются на ночь ставнями. Петька старался. Где шел сплошной забор, он провел двойную линию, а где стояла загородка из хвороста, пометил крестиками. У начальника окротдела начал созревать дерзкий план предстоящей операции. Предстояло взять четверых бандитов, которые, наверняка, будут отстреливаться до последнего. Взять же их нужно непременно живыми. — Что за человек, к которому фотограф ходит за водой? — Обыкновенный, — ответил Петька. Но, сообразив, что для начальника окротдела этого мало, пояснил: — В красноармейской шинели и буденовке. Детей у него — полон двор. Сапожник. — А попробуй-ка нарисовать и хату, и сарай, и колодец во дворе этого сапожника. Ловко бегал карандаш по гладкой бумаге. Пылали Петькины щеки, горели радостью глаза: с ним советуются по важному делу! — Теперь изобрази всех соседей, — попросил Ласточкин. Дом Демченко глухой стеной стоял как раз напротив конюшни милиции. Часть сада — напротив ворот. Дальше шло длинное здание самой милиции. — С ихнего крыльца всю улицу видно, — пояснил дотошный Петька. — Только крыльцо дохлое, ступени сгнили. Говорю дяде Васе: «Почини». А он все: «Успеется». За домом Демченко шел огород каких-то стариков. — Они фотографа терпеть не могут. Из-за акушерки. Старая жена умереть не успела, а он новую привел в дом. — А через дорогу, напротив крыльца, кто такие? — Тоже старые. Сын у них вернулся из армии. Сказывали, большевик. «Обстановка благоприятная, — размышлял Ласточкин, — можно поставить людей в трех—четырех местах: двое „плотников“ будут ремонтировать крыльцо милиции, двое — возле колодца и двое — во дворе демобилизованного…» — А колодец у того сапожника чистить не надо? — Сделаем, чтобы надо было, — заверил Петька. — Кинут мои хлопцы туда дохлую собаку… Начальник окротдела рассмеялся: — Дохлая собака, конечно, причина, чтобы почистить колодец. Словом, там посмотрим. А ты в общем-то кумекаешь, что к чему, — похвалил Иван Спиридонович паренька. Петька давал удивительно полезные сведения. Ласточкин отпустил его. — Иди в коммуну… Там поминки. Пойдешь к моей Маше, я ей позвоню. А понадобишься — позову. Ну, я не спрашиваю, умеешь ли держать язык за зубами… — Могила! — чиркнул Петька большим пальцем по кадыку.* * *
Сборы чекиста — недолги. До Белоярова добирались в разных вагонах. В городе Петька провел всех до милиции окольной дорогой. Начальника милиции Матвея Кирилловича застали па месте. Ласточкин рассказал ему о цели приезда. — Чем помочь надо? — поинтересовался тот. — Что знаете о демобилизованном, который живет через дорогу от Демченко? — Свой человек. Большевик. Думаю взять его к себе помощником. Хваткий парень. Служил на границе. — Нужен специалист по колодцам. Есть такой в Белоярове? — Запил, бродяга… Недели на две. — Надо привести в чувство. Отыщите, искупайте и заприте. Завтра потребуется. Для Петьки нашлось особое поручение: — Устрой мне свидание с фотографом. Но в дом к нему заходить нельзя и вызывать не следует. Понял? — Чего проще, — заверил паренек. — Хлопцы залезут к нему в сарай за дровами, он выскочит, я и предупрежу. — Действуй. А потом займешься колодцем. Дядя Вася, вечный дежурный, сходил за демобилизованным пограничником. Тот явился и представился: — Михаил Воронько. Ему было лет двадцать пять. Худощавое лицо. Выразительные зеленоватые глаза. Короткие, ежиком, жесткие волосы. Он произвел на Ласточкина хорошее впечатление. — Могут к тебе приехать двое друзей? — спросил Иван Спиридонович. — А чего не приехать. Места в хате хватит, — ответил тот. — Забирай их с собою, — показал начальник окротдела на чекистов. В ожидании Петьки, который должен был принести вести от Демченко, Ласточкин расспрашивал начальника милиции о соседях фотографа, Людмиле Братунь, о доме, который она продает. Прошло часа полтора. Вдруг на соседней улице поднялся крик, брань, раздался свист. Начальник милиции и Ласточкин вышли па крыльцо: шумели у Демченко. — Перестарался наш сорванец, — встревожился начальник окротдела. Послали дежурного: — Ну, дядя Вася, сходи туда… Через несколько минут тот вернулся вместе с Демченко. Василий Филиппович крепко держал за шиворот вырывавшегося беспризорника. Очутившись в милиции, правонарушитель сразу утихомирился. Ласточкин в душе еще раз похвалил смекалистого паренька: «А что, Сурмач, пожалуй, прав: будет из Цветаева чекист. Забрать разве его к себе? Теперь окротдел троих недосчитывается». Демченко жаловался своему старому знакомому Ивану Спиридоновичу: — Трое их… Душу мне всю отравили. Каждую минуту жду — если не застрелят, то уведут с собою. Они готовятся в дальнюю дорогу. Демченко по требованию Ласточкина начертил подробный план своего дома. — Из холодного коридорчика — черный ход в сад. Запоры хорошие, так просто не сорвешь. Из этого же коридорчика двери на кухню. А оттуда одна дверь в зал, где спят двое, Григорий и тот, что постарше, позлее, а вторая — ко мне, в мастерскую. Ее занял прозревший базарный слепой. — Значит, они в разных комнатах? — уточнил Ласточкин. — Да. А мы с Людой — в спальне. Ход через зал. — Окно в спальне открыть можно? — Конечно! Люда… в положении, — Демченко застеснялся, засмущался. — Ей нужен свежий воздух, и я отремонтировал окно. Теперь оно легко открывается. — Самое главное, — сказал Ласточкин, — к вам в дом надо ввести нашего человека. Подумайте, как это сделать. Демченко растерялся. — Невозможно. Они такие настороженные… Меня и то вначале впускают в коридор, а потом уже в кухню. Начальник окротдела задумался. — А нужно, Василий Филиппович, взять их живыми и с наименьшим риском. Демченко ответил: — Старший брат моей покойной жены имеет претензии на дом. Недавно прислал письмо, грозился приехать. — Вот и приедет, — обрадовался Ласточкин. — К примеру, завтра. — Приехать-то он может, — согласился Демченко, — только чтобы старик был без подделки; с бородою и усами. В окротделе в основном работала молодежь. Кто же может сыграть старика «без подделки»? «Чужого с этим в пекло не пошлешь, — размышлял Иван Спиридонович. — Конечно, наше дело связано с риском. Вот Коган погиб… Сурмач ранен… Молодых посылаю, а сам в стороне! Не имею больше права на тихую жизнь!» — А как звали твоего шурина? — спросил он Демченко. — Тихон Савельевич. Мужичок из крепеньких. — А кто-нибудь из твоих гостей не мог случайно знать этого Тихона Савельевича? — Да не должно бы, — ответил Демченко. — На германской воевал, потом лежал в госпитале где-то на Кубани. С бандитами не якшался. — Ну, тогда завтра твой шуряк приедет первым поездом, — решил Ласточкин. Демченко ушел. На прощание начальник окротдела посоветовал ему не запирать с утра окно в спальне и обязательно отослать «за водою» Людмилу. — Сам понимаешь, женщина при таком деле лишняя. А выйдет она из дома — это будет сигналом к началу операции. Ласточкин собрал оперативную группу и распределили обязанности. — Квитку возьмем первой. Она придет за водой к соседу напротив. Одного из троих попробуем изолировать, заперев в фотомастерской. Двери там добротные, окна замурованы. Через несколько минут после того, как возьмем Квитку, двое наших проникнут в дом через окно, которое выходит в сад. Оно будет не заперто. А мы с Демченко постараемся в это время обезоружить остальных.* * *
Ночью ватага беспризорников устроила налет на колодец. Это была месть за дружка, которого фотограф доставил в милицию. Неглубокий колодец завалили камнями. Наутро в милицию с жалобой на хулиганов пришел сапожник. Начальник милиции Матвей Кириллович успокоил многодетного отца: — У меня в КПЗ отсыпается специалист по колодцам… Дам ему в помощь двоих—троих, и вновь будешь с водою. А пока к соседу сходишь. Сапожник увел с собою специалиста, которому не терпелось опохмелиться, и двоих его «помощников». Выставили у колодца пост, черный ход в доме Демченко взяли под наблюдение. Еще двое принялись с утра чинить лесенку в милиции: перекрыли пути отступления через сад. Во дворе у Михаила Воронько перед открытыми воротами появился третий пост, оп контролировал крыльцо и окно в зале. Около семи утра на широкое крыльцо дома Демченко поднялся с котомкой в руке дебелый, седобородый старик. Он громко и долго стучал в наружную дверь, пока его не окликнули: — Чего надобно? Принесла нелегкая ни свет ни заря. — Открывай, Василий, встречай шуряка, — недобро ответил ранний гость. — Какой еще шуряк? — удивились с той стороны. — В моем доме семнадцать лет живешь и не узнаешь? Ему открыли, впустили. В небольшой кухоньке горела лампа «трехлинейка». Пахло керосином и еще чем-то паленым. Гость огляделся. — Письмо мое получил? — Получил, — нехотя ответил хозяин. — Только я считаю, Тихон Савельевич, что вы на дом никаких прав не имеете. Дом был дан моей покойной жене в приданое… — Были бы у вас с него дети, было бы тебе и приданое. А теперь что выходит? Дом как был записан на фамилию Сушко, так и остался. А Сушко — я, ты — Демченко. Вот и выходит — после сестры дом должон вернуться ко мне. Покажи-ка его хозяину! Гость шагнул было к ближайшим дверям, но Демченко загородил собою путь. — Туда нельзя… Там моя жена. Спит. Гость вконец разошелся: — Жена-а-а… — насмешливо протянул он. — Откуда такая взялась? Уж не ей ли норовишь передать мой дом? Так знай, по судам затаскаю! К разговору чутко прислушивались обитатели дома. — Вася, Вася, — раздался женский голос, — скажи ему, пусть пока уходит. Мы же еще спим. Придет потом, после обеда, тогда и решим. — Ну нет! — загрохотал бас гостя. — Хотят меня вытурить из родного дома. Да меня мать в люльке колыхала в той комнате, где ты сейчас нежишься со своей утешительницей. Гость сделал еще одну попытку осмотреть «свой дом». Но Демченко запер перед ним дверь во вторую комнату. — Это моя мастерская. Там у меня аппарат, пластинки, бумага… Туда не пущу. — Он положил ключ к себе в карман. — И попрошу не дебоширить. Иначе вызову милицию. Пока суд не решит, вы на этот дом прав не имеете. Гость слегка успокоился. — Иди штаны-то надень… Жених, — посоветовал он. Демченко удалился. В спальне он держал совет с женою. Братунь советовала: — Соглашайся, черт с ним, с этим домом, все равно уезжать. Не надо сейчас привлекать внимание к себе. Прими его поласковее и выпроводи. Подпиши, что там нужно. — Но это же мой дом! — удивился Демченко. — То, что есть у твоей Людочки, на дюжину счастливых хватит, — ядовито проговорил Григорий, стоявший на пороге. — Надо поскорее выпроводить этого крохобора. Пристукнуть бы его, да шума не хочется поднимать. Демченко оделся и вышел на кухню к гостю. — Тихон Савельевич, мы с женою посоветовались и решили отказаться от дома… конечно, не безвозмездно, дадите отступного. А пока я могу по-хорошему, без тяжбы подписать бумаги, какие там нужно. — А не обманешь? — насторожился гость. — С какой это радости ты от своего так легко отрекаешься? — Чего же отрекаюсь, отступного возьму. Все равно я уеду отсюда. — Думаешь, что я так и раскошелюсь? — Договоримся. — Ну, ну… — гость все еще не верил. — Раздевайтесь, позавтракаем, мы же с вамп были добрыми родичами. — Были… Пока ты мою сестру заради молодой па тот свет не отправил. — Побойтесь бога, Тихон Савельевич! — взмолился Демченко. — Ваша сестра была больным человеком, вы это знаете. — Была, была… — проворчал гость, снимая полушубок. В кухню вошла Людмила. Поздоровалась с гостем. — Вы не удивляйтесь, Тихон Савельевич, Васиному решению. У меня есть свой дом, лучше этого. А чтя память вашей покойной сестры… — Да уж ты бы память сестры не трогала, — грозно предупредил гость. — Поди, не венчанная с моим шуряком. Месяц минул, как она усопла. Людмила вспыхнула: — А то уж не ваша забота! Вы свое получаете — и все! — Да и то верно, — вдруг согласился гость. — Люда, — обратился и ней Демченко, — не сердись, если попрошу тебя сходить за водой. А я пока затоплю плиту. Людмила Братунь колебалась. — Мадамочка! — презрительно проговорил гость. Женщину вконец вывело из себя это замечание. — Хамло! — бросила она зло, взяла пустое ведро и направилась к выходу. — Только больше половины не набирай, — предупредил заботливый Демченко. Они остались вдвоем, обменялись взглядами. Демченко присел было к плите, начал укладывать в топку дрова, приготовленные с вечера, но гость настойчиво потребовал: — Покажь комнаты, Василий Филиппович. Должен я знать, сколько доплачивать. Что ты с домом сделал… Он открыл дверь в зал. Там, за широким столом, сидело двое настороженных мужчин. Один помоложе, плечистый, с правильными чертами лица. Второй — лет сорока — сорока пяти. Длинные сильные руки, широколицый. Но лоб узенький. Из-под густых, кустистых бровей поблескивают маленькие зеленые глазки, налитые желчью. Эти глаза и напомнили Ивану Спиридоновичу Яроша. «Уж не брат ли нашего Тараса Степановича? — подумал он. — Нетахатенко!..» — А-а… вот почему ты стал добрым, покупателей на мой дом уже пригласил, — ощетинился недоверчивый гость. — Так имейте в виду, — выкрикнул он двоим, — купите мой дом у Василия, по судам затаскаю, и плакали тогда ваши денежки! — Это брат моей жены, — показал Демченко на того, что помоложе, — приехал погостить со своим другом. — Тогда иное дело, — облегченно вздохнул гость. — Тихоном Савельевичем величают, — он протянул руку и пошел навстречу тому, кто был постарше, покрепче. Демченко в это время очутился возле Григория. Ласточкин захватил пальцы Нетахатенко, с силой пожал их. Потом дернул руку на себя. Угрюмый мужик не ожидал такой прыти от «деревенского сквалыги». Мгновение — и рука бандита оказалась вывернутой за спину, а сам он плюхнулся на колени и взвыл от острой боли в плече. Демченко обхватил Семена Воротынца-Григория. Между ними завязалась борьба. И несдобровать бы Василию Филипповичу: Воротынец был поздоровее его и более опытным бойцом, но распахнулись двери спальни, на помощь спешили двое чекистов, которые проникли в дом через окно. А в кухне в это время гремели выстрелы, закрытую дверь расстреливал Руденко — бывший базарный слепой, запертый в мастерской фотографа.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
При обыске в доме Людмилы Братунь обнаружили склад медикаментов. Правда, какую-то часть успели вывезти в лес. Но вскоре и лесной тайник был обнаружен. Что же с героями? О врагах говорить нечего, их осудили. А как сложилась судьба остальных? Самая печальная доля постигла Василия Филипповича Демченко. Он присутствовал на суде в качестве свидетеля и убедился, что его Людочка была уж не столь кроткой, как ему казалось. Она отравила его больную жену, чтобы иметь возможность «перебраться на запасную квартиру», так как Казначей предупредил, что «ее дом могут нащупать через Ольгу Сурмач, которую устранить не удалось». Такое признание «его Людочки» окончательно доконало Василия Демченко. Петр Цветаев по ходатайству Сурмача был принят на работу в Турчиновский окротдел ГПУ. А сам Аверьян? После госпиталя его отправили в санаторий, в Крым. Оттуда он прислал Ольге журнал «Огонек», где красными чернилами была взята в рамку такая заметка: «Ремонтные мастерские здоровья им. Семашко (бывш. Гребнево). Чистый воздух, солнце, укрепляющие водолечебные процедуры, хорошее здоровое питание, строгий, размеренный уклад жизни, физические упражнения и весь арсенал современной медаппаратуры и самый главный аппарат — хороший врач — дают здоровье тысячам больных. И вместе с тем бывшие больные, пройдя в санатории „курс здоровья“, проводят здоровые идеи у себя в семье и на фабрике». Слова «на фабрике» были зачеркнуты, а сбоку дописано: «В школе ГПУ».Донецк 1967–1981

Валерий Поволяев Первый в списке на похищение
© Поволяев В.Д… 2014 © ООО «Издательство «Вече», 2014 © ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2014 Сайт издательства www.veche.ru* * *
20 сентября, среда, 8 час. 15 мин. Утром вместе с водителем к Белозерцеву приехал охранник Сергей Агафонов. Агафонов отличался от других охранников – был совершенно незаметен, как разведчик, выполняющий на вражеской территории важное задание, – мог пройти в двух метрах от кого угодно, даже около самого Белозерцева, который знал его очень хорошо, и остаться совершенно неузнанным. Словно бы на Агафонова была надета шапка-невидимка. Он никогда не рядился в крикливую пятнистую форму с офицерским поясом и портупеей, как другие охранники, никогда не носил десантных ботинок, хотя в Афганистане служил в знаменитом «полтиннике» – десантном полку, попадавшем в такие передряги, какие даже самый изощренный сочинитель не в состоянии выдумать, не носил и шелковых штанов с лампасами, кожанки и футболки с надписью «босс»: Агафонов всегда был Агафоновым, самим собой – четким, жестким, невидимым. – Здассте вам! Ирина Белозерцева улыбнулась: – Ну почему «вам», Сережа? Почему во множественном числе? – Так положено, Ирина Константиновна, – Агафонов приподнял плечи и на улыбку ответил улыбкой – неожиданно застенчивой, смущенной. – Не приставай к человеку с необязательными расспросами, – сказал Белозерцев. – Он при исполнении. – А что, раз при исполнении, то, значит, глух и нем? Так, что ли? – Считай, что так. – Когда я ем, я глух и нем. Ах-ах-ах, какие строгости! Сережа, может быть, вам чашку кофе? – Нет, Ирина Константиновна, спасибо. Ребята из охраны всегда, даже в прежние благословенные «политбюровские» и «капеэсэсные» времена, когда на охранников смотрели, как на редкость, проникшую к нам из зарубежного кино, считались своими в семьях людей, которых они охраняли, иначе было нельзя – охранник мог предать человека, которого охранял, и тогда… Сейчас все изменилось – если раньше охранники подчинялись КГБ, Андропову, Федорчуку и кому там еще – Семичастному? – то сейчас они служат только человеку, который их нанял, из его рук кормятся, из его рук получают деньги. Изменились психологические условия, сами взаимоотношения охранника и охраняемого. Белозерцев не раз спрашивал себя – способен ли Сережа Агафонов предать его и каждый раз отвечал: нет, не способен. – Ну, Сережа, как знаете… Тогда съешьте это, – Ирина взяла из коробки «Баунти», стоявшей в прихожей, две кокосовые шоколадки, сунула Агафонову. – Что-то ты его не тем, мать, угощаешь, – засмеялся Белозерцев. – Эти мужики не сладкое любят, а совсем другое – горькое. Ты все делаешь наоборот. – Ну почему же, – Агафонов в ответ застенчиво улыбнулся. – «Баунти» – это натуральная Африка, кокосы из-под солнца, а кто когда отказывался от кокосовых орехов? Агафонов прекрасно понимал, что означает такой необязательный утренний треп, поддерживал его – ведь мало ли что могло произойти у Белозерцевых в его отсутствие – они могли и поссориться, могли и вообще на развод подать. – Насчет горькой есть даже популярная пословица: «С утра примешь – потом весь день свободный». – Есть еще одна пословица, Вячеслав Юрьевич. «Если водка мешает в работе – бросай работу!» – сказал Агафонов. – Оч-чень верные слова. Ирк, давай-ка брошу я работу, деньги у нас есть, да и все равно их все не заработаешь, поедем на Кипр, купим там себе виллу и будем жить в свое удовольствие, пить шампанское и есть омаров. – Бросить работу тебе, Слава, не дано, ты не из тех людей, – проговорила Ирина, и Белозерцев уловил в ее тоне что-то щемящее, далекое, будто бы пришедшее из школьных лет, по которым мы всегда грустим. Он неожиданно присмирел, с тихим вздохом погладил жену по плечу: – Ладно тебе, старушка… дней моих суровых И ему, и ей все было понятно. Было все понятно и Сергею Агафонову. – Покупать виллу на Кипре мы с тобой не будем, это однозначно, – сказал Белозерцев. – У меня есть некие секретные данные: наши умудрились купить там одиннадцать тысяч вилл. Одиннадцать тысяч, представляешь! Это тебе не хухры-мухры. И все – «новые русские». Куда ни плюнь – всюду «новые русские». Говорят, наши спецслужбы уже держат Кипр на крючке. – Одна моя знакомая заметила довольно остроумно: «Странная вещь происходит: почему-то все старые евреи стали «новыми русскими». – Она кто по национальности? – Та самая, с «пятым пунктом»… Кто еще может так остроумно высказаться? – Но мы-то не с «пятым пунктом», хотя и «новые русские», это раз, – хмыкнул Белозерцев. – И два – «новые русские» отличаются ныне во всем мире. Недавно в Бахрейне один «новый русский» зашел в одежную лавчонку купить себе легкие брюки – он как истинный россиянин не интересовался, куда поехал – главное, за границу, – и оказался в горячей стране в телогрейке с меховым воротником, в ватных штанах и утепленных ботах «прощай молодость». На поясе у него висела туго набитая сумка-бананка. Он ее снял, примерил легкие, как воздух, брюки. И хотя те лопнули у него на заднице, он так в них и остался, вытащил из кармана деньги, расплатился и ушел. Продавщица в этот момент занималась другим клиентом, не заметила, как он ушел. Когда закончила обслуживать клиента, увидела, что «новый русский» оставил на прилавке свою бананку. Кинулась на улицу, а того и след простыл. Покричала: «Месье, месье!» в одну сторону, покричала в другую, но куда там – все бесполезно. Открыла бананку, а в ней – несколько пачек долларов. Наличка. Сто двадцать тысяч долларов наличными, как потом посчитали. Представляешь? Думали, «новый русский» за ними вернется, а он не вернулся. Вызвали полицию, составили акт и передали деньги в наше посольство. – Ничего себе история! – Я, когда был в последний раз в Афганистане, то, расплачиваясь за что-то в супермаркете, – не помню уже, за что, – по-моему, покупал себе сумку и перчатки, – достал из кармана сто долларов. Так мне минут пятнадцать не могли дать сдачу – в кассе не было денег. В Штатах все расплачиваются кредитными карточками… – И как же ты рассчитался? – спросила Ирина Константиновна. – Ты знаешь, я даже перетрухнул: английским-то я владею хуже, чем французским, а по-французски мне известно одно только слово «жаме». – Глазею я на кассиршу и хлопаю зенками. Объясниться-то не могу… Я уже начал подумывать, что у меня фальшивая сотенная – вывез, так сказать, «богатство» из столицы нашей Родины… Кассирша тем временем взялась за громкоговоритель, вызвала к себе администратора, тот примчался, вызвал еще кого-то и уже тот послал клерка в банк разменять сотню – в огромном супермаркете не оказалось даже ста долларов наличными. Так-то! – А тут сто двадцать тысяч «зеленых»! И все наличными. Я представляю, что было с той продавщицей. М-да, непередаваемая история, – голос Ирины Константиновны сделался сухим, озабоченным. – Пора отправлять Костика в садик, не то он опоздает. Из подъезда вышли вместе: Белозерцев, Костик и Агафонов. Только Агафонов чуть опередил хозяина – прикрыл со стороны улицы, снаружи огляделся, поймал утвердительный взгляд водителя первой машины – все, мол, в порядке, потом перевел взгляд на вторую машину, также поймал утвердительный кивок, оглянулся на подопечных, отступил в сторону. Все было правильно, недаром Сережа Агафонов считался одним из самых толковых охранников в их конторе. День выдался редкостный, совершенно южный – пальчики оближешь, какой день: небо над Москвой было высоким, по-черноморски синим, прозрачным – ни единого облачка, деревья стояли тихие, смирные – они, похоже, слушали шум города. – Пап, а деревья живые? – поинтересовался Костик. Он шагал, как взрослый, – степенно и важно, будто был королем здешней деловой жизни – он, а не отец. – Живые. – Тогда почему они не говорят? – Ах, Котька, Котька, ничего-то ты не знаешь, – улыбнулся Белозерцев, улыбка у него получилась грустной: дети умеют загонять взрослых в тупик. И кто только дал им такие блестящие способности? – Деревья говорят, только мы не понимаем их языка. – У них что, иностранный язык? – Иностранный. – Такой, как английский? Нет, Костик действительно кого угодно мог загнать в угол, любого профессора, любую многомудрую Бабу-Ягу. – Ну, не такой, как английский – другой, но тоже очень сложный. – А-а-а, – протянул Костик почему-то разочарованно, наморщил лоб и полез в машину с видом несчастного маленького старичка. Белозерцеву стало жалко сына, внутри образовался холод – словно бы пузырь какой лопнул, – холод обжег сердце, и Белозерцев схватил Костика за плечо, притянул к себе. – Ах, Котька, Котька! Ты это… – Белозерцев закашлялся: в горло то ли пыль попала, то ли слеза. – Я понимаю, папа, я все понимаю, – тихо произнес Костик, прижимаясь к отцу. – Ты хотел сказать: «Держись!». Как мужчина мужчине? – Как мужчина мужчине, – подтвердил Белозерцев. Холод, внезапно возникший у него в груди, исчез. – Вышла новая программа – каши съесть не меньше килограмма, – вспомнил Костик присказку, услышанную по телевизору, и рассмеялся. – Рифмоплет! – Белозерцев, увидев, что Сережа Агафонов уже расположился на заднем сиденье и занял удобную позицию, подтолкнул Костика к машине: – Вперед! Броня крепка и танки наши быстры! Старый, жемчужного тона, – не цвет, а мечта темпераментных кавказцев с орлинами носами, – «мерседес» тихо покатил со двора на улицу. Белозерцев проводил «мерседес» взглядом, и холод возник у него внутри снова. Было Белозерцеву сегодня что-то не по себе, тревожно, пусто, и что было тому причиной, Белозерцев не знал. Он помял пальцами виски. Может, он плохо спал? Видел худой сон? Нет, не то, не то, не то… Ни первое, ни второе, ни третье, ни пятое! Тогда что?20 сентября, среда, 8 час. 30 мин. То, что в воздухе пахло грозой, а над головой сгущались тучи, Белозерцев чувствовал собственной кожей, буквально порами, корнями волос, спиной, лопатками, и, как всякий восприимчивый человек, пытался разобраться, что же происходит, откуда источается опасность? В конторе у него все вроде бы в порядке – тьфу, тьфу, тьфу – ныне ведь не то, что в застойное время, ныне надо четыреста раз плюнуть через плечо, чтобы все было в порядке, это при Брежневе обходились лишь тремя плевками, а сейчас нет, – дома тоже все в порядке, у Виолетты… у нее также все было тип-топ, никаких забот, никаких хлопот, и бросать Белозерцева эта изнеженная женщина не собиралась. Тогда в чем же дело? Откуда дует ветер? Откуда холод? Откуда взялось тошнотное, вышибающее сыпь на коже ощущение опасности? Откуда дурные предчувствия? Белозерцев многое бы отдал, чтобы узнать это, заплатил бы зелененькими, синенькими, фиолетовыми, какими угодно купюрами, даже оранжевыми голландскими гульденами, за то, чтобы узнать. Время на дворе стоит такое, что избавиться от опасности можно только с помощью денег – ничего не помогает, ни автоматические, стреляющие одной длинной очередью гранатометы – кажется, «Утес» их зовут, – ни пулеметы, ни «катюши» образца 1995 года, ни многочисленная охрана, – помогают только деньги. Но кому эти деньги дать, кому конкретно вручить чемодан с пачками – этого Белозерцев не знал. Он был не из тех людей, которые водят дружбу или хотя бы просто знаются с «темными силами», с разными Япончиками, Глобусами, Кирьянами, Ходоками, Галилеями и прочими, – Белозерцев таких знакомств не то чтобы избегал – избегнуть их все равно не удастся, от чумы и насморка, как говорится, не спрячешься – он их просто боялся и держался настороже. Если ощущал невнятную опасность, оглядывался – а вдруг сзади к нему кто-то подбирается? Сквозь окно машины Белозерцев внимательно и грустно разглядывал Москву – странно изменившуюся, по-базарному крикливую, замусоренную, неузнаваемую – от прежнего интеллигентного и чистого города почти ничего не осталось. Появилось много красного революционного цвета: что ни палатка, что ни тент, то обязательно алый перечный цвет, словно бы кто-то окрасил их свежей кровью и бросил призыв к революции – штуке не то чтобы надоевшей, а просто чуждой нормальной человеческой натуре, в том числе и натуре русской. Неделю назад к Белозерцеву приехал один бизнесмен из «ситцевого» города Иванова, бросил в сердцах: – Москву вашу надо окружить высоким забором и никого из города не выпускать, чтобы ни один человек отсюда не выезжал и ни одна бумага не выходила из московских казенных домов. Наверное, он был прав. Белозерцев раньше об этом не задумывался, да и нужды особой, чтобы задумываться, не было, а ведь от столичных бумаг на периферии бывает много вреда. И еще пыли и копоти. Впрочем, от нестоличных людей копоти и вреда бывает еще больше: никакими долларами и уж тем более родными «деревянными» это не компенсировать. Рассеянно улыбнувшись, Белозерцев тронул водителя рукой за плечо: – Боря, давай-ка сделаем небольшой крюк, минут на сорок подвернем к Каретному Ряду. – Понял, Вячеслав Юрьевич, все понял, – водитель наклонил голову, наметил себе цель – верткую японскую машину с красным дипломатическим номером и пошел на недозволенный обгон – справа. Белозерцеву склонность водителя лихачить не нравилась, в другой раз он сделал бы ему замечание, но сейчас промолчал, помял пальцами горло и сделал вид, что ничего не заметил. Ощущение опасности не проходило. Отчего же оно не проходит? Оглянулся назад, в стекло – может, его кто-нибудь пасет, прилепился к бамперу, как блин к сковородке, и не отлипает? Недалеко от них, так же ловко обогнув машину с дипломатическим номером, шел довольно броский автомобиль с мощным мотором – новенькая «Альфа-Ромео» желткового цвета, Белозерцев подумал, что вряд ли те, кто вздумает его пасти, будут ездить на таких броских машинах – слишком уж приметна «Альфа», буквально режет глаза. С другой стороны, «Альфа-Ромео» стартует с места в режиме взрыва. Легка в управлении, очень маневренна. В общем, присмотреть за этим «яичным желтком» надо. Это не повредит. Осторожность вообще еще никогда никому не вредила. Он откинулся назад, сместился в угол, так, чтобы его не было видно, подумал о том, что кроме Сережи Агафонова надо будет прикрепить к себе еще пару надежных охранников, личных, так сказать, чтобы можно было свободно дышать. Не то ведь… Он почувствовал, как у него неровно, надорванно забилось сердце, виски сжало – Белозерцев покрутил головой, пытаясь освободиться от неприятного ощущения, решил, что обратно домой поедет с двумя охранниками, с Сережей и еще с кем-нибудь. Так будет спокойнее. Конечно, водитель Боря тоже прекрасно подготовлен, на «пять» – Белозерцев сам видел, как он в спортивном зале расшвырял четырех здоровяков, те только поехали от него в разные стороны, как намыленные, но может ведь случиться ситуация, что Бориса одного не хватит. Очень даже может случиться такая ситуация… Почему же так тревожно, так погано на душе – ну будто бы туда наплевали… Белозерцев вывернул голову, глянув в заднее стекло: где там «Альфа-Ромео»? «Альфа-Ромео» шла за их машиной как привязанная. Белозерцев невольно вздохнул – неужели его пасут? В последнее время вся печать кричит о заказных убийствах, от страшных сообщений звенит в ушах, как от пистолетной пальбы, перед глазами делается красным-красно, будто пространство напитали кровью – то директора ресторана стальной тонкой пружинистой проволокой удавили прямо в кабинете, то депутата Государственной думы прошили насквозь выстрелами из помпового ружья, то коммерческого директора известного акционерного общества два киллера, вооруженные десантными автоматами, превратили в решето… Жить стало опасно. Но и не жить нельзя. Жить надо, чего бы это ни стоило, сколько бы ни брали с богатых людей денег за свежий воздух, за возможность провести воскресенье на даче, за летнее, совсем не сентябрьское, как сегодня, солнышко, по-южному отвесно висящее над головой, за синюю глубину московского неба. Отогнув рукав пиджака, Белозерцев посмотрел на часы: как быстро идет время! Времени Белозерцеву не хватало никогда, да и никогда не будет хватать, даже если сутки растянуть на сорок восемь или семьдесят шесть часов. Глянул в заднее окно – «Альфа-Ромео» продолжала идти за ними. – Борь, а Борь, – тихо позвал Белозерцев. – Вижу, Вячеслав Юрьевич, – отозвался водитель. – Давно уже вижу. Похоже, нас пробуют накрыть сачком, как редкую мадагаскарскую бабочку. – Ну и выражения у тебя, Борис, – невесело усмехнулся Белозерцев, – мадагаскарскую! – А может, и не пробуют, Вячеслав Юрьевич… Хотя попытка – не пытка, – сказал Борис, внимательно глядя в зеркальце заднего вида, – все может быть. Скорее всего, они не знают, что у нас для подобных случаев кое-что припасено, – он вытащил из-под сиденья укороченный, тускло блеснувший черным металлом автомат, положил рядом с собой, ухмыльнулся. – Можем с любыми гостями встречаться. Мы готовы. – А без автомата можно, Борис? – Стрельбы не будет, – пообещал водитель. – Это я гарантирую. – Тогда зачем автомат? Без автомата оторваться не сумеем? – Сумеем, – уверенно проговорил Борис, повел машину по крутому спуску вниз, отчего в Белозерцеве сразу возник твердый клубок, подкатил изнутри к горлу – такое бывает, когда спускаешься на скоростном лифте в каком-нибудь нью-йоркском биддинге из поднебесья на грешную землю. Белозерцев схватился за горло, помял его, освобождаясь от комка. «Ощущение почти парашютное», – подумал он. – Еще как сумеем оторваться, сделаем это, как в цирке у Никулина, – пообещал Борис. Закончив спуск, он резко повел машину вверх, беря крутизну на абордаж. Наверное, здесь когда-то был овраг, в котором оставили свои копыта немало лошадей. Глянул в зеркальце: как там «Альфа-Ромео»? Водитель на «альфе» был послабее Бориса: Боря, старый летун, понял это мигом, растянул толстые губы в улыбке, показав щербатую пасть доброго людоеда, в следующий миг сделал почти неуловимое движение рулем, перестроился, будто шел не по задымленной тесной трассе, а по свободному пространству некой электронной игры, сзади его через несколько секунд поджал синий «мерседес», перекрыл дорогу «альфе», водитель за рулем «яичного желтка» занервничал, попробовал было втиснуться в соседний поток, но не дано было нашему теляти волка стрескать: за «мерседесом» почти вплотную шел обшарпанный «жигуль» седьмой модели, за «жигулем» еще один такой же – седьмой «жигуль», только новенький, недавно с конвейера, владелец его не успел даже прикрутить номера, держал их у ветрового стекла, чтобы было видно придирчивым гаишникам; минуты три прошло, прежде чем «альфа» попала в полосу, по которой теперь шел Борис. А Борис сделал еще одно полууловимое движение рулем, лихо переместился по задымленному полю вперед, взял вправо, перестроился в свой старый ряд, засмеялся довольно, видя, что водитель «альфы» снова задергался, потом переместился в следующий ряд, затем взял круто вправо и с грохотом влетел в длинный, темный, отдающий промозглым сырым духом проулок. «Альфа-Ромео», зажатая потоком, проследовала дальше. – Вот и вся любовь, Вячеслав Юрьевич, – доложил Борис Белозерцеву. – Молодец, Боря! – Крюк делаем? – спросил Борис. – Делаем! – Белозерцев приложил руку к груди: сердце билось так, будто завершало свое существование, внутри что-то болело, но что конкретно болело, Белозерцев понять не мог, он устало смежил глаза – правильно говорят, что все болезни от нервов. Понервничал немного – и внутри появилась боль. Проехав немного по проулку, Борис свернул в зеленый, густо засаженный деревьями двор – проход между деревьями словно бы специально был оставлен для машины, проехал насквозь, очутился в следующем дворе, а через минуту – в параллельной проулку улочке, такой же затененной и старой. – Ну, Боря, ты и эквилибрист, – похвалил Белозерцев, задержал в себе дыхание, старясь одолеть боль. – Циркач, по проволоке ходишь! – Стараемся, – довольный похвалой, отозвался Борис. Конечно, то, что они оторвались от «яичного желтка», еще ничего не значит, тем, кто преследовал Белозерцева, известен его адрес. А это – все, квартиру же менять не будешь – они появились здесь сегодня, появятся и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра. Если, конечно, не произойдет что-нибудь раньше.
20 сентября, среда, 8 час. 35 мин. Сергей Агафонов сидел рядом с Костиком, вполуха слушал его болтовню и одновременно наблюдал за дорогой, за тротуарами, за машинами, засекал каждую мелочь, сводил вместе светлые, едва различимые на лице брови, когда ему что-то не нравилось. – Дядя Сереж, а дядя Сереж, что бы ты сделал, если бы выиграл в лотерею триста миллионов рублей? – Костик, увидев излишне напряженное лицо Агафонова, подергал его за рукав: ему не нравилось, что сегодня охранник обращает на него меньше внимания, чем обычно. – Купил бы «роллс-ройс», – наконец ответил Агафонов. – А зачем «роллс-ройс»? – Чтобы тебя катать по Москве. – А на «вольво» нельзя? – Можно, но на «роллс-ройсе» лучше. – «Роллс-ройс» – дорогая машина? – Очень. – М-м-м, – Костик задумался, но думал он недолго, всего несколько мгновений: – А кто ездит на «роллс-ройс»? – Костик на удивление четко выговаривал трудное слово «роллс-ройс», – у моего папы такая машина есть? – Нет. – А у кого она есть? – У английской королевы. – Она на ней ездит? – Да. – И я буду ездить? – Естественно. Если я выиграю в лотерею триста миллионов рублей. – М-м-м, – Костик снова на мгновение задумался, прикинул что-то в уме. – А у тебя есть лотерейные билеты? – Пока нет. – А как же ты будешь выигрывать лотерею? – В лотерею, – поправил Агафонов. – Ну-у… куплю пару, а то и три лотерейных билета со счастливыми номерами и выиграю. – Может, мы остановимся и ты прямо сейчас купишь лотерейные билеты? – голос у Костика сделался просящим. – Это мы с тобой, дружище, сделаем вечером, когда будем возвращаться домой. Договорились? – А вечером будет не поздно? – Не, не поздно. – Ведь эти самые… ну… лотерейные ящики на ночь закрываются. Рабочий день кончается, и их замыкают, на ключ. – Лотерейные ящики работают круглосуточно, – серьезно заявил Агафонов. – Без перерыва на обед? – Перерывов на обед у них не бывает. И вообще, Костик, пусть этот вопрос тебя не волнует. Главное дело для тебя – получше пристегнуться ремнем, когда ты сядешь в кабину «роллс-ройса». Глаза у Костика от проснувшегося азарта сделались веселыми, глубокими, в них запрыгала густая электрическая пороша – словно светлячки какие родились, Костик рассмеялся неожиданно счастливо, звонко, прижался к руке Агафонова, и Агафонов почувствовал, что внутри у него рождается тепло, какая-то щенячья нежность к этому мальчишке и одновременно жалость к самому себе – ведь если бы он женился до ухода в Афганистан на Людочке Ахметовой с улицы Композитора Мясковского, то у него тоже был бы такой же славный пацаненок. А может быть, и два. Но нет, Агафонов не женился, улетел на войну, вернулся оттуда надорванный, с неспокойной душой и пулевой раной на плече, с удивлением обнаружил, что Людочка его не дождалась, вышла замуж за другого, за невзрачного паренька, отгородившегося от Афганистана белым билетом. Агафонов в тот день здорово напился, а напившись, плакал. Слезы помогли ему, облегчили душу, со слезами из него будто бы вымыло накипь, скопившуюся за два афганских года, еще что-то тяжелое, мешающее дышать, жить. Агафонов выплакался и навсегда вычеркнул из своей жизни не только неверную Людочку, но и всех женщин вообще. Вначале ему было плохо, в голову лезли разные мысли, дырявили черепушку, вызывали боль, а потом полегчало. Он посмотрел на Костика и прижал его к себе. Машина подъехала к зеленым, с ярко-красной обводкой воротам детского сада. На территории сада было тихо и пустынно. Они прибыли первыми, в детском саду еще никто не появился. Агафонов скомандовал Костику: – Станция Березай, кому надо – вылезай! Костик с сожалением вздохнул и просяще посмотрел на Агафонова: – Дядя Сережа, а ты мне когда-нибудь про Афганистан расскажешь? – Когда-нибудь – да, – пообещал Агафонов, открыл дверь, потянулся безмятежно, по-детски незащищенно. Впрочем, что-что, а сторожкости, готовности драться, защищать подопечных он никогда не терял, он всегда был готов встать в каратистскую стойку – ведь в современной бандитской Москве расслабляться никак нельзя, – глянул влево, глянул вправо – утреннее пространство было чистым, ничего плохого не предвещало, – протянул руку Костику. – Вставай, старик! – А в Афганистане было интересно? – спросил Костик, берясь за руку Агафонова. – Не очень, – не стал скрывать правды Агафонов. – Шпионы там были? – Были. – Ну вот, а ты говоришь – не очень. Сзади вдруг раздалось тихое шипение, будто у велосипеда полетел ниппель или внезапно прохудилось колесо, все произошло стремительно, в считанные миги, Агафонов сгорбился, словно в спину ему всадили пулю, поморщился от неприятной мысли и развернулся – слишком поздно он сообразил, что происходит, – намертво, будто фотоаппаратом, засек лицо парня в шелковых спортивных штанах и кроссовках, державшего на мушке водителя их старого «мерседеса», а также лица двух других налетчиков, коротко остриженных, с одинаковыми физиономиями и одинаково выпяченными крутыми подбородками – ребята походили друг на друга, словно были рождены одной матерью, – стремительно, совершенно бесшумно двигавшихся к нему. У них была прекрасная тренировка, раз они умели ходить так, будто ноги не касались земли, а опирались на воздух, и еще они имели особые глаза – такие глаза так же надо делать, ставить, как и бесшумную походку, и способность растворяться не только среди людей, но и в «чистом поле», стрелять на шорох и с одной пули снимать человека, и талант готовить вкусный, пальчики оближешь, борщ из топора, не имея на руках ни капусты, ни мяса, ни картошки со свеклой, ни приправ. Агафонов сразу понял, что справиться с этими людьми ему будет трудно – так трудно, что вряд ли он с ними справится. Что-то кислое, отдающее порохом и одновременно мудреным заморским фруктом киви, сбилось у него во рту, он судорожно, одним махом сглотнул комок, буквально силком протолкнул его в себя, еще раз поморщился, ощутив, что комок прилип к чему-то внутри и вызвал боль, подумал: уж не к сердцу ли прилип? Если к сердцу, то оно сейчас вспухнет резью в висках, в глотке, заколотится оглушающе, но нет, сердце билось ровно, спокойно. Страха не было. Агафонов резко толкнул Костика в сторону, загоняя его под куст акации, хотя вряд ли сцепившиеся густые ветки куста могли защитить от пули, сам повалился в другую сторону, выдернул из-под куртки револьвер. Прокричал что было силы: – Костик, беги скорее отсюда! В садик беги! Удивился тому, что голос его прозвучал слабо, выстрелил в правого налетчика, сбивая его с ног, оглянулся – как там Костик, бежит в садик, под прикрытие стен, или нет? Костик, сжавшись в зайчонка, сидел под кустом и испуганно глядел на Агафонова. Выстрел оглушил его. – Ну что же ты, Костя-я?! – отчаянно прокричал Агафонов. – Беги, беги-и… Оглядываясь на Костика, Сергей Агафонов упустил время, какие-то считанные миги, он боялся, что второй налетчик пальнет в мальчишку, а бояться не надо было, надо было стрелять самому, но Агафонов это слишком поздно понял, потерял драгоценные секунды, во второй раз выстрелить он не успел – в него пальнул налетчик, шедший справа. Попал. Пуля отбила Агафонова метра на полтора назад. Железным штырем ему прожгло плечо – то самое, которое было когда-то пробито в Афганистане. Пуля перекрутила его вокруг себя. Падая, Агафонов ударился лицом о камень, разодрал губы, почувствовал на зубах кровь. – Беги! – снова прохрипел он Костику. Понимал Агафонов – он хорошо знал это по Афганистану, что через несколько минут его может не быть, поэтому надо было хрипеть, отгонять Костика, пока он еще живой, ощущает боль и видит солнце, видит людей этих… А пока он живой, он будет защищать Костика. – Беги! – выплюнул он изо рта кровь, выстрелил в правого налетчика. Бил близко, а не попал – парень опытный был, засек, как пойдет пуля, в последний момент качнулся, ушел от свинца. Обозлившись, налетчик что-то выкрикнул в ответ, Агафонов очень близко увидел влажную блестящую белизну его зубов, нажал на курок, целя в Агафонова. Пуля отковырнула кусок асфальта рядом с головой Агафонова. Сергей дернулся, откатился от пробоя – сделал это автоматически, выстрелил ответно – мимо, он уже почти ничего не видел, Сергей Агафонов, перед глазами у него все полыхало огнем, плыло, внутри тоже горел костер хотя в онемевшем, враз ставшим чужом плече боли еще не чувствовалось. В красном тумане вдруг возникла дрожащая черная фигура, продралась сквозь студенистую плоть и начала косо заваливаться на него, на лежащего, Агафонов попробовал передвинуться, уйти, но тело уже не слушалось его. Сергей переместил ствол пистолета влево, словно собирался подпереть им темный неровный силуэт, и нажал на спусковой крючок. Налетчик вскрикнул, отпрыгнул в сторону, вновь выстрелил в Агафонова. На этот раз он не промахнулся. Пуля попала Агафонову в рот, выкрошив зубы – они просто превратились в гречку – и выбив фонтан крови. Последнее, что он услышал, был крик Костика: – Дядя Сережа-а! А-а-а! «Дядя», – успел подумать Агафонов, увидев рядом с собой лицо Ванечки Кислова – маленького, полутораметрового роста, взводного из их «полтинника», подорвавшегося на мине и увезенного помирать на родину, в подмосковную Апрелевку, потом из багровой притеми вытаял Витька Щедрин – тоже афганский дружок, даже больше, чем просто дружок – кореш, срубленный пулей из «бура» во время атаки на кишлак, в котором засел Лысый Кудуз… Щедрин подмигнул Агафонову, протянул обе руки, чтобы обняться по-братски крепко, и Сергей Агафонов, готовно кивая, пошел к нему навстречу. Когда налетчик склонился над Агафоновым, тот был уже мертв. – Дядя Сережа! – прокричал Костик, размятый, раздавленный тем, что видел, сросшийся с кустом акации, сам ставший кустом, его ветками. Налетчик метнулся к Костику, сгреб его, выдернул из куста. Предупредил: – Не кричи! – А-а-а! – закричал Костик. Налетчик рукой зажал ему рот, приподнял, бегом помчался к своему «жигулю». На ходу выкрикнул напарнику, державшему на мушке водителя белозерцевской машины – серого от боязни, потного: – Чего стоишь? Да свяжи ты руки этому дураку! Он швырнул Костика на заднее сиденье, скомандовал своему водителю, сидевшему за рулем машины с невыключенным мотором – тот держал ногу на педали газа, чтобы в любую минуту рвануть с места и раствориться на ближайших улицах: – Клоп, держи мальца! Не выпускай – больно горячий! Клоп, перегнувшись, притиснул Костика к сиденью, рука у него была тяжелая и неприятно костлявая, улыбнулся Костику подбадривающе, просунул сквозь редкие золотые зубы кончик языка: – Ты так умеешь? – Нет, – неожиданно успокаиваясь, отозвался Костик, улыбчивый вид Клопа подействовал на него; почувствовав себя лучше, Костик даже мотнул головой. – Знаешь, на сколько метров я могу плюнуть сквозь зубы? – Не-а! – На тридцать шесть с половиной. – Врешь! – глаза у Костика округлились, сделались большими, он глянул в окно машины, но Клоп быстро развернул его лицом к себе. – Ты туда не смотри, парень, это не для твоих глаз. Налетчик подскочил к напарнику, уложенному Агафоновым, приподнял его голову, глянул в глаза, завернул веки и прокричал с радостными нотками в голосе: – Живой! – аккуратно опустил голову напарника на асфальт, сунул ему в открытый, пузырящийся кровью рот дуло пистолета и выстрелил. Проворно отпрыгнул в сторону. Увидев, что кровь все-таки попала на него, выругался: – Вот гад! Подбежал к белозерцевской машине – был он моторный, стремительный, состоял из жил и дыхания, такие люди ни минуты не сидят на месте, действуют, кричат, матерятся, – взмахнул пистолетом: – Ты чего телишься, Медуза? Подумаешь, барский водила, холуй! Тьфу! Дырку ему меж глаз! Белозерцевский водитель, плоско серея лицом от страха, сам протянул руки, чтобы их перетянули веревкой, но Медуза не спешил, он дернул руки водителя к себе и начал спутывать их – аккуратно, методично, стягивая крест-накрест. Медуза делал свою работу на совесть, серьезно, старался, крикливый налетчик выдернул у Медузы концы веревки, с силой обмотал несколько раз вокруг кистей, завязал один узел, потом другой, затем третий, еще дважды обмотал запястья, снова соорудил два узла, затем, с силой завалив водителя вперед, примотал его руки к колонке руля. Предупредил: – Сиди тихо! Понял? Водитель часто закивал головой, плечи его приподнялись высоко, будто он собирался взлететь. Голову он втянул как можно глубже в себя, это ему удалось – голова у него сровнялась с плечами, водитель хотел спрятаться от этих страшных людей, залезть под руль, прикрыться металлом дверцы, забраться под коврик или хотя бы под сиденье, но не пускали связанные руки, он застонал, захныкал, потом подавил в себе всхлипы и затих – пока эти люди находились здесь, вести так себя было опасно. – Деверь, уходим! – прокричал из «жигулей» Клоп. – Быстро! – Он нажал на газ, мотор обиженно взревел, в реве чуть не захлебнулся, заглушил галдеж воробьев, налетевших на ближайшее дерево. «Один цилиндр стучит, – машинально, словно бы вернувшись из теней на грешную землю, определил белозерцевский водитель, снова застонал, уже не боясь, благо стона не было слышно, затрясся в задавленном глухом рыдании, попытался успокоиться и, когда это у него получилось, вздохнул плаксиво и так же автоматически отметил: – Горючки мотор много сжирает. У этой машины не бензобак, а заправочная станция должна быть. На худой конец – бензоколонка!» – плечи у него снова всколыхнулись, приподнялись по-птичьи, и водитель заплакал. От боли, от унижения, от слабости, от того, что оказался он совсем не тем человеком, каким считал себя. Через несколько секунд площадка перед детским садом была пустынна и тиха, лишь старый «мерседес» с номером его владельца, Вячеслава Юрьевича Белозерцева, сиротливо стоял у зеленых ворот с готовно распахнутой дверью, а привязанный к рулевой колонке водитель рыдал взахлеб, давился слезами, воздухом, откуда-то прилетевшим тополиным пухом, хотя не только пора тополиного цветения, но и бабье лето уже прошли, и ни пуха, ни паутины не должно быть, бился лицом о руль, рвался из машины прочь, но все безуспешно, да еще два тела, замерших в искривленных, словно бы подсеченных на бегу, позах, делали площадку похожей на какое-то странное, подготовленное для съемки боевика место. Кажется, вот-вот должны были появиться киношники с аппаратурой – сейчас они вывалятся на площадку, загалдят, забегают, через несколько минут включат софиты и прозвучит знакомая команда: «Мотор! Начали!». Но команда не прозвучала, а вместо киношников появились две очкастые, очень схожие друг с другом бабули, которые привели в детсад своих внуков. То, что они увидели, потрясло их.
20 сентября, среда, 8 час. 45 мин. У Белозерцева с Виолеттой был разработан условный сигнал: если в дверь Виолетте раздавалось два коротких звонка и один длинный, потом, через несколько секунд, звонки повторялись в прежней последовательности – значит, приехал Белозерцев. Сам, са-ам, бог и повелитель, как любила говорить Виолетта, она это подчеркивала специально и улыбалась загадочно, дразняще. Виолетта нравилась Белозерцеву, нравилась гораздо больше, чем его собственная жена, хотя и Ирина тоже была хороша – и стройна, и привлекательна, и с мозгами, что большая редкость для длинноногих женщин, но Ирина – это одно, а Виолетта – совсем другое. Водитель Борис, как-то разоткровенничавшись с шефом, похвалил его: «Вкус у вас отменный, Вячеслав Юрьевич! Все правильно – одни щи всегда надоедают… Ну что такое – на первое щи, на второе щи, на третье щи, на десерт щи, вместо фруктов щи и вместо компота щи, утром щи, в обед щи, в полдник щи, на ужин щи – все щи да щи! Обязательно где-нибудь щи надо разрядить жареной картошечкой! – при этом Боря сделал красноречивый жест, недвусмысленно намекая на Виолетту, прочертил в воздухе крутую выразительную линию – нарисовал женское бедро, и воскликнул бодро: – А, ВячеславЮрьевич?! Белозерцеву сделалось неприятно, он сухо пробормотал: «Может быть» и отвернулся от Бориса. Он позвонил, трижды нажав на любопытный птичий глаз кнопки, дверь мигом, словно его ждали, открылась и на пороге возникла Виолетта. Пахнущая домом, сном, из которого она выплыла лишь недавно, с серыми серьезными глазами, способными приобретать беспощадный стальной цвет, если их хозяйке что-то не нравилось, дохнула на Белозерцева теплом, отчего тому сразу сделалось легче: – Я знала, что ты придешь! Г-господи, я так тебя ждала… Хотя мы и не договаривались. – Извини за неурочный визит… – Что ты, что ты, – Виолетта прижалась к Белозерцеву и неожиданно всхлипнула. – Ах, Вика, – пробормотал Белозерцев растроганно, – я заехал просто так, ненадолго… – Нет, ты заехал не просто так, – произнесла Виолетта мягко, укоряюще, – ты соскучился по мне. – Соскучился, – признался Белозерцев. – Что-то я места себе не нахожу, что-то… в атмосфере что-то происходит, в общем, – он повертел в воздухе ладонью с растопыренными пальцами, какие-то изменения, токи, электрические разряды, реакции – не знаю что… – Мне плохо без тебя, – пожаловалась Вика. – Мне всегда без тебя бывает плохо. – И мне без тебя, – сказал Белозерцев, подумав, что Вика как-то отзовется на эти слова, произнесет что-нибудь, но Виолетта ничего не сказала, прижалась к Белозерцеву. Тот неожиданно взглянул на себя со стороны, подумав как о ком-то постороннем, в третьем лице, и горло ему стиснула жалость. – Мне плохо без тебя, – повторила Виолетта. – Нас сейчас преследовала чужая машина, – проговорил Белозерцев. Голос у него дрогнул, сделался тонким. – Похоже, на меня кто-то наезжает. Виолетта прижалась к Белозерцеву теснее, затем откинулась от него с молитвенно-испуганным видом. – Ты что сказал? – На меня кто-то наезжает. – Спаси и сохрани! – Виолетта сложила пальцы в щепоть, чтобы перекрестить Белозерцева, но, увидев потемневшие от недовольства его глаза – Белозерцев был неверующим, – отвела щепоть в сторону, сунула руку за спину. – Извини, – сказала она, – спаси и сохрани, в общем! Лицо у нее побледнело, кожа сделалась прозрачной и особенно нежной, эта реакция Виолетты тронула Белозерцева, он легонько коснулся пальцами Викиной щеки, улыбнулся виновато: – Здравствуй! – Здравствуй, – тихим эхом отозвалась Виолетта. – Извини, что я вывалил на тебя все эти тяжести… Преследование, рэкет, угрозы, грубость, обман – это не по твоей части. Ты должна быть вне всего этого, а я, я обязан охранять тебя от пакостей от гнуси бизнеса, от грязи нашего города, от всего плохого. Я же… – он горько покачал головой и замолчал. – Я тебя люблю, Вава, – Виолетта назвала Белозерцева так, как его звали когда-то в детстве, вздохнула, потянула Белозерцева за собой в квартиру. – И я тебя люблю, Вика…. Это взаимно, – произнес он, согнулся, втягиваясь следом за Виолеттой в квартиру. – Только вот… видишь… В общем, дурак я. – Нет, Вава, ты не дурак, ты далеко не дурак, и раз ты решил что-то сказать, значит, это наболело, это нельзя – держать в себе. Ты рассказывай, рассказывай, не держи в себе тяжесть, расскажешь – легче станет. – Вика, помнишь, как мы с тобой познакомились? – Хорошо помню. У одних романы, связи, знакомства начинаются со знойного Юга – это самое распространенное, там все завязывается легко, все кажется романтичным, влекущим, все припахивает сладкими соблазнительными фруктами и морем, – впрочем, серьезных продолжений у южных романов почти не бывает, у Белозерцева и Вики такое случалось не раз, ни один роман не стал заметным. У других – со встречи на какой-нибудь московской пирушке, у третьих – с полета по служебным делам в Носоноговск либо в Нижнепупинск с прилегающим к нему Нижнезадовским геологическим месторождением или что-нибудь в этом роде, когда кресла женщины и мужчины оказываются рядом и сближение происходит в дороге, у четвертых – со спектакля в престижном столичном театре – Большом или Малом, куда ходит избранная публика, у пятых и шестых – еще как-то… Можно вообще подойти к хорошенькой девушке на замызганной, истоптанной поросятами улице города Курицына и спросить: «Девушка, вы не подскажете, как проехать к станции метро “Кропоткинская”?» А девушка эта вообще никогда в жизни не видела метро, только читала о нем в книжках… И совсем неважно, что она ответит – пусть это вообще останется за пределами сознания, главное то, что она обязательно обратит внимание на человека, задавшего ей нелепый вопрос. Ну а дальше – дело техники. Примерно так и Белозерцев познакомился с Викой. Он увидел ее, одетую во все белое – в белом костюме, в белых лаковых туфельках, с белой сумочкой, небрежно повешенной через плечо, стоящую около высотного здания на Смоленской площади, не сдержался и подошел к ней: – Девушка, скажите, из какой вы сказки? Он не помнит уже, что она ответила, да и неважно это было, как и в случае с прекрасной обитательницей города Курицына, важно, что она обратила на него внимание, серые умные глаза ее сделались удивленными, она сощурилась, будто смотрела на Белозерцева сквозь прицел, и он почувствовал, как в лицо ему ударил ветер «Сейчас ведь сбросит со скалы вниз, – невольно подумал он, – в море, в волны, на съедение крабам и рыбам. Нет бы подумать, прежде чем спрашивать, из какой сказки, – надо ли это ему или не надо? Но, с другой стороны, «царь он или не царь, тварь дрожащая или право имеет, быть или не быть?» – и чего раздумывать, когда она может развернуться и исчезнуть! На размышления не оставалось времени… В нашей жизни все оставляет след – даже самая малая обида, полученная в детстве, всякая крохотная боль, оставшаяся от пореза или щепки, всадившейся в ладонь, всякое поражение, в том числе и мимолетное, и Белозерцев приготовился к поражению, к тому, что с этим поражением в нем умрет часть его самого, улыбнулся виновато… Он умел «держать образ», как принято говорить в театре, быстро становиться самим собой… Глаза девушки дрогнули, помягчели, она сделала неопределенный жест. – Через пять минут скажу, из какой я сказки, – наконец проговорила она. – Я могу подождать? – Конечно. Его удивило слово «конечно» – она не должна была его произносить, но произнесла, вот ведь как, – удивили тон, окраска голоса, которым она говорила, в этой женщине имелась некая манящая тайна, что всегда завораживает мужчин и в конце концов превращает их в послушных олухов, которыми можно крутить и так и этак, и вот ведь удивительно: слишком много мужчин готово, оказывается, превратиться в олухов, в кого угодно, лишь бы обладать такими женщинами. Белозерцев поймал себя на этой мысли. Он такой же, как и все, ничем не отличается от какого-нибудь Тоги из Кутаиси или Османа из Махачкалы, он… Белозерцев не выдержал и улыбнулся. Сам себе улыбнулся, не девушке, но улыбку скрыть не удалось – та засекла ее острым взглядом и все разгадала. Обычно бывает наоборот – желая кого-нибудь расколоть, мы раскалываемся сами и потом стыдимся этого – надо же, ни с того ни с сего остался в дураках, как в популярной карточной игре, такое, признаться, часто происходило с Белозерцевым и его друзьями, такое происходило и со многими проницательными женщинами, которые хотели расколоть Белозерцева, – здесь же было нечто иное. Белозерцев внутренне сжался, улыбнулся снова и вообще постарался, чтобы тихая мудрая улыбка подольше не исчезала с его лица. С другой стороны, через минуту в нем возникла некая болезненная неловкость: а не выставляет ли он себя в роли шута? Сейчас появится какой-нибудь хлыщ с розой на длинной ножке – почему-то хлыщи любят преподносить женщинам по одной розе – не букет, от которого кружится голова, а именно одну розу, и как знак того, что розу преподносит хлыщ и никто иной – обязательно на длинной ножке. Одна роза, пусть даже на километровом стебле, обходится хлыщу много дешевле, чем жиденький букет. И какое же унижение испытает Белозерцев, когда увидит хлыща! Он почувствовал, что ему сделалось холодно, лопатки онемели, а вот к лицу прилил жар, кожа покраснела. Продолжая улыбаться, Белозерцев наклонил голову – показал, что в волосах у него не то чтобы лысинки, ни одной рединки нет, ни одного незащищенного пятнеца, а пробор идеален, будто его провели по линейке, произнес вежливо: – При таких обстоятельствах пять минут ожидания могут состарить на тридцать лет, – он сам удивился тому, что произнес, слишком уж это прозвучало по-восточному, выспренно, слишком уж ненатурально, ужаснулся своим словам, но виду не подал. – Завтра я буду в это время ждать вас, – сказал он, – здесь же! – Вы что, живете с включенным таймером? – Да, живу с включенным таймером, – подтвердил Белозерцев и, увидев, как в глазах девушки зажглись крохотные неяркие костерки – там, в глазах, в зрачках шла своя жизнь, которую Белозерцеву не дано было понять… «До поры до времени не дано», – сказал он самому себе, повернулся и ушел. Ему жаль было уходить, он понимал, что эту девушку он может не увидеть никогда, но вместе с тем это было единственно верное сюжетное решение, других вариантов не существовало. Он ни разу не оглянулся. Почти бесцельно, с пустой головой миновал один кривой арбатский переулок, потом второй, за ним третий, вышел на Арбат, остановился перед витриной тщательно отреставрированного магазина, в котором были выставлены платья известной парижской фирмы, потом снова втянулся в очередной старый проулок. Он в эти минуты походил на человека, который ищет свое прошлое – и верно ведь, он искал свое прошлое, ибо девушка в белом принадлежала к тому времени, которое он когда-то покинул. А возврата назад, как известно, нет. И никогда не будет. Жаль, что не все это осознают. А на тех, кто осознает, наваливается такая глухая тоска, что синее небо над головой мигом становится черным, ночным. И размером небо бывает не больше детской варежки. Именно такую тоску ощутил сейчас Белозерцев. В ушах у него возник назойливый звон, во рту сделалось горько, он попробовал сглотнуть эту горечь – не удалось. Белозерцев выругался. Ему захотелось развернуться на сто восемьдесят градусов, помчаться назад, на Смоленку, схватить девушку за руку, сказать ей что-то важное, единственно верное, но… Было поздно. На следующий день он снова появился на Смоленской площади у несуразного мидовского здания. Девушка в белом была уже там, только одета она была не в белое, а в строгий, без единой морщинки костюм асфальтового цвета. – Похоже, вы никуда отсюда не уходили, – неожиданно глупо, дрогнувшим голосом произнес Белозерцев. – Ага. Я тут живу, – она засмеялась. Белозерцев почувствовал, как с него сползла, стекла вся тяжесть, набравшаяся за прошедший день, ему даже дышать сделалось легче, а серое небо над головой стремительно посветлело, обрело глубину и цвет. Задерживая в себе осекающееся дыхание, он виновато отвел глаза в сторону. Звали девушку Викой. Нет, то, как они познакомились, он никогда не забудет. – Я все помню, я все хорошо помню, – медленно проговорил Белозерцев, понюхал ее волосы, – в первый день ты была неприступна, как Троя… – Неудачное сравнение, – заметила Вика. – Я понял, что мне ничего не светит, развернулся на одном каблуке и, как броненосец «Потемкин», ушел в сторону моря… – Броненосец! Во что я была одета? – В первый день – во что-то трикотажное, апельсинового колера, – Белозерцев решил присочинить, чтобы завести Вику. – Во второй – в шелк цвета небесной лазури… Ты – женщина контрастов. – Ну и память у тебя! – Вика не поддалась Белозерцеву, у нее погасли, сделались чужими, очень далекими глаза, по лицу серой тенью проскользнула тревога. Белозерцев все понял, подумал о Вике с нежностью и растерянностью: что с ней будет, если его кто-то накроет сачком? Она ведь растеряется, пропадет в этой волчьей жизни. – Я боюсь за тебя, Вава! – Вавой меня звали в детстве, еще ты зовешь, больше никто, – натянуто, пока еще не справляясь с собой, проговорил Белозерцев, улыбнулся, – свое имя в детстве я никак не мог выговорить – только Вава. Вава да Вава. – Я и не знала. Надо же! Он очень близко увидел ее лицо, странно увеличившееся, встревоженное, с ясными глазами и мягкими, припухлыми от сна губами, не выдержал, пробормотал натянуто, почти без сил: – Вика, давай уедем куда-нибудь. Хотя бы на неделю… Например, в Испанию, а? – Как в прошлом году, когда мы в казино проиграли шесть тысяч долларов? – Да, как в прошлом году, только проиграем не шесть тысяч долларов, а десять. Проигранные деньги – к счастью. – Когда они есть. – Они у меня есть… И долой, долой все тревоги, все заботы, все обязательства – все, что навалилось на нас. Все к черту! – он сглотнул последнее слово, смял его, сдавил зубами. Заводясь, Белозерцев ударил кулаком по воздуху, поймал себя на том, что делает не то, и произнес, расслабляясь: – Если не нравится Испания, можем поехать в Марокко. В Восточную Африку, она цивилизованная… Или на Сейшельские острова. Там – вечное лето. – Сейшелы – лучше всего. – Значит, поедем на Сейшелы.
20 сентября, среда, 8 час. 50 мин. Проводив мужа на работу, Ирина Белозерцева несколько минут стояла неподвижно в прихожей, рассматривая себя в большое овальное зеркало, подаренное ей год назад Белозерцевым – тот заказал в офис новую кожаную мебель, новую оснастку и столы, и это зеркало оказалось лишним. Белозерцев подарил его Ирине, не зная, – а может, сделал это специально, – что зеркало дарить нельзя: подаренное зеркало, как и платок, нож, ножницы – к ссоре. Ирина поморщилась, но подарок приняла. Верх взяла, как она сама понимает, жадность – очень уж хорош был подарок. Не зеркало, а мечта, говоря выспренным литературным языком. Потрогала пальцами кожу под глазами, разгладила складку, озабоченно потерла виски, что-то вдавила в поры, сделалась неприступной, сама себе не знакомой, потом выражение неприступности сменилось покорностью, мигом изменившей ее помолодевшее лицо, покорность трансформировалась в нежность – Ирина проводила перед зеркалом маленькую тренировку, ставшую уже привычной – Ирине, как всякой женщине, важно было владеть собой. Нежность сменилась веселостью, веселость хмуростью, хмурость разбойничьей бесшабашностью, басшабашность мягкостью и так далее. Лицо человека может принимать не менее пятидесяти самых различных выражений. «Не лицо, а резина какая-то», – невольно усмехнулась Ирина, подошла к телефону, подняла трубку, несколько секунд подержала ее на весу, размышляя, потом решительно набрала номер: – Олежка, я дома… Одна. Мой, думаю, до пяти вечера не то что не появится – даже не позвонит. У него сегодня двое переговоров, посещение выставки, презентация вместе с французами, пресс-конференция на Зубовском бульваре, еще что-то… Все трудно запомнить, в общем. Приезжай. Что? Нет, нет, это вполне безопасно, он в ближайшее время здесь не появится. Приезжай! Мы с тобой давно не виделись. Жду тебя в… – она потянулась к часам, лежавшим на журнальном столике в прихожей – часы были дорогие, привезенные мужем из Швейцарии, – в половине десятого. Ничего страшного, что рано – хоть на кофе время останется. Вино у меня есть, немецкое, «Мозельское». Знаешь, такое сладковатое, есть французское красное, четырех сортов – к мясу. Если хочешь, мы с тобой приготовим мясо… Вдвоем, как раньше. Бифштекс с кровью. Представляешь, как это здорово – обжигающее мясо и терпкое темное вино из хрустальных бокалов! Приезжай немед-ленно! Она повесила трубку и еще некоторое время задумчиво стояла у телефона: хорошо иметь нежного надежного мужа, вдвойне хорошо иметь, кроме него, еще кого-то, такого же близкого, нежного и надежного.
20 сентября, среда, 8 час. 52 мин. Костик быстро понял, что с ним произошло – не раз видел подобное в фильмах, но никогда не думал, что это может произойти в Москве, да еще с ним, с живым, хотя и маленьким человечком, имеющим могущественного папу, – закричал, забился в руках Медузы. Видитель «жигулей» – редкозубый, в коронках, смешливый Клоп резко вывернул голову, сжал глаза в узкие жесткие щелки: – Медуза, какого черта! – выругался и начал стремительно и нервно крутить маленькую, неудобную, постоянно выскальзывающую из пальцев рукоятку на двери – поднимал стекло. – Тьфу! Две женщины, которые вели с собой детишек, – Клоп не разобрал, кого они вели, мальчишек или девчонок, не до того было, не успел, – косо соскользнули назад и в следующее мгновение исчезли, оставшись за поворотом узкой боковой дороги. И лица их Клоп не разобрал – лица были плоские, стертые, ничего приметного на них не имелось, это раздосадовало его, и он снова выругался. Медуза притиснул грязную, пахнущую мясными консервами руку ко рту Костика, зажал крик. – Надо же, идя, они наш номер засекли! Деверь, может, вернуться, пристрелить. Деверь, откинувшись спиной в угол машины, наблюдал за дорогой. Процедил сквозь зубы: – Зачем стрелять? Сейчас – никакой стрельбы! Все, отстрелялись. Можете считать, что у нас ни одного патрона не осталось. Но зато есть запасные номера! – Так уж ни одного патрона и не осталось? – Клоп хмыкнул в кулак. – Даже для собственных нужд? – Даже для собственных нужд, – пробормотал Деверь. – Финита! Ты бы лучше там, у детского сада, посообразительнее был, а не здесь! – Чем же я провинился? – искренне удивился Клоп. – А ничем! Потому и не бью. Если бы знал, что провинился – убил бы! Понял, Клоп? – Понял, чем дед бабку донял, – пробормотал Клоп, на глазах уменьшаясь за рулем, становясь совершенно неприметным, плоским, словно тень, помотал головой: – И кто тебе на хвост наступил? Когда выехали на гулкую, битком набитую машинами трассу, Деверь сказал Медузе: – Можешь больше не зажимать рот этому арбузенку, здесь его уже никто не услышит. Хоть все окна открывай! Медуза отнял вонючую грязную руку от лица Костика и с брезгливой миной отер ладони о штаны: – Все пальцы в соплях. Деверь захохотал: – Детские сопли – святые, так ты, Медуза, и к Евангелию скоро потянешься! Шансов на счастливое будущее у тебя сразу в несколько раз больше станет. Медуза в ответ кисло улыбнулся, отвел глаза в сторону. Костик, которого чуть не вырвало от рук Медузы, пришел в себя, заворочался, заерзал на сиденье, подпрыгнул, впиваясь головой в мягкий низкий потолок «жигулей» и закричал. Деверь насмешливо покосился на него – он даже не шевельнулся, чтобы хоть что-то предпринять. Похвалил только, покрутив перед лицом Костика указательным пальцем: – Молодец, арбуз, голос хороший имеешь. Певцом будешь, если, конечно, до той поры доживешь. Костик снова долбанулся головой в потолок машины, вскрикнул от боли, Медуза схватил его за плечи, притиснул к сиденью: – А ну, сиди смирно! Скоро приедем, там тебе будет простор для прыжков и вверх и вбок. Через двадцать минут, – споткнулся на полуслове, увидев, как Деверь показывает ему увесистый волосатый кулак, заморгал виновато, не понимая пока, чего же он такого сказал. – Ты чего? В ответ Деверь молча покрутил пальцем у виска, потом показал на Костика и стукнул ногтем по стеклу часов. Пробурчал недовольно: – Вот так мы все и заваливаемся. По собственной дурости. Не находишь, Медуза? Тут до Медузы дошло: напрасно он, конечно, болтанул насчет двадцати минут – этим он выдал время, которое отделяет их от места, куда они едут, по времени ведь всегда можно рассчитать расстояние, а там… Вполне возможно, что этот щенок знает Москву не хуже взрослых… Тогда что? Он спросил у Деверя: – Может, ему глаза завязать? – Не надо. – Он же все видит! – И его все видят – не думай, что мы невидимые и неслышимые. Первый же мусор обратит внимание: с какой это стати в машине сидит человек с завязанными глазами? – Не человек – пацаненок. Арбузенок, как ты говоришь. – Что в лоб, что по лбу! – Деверю начал надоедать этот разговор, в его голосе появились резкие нотки, заплескалось что-то угрожающее. Костик всхлипнул, затрясся по-птичьи – ему было жаль себя, жаль отца с матерью, жаль собственного дома, который он, может быть, никогда больше не увидит – и такая мысль мелькнула в его голове, – и он затрясся еще сильнее. Белый свет перед ним померк, мир сделался маленьким, неуютным, размером всего в ладошку, даже меньше ладони, налился темной пороховой копотью, в горле родился долгий удушливый взрыд, и Костик чуть не потерял сознание. Закашлялся. Деверь ударил его рукой по спине: – Не сдыхай, малец! Ты нам живой нужен! Костик не услышал этих слов, маленькое легкое тело, его скрутила боль, лицо Костика сделалось мокрым от слез. Деверь вторично прихлопнул его ладонью, удар был таким, что Костик чуть не влетел в узкое пространство впереди, между двумя сиденьями, Деверь вовремя поймал его за воротник, откинул назад, прижал рукой к сиденью. – Как вы… как вы… – захлебываясь, прокричал Костик, – как вы смеете! За что вы меня так? – Гля, бунтует! – удивленно проговорил Клоп, вывернул руль, съезжая с трассы на небольшую боковую дорогу. – Революция 1905 года. Вот что значит папаня золотой щеткой зубы чистит! – Молчать! – рявкнул Деверь. – А теперь… задраить окна, не то он опять начнет вопить. – Как вы… – снова скорчился от очередного взрыда Костик, попробовал нырнуть вниз, в ноги в полутемень салона – ему показалось, что там можно спрятаться, но Деверь схватил его за воротник, рявкнул: – Сидеть! Этого Костик не стерпел, извернулся, вцепился зубами в руку Деверя. Деверь дернулся, лицо у него перекосилось от боли. Он шарахнулся от Костика в угол машины, помотал перед собой рукой, словно остужал воздух, увидел злые, полные слез глаза Костика и коротко, почти без размаха ударил его кулаком по голове. Бил, впрочем, останавливая руку – боялся размозжить мальчишке голову. Костик тихо, без звука, ушел вниз, под сиденье, в следующий миг Медуза выдернул его оттуда – вялого, безголосого, враз ставшего каким-то бескостным, бросил опасливый взгляд на Деверя: – Ты что-о-о? – Видишь же, он кусается, как бешеный лисенок. Тьфу! Вот сволота! Пидар, пащенок гнойный! Недоносок! – А если ты его убил? – Не убил, не бойся. Я ударил его не в полную силу. – Ну ты даешь! Еще один такой хук и наши денежки – фьють! – Медуза сделал красноречивый жест. – Да и наверху нам голову оторвут. – Я же сказал тебе, что бил в треть, в четверть силы, – Деверь повысил голос, послышалось в нем что-то дребезжащее, свинцовое, заставившее Медузу замолчать и втянуть голову в плечи. Деверь закатал локоть куртки и с шипением всосал в себя воздух, показал прокушенную руку Медузе: – Видишь? – зубы у Костика оказались острыми, как у зверенка. – Ладно, – пробормотал он, снова втянул в себя воздух, – это папане-арбузу дорого обойдется. Валютой заплатит. – Действительно, не убей его, Деверь, – подал голос из-за руля Клоп. – Тогда не то чтобы зелеными – родными фиолетовыми ничего не возьмешь. – Еще как возьмем, – уверенно проговорил Деверь, серой замызганной тряпицей, найденной в кармане, стер с руки кровь. Кровь выступила опять, прокус был хоть и неглубоким – глубокий Костик просто не мог оставить, – но болезненным и кровянистым. – Даже если его обглодают крысы, мы все равно возьмем тугрики. За один лишь костяк, чтобы похоронить… Тугриков будет, как грязи. И у нас, и у паханов наших. С верхом, понял? – в голосе Деверя вновь забряцали жесткие нотки, будто в горло ему кто-то натолкал гвоздей. – А? Что-то я не слышу одобрительных возгласов. Клоп знал, что Деверь был человеком лютым, редкостного жестокого замеса – Деверь вообще не ведал, что такое дружеское общение на троих за кружкой холодного пива, с «собольком» – высокогорлой бутылкой водки, не ведал, как размягчается черствая мужская душа в таких беседах – он вообще ничего этого не ведал и мог прихлопнуть человека, как муху, потому Клоп так с Деверем себя и вел, старался держаться на расстоянии, не входя в «зону» и просчитывая то самое опасное расстояние, где Деверь мог его достать. Так было больше шансов, что он и его напарник Медуза останутся целыми. А с другой стороны, Деверь хоть и был «сам с усам» – хозяин, «бугор» в их группе, у него также имелся хозяин, свой – может быть, даже более жестокий, чем Деверь, который мог срубить «бугру» голову и швырнуть ее на помойку. Ведь мальчишку они похитили не для того, чтобы убить в машине – совсем для других целей, поэтому Деверь хорошо знает: если он ухлопает «арбузенка», то сам получит пулю в затылок. Но форс держит хорошо, не потеет – вон как приложил пацаненка и не поморщился… В конце концов, Клопово дело – сторона, баранка с тормозами да исправная система зажигания. Впрочем, самого главного шефа – хозяина хозяев – в их группе не видел никто, и никто даже не представляет, как он выглядит. Интересно было бы на него посмотреть. Но шеф даже на связь сам не выходит, только через бабу свою доверенную, через секретаршу, вот ведь как. За окном замелькали каменные, с новыми блестящими крышами дома – похоже, дачные, но эти дома не были дачными, дачные владения располагались еще далеко, за пределами бетонного окружного кольца, Москва ныне растеклась, расползлась по земле, словно студень, – никогда уже не собрать ее в одну компактную горсть, – Москва стала неуправляемой, и такой она будет еще очень долго. Клоп оценивающе глянул на очередной, выстроенный в стиле «модерн» домик с высокой кирпичной трубой, на которой сидела жирная ворона, вздохнул: хотелось и самому заиметь такой вот домик, в палисаднике разводить цветы, кормить с рук голубей и нянчить на коленке сына, да, видать, не дано… Клоп вздохнул, взялся покрепче за баранку. Поймав в зеркальце свирепый взгляд Деверя, пригнулся, выводя собственное тело, незащищенную спину из «зоны». Мальчишка был без сознания, буржуйский домострой за окнами машины кончился, на смену особнякам пришли современные безликие девятиэтажки – собственно, это были те же хрущобы, что в большом количестве ставили на земле в пятидесятых – шестидесятых годах, только поновее да малость получше. Самую, впрочем, малость. Заблудиться в них ничего не стоило. Если сейчас пацаненок очнется и, глянув в окно, что-то засечет, то никогда не определит, что именно он засек. Окраины Москвы всегда были безлики.
20 сентября, среда, 9 час. 10 мин. Вика показалась ему сегодня необычно яркой, горячей. Белозерцев даже застонал от какого-то странного отчаяния, от неверия – неужели он обладает этой женщиной? Он был растроган, был благодарен судьбе за Вику, за то, что не прошел тогда мимо мрачной сталинской высотки, оседлавшей Смоленскую площадь, а ведь мог промахнуть мимо на машине, мог пройти по противоположной стороне улицы и не заметить Вику – все могло быть, но судьба распорядилась так, чтобы он ее увидел. – Как ты ко мне относишься? – неожиданно, возвращая его с небес на землю, спросила Вика. – Лучше всех! – совершенно бездумно и по-детски счастливо ответил Белозерцев. – Значит, никак, – помрачнела Вика. – Разве я не предложил тебе отдых на Сейшельских островах? – Одесская манера – вопросом на вопрос, – Вика усмехнулась. – И где только ты этому научился, Белозерцев? Белозерцев не раз замечал: когда Вика начинает сердиться на него – называет не по имени, а по фамилии. В другой раз он обязательно сделал бы ответное движение, достал бы из кармана какую-нибудь золотую побрякушку, брошку или кулончик на тоненькой изящной цепочке, быстро бы свел все на нет – женщины от золота тают, преображаются на глазах, исключений нет, странно даже, что на них такое колдовское воздействие оказывает довольно невзрачный желтый металл, но сейчас этого не сделал. В нем вновь, как и полчаса назад, неожиданно возникло ощущение тоски, зажатости, некой странной оторопи. Чувство тепла, солнечной яркости, праздника, которое владело им еще две минуты назад, исчезло бесследно. – О чем ты думаешь, Белозерцев? – словно бы ощутив холод, возникший в душе Белозерцева, проникшись его маятой, спросила Вика. Сделала она это скорее интуитивно, чем от осознания того, что не все у Белозерцева ладно. – О внеземной цивилизации, летающих тарелках или о ценах на хлеб в Чебоксарах? – О ценах на хлеб в Чебоксарах, – выплывая из своих мыслей, ответил Белозерцев. – Прости меня, Вика. Глаза у Вики потеплели, она едва приметно, нежно провела рукой по его щеке: – Тебе по-прежнему плохо? – Очень, – признался Белозерцев. – Ничего не прошло? – Нет. Легкая тень проползла у Вики по лицу, она откинулась назад, хрипловато, как-то незнакомо рассмеялась. Белозерцев прикрыл глаза и в который уж раз устало удивился тому, как умеют изменяться женщины. Сейчас что-нибудь про жену начнет пытать, выспрашивать, какая она, что носит и что ест на завтрак, в какие магазины предпочитает ходить и в автомобиле какой марки ездить? – Как твоя мымра? – кончив смеяться и обретя нежный серебристый голос, спросила Вика. – Ходит еще по земле? – Ходит. У тебя что, деньги закончились? – враз сделавшись хмурым, спросил Белозерцев. – Могу добавить энную сумму на кухонные расходы. На кастрюли, спички или, скажем, чистящий порошок. Либо на новомодное средство от тараканов. Вика улыбнулась, уголки рта у нее поползли вниз, придав лицу капризно-кислое выражение. – Разве в деньгах счастье? – Не в деньгах, конечно, но без денег в жизни счастья нет совершенно никакого, – Белозерцев улыбнулся ответно, улыбка у него получилась натянутой, он чуть ли не физически почувствовал ее натянутость и отвернул лицо от Вики. – Знаешь, это раньше заключенные малевали у себя на груди татуировки с бессмертным текстом: «Нет щастья в жизни»! – Не знаю, в заключении не была, – Вика по-девчоночьи фыркнула, глаза у нее сделались совсем темными, в них мелькнуло что-то неясное – то ли злость, то ли испуг, и Вика поджала губы. Белозерцев подумал о том, как быстро способна меняться Вика – настроение у нее подобно ветру в поле – то в одну сторону дует, то в другую, то в третью, то вообще зависает в воздухе, и что произойдет в следующий миг, никто не может предсказать: Виолетта – женщина непредсказуемая. Впрочем, такой она не была, такой она стала. «Собственно, такая не только Вика, большинство женщин такие, они – непредсказуемы», – Белозерцев вздохнул, попробовал перед самим собой оправдать Вику и тут же оборвал себя: а нужны ли оправдания? Пока было непонятно, куда клонит Вика. Но куда-то она клонит, это точно… Иначе с чего бы такая резкая смена настроений! Белое без всяких причин обращается в черное – стремительно, в считанные секунды – Белозерцев даже глазом моргнуть не успевает… Без всяких причин… «Без причин ли? – возник в мозгу усталый вопрос. – Не-ет, причина есть, только Вика не выложила ее. Но поскольку она – женщина последовательная, то обязательно выложит. Так что терпи, жди? Белозерцев. Отдыхом на Сейшелах ты от Вики не откупишься – слишком мало, дешево, хотя на самом деле дорого, к Сейшелам надо еще приплюсовать Канары либо основательную пробежку по магазинам вашингтонского Джордж-тауна и золотой презент весом килограмма в полтора. Гос-споди, и еще эта непроходящая иссасывающая тоска – откуда она? Почему не проходит? И это дурацкое преследование “яичного желтка”, которое Боря сумел удачно пресечь… Все напластовалось, собралось в одну кучу, спрессовалось, одно наползло на другое, селедка влипла в джем, джем смешался с горчицей, горчица пристала к куску рыбы, рыба к мясу, а к мясу приклеился большой кусок халвы». – Скажи, пожалуйста, ты хотел бы иметь ребенка? – неожиданно спросила Вика. – Хотел бы, – не колеблясь, ответил Белозерцев. – И я хотела бы. У тебя ведь есть уже ребенок? – Как будто ты не знаешь! Есть… Сын. – Я тоже хочу сына, – тихо произнесла Виолетта. Белозерцев резко откинулся от Вики, словно хотел рассмотреть ее со стороны – эта мысль была неожиданна, как удар током, он об этом не думал, скорее наоборот; он всегда считал, что такой красивой женщине, как Виолетта, ребенок только будет помехой, – почувствовал внутри секущий жар, ему сделалось жаль себя, как и жаль Вику: как же он упустил такой сюжетный ход, как же его не просчитал? Он пристально посмотрел на Вику, сглотнул что-то липкое, противное, возникшее во рту, проговорил почему-то шепотом – наверное, потому, что у него не стало голоса: – Чтобы иметь ребенка, тебе надо выйти замуж. Вика также спросила шепотом, в унисон Белозерцеву: – За кого? За тебя? Белозерцев отрицательно потряс гловой – жест был хотя и машинальным, но очень поспешным и оттого обидным, и Вика не выдержала, прикусила зубами нижнюю губу: – Что, неужели твоя Матрена Терентьевна лучше меня? – Да не Матрена она, Вика, и не Терентьевна… – Мне все равно. – А мне, Вика, нет. Понимаешь? – он приблизился к Виолетте, лицом к лицу, потерся лбом о лоб, почувствовал, как гладка и тепла у нее кожа, увидел совсем рядом Викины глаза, ощутил жар в висках и в глотке. – Эх, Вика, Вика… Ну что же ты со мной делаешь! – Сегодня я поняла – просто почувствовала это физически, раньше этого у меня никогда не было, что я начала стареть. Внешне это неприметно, но внутри… Внутри, как говорил один пятнисто-лысый пряник: «Процесс пошел…» Процесс, дорогой Вава, к сожалению, пошел, он идет – от наших лет ни ты, ни я не сумеем скрыться. Природу не обмануть. – Какой возраст, Вика, о чем ты говоришь? Ты выглядишь на восемнадцать лет – на восемнадцать! Ну, может быть, на восемнадцать с небольшим хвостиком, – стал убеждать ее Белозерцев, – ты вообще указница, с такими опасно знакомиться – это карается законом. – В каком смысле карается? – В смысле несовершеннолетия. По старому указу, принятому еще при царе Горохе Свекловиче, за приставания к малолетним полагался приличный срок. – А-а-а, – насмешливо протянула Виолетта. Белозерцев отер ладонью лицо – словно бы снял со лба, со щек некую странную налипь, осеннюю паутину – что-то мешало ему, одно накладывалось на другое, плохое настроение на тоску, внутренняя боль на внутреннюю боль, он никак не мог избавиться от удручающего состояния, навалившегося на него, никак не мог прийти в себя, и это раздражало его. Белозерцев думал, что визит к Вике принесет облегчение, а он облегчения не принес. Наоборот, ему стало хуже. – Значит, так, Вика… – проговорил он тихо, прислушиваясь к самому себе, – тебе надо выходить замуж. Вика, глядя на Белозерцева, согласно наклонила голову, Белозерцев отвел глаза в сторону – слишком уж острым, испытующим сделался взгляд Вики, зрачки даже стали похожи на шляпки хорошо откованных гвоздей. – Вот я тебя и выдам замуж, Вика, – стараясь говорить ровно, чтобы голос не дрожал, сказал Белозерцев. – За кого? За себя самое? Или за тебя? За тебя я пойду замуж, пойду! – Лицо у Вики подобрело, из глаз истаял темный пороховой налет, а зрачки перестали походить на железные шляпки. – За тебя? Я правильно поняла? – Ты же знаешь, Вика, – Белозерцев повел рукой в сторону, получился очень выразительный жест – он будто длинный жирный минус начертил. – И вообще, давай не будем обо мне, а? Ты же все прекрасно знаешь, Вика… и все понимаешь. Надо отдать должное Вике – она всегда умела останавливаться, еще ни разу не перегнула палку, она и в этот раз словно бы почувствовала опасность, расслабляюще улыбнулась и повторила жест Белозерцева – провела рукой линию, располовинивая пространство, одну половину она отдавала Белозерцеву, другую брала себе. Спросила тихо: – И кого же ты хочешь предложить мне в мужья? – Есть один человек на примете… Мой человек. – Я обязательно должна выходить за него замуж? – на лице Вики не дрогнула ни одна жилка. – Нет, не обязательно. Только если захочешь. – Ничего не понимаю, – Вика вдруг сделалась растерянной. – Ничего не понимаю… Как я должна выйти за него замуж? Я же твоя – не его! – Ты и будешь моей. Ты за него выйдешь замуж только в смысле отметки в паспорте. Если хочешь, это будет фиктивный брак… А жить будешь со мной. У тебя ничего не изменится. – А ребенок? – И ребенок будет мой. – Но в случае развода алименты будет платить он? – В случае развода алименты платить буду я. Но развода не будет – и ты это прекрасно понимаешь. – Извини, – она потерла пальцами виски, – голова что-то кругом идет, тупая я стала… Он же будет прикасаться ко мне, – проговорила она жалобно. – Он до тебя пальцем не дотронется. – Значит, он будет мужем только на бумаге? – Наконец-то до тебя дошло! – И за это получит деньги? – Он и так получает деньги. Уже! И немалую сумму. Вика помолчала немного, переваривая то, что услышала, качнула расстроенно головой: – В конце концов, я сама в этом виновата… «Никто ни в чем не виноват, все равно, если не сегодня, то завтра это должно было произойти», – хотел было сказать Белозерцев, но промолчал, вместо этого лишь выразительно пошевелил плечами, словно ему сделалось холодно – на самом деле он старался освободиться от усталости, как от тяжелого рюкзака. И вообще, это единственный путь удержать Вику около себя – выдать замуж за доверенного человека, повязать ее… Другого пути нет. – Ты пойми, Вика, ныне это нормальная вещь, так поступают многие. – Примета времени, это ты хочешь сказать? – Да, примета времени, выражаясь языком кондового соцреализма. – Ох, как бы я не хотела становиться в один ряд со многими! – И не надо! Никто от тебя этого не требует, на дыбу не тянет. Повторяю: ты как была моей, так моей и останешься. И ребенок будет записан на мою фамилию. – Даже так? – Даже так! Другого выхода нет, Вика, ты пойми! – внутри у него родилось, скатавшись. в небольшой ледяной пузырь, раздражение, пузырь этот начал стремительно расти, Белозерцев хотел было задавить его, но попытка оказалась тщетной, и пузырь пополз вверх. – И кто же он, мой избранник? – медленно выговаривая слова, спросила Вика. Пузырь тихо лопнул. Белозерцев с облегчением вздохнул, выдавил из себя воздух, скопившийся в груди и мешавший ему не только дышать, но и думать, – Вика женщина умная, раз она задает такой вопрос – значит, все поняла и сломалась, больше ставить условий не будет. Но и ему нельзя перегибать палку, иначе он потеряет ее. – Нормальный человек. Вполне нормальный. Мой товарищ. Вместе учились в институте. – Только ему в жизни повезло меньше, чем тебе. – В некотором роде да. – Как хоть его зовут, моего счастливого избранника? – Игорем. Игорь Борисович, если полностью. Она усмехнулась, неверяще покачала головой. – Небось этакий дудак, дудачок, не самый высокий – скорее низкий, но не совсем низкий, с пухлыми розовыми щечками, обезоруживающей старческой улыбкой и светлыми бараньими кудряшками на голове. Белозерцев изумленно покосился на Вику: – Ну и ну… Ты что, с ним знакома? – Нет, я просто знаю, как выглядят твои друзья, сам тип их, внешние данные и так далее. – Ох, и язык у тебя! – еще раз нехорошо изумился Белозерцев – слишком уж однозначно и очень недобро отзывалась Вика о его товарищах. – И глаз – ватерпас! – Белозерцев решил, что знакомство не надо будет откладывать, сегодня же вечером он и познакомит Вику с Игорем Борисовичем Ланиным, приятелем давним и верным, ныне – сотоварищем по бизнесу, хотя в бизнесе они выступают в разных весовых категориях, – Ланин ест из рук Белозерцева, – человеком еще не изношенным, способным на любовь и заботу о близкой женщине, готовым закрывать глаза на проделки своих друзей, верным и, если честно, недалеким мужиком. Должность его, в общем-то, была не очень нужна в конторе, но Белозерцев держал Ланина при себе и исправно платил зарплату. В конце концов, когда будут подбивать итоги, занесут его зарплату в графу непредвиденных расходов, как, собственно, и расходы на саму Вику. Все это – «издержки производства», штука вполне естественная. – Давай сегодня мы и повидаемся с Игорем Борисовичем, – предложил Белозерцев. Вика вздохнула. – Он хоть русский? – Какое это имеет значение? Русский, армянин, грузин, нигериец или хохол? Мы же друзей себе не по паспорту и не по пятому пункту выбираем – по тому, что они для нас значат. Хороший какой-нибудь Вася Тютькин человек или так себе, редиска… Наплевать нам на национальность Васи Тютькина! – Главный критерий в оценке другой, – усмехнулась Вика, перебив Белозерцева, – можно идти с этим человеком в разведку или нельзя? – Если хочешь – да! Это тоже имеет место. – Странная у тебя логика. Потными портянками попахивает… – Ну, знаешь, милая, – Белозерцев вспыхнул, но быстро взял себя в руки. – Представь себе, что есть люди, для которых запах потных портянок – самый желанный на свете… Ну что, встречаемся сегодня с Игорем? Фамилия у него звучная, дворянская, пушкинской поры – Ланин. – Пушкинская фамилия – не Ланин, а Ларин. Белозерцев никак не среагировал на эту фразу – слишком мелкий укол. – Ужинать будем в «Манхэттен-клабе» с голыми девочками и холодным французским шампанским. Как тебе такая программа, Вика? Можем выбрать что-нибудь проще – «Пекин», например… Белозерцев загадал: если Вика согласится на сегодняшнюю встречу с Ланиным – значит, все будет в порядке, если откажется – дело осложняется и надо будет отрабатывать задний ход. Выжидающе глянул на Вику. – Я бы предпочла «Пекин». – Правильно, – поддержал Вику Белозерцев, – «Пекин» – ресторан проверенный, с опробированной кухней. Ку-ухня там ныне – я тебе скажу-у… Поедим копченых червей, супа из медуз, салата из паучьих ножек, холодца из акульих губ… – Только без этого… – она покрутила в воздухе рукой, подняла пальцы в брезгливом жесте, – без всякой папуасятины, без островного азарта… Что такое «островной азарт», Белозерцев не знал, но догадывался – в лексиконе утонченной Вики это было что-то новое, – сделал рукой успокаивающее движение и неожиданно задохнулся от наката острого, сиротски слезного чувства; он словно бы очутился сейчас в некой пустоте, изолированный от всего, что составляло его жизнь, – от работы, от дома, от друзей, от Вики – и разговаривал из этой пустоты, и действовал из нее… Он покрутил головой и резко, как-то судрожно прижался в Вике.
20 сентября, среда, 9 час.25 мин. Звонок в дверь прозвучал на пять минут раньше назначенного срока, Ирина Белозерцева взглянула на часы и посветлела лицом: ей была приятна нетерпеливость Олега – на крыльях поклонник принесся! Как влюбленный сокол… Тут же остановила себя: «Какая, к шутам, у соколов может быть любовь? Сокол – жестокая птица, хищник, давит всех кругом». По дороге к двери глянула в зеркало, задержалась на секунду, привычно помяла кожу под глазами, подмигнула сама себе: «А ты молодец, старуха, хорошо выглядишь! Так держать!» Хотела было спросить из-за двери, кто пришел, либо глянуть в узенькую подслеповатую пупочку глазка – сейчас по Москве бродит полно разбойных азербайджанцев, цыган, чеченцев, прочего люда, все глядят, на кого бы напасть, кого обглодать до костей, обчистить до нитки, где урвать пачку «зеленых» – жизнь пошла, как на фронте, но спрашивать, кто пришел, и тем более заглядывать в глазок Ирина не стала – не хотелось выглядеть перед Олежкой смешной. Олежка – человек тонкий, наблюдательный, с острым языком, он не преминет сделать в памяти засечку, а потом, в нужный момент, воспользоваться ею. Подначки Олега, хотя и мягкие, задевали ее. Она решительно открыла одну дверь – старую, которая когда-то в пятидесятых годах была поставлена в квартире, потом открыла вторую – тяжелую, сваренную из стали, с сейфовым замком. За дверями стоял Олег с большой темной розой на длинной-предлинной ножке. – Стук-стук-стук, это пришли свои, – сказал он, протягивая розу Ирине, – а если не свои? Ты даже не спрашиваешь, кто звонит в дверь? – «Я милого узнаю по походке…» Так, кажется, пел один знаменитый бард в Париже? – Не совсем бард… Это Алеша Дмитриевич, цыган с еврейским паспортом. А если бы вместо меня пришел рэкет? – Среди белого дня? Рэкет обычно заявляется ночью, – она приняла розу и, как примерная девочка из интеллигентной семьи, сделала книксен. Покраснела – Олежка ей нравился. Впрочем, «нравиться» – состояние недолговечное, скоропортящееся, Ирина это проверила на себе. Олег все умел делать по-своему, был оригинален – вместо модного двубортного костюма мог надеть художническую парусиновую блузу конца девятнадцатого века, скопированную со знаменитых блуз Константина Коровина и Валентина Серова, а если точнее, то с блузы Эдуарда Мане, подвязаться синим либо ярким клетчатым платком – вылитый гений! Вполне возможно, что от природы он и был гением – Олежка превосходно рисовал, пытался даже нарисовать обнаженную Ирину, долго уговаривал, но она, дуреха, застеснялась, отбилась от Олега – а могла войти в историю изобразительного искусства. Еще Олег писал стихи и сочинял пьесы, стихи его однажды были опубликованы в журнале «Юность», мог взять гитару и недурно спеть, сочинял серьезную музыку и исполнял ее на фортепиано – в общем, Олежка был творческой личностью. Ирина потянулась к нему для поцелуя: – Ну, здравствуй! Как живешь? – По-разному, – бодро ответил Олежка. – Хотя в основном двояко: либо всенародно, либо вопреки. Либо – либо… – То есть? – не поняла Ирина. – В большинстве своем – всенародно, но иногда – вопреки. Выпадают такие счастливые моменты… Как сегодня, например. – Остро! И ко времени, – произнесла Ирина помягчевшим голосом, взяла Олежку за руку, повела за собой в комнату. – Что будешь пить? Коньяк, смирновскую водку, мартини? Есть лимонный «Абсолют», есть «Абсолют-кюрант» и «абсолют» перечный, есть итальянская дынная водка… Ну и естественно – обещанное «Мозельское» и французское бордовое вино. И мясо, которое надо пожарить. – В результате – маленький праздник. Люблю праздники! – Праздник – это истина жизни. А истины, увы, – всегда вечны. – Ах, какие праздники бывали в нашем прошлом, в нашей молодости, а! – азартно, почти по-детски весело воскликнул Олежка, лицо его расплылось в широкой улыбке. – Какая все-таки шальная, какая беззаботная была пора, а! Умирать стану, при седине, при инфаркте и орденах, при персональной сиделке буду, окруженный многочисленными чадами, поклонницами, поклонниками… кем там еще? – а все молодым, все студентом буду себя чувствовать. Это ведь самая золотая пора жизни – студенческие годы! – А тебе не хотелось бы быть вечным студентом? – Да я об этом только и мечтаю! – искренне произнес Олежка. – Хоть сегодня готов снова сесть за парту, стать студентом первого курса, – Олежка споткнулся, помолчал немного и восхищенно произнес: – Какая ты краси-ивая! – он обхватил ее сзади за плечи, остановил на полушаге. – Просто невероятно, какая красивая! Можно я твоего мужа вызову на дуэль? – Зачем? – Он не должен, он не имеет права в одиночку обладать такой женщиной, как ты! – А он и не обладает в одиночку. – Все равно хочу вызвать его на дуэль. Ирина недоумевающе передернула плечами, рассмеялась было, но быстро оборвала смех. – Он тебя убьет, Олежка. Тон у нее был серьезным – она представила, как будет вести себя Белозерцев, если узнает, что у нее есть Олежка. Бедный Олежка… – Я пуль не боюсь, – сказал Олежка, – я увертливый, пули меня обходят. Все мимо, мимо да мимо. – Плюнь три раза через плечо! Тьфу, тьфу, тьфу! – Я не суеверный! Ну почему ты все время укользаешь от меня, Ир? А? – Олежка снова мягко, но настойчиво притянул ее к себе. Всякая иная настойчивость подобного рода была бы оскорбительна для Ирины, эта же нет, – и вообще Олежка не умел делать грубых движений, Ирина поддалась нажиму, ощутила едва уловимый запах, идущий от Олежки. От него потрясающе тонко, почти неприметно и вместе с тем сильно пахло мужиком. Этот запах вообще любую женщину может свести с ума. Ирина вполне справедливо полагала, что восемьдесят процентов женщин ценят в мужчине не то, как он одет, моден он или не моден, красив или нет, говорлив либо молчалив, умен, насмешлив или же, напротив, недалек и угрюм – все это не имеет никакого значения, а вот дух, что идет от него, волны, токи – значение имеют большое. Впрочем, у женщин все распределено так же, как и у мужчин. Если одним мужчинам нравится попадья, другим поп, а третьим – поповская дочка, то у прекрасных мира сего происходит то же самое: одним нравится дьячок, другим – дьякон, третьим – младший поповский отпрыск, а четвертым – вообще петух с поповского двора. Ей захотелось повернуться к Олежке, обнять его, но она сдержала себя – всему свое время. – Ир, скажи, ты хоть по земле когда-нибудь ходишь? – неожиданно спросил Олежка. Получилось несколько грубовато, но это было в стиле Олежки. – Естественно, – ответила она. – Нет, ты не ходишь по земле, ты летаешь по воздуху, словно ангел. Опустись на землю, прошу тебя. – А я – летчица! И вообще, первой в мире в воздух поднялась женщина, а не мужчина. – Знаю! Первой в мире летчицей была Баба-Яга. – Все-то ты знаешь… А моего мужа вызывать на дуэль вовсе не обязательно. Ни к чему хорошему это не приведет, – она подумала о том, что, несмотря на всю свою привлекательность, Олежка никогда не сумеет подняться до уровня Белозерцева и она ни за что не променяет мужа на Олежку. Так что не дано Олежке быть хозяином в этом уголке жизни, на этой кухне, в этой спальне, не дано ходить в шелковом спортивном костюме «Адидас», в звонко щелкающих кожаными подметками тапочках по квартире – не дано Олежке быть Вячеславом Юрьевичем Белозерцевым, каким бы милым, привлекательным и желанным Олежка ни был бы. Кесарю – кесарево, а слесарю – слесарево: каждому – свое. При всем своем уме, при чутье, при проницательности, которую Олежка, хвастаясь, иногда сравнивал с проницательностью разведчика, при обаянии и умении создавать у окружающих хорошее настроение Олежка оставался Олежкой – обычным милым кареглазым мальчиком, который никогда не заменит Ирине Белозерцевева. Маленькая собачка до самой смерти останется щенком. А Олежка – щенок. Иногда он, сам не желая того, портит свидание – то одним суждением, то другим. Ну зачем он говорил о дуэли – готов вызвать, дескать, Белозерцева… Ирина неожиданно почувствовала жалость и нежность к этому человеку. – Ты – большой мальчишка, – сказала она ему, попыталась посмотреть на себя и на Олежку со стороны – что же они представляют собой как пара, как выглядят? Как Шерочка с Машерочкой или как-то иначе? Она подумала: то, что увидит, заставит ее улыбнуться, жалость сменится теплом, каким-то добрым чувством, но нет, жалость осталась – как, впрочем, и нежность – и он и она были крохотными, уязвимыми, сиротски одинокими человечками, а не людьми. Таких человечков, перевернутых вверх ногами, жалких, маленьких, ныне часто можно увидеть во всяком высокомерном взоре – в том числе и себя самого, – и от увиденного делается еще более печально, более горько – хоть и обитаем мы в обществе, среди людей, а живем сами по себе, в одиночку. Ирина вяло помахала перед собой рукой, улыбнулась: – Не пойму, погода на меня, что ли, действует? – Погода у нас – виновница всех несчастий, – глубокомысленно изрек Олежка. – Мы всегда все валим на нее. Таков народный обычай! – Олежка снова притянул Ирину к себе. Минут через двадцать Олежка произнес то, что мигом свело на нет сегодняшнее утро. Он произнес просто и обыденно: – Ир, у меня нет денег! – Даже на хлеб? – На хлеб есть, но на масло нет. – Это что же, выходит, я должна содержать тебя? Олежка неопределенно мотнул головой, засмеялся, пробормотал под нос что-то нечленораздельное. – Я же тебе давала в прошлый раз деньги! – То, что давала – уже кончилось. Деньги обладают неприятной способностью таять. – Я давала тебе и в позапрошлый раз. Доллары. – А доллары что – не деньги? Доллары тоже обладают способностью таять. – Двести долларов тебе хватит? – Мало, Ир. – Ну и запросы! А тысячу двести! – насмешливым тоном спросила Ирина! Олежка все понял. – Это очень много, – сказал он. – Дай хотя бы пятьсот. Или четыреста. В это время раздался телефонный звонок. Ирина испуганно вскинулась: показалось, что это был звонок в дверь…
20 сентября, среда, 9 час. 45 мин. Белозерцев уезжал от Вики с тяжелым сердцем: все-таки она допекла его сегодня. В машине Боря косил на шефа глазами, молча вздыхал и пытался делать вид, что ничего не замечает, ничего не знает: его дело – крутить баранку, общаться с гаишниками и не допускать ДТП – дорожно-транспортных присшествий, хотя, конечно же, Боря видел и знал все. В том числе и про Виолетту, с которой когда-то был знаком – его с ней познакомил сосед по даче Леня Ростовский – старый журналист, выпивоха, охальник, любитель поволочиться за всякой нарядкой юбкой. Леня иногда за стаканом водки в тени смородиновых кустов, которых у Бори на даче было более сотни, рассказывал о Виолетте такое, что, услышь это Белозерцев, у него бы зашевелились волосы не только на голове – встали бы дыбом на всем теле, даже там, где их нет. Волосы у Белозерцева еще оставались: на десяток кухонных драк и один семейный скандал, как шутил сам Белозерцев, точно было, хотя со временем должна быть и лысина, этакий пустырчик среди жухнущего леса, который в конце концов обязательно обратится в обширную, лишенную признаков растительности пустыню… Но о том, что рассказывал Леня Ростовский, Боря предпочитал молчать. В офисе Белозерцева встретила встревоженная секретарша – молодая, полностью лишенная косметики Зоя Космодемьянская в мужском пиджаке с прямыми плечами. По имени Оля. – Что, Олечка? – увидев ее лицо, Белозерцев невольно остановился. – Звонки какие-то странные были, Вячеслав Юрьевич! Мне кажется, что-то случилось. – Тьфу-тьфу-тьфу! – пробормотал Белозерцев. – Свят-свят-свят! Почему ты считаешь звонки странными? Нас что, собираются заминировать? В пакете от этого старого одесского пройдохи Мони, именующего себя «Ле Монти», принесут бомбу? Потребуют от нас мильен, а когда мы его не отдадим, обрызгают офис спреем от тараканов? Подошлют наемников, проживающих в Череповце? Выше нос, Олечка! Эти комары нас не закусают! – Да не-ет, не то, – терпеливо выслушав Белозерцева, проговорила секретарша – она поняла, осознала нечто такое, чего никак не хотел понять Белозерцев, – это серьезно, Вячеслав Юрьевич! Там даже достаточно услышать один только голос, чтобы понять: это серьезно! – Они что, угрожали по телефону? – Нет, – секретарша отрицательно качнула головой, – когда вы их услышите, то сами все поймете! Белозерцев не стал больше расспрашивать Олечку – эта похожая на Зою Космодемьянскую, стриженая под беспризорника девочка говорила сегодня не то, путалась не только в словах – путалась в запятых, в конце концов Белозерцев скоро сам все узнает, – если, конечно, человек, напугавший Олечку, позвонит еще, – он прошел к себе в кабинет и молча опустился на стул. Услышал, как в горле у него – сам по себе – раздался какой-то странный скрипучий звук. Он с ненавистью посмотрел на телефон, придвинул аппарат поближе к себе. Телефон молчал.
20 сентября, среда, 9 час. 47 мин. Ирине Белозерцевой даже радостно сделалось, а онемевшее от испуга сердце забилось снова, когда она поняла, что назойливый электрический звонок раздается не в дверь – это надрывается телефон. Телефон – это не страшно, было бы куда страшнее, если бы в дом неожиданно вернулся Белозерцев. Хотя сто из ста – муж не должен вернуться, в его плотном расписании на сегодня нет ни одной щелки, не говоря уже о свободной минуте, и тем не менее береженого Бог бережет: у нее уже мелькнула мысль – а не выдать ли Олежку за сантехника либо дежурного электрика из жилконторы, или же за зубного протезиста, пришедшего предложить новые импортные материалы для богатой семьи Белозерцевых, не отличающейся хорошими зубами. При дурной московской воде мало кто из жителей столицы нашей Родины может похвастаться крепкими зубами… А вдруг это все-таки звонок в дверь – уж больно он необычный? Сердце у Ирины снова стремительно сорвалось с места, прыгнуло вверх и, застряв в горле, опять остановилось. Ирина Белозерцева побледнела, обреченным жестом прижала пальцы к вискам. – Ой! Она думала, что Олежка сохранит в этой ситуации самообладание, но Олежка повел себя совсем не так, как она ожидала – он испугался больше Ирины, у него обиженно затрясся рот, глаза поблекли, из бутылочно-темных сделались выгоревшими, мелкими, на лбу проступил пот. – Это что, твой муж пришел? – Олежка от внезапной догадки чуть не задохнулся. – Этого еще не хватало! – скуксился плаксиво, болезненно, словно бы получил пощечину. Звонок раздался снова – в пятый или шестой раз. На лбу у Олежки проявился пот, щеки сделались серыми. – Ой! – Ирина Константиновна ойкнула вторично, ожесточенно потерла пальцами виски и в следующий миг хрипло расхохоталась. – И все-таки это телефон! Ты понимаешь, Олежка, телефон! – Она потыкала в Олежку рукой. – Посмотрел бы ты на себя сейчас! Словно из кагэбэшного подвала вышел! Ирина Белозерцева знала о том, что муж ей изменяет – и ладно бы где-нибудь в командировке, когда мужику коротать время в одиночку бывает невмоготу, гулкая пустынность гостиничного номера рождает могильные мысли, а тоска вышибает на коже сыпь. Простительно, если человек в такой ситуации потянется к дежурной по этажу или переспит с буфетчицей, пахнущей пивом и дешевыми соевыми конфетами – все командировочные мужики грешили и грешат этим – увы! Это понятно и простительно… Во всяком случае, Ирина Белозерцева никогда не обращала внимания на рубашки, привезенные из командировки в стирку, со следами помады, закрывала глаза на мелкие скоротечные романы, случавшиеся у Белозерцева в основном по праздникам, когда приходится много пить, – с секретаршами, заезжими певичками – специалистками по разовым выступлениям, со случайными девочками-студентками – это тоже было простительно, это не считается изменой… Но однажды она почувствовала опасность – буквально нюхом определила, что у Белозерцева появилась «зазноба», или, как было принято говорить когда-то, пассия, и увлечение это было серьезным, большим – не мелкая интрижка или случайный «пересып» под шампанское с гостиничной бандершей – и хотя Белозерцев пробовал скрыть свое увлечение от проницательного взора жены, скрыть это не удалось. Несмотря на то, что муж был стреляным воробьем… Есть вещи, в которых женщины дают сто очков вперед мужчинам, соперниц они чувствуют, как кошки, на огромном расстоянии. Мужчина еще не успел познакомиться с разлучницей, он еще даже не знает о ней ничего, а женщина уже занимает охотничью стойку – в любую секунду готова бывает броситься на соперницу, разорвать на ней одежду, добраться до плоти, искусать, исцарапать, прокусить горло, вытащить из груди сердце. Так и Ирина. Она почувствовала Виолетту, вычислила ее, потом проверила свои догадки – все, к сожалению, подтвердилось. Несколько часов тогда Ирина Белозерцева просидела в мучительных немых раздумьях, она не знала что делать, потом все же решила нанять частного детектива, благо сыскных агентств с бывшими милицейскими топтунами и комитетскими работниками, ставшими крупными специалистами по подглядыванию в замочные скважины, развелось больше, чем достаточно – больше, чем банков и совместных предприятий – куда ни глянь, всюду частный сыск, конторы, конторки, АО, ТОО, АОЗТ и так далее – сплошные нечленораздельные звуки; так же нечленораздельно, по-папуасски звучат и названия этих контор: «Аид», «Вико», «Евро», АСПИНА, «Соло-Ф», «Аз» и так далее. Ирина наняла невзрачного толстого человека в шляпе, налезающей на уши, в старом пиджаке, густо обсыпанном перхотью, тот довольно долго гонялся за Белозерцевым и в конце концов догнал его – засек вместе с Виолеттой и сфотографировал. За работу свою взял четыре тысячи долларов. Ирина Константиновна долго рассматривала изображение Вики, не понимала, чем же та лучше нее, всплакнула с горя, потом, выпив стопок шесть ликера «Киви», поразмышляла немного и, совершенно трезвая – ликер не брал ее, – решила ответить мужу тем же… Так в ее жизни появился Олежка – веселый, ласковый, словно теленок, по-своему несчастный, требующий помощи и защиты. А какая женщина не захочет защитить своего возлюбленного? Олежке при Ирине Константиновне Белозерцевой жилось хорошо. – Слава богу, все-таки это телефон, – произнесла Ирина громко, уверившись окончательно, что звонит телефонный аппарат, а не дурацкий дверной звонок, с облегчением улыбнулась Олежке, поправила волосы на голове. – Сколько раз просила Белозерцева сменить звонок на двери – очень уж он похож на телефонный, сколько раз, ан нет! Видать, придется самой взяться за это дело и поменять… Коли настоящего мужика нет в доме, – она подняла телефонную трубку: – Да! В ответ услышала резкое, матерное, рифмующееся с произнесенным ею «Да», вобрала голову в плечи, враз делаясь некрасивой, маленькой, от неожиданности до крови закусила губу. – Кто это? – Не задавай смешных вопросов, курва! – проревел незнакомый сильный голос на том конце провода. – Где папахен… мужик твой, то есть? – На работе, – задрожавшим тоненьким голосом проговорила. Ирина Константиновна. – На работе его нет, не на работе твой папахен сейчас находится, а у… у этой самой, – незнакомец довольно рассмеялся, – у твоей заместительцы по части передка… и задка тоже. Мои ребята, к сожалению, его упустили. – У Виолетты? – не выдержав, спросила Ирина Белозерцева. – Молодец, раз знаешь, где искать свой ходячий кошелек, – незнакомец одобрительно хмыкнул. – Предупреди мужа, когда он приедет от своей бэ, – человек, находящийся на той стороне провода, на этот раз не стал ругаться матом, что-то сдержало его, – чтобы не занимал телефон. Мы будем ему звонить. И последнее – ваш сын находится у нас. – Как «у вас»? – слабо охнув, вскинулась Ирина Белозерцева. – Он же в детском садике! Он… – Ирина Константиновна пыталась говорить что-то еще, полубессвязное, скомканное, сжимала трубку посеревшими пальцами, но ее уже никто не слушал – из трубки доносились гудки отбоя. Она повесила трубку на рычаг и заплакала. Безудержно, сильно, давясь слезами, болью, подмятая страшной догадкой – хоть ей и не сказали почти ничего, не сообщили деталей, а она их уже знала: Ирина Белозерцева обладала очень хорошим, почти животным чутьем. – Что случилось, Ириш… что случилось? – Олежка крутился около нее напуганный, вспотевший от ощущения какой-то странной, очень ясной опасности, словно бы его в подъезде должен был встретить киллер с пистолетом в руке. – А, Ир? – Костик… Костика… – Ирина Белозерцева захлебывалась слезами, ей не хватало воздуха, у нее осекалось дыхание, она никак не могла выговорить страшное слово, потом наконец справилась с собой и выдохнула вместе со слезами: – Увезли. Его похитили… – Как «похитили»? – У Олежки к лицу прихлынула краска – ощущение опасности отступило, и он быстро пришел в себя: – К-как? Ириш, может, тебе валерьянки накапать? – Не надо… Не надо валерьянки, – Ирина Константиновна прижала к глазам надушенный шелковый платок. Ее трясло. – А теперь уходи! Уходи, Олежка, я должна остаться одна… Покинь эту квартиру! – добавила она между двумя вывернувшими ее наизнанку всхлипами. – Так надо! – А деньги? Ты обещала мне деньги… Плача, она сунула ему четыреста долларов в руку. Олежка на цыпочках вышел из белозерцевской квартиры и бесшумно закрыл за собой дверь.
20 сентября, среда, 9 час. 50 мин. Минут пять Белозерцев сидел неподвижно в кресле. Тупо уставясь в дорогой серый «панасоник» – телефон с хорошим запасом памяти, регистрирующий разговоры. В кабинет заглянула Оля, посмотрела вопросительно на Белозерцева, он сделал усталый жест рукой – уйди, мол, не до тебя сейчас. Оля исчезла, как бесшумное привидение – эта комсомолка умела быть колдуньей, и вообще умела делать многие вещи, – за это Белозерцев ее и держал в офисе. Хотя иногда, как все секретарши, действовала невпопад. Перед глазами у него задергалась вертикальная черная строчка, будто с неба Белозерцеву что-то передавали, какой-то текст – это было нервное, – следом за строчкой у него задергалось веко, правое. Белозерцев прижал веко пальцем, надавил на глазное яблоко, но веко от этого не перестало дергаться и строчка не исчезла. Так продолжалось до тех пор, пока не зазвонил «панасоник». Белозерцев втянул в себя воздух, задержал во рту ему надо было изгнать из головы звон, мешающий слушать пространство, освободиться от некой непроходящей оторопи и черной дергающейся вертикали. Строчка подчинилась ему: стекла вниз тоненькой живой струйкой, и взгляд у него очистился. Белозерцев вздохнул, протянул к телефону руку. Словно бы со стороны увидел, что рука у него большая, с конопушинами, на которые раньше он не обращал внимания, потная, пальцы дрожат. Он подтянул трубку и произнес спокойно и по-армейски четко: – Белозерцев! – Ясно, что не Мао Цзедун! – услышал он насмешливый голос. – А это Климент Ефремович Ворошилов… Ворошилов говорит! – Неостроумно! Люди с того света не возвращаются. – Ладно! Зато ты остроумный! – прервал Белозерцева телефонный голос, мигом сделавшийся жестким, резким, низким – Белозерцев невольно подумал, что говоривший наверняка пользуется каким-нибудь усилителем либо аппаратом, искажающим окраску, тембр голоса. Предупредил: – Я сейчас брошу трубку! – На что я среагирую немедленно и твоему любимому Костику отрежу одно… нет, сразу два уха. Чтоб любимый папашка не хамил. Уши пришлю по почте, в пакете. А хочешь – с курьером? На блюдечке с орнаментом. – Кто это «я»? – Я – это мы, арбуз! – Костик… К-костик.. – Белозерцев услышал себя, будто со стороны. Голос его надсекся. С большим трудом он откашлялся – горло словно бы сдавили чьи-то цепкие пальцы. – Он… у вас? – У нас, у кого же еще! Так что соображай, арбуз! Белозерцев посмотрел на продолговатый экранчик определителя номера – что там высветилось, какие цифры? – экран определителя был пуст: звонили из автомата. Протиснув палец под воротник рубашки, Белозерцев расстегнул пуговицу – было душно. Он все понял. Спросил сдавленным голосом: – Сколько? – Чего «сколько»? – Сколько я должен отдать за Костика? Выкуп какой? – Молодец, Марчелло Мастроянни! – похвалил Белозерцева телефонный голос, растекся в трубке, растворился в неприятном железном дребезжании. – Котелок у тебя кумекает. Только учти, «деревянными» мы не берем, берем баксами. – Но «деревянные» несложно превратить в доллары. – А зачем нам суетиться, заниматься обменом? И вообще зачем светиться? – Тоже резонно, – согласился с невидимым собеседником Белозерцев, ощутил под левой лопаткой стальной морозец – будто бы его кто-то покалывал кончиком ножа. В голове, словно тень, промелькнула тусклая, совершенно не соответствующая его состоянию мысль о том, что все происходящее смахивает на плохой спектакль, на дурно отрежиссированные и бездарно снятые кадры какого-то ужасного фильма, в котором он играет главную роль и одновременно является зрителем, находится в зале, где почти нет зрителей, и это рождает ощущение вселенского одиночества, сидит в кресле, стиснутый подлокотниками и сочувственно наблюдает за перипетиями, происходящими с главным героем, переживает за него… Это неопасно – наблюдать за чьими-то приключениями со стороны, сопереживать герою. И так холодно, плохо, тоскливо бывает, если все это происходит с тобой. Белозерцев поежился, стараясь освободиться от острия, воткнувшегося ему под лопатку, – мороз не проходил. – Ладно, – сказал он, – буду доставать доллары. Называйте сумму. – «Пол-лимона», – человек, разговаривающий с Белозерцевым, довольно хмыкнул. – В валюте цвета кислых щей, – добавил он. – Знаешь такой цвет? – Сколько? – переспросил Белозерцев. Он не должен был задавать этого вопроса. Говоривший оборвал хмыканье, произнес жестко, отливая каждую букву в свинец: – Я же сказал, арбуз, – пятьсот тысяч долларов. Разве я говорю нерусским языком? – Русским, русским, – поспешил успокоить его Белозерцев. – Я все понял. – Все? Да. Буду искать полмиллиона американскими… цвета кислых щей. Какой срок даете? – Есть несколько условий. – Да, пожалуйста, – так же поспешно, не меняя тона, проговорил Белозерцев. Ему не хватало дыхания – было такое ощущение, что он находится на беговой дорожке, одолевает большую, километра в три, дистанцию и тянет, тянет, тянет к финишу, пластается по земле, но никак не может дотянуться до ленточки, которую надлежит оборвать грудью, и не дотянется никогда… Он несколько раз судорожно вздохнул. Дыхание не выровнялось. – Какие условия? – Первое. Не вздумай давить пальцем на кнопку и сообщать об этим разговоре милиции. Вскоре она и без того к тебе заявится. Сама. Твой охранник, что ездил в детский сад, убит. – Как? – А так. Он очень неосторожно оказал сопротивление, пришлось его усмирить. – Он же афганец, – кривясь лицом и на что-то еще надеясь, пробормотал Белозерцев. – А афганцы что – бессмертны? Такие же люди, из такого же мяса – ничего сверхпрочного. Даже кости костяные, а не платиновые, не пластмассовые… Мир праху его! Белозерцев поморщился: воздуха стало еще меньше. – Чего молчишь, арбуз? – от резкого вскрика у Белозерцева чуть не лопнула перепонка. – Я не молчу. – Повторяю, арбуз: не вздумай сообщать ментам о нашем разговоре. Костику своему сразу подпишешь приговор. А потом себе. Понял? – Понял. – Что же касается твоего сынка, то убивать в таком разе мы будем его медленно, мучительно, долго. Отвратительное это дело – убивать медленно, наизнанку кого угодно может вывернуть. Людей рвет до крови, кишки кусками наружу выскакивают, когда они это видят. Буквально рядом с собой Белозерцев услышал тяжелое, стиснутое лишним весом дыхание этого страшного человека, оно словно бы придавило его – не слова, такие жесткие, отвратительные, вышибающие на коже мороз, придавили, а именно дыхание. Он понял, это не сон, это – явь. Пробормотал, задыхаясь: – Может, вы отпустите Костика? Может, я вместо него останусь у вас… А? – Ты чего, арбуз? Да ты никак дурак? – грубо спросил человек С тяжелым дыханием, и перед глазами Белозерцева снова побежала вертикальная строчка, прозрачно-черная, верткая, бездушная, с вызывающими резь промельками-паузами. В висках запульсировала боль. – Ты нам на воле нужен, а не в темнице. Иначе кто вместо тебя соберет деньги? – У меня есть три зама, есть главбух… – Я же сказал – этим будешь заниматься ты и только ты. Лично! Если поручишь замам или главбуху – в таком разе Костику также оттяпаем уши. Вначале одно отрежем, потом другое. Чтобы папашка не мудрил. – Все понял, – задыхаясь, проговорил Белозерцев, – я все понял…. – У-умный, – насмешливо протянул человек с тяжелым дыханием. – Это второе условие – молчание среди своих. Никому из своих, арбуз, ни слова. Третье условие: завтра в десять часов утра ты должен будешь передать нам сто пятьдесят тысяч «зеленых». В фирменной сумке. С надписью «Белфаст». У тебя ведь полно сумок с такой надписью? Белозерцев покивал головой, потом, сообразив, что собеседник не видит его кивков, пробормотал сдавленным голосом: – Да… да-да! Есть сумки! – Вот и хорошо. Запасливый ты человек, арбуз! – похвалил Белозерцева телефонный собеседник. Фирма, где Белозерцев был президентом, являлась совместным с ирландцами предприятием, занималась куплей, продажей, обменом и прочими операциями, напарником Белозерцева с ирландской стороны был Джон Фастрейн, в название фирмы «Белфаст» вошло начало фамилии Белозерцева и начало фамилии Фастрейна. Фастрейн заказал у себя симпатичные синие сумки с черной неброской надписью «Белфаст» – их вручали гостям фирмы и особенно охотно тем, кто проводил с «Белфастом» успешные переговоры, когда «Белфаст» оказывался с выгодой. В таких случаях в сумки вкладывались дорогие коньячные наборы и коробочки с ювелирными изделиями. – Вот в фирменной своей сумке и приготовишь передачку. Взамен получишь кассету с изображением своего дорогого Костика. Чтобы был спокойным и готовил очередные сто пятьдесят тысяч. – Где… где состоится передача? – Не гони лошадей, арбуз! – загромыхал голосом телефонный собеседник. – Это мы тебе сообщим… По спутниковой связи, через центральную аппаратную! – было слышно, как он усмехнулся, сплюнул в сторону от трубки. – Убедимся, что все в порядке, никто не засек наши дипломатические переговоры и сообщим. Понял? – Да. – Конец связи! Собирай деньги, арбуз, и жди вестей! Аривидерчи, Марчелло!
20 сентября, среда, 10 час. 00 мин. Минут пять Белозерцев сидел неподвижно, с шумом втягивая в себя воздух, лицо его пошло нездоровыми пятнами, в височных выемках скопился пот, глаза ввалились. Белозерцев в считанные миги постарел, сгорбился. В кабинет кто-то вошел, Белозерцев, не поднимая головы, вяло махнул рукой, отправляя вошедшего назад. Дверь едва слышно закрылась. Белозерцев невольно застонал, сдавил пальцами виски, стараясь избавиться от обиды, боли, немощи – ну почему именно Костик, а? Почему украли именно его? Что, в Москве больше нет богатых людей, у которых имеются дети? Белозерцев удрученно покрутил головой… Что делать, что делать, что делать? Для начала надо было немедленно брать себя в руки – нужно, чтобы и голова была холодной, и сердце, и мозги хорошо работали, ему надо было принять правильное решение, не ошибиться, но взять себя в руки он пока не мог – не получалось. Да и любой другой человек на его месте тоже не сумел бы быстро взять себя в руки… Ведь все-таки украли сына, родную кровь… Что делать, что делать? Задавив в себе взрыд, Белозерцев, часто дыша, потянулся к листу бумаги, слепо ткнул в него ручкой, снова застонал, сквозь зубы втянул в себя воздух, собираясь с силами. Поставил на бумаге цифру «1». Подумав немного, написал против цифры фамилию: «Зверев». Это был генерал из городского управления милиции, давний, еще с институтской поры, а позже – по походам в баню и пивные ларьки, приятель – постаревший, погрузневший и полысевший, Геннадий Зверев занимался новомодным милицейским делом, которым вчера в нашей жизни еще и не пахло – борьбой с организованной преступностью. Начертив цифру «2», Белозерцев против нее поставил вторую фамилию. «Высторобец». Высторобец возглавлял службу безопасности «Белфаста», Сережа Агафонов был его подчиненным. Вполне возможно, это он сейчас и заходил в кабинет, но Белозерцев, не глядя, одним движением руки выпроводил его. Был Высторобец когда-то лихим «погранцом», гонялся за китайскими контрабандистами на Памире, с банкой тушенки, удивляя альпинистов своей ловкостью и прытью, забирался на пик Ленина, воевал в Афганистане, умел складно сочинять песни и бренчать на гитаре, на спор попадал из пистолета в пуговицу – многое чего умел раньше Высторобец, но сейчас он растерял свой прошлый багаж, погрузнел… Но гнать Высторобца из «Белфаста» было еще рано. Против цифры «3» Белозерцев написал фамилию «Флегонтов». Флегонтов был военным, Героем Советского Союза, командиром десантной бригады. Героя он получил в Афганистане – за освобождение группы наших геологов, угодивших в плен к душманам. Флегонтов – боевой полковник, с реальной силой под рукой – у него в бригаде есть и вертолеты, и танки, и бронетранспортеры, он может взять Белый дом, протаранить своими танками Кремль, да и не только Кремль, а и весь город, но вот сможет ли он освободить одного реального человека, ребенка, Белозерцев не знал. Тяжело вздохнув, Белозерцев помял пальцами виски, помассировал грудь – воздуха по-прежнему не хватало, яркий солнечный день, светящийся, звонкий, как пионерская песня, посерел, набух нездоровой чугунной тяжестью, мраком и тоской, – такой тоской, что от нее хоть криком кричи. Под номером «4» Белозерцев поставил фамилию «Иванов». Генерал-майор Иванов работал на Лубянке, в бывшем, разваленном, доведенном до уровня обычного жэка КГБ. Многие сослуживцы Иванова давно расстались со своими портфелями, как расстались и с надеждой, что их ведомство, некогда уважительно именовавшееся «конторой глубокого бурения», вообще поднимется на ноги, рассосались по разным коммерческим и прочим структурам, пристроились кто где – причем, все как один, на зарплату, что никогда не снилась даже маршалам, – остался в конторе из знакомых Белозерцеву стариков лишь Иванов, неистребимый романтик с лучистой улыбкой Олега Табакова, больше похожий на крупье из солидного казино, чем на чекиста. – Иванов, Иванов, – вслух пробормотал Белозерцев: – Ванечка Иванов… Друг, брат, собутыльник, товарищ по банной полке, – улыбнулся горько: генерал Иванов умел очень ловко толкать носом кильку в бассейне. Когда после бани они собирались в тесный круг, чтобы исполнить заповедь великого полководца Суворова – после парной обязательно выпей чарку, штаны продай, портупею, ботфорты, но выпей «здоровья ради и пользы для», – то обязательно открывали банку килек пряного посола, выбирали одну, самую крупную, головастую и швыряли в бассейн. А потом устраивали соревнования, в которых генерал Иванов всегда был первым, равных ему не находилось – он стремительно прыгал в воду, подныривал под рыбешку, перехватывал ее зубами, чтобы придать нужное направление, затем носом толкал ее к бортику. Белозерцев, сколько ни пробовал выиграть соревнование у Иванова, ни разу не выиграл. Вот такая была у них «фирменная» забава. И вместе с тем у Иванова имелась голова, какой не было ни у кого в их компании: Иванов умел из двух тысяч ходов выбрать один, самый верный, единственно выигрышный – не башка у него была, а компьютер самой последней модели. Может, позвонить Иванову и рассказать ему все? Если он не сумеет помочь, то хоть дельный совет даст. Белозерцев вновь – наверное, уже в десятый, в двадцатый раз – услышал собственный сдавленный стон, ему было тяжело от душащей боли, от того, что происходило. Это раньше КГБ – Комитет государственной безопасности – был могучей организацией, способной запросто отстричь каблуки у английской королевы и заняться разработкой алмазов в копях ЮАР – для «конторы глубоко бурения» не существовало недоступного, а КГБ, как с горечью признавался Иванов, стал уже не КГБ, а кем там? ФСК? Три буквы, сокращенные от слова «фискал». Собирает «фискальная» контора бумажки, подшивает их в папочки, внедряется в коммерческие структуры, шустрит среди палаточников и потных зачумленных коммерсантов-челноков из Лужников, сводит дебет с кредитом и не всегда знает, как себя прокормить… Хотя, судя по тому, что в конторе генерал Веня все-таки задержался, аналитики там могли остаться тоже превосходные, на «пять». Но чего не было у ФСК – так это боевых дружин, разных «Альф» и «Вымпелов», способных без единого выстрела брать могучие крепости. Этих ребят постарались вообще свести под корень. Когда «Вымпел» передавали эмвэдэшникам, то из четырехсот офицеров этого отряда четыреста положили на стол заявления об уходе. Отряд перестал существовать сам по себе, без всякого нажима со стороны тех людей, которые очень хотели, чтобы «Вымпела» не стало. «Вымпела» боялись многие, в том числе и те, кто ныне сидел в правящих кожаных креслах. С «Альфой» получилось несколько лучше, чем с «Вымпелом», но все равно «Альфа» ныне не «конторская» группа, она подчиняется совсем другому ведомству, куда у Белозерцева нет никаких выходов. Так рассказать генералу Вене о похищении Костика или не рассказывать? – Думай, Вася, думай, – пробормотал Белозерцев дребезжащим чужим шепотком, провел пальцами по воздуху, словно бы пытаясь соскрести с него вновь образовавшуюся черную вертикальную строчку. Нервы все, нервы… И вообще все болезни от нервов – правильно считают старые, опытные люди. Он потянулся рукой к телефонной трубке, дернулся, будто от удара током, – показалось, что трубка стрельнула в него, сжал пальцы в кулак и отодвинулся от телефона: звонить было пока рано. Белозерцев нарисовал на бумаге цифру «5», старательно обвел ее кружочком и отложил ручку в сторону. Пятым в этом коротком списке уже некого было ставить. Тесен мир, узок очень, а мир людей, к которым можно обратиться за помощью, еще более узок, это спичечный коробок, где каждый виден как на ладони и до каждого расстояние очень маленькое… Да, тесен мир. Белозерцев почувствовал, как у него затряслись, запрыгали сами по себе губы. Прижал к ним ладонь – губы не слушались, прыгали под ладонью, в горле было горько, сыро. В столе у него лежало успокоительное лекарство – яркая целлофанированная коробочка, в которую была запрятана какая-то австрийская пакость, что, говорят, здорово приводит в чувство, совершенно отрубает нервную систему, и самый злобный бык, проглотивший полпилюли, превращается в смиренную коровенку, равнодушно взирающую на ненавистную красную тряпку. Вслепую поискал лекарство в столе, откупорил, поспешно проглотил таблетку – двойную, «бычью» дозу. Губы продолжали трястись. Похоже, хваленое заморское лекарство на него не действовало. Он снова потянулся к телефону и опять остановил себя: никто из генералов ему не поможет, а загубить Костика он загубит. И себя загубит, вот ведь как. Белозерцев всхлипнул. Ощупал пальцами губы: слушаются или нет? Нет. Затем он все-таки решился, набрал прямой номер Зверева, с силой притиснулся грудью к столу, беря себя в руки – надо было постараться, чтобы голос его звучал как можно спокойнее, может быть, даже весело, беззаботно. – Привет, старая коряга, – сказал он, услышав в трубке знакомое «кхе-кхе»: генерал Зверев никогда не произносил слово «алло», он кхекал в трубку, полагая, что этого вполне достаточно для начала общения. – Твое счастье, что я в хорошем настроении, – сказал генерал, – не то я бы показал тебе корягу. Да тем более – старую. Ты что ли, Слав? – С утра был я. – Любимая формула преуспевающих партийных работников: «С утра был я». А с обеда что, уже не «я»? И с ужина не «я»? – С обеда уже не «я». Даже раньше не «я», а сразу после завтрака. – Выкладывай по порядку. Что случилось? – У меня украли Костика. Сына… – Что-о? Как это произошло? И когда? – Пока не знаю. Минут через двадцать, думаю, получу все сведения: кто, как, что, зачем?.. – Похитители звонили? Белозерцев замялся нa несколько мгновений, потом ответил: – Минут десять назад. – Сколько требуют откупного? – Пятьсот тысяч… – Долларов? – На этот вопрос я даже не буду отвечать. – Не надо. И так все понятно. М-да! Так-так-так… – Зверев изобразил какой-то марш, отстучал его пальцами на столе – слышимость была отличная, Белозерцев слышал генерала так, будто он находился совсем рядом, в этом же кабинете. – Так-так-так… Голос звонившего был знакомый или незнакомый? – Если бы был знакомый, я бы тебе сразу сказал. Нет, среди моих знакомых людей с такими мерзкими голосами не существует. – Что собираешься делать? – Вот об этом я бы хотел с тобой посоветоваться. Дай совет. – Если подключать нас, то может получиться и так и этак. Пятьдесят процентов из ста – с сыном можешь попрощаться. Белозерцев услышав это от боевого милицейского генерала, еще раз расслабил узел галстука – слишком давит «селедка» на горло. Спросил неверяще: – Ты это серьезно? – Вполне серьезно. Очень серьезно. Ты посмотри, что делается вокруг… На тех же улицах Москвы, например. Это мы только в сводках говорим: рост преступности застопорился, раскрываемость повысилась, скоро наступит момент, когды мы вернемся к уровню восьмидесятого года. Нет, брат, не вернемся. То, что было при Брежневе, уже ушло. У нас один заместитель министра сказал так: «При Брежневе мы жили в коммунизме, только этого не заметили». Такого уже не будет. – Ничего себе заместитель министра! – На его деловых качествах это никак не отражается. Брежнева он не любил. Так же, как и Горбачева. И никогда не скрывал своих антипатий. – А Ельцина? – К делу это не относится. Давай ломать голову, как выручать твоего Костьку. – Милицию ты советуешь не подключать? – Как тебе сказать… К сожалению, у нас есть «стукачи наоборот». – Как это? Не понял! – Информация утекает. Во все щели. А что это означает? Означает, что ряд сотрудников милиции работает на криминальные структуры – спелись,голубчики. И нашим и вашим – всем дают! – А если выловить их? И к ногтю! – Слабо. Если бы это можно было сделать – давно бы выловили и отдали под трибунал. Но выловить не можем – увы. – Это что же получается – милиция срослась с преступностью? Боже, что происходит? – Белозерцев невольно обхватил голову руками. Генерал словно бы увидел в телефон позу, в которой находился Белозерцев, фыркнул в трубку: – Ну ты и актер! Павел Кадочников! Смоктуновский! – Что? – не поняв, спросил Белозерцев. – Мне бы твой юмор! – А мне – твои заботы, – генерал поймал себя на том, что сказал не то, с запозданием остановился, покхекхекал в трубку. – Извини, старик. Ну а насчет того, что делать, то ответ, как у Ленина, будет один: придется платить. Сочувствую тебе. – Ты хоть представляешь, сколько это – полмиллиона «зеленых»? Гора долларов, вагон. У меня же деньги работают, они все в обращении, в коммерческом полете, свободных долларов почти нет. Если только оставлено немного в кармане на выпивку и закуску. – Сочувствую тебе, – повторил генерал, эти слова разозлили Белозерцева: если уж милицейские начальники с большими звездами на плечах беспомощны, то что же говорить о рядовых милиционерах? – Ладно, – сказал Белозерцев. – Как только Высторобец положит мне на стол докладную с деталями похищения, я снова позвоню тебе. – Высторобец – это твоя служба безопасности? – Да. Разве я тебе не говорил? – Его-то я бы проверил в первую очередь. – Человек вроде бы надежный, хотя и без особых способностей. – Сейчас надежных людей нет. Вообще нет, если хочешь знать. – Ты представляешь, что я ощущаю, когда слышу от тебя такое, а? – Хорошо представляю, – генерал вновь что-то прохрюкал про себя, забарабанил пальцами по столу – слышимость по-прежнему была отличной, все эти хрюканья, мычанье с маршевым боем, изображенным пальцами, разные генеральские откровения были обидны, и Белозерцев, чувствуя, что сдает окончательно – перед глазами уже начали плавать дымные круги, сказал, что обязательно позвонит позже и положил трубку на рычаг. Высторобец появился через двадцать минут с вытяну тым бледным лицом и ввалившимися, словно после долгого бега, глазами. Высокие бледные залысины у него блестели от пота. – Ну? – спросил Белозерцев и, сам того не замечая, по-зверевски постучал пальцами по столу. – У Агафонова в морге был… – Агафонов меня сейчас не волнует, – железным, с противными скрипучими нотками голосом проговорил Белозерцев. Высторобец сгорбился, зачастил, глотая слова: – Понимаю. Там сейчас милиция занимается. Машину засекли две свидетельницы, объявлена операция «Перехват». Все посты ГАИ получили ориентировку – вполне возможно, что машина с похитителями будет перехвачена. – Какой марки машина? – Пока не знаю, это все у ГАИ. Один из гангстеров убит – Агафонов постарался. Лежал рядом с Агафоновым, там же, у ворот детского сада. – Гангстер… Слово-то какое откопал, – Белозерцев, словно бы обжегшись, подул на пальцы, – совок пятидесятых годов! – Я не понимаю, чем вы недовольны, Вячеслав Юрьевич! – Всем недоволен, всем! – Белозерцев в упор, не мигая, посмотрел на Высторобца. – А как вы на моем месте… вы всем бы были довольны? – Белозерцев повысил голос. Почувствовал, что вот-вот сорвется. Беря себя в руки, сделал безнадежный жест: – А! Слишком много было сокрыто в одном этом слове, в одной буковке, в коротком обреченном «А»! – Высторобец почувствовал опасность, вздохнул. – На меня вы всегда можете рассчитывать, Вячеслав Юрьевич! – А толку-то? Белозерцев был прав: в конце концов Высторобец отвечал за безопасность фирмы, всех ее сотрудников, прорехи в его службе наносили удар сразу по всему хозяйству, по всем сотрудникам – по всем без остатка, – а с другой стороны, Белозерцев сам виноват, сам допустил то, что произошло – ведь он-то все время держит нос по ветру, поэтому при малейшем запахе, при первых признаках опасности он мог запросто увеличить число охранников, прикрепить к Костику кроме Агафонова двух, трех, а то и четырех человек… Мог, да не сделал. Так что нечего придираться к Высторобцу. Он с ненавистью глянул на Высторобца, хотел запустить в этого главного конторского Андропова чем-нибудь тяжелым, прокричать ему в лицо, чтобы шел отсюда на все четыре стороны и никогда больше не возвращался – нечего таким криворуким охранникам делать в «Белфасте», но сдержался, хотя внутри у него все перекрутило нервной болью, произнес тихо, бесцветно и непонятно: – Сидорака! – Чего-чего? – взгляд у Высторобца сделался неожиданно старческим. Белозерцеву сделалось еще больше жаль Высторобца и он движением руки выпроводил его из кабинета. Жил в белозерцевском подъезде слесарь по фамилии Сидорока – специалист широкого профиля, как он именовал себя, этакий слесарь по металлу – по хлебу и по салу. За что ни брался этот специалист, все у него оказывалось безнадежно испорченным – починить потом было уже невозможно. Если он брался за велосипед, то руль у велосипеда в результате оказывался почему-то сидящим в гнезде большой звездочки и на него была накинута цепь, на месте заднего колеса зияла выбитым стеклом фара, в водопроводном кране уже никогда не появлялась вода, а отремонтированный электровыключатель заклинивало так, что его можно было только сломать либо сорвать со стенки, но никак не перевести из одного положения в другое. Кривые Сидоракины руки обладали удивительной способностью… Сидоркой был в таком разе и долговязый Высторобец со своей беспомощной «пионерской» командой. Минут десять Белозерцев сидел неподвижно. Очнулся лишь, когда на столе зазвонил телефон. Он поднял трубку. – Ну что, арбуз, надумал что-нибудь? – от жесткого, грубого чужого голоса Белозерцев мигом пришел в себя, выпрямился в кресле. – Думаю, – медленно, ощущая, что у него почти не шевелятся одеревеневшие губы, проговорил он. – Думай, думай, времени осталось немного. А теперь скажи, Марчелло, отрезать твоему Костику одно ухо или пока подождать? Или же отрезать сразу два? – Как? За что? – Я же тебя предупреждал, арбуз, – не звони в милицию… А ты позвонил. Хорошо хоть, что генералу позвонил, а не капитану!
20 сентября, среда, 10 час. 20 мин. Сотовая связь – штука пока редкая в Москве. Но очень удобная. С сотовым аппаратом можно уезжать куда угодно, хоть в Козлодранск или Кривоноговск, где вообще не знают, что такое телефон, забираться в какую угодно глушь и находиться где угодно, даже на Северном полюсе среди трески и белых медведей, в сибирской тайге, где нет ни одной живой души – все выели лютые морозы, под землей в шахте или в бане на верхней полке, но если с собою сотовый аппарат, способный вместиться хотя бы в бумажник, – значит, есть связь с миром. Сотовая трубка может зазвонить и в бане, и в туалете, и в библиотеке, и в Козлодранске на приеме у мэра. У Деверя, руководившего налетчиками, в числе амуниции, положенной по «штату», был сотовый телефон. Самый современный, наиновейший, ладный, вмещающийся в ладонь, модной американской фирмы, с откидной пяткой микрофона. Деверь относился к сотовому аппарату, как историк к иконе – дышать боялся. Лицо его обвисало, распускалось расслабленно, когда он говорил по этому телефону. Он сам к себе относился в эти минуты с особым почтением, будто к министру, был на «вы». Даже не верилось, что это – Деверь. И что он больше всего ценил – сотовый аппарат нельзя было засечь. Но говорил он по нему только с доверенным лицом шефа, с Полиной Евгеньевной. Ладонь у Деверя запросто могла закрыть Костику лицо, – жесткая, в мозолях, словно бы Деверь плотничал, а не занимался разбойным ремеслом, тело жилистое, с крупными костями, движения опасные, быстрые, глаза маленькие, зеленоватого цвета, на голове – две крупные шишки, видные сквозь волосы. Поглядев на стенку, где висели плоские кухонные часы «касио», Деверь сам себе покивал головой. Потом завернул рукав, ткнул пальцем в ручные часы, вольно болтающиеся на запястье: – Через три минуты – сеанс связи… С шефом. – На самого выходишь? На него? – поинтересовался Клоп, испытующе глянул на Деверя. – Когда-нибудь в глаза его видел? – Много будешь знать – скоро состаришься. Понял? – Понял, чем дед бабку донял, – Клоп наклонил голову с идеальным, волосок к волоску пробором, – я этой премудрости еще в институте обучился. И другой премудрости Клоп обучился в институте: тот прочно сидит на коне, кто ближе всех стоит к шефу. Эта истина проста, как круговорот воды в природе. Иерархическую лестницу в их мире было непросто пройти – места на ступеньках повыше освобождались только тогда, когда кто-нибудь уходил к «верхним людям». В мир иной, в общем. Деверь находился к шефу ближе, чем Клоп, значит, и лычек на погонах у него было больше. А с другой стороны, Клоп тоже был не пальцем делан – у него родной брат работал в Московском управлении внутренних дел, в центральном аппарате, – и шефу об этом было известно. Клопова брата шеф держал в заначке, на всякий случай – «восемь пишем, шесть в уме» – мало ли где он мог пригодиться. Но засвечивать по мелочам его было нельзя – слишком ценный кадр. Увидев напряженное лицо Клопа, Деверь помягчел: – Нет, с шефом я не общаюсь, да и не нужно это – общаюсь с транслейтором, с секретаршей, бишь, – дамочкой, имеющей оч-чень приятный голосок… Понял? А она… она уже все докладывает шефу. Клоп то ли осуждающе, то ли восхищенно покачал головой: – Надо же слова какие: транслейтер! Чтобы выговорить, нужно академию закончить. Из какого хоть лексикона? – Из английского. – Ну тогда – иняз. Иняз нынче, кажется, тоже академией стал. – Университетом. – Что в лоб, что по лбу! – Ах ты, козел! – голос у Деверя сделался опасно насмешливым, и Клоп поспешил сделать успокаивающий жест: все-все-все, больше цепляться не буду. – То-то, – кивнул Деверь, отпуская грехи своему подопечному. Но хватило Клопа ровно на полминуты. – А эта твоя штука, – Клоп сегодня что-то не мог уняться, его распирала жажда действий, он потыкал пальцем в сотовый аппарат, который Деверь уже достал из чехла и держал теперь в руке, – она на далекое расстояние берет или не очень? Отсюда в Питер позвонить можно? – В Питер нельзя. – Чего ж так? – Клоп непонимающе округлил глаза: он то ли дурака валял, то ли действительно верил в могущество сотовой связи, и теперь его постигло разочарование. – Ай-ай-ай, какая несовершенная техника! – Да в Питере сотовой станции нет, дур-рак! А вот если звонить через космос, – скажем из Штатов, то и в Питер можно, и в Мексику с Бразилией, и даже с тараканом, сидящим в заду у негра, можно соединиться. – А чего ж ты хвастал, что тебя с этим аппаратом можно и в бане, и в сортире найти? И на Северном полюсе в окружении пингвинов. – В бане и в сортире можно, а на Северном полюсе – нет. – Тогда чего… – Я ж тебе сказал: ты – козел! Хотя и на коне, – Деверь согнул крючком указательный палец, показал его Клопу. – Что это такое, знаешь? Загибал, значит? – Дошло. Больно шея у тебя, Клоп, длинная, долго мысли ползут. Через несколько минут он набрал номер телефона сотовой связи, известный только ему. – Полина Евгеньевна, позвольте доложиться. Груз доставлен, насчет накладных с хозяином переговорил. Пока он, мне кажется, малость артачится, горячится, но думаю, условия наши примет. Сейчас ведь время-то какое: все урвать себе хотят, обманывают не только государство, но и своих ближних, так и этот хозяин – мы к нему с доверием, а он фордыбачится… Нет, нет, еще один звонок я обязательно сделаю. Думаю, он согласится на оформление всех документов в три приема. Да, Полина Евгеньевна, у него выхода другого нет, я его дожму. Начальству, пожалуйста, наше самое низкое. Сумма – та, которую обговорили, да, да. Кланяюсь вам, целую ручки… Да, да, до свидания! Я еще буду звонить, как и условились. К такому разговору никто никогда не прицепится, он совершенно безобидный, к этому разговору невозможно придраться, из него невозможно ничего выявить, никаких сведений – слишком он уж бытовой. Такие разговоры звучат на каждом углу по сто раз в день. Это с одной стороны. А с другой, сотовая связь дырявая, несмотря на свою престижность и то, что она по карману только богатым «новым русским», тем, кто ею пользуется, ничего нельзя скрыть, владельцам сотовых телефонов каждый месяц звонят из специальной – «сотовой» – диспетчерской и предлагают распечатку разговоров, которые они делали, вот ведь как. Поэтому, с одной стороны, сотовая связь очень удобная, а с другой – не моги сказать по ней ни одного лишнего слова, все станет известно. Для начала – диспетчеру, потом – всем остальным. Деверь говорил аккуратно, следил не только за интонацией и словами – следил даже за выражением собственной «морды лица», за двоеточиями и запятыми. Чтобы, не дай бог, не сесть на крючок. И Полина Евгеньевна, судя по всему, тоже соблюдала это правило строго. В этом случае сотовый телефон становился очень удобным – куда удобнее обычной городской сети и всяких там линий с «прибамбасами» – с экранами, свинцовой защитой, с секретами и сверхсекретами и так далее. Лучшей защиты, чем собственные мозги, на нынешний день нет. Пока шел разговор, Деверь прямо-таки излучал сияние, шишки на его голове светились, будто электрические фонари – любо-дорого было посмотреть на этого человека. Даже Костик им заинтересовался, затих на минуту, но потом начал плакать опять. – Ты какой институт окончил, Клоп? – Деверь аккуратно, боясь что-либо сломать, сложил сотовый аппарат, засунул его в специальный кожаный кошелек любовно сшитый чехол с серебряной кнопкой, висящей у него на поясе. – А? – МАДИ – Московский автодорожный. – Не попутчик, не коллега – я совсем из иного заварного чайника… Я окончил Институт легкой промышленности, специалист по пуговицам для пальто и обувным набойкам, вот так-то. – Деверь покосился на Костика. Костик сидел на тахте, сиротливо поджав под себя ноги, и беззвучно плакал, растирая по щекам слезы. – Эт-то что же, тебя дома этому научили – с ногами в постель? – рявкнул Деверь. – Кто тебя этому научил? Отец? Мать? Костик, не переставая плакать, спустил ноги с тахты на пол. – С этим арбузенком должны постоянно дежурить два человека. Пока калым не возьмем. – Деверь поугрюмел, вид у него сделался замкнутым, взгляд потяжелел, он огляделся по сторонам, будто видел это помещение впервые и теперь искал в нем запасной выход. – У нас народу мало, надо бы подмогу вызвать. Может, тебе сесть за руль и смотаться за пополнением? – сказал он Клопу. – А? – Давай вначале пообедаем, – взмолился Клоп. – С утра во рту крошки не было! – Правильно. На боевые операции всегда надо ходить с пустым брюхом, это закон, – похвалил Деверь. – Его соблюдали еще в Первую мировую войну. На случай ранения. Человек с пустым брюхом имел шанс выжить, с полным же… – М-да, – погрустнел Клоп, лицо у него сделалось темным, незнакомым, – видели мы, как ты с ранеными обходишься. – У нас выбора не было, – сказал Деверь. – Это ты о Хряке? Хряк был обречен. В следующий раз ты так же поступишь со мной! Если меня ранят… – Да ты перестреляешь всех, кто только попытается к тебе приблизиться метров на десять. – Клоп отвернул лицо в сторону, чтобы не видеть своего напарника. – Разве к тебе подойдешь? – Эт-то верно, – Деверь довольно засмеялся. – За свою жизнь я буду драться до последнего. Буду кусаться и дырявить ваши шкуры, – он сложил пальцы пистолетом, ткнул «стволом» в Клопа. – Пух! Да, у человека с полным, после обильного завтрака желудком нет ни одного шанса выжить, – он поднял «ствол» вверх. – Но сейчас насчет еды ты прав. Медуза, доставай из холодильника водку, будем Хряка поминать. Что там еще у нас есть? Ветчина, колбаса, паштет, рыба… Давай все на стол! И ветчину, и рыбу. И посмотри – копченого угорька не осталось? Нет? Жаль, Медуза. За угорьком надо на Поварскую, к писателям, съездить, там есть блат в ресторане, выделят нам килограмма два полакомиться. Из особого коптильного цеха, – на Деверя после сеанса связи накатила болтливость, он сделался разговорчивым, слова высыпались из него, словно горох из банки, звонко, с эхом отщелкивались в пространство. Деверь стал вдруг благожелательным, полным внимания, даже предупредительности, он с неожиданной ласковостью начал посматривать на всех, в том числе и на бледного, измученного Костика, – там, у писателев этих, имеется хорошая коптильня, в Швеции купленная, продукты копченые такие получаются – с пальцами сожрать можно. – Ветчина с рыбой не сочетается, – ни с того ни с сего проговорил Медуза. – Больно голова у тебя большая, – превращаясь в самого себя, отрывисто бросил Деверь, – и круглая. Много в нее вмещается, да не в том порядке. Медуза привычно втянулся в плечи – он, как и все в группе, боялся Деверя, – но тон Деверя вновь поласковел, голос сделался рассыпчатым, слова-горошины снова зазвенели. – В пузе смешивается все – и сало и компот. Лучшая еда, она ведь какая – многослойная. Берешь кусок мяса, намазываешь его повидлом, в повидло кладешь кусок селедки, сверху селедку покрываешь толстым слоем горчицы, к горчице пришпандориваешь пару кусков сыра, сверху все зашпаклевываешь солидным слоем сливочного масла, в масло вставляешь двенадцать штук маслин – двенадцать черных глаз, затем отдельный кусок хлеба намазываешь горчицей позлее, украшаешь десятью мармеладинами, соединяешь с первым бутербродом, перевязываешь перьями лука и все это употребляешь вместе со сметаной. Отменное получается блюдо. – Понос от него бывает таким длинным, что человека приподнимает над землей, – сказал Клоп, – сильная образуется струя. Клоп боялся Деверя меньше, чем Медуза, он позволял себе иногда подковыривать старшего, и Деверь это проглатывал – да, вот что значит защита, если что, Клопа всегда мог прикрыть брат… – За Хряка взмылка была? – Нет, Полина Евгеньевна даже не спросила. Это же предвиденные, заранее просчитанные потери. А вот шофера «мерса» мы напрасно оставили, его надо было бы убрать. – Не хотелось лишней крови, Деверь, ты же знаешь. А то, что он засек нас, это имело значение первые десять минут. Сейчас уже той машины нет, ребята в гараже над ней уже работают. Не только другого цвета будет «жигуль», но и с номером даже не московским, а рязанским или тульским, – Клоп довольно рассмеялся. – А если понадобится за подмогой, как мы говорили, съездить, то на чем поедешь? – Это уже мои проблемы, – Клоп оттянул рукав куртки, посмотрел на циферблат часов. – Через пять минут ребята доставят в гараж другую машину. – А документы? – Нелепый вопрос. И документы будут новые, и права, и техпаспорт. Все на мое имя, с моей фотокарточкой. У Клопа была своя «служебная линия», в которую Деверь не вмешивался, свои контакты и свои рабочие связи, хотя в остальном Клоп ему во всем подчинялся. Как руководителю боевой группы. – Хар-рашо! – не удержался Деверь от одобрительного восклицания. – Я, пожалуй, тоже выпью, – сказал Клоп и вопросительно поднял брови. – Хряка-то ведь надо помянуть. А? – А если гаишник на дороге, проверка? – Для этого существуют антигаишные таблетки. Две таблетки – и никакой инспектор не придерется, каким бы аппаратом по обнаружению алкоголя он ни был вооружен. – Тогда давай, – согласно наклонил голову Деверь, – выпей свои боевые сто пятьдесят. Но если придерется инспектор ГАИ – сам его и пристрелишь, я помогать не буду. Отвечать за все будешь сам. И перед этими… Деверь не договорил, потыкал пальцем в потолок. – В общем, ты все понял. – Все, – подтвердил Клоп. – Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста, – объявил Медуза. Коронную фразу героя одного популярного фильма он уважал. Деверь первым поднялся, подсел вместе со стулом к «скатерти-самобранке». Спросил: – А арбузенка чем кормить будем? – Тем же, чем и всех остальных, отдельного повара у нас нету, – недовольно отозвался Медуза, – это дома у него персональный кок, а тут ни кока, ни Кука. – Одна докука, – скаламбурил Клоп. Деверь налил себе стакан водки. – Значит, так… Поднимаю эту водку со всею душой за нашего павшего товарища Хряка, – не моргнув глазом, стараясь, чтобы голос звучал как можно более проникновенно, произнес Деверь – ну будто бы не он добил Хряка выстрелом в голову – все мозги разбрызгал по асфальту. – Звали его Вадимом, а фамилию не скажу, поскольку не знаю. Пусть земля будет ему пухом. – Пусть! – единым эхом отозвались Медуза и Клоп. Выпили. Костику тоже дали тарелку, в нее с верхом наложили ветчины, колбасы, кавказской зеленой травы, сбоку пристроили два толстых куска рыбы. – Ешь, дурак, – сказал ему Деверь, – ты нам сытый нужен, не голодный. – Не хочу, – Костик мужественно отвернулся от тарелки и сглотнул слезы. – Ну и дурак, – спокойно произнес Деверь, – потом сам просить будешь, да мы не дадим.
20 сентября, среда, 10 час. 45 мин. Полина Евгеньевна разделила обязанности своих подчиненных: первые два звонка Белозерцеву должен был сделать Деверь. Ирине Константиновне – человек с боевой кличкой Глобус, имевший звание лейтенанта. В рядах их ТОО – товарищества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного по всем юридическим правилам, со своими бланками, эмблемой, печатью, бумагами и уставом – правда, род деятельности был определен в уставе вполне безобидный, приличный, ничего общего не имеющий с тем, чем ТОО приходилось заниматься, – существовали звания. Как в американской полиции – были рядовые, были сержанты, были лейтенанты и капитаны, было три полковника и комиссар. Звание комиссара носил сам шеф. Шефа же никто никогда не видел в глаза. Конспирацию он соблюдал строго. Деверь однажды предположил, что он, может быть, и появляется в боевых порядках, но только под видом какого-нибудь сержанта, приданного для укрепления, либо вообще рядового, ходит на операции, наблюдает за тем, кто как себя ведет, но Клоп раскритиковал это предположение, уверенно заявив: «Быть того не может! Слишком опасно для такой крупной акулы, каковой является наш шеф. Зачем ему рисковать? Ради чего? Ему деньги надо тратить, а не рисковать!» Деверь подобрал губы и отвердел лицом: «Тю-тю-тю!» О шефе было лучше молчать, а не говорить. Все работники ТОО имели клички и номера. К номерам прибавлялись буквицы «р», «с», «л», «к», что означало – рядовой, сержант, лейтенант капитан. Полковники к своим номерам буквенных приставок не имели, а комиссар вообще даже номера, наверное, не имел. В ТОО существовала своя безопасность, называемая инспекцией, и свой трибунал. Если сотрудник, нарушивший правила жизни ТОО, попадал под трибунал, то наказание было одно – пуля. Расстреливали сотрудников обычно в затылок. Расстрелянных на машине увозили в Подмосковье, там оттаскивали в лес, голову обливали бензином и поджигали. Уезжали, не дожидаясь, когда голова обгорит и лицо превратится в ничто, в хорошо обжаренный бифштекс – огонь, вцепившись в плоть, все равно сделает свое дело и физиономию человека обработает так, что никто никогда не разгадает, кто это и был-то… После доклада Деверя Полина Евгеньевна некоторое время сидела неподвижно, словно бы впитывая в себя информацию, переваривая ее, анализируя, затем неожиданно засмеялась – смех у нее был какой-то легкий, радостный, он находился на поверхности и немедленно всплывал, едва его хозяйка начинала думать о чем-то хорошем, – и вообще, глядя на красивую, модно одетую и внешне, кажется, такую незащищенную Полину Евгеньевну, нельзя было даже подумать, что она имеет отношение к некому товариществу с ограниченной ответственностью, занимающемуся «неуставной деятельностью». Это была нежная, очень утонченная светская дама, знакомая с «сильными мира сего» в Кремле и в мэрии, дружившая с крупными деятелями кино, с президентами банков, способная украсить любое общество. Она придвинула к себе кожаную папку, украшенную серебряным тиснением «На доклад президенту ТОО», достала оттуда чистый лист бумаги с водяными знаками, сделала запись из двух строчек, пометила их цифрами «1» и «2» и вложила бумагу обратно в папку. Операция продолжалась. Улыбающаяся Полина Евгеньевна остановила взгляд на ветках деревьев, подсунувшихся под самое окно, украшенных тонкой блестящей паутиной, буквально насквозь светящихся от солнца, прозрачных, нарядных, улыбнулась шире, затем снова легко и радостно засмеялась. Поглядела на часы. У нее был свой отсчет времени, позволяющий иногда растянуть сутки вдвое и успеть сделать очень многое – гораздо больше, чем можно сделать в сорок восемь часов – во всяком случае человеку с иной внутренней организацией вряд ли когда удастся сделать столько, сколько удается Полине Евгеньевне. Она успевала бывать и на званых обедах, и на роскошных презентациях, и в театрах на генеральных прогонах, и на шумных, с участием московской знати, премьерах, и у модельеров Зайцева и Юдашкина, чтобы заказать себе новые наряды, и у ювелира, и в банках, с которыми вела свои финансовые дела, и проводила оперативные встречи с тремя полковниками, с каждым отдельно, и разрабатывала со «штабом» очередную операцию, проверяла, как идут операции, уже разработанные и утвержденные – словом, время у нее было расписано так, что там, казалось, не существовало ни единой малой щелки. А еще у нее была личная жизнь… Надела на руки белые, словно сахар, перчатки – ни единого пятнышка, вышла из квартиры, тщательно заперла дверь – все ее движения были очень четкими, осторожными, продуманными, словно бы Полина Евгеньевна боялась кого-то обидеть, – спустилась вниз, где ее ожидала черная «волга» с антенной радиотелефона и престижным служебным номером. Жители дома хорошо знали Полину Евгеньевну, им было известно, что она работает большим начальником в администрации российского президента, иногда к ней обращались за помощью, и она охотно откликалась на обращения – из аппарата администрации не раз приходили руководящие указания сделать то-то и то-то, и жильцы в ней души не чаяли: надо же, какой отзывчивый человек – их красивая соседка! У входа в подъезд стояла облезлая садовая скамейка, на которой любили сидеть местные кумушки, перемывать косточки разному знакомому и незнакомому люду. Доставалось от них всем, исключений, кроме Полины Евгеньевны, не было – Полину Евгеньевну местные кумушки считали личностью без изъянов. На скамейке мирно дремала старушка с округлым деревенским лицом и крупным мужицким носом, доставшимся ей явно не по ранжиру. Полина Евгеньевна остановилась около старушки: – Баба Фруза, как здоровье? Баба Фруза очнулась, выбила содержимое своего крупнокалиберного носа в сторону, чтобы не зацепить соседку, вытерла лицо клетчатым платком. – Да как тебе сказать, моя милая! Ни шатко ни валко. Главное – до пензии дотянуть. Услышав это, Полина Евгеньевна щелкнула золотистым, дорого блеснувшим на солнце замком сумки, достала розоватую бумажку в пятьдесят тысяч рублей – новую, празднично хрустящую, сунула старухе в руку: – На, баба Фруза, купи себе чего-нибудь! – А чем я тебе, ласковая моя, долг отдавать буду? – Ничем, баба Фруза. Свои люди – сочтемся, – улыбнулась Полина Евгеньевна и пошла к машине. Баба Фруза перекрестила ее вслед: – Святая женщина! – потом глянула на кредитку сквозь свет – есть ли там потайные знаки, сопутствующие всяким большим деньгам, или нет, удовлетворенно качнула головой: – Подлинный кредитный билет! Вот святая женщина, поболее бы таких! Затем баба Фруза перекрестила и машину, и угрюмого шофера в теплой, несмотря на солнце и редкостную для этого времени жару, фетровой шляпе, и пыль, поднятую колесами на асфальте, когда «Волга», сыто пророкотав мотором, отчалила от дома, словно корабль от многоэтажной пристани. Старуха восхищенно сощурила заслезившиеся от прилива радости глаза: – Счастья и долгих лет тебе жизни, милая… Машина Полины Евгеньевны с грохотом одолела два узких коротких переулка, потом улочку, плотно заставленную иномарками, выскочила к заиленному грязному пруду, в котором когда-то водились лебеди, сейчас же от них остались лишь жалкие дырявые домики, невольно вызывающие ощущение утраты; по бережку же важно расхаживали несколько жирных, с блестящими перьями ворон… «Раньше Москва была лебединая, сейчас – воронья», – невольно отметила Полина Евгеньевна и, вздохнув, отвернулась от пруда, стала смотреть в другую сторону. Вскоре она вообще забыла о том, что видела: у нее было полно забот и без того, без Москвы, без заиленного пруда, без красивых птиц, покинувших город… И может быть, покинувших уже навсегда.
20 сентября, среда, 10 час. 46 мин. В полутора километрах от дома, где еще несколько минут назад находилась Полина Евгеньевна, у окна также стоял человек и разглядывал дерево со старой угреватой корой и прозрачно-черными, с торчками отгнивших сучков ветками. На одной из веток, похожей на разлапистый лосиный рог, сидела белка и, зажав в тощеньких передних лапках сосновую шишку, пыталась справиться с ней и вышелушить хотя бы несколько зерен. Человека она не замечала. Человек был лыс, угрюм, силен. Недалеко от белки смятым грязным комком пристало к острому сучку раздавленное соловьиное гнездо. Пара соловьев свила его в мае и положила туда четыре сереньких, схожих с воробьиными яичка. Птенцов певучая пара вывести не успела – эта вот изящная белочка совершила на гнездо разбойный налет и съела яйца. Соловьи покинули это дерево. Навсегда. Теперь вот, когда соловьев и питательных яичек нет, белка ест все подряд – от остатков котлет, которые дают ей на кухне, и кусков жареного хека до пустых сосновых шишек. Человек вздохнул, потянулся к темному лакированному столику, на котором стояло около десятка разных телефонов, снял трубку крайнего аппарата, не имевшего диска, – так называемого прямого телефона. – Коркин, кхе-кхе! Получи боевое задание, друг Коркин! Возьми духовку… я имею в виду пневматическое ружье, а не агрегат, в котором пекут пироги, спустись в наш парк и перестреляй к ежиной матери всех белок! Зачем, зачем… – человек, передразнивая невидимого Коркина, скривился лицом, – да затем, что они, сволочи, птиц жрут, яйца их выпивают, разоряют соловьиные гнезда. У нас в этом году весной соловей пел? Пел! Все, петь больше не будет, скажи спасибо милой белочке – воздушному созданию, которое крутится сейчас перед моим окном. Такое хорошее и ласковое создание, что охота платком слюни утереть. Все, Коркин, бери свою орудью и действуй. Это приказ. Лысый человек резко, с грохотом опустил трубку на рычаг, покосился в окно, где белка продолжала расшелушивать сосновую шишку, недобро хмыкнул, потом перешел за стол и поднял трубку аппарата правительственной связи, украшенного старым советским гербом. – Это, кхе-кхе, генерал-майор внутренней службы Зверев Геннадий Константинович беспокоит, – назвался он. – Мне бы Вениамина Константиновича, – Зверев звонил на Лубянку, в бывшее КГБ, а ныне – контрразведку, напоминавшую своим названием пору Гражданской войны, к давнему своему знакомому – Иванову – старому, впрочем, знакомому и банному напарнику Белозерцева, но трубку поднял не Иванов, а какой-то подполковник с грузинской фамилией, дежуривший у Иванова в приемной. Подполковник сообщил, что генерал-майор госбезопасности Иванов проводит совещание и трубку не может поднять, тогда Зверев, поморщившись, словно отведал чего-то кислого, попросил: – Передайте Вениамину Константиновичу, пусть, как только освободится, позвонит мне. Если, конечно, сможет… Повторяю – генерал-майору внутренней службы Звереву. Иванов позвонил через двенадцать минут. – Тут вот какое дело, кхе-кхе, – сказал ему Зверев. – Ты знаешь, наш Белозерцев попал в беду, давай посоветуемся, как быть… – он коротко рассказал о похищении у Белозерцева Костика, о двух трупах, оставленных подле ворот детского сада, о докладе оперативной милицейской группы, побывавшей на месте преступления, о потерявшем способность говорить водителе белозерцевского «мерседеса» – в общем, обо всем, что было известно милиции. – Бедный Слава, бедный Слава… – было слышно, как Иванов расстроенно затянулся сигаретой. – Ах, как лихо он умеет носиться с куском сыра в зубах и стопкой водки на носу по бане! Настоящий артист! И кому он мог так насолить, кому понадобился, а? Кто его взял за нос и насадил на крючок, а? Ах, какие бани умеет устраивать человек! Ладно, изюм в одну сторону, мух в другую. Давай, Константиныч, поразмышляем. Он тебе звонил? Я имею в виду Славу Белозерцева… – Звонил. – И что ты ему посоветовал? – Посоветовал одно: смириться с судьбой, собрать деньги и покорно вложить их в лапы вымогателям. – Сразу в лоб? Не слишком ли жестоко? – А что еще я могу посоветовать? Посоветую что-нибудь другое, он начнет суетиться, поднимет ил со дна, замутит воду и… во-первых, потеряет сына, во-вторых, здорово помешает нам. – Тоже верно. – А так пусть делает свое дело, скребет по сусекам зеленые: а мы посидим у него на хвосте, посмотрим, кто там объявится. – Оперативную группу создал? – Почти. – Ладно. Что говорят свидетели? – Свидетелей немного: две бабаки и водитель белозерцевского «мерседеса». Бабки нормальные: все засекли, а вот водитель, тот нет, тот оказался вареной картошкой – напруденил в штаны от страха. – Бывает и такое. И что – даже марки машины не помнит? – неверяще спросил Иванов. – Он не только марки машины, на которой увезли ребенка, не помнит, он даже имени своей матери не помнит, лишь мычит от испуга что-то нечленораздельное, да еще фразу одну – вполне, кстати, связную, произносит, и все. – Случается такое от испуга, я знаю подобные случаи, – подтвердил Иванов. – Шок, кома, еще есть какие-то мудреные медицинские названия… Что за фраза-то хоть? – Обычная, шоферская. «Стучит один цилиндр, машина съедает много бензина»… «Стучит один цилиндр, машина съедает много бензина»… Но что за машина была у налетчиков, какого цвета, какой марки и каков у нее государственный номер, мы знаем – дотошные бабули сообщили. Они вообще чуть в перестрелку не угодили. Но от того, что они и номер, и марку засекли, нам не легче. – Машину задержать не удалось? – Нет. – Ясно. А сейчас такой машины уже и в природе не существует. Есть совершенно другая, перекрашенная, с иным номером. Да, ты прав – к Славке надо садиться на хвост. – Иванов хмыкнул: – Бизнесмен! – Слово «бизнесмен» он произнес чуть издевательски, со смешком – с мягким протяжным «е» в середине и в конце. – Не поймаем бандюг – в Славкину баню нам больше не ходить. – Естественно. Ему не на что уже будет ее содержать. – М-да, – удрученно произнес Иванов. – Ты, значит, так считаешь, товарищ генерал-майор? – Не товарищ, а господин. – Хорошо, что не гражданин. У нас на Лубянке такого еще нет. Ни граждан, ни господ, пока только товарищи. – Собственно, в эмвэдэ тоже. – В это время зазвонил городской телефон – прямой, мимо «пишбарышни», как говорил Зверев, хозяин кабинета бросил в трубку «вертушки»: – Подожди минутку, Вениамин Константиныч, – поднял трубку городского телефона. – Кхе-кхе, слушаю вас. А-а, это ты, Вячеслав Юрьевич? Легок на помине. Почему легок, спрашиваешь? Да все время думаю о тебе, из головы не выходишь, потому и легок. Как действовать? Как, как… Я же сказал: принимай условия этих бандюг и готовь пятьсот тысяч долларов, другого пути пока, к сожалению, нет. К сожалению… – Зверев поднял указательный палец. – Клиенты тебе попались серьезные, Вячеслав Юрьевич, они могут расчленить твоего Костика, рассовать по трехлитровым банкам и прислать домой, а потом взяться за тебя самого. Это не пустые слова, старик! Ну, пока, пока… – Зверев повесил трубку городского телефона, проговорил, обращаясь к Иванову: – Извини еще раз, Вениамин Константиныч… В общем, ты все слышал. – Все, – не удержался от невольного вздоха Иванов. – Действуем, значит, сообща? – Сообща. Через несколько минут все телефоны Белозерцева, известные генералу Звереву, были взяты на прослушивание.
20 сентября, среда, 11 час. 00 мин. Белозерцев по-прежнему продолжал пребывать в состоянии растерянности, он никак не мог собрать себя воедино – в голове звенело, в висках плескалась боль, из пальцев выпадали бумажки, руки дрожали, колени тоже – он никогда не думал, что человек может оказаться таким слабым, быстро разрушающимся. Он ощущал, что разваливается буквально на глазах, организм его, который он считал крепким, вечным, на деле оказался изношенным, усталым, дырявым – вон внутри как все сипит, посвистывает, еще немного – дырка образуется и в сердце. И там будет свистеть. Белозерцев посмотрел на свои трясущиеся руки. Перед глазами у него вновь побежала вертикальная строчка, рассекла пространство сверху донизу, от потолка до пола, он сдавил ладонями виски, стараясь избавиться от этой назойливой строчки, но не тут-то было. Белозерцев шумно вздохнул, согнулся, как когда-то в детстве в ожидании наказания, и затих. Кто сейчас может его выручить, какой дурак даст ему деньги? А если и даст, то под такие оглушающие проценты, что Белозерцеву потом не то чтобы масло – хлеб не на что будет купить. Причем друзья его, с которыми он ходит в баню, разыгрывает дружеские партии в бильярд, толкает носом кильку в бассейне, первые же и постараются разорить. И будут рады лишней возможности обогатиться. Плохо его дело, раз этот лысый хрюкающий Зверев сказал, что надо собирать «зеленые» да выкупать сына у налетчиков, – и раз уж Зверев сложил лапки, будто заяц перед роковым выстрелом из ружья, то плохо дело не только Белозерцева – всей России. И будем жить мы ныне по одному закону – закону малины: Белозерцев неверяще покрутил головой: глядишь, скоро «вор в законе» станет председателем Совета Федерации, а заслуженный пахан, прошедший все северные лагеря; сядет на место Черномырдина. Неужели мы к этому пришли? М-да, за что боролись, на то и напоролись. Второй звонок к Звереву разрушил все иллюзии, которые у него еще оставались, – Зверев открытым текстом сказал: собирай деньги! А это – все, это значит, что несколько лет работы пущены псу под хвост. Зазвонил «панасоник» – звук у этого аппарата мелодичный, приятный, он всегда нравился Белозерцеву, но сейчас мелодичный звонок подействовал, как удар зубной боли, разломивший голову пополам. – Ну что, арбуз, – услышал он в телефонную трубку грубый железный голос, – придется все-таки порезать твоего отпрыска, чтобы ты впредь не сходил с тротуара. Сразу видно, арбуз, что тропу в зоне ты никогда не мерял ногами, не знаешь, что такое шаг влево, шаг вправо… Жаль, арбуз! Ну что, получил совет? Милицейский начальник тебе все правильно сказал – набивай торбу деньгами американского производства, иначе… Ты понял, что будет иначе? Делаю второе предупреждение, арбуз – ты совершил две ошибки. Третьего предупреждения не будет. Понял? В следующую секунду в трубке раздался маслянистый пистолетный щелчок – человек с железным голосом отключился. Белозерцев, старчески кряхтя, с трудом поднялся с кресла, пошатнулся, постоял немного, пробуя ногами пол… Воздух перед ним плясал, клубился, взрывался мутными дымными пятнами, черные строчки пронизывали пространство сверху вниз, рождали в Белозерцеве, как и прежде, боль и холод. Но как бы там ни поворачивались события, надо было брать себя в руки, выходить из клинча, надо было действовать. Иначе он погубит сына, погубит свой дом и свою семью и в конце концов погибнет сам. Он нажал на кнопку звонка, вызывая к себе секретаршу. – Шофера ко мне, Бориса, – приказал он Зое Космодемьянской, едва та появилась на пороге, – и Высторобца.
20 сентября, среда, 11 час. 15 мин. Зверев задумчиво повертел в руках небольшую кассету, вставил ее в магнитофон, послушал с неподвижным, внезапно потяжелевшим и посуровевшим лицом, затем прогнал пленку назад – до конца прогонять не стал, остановил и вновь включил запись. Склонил голову набок, стараясь разобраться в металлическом неприятном голосе, доносившемся из магнитофонного динамика: «Ну что, получил совет? Милицейский начальник тебе правильно сказал – набивай торбу, деньгами американского производства, иначе…» Зверев покашлял в кулак, вздохнул с видом, будто его допекала какая-то боль, допекала и в конце концов допекла, терпеть ее не стало мочи, повел головой в сторону. – Ну и ну! Сказать генералу Звереву больше было нечего. «Ты понял, что будет иначе? Делаю второе предупреждение, арбуз – ты совершил две ошибки. Третьего предупреждения не будет. Понял?» Генерал остановил магнитофон. – Что же в результате получается, Волошин, две ошибки – это два звонка Белозерцева ко мне? Так? Долговязый парень в клетчатой рубашке и простых джинсах «мосшвеевского» производства, сидевший за приставным столиком, склонил голову: – Так, товарищ генерал. – Каким же образом они меня засекли, а? Как прослушали разговор? – С этим мы разбираемся. Думаю – разберемся. Не сразу, но разберемся, товарищ генерал. На телефонном узле уже работает техническая группа. – Сколько человек? – Двое. – Сегодня разобраться нельзя? – Дайте немного времени. Если бы это была спецсвязь, тогда бы дырку нашли скоро, но вы-то говорили через город, а там дырка на дырке, сплошное решето, и через какую щель утекает вода – сразу не определить. Но наши работают, и работают быстро и аккуратно – комар носа не подточит. – Вода, – хмыкнул Зверев, – тоже мне сравненьице! Это что же, я – производитель воды? Ладно, даю вам сутки, завтра в одиннадцать ноль-ноль доложите. А теперь вот это, – генерал показал на магнитофон и нажал пальцем на клавишу. Из черной пластмассовой щели резво, с коротким клацаньем выскочила кассета. – Засекли автора? – Занимаемся, через пятнадцать минут буду готов доложить. – Хорошо. А голос-то какой… Слышали, майор? Будто через задницу говорит. А в заднице – железные зубы. – Желудочный голос. – Все равно. Он что, использует какую-то хреновину, техническое приспособление, чтобы голос так звучал? – Не думаю. Все природное. – Ничего себе природа! – тоном, полным холода, проговорил Зверев. – То кошки с шестью ногами рождаются, то рыбы без глаз, точеловек с желудочным голосом. Двадцатый век, будь он неладен. М-да, оч-чень характерная примета – этот голос. Не надо никакой идентификации, голос – как фотокарточка, ни с кем не спутаешь, – Зверев побарабанил пальцами по столу, потом снова загнал кассету в магнитофонный зев, ткнул мизинцем в клавишу, послушал, остановил магнитофон. – Через пятнадцать минут жду вас на доклад, майор.
20 сентября, среда, 11 час. 20 мин. Ирина Белозерцева дрожащими руками накапала валокордина в стакан с холодным пузырящимся нарзаном, выпила, опрокинулась на постель, покрытую тигровой шкурой. Шкуру эту муж когда-то привез из Кении, где он успешно продавал российский алюминий, – валокордин не подействовал, по ее щекам снова густо потекли слезы. – Ко-остик! – прошептала она, кривясь ртом. – Ко-остик! Голос ее растворился в гулкой тиши комнат. Ирине сделалось страшно. Стараясь успокоиться, унять дрожь, она разжевала таблетку валидола, еще какое-то заморское снадобье – розовую овальную пилюлю, прописанную домашним врачом без всяких рецептов, она даже не знала ее названия, сладкую на вкус, подумала о том, что похищение Костика – наказание за грехи. За ее грехи. Ну зачем ей нужен был Олежка? И не так он красив, не так остроумен, не так талантлив – обычный пустой безденежный человек, пытающийся натянуть на себя маску полушута-полугероя, мало на что способный… Она заплакала сильнее, щеки от размытой краски сделались черными, краска сползла со щек на шею. – А-а-а, – задыхаясь, стараясь справиться с собой, с острой тоской, с болью прокричала она зажато, на несколько секунд отключилась – свет перед ней померк, сделался серым, крошечным, потом и вовсе погас. Ирина затихла, словно бы ее опутала неведомая хворь, подмяла под себя, лишила всего – и теперь вот решила лишить жизни… Застонав, Ирина сделала усилие, порвала путы и снова пришла в себя. – А-а! Это Бог наказывает ее за грехи, за Олежку, за мелкие увлечения и пороки студенческой молодости, наказывает Белозерцева за его похоть, за то, что вечно бегает за чужими юбками – не всегда чистыми, за Виолетту… Грешны они перед Богом, грешны. Оба грешны. Ирина снова заскулила, подтянула к себе ноги, свернулась, как в детстве, калачиком, забылась на несколько минут. Очнулась от того, что кто-то тряс ее за плечо. Ирина не сразу сообразила, что с ней, где она лежит и вообще где все происходит – в забытьи, в одури или наяву, замотала протестующе головой, попыталась оттолкнуть тяжесть, навалившуюся на нее, выкинула перед собой руки, уперлась во что-то плотное и закричала. – Тихо! – она узнала голос Белозерцева. – Чего орешь, как оглашенная? Ты что, испугалась? Это я. Она открыла глаза. Над ней действительно склонился Белозерцев, постаревший, с ввалившимся ртом и окостлявевшими висками, с тусклым, без жизни и обычного блеска взглядом. – Ты?.. Ты чего? Почему так рано? – Почему, почему… По кочану да по кочерыжке. Ладно, ты и так все знаешь. – Знаю. – Ирина снова скривилась лицом, заплакала горестно: – Ко-о-остик! – Хватит дождя! – довольно грубо оборвал ее Белозерцев. – Развела тут сырость, и без тебя кругом все хлюпает. Тошно! – он прошел к домашнему сейфу, врезанному в стену – к сожалению, только наполовину; глубже врезать сейф не удалось, стена оказалась слабой и тонкой, – замаскированному под отделение секретера, открыл его. Услышав громкое рыдание Ирины, нервно дернул головой. Он понимал, что Ирину покоробила его грубость, понимал, что надо бы дать «задний ход», отработать обратно, приласкать жену, сказать ей несколько добрых слов, но не стал делать этого, внутри у него возникло что-то протестующее, словно бы Ирина была виновата в похищении Костика. Вторично дернул головой: сдерживать себя не мог, что-то надломилось в нем, – если Ирина была в чем-то виновата, он бы убил ее. Удавил бы собственными руками. Этими вот… он посмотрел на свои руки. Вытащил из сейфа несколько пачек долларов – домашний запас «налички», который держал у себя на всякий случай, но до нужных ста пятидесяти тысяч – первого «взноса» – было далеко, затолкал пачки в синюю сумку с надписью «Белфаст», озабоченно подумал о том, что деньги все равно придется брать взаймы, может быть, даже придется попросить кредит в Центробанке у зама председателя, с которым он был хорошо знаком, перебросить кредит в посреднический банк и там превратить его в наличные деньги, поскольку напрямую «наличку» в Центробанке брать нельзя. Белозерцев закрыл сейф. Он уже немного пришел в себя. Первое оглушение, когда все предметы перед глазами двоятся, троятся, а у самого носа, словно у инфарктника, бегает прозрачная черная строчка, осталось позади, и Беозерцев обрел способность соображать. В офисе долларовой «налички» тоже оказалось мало: все-таки совместное предприятие «Белфаст» – это совместное предприятие, «джоинт венче», а не обменный пункт по превращению «зеленых» в «деревянные» и наоборот, все деньги находятся в работе, в движении, лежит и покрывается пылью только самая необходимая малость – две-три тысячи долларов, и все, поэтому Белозерцев и примчался домой. Хоть и не считал никогда Белозерцев, какой долларовый припас он держит у себя дома, в личном сейфе, но все-таки ему показалось, что денег оказалось меньше, чем он клал сюда, и поэтому он подумал с тупым удивлением, а не забиралась ли в сейф Ирина? Нет, вроде бы не должна, от сейфа у нее нет ключа. А с другой стороны, он столько раз оставлял ключ в толстой, послушно-тяжелой двери сейфа, уходил, – он вообще не делал секретов из того, что держит в своем сейфе… Показалось, что из сейфа вытек золотой ручеек. С другой стороны, денег у него, в конце концов, столько, что их можно не считать… Хотя сколько бы их ни было, а наступает некий непредугадываемый момент – и их не хватает. Как, например, сегодня. Не обращая внимания на жену, Белозерцев отнес сумку в прихожую, сказал там кому-то громко: – Да вы располагайтесь, ребята, чувствуйте себя как дома. Не стесняйтесь. Пойдемте, я вас со своей женой познакомлю. Зовут ее Ириной Константиновной. – Это мы знаем, – деликатно, стараясь не шуметь, так, чтобы два голоса прозвучали, словно один, отозвались люди, находившиеся в прихожей. – Проходите, – вновь пригласил их Белозерцев. – Ирина, это ребята из службы безопасности нашей фирмы, они пока побудут у нас дома. Мало ли что… Ирина Белозерцева с трудом расклеила слипшиеся от слез глаза. На пороге комнаты стояли двое рослых – на голову выше Белозерцева, по-гренадерски плечистых, улыбчивых парня. Даже невооруженным глазом можно было определить, что это – братья-близнецы: они имели не только одинаковые фигуры, но и одинаковые лица, улыбчиво-открытые, крестьянские, бесхитростные – такие лица: еще сохранились в сельской глубинке, где-нибудь на Севере, в Архангельской или Псковской губерниях. Ирина Белозерцева в ответ послушно склонила голову, произнесла тихим голосом: – Очень хорошо. Спасибо. – Я буду чувствовать себя спокойнее, если ребята посидят у нас, – сказал Белозерцев. – Я тоже. – Они не помешают. Мужики у нас работают деликатные, ловкие, аккуратные – будут в доме невидимы И неслышимы. Но – надежные, понадежнее всех замков и запоров, вместе взятых. Одного зовут Андреем, вот этого, – он взял за руку гренадера, стоящего справа от него, показал Ирине. – Второго, – он повел головой в сторону другого гренадера, – Володей. – Да-да, – рассеянно кивнула Ирина Белозерцева. Запомнить, кто из братьев-близнецов Володя, а кто Андрей, было сложно, слишком уж одноликими были они. – Эти ребята – лучшие в нашей службе безопасности, – на прощание заметил Белозерцев и гулко хлопнул дверью. Было слышно, как на лестничной площадке он окликнул еще кого-то– водителя или наружного охранника, судя по всему, и с шумом побежал вниз. Обжегшись на молоке, Белозерцев дул теперь на воду и не только на воду – на компот, на водку, на все жидкое.
20 сентября, среда, 11 час. 30 мин. Майор Волошин появился у генерала Зверева ровно через пятнадцать минут, по нему можно было проверять часы. Зверев завернул обшлаг рубашки, глянул на свою «сейку», прокхекхекал что-то одобрительно, потом поднял глаза на Волошина: – Разрешите расстелить карту! – Расстилают одеяло, карту раскладывают, – Зверев вместе с креслом отодвинулся от стола. Волошин разложил перед ним старую, на изгибах протертую до дыр карту, расправил ладонью. Карта эта была отпечатана, наверное, во времена царя Ивана Калиты – дряхлая, древняя, – и генерал не удержался, поинтересовался, ехидно сдвинув брови на переносице: – А чего тут у тебя ятей с ижицами нет? Куда подевал? – Если надо – нарисуем! – Шустрый ты, майор, не по уставу, – фыркнул Зверев. – К начальству относишься без должного почтения… Чего у наших секретчиков новую карту не попросишь? – Не дают-с – не оперативник, мол… – Не оперативник, не оперативник, – пробурчал генерал. – Ладно, я скажу… Волошин выдернул из пластмассового стакана толстый красный карандаш с золотым тиснением на ребристом лаковом теле, потыкал им в карту: – Звонили вот отсюда, из этого квадрата… Из телефона-автомата. Район окраинный, старый, глухой – один из немногих в Москве, где сохранились капитальные постройки прошлого века – ни хрущобы; которые пеклись, как блины, их не вытеснили, ни скороспелые брежневские девятиэтажки, ни разные горбачевские новостройки. Мрачные одноэтажные дома, именуемые гордо особняками, остались, а затеряться в них всегда было несложно. И не только нескольким людям с маленьким украденным мальчишкой – затеряться можно было целой роте горластых солдат вместе со своим автомобильным парком. – Та-ак. Что еще? – Наши ребята опросили людей, живущих неподалеку – кто звонил по телефону-автомату, кто вообще чаще всего это делает, не обратили ль они на что-нибудь либо на кого-нибудь внимания и так далее… – И результат? – Результат пока – ноль. Телефоном-автоматом там редко кто пользуется, у большинства стоят свои: район хорошо телефонизирован. Хотя есть и бестелефонные дома. – Автомат этот хоть работает? – Работает. – Ладно. Что еще сделано? – Окольцевали район, зона получилась вот какая! – Волошин обвел торцом карандаша обширное пространство, – заблудиться можно. – Грибы собирать можно, но не блудить! Тоже мне, профессионалы! – генерал недовольно покхекхекал в кулак. – Любители жареной колбасы и макаронов с крошеным сыром! Ну и что из того, что окольцевали? – Есть точка зрения, она совместная, выведена технической и оперативной службами: похищенный ребенок находится здесь. – Как там будет похищение по-закордонному? Кинднеппинг, так? – Киднеппинг, – мягко поправил Волошин. – Ить ты, знаток норвежско-английского с череповецким акцентом. – Извините, товарищ генерал… – От майора до подполковника, знаешь, какой долгий путь? – ехидно спросил Зверев. – Нет бы сказать: правильно, кивднепгеинг, но в отдельных случаях, товарищ генерал, пишут – киднеппинг. Хотя правильно все-таки будет кинд… – Еще раз извините, товарищ генерал. – Ладно, в конце концов, что кинд, что кид – один хрен, дело не в мясе, а в подливке, как говорят старые сладкоежки французы. Наполеон однажды заставил гостей съесть свою фехтовальную перчатку, и ни один человек не сказал, что это было невкусно. А вся закавыка крылась не в Наполеоне, а в соусе. Разумеешь, Волошин? А? – Так точно! – А наперед начальство так открыто не поправляй, учись у меня, старика, – и никогда не будешь бледно выглядеть. А теперь иди. В одиннадцать сорок пять у меня совещание по… как ты сказал? Киднеппингу? С двумя «п»? Вот-вот, совещание с двумя «п». Тебе, майор, надо присутствовать. Свою древнюю карту оставь у меня, я тут кое-чего поприкидываю.
20 сентября, среда, 11 час. 40 мин. День стремительно набухал тягучей жарой, совершенно неосенней, дымной, душной и по-июльски опасной, когда у людей, страдающих сердечной слабостью, неожиданно перехватывает дыхание и в жилах останавливается кровь. От распаренного асфальта начало тянуть муторным смоляным духом от которого сказывают, развивается рак – об этом действительно говорят многие, но вот только никто это не доказал, – в воздухе неподвижно висел сизый бензиновый взвар, поверх которого летала нежная, искрящаяся на солнце паутина, пахло горелым металлом, резиной, кордом, маслом, зарытыми под землю нечистотами, еще чем-то тяжелым, присущим только большим городам. Впрочем, один большой город всегда отличается своим запахом от другого большого города, у каждого города он свой и обязательно неприятный. Москва отличается от Питера, Харьков от Лондона, Екатеринбург от Токио, и есть странные, очень увлеченные люди, которые коллекционируют запахи городов, как есть и некие помешанные, что коллекционируют моря, озера и реки: ступил в воду какого-нибудь Онтарио – все, занес Онтарио в свою коллекцию, постирал рубашку в соленом прибое Красного моря – Красное море также оказалось в коллекции и так далее, точно так же отдельные сумасшедшие коллекционируют вонь городов. Белозерцев был знаком с одним таким сумасшедшим. Но знакомство никогда не давало повода для сближения, и вообще Белозерцев старался держаться подальше от пришибленных пыльным мешком коллекционеров: так было безопаснее. Белозерцев немного пришел в себя, прикинул, где может достать деньги, составил список. Первым позвонил Илларионову – банкиру, бывшему морскому инженеру, человеку прижимистому, но всегда идущему навстречу тем, у кого стряслась беда, не стал ничего скрывать. – У меня – несчастье! – сказал Белозерцев. – Я знаю. – Откуда? – нехорошо изумился Белозерцев. – Это стряслось только что, буквально два часа назад. – Земля слухом полнится. Ты думаешь, Москва – большой город и в ней, как в настоящем большом городе, можно что-то скрыть? Нет. Москва – город маленький, очень маленький… Как думаешь выходить из положения? – Начал собирать деньги… – А другим способом сына выручить нельзя? Отбить, например, выкрасть на вертолете, послать на операцию ребят из десанта, из безопасности? Я своих орлов могу тебе подкинуть. Среди них есть афганцы, обстрелянные люди… – Нет, нельзя. Сына убьют раньше, прежде чем кто-то что-то предпримет. – Уверен в этом? – Я это своей кожей чувствую. Потому и не хочу рисковать. – Значит, будешь выкупать? – Для этого и собираю деньги. – Много дать не смогу, но тридцать тысяч долларов дам. – Проценты? – Никаких процентов. Беда есть беда. В беде надо помогать. – Спасибо, Илларионыч! – растроганно пробормотал Белозерцев: в его положении сейчас не только тридцать тысяч беспроцентных долларов были важны – каждая сотня, каждая десятка. – Присылай человека, – сказал Илларионов, – чем быстрее – тем лучше. – Через пять минут к тебе поедет бухгалтер с охранником. – Не забудь прислать расписку, – трезвым, жестким голосом попросил Илларионов, мигом возвращая Бедозерцева из неких розовых нетей на землю, и Белозерцев не сдержал невольной усмешки: все-таки банкир есть банкир, несмотря на то что он, как и все люди, имеет душу и прошлое – ведь был же когда-то морским инженером, совершал плавания в банановые и табачные страны и хорошо знает законы мужской дружбы… – и тем не менее это все в прошлом. Банкир ныне своего не упустит и копеечку лежать на тротуаре не оставит – обязательно поднимет. Следующий звонок Белозерцев сделал президенту сложной, очень резветвленной и богатой структуры, именуемой довольно обыденно – акционерным обществом закрытого типа, хотя среди акционерных обществ закрытого типа Белозерцев не знал таких богатых, как это, – Марку Иванову. – Марк Соломонович, звонит президент фирмы «Белфаст» Белозерцев, попавший в беду, – с Ивановым Белозерцев не был знаком так близко, как с Илларионовым, поэтому держался с ним на почтительном расстоянии, был вежлив и, если честно, сам себе противен. Иванов относился к категории людей, которые все чувствуют на расстоянии, это не отзывчивый однофамилец генерал Веня, он все мигом понял и спросил в лоб: – Небось взаймы просить будете? – Да, – не стал отнекиваться Белозерцев. – Пожалуйста, даю в рублях любую сумму… Под сто шестьдесят процентов. – Мне нужны доллары. – А кто вам мешает конвертировать рубли в доллары? А потом – наоборот. Я вам это в своей конторе и сделаю. У Иванова он не взял ни одного рубля – Иванов грабил Белозерцева, не стесняясь. После разговора с ним Белозерцев несколько минут сидел молча, платком вытирал пот со лба и щек, кусал мокрые, болезненно покалывающие губы, ощущал слабость и одновременно злость – он бы так не поступил с Ивановым, если бы тот попал в подобный капкан. Вертикальная черная строчка начала вновь возникать перед Белозерцевым, на этот раз она повела себя очень игриво: то стекала вниз, освобождая пространство, и тогда в воздухе появлялись легкие, такие же, как и строчка, невесомые черные паутинки, то неожиданно наползала сверху, упрямо раскачивалась перед Белозерцевым, и он, поверив в ее материальность, даже махнул рукой по воздуху, пытаясь поймать. Тщетно. Так же тщетно, как было тщетно взять деньги у Марка Иванова без всякого навара – свое Иванов никогда не упустит. Следом он позвонил в знакомый инвестиционный банк, к президенту, с которым однажды, находясь за границей, вдоволь потешился над приключениями «нью рашенз», научившихся блеянием заказывать холодное пиво у бармена – впрочем, и самому Белозерцеву иногда бывало трудно заказать банку холодного пива – английские слова вдруг пропадали начисто, их словно бы ветром выдувало из головы, язык делался тяжелым, горячим, неподвижным, – президент инвестиционного банка тоже попадал в подобные переплеты и за границу теперь выезжал лишь с переводчицей. – И сплю я теперь тоже только с переводчицами, – не стесняясь, говорил он. – Изучаю язык в постели. Даже ночью, во сне. – И как, помогает? – поинтересовался однажды генерал Зверев, оказавшийся свидетелем разговора. – Помогает, – рассмеялся президент инвестиционного банка со странной фамилией Сикоков и, словно бы почуяв, что говорить на эту тему опасно – Зверев подобных вещей просто не понимает, – перевел беседу в другое русло. – Г-господи, тыщу лет, тыщу зим! – вскричал Сикоков в ответ на приветствие. – Когда повидаемся? Может, сегодня? Я вечером ужинаю во французском ресторане! Все-таки он был большим жизнелюбом, банкир по фамилии Сикоков. – Не злоупотребляй садовыми улитками, – сказал ему Белозерцев, – эскарго называются. – А я эскарго и не заказывал. Заказал целый противень лягушачьих лапок со сметанной подливкой. Длинные такие лапки, с тугой белой мякотью. Разве это хуже твоего эскарго? – Эскарго вкуснее. Попробуй как-нибудь. Ну и что нового в жизни? Как протекает она – стремительно? – Белозерцев не мог сразу, с места в карьер, просить у восточного человека Сикокова деньги – вначале надо было поговорить о жизни, о здоровье, о делах, о семье, о погоде, задать полсотни ненужных вопросов и уж потом приступать к разговору о деньгах – таков был «народный обычай», и Сикоков придерживался его строго. Впрочем, Сикоков не принадлежал к числу занудливых господ, которые при встрече на безобидный вопрос «Как дела?» или «Как жизнь?» начинают долго, со скучными подробностями рассказывать, как у них идут дела или как серо, совершенно незавидно протекает жизнь, – Сикоков был немногословен, он очень коротко отвечал – иногда одним неопределенным междометием и тут же, почти не дожидаясь следующего вопроса, старался ответить уже на него – он его угадывал. Но дань «народному обычаю» отдавал – вопросник надо было одолеть целиком. Белозерцев, хотя и чувствовал, что задыхается – времени-то совсем нет, ноль целых, ноль десятых, прошел весь круг и задал последний обязательный вопрос насчет неповоротливых западных инвесторов. – А что инвесторы? – полыхнул огнем на том конце провода Сикоков. – У нас в печати все «время ведут пространные разглагольствования насчет западных инвесторов – прилетят-де на «боинге» пузатые мешки с долларами и в полмесяца преобразят неумытую Россию, сделают, дескать, из нее процветающую капиталистическую страну… Да никакой долларовый мешок к нам никогда сюда не полезет, это все сказочки рыжего дедушки Чубайса в ночь под Рождество, и никто свои денежки не вложит в наше разграбленное, раскуроченное хозяйство: из своей ямы мы должны выбираться сами. А если кто и вложит в нас доллар, то вовсе не из сердоболия или ради благотворительности, а сделает это с одним прикидом – срезать завтра с куста два доллара. Разговоры о западных инвестициях и добрых инвесторах – пустой звук, они ведутся только ради успокоения какой-нибудь бабы Мани из Орловской или Оренбургской губернии, либо с родины Стакан Стаканыча… Ладно, чего-то я разнервничался, раскричался, – пробурчал Сикоков, стремительно остывая, – завелся на ровном месте, с полуоборота. С чего бы это? Чем порадуешь, брат? – Ничем, кроме горьких новостей. У меня три часа назад украли сына. – Ка-ак? – свистящим шепотом спросил Сикоков – у него разом сел голос, умолк. В наступившей тишине был слышен только мелкий пороховой треск. Еще Белозерцев слышал собственное дыхание. Дыхания Сикокова он не слышал. – И что же ты намерен предпринять? – наконец спросил Сикоков. – Собираю деньги на выкуп. – Ясно… Ясно, что, в общем-то, ничего не ясно. Дикость какая-то. Значитца, так… На меня можешь рассчитывать стопроцентно! Сикоков дал Белозерцеву сумму, которую тот и не ожидал получить – сто тысяч долларов, без навара, который хотел получить на чужой беде тот же Марк Иванов. На первый «взнос» хватало уже с лихвой, но Белозерцев продолжал искать деньги, делать это надо было сейчас, завтра будет поздно, – он не мог рисковать собственным сыном.
20 сентября, среда, 11 час. 50 мин. Совещание у Зверева началось ровно минута в минуту. Майор Волошин – заместитель начальника технического отдела из зверевского предбанника даже не уходил к себе, уйти – только время потерять, покурил, сидя в уголке с пепельницей на коленях и поглядывая в окно на редкие светящиеся облака и макушки деревьев. Народа на совещании было немного, и Волошин понимал почему – милиция стала дырявой, многие сотрудники ныне, не стесняясь, работают и туда и сюда, и «нашим» и «вашим», делают это, даже не краснея лицом и не видя в собственной продажности ничего плохого. Впрочем, сволочи никогда не считают, что они сволочи. Резкие слова всегда вызывали в Волошине смятение, он замыкался и отводил взгляд в сторону, не желая смотреть на тех, к кому были обращены такие слова, – а слово «сволочь» было резким, он посуровел, опустил взгляд к полу и так, с опущенным взглядом, вошел в кабинет Зверева. Из собравшихся он хорошо знал только майора Родина – щуплого, с узкой грудью и поступью балерины оперативника, награжденного двумя боевыми орденами, с остальными лишь встречался, иногда здоровался в коридоре либо в столовой, но близко не сталкивался. Покхекхекав в кулак, высморкавшись – слишком много ненужных движений, жестов и вообще звуков, запаренность, – и снова покхекхекав, Зверев обвел всех глазами и сказал: – В общем, так… «Это все равно, что начать передовую статью в газете со слова “Однако”. Как у Ильфа с Петровым», – невольно отметил Волошин. Ни симпатии, ни неприязни к генералу он не чувствовал, и вообще для него было важно не то, насколько представителен начальственный сундук и как ладно он умеет носить лампасы, либо наоборот, вообще не умеет, смахивает на курицу, ходит в неглаженых брюках с отвислыми коленями и не бреется по двое суток – все это для Волошина делом десятым, двадцатым – главное было, какой из сундука профессионал. Профессиональные качества. Для майора Родина, насколько знал Волошин, – тоже. – Мы собрались затем, чтобы помочь одному хорошему человеку, – сказал Зверев. – Люблю нестандартные речи! – прошептал Волошину сидевший рядом капитан в летней форменной рубашке с короткими рукавами, фамилии его Волошин не знал, поэтому не стал отвечать. Генерал вкратце, привычно покхекхекав в кулак, рассказал, в чем дело и что случилось с «хорошим человеком», закончил свою речь знакомой всем фразой: – У нас мало времени. – Хотел бы я видеть человека, у которого много времени, – сказал Волошину сосед-капитан. Волошин опять промолчал – капитан начал его раздражать. Вообще Волошин, как и многие люди, обладал способностью отгораживаться от назойливых коллег и просто докучливых людей, стремящихся заглянуть в чужую замочную скважину, мог сидеть в своем узком, неудобном, но зато совершенно непроницаемом коконе сколько угодно, он и сейчас готов был забраться в кокон, чтобы отгородиться от капитана. – Скажите, г-госп… товарищ генерал, а этот хороший человек, бизнесмен этот, знает, что мы собираемся ему помочь? – спросил Родин. Он до сих пор не определился, как ему во время господ и сударей? обращаться к начальству – «господин генерал» или «товарищ генерал», – хотя в милиции все обращались друг к другу по-старому, звали товарищами и сержантов, и генералов, независимо от чина. На господ никто не претендовал, но уже прослышали, что кое-где обращаются друг к другу не иначе как господа, – правда, пока без «вашего превосходительства». «Ваше превосходительство» – это еще впереди. И вообще, многое еще впереди… – Нет, не знает, – ответил Зверев. – А не может случиться так, что наши действия с этим бизнесменом окажутся, говоря современным языком, неадекватными? – Родин как в зеркало глядел – видать, уже сталкивался близко с бизнесменами, с разбоем и похищениями, – собственно, это была его работа – и мог просчитать нечто такое, что не просчитывали другие. – Может случиться такое, но этого надо избежать, – сказал Зверев. – Думаю, способ, как это сделать, мы найдем. Итак, на всю операцию отведено два дня, третьего дня нет, ребенок может быть убит. Управимся в один день – будет еще лучше. – Мы предполагаем, Бог располагает, г-госп… товарищ, генерал, – сказал Родин. Только сейчас Волошин понял, что перед словом «товарищ» Родин делает приставку «г-госп…» специально, словно бы насмехаясь над временем, в котором они жили, над так называемыми демократами, над сумятицей и великим дележом и, естественно, над самим генералом. – Главное сейчас – иметь побольше информации. – Верно. И поменьше утечки ее, – согласился генерал. – Полный пакет информации будет иметь только узкая группа… Из числа собравшихся… – Зверев снова обвел глазами всех, кто находился в мрачноватом, словно бы пропитанном духом прежних времен, кабинете, – из числа собравшихся – я, майор Родин и майор Волошин. Остальные будут иметь информацию, касающуюся только их участка.
20 сентября, среда, 11 час. 50 мин. Параллельно с совещанием у Зверева в другом ведомстве – на Лубянке у генерала Иванова – также шло совещание. По тому же поводу. Оба совещания совпали минута в минуту.
20 сентября, среда, 11 час. 55 мин. Деверь достал из-под дивана модный чемоданчик-кейс с железной аккуратной пластинкой «хитачи», прикнопленной к гофрированному боку чемоданчика, аккуратно, едва дыша, чтобы не повредить, извлек оттуда большую черную видеокамеру с широким хрустальным зраком, раструбом видоискателя и множеством кнопок на панели. Вставил в паз батарею питания – черный матовый кирпичик, – словно бы патронный рожок вогнал в автомат, – пробурчал, ни к кому не обращаясь: – Чтобы этой чертовой техникой пользоваться, надо специальное образование иметь… Окончить какой-нибудь операторский факультет с электронным уклоном. Либо этот самый… ВГИК. Клоп не выдержал, «подмазал» начальство – очень уж ему захотелось сказать Деверю что-нибудь приятное: – Но голова-то у тебя варит, как будто ты этот ВГИК два раза окончил, – со всеми кнопками справляешься. – Да только не всегда справляюсь так, как надо, – проворчал Деверь, навел глубокий, таинственно посвечивающий фиолетовым светом зрак на Клопа, скомандовал: – А ну, замри! Клоп замер, Деверь нажал на кнопку спуска, послышался ровный тихий звук, и Деверь недовольно покачал головой, глядя в раструб искателя: – Ну и рожа у тебя, Клоп! – И чем же она тебе не нравится? – Да кирпича просит. Больно непотребная. – А-а, – миролюбиво протянул Клоп. – Она у всех нас кирпича просит. У всех такая. Без исключения, – Клоп выразительно глянул на Деверя, помотал перед собой рукою, скорчил физиономию объективу, высунул толстый, с белым нездоровым налетом язык и замолчал. – Ты не молчи, Клоп, ты говори… Поговори со мной, например. Расскажи что-нибудь интересное. Я уже съемку делаю. – А что говорить-то, когда нечего говорить, а что говорить-то, когда нечего говорить, а что говорить-то, когда нечего говорить… – длинно и нудно завел Клоп. Где-то когда-то он слышал такую присказку – то ли с экрана телевизора схватил, то ли по радио, сейчас присказка очень кстати пригодилась ему. Клоп был доволен этим обстоятельством – он хоть и не Деверь, который способен управляться с тридцатью кнопками видеокамеры – кнопок действительно насыпано больше, чем пуговиц на деке баяна, – но тоже показал, что и скроен ладно, и шит не по-банному. – Все, хватит, – недовольно проговорил Деверь. – Разболтался! – Но ты же просил! – Хотя бы стихотворение какое-нибудь прочитал. Пушкина, например. А то завел какую-то молитву. Лабуда. – Пушкина я не помню. – Тогда этого самого… Рассола Гамзатова. – О таком я вообще не слышал. – Интеллектуал! Вумный, как вутка! – Деверь отмотал пленку назад, ткнул пальцем в оранжевую кнопку, и из резинового раструба видоискателя полился ровный сильный свет. Приник к раструбу. – М-да, Клоп, рожа у тебя все-таки… М-да. Показательная. Не дай бог, вечером в подъезде встретить. На, посмотри! – он откинулся от раструба, кивком показал, куда надо смотреть. Клоп тщательно отер большой крапчатой рукой рот, будто собирался отведать чего-нибудь вкусного либо уже отведал, аккуратно, боясь прищуренным, враз заслезившимся глазом раздавить камеру, приник к раструбу, промычал что-то восхищенное в отличие от Деверя, он, видимо, понравился себе, проговорил удовлетворенно, хотя и с некоторыми виноватыми нотками в голосе: – Ну и что рожа? Рожа как рожа, самый раз для конца двадцатого века. – Ого, как высоко засадил! Круто. Ты что, газетку в туалете прочитал? Последний номер? Все, хватит кино про себя смотреть, давай снимать кино про других! – Деверь отобрал у Клопа камеру, навел объектив на сгорбленного молчаливого Костика. – Эй, парень! Изобрази улыбку! Костик отвернулся от видеокамеры, плечи у него приподнялись, по-птичьи мелко задергались, изо рта вырвался тонкий захлебывающийся звук. – Не хочешь – не надо, – сказал ему Деверь. Он продолжал снимать Костика и в таком состоянии – снимал его надломленную, смятую, словно бы сбитую влет дробью, фигуру, скулящее мокрое лицо, предметы, которые находились рядом с ним. Глядя на Костика, любой мог бы заплакать. Деверь должен был снять Костика на кассету, но не знал, какого Костика лучше запечатлеть – захлебывающегося плачем, в слезах, или же смеющегося, радостного, с большим тульским пряником в руке, измазанного вареньем, или какого-нибудь еще, просящего, ждущего, когда папа и мама освободят его, – у каждой из этих подач были свои плюсы и свои минусы, поэтому Деверь снимал Костика, совершенно не представляя, войдут эти кадры в «фильм» или нет. Вечером он должен был сдать пленку человеку, который приедет за ней специально, – утром смонтированный «фильм» будет передан Белозерцеву в обмен на сумку с долларами. Деверь, конечно же, прикидывал, каким должен быть этот «фильм», какой Костик поставит Белозерцева на колени – плачущий или смеющийся, но пока ничего путного не придумал, продолжал снимать плач Костика, морщился от тупой тяжести внутри, от собственного дыхания, отдающего водочным пополам с рыбой запахом, ощущал, как у него на шее дергается тонкая непокорная жилка. «Это все от недопития, – родилась в голове «вумная» мысль, – все болезни от недопития, особенно простудные. Впрочем, болезни от нервов бывают тоже. Хотя если разобраться хорошенько, то и они – также от недопития».
20 сентября, среда, 12 час. 00 мин. Денег набралось уже на две передачи. Белозерцев понял, что первый барьер взят и немного поспокойнел, обрел возможность трезво соображать, совмещать одну информацию с другой, делать этакие аналитические выжимки – то самое, что стоит дороже денег, дороже золота, дороже всего самого ценного, что есть в деловом мире. Дышать стало легче, из груди исчезла боль, он перестал ощущать свое сердце. Когда человек слышит нервный, пугающе-громкий стук собственного сердца, отдающийся толчками в ключицах, звоном в висках, стеснением в затылке – значит, сердце у него не в порядке, надо идти к врачу проверяться, а потом килограммами глотать лекарства. Дух зависит от тела, от состояния сердца, почек, печени, мочевого пузыря, желудка, всего, что составляет его плоть, зависит от дерьма. И эта зависимость должна обязательно вызывать скорбные мысли о непрочности и уязвимости не только бытия – всего мира. Всего, что способно двигаться, дышать, бороться, есть, испражняться, делать пакости. Белозерцев нынешний – то есть двадцатого числа, двенадцати часов дня, был совсем иным Белозерцевым, чем, допустим, вчера, позавчера или всего два часа назад. Произошли изменения, в том числе и в организме. У него сейчас совсем другое состояние духа, другое состояние плоти, другое состояние мозга… Он совершенно иной, чем был час назад. Сейчас он был способен бороться, а час назад – нет. Но опять-таки – как бороться? Если постоять за себя в уличной стычке – да, это он мог, зубами выдрать кредит у президента банка, который его ненавидит, – тоже мог, защитить «Белфаст» в арбитражном суде – и это мог сделать, несмотря на свое пришибленное состояние, как мог постоять и за свой дом, за семью в случае налета, а вот за Костика, угодившего в чужие страшные лапы, находящегося сейчас невесть где, он был готов биться до последнего, готов был отдать за него собственную жизнь, но не знал, как действовать, боялся сделать неосторожное движение – тут все надо тысячу раз взвесить, две тысячи раз примерить и только потом совершить первый маленький шажок. Любая неловкость, любое неточное движение могут окончиться бедой. Он вытащил из кожаного, пристегнутого к поясу кошелька аппарат сотовой связи, встряхнул его, будто градусник, с которого хотел сбросить температурную нитку, потом вытянул антенну и нажал на клавишу включения. Все помеченные цифрами кнопки, густо заселившиеся на внутренней части трубки, зажглись зеленоватыми разбойными огоньками. Аппарат работал. Но молчал – Белозерцеву не звонили. Он вздохнул, загнал антенну в паз, выключил аппарат и положил его на стол. Кроме Илларионова и Сикокова ему помогли Бурштейн, президент медицинского банка – старый друг Бурштейн, понимая, в каком состоянии находится Белозерцев: все цвета перед ним, наверное, пропали, кроме цвета боли и еще, может быть, некоторых серых оттенков тоски, выделил, как и Сикоков, сто тысяч «зеленых» наличными, без всяких процентов; помог Рудик Мидарян – владелец рекламного агентства «Ага», он дал двадцать тысяч долларов. Еще – Александр Свиридов – владелец издательской-распространительной сети «Спорт для каждого», Саша Яковлев из государственного акционерного общества «Москва» и другие – в общем, тех, кто помог, было больше, чем тех, кто не помог. Тех, кто не помог, Белозерцев решил вычеркнуть из своей жизни – не было у него ни таких друзей, ни таких знакомых, а были так себе – случайные люди, тени, физиономии – никто, в общем. Хотя характер у Белозерцева был такой, что он не то чтобы человека выбросить из своей жизни – он не мог выбросить даже домашнюю, способную только гадить да красть тапочки собачонку. Каждое такое движение, считал он, оставляет след, метку, плохую память – то самое, за что потом придется отвечать. И наверное, был прав. Впрочем, след оставляет все – и это заносится в особый реестр, отмечается в книгах – и букашка, раздавленная каблуком, и прихлопнутая тяжелой ладонью божья коровка, и майский жук с выдранными крыльями, и кастрированный ради забавы кот, и безлапый голубь – за все потом приходится отвечать. Он выбрался из кабинета на улицу – захотелось немного подышать свежим воздухом, увидел рядом с собой Бориса, шофера. Спросил машинально: – Ты что, Борь? – Да так… Мало ли чего, Вячеслав Юрьевич… Борис подстраховывал его, охранял, Белозерцев понял это и благодарно коснулся пальцами его плеча. – Ты Москву любишь, Боря? – Очень. Я же коренной москвич. – И я коренной москвич. Только вот раньше я Москву любил, а сейчас нет. Не та она стала, совсем другая. Что такое чужая беда, не понимает. Куда ни глянь – всюду враждебные лица. Готовили строителей светлого будущего, а приготовили… дерьмо какое-то, которое плавает и не тонет. Наемных убийц, воров, сутенеров. Страшно жить в такой Москве. Белозерцев скользнул взглядом по глухому, с зашторенными окнами дому, расположенному напротив «Белфаста», подивился его нелюдимости, подумал о том, что сейчас, наверное, в Москве большинство домов – такие. Стучаться некуда. Не откроют. Эх, Москва, Москва…
20 сентября, среда, 12 час. 15 мин. Волошин постучался в обитую черным кожзаменителем зверевскую дверь – секретарша ушла в буфет чаевничать, стол ее стоял пустой, предупредить генерала было некому, поэтому Волошин решил обойтись без обычного расшаркивания ножкой и соблюдения неких правил, при которых генерал был небожителем, прописанным в горных высях, а майор»– всего лишь майором, человеком, стоящим на хлипкой скрипучей перекладине где-то между небом и землей, посреди лестницы, и не понятно еще, сумеет он подняться выше, к полковничьим звездам да к генеральским лампасам или же хряснется с лестницы вниз. Майор – это критическое звание, через которое многим не удается перевалить – так с майорскими погонами и уходят в отставку. – Заходи, чего скребешься, как мышь? – услышал Волошин фомкий недобрый голос генерала. – Словно болячки расчесываешь. – Когда Волошин одолел притемь тамбура и генерал рассмотрел его, то немного смягчился и голос стал другим, и складки, образовавшиеся около рта, разгладились. – Это ты, майор? Ну, выкладывай, с чем пожаловал. Только помни, во времена Алексея Тишайшего тем, кто приносил плохую весть, рубили голову. – Не знаю, какая у меня весть, товарищ генерал, плохая или хорошая… Вам решать. – Человек я, майор, добрый, топор держу всегда в наточенном состоянии – в крайнем случае резекция будет безболезненной. Голову твою заспиртуем и сдадим в музей МВД. Выкладывай! – Проверили телефонную будку, из которой был сделан звонок. Любопытная деталь – к будке под землей проложен кабель. – Фью-ють, – не выдержав, невольно присвистнул Зверев. – Теперь все становится на свои места. Все понятно… Куда выведен кабель, обнаружить не удалось? – Пробуем. – Хорошо. Обязательно сообщи об этом майору Родину. Больше пока никому. Все понял? Не то клопы в нашем заведении обязательно зашевелятся – через них информация как пить дать уйдет. Волошин вышел, а Зверев, обхватив крупную лобастую голову руками, задумался о том, что время наступило хуже, чем в Гражданскую войну, на работе сотрудникам уже нельзя доверить закрытую служебную бумагу или хотя бы мало-мальский секрет, как только доверишь, так все, можно считать, что это уже не секрет. – Тьфу! – сплюнул генерал Зверев в сторону и выругался.
20 сентября, среда, 12 час. 20 мин. Волошин понимал, что если он отыщет распайную коробку, место, к какому дому выведен кабель, протянутый от телефона-автомата, то мигом снимет головную боль и у себя, и у Родина, и у генерала Зверева. Для начала Волошин нашел знакомого капитана в районном управлении внутренних дел. При очередном делении не все было ясно, черта с два поймешь, кто куда отошел, кто кому ныне подчиняется – кроме районов были созданы округа, округа в свою очередь также были поделены, сотрудников не хватало, ни один бюрократ не мог ответить, кто перед кем должен ломать шапку, кто в городской милиции находится, кто в муниципальной, кто в окружной, кто в районной милиции, кто в рыночной, а кто дежурит в отделениях, занимается низовой работой – народу нигде не хватало, все оказались раскиданными по разным углам, спеленатыми по рукам и ногам, при работе все вроде бы находятся, но не при деле. Более слабой и беспомощной милиция не была никогда. Работники посильнее из милиции ушли – их подобрали кооперативные структуры, разные Белозерцевы и иже с ними, для которых иные милицейские чины были готовы в блин раскататься, лишь бы угодить, – и завтра может сложиться такая обстановка, что Белозерцева уже некому будет обслуживать. Все переместятся к другим Белозерцевым, к коммерсантам и банкирам, к денежным «нью рашенз». Украли у Белозерцева сына – что ж, плохо, конечно, но из этой ситуации он должен будет выкручиваться сам. И этот грустный момент наступит уже скоро, очень скоро. С капитаном из районного управления Волошин когда-то вместе учился в университете, на юридическом факультете. В университете их пути и разошлись: будущего капитана переманили в «Вышку» – Высшую школу милиции, а Волошин остался в МГУ. Внимательно просмотрев список сотрудников районного управления, Волошин остановил взгляд на фамилии Корочкина. «Тот Корочкин или не тот?» Позвонил. Оказалось, тот. – Я тебя вычислил методом тыка, – сообщил он Корочкину. – Лучший научный метод, с его помощью сделано столько открытий! Сколько же мы не виделись? – Ладно, выкладывай, чего тебе от нашей управы надо? – Корочкин решительно пресек сентиментальные воспоминания ветерана Волошина. Волошин не обиделся. – Ничего не надо, кроме шоколада, знаешь такую присказку? Нужна подробная карта квадратов Же пятьдесят шесть, Же пятьдесят семь и Же пятьдесят восемь. С указанием домов. Сумеешь достать? – Что, в городском управлении уже и карт своих нет, обирает районные? – Корочкин не упустил случая поддеть представителя вышестоящего управления.Знакомая ситуация: этих районщиков хлебом не корми, дай только пару кнопок в стул представителю «города» загнать. – Есть, да районные лучше. Печать на них четче. Давай, Корочкин, не жмись. – Расскажи хоть, в чем дело, что так город заинтересовало? – Много будешь знать – скоро на пенсию уйдешь. Конечно, карта имелась и в городском управлении, но проще взять ее было все-таки в «районе» – это ведь их территория, их земля, они знают ее в несколько раз лучше, чем «город». Через десять минут подробная карта района, откуда были сделаны два телефонных звонка вымогателей, лежала на столе у Корочкина. – Тебе карту привезти? – спросил Корочкин насмешливо. – Или по почте прислать? – Спасибо за идею насчет почты. Только я, пожалуй, сам приеду. У Волошина была своя машина – старый, с царапинами на бортах «жигуль» пятой модели, – майор предпочитал ездить не на дежурной «волге» и не на общественном транспорте, а на своем «боливаре» – так было надежнее.
20 сентября, среда, 12 час. 35 мин. Многие из нас не единожды задумывались, откуда у «нью рашенз» деньги? Откуда они взяли их, где напечатали? Из каких тайников достали рубли и доллары – да не мятыми жиденькими пачечками, где каждый рублик двадцать раз обслюнявлен и сорок раз просчитан и пересчитан, а целыми чемоданами, легковыми машинами, грузовиками, вагонами – не может быть, чтобы все это хранилось в сберкассе… Все, почти все ворованное! Белозерцев тоже об этом думал. Собственно, ему не надо было рассказывать, откуда он сам взял свой капитал, откуда прыгнул в «богатенькие Буратино». Единственное что – иногда его брал за горло и давил, давил, давил секущий страх: вдруг найдутся люди – какой-нибудь Феликс Дзержинский конца двадцатого века «с сотоварищи», – и все раскопают? Ведь тогда Белозерцеву пришьют даже то, в чем он совсем не виноват – и нищих одичавших старух, живущих на чердаках и в подвалах, среди труб отопления и гнусных крыс, на ступеньках, в подъездах, и бомжей, убивающих друг друга из-за корки хлеба, и заслуженных, в золоте орденов фронтовиков, чьих сбережений, скопленных за долгую трудовую жизнь, в результате двух павловско-гайдаровских чихов не хватило даже на то, чтобы купить неокрашенный деревянный гроб – их хоронят в полиэтиленовых мешках, – и лопающихся от жира чиновников из многочисленных администраций, и афганских ветеранов, ставших бандитами, и русских людей, погибших в Чечне и в Таджикистане, – собственно, этот список огромен, и когда начнут подбивать бабки, то вместе с другими, с теми, кто в этом виновен по-настоящему, накроют и его, полувиновного. Хоть и возникали у него мысли, от которых останавливалось сердце и белели глаза, тело делалось ватным, бесчувственным, чужим, а все-таки не виноват Белозерцев во вселенском воровстве, в том, что происходит, в хапужничесгве неразборчивых в вопросах чести лаборантов, дорвавшихся до кожаных правительственных кресел. Сейчас проще показать пальцем на того, кто не ворует, чем на тех, кто ворует. Последних слишком много, не сосчитать. Тьма. Он успокаивал себя мыслью, что до этого дело не дойдет, а если дойдет, то он будет далеко не в первых рядах. И даже не во вторых. И быть может, и не в третьих… На некоторое время его отпускало, на душе делалось легко, бесшабашно, будто после хорошего вина, но потом снова наползала в душу серая холодная тяжесть. Видать, Белозерцев здорово провинился перед Богом, раз по нему сегодня влет ударили дробью, свалили с небес на землю. Может, действительно он виноват в том, что в Москве голодают нищие старухи, а проездной билет в метро равен минимальной зарплате – один только месячный билет! На одного человека. Что же в таком разе делать? Он невольно закрыл глаза, ощутил внутри себя пустоту, тоску – сырую, сочащуюся, могильную. От такой тоски глаза всегда бывают мокрыми, еще внутри была боль, к которой он за нынешний день уже немного привык. Что делать, что делать… Извечный вопрос недоумков, любящих копаться в человеческих нечистотах. Чистых людей нет, Россия – грешная страна, ангелы на ее земле уже давно не рождаются, за все годы советской власти – ни одного. Можно, конечно, свой капитал пустить в распыл, фирму – вернее, половину фирмы, которая принадлежит ему, продать второму совладельцу, Фастрейн с удовольствием ее купит, деньги раздать и пойти работать на Автомобильный завод имени товарища Лихачева сменным инженером. А что, все может быть, все ведь под Богом числимся, у всех судьба сплошь в зигзагах: сегодня ты – преуспевающий бизнесмен, денежный человек, а завтра – голь перекатная. Россия богата такими превращениями… Он с сипением, сквозь сжатые зубы, всосал в себя воздух – слишком тяжело сидеть здесь, в кабинете, где пахнет потом, табаком, чьими-то дешевыми духами – Ольгиными, что ли? Вряд ли, ведь Зоя Космодемьянская не знает запаха одеколона, губной помады, пудры и духов, – чем-то нечистым… гнилыми зубами, может быть? – Белозерцев с шумом выдохнул и, возвращаясь из далеких тоскливых нетей на грешную землю, приоткрыл глаза. Посмотрел на «панасоник» – может, у него сели батарейки или что-то еще, иначе чего так долго он не подает голоса? – перевел взгляд на аппарат сотовой связи. Все телефонные аппараты были исправны. Тогда какого же черта они молчат? Белозерцев застонал. Время тянулось слишком медленно, оно обратилось в пытку, которую не всякому дано выдержать. Душевную муку можно сравнить лишь с физической, когда человека пытают, сталью рвут живое тело, выдирают зубы и ногти. Не-ет, это терпеть больше нельзя, как нельзя больше сидеть в одиночестве. Он нажал кнопку, вызывая Олю. Та возникла мигом, словно сидела не за своим столиком, а стояла за дверью, прислушиваясь к тому, что творится в кабинете шефа – бледная от сочувствия к любимому начальнику, с прямыми мужскими плечами, коротко остриженными волосами неопределенного цвета, без единого косметического мазка на лице. – Высторобец не вернулся? – спросил Белозерцев глухо, невольно отметим, что он не узнает своего голоса. – Нет еще. А вот водитель «мерседеса» вернулся. – Как его зовут? Секретарша удивленно глянула на Белозерцева: неужели он не знает имени шофера, который не раз работал с ним, подменял Борю, однажды даже возил на переговоры в Питер… Белозерцев раздраженно, словно от укола, дернул головой. – Да знаю я, знаю, как его зовут, но сейчас, видишь ли… – он повертел обеими руками над головой, изображая что-то непонятное. – Неужели неясно, что у меня все повылетало из головы? Я даже имени собственной матери не помню. – Павел Сергеевич. – Что «Павел Сергеевич»? – Его зовут Павлом Сергеевичем. – Верно, – ощущая противную болезненную сухость во рту, пробормотал Белозерцев, ненавидяще посмотрел на «панасоник», словно бы считал его главным источником беды, отвел взгляд: так и тянуло грохнуть по аппарату кулаком, превратить его в пластмассовое крошево, – Павел Сергеевич, да, его зовут как нашего министра обороны… как его фамилия? Грачев. Что рассказывает Павел Сергеевич? – Ничего, – коротко ответила Оля. – А если поточнее? – Он не может прийти в себя. Шок. Его трясет. – Л-ладно, давай этого трясуна сюда. – Да он разговаривать не может, мычит только – из него выбили все слова. Что вам даст эта беседа? – Не знаю, – с трудом переступив через себя, признался Белозерцев – он не хотел обсуждать с секретаршей вопросы, которые ее не касались. И что за совково-комсомольская манера заступаться за всех, делать благородную мину и считать при этом себя Героем Социалистического Труда! Но игра-то при этом какая, игра! – Все равно я хочу с ним поговорить. Как мужчина с мужчиной. Пусть крепится. Я хочу понять, в конце концов, некоторые вещи, которые не понимаю. – Хорошо, я сейчас приглашу Павла Сергеевича, – вид у Оли был недовольный, светлые, едва приметные на лице бровки сошлись в одну линию, подбородок утяжелился, сделался совсем мужским, борцовским, выпятился упрямо вперед – у этой девушки был мужской характер. «Интересно, какая она в постели? – неожиданно подумал Белозерцев. – И вообще, пробовала она когда-нибудь мужика или нет? Из таких Стенек Разиных иногда получается нечто занятное… Не попытаться ли?» – вяло спросил он самого себя, отметил невольно, что рядом с бедой, с кровью могут уживаться такие пустые непотребные вещи, как мысли о постели с героиней Гражданской войны или с бабушкой русской авиации, что, впрочем, одно и то же. Во рту у него сделалось сухо, он отвел взгляд в сторону и произнес упрямо, тоном, не терпящим возражений: – Зови! Когда водитель вошел в кабинет, Белозерцев не узнал его: у дородного, с брюшком и сытой розовой физиономией Павла Сергеевича совершенно не было лица, вместо лица – серая гладкая плоскость с прорезями рта и глаз и двумя крохотными дырками ноздрей, одно плечо криво приподнято над другим, ноги тоже в разные стороны, они разъезжались, словно на льду – коленки были сведены вместе, а ступни широко расставлены – такое впечатление, что водитель побывал в пыточной, на дыбе. Смотреть на него без боли было нельзя. – Как это произошло? – тихо, чувствуя, что внутри усиливается боль, спросил Белозерцев. В ответ послышалось сдавленное мычание. Павел Сергеевич раскрыл щель-рот, скривился жалобно, плоское лицо его от этого не перестало быть плоским, в щели показались желтоватые, основательно попорченные никотином зубы, вылез черный, словно бы отбитый, язык, и Павел Сергеевич закрыл рот. – Это пройдет, – сказал ему Белозерцев, – нервная встряска, как и аллергия, таблетками лечится плохо, но со временем проходит сама. Простите, Павел Сергеевич, что я вас мучаю, но расскажите, как все произошло? В ответ снова раздалось мычание, Оля была права: водитель не мог говорить, его сейчас лучше было вообще не тревожить. А то еще хватит кондрашка прямо в кабинете, инсульт или какая-нибудь иная противная пакость, будет тогда Белозерцев платить этому человеку пенсию до гробовой доски. Из мученически раскрытого рта водителя выпростался слюнный пузырь, беззвучно лопнул. Белозерцев брезгливо отвел глаза в сторону. Трудно было поверить, что человек за несколько часов мог превратиться в такую вот развалину, стал просто никем. А ведь был живым человеком, хорошим водителем, всегда бодрым, всегда готовым, мчаться на своей железной «бибике» куда угодно. Павел Сергеевич натужился, глаза у него округлились, покраснели – казалось, из них вот-вот выбрызнет кровь, изо рта выполз еще один пузырь, лопнул, и Белозерцев глянул на шофера изумленно, услышав довольно членораздельное: – В моторе стучит один цилиндр, машина съедает слишком много бензина. – Что, что? В каком моторе, какая машина? – Белозерцеву показалось, что он сходит с ума. А может, это сходит с ума несчастный водитель? – Повторите, Павел Сергеевич! – В моторе стучит один цилиндр, машина съедает много бензина, – Павел Сергеевич слово в слово, членораздельно, без мычания и глубоких глотающих звуков повторил то, что сказал, потом тихо, с едва уловимыми всхлипами заплакал. Белозерцев, как многие мужчины, терпеть не мог слез, всегда покидал помещение, если плакала женщина, но тут плакал мужчина. Горестно, обреченно – слезы обильным потоком катились по плоскому серому лицу водителя. – Что вы, что вы, Павел Сергеевич, успокойтесь! – Белозерцев, упершись одной ногой в пол, отодвинулся от стола вместе с кожаным, на беззвучном «шариковом» ходу креслом. – Успокойтесь! – Ы-ы-ы-ы, – раздалось протяжное, тоскливое – слабая душа Павла Сергеевича была раздавлена, он чувствовал себя виноватым перед Белозерцевым, – ы-ы-ы-ы! – Павел Сергеевич медленно опустился на колени и поднял к Белозерцеву плоское, блестящее от слез лицо. – Ы-ы-ы! – Павел Срегеевич, не надо… Полноте, голубчик! – произнес Белозерцев старомодную манерную фразу. – Поднимитесь, пожалуйста! Вам нужно немного полежать дома, отдохнуть в тиши и… вы придете в себя! Голос Белозерцева сделался заполошным, паническим – он боялся, как бы Павлу Сергеевичу не стало хуже. Прямо здесь, на глазах у Белозерцева. Шофер сделал на коленях несколько неловких шагов вперед, лицо у него исказилось, поплыло в сторону, стало страдальческим, просящим, он протянул руки к Белозерцеву – он умолял, просил прощения, и Белозерцеву надо было совершить встречное движение, шагнуть к стоящему на коленях шоферу, но он не мог сделать этого. В нем словно бы что-то замкнуло, вспыхнула боль, злость: этот человек должен был, как и Сережа Агафонов, погибнуть, но не сдать налетчикам его сына, а он… Белозерцев с ненавистью глянул в плоское мокрое лицо, протестующе, словно бы преграждая путь Павлу Сергеевичу, выставил перед собой руку: – Не надо! Конечно, кто знает, как бы все обернулось, вмешайся в утреннюю стычку Павел Сергеевич – ведь у него, как и у Сережи Агафонова, с собой было оружие, табельный «макаров», два-три выстрела из-за руля могли бы все решить, но Павла Сергеевича сковал страх. Хорошо можно было представить, как все случилось, фантазией особой обладать для этого не надо. Белозерцев на кресле подъехал к столу, нажал кнопку и одновременно выкрикнул зычно, поспешно, словно бы боясь, что водитель на коленях доползет до него: – Оля! Крик этот можно было услышать, наверное, в соседнем квартале, – странное дело, почему Оля на него сразу не отозвалась… Не услышала? Или специально так поступает – из вредности характера и осознания собственной правоты? – Ол-ля! – Белозерцев попятился от плачущего шофера, а тот все продолжал и продолжал ползти вперед, протягивая руки к Белозерцеву, как к единственному своему спасителю. – Ы-ы-ы! – безъязыко, немо, словно сумасшедший, плакал Павел Сергеевич, стремился к заветной своей цели, к Белозерцеву, он умолял, чтобы тот его простил и по злому выражению глаз, по испуганному лицу, по дергающемуся рту Белозерцева видел, что тот его не простил, и шофер, добиваясь своего, мычал слезно, тянулся к шефу: – Ы-ы-ы! – Оля, куда ты пропала? Оля! Наконец секретарша появилась – бесшумная, мужеподобная, привидением возникла на пороге. – Где ты была, Оля? – А что, уже и в туалет отлучиться нельзя? – Можно, все можно! Только… – Белозерцев безнадежно махнул рукой. – Вот… Павлу Сергеевичу плохо. Немедленно отправьте его в больницу. – Ы-ы-ы-ы! – Может, не в больницу, а домой? – бесцветные бровки на Олином лице сложились вопросительным домиком. – Я же русским языком сказал – в больницу! – Простите, но я думала, что дома будет лучше! – упрямства Оле было не занимать. Да, из таких женщин во все времена получались – и естественно, будут получаться – превосходные Зои Космодемьянские. В следующий миг она отступила назад, подняв обе руки: – Хорошо, хорошо, я все поняла! – Ы-ы-ы! Оля одним махом, по-мужски, – и откуда только силы взялись, ведь Павел Сергеевич был грузным дядей, – поставила шофера на ноги, нагнулась, отряхнула с его коленей пыль, заворковала что-то по-голубиному, едва слышно, неразборчиво. В следующий миг она вывела Павла Сергеевича из кабинета. Белозерцев устало опустился в кресло, стер рукой пот с лица: поговорил, называется – не послушал секретаршу и поговорил… Внутри по-прежнему было пусто, тоскливо – там сочились слезы, боль гуляла по всему телу, возникая то в одном месте, то в другом, во рту – сухо и горячо, как у больного. Телефоны были мертвы, не подавали никаких признаков жизни. Ни один, ни другой. В иные дни они разрываются, горланят, раздирают Белозерцева на части – звонят партнеры, клиенты, друзья, враги, разные официальные лица и лица полуофициальные, личности и так себе, никто, а сейчас нет, сейчас словно бы отрубило – и жизнь угасла. Минут через десять он снова вызвал секретаршу. – Ну что, Оля, проводили национального героя? – Да, – коротко и сухо ответила она. – Домой или в больницу? – Белозерцев представить себе не мог, чтобы Оля ослушалась его, но тем не менее задал этот вопрос. – В больницу. Как вы и велели. – Значит так, Оля… Как только он выпишется из больницы – сразу уволить. Приказ подготовьте сегодня же, я подпишу. А выйдет из больницы, сдаст бюллетень – приказу дадите ход, и пусть гуляет… – Но Вячеслав… – Никаких «но», я же русским языком сказал! – Белозерцев так глянул на секретаршу, что та мигом осеклась, в глазах мелькнул страх, пропал на мгновение, потом снова забился мелкими, проворными рыбешками: Зоя Космодемьянская поняла, что если сейчас произнесет хотя бы одно слово, следующий приказ об увольнении будет ее… Мелко-мелко, по-птичьи покивав, будто склюнула, собрала зерно с белозерцевской ладони, Оля спиной втиснулась в дверь и исчезла. Белозерцев вновь полуслепо поглядел на телефоны, голова у него дернулась – ну почему молчат эти чертовы аппараты? А вдруг бандиты уже убили Костика?
20 сентября, среда, 12 час. 55 мин. Деверь закончил съемку Костика, «сфотографировал» его в разных видах – и плачущего, и задумчивого, и с улыбкой, невесть откуда возникшей у мальчишки на губах, и просящего что-то у Клопа… Одна из сцен получилась, с точки зрения Деверя, потрясающей, как в художественном кино: Костик протягивал прямо в объектив руки и плачущим, хватающим за сердце голосом просил: – Папа, возьми меня отсюда! Ну, пожалуйста! Пап-па-а… Увидев ребенка в таком состоянии, услышав его голос, пропитанный слезами, любой отец – не только Белозерцев – все отдаст, чтобы выручить свое дитя. Деверь был доволен работой. И хотя срок на съемку был отпущен Деверю до вечера, уже без пяти минут час за кассетой приехали – на черной «волге» с «государственным» номером и антенной радиотелефона, прямым черным шпеньком торчащей из крыши. Деверь был уверен – из кассеты сделают такое проникновенное кино, что хоть на Каннский фестиваль посылай. У Полины Евгеньевны в «штате» числились всякие мастера – не только специалисты по меткой стрельбе и лихому киднеппингу…
20 сентября, среда, 13 час. 30 мин. Капитан Корочкин встретил Волошина во дворе районной «управы». По нынешним временам всякое самостоятельное управление, в том числе и милицейское, старается обзавестись собственным хозяйством, землей, постройками, техникой – даже той, которая в городских условиях совсем ни к чему: агрегатами для уничтожения сорняков на свекольных полях, картофелекопалками и тракторными косилками. Время сейчас настало такое – сегодня какая-нибудь железка, которая никому не нужна, вызывает только улыбку, а завтра ее, глядишь, можно выменять у самого Чубайса на патроны к автомату Калашникова или на запасную резину к старым «канарейкам» – фирменным милицейским уазикам. Так что двор районного управления внутренних дел больше напоминал МТС – машинно-тракторную станцию, чем… – в общем, все было понятно. Волошин загнал свой «жигуль» в угол двора, показал дежурному в зарешеченное оконце красное «муровское» удостоверение и пошел к Корочкину. – А ты совсем не изменился, – произнес он первые пришедшие в голову слова – совсем, увы, не обязательные. – Каким был – таким остался. – И ты тоже, орел степной, казак лихой, – в тон Волошину отозвался Корочкин, – худенький, тщательно причесанный, тщательно одетый, в белой рубашке с короткими рукавами, при модном галстуке, больше похожий на примерного мальчишку-школяра, чем на лихого «мента» – грозу бандитов в своем районе. – Давно не виделись, давно… Чай, кофе – что подать? – Коньяк! – Если можешь за рулем пить коньяк – получишь коньяк. – Я все могу. – Ба-алшой начальник! – поддаваясь игре, охотно улыбнулся Корочкин, раскинул руки в стороны. – Моя твоя обязан ублажать. – Насчет коньяка – это я, сам понимаешь, перебор сделал. Двадцать два, как в игре в «очко», – согласился Волошин. – А раз коньяк нельзя, то и все остальное нельзя… Отложим до лучших времен. – Это наступит нескоро. – Ты так считаешь? – А ты посмотри на улицу, посмотри вокруг себя. Разве невидно? – Философ, – ворчливо протянул Волошин: все-таки он был старше Корочкина и по званию и, наверное, по возрасту тоже, поэтому имел право на отеческое ворчание. – Ладно, выкладывай карту. – Может, все-таки расскажешь, в чем дело? А ну, выдавай служебную тайну! – Я тайн не выдаю. Карту на стол! Карта была как карта, обычная бумага, испещренная прямыми линиями, причудливо, под разными углами состыковывающимися друг с другом, образующими квадраты, пяти– и шестиугольники – странные одномерные плоские фигуры, у которых углов не счесть, все это было нерукотворное, возведенное разными людьми: по карте было хорошо видно, кто как обживал землю – загребущие старались ухватить побольше, залезть со своей межой даже на тротуар, те, кто был поскромнее, – вели себя соответственно. Знающему человеку эта карта могла сказать очень многое. – Давно этот район стал Москвой? – спросил Волошин, вглядываясь в карту – ему нужно было проникнуть в нутро этого плоского покрова, нырнуть под лоскутное одеяло. – При Промыслове. Был такой председатель Моссовета, если помнишь. Владимиром Федоровичем звали. – А год, звыняйте, дядьку, какой? – Та-ак… Дай бог память, сейчас вычислим… Примерно тыща девятьсот восемьдесят пятый. Да, в восемьдесят пятом это было. А до того это была территория Московской области. Несуразиц очень много, замечу, нагородили. Трагедии были… – Ну уж и трагедии. – Да, были и трагедии. Обычные, бытовые. Ну такой пример: отец с матерью жили по одну сторону дороги, а сын с женой и внуками – по другую, в своем доме, разделяли их какие-нибудь пятнадцать метров. А потом сюда шагнула Москва, и граница между областью и городом прошла точно по дороге. В результате отец с матерью стали москвичами, а сын с женой и отпрысками – как и прежде, остались областными жителями. Одни, в общем, оказались в одном государстве, другие – в другом. Слез было много. – Но столько слез, сколько родило СНГ, не будет никогда… – «СНГ на палочке!» Не слышал такого выражения? – Похоже на название водевиля. – Да только действие этого водевиля происходит не на сцене. – До того как стать Москвой, этот район был телефонизирован? – Не был. По-моему, только в два или в три дома был проложен воздушный кабель, и все. Телефоны появились уже потом, году так в восемьдесят восьмом. – Значит, телефоны тут есть везде, раз пустили в ход новую телефонную станцию, – во всех домах, – Волошин обвел пальцем карту. – Не скажи. За установку телефона местные хапуги брали большие деньги, поэтому не все могли позволить себе такую роскошь. – Хапугам по рукам ударили? – Кто? Уже наступил горбачевский беспредел, призывы к взяточничеству да воровству разве что только по радио не звучали. – И слово «спекуляция» стояло выше слова «благородство», – задумчиво проговорил Волошин: похоже, у него было не самое лучшее отношение к годам горбачевского правления. – Поедем дальше. Мы можем узнать, в каких домах нет телефонов? – Конечно, можем, – Корочкин подозрительно покосился на гостя, словно бы не веря ему – слишком уж простое задание, теперь он хотел понять, розыгрыш это или нет. Но лицо майора было сосредоточенным, углубленным – ни намека на розыгрыш, и Корочкин успокоился. – Завтра в это время я могу представить полную картину по телефонной части: что, где, когда, зачем, каким образом и так далее. – Никаких «завтра» – сегодня! – сказал Волошин. – Ровно через тридцать минут. Понятно, капитан? Раньше Корочкин никогда не видел своего бывшего однокурсника таким. А может, просто не знал или не обращал внимания? Да и отношения в студенческой среде совершенно иные, чем в среде служебной, это тоже надо было учитывать: на службе человек бывает застегнут на все пуговицы. И пуговицы хорошо начищены, каждая блестит, как маленькое солнце, слепит, зрение портит… – Ни себе фига, как говорили древнефиникийские цари… – Никаких «ни себе фига», как и «ни фига себе», это приказ генерала. Корочкин удивленно отметил, каким незнакомым, деревянным сделался у Волошина голос – стал совершенно чужим, неволошинским, в нем ни грамма тепла, он хотел возразить, но понял, что возражать совершенно бесполезно, раз за плечами майора стоит грозный милицейский генерал, это все равно что мочиться против ветра – как пить дать, штаны будут мокрыми, – пробормотал невнятно: – Но это же нереально. – Возражения не принимаются. Хочешь, сам звони генералу, фамилия его Зверев, и я посмотрю, что останется от тебя после этого разговора. – Рожки да ножки… – Рожки да ножки, что же еще, – подтвердил Волошин. – Хорошо. Но есть еще одно «но». Дело это для меня постороннее – я же не сотрудник городской «управы». Что скажет на это мое начальство? Меня же уволят! Без выходного пособия. – Не уволят. Ты поднимись к своему полковнику и послушай, что он тебе сообщит. – К полковнику я могу заявиться только тогда, когда он меня вызовет, а заявляться, когда захочу, – у нас такое не принято. – Ладно, – Волошин помял пальцами запястье, где на массивном обмедненном браслете у него висели часы – фирменные «командирские», подаренные министром внутренних дел, но на стрелки смотреть не стал, лишь сказал: – Ровно через две минуты полковник тебя вызовет. Хочешь, можем даже поспорить. Ровно через две минуты в комнату всунулась секретарша, с интересом стрельнула глазами в сторону Волошина, словно бы собираясь спросить: «А это что за гость?», проворковала по-голубиному нежно – ласковая была женщина: – Корочкин, к полковнику! – Ну ты даешь, Волошин, – сказал Корочкин майору и легкой пушинкой вынесся из комнаты. Волошин позавидовал ему: по воздуху летает, вот что значит мушиный вес. – Посмотри там пока подшивку газеты «Коммерсантъ», вдруг что-нибудь занятное попадется… – донесся до него голос Корочкина уже из коридора. – Ну что? – спросил Волошин у капитана, когда тот вернулся со второго этажа, где находился кабинет начальника районного управления: начальство всегда любит располагаться поближе к небу, но так, чтобы туда нетяжело было ходить. – Я в полном твоем распоряжении, – сказал Корочкин. Поглядел на Волошина с некоторым изумлением: – Шустрый ты все-таки. – Как веник, – подтвердил Волошин. – Но ты по этой части тоже не уступаешь. Теперь о деле. Если генерал через полчаса не будет иметь списка домов, в которые не проведен телефонный кабель, от двух веников останутся лишь голые прутики.
20 сентября, среда, 13 час. 50 мин. Белозерцев не видел человека, вошедшего в кабинет, он только почувствовал его, словно бы в воздухе произошло некое неуловимое смещение – воздух сдвинулся в воздухе, а может, и не воздух это был, а некая полубестелесная тень или что-то еще, очень на тень похожее, поднял голову и спросил недовольно: – Ну? В кабинете стоял Пусечка – Игорь Борисович Ланин – аккуратный, тщательно одетый, с розовыми пухлыми щечками эльфа и невинным чистым взглядом: глаза у Пусечки были голубые, глубокие, влажные, как у романтично настроенной девушки. Некоторым женщинам такие глаза нравились, некоторым – нет. Единственное, в чем подкачал Пусечка, так это в росте. Очень уж он был невелик, и брюшко, которое при росте побольше было бы совсем незаметно, у Пусечки выпирало очень даже прилично. И вообще с первого взгляда было понятно, что Пусечка не дурак вкусно поесть и так же вкусно запить съеденное. – Слава, прими мои соболезнования, – тихо произнес Пусечка, и Белозерцев от этой фразы почувствовал тяжесть в груди, сердце у него заныло, он поморщился, хотел выругать Пусечку, но вспомнил утренний разговор с Викой и воздержался от ругани. – Давай не будем об этом, – попросил он, – о чем угодно, но только не об этом. – Мы с тобой знакомы тысячу лет, ты можешь распоряжаться мною, как считаешь нужным. Хочешь, я к этим рэкетирам поеду, а? Сам! Объяснюсь. А? – Не хочу. – Могу сделать что-нибудь еще. Ты только прикажи. – Не надо, Игорь. Это не поможет, а тебе мозги вынесут из пистолета на грязный асфальт, и этим все закончится. Котьку моего спасти могу только я сам и одним только способом… Пусечка, услышав про мозги, выбитые из головы, передернулся, на крыльях носа у него заблестели капельки пота, но в следующую минуту он одолел себя, проговорил тихо и твердо: – Ради тебя я на все готов. В том числе и на это. – Спросил: – Все так серьезно? – К сожалению. Переступив с ноги на ногу, Пусечка сделал несколько крохотных шагов к Белозерцеву: – Плевать мне на мои мозги! Можешь распоряжаться мной, как считаешь нужным. – Спасибо, Игорь. Мне это очень дорого… Ценю. – Помолчал немного. – Есть одно дело, где ты мне действительно очень нужен. Выполнить его можешь только ты и больше, думаю, никто. – Белозерцев показал пальцем на глубокое кожаное кресло, стоящее у стола. – Садись! Проворно, боком, неслышными шажками – а вдруг что-то не понравится Белозерцеву, лыко не пойдет в строку и это потом отразится на зарплате – Пусечка передвинулся к креслу, опустился в него и утонул в мягкой глубокой плоти, мигом став выглядеть много меньше, чем выглядел раньше. Белозерцев не удержался, улыбнулся одной стороной рта, вторая, отчего-то спекшаяся, одеревеневшая, болела. Ланин, увидев эту улыбку, подался вперед, улыбнулся ответно. – Я тебя приглашаю сегодня на ужин, Игорь, – сказал Белозерцев. – На ужин? – Пусечка, похоже, не поверил тому, что говорил Белозерцев, попробовал встать из кресла, но мягкая, цепкая, почти пуховая плоть уже затянула его, мешала подняться. – У тебя же… у тебя это самое… – Да, у меня это самое, – согласился Белозерцев, – но это не означает, что я должен немедленно стреляться, хотя, может быть, и надо – тогда не с кого будет брать выкуп за Костика и его немедленно отпустят домой. Нет, Игорь… Жизнь идет, и то, что намечено, я отменить не могу. – Жизнь бьет ключом во все свои отверстия, как писал один литератор… Понимаю, – Пусечка облизнул губы. – Узнаю мужественного человека, – он снова облизал губы, делал он это машинально, совершенно бесконтрольно, губы у него были яркие, девчоночьи. – Когда ужинаем и где?.. – Я тебя познакомлю с одной необыкновенной женщиной, такой, что… – Белозерцев с шумом втянул в себя воздух и обреченно помотал головой, – в общем, я восхищен ею. – Если бы у меня не было Ирки или не было Костика, которому обязательно нужна родная мать, я бы женился на ней. – Разведись с Ириной. – Неудачный совет. Повторяю: Ирина – мать моего сына. – Это так просто в нынешние времена: женился – развелся, развелся – женился. – Нет, не просто. Когда-нибудь ты поймешь это сам. – А если… Не смею об этом даже думать… – Все ясно, – перебил Пусечку Белозерцев, голос у него наполнился сыростью, ржавые просквоженные нотки вылезли на поверхность, – если Костика не станет, я разведусь с ней. Мы просто обязаны будем развестись. Но это не означает, что я смогу жениться на этой женщине. Хотя она потрясающе красива… и вообще удивительная! – Белозерцев помолчал немного, будто бы прикидывал, что еще надо сказать Пусечке. – Можешь верить мне, можешь не верить, но я ее люблю. И буду любить. Наверное, всю жизнь. А вот женишься на ней ты. – Ты что? – Пусечка невольно вскинулся. – Да. – Это что, условие? – Пусечка вновь, раз, наверное, в двенадцатый, облизал свои яркие, ставшие совсем красными, словно он их намазал помадой, губы. – Нет, Игорь, это приказ. Если ты не выполнишь его, то подпишешь себе приговор. У тебя не будет денег даже на хлеб, не говоря уже о масле, беконе, севрюге, кавиаре, или кавере, как ты называешь красную икру, мартини и колбасе салями. Пусечка сморщился, прижал к вискам ладони – жест получился совершенно детский, беззащитный – у Пусечки многое получалось детским, беззащитным, так он был сконструирован, Белозерцев, заранее не принимая Пусечкина скулежа, предупреждающе поднял руку. – Список могу продолжить, он длинный. Я ведь про тебя, Игорь, знаю все. – Я никогда не подводил, не продавал тебя… – И это знаю. Но сейчас – время волков, как говорят некие мрачно настроенные газетчики. Или худых коров, как говорят другие – те, у которых внутренняя органика более тонкая. Или съеденных собак. Как хочешь, так и называй, только от перемены слов суть не изменится. Обычная преданность уже ничего не стоит. Нужно что-то другое, более высокое… – Что именно? – Пусечка едва сдержал в себе всхлип. – А ты минуту назад все точно назвал. Ты вообще правильно мыслишь. Готовность отдать жизнь, например. За друга надо быть готовым отдать то, что надо прожить так, чтобы не было мучительно больно… Островского в школе мы все учили. Да, отдать жизнь за друга, как раньше ее отдавали за советскую власть. Пусечка выпрямился, вид у него неожиданно сделался торжественным. – Я готов! – Вот это слова не мальчика, а мужа, – похвалил Белозерцев. Голос у него продолжал быть горьким. Выдвинул ящик стола, извлек оттуда плоскую кожаную коробку. Пусечкины глаза заблестели: похоже, подарок обламывается. Белозерцев открыл коробку. В ней находилась узкая изящная фляжка, отлитая из дорогого черного стекла, голову фляжки венчала золотая завертка в виде короны, сбоку в углублении были вставлены два небольших стаканчика. – Это лучший в мире коньяк, – сообщил Белозерцев, – лучше его и дороже его нет. С одного небольшого виноградника на юге Франции, этот коньяк еще Наполеону поставляли. Давай выпьем по двадцать граммов, Игорь. А то я что-то совсем не тяну – дыхалки не хватает. Когда не хватает дыхалки – жить совсем не хочется. – Давай, Слава, выпьем, – обрадовался Пусечка и этому, он уже не слушал то, что говорил Белозерцев, возможность отведать редкого коньяка обрадовала его: не орден, конечно, и не подарок, который будет памятен всю жизнь, но все же… – Коньяк украшает будни… – Как и колбаса, – не выдержал Белозерцев. Налил немного коньяка в один стаканчик, немного в другой, вязкий крепкий аромат наполнил воздух, – этим коньяком можно было пользоваться, как духами – не уступит ни «Нине Риччи», ни «Кристиану Диору», – придвинул один стаканчик к краю стола. – За твое будущее, Игорь. Чтобы в нем и лососина водилась, и телятина с кавиаром. – Спасибо, – растроганно пробормотал Пусечка, – за это я с превеликим… – Будешь слушаться – все, что я перечислил, не переведется у тебя в холодильнике. – Еще раз спасибо. – В общем, она тебе понравится, через неделю, думаю, вам надо будет уже расписаться. – А жить с ней будешь ты?.. – Ты правильно понял, Игорь. Недаром я плачу тебе деньги. Сообразительный паренек, – похвалил Белозерцев. – Да, ты прав, спать с ней буду я. Таковы правила игры. – Ясно… Все ясно… – погасше произнес Пусечка. – Тебя что-то не устраивает? Если не устраивает, скажи – до четырех часов дня тебя рассчитают, и ты еще сегодня сможешь получить свое выходное пособие. Чтобы не приходить сюда завтра. – Нет, нет, все устраивает, – поспешно проговорил Пусечка, – все в порядке. Условия приняты. Спасибо, Слава, – голос у него не выдержал, дрогнул, будто тонкий стебель, и надломился. Белозерцев на это не обратил никакого внимания, налил немного коньяка в один стаканчик, потом немного в другой, покосился на молчащий «панасоник», придвинул выпивку Пусечке. – Давай по второй. Бог двоицу любит. А еще больше – троицу, – Белозерцев втянул ноздрями коньячный дух, с восхищением покрутил головой. – Ах, какой запах! Неземной, райский просто. С ума сойти можно. Солнцем пахнет, небом, горами, морем, Францией – всем сразу! – он приподнял свой стаканчик. – Живи, брат, и не журись. Сегодня в девятнадцать ноль-ноль встречаемся в ресторане «Пекин». Пусечка поспешно вскинул свой стакашек: есть, мол, не журиться, буду, как и приказано, в назначенное время около ресторана «Пекин». Лицо его уже ничего не выражало, никакого сопротивления – только покорность, только готовность подчиниться тому, что есть, своей судьбе. А там – будь что будет. Белозерцев подумал: «А вдруг на этот вечерний час налетчики назначат мне свидание? Что ж, пусть будет так, – под ложечкой что-то заныло, но Белозерцев не обратил на это внимания, – не страшно. Тогда я внесу свои коррективы, а пока время встречи в «Пекине» я менять не буду»… Только вот как совладать с собой, с внутренним разладом, с болью, с нытьем и холодом, прочно поселившимися в груди? И вообще из него ресторанный собеседник сейчас, как из попугая ксендз, как из пионервожатого сутенер или толковый игрок в покер. Но ничего, надо брать себя в руки, надо обязательно провести эту встречу. Иначе он потеряет Вику. Он испытующе поглядел на Пусечку и залпом выпил свой коньяк. Пусечка выпил тоже. Телефон молчал.
20 сентября, среда, 14 час. 00 мин. Корочкин действовал стремительно, все схватывал на лету – у него даже походка изменилась, едва он начал работать, и сам он стал другим, даже лицо, – во всяком случае Волошин раньше, в студенческую еще пору, не видел его таким! В районе у Корочкина имелись свои прочные связи – узелки были завязаны надежно, почти не было мест, где бы не знали его: в торговле, в транспортном управлении, на рынке, на заводе по ремонту автомобильных шин, в разных, совершенно не связанных друг с другом конторах, в строительной и озеленительной, по оформлению витрин и приему пустых бутылок от населения: Корочкин везде, как выяснилось, был своим, его одинаково приветливо встречали и везде стремились помочь. Так же встретили и на телефонном узле. В коридор, где он появился, поспешили сбежаться почти все свободные от дежурства у пульта девчонки, окружили капитана, затеребили, стараясь заглянуть ему в глаза: – Корочкин! Корочкин! Когда же ты будешь жениться, Корочкин? – Очень скоро! Как только освобожусь на работе, так сразу к вам – выбирать самую достойную. – Мы все достойные, Корочкин! Корочкин был холостяком, вот его и пытались окрутить. Он лучезарно улыбался, светился, словно ангел, и влюбленно смотрел на всех девчонок сразу. Наверное, именно тот факт, что Корочкина все любили, старались помочь, даже угодить, и позволил быстро справиться с заданием – через полчаса на руках у Волошина находился список домов, расположенных в трех квадратах «Ж» и не имеющих телефонов. Таких домов оказалось сорок шесть. – Сорок шесть домов! – удрученно, перестав улыбаться и вообще погаснув, покачал головой Корочкин. – Это же целый город. Как минимум, неделю надо выяснять, кто из владельцев наступил ногой в коровье дерьмо, а кто в масло. – Посмотрим, посмотрим, – не согласился с ним Волошин, – может, не неделю, может, и меньше… – Слушай, ты бы все-таки сказал мне, в чем дело… Давай не секретничай, выдавай тайну, – попросил Корочкин, – раз уж я официально прикомандирован к твоей персоне. – Не к моей, моя персона – чрезвычайно скромная, ты бери выше – к персоне генерала Зверева Геннадия Константиновича. Корочкин в ответ не замедлил изобразить на лице почтительную мину. Приложил пальцы к виску и громко щелкнул каблуками. – Руку к пустой голове? Фи, маркиз, рыбу-то ножом! А еще офицер! Еще раз фи! – А у нас сейчас время такое, когда все дозволено и звание генерала могут дать специалисту по куриным прививкам. У вас в городской управе ведь был один такой, все и вся командовал. Геофизик. Или метеоролог. – Но не прививочник же! – Какая разница! Главное – не милиционер. Он даже не знал, что милиционер носит в кобуре и где у милицейского картуза тулья. – Не это важно, важно, что он отличал сыск от паспортной службы. Ладно, критик. Секретов я из гречневой каши не делаю, но мне приказано особо не болтать – слишком большая утечка информации. У одного очень крутого дяди, бизнесмена, украли сына. Сегодня утром. Похитители звонили из этого района, вполне возможно, из автомата, который обследовали утром, а возможно, и не из автомата. Вот так. Вуаля, как говорят французы. Есть предположение, что мальчик находится в этом районе. – Фью-ють! – присвистнул Корочкин. – А поподробнее можно? – Все подробности у генерала! – увидев, что глаза у Корочкина сделались обиженными, Волошин сжато, не вдаваясь в детали, рассказал о похищении Кости Белозерцева. Подчеркнул специально, что дело ведет сам генерал Зверев. И еще, как он разумеет, кто-то из генералов ФСК. – Фамилию фээскашника генерал Зверев, как ты сам понимаешь, не назвал. – А я-то думаю, с чего такая беготня! Тут вон оно что оказывается – генералы! – Корочкин еще раз щелкнул каблуками. – Нет слов, душат слезы! – Будешь дурить – оторву чего-нибудь с корнем, – предупредил Волошин. – Чего-нибудь очень нужное, женилку, например, будешь потом искать пластмассовый заменитель. Сорок шесть домов – это тьфу на палочке, ерунда, когда мы их рассмотрим с позиции «Зет», – позицией «Зет» Волошин называл телефон-автомат, к которому был подсоединен пиратский кабель, – сорок домов, как пить дать отвалятся, останется только пять или шесть. А с пятью-шестью мы запросто справимся. Так оно и получилось. Вскоре они изучали пять особняков, хотя «особняки» – это слишком преувеличенно сказано, особняками эти дома назвала старшая учетчица телефонной станции по имени Кира, симпатичная татарка с антрацитовыми глазами, – ко всем пяти с одинаковым успехом можно было проложить под землей кабель – и к тем, что стояли поближе к будке, и к тем, что находились дальше. – Может, сходим к будке, на месте посмотрим что к чему, понюхаем воздух, исследуем асфальт, землю, кусты – как пить дать, найдем следы! А? – юношескому задору Корочкина можно было позавидовать. – Следы должны остаться обязательно. – Нет, сейчас идти туда уже нельзя, – покачал головой Волошин, удивляясь тому, что напарник не понимает таких простых вещей. – Сейчас это уже будет засветка. Пойдем и все испортим. Они нас мигом засекут. – А разве на наших физиономиях написано, что мы менты? – Представь себе, написано! – назидательно произнес Волошин. – Наша работа накладывает отпечаток не только на портрет, накладывает даже на походку. – Подлая работа! – насмешливо проговорил Корочкин. – Подлая, – согласился Волошин, – но я ее люблю. Потому и не изменяю ей, потому и не перешел ни в одну из коммерческих структур, хотя денег платить мне обещали в сорок, в шестьдесят раз больше. – И я не перешел, – признался Корочкин с какой-то веселой хмельнойлегкостью. – Такое состояние бывает только в теплой ресторанной компании после нескольких стопок водки и двух-трех порций хорошей еды. – А теперь займемся анализом пяти особняков. Что это за особняки, кто ими владеет, кто прописан, какой величины у них участки, какие строения. В общем, нужно проанализировать все-все. Бьюсь об заклад – ровно через полчаса от пяти подозреваемых останется ровно три. – Три! – хмыкнул, не удержавшись, Корочкин. – Вот дает Васисуалий. – Может быть, даже два.
20 сентября, среда, 14 час. 20 мин. У Деверя в кожаном чехольчике, привешенном к поясу, зазвонил телефон – тот самый, сотовый. Деверь с хрустом отодрал клапан чехла, поспешно извлек аппарат, выдернул коротенькую антенну, откинул пятку-микрофон, проговорил зычно, по-солдатски отрывисто: – На связи! – Только не так оглушающе, не по-пришибеевски, – услышал он нежный голос Полины Евгеньевны, – мы же не в армии! Таким рявканьем иную слабонервную дамочку вообще можно вогнать в обморок. Хорошо, что я не слабонервная. – Извините… извините… – конфузливо забормотал Деверь. – А если я не извиню? – издевательски произнесла Полина Евгеньевна. – Жду ваших указаний! – уже тихо, с почтительными интеллигентными нотками, невесть откуда взявшимися в голосе, проговорил Деверь, вытянулся с прижатой к уху трубкой. – Ну что, пора узнавать, готов клиент расплачиваться или нет? Может, он просто некредитоспособный и тогда надо будет принимать меры. – Не может того быть, чтоб некредитоспособный, Полина Евгеньевна. Богатый же человек, не надуватель. Иначе бы наша контора не имела с ним дел, я так понимаю. – Ныне ненадувателей нет – все надувают друг друга, а в пору всеобщих неплатежей – надувают вдвойне, втройне и так далее. Верить можно только самому себе, больше никому. – Беру свои слова назад, Полина Евгеньевна. Извините. – Проверьте и через полчаса доложите мне, – приказала Полина Евгеньевна. – Теперь расскажите, как там товар? Не заплесневел еще, тухлятиной не попахивает? Деверь покосился на Костика, обреченно сидевшего на тахте с плаксивым лицом – слез у него уже не было, все выплакал, осталось только горестное обреченное выражение, ноги он свесил вниз и после недавнего окрика Деверя боялся их подтянуть к себе, подобрать, как это делают все дети. – Нет, не заплесневел, – сказал Деверь, – и запаха нет, не протух… С товаром все в порядке. – Хорошо. Нашему должнику сообщите, что в шестнадцать ноль-ноль он получит звонок по телефону с указаниями, как жить дальше. – Й-есть, Полина Евгеньевна! – почтительно и тихо проговорил Деверь. – Не перебивайте, что за манера! По телефону надо передать, какие счета надлежит оплатить в первую очередь, как вообще оплачивать товар, как будет проходить передача и так далее. Предупредите также, что возможны поправки. И следите за товаром. – Все ясно, Полина Евгеньевна. Будет выполнено на сто пятьдесят процентов. – На сто пятьдесят не надо, выполните лучше на сто. Действуйте! – коротко приказала секретарша шефа. – Й-есть, Полина Евгеньевна! Скажите только, шеф нами доволен? – удивляясь собственной смелости, полюбопытствовал Деверь. – Пока да.
20 сентября, среда, 14 час. 35 мин. Пусечка долго не мог покинуть кабинет Белозерцева – с красным расстроенным лицом он двигался спиной к двери, что-то говорил, речь его было невнятной, будто рот у него оказался забит кашей, он часто склонял свою белесую, в игривых завитках волос голову – совершал ритуальные поклоны, снова что-то говорил, но Белозерцев уже не слушал его. Да и не видел тоже. Белозерцев неотрывно смотрел на «панасоник»: когда же этот проклятый аппарат оживет? Во рту у него было сухо, горько, горячо, коньяк оживил Белозерцева лишь на несколько минут, потом все вернулось на «круги своя» и краски погасли. Один только цвет царил на его столе, в его кабинете, за окном, где продолжало петь, яриться солнце, – серый. «Панасоник» молчал. Молчал и сотовый аппарат, молчали и два других телефона – тоже городских, один из которых был личным телефоном Белозерцева, номер которого мало кто знал, второй поделен на двоих с заместителем, чтобы Белозерцев мог сбрасывать незначительных клиентов на него. Белозерцева унижали, растаптывали, плюща, словно лепешку, эта зависимость от телефонов, от неведомых людей, вмешавшихся в его жизнь; его уже сейчас, до того как все произошло, выворачивало наизнанку, рвало от дурного духа преисподней, в которую он должен был нырнуть, чтобы выручить сына. Перед глазами продолжала бегать черная прозрачная строчка, неровной струйкой проливалась на землю, спутывала его мысли в хаотичный клубок, вызывала в груди холод. Он ждал, но с каждой минутой ему становилось все труднее и труднее ждать. Белозерцев готов был заплакать, искровянить себе руки каким-нибудь острым железным сколом либо куском стекла, врезаться головой в твердый металлический угол и прошибить висок, чтобы болью перебить боль и хоть как-то одолеть, перекрыть, задавить в себе мучительное состояние ожидания. Он глядел на телефон и нетерпеливо произносил: – Ну, ну! Ну! То, что в кабинете находился Пусечка и видел Белозерцева в таком состоянии, совершенно не тревожило его: есть тут Пусечка или нет – все едино, Пусечку можно было не брать в расчет. – Ну что же ты, сволочь, молчишь? – проговорил Белозерцев невидяще, поднял кулак, чтобы грохнуть им по телефону, но вовремя одумался, сдержал себя. Пусечка сделал последний поклон, бросил испуганный взгляд на прощание – хозяин ему сегодня не нравился, он никогда не видел Белозерцева таким – и исчез. Едва он исчез, как телефон зазвонил. «Панасоник». Белозерцев рывком смахнул трубку с аппарата, прижал ее к уху. Ему показалось, что трубка была противно влажной, горячей. Когда и кто успел ее нагреть? Пусечка? – Ну что, арбуз, готов к продолжению разговора? – услышал Белозерцев грубый железный голос, ставший уже, увы, знакомым – и настолько, что он вряд ли когда сотрется из памяти. Хотя и слышал-то его Белозерцев всего два раза. Но оказалось, что два раза – это много. Он хотел ответить, но одеревеневший язык прилип к небу, стал чужим, и Белозерцев, боясь, что не сможет говорить, до крови прокусил нижнюю губу, просипел незнакомо: – Г-готов! – Деньги для первого погашения своего неоплатного долга собрал? – Собрал. И для погашения второго креди… второго долга тоже. – Молодец, арбуз! – услышал Белозерцев похвалу в ответ. – В шестнадцать ноль-ноль жди звонка. По этому телефону жди. Получишь инструкции, как действовать дальше. Все ясно, арбуз? Белозерцев поспешно наклонил голову – ему казалось, что человек с железным голосом не только слышит его, но и видит, он находится рядом, и от ощущения того, что тот находится рядом, Белозерцев чувствовал себя раздетым. Будто он на публике появился без рубашки, без штанов, без трусов – голяком, в одних носках или ботинках. В глотке в таких случаях невольно начинается свербение – Белозерцев схватился пальцами за шею, сделал несколько судорожных глотательных движений – показалось, что сейчас его вырвет, но ничего, он все-таки одолел себя и спокойно, будто и не с ним все происходило, спросил: «Как там мой Костик?», но он опоздал, вопрос растворился в пустоте, и Белозерцев с сожалением повесил трубку. Вытянул перед собой посеревшие, с блесткими капельками пота руки. Пальцы тряслись, выглядели по-старчески немощно, вздувшиеся вены рождали жалость, что-то горькое и скорбное, суставы тоже вздулись, их перекосило, они побаливали, словно к Белозерцеву подкрался ревматизм. Он гулко сглотнул слюну, вспомнил чьи-то старые строки о том, что всем нам придется переплывать на лодке, ведомой Хароном, воды загробной реки и, не выдержав, потянулся за коньяком. Конечно, коньяк этот он прикончит сейчас – и плевать, что дорогой напиток иссяк, не все тешить себя солнечным дивом, равным по цене золоту, – найдется другое диво, более дешевое, но не менее вкусное. И не обязательно французское. Невольно подумал о том, что во всех стихах о смерти, кто бы их ни написал, обязательно присутствует фальшь – зримо или незримо, это зависит от таланта, но присутствует обязательно. Смерти все мы боимся, и всякое бодрячество, ужимки и безразличные жесты – чепуха, все это – фальшиво. И стихи о смерти тоже фальшивы. Жизнь и смерть всегда, во все века сосуществовали, шли рука об руку, причем в Москве они шли и идут – ныне идут – гораздо теснее, чем в любом ином городе, буквально прижимаясь друг к дружке. Москва перенасыщена оружием, перенасыщена бандитами всех мастей и рангов, перенасыщена наркотиками. В Москве легко скрыться, легко стать другим: перекраситься, поменять фамилию, документы, национальность, внешность – словом, все. Многие, кстати, так и поступают. Вопрос нередко встает ребром: кто возьмет верх, жизнь или смерть? Если смерть, то тогда худо будет всем, и людям и городу, если же верх возьмет жизнь – ну что ж, тогда можно планировать будущее, надеяться, что воздуха в городе хватит и богатым и бедным. Очень хотелось Белозерцеву, чтобы верх в его родной Москве одержала жизнь. И всегда держала верх, всюду, во все времена. Жаль только, что желания не так часто совпадают с возможностями, с исполнением их, и еще менее часто – с тем, что происходит за окнами наших домов.
20 сентября, среда, 14 час. 40 мин. Зверев стоял у окна и смотрел вниз, на свежую осеннюю траву, покрытую мелким крапом – сором расшелушенных белками шишек, щурился, словно бы его слепила пятнистая зелень, дважды сощипнул пальцами с глаз пылинки, мешавшие смотреть. Внизу с короткоствольной пневматической винтовкой к дереву подкрадывался капитан в рубашке с закатанными рукавами. Шел капитан совершенно бесшумно – ни одна ссохшаяся шишка, ни один сучок не хрустнули у него под ногой, а в траве совершенно не осталось следа – ни единой вмятины, хотя капитан имел крупное телосложение и след после него обязательно должен был остаться… Но нет – трава была ровная, ни единой примятости. Не удержавшись, Зверев одобрительно похмыкал в кулак: хорошо идет капитан! Этот капитан был старым следопытом-афганцем, Зверев хотел переманить его в свое управление, да не удалось, – много мух стрескал где-нибудь под Гератом или Джалалабадом, Зверев не помнил точно, в каком месте тот служил, помнил только, что вернулся капитан Лесных оттуда с двумя медалями «За отвагу» и афганским позолоченным орденом, очень похожим на нашу геройскую звезду – приделать к нему новую колодку, натянуть красную ленту – и будет настоящая геройская звезда, – вначале ходил как пришибленный, а потом оттаял. Про Афганистан Лесных никогда не рассказывал, от разных шумных ветеранских встреч уклонялся – сбегал или просто не появлялся на них, воспоминаний под холодную московскую водку и бутерброды с колбасой не любил. Белка почувствовала неладное раньше, чем капитан отыскал ее – рыжеватый шустрый комочек был совершенно невидим на солнце, растворялся, таял в воздухе, – зацокала зло, звонко, бросила шишку, которую держала в лапках, на траву и стремительно поползла по стволу вверх. Капитан ткнул в ее сторону одной рукой – той, в которой была зажата пневматическая винтовка, в ту же секунду раздался сухой негромкий щелчок, будто переломилась щепка, белка, подержавшись немного на стволе, оторвалась от него, ударилась о ветку, скользнула в сторону, стукнулась еще об одну ветку и полетела вниз смятой меховой тряпицей. Лесных проворно метнулся к дереву и подставил под падающую тушку полиэтиленовый пакет. Белка точно угодила в пакет, тяжело легла на дно. Капитан закрутил горлышко пакета узелком и тут увидел Зверева, собранное холодное лицо его тронула легкая улыбка. – Ловко, Лесных, – сказал генерал в открытое окно, перегнулся через подоконник, – я даже не думал, что ты такой мастак по этой части. А ты, оказывается, лупишь это сырье для шапки, как хороший едок картошку. – Эта белка – последняя, – сказал Лесных, приподнимая пакет, – больше в парке нет. – Зачем тушки собираешь? Чтобы не воняли под окном? – Для собак. Собакам хороший корм. – А что, дело! – одобрительно отозвался Зверев, махнул рукой, отпуская капитана. – Соловьев теперь, значит, некому трескать? – он вздохнул. – Но и соловьев нет. Финита! Повернувшись к столу, он взял кассету с записью последнего разговора Белозерцева, вставил в магнитофон, включил и невольно нахмурился, услышав тяжелый металлический голос – ну и отметил же Создатель голоском этого господина! Словно бы вылезла говорящая обезьяна из американского фильма ужасов и начала гавкать налево-направо – стесала пару голов, попила крови и теперь сидит в бетонном подвале, названивает своим жертвам. А кто-то от этих звонков давится в рыданиях, хватается за сердце, стаканами поглощает лекарства, стараясь успокоиться. Отмотал немного пленку, снова послушал железный, с глухими нотками голос, поразмышлял немного – не слышал ли он где его – и, поискав в широком занимающем весь угол кабинета селекторном пульте нужный рычажок, дернул вверх. – Родин? Зайди-ка ко мне, друг Родин… Постоял немного у окна, ожидая Родина. Капитана Лесных внизу уже не было, Зверев пробежался глазами по стволам деревьев – хоть Лесных и заявил, что белок больше нет, а вдруг осталась одна, самая сильная и самая хитрая? Нет, белок не осталось ни одной, и от осознания этого сделалось немного печально – и нас тоже перебьет неумолимое время. Как капитан Лесных белок. Хоть и находился милицейский «офис» в самом центре огромного города, а звук города – автомобильные всхлипы, гул троллейбусов, рявканье газующих моторов – доносился до Зверева из далекого далека. Словно бы из-под одеяла. Он невольно улыбнулся. Нет, эту необъяснимую глухоту звука с одеялом не сравнить. Есть где-то, проходит в невидимом месте черта, стоит ее только пересечь, как город врывается в человека с удручающим ревом, придавливает его к земле. Город этот любили – иногда ненавидели – с одинаковой силой все: Белозерцев и Виолетта, Зверев и редкозубый Клоп, Ирина Константиновна и покойный Агафонов, пухлощекий Пусечка и белозерцевский водитель Боря – в каждом человеке, независимо от его сути, от того, чем он занимается, преступник он или национальный герой, есть что-то одинаковое, общее сентиментальное начало. Кроме того, у всех присутствует одинаково дежурный набор слабостей: тяга к удобствам, сытой еде, крепкой выпивке, к тому, чтобы на уши ничего не давило – ни звуки города, ни визг какой-нибудь циркулярной пилы, ни скрип гаражных ворот, ни пулеметная долбежка отбойного молотка, ничто! Слабости решают все. Зверев не выдержал, покхекхекал в кулак. Было когда-то, звучало во весь голос знаменитое сталинское выражение: «Кадры решают все». Кадры… Он неожиданно услышал словно бы со стороны свой сдержанный смешок – вырвался сам по себе, непроизвольно. Зверев подумал, что так недолго и свихнуться. А вообще, если уж на то пошло, неплохо бы купить билет на поезд и отправиться куда глаза глядят… Например, на Юг, в благословенные места, на инжир с мандаринами. Можно даже дикарем, заранее к поездке не готовясь, – не заказывая себе «люкс» в санатории и машину в аэропорт, – а поехать так, как ездил когда-то в студенческой юности. Г-господи, какие же дивные времена были! – Тьфу! – Зверев сплюнул, поморщился, словно от зубной боли: вряд ли он теперь поедет на Юг так беззаботно и безбедно, как это бывало раньше. Все, прошли те времена, канули в нети. Как-то в бане чекистский генерал Веня Иванов произнес с тихой грустью – от собственных слов у Иванова даже заслезились усталые глаза – и вообще от комитетского генерала было странно слышать рассуждения о политике и тем более странно видеть заслезившиеся глаза: «В Штатах капитализм устанавливали двести лет, у нас – три дня, в Штатах полно богатых, у нас – полно нищих». Вот именно – тьма нищих, мы все профукали, приватизировали – даже власть. Не говоря уже о совести. Стыдно смотреть в глаза побирающимся старухам, фронтовикам с орденами на груди и побитым взглядом – они-то в чем виноваты? Раньше учительница, у которой зарплата была всего с гулькин хрен, довольно свободно накапливала сто двадцать рублей и отправлялась на Юг. Отдыхала там двадцать четыре дня, ни в чем себе не отказывая. Да и не одна отдыхала, а с ребенком. И еще домой везла чемодан фруктов. А сейчас на сто двадцать рублей можно купить только коробку спичек. Либо побрызгать в стоячем туалете себе на ботинки. Да и то уже не сто двадцать рублей надо отдать, а пятьсот или всю тысячу, именуемую в народе «штукой». Но денежные хлопоты – это ерунда на постном масле по сравнению с дорогой. Стало опасно ездить. По поездам шуршат банды, вооруженные автоматами, используют усыпляющий газ и обирают пассажиров до последней нитки. Плоскогубцами выдирают золотые коронки, если они у кого-то есть. Когда люди от переизбытка газа начинают сухими ртами хватать воздух, налетчики внимательно следят за ними – не сверкнет ли где дорогой металл? И если замечают во рту желтый блеск, то тут же помогают гражданину избавиться от него – золото не для тех, кто путешествует в поездках, этот металл – для более богатых, для пассажиров первого класса авиарейсов «Трансаэро». А уж о том, сколько каждый поезд хватает камней в стекла, и говорить не приходится – особенно когда состав идет по территории «самостийной» – были случаи, когда камни, влетевшие в окно, калечили и убивали пассажиров. Если же добираться самолетом, то на билет не хватит и генеральской зарплаты – надо спарывать лампасы со штанов и продавать их. Вот какие наступили времена! Болеть стало смертельно опасно – даже гриппом, ангиной, коклюшем – и у заболевшего больше шансов умереть, чем выздороветь… Раздался скрип открывшейся двери, и Зверев с сожалением кинул последний взгляд на сочную траву, испятнанную сосновым мусором и яркими солнечными бликами, прогнал от себя мысли о Юге и отдыхе и, привычно покхекхекав, повернулся. На пороге стоял майор Родин. – Иди-ка сюда, майор. К столу иди, – позвал его Зверев. – Послушай редкостную музыку подвала и подворотни, – Зверев перемотал магнитофонную пленку на нуль и включил запись. – Наслаждение, а не запись… Прошу насладиться, а потом изложить мне свои соображения. Зверев вернулся к окну. Родин внимательно прослушал запись, что-то пометил на листочке бумаги, который он достал из кармана форменной рубашки, затем так же, как и Зверев, прогнал пленку в начало и опять прослушал ее. – Ну что, майор? – повернулся к нему Зверев. – Все понятно? – В общем, да. Для разработки эта пленка – в самый раз. Забрать с собой кассету разрешите? – Конечно. Хотя кассет этих, я думаю, будет с десяток – все еще только начинается. Не обратил внимание, майор, – голос случайно не знаком? В первый раз, когда я услышал запись, то подумал, а не вставлен ли в трубку какой-нибудь звуковибратор. А? – Вряд ли. Голос, по-моему, натуральный… Надо проверить в техническом отделе. Но думаю – натуральный. – Раз натуральный, то, может, доводилось встречаться с этим зомби? – Нет, товарищ генерал, – отрицательно качнул головой Родин, – совершенно точно – не встречался. – Ясно, – Зверев тяжело вздохнул, – что ничего не ясно. Ну что ж, майор, теперь выкладывай свои соображения. – К четырем часам надо иметь две группы захвата. В состоянии «товсь!» – Почему две? – Возможно, людей придется бросать в два адреса. – Ну что ж, – генерал согласно наклонил тяжелую лысую голову, покхекхекал в кулак, – только адреса нам пока неизвестны. – Товарищ генерал, скоро мы их будем знать, это совершенно определенно, – с убеждением произнес Родин. – Ребята роют землю крепко. Да и сам я это нутром чую. Мозгами, сердцем, всем, что есть во мне, чую. Чуй-йю! – Родин мог бы и не произносить эту выспренную, не присущую ему фразу, она была для Родина слишком чужой и вообще никак не вписывалась в милицейскую речь, но Родин посчитал нужным выдать ее – прикрыл этой старомодной фразой какие-то известные лишь ему соображения либо сведения, а что это были за сведения, генерал спрашивать не стал – придет время, Родин сам все выложит. Для генерала важен был не сам процесс, не движение от точки А к точке Б, а результат, он подумал о Волошине, уехавшем в районное управление, посмотрел на часы – что-то тянет Волошин со звонком, канителится, и если через пять минут от него не поступит звонок, Зверев будет искать майора Волошина сам. Хотя и не генеральское это дело, «не царское», а будет. – Не две группы надо готовить, Родин, – генерал кашлянул в кулак, – а три. Две группы – в положении «товсь!», третья – резервная, на всякий случай. Если у нас действительно окажется несколько адресов, если обо что-то споткнемся и понадобится подмога, если… – в общем, на все «если» нужны будут три группы. А не понадобится резервная группа – тоже хорошо. Но к шестнадцати ноль-ноль… – генерал замолчал, перемотал немного пленки, чтобы услышать заключительную фразу Деверя, надавил на кнопку пуска. Снова раздался железный, способный вызвать изжогу голос. «В шестнадцать ноль-ноль жди звонка. По этому телефону жди. Получишь инструкции, как действовать дальше. Все ясно, арбуз?» – Арбуз! – генерал прошелся рукой по лысине. – Ну и словечко нашел: «Арбуз!» Арбуз. А почему не дыня или не огурец? Очень хорошее слово, энергичное, вполне бандитское: «Огурец». А, майор? – Слова-паразиты, они, как и привычки, не поддаются анализу, товарищ генерал. – Все поддается анализу, даже прыщ на носу, только мы не хотим анализировать. Лентяи мы, майор, отпетые. И еще – непрофессионалы. Болтуны. Ляпкины-Тяпкины или, как там правильно будет у Гоголя? Наоборот, кажется? Тяпкины-Ляпкины. Теперь об арбузе… нет, об этом самом, о зомби. М-да, голос его ни с чем и ни с кем не спутаешь. Чего он тянет? В шестнадцать ноль-ноль только собирается назначить место встречи. Боится чего-то? Но чего? У него свои люди и на телефонной станции, и в милиции, и, похоже, здесь, у нас, в Главном управлении… Он ничего не должен бояться. А значит, и медлить не должен. – Наверное, все дело в том, что этот желудочник не сам принимает решения, над ним кто-то есть. Пахан. А может, и два пахана. Команду сверху не получил, вот и медлит. Хотя медлительность – не в его характере. Судя по голосу, это человек резкий, волевой, увертливый. По селектору прозвучал голос секретарши: – Геннадий Константинович, на проводе – Волошин. – Зверев поднял трубку, покхекхекал в нее, но одним кхекхеканьем не ограничился: – Ну, чего там обнаружилось у тебя, друг Волошин? Выдавай, – многословие Зверева свидетельствовало о том, что он ждет от Волошина важных сведений, – чего, накопал? – жестом показал Родину на отводную трубку – возьми, мол, слушай, чтобы потом не пересказывать. – То, что я – товарищ генерал, я знаю сегодня с самого утра, а дальше? – Докладываю коротко, – голос Волошина был сухим, официальным, – в результате проведенных оперативных мероприятий выяснено, что кабель от телефона-автомата ведет к двум домам по улице, – он назвал улицу, но название ее ничего не сказало ни Звереву, ни Родину, слишком много сейчас появилось безликих жэковских наименований, что ни проулок, то хоть стой, хоть падай, что ни улица, то еще хуже. – Дом номер пятнадцать и дом номер семнадцать… – Они что, стоят рядом? Никаких зданий, построек в промежутке? – Так точно, рядом. – А хозяева… Хозяева разные или домами владеет один человек? – Хозяева разные, но находятся друг с другом в родстве. – Отец с сыном, кхе-кхе… – Двоюродные братья. Одному семьдесят восемь лет, другому семьдесят шесть, оба свои особняки сдали коммерческой структуре… – И коммерческая структура такая бедная, что не могла провести в дома свой телефон, сделала это контрабандой, с подкопом. – Далеко не бедная – весьма богатая! Это очень процветающее посредническое товарищество с ограниченной ответственностью, купить может не только пару телефонов – целую телефонную станцию. А номера на здешней АТС есть и, кстати, скоро будет еще больше, район-то – перспективный, АТС закупила в Японии новое оборудование, через пятнадцать дней начинается монтаж… – Не увлекайтесь, майор, события, происходящие в Сьерра-Леоне, нас мало интересуют. – В общем, они наняли одного шустрого дяденьку, любителя подработать на стороне, он им быстро проложил от телефона-автомата кабель. – За кругленькую сумму, – Зверев хмыкнул. – Более чем кругленькую. Под видом ремонтных работ. Не знаю только, каких именно – то ли водопровода, то ли газовой сети – в общем, вырыл траншею, взломал асфальт – все сделал честь по чести, товарищ генерал. Мы этого дяденьку нашли. Купили ему шницель величиной с лопату, бутылку холодного пива и двести граммов водки. Под двести граммов он нам все рассказал. – Мы, – снова хмыкнул генерал, – мы – это означает: вместе с капитаном… э-э-э… Коврижкиным? – Корочкиным. – Тоже неплохо. – В общем, рассказал дядек абсолютно все – и где проложена нитка, и какой марки кабель, и где конкретно стоят «пауки» – коробки с распайками. Разговорчивый оказался гражданин. – А под суд этого гражданина… Никак нельзя? Как великого ремонтника? А? – Наверное, можно, товарищ генерал, но всему свое время. – Ладно, пойдем дальше. Установили телефон, стали им пользоваться. А как технически это происходит? Ведь в любую минуту в будку может войти человек, поднять трубку и услышать, что говорят на параллельном проводе. А потом – стукнуть куда надо. – Нет. Аппарат, находящийся в будке, блокирован. Когда разговор идет из особняка, он отключается. По системе спаренных телефонов. Помните, в коммунальных квартирах такие были? – Помню жизнь хрущоб, – не выдержал генерал. – А толку-то? Один говорит – вся квартира слышит. Это мы проходили. Все ясно, Волошин. Значит, так – оба особняка взять под колпак, я сейчас дам такую команду в райуправление, вам отвожу час на этих братьев-дегенератьев. Тех самых, кому за семьдесят, владельцев. После этого возвращайтесь. Все концы, что связаны с наблюдением, передайте Краюшкину… – Корочкину. – И это неплохо… Совершенно верно, Корочкину. Откуда у него такая фамилия, а? Немилицейская, а? Вернетесь – доложите и сразу переключайтесь на нашу АТС – может, там уже есть информация? Пусть даже промежуточная. Дырку нам надо найти как можно скорее. – Товарищ генерал, разрешите полюбопытствовать… – в ответ Волошин услышал разрешающий кашель Зверева и поинтересовался: – А у вас, товарищ генерал, есть какая-нибудь новая информация? – До шестнадцати ноль-ноль – никакой.
20 сентября, среда, 15 час. 10 мин. Что изменилось в мире, что произошло, почему разбойники для своих черных дел стали выбирать светлые солнечные дни, беззаботные, пионерски легкие по своему настроению, – в такие дни никто не ждет беды, – раньше же они работали ночами. Тяжелые антрацитовые ночи считались их временем…. А сейчас? Белозерцев не сразу почувствовал, что в кабинете находится человек. Он поднял глаза, вяло удивился – в дверях стоял Высторобец. – Ну? – грубым тоном поинтересовался Белозерцев. В этом коротком слове-междометии было скрыто многое: и недовольство, и презрение, и угроза – в общем, все плохое и ничего хорошего. – У Павла Сергеевича, водителя «мерседеса», от испуга – тихое помешательство, – Высторобец стер с залысин пот, переступил с ноги на ногу, – определили его в дурдом. – Ну, не в дурдом, наверное… Это слишком – сразу в дурдом. Вначале, наверное, попытаются вылечить – поместят в клинику, в больницу и, если ничего не получится, тогда уж в дур, как вы говорите, дом, – Белозерцев недовольно помотал в воздухе рукой, будто разгонял дым. – Где находится Костик, куда его увезли, в каком помещении держат, узнать не смогли? – Пока нет, – без особого энтузиазма ответил Высторобец – Это очень непросто, Вячеслав Юрьевич, нужны особые розыскные мероприятия. – Громкие слова, да негромкие дела… Знаете, чем отличается ваша зарплата от зарплаты старшего уполномоченного… ну, скажем, уголовного розыска Центрального округа города Москвы? – Нет. – Количеством нулей в конце суммы. Я вам плачу в несколько десятков раз больше, чем старшему уполномоченному платит государство. И тем не менее, несмотря на разницу в зарплате, старший уполномоченный найдет Костика, а вы нет. – Я тоже найду, дайте только время. – Угу, – года два. За это время погибнет не только мой ребенок, но и погибну я сам. – Вячеслав Юрьевич… – И что же из того, что я – Вячеслав Юрьевич? В этом нет ничего нового. Так зачем, спрашивается, я вас держу? – Ну-у… Хотя бы за этим, – Высторобец выдернул из-за спины руку, показал Белозерцеву. В руке у него была зажата видеокассета, вложенная в яркий, по-попугайски броско и безвкусно раскрашенный футляр. – Что это? – устало поинтересовался Белозерцев. С Высторобцем все было ясно, его давно пора переводить на ступеньку ниже – в замы или вообще в рядовые охранники, а на освободившееся место подыскать парня помоложе, посообразительнее. Может быть, даже попросить у генерала Иванова в безопасности – Веня не откажет. Говорят, все киллеры – безжалостные, современные убийцы прошли школу госбезопасности, неплохо бы одного киллера взять на работу и в «Белфаст». Перед глазами Белозерцева вновь возникла вертикальная прозрачно-черная строчка – надоела она хуже поноса и зубной боли, Белозерцев раздраженно отвел взгляд в сторону, вместе с ним в сторону соскользнула и строчка. «С-сука!» – выругался он про себя, почувствовал, как побито задергалось правое веко. От дерганья заныла щека. Показалось, что к ней прилипла паутина, Белозерцев не сразу понял, что это такое, попытался соскрести паутину пальцами, но не тут-то было – невесомая липкая нить не соскребалась. Тогда он раздраженно прижал палец к дергающемуся веку. – Это видеозапись, которая может вас заинтересовать, Вячеслав Юрьевич, – осторожно, явно чего-то опасаясь, проговорил Высторобец. – Что за запись? – Ее вы должны посмотреть сами, вы тут все поймете, – Высторобец сделал несколько аккуратных шагов к столу, положил кассету на кожаную синюю папку с фирменным тиснением «Белфаст» в верхнем правом углу, – и оцените. Видеозапись должна заинтересовать вас, – повторил Высторобец настойчиво, специально выделив слово «заинтересовать», и, помогая себе, провел линию по воздуху, словно бы подбил некий итог, глаза у него ожили, стали блестящими, влажными. «С чего бы это?» – невольно подумал Белозерцев, взял кассету, наполовину вытащил ее из расписного пластикового футляра. Запись была небольшая. Судя по тоненькой намотке на бобине – минут на десять. – О чем она? – спросил Белозерцев. – Кто главный герой этого кино? – Вы должны посмотреть пленку, Вячеслав Юрьевич, – в голосе Высторобца появилась незнакомая настырность, – и тогда поймете, что ваш хлеб я ем недаром. – Ладно, Высторобец, иди, – Белозерцев помял пальцами височные выемки. Может, именно там расположены некие нервы, окончания их, которые могут вырубить эту проклятую вертикальную строчку? А может, он уже находится в предынсультном состоянии и через пару часов сбрендит, как этот шофер… Павел Сергеевич, который двойной тезка министра Грачева? Вертикальная строчка не исчезла. Значит, выключается она не тут, не в височных выемках – в другом месте. – Иди, – еще раз устало сказал он Высторобцу. – Я тебя вызову, когда понадобишься. – Вы обязательно посмотрите эту пленочку. Не скажу, что вы получите удовольствие, но вам это надо знать. – К похищению Костика она имеет отношение? – Н-не знаю, – неуверенно отозвался Высторобец. – Если и имеет, то только косвенное… Да-да, косвенное имеет всенепременно. Ну и словечко допотопное выискал Высторобец, из какого же оно лексикона – «всенепременно»? Все в Высторобце раздражало сегодня Белозерцева, и он никак не мог подавить в себе это раздражение: понимал, что не прав, что он должен вести себя по-другому, но сломать, разрушить в себе некую заплотку не мог – не хватало сил. Лысеющий Высторобец сглотнул слюну, круто, по-строевому развернулся на одном каблуке, с лихим кожаным щелканьем приставил ногу к ноге и исчез за дверью. «И что же тут есть?» – Белозерцев вытянул кассету из футляра до конца, прочитал название фирмы, выпустившей пленку: «Шиваки», поморщился: «Южная Корея. Для служебных нужд “Белфаста” Высторобец мог бы приобрести пленку и получше». Поднялся. Если раньще у него болели ключицы, голова – боль населяла затылок, натекала в виски, то сейчас она сползла вниз – начали болеть поясница, ноги, колени. Втиснул кассету в плейер, перемотал в начало – на это понадобилось всего несколько секунд. – Ну посмотрим, Высторобец, что за сюрприз ты мне подготовил. Первый же кадр заставил его вздрогнуть: с экрана крупно, словно бы специально снимаясь для этого, на него смотрела Ирина. Она видела оператора и не видела его – не сразу и поймешь, скорее всего, она не видела его, но чувствовала, словно волчица – нюхом, кожей, массивной золотой цепочкой, плотно облегшей шею, бриллиантовыми сережками, посверкивающими в ушах, – но вот ее глаза сместились влево, поискали что-то, не нашли, сместились вправо… В следующий миг ее лицо расслабилось, сделалось трогательно-беззащитным, нежным – именно это ее выражение Белозерцев любил. – Никого, – облегченно произнесла Ирина. – Никого, – подтвердил мужской голос за кадром, – я же тебе говорил. – Но меня никак не отпускает ощущение, что здесь кто-то есть. – Это нервы, Ириш, нервы. В слишком нервное время мы живем, и люди вокруг нервные, и токи от них исходят очень нервные. Такие токи эти сильные, что подчиняют себе, буквально просаживают насквозь любую нервную систему. Нервы не выдерживают даже у самых крепких людей. У снимающего, видимо, не было возможности маневрировать, он не мог круто развернуться и «отстрелять» на пленку того, кто говорил, но чуть-чуть все-таки развернулся. Впрочем, вполне возможно, камера снимала сама, без оператора, автоматически, – в нее были поставлены датчики, которые включались на звук и движение тела, они же и разворачивали камеру, чтобы объектив мог увидеть говорившего. В следующий миг Белозерцев увидел того, кто говорил, невольно сжал зубы – он сразу все понял и побелел лицом. «Вот он, заместитель мой, с-сукин сын», – это единственный заместитель, которого он не знал, – Белозерцев с шумом, словно школяр-мальчишка, схлебнул пот с верхней губы. «Заместитель» был молод, проворен в движениях, гладок лицом, особенно хороши были у него глаза – по-женски сочные, с блеском, невыгоревшего карего цвета. Одет он был в сорочку… «Пиджак уже снял, гад», – у Бело-зерцева болезненно дрогнули губы, поползли вниз, он снова схлебнул пот. Шея у «заместителя» была подвязана пионерски алым, очень ярким, в крупный белый горох бантом. «Модник хренов, разукрасился, как баба, – с ненавистью подумал Белозерцев. – Но модник модником, пустое место, глист навозный, но именно этот глист наставляет тебе рога!» Белозерцев замычал, покрутил головой, словно бы от жгучей боли, забравшейся внутрь, открыл стол и потянулся за коньяком. То, что он видел, надо было обязательно запить. Он глотнул коньяка прямо из фляжки, побулькал им во рту, морщась от жжения и вообще от неприятного ощущения, в котором он, как в некой гнилостной воде, в навозе, скрылся с головой, утонул – тьфу! – от оглушающего до боли звука – он слышал и голос своего «заместителя», и свое собственное бульканье; подумал о том, что на него сейчас, наверное, нельзя смотреть без жалости и смеха – он вызывает и жалость, и смех одновременно. А пленка тем временем продолжала крутиться. Белозерцев попытался понять, знакома ли ему квартира, где происходит этот блуд, или нет, отдельные предметы – тахта, например, покрытая золотистым пушистым плюшем, глубокое кресло, в котором можно было утонуть не только с ногами, а и целиком, – были знакомы, но в следующий миг Белозерцев понял: нет, не знакомы, и боль, впившаяся ему в сердце, немного отпустила. Еще не хватало, чтобы этот блуд происходил в его квартире – тогда ему будет совсем уж худо, хоть просовывай голову в петлю, а конец веревки перекидывай через крюк, на котором висит люстра, да морским узлом, чтобы ни одна собака не могла разодрать зубами. А уж развязать – тем более. Большего греха, чем измена жене или мужу в собственном доме, на супружеском ложе, не существует. Нет. Нету. Впрочем, собственные похождения по этой части Белозерцев себе в грех не ставил, и вообще он, как и многие «нью рашенз», словно бы боясь чего-то, начал верить в Бога. Через несколько минут он понял, что его смутило: мебель была знакома потому, что слишком во многих домах она ныне стоит – покупают-то у одних и тех же торговцев, придерживаясь одного правила – чтобы выглядела эта мебель подороже, побогаче, посолиднее. В какой дом сегодня ни заглянешь – обязательно увидишь диваны с золотистой либо зеленовато-болотной плюшевой обивкой и глубокие, такого же цвета, мягкие кресла. «Заместитель» тем временем сдернул с шеи красный платок, аккуратно разгладил его пальцами и положил в сторону, – куда, на что положил, не было видно. Раздеваясь, он продолжал говорить – жаловался Ирине, что его плохо приняли в американском посольстве и не выдали визу на поездку в Штаты. – Понимаешь, Ириш, – говорил он, и Белозерцев невольно морщился, сдерживая внутренний стон, задаваясь невольным вопросом: ну чего отыскала Ирина в этом морском коньке? – и не находил ответа. И от того, что Белозерцев не находил ответа, ему делалось хуже, казалось, что он не может разгадать какую-то очень простую вещь, тайну, которая для других не является тайной. – Понимаешь, Ириш, американцы слишком много на себя берут, хотя Россию они знают не больше, чем я Антарктиду… От такой самоуверенности Белозерцеву сделалось еще муторнее. Ну неужели Белозерцев так ничтожен и имеет такие примитивные мозги, что не может раскусить очень простой, с непрочной кожурой орех? От глухой внутренней тоски хоть воем вой или криком кричи – что хочешь, то и делай. Верно говорят, беда не приходит одна. Украли Костика, теперь вот Ирина… Кто будет следующим блюдом? Или что? А «заместитель» тем временем продолжал жаловаться: – Раньше у нас был железный занавес, были обкомы, парткомы, секретари, разные комиссии – они делали все, чтобы не выпускать нас за границу – не пущать и все! И не пущали. Один, дескать, носом не вышел, другой рогами, третий подбородком, четвертый верхней губой, пятый зубами, шестой еще чем-то, у седьмого папа торговал при царе Николае паровозами, восьмой свистнул во время войны мешок леденцов, девятый был грешен тем, что на заднице у него сидело слишком много бородавок, и так далее – в общем, от ворот шел крутой поворот. По полной программе. Теперь власть взял Ельцин, думали – легче будет, ан нет, легче не стало – роль секретарей обкомов теперь выполняют клерки из американского посольства. Клерки мужского рода, клерки рода женского… Клерки женского рода, кстати, более жестокие, чем клерки-мужчины. Пол, оказывается, слишком многое определяет, – «заместитель», продолжая говорить, стянул через голову рубашку, аккуратно, будто продавщица в магазине, сложил ее. Он все делал аккуратно, такой у него был характер. – Что тебя так возмутило, Олежка? – послышался голос Ирины. «Олежка, – не замедлил с болью отметить Белозерцев, запил услышанное коньяком, – его зовут Олегом, но она уменьшает имя, вон как. Олежка… Ишь ты! Примитивное грубое имя – Олег, и нате – Олежка! – он почувствовал, что вот-вот задохнется, покрутил головой. – Тьфу!» – Как «что возмутило»? То, что мне не дали визу в Америку. – У тебя все равно нет денег, Олежка, чтобы поехать туда… – Ну, на билет я всегда наскребу, а там друзья не дадут пропасть – у меня в Штатах много друзей. Скажи все-таки, Ириш, почему посольские клерки взяли на себя обязанности секретарей обкомов или чего там… райкомов партии? Разве они имеют на это право? – Не имеют, Олежка! «С-сука! – мысленно выругался Белозерцев, на шее у него напряглись две крупные жилы. – Ол-лежка» Он вдруг поймал себя на том, что не верит в происходящее, не верит в то, что Ирина сможет ему изменить, он понял, что это неверие будет жить в нем до конца, до той поры, пока все не произойдет. Белозерцев не представлял себе, что будет с ним, если это произойдет. «Это, – горько усмехнулся он, – эт-то… Словно у измены нет названия». А «заместитель» продолжал занудствовать, он будто бы специально тянул время. Собственно, затяжка и родила в Белозерцеве спасительную мысль о том, что Ирина все-таки не упадет… – Клерк-баба потребовала, чтобы я принес справку с места работы. Какую, спрашиваю, справку? Да гарантирующую, оказывается, что я не останусь в Америке, не буду там нахлебником. Представляешь? Да нужна мне эта Америка, как щуке зонтик! И какая такая работа может выдать подобную справку, а, Ириш? Да никакая! А еще чем, спрашивает, вы можете доказать, что не собираетесь остаться в Америке? Каково, Ириш? – Я тебе сочувствую, Олежка! – голос Ирины несколько похолодел – видать, «заместитель» был плохим психологом и слишком затянул свой рассказ – он почему-то не понимал, что Ирине нужно совсем другое. «С-сука!» – вновь оглушенно помотал головой Белозерцев. Надежда его была напрасной, у Белозерцева не осталось ни одного шанса на то, что Ирина не совершит… в общем, не изменит ему. – В бетонном отсеке, где выдают визы, – духота, людей набито, как селедок в бочке, все переговоры-разговоры слышит публика – унизительно все это… Очень унизительно! Посетители похожи на кандидатов в зеки, словно бы под следствием находятся, – «заместитель» уже стянул с себя все, остался в узеньких синих плавках, украшенных приметной белой надписью «спиид». «Спиид… Что бы это значило? Уж не подлая ли болезнь? – поморщился Белозерцев. – Ах, Ирка, ах, сука!» – Передо мной стояли двое, пара, он и она. Ему – лет восемьдесят, ей – семьдесят пять. В Америке у них дочка, замужем за водителем автобуса, двое внуков, которых они никогда не видели. Просили, умоляли дать им визу – старики все же, внуков хочется посмотреть – не дали. А чем, спрашивают, вы докажете, что неостанетесь в Америке? Да старые мы, старые, отвечают, доисторические ископаемые, у нас здесь тоже есть дочки и внуки с внучками есть, их полным-полно – все есть, и дом есть – в общем, нам возвращаться сюда обязательно надо, но вот американских внуков, пока имеются силы, очень хочется повидать. Через год мы их уже не сможем увидеть – старые, нам очень тяжело пересекать океан. Даже на самолете… так и не дали им визу. И мне не дали. И-и-их! – «заместитель» неожиданно сделал в воздухе сложный гимнастический кульбит и почти беззвучно, словно был невесом, опустился на золотистую тахту, затем, взбрыкнув ногами, взлетел вновь. – Ах, как хор-рошо! В тот же самый миг Белозерцев увидел голое тело Ирины – без лифчика, без трусиков, так же по-ведьмински невесомо пронесшееся в воздухе и опустившееся на тахту рядом с «заместителем», – и не сдержал стона. – Надо будет мне с Белозерцевым поговорить, чтобы он тебе помог, – сказала Ирина, – Белозерцев у нас всесильный. – И добрый! – воскликнул «заместитель». – Но надо ли тебе ехать в Америку? Ты определись, Олежка! Может, не надо? – Н-надо. – А как же я? Я ведь буду скучать без тебя! Может, мне тоже напроситься в Америку? Возьмешь с собой? – Благоверный твой… Он тебя отпустит? – А куда он денется? Он нам устроит роскошную поездку на двоих и знать этого не будет. Не додумается просто. Это было слишком унизительно. «С-сука, вот с-сука, – Белозерцев не сдержал нового стона – задавленного, глубокого, ножиком пырнувшего в самое сердце, отхлебнул немного из фляжки: а ведь полтора месяца назад Ирина и правда летала в Америку. На две недели. И он действительно помогал какому-то хмырю с визой – звонил своему приятелю, директору департамента в Министерстве иностранных дел, просил похлопотать, – тот откликнулся, похлопотал, все сделал, хмырь получил визу. Фамилию хмыря Белозерцев не помнил, он вообще никогда не держал фамилии в голове – чего разным мусором захламлять мозг? – Во-от с-сука!» – Это будет роскошно! Ох, как я мечтаю о такой поездке! – театрально вскричал «заместитель», вздернул руки к потолку. – Иди ко мне, – изменившимся, каким-то воркующим голубиным голосом позвала его Ирина, и «заместитель» навалился на нее, закатил глаза на лоб от наслаждения, задышал часто. Белозерцев вымученно улыбнулся. Никогда не думал он быть рогатым и вот стал. Более унизительного состояния – или как еще можно определить бытие рогатого? – не придумаешь. И никем это пока не придумано – ни мыслителями, ни литераторами, ни физиологами, ни знатоками человеческих душ. Хуже может быть только смерть. В голову вполз шум – странный, с металлическим отзвоном и щелканьем, затылок сжало. С экрана доносились стоны и вскрики: стонал и задушевно вскрикивал «заместитель», стонала и вскрикивала в сладком азарте Ирина. Эту ее способность буйно вести себя в постели Белозерцев хорошо знал. Еще бы не знать! Он сглотнул жесткую, противно горькую слюну – будто не коньяка выпил, а полыни нажрался, крапивы, еще какой-то пакости. Но переживания ничего не значили в сравнении с тем, что ему еще предстояло испытать. И сделать. С Ириной, с «заместителем». Сердце колотилось громко, отдавалось болью почему-то в глотке, его можно было выплюнуть в корзинку для бумаг – да и зачем оно, сердце, когда происходит такое? Кого жалеть, кого любить? А переживания Белозерцева никого не интересуют – ни одного человека в этом огромном мире. Быть может, только тех, кто так или иначе будет зацеплен исходом его жизни, да Костика. Но Костик еще слишком мал, чтобы разбираться во взрослых делах и переживать. «Заместитель» перестал стонать, задергался, по-рыбьи распахнув рот, вместе с ним задергалась и Ирина. Белозерцев увидел ее обнаженную руку с какой-то дряблой, враз постаревшей кожей, потом ногу с откинутым в сторону соблазнительно-круглым коленом, молочно-белые, со следом плавок ягодицы «заместителя» и неожиданно поспокойнел. В конце концов у него есть Виолетта! А Ирина… нет, с Ириной после всего этого он жить не будет. Все, финита ля комедия! Виолетте придется привыкать к Костику, а Костику – к новой маме. – Вот и все, – вслух, без всякого выражения произнес Белозерцев, накренился вперед, чтобы лучше рассмотреть происходящее на экране. – А Ирка-то, сука, кажется, залетела! – он испытал странное злорадство. Ирина быстро беременела, всегда жаловалась на это Белозерцеву, просила вести себя соответственно, и Белозерцев, хоть и неприятны ему были такие просьбы, все-таки старался, чтобы жена не «залетала». Технология была проста, ничего в ней нового – все на уровне восемнадцатого века. – Тебе хорошо со мной? – услышал он голос жены, дернулся, словно от укола, подумал о том, что он тоже много раз слышал от Ирины эту фразу, полувопрос-полуутверждение, и всегда отвечал стереотипно: «Очень хорошо, очень…» – и в ту пору, когда она была еще девчонкой с ладной фигурой и чистым, не тронутым временем лицом, и сейчас, когда она расцвела, сделалась яркой, какой-то величественной в своей красоте, хотя повадки у нее до сих пор остались девчоночьи, студенческие. – Очень хорошо, очень… – ответил Ирине «заместитель», и Белозерцев словно бы услышал самого себя. Одинаковость ответов, стертость, привычная обыденность слов невольно выдавили у него слезы из глаз, он всхлипнул. Экран перед ним раздвоился, поплыл радужными пятнами, Белозерцев перестал видеть, что там происходит – впрочем, что бы там ни происходило, самое страшное осталось позади, он понял, что дома, очага, семьи – той прежней, слаженной, где все дышало доверием, семьи уже нет. И не будет. Внутри у него возник тоскливый зажатый скрип, ребра заломило, словно по ним, по живым кто-то поскреб ножом, скрип повторился. Вот так все рушится в один день. Было все – и не стало ничего. Ни Ирины, ни дома, куда ему теперь будет трудно войти, ни… И Костик выкраден. – Ты меня любишь, Олежка? – услышал Белозерцев нежный воркующий голос Ирины. Этот вопрос она много раз задавала Белозерцеву, ему знаком каждый его оттенок, и всякий раз Белозерцев удивлялся: зачем же Ирина этот вопрос задает? Ведь они же – муж и жена, и этим все сказано – разве нужны еще какие-то слова? Он молча прижимался своими губами к ее губам, потом долго лежал рядом и улыбался. Так было всегда. А Ирина говорила – она всегда в постели много говорила, – рассказывала о каких-то своих историях, случаях из детства, о старых своих – до жизни с Белозерцевым – соседях, о разных незначительных новостях, о том, что будет делать завтра. – Какой-то мудрец сказал однажды, что любовь похожа на войну – легко начинается, но тяжело кончается. – Ты не ответил на мой вопрос, Олежка! Не увиливай! – Разве я находился бы здесь, с тобой, Ириш, если бы не любил тебя? Ну, скажи, Ириш, а? – Спасибо за откровенность, Олежка, – млеющим, счастливым шепотом проговорила Ирина и прижалась к «заместителю». – С-сука, – громко произнес Белозерцев и, покачнувшись, встал с кресла. Земля плыла у него под ногами, кренилась, резко заваливалась, словно палуба терпящего бедствие судна, то влево, то вправо; ему было холодно, хотя по лицу тек пот и плавящаяся жара солнечного осеннего дня, который был сильнее, звонче, жарче летнего, июньского, уже проникла в кабинет. – С-сука! – повторил он и потянулся за пластмассовым пенальчиком пульта, чтобы выключить видеомагнитофон. Но экран погас сам, вместо цветного изображения на нем возникла прыгающая черно-белая рябь. Белозерцев вырубил магнитофон, выключил телевизор – ядовито-красный нервный глазок магнитофона особенно нехорошо действовал на него, – протяжно вздохнул, жалея самого себя, и опустился в кресло. Все надо было обдумать. Спокойно, холодно, не поддаваясь никаким эмоциональным наплывам – «чуйства» должны остаться за порогом. Он обязан был жестко и четко рассчитать свои действия. Ошибок быть не должно, иначе он погубит себя.
20 сентября, среда, 15 час. 30 мин. – Деверь, хочешь посмотреть, что стало с нашим фирменным «жигуленком»? – спросил Клоп, почесываясь спиной о косяк двери – он стоял, прислонившись к нему лопатками, и чесался, словно корова, перемещаясь всем корпусом то в одну, то в другую сторону: туда-сюда, туда-сюда… – У тебя что, блохи завелись? – Деверь подозрительно глянул на Клопа и воинственно приподнял плечи: как у всякого человека с неуравновешенным характером, у него часто менялось настроение – то он хороший был, то плохой, то он лютовал, то задабривал своих соратников едой и водкой, – сейчас ему не понравилось то, что Клоп чешется по-коровьи, щурится блаженно, глотает сопли – не боевик, а гипсовая скульптура «Девушка с веслом», этакая оглушающе-слезная радость влюбленного пионервожатого. – Нет, не блохи, – простодушно, не обращая внимания на то, что у Деверя снова «повысилась температура», к лицу прилила кровь и цветом он напоминал перезрелый помидор, отозвался Клоп, – кожа задубела, чешется. А что это значит? Это значит, что к нам подскребается зима, скоро наступят холода… – Ку-ку! Дурак ты все-таки, Клоп. – Деверь подошел к окну, просунул руку через прослоину жалюзевой портьеры, подергал решетку, вживленную в стену, похвалил: – Неплохо сработано, нехалтурно. Держит железо! – Ну так как, хочешь увидеть родной лимузин или нет? – Клопу не терпелось похвалиться тем, как «ребята с золотыми руками» преобразили машину, участвовавшую в сегодняшнем деле: по законам их ТОО все машины, побывавшие в операциях, меняли свой внешний вид, меняли номера, на них заполнялись новые техпаспорта и прочая документация – в общем, все, что положено в таких случаях. – Давай поспорим, ты ее не узнаешь. – Кто спорит, тот говна не стоит! – Деверь, довольный тем, что поддел Клопа, захохотал. – Спорят, Клоп, только дураки… Тебе это известно? – Не только дураки. В одной хорошей книге написано, что из двух спорящих только один дурак, другой уже не дурак, а подлец. Подлец потому, что знает – он прав и обязательно выиграет спор, а дурак… – Не трать зря слова, Клоп. По поводу дураков я сам тебе могу целую лекцию прочитать, есть у меня… знакомые, – он выразительно посмотрел на Клопа. – А потом, ты что, думаешь, я никогда не видел перекрашенных машин? Видел, и сколько видел! – Таких нет, не видел, смею тебя заверить… Кроме того, ты началнык, – Клоп переиначил слово «начальник» на грузинский лад, – а началнык должен быть в курсе всего… – Я началнык – ты дурак, ты началнык – я дурак. Ладно, – Деверь сдался и обреченно махнул рукой, – веди, показывай, хвались своим блином. Перед уходом он снова раздвинул пластины жалюзи, глянул в щель на улицу – нет ли чего подозрительного? Не маячит ли на углу «гороховое пальто»? Про топтунов царской поры, которых называли «гороховыми пальто», поскольку им однажды выдали одежду одинакового горохового цвета, Деверь недавно прочитал в газете и удивился несказанно: и чего, собственно, такие дураки сидели в дореволюционной жандармерии? Ведь что гороховые пальто, что форма с галунами и серебряными пуговицами – что в лоб, что по лбу, все едино – «гороховые пальто» были так же узнаваемы с первого взгляда, как и городовые в синей форме с красными кантами, при начищенных пуговицах и дурацких саблях. – Увидишь машину – доволен будешь, – сказал Клоп и отклеился от косяка. – Медуза, за арбузенком смотри в оба! – предупредил Деверь охранника, у которого от выпитого и съеденного глаза сделались сонными, мутными, уголки рта опустились лениво, словно бы от собственной тяжести, придав лицу ленивое выражение. – Не боись! – с трудом выдавил из себя Медуза. Он действительно хотел спать. Деверь показал Медузе кулак: не спи! Медуза нехотя шевельнул плечами – показал, что встрепенулся. – Не переживай, старшой, все будет в порядке! – Подумав немного, он притиснул растопыренную пятерню к виску. – А кепка где? – спросил Деверь. – Звыняйте, дядьку! – Медуза, не отрывая пятерни от виска, другую руку положил себе на макушку, – изобразил форменную фуражку. – Красной звездочки не хватает, – серьезно заметил Клоп. – А еще лучше – офицерской капусты. – Мозгов у него не хватает, – энергично рубанул Деверь, и от лихого буденновского жеста у Медузы протрезвели, прояснились сонные глаза, он снял «фуражку» с темени, от виска отклеил пятерню. – Во-во! – выкрикнул Деверь прямо ему в лицо. – Хоть из задницы мозг добавляй, такой дефицит возник у нас с этим веществом. Вышли на улицу, слепо сощурились от безжалостного, прошибающего насквозь солнца. – Печет, как в Африке, – не замедлил заявить Клоп. – Куда идти? В гараж? – Направо, шеф, прошу направо, – Клоп изобразил рукой лихой расчерк, будто регулировщик движения. Дома номер пятнадцать и номер семнадцать имели не только одинаковую внешность, но и одинаковые участки. Участки были обнесены забором, сделанным из панцирной решетки, в забор была врезана железная калитка, а задник вообще объединен длинным, сложенным из перекаленного темного кирпича гаражом, имеющим двое въездных металлических ворот – одни ворота выходили на один участок, другие – на другой. Впрочем, этого Клопу казалось мало, он не раз заявлял: – Была бы моя воля – я бы сговорился с хозяевами и третьи ворота прорубил, с тыльной стороны. Чтобы был черный въезд и черный выезд… Это очень хорошо, а главное – не надо беспокоить граждан, которые наблюдают за нашей жизнью с лицевой стороны. – Тьфу-тьфу-тьфу! – крестился Деверь от этих слов и плевал на землю. – Наблюдают! Да мне только от одной этой мысли не по себе становится! Хоть бронежилет надевай. По каменной, выложенной квадратными плитками дорожке прошли в конец участка. Клоп на ходу резко махнул рукой по воздуху, вытащил из кулака головастого разноглазого овода. – Во осень, а! Пауты летают… Разве это осень? И где, спрашивается, летают пауты? В столице нашей Родины, в которой они отродясь не водились. Вот загадка природы! – Клоп на ходу сорвал сухую травинку с острым жалом, вставил ее в задницу оводу и подбросил в воздух: — Счастливого пути, дорогой товарищ! Овод зажужжал перегруженно, медленно, словно самолет, потянул к гаражу, перевалил через крышу и исчез. – Вот так рождается малая авиация! – объявил Клоп. – Что-то ты весел сегодня, – Деверь недобро сощурился. – Не случилось ли чего? – Нет, не случилось. Погода настраивает на пенсионный лад – охота взять расчет и укатить к морю. – Ага, как этот слепень. С железным штырем в кормовой части. – Это называется «мягкая турецкая мебель», – не обижаясь на Деверя, всем своим видом показывая: «А чего обижаться-то?», пояснил Клоп. Захохотал. – Кроссворд, строчка по вертикали, состоящая из трех букв. Правильный ответ: «Кол». – А не х..? – поинтересовался Деверь. – Тоже слово из трех букв. По вертикали… – У каждого свое, и каждому свое. Как у Гитлера. Все правы и все довольны. Клоп оказался прав: машину, которая сегодня утром побывала в деле, было не узнать. И вообще это был совсем не тот расхлябанный, с потускневшей синей краской «жигуль», на котором они тряслись утром, смываясь с места перестрелки, это была машина совсем другой марки. А уж о цвете и говорить не приходилось. «жигуль» был покрашен в цвет «коррида», как знатоки называют красновато-желтый, словно бы из глубины, изнутри подсвеченный тон, перед украшала новенькая, блестящая, снятая с «семерки» решетка, на фары были поставлены защитные сетки. Лицо у Деверя неверяще вытянулось: – Это наш драндулет? – Что, не похож? – Клоп, не удержавшись, хлопнул рукой о руку: – Вот золотые руки у корефанов! Я когда увидел – тоже не поверил! – Мда-а, – неожиданно задумчиво и мягко произнес Деверь, – того, что было, уже нет. Хорошая работа. И следов не осталось. И как ни крутись милиция возле детского сада, как ни ищи она синий «жигуль», а ничего она уже не найдет. Никогда. Ни синего «жигуля», ни нас. Лихо, Клоп, лихо! – А я об чем говорю! – Клоп довольно потер руки о грудь, пририсовал к собственным телесам пышный женский бюст, приподнял его в воздухе, показывая, какой он тяжелый, аппетитный, преображаясь на глазах, становясь бабой – имелись-таки у Клопа артистические способности. – И я о том же! А! – воскликнул он азартно и снова тряхнул тяжелым бюстом. Потом изобразил вихляющуюся женскую походку – бедром в одну сторону, бедром в другую сторону – ну будто бы проститутка с Тверской улицы. – А? – Никогда бы не подумал, что так неузнаваемо можно преобразить «телегу» родного отечественного производства! Деверь поцокал языком, изображая восхищение, потом глянул на часы и заторопился: – Пора в дом, Клоп, на пост! – Ага, на кремлевский, – не удержался от подначки Клоп. – Есть там один, очень важный, первый номер имеет, около саркофага Владимира Ильича. Саркофаг вождя мирового пролетариата не волновал Деверя, его волновало другое: что если позвонит Полина Евгеньевна, – не по сотовому телефону, а по простому, а его не окажется на месте! Ведь тогда эта породистая баба не преминет вставить ему клизму – она и этим делом не брезгует, может поступить еще хуже – скостит ему премию, срежет пайковые, полевые – и такие были в их ТОО, – найдет, что рубануть, глянул резко на Клопа. Тот, дурачась, притиснул к виску ладонь, вторую ладонь водрузил себе на голову – повторил жесты Медузы. – Й-есть на пост! Когда шли к дому, обратили внимание, что по улице, поднимая за собой пыль, прошел старый, громыхающий железными внутренностями, кое-где проржавевший уже до дыр «жигуленок». – На этом лимузине еще Троцкий небось ездил, – фыркнул Клоп. – Мотор у машины состоит из одних неисправностей… А он еще бегает! Деверь отметил другое: в кабине «жигулей» сидели два человека с неподвижно-прямыми фигурами, будто люди эти проглотили по линейке, – лица застывшие, глаза устремлены вперед. Что-то насторожило Деверя в их виде, но что именно, он понять не смог – просто ноздрями, кожей своей, лопатками почувствовал опасность, и все.
20 сентября, среда, 15 час. 35 мин. Владельцы особняков номер пятнадцать и номер семнадцать – два старика, – ничего особого собой не представляли – старики как старики, оба жизнь свою посвятили торговле, и, видать, в этом деле здорово преуспели, раз обзавелись такими хоромами. Не дядя же из Америки оставил им наследство. И видать, хитрованами большими были, раз ни разу не попались. Один из них, старший, был даже награжден орденом Ленина. «За безупречный долголетний труд» или какая еще формулировка могла там быть, хотя то, что старик этот – жук великий, превращающий воздух в деньги, а деньги в золотые гвозди, гвозди же эти заколачивающий молотком в пол, чтобы никто ничего не нашел и вообще не догадался о его богатстве. Второй старик был такой же, как и первый – как две капли воды похож на своего двоюродного братца, и внешне и внутренне: с большой яйцевидной гладкой головой и оттопыренными ушами марсианина, подслеповатый, шепелявый, слюнявый. Впрочем, прошлое у второго деда было более туманным, чем у первого, кое-какие следы его тянулись в 1946 послевоенный год, к банде «Черные кошки», хотя впоследствии, когда распутывалось это громкое дело, он проходил по нему уже в качестве свидетеля, а не в качестве обвиняемого. Но это было давно, так давно, что невольно возникает вопрос: а было ли это вообще? Старик этот жил прошлым, и кодекс у него был свой, восходящий к той далекой поре – в общем, он мог украсть деньги, вскрыть сейф, обчистить квартиру, похитить же ребенка не мог. Его брат-орденоносец – тем более. Совершить современное преступление – похитить ребенка – могли только молодые люди, которые в 1946 году еще не замышлялись своими родителями к производству, – с совершенно иными, скрученными нынешним временем мозгами. Плюс ко всему оба старика ныне безвыездно жили на даче, ковырялись в саду, варили малиновые джемы и из местного, заросшего жирной ряской пруда довольно лихо таскали толстобрюхих сонных карасей; Волошин с Корочкиным не поленились, проверили это – старики действительно два месяца уже не покидали свой дачный поселок. – Ну что, ровесников изобретателя первого русского паровоза товарища Ползунова выдергиваем из колоды подозреваемых? – спросил Корочкин сожалеющим тоном, словно это была его добыча – преступники, которых он умудрился прихлопнуть, как жуков, а противный Волошин выуживал этих жуков у него из-под ладони. – Выдергиваем, они здесь ни при чем. – Жаль. Неужели жулика могли наградить орденом Ленина? – А почему бы и нет? Наградили же им директора Елисеевского гастронома. Оказалось – жулик. Да такой, что к стенке пришлось ставить. – Знаешь, сколько стоит орден Ленина в Америке? – Не интересовался. Давно там не был. – Шесть тысяч долларов. Не слабо? – Чего так дорого? – А металлов дорогих в ордене полно: золото, платина, что-то еще. Из-за металлов и цена такая. – Слушай-ка, а не пора ли нам высунуть нос из окопа? – неожиданно предложил Волошин. – Совершить ход «Е-два – Е-четыре», посмотреть, что в мире творится и чем дышат люди, а? – Смотря какие люди! – Чего-то ты бурчлив стал, как дедушки Угрюмовы. Те самые люди, которые живут ныне в доме номер пятнадцать и номер семнадцать. Как они яишницу едят – с аппетитом или без, – нам всякая информация нужна. Даже самая мелкая – нас волнует все, все, все. Неглавного сейчас для нас ничего нет – все главное. – Может, возьмем нашу машину, с надписью «милиция»? – предложил Корочкин. – Зачем? Рано еще. Момент для такой демонстрации наступит позже. Возможно, даже сегодня, но не сейчас. Так что терпи, Пуаро, искатель детективных приключений! – Ну уж и искатель, – не удержался Корочкин, хмыкнул, голос у него пошел веселыми трещинками, – ну уж и детективных, ну уж и приключений! – Поедем на моем «боливаре», – сказал Волошин. – Машина это такая: два дня в упор будешь смотреть, запоминать и все равно не запомнишь. Если только по звуку двигателя или по чему-нибудь еще, с двигателем же связанному, – на двигатель «боливара» все обращают внимание. – Г-господи, чего ж погода такая расчудесная выдалась – наказание какое-то! – Корочкин потянулся со сладким хрустом, сделал несколько движений, чтобы разогнать кровь. – Вместо того чтобы на пляже сидеть, считать последние купальные деньки да дуть из банок холодное пиво, мы гоняемся за какими-то… пхих! За тенями! – Если бы за тенями. Солнце на улице резало глаза, слепящий блеск вышибал слезы, прозрачная синь гулко опрокидывалась на людей, стойло только взглянуть на небо – оттуда раздавались громкие птичьи крики. Птицы, которых в городе почти не бывает слышно – город их пугает, глушит, умертвляет, – собирались в небе в стаи, даже воробьи – и те сбивались в настоящие летучие банды, кричали так, что до ушей совершенно не доходил гул машин, все тонуло в этом звонком сильном оре. – Чего они вопят так, а? Будто перед концом света! – спросил Корочкин. – А? – Что-то оптимизма в голосе не слышу! Совсем нет бодрых ноток. Наше ведь дело – правое! – Что левое, что правое – один хрен. Поймаем этих качков – на смену им придут двенадцать других, поймаем других – возникнет двадцать семь третьих, изловим третьих – появится шестьдесят четвертых… Цепь эту нам не оборвать. – Что за странный подбор цифр – двенадцать, двадцать семь, шестьдесят? – Подбор от фонаря, это так называется. Хорошо, хоть профессия не геометрическая – арифметическая. Но это явление временное, скоро она станет геометрической. Что не за горами – то не за горами. – М-да, а ты действительно оптимист. Да такой, что сразу не разберешься, в кавычках или без, – неожиданно, с отчетливо прорезавшейся горькой иронией проговорил Волошин. – Ты думаешь, мне эти мысли не приходили в голову? Особенно в день зарплаты, когда подходишь к кассе и получаешь ноль целых, ноль десятых рублей? – Знаешь, солнце это обманчивое! – сменил тему Корочкин, когда они садились в машину. – Я думал, что оно купальное… загоральное… какое там еще? А оно больше зимнее, чем летнее. Слишком яркое. А ярким солнце бывает всегда перед сменой погоды. В данном случае – перед холодами. Затяжными и сильными. – Ничего удивительного. Осень в Москве редко выпадает теплая, – Волошин лихо, в крутом вираже вывел свой «боливар» с заставленного машинами двора, – и вряд ли кто вскричит возмущенно: «Ай-ай-ай», если завтра на улице будет уже нулевая температура, а послезавтра – минус пять. Все примут это как должное. – Кроме, может быть, двух сотен бомжей. – Даже если их будет три или четыре сотни… Ну и что из этого? Они тихо ехали по улочке, мотор в исправном, отлично отрегулированном Волошиным «боливаре» фыркал, чихал, сопел, словно больной, – Волошин хорошо знал движок своей машины и мог заставить его делать что угодно, даже вышибать из выхлопной трубы хрип, храп, вопли либо, напротив, чистые органные звуки. А мог вообще лишить его голоса – у работающего мотора совершенно исчезал звук. «Боливар» умел ходить со скоростью, меньшей, чем у черепахи, и в ту же пору с самолетной резвостью срываться с места и на трассе без особых усилий обгонять «мерседесы» и БМВ. И вообще этот «жигуль» больше напоминал ремарковского «Карла» – помните старую гоночную машину, которую Ремарк называл «Карл – призрак шоссе», – чем не самую удачную поделку Волжского автозавода. Волошин сам перебрал мотор – все сделал своими руками, подогнал друг к другу каждую детальку, общупал пальцами, проверил каждую гайку, соскоблил все заусенцы и неровности, мешающие этому механизму работать, добавил кое-чего от себя, чтобы двигатель по команде из кабины мог мигом превращаться в дырявую кастрюлю, только и способную на то, чтобы выпускать из себя сквозь дырки дым, чихать и кашлять, мог вообще умолкнуть и, притворившись мертвым, не поддаваться ни на какие попытки завести его, а затем в один момент ожить – опять-таки по команде из кабины: нажмет Волошин на кнопку – и машина вновь станет машиной. Внешность «боливара», как и внешность ремарковского «Карла», была обманчива, и под дырявым, в пятнах проржавелостей, мятым и исцарапанным кожухом жил сильный выносливый организм. Машина буквально выпрыгивала, стоило только выжать педаль газа, сиденье выскальзывало из-под зада, уносилось вперед, спина вжималась в дерматиновую твердь подспинника, ноги отрывались от педалей. – Ай да «боливар», ай да умная скотина, – Корочкин, все поняв, погладил рукой приборную панель, послушал, как чихает мотор, и восхищенно наклонил голову – «снял шляпу». – Во артист, во лауреат Государственной премии! – Скажи, в этом районе случалась когда-нибудь стрельба? – спросил Волошин. Брови у Корочкина в раздумье сомкнулись в одну линию. – Что-то не припомню, – проговорил он нерешительно, – в других местах была, а здесь нет. – Значит, тихий район? – Тихий. – Оружие здесь тоже никогда не находили? – Нет. – Значит, не искали, – убежденно проговорил Волошин. – Я – технарь, а у технарей нос чувствует металл даже под землей. Особенно оружие. Смазку, запах горелого железа, пороховой налет внутри ствола – здесь все это есть. Есть! Район пахнет оружием. А особняки номер пятнадцать и номер семнадцать – особенно… Ноздри даже щекочет от запаха оружия. Так что, друг мой, ваша управа, как ты говоришь… – Волошин протестующе качнул головой: слово «управа» ему не нравилось, – должна держать это место под особым контролем, – он шумно потянул носом. – Ох, как сильно пахнет оружейным маслом! Корочкин с улыбкой покосился на майора – то ли тот дурачится, то ли вправду оружейный дух чувствует – пойди пойми! Но тем не менее он ощутил что-то острое, упершееся ему в лопатки, будто скол стекла, колючим краем врезавшийся в кожу. Корочкин сгорбился по-стариковски, улыбка исчезла с его лица. – М-да, от таких разговоров прохладно делается, – признался он. – А теперь, старик, замри и сделай на своем лице остолопье выражение, – приказал Волошин, – подъезжаем! Впереди, справа по ходу, показались нужные дома, пятнадцатый и семнадцатый, построенные из старого и, похоже, перекаленного кирпича, добротно слепленные, кое-где подправленные – там, где старый кирпич рассыпался либо был выколочен в годы войны бомбовыми осколками, хозяева положили новый кирпич, здорово не в тон, светлее, крыша была недавно покрашена, окна затянуты портьерами, еще виднелись жалюзи – тоже недавно были поставлены, лак на полосках-пластинах свежий, с блеском, не успел еще обвянуть под солнцем. Следующий дом – семнадцатый, тоже был сложен из кирпича, он точно, почти как в зеркале, повторял архитектуру дома предыдущего, только кирпич был чуть другой, с дымком и туманным налетом на поверхности. Латки на нем отсутствовали – значит, построен дом был позже первого особняка, войны не знал. Скорее всего, он был возведен сразу после войны, когда тут появилось много высококвалифицированных строителей – пленных немцев. Если бы его поставили где-нибудь году в тридцать седьмом, в страшную довоенную пору, то точно бы имелись выбоины, вышелушины, как в других домах, и новая кладка, какой бы искусной ни была, обязательно вылезла бы на поверхность. И крыша у этого дома была новее, чем у первого, – краска лежала ровно, отсутствовала та раздражающая глаз рябь, что образуется обычно на старых крышах. И хотя портьеры на окнах разнились, жалюзи и в первом, и во втором доме стояли одинаковые. Волошин отметил это и не смог сдержать удовлетворенного хмыканья: жалюзи ставили не старики-хозяева, а те, кто обитал в этих домах сейчас – арендаторы. Длинное кирпичное строение, расположенное на задах этих домов, тоже наводило на определенные мысли: то ли гараж это, то ли казарма, то ли боевое укрепление для того, чтобы держать длительную оборону, то ли оружейные мастерские – сразу не разобрать. Крыша общая, двое железных, с приклепанными к окоему толстыми металлическими полосами – для укрепления – ворот, участки разделены прозрачным сетчатым забором. Волошин старался засечь все, что видел, каждую мелочь – а вдруг все это через полчаса, через час пригодится? А может, и не пригодится вообще. Этого никто не знает. Но самое главное – то, что они увидели на участке людей, совершавших спортивную пробежку от дома к дому – впереди двигался коряво скроенный, костистый, жилистый человек с мелким плоским лицом и длинными мощными руками. Волошин знал эту породу людей, их способность без отдыха одолевать огромные расстояния, сходу ввязываться в любую драку – не мешкая ни секунды, не думая о собственном отступлении, даже если перед ними будет находиться целая несметь вооруженных людей, он все равно врубится, – шел он по земле легко, словно опечатывал ее ногами, все видел и все слышал вокруг – его костистая фигура источала злую настороженность. Следом, едва поспевая, двигался толстоватый – не толстый, а именно толстоватый, рыхлый – неуклюжий мужик с бабьим лицом, похожий на кого-то очень знакомого, только вот на кого именно – Волошин понять не мог. И вспомнить сразу не сумел. Но он обязательно вспомнит, он обязательно поймет, докопается, где видел этот лик. Толстяк страдал одышкой, рот у него был широко открыт, на солнце блестели золотые зубы – много золотых зубов, больше, чем положено, такое впечатление, что вставил он их специально, взял да насадил на здоровые зубы золотые облатки, чтоб показать: он – богатый человек. «Из торговых, никак?» – задал Волошин сам себе вопрос: очень уж был похож этот человек на владельца пивного ларька, – ответа не нашел и вслух произнес насмешливо: – Вот куда пошел золотой запас партии, КПСС которая… – Угу, – согласился с майором Корочкин. Он старался смотреть совсем в другую сторону – хоть и смотрел он туда, но видел буквально все и слева, и справа, и сзади; лицо у него сделалось неподвижным, оно отяжелело, глаза сжались в острые щелки: – Отражение, как от прожектора, ослепнуть можно. – Этого зубастого ранее не видел никогда? – Нет. – А первого, жилистого? – Тоже нет. Две шишки у него торчат на голове, будто рога. Очень уж примета броская. – А я зубастого, похоже, где-то видел, вот только где – вспомнить не могу. Или он кого-то мне напоминает… Нет, не знаю, – с сожалением произнес Волошин, – не могу вспомнить. А насчет приметы, шишек-рогов этих, тут все просто: прикрыл рога кепочкой и все – человек уже другой. Шишкастый – главный в этой двойке, второй – так себе, лапша! – Зато зубы у лапши какие, а! – «Золотые зубы в лапше» – фирменное блюдо главного местного ресторана, в котором нам с тобой, чую, скоро еду будут готовить. «Ржавый гвоздь в ботинке». – Невкусно что-то, а главное, не по теме. Помнишь, как в школе было – «по теме» и «не по теме»… – Одежду срисовал? – Так точно! – Надо будет проверить по приметам: а вдруг там, у детского сада, орудовали деятели в такой одежде? – Одежда неприметная, десятки тысяч людей ходят в такой: джинсы, серая рубашка, куртка. Ничего броского. – И все-таки. Сейчас нельзя упускать ничего, ни единой мелочи… Теперь телефон-автомат. Таксофон, как принято говорить в эпоху консенсуса, саммита и ротации. – Пустой. – Может, он все-таки не работает? – Работает. Уже проверяли. Они проехали улочку до конца, Волошин нажал пальцем не какой-то рычажок, расположенный под панелью, надавил на педаль, и «боливар» заработал ровно, сыто, с тихим масляным звуком. – Вот зверюга! – восхитился Корочкин.
20 сентября, среда, 15 час. 40 мин. «Господи, как много всего построено в жизни на лжи, подлости, подначках, стремлении загнать друг друга в ловушку, вытащить из кармана соседа последний рубль и превратить его в доллар – свой доллар – либо оприходовать, пропить – впрочем, рубли – уже ничто, «зеленые» стали ныне ходовой российской монетой, поэтому охота идет уже не за рублями, а за долларами. Разве мог себе это предположить хотя бы на несколько минут дряхлеющий бровеносец Брежнев? Да в самом дурном сне не мог. Он сам брал и другим давал. А ныне? Разве люди, дорвавшиеся до кормушки, дают что-либо другим? Нет. Едят сами, и только сами, едят ртом, ноздрями, задницей, ушами, всеми отверстиями, которые у них есть, – и еще стараются отнять у соседа. Когда же они наедятся? И кругом вранье. Сплошное вранье. Боже, когда все это кончится? Вранье со страниц газет, со страниц журналов и журнальчиков. Кому какое вранье выгодно, тот это вранье и выдает за правду, за чистую правду, и дует в кривую дуду, и дует. Ложь несется из радиоприемников, ложь льется с экранов телевизоров. Даже самые честные, самые обаятельные люди, те, что в каждом доме родные, – и они врут. Врут убедительно, вдохновенно, красиво, до самого последнего своего часа, как, например, это было с Владом Листьевым. Хотя о покойниках плохо не говорят… Обаятельный мягкий Влад! А ведь все время врал. Работал на «светлое будущее», успокаивал людей, которым не его вранье было нужно, а обычный кусок хлеба. И ему сходило, пока он врал как журналист. Как только начал врать как бизнесмен – убили. Первое вранье сходило – и всем сходит, оно стало принадлежностью, частью облика всех популярных людей, второе – нет…» Смесь гадливости, растерянности, боли, тоски, скопившаяся в Белозерцеве, требовала выхода. Он был оглушен тем, что увидел, Ириной, ее обнаженным телом, которое лапал, тискал потными руками другой мужчина – не Белозерцев, а какой-то смазливый слизняк, ее враньем, ее предательством. Пусть переселяется под другую крышу, в другой дом… к этому слизняку. Через несколько минут Белозерцев понял, что он находится в другой шкуре, не в своей – в шкуре человека, которого ему раньше приходилось только наблюдать со стороны, но забираться в нее он никогда не забирался. Другим Белозерцев сделался от боли, от того, что произошло с ним и что он увидел, и мыслить в результате он начал, как человек, которому сделали больно, очень больно. Он же – по сути своей – все-таки был другим: жестким, все замечающим, не прощающим промахов ни близким, ни далеким людям, ни своим, ни чужим… Ему оставалось одно: взять себя в руки и стать прежним, хорошо знакомым самому себе Белозерцевым.
20 сентября, среда, 15 час. 45 мин. Белозерцев очень быстро прикончил бутылку дорогого французского коньяка, который и пить-то, как свидетельствуют знатоки, нельзя, это преступно – можно только нюхать, брать на кончик языка по чуть-чуть, по одной капельке, а потом прижимать ее к небу, чтобы почувствовать неземной вкус, молиться и плакать от восторга, но пить стопками?! Или из горлышка, а Белозерцев, только когда в кабинете находился Пусечка, пил цивилизованно, из коньячной стопки, потом, может быть, еще один раз хлебнул из стопки, а дальше… дальше все понеслось по-рабоче-крестьянски, из горла. Он должен был опьянеть от коньяка – все-таки крепкий напиток, глотку даже дерет, хотя не должен драть, язык во рту стал наждачно-шершавым, – но Белозерцев не опьянел. Наоборот, он был противно трезв, чист, – вначале, правда, у него пошумело немного в голове, но потом все успокоилось – прошло. Белозерцев вытряхнул из фляжки себе на ладонь остатки коньяка – несколько капель, понюхал их, потом слизнул языком… Ну и чего хорошего в этой небесной влаге? Обычная дрянь, как и все остальное. В подреберье, там, где находилось сердце, его кольнуло, боль электрическим разрядом стремительно переместилась под лопатку, обозначилась там, Белозерцев вздохнул, вытер руку с коньячными каплями о брюки. – Ол-ля! – выкрикнул он зычно, словно на ветру, оглушая самого себя. Поморщился, склонил голову. Когда открылась дверь – он даже не видел, кто вошел в кабинет, секретарша или кто-то еще: – У нас хороший коньяк есть? – Есть представительский запас, – ответила Оля. Это была все-таки она. – Представительский? Там разный коньяк имеется. Есть ничего, а есть пакость, сработанная из керосина, только из керосина французского, не нашего. Называется «Наполеон», «Мартель» и так далее. Впрочем, французского не надо – ни плохого, ни хорошего. У нас должен быть «Варцихе» – грузинский коньяк, настоящий. Я сам покупал десять бутылок. В «известинском» магазине – там в издательстве, внутри, на территории, есть магазинчик, я там брал. В таких магазинах коньяки продаются без обмана и вместо «Варцихе» перцовку или «горный дубняк» не подсунут. Бутылок восемь мы с тобой пустили в распыл – потратили на гостей, пара бутылок осталась. Найди их. И принеси сюда. – Обе? – Обе. Секретарша без единого звука, словно бы была бестелесной, вышла. Она обладала хорошим качеством – тем самым, которым обладал, например, покойный Сережа Агафонов, – становиться, когда надо, невидимой и неслышимой. «Покойный…» Белозерцев не удержался, скрипнул зубами. Люди нескоро привыкают к тому, что ряды около них редеют. Но в конце концов привыкают. Нет ничего более низменного на земле, чем человеческая натура, она ко всему привыкает – к Гитлеру, к Сталину, к Горбачеву, к Клинтону, со всеми мирится, все для нее хороши, пока правят, сидят на Олимпе, и становятся отвратительны, когда уходят. С волками человек живет и общается по-волчьи, с воронами по-вороньи, с рыбами по-рыбьи… Вот создание! Белозерцев швырнул пустую фляжку в урну, на дне которой валялись порванные бумажки. Потом, подумав, потянулся за ней – красивая все-таки посудина. Может пригодиться. И стекляшечки приданы к ней элегантные – стопочки оригинальной формы, превосходно отлитые, опробованные, удобные для руки. «Для руки… – невольно усмехнулся, – для желудка, между прочим – тоже». Сунул фляжку в ящик стола. Туда же засунул и стопки, сиротливо стоявшие в стороне от телефонов. – Ладно, вернемся к нашим баранам, – проговорил он вслух с такой резко накатившей изнутри тоской, что у него перехватило горло. Нажал на кнопку звонка. Оля появилась не сразу, лишь через несколько минут – искала в кладовке коньяк. – Ну что «Варцихе»? – нетерпеливо спросил Белозерцев. – Ищу. Я помню, что эти бутылки были, а вот куда подевала их – совершенно не помню. Есть французский коньяк. – Французский не надо, я же сказал, – в горле у Белозерцева что-то защипало, он закашлялся, махнул рукой, выпроваживая секретаршу – ему не нужны были свидетели его слабости. И вообще не хотелось никого видеть – ни-ко-го, ни единого человека, даже Виолетту, которая у него одна-то и осталась, больше никого нет – она, да еще Костик. Он попытался вспомнить что-нибудь приятное, связанное с Ириной, но что-то в памяти его сломалось, полетел какой-то механизм, блок, биологический сцеп – что там еще может быть? – память упрямо не желала возвращать его в прошлое, она была нацелена в настоящее, и сколько Белозерцев ни тужился, все было тщетно, даже лицо Ирины, бывшее когда-то таким родным, и то не мог вспомнить. Исчезло лицо, не держит его память. Злорадно усмехнувшись, Белозерцев сглотнул соленый комок, сбившийся во рту, не сразу понял, что это были слезы. Все в нем сейчас было размолото, размято, не осталось ни одного целого места – кругом сплошное месиво, давленая жеванина, синяки – за несколько часов он превратился в ничто, в жалкое подобие гордого человека, которым был еще сегодня утром. Сопротивляясь гнетущим мыслям, самому себе, он приподнял плечи углом, словно собирался взлететь, но у этой большой побитой птицы не было крыльев, – подождал, пока не схлынет приступ боли, волной накатившей на него, и когда волна прошла, нажал на кнопку звонка: где же «Варцихе», черт возьми? Дверь открылась. – Ну? – спросил он, не глядя на секретаршу. По бесшумной поступи, по бестелесности он понял, что это была Оля. – Вот, – услышал он в ответ, посмотрел на дверь. Оля стояла в проеме и держала в руках две бутылки коньяка. Бутылки были запыленные, в какой-то странной копоти – видать, запрятаны были далеко, ну а копоть – это налет времени, пыль немытых улиц, которая проникает в помещения. Он указал жестом на стол – поставь сюда. Оля послушно подошла, Белозерцев взглянул на нее – лицо у Оли было растерянным, бледным, около рта обозначились мелкие горькие складки. – Переживаешь? Вздохнув, Оля кивнула, поставила бутылки на стол. – За меня? Оля снова кивнула, выпрямилась, вытянула руки по швам, словно солдат, заступивший на пост. Белозерцев, поняв, что творится у нее на душе, помягчел, пробормотал виновато: – Извини меня! – сквозь зубы втянул в себя воздух, привычно глянул нателефоны, расположившиеся перед ним рядком, под глазом у него задергалась жилка, жжение в глотке прекратилось, и вообще все прекратилось, едва появился коньяк, вот ведь как. Он попросил секретаршу: – Оль, найди какую-нибудь тряпку и вытри бутылки. – Ой! – вскинулась секретарша, сделала надломленный взмах руками. – Как же это я промахнулась? Я ведь бутылки эти прятала от водителей, от охраны – вот почему я их так долго искала! Только поэтому, Вячеслав Юрьевич. Коньяк ведь дешевый, нефранцузский, а они всегда к дешевому тянутся. – То, что коньяк дешевый и нефранцузский, не означает, что он плохой. Этот коньяк – отличный, я же тебе сказал. «Варцихе»! – он поднял указательный палец и повторил с неожиданным пафосом: – «Варцихе». – Подумал о стопках, но доставать их из стола не стал. – Принеси мне, пожалуйста, стакан. – Есть! – по-солдатски четко ответила Оля и, словно солдат, повернулась на одной ноге. Белозерцев не сдержался, невольно улыбнулся: а ведь этой девчонке самое место в армии. С прапорщицкими погонами на плечах. Через несколько секунд Оля принесла стакан, поставила перед Белозерцевым, потом протерла бутылку платком, выдернутым из кармана. Выразительно глянула на шефа. Взгляд был мимолетным, сожалеющим, Белозерцев перехватил его, хотел сказать Оле кое-что, но промолчал. Потом вздохнул и проговорил: – Через пять минут пришли ко мне Высторобца. Кабинет опустел. Белозерцев сдернул с бутылки облатку, порезал себе жестким краем палец, но не обратил на это внимания, зубами вытянул из горлышка мучнисто-белую полиэтиленовую пробку, не торопясь налил коньяка в стакан. Ровно, край в край, – всклень, как было принято говорить когда-то. Сейчас так не говорят. У него было целых пять минут до встречи с Высторобцем, поэтому можно не торопиться, – он откинулся на спинку кресла, приладился поудобнее и не сдержал стона – перед глазами вновь возникла черная вертикальная строчка. А с другой стороны, раз есть строчка – значит, он жив, значит, способен и дальше жить, чувствовать, ощущать боль, слезы… Что с ним происходит? Приподнявшись, Белозерцев потянулся к стакану, шумно схлебнул через край – слишком полным он налил стакан, коньяк скатился с его губ на полированную поверхность стола, обварил горечью язык и небо. Белозерцев смахнул ладонью капли со стола, вытер руку о брюки, потом взял стакан и, запрокинув голову, вылил его в себя. Еще в институтскую пору он знал лихих питоков, которые в один глоток могли одолеть целую бутылку. Любого размера – чекушку, поллитровку, «огнетушитель» – «ноль семьдесят пять», литровую бутыль. Они брали бутылку за туловище – делали это нежно, словно держали в руках балерину, едва прикасаясь к талии, раскручивали так, что жидкость в бутылке начинала вращаться винтом, а затем выливали все в себя. Вся бутылка – независимо от того, что в ней имелось, водка, крепленое вино или шипучий напиток «Салют», – так, винтом и проникала в нутро, ни на секунду не задерживаясь во рту. Оставалось только закусить или хотя бы занюхать напиток хлебной коркой. Чтоб напиток, попавший внутрь, не выдыхался. Он выпил целый стакан «Варцихе» и на этот раз даже не почувствовал вкуса и крепости коньяка – словно бы вылил в себя воду, крякнул возмущенно: неужели обманули? И тут, значит, обман? Еще минуту, – нет, три, пять минут назад в нем все жило, все действовало, он чувствовал, чем пахнет коньяк, ощущал его вкус на языке – ягодную горечь, что-то хлебное – ячменное, может быть, смешанное со вкусом древесной коры и солнца, – и вот все умерло, исчезло. Неужели распад продолжается? Он налил еще стакан коньяка, залпом выпил и снова не почувствовал его вкуса. Хмель тоже не брал – Белозерцев не пьянел. Крепкий напиток обычно быстро оглушает человека, в голове возникает веселый звон, внутри рождается доброе земное тепло, мир меняется, а здесь ничего этого нет – пусто, сухо, холодно, взгляд незамутнен, в голове никаких веселых звуков, если и возникает какой-то звук, то это – звук боли. Может, оно и хорошо, что он не пьянеет? Допив «Варцихе» до конца, он швырнул пустую бутылку в урну с бумажками, вторую бутылку – полную – с раздражающим грохотом бросил в стол. Поправив на телефонах трубки, откинулся назад и закрыл глаза. Ну хотя бы чуть повело в сторону, позволило отключиться или в образовавшейся темноте перед ним возникли какие-нибудь дымные кольца, цветные пятна либо что-нибудь еще, – но нет, ничего этого нет. Он всухую пожевал губами, погасил в себе готовый вырваться наружу стон. Он сидел так до тех пор, пока в кабинет не вошел Высторобец. Белозерцев открыл глаза, указал рукой на кресло. Высторобец покивал мелко, присел на край кресла, словно бы боясь провалиться в обтянутую кожей мякоть, как в болотную бездонь. Взгляд настороженный, губы плотно сжаты. – Скажи, зачем ты это снял? – Белозерцев поставил кассету на попа, показал на нее пальцем. – А что, разве не надо было снимать? – Думаю, что не надо, – Белозерцев послушал свой голос со стороны – ровный, хотя и придавленный, с глухотой, звучит довольно спокойно, без дрожи. – Неужели я, узнав об этом, мог пройти мимо? Ну знаете, Вячеслав Юрьевич, – Высторобец попробовал было приподняться в кресле, но Белозерцев жестко и безжалостно осадил его: – Не знаю! – Я полагал, что вам должно быть известно все про ваш дом, про семью, про офис, про сотрудников, про тех, кто входит с вами в контакт, и вообще, как руководителю мощной коммерческой структуры… – Не руководителю – владельцу, – оборвал его Белозерцев. – Извините! – Как говорят в Одессе, это две большие разницы. И все-таки я хочу понять, зачем, для чего, почему была снята эта видеопленка? – Разве вы будете терпеть у себя в доме пакость, обман, предательство? – Не буду. Это совершенно однозначно. Но здесь разоблачается не только моя неверная жена, но и я сам. Вы понимаете – я сам! – Извините еще раз, но вот как раз этого я не хотел делать, – губы у Высторобца дрогнули, он пытливо и спокойно глянул на Белозерцева – перед Белозерцевым на мгновение предстал совсем иной Высторобец, чем минуту назад – приоткрылась занавеска и тут же запахнулась вновь. Такой Высторобец нравился Белозерцеву: холодный, расчетливый, злой. – Именно этого я не хотел. – А получилось, что хотел. Как вы организовали эту съемку? – Я купил… Я купил этого молодого человека. Заплатил ему деньги. «Зеленые». – Как его зовут? – Олег. По отчеству, по-моему – Олегович. Фамилия – Скобликов. Тридцати двух лет от роду, бывший член партии, член Союза художников, акварелист, называет еще себя поэтом – видать, пишет стихи. Проживает… – Стоп-стоп-стоп! – поднял руку Белозерцев, и Высторобец мигом убрал газ, голос у него сделался тихим и неуверенным. – Мне его анкета не нужна. Плевать я хотел на место и год рождения. Сколько ему заплачено? – Тысяча баксов. – Тысяча долларов за это? За эту грязь? – Белозерцев покосился на пленку, рот у него брезгливо дернулся, пополз в сторону. – Ну и ну, Высторобец! – Он понял теперь, что происходит с Высторобцем, почему человек с боевым прошлым, солдат, скатился до обычного подсиживания, до подсматривания в замочную скважину, до сбора компромата, до стукачества. Подобное в прошлом произошло и со многими солдатами, которые вернулись домой с Великой Отечественной войны – там они находились на фронте, где острое, накоротке ощущение врага не покидало их даже во сне; немец, он ведь совсем рядом, вот он, надо только зубами вцепиться ему в глотку, перекусить ее, а пришли домой – и врага не стало. К мирной, без стрельбы и взрывов, жизни они не были приспособлены, самым главным врагом оказались жены, но жены – не Гитлер, их так скоро, как Гитлера, не одолеешь, да потом жены часто оказывались сильнее, чем Гитлер, и бывшие фронтовики стали преображаться. Они делались трусливыми, склочными, нетерпимыми к чужим промахам, они начали осваивать новое ремесло: подглядывать и стучать… То же самое произошло и со многими афганцами. – Да, тысяча, – подтвердил Высторобец. – Сколько вы получаете в «Белфасте»? – Белозерцев был с Высторобцем то на «ты», то на «вы». Собственно, это принятая манера общения шефов с охранниками, поскольку шефы – господа и, как все господа, считают охранников своей личной собственностью. Хотя, с другой стороны, случается, что охранники считают своей собственностью тех, кого они охраняют – и такое бывает. Впрочем, шефов своих на «ты» они не зовут. Эти отношения – господина к своей личной собственности – и рождают то пренебрежительно-братское «ты», то отдаляющее на расстояние вытянутой руки «вы». Белозерцев не был исключением из правил, он являлся типичным господином… – Четыре тысячи долларов, – последовал ответ Высторобца. Белозерцев откинулся назад, сложил руки вместе и стал большими пальцами крутить мельницу – нарисовалась этакая красочная картинка чиновника, решающего, кому чего дать, а кому ничего не дать – орденок, допустим, или лауреатскую медальку, – кого пущать, а кого не пущать – в закордонье, скажем, кого одарить, а кого ничем не одаривать: в этой игре Белозерцев был кошкой, а Высторобец – мышкой. Одно крыло носа у шефа задергалось, приподнялось вместе с краем губы, затем задрожала щека, и Высторобец отвел взгляд в сторону. – Тысячу долларов отдал за это «тьфу»? – вновь послышался неожиданно спокойный вопрос Белозерцева. Высторобец не понимал своего начальника – сам Высторобец сделал бы невесть что на месте шефа «Белфаста», перестрелял бы половину Москвы, рассчитываясь с городом, за неверность любимой женщины, вторую половину просто бы упек в каталажку… Но Белозерцев был иным человеком и вел себя по-иному. – Тысячу, – поспешно подтвердил Высторобец. – Свои отдавал, из своего кармана? – Из своего кармана. – Копия пленки есть? – Нет. Пленка сделана в одном экземпляре. – Кто снимал? – Съемка велась автоматически. Человек, который устанавливал аппаратуру, не знает ни вас, ни Ирину Константиновну. – А этого… – Белозерцев невольно поморщился, щека у него снова дернулась. – Ирина Константиновна зовет его Олежкой, – произнес Высторобец и поймал себя на том, что слишком неосторожно назвал героя-любовника уменьшительным именем, это Белозерцеву будет неприятно. Но, с другой стороны, из песни же слова не выкинешь – к нему так обращалась Ирина Константиновна. – Ну хорошо… Олежку этого хорошо знаешь? – Шапочно. – Где находился оператор во время съемки? – продолжая морщиться, машинально, хотя и с прежним напором, спросил Белозерцев и в ту же секунду спохватился: – Впрочем, что это я – он же установил аппаратуру и ушел съемка-то велась автоматически, живой оператор снял бы весь этот позор по-другому… – Да, съемка велась автоматически, – быстро подтвердил Высторобец. Он понял, что сейчас особенно заботит Белозерцева, и это беспокойство было, по его разумению, сущим пустяком по сравнению с тем, что произошло, видел ли кто еще обнаженное тело Ирины. Белозерцев стеснялся этого, ему было стыдно, он и себя почувствовал обнаженным, вот ведь как. – Сколько долларов вы заплатили этому самому… установщику аппаратуры? – Триста. «Врешь, скотина, эта работа стоит на сто – сто пятьдесят долларов меньше, – спокойно отметил Белозерцев, кожа на лице у него одеревенела, стала чужой, щека больше не дергалась. Он хотел родить в себе неприязнь, ненависть к Высторобцу, но до конца справиться с этой задачей не смог. – Ладно, все это ерунда, чушь на постном масле, Высторобец снял это “кино”, чтобы шантажировать меня, загнать при случае в угол, прижать коленом к стене, Получить за пленку хорошие деньги… Знаем мы все это, проходили не раз. С другой стороны, пленка, сделанная в двух экземплярах, стоит в два раза меньше… Да не в два – в четыре! Это истина, которую Высторобец знает хорошо. Но если кто-то даст Высторобцу больше, чем я, то Высторобец продаст пленку ему. Впрочем, уже не продаст. Пленка-то находится у меня. Надо отдать должное, Высторобец поступил честно, принеся ее мне…» – И все-таки скажи, Высторобец, только честно… Зачем ты снял эту пленку, зачем дал ее мне? – Я хотел, чтобы вы все знали, Вячеслав Юрьевич, чтобы не строили иллюзий насчет того, что у вас надежный тыл и все прочее, что фланги прикрыты… Ничего у вас не прикрыто! – Хватит! – обрезал его Белозерцев. Высторобец умолк, звучно вздохнул, так что было слышно, как в горле у него затрещал какой-то хрящ. – Тысяча долларов плюс триста – тысяча триста, плюс пять долларов за кассету – тысяча триста пять, плюс сто девяносто пять долларов за ваши организационные услуги – итого тысяча пятьсот «зеленых». Выдвинув нижний, специально укрепленный железными пластинами ящик стола и чувствуя духоту, внезапно навалившуюся на него, спрессовавшую пространство, Белозерцев достал пачку стодолларовых банкнот, отсчитал полторы тысячи «зеленых», протянул их Высторобцу. – Мы в расчете, Высторобец. Пересчитайте, пожалуйста. Пока Высторобец мусолил пальцами кредитки, вяло шевелил губами и морщил лоб в раздумье, как быть дальше – он побаивался Белозерцева, его неожиданной резкости, всплесков злости, сменяющихся холодным, почти мертвецким спокойствием, – Белозерцев отсчитал еще четыре тысячи долларов, отделил их от пачки, потом к четырем тысячам также добавил четыре, сложил вместе. Остатки сунул в стол. Делал он все это стремительно, движения были короткими, точными, духота, как ни странно, в этот раз добавила ему энергии, и Белозерцев спешил быстрее отделаться от начальника своей охраны. – Вот еще восемь тысяч долларов, – он перекинул пачку денег через стол, доллары зеленовато-плесневелым веером рассыпались по скользкой лаковой поверхности. – Пересчитайте и их. Будь на месте Высторобца другой человек, он вряд ли бы стал пересчитывать, сказал бы, что верит шефу, отшутился бы, все свел бы к какой-нибудь остроумной ерунде, но Высторобец этого не сделал: зная характер своего начальника, он стал придирчиво, с озабоченно-нахмуренным видом считать деньги, шевеля губами и поплевывая на кончики пальцев. Белозерцев никак не мог понять, специально он это делает или нет, иронически поглядывал на него. Закончив пересчитывать доллары, Высторобец поднял свои маленькие, неожиданно сделавшиеся влажными глаза на Белозерцева, немо раздвинул сухие побелевшие губы, словно бы спрашивая что-то у шефа. Белозерцев с досадой махнул рукой, будто отсекая все былое: было, мол, и ушло – все осталось в прошлом, а кто прошлое помянет – тому глаз вон! – Это ваша зарплата за два месяца, – ровным, без единой трещинки голосом произнес Белозерцев, окончательно переходя с Высторобцем на «вы» и отдаляя его от себя, – и в зависимости от того, что вам удастся сделать в ближайшие полтора дня… нет, полтора суток… тьфу, так ведь не говорят! – воскликнул от с досадой. – В общем, в ближайшие тридцать шесть часов, до… – он отвернул испачканный каплями коньяка, обшлаг рубашки, посмотрел на циферблат своего титанового «роллекса», – до четырех часов утра двадцать третьего сентября, будет зависеть, станет эта сумма вашим выходным пособием, после которого вам придется искать себе работу, либо окажется обычной премией – прибавкой к ежемесячному заработку. Надеюсь, все понятно? Или я что-то упустил? – Что же, я в четыре часа утра буду вам звонить? – тупо спросил Высторобец. «Не то, совсем не то-о, – ежась от духоты, от боли, снова затеплившейся в нем, от тяжести, засевшей в затылке, подумал Белозерцев, – когда в башке нет извилин – никакое хирургическое вмешательство не поможет, медицина тут бессильна… Разве об этом надо спрашивать?» – Да, в четыре часа утра, или ночи – как хотите, – спокойно произнес Белозерцев, – мои телефоны, и домашний и служебный, вам известны. – Что я должен сделать, чтобы оправдать… – Высторобец споткнулся, кадык у него подпрыгнул с сухим бульканьем и тихо сполз вниз, кожа на шее покрылась складками, – чтобы быть вам полезным? – А вот что, – Белозерцев постучал пальцем по пластмассовому футляру видеокассеты, потом перечеркнул в воздухе выразительным крестом. – Эти граждане – лишние в современном обществе. – Ка-ак? – щеки у Высторобца сделались серыми, на лбу выступил обильный пот. – Вот так. Я все сказал. Повторить? – И-и… ваша жена… – Я спрашиваю: повторить? – Не надо, – приходя в себя, произнес Высторобец. – Я к повторам плохо отношусь, Вячеслав Юрьевич. Извините! – Люблю сообразительных людей, – Белозерцев подумал, не открыть ли бутылку «Варцихе», не налить ли Высторобцу коньяка, чтобы тот немного пришел в себя, потом решил, что не будет тратить на Высторобца напиток. Свое отношение к этому человеку он определил. – Все, можете идти! Фигура у Высторобца сделалась скорбной, будто у бронзового изваяния, поставленного на чью-то могилу – скульпторы очень любят украшать могилы скорбными, с отрешенными лицами, очень выразительными, огорбатевшими от горя людскими изваяниями; вполне возможно, они считают, что так можно и выразить свои собственные страдания, и прославиться. Сейчас Высторобец, мокрый от пота и волнения, очень напоминал подобное изваяние. Белозерцев не сдержал невольной усмешки – кривоватой от боли, половинчатой, когда одна половина рта смеется, другая рыдает, незнакомой – Высторобец еще никогда не видел, чтобы шеф так улыбался. Когда Высторобец ушел, Белозерцев выпил еще коньяка, в очередной раз нехорошо подивился тому, что крепкий напиток не берет его, а вот сердце отреагировало, дало о себе знать, заколотилось неожиданно оглушающе, беспорядочно, отозвалось железным стуком в висках, в затылке и долго не могло успокоиться. В нем возникло сомнение – не слишком ли жестоко он поступает с женой? Ведь она мать его ребенка, хранительница его очага, его тыл – вернее, была его тылом, – может быть, с ней просто развестись и поставить на этом точку? Он потянулся было к кнопке звонка, чтобы задержать Высторобца, но в следующий миг в нем запалился злой огонь, заполнил все внутри, заставил опять приложиться к бутылке: Ирина заслуживает то, что заслужила. А заслужила она… в общем, останавливать Высторобца он не будет. Каждая женщина должна носить те серьги и те украшения, которые заработала. Своей добродетелью. – у него на лице снова возникла чужая кривоватая улыбка, стянула кожу на щеках – либо… Слово «недобродетель» было слишком мягким, Белозерцев хотел выговорить другое слово, но не смог – что-то удержало его, и вслух он произнес коротко и невыразительно: – Дрянь! Конечно, насчет того, чтобы Высторобец звонил ему ночью, Белозерцев перегнул – дома он уже не появится. Не появится до тех пор, пока не выручит Костика. Под этой маркой он должен пока ночевать в офисе, у телефонов. А когда вернется Костик, тогда все и определится… Пока же – увы, пока домой ни шагу, пока он будет жить в офисе, находиться с Ириной под одной крышей он уже не сумеет никогда. Кроме офиса он может ночевать у друзей, у знакомых – у того же Пусечки, например, Пусечка никогда не откажет ему в крове, – жить в гостинице, за городом, на даче, у Вики… Вспомнив о Вике, Белозерцев размягченно вздохнул: только она одна у него и осталась. Она да Костик – ближе у него уже никого нет. Он потянулся у трубке, чтобы позвонить Вике, но остановился, холодно и трезво глянул на собственную руку, словно бы это была рука постороннего человека, отдернул пальцы от телефона: а вдруг именно в этот момент ему звонят и наткнутся на частый гудок – тогда все пролетит впустую, Белозерцев задавленно всхлипнул и откинулся на спинку кресла. Нет ничего мучительнее такого вот ожидания, когда секунды становятся часами, а минуты сутками, время, будто резина, растягивается до абсурдных размеров, высасывает из человека мозг, причиняет боль, заставляет заполошно биться сердце – ползут минуты томительно, изматывают, оглушают, звон в ушах стоит такой, что, того гляди, лопнут барабанные перепонки, под черепной коробкой все сжимается в комок, мозг, набрякший свинцовой тяжестью, становится чужим, яркий солнечный день вот уже столько часов – серый, хмурый, в нем ни одного радостного промелька, все плохо, очень плохо… Так плохо, что хоть побитой собакой вой… Или волком. Воздух в помещении затхлый, давит на легкие, ноздри забиты пылью, дышать становится все тяжелее и тяжелее. Худо было Белозерцеву. Ну когда же раздастся телефонный звонок и хотя бы чуточку сдвинет камень с души? Он с ненавистью глянул на один телефонный аппарат, на другой, перевел взгляд на свою руку – она ему показалась мертвой, вспухшей, это была рука другого человека, не его, какого-то утопленника, удавленника, мертвеца – и снова взялся за коньячную бутылку. Вике он позвонит позже, чуть позже, минут через пятнадцать-двадцать, когда сам получит звонок. Он отер пальцами глаза, поглядел на кончики – пальцы были мокрыми, значит, он плакал, ревел, как белуга, но не ощущал своих слез. Вика, Вика. Она нужна была ему сейчас больше всех – до стона, до боли, до слез. Тогда, может, отставить все планы с Пусечкой и ему самому жениться на Вике? Ведь Пусечка, если вдуматься, – это очень оскорбительно для Вики. Пусечка же только рад будет такому повороту событий – очень уж испуганная морда была у него. Черед Пусечки придет в следующий раз. Может, отменить сегодняшнюю встречу в ресторане «Пекин»? А зачем, собственно, отменять? Нет, отменять он ничего не будет. Пусть уж все идет так, как идет, без поправок. В конце концов все будет в порядке, Белозерцев верил в свою звезду. Итак, первым номером – Костик, главное – выкупить его, вторым номером – Вика, а все остальное – потом. К встрече с Викой надо будет приобрести какую-нибудь дорогую безделушку, чем дороже – тем лучше: бриллиант в золотой или платиновой оправе. Вика будет довольна, а бриллиант… он снимет все обиды. Что же касается Ирины… В конце концов, Зверев поможет – на Белозерцева на падет даже тень подозрения. Да кроме всего существует испытаннейшее средство – деньги. Деньги – это оправдательный приговор в любом, даже самом мокром, деле, в этом Белозерцев был уверен твердо.
20 сентября, среда, 15 час. 50 мин. Прикурив от золоченой, с узким тяжелым телом зажигалки, Полина Евгеньевна с наслаждением затянулась дымом, придвинула к себе стопку бумаг, отпечатанных на дорогой, светящейся сахарной бумаге – бумага была такой белой, что казалось, она светится, – на которой был тиснут новый российский герб, а внизу четко пропечатано «Президент Российской Федерации», пробежала глазами по тексту. Это был указ о присвоении чиновникам государственных званий. Сродни воинским – от референта госслужбы третьего класса до государственного советника. Полина Евгеньевна рассмеялась, лицо ее приобрело ехидное выражение и оттого стало незнакомым – скоро разные конторские служаки будут носить канты на штанах и погоны с набором звездочек: старший бухгалтер жэка – один просвет на погонах и одна звездочка, начальник конторы – четыре звездочки на том же погоне либо одна звездочка при погоне с двумя просветами, начальник чуть повыше будет иметь две звездочки на погоне с двумя просветами, чиновник еще выше – три звездочки и так далее. Будут свои генералы и свои маршалы – гражданские, «штатские шпаки», как пели когда-то про них в частушках. – Все, мы дошли до ручки, дальше идти некуда. И ехать тоже некуда, – Полина Евгеньевна согнула бумажки в небольшой рулон, заклеила срез липкой лентой, чтобы никто этот рулон не обнаружил – все-таки секретная бумага окажется на свалке, и, сунув рулон в пластмассовое мусорное ведерко, придвинула к себе телефон. Набрала на кнопках номер – будто по музыкальному инструменту пробежалась. – Читал новую указивку за высокой подписью? – спросила она человека, отозвавшегося на том конце провода. – Какую указивку? Разве не знаешь? Ах, понимаю, понимаю, нынче указы выходят по любому поводу: как сморкаться, как гладить кальсоны, как льстить начальству, как сдавать мочу, извини, на анализ, как пользоваться пипифаксом и так далее. Я понимаю, это хамство, это грубо, но из песни слова не выкинешь. И какой это… дур-рак, извини еще раз, сочинил указ о званиях для всей нашей учрежденческой лимиты? Ладно, ладно, я знаю, что не ты… да ты и не дурак, это тоже всей президентской администрации известно… Теперь скажи, какое звание будет у меня, к чему готовиться? Кто я, полковничиха или генеральша? Кто-кто? Государственный советник третьего класса? А чему это соответствует в армии, например, какому званию? Генерал-майора? Недурственно. Это что же, на юбку придется нашивать лампасы? Не знаешь? А кто знает? Ладно, все это шуточки, мура. А у тебя какое звание будет? Ах, на одну звездочку больше… А если перевести на армейские чины? Генерал-лейтенант? Разве генерал-лейтенант больше генерал-майора? Никогда не знала. В армии ведь майор всегда был больше лейтенанта. Ну что ж, я тебя поздравляю. Теперь посмотри на часы. Сколько там набежало? Без семи минут четыре. Пора нажимать на кнопку: ровно в четыре часа должен раздаться звонок нашему… душечке, – Полина Евгеньевна рассмеялась. – Пленку, кстати, получили? Смонтировали? Нет? А почему, пардон за выражение, телитесь? Не телитесь, не телитесь, господин генерал-лейтенант… или как там положено обращаться: ваше превосходительство? Итак, напоминаю – через семь минут – звонок. Да-да, душечке. Я его знаю, он – настоящий душечка. Нет-нет, не по Чехову. Я это говорю искренне, – она рассмеялась какой-то остроте, отпущенной ее собеседником и положила трубку на рычаг. Судя по тону, каким Полина Евгеньевна говорила со своим собеседником, не он был «штатским» генерал-лейтенантом, а она, и не она подчинялась ему, а он ей. Она просмотрела еще несколько бумаг, в том числе и с грифом «СС» – «совершенно секретно», швырнула их, как и указ, украшенный «курицей» (так в ее кругу звали двухглавого орла, перекочевавшего на деловые бумаги с допотопных денег времен Керенского), в урну, затем проверила себя: все ли о кей, на месте ли массивная золотая цепочка, прочно ли сидят в ушах бриллианты, – и поднялась. За окном было душно, воздух набряк горячечной тяжестью – такой погода бывает только перед сильной грозой, но какая гроза может разразиться в сентябре? Сумасшествие какое-то, бред… Пора гроз прошла, наступило время невесомой серебряной паутины и домашнего, как от печки, тепла бабьего лета. Бабье лето, романтическая пора… Она прислушалась: не раздастся ли где-нибудь неподалеку раскат грома? А так захотелось, чтобы гром раздался! Вначале один, задавленный, глухой раскат, потом второй и третий, затем по улице пробежится резвый разбойный ветер, он обязательно должен пробежаться – ветер, собирающий в кучки разный мусор, пластиковые пакеты из-под печенья и орехов, обертки «баунти» и «марса», тортовые картонки и плоские, похожие на книги коробки с намертво – не соскрести, – прилипшими остатками пиццы, фантики, алюминиевую облатку различных заморских шоколадов, прочую дрянь; потом ветер утихнет, развернется где-то вдалеке и вновь промчится по улице, вызывая ощущение легкости, невесомости, после второго круга почета сделает третий, а следом, после минутной паузы, когда бывает слышно, что творится даже на облаках, в землю с барабанным грохотом врежутся первые капли дождя. Тяжелые, как свинец. И пойдет тогда, и пойдет. Старухи в такой дождь молодеют, превращаются в юных, по-ведьмински опасных вертлявых девчонок, способных грешить где угодно и с кем угодно, мертвецы радостно бряцают своими костями в могилах. Он заставляет жить, этот дождь, заставляет петь, заставляет сбрасывать с себя годы, будто громоздкий ненужный груз… И город, он совсем иным становится во время дождя. Особенно если дождь этот идет летом. Летние дожди – они как праздники. Праздники же, известно всем, долго длиться не могут, бесконечные праздники надоедают, бывают горьки. Праздники должны быть короткими. Так и дожди. Летние дожди не в пример осенним – короткие. Очень хотелось, чтобы сейчас прошел дождь, город мигом бы вздохнул свободнее, слишком уж тяжело он переносит необычную сентябрьскую жару. Город давит на людей, давит на самого себя, и гнетущее впечатление от этого пресса уже долго не исчезает – оно никак не может пройти. Складывается такое впечатление, что оно вряд ли пройдет вообще. Ну что, гремит гром или нет? Увы. Доносится лишь многослойный шум улицы и больше ничего. Даже криков птиц не слышно. То ли покинули птицы Москву, то ли затаились.
20 сентября, среда, 15 час. 55 мин. У Высторобца имелась в офисе своя комнатенка – глухая, будто фоб, без единой щели, выводящей на улицу, с медной решеточкой воздуховода, врезанной в потолок. В комнатенке пахло хорошей кожей – Высторобец купил полтора десятка подмышечных кобур для пистолетов, восемь штук раздал – пять охранникам, две вручил шефу – Белозерцеву тоже потребовались кобуры для личного пользования, одну отдал первому заместителю Белозерцева, а семь штук развесил по стене, будто предметы прикладного искусства, призванные украшать всякий безрадостный интерьер. Запах от кобур стоял, как от целого кожевенного завода – резкий, цепкий, способный впитываться в ткань, в химические покрытия, в мех, в шерсть – даже если Высторобец сдернет весь этот «декоративный» набор со стены, запах все равно останется. Поселился он здесь надолго. Высторобец открыл сейф. Главной «мебелью» – или «аснавной мебэл», как иногда на чеченский манер выражался Высторобец, в комнатенке начальника безопасности «Белфаста» был сейф – тяжелый, старый, производства давно угасшей немецкой фирмы, его невозможно было взять даже противотанковой гранатой, так добротно был он сварен. Все остальное, что находилось в комнате, было лишь приложением к сейфу. Высторобец положил пачку полученных от Белозерцева долларов в конверт, заклеил прозрачной липучкой, сверху написал крупно, печатными буквами: «В случае, если я погибну, прошу передать моей жене Елене Алексеевне». Подписался. Потом из трех помповых «винчестеров», находящихся в сейфе, он взял один, с черным тусклым ложем, подкинул в руке, проверяя, как ружье ложится в ладонь, отрицательно покачал головой – тяжеловатое, неудобное, шума от него много. Можно было взять пистолет – их в сейфе было около десятка, – имелись и старые, фронтовые, совершенно безотказные, с облезлой сталью ТТ, ставшие любимым оружием у киллеров, и «макаровы», ни разу не побывавшие в деле, густо обработанные тавотом, и нарядный вальтер с дубовыми щечками, врезанными в рукоять, и испанский «стар». Поначалу он решил взять с собой два пистолета ТТ и «макаров», но, поразмышляв немного, положил пистолеты на полку, несколько минут молча смотрел на весь этот «подведомственный» арсенал; от запаха масла, перебившего даже крепкий спиртовый дух хорошо выделанной толстой кожи, из которой были сшиты подмышечные кобуры, в горле начало першить, перед глазами возник туман, кадык на шее Высторобца дернулся расстроенно, и он отвернулся от шкафа с оружием. В конце концов всегда на всем приходится ставить точку – и на каком-нибудь непростом, ставшим дорогим деле, и на любви, и на учебе, и на ушедшем друге, и на предавшем товарище, – у всего есть свой закономерный итог, в том числе и у жизни. Исключений нет, кто бы как бы ни пытался тужиться и обманывать природу. Обманывать природу – значит обманывать самого себя: природа в дураках никогда не останется, человек же – всегда. Он глянул вверх, на нарядную бронзовую – или какая она там, латунная, медная? – решеточку вентиляции, подумал о том, что решетку эту давно надо было поддеть отверткой да устроить там тайник – наверняка за ней есть лазы по воздуховоду влево и вправо, – сожалеюще вздохнул: сейчас об этом говорить поздно, сейчас надо заниматься другим. Из шкафа он достал легкую куртку неопределенного цвета – так называемого немаркого, когда почти все севшие на ткань пятна бывают невидимы, со светлой изнанкой, – куртка была двухсторонняя, повесил ее на руку и закрыл дверь комнатенки. Произнес про себя: «Дай бог, чтобы я сюда вернулся», постоял еще немного с молитвенным выражением на лице – он и вправду молился, хотя был неверующим человеком – и покинул офис «Белфаста». Ни один человек не видел, как Высторобец вышел из помещения.
20 сентября, среда, 16 час. 00 мин. Хоть и ждал Белозерцев звонка, был готов к нему, а раздался звонок неожиданно, пробил словно бы током, с головы до ног, – по коже даже пошла колючая мелкая сыпь, голова дернулась в сторону, как от удара. Белозерцев вдруг почувствовал себя обреченным, подтянул на шее галстук – вид его сразу сделался благообразным, как у старых интеллигентов, поправил манжеты с вдетыми в них крупными золотыми запонками, недовольно приподнял бровь, заметив на правом манжете яркое коньячное пятно. Он так долго ожидал звонка, что в нем практически все уже угасло, перекипело, плоть обратилась в прах – он стремился к этой минуте, не один раз проиграв ее в мозгу, знал, как будет себя вести при разговоре, а теперь в нем все надломилось, рухнуло, тщательно сколоченная конструкция оказалась обычной кучей хлама, валяющейся на земле, – вот Белозерцев и оттягивал разговор. Он неожиданно начал бояться телефона. «Панасоник» зазвонил снова, звук у него был мелодичный, многоголосый, как у целого оркестра. Белозерцев сжал зубы, поддел рукой кресло, чтобы было удобнее подъехать к столу, мотнул головой упрямо, одолевая самого себя – ему важно было перепрыгнуть через странную заплотку, через барьер, образовавшийся внутри, задавить холод, скопившийся в груди, под самым сердцем – в конце концов одолел себя, громко выругался матом и схватил телефонную трубку. – Белозерцев слушает! – Ты чего, арбуз, так долго к телефону не подходишь? Тебе что, судьба собственного сына не дорога? – Занят был, – смято пробормотал Белозерцев. – У меня люди находились. – Может, ты не выспался? – с неожиданной заботой поинтересовался телефонный собеседник. – А? Это бывает со всеми нами – поднять поднимут, а разбудить забудут. Человек этот, ощущая собственное превосходство, издевался над Белозерцевым, и Белозерцеву ничего не оставалось делать, как принимать эти издевки, сжимать кулаки и, страдая, соглашаться – собственно, Белозерцев на все был готов, лишь бы похитители не сделали чего худого Костику. – Где Костик? – едва умолк собеседник, спросил Белозерцев. – С Костиком все в порядке? Вы обещали мне видеокассету. Где видеокассета? – Не торопись сверкать лапками, арбуз! Не гони машину, чтобы раньше времени не оказаться в кювете. Кассету получишь завтра, когда будешь передавать деньги. – Деньги я готов передать уже сегодня. – Молодец, арбуз, – похвалил Белозерцева собеседник, – четко работаешь, Марчелло. Но сверкать лапками не торопись, я же сказал тебе. Принять деньги сегодня мы не готовы, сейф еще не отремонтирован, – собеседник Белозерцева хрипло засмеялся. «С-суки, – со злостью и унижением подумал Белозерцев, – не готовы! Да готовы вы, давно готовы, даже задницей готовы хапать “зелень”, только боитесь: а вдруг задница в капкан попадет? Проверяете меня, Зверева проверяете – иначе с чего бы вам прослушивать наши разговоры? С-суки! Но милиция чего такая беспомощная? Позволяет, что у нее даже генералов прослушивают! Сказать об этом Звереву или не говорить? – Белозерцев почувствовал, как внутри у него все ошпарило холодом, перед глазами вновь возникла, пролилась сверху вниз черной струйкой надоедливая строчка. – Нет, об этом пока рано говорить, это потом, потом… Не то Костику будет хуже. Вот времена наступили, ы-ыть твою!..» – о том, что он сам причастен к этим временам, Белозерцев не думал – все-таки он был русским человеком, а русские люди, как известно, неисправимы. – Где Костик? – повторил вопрос Белозерцев. – В надежном месте. Не найдешь, даже если будешь искать его на пару со своим генералом-мусором! – он словно бы подслушал мысль Белозерцева. – Со свечками в руках… Все равно не найдете. Ни ты, ни он. – Костик сыт хоть? – И сыт, и обласкан, с ним все в порядке. Как в Государственной думе. – Государственная дума, – Белозерцев не удержался, лицо у него сморщилось, будто он сжевал что-то кислое, – ну и сравнение! – Что, не нравится? – собеседник захохотал. – Чем тебе Дума насолила, арбуз? А? Такие хорошие ребята, там и наши есть, – телефонный собеседник не выдержал и буквально захлебнулся в хохоте, мысль насчет «наших» ему понравилась. – Они еще покажут таким, как ты, арбуз, где раки зимуют. Ну, Змей Гаврилыч, рассмешил ты меня… «Чего он тянет, почему смеется, почему ничего не говорит, почему не назначает место встречи?» – целый десяток «почему?» беспрерывной лентой пронесся в воспаленном мозгу Белозерцева, пока его собеседник веселился, рычал от хохота – хохот был таким, будто тот в своем металлическом рту прокатывал дробь. – Где Костик? – вновь упрямо и тупо, чувствуя, что этого не надо делать, но он уже не мог сдержать себя, спросил Белозерцев. Смех оборвался. – Значит так, арбуз. Ты сам понимаешь, у нас целая организация, я в ней человек не самый последний, но и не самый первый. Я решаю только за себя и своих людей, за всех решают другие. Но кто бы что бы ни решал, скажу: если ты выполнишь наши условия – Костик завтра к вечеру будет у тебя… «Господи, что он говорит, что за нудная деревянная речь? – Белозерцев, морщась, покачал головой. – “Себя”, “своих людей”… Разве это люди? По ним автоматная очередь плачет. Либо хорошо намыленная петля из синтетической веревки – такой, чтобы ни одного узла на ней не было, – легко затягивалась на шее…» – К чему вы мне все это говорите? – неприязненно – не смог больше сдерживать себя, – спросил Белозерцев. – А к тому, чтобы ты, арбуз, послушал сейчас одну пленочку… Она взбодрит тебя, как стакан хорошей табуретовки. – Я же сказал – готов заплатить деньги хоть сейчас! – А у меня есть инструкция – я должен продемонстрировать тебе эту пленочку. «Давят, с-собаки, прессуют, как жмых, хотят, чтобы я инвалидом стал и не смог оказать никакого сопротивления», – подумал Белозерцев и в следующий миг услышал совсем рядом, очень громко – звук был в несколько раз усилен, он оглушал, – отчаянный, пропитанный слезами вскрик Костика: «Папа, папа, возьми меня отсюда! Ну, пожалуйста, папа!» – Ко-остик! – Белозерцев рванулся с кресла вместе с телефонным аппаратом, охнул от боли и жалости, мигом располосовавших ему сердце, серое угрюмое пространство перед ним окрасилось розовиной, будто где-то в углу кабинета зажегся ровный сильный огонь, ему сделалось жарко, и Белозерцев снова резко потянул угол галстука вниз, вскричал: – Костик, где ты? Но Костик не слышал его. Телефонный аппарат грохнулся на пол, приподнялся на растянутой спирали шнура, опустился, Белозерцев, боясь, что произойдет отключение, поспешно плюхнулся в кресло, потянулся дрожащей, странно ослабшей рукой к аппарату, и в ту же секунду по нему снова, буквально разрезая его тело пополам с головы до ног, прошелся надорванно-слезный голос сына: «Папа, папа, возьми меня отсюда! Ну, пожалуйста, папа!» – Ко-остик! – вновь вскрикнул Белозерцев и вторично взметнулся, приподнимаясь над креслом, услышал, как подпрыгнувший с пола аппарат ударился боком о сиденье с изнаночной стороны. – Я еду к тебе, Костик? Я сейчас! – голос у Белозерцева надсекся, он подавился им, закашлялся, на кашель горячей болью отозвалось сердце – оно не выдерживало такой нагрузки, не выдерживало крика, коньяка, который изнутри сдавливал Белозерцеву горло, жары, – розовина истаяла из серого пространства, откуда-то сбоку пробился жиденький, странно влажный свет, Белозерцев не понял, почему он был влажным, выкашлял из себя: – Где ты, Костик? Но Костик по-прежнему не слышал отца, его крик повторился: «Папа, папа, возьми меня отсюда! Ну, пожалуйста, папа!» Только сейчас Белозерцев понял, что Костиков голос был записан один раз на пленку, а потом несколько раз повторен, и эти повторы действовали на него, как выстрелы в упор – прошибали насквозь. Часто дыша, чувствуя, что ему не хватает воздуха, а перед глазами все плывет, двоится, троится, источает сырость, Белозерцев вновь повалился в кресло. – Ну что, арбуз, получил удовольствие? – услышал он в телефонной трубке, бессильно сжал руку в кулак, дернулся от внутреннего взрыда, затем, чуть отдышавшись, промычал в трубку что-то невразумительное. – Я же говорил: то, что ты услышишь, – взбодрит! Как двести пятьдесят граммов с хорошим селедочным бутербродом. – Где Костик? – в очередной раз обессиленно, тупо, не слыша собственного голоса, спросил Белозерцев. – Значит так, арбуз, запоминай, что я скажу! Через два часа, ровно в шесть ноль-ноль вечера, ты должен стоять у входа в метро «Тверская». К тебе подойдет наш человек. От него все узнаешь… Узнаешь, как надо действовать, где состоится передача денег, каким образом тебе будет возвращен Костик и так далее. Все понял, арбуз? Белозерцев почувствовал, что у него из-под ног уходит земля, уплывает прямо из-под кресла, все ползет в сторону, рушится в какой-то холодный страшный провал, в преисподнюю, и он, сопротивляясь этому, упрямо помотал головой, выбил из себя вместе с горькой – кажется, коньячной, – мокротой: – Нет! – Не понял? – изумился телефонный собеседник, в голосе его снова послышались издевательские нотки. – Ты что, арбуз, действительно не понял? – Действительно не понял… Метро «Тверская» – это где? – Ах да, я и забыл, что ты, арбуз, теперь небожитель, высший свет, в метро уже не ездишь, ты не человек, ты – бог. – Я не бог, но я честно не знаю, где это – метро «Тверская»? – Смотри, за консультацию мы тебе набросим еще тысяч десять «зеленых». Чтоб меньше задавал вопросов. «Тверская» – это редакция «Известий». Ты «Известия», арбуз, читаешь? Главную капиталистическую газету России. Редакция где находится, знаешь? – На улице Горького, – машинально, морщась от того, что перед ним вновь возникла, хвостом свесившись с потолка, прозрачная черная строчка, по ней, как по фитилю, поползло, заструилось что-то вниз. – На Тверской улице, – повысив голос, поправил его собеседник, – улица Горького осталась в твоем коммунистическом прошлом, арбуз. Там рядом с входом в «Известия» – вход в метро. В шесть часов к тебе подойдет наш человек. Так что стой и жди! И не забудь арбуз, что две ошибки ты ужесделал, сделаешь третью – эта ошибка будет последней. Сына своего уже никогда не увидишь, ясно? Аривидерчи, Марчелло! Гудок отбоя оглушил Белозерцева, он бросил трубку на пол, схватился руками за подлокотники кресла, сдавил. Он был мокрым, словно попал под дождь – пока говорил по телефону, из него выветрился, вытек с потом весь коньяк. Разговор обессилил Белозерцева, почвы под ногами не было, впрочем, час назад ее тоже не было, ожидание вытянуло из него жизнь, высушило мозги, выжало все соки, – он стал ненавидеть время, – теперь эта пытка должна продлиться. Правда, в одном он уверился твердо – Костик жив. – Хоть это-то было хорошо.
20 сентября, среда, 16 час. 25 мин. Когда Белозерцеву позвонил налетчик с железным голосом, генерал Зверев уже находился в техническом помещении, в так называемой «аппаратной» – хотя какая, к шутам, это аппаратная, – обычная, заставленная магнитофонами, радиоблоками, разными приборами комната, опутанная проводами, шнурами, кабелями разных диаметров; один кабель был толстый, бронированный, прибитый гвоздями прямо к стене, второй покоился в свинцовой одежке, проходил под самым потолком – этакое разведывательное заведение, а не аппаратная. Зверев, едва войдя в эту комнату, сощурился оценивающе: – Шпионский отсек! – потом, оглядевшись немного, добавил одобрительно: – А хорошо, однако, живете, товарищи шпионы! – Однако да, товарищ генерал, – эхом отозвалась на его высказывание дежурная операторша – девчонка с погонами старшего сержанта на хрупких плечиках – сосредоточенно-хмурая, серьезная, из тех девчонок, что, превращаясь в старушек, напрочь отказываются от шуток и веселья – так и умирают, ни разу не подтрунив над собственной старостью. – Если бы нам еще шпионские надбавки платили – было бы совсем хорошо. – Что, мало зарабатываете? – Мало! – Ну-ну, – генерал покхекхекал в кулак, приподнял одну густую, словно у Брежнева, бровь, затем, кряхтя, по-дедовски стал примерять к своей голове наушники, – ну-ну, кхе-кхе-кхе! – Зверев подумал с неожиданной грустью, что он и эта девочка-сержант с хмурыми, почти мужскими глазами никогда не поймут друг друга, – слишком велика разница в возрасте и сами они слишком разные: между ними как минимум находится два поколения, а учитывая стремительное современное взросление, может быть, даже и три. «Вот тебе, Зверев, и Юрьев, кхе-кхе-кхе, день, – произнес он немо, едва приметно шевельнув губами, – пора, брат, в мусорный контейнер, кхе-кхе. Мусора – в мусорный контейнер. Хорошо звучит, как в частушке». Вслух же повторил громко, ни к кому не обращаясь: – Ну-ну! Зверев не относился к тем людям, которые склонны много рассуждать – иногда вообще встречаются редкие типы, в том числе и в милиции, которые разглагольствованиям посвящают целую жизнь – политработники, например… И неплохие деньги заколачивают на этом, вот ведь, хотя на задания никогда не ходят и собой не риcкуют. Рабочий инструмент у них один – собственный рот и собрать его перед переходом на другую работу либо на повышение ничего не стоит: закрыл рот и отбыл. – Ну-ну, кхе-кхе, – в очередной раз произнес Зверев, с выражением некой не свойственной ему растерянности, подумал о том, как же он выглядит перед этой девчонкой. Как, как – обычной старой галошей, больше никем и ничем – галоша и галоша! Кивнул ответно – сделал это с большой готовностью, словно бы зависел от нее, – когда она подала ему сигнал, и в ту же секунду невольно поежился от резкого звука, с двух сторон проколовшего ему барабанные перепонки: это был в несколько раз усиленный писк телефонного зуммера. В следующий миг он услышал знакомый голос Белозерцева – очень спокойный, взвешенный, словно бы Белозерцев говорил не с бандитом, а проводил очередное совещание в своем «Белфасте», понял, насколько тяжело дается это Белозерцеву, и посочувствовал ему. Зверев хорошо знал, чего это стоит – у Белозерцева сейчас на голове, наверное, седеют волосы, а у рта твердеют скорбные старческие морщины – люди стареют именно в такие минуты. Налетчик был напорист, груб, Зверев понял, что эти качества не были для него наживными или позаимствованными только для одного-единственного разговора – бандит он и есть бандит, мамка родила его таким, молоко у нее вырабатывалось такое, бандитов вскармливающее, налетчик был таким от природы. Способность грабить, творить зло была заложена в нем матерью с отцом. – В-вот сучье! – не удержавшись, выругался генерал. – Гад ползучий! Ладно, свое ты получишь. Девушка-оператор не расслышала, что говорил генерал, – на голове у нее тоже громоздились наушники, – но засекла сам звук, строго, непрощающе поглядела на генерала и прижала палец к губам. Зверев, подчиняясь ей, мелко-мелко покивал головой в ответ. Ему важно было сейчас понять не «текст» – текст, сами слова будут записаны на пленку – вон, сразу на двух магнитофонах медленно вращаются бобины, – важно было понять «подтекст», то, что стоит за словами и что не в состоянии уловить чуткий организм магнитофона. Вот что было важно – мелодия, а не слова. Он вслушивался в грубый железный голос, ни на минуту не переставая удивляться ему – надо же, чего учудила матушка-природа, каким голоском наградила преступника, – болезненно вытягивал голову, слушая Белозерцева, спрашивающего о сыне, сжимал рот в упругую твердую линию – вел себя, в общем, как охотник, выслеживающий дичь. Когда разговор был закончен, он стянул с головы наушники, сложил их, спросил у девушки-оператора, продолжавшей сидеть в кресле с угрюмой улыбкой на губах, хотя по уставу она должна была вскочить с испуганным видом – перед ней находился все-таки генерал, а она была лишь сержантом, и доложить об окончании работы, но Зверев не сделал ей замечания, спросил лишь: – Разговор, естественно, записали? – Естественно. – Пленку перегоните, пожалуйста, на компакт-кассету и – ко мне в кабинет. – Хорошо. Зверев не выдержал, наклонился к девушке, собираясь поправить ее: «Не “хорошо” надо говорить, а “есть” или, в крайнем случае, – “слушаюсь”! Все-таки милиция – это вторая армия, а в армии дисциплина – штука, которая будет поважнее горячего первого и сваренной с салом каши» и вообще призвать эту пионерку к почтительности, но вместо этого спросил: – Как вас зовут? Извините, а то я даже не поинтересовался. – Что, товарищ генерал, собираетесь пригласить меня на свидание? – хмурые глаза девушки сделались еще более хмурыми, потемнели. – Нет, не собираюсь, – Зверев удрученно развел руки в стороны. – Стар я для этого. На танцы не хожу, только в баню. – Выпрямился, одернул на себе одежду. – Когда из района вернется майор… э-э-э… в общем, пусть сразу пожалует ко мне. Придя в кабинет, Зверев привычно покхекхекал в руку, помял пальцами подбородок – делал массу ненужных вещей, прокручивая в мозгу разговор Белозерцева с налетчиком, – потом позвонил по вертушке на Лубянку, Иванову. – Вениамин Константинович, мы записали еще один разговор нашего друга… кхе-кхе… с нашим недругом. – Мы тоже. – Значит, ты в курсе? – В курсе. Надо посмотреть, кто явится на свидание к «Известиям» и взять этого человека под колпак. Дальше посмотрим что делать – обстановка, как говорится, покажет. – Знаю я эту вашу обстановку, кхе-кхе, – Зверев не удержался, рассмеялся – смех его был мелким, добродушным. – А в результате – восемь трупов и человек сорок арестантов. Живые сидят, мертвые скучают в морге – очередная операция проведена на «ять». – Это в тебе, Константиныч, зависть говорит – завидуешь нашему профессионализму. – Нет, не завидую. От ваших профессионалов остались только рожки да ножки. А если честно, то и ножек уже нет – только рожки. С ушками. – Все равно завидуешь. – Ну что, действовать будем вместе? – Как прикажешь, так и будем действовать. Вместе так вместе. Дверь в кабинет Зверева открылась, показался дежурный офицер с пленкой в руках, Зверев поманил его пальцем – давай пленку сюда! Продолжая разговаривать, Зверев повертел в пальцах небольшую ладную кассету, потом сунул ее в черную узкую прорезь магнитофона, похожую на чей-то беззубый рот и нажал на клавишу. – Хочешь послушать, чего тут налетчик наговорил? Мне только что кассету принесли. – Не надо. Тебе кассету принесли только что, а у меня она пять минут как стоит в магнитофоне. – Понимаю, понимаю, товарищ генерал-майор, разговор еще не состоялся, а твои орлы его уже записали. – Во всяком случае, кассета была, когда ты мне еще и звонить не думал. – Люблю чекистов за проворность, кхе-кхе-кхе, впереди собственных брюк носятся, – из магнитофонного нутра в это время вырвался железный голос налетчика, и Зверев поспешно нажал на клавишу, останавливая пленку. – Ладно, не хочешь, так не хочешь, мое дело – предложить, твое – отказаться. – Что-то ты, Константиныч, разговорчив больно стал. Стареешь, что ли? – Старею, – признался Зверев. Договорившись с Ивановым о взаимодействии, он повесил трубку и, повернувшись вместе с креслом к пульту, поддел пальцем рычажок нужного тумблера. – Место, откуда шел разговор, засекли? – Так точно. Место старое, квадрат Жэ.
20 сентября, среда, 16 час. 25 мин. Как ни странно, разговор с налетчиком подбодрил Белозерцева, он понял, что у этой жуткой истории должен быть счастливый конец, хеппи-энд, во всяком случае, он уже вырисовывается на горизонте; размышляя, выпил еще коньяка, перекрестился, поглядев в пустой угол кабинета. Сколько раз он говорил этой Зое Космодемьянской, чтобы купила икону, освятила ее и повесила в кабинет – все без толку! Хоть кол на голове теши! Он с досадой стукнул костяшками пальцев по столу. А к иконе надо купить и лампаду – набор должен быть полным. И на клиентов это хорошо подействует: иностранцы любят тех, кто верит в Бога. Выгода двойная: с одной стороны, самому, когда трудно, помолиться можно, с другой – размягчить собственной набожностью ледяное сердце клиента. «Встреча в восемнадцать ноль-ноль – в шесть часов вечера, выходит… “В шесть часов вечера после войны”. Был когда-то такой фильм. Был да сплыл. Раз встреча состоится, – значит, есть какая-то определенность, значит, Котька жив. Но как он кричал, как кричал!» – Белозерцев не выдержал, расстроенно потряс головой, прошептал: – Бедный Котька, сын… Ты держись, Коть, ты держись, осталось чуть-чуть, – Белозерцев ударил кулаком о кулак, поймал себя на этом движении – слишком много в нем сегодня агрессивного, перебор, двадцать два… А с другой стороны, как он должен себя вести? Лечь спать, поехать в ресторан и напиться, хохотать от нервного напряжения, устроить в центре Москвы автоматную стрельбу – как? Любой нормальный человек, который попадет в его положение, будет вести себя так, словно бы он упал в воду, в реку, в ручей с сильным холодным течением, вода несет его, крутит, будто щепку, – неведомо на какую землю, на какой берег вышвырнет. Он не чувствовал собственного веса, того, что он земной, мясной и костяной, обладает тяжестью – нет, щепка он всего-навсего, щепка, вот и несет его… Белозерцев поежился, передернул плечами: – Холодно! Хотя было жарко, последние двадцать лет ни разу не было зарегистрирована в сентябре такая высокая температура. Он взялся за бутылку «Варцихе», встряхнул ее – коньяка оставалось совсем немного, на полторы стопки, не больше, но остановил себя, поджал губы – довольно! С хрустом загнал в бутылку пластмассовую пробку, бросил коньяк в ящик. – Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть, – пропел он хрипло, незнакомо, отметил про себя, что если сейчас его увидит Зоя Космодемьянская, бдительно охраняющая начальническую дверь, то как пить дать решит: дорогой шеф свихнулся, сошел с ума – хрипит чего-то, то ли поет, то ли рыдает, то ли ругается… Хотя слова у этой ругани знакомые. Белозерцев придвинул к себе «панасоник», набрал телефон Виолетты. Попал с первого раза, ему повезло – и телефон занят не был, и Вика находилась дома. – Вика – произнес он жалобно, тихо и неожиданно для самого себя замолчал – он не мог говорить: к вискам, к горлу, к глазам прихлынуло тепло, дыхание сдавило. – Что с тобой? – встревожилась Вика, повысила голос: – Ответь? пожалуйста! Что с тобой? Ну не молчи же! – в следующую секунду Вика не выдержала, перешла на крик: – Ва-ва! – Вика, – снова пробормотал он зажато, почувствовал, что немного отпустило, хотя голос его был по-прежнему сдавленный, влажный, слабый, что-то в нем прохудилось, в трещину засочилась вода, перед глазами опять возникла черная строчка, Белозерцев сжался, из глаз его потекли слезы, из горла вырвался тоненький жалобный звук – то ли плач, то ли писк, то ли сдавленный вой. – Что с тобой? Ну не молчи же! Пожалуйста! Белозерцев невольно дернулся – его проколола боль, – слово «пожалуйста» Вика произнесла в той же интонации, что и Костик, сходство поразило его: до чего же они, оказывается, похожи друг на друга, Вика и Костик, – родственные души, они даже говорят одинаково. – Вика, у меня украли сына. – Ка-ак? – ахнула Виолетта и так же, как и Белозерцев, заскулила в телефон. – Я сейчас к тебе приеду. – Не надо, – Белозерцев отрицательно мотнул головой, – не надо, Вика. – К-кто украл? – Если бы я знал… Злые люди. Требуют выкуп, большие деньги… Пятьсот тысяч долларов. – Вава, милый, – произнесла Вика расстроенно и замолчала. – Я так хотел услышать твой голос. Вечером мы встречаемся, в семь у «Пекина». За тобой прислать машину? – Не надо, доберусь сама. Что же делать, а? Как выручить Костика? – Только деньгами, другого пути нет. – В милицию звонил? – Звонил. Милиция бессильна. Кроме того, звонки мои засекли… Эти самые, – Белозерцев повертел рукой в воздухе, подбирая нужное слово, – ну-у… – Бандюги. Похитители, – подсказала Вика. – Они самые. Засекли и предупредили, что еще один звонок – и они изрежут Костика. Знаешь, как они это делают? Предупреждают, что если будешь звонить – отрежут, мол, ребенку уши, а на самом деле полосуют целиком. Почитай газеты, это происходит каждый день. Укладывают разрезанных детей в трехлитровые банки и отправляют родителям. – Звери, – шепотом, словно не веря тому, что слышит, проговорила Вика. – Ох, какие звери! – Вика, ты мне нужна, – жалобно произнес Белозерцев. – Я приеду к тебе. Прямо сейчас. – Нельзя. Пока нельзя, – трезвея и освобождаясь от слез, отказался Белозерцев, – но очень скоро будет можно. – Ты отвлекись, сделай психологическое переключение на что-то – на что угодно, только не думай о Костике. Это поможет тебе собраться, сгруппироваться, как говорят спортсмены. Ну скажи, что ты делал за минуту до того, как позвонил мне? – Собирался выпить коньяка. – Коньяк пить не стал… Молодец. Последнее это дело – коньяк с горем пополам, эта смесь сжигает людей живьем. Эх, Вава, Вава, – произнесла она нежно и укоризненно. – Что еще делал? – Не поверишь… От горя я, наверное, схожу с ума. – Не поверю, – перебив его, согласилась Вика. – На тебя это не похоже. Такие люди, как ты, никогда не сходят с ума. – Я пел песенку… «Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть…» Что такое зелень, известно всем. И ты знаешь тоже. – Доллары, – безошибочно, как на экзамене, ответила Вика. – Весь покрытый зеленью… – Абсолютно весь! – Все, с макушки до пупка, ходят в долларах. Доллары едят, долларами подтираются. И нищие старухи на улицах. И ветераны войны, которых убивают молодые подонки, чтобы завладеть их квартирами… И… – он помахал в воздухе рукой, словно бы призывая кого-то на помощь – сегодня ему явно не хватало слов, он забыл многие слова. – Ну слава богу, – облегченно вздохнула Вика, – теперь я узнаю тебя. Несмотря ни на что, ты все-таки в порядке. – В порядке? – с тупым удивлением спросил Белозерцев. – В порядке, в порядке, за тебя можно быть спокойной. – Вика, мне так не хватает тебя… – Судя по утреннему объяснению, не очень-то не хватает, – не удержалась Вика от подковырки. – Хватает! – Ты даже не представляешь, как мне не хватает тебя, – не слушая Вику, проговорил Белозерцев жалобно и растроганно. Он подумал о том, как время – какие-то короткие часы – всего восемь или десять, ничто, пустяк в рамках человеческой жизни, – все ставят на свои места: вон как чаша весов потянула в Викину сторону. А с Ириной все, жить с ней он больше не станет. И ее самой не станет – Высторобец выполнит задание. Надо только снять охрану с квартиры. Перед милицией, перед прокуратурой ее убийство не будет иметь ничего загадочного – убили, сводя счеты с Белозерцевым. А с Белозерцевым счеты сводить могут многие.
20 сентября, среда, 16 час. 30 мин. Рынки всегда вызывали у Высторобца чувство удивления, немного восторга – не тем, что лежало на прилавках, а тем, что можно было обнаружить под прилавками. На прилавки солнечно-рыжими грудами были навалены абхазские-мандарины, под прилавками лежали штабельки новеньких, в смазке, пистолетов Макарова, тайком вывезенных из Тулы, чешских «чезетт» и «скорпионов», можно было обнаружить и АК – лучшие в мире автоматы, на которые молятся солдаты и бандиты всего мира, – обычные, с деревянным прикладом, либо с откидывающейся скобой для упора в плечо и пластмассовым торчком рукояти, и укороченные десантные, безотказные, – десантный автомат Высторобец полгода назад добыл для Белозерцева… На прилавке выставлены душистые чимкентские и кулябские дыни, под прилавком – ящики с лимонками – убойными гранатами, которые остановят любого разбойника, наверху для какой-нибудь беззубой бабушки демонстрируется мягкий сыр «Сулугуни» и козий творожок, полезно действующий на желудок, а внизу – гранатометы «Муха», запросто оставляющие дыру в броне самого грозного танка. Лица у всех продавцов одинаковые, доброжелательно-приветливые, улыбчивые – иногда улыбка сияет во все тридцать два зуба, у этих людей можно не только «чезетту» достать, но и карманную атомную бомбу, и атомную бомбу «взрослую», обычного размера, и новенькую, только что со стапелей подводную лодку с запасом баллистических ракет, и зенитный комплекс, разрезающий самолет пополам прямо в воздухе – здесь все предается и все покупается. Были бы только деньги. Высторобцу нужно было приобрести два пистолета. Пистолеты на рынке надо покупать с умом – это не завод, здесь обмануть могут в два счета, от этого тут только получают удовольствие. Но Высторобцу был хорошо известен рыночный стреляющий товар, его вряд ли обведут вокруг пальца. Если для долговременного пользования, то лучше всего приобрести удобный, прямо-таки приклеивающийся к руке вальтер, либо тяжелый старый ТТ – фронтовой еще, помнящий войну и крики политруков, поднимающих людей в атаку, или современный «макаров» отечественного производства, если же на раз, на два, не больше, то и покупать надо соответствующее оружие, какие-нибудь поделки типа того же ТТ, произведенные на коленке в Бердичеве, под Киевом или в Праге, – после четырех-пяти выстрелов пуля в таких пистолетах свободно гуляет по стволу, а вырвавшись на волю – летит куда хочет. Говорят, может даже самого стрелка зацепить. Такие пистолеты дешевые – они разовые. Разовые пистолеты и были нужны Высторобцу. А с другой стороны, неплох пистолет с патронной подстраховкой, имеющий универсальный калибр. Под него подходят патроны самого распространенного размера. Например, от браунинга, калибра 7,65. Этими патронами можно стрелять из того же «скорпиона» и «чезетты», из венгерского «тага», из вальтера. Вальтер Высторобец предпочитал любому другому оружию. Но вальтер, даже старый, расхлябанный, не купишь за ту же цену, что разовый ТТ – вальтер стоит больших денег. И пистолеты с подстраховкой – тоже. Зато следователь, ведущий дело об убийстве, никогда не узнает, из какого оружия произведен выстрел. Оружие в Москве можно купить на любом рынке – от Черемушкинского до Преображенского, надо только знать, у кого покупать. Да и самого торговца найти. Его можно вычислить по глазам. Ничего сверхъестественного в этом нет, лишь обычная арифметика: по глазам всегда можно понять, имеется у торговца оружие или нет. Высторобец был готов биться об заклад – узнать можно не только это, но и тип оружия. «Зрачки у торговца всегда имеют форму товара, который он продает – как-то доказывал ему один бывший комитетчик, ушедший из органов и подрабатывающий теперь киллерским делом, – форму пистолета, гранатомета, автомата, безоткатной пушки. Чем гражданин торгует, то и высвечивается у него в глазах. Как на табло электронно-счетной машины». И верно ведь – есть в этом утверждении доля истины. Высторобец поехал в «Лужу» – рынок, расположенный в Лужниках – самый громоздкий, самый неуправляемый и самый опасный из всех московских рынков. Выбравшись из метро на боковую улочку – выход на площадь перед стадионом был перекрыт суровыми омоновцами с автоматами, Высторобец по тесной, забитой улочке прошел на площадь, широкой плоской лентой уползающей под мост к решетке стадиона, и вклинился в толпу. – Дядя, купи насадку для обогрева воды, отдаю недорого, прямо с завода, только что привез партию, – подскочил к нему паренек с квохчущим голосом и сальным петушиным коком, смешно подпрыгивающим на голове. Высторобец оценивающе оглядел его: есть оружие у кошкарского петуха или нет? Оружия у этого парня не было – глаза щурились пусто и устало. «Обыкновенный работяга, приторговывает, чтобы свести концы с концами», – понял Высторобец и сделал отрицательный жест. – Я дешево отдам, в магазине стоит в два раза дороже. «Раз в магазине в два раза дороже, значит, товар ворованный», – подумал Высторобец. – Спасибо, в следующий раз, – бросил он равнодушно и тут же забыл о парне. Следом на него налетела старушка с двумя кусками мыла в нарядной упаковке, повертела мыло у Высторобца перед лицом: – Не надо ли, милок? Тальянское. «Тальянское, – озадаченно глянул на старушку Высторобец. – Итальянское, что ли? Ну народ! Бессмертный» – ничего не ответив старушке, двинулся дальше. Раньше оружие всегда можно было купить на Центральном рынке, что около старого цирка, на Цветном бульваре, но Центральный рынок закрыт – то ли ремонт прилавков идет – дыры латают и крыс морят, то ли затеялась грандиозная перестройка, после которой рынок вообще перестает быть рынком. Так это, кстати, произошло с любимым пивным подвалом высторобцевской молодости, расположенным на Пушкинской улице – в институте Высторобец бегал туда после каждой стипендии, пил в подвале холодное пиво, заедал горячими, сваренными с лавровым листом и горошинами перца креветками, разводя руками дым, шумно восхищался жизнью, бегал в гальюн мочиться, с удовольствием вступал в различные разговоры о совковом быте и политике, рассказывал анекдоты и всякий раз выбирался из этого пивного царства, переполненный впечатлениями на целую неделю… А что на Пушкинской сейчас? Перестройка. Имени господина… то ли Горбачева, то ли еще кого. Дешевой пивной там уже никогда не будет, а будет нечто дорогое, бестолковое, для господ богатеньких… Возможно, ресторан, возможно, варьете, возможно, бордель – не понять пока. Идет перестройка. В «Луже» мандаринами не торговали, кавказских кепок-аэродромов было мало, а раз нет аэродромов, то нет ни халвы, ни хурмы, ни перца с персиками, ни сочных, янтарно светящихся груш, есть дешевая безродная косметика с косо налепленными этикетками лучших фирм мира, – пудры, одеколоны, кремы для бритья и после бритья – «освежающие», после которых на лице могут объявиться чирьи. Тут продавались носки, колготки, рубашки, майки, много кожи, куда ни глянь – всюду хрустит, скрипит, распространяет жесткий спиртовый дух турецкая кожа – хромовые куртки и полупальто, козловые штаны, шевровые сумки, перчатки из спилка, кепки и кроссовки, выходные туфли и башмаки на каждый день, бахилы и ботфорты, шляпы с фанерными краями и бумажники с «крокодиловым» тиснением, кошельки с латунными застежками и невесомые, гнущиеся, словно бумага, мокасины. Раньше в Москве кожи столько не было. А если честно – ее не было вообще. Но главное – запах кожи перебил запах оружия. «То ли омоновцы здесь все почистили, обрубили корешки у дерева, рождающего гранаты и пистолеты, то ли оружейная барахолка переместилась в другое место – не понять… Не пахнет оружием, нет», – Высторобец разочарованно прищурился. Поглядел на солнце – печет по-летнему, а через четыре дня стрелки уже надо переводить на зимнее время – зима на носу, но вон как лихо разъярилось лето на прощание. Наконец он заметил около ободранного бортами машин редколистного дерева скучающего человека с орлиным носом и синевато-черными курчавыми волосами. Человек стоял, прислонившись спиной к стволу, и с неким высокомерным равнодушием поглядывал на рыночную толчею – до нее ему не было никакого дела. «Он, – понял Высторобец, – где-то рядом должен быть страховщик. Та-ак… Где страховщик?» Страховщика он обнаружил сидящим на груде картонных ящиков с товаром – судя по упаковке, в ящиках были носки с колготками, произведенные все в той же благословенной Турции, – страховщик, цепко поглядывая из-под сросшихся широких бровей на людей, ел шашлык и запивал его тоником прямо из большой пластмассовой бутыли, колечки лука, попадавшие вместе с мясом в рот, он выдергивал пальцами прямо из зубов и швырял себе под ноги. «Гурман, ничего не скажешь. Где-то недалеко должен быть еще один страховщик, напарник этого гурмана, – Высторобец продолжал оглядываться. Второго страховщика не было. – Мелко работают джигиты, раз второго страховщика нет. Может, он стоит где-нибудь за лотком и торгует колготками?» Высторобец прошел дальше. От грохота музыки, треска портативных телевизоров, работающих на батарейках, пьяного хохота и вскриков всевозможных популярных игрушек – резиновых пиратов, попугаев, мертвецов и собак со звероватыми, совершенно несобачьими мордами – можно было оглохнуть, а от прогорклого шашлычного духа, запаха пота и дешевой косметики – задохнуться. Вскоре он нашел еще одного нужного человека – худого, совершенно лишенного мышц, обтянутого лишь кожей – кожа да кости, больше ничего у этого человека не было, еще имелись глаза – невыразительные, со старческой задымленностью, да уши, похожие на две саперные лопатки, снятые с черенка. «Человек-кожа, – невольно отметил Высторобец, – одни только уши и кожа с костями». Страховщик его находился неподалеку – расставил на фанерке бутылки с пепси-колой, на горлышки нахлобучил картонные стаканы и лениво оглядывал людей. Если кто-то подходил взять бутылку пепси – отпускал, не меняя сосредоточенно-замкнутого выражения лица. И – ни улыбки, ни ласкового взгляда для покупателя, только сосредоточенность и хмурость, больше ничего. Такие лица были хорошо известны Высторобцу. «Где второй страховщик?» Искать второго не надо было – эта команда, похоже, не отличалась особой изобретательностью: второй страховщик также торговал пепси-колой, и выражение лица у него было точно таким же, как и у первого страховщика – с жестким прищуром узких глаз и легкими сосредоточенными складочками морщин на лбу, словно бы он считал деньги и боялся ошибиться. Допускать промахи в общении с этими людьми нельзя, как нельзя торговаться либо носиться по всей «Луже» и искать, где пистолеты дешевле. В этом разе уже минут через пятнадцать можно быть трупом – отведут в сторонку, чтобы показать какой-нибудь редкостный, но дешевый пистолетик, накинут на шею стальку – прочный стальной провод и удавят – даже прохрипеть ничего не сумеешь. Потом привяжут к шее кусок бетонного пасынка и опустят на дно Москвы-реки – отдыхать, принимать ванны, сторожить рыб. А в остальном страховщики имели неприметный вид – если смешаются с толпой, то вмиг растворятся в ней, лица и у одного и у другого были совершенно незапоминающимися и – вот ведь как – похожими. Хотя один был белобрыс, льняные волосы куделями налезали на уши, другой темен, лысоват, у одного нос был задран вверх, будто туфелька, у другого округлен рулем и опущен вниз, один был ушаст, как и предводитель этой команды – хрящеватые крупные уши, будто грибы, приросли к боковине головы, у второго уши были маленькие, по-женски аккуратные. В общем, внешне страховщики являли полную противоположность друг другу и вместе с тем они были словно бы одной матерью рождены. Высторобец понял, что эти люди его тоже засекли, отсеяли от остальной массы и теперь наблюдают за ним. Видать, на лице его было написано нечто такое, что выделяло из остальных, озабоченно-шумных, потных от возбуждения и тесноты людей. Интересно было взглянуть на себя со стороны. Или хотя бы в зеркало – что же выдает его? А что выдает торговцев оружием, выделяет их из огромного числа других торговцев? Он отошел в сторону, не выпуская из вида ни торговца оружием, ни его страховщиков, поискал глазами: а нет ли в этой компании еще и четвертого человека, страховщика страховщиков? Быть, конечно, не должно, но береженого Бог бережет. Случается, что и ворона получает по морде от воробья. Высторобец почувствовал, как между лопатками у него потекла холодная струйка пота. Странное дело – на улице жара, рубашка липнет к телу, кругом разгоряченные люди, каждый похож на печку, так и пышет, а у него – омерзительно холодный пот между лопатками. Разволновался, что ли? Может, еще поискать торговцев? Тут, в «Луже», их должно быть не менее шести человек, а Высторобец нашел пока двоих. Он глянул на большие плоские часы, пришпиленные к груде кожаных турецких чемоданов – коробейник этот специализировался на часах и чемоданах, у него было странное направление в торговле, – времени было мало. Высторобец решил больше не искать, прикинул, куда же можно будет отступить в случае, если его вздумают надуть, отобрать деньги или даже пришить – торговцы оружием этим промыслом никогда не брезговали – площадку, где находились торговец и страховщики, покинуть было легко, торговец словно бы специально выбрал ее для Высторобца, а с другой стороны, он выбирал ее для себя, ориентируясь на то же, что и Высторобец – на быструю «эвакуацию», хотя это мало что значило. «Торговый зал» и место передачи товара – это вещи разные, и ландшафт у них очень разный. Главное, чтобы там, на месте передачи товара, имелись пути для поспешного отступления. Высторобец протолкался сквозь толпу к торговцу, засек, как насторожились страховщики. «Ишь, сразу ушки – на макушку! – невольно отметил он. – Волки! Беспощадные ребята. Эти, если что, сентиментальничать и чикаться не будут». – Ищу товар, – остановившись около торговца и глянув ему в задымленные подслеповатые глаза, тихо проговорил Высторобец. – Все ищут товар, – философски отозвался торговец, качнулся в сторону, словно бы его, желая завалить, поддел под локоть ветер, выпрямился, – только каждый ищет свой. Какой товар ищешь ты? «Слишком много слов, – недовольно отметил Высторобец. – Восточный человек. По ушастой роже не поймешь, кто он, русский или узбек – скорее всего русский, выросший в Средней Азии, там ведь все русские быстро становятся “кыргызами” – по истечении лет и скулы на лице обозначаются, и глаза становятся маленькими, по-китайски раскосыми – азиат и азиат. Так и этот торговец – человек-кожа». Прежде чем завести разговор о деле, он долго будет талдычить о здоровье, о домашних, о погоде, о дороговизне товаров – замучает и только потом перейдет к сути. Тьфу! – Стрелящее железо, – не стал скрывать Высторобец, ответил так же по-восточному, открыто глянул на торговца. У того ничто не дрогнуло на лице, ни один мускул. – Получше, похуже? – ровным голосом поинтересовался торговец. – Подешевле, подороже? – Можно бросовое, но четыре выстрела должны быть сделаны… Желательно, чтобы пуля не уходила по кривой за угол дома. – Значит, дешевое. Желтой сборочкой, значит, интересуетесь. Чешской или югославской? – Лучше югославской. – ТТ или беретта? – ТТ. – Сколько стволов будете брать? – Два. – Чего так мало? Высторобец не ответил, он удивился вопросу: торговец оружием задавать такие вопросы не имеет права. Может, он еще собирается спросить, кто именно будет стрелять и в кого конкретно? Высторобец ощутил, как у него потяжелело, сделалось деревянным лицо, торговец, успокаивая покупателя, сделал выразительный жест: не мое, дескать, это дело, произнес бесцветно, так, чтобы услышал только Высторобец и больше никто: – Если возмешь пять стволов – продам по оптовой цене. – Пять не надо. Два! Даже если будет и оптовая цена, этот кожаный призрак все равно выгоду не упустит – свое возьмет. Боковым зрением Высторобец засек, что один из страховщиков снялся с места и уже перебазировался, находится совсем рядом. Это был белобрысый, с носом-туфелькой и сильными огрубелыми руками парень – этакая обезьяна мокшанско-рязанского происхождения. Второй – лысоватый, с темными нестрижеными волосами, продолжал сидеть на своем месте. Но тоже насторожился – тоже ушки колом, словно у волка: Высторобца с торговцем он держит под контролем. – Каждый ствол стоит четыреста баксов. – Дорого, – сказал Высторобец. – Здесь же, в «Луже», ТТ желтой сборки продают за триста пятьдесят. – Это было месяц назад, – мягко, не повышая голоса, возразил продавец, оттопыренные уши его вдруг свекольно зарделись, сделались яркими, будто внутри их зажглось по лампочке, – с тех пор цены поднялись. – Ладно, – согласился Высторобец: в конце концов, где триста пятьдесят «зеленых», там и четыреста, разница уже никакого значения не имеет. Ни для победы, ни для поражения. А победит ли он либо, напротив, получит удар ногою в подлых, Высторобец не знал. И сердце, обычно чуткое, ничего ему не подсказывало. Хотя раньше бывало – за три дня до того, как что-то произойдет, начинало ныть: Высторобец еще не знал, с кем придется схлестнуться, может быть, даже неожиданно для себя пропустить прямой удар в драке и заработать большой синий фонарь под глазом, а сердце уже знало, ныло, сжималось в груди болезненно, перед лицом летали красные мухи, а сейчас, да и вообще в последнее время – нет. Что-то в сердце сломалось, сработалось окончательно, либо оно просто огрубело. – Где и когда я смогу посмотреть товар? – Деньги при себе? – При себе. Продавец, продолжая алеть ушами, сделал едва приметный знак, и в ту же секунду из-за своей фанерки поднялся черноволосый, подскочил к шефу. – Что, клиент созрел? – Отведи на плешку, покажи пару желтков югославских из последней партии. Глаза у черноволосого сделались твердыми, будто шляпки гвоздей, он широким движением провел рукой по воздуху, словно собираясь распахнуть дверцу машины, уткнулся кулаком в бок какой-то толстой даме, затянутой в заморский шелк, пробормотал что-то невнятное. Торговец сделал второй едва приметный жест, и в двух шагах от черноволосого очутился второй страховщик, угрюмый молчун с льняной головой. – Я следом, – сказал торговец черноволосому. Плешка, как понял Высторобец, находилась от «офиса» недалеко. Стоило только чуть обойти стадион, как шум «Лужи» стих, с недалекой реки повеяло свежестью, и низко, почти цепляясь перьями за кусты, прошла утка – молодая, запоздалая, еще не научившаяся толком летать. На людей она не обратила внимания – привыкла. – Вона, для нее даже охотничий сезон – не помеха, – не выдержав, произнес дрогнувшим голосом Высторобец, проводил утку неожиданно растроганным взглядом: заядлый охотник, он ни разу в этом году не был на охоте. Не довелось ни зимой, ни весной, ни осенью. Да разве с таким сумасшедшим шефом, как Белозерцев, соберешься куда-либо? Все нет и нет времени. Страховщик на его слова никак не среагировал – даже не повернул головы. Он шел впереди – костистый, кривоватый, с ногами, изогнутыми по-кавалерийски внутрь, обутый в дорогие кожаные кроссовки. Прошли одну аллею, другую, свернули на боковую асфальтовую дорожку. Река стала ощущаться сильнее, горячий воздух был наполнен сыростью, запахом рыбы, какой-то легкой гнили. Московскую рыбу, этих безглазых, трехноздрих, пахнущих соляркой и серой бесхвостых мутантов, есть нельзя – никакой желудок не примет, а если примет, то едоку – конец. Больница уготована во всех случаях просто обязательно. В конце дорожки стояла новенькая красная «тойота» с блестящими дырчатыми дисками на колесах. В кабине сидел человек с небритым лицом, жевал сигарету. Кладовщик. Взгляд тот же самый, знакомый, что и у торговца со страховщиками. Было видно, что он ждал страховщика с клиентом. Высторобец понял, что человек-кожа сообщил этому душману по радио – идет, дескать, один… Вполне возможно, набит долларами. «Если бы да кабы, – усмехнулся Высторобец, – будь я действительно набит “зеленью”, вряд бы шустрил по сомнительным плешкам. Нажал бы на кнопку – пугачи мне бы домой принесли. Да что домой – в почтовый ящик вместе с газетами засунули бы». Плешка оказалась квадратным асфальтовым пятаком. Исчезнуть отсюда «тойота» могла в несколько секунд. Небритый с неохотой вылез из машины, достал с заднего сиденья обувную коробку с нарисованным на ней нарядным средневековым башмаком – королевским, с бриллиантовой пряжкой, открыл и молча протянул Высторобцу. В коробке лежал смазанный, завернутый в прозрачную жесткую бумагу ТТ. С первого взгляда было видно – не наш, с тульским самоваром ни в каком родстве не состоит: слишком изящные линии, присутствует некая отточенность, какой нет у родных отечественных пистолетов. Отечественные особым изяществом никогда не отличались, и сталь родная такого блеска не имеет, ведь наша оборонка ТТ не для красоты производит – для дела. Высторобец знал оружие, умел не глядя отличать «желтую» сборку от «серо-буро-малиновой», произведенной на коленке где-нибудь в грязном цехе под угрюмым минским или сараевским небом. – Последний завоз, поставка через Прибалтику, – сказал черноволосый, – а прибалты туфту поставлять не любят. Бронежилет дырявит насквозь. «Это ты врешь, парень, ТТ “желтой” сборки никогда не оставляет дырок в бронежилете – лишь вмятины. Дыры образуются только от нашей сборки», – Высторобец покосился на страховщика и ничего не сказал. – Первые десять выстрелов гарантирую – жилет пробьют, – гнул страховщик свое, – а дальше – как получится. Он хотел содрать с Высторобца не четыреста долларов, а все пятьсот. Или даже шестьсот. Высторобец взял пистолет в руку, он был легче настоящего ТТ – на войну с таким не идти, подведет, а на раз, на два раза, пока новый – годится. – Где второй? – спросил Высторобец. – Мне два ствола нужно. Кладовщик всунулся в окно «тойоты», достал с сиденья еще одну коробку, также молча, словно был немым, протянул Высторобцу. Второй пистолет ничем не отличался от первого – та же «желтая» сборка, то же угрюмое изящество линий, тот же мрачный холод металла и – полная ненадежность. Это оружие поставляют специально для киллеров – наемные убийцы почти всегда бросают оружие около своих жертв. Чтобы милиция не мучилась, не искала черной ночью черного кота в черной глухой комнате. – Упакуй в одну коробку, – сказал Высторобец кладовщику, полез в карман, отщипнул от стопки долларов несколько сотенных бумажек – новых, арбузно хрустящих, протянул кладовщику. Тот молча взял деньги, сложил два пистолета вместе, сунул в обувную коробку и заклеил липкой глинистого цвета лентой. – Двухсот долларов не хватает, – угрожающе проговорил черноволосый. – Каждый ствол стоит пятьсот баксов. – Мы с вашим шефом договорились о четырехстах. – Мне он ничего не сказал. – Сейчас придет и все скажет. – Он не придет, – в кладовщике неожиданно прорезался голос. «Значит, я не ошибся, у них налажена связь по радио», – как-то тускло и слишком спокойно подумал Высторобец, отметил злой жестяной блеск, возникший в глазах черноволосого, понял, что тот готов замахнуться уже не на двести долларов, а гораздо на большее, его теперь интересовала уже вся пачка, имевшаяся у клиента. Высторобец засек, как тот напружинился, присел на прочных кривых ногах в «качковой» стойке – может теперь качаться на них, как стебель, влево, вправо, вверх, вниз, – сейчас будет нападать. Кладовщик хорошо понимал своего напарника – они спелись и выпотрошили, видать, не одного полоротого покупателя. Хотя киллеров, покупающих у них оружие, они не трогали – это слишком опасно, один опытный киллер-скорострел запросто может уложить всю эту шайку-лейку, трогали только простодырных доверчивых новичков, вообще не знающих, что такое оружие и с чем его едят, Высторобца они тоже приняли за простодырного дядю – две сопелки в носу и одна извилина в заду, – которого выпотрошить ничего не стоит. «Ошиблись вы, ребята, ой, ошиблись», – спокойно, даже как-то равнодушно, подумал Высторобец, стараясь не выпускать из поля зрения ни одного, ни другого подельника. И когда к нему боком, кривовато, находясь в подвижной боевой стойке, начал перемещаться страховщик, Высторобец качнулся к кладовщику – человеку ленивому, замедленному, с мышцами, оплывшими жиром, ткнул ему в руки коробку с пистолетами: – Подержи! Высторобец рассчитал, что эта простая вещь – очень примитивная, вроде «детской неожиданности», сработает – и она сработала: кладовщик с опешившим видом принял коробку, он не мог допустить – даже в мыслях, чтобы дорогой товар шлепнулся на землю, – тех двух мгновений, пока коробка находилась у него в руках, Высторобцу было достаточно, чтобы разделаться со страховщиком. А страховщик подгребся уже совсем близко, маленькие глазки его сделались железными, Высторобец поймал этот взгляд – очень важно было теперь его не выпускать, сделал легкий шаг навстречу страховщику и опередил его буквально на мгновение, – развернулся боком и одновременно выкинул перед собой ногу и руку, спаренным, общим движением, когда нога уравновешивает руку и наоборот, угодил ребром ботинка страховщику в горло, а рукой в переносицу. Тот задавленно икнул, из груди у него вырвался хриплый взвизг, словно из проколотого автомобильного колеса, – удар был таким сильным, что кривоватые прочные ноги его в кожаных кроссовках оторвались от асфальта, страховщик взнялся над самим собой и, сметаявсе на пути, давя какие-то кустики, рядких цветов, прорубил спиной тоннель в густой декоративной гряде – так называемой живой стенке, плотной, черно-зеленой, будто перезрелый чайный ряд, – листья этого кустарника действительно были похожи на чайные, и цвет имели такой же, – и исчез. – Космический корабль, – не удержавшись, прокомментировал Высторобец. С места приземления «космического корабля» послышалось глухое уханье, затем – громкий стон. «Раз стонет – значит, живой, – удовлетворенно отметил Высторобец. – Во всяком случае, в эту минуту он еще не умер, а то, что будет минутой позже, для суда уже не имеет решающего значения, – он ударил рукой о руку, будто стряхивая что-то с ладоней, подумал с опаской: – А ведь где-то недалеко находится второй страховщик… Что-то его задержало. Но что? Уверенность шефа в том, что с неказистым Высторобцем разделается один чернявый? Или задержало что-то еще?» – Высторобец резко повернулся к кладовщику, спросил, недобро сощурил глаза: – Может, ты тоже хочешь долларовой прибавки? Зелени в суп? Чтобы вкуснее было, а? Кладовщик испуганно помотал головой – он не тянул против жилистого, хотя и растерявшего свою форму, но еще крепкого Высторобца, – раскатать эту квашню Высторобцу было несложно. – Не слышу ответа! – рявкнул Высторобец. – Н-нет, не хочу, – давясь собственными словами, пробормотал кладовщик, и Высторобец одобрительно наклонил голову: – Ладно, верю, – забрался в карман, достал оттуда пачечку долларов, засек блеск, возникший в глазах кладовщика, этот качок недалеко ушел от своего напарника – те же запросы, только возможности не те, усмехнулся издевательски, отслоил от пачки одну стодолларовую бумажку, швырнул под ноги кладовщику: – Держи! Считай, что ваша взяла. Драться из-за этой зелени грешно. Дерьмо все это. Скажи своему напарнику, когда он очнется. Хотя в том, что страховщик очнется, Высторобец не был уверен – слишком сильный он нанес удар, и хорошо угодил, – от такого удара у страховщика должна была отлететь, отломиться от позвоночного столба голова – но это уже забота самого страховщика и этого жирного небритого дурака. Выдернув у него обувную коробку из рук, Высторобец хотел было нырнуть за живую изгородь – пора уходить, пока не подоспел второй страховщик, но задержался и спросил: – Веревка, чтобы коробку перевязать, есть хоть? А то склейка эта, – он поддел пальцем глинистую ленту, – тьфу! Кладовщик невольно вздрогнул, – слишком бытовым и потому необычным был вопрос Высторобца, испугался и закивал головой, поспешно бормоча: – Есть, есть. – Давай веревку, – и пока кладовщик лазал в машину за веревкой, хотя из салона он мог достать не только веревку, а и пистолет и продырявить драчливого покупателя, но Высторобец был уверен: кладовщик никогда этого не сделает, кишка просто тонка, Высторобец слушал пространство – не пробирается ли к нему по кустам второй страховщик с шефом, и одновременно держал кладовщика на прицеле – даже если бы тот высунулся из «тойоты» с пистолетом, Высторобец все равно опередил бы его. Наконец кладовщик вылез из машины, подал Высторобцу кусок крученой бумажной бечевки. – Ничего другого у меня нет. – И не надо, – сказал Высторобец, выдернул у кладовщика из рук веревку, поинтересовался, кивнув на гряду, за которой валялся страховщик – любопытно стало: – Небось черный пояс у качка? Кладовщик гулко сглотнул, небритое лицо его обиженно затряслось – почудилось, что Высторобец сейчас приложит и его, пробормотал, отодвигаясь в сторону: – Черный. – Скажи ему, когда проснется, что он не только на черный пояс – даже на желтый не тянет. Впрочем, проснется он нескоро. И сам виноват, дурак, не просчитал клиента, не понял, кто к нему пожаловал, раскупорил рот широко, чтобы отхватить кус пожирнее, и поплатился за это. Высторобец бросил на прощанье красноречивый взгляд на кладовщика, втиснулся спиной в кусты, поднял в воздух кучу неряшливых, по-комариному противно гудящих мошек и исчез.
20 сентября, среда, 16 час. 35 мин. Пить больше было нельзя, если он будет пить – совсем расклеится, и тогда его надо будет собирать по частям. Белозерцев вытянул из стола вторую бутылку «Варцихе», подержал ее с минуту в руке, потом с сожалением засунул обратно. Как у всех солидных руководителей, у Белозерцева сзади кабинета имелся еще один кабинет, небольшой – комната с умывальником и зеркалом, лакированным столиком на гнутых ножках и компактным туалетом, с кишкой душа, повешенной на нержавеющий стальной торчок, вбитый в стену, с холодильником, прикрепленным к стенке, в котором Зоя Космодемьянская постоянно обновляла запас продуктов, чтобы не заветривались, – в общем, Белозерцев всегда мог уединиться, перекусить в одиночестве, поразмышлять, вытянуть ноги на кожаном диванчике, что, кстати, требовалось сделать и сейчас. Он вызвал секретаршу, сказал ей: – Мне надо прийти в себя… В течение получаса никого не пускай в кабинет. – А телефон? – спросила Оля. – И по телефону не соединяй. – А вдруг позвонит жена? У Белозерцева сама по себе, будто у паралитика, дернулась голова – мысль о каком бы то ни было разговоре с Ириной была неприятна ему, то, что он увидел, никак не хотело вытряхиваться из мозгов, давило на него. На щеках, на лбу, на спине возникал нехороший пот, виски ломило. – Тоже не соединяй. Скажи, что меня нет. Отбыл. Куда отбыл – неизвестно. На Южный полюс. На лыжах, мол. С одним знакомым норвежцем. Спасать тамошних пингвинов. Бесцветное Олино лицо неожиданно обрело краски: она эту шутку приняла, хотя юмора вообще не признавала, считала его чем-то… ну, в общем, здорово мешающим жизни. Если бы не юмор, народ, по ее мнению, жил бы лучше. Хоть и муторно было Белозерцеву, а реакция Зои Космодемьянской вызвала у него улыбку – тяжелую, чуть перекосившую лицо. Секретарша хотела что-то сказать, даже открыла рот, но остановила себя – улыбка Белозерцева испугала ее. – Хорошо, Вячеслав Юрьевич, – ни с кем не соединять, никого не впускать – полчаса личного времени… – Если будут другие звонки, записывай, кто звонил – действуй, в общем, как обычно. И номера записывай. Сотовый аппарат возьму с собой. Зоя Космодемьянская покивала ему молча, все так же с открытым ртом, словно у нее сломалось специальное запирающее устройство, и знакомо, на манер Пусечки, задом выдавила себя из кабинета. Конечно, секретарша у него неаппетитна, как зеленая тыква – у многих его коллег секретарши совсем другие, их можно взять и на бал и в баню, они блещут красотой, манерами, внешне неприступны, а за неприступностью – сама податливость, легкость необыкновенная, Белозерцев сам баловался секретаршами своих друзей, Зоя Космодемьянская – ничто по сравнению с ними, действительно, зеленая тыква, но Белозерцев был в ней уверен, как в самом себе. Хотя в постели этот горький овощ может оказаться не таким уж и горьким. Всякая мало-мальски приметная контора старается ныне обзавестись своей службой безопасности, день и ночь охраняет каждую свою дверь, каждую дыру в офисе, тратит миллионы на пятнистых ребят-сторожей, ставит на входах телекамеры, стальные решетки, загораживается сейфовым железом, которое невозможно взять даже тротилом, но все это – ничто по сравнению с одной болтливой секретаршей; целый батальон пятнистых мужиков не может принести столько вреда, сколько может одна секретарша, попав в постель с «заинтересованным лицом» и выболтав под сексуальный шумок какой-нибудь секрет. А впрочем, это может произойти не только в постели. До Зои Космодемьянской у Белозерцева была другая секретарша – кстати, ее звали Зоей, – эффектная, большеглазая, с точеным лицом и редкостной фигурой, – она приняла подарок от владельца фирмы «ТРТ» Терентьева – золоченый «монблан», «лучшую в мире авторучку», как расхваливал свой подарок хитрый Терентьев – бывший секретарь райкома партии. Расхваливал, надо заметить, справедливо, «монблан» – действительно ручка для очень богатых людей, Зоя ею гордилась, часто, чтобы записать какую-нибудь чепуху, доставала из сумочки дорогой «монблан». Однажды она стенографировала «монбланом» переговоры, которые проводил Белозерцев. Сумма, что должен был получить в результате переговоров «Белфаст», была фантастическая – «Белфаст» таких денег еще не зарабатывал… Велика была ярость Белозерцева, когда он узнал, что контракт у него перехватил Терентьев. Откуда тот все выведал, кто ему рассказал о переговорах? Ведь переговоры были секретными, и посланец, прибывший в «Белфаст» из Франции, нигде, кроме конторы Белозерцева, не объявлялся, жил на роскошной даче, снятой специально для него в Переделкино, ездил на машине, прикрепленной к нему Белозерцевым, охраняли его люди Высторобца – тоже свои, много раз проверенные, – а контракт ушел на сторону. И перешиб-то Терентьев каким-то лишним полупроцентом, отчисленным от прибыли – всего лишь полупроцентом… Стали разбираться. Проверили все предметы в офисе, которые имели хотя бы отдаленное отношение к Терентьеву – либо он их дарил, либо просто брал в руки – в общем, цеплялись за каждую мелочь. Ничего не нашли. Тогда взялись за обслуживающий персонал. Вышли на секретаршу. Оказывается, в «монблан» был вмонтирован мелкий передатчик, и все, что говорили в тот раз, записали на магнитофон двое молодых людей, сидевших в машине в соседнем проулке. Зою вместе с «монбланом» пришлось выкинуть из «Белфаста». Без выходного пособия и с характеристикой, с которой ныне не возьмут даже в уборщицы. Сдернув наконец с себя галстук, который никак не хотел уступать – будто живой был, змеюга, вот ведь как, – Белозерцев бросил его на пол, с мучительным кряхтеньем стянул с себя рубашку и тоже бросил на пол. На столе зазвонил телефон. «Панасоник». «Это не они, они до шести звонить не будут», – мелькнуло в голове встревоженное, в следующий миг он подавил в себе тревогу: они не только до шести не позвонят – не позвонят и до семи. А с другой стороны, трубку может поднять и Зоя Космодемьянская… Нет. На этот звонок он ответит сам. Что же касается семи часов вечера, то в семь он собрался с Виолеттой и Пусечкой в ресторан. Может, Пусечку отменить? Теперь он – лишний в их компании, третий… Нет, отменять пока ничего не надо, время для этого еще есть – стоя под душем, он хорошенько все обдумает, под шум воды всегда хорошо думается, беспокойство, скопившееся внутри, исчезает – пропадает даже боль, – все, смытое сильной струей, стечет под ноги, всочитcя в решетчатое оконце слива и исчезнет. «Панасоник» вновь напомнил о себе. Странный все-таки у него голос: то мелодичный, приятный, словно звук органа, то по-лягушачьи квакающий, вызывающий усмешку, то вообще неприятный, как сейчас, – не звук, а задавленное бабье рыдание. Белозерцев снял трубку. – Это я, – услышал он близкий, сырой от слез голос жены. Белозерцев вздохнул: вон как получилось – хотел спастись от жены, да не спасся. – Узнаю, – сказал он. Поежившись и сделав неимоверное усилие над собой, – Белозерцева даже перекосило, словно его живого начали полосовать ножом, – он спросил сухо: – Что случилось? – Ничего, просто я очень плохо себя чувствую. Может, мне вызвать врача? – Можно вызвать и врача. Но надо ли? Это нервное, от расстройства, от того, что беда вошла в наш дом, – Белозерцев заторопился, начал глотать слова, он больше всего сейчас боялся, что Ирина вздумает вызвать врача – Ирину надо обязательно остановить, никто, кроме нее, в квартире не должен оставаться. До той поры, пока не приедет Высторобец. А то, что Высторобец обязательно приедет к нему домой, Белозерцев знал точно. Он просчитал схему действий Высторобца – собственно, зная модель, саму формулу поведения Высторобца, это было сделать несложно. – Да, беда, Костика у нас с тобой нет, но Костик вернется… А уйдет Высторобец из его дома – пожалуйста, в квартиру пусть хоть вся московская милиция пожалует. Он неожиданно поймал себя на мысли, что говорит слишком угрожающим тоном, – слова произносит красивые, слишком красивые: «Беда вошла в наш дом», а тон хрипучий, будто у бандита, чужой, с угрозой. Белозерцев замолчал. – Ты чего молчишь? – в голосе Ирины еще сильнее проступили слезы. «Слишком быстро выделяется разная мокрота», – едва сдерживая себя, подумал Белозерцев, покосился на телефонный аппарат, словно тот был в чем-то виноват. – Не молчи, пожалуйста, – попросила Ирина. – Это пройдет, – сказал Белозерцев. – Прими какую-нибудь таблетку, «упсу», аспирин Байера, выпей немецкого успокоительного чая… – Ты считаешь, что пройдет? – Ирина не верила Белозерцеву, она что-то чувствовала. Но каким бы тонким чутьем она ни обладала – поезд уже ушел, Иринина песенка спета, да и Высторобца сейчас не остановить – поздно, Высторобца уже просто не найти. – Да, пройдет. Сколько раз уже такое бывало, вспомни… И с тобой, и со мной. – Бывало, верно, но сейчас происходит что-то особенное, – Ирина замялась, ей словно бы не хватало слов, – не знаю даже, что… – Ясно, – не сдержавшись, хмуро произнес Белозерцев – неприязнь, словно песок, попавший на зубы, заскрипела в его голосе, Белозерцев споткнулся и перевел дыхание, ему было трудно говорить. – Стареем мы! – Белозерцев скинул с ноги один ботинок, второй же, как ни упирался им в носок, даже задник помял у тесной обуви, скинуть не мог. – Потому болезни и допекают нас: то невроз, то колики в боку, то излишнее соплевыделение… – Ты не думаешь о том, что говоришь слишком обидные вещи? – Нет! – резко ответил Белозерцев. – Мог бы быть потеплее, понежнее… – Вот именно – потеплее, понежнее, – не выдержал Белозерцев, напрягся и, наконец содрав с ноги второй ботинок, раздраженно отшвырнул его в сторону. Удивился тому, что может еще с Ириной говорить нормальным голосом, – потеплее, понежнее… У нас сына с тобой украли, сына, а ты?! Непрочен все-таки человек, слаб, дунь – и пепловым, песчаным столбом ссыплется под ноги, вот и Белозерцев такой же – на него дунули, и он оказался пеплом, ссыпался кучкой на землю. Не смог даже разговор с женой – с бывшей, скажем так, женой, потому им все равно уже вместе не жить, да и осталось Ирине дышать воздухом всего ничего – провести нормально, сорвался. Сорвался, словно дамочка, которую допекают чирьи. Вместо того чтобы говорить холодно и спокойно, он растекся, раскис. Это не украшает мужчину. Да плевать, в конце концов, на то, что украшает и что не украшает, этим пусть специалисты по чирьям занимаются, но то, что он не смог справиться с собой, было неприятно. Ирина заскулила на той стороне провода. «Раньше надо было скулить, не сейчас, – зло подумал Белозерцев, – сейчас скулить поздно». – Прекрати! – произнес он прежним резким тоном. Ирина незамедлительно среагировала на эту резкость, перестала скулить – все-таки она что-то чувствовала. Прошептала нечетко, словно губы у нее склеились от слез, и слова получились слипшимися: – Я прекратила… Все, все! – На некоторое время я сниму с дома охрану, – сказал Белозерцев, – ребята мне здесь нужны. Предстоит кое с кем встретиться… – Да-да, – поспешно согласилась Ирина, – они в соседней комнате, я сейчас позову. – Подожди! – Белозерцеву показалось, что кто-то еще слушает их разговор – словно бы притаился в притеми двери человек, выставил большое хрящеватое ухо наружу и все засекает. Белозерцев вгляделся в дверь – есть там кто-нибудь или нет? Дверь, вернее, сам тамбурок, в котором она была утоплена, чернела пустотой. Никого. Но тогда откуда же ощущение, что его подслушивают? Неприятное чувство, от которого охота засунуть голову в землю. Но разве раньше его не прослушивали, разве два его разговора со Зверевым не были засечены? Он поежился, словно бы от холода, свел вместе лопатки, развел. – В шесть часов вечера у меня встреча. С этими самыми… – С похитителями, – подсказала Ирина. – Да, если можно их так назвать, – голос у Белозерцева выровнялся. – Не знаю, брать мне на это первое свидание деньги или не брать? Если возьму, то мне понадобится вся служба «Белфаста», все люди, – он врал, не боясь, что Ирина раскусит его. А ведь если она раскусит его, то, вполне возможно, сделает следующий ход – уйдет из дома. Исчезнет. И вряд ли он тогда ее найдет. И Выcторобец не найдет. Но Белозерцев не боялся этого. И деньги, хоть они и собраны целиком, нельзя отдавать все сразу, пока он не будет держать Костика за руку, пока не посадит его в собственную машину под охрану Бори. Белозерцев закряхтел, словно на плечи ему взвалили тяжелый мешок. Пора было заканчивать разговор. – В общем, ты все понимаешь, – произнес он бесцветно. – Конечно, конечно… – Потом я этих ребят снова верну в дом, – Белозерцеву было важно убрать охранников, которых он сам же и привел в квартиру. Но тогда, четыре часа назад, была другая ситуация. Если он не уберет Фоминых, то у Высторобца могут возникнуть сложности. – Собственно, они со мной же и вернутся, – сказал Белозерцев. – Ты согласна? – Согласна, – поспешно и обреченно отозвалась Ирина. – А теперь позови к телефону кого-нибудь из этих орлов. Любого. – Сейчас, сейчас, – поспешность Ирины, обреченность ее ослабшего голоса, покорность снова вызвали у Белозерцева приступ злости. – Слушаю вас, – громыхнул в трубку бодрый солдатский бас. – Это кто? Володя, Андрей? Андрей, возвращайтесь с братом в контору, вы оба нужны здесь. Машину посылать за вами не буду, в разгоне нет ни одной. Доберетесь общественным транспортом. Лады? Ну и хорошо. Нет, Ирине Константиновне трубку не надо передавать, мы с ней обо всем договорились… – но тем не менее голос Ирины снова раздался в трубке. Слушать ее Белозерцев уже не мог, вытянулся резко, словно по спине его мазнуло свалившимся с крыши камнем, дернул плечом, сопротивляясь боли, которая должна была вот-вот оглушить его, и резко бросил трубку на аппарат. Уже стоя под душем, мотая головой от частых сильных струй, он услышал, как «панасоник» зазвонил вторично. Голос у телефона на этот раз был блеющим, бараньим, жалобным – позвонил, позвонил «панасоник» и умолк.
20 сентября, среда, 16 час. 40 мин. Через пять минут после разговора Белозерцева с женой Звереву принесли пленку с записью. Зверев внимательно прослушал ее, покхекхекал в кулак, прослушал снова. В глазах у него промелькнуло недоумение: – Либо я ничего не понимаю в жареных шкварках, либо старым, как Рабиндранат Тагор, стал. Зачем он снимает охрану с квартиры, а? Убей меня бог – не понимаю. Усиливает свою охрану для встречи с этими вяхирями у «Известий»? Но ведь он прекрасно знает, что туда можно являться вообще без охраны, это безопасно. Опасно будет потом. Тогда в чем же дело, а? Нет, я что-то совсем перестал разбираться в кулинарии.
20 сентября, среда, 16 час. 45 мин. В маленькой, тесной, с единственным отверстием, выходящим в потолок, комнате сидел плотный человек с невыразительным лицом и округлыми плечами, в костюме, застегнутом на все пуговицы, и внимательным взглядом прощупывал Волошина. Волошин понял сразу – с Лубянки, из новичков – скорее всего переведен в Москву с периферии, обживается в Белокаменной, по старой привычке в каждом иностранце видит шпиона, в каждом дворнике – завербованного агента, сволочь, предавшую свою Родину, – иначе с чего бы ему застегиваться в жаркий день на все пуговицы? В штатском пиджаке сидит, будто в форменном кителе. Макаронник! Но строевой давно не занимался. И что такое зарядка, не знает. Пуговицы у него едва держатся – мочки пиджака от напора совсем расползлись, а сами пуговицы вот-вот отщелкнутся. Тяжеловат, задаст, слишком откормлен для своей должности – явно не самой крупной на Лубянке. Обычный тонтон-макут. И с оружием. Под мышкой бугрится кобура с табельным пистолетом. Пистолет у него Макарова либо Стечкина. М-да, макаронник, он и есть макаронник. Макаронниками в пору волошинской молодости, когда он тянул лямку на срочной службе, звали сверхсрочников. Те, необразованные, с семью классами за плечами (чаще всего такое образование прячут в рюкзак, чтобы никто не видел и было удобно носить), – слово «лыжи» пишут с двумя «ы», а в нехитром сочетании слов «воронья слободка» или «дедушка Мазай» допускают сразу тринадцать ошибок, – охотно оставались в армии на сверхсрочную службу, гоняли солдат до обмороков и за лишнюю лычку на погонах готовы были пристрелить родную матушку. А ведь наверняка этот «безпековец» служил когда-то в армии сверхсрочную. – Документы! – потребовал «безпековец». Волошин протянул ему красное «муровcкое» удостоверение, сработанное из какой-то бракованной, быстро облезающей клеенки – с таким удостоверением даже ходить неудобно. «Безпековец» двумя пальцами взял его, развернул, сличил фотокарточку с оригиналом. Волошин не выдержал, спросил: – Похож? «Безпековец» поджал нижнюю губу. – Не очень, – щелкнул корками удостоверения, вернул Волошину. – Чему обязан? – Назовите, пожалуйста, свою фамилию. – Старший лейтенант Бобэнко Николай Николаевич. «Каково! – не замедлил восхититься про себя Волошин. – Хар-рош Бобэнко. А фамилия пишется небось через “е”. Бобенко! М-да, верно сказано в хороших стихах: “Топтался дождик у дверей и пахло винной пробкой”. Такие люди никогда не прощают другим, что те живут на белом свете. Бобенко – не просто из провинции, из-под какой-нибудь Читы или губернского города Замухрышен-ска – он из зарубежной провинции, из так называемого ближнего зарубежья». – Итак, чем могу быть полезен? – спросил Бобенко, голос у него был певучим, тонким, с «прижимом» – Бобенко сдерживал свой голос. Видать, он хорошо пел. – Ничем. – Тогда, извините за любопытство, какую задачу вы здесь, на телефонной станции, решаете? – Это вам может объяснить мой непосредственный руководитель – генерал-майор Зверев. Его телефон… – Волошин одну за другой перечислил семь цифр, как в шифровке, каждую цифру отдельно, – позвоните ему, товарищ лейтенант, думаю, он вам все доложит. Я же такими полномочиями не наделен. Бобенко стиснул зубы и заиграл желваками. Была бы его воля – сварил бы Волошина в супе. Звонить милицейскому генералу Бобенко не стал – получил бы от него хорошую нахлобучку, а потом, вдогонку, и нахлобучку от собственного генерала. «И на это быдло с семиклассным образованием, на таких макаронников мы променяли высоких спецов, работавших ранее в “конторе глубокого бурения”?» – невольно подумал Волошин. Хотя и его акции в глазах этого «безпековца» тоже были невысоки – «безпековец», не зная о Волошине ничего, уже ненавидел его. – Ладно, можете быть свободны, – милостиво, сквозь зубы, проговорил «безпековец». – А вы меня и не задерживали, лейтенант, – так же сквозь зубы ответил ему Волошин. – Я правильно вас понял? – Волошин специально в звании «безпековца» убирал приставку «старший», очень уж этот «певец трудового народа» не понравился ему, – ушел, с силой хлопнув дверью бетонной комнатенки. В коридоре его ждали подчиненные – два сотрудника технического отдела, два старлея – Афонин и Тур. Афонин – высокий со «стальной выправкой хребта», в тяжелых роговых очках, надежно усевшихся на нос, интеллигентный до мозга костей, и Тур – разбитной, катающийся по земле, как надувной шарик, веселый, лицом очень похожий на царя Николая Второго – правда, изрядно потрепанного. Если обрамить его бородкой, приклеить усы с колечками на концах – получится вылитый Николай Александрович. – И откуда только взялся этот ракообразный! – не выдержав, бросил Волошин, растянул с усмешкой: – Бобэ-энко! – На ракообразного он не тянет, – возразил Тур, – корсета нет, у него из рубашки складки жира вываливаются, собираются в колбасы – какой же это ракообразный? Посмотришь на такого «рака» – пиво пить расхочется. – Что хоть он тут делает? – спросил Волошин и тут же спохватился: – Фу, о чем это я! Действительно, будто Волошин не знает, что делает тут «безпека», которая после КГБ то АФБ – Агентством федеральной безопасности стала, то МБ – Министерством безопасности, то ФСК – Федеральной службой контрразведки, при каждом переименовании ее здорово перетряхивали, после всякой «усушки и утруски» от нее остаются кожа да кости, а теперь вот ФСБ стала. Все старо, как мир, с той только разницей, что ФСК возглавлял генерал-лейтенант, а ФСБ должен возглавлять генерал армии, этакий пехотный маршал, с большой звездой на погонах, как у господина Грачева, а так – ничего нового. И в дальнейшем будет все то же, что было и раньше.. – И право, «фу»! – согласился Тур. – Слишком много развелось специалистов по прослушиванию чужих телефонных разговоров. Раньше, чтобы прослушать какого-нибудь, извините за выражение, гада, редиску, надо было тысячу виз и две тысячи разрешений получить, чуть ли не к Генеральному прокурору всего Советского Союза сбегать, а сейчас все кому не лень слушают. Лубянка слушает, охрана президента слушает, МВД слушает, налоговая полиция слушает, охрана правительства слушает, служба «вертушек» слушает, да еще телефонистки интересуются жизнью богатых людей – все слушают. Все кому не лень. И ни слова в защиту того, кого слушают – господина обывателя, обиженного и облапошенного. – Чего-то ты уж слишком разошелся, – заметил Волошин. – К чему бы это? Похоже, не к добру. – Не к добру, когда я не с той ноги встаю. – Ладно, ближе к телу, как в свое время любили говорить продавцы мандаринов с жарких гор Кавказа. Что насчет утечки тока на сторону? Кто нас пеленговал? – Есть кое-какие соображения. Пока предварительные. Непроверенные. – Выкладывай! Тур взял Волошина за короткий рукав ковбойки, потянул за собой: – Отойдем в сторону, а то сейчас к нам этот гепеушник прикнопится. Встали у батареи с проржавевшим верхом – скоро здоровенная чугунная гармошка вообще сгниет. Тур помял рукой подбородок, сгреб в кучу рыжеватые, проволочно затрещавшие волосы. – Проверили всех, – сообщил он Волошину. – Даже девочек, которые заполняют абонентские карточки и выписывают штрафы неплательщикам – все чисто. Но один человек привлек наше внимание. Такой душка, что без мыла в задницу влезает – обаятельный, тщательно причесанный, улыбчивый, всегда готов банкой пива угостить или даже шампанским. Цены в коммерческих ларьках его не пугают, пивом он может залиться по макушку, значит, деньги у него есть. И заработаны они не на телефонном узле. Вхож во все помещения. К номеру Зверева есть следы подсоединений, мы на всякий случай собрали отпечатки пальцев. – В лабораторию отправили? – Так точно. – А отпечатки пальцев… этого… любителя шампанского с пивом? Отдельно, для сравнения с общим сбором. – И они есть. С байки «Гессера». Очень четкие. Как лапы медведя на картине Шишкина. – Хорошо, – похвалил Волошин, – недаром хлебушек, господа, едите. – За такую работу, товарищ майор, еще и масло положено. – Ладно. Уговорил. Пойду в магазин, куплю тебе граммов сто, на хлеб намазать. – Тьфу! – отплюнулся Тур. – Как фамилия этого баночника? – Гуревич. – Гуревич… Гуревич, – Волошин наморщил лоб, соображая, говорит ему что-нибудь эта фамилия или ничего не говорит? Фамилия ничего не говорила. – И еще. Детальку одну мы нашли на полу. Со следами пайки. Тоже приплюсовали к общему кладу. – Результаты есть? – Ждем-с! – популярным словцом, сползшим в народ с телевизионной рекламы, ответил Тур.
20 сентября, среда, 17 час. 00 мин. Совещание у Зверева было коротким – уложились в десять минут: Зверев расставил посты, определил, кто где должен находиться в семнадцать сорок пять – предстартовое время операции, на пятнадцать минут раньше времени «Чэ», – а временем «Чэ» был определен момент встречи Белозерцева с похитителями, и кто что должен делать, если бандиты вздумают захватить Белозерцева. Кроме, естественно, деталей. Детали определит сама обстановка. На совещании присутствовал «человек с Лубянки» – подполковник из управления генерала Вениамина Иванова.
20 сентября, среда, 17 час. 10 мин. Покидая «Лужу» с покупкой, запакованной в обувную коробку, Высторобец на несколько минут задержался у входа в метро. Там волновалась, раскачиваясь из стороны в сторону и по-грачиному галдя, толпа: какие-то бабки с волосатыми бородавчатыми лицами совали жидкие, светящиеся оренбургские платки, отдаленно напоминавшие пуховые, дамские лаковые туфли, хотя Высторобец меньше всего походил на даму; какая-то золотозубая, цыганского вида женщина пыталась ему вручить дырчатые шоферские перчатки за цену, достойную самого автомобиля; бритоголовый юнец орал ему в ухо что-то невнятное и тряс перед глазами набором усатых презервативов; угрюмый молодец милицейской наружности тыкал в бок японским зонтиком – купи, мол, дядя, не то хуже будет! Высторобец остановился около старухи, торгующей с рук тайваньскими, с длинными козырьками кепками, взял одну из кепок – зеленовато-серую, неприметного, немаркого цвета, с названием какого-то малоизвестного хоккейного клуба, вышитой шелком на околыше, примерил. – Она, милый мой, безразмерная, – сообщила ему старуха. – Там сзади дырочки имеются, и шпенек – на любую голову можно расставить. – Сколько? – коротко спросил Высторобец. Старуха назвала цену, вызвавшую у Высторобца невольную усмешку – слишком завышенную. Но рынок – особенно такой, стихийный, неуправляемый, однобокий, где торговцев не обманывают, обманывают только покупателей, – на то и рынок, что на нем можно торговаться. Это не магазин «Ле Монти» или торговый дом «Кутузовский проспект». – Вай-вай-вай, – произнес Высторобец укоризненно и сделал шаг в сторону, собираясь уйти от старухи и одновременно приглядываясь, не пасет ли кто его. – Называй свою цену, – быстро, слепив все слова в одно, выпалила старуха, – называй! – Выставила маленькое, мягкое, похожее на вареный лесной гриб ухо, приложила к нему руку. – Ну, мой милый! Высторобец назвал. – Мало! – старуха убрала руку. – За эти деньги не кепку – только нитки, чтобы приладить пупырышек вот сюда, к кепочной макушке, можешь купить. Более ничего. – Когда Высторобец немного добавил, старуха, собрав длинный вялый рот в крупную морщинистую щепоть, отрицательно покачала головой: – И этого мало. – Тогда называю последнюю цену, – сказал Высторобец, умолк на мгновение: такая неприметно-приметная кепка была ему нужна, головной убор, он здорово меняет человека, меняет даже больше, чем одежда. С одеждой у Высторобца все было в порядке – он был одет в двухстороннюю куртку: с лица темную, с изнанки светлую, – в любую минуту, нырнув в подъезд, можно вывернуть куртку наизнанку и надеть – из подъезда выйдет уже совсем другой человек. А если при этом он нахлобучит на голову кепку, то его никто не узнает. Высторобец назвал последнюю цену, которую он давал бабке. – Давайте, мадам, хлопнем по рукам и разойдемся! – сказал он. Рынок не уважает тех людей, которые не торгуются. Более того – презирает. Высторобец понял – надо немного, хотя бы чуть-чуть, поторговаться, чтобы эта бабка не смотрела на него с нескрываемой насмешкой и не считала глупым московским лохом. А с другой стороны, Высторобцу было все равно, покупать кепку по цене, назначенной бабкой, либо по цене в два раза выше, цена для него не имела значения: он мог все кепки купить по цене, равной стоимости кожаного турецкого пальто. Мог, да не будет этого делать… А торговаться надо. Вона, поторговался чуть – и старая карга начала смотреть на него другими глазами. Во всяком случае, не козьими. Старуха молчала. – Ну что? – Высторобец улыбнулся открыто, по-мальчишески чисто: все-таки старуха его психологию знала лучше, чем он ее. – Давай! – согласилась старуха. – По рукам! Выкладывай, мой милый, тугрики! Легкая натура была у этой бабки. Высторобец купил у нее две кепки – пусть будет запас, что карман, как известно, не трет, сложил плоско, чтобы не мялись, подсунул под бечевку, которой была перевязана обувная коробка с югославскими ТТ. Теперь он был экипирован полностью. На метро он доехал до центра, там выбрался на поверхность, сел в автобус. Ни такси, ни собственным автомобилем, ни левыми машинами Высторобец не пользовался – нельзя было, чтобы его засекли, запомнили, даже вообще просто обратили внимание. Самое лучшее – быть невидимым, раствориться в массе, стать одним из многих тысяч других людей, а кем конкретно из них – неведомо. Это люди без лица. А Высторобцу больше всего на свете сейчас надо было стать человеком без лица. Он ехал в автобусе и мысленно ощупывал себя, словно вещь – чего в нем есть приметного? – и пришел к выводу: ничего нет, потом послушал собственный организм, словно врач – а что там? Внутри было пусто, холодно, спокойно, словно Высторобец стал мертвецом. Это ощущение он познал давным-давно, еще в пору своей молодости, – и сейчас к нему будто бы вернулось прошлое, в лицо ударил свежий, пахнущий горькой горной травой ветер – дух этот был знаком ему по Таджикистану, по памирским ночевкам, по Афганистану, по разным бесшабашным кочевьям и стычкам под Гератом и Мазари-Шарифом. Он в эти минуты словно бы возвращался к самому себе, к тому, оставшемуся в бывшести Высторобцу, который, как он разумел, был куда лучше Высторобца нынешнего. У Олега Скобликова – Олежки, с которым была близка Ирина Белозерцева, имелась своя мастерская – подвальная, закопченная, как колбасный цех, до черноты – полгода назад у Олежки случился пожар, он едва спас самое ценное, что хранилось у него, – альбомы швейцарского издательства «Скира» и небольшой этюд Петрова-Водкина, доставшийся в наследство от тетки, все остальное спасти не сумел, да и не захотел, если честно: продавленный, начиненный клопами диван, найденный им на чердаке, два разномастных стула, четыре подрамника с натянутыми на них негрунтованными дешевенькими холстами, к которым Олежка так и не приступил, и большую, тяжелую, как бабушкин сундук, электроплиту. У электроплиты было целых четыре тарелки обогрева – газ в подвал так и не провели, поэтому Олег Скобликов пользовался электричеством. Сгоревшее имущество он быстро восстановил, поскольку мебели сейчас полным полно на свалках – «новые русские» обзаводятся дорогими итальянскими гарнитурами, а прежние, верой и правдой служившие диваны выбрасывают на помойки. Олегу не стоило большого труда составить себе довольно приличный «ансамбль», как он называл убранство мастерской – все нашел на помойке: электроплиту – роскошную, турецкую, выдаваемую за итальянскую, он купил в подворотне у какого-то вора (не на Иринины – на свои деньги), а вот насчет того, чтобы отдраить стены, очистить их от копоти, зашпаклевать выковырины и щели, окрасить в радостный светлый колер, оказался слаб – не хватило ни сил, ни пороха, ни денег. Однажды он даже пригласил сюда Ирину Белозерцеву, но она, зажав двумя пальцами нос, пожаловалась, что у нее от горелого запаха болит голова, и потребовала, чтобы Олежка увез ее куда-нибудь в другое место. «Ка-ак? – вскричал тогда Олежка громко и возмущенно. – Я собирался начать твой рисунок. А работать я могу только у себя в мастерской, больше нигде!» «Поехали к тебе на квартиру, – потребовала Ирина с неумолимой твердостью, – либо я отправляюсь к себе домой». «Поехали ко мне, – незамедлительно согласился Олежка. – Дома у меня, кстати, подготовлена подборка стихов, свеженькая совсем, только что написана, еще не везде расставлены запятые… Я ее тебе прочитаю. Давай только купим хорошего красного вина… Можно купить мартини. Ты знаешь, как много значат запятые в поэзии?» Вообще-то, приглашать Ирину к себе домой Олег Скобликов побаивался. Все дело в том, что дома у него кроме Ирины бывал кое-кто еще. От визитов этих часто оставались разные женские премудрости – завязочки всякие, трусики, колечки на память, сережки – да мало ли каким барахлом напичкан современный прекрасный пол! – а Ирину Белозерцеву терять он не мог, это было бы крушением его жизни. Ирина помогала ему держаться на плаву, Ирина баловала его, Ирина давала деньга. Конечно, разные женские предметы оставались у него и в мастерской, но здесь происхождение их было объяснимо: в мастерскую к нему часто приходили натурщицы, раздевались, он работал над «голыми пейзажами», да и Ирина уже знала, что художники относятся к натурщицам, как к неодушевленным предметам, и женщин в этих женщинах никто не видит. Квартира же – не мастерская, квартира – это другое дело… Высторобец познакомился с Олегом Скобликовым случайно – есть все-таки дирижер на небесах, который сводит людей с людьми. Как-то, когда ему было крайне тошно, Высторобец пошел в Дом журналистов на Суворовский бульвар, куда имел постоянный пропуск – попить пива, облущить пару вобл, завершить пир стопкой «Абсолюта» и бутербродом со свежей ветчиной. В баре народа было – не продохнуть, за столик к Высторобцу подсел оживленный длинноволосый человек с ярким бантом под подбородком. – Олег Олегович Скобликов, – манерно, с чувством превосходства представился он и протянул Высторобцу руку. – Художник, поэт, искусствовед, журналист. «Винегрет какой-то, – невольно отметил Высторобец. – Мужски портной, он же и медам. Ходила когда-то шуточка про искусного одесского портного, простодушного еврея, который, представляясь, назывался так: “Мужски портной, он же и медам”». Высторобец протянул ответно руку. – Сергеев. – Помедлив чуть, добавил: – Владимир Владимирович. Советский Союз, – усмехнулся весело, – бывший. – А по профессии? – неожиданно заинтересовался Скобликов. – Нет у меня профессии, – с еще большей веселостью усмехнулся Высторобец. – Разве безработный – это профессия? – Естественно, не профессия, скорее – социальное положение. – Скобликов сдул с бокала, украшенного фирменной лаковой нашлепочкой «Хейникен», шапку пены, с удовольствием отпил, блаженно сощурил глаза. – Что, хорошо оттягивает? – спросил Высторобец, поняв, что вчера этот славный, с приятной внешностью парень со вкусом погулял, а теперь гасит внутри «горящие колосники». – Оттягивает хорошо, хотя вчера никакой пьянки не было. – Скобликов снова сделал несколько крупных глотков, сладко почмокал, – все равно хорошо. Безработный – это, конечно, не профессия и даже не положение, это творческое состояние, скажем так… Но до творческого состояния какая-то профессия все-таки была? Техник по радиоаппаратуре, допустим, либо инженер по металлопрокату, или драматург. Или что-то еще… Было ведь? – Было. Армия. Я служил в армии. Кому сейчас нужны эти люди? – Из офицеров, кстати, получаются хорошие коммерсанты. – Это от безысходности. Поскольку армия приучила их всем заниматься серьезно, работать до посинения, с полной выкладкой, вот они и работают до посинения, на совесть. И если попадают в коммерцию, то становятся хорошими бизнесменами. – Высторобец тоже отхлебнул из бокала немного пива – горьковатого, пахнущего хлебом и солодом, холодного, заел сухой рыбной долькой. – На Западе пиво с рыбой не пьют, – сказал Скобликов, – нет у них такого понятия: вобла к пиву. В лучшем случае – орешки. А что такое орешки для русского человека? Ничего. Пустой звук, попавший на зуб. Щелкнул – и все. Вам доводилось бывать на Западе? – Нет. – А в Афганистане? – внимательно поглядев на Высторобца и что-то высчитав, спросил Скобликов. – В Афганистане бывал. Что, не заметно разве? – Как раз заметно. Афганистан на тех, кто в нем побывал, накладывает свой отпечаток. Навсегда. – Я это знаю. Разговор за пивным столиком часто бывает сродни разговору в дороге: люди охотно вступают в контакт друг с другом, рассказывают о таких вещах, о каких в иные разы предпочитали бы молчать, никогда не заикались бы о том, что дома нелады, идет война, жена, неряшливая и страшная, как черная осенняя ночь, в которой кружат хороводы ведьм, одерживает в кухонных баталиях верх, дети потихоньку употребляют травку, колются и вовсю хлещут водку, «Столичную» пьют, как воду, на работе приходится приворовывать, чтобы свести концы с концами, и как об обычном говорят об интиме – кто с кем переспал, какие последствия от этого поимел и, конечно же, сыплют налево-направо анекдотами. Чем грязнее анекдот – тем лучше. – Тут я один анекдотец недавно услышал, очень славный, – сказал новый знакомый Высторобца, – про нынешних богатых людей, которые в зубах ковыряют рыбьими костями, сделанными из золота, – привыкли к рыбьим костям и никак не могут от старых привычек отделаться. – «Нью рашенз». – Да-да. Приходит один такой «нью рашен» к стоматологу, открывает рот, а у него все зубы из чистого золота самой высокой пробы, ни одного незолотого нет. «Да у вас тут все в порядке, лечить нечего», – сказал ему стоматолог. «А я и не хочу лечить. Мне сигнализацию поставить надо». Высторобец рассмеялся. Из вежливости. Анекдот ему не понравился. Да что анекдот – это мелочь, чепуха по сравнению с жизнью. А в жизни «новые русские» бриллианты готовы не только в зубы, как африканские аборигены, вставлять, не только в уши, часы, браслеты, подлокотники сидений в автомобилях, авторучки и пепельницы, – готовы вставлять их даже в нос, в глаза, в череп, в задницу, чтобы похвастаться в бане. Да стараются подобрать «брюлики» посверкучее, подороже, чтобы издали было видно и все обратили внимание. А некоторые начали в сортир ходить со стодолларовыми кредитками. Бумага, говорят, качественная, и еще, говорят, приятно с мордой американского президента собственную задницу знакомить. – У тебя, афганец, любимая женщина есть? – на «ты», разворачивая разговор в другую сторону, спросил Скобликов: ему вообще, как успел подметить Высторобец, была присуща манера внезапных переключений с одного на другое, крутых поворотов – только что говорил об одном, неожиданно остановился, сощурился хитро, словно разглядел в собеседнике нечто такое, что не поддается анализу, расшифровке и вообще является тайной, о которой никому нельзя сообщать, сделал паузу, словно передвигал стрелки на старом рельсовом пути и теперь решил направить поезд вместе с усталым локомотивом по другой колее. – Есть, – не стал отрицать Высторобец. – В нашей жизни, когда, куда ни глянь – всюду черные цветы, должны же быть светлые пятна… Это и есть наши любимые. – И у меня есть, – внезапно дрогнувшим помягчевшим голосомсообщил Скобликов, лицо его сделалось по-детски сосредоточенным, мечтательным, в глазах запалилось жадное пламя, – только очень уж крутая – муж у нее такой величественный, из «нью рашенз», а она вся в мужа… Но настоящая. Настоящая! Не женщина, а поэма Сергея Александровича Есенина. Хочешь, фото покажу! – Надо ли? – усомнился Высторобец. – Надо, Федя, надо, она стоит того, – Скобликов запустил руку во внутренний карман пиджака, достал оттуда фотокарточку, поднес к лицу и звучно чмокнул. – Не женщина, а богиня! Тебя ведь Володей зовут? – Владимиром Владимировичем. – Двойной тезка Маяковского. А тот не дурак был по женской части. Смотри, какая это великая женщина! – он протянул снимок Высторобцу. – Поэма! Высторобец взял небольшой, отливающий цветным глянцем плотный прямоугольник бумаги в руки и чуть не вздрогнул, у него неприятно заломило ключицы и на лбу появился пот. Он проверил свое лицо – все ли в нем в порядке? – нет, ничего вроде бы не изменилось, как улыбался он, так и продолжает улыбаться, хотя в глазах, может быть, промелькнуло незнакомое изумленное выражение. Высторобец внимательно посмотрел на собеседника: заметил тот что-нибудь или нет? Похоже, пронесло. Скобликов восхищенно прищелкнул языком и показал глазами на фотокарточку: – Нет, ты только погляди, какая женщина! С фотографии на Высторобца смотрела Ирина Белозерцева. – Хороша, – наконец справившись с собой, а точнее – со своей речью, произнес Высторобец. – Действительно удивительная женщина! – Он не врал, поскольку не единожды сопровождал шефа вместе с супругой на разные презентации и прочие увеселительные мероприятия и относился к ней именно как к удивительной женщине. – Я до сих пор не могу поверить, что знаком с ней, – Скобликов снова чмокнул фотокарточку. – А какова она в постели-и-и… О-о, афганец, если расскажу – не поверишь. Райское наслаждение, как в рекламе «Баунти». Ни с чем не сравнимо. Высторобец поежился, словно почувствовал опасность: иногда возникает такое ощущение – вроде бы все тихо, ничто не угрожает, а тело само чувствует опасность, угадывает возможную боль, слышит свист пули. Такое с Высторобцем не раз бывало в Афганистане. И тем не менее он одолел себя – словно бы перепрыгнул через некий заборчик, благополучно приземлился, спросил спокойным недрогнувшим голосом: – Ну, и какова же она в постели? Лицо у Скобликова сделалось мечтательным, тающим, он вновь чмокнул фотокарточку и бережно спрятал в карман, сухо щелкнул там чем-то – то ли кошельком, то ли жесткими корками удостоверения. – Это словами невозможно передать – слов не хватит. Это можно, наверное, только показывать в кино. Язык кино, он гораздо убедительнее любого другого языка. – И что, вы считаете, это можно снять в кино? – осторожно спросил Высторобец. – Еще как можно! И не просто снять, а получить «Оскара». – Не понял, – Высторобец красноречиво помотал головой, словно бы хотел вытряхнуть услышанное из ушей. – А тут и понимать нечего. Надо ставить камеру в потайном углу и снимать ролик. Про то, как мы с ней… – Скобликов выразительно похлопал по карману, где была спрятана фотокарточка, – все действо. А потом за большие деньги показывать где-нибудь в Саудовской Аравии. Или в Арабских Эмиратах. – Что, так сильно нужны деньги? – Нужны. У Высторобца никак не укладывалось в голове то, что он слышал. А с другой стороны, раз на него налетела такая дичь – надо стрелять. Охота есть охота. – А как же… как ее муж? – Высторобец невольно помял пальцами воздух. – Он же крутой, он обо всем узнает. Да и потом… это же неприлично – Неприлично? – Скобликов фыркнул. – Во всем мире прилично, а у нас неприлично. Не страна, а сплошной синий чулок. Все прилично! Да потом ты сейчас хороший жест сделал, – Скобликов, повторяя жест Высторобца, помял пальцами воздух – изящно, вкусно. И вообще жесты у него обладали одним качеством – они были вкусными. – За эту пленку можно получить такие деньги, такие деньги!.. Никакой муж, в общем, не будет нужен. Подумаешь, муж объелся груш! А с другой стороны… – Скобликов неожиданно умолк и сделался задумчивым. По-детски выпятил губы, подвигал ими из стороны в сторону. – С другой стороны, ты, афганец, возможно, и прав, – он стал называть Высторобца на «ты» постоянно, Высторобец в ответ только усмехнулся: этот парень, похоже, относится к нему, как господин к своему лакею. Ну что ж, может быть, так оно и лучше. – То, что приемлемо для операторши бензоколонки, совсем неприемлемо для королевы… Хоть и засомневался сосед по пивному столику, а лицо его говорило, что он и минуты сомневаться не будет, если показать ему бумажку достоинством в десять долларов, он проглотит эту «зелень», будто голодный пескарь крючок с желанной наживкой. – Но кино снять все-таки хочется, – подначил его Высторобец. – Хочется, – не стал скрывать Скобликов, часто, как-то по-утиному покивал головой. – И заработать хочется, – раскинул руки, извиняясь: – Все мы грешные. Все мы смертные… – Кино можно снять, – сказал Высторобец. – Только не на всю планету, а для двоих – для тебя и для меня. И при этом, – он знакомо помял пальцами воздух, – состричь малость купонов. Немного, но купоны будут, – он доверительно понизил голос: – У меня шеф – импотент, пересмотрел все эротические фильмы, они на него совсем не действуют: Запад – это не Россия, он хочет чего-нибудь очень российского – и чтобы баба стонала по-российски, и чтобы мужик кончал, как истинный россиянин – это на него подействует. Думаю, что за съемку он хорошо заплатит. – Тысячу баксов даст? – Даст, – немного поколебавшись, ответил Высторобец. – Только это… скажи, твоя партнерша будет знать о съемке? – А зачем? Не думаю, что ей надо об этом знать, – Скобликов вновь по-ребячьи вытянул губы, рот у него сделался некрасивым, щучьим, подергал их пальцами, словно собирался что-то выдоить. Высторобец ощутил в себе гадливость, подумал с невольной горечью: «И что Белозерцева нашла в этом сверчке? Слизняк, улитка, кузнечик! Жалко шефа – рогат он, как северный олень. И то с нами делают женщины! Охо-хо!» А Скобликов тем временем продолжил: – Нет, говорить не надо. – И я так думаю, – одобрил Скобликова Высторобец. – Ну что, хлопнем еще по паре кружек пива? – Лучше по паре бокалов. – Пусть будет так, раз кружек нету. Но я люблю из кружек. Из кружек пьется вкуснее, да и традиция в России – кружечная! – А на Западе – бокальная. Я же человек западный, – Скобликов легко, как-то безмятежно рассмеялся – его совершенно не беспокоили вещи, которые беспокоили Высторобца, они словно бы были выходцами с разных планет, Скобликов и Высторобец, и Высторобец почувствовал подкатившую к горлу горечь. «Может, не надо… съемок этих, может, не надо? – заколебавшись, спросил он самого себя, покосился на розового, сытого, довольного собой, жизнью своей, холодным пивом, любовницей, собственной персоной Скобликова и ответил, больше уже не колеблясь: – Надо!» Вот так и родилась кассета, которую Высторобец, спасая себя, преподнес Белозерцеву, – и сейчас ему было тошно от того, что он сделал – внутри, там, где располагается душа и бьется сердце, словно бы нарост грязи образовался, не продраться сквозь него никакому живому ростку – бесполезно. Тысячу долларов Олежка за съемку получил, дело свое сделал, деньги положил в карман и был счастлив. Куда он их дел – Высторобца это не касалось… Где сейчас мог находиться этот красавец-сладкоежка? «Красавьец!» В мастерской, дома, у друзей за столом, у какой-нибудь бэ? Что он сейчас делает: со вкусом поедает кровяной бифштекс или торгуется с путаной, пробуя сбить цену за услуги? Пока ясно одно – он находится в Москве. Поразмышляв немного, Высторобец поехал к Олежке в мастерскую, время сейчас – стыковое, день состыковывается с вечером, вполне возможно, что Скобликов еще скребет карандашом по бумаге, изображая очередную «вещь» – творения его Высторобец считал бездарными и относился к ним соответственно, хотя в искусстве не разбирался и мог чего-нибудь напутать, очередной «изм» принять за творческое бесплодие. Ехать к красавчику домой было опасно: тот жил в квартире с такими дырявыми стенками, что каждый пук звучал, будто ружейный выстрел. И что же тут говорить о выстреле настоящем? Он поехал на «Октябрьское Поле». Там, в сорока шагах от метро, в доме, где располагался овощной магазин, красавчик-сладкоежка имел мастерскую. «Погорелую» – с копотью на стенах и пороховыми разводами на потолке, но и в такой мастерской, как справедливо полагал Олежка, что-то было – этакий мужественный шарм. Вход в мастерскую, как, собственно, и во всякий подвал, был отдельным, из маленького предподъездного тамбурка, вместо окон были две небольшие зарешеченные щели, которые Скобликов специально огородил, вставил стекла – из вентиляционных дыр получились окошки. Стекла, конечно, хлипенькие, решетки – еще более хлипкие, их можно сковырнуть пальцем, – впрочем, все, что делал этот красавчик, было ненадежным, хлипким… И что же все-таки в нем нашла Ирина Белозерцева? Неисповедимы пути измены, загадочна женская душа… Конечно, и эти стены, а особенно эти стекла звук не удержат, выстрел кое-кто услышит, но у Высторобца не было выхода. Он присел на уголок старой ободранной скамейки, стоявшей под деревом. Во дворе колготилось много народа и это было на руку. К заднему входу в овощной магазин подъехали две грузовые машины, одна привезла помидоры в ящиках и бутылки ядовито-оранжевой, вредной для всякого нормального желудка «фанты», другая – яблоки и бананы в картонных коробках, украшенных броскими надписями «Эквадор». Было шумно. Вверху, в листве, пронзительно орали воробьи. Какая-то бабка с прямым гренадерским станом и усатым лицом выгуливала беспородную собаку – дворнягу с унылой заспанной мордой. Грузчики весело хватали коробки с бананами, гикали и с кавалерийской лихостью волокли их в чрево магазина. Два карапуза, одетых в одинаковые малиновые курточки – формой своей они словно бы были приобщены к некому таинственному братству, – сосредоточенно ковырялись в горке свежего песка, что-то строили. Все были заняты своими делами и никого не касалось, что делают другие. Высторобец поднялся. Нельзя было ничего упускать из виду, ни одну мелочь, и вообще, надо было засекать не только предметы, но даже запахи. Он вошел в предподъездный тамбур, неряшливый, испещренный, словно уборная, надписями. Слева находилась дверь с кодовым замком – вход в жилой подъезд, справа – железный прямоугольник с привинченной болтами железной ручкой – вход в мастерскую Скобликова. Высторобец надавил на выпуклую черную пуговку звонка, вытянул голову, стараясь услышать ржавый застойный звук. Нет, слышно ничего не было. Высторобец удовлетворенно наклонил голову и нажал на кнопку вторично. Олега Скобликова в мастерской не было. Высторобец неторопливо поковырялся в заднем кармане брюк, достал несколько тонких, зубчатых, с разными бородками пластинок, сунул одну из них в дверь, нервно вскинулся: показалось, что в подъезде по лестнице кто-то спускается. Нет, никого, это ему показалось – в подъезде было тихо, лишь с улицы доносилось лихое гиканье грузчиков. Он надавил на пластинку, чуть подвернул ее, проверил, есть ли захват, просунул дальше – у Скобликова стоял довольно примитивный замок тьмутараканского или курятниковского производства, где изделия клепают прямо на обеденных столах, нисколько не беспокоясь о том, что их продукция никогда не сможет конкурировать со шведскими и американскими замками, – и через минуту открыл дверь. По обшарпанной бетонной лестнице Высторобец спустился в подвал. Тут было темно, свет через скудные зарешеченные щели пробивался едва-едва, сочился слабой гнилой струйкой, растворялся на полпути, и то, что находилось под ногами, не было дано увидеть, пахло гарью, сигарным дымом, одеколоном и масляными красками. «Запах искусства, – Высторобец невольно улыбнулся, – только тот ли это запах?» На широком, с прочными, добротно сработанными лапами мольберте стоял холст, на котором была нарисована женщина – Скобликов сделал заготовку для живописного подмалевка, Высторобец, щурясь, попытался разобрать: не Белозерцева ли Ирина это изображена? Нет, не Белозерцева, на угольном рисунке была изображена девочка с тонкой цыплячьей шеей и большими, какими-то уж очень невыразительными глазами – видать, Скобликов не справился с задачей, не сумел передать живой взгляд этой цыпушки, – грудка у модели была крохотной, с крупными, как пальцы, дерзко стоящими сосками. «На соски эти красавьец наш клюнул, на соски». Высторобец сел на тахту, развязал коробку, достал из нее один пистолет – увесистый, с тяжелой ручкой, протер его бумагой, выбил наружу обойму. Проверил ее, пальцем прижал пружину и загнал в железный пенал два новеньких, нарядно, будто игрушки, поблескивающих патрона. Вставил обойму в рукоять. Потом передернул затвор, послал один патрон, верхний в обойме, в ствол. Вот и все, оружие к «бою» готово. Высторобец положил пистолет рядом с собой, достал из куртки перчатки, натянул их на руки и, подтащив к себе старый плед, валявшийся тут же, на тахте, тщательно протер им пистолет, глянул на него сквозь жиденькую сукровицу света, льющуюся в мастерскую через потолочные цели – нет ли где следов? Впрочем, он мог и не смотреть – следов не было, свою работу Высторобец знал, и чего-чего, а отпечатков на оружии, которое потом попадало в милицию, не оставлял. Внутри было гадостно, пусто, и легче ему вряд ли будет, такой уж выдался день 20 сентября, среда, почти «очко» вроде бы – 20, а день не соответствует «очку»: сплошные проигрыши и ни одного выигрыша. Высторобец закрыл коробку со вторым пистолетом, снова обвязал бечевкой и, прислушиваясь к звукам, доносящимся с улицы, стал ждать.
20 сентября, среда, 18 час. 00 мин. Белозерцев, оставив машину около «Макдональдса» на платной стоянке, охраняемой двумя молодыми, коротко остриженными «быками» в пятнистой форме, с американскими резиновыми дубинками в руках, сказал водителю Боре: – Машину не покидай, жди меня здесь! Боря вытянул из-под сиденья короткоствольный десантный автомат, от которого запахло боевым металлом и масляной смазкой: – Может, возьмете, Вячеслав Юрьевич? В портфель, он как раз в «дипломат» входит. – Не надо. Около «Макдональдса» было полно людей. «И чего толпятся? – Белозерцев неприязненно посмотрел на колготящуюся очередь, увернулся от крепкоскулого грудастого паренька, прокладывающего себе дорогу с выставленными в боксерской позе кулаками, не очень удачно обошел бомжа, от которого воняло калом – притерся к нему боком и наверняка подхватил пару вшей, но Белозерцеву было не до огорчений. – И чего хорошего находят люди в этой третьеразрядной забегаловке? То, что она американская?» Брезгливо обошел кучу свежего лошадиного помета, наваленного прямо на тротуар – на конях гарцевала муниципальная милиция, это их след, пахнущий «сельским хозяйством» из-под хвоста, – в общем-то, это обычный сортирный аромат, который отбивает всякую охоту к умиленным вскрикам и целованию лошадок, до чего очень уж охочими стали разные мокрицы из «новых русских». Белозерцев прибавил шагу. Время поджимало. Почти бегом спустился в шумный переход, забитый продавцами газет и всякими кумушками, торгующими носками, сосисками, кефиром, бюстгалтерами, губной помадой, воблой, прочим товаром, протиснулся сквозь толпу и словно бы свежего воздуха глотнул, когда снова очутился на поверхности. Открыл по-рыбьи рот – он задыхался, ему не хватало кислорода. Правы японцы, которые в центре перенаселенного Токио ставят автоматы с кислородом – сунул в щель автомата монетку в сто йен, глотнул «свежанинки» и, взбодренный, помчался дальше – и сердце уже, глядишь, не так загнанно бьется, и в ушах звон угас, и пота на физиономии поубавилось. Неплохо бы и в Москве установить такие автоматы. Как колонки бензозаправки. А что, надо подумать. В будущем этот бизнес очень прибыльным может оказаться. Цепко, быстро, стараясь схватить все сразу, Белозерцев глянул влево, глянул вправо – не видать ли откормленных парней с бугристыми, коротко остриженными затылками – Костиковых похитителей? Белозерцев считал, что они должны быть именно такими – амбалами с короткой стрижкой, их можно засечь издали, да и форму эти ребята обычно носят приметную, как муниципальная милиция: шелковые спортивные штаны, украшенные цветными прямоугольными нашлепками, яркие футболки, кожаные куртки, как пилоты Второй мировой войны, и фальшивые «адидасы» – белые кроссовки… Нет, парней этих не было видно. Ни слева, ни справа. И сзади тоже не было видно – никто не подпирал его из галдящего подземного тоннеля, никто не дышал водкой в затылок. Белозерцев сморщился, у него заныло сердце: неужели обманули либо что-то произошло с Костиком? Костика могли пришибить рукояткой пистолета, просто кулаком, удавить в назидание Белозерцеву. За то, что он, например, позвонил в милицию. Такая история произошла в Грузии: там удавленного ребенка сбросили из проезжающей машины прямо под ноги родителям, которые понадеялись на помощь милиции, – или что там в Грузии ныне есть вместо милиции? – полиция? – а полиция оказалась бессильной. С Костиком могли сделать что-нибудь еще. Ноги у Белозерцева ослабли, стали ватными, согнулись в коленях, поступь превратилась в старческую. Оставалось одно – ждать. Пять минут ждать, десять, пятнадцать, тридцать минут… сколько нужно, столько и ждать. Он подошел к стеклянной двери метро, заглянул через стекло внутрь. Около пункта обмена валюты стояли три девчонки – очень разные и одновременно очень похожие друг на друга. Белозерцев не сразу понял, что это путаны. «Прости меня, Господи», как в старину звали проституток. Все трое повернулись к Белозерцеву, внимательно оглядели его и приветливо улыбнулись. Улыбка их была общей, дежурной, словно бы одна на всех, зубы безукоризненными, хотя и испачканными губной помадой. Около аптечного киоска, расположенного напротив обменного пункта, стоял темнолицый, арабского типа человек в толстом, с ватными плечами; пиджаке – сутенер. Белозерцев сплюнул под ноги и отвернулся: противно было смотреть на его смуглую сладковатую физиономию. Сутенер покосился на Белозерцева и тоже отвернулся с презрительным выражением лица: не клиент. Клиентов он чувствовал нюхом, носом-шнобелем, корнями волос, мигом определял, на какую сумму – в долларах – одет человек и что водится у него в бумажнике. Отогнув рукав, Белозерцев глянул на свой титановый «роллекс» – прошло уже пять минут, а от похитителей – ни привета, ни ответа. Они что, прощупывают его, изучают, один он пришел или в сопровождении группы милиционеров? Огляделся, стараясь не пропускать ни одного человека, и не обнаружил никого, кто мог бы пасти его. Да и вряд ли генерал Зверев будет пускать по следам Белозерцева своих людей – он уже расписался в собственной слабости, в бессилии милиции. Если только после драки решил пару раз взмахнуть кулаками? К человеку с арабским лицом подошли двое, в одинаковых зеленых пиджаках и черных брюках, с бритыми складчатыми затылками – Белозерцев вначале подумал, что это и есть похитители, но потом понял – провинциальные миллиардеры, привыкшие есть черную икру не ложками – поварешками, зачерпывать ее из таза стеклянными поллитровыми банками и «культурственно» стряхивать в рот – очень уж отъевшиеся это были ребята. Оба сунули арабу задаток – Белозерцев успел засечь долларовые бумажки, – один выбрал белесую длинноволосую девицу, другой – крашеную шатенку. Обе девушки были одинаково тонконоги, на вихляющихся каблуках, с яркими ртами и рано развитой грудью. «Десятиклассницы, – невольно отметил Белозерцев. – Таким еще в школе арифметику с родной речью зубрить надо, учиться правописанию, а они… Ну чего они подкладываются под прыщавых провинциалов?» Качки-провинциалы были низшим слоем «нью рашенз», различимым невооруженным глазом. Несмотря на свои миллиарды. Высший слой не будет одеваться, как этот: ребята наряжены в одинаково дорогие безвкусные костюмы, которые можно купить в любом магазине от ЦУМа до «Весны» – столичные пижоны от них уже давно воротят нос, а у многочисленных боевиков, охранников и рэкетиров есть своя форма. Он надавил себе пальцами на кадык, словно бы хотел перекрыть дыхание – вторично показалось, что его обманули. Костика убили, а его обманули. Он ощутил, как у него сами по себе, произвольно, затряслись губы, Белозерцев сморгнул слезу с глаз – пробила такая острая обида, что хоть со светом белым прощайся: он кругом обойден, он везде остался в проигрыше. За Белозерцевым в этот миг наблюдали примерно пять пар глаз: милицейская группа во главе с майором Родиным, тройка чекистов, которыми руководил плечистый, с жестким лицом и седыми висками человек, назвавшийся Никитиным, но Никитин из него был, как из Родина Джавахарлал Неру, – Никитин был чистокровным азиатом, узбеком либо казахом. Наблюдал и Деверь, вместе с Клопом приехавший на свидание. Свой обновленный «жигуль» популярного цвета «коррида» они поставили у старого здания «Известий», ближе к кинотеатру «Россия». Клоп восхищенно потыкал машину ботинком в колесо, произнес громко: – А! Ни одна зараза в мире ведь не узнает, что этот аппарат утром побывал в деле. Деверь сжал глаза в уничтожающие щелочки, будто сквозь прицел глянул на Клопа, оглянулся с опаской: – А ты, дур-рак, тише говорить можешь? – Собственно, что особенного я сказал? Я про аппарат искусственной почки, который утром видел в деле и собираюсь купить тестю, а ты про что? – Дважды дур-рак, – прошипел Деверь, правая щека у него задергалась. Они прошли к памятнику Пушкину, сели на красный каменный парапет спиной к «Известиям». Клоп стремительно оглянулся, дохнул Деверю на ухо: – Пришел. Стоит. Он! Я его точно сфотографировал… Он! – Один или с компанией? – Пара проституток около него вьется… – Они-то и могут оказаться ментами, лейтенантами в юбках. Давай-ка смотаемся на противоположную сторону улицы, к «Наташе». По запруженному народом проходу одолели Тверскую, шуганули какую-то бабку, торгующую плавленными сырками – пищей для алкашей, бедная старуха сделалась свекольно-красной, видать, от испуга зашлось сердце, – остановились около «Наташи» под троллейбусным грибком. Вгляделись в сгорбленную фигуру, застывшую около стеклянного входа в метро. – Постарел, гад, – отметил Клоп, – не нравится ему все, что с ним происходит. А истина проста, как круговорот соплей в природе: не грабь людей, не присваивай себе то, что принадлежит другим, не лопайся от жира и спи себе спокойно, дорогой товарищ, никто тебя не тронет. – Видишь хорошо? Точно он? – А кто же еще? – Ладно, – пробормотал Деверь, принимая решение, – пасти клиента вроде бы никто не пасет, ментовка, кажется, на самом деле отшатнулась от него, а он нажимать не стал, послушался нас… Все тип-топ, Клоп, плывем к своему берегу, надо докладывать адмиралу, что фарватер чист, но кое-что может лежать на дне… Через пять минут Белозерцева тронул за руку мальчишка – черноглазый вихрастый цыганенок в замызганном спортивном костюме «Адидас», крупные белые зубы, похожие на саперные лопатки, у него влажно блестели. – Дядя! А, дядь! Белозерцев вздрогнул, стремительно обернулся и, увидев чумазого пацаненка, невольно взялся рукой за сердце: – Чего тебе? – Велено передать, – цыганенок протянул ему ладонь, в которой лежала сложенная в несколько раз бумажка, выдранная из записной книжки, с приклеенной буквицей «я». – Мне? Мне велено? – мгновенно севшим, будто бы проколотым гвоздем, голосом спросил Белозерцев. – Тебе, не ему же, – цыганенок, не глядя, ткнул пальцем в сторону памятника Пушкину. Белозерцев трясущимися пальцами взял записку, хотел развернуть, но его остановил цыганенок. – А это самое, – он звонко пощелкал пальцами – выразительный жест, который не спутаешь ни с каким другим, – гонорар! В кармане брюк Белозерцев нашел смятую кредитку, достал – десять долларов. Конечно, многовато для цыганенка, но ладно – будем считать, что тому подфартило. Цыганенок задорно улыбнулся, блеснул крепкими завидными зубами – проволоку перекусывать можно, – рассмеялся счастливо: – Молодец, дядя, не жмот! – и исчез, словно бы его и не было – даже тени на бетонных плитах не осталось, хотя тень, хитрая бестия, не остается никогда. Белозерцев развернул бумажку, почувствовал, как у него дрогнуло сердце, скакнуло вверх, во рту сделалось сухо – неужели эти суки что-то сделали с Костиком? Печатные буквы, испещрившие бумажку, были мелкими, безликими, хоть и писал их человек, старавшийся, чтобы почерк его не был узнан, а все равно рука выдавала его – мало приходится этому злодею иметь дело с бумагой и ручкой, больше с другими предметами: есть много людей, у которых почерк до самой старости остается детским. Так и этот. Буквы расплывались перед глазами, Белозерцев не сразу разобрал их. «Пройди к памятнику Пушкина. Вторая скамейка слева, в пачке сигарет “Кент” возьми инструкцию». И все – ни подписи, ни… А чего еще надо? Он вскинулся, поискал глазами цыганенка, выкрикнул неверяще, будто выкашлял из себя: – Эй! Ты где? Но цыганенка и след простыл, он, подогретый десятидолларовой банкнотой, набрал вторую космическую скорость и находится сейчас уже где-нибудь около «Маяковской» – следующей станции метро. Где расположена эта скамейка? Слева? Справа? Если встать лицом, скажем, к Тверской улице. А если лицом к памятнику, то все будет наоборот. А вдруг эту сигаретную коробку уже кто-то распотрошил и читает теперь инструкцию, как секретное шпионское донесение. Лицо Белозерцева исказилось, он развернулся и бегом понесся к памятнику Пушкину. У памятника остановился, глянул в бесстрастное чугунное лицо поэта, вспомнил, что в записке есть орфографическая ошибка – не «памятник Пушкина» надо писать, а «памятник Пушкину», протестующе помотал перед собой рукой – еще не хватало на всякую пыль обращать внимание: похитители Оксфорд не кончали… Нет, на какой все-таки стороне должна лежать смятая пачка «Кента» – в том, что пачка будет смята, Белозерцев не сомневался, несмятую пачку сразу поднимет какой-нибудь любопытный бомж или вороватый цыганенок, это похитители явно учитывали, напрасно Белозерцев опасался – слева, если стоять к Пушкину лицом, или слева, если к нему стоять спиной? И тут он увидел пачку – она словно бы сама подползла к нему, к глазам, задавленно всхлипнул, схватил, трясущимися пальцами выскреб оттуда бумажку. Написано теми же буквами, что и цидулька, переданная цыганенком, – печатными, по-детски кривоватыми, заваливающимися то в одну сторону, то в другую. Единственное, что отличало инструкцию от цидули, – написано крупнее. «Завтра в 10.00 утра будь на Боровском шоссе. Поезжай медленно от деревни Ликино к развилке, там направо пойдет дорога на станцию Внуково. Не доезжая 300 метров до развилки, передашь деньги в машину, которая поравняется с тобой. На шофере будет американская кепка с надписью “Кент”. Шофер скажет: “В вашей машине стучит карданный вал”. Это будет пароль. Взамен получишь видеокассету. О, сыне не беспокойся. Если не передашь деньги, обманешь – сына убьем». – Та-ак, – чувствуя, что буквы прыгают у него перед глазами, валятся друг на друга, рушат строчки, пробормотал Белозерцев, – так-так…. Он понимал, что похитители перестраховываются, явно следят за ним, стараются понять, привел он хвост или нет, потому и придумали две ступени записок, не стали ничего говорить по телефону, но должна же быть и третья ступень, конечная… Белозерцев со злостью ударил кулаком о кулак. Люди, находившиеся рядом, невольно обратили на него внимание: сумасшедший! Хотя одет прилично, ни за что не скажешь, что свихнулся. Наверное, он сам виноват в том, что третьей ступени на сегодня не оказалось, сам… Не надо было звонить Звереву. Но кто знал, что эти деятели контролируют телефонную станцию и прослушивают разговоры? Он снова вгляделся в послание, буквы прыгали, как живые, пропадали в мути, застилавшей взор, он поднес записку поближе к глазам. В это время на Белозерцева налетел кто-то взъерошенный, с огромными темными очками, нахлобученными на конец носа – и как только очки эти держались, не слетали с «руля», непонятно, – ударил в плечо, и записка неожиданно выпала у Белозерцева из рук. То ли сама вылетела, то ли ее выбили… – Виноват! – извинился перед Белозерцевым очкастый по-солдатски коротко и неопределенно. – Виноват! Он стремительно нагнулся, поднял с земли записку, ладонью сбил с нее соринки, развернул, протягивая Белозерцеву. – Глядеть надо! – хриплым чужим голосом выкрикнул ему Белозерцев. – Еще раз виноват! – лохматый трогательным движением приложил руку к груди. – Вы правы – загляделся я. На памятник Александру Сергеевичу. Из провинции приехал, из Омска… Сами понимаете, в Москве первый раз, а в первый раз все так интересно, – сожалеющий ток лохматого заставлял верить: первый раз все-таки человек в Москве, варежку распахнул случайно, к столичной толпе непривычен, и Белозерцев оттаял. – Поаккуратнее надо, – пробормотал он, – все же это Москва, так и под машину влететь недолго. – Тысячу раз виноват, – лохматый снова приложил руку к груди, вид у него был расстроенный, тощая гибкая фигурка вызывала жалость, – две тысячи раз виноват. «Что у них в Омске продуктов нет, что ли? Людей не кормят, – невольно подумал Белозерцев, сделал слабое движение рукой, словно бы отпуская грехи, и лохматый вприпрыжку пустился в сторону сгоревшего здания ВТО, в котором когда-то находился любимый Белозерцевым ресторан, – опять полетел, не разбирая дороги…» В человеке этом сейчас даже сам генерал Зверев вряд ли узнал бы майора Родина.
20 сентября, среда, 18 час. 20 мин. Мокрый отпечаток с подложенными вниз несколькими листами бумаги принесли к Звереву, тот, сощурившись сильно, – глаза начали сдавать, слишком много писанины попадает на генеральский стол и все приходится читать, – вгляделся в отпечаток. – Кхе-кхе-кхе… Что, подсушить не могли? – проговорил он недовольно. – Не то я с этим снимком, как журавль с манной кашей, размазанной по тарелке, – хожу рядом с вытянутой шеей, а рассмотреть толком не могу. – Спешили, товарищ генерал, потому отпечаток и не подсушили, – у стола, вытянувшись солдатиком, стоящим на почетном посту, поедал глазами Зверева молодой, с жидкими белесыми усиками старший лейтенант – сотрудник технического отдела. – Новенький, кхе-кхе? – спросил Зверев. – А где Волошин? Кефир в буфете пьет или уже выпил и поскакал домой? – Волошин на телефонной станции. – Как, еще не вернулся, кхе-кхе? – Зверев прекрасно знал, где находится и что делает Волошин, но сдержать брюзжания не мог: брюзжать генералу положено просто по должности, он поднял глаза от снимка и дружески подмигнул старшему лейтенанту: не дрейфь, мол, старый милицейский генерал – не самая важная шишка в здешних коридорах. – Ну что ж, это хорошо, что наш друг получил записочку. – Зверев наклонил голову, прочитал текст записки, сфотографированной Родиным, – кхе-кхе! Осторожничают ребята, нас боятся. И правильно делают. Молодец, Родин, – похвалил он майора, сидевшего здесь же, в кабинете, за приставным столиком, – сфотографировал…. Как удалось? – Ловкость рук, товарищ генерал, и никакого мошенства. – Знаем мы вас, таких шустрых, вы вначале клиента укокошите, а уж потом записочку у него из холодеющей руки выдернете, чтобы сфотографировать, кхе-кхе! – Зверев нагнулся к пульту, щелкнул рычажком, спросил: – Ну что наружка? Засекла клиентов? – К сожалению, нет, товарищ генерал, – послышался в динамике виноватый голос, – слишком сложно было. – Сложно, сложно, кхе-кхе. Вам только зарплату получать несложно, – Зверев ткнул пальцем в рычажок, отключаясь. – Ладно, еще не все потеряно. Завтра в десять узнаем, что за писатели завелись в нашем городе, – повернулся к Родину. – Оперативным группам до восьми ноль-ноль – отбой! А мы с вами, майор, немного у карты помозгуем, поизучаем, что там за развилка, какие звери вокруг водятся и вообще какого цвета трава в том краю? – Может, одну группу оставим, товарищ генерал? А вдруг что-нибудь произойдет? – Ничего не произойдет. Абсолютно ничего. Полный отбой! – генерал неожиданно засмеялся, оттолкнул от себя мокрый фотоснимок записки. – Автомобильные страсти какие-то, словно в романе про железное бытие на резиновом ходу. «В вашей машине стучит карданный вал». А если не стучит?
20 сентября, среда, 18 час. 40 мин. В глухих бетонных отсеках телефонной станции пахло сухой пылью, подгорелой резиной, старой разлагающейся пластмассой, еще чем-то кислым, острым, словно бы неподалеку действительно разлили кислоту либо кто-то повесил сушить прелые портянки. Волошин сидел в уголке отсека на старом пластиковом ящике, слившись с пространством, невидимый и неслышимый, фильтровал звуки, доносящиеся до него: тихую музыку зуммеров, треск блоков, щелканье переключателей, какие-то монотонные хрипы, что доносились из-за панелей; ему казалось, что он находится в чреве странного механического животного, недоброго, но умного, способного существовать без людей. Он следил за этим животным изнутри, а животное, казалось, следило за ним. Афонин страховал его на выходе, Тур же пребывал в свободном полете – важно было, чтобы его видели, чтобы он отмечался в самых разных местах – его должны были засекать те или один из тех, кого сейчас дожидался Волошин. Волошин изучил блоки обслуживания – их называли ступенями, куда входили милицейские телефоны – в частности, телефон Зверева, нашел для себя много интересного. Милицейские телефоны постоянно пасли, и не просто подслушивали, а записывали на пленку, следы подсоединений были хорошо видны, стоило только Волошину осмотреть блок через лупу, а некоторые детали были видны и без лупы. Работали, конечно же, свои, атээсовские, – дядя с улицы, какой-нибудь дворник из Столешникова либо отставник с дубиной, промышляющий на Трубной площади, вряд ли сюда войдут, а если попробуют войти – тысячу раз будут остановлены и полторы тысячи раз им будут скручены руки. Тут не только пропуск нужен, но и допуск, и специальное удостоверение, и вообще бог знает что. Волошин ждал. Он потерял счет времени, когда в неровное убаюкивающее дыхание машины, внутри которой он находился, вкрался посторонний звук – мягкий, шаркающий, осторожно-неспешный. Волошин приготовился: наступает момент, ради которого он сидит в этой консервной банке. Через две минуты в бетонном отсеке появился человек в синем халате, из кармана которого торчали сразу три авторучки, пробник и еще какой-то прибор с посеребренными проводками, вываливающимися наружу, остановился на пороге отсека, словно бы что-то почувствовав, потянул носом, воздух. «Вот животное, – невольно удивился Волошин, – чует меня, явно чует, только понять ничего не может! Кто это? Гуревич, о котором рассказывал Тур, или кто-то еще?» Человек в синем халате внимательно оглядел зал, задумчиво помял пальцами щеку – что-то останавливало его, он чувствовал опасность и хотел понять, откуда она приходит. Волошин замер – неужели этот синий халат и впрямь так чувствителен, что засек его? Если бы была возможность раствориться в воздухе, растаять, будто сахар, стать невидимым, Волошин растворился бы… Но мерное пощелкивание блоков, тихая многослойная песня зуммеров, схожая с полетом; стаи больших шмелей, успокаивали, убаюкивали, у человека в халате оттаяло, сделалось добродушным лицо, и он вошел в зал. Конечно, это мог оказаться и обычный инженер, пришедший проверить аппаратуру – ведь тут наряду с современными квазиэлектронными и электронными блоками стояли еще и старые, времен Русско-японской войны, координатные и даже декадно-саговые, отжившие свое, тысячу раз чиненные-перечиненные блоки, а за этим хозяйством глаз да глаз нужен, но вряд ли бы обыкновенный инженер так вел себя. Да и чутье, оно тоже заставляло Волошина сделать охотничью стойку. Осталось только, чтобы этот человек засветился у милицейского блока. Тогда его можно будет смело брать. Волошин зажал в себе дыхание, он его буквально стиснул зубами, чтобы ничего не вырывалось наружу, собрался в пружину, чтобы в любой миг распрямиться, выпрыгнуть из укрытия, облизал сухие губы. Хотелось пить. От напряжения стало щипать глаза.. Человек в синем халате прошел близко от него, стремительно оглянулся и застыл в позе сторожевой собаки, вытянул голову. Шея у него была жилистой – толстые узловатые борозды напряглись, вздулись, стали похожими на некие веревки, которыми голова этого человека была притянута к туловищу. Рот был маленький, округлый, с пухлыми мальчишескими ямочками в углах, в разъеме губ виднелись мелкие желтоватые зубы. «Никотином подточены, – понял Волошин, – по пачке какой-нибудь заморской пакости высасывает за полдня. Кто это все-таки? Гуревич или кто-то еще?» Человек стоял совсем рядом, до него можно было дотянуться рукой. «Вот чутье! – Волошин не удержался, снова восхищенно покрутил головой. – Неужели рыба сорвется? Стоит возле крючка, принюхивается к червяку, а не трогает. Жрать хочет, но не берет». В нем неожиданно возникло чувство уважения к синему халату – это было профессиональное: не нос имел этот дядя, а миноискатель. Из бокового кармана халата человек достал очки, натянул на лицо и стремительно, уже нигде не задерживаясь, шагнул к милицейскому блоку. «Все, карп открыл пасть, сейчас заглотит червяка». Человек в синем халате небольшой тонкой отверткой быстро освободил шурупы блока, снял крышку, обнажая мудреное, набитое цветными проводками и серебряными пластинами нутро. Положил крышку на пол около ног. Волошин поглядел на дверь – как там Афонин, ловит мух или не ловит? Афонин ничем не выдавал своего присутствия. Когда человек в синем халате забрался в блок, подсоединил к клеммам концы переносной телефонной трубки, имеющей усилитель, Волошин понял: синий халат подсоединился к зверевскому телефону, он ковырялся именно там, и одновременно понял другое: не все милицейские телефоны прослушивает этот человек, и не все подряд пишет – он сидит только на зверевском телефоне. И то лишь потому, что случайно засек разговор со Зверевым Белозерцева. Все, колечко замкнулось. Группа, в которую входит этот деятель, контролирует лишь операцию с Белозерцевым, остальная деятельность милиции их не интересует. «Вот сволочи, куда забрались, – невольно отметил Волошин, – их время наступило, их! Время зубастых волков и худых коров. Но не все еще потеряно, не все-е…» В следующий миг Волошин услышал громкий голос Зверева, тот говорил по телефону с Житной улицей, где располагалось Министерство внутренних дел России, с полковником, которого Волошин знал. «Ну все, – подумал Волошин со злостью, – финита ля комедия», – поднялся. Движение было стремительным, бесшумным, синий халат не засек его, и Волошин окликнул негромко: – Гуревич! – хотя не знал точно, Гуревич это или нет. Человек в синем халате вскинулся, лицо его побледнело, сделалось плоским, каким-то опрокинутым – лица обычно опрокидываются у очень испугавшихся людей, очки тихо сползли с носа – сами по себе, он поспешно подхватил их, сунул в карман, следом сунул отвертку, потом, словно бы вспомнив о чем-то, вытащил отвертку и выставил перед собой, словно оружие. – Вот видите, – синий халат неуверенно, как-то очень бледно улыбнулся, – приходится заниматься ремонтом на ходу. То одно летит, то другое, техника стала никуда не годной, выработала свое. Она еще московского генерал-губернатора в девятьсот пятом году обслуживала. – Вы арестованы, Гуревич! – Как «арестован»? Да вы чего-о? Шутить изволите? – Никак нет, Гуревич, не изволим, – Волошин сделал шаг к синему халату. – Ни розыгрышей, ни шуток – чистая правда. Вот постановление об аресте, – он нащупал в кармане сложенную вчетверо бумажку. – Шутите, шутите, друг мой! Небось пивка захотелось? Хотите пива? Я тут всех угощаю пивом! – М-да, тем и известен! – мрачно проговорил Волошин. – Ну, не только, – Гуревич поднял с пола крышку блока, поставил на место, выругался: – Чертова нахлобучка! – В следующий миг, оттолкнувшись обеими руками от блока, словно гимнаст от стенки, совершил длинный козлиный прыжок в сторону и понесся к двери. Волошин даже малого движения не сделал вслед, посмотрел лишь сожалеюще на этого человека: Гуревич был винтиком, маленьким и слабым, в чьей-то машине, и вот сейчас винтик этот сломался. Интересно, остановится машина или нет? Гуревич в прыжке одолел порог и в следующую секунду заверещал по-заячьи громко, слезно: его сбил с ног Афонин, навалился сверху, заломил руки за спину. Гуревич, ободрав себе лицо о холодный грязный пол, заверещал еще громче. – А ну, тихо! – рявкнул на него Афонин. Гуревич дернулся, ерзнул щекой по бетону, ободрал еще раз и попросил жалобно: – Отпустите! – На кого работаешь, макака? Выкладывай! – Волошин подошел к нему, приподнял голову, глянул в замутненные от страха глаза. – Давай, давай не стесняйся. Раньше надо было стесняться. В ответ Гуревич прохрипел что-то невнятное, широко открыл набитый слюной рот, Волошин увидел большой, покрытый налетом древесного цвета язык, понял, что у Гуревича – больной желудок, только желудочные неполадки делают язык таким «цветным», зубы были съеденные, в частых точках пломб, из рта пахло табаком и гнилью, Волошина невольно передернуло, он отодвинулся чуть от Гуревича, снова тряхнул его за волосы. – Товарищ майор, надо вызывать машину, – сказал Афонин, – чего тут с ним чикаться? – Погоди! – Волошин еще больше приподнял голову Гуревича, глянул ему в глаза, спросил холодно, очень спокойно, в голосе не было ни одной сочувственной нотки: – Хочешь, я сейчас тебе голову об этот бетон расколочу? И всем скажу, что так и было – ты с такой головой родился. Хочешь, нет? Если не хочешь, тогда выкладывай, какому господину служишь. – Волошин сжал волосы на голове Гуревича в комок, натянул их, на лице Гуревича проступили кирпичные сизоватые пятна, и он взвыл. – Говори! – потребовал Волошин. Действовал Волошин так, как обычно действуютмилицейские оперативники: старался выколотить из задержанного хоть какие-то сведения по горячим следам – пока тот, испуганный, в шоке, не соображает, что происходит, может выдать ценную информацию, а дальше он придет в себя, оглянется и начнет врать напропалую, тогда признание из него можно будет выбить только кулаками. – По… по… по… – зачастил Гуревич, сильно заикаясь, изо рта на бетон у него пролилась слюна, и Волошина передернуло от брезгливости – того гляди, этот любитель пива наблюет сейчас на пол, убирать за ним придется. – Ну! – тряхнул Гуревича Волошин. – По… по… – это понятно. А дальше как? – По… по… – Попо – это, повторяю, еще не все, только часть. Попов? Попович? Поповкин? – Волошин невольно отметил, что фамилии в голову лезут все какие-то известные: Попов – изобретатель радио, Попович – космонавт, Поповкин… Тоже что-то было. Писатель, кажется, такой жил на заре туманной юности… – Попандопуло? Попоян? Попоруллин? – каждый раз после каждой фамилии Гуревич дергал головой, будто Волошин всаживал в него по гвоздю – похоже, боялся попадания. – А ты не боись, милый, – посоветовал Волошин Гуревичу, – давай, давай выкладывай! Этот Попо тебя уже никогда не достанет! Неправ был Волошин, и он знал это – деньги достают ныне кого угодно и где угодно – в милиции, в подвалах бывшего КГБ, за пазухой у президента, в Кремле, на Кипре и в Танзании, в тамошней крапиве, куда иной нарушитель закона забирается, чтобы переждать смутное время, а потом воспользоваться нахапанным, – и если кому-то предписывали свернуть набок голову, то голова у того в один прекрасный момент оказывалась свернутой. – Никогда Попо тебя не достанет, – вторично соврал Волошин, заглядывая Гуревичу в замутненные глаза. – А вот пара дырок в твоем глупом черепке запросто может образоваться! – Тут он был прав. – Сечешь или ничего не сечешь? – Волошин вновь с силой сжал волосы у Гуревича, потянул вверх, выдрал клок. Гуревич застонал, изо рта у него вылетел ошметок слюны. – Сейчас я тебе в глотку твой собственный ботинок засуну, чтобы не плевался, – пригрозил Волошин. – Ну, раскололся ты на Попо, давай раскалывайся дальше! Он еще не знал, что Попо, а точнее, По… по… – это Полина Евгеньевна Остапова – фигура приметная, вхожая в высшие милицейские круги, а если бы узнал, то, возможно, и не стал бы выколачивать из бедного Гуревича то, чего тот не хотел сообщать. Это было первое «По», а второе «По» – Келопов, подполковник из Главного управления внутренних дел Москвы, близкий родич человека по кличке Клоп.
20 сентября, среда, 18 час. 45 мин. Высторобец придвинул к себе, огладил его пальцами: к оружию он всегда испытывал нежность – как всякий человек, который привык больше полагаться на патроны, чем на друзей: друзья подводят куда чаще оружия, оружие может дать осечку один раз из пятидесяти, друзья дают осечку через раз. Он приподнял ТТ, пробуя его на вес – хоть и тяжела югославская машинка, а все легче нашей будет. Наши и увесистее – пистолет руку оттягивает вниз гирей, и надежнее сделаны. Хороший пистолет изобрел когда-то товарищ Токарев: из «макарова», из «стечкина» бронежилет вряд ли пробьешь – пуля только вмятину оставляет, еще может оглушить клиента – и все, а «токарев» в бронежилете делает хорошую дыру, потому платные киллеры предпочитают ТТ всем другим пистолетам. Судя по слабенькой вечерней сукровице, льющейся из-под потолка, солнце совсем подкатило к обрези горизонта и собиралось нырнуть в «кровать», чтобы отдохнуть после трудного дня. В мастерской сделалось совсем темно. Когда сидишь в схоронке, в засаде, как здесь, всякое лезет в голову, вся жизнь, бывает, неспешно проходит в памяти: год за годом, кадр за кадром – и детство тут, – какие же без него могут быть воспоминания, и юность с первой любовью – неумелой пухлогубой девчонкой, и первая пуля, просвистевшая около виска и чуть не загнавшая его в землю, – все это было, было, было, и не надо, чтобы эта бывшесть когда-нибудь возвращалась… От воспоминаний Высторобец невольно осунулся, под глазами у него набрякли мешки – что-то неладное происходило с почками, нарушился обмен, полез песок, надо бы наведаться к врачам, но идти к медикам он опасался: найдут какую-нибудь неизлечимую хворь, объявят о ней – и тогда у Высторобца будет одно лечение – пуля в висок, да потом очень уж не хочется сидеть у врача под дверью, ожидая приговора. Такое ожидание хуже смерти, оно старит и сводит на нет даже очень здоровых людей. Вот как состарился Белозерцев, его сегодня даже невозможно было узнать. Хотя состарило его не ожидание медицинского приговора – совсем другое. В мастерской было уже совсем темно, когда в двери послышалось скрежетанье ключа, раздался гулкий удар ноги о листовое железо, которым была обита дверь, на порог упал косой луч электрического света и послышался веселый голос Скобликова – Олежка, как всегда, дурачился, несерьезный человек, – говорил на этот раз с грузинским акцентом: – Захады, гостэм будэш! Такого сюжетного поворота Высторобец не ожидал: Скобликов пришел не один, а с каким-то мазилой, таким же, как и он, художником – от слова «худо», – м-да, не ожидал, хотя должен был подготовиться к разным вариантам. «Что ж, придется убирать двоих, хотя и жаль». – Нет, старше, я заходить не буду, я на секунду, иначе ты знаешь, как бывает – заходишь на две минуты чашку чаялынить, а задерживаешься на два дня. И выпиваешь не чашку чая, а три литра водки. Потом целую неделю приходится голову поправлять. Все это нам хорошо известно… – Ну, это осталось в прошлом, когда мы были неотразимыми бабниками и лихими выпивохами: садились за стол с девочками в субботу утром, а выбирались из-за стола лишь в пятницу вечером. – Да, и недели как ни бывало! – охотно подхватил гость звонким голосом. На шее у него, как и у Скобликова, болтался бант. «Баба! – брезгливо подумал Высторобец. – Похож на куклу. Но если уйдет – будет лучше. Хоть и баба, а все равно жаль убивать». – Так, чего тебе дать? – Скобликов щелкнул выключателем, движения его сделались озабоченными, суетливыми. – Две картонки грунтованные размером тридцать на сорок пять, три тюбика белил, один – кадмия лимонного, два – краплака и два – ультрамарина. – Только с отдачей! – брюзгливо предупредил Скобликов. – Олежка, мог бы и не напоминать – как договорились, так и будет. Я всегда отдаю долги. Поковырявшись в ящике, Олежка нашел для гостя несколько тюбиков краски, сунул ему в руки, потом из стопки картонок изъял две, ловко перехватил в углах прозрачной лентой, чтобы картонки не разъезжались. – Держи. А то у меня времени в обрез – мне еще к визиту прекрасной дамы надо приготовиться, – сказал Олежка и азартным движением потер руки, – фрукты нужно помыть, лед к шампанскому достать из морозилки… Хочешь – оставайся! Я сегодня утром хороший гонорар сгреб, в «зелени», – не удержался он, похвалился. – Фью-ють! – восхищенно присвистнул приятель. – За что же? – Картину продал… дамочке одной. Не бог весть что за картина, но дамочке понравилась. Муж у нее из богатых кабанов, денег куры не клюют, сорит «зелеными» направо-налево. «Уж не Ирина ли Константиновна? – Высторобец сжал зубы. – А кабан – это Белозерцев». Высторобец уже слышал, что кабанами в Москве стали звать «новых русских», и снова искренне пожалел Белозерцева. Несмотря ни на что – ни на собственное унижение, когда он, стоя в кабинете Белозерцева, буквально раздевался перед ним, вылезал не только из одежды, но и из кожи, а тот сек его нещадно, размазывал, как манную кашу, не жалея слов, не сдерживая себя, хотя мог, обязан был сдержаться, мог не опускаться до избиения, но Белозерцев опустился, словно бы получал от этого внутреннее удовлетворение… Белозерцев знал, что у Высторобца нет выхода – если он уйдет из «Белфаста», то без рекомендательного письма и устного «одобрям-с» никогда никуда не устроится, – он должен работать на Белозерцева, он прикован к нему цепью, словно раб… – А веревки у тебя, Олежка, нету? – спросил гость. – Боюсь, картон по дороге растеряю. – Я же скрепил его скотчем, – недовольно проговорил Олег. – Подожди, сейчас посмотрю, – он подошел к дивану, на котором всего три минуты назад сидел Высторобец, кряхтя, заглянул под него, потом пошарил рукой по полу, ничего не нашел, с брезгливым видом стряхнул с пальцев пыль, заглянул за ширму. – Нет, старик, ни хвоста, ни конца, ни шнурка, ни бечевки от зонтика. Если бы у меня была москательная лавка – явно нашел бы! Через минуту гость ушел, – Олежка перед уходом еще раз предложил ему остаться, но тот предпочел откланяться и уйти, – Олежка запер за ним дверь, проворно выскочил на середину мастерской, выдвинул из угла тяжелый деревянный мольберт, предназначенный для «крупномасштабных» полотен, установил на него готовый холст, укрепил верхний край старинным дубовым винтом-зажимом, каким, наверное, пользовались еще Левитан с Репиным, откинулся назад, похмыкал довольно, разглядывая полотно. Хотя на холсте ничего особенного изображено не было – обычный натюрморт: бутылка темного стекла, тарелка с грушами, отдельно – снизка бананов и две стопки на высоких ножках – этакий намек, что предстоит выпивка для двоих: для него и для нее. Сейчас тоже предстояла выпивка на двоих. Неспешно выбравшись из укрытия, Высторобец кашлянул. Олежка вытянул голову, стремительно повернулся, лицо у него сделалось восковым, мертвым. – Что? Кто это? Вы-ы? – протянул он неверяще. – Я, – подтвердил Высторобец, – я. А вы кого ждете, сударь? – Как вы попали в мастерскую? – Через дверь, как и все. – Разве я вас сюда впускал? – выражение глаз у Олежки Скобликова стало озадаченным – хоть и испугался он Высторобца, но не настолько, чтобы трястись, как осиновый лист, губы поехали в сторону в неуверенной улыбке. – Впускал, – сказал Высторобец, – собственноручно! Так кто ожидается в гости? Ирина Константиновна? – Оставим это! – резко оборвал его Олежка. – Что, у шефа-импотента появились лишние деньги? Скопилась очередная тысяча «зеленых», чтобы снять новый фильм? Я готов! – Олежка вскинул голову. «Дурак, – с сожалением подумал Высторобец. – Такой дурак, что даже на конкурсе дураков первое место взять не сможет. Только второе. И насчет гонорара я прав – он взял деньги у жены Белозерцева. Явно утром, еще до похищения сына. Муж уехал на работу, а она шлифовкой его рогов занялась – любовничка к себе пригласила», – Высторобец неожиданно восхитился смелостью этой женщины: ведь в любую минуту могла погореть… Но нет! – Работа есть, – устало проговорил Высторобец, – только другая – покойничка сыграть. До Олежки смысл сказанного не дошел. Он весело подмигнул Высторобцу. – И оплата хорошая? – Металл, во всяком случае, качественный. – Золото, платина? – Свинец. – Шутить изволите? – Увы, нет, – Высторобец выразительно покачал головой, вздохнул и достал ТТ, который он засунул за ремень, едва Олежка начал скрести ключом в замочной скважине, звучно дунул в ствол, – я не шучу… – он усмехнулся, – и не изволю. Лицо Олежки стремительно потяжелело, глаза заплыли слезами. – Нет, – все поняв, тихо произнес он, – нет! Возьми все, что хочешь, только не это… не надо! – Олежка умоляюще поглядел на пистолет. – Ну, пожалуйста! У меня есть доллары, есть золотые украшения – все отдам! – он медленно опустился на колени и, пачкая брюки о грязный пол, пополз к Высторобцу. – Если бы это зависело от меня, – проговорил Высторобец печально, отодвинулся от Олежки. – Я выполняю приказ. И шансов выжить у вас, старина, ни одного. – Нет! – Не бойтесь, больно не будет, смерть безболезненная и мгновенная. Еще Иоанн Златоуст учил людей не бояться смерти. – Но я-то… я-то тут при чем? – Я же сказал: это не моя воля. У меня – приказ. Всхлипнув, Олежка снова пополз на коленях к Высторобцу. – Давай тогда подъедем… – в горле у него что-то булькнуло, зашипело, Олежка сглотнул звук, – подъедем к тому, кто отдал приказ, а? И все уладим, а? Я заплачу, хорошо заплачу… Долларами! – Вряд ли уладим, – качнул головой Высторобец: ему было жаль этого раздавленного, пустого и, в общем-то, безобидного человека, которого Белозерцев никогда не видел, но тем не менее подвел черту под его жизнью, но сделать для Олежки Высторобец ничего не мог. Он мог только одно: оттянуть момент, когда в лоб тому должна влепиться горячая свинцовая плошка – мог дать Олежке несколько минут передышки, больше ничего не мог – и щедро дарил Скобликову эти минуты. С другой стороны, вряд ли это было благом: страх через несколько минут превратит Скобликова в ничто, да и сам Высторобец тоже превратится в ничто – ведь он имеет такую же душу, как и этот герой-любовник, и так же страдает. Проще стрелять сразу, чтобы не видеть слез, не слышать кашля, не лицезреть всю эту блевотину, – перед смертью клиента всегда выворачивает наизнанку. – Уладим, уладим… – убежденно забормотал Олежка, приподнимаясь с коленей на ноги, – я заплачу. – Не уладим. Знаешь, кто приказал тебя убить? – Кто? – Белозерцев. Вячеслав Юрьевич Белозерцев. – М-муж? Муж, этой? – Олежка снова хлопнулся на колени, всхлипнул тонко, обреченно. – В-вот рогатая скотина! Бы-ык! Вздохнув, Высторобец поднял пистолет. Что-то он очень квел сегодня, не в форме – и все потому, что его выбил из колеи Белозерцев, – и пытается он забраться в свою таратайку. Вскочить в нее на ходу, но ничего у Высторобца не получается. Нельзя тянуть с этим, никак нельзя, а он тянет. Но вряд ли бы Высторобец стал тянуть, если бы Олежка обрел способность защищаться, схватился бы за стул, за нож, обрушил бы на Высторобца мольберт или постарался выбить из его руки ТТ – тогда бы у Высторобца разом бы оказались развязанными руки, и он, не задумываясь, поставил бы печать на Олежкином лбу, но Олежка раскис, он молил Высторобца, он был готов слюнявить ботинки, грызть пол, лишь бы Высторобец оставил его в живых. А оставить Олежку в живых Высторобец не мог – при таком развитии «сюжета» Высторобец сам оказывается в положении Олежки и по приказу Белозерцева тогда уже не Олежке, а ему вышибут мозги. Тут два пути: либо-либо, – только два, третьего пути нет. Тяжело стрелять в раскисшего человека, для этого надо иметь натуру палача, человека без нервов, а Высторобец ее не имел. – Ну схвати какой-нибудь молоток, лом, доску, ножку от табурета, кинься на меня – мне тогда стрелять легче будет! – неожиданно взмолился Высторобец, продолжая отступать от ползущего Олежки. Олежка крутил головой, выл, размазывал кулаками слезы по лицу, тело его пробивала крупная дрожь. Высторобец сделал еще несколько шагов назад и остановился. Покривившись лицом, чувствуя, что внутри у него тоже все дрожит, трясется – вот-вот откажет что-нибудь, сказал себе: «Все! Дальше пятиться нельзя». Хуже всего – ковыряться в себе, в своем тряпье и в тряпье посторонних людей, в гнилье чужих решений, в том помете, что оставляют после себя «новые русские». Высторобец почувствовал, что у него перекосилось лицо, он со свистом втянул в себя воздух, задержал внутри дыхание и прицелился Олежке в голову. Олежка неожиданно пружинисто вскочил с пола, прыгнул в сторону, к стене, оттолкнулся от нее ногой, чтобы на лету навалиться на Высторобца, сбить его с ног, выколотить из руки ТТ, выкрикнул что-то бессвязное, сиплое, и у Высторобца мигом отлегло на душе. Он словно бы отпущение грехов получил. Олежка взвыл, на лету выбросил перед собой руки, намереваясь схватить Высторобца за горло, Высторобец качнулся чуть вправо, пропуская Олежку. Олежка со всего маху врезался в кучу какого-то художественного хлама, взбил столб пыли, снова рванулся к Высторобцу, и тот спокойно, даже не думая о том, что делает – это произошло автоматически, – нажал на спусковой крючок. Раздался гулкий сырой выстрел, на Олежкином лбу образовалось круглое кровяное пятно, он остановился – пуля не отбила его назад, как это бывает с людьми, попавшими под близкий выстрел, а только остановила, рот его распахнулся широко, безвольно, словно пуля перебила какой-то сцеп, изо рта вывалился язык, и Олежка рухнул к ногам Высторобца, не достав до него немного – буквально нескольких сантиметров. Изящная, с длинными пальцами Олежкина рука впилась ногтями в пол, с хрустом сломала их, вцепилась в гильзу, выбитую отбойником из пистолета, сплющила ее. Олежка был мертв, а рука его все еще жила и будет жить несколько минут, пока в жилах ее, в артериях не остановится кровь. Высторобец подивился силе мертвого человека: парень был не геркулесовского сложения, такие редко с обычными скрепками справляются, не то что с патронами, а тут попалась прочная гильза – и сплющил ее, словно бумажный стаканчик из-под мороженого, – Прости меня, – сказал Высторобец мертвому Олежке и выстрелил в него еще раз. В голову. Контрольный выстрел был обязателен, это входило в правила игры, в которую Высторобец должен был играть. Хотя и не под свою, а под чужую дуду: ведь если Олежка хотя бы на секунду восстанет из небытия, Высторобец также не будет жить. Впрочем, вполне возможно, что Белозерцеву тоже не жить: под шумок с ним попытается свести счеты кто-нибудь из деловых партнеров. Он сдернул у Олежки с шеи платок, протер им пистолет, бросил платок на пол, сверху положил ТТ, подумал, что получился хороший натюрморт и, постояв с полминуты у двери, послушав лестницу, дом – не взбудоражили ли кого два гулких хлопка, раздавшихся в подвале, и убедившись, что жильцам все равно, есть жизнь в их подвале или нет, покинул мастерскую.
20 сентября, среда, 19 час. 00 мин. Когда Белозерцев подъехал к «Пекину», Пусечка был уже там – расхаживал около двери с букетом белых роз, крепко зажатым в правой руке. Джентльмен в Пусечке сидел крепко, раз он не пожалел бешеных денег, чтобы купить такие цветы. Одет Пусечка был, как манекен на витрине «Ле Монти», – во все новое, тщательно отглаженное: клубный костюм его был безукоризнен – синий пиджак отутюжен, ни одной морщинки, в нагрудном кармане пышным бутоном распустился платок, подобранный в цвет галстуку, стрелки на брюках были словно бы отбиты по линейке. – Молодец! – одобрительно заметил Белозерцев. – Выглядишь, как английский барон. Я искал тебя, искал в офисе, хотел забрать и приехать сюда с тобой, а ты вона – дома, оказывается, марафет наводил. – М-да-с, – нехотя отозвался Пусечка. – Вот на что ты используешь дорогое рабочее время, – Белозерцев дружески, словно бы заигрывая, толкнул Пусечку локтем в бок. Огляделся: Вики еще не было. – Почем товар? – он щелкнул пальцем по руке, в которой Пусечка держал розы. – Признайся, ползарплаты ведь отвалил? Пусечка скромно потупил глаза. – Ага, значит, за ценой мы не стоим! – громко произнес Белозерцев, и Пусечка от этих слов невольно вздрогнул – он вообще не любил громкие речи, всякий шум, гром небесный с дождем – всему предпочитал тихость, бушующему ливню – шуршащий мелкий дождь, справедливо полагая, что ливень сносит все на своем пути, а после пылевидных дождиков на земле ничего не бывает, кроме грибов, которые Пусечка обожал. – Молодец! Придется выписать тебе премию, – сказал Белозерцев, – за то, что ты один из нас двоих оказался джентльменом. Несколько оживившись, Пусечка согласно склонил голову. – Благодарю, ты очень добр ко мне, – пробормотал он. – Давай цветы сюда, – Белозерцев протянул руку к букету. – Молодец, что купил! На Пусечкином лице возникло что-то протестующее, изо рта сам по себе выдавился неопределенный звук. – Кончай мычать! Давай, родимый, не жмись! Я ведь, ты знаешь, в долгу никогда не остаюсь, – Белозерцев перехватил пальцами букет, выдавил его из пусечкиной руки, понюхал розы. – Вот заразы, ничем не пахнут. – Голландские. – Это еще не оправдание. Скорее наоборот. А красивы, сволочи, невероятно. И кто только такое чудо природы изобрел: среди шипов – нежные, даже дышать опасно, бутоны. Вот тебе и весь покрытый зеленью, абсолютно весь! – Чего-чего? – не понял Пусечка. – Да песня одна, универсальная – на все случаи современной жизни – к чему хочешь, к тому и можно приложить, к политике, к бизнесу, к любви, к ненависти… Редкостная штука, – Белозерцев говорил не останавливаясь, взмахивал свободной рукой перед носом растерянного Пусечки, во второй крепко держал букет. Был он бледен, кожа на щеках ввалилась, словно бы всосалась в подскулья. И вообще Белозерцев сейчас выглядел старше своих лет. «Начинающий старик, – неожиданно мелькнуло в голове у Пусечки. – А ведь это, ей-ей, так и есть – начинающий старик. Очень хороший образ». Неожиданно Белозерцев закончил говорить, словно бы в нем отключился блок питания либо вообще сгорели провода, звук пропал, и он вяло помахал рукой, словно ощутил неудобство за свою речь. – Слушай, старик, сколько ты отдал за это сено? – он приподнял букет роз. – Пятьдесят долларов: – На тебе сто – и мы квиты. – Он запустил руку в карман пиджака, не глядя, достал несколько кредиток, не считая, сунул Пусечке, сказал: —Тут больше ста долларов. Пусечка, так же не считая, опустил деньги в свой карман. – Спасибо! – Поглядел на часы: – Уже пять минут восьмого. – Прекрасные дамы тем и прекрасны, что умеют опаздывать. Это целое искусство – опаздывать. Опаздывать на три минуты, опаздывать на пять минут, на восемь или десять – у каждой дамы свой тариф: зависит от того, на сколько она выглядит, – Белозерцев поднял указательный палец. – Не «насколько», а «на сколько», – голосом он подчеркнул разницу между этими словами. – Век живи – век учись, – пробормотал Пусечка. Дверь приоткрылась, в щель с почтительным видом выглянул швейцар, расшитый золотом, важный, как начальник генерального штаба какой-нибудь крупной банановой страны: – Вячеслав Юрьевич, что же вы не заходите? Стол уже ждет вас, накрыт-с! – Подожди, мой милый, подожди! – отмахнулся от него Белозерцев. – Разве ты не видишь – ждем… – Ждем-с! – подобострастным эхом отозвался швейцар и исчез за дверью. В следующий миг на его месте оказался ослепительно выбритый, безукоризненно причесанный, благоухающий – это чувствовалось даже на расстоянии – человек в дорогом, яркого брусничного цвета костюме – это был сам… Сам мэтр, распорядитель столиков и блюд «Пекина» – он лично вышел на площадку перед дверью ресторана и широко раскинул руки: – Вячеслав Юрьевич, дорогой! – Жан Семенович! Давненько не встречались! – Я как узнал, что вы будете, специально попридержал кое-чего для вас, – он подошел к Белозерцеву, поздоровался за руку, на Пусечку же не обратил внимания. – Первое – уточку по-пекински, свежайшую, не нашего, не здешнего приготовления, а тамошнюю – прямо из Китая получили самолетом, второе – заставил шеф-повара сварить черепаховый суп со старой крымской мадерой, в межблюдье будет предложен плавниковый супец, акулий, наш фирменный, к которому у вас, Вячеслав Юрьевич, никогда не было претензий, третье – есть иранская икра, экологически чистая, английская поставка, засолена на «голубой гранатке»… Знаете, что такое «голубая гранатка»? А, Вячеслав Юрьевич? – благоухающий мэтр, словно учитель на экзаменах, оценивающе сощурил один глаз: ответит Белозерцев на вопрос, который ставит в тупик всех знаменитых московских гурманов или нет? – Соль голубого цвета, взятая с большой глубины, – та, которой икру совершенно невозможно пересолить. Правильно? – Так точно! – Жан Семенович невольно зааплодировал. – Ладно, Жан Семенович, чего похваляться – лучше ставь все на стол. Все, что есть. И шампанское, шампанское… Какое ты там для меня приберег? «Мадам Клико», «Редерер»? – Две бутылочки «Редерера» числятся в заначке, обе стоят в холодильнике. – Жан, они мои! Запиши их за мной! В это время из-за угла вышла Виолетта, в строгом костюме из бежевого шелка, почти без украшений, только на шее поблескивала тоненькая золотая цепочка. Ее туфли и сумка точно совпадали своим цветом с цветом шелка. Впечатление она производила ошеломляющее. Жан Семенович споткнулся на полуслове, от изумления у него даже задрожал подбородок, а Пусечка… Пусечка неожиданно сделался ниже ростом, увял, превращаясь в какое-то мелкое растение – на Пусечку навалился шок. Белозерцев стремительными шагами двинулся навстречу Виолетте, держа перед собой розы, словно ружье… Через несколько минут они уже сидели за столом. Вика критически оглядела Пусечку, губы у нее насмешливо дрогнули, она склонилась к Белозерцеву, спросила тихо: – А это что за… суслик? Неужто тот самый? – Тот самый, – Белозерцев мог ответить уклончиво, но он не стал лгать – когда пытаешься что-то скрыть, это «что-то» обязательно возвращается: вранье возвращается враньем, издевка издевкой, смех смехом, правда правдой – плата за содеянное никогда не меняется, и вообще есть люди, есть силы, которые за всем этим внимательно следят, сидя там, наверху. Вранье имеет еще одну плохую особенность – о нем забываешь, а забыв, никогда уже не повторишь то, что сказал. – Ну, Белозерцев! – растроенно качнула головой Вика. – Я понимаю, я все понимаю… Как выразился один современник: «Нет слов – душат слезы!» Извини меня, но никакого сводничества не будет, я его взял только потому, чтобы сказать тебе: я был неправ. Не я сводник, сводником будет этот… Как ты сказала? Этот суслик… – То есть? – На всяком сватовстве нужны кумы, дружки, шаферы… как они еще там величаются? Так вот, считай, что этот парень и есть шафер. – Ничего не понимаю, – проговорила Вика прежним, едва слышимым голосом и, не стесняясь ни Пусечки, ни официанта, стоявшего около их столика, как часовой на посту номер один подле мавзолея, коснулась губами его уха, – совершенно ничего не понимаю. Единственное, что могу сказать – мне этого суслика не надо. – Не суслика – Пусечки. – Все равно. – Давай вначале выпьем шампанского, а потом я тебе все объясню, – Белозерцев потянулся рукой за шампанским, стоявшим в серебряном ведерке, но возникший, словно бы из-под земли, Жан Семенович перехватил бутылку. – Позвольте, позвольте, – Жан Семенович ловко раскрутил уздечку, почти бесшумно – хлопок был слабый, едва-едва слышимый, – открыл. – Сами российские цари предпочитали шампанское производства великого Луи Редерера, – Жан Семенович виртуозно, не обронив на стол ни одной капли, разлил напиток, – и пили его только из хрустальных бокалов. Пить из стекла было запрещено. – Энциклопедист! – похвалил Белозерцев Жана Семеновича. – Почитываем кое-какую литературу, почитываем-с, – наклонил голову польщенный Жан Семенович. – И модное «Спуманте», производимое из бананов, за шампанское не считаем. И не держим-с. Шипучка – это шипучка, а шампанское – это шампанское. Прошу! – Жан Семенович поставил бутылку в ведерко со спекшимся сухим льдом, отступил назад. – Прошу! – Ну, Жан, ну, виртуоз! – пробормотал растроганный Белозерцев. По его виду нельзя было понять, что у него случилась большая беда, в душе пусто и холодно, внутри носится ледяной ветер, морозит слезы, – он подготовился к этой встрече, он одолел самого себя, пережил и все телефонные звонки, и «подарок» Высторобца, и то, что его предают друзья – взять, например, любимого «парного» генерала Зверева, отказавшегося ему помочь… «Все познается в беде… В биде», – не удержавшись, усмехнулся он, взял узкий длинный бокал с изящной ножкой, потянулся к Вике, стукнул ребрышком о ее бокал. К Пусечке даже не повернулся. Пусечка для него словно бы не существовал. – Знаешь, Вика, я очень многое пережил за эти несколько часов… – Знаю, – отозвалась Вика, и он, поняв все, улыбнулся ей благодарно, сделал нежный кивок. – Я постарел на несколько лет, я понял то, чего не понимал никогда. И вообще, Вика, как сказал один поэт, «пока на грудь, и холодно и душно, не ляжет смерть, как женщина в пальто», мы суетимся, суетимся… А чего суетиться-то? Мы – никто! Знаешь, чьи это стихи? – неожиданно перескочил он с одного на другое, замер на секунду – он не ожидал ответа и хотел говорить дальше, но Вика ответила: – Бальмонта. – Нет. Был один талантливый поэт-эмигрант. Покончил с собой, или с ним покончили – этого не знает никто. Очень уж любил писать о женщинах и смерти – это был его конек. Однажды он заявил, что есть нечто большее, чем смерть, хотя выше смерти не может стоять ничто. И что же это? Прекрасное чувство, которое испытывает мужчина к женщине и женщина к мужчине… Мое чувство, Вика, к тебе. Я женюсь на тебе, Вика, я – не он, – проговорил Белозерцев быстро, не глядя в сторону Пусечки. – Неожиданный поворот событий. Вот так литературное произведение, – изумленно вздрогнув, произнесла Вика. – Совершенно новый сюжетный ход! – Вот именно. Жан! – позвал Белозерцев. – Я здесь, – исчезнувший на несколько минут метрдотель вытаял словно бы из ничего, – как джинн из воздуха, отряхнул на себе форменный пиджак. – Ты ангел, Жан. Налей себе шампанского и выпей с нами. Для этого есть повод – я женюсь! Изумленно-восторженное «О-о!» вырвалось у Жана Семеновича, он сделал знак официанту, дежурившему у стола, и тот мигом исчез – видно, знал, что надо делать в таких случаях, – в следующий миг Жан Семенович чуть не задохнулся от восторга: – Вячеслав Юрьевич, золотко! – Алмаз! Бриллиант! Изумруд! Не только золотко, – поддержал его Белозерцев. – Не стесняйся в выражениях, Жан, оплачу по высшей ставке. Как ни в одной редакции не платят. Говори! Иэ-эх! Под это громкое, с далекой слезой «Иэ-эх!» метрдотель взял и саданул бокал с шампанским об пол. Воскликнул: – На счастье! – Посуду бьют пустую – не полную, – трезвея, заметил Белозерцев. – Это смотря в какой деревне, Вячеслав Юрьевич, в нашем селе всегда лупили полную. Стакан с водкой либо фужер с вином – чтоб вровень с краями. И об пол! – Жан Семенович пощелкал пальцами. На щелканье явились сразу два официанта с белыми накрахмаленными полотенцами в руках. Жан Семенович показал им на осколки – убрать! Через несколько секунд на полу ничего не было. На смену двум официантам явился третий – с выправкой часового и преданными глазами, знающими только одного хозяина – такие вымуштрованные подчиненные нравились Белозерцеву, хотя в «Белфасте» им нечего было делать. Официант принес поднос, на котором стояло большое серебряное блюдо, с верхом наполненное черной икрой, в икру была воткнута столовая ложка, сработанная из серебра той же пробы, что и блюдо, по обе стороны блюда высились, словно часовые, две бутылки шампанского «Редерер», все та же знаменитая французская фирма. Бутылки украшены тускловатыми старыми этикетками, на этикетках – двуглавый орел и надпись: «Поставщик Двора Его Императорского Величества». Выходит, в заначке у Жана Семеновича имелось кое-что сверх того, что он выставил на стол Белозерцева. – Прошу! – торжественно объявил Жан Семенович, и официант водрузил поднос на стол. – Мам-ма мия! – хлопнул в ладони Белозерцев. У Вики засияли глаза. – Что желаете к икре? – поинтересовался Жан Семенович. – Могу посоветовать: икру хорошо намазывать на теплую шейку омара, есть другой рецепт – класть ее в плод авокадо, в углубление, оставшееся от косточки, можно есть с теплыми перепелиными яйцами – черная икра любит что-нибудь теплое. – Шейка омара… Звучит, как название хорошего зарубежного романа, – сказал Белозерцев. – Мне шейку омара. – Спросил у Вики: – А тебе? – Шейку омара. – А вам? – Жан Семенович склонился к Пусечке. – Я бы тоже… примкнул бы… – пробормотал Пусечка, он чувствовал себя здесь лишним, был ущемлен и, если честно, ему было не до шампанского, в душе что-то надорвалось, и лучшим лекарством для Пусечки были бы две стопки хорошей холодной водки – «Абсолюта» или «Финляндии», он хотел попросить водки, но робко глянул на Вику, в горле у него что-то тоненько пискнуло, щелкнуло, словно там лопнул таракан, мученическая тень поползла у Пусечки по лицу. Он сжал губы. – Итак, три шейки омара, – провозгласил Жан Семенович. – Четыре. – Три шейки омара и один авокадо. Икру я предпочитаю есть с мякотью авокадо – полезно и вкусно, – сказал Жан Семенович. – Понимаю, что в этом нет никакой романтики – икра и мякоть авокадо, но кому что нравится… Вика зааплодировала: – Браво! Жан Семенович снова щелкнул пальцами, и официант исчез. В таких застольях всегда образуется особая атмосфера, в человеке все словно бы ослабевает, появляется ощущение вселенского доверия – он верит всем, и врагам и друзьям, все для него одинаково хороши, в душе рождается тепло. А если рядом еще находится и красивая женщина… Белозерцев влюбленными глазами посмотрел на Вику. – И все-таки вначале шампанское, а икра – потом, – объявил он, поднял свой бокал, поймал глазами свет, идущий от дорогого напитка. – Я объявляю официально и во всеуслышанье, пока в узком кругу, а потом и в широком, что я женюсь на Вике, – он потянулся к ней, Вика подставила щеку, Белозерцев громко чмокнул ее. – Развожусь со своей мадамой – хватит терпеть домашние концерты на исходе двадцатого века, покупаю ей двухкомнатную квартиру, назначаю пенсию, чтобы ни в чем не нуждалась, оставляю у себя сына и женюсь на Вике. – Все, конечно, хорошо, но… – Вика неожиданно сощурилась, приподнялась к кресле. – А моего согласия тебе что… совсем не требуется? – Согласие у тебя я спросил давно, еще четыре года назад. А что, откажешь? – Нет, – Вика улыбнулась и покачала головой. Появился официант с новым подносом. – Фирма успела вовремя, – довольно объявил Жан Семенович. – Вот что значит веников не вяжем! – Он был прав: шейки лангустов надо было сварить, потом остудить, чтобы они были не горячими, а теплыми – в общем, подчиненный Жану Семеновичу повар обладал одним из двух качеств – либо был признанным чемпионом-скоростником в своей области, либо большим хитрецом, что, собственно, на лангустах не отразилось – они, как и икра, были превосходными. Чокнулись. Выпили. – А если я не буду сочетаться с твоей работой – ты допускаешь такую мысль? – Вика умела предугадывать, видеть то, чего не видел и никак не мог учуять, хотя и имел хороший нюх, Белозерцев, – ликующее нежное лицо ее угасло, сделалось задумчивым. – Не понял, – проговорил Белозерцев, опустил руку в карман – там лежал подарок для Вики. – Профессия мужчины – зарабатывать деньги, профессия женщины – тратить их. – А-а-а… хи-хи, – неожиданно захихикал Пусечка, – есть такой анекдот… Армянское радио спрашивают, может ли женщина сделать мужчину миллионером? Армянское радио отвечает: может, если мужчина – миллиардер. Белозерцев даже головы не повернул в сторону Пусечки. Пусечка невольно сжался. – Ну и что? Это же прекрасно! Трать то, что я буду зарабатывать. – Разрешаешь? – Разрешаю. Ну а за то, что ты отказала в моем сватовстве, хотя оно и выглядело, скажем мягко, не таким, каким всегда бывало на Руси, – аванс. Маленький презент, подарок, взятка – как хочешь, так и называй, – Белозерцев вытащил из кармана коробочку, перевязанную плоской блескучей проволочкой, раскрыл, и из коробочки вырвался слепящий луч света – вначале он был зеленым, очень ярким, потом к зелени прибавились карминные тона, затем вплелась фиолетовая нить, следом фиолетовый цвет пробила желтизна… Только один камень на белом свете мог рождать такую радостную игру, так ослеплять, вызывать восторг, онемение – бриллиант. В прорезь бархатной подушечки было вставлено платиновое кольцо, украшенное крупным, редкостной чистоты бриллиантом. Виолетта не сдержалась, неверяще прижала к губам ладонь. – Браво! – тихо проговорил Жан Семенович – камень удивил даже его, старого разбойника и знатока драгоценностей, он оценивающе сощурил глаза. – Браво! Такой подарок требует шампанского. – Снова шампанское! – Пусечка поежился, словно услышал что-то неприличное. На этот раз на него обратили внимание. Белозерцев тоже повернулся к нему, спросил удивленно: – Чего же ты хочешь? – голос у него был негромким, неприятным, каким-то чужим. – Водки хочу, – сказал Пусечка. – Принести водки! – приказал Белозерцев. Жан Семенович привычно щелкнул пальцами, передавая приказ официанту: – Сто пятьдесят холодной! – Нет, водка не должна быть холодной, – капризно произнес Белозерцев. – От холодной водки Пусечка простудится. – Водку подогреть! – внес коррективы в свой приказ Жан Семенович. – Сильно подогреть? – официант не удивился поправке. – Она же превратится в пар. – Не до кипения же, – зашипел на официанта Жан Семенович, – тепленькая должна быть. Как чаек. Чтобы горлу приятно было. Официант наклонил голову, щелкнул каблуками и исчез. – А остальным – шампанское, – увидев, что Пусечка сник, плечи у него обиженно сползли вниз, Белозерцев удовлетворенно кивнул. – Выпьем за женщин, за тех, кто нас любит, – повернулся к Вике, – и прежде всего – за тебя! Ты – та самая чаша, которую нельзя расплескать – ни одной капли не должно упасть на пол, это все равно что расплескать жизнь, – Белозерцев говорил, как ему казалось, усложненно, красиво, но он не видел себя со стороны, не видел, что глаза у Вики сделались строгими и насмешливыми, у Пусечки нервно задергалось одно плечо, а Жан Семенович стал очень скучным – он словно бы попал на лекцию о происхождении жизни на Марсе. А Белозерцев продолжал говорить. Он говорил о том, что женщины – это украшение жизни, это драгоценные камни, которые, как этот бриллиант – Белозерцев ткнул пальцем в сверкающую каплю: алмаза, – должны иметь настоящую оправу, – не медь и не латунь, а чистое золото. Еще лучше – платину, едва он произнес слово «платина», как появился официант с подогретой водкой. Поставил графин перед Пусечкой. – Вы что, издеваетесь надо мной? – Пусечка сморщился, лицо у него сделалось, как у старого лилипута. – Никак нет-с, – бесстрастно возразил официант и наклонил тщательно причесанную голову, прической своей он напоминал Жана Семеновича – тут любили подражать своему начальству, – как велено-с было, так я и поступил. – Принести холодной водки, – потребовал Пусечка. – Холодной водки нет, – прежним бесстрастным, лишенным всяких живых оттенков голосом произнес официант. – Во всем ресторане нет? – Во всем ресторане! – Пусечка, ты что, хочешь мне испортить праздник? – удивленно поинтересовался Белозерцев. – Да катись ты! – Пусечка рывком поднялся из-за стола. Повернулся всем корпусом к официанту. – Ну ты, рожа! Принеси немедленно холодной водки, кому сказано? Белозерцев с удивлением присвистнул, хотел было разозлиться на Пусечку, но злости не было. – Пусечка, я сейчас прикажу, и тебя отнесут в туалет и спустят в унитаз, как блевотину, понял? – сказал он. – Не трогай его! – у Вики натянулся голос. – Разве ты не видишь – он не в себе, с ним что-то происходит! Пусечка вновь подергал одним плечом, левым, словно птица с подрубленным крылом, в следующий миг обмяк и успокоился. Пробурчал, будто обиженный пионер: – Ничего со мною не происходит! Просто я хочу холодной водки. – Странно, в первый раз у меня на плавучем корыте взбунтовался боцман, – произнес Белозерцев удивленно и угрожающе одновременно – он действительно не мог понять, что происходит с Пусечкой, с человеком, которого он мог уничтожить одним плевком, который даже дышать на него боялся, не то чтобы повышать голос. – Хотя все когда-нибудь происходит в первый раз. Ты на кого баллон катишь, Пусечка? На меня? – На тебя, – кивнул Пусечка. – Ладно, – не удержался от вздоха Белозерцев. – Жан Семенович, не в службу, а в дружбу – двести граммов холодной водки… – И лист бумаги, – попросил Пусечка. – И лист бумаги, – Белозерцев хоть и удивился, но тем не менее кивком подтвердил просьбу Пусечки. – Ты все слышал? – спросил Жан Семенович у официанта, приказал с генеральским рыканьем: – Действуй! Потом, чуть наклонившись, поинтересовался у Пусечки: – А бумага зачем? Заедать холодную водку? Пусечка промолчал, на выпад не ответил. Жан Семенович разлил шампанское по бокалам, вежливо чокнулся с Викой: – За вашу красоту, сударыня, пусть она будет вечной, и чтобы ваш султан всегда вас украшал, – Жан Семенович поймал глазами зеленый бриллиантовый лучик, выплеснувшийся из коробочки, повернулся к Белозерцеву, – и чтоб вам, Вячеслав Юрьевич… – Султан, – Белозерцев засмеялся. – Да, султан Вячеслав Юрьевич, чтоб вам всегда было кого украшать. Хоть и рано произносить «горько», но тем не менее пьется что-то очень горько! – он демонстративно отпил немного из бокала, пожаловался: – М-да, шампанское очень вкусное, фирменное, а пьется чего-то не так… Горчит! И черная икра с авокадо не может эту горечь погасить. Белозерцев поднял обе руки – сдаюсь, мол, разбит, как швед под Полтавой, наклонился к Вике, поцеловал ее. – Мало, – с сожалеющим вздохом произнес Жан Семенович. Белозерцев поцеловал Вику еще раз. – Все равно мало! Белозерцев вновь наклонился к Вике, манерно прошептал ей на ухо: «Ты – моя жизнь, сейчас я понял это окончательно. И как я не мог осознать такую простую истину?» Поцеловал ее в третий раз. – Ну вот вроде бы и горечи меньше стало, – объявил Жан Семенович, закусил шампанское икрой – выгреб ложечкой из фиолетовой дольки авокадо желтоватую слабую мякоть, отправил в рот, следом отправил ложку икры. Около стола вновь появился официант с небольшой посудиной для Пусечки – водка на этот раз действительно была холодная, но вот какая штука: посудина оказалась обычной склянкой из-под соевого соуса, с китайскими иероглифами, нанесенными желтой краской. Пусечка все понял, но на лице его не дрогнула ни одна мышца, ни одна жилка, он согласно кивнул, взял с подноса лист бумаги, положил перед собой. Некоторое время вглядывался в него, словно видел там какие-то незримые тайные письмена, потом достал из кармана ручку – обыкновенное шариковое «стило» с надписью «Союз», сделал размашистое движение в воздухе, словно примерялся ручкой к бумаге. «Союз»… Это ведь что-то доперестроечное, сделанное в Ленинграде. Город с несуществующим ныне названием, страна, канувшая в прошлое… Наверное, в этом и был сокрыт весь Пусечка – довольно презентабельный, современный снаружи и допотопный,примитивно-простой, как это «стило», внутри. Быстро, с резким нажимом Пусечка написал несколько строчек, подписался, отодвинул лист от себя. Потом выплеснул шампанское из бокала под стол – Жан Семенович вздрогнул и побледнел: ведь это же благороднейший «Родерер» по сорок девять долларов за бутылку, – налил в освободившийся бокал водки, полностью, до краев, с сожалением посмотрел на посудину из-под соевого соуса – в ней оставалось немного водки, – осушил бокал в несколько крупных глотков. Потом добавил к выпитому то, что оставалось в посудине из-под соуса, выпил прямо из горлышка. Покосился на Вику и произнес глухо, словно бы для самого себя: – Извините! Уж кого-кого, а вас я никак не хотел обидеть! – И всем своим мягким, схожим с пирожком телом повернулся к Жану Семеновичу: – А ты, ресторанное рыло, если еще хоть раз схамишь, не икру будешь есть, а дробь крупного калибра и летать по воздуху с вилкой в заду. Понял, холуй? – Пусечка резко отодвинул от себя стул, тот завалился на перегородку, но Пусечка поправлять его не стал, швырнул на стол салфетку и ушел. – Ничего себе, друг юности, – присвистнул Белозерцев, – я его никогда таким не видел. Вот так дружочек, от юности кружочек! Он перегнулся через стол, взял лист бумаги, на котором Пусечка оставил свой автограф. – Чего он написал? – спросила Вика. – Заявление об уходе.
20 сентября, среда, 20 час. 00 мин. Костик лежал, свернувшись калачиком на кушетке, и плакал. Плакал безудержно – не остановить, горько, будто ему никогда уже не было дано увидеть отца с матерью и вообще выбраться из этого страшного дома. Он трясся всем телом, скулил, пытался забыться, но плач не давал ему забыться, он возникал сам по себе вновь и вновь, перетряхивал в нем все нутро. Костик пробовал закрывать глаза – перед ним сразу же возникало одно и то же видение – огромная морда крысы с красным светящимся взором и лихими гвардейскими усами, какие носили солдаты царских полков, изображенные в красочном альбоме, подаренном Костику отцом. Крыса пугала его, тело обдувало холодом, и Костик плакал еще сильнее. Открывал глаза – крыса исчезала. Зато были видны другие лица, не менее страшные, чем крысиная морда: костлявое, с подвижным, будто у рыбы, ртом и двумя шишками, похожими на рога, вылезающими из волос, – Деверя, золотозубое, мятое, словно старая подушка, – Клопа, бабье, невыразительное, сонное – Медузы. К вечеру в доме появился еще один охранник – прислали на место убитого Хряка, усилив охрану на ночь, – по прозвищу Рокфор – с бритым затылком, задумчивый, с длинным, будто вырезанным из дерева, носом, Буратино, а не Рокфор, с реденькой мохнатостью под носом. Усы у Рокфора не росли, но он почему-то очень хотел, чтобы у него были усы – гусарские, щегольские – а поскольку усы у него никак не хотели расти, то жиденьким своим кустарничком, вспухшим под носом, он напоминал Костику крысу и без закрытых глаз. Костик смотрел на него, видел перед собой страшную крысу и плакал. Рокфор в недоумении подходил к нему, выставлял перед собою два пальца наподобие рогов – раздумывал, ткнуть пащенку этими рогами в глаза или не тыкать, и с сожалеющим видом отходил. У него был наказ, как и у всех остальных – у Деверя, Клопа и Медузы, – с головы этого юного замухрышки не должен упасть ни один волосок. На лбу у Рокфора собиралась лесенка морщин – каждая морщина похожа на ступеньку, пыль можно укладывать, как землю, сажать что-нибудь. Костик плакал, сжимался, стараясь как можно меньше занимать места в пространстве, превратиться в жучка, в таракашку, в маленькую козявку – он очень хотел исчезнуть, скрыться, с глаз этих страшных людей, но у него ничего не получалось; он молил Бога, неведомого доброго дядю, архангелов и ангелов, чтобы они забрали его к себе, но чуда не происходило… Он не понимал, почему эти люди называют друг друга странными кличками, а не по именам… Разве у них нет обыкновенных человеческих имен или хотя бы фамилий? И клички у них какие-то неудобные, отскакивающие от языка – Деверь, Медуза, Рокфор. Одни не сразу выговоришь, другие прилипают, словно жвачка. – Ты можешь заткнуться или нет? – услышал Костик железный голос Деверя. – Если не перестанешь скулить, я тебе в глотку ножку от табурета засуну, ясно? Подумай хорошенько, что лучше – ножка от табурета в глотке или молчание вместо громких соплей? А, арбуз! Костик почувствовал, как в горле у него застряло что-то твердое – то ли слюна, то ли костяшка какая, случайно попавшая, он захлебнулся, дернулся и замер. – Молодец! – похвалил Деверь. – Ты все правильно понял. Минут через двадцать охранники собрались за столом. Из холодильника достали еду, водку, воду в бокастых пластиковых бутылках, из морозилки – лед, – Деверь предпочитал пить водку со льдом, Клоп на этот счет позволил себе ворчание: «Так водку можно в воду, мля, превратить. Дорогой напиток – в пустое пуканье, в пхих», на что Деверь отозвался довольно миролюбиво: «Если понадобится, я лед так жрать буду, я лед люблю!» В доме быстро распространился аппетитный запах. Рокфор обрадованно потер руки: – Йех! Люблю это дело! – Раз любишь, то чего тогда пуза нет? – поинтересовался Клоп. – Не знаю. Ем, ем, а вес не набираю. – Больной, – высказал свою точку зрения Деверь. – У меня сегодня пятьдесят тысяч фальшивыми оказалось, – пожаловался Рокфор. – Покупал ветчину, дал кассирше пятьдесят тысяч, а она сунула деньги в свою машинку и вернула обратно. Фальшбанкнота, говорит. Пришлось дать другую, нефальшь которая… – А фальшивую куда дел? – Пошел в другой магазин, там приняли. – Что пятидесятитысячные – это ерунда, у нас, говорят, фальшивых стодолларовых бумажек полно – каждая пятая фальшивая. В Иране производят. – Одни считают, что в Иране, а другие – в Турции. – Вот американцы и решили новые стодолларовые напечатать. – А в России, я читал, испокон веков, мля, этим баловались, – сказал Клоп. – Чем «этим»? – поинтересовался Деверь. – Называй вещи своими именами. – Ну этим, денежками домашнего производства. В газете одной было написано, что триста с лишним лет назад в России тоже реформа была, как у нас при Гайдаре, и там тоже «эксченчи» для обмена денег появились. Одну большую медяшку меняли на одну малую серебрушку, так наш брат-умелец тут же нашел выход – изладился покрывать медяшки ртутью. – Во рашен-старашен! – не удержавшись, коротко, с металлическим бряцаньем в голосе, захохотал Деверь. – Быстро ребята сообразили. Молотки! А наказание было? – Было. В отличие от нашего царя Стакана там царь посуровее был. Кто в ту пору царствовал? Алексей Михалыч, кажись? – А хрен его знает. – Тех, кого ловили, немедленно волокли на дыбу. Отрубали правую руку, а горло заливали расплавленным свинцом. – Сурово! Когда охранники сели за стол, Костик по тахте подгребся к окну, поднырнул под портьеру, тихо раздвинул металлические пластины жалюзы, вгляделся в улицу – знакомая или нет? Дома, дома, и слева, и справа одинаковые дома, но не такие, как в центре города, дома эти скорее сельские, дачные, одно– и двухэтажные – нет тех высоких, девятиэтажек, что располагаются в центре, в модных московских районах, которыми Костик любовался, проезжая с отцом в машине, – значит он находится в дачном месте. Но в каком, где, как называется это дачное место? Костик вздохнул – не по плечу ему эта задача. В окно было вставлено две рамы, между рамами впаяна железная, покрашенная в белый цвет решетка. Костик прислушался к галдежу, раздающемуся из-за стола, понял, что о нем на время обеда забыли, просунул голову сквозь пластины жалюзи, притиснулся носом к стеклу, не удержался – слезы брызнули на стекло, потекли… «Ма-ма-а, беззвучно стараясь, чтобы его не услышали охранники, плакал Костик, возил носом по стеклу, оставляя мокрые следы. – Па-па-а». Через несколько минут успокоился и, задерживая в себе всхлипы, примерился головой к решетке – пройдет голова или нет? Костику показалось – пройдет. А раз голова пролезет через решетку, то тело вслед за головой протиснется куда угодно, хоть в червячью нору. Осталось дело за малым – расколотить два стекла. Хоть и плакал Костик горько, и страшился крысиной морды, а в слезах кое-что приметил – под тахтой лежал пустой «огнетушитель» – большая бутылка темного стекла, из-под какого-то плохого вина. Костик тихо, стараясь не дышать, нырнул под тахту, достал бутылку, потом снова подлез под портьеру, под жалюзи, примерился бутылкой к стеклу и, заваливаясь спиной назад – он все делал, как опытный взрослый человек, – размахнулся что было мочи и ударил по стеклу. Взрыв стекла оглушил его, некая неведомая сила толкнула Костика назад, он едва удержался на ногах, но все-таки удержался, вскрикнул, хватаясь одной рукой за решетку, и ткнул дном бутылки во второе стекло – то не поддалось, уцелело. Костик ткнул в него еще раз – бесполезно, стекло было сильнее его, и Костик закричал слезно, отчаянно, давясь собственным криком, воздухом, остатками солнца, которые он видел, втиснулся головой в решетку, но до конца не пролез, застрял, закричал еще сильнее. Сзади в него вцепились сразу несколько рук, дернули, у Костика надорвалось ухо, зажатое железным прутом, на подоконник закапала кровь, боль и вид крови оглушили его, Костик захлебнулся в крике и стих…
20 сентября, среда, 20 час. 20 мин. Высторобец сидел на скамейке под деревом и наблюдал за окнами белозерцевской квартиры: он знал, что там могут находиться два охранника – исполнительные, хорошо натасканные братья-близнецы Фомины, Володя и Андрей, – и тот, и другой имели черный пояс по каратэ и были серьезными противниками, надо было выяснить, снял их Белозерцев с поста или не снял? По всем статьям должен был снять, иначе бессмысленно давать задание, которое он дал Высторобцу, ну, а с другой стороны, кто знает, что на уме у этих богатых буратино? Белозерцев способен был иногда почудить, выкинуть коленце. Только для Белозерцева это было именно коленце, обычная прихоть, а для Высторобца – жизнь, Белозерцев не рисковал ничем, а Высторобец рисковал всем. Несколько раз в окне мелькнуло женское лицо, Высторобец его засек, мужское лицо не мелькнуло ни разу. Значит, шеф все-таки снял близнецов Фоминых с поста. Подождав еще немного, Высторобец вошел в подъезд – чистый, без единого пятнеца на каменном полированном полу, пахнущий в отличие от других подъездов заморским одеколоном, у Высторобца от этого духа даже защипало в носу; другие подъезды мышами пахнут, мочой, загажены вонью немытого тела, чего-то трупного, гадостного, оставляемого бомжами, а здесь – одеколон. Обычно в таких подъездах дежурит седенькая бабушка с круглым добрым лицом, с вязаньем или с книгой в натруженных руках, в очках, прикрученных к пучку волос – плотному клубку, свитому на затылке, – ботиночным шнурком, чтобы очки не сваливались, а здесь – ни бабушки, ни пятнистого молодца, – эти бравые ребята, наряженные в камуфляж, в общем-то, такие же безобидные, как и подслеповатые божьи одуванчики, но они начали активно вытеснять бабуль – пусто в подъезде. И чисто. Так чисто, как порой не бывает и у иной хозяйки в доме. По лестнице – лифта он избежал сознательно – Высторобец поднялся на площадку, где была расположена квартира Белозерцева. Постоял, замерев, прислушиваясь к звукам – не донесется ли что из-за громоздкой металлической двери? – но что может донестись из этого сейфа? Тихо. Ничего не было слышно, кроме каких-то посторонних шумов, треска, шорохов, чьих-то далеких голосов, никакого отношения к квартире его шефа не имеющих. День сходил уже на нет, простые обыватели сидели в своих квартирах за чашкой чая, вели невеселые разговоры, некоторые уже пристроились к телевизорам – надо было как-то убить время, за первым днем убить второй, потом третий и четвертый – и так до самой смерти; кое-кто из них звал эту смерть к себе, кое-кто страшился ее, хотя чего страшиться-то? А те, кто побогаче, собирались в валютные кабаки, чтобы покутить там вволю, оставить в ресторанной кассе пятьсот-семьсот долларов. У каждого были свои заботы. Он достал из коробки пистолет, передернул затвор, загоняя патрон из обоймы в ствол, сунул за пазуху, кожей своей, порами ощутил холодную тяжесть оружия. Ботиночную коробку снова перетянул бечевкой, положил у двери так, чтобы она не была видна в глазок, потянулся пальцем к звонку и остановил себя… А вдруг близнецы-чернопоясники, Володька и Андрей, все-таки находятся там? Если они там, то придется убирать и их, хотя парни эти ни в чем не провинились и ничего худого от Высторобца не ожидают. Вот проклятая жизнь, проклятый Белозерцев! Он достал еще один патрон, вытер об одежду, чтобы не было следов, и, зажав полой куртки, загнал в обойму, невесть зачем дунул в ствол ТТ, услышал горьковатый низкий звук, выругал себя – тоже игрок, нашел музыкальный инструмент. Позвонил в дверь. Никто не отозвался. Высторобец поежился от неприятного ощущения, от усталости, оттого, что где-то глубоко внутри у него прогорела плоть, образовалась дыра, есть над чем задуматься, позвонил еще раз. Наконец за дверным монолитом щелкнула задвижка и дверь приоткрылась – Ирина Белозерцева даже не поинтересовалась, кто пожаловал к ней в гости. Высторобец едва сдержал изумление: Ирина Константиновна не была похожа на себя – седые неряшливые пряди волос торчали в разные стороны, глаза размазаны, через всю правую щеку протянулся черный след, сполз на шею, помада на губах тоже была размазана. От Белозерцевой исходил крепкий спиртной дух. – Что же вы даже не интересуетесь, кто звонит? – спросил Высторобец, поймав себя на том, что задает слишком глупый вопрос. Но не спросить он не мог. – А зачем? – Ну мало ли кто может пожаловать? – Вы знаете, сейчас мне это как-то все равно, – она хрипло и горько рассмеялась, резко оборвала смех. – Я сейчас открою дверь любому, кто сюда заявится, – я жду известий о сыне. – Никаких известий нет? – Нет. Я уже все глаза выплакала, ничего не осталось. Теперь вот пополняю запас слез, – только сейчас Высторобец заметил, что в руке у нее находится фужер с золотистой жидкостью и льдом. – Виски, – пояснила Белозерцева и подняла фужер. – Хотите? – А ребята где? Фомины… Володька с Андреем? – Белозерцев отозвал их. – Давно? – Уже порядочно. Часа два, а может, три назад. Не помню точно. Вас Белозерцев прислал? – Да, – Высторобец говорил правду: его прислал Белозерцев. – Проходите, – она посторонилась, пропуская Высторобца в дверь, и, не сдержавшись, всхлипнула, выдавив из себя с трудом: – Ко-остик! – но в следующий миг справилась с собой, вздохнула громко. – Зачем присылать ко мне кого-то… зачем? Не надо мне никого, никакой охраны! Разве Белозерцев этого не понимает? – она снова всхлипнула. – Белозерцев понимает все. – Ничего он не понимает, это вам только кажется, что он все понимает, – произнесла она сварливо, по-бабьи, с бывалой интонацией и, достав откуда-то из-за рукава, похоже, из особого кармашка, платок – смятый шелковый клочок, пропитанный сыростью, – вытерла нос, – ваш Белозерцев… Ваш! «Ой такой же, голубушка, наш, как и ваш», – подумал Высторобец, с неожиданным интересом оглядел Ирину Константиновну: никогда бы не позарился на такую – что-то старческое, подавленное, расплющенное было сокрыто в ней. И на что только клюнул Олежка, оставшийся гнить у себя в подвале? На деньги? На шанс стать вторым Белозерцевым? Еще на что-то? Или же сработала обычная привычка бабника не пропускать мимо себя ни одной юбки, бросаться на все, что шевелится и раздвигает ноги? А с другой стороны, эта Белозерцева совсем не похожа на ту, что запечатлена на видеопленке – молодую, яростную, хищную, красивую. – Не-ет, Вячеслав Юрьевич Белозерцев понимает все, – медленно и тихо проговорил Высторобец. – К сожалению. И знает все. – Все знают только дураки, – голос Ирины Константиновны сделался излишне категоричным. Впрочем, ее можно было понять: она выбита из колеи, вылетела на полном ходу, перед ней померкли все краски. Ирина Константиновна даже не понимала, что говорит. И не знала, что ее ждет. Для этой женщины не существовало градаций: вот это – грубое слово, а это – нежное, это – неприличное, а это можно произносить в любом, самом изысканном, обществе. – Все знают только все, – сказал Высторобец. – Зачем он вас прислал ко мне? Охранять? – Белозерцева, несмотря на душевную квелость, смятость, слезы, старалась держать себя в руках и, хотя у женщин душевное обоняние развито лучше, чем у мужчин, ничего пока не чувствовала. – Нет, не охранять. – Тогда зачем же? – Убить вас. Она приняла эти слова за шутку, захихикала заинтересованно, с пониманием – шутка ей понравилась. – И каким же способом? Защекотать, пристрелить огрызком соленого огурца, облить шампанским и выставить на жару? – Зачем же шампанским, зачем же на жару и зачем на это тратить дорогие соленые огурцы – символ государства Российского? Для этого есть вот что, – Высторобец достал пистолет, тяжелый угрюмый ТТ. Он поймал себя на том, что поведение его неправильное, он действует, будто в одури: ну зачем показывать Ирине Белозерцевой пистолет, когда надо стрелять ей в голову и уходить? Он что, находится во сне, в забытьи? Где угодно, в чем угодно, но никак не в яви. Ну зачем он достал пистолет? Стрелять надо, стрелять! Ирина Константиновна очень спокойно и даже как-то заинтересованно – в глазах у нее появилась хитреца – посмотрела на пистолет, стерла со щеки черный косметический след – почувствовала непорядок в собственной внешности, – спокойно допила виски, лихо поцеловала фужер в донышко – мужской жест, который не может украсить женщину, но ее он украсил – и произнесла недрогнувшим насмешливым голосом: – Что ж, нет ничего более простого, чем умереть. Я готова! – она словно бы забыла про Костика, про собственный недавний плач по сыну и вела сейчас себя, как обычная пьяная баба. – Стреляйте! Ну! Высторобец понял, что он не сможет выстрелить – ему проще выстрелить в самого себя, чем в эту женщину. Он загнал себя в угол, поставил в сложные условия, ему надо сделать невероятное усилие над собой, чтобы нажать на спусковую собачку. Высторобцу разом сделалось жарко, он стер рукой пот со лба. Белозерцева посмотрела на него пристально, с сожалением: – Не можете? – Не могу, – признался Высторобец. – Вы понимаете, мне ничего не стоит умереть, я сегодня слишком многое поняла: вы только избавите меня от мук. Самой же застрелиться – увы, не хватает сил, душевного пороха. Это слишком большой грех, преступление перед Богом, на которое я не пойду. А если вы это сделаете – совершите добрый поступок, избавите меня от мук, от боли. Единственный человек, которого мне жалко, – Костик, – она все-таки вспомнила о сыне. – Но с Костиком все будет в порядке. В чем, в чем, а в этом я уверена… Кто вас послал убить меня? Белозерцев? – Белозерцев, – помедлив – внутри было муторно, происходила борьба, он был недоволен собой, – подтвердил Высторобец. – Не надо было мне вам говорить об этом, но… – Ну почему же! Не сказать – это нечестно. Я готова умереть. Стреляйте только, чтобы я не видела, – в затылок. Не люблю смотреть в зрачок пистолета… Высторобец наконец-то понял: Ирина Белозерцева пьяна настолько, что не соображает, что говорит, – она по-мужски, по-гусарски рисуется перед собой, рисуется перед ним, у нее совершенно нет испуга – лишь муть в размазанных глазах да улыбка на мятых, со следами съеденной помады губах. Она ничего не понимает, ничего не боится. – Но у меня есть просьба. У всякого человека перед смертью есть право на просьбу. Можно? – Можно, – морщась, проговорил Высторобец: ему вновь сделалось не по себе, он разваливался, распадался на глазах и сам же наблюдал за собственным распадом, ему казалось, что у него умирает тело, мышцы начали отслаиваться от костей, все, что находится внутри, отказывается работать, скоро отнимутся руки и ноги. – Ответьте, только честно, не обманывая… Все равно я Никому ничего не скажу и эту тайну унесу с собой, – Ирина Константиновна сделала выразительный жест, взбила пальцами воздух, – сколько вам заплатил Белозерцев? – Нисколько. Это обычное рабочее поручение. – Ничего себе работка у вас! – Ирина Константиновна хмыкнула. – И чем же я прогневала своего мужа? – Вам знаком человек по имени Олег? Олежка… Олег Олегович Скобликов. – Олежка? Конечно, – на лице Ирины Константиновны ничего не отразилось. – Ну вот вам и разгадка. Ваш муж все знает… О вас и об Олежке. Глаза у Ирины Константиновны сделались старыми и очень усталыми. – Интересно, и кто же из его «шестерок» выследил, донес? – Я – эта «шестерка», – признался Высторобец. – Почему сказали ему, а не мне? Я бы вам хорошо заплатила. – Я получаю зарплату у вашего мужа, а не у вас, Ирина Константиновна. Потому и работаю на него… – Из других рук корм не берете? – в голосе Белозерцевой послышалась неприкрытая издевка. – Не беру, Ирина Константиновна. – Вы меня убьете, это мне понятно как божий день, – Белозерцева вздохнула, ее поведение невольно вызывало уважение, даже некое восхищение – пусть баба и пьяна, как сапожник, пусть ни черта не соображает, но как держится, как держится! Ни один человек из известных Высторобцу не держался так, как Ирина Белозерцева. – Но могу ли я перед смертью сделать вам заказ? – Какой? – не удержался от вопроса Высторобец. – Чтобы вы убили Белозерцева. – Ничего себе! – Высторобец поморщился. – А как же Костик, сын ваш? С кем он останется? – Костик не пропадет, не дадут. Да потом Белозерцев не сможет воспитывать его, он женится на этой своей профурсетке, на Виоле, или Виолетте – не хочу знать, как ее зовут… И что ей Костик? Ничто. Ей и Белозерцев – ничто. Все-таки, сколько вам заплатил Белозерцев? Восемь тысяч долларов? Высторобец чуть не вздрогнул: ведь в яблочко попала. – Я же сказал – ничего. Я у Вячеслава Юрьевича Белозерцева нахожусь на службе. – Плачу пятнадцать тысяч долларов – и вы убираете Белозерцева. Поверьте, он не стоит этих денег, раз ничего не понял в этой жизни. И я ничего не поняла. Что же касается того, что… что вы предали меня – я вас прощаю. – Я никогда никого не предавал. – Да ну? – насмешливо повысила голос Ирина Константиновна. – Позвольте вам не поверить. Все вы, мужики, продаетесь за деньги. И чем больше вам платят, тем больше вы продаетесь. У вас нет ни Бога, ни совести, ни партии – ни КПСС, ни… никакой, в общем, партии, даже партии пива – никого и ничего! – она повернулась к зеркалу, увидела себя, страшную, с размазанными глазами, патлатую, постаревшую; нехорошее удивление возникло у нее на лице, рот изогнулся плаксивой скобкой, и в ту же секунду Высторобец, словно бы почувствовав, что ему перестали спутывать руки, выстрелил. Ирина Константиновна повалилась на пол. У нее задергалась одна обнажившаяся до бедра нога, вытянулась, словно она хотела крашеными пальцами достать до Высторобца, лягнуть и замерла – Ирина Белозерцева была мертва. Контрольный выстрел можно было не делать – и так все понятно. Высторобец с шумом вздохнул, покрутил тоскливо головой: а ведь она не верила, что он выстрелит, думала пройти по тонюсенькой проволоке, по лезвию ножа и не завалиться. Она даже не спросила, а произошло ли это с Олежкой или только одна она отвечает за измену. Видать, все это ей было неинтересно – она уже одолела те науки, которые не проходили ни Высторобец, ни Белозерцев. В конце концов он выполнил ее пожелание – стрелял не в глаза, она не видела ствола ТТ, не засекла оранжевую вспышку, ярко окрасившую зрачок пистолета. Высторобец отер пистолет, положил его рядом с покойной и бесшумно выскользнул за дверь квартиры Белозерцева. Он не знал, совершенно не представлял, что делать дальше, – понимал только, что выполнил задание, данное ему Белозерцевым, но ведь кроме задания есть еще что-то… Например, то, о чем просила Ирина Константиновна. Высторобец почувствовал, что он раздваивается… Подхватив пустую обувную коробку, он бесшумными осторожными шагами двинулся вниз по лестнице.
20 сентября, среда, 20 час. 40 мин. Перед Зверевым в его кабинете сидел подполковник Келопов – круглолицый, с лапками морщин, украсившими уголки глаз, добродушный, с плохими, почерневшими у корешков зубами – словно бы когда-то переболел цингой, – совершенно неиспуганный, хотя быть испуганным у него имелись все основания. Напротив Келопова по обратную сторону приставного столика сидел Волошин. Только сейчас Волошин понял, что лицо золотозубого полного человека, которого он видел около дома номер пятнадцать в квадрате Ж-56 или 57, он не помнил числа, и лицо подполковника Келопова – одно и то же, словно бы это были близнецы-братья. Только у того деятеля во рту золота было напихано с перебором, а у Келопова золота нет – сплошь порченые зубы. – Очень интересна мне ваша жизнь, подполковник, – сказал Келопову Зверев, задумчиво побарабанил пальцами по столу – прилипчивое механическое действие, от которого, как от всего лишнего, избавляться очень трудно, не менее трудно, чем от общеизвестного зверевского кхекхеканья. – Кхе-кхе-кхе. До перестройки и после перестройки, а особенно – в перестройку. – Жизнь как жизнь, товарищ генерал, она у всех нас одинаковая: школа, учеба, комсомол, работа. – Одинаковая, да не у всех… Не у всех одинаковая! Из комсомольцев, этих преданных ленинцев, вышли самые матерые разбойники – клейма ставить негде. А вы – комсомол! – Все равно, наше поколение прошло через комсомол и через партию почти целиком. Да не почти, а целиком. – Через огонь, воду и медные трубы. – Зверев словно бы специально не давал говорить Келопову, сбивал его, выводил из себя, Келопов покорно замолкал, вытягивал по-гусиному шею, враз становясь смешным – на тонком непрочном стебле раскачивалась из стороны в сторону тяжелая круглая голова. – И через это тоже, товарищ генерал. – Теперь ответь, Келопов, как на духу, кто тебе дал команду прослушивать разговоры милицейского руководства, верхушки ГУВД, а кхе-кхе? Келопов вздрогнул, отвел взгляд в сторону. – Не могу ответить на этот вопрос, товарищ генерал. – Смотри, Келопов, не ошибись. А то потом поправлять поздно будет. Кто? ФСК… э-э-э, как оно ныне зовется? ФСБ? Прокуратура? Товарищи из Министерства внутренних дел России? Подполковник медленно склонил голову на плечо, взгляд у него сделался отсутствующим. – Не имею права говорить, товарищ генерал. – А брать нас под колпак имеешь право? Ну, Келопов! Хитер, бобер! «Не имею права», – передразнил его Зверев, – я тебя предупредил, Келопов. Пойдешь работать в ФСБ, там выше сержантских лычек тебе не дадут. Так кто тебе, Келопов, дал указание прослушивать разговоры Главного управления внутренних дел города Москвы? Отвечай, Келопов! Келопов ронял голову на плечо, поднимал ее, смотреть старался в сторону – так ему было проще не отвечать на вопросы, – круглое, с внезапно обвисшими серыми брылами лицо его было покрыто потом, он начал бормотать заведенно, словно бы в нем что-то застопорилось, заело, иголка, поставленная на пластинку, не могла сдвинуться с места, выгрызала в крутящейся пластинке борозду – с брачком будет отныне Келопов: – Не имею права… не имею права, не имею права… А в том, что подполковник отныне будет помечен печатью и от него будут шарахаться сотрудники, Зверев не сомневался; даже если кто-то постарается помочь Келопову, начнет выгораживать его, Зверев не даст. – Простите, товарищ генерал, можно ли задать вопрос товарищу подполковнику? – по всей форме обратился Волошин – для него и Зверев, и Келопов были одинаково «товарищами», с Келопова погоны еще никто не снимал, и обращаться по-иному Волошин не имел права. – Задавай, – разрешил Зверев. – Товарищ подполковник, у вас есть брат? – спросил Волошин. Вопрос для подполковника был неожиданным, он вздрогнул, приподнял плечи, словно бы собирался от чего-то защищаться, предупреждающе выставил перед собой руку, глаза у него, как у китайца, втянулись в кожаные мешочки, их не стало видно, одно крыло носа брезгливо приподнялось. Да, у Келопова был брат, которого он не указывал в своих документах, – Володька. По кличке Клоп. Но у него и фамилия была другая, материнская, и прошлое он имел такое, за которое Келопова наверняка погнали бы из органов – слишком много Володька наследил. А так, это был парень как парень – «шебутной, знал кучу анекдотов, лихо водил машину, если бы не уголовные заслуги – был бы известным автогонщиком, – и ныне Володька занимался тем, чем и раньше. Ныне таким ребятам созданы все условия для успешной деятельности. Но не может быть, чтобы Клопа засекли. – Нет, майор, у меня брата, – ответил подполковник Келопов. – Точно нет? – Точно. – Что, майор, имеется информация или родился какой-нибудь план, кхе-кхе? Либо возникли особые соображения? – Зверев задумчиво постучал пальцами по столу. – А? – Разрешите доложить об этом позже. – Разрешите, разрешите… – раздраженно пробормотал генерал. «Ни фига у вас нет, – успокаивая себя, подумал Келопов. – Володьку вы никогда не поймаете, у него прекрасная крыша и высокая государственная защита – Полина. Полинина крыша, пожалуй, повыше будет, чем у этого попугая с лампасами – настоящая генеральская, не с какой-нибудь одной звездочкой на погоне. Даже если меня и выпрут из милиции, я уже никогда не пропаду, не сдохну – титями-митями я обеспечен на всю жизнь». – Не хочешь говорить, Келопов, не надо, – Зверев вздохнул, – передаю тебя коллегам с Лубянки. Он набрал номер вертушки генерал-майора Иванова, и через десять минут машина увезла потного, с замкнувшимся испуганным лицом Келопова в «домик на горке», как называли здание бывшего КГБ. – Ну чего там у тебя было, майор, выкладывай! Что за подозрения? – Зверев приподнял одну бровь – здоровую, мохнатую, как сапожная щетка, мягкую, из-под брови на Волошина глянул молодой и задорный, будто у пионера, глаз. «А он совсем не старый, не такой, каким иногда кажется, – невольно отметил Волошин, – побрить, почистить, прокупоросить – совсем молодой дядек получится, с жениховскими, достоинствами – хоть сейчас сажай на бабу». – Ну! – подогнал Волошина генерал. – Видел я одного великовозрастного качка, охранника, – там, в доме около телефона-автомата в квадрате Жэ, – он как две капли воды похож на Келопова. Ну просто вылитый Келопов! – Это еще ни о чем не говорит. А может, тот, кого ты за качка принимаешь, – обычный огородник, специалист по огуречной рассаде. Или с бывшими пионерами собирает металлолом. Себе на памятник. Планирует на собственной могиле мавзолей отгрохать. Из черного карельского чугуна. И о Келопове слыхом не слыхивал, кхе-кхе, а? – Все допускаю. Но раз возникло сомнение, его надо высказать. – Верно. Задержать бы того качка для проверки документов. – Нет ничего проще. Главное, чтобы он вышел за забор. – Вот именно. А если он не выйдет? Сунуться туда – частная собственность, права человека, интересы хозяина и так далее – весь дерьмом будешь измазан. Подослать участкового? А если там действительно, как мы предполагаем, малина? Парню ухватом проломят голову и спустят в унитаз. М-да. Понапринимали зак-конов, эт-твою! Законодатели! Скоро милиция не то чтобы стрелять из пистолетов – пукать из собственных задниц будет опасаться: а вдруг пук попадет в лавочника, в огородника, в самогонщика и вообще – в частную собственность! Вот времечко наступило! – А что делать? – Что, что… Один пишем, два в уме. Держи этого качка на примете. Скоро все узнаем, все-е-е…
20 сентября, среда, 21 час. 20 мин. Высторобец, проехав несколько остановок на метро, вышел на бывшей площади Дзержинского, мрачно глянул на затененное, без единого светящегося окна здание, потом на гранитный кругляк, оставшийся от памятника первому чекисту, сплюнул себе под ноги и двинулся по молчаливо-гулкой полупустой улице в глубину квартала, в сторону строений бывшего ЦК партии. Пустынно как-то стало в городе в вечерние часы: чуть смеркнется – и люди уже забиваются в свои дома, в квартиры – боятся. Если раньше в городе звучало в год два выстрела и вся московская милиция немедленно переходила на казарменное положение, стараясь отыскать того, кто так необдуманно нажал на пистолетный курок, то сейчас в Москве два выстрела раздаются каждую минуту, и никому до этого нет дела. Он шел по асфальтовому гулкому проулку и слушал свои шаги, звук их был каким-то мокрым, словно он шел по болоту, по воде, как библейский святой. Высторобец искал место, где можно было бы остановиться, присесть, перевести дух. Два трупа за один вечер – дело нешуточное, нужно было отдышаться. Хоть и развелось в последнее время много разных шалманчиков, бистро, баров, ресторанов и вообще обычных забегаловок – все, конечно же, валютные, у всех эксклюзивное право на увеселение клиента, – ан нет, не – то чтобы «эксклюзив», простая пивнушка даже не встречается. Только коммерческие ларьки, заставленные сомнительной выпивкой, с небритыми рожами, настороженно выглядывающими в смотровые – то ли для отпуска товара, то ли для пулемета – бойницы. Эх, была когда-то родная «яма» на Пушкинской улице – милое душе и желудку пивное заведение, – была да сплыла, нет сегодня «ямы». С «ямой» исчезло и прошлое. В пустом проулке, по которому он сейчас шел, остра пахло бензином, дома были угрюмы, как скалы, потертости на стенах казались налетами гнили, плесень – ржавчиной, временами бензиновый дух перебивал запах тлена – в этих домах были сырые подвалы. У двери, над которой горела неоновая вывеска с полуабстрактным изображением, похожим на смятое утюгом сердце, он остановился, нерешительно взялся за витиеватую, начищенную, как труба у музыканта, медную ручку, но дверь открывать не стал – ему непонятно было, что это – ресторан, бардак или танцевальный зал для прыщавых мальчиков, ищущих приключений. Его засекли с той стороны двери – то ли через потайной глазок, то ли телевизионная машинка была вмонтирована под козырек входа, – дверь открылась и на пороге появился щекастый молодец в фирменном бордовом пиджаке с золочеными пуговицами. «Холуй местного значения, вышибала, – определил Высторобец. – Типичный качок. Думает, что он владеет каратэ, а на самом деле умеет лишь давать щелчки в лоб пацанам, которые моют окна автомобилей». – Ну что? – осведомился щекастый. Откормлен он был на славу, как кабан к октябрьским праздникам. – Чего, чего… Да ничего! Знаешь такой анекдот? Пиво холодное есть? – Есть, – несколько опешив от такой речи, ответил вышибала. – Какой марки? – «Будвайзер». – Светлое, темное? – И то, и другое. – Годится, – сказал Высторобец и шагнул вперед, в дверь. Подумал, что если этот щекастый пиджак вздумает задержать его, то лечение этого холуя обойдется владельцу ресторана дороже всей утвари, которой напичкано это помещение. С трех ударов Высторобец переломит пиджаку челюсть – чтобы ел поменьше, отобьет почки – чтобы сортир посещал почаще, и сделает кое-что еще – чтобы за девками не бегал. А то небось всю округу уже перепортил. Хоть и тупой был пиджак, а все понял – наверное, Высторобца выдали глаза, глаза богатого человека, знающего, как надо обращаться с холуями. Красный пиджак, естественно, должен был спросить, есть ли у Высторобца деньги – несмотря на то что у Высторобца глаза богатого человека, а одежда – увы, одежда подкачала, – но вышибала поприкидывал у себя малость в уме различные варианты и не задал своего поганенького вопроса. Если бы задал – Высторобец выколол бы ему глаза. И ни один человек, даже если в охране этого заведения находился Чак Норрис или Жан Клод ван Дамм, не сумел бы задержать его. Наверху, рядом с раздевалкой, располагался буфет – черная стойка, украшенная флажками разных стран – «интернэшнл», значит, зеркала на стене, дорогие напитки – от банановой водки «Кеглевич», «Кампари» и «Баллантайнза» до немецких сладких ликеров, перцового «Абсолюта», мартини и семизвездной греческой «Метаксы». Из буфета вниз, в тускло освещенный красным подвал, вела крутая деревянная лестница с блестящими поручнями. «Бордель, явно бордель, – отметил про себя Высторобец, – красные фонари, девицы в комбинашках, а под комбинашками – ничего, холодное шампанское в ведрах, блуд и крепкий алкоголь». – А внизу что, ресторан? – спросил он громко. – Ресторан, – нехотя ответил качок. Ага, налево, значит, ресторан, направо – бардак. Высторобец пошел налево: хотелось есть, хотелось пить, усталость душила его, ноги гудели – руки были нормальные, хотя и вялые, а ноги гудели тяжело, саднили, словно в них был поражен грибком мозг, либо его вообще выкачали из костей. Ресторан был пустой, только за одним квадратным, на двоих, черным столиком теснилось человек пять громко, голосых иностранцев с высокими узкими бокалами пива в руках. Высторобец сел за один такой столик, под самый светильник, так, чтобы свет бил ему в макушку, а лица не было видно. Голенастая девочка-официантка в черных колготках и черных, очень коротких, больше похожих на женские трусишки шортиках положила перед ним тяжелое, в роскошной шевровой папке меню. – У нас сегодня мало народу, – сказала она – сказала, похоже, лишь для того, чтобы что-то сказать: это было видно и без нее. – А вчера было много, вчера у нас выступали цыгане. «Цыгане. Только этого для полноты счастья не хватало, – угрюмо подумал Высторобец. – Вначале цыгане, конечно же, спели и сыграли на гитаре, станцевали, выполнив полный репертуар, а потом их препроводили на кухню, где пустили на еду: одних на антрекоты, других – на азу с бефстрогановом, третьих – на лягушатину, – он усмехнулся и углубился в меню. – А лягушатину действительно надо заказать, если она тут есть». Лягушатина была, называлась по-куриному окорочками – «окорочка крупных лягушек», так было указано в меню, стоила дорого – двадцать долларов порция, но что такое двадцать «зеленых» после того, когда позади остались два трупа? Ничто, воздух, пустота. В том, что его не найдут, Высторобец не сомневался; нынешней милиции невыгодно искать киллеров – и дорого, и накладно, и опасно. Он заказал себе лягушатину, королевские креветки – крупные, больше смахивающие на раков, чем на тощих усатых тараканов, к которым мы привыкли, – пиво в высоком бокале и текилу – ставшую здесь модной латиноамериканскую самогонку. Не успел он взять лягушачью ножку за сухую, выжаренную до сахарной хрупкости косточку и отпить из бокала немного пива, как перед ним появилась тонкая, как прутинка, с ангельским личиком девушка, призывно моргнула накрашенными ресницами. – Господи, сколько же тебе лет? – изумился Высторобец. – Пятнадцать. – Пятнадцать? Да ты же, девочка, еще указница. Знаешь, что такое указница? – Нет. – Ты явно не из России, – догадался Высторобец. – Откуда? – С Вкраины. – С Вкраины, – передразнил ее Высторобец, ткнул лягушачьей лапкой в стул напротив. – Садись. Нет такой страны – Вкраины. – Есть. Украина называется. – А город какой? – Откуда я приехала? Из Чопа. – Чоп. Окно в Европу, значит, дыра в заднице, – он щелчком подозвал голенастую официантку, которая так же, как и пятнадцатилетняя украинка из Чопа, с интересом поглядывала на него. – Еще порцию текилы, кружку пива, тарелку с прибором и блины с икрой. У вас там есть в меню блины, я видел. Официантка кивнула, сглотнула слюну и ушла. – Как тебя зовут? – спросил у украинки Высторобец. – Оксана. – А живешь где? Он задавал незначительные, неинтересные, совершенно рядовые вопросы – ему нужна была информация, пакет информации, чтобы принять решение: где остановиться на ночь. Дома он не собирался появляться, он чувствовал – может произойти всякое. – Снимаю квартиру. Однокомнатную. – Сама снимаешь или эти вот… – он повел головой в сторону лестницы, – эти носороги? – Сама снимаю, а носорогам плачу за право работать в ресторане. – Пей текилу. Черт, а зачем тут лимон с сахарной пудрой? – Высторобец только сейчас заметил, что на край небольшого винного бокальчика нахлобучен сочный кругляш лимона; а бровка бокала, сам срез, присыпан ровной дорожкой мучнистой сахарной пудры. Оксана захихикала. – Это не сахарная пудра. – А что же? – Соль. Солевая пудра. А пьют текилу с солью так… это очень вкусно, хозяин рецепт привез из Бразилии, – Оксана проворно сдернула лимон с бокальчика, помазала им себе руку – бугор у большого пальца, сам корень, провела по губам, облизнулась, словно юная кошка, лихо опрокинула в себя текилу и губами слизнула с края посуды дорожку солевой пудры. Высторобец одобрительно хмыкнул – каких только диковинок ни бывает на белом свете, неужели это беспородное вонючее пойло можно чем-то облагородить? – повторил все, что сделала Оксана. Действительно, оказалось довольно вкусно. – И сколько ты берешь за ночевку с собой? – Триста долларов. – Недорого. Телефон у тебя на квартире есть? – Есть. – Хочешь еще текилы? – спросил Высторобец, увидев, что к столу идет голенастая официантка с жадными глазами – словно бы на выпивку с закуской напрашивается. А заодно и на постель. – Хочу. Эту девочку зовут Альбиной. – А как она в постели? Небось вертится, как рыба? – Ленивая и холодная. – Альбина, нам еще по текиле, – сказал Высторобец, когда голенастая остановилась около их столика, завидующе глянула на «поле боя», потом, словно бы смирившись с чем-то, покорно кивнула и ушла, дразняще виляя бедрами. Высторобец посмотрел на нее внимательно и усмехнулся про себя: Оксана сказала ему неправду. Если эту девочку, Альбину эту раскочегарить, она такое Бородино может устроить, что… – И заработка хватает? – спросил он у Оксаны. – Хватает. Я даже родителям помогаю. – Как же ты пересылаешь деньги? В Чоп ныне их переслать труднее, чем в Вермонт или в Оклахому. – А у меня родная тетка – материна сестра – проводницей на поезде «Москва – Чоп» ездит, я с ней и передаю. Деньги и продукты. – Классов сколько окончила? – Восемь. «Раньше за восьмиклассницу мужики по пятнадцать летполучали и позор на всю жизнь, а сейчас? Вот времечко наступило! Да в ней, в этой глисте Оксанке еще ничего нет: ни кожи, ни рожи, один пух… Ни удовольствия, но… Впрочем, у Карпентьера один герой получал несказанное удовольствие, одевая проституток под гимназисток и заваливая их в постель. У каждого – свой вкус». Выпили еще по текиле. Высторобец расплатился, встал – усталое медное гудение в ногах прекратилось, чувствовал он себя лучше. – Ну что, Оксана, пошли? – Пошли!
20 сентября, среда, 21 час. 25 мин. – Зря ты с ним так поступил, Вава, – с сожалением произнесла Вика, отпила из крохотной фарфоровой чашки крепкого – очень крепкого, – буквально дерущего горло кофе: после такого напитка можно не спать всю ночь, втянула в себя щекотный дух – кофе здесь умели готовить по-настоящему. – С кем, с ним? – Ну с этим… с женишком. – А, с Пусечкой? С Пусечкой все уладится. Где его заявление? – Под ведром мерзнет, – Вика вытащила из-под серебряного, с холодной изморозью ведерка сложенный вчетверо мокрый лист бумаги, украшенный чернильными разводами. – Исторический документ, – она специально сделала ударение на «у», помахала бумагой в воздухе, – восстановлению, пожалуй, не подлежит. – И не надо. Завтра Пусечка прикатит на работу как ни в чем не бывало. Будет крутить хвостом, словно лиса, и делать вид, что ничего не было. Пусечку я знаю тысячу лет. – А если он не появится? – Могу поспорить, что появится. – Не надо. Не люблю споров. – Ах ты, Вика, Вика, – увлажнившимся голосом произнес Белозерцев и взял ее руку в свою. – Знаешь, что я еще приобрел? – он потянулся к портфелю, ткнул пальцем в несколько крохотных кнопок – кожаный, с твердыми углами портфель раскрылся, – верхняя половинка, будто по движению волшебной палочки, приподнялась сама, нутро у кожаного портфеля было богатое. Белозерцев вытащил из него две коробочки. – Вот. Можешь открыть. Одна коробочка твоя, другая моя. Вика чуть приоткрыла одну коробочку, лицо ее вспыхнуло смугло, она вместе со стулом придвинулась к Белозерцеву. – Ты самый предусмотрительный… нет, ты самый лучший человек на свете, – произнесла она тихо, так, чтобы слышал только Белозерцев и больше никто, – ты это знаешь? – Знаю, – не стал отнекиваться Белозерцев. – А ты можешь сказать это громко, при всех? – Могу. Сказать? – Не надо. – Вообще, я восхищена тобой. Твоей выдержкой, мужеством, – лицо Вики по-прежнему смугло горело, было радостным, хотя сейчас на него словно бы тень наползла – что-то горькое, мимолетное проскользнуло по нему и исчезло. – Все-таки у тебя такая беда… Костик… – Костик… – Белозерцев вскинулся и сник. – Я тут ем, пью, веселюсь, а Костик… – он выдернул из кармана платок, промокнул им глаза. – Костик… Я молю Бога, чтобы с Костиком все было в порядке – пусть лучше со мной что-нибудь произойдет, но не с Костиком. – Не надо ни того, ни другого. В этой истории все должны быть и целы, и сыты. – И овцы, и волки? Так бывает редко. В кино. Дома я боюсь появляться. – Твоя благоверная небось сходит с ума, ревет как белуга… – Поэтому я и не появляюсь дома. – Поехали ночевать ко мне. – Нет, – Белозерцев отвернул обшлаг, глянул на часы, – я и домой не поеду и к тебе, Вика, не поеду… Хотя очень хочется. Я буду ночевать в офисе. – Сурово с собой обходишься. – Жду звонка. – Переведи стрелку, пусть звонят мне домой – ты сам будешь поднимать трубку. Если у тебя есть какие-то производственные секреты, я никому их не выдам. Я вообще мало чего в них смыслю. Даже если буду специально слушать – все равно ничего не запомню. – От тебя, Вика, у меня секретов нет. – Я же не враг тебе, – Вика не удержалась, вздохнула. – Ты – моя жена. – Еще не жена. – В данном случае жена с печатью в паспорте или без пяти минут жена – это одно и то же. С другой стороны, и штамп в паспорте может ничего не значить – люди легко теряют друг друга, – Белозерцев вновь отвернул обшлаг рубашки – наверняка расторопный и исполнительный Высторобец уже звонит ему. Зевнул – хотелось спать.
20 сентября, среда, 21 час. 30 мин. Зверев еще находился у себя в кабинете, морщился недовольно – подташнивало, словно бы он съел что-то нехорошее, до слез саднило горло, настроение было поганое! Подташнивает – это осеннее, уже привычное, у Зверева были нелады с желудком, а желудочники два раза в год, весной и осенью, страдают как великомученики – боли бывают такие, что белый свет делается серым, в чернь, маленьким, словно старая, обкромсанная со всех сторон и здорово съежившаяся от времени овчинка, – у Зверева начиналось осеннее обострение язвы желудка. – Час от часу не легче, – пробормотал он, поискал в столе соду – должна же быть сода, с весны оставалась в пенальчике из-под «упсы» – французского аспирина, и ложечка маленькая, пластмассовая, из аэрофлотовского пакета, была, насколько помнил Зверев, к ней приложена, специально перетянутая резинкой… Но соды в столе не было. Боль сделалась сильнее. Секретарши закончила работу еще три с половиной часа назад и исчезла – нянчить внуков и варить яблочный джем, пока яблоки на лотках дешевые, – в общем, послать за содой некого. Посылать дежурного – значит объяснять, зачем нужна сода, а этого Звереву не хотелось. Он поморщился, посопел раздраженно, потом приложил к животу руку – боль ведь можно заговаривать. И делается это очень просто: кладешь на больное место руку, так, чтобы тепло руки проникало сквозь кожу, и начинаешь шептать разные нежные, трогательно-ласковые слова, успокаивать ее, уговаривать, и боль понемногу отступает, делается все тише и тише… В молодости Зверев с этим изнуряющим желудочным нытьем справлялся очень просто: когда становилось невмоготу, залпом выпивал стакан водки и заедал его куском сливочного масла. И чем больше съедал он масла, тем было лучше. Водка смывала с оголившейся язвы всякую дрянь, уносила ее в кишечник, а масло смазывало, смягчало больное место, – и Звереву делалось легче. Сейчас уже прыть не та – стакан водки может сделать дырку в сердце. Хотелось в баню. Но еще больше хотелось домой. Уйти Зверев пока не мог – ждал звонка с Лубянки, от генерала Иванова. – Работает, как при Сталине, – пробурчал Зверев, недовольно, снова раздраженно посопел, стараясь совладать с болью, – а живем при Ельцине. Условия разные. При Сталине икра была, да только есть ее не хотелось – надоедала быстро, а сейчас не надоедает, но есть тоже не хочется – банка черной зернистой икры стоит две минимальные зарплаты. Ее лишь Белозерцев и может трескать. Да еще Ельцин, пожалуй. И кое-кто из его окружения. Зверев раздраженно дернул головой – что-то в последнее время дергаться, как припадочный, начал. Годы работы в милиции все-таки сказываются – ни к шутам стало не только просквоженное, продырявленное, окончательно запущенное от недостатка внимания нутро, ни к черту сделались и нервы, таким же стало и сердце – сопит, хрипит, бултыхается впустую, с трудом и с болью, едва уже прослушивается в груди – вот-вот остановится. Звонок прозвучал, когда он уже и ждать его перестал. Зверев не глядя поднял трубку вертушки. – Слушаю тебя, кхе-кхе, Алексей Константинович! – А если это не я, а кто-нибудь другой? Леонид Кравчук, например, – генерал Иванов устало рассмеялся в телефонную трубку, – или кравчукча? – Ну и речи ты ведешь, Алексей… Выработался за день, супа в котелке совсем не осталось. – Это верно, – оборвав смех, согласился Иванов, – не самое удачное имечко я выбрал. Хотя все мы, пока Кравчук был у власти, мужиков-украинцев звали кравчукчами, женщин – кравчучками, а самого Леню – хорошо что не Голубкова – Леонидом Таврическим. И ты так звал, и я. – Мир очень тесный, и стукачи у нас с тобой, Алексей, одни и те же. Мне то же самое говорили. – Ну, насчет того, что «стук-бряк» у нас одни и те же – неверно. Мы больше платим. А кто больше платит – тот больше знает. – Все равно деньги из одного и того же кармана. Ну и чего там подполковник?.. – Ведет себя покладисто. Всех назвал, ничего не скрыл, сейчас сидит в камере, обдумывает житье-бытье, сопли утирает, в порядок себя приводит. – Интересно, интересно… И кого же он назвал? – Полину Евгеньевну Остапову. – Это кто же, кхе-кхе, такая? – Да есть одна дама, без пяти минут министерша, из теневых фигур… Там, в заоблачных высях летает. Иногда ее годами не слышно, будто и нет на белом свете, а на самом деле она есть. Только» лишь по телевизору не мелькает – ни разу ее не видел… Внимательно слушая Иванова и покхекхекивая в трубку – жив, дескать, все засекаю, – Зверев крупными печатными буквами записал в блокноте: «Полина Евгеньевна Остапова». Эту фамилию раньше он нигде не встречал, хотя должен был и услышать, и засечь, но… ловкая, видать, дамочка. Умная. Он раздраженно постучал пальцами по столу. Память, обычно услужливая, на этот раз молчала, ничего ему не подсказывала.
20 сентября, среда, 22 час. 10 мин. Белозерцев ночевал в кабинете на кожаном пухово-мягком, с бездонным, казалось бы, нутром диване. Два комплекта белья и две подушки со свежими наволочками Зоя Космодемьянская всегда держала для него в задней комнате – в общем, ущемленным по части удобств он себя не ощущал. Позвонил домой. В ответ – молчание. «Ну что, все? – спросил он сам себя, и что-то острое, незнакомое всадилось ему в грудную клетку, в кость, дыхание осеклось, стало прерывистым. – Нет, все-таки Высторобец, несмотря на всю свою сноровку, не мог так быстро сработать, он мужик медлительный, любит все обставлять, а тут? Обидно даже – прихлопнул Ирку, словно букашку. Хряп ладонью – и нет ее! Действительно обидно». Позвонил снова – квартирный телефон по-прежнему молчал. «Ну и ну», – Белозерцев печально повертел головой, распустил тугой узел галстука. Он разделся до трусов, одежду развесил по креслам и собрался было прошлепать в душ, когда зазвонил «панасоник». Все разговоры сегодня, все откровения пропустил через себя этот аппарат. «Панасоник» так много знал, что его пора было уничтожать – хрястнуть об асфальт либо опечатать сверху молотком, чтобы никому ничего не выдал. – Это я, Вячеслав Юрьевич, – услышал он голос Высторобца. «Ну вот, легок на помине». – Что нового? – Задание выполнено. – По двум адресам? – По двум. – Фью-ють! – не удержал нехорошего изумления Белозерцев, хотя рассчитывал услышать именно то, что услышал, пробормотал в трубку что-то невнятное – он неожиданно понял сейчас, пришел к твердому решению, что теперь надо убирать и самого Высторобца. Как исполнителя, как человека, который может выдать Белозерцева. Слишком много он знает. Высокие заказные убийства проходят именно по этому сценарию – киллера обязательно убирают. Хоть и есть у Белозерцева хорошее прикрытие, есть старый кашлюн Зверев, есть генерал Веня, который за бутерброд с килькой и стопку холодной водки Родину продаст, есть вояки с лампасами, при больших звездах на груди и погонах – на любой вкус, есть деньги, легко вытаскивающие всякого набедокурившего капиталиста за уши из грязи – да мало ли что есть в арсенале у Белозерцева! Но Высторобца надо убирать. От греха подальше – не дай бог где-нибудь протреплется… – Фью-ю-ють! – вторично, длинно, на этот раз задумчиво присвистнул Белозерцев. «А что, если сделать это сейчас? – возникала у него тяжелая, не по возвышенному легкому настроению мысль. – Ночь – самая удобная пора для того, чтобы прятать концы в воду!» – Как прикажете действовать дальше? – спросил Высторобец. – Где вы сейчас находитесь? – В гостях. – Приехать на работу можете? – Сейчас? – удивленно спросил Высторобец, голос у него неожиданно дрогнул, сделался глухим. – Сейчас. – Нет, – твердо ответил Высторобец. Он хорошо знал правила игры и, хотя никак не мог вычислить, о чем думает сейчас шеф – мозги, для этого надо иметь совершенно иные, понял, что замышляет Белозерцев. Шеф «Белфаста» недооценивал своего подчиненного. Белозерцев в свою очередь так же обо всем догадался. «Вот, собака, чутье имеет какое, – невольно отметил он. – Нос у него кулак чувствует за три дня до драки. Но все равно, батенька, раскусить тебе меня не дано – кишка, батенька, тонка… Или толста, как хочешь, так и считай». Белозерцев по-гусиному приподнял одну ногу, поджал под себя – стоять на полу было холодно. – Жаль, – сказал он, – а то бы мы сейчас кое-чего обсудили, коньяку б выпили… – Мне тоже жаль, – с прежней твердостью произнес Высторобец, – коньяк – потом. – Завтра, в восемь тридцать жду у себя в офисе, – Белозерцев, не дожидаясь ответа Высторобца, повесил трубку. Пошлепал в душ. «Все», – вздохнул он свобожденно…
20 сентября, среда, 22 час. 40 мин. Это был вечер, нет, за окном уже вступила в свои угрюмые права ночь, стало тихо, лишь запоздалые машины, подвывая моторами, торопились скорее укрыться в надежном месте, а на тротуарах не виднелось ни одного прохожего, – это была ночь телефонных звонков. Все звонили друг другу: Высторобец Белозерцеву, Белозерцев – домой, проверочно, и двум братьям-охранникам, Володе и Андрею Фоминым, один из которых должен был теперь занять место Высторобца, чтобы те завтра в восемь ноль-ноль явились с оружием в «Белфаст» – вечернее дежурство сегодня было не их, другие охраняли покой Белозерцева в офисе и это было не очень здорово, с другой стороны, пусть мужики спокойно выспятся, отдохнут перед завтрашним делом; Иванов звонил Звереву, Зверев Иванову, Волошин Корочкину и так далее… Вика тоже звонила. Она сделала один-единственный звонок. – Я встретилась с ним, – сказала она человеку, которому звонила, – да-да, все было о'кей, мы провели неплохой вечер. Я получила хороший подарок, да-да… Что? Каков его денежный эквивалент? Не знаю. Но подарок действительно хороший, мне, во всяком случае, нравится. Да, он готов платить и собрал уже всю сумму… Повторяю – всю! Поэтому давай подумаем, как вести себя завтра. Надо менять схему. Самое лучшее – взять в один прием деньги и вернуть ребенка. Но это вряд ли уже получится, поэтому давай сократим процедуру с трех приемов до двух. Продумай это в деталях – все надо сделать так, чтобы комар носа не подточил, В течение часа жду от тебя звонка. Если сегодня не сможешь все подогнать – жду звонка завтра в восемь тридцать. Неважно, что рано, неважно, что я люблю поспать, – дело есть дело. Несколько минут Вика сидела у телефона с расслабленным усталым лицом, размышляла, все ли у нее в жизни сходится и вообще так ли она живет? Потом выдернула из розовой кожаной кошелки с фирменной надписью «Нина Риччи» ватный тампон, специальный, сбитый, словно сливки, из какого-то особого волокна, стала снимать с себя макияж: тушь, пудру, помаду. Ее разговор не засек никто, ни одна душа в мире, – знали только двое, те, кто в нем участвовал, Вика и еще один человек, но о последующих разговорах стали знать уже многие – через десять минут после этого разговора телефон ее был взят под «колпак», на прослушивание.
20 сентября, среда, 22 час. 45 мин. Похоже, что Белозерцев считал Высторобца недалеким человеком – этаким тюфяком с пролежнями и ржавыми следами, оставленными кровавой сеткой, способным только на разовые задания, – и напрасно. Высторобец раскусил Белозерцева, понял, что тот собирается сделать. – Ах ты, с-сука, – едва слышно шевельнул побелевшими губами Высторобец, повесив трубку. – Ты чего? – лениво поинтересовалась из комнаты Оксана. – У тебя что, неприятности? Хоть и маленькая она, «указница», а все понимает, все чувствует – кожа тонкая, не огрубела еще, да и душа у нее провинциальная, а провинциалочки всегда отличались от москвичек. В постели она еще ничего не умела делать, но это было поправимо – года через два миловидная Оксана будет давать всем путанам такую фору, что… в общем, берегись московские «жрицы любви»! – Есть кое-что, – неохотно отозвался Высторобец, продолжая про себя ругаться: «Вот с-сука!» Теперь он точно знал – проиграл Белозерцев! Белозерцев схлопочет по полной, целиковую порцию – это мороженое он будет есть столовой ложкой! И вообще, все может сложиться так, что последнюю просьбу Ирины Константиновны Высторобец выполнит. – Большие неприятности или малые? – голос Оксаны уже слипался от сна. – Ни большие, ни малые. Спи. – Тогда чего же ты ругаешься? Высторобец удивился: как же Оксана могла услышать его? Он же вслух ничего не произносил, матерился только про себя. – Я не ругаюсь. – Ну и правильно! В следующий миг Оксана уже спала. Лицо ее раскраснелось, раскупорилось, было оно еще совсем детским, жалобным и испуганным одновременно, Высторобцу даже больно сделалось: «Эх, девочка!» Он налил себе шампанского, выпил залпом, поморщился – показалось, что стреляющие горькие пузырьки прилипли к небу, к языку, рот оказался словно бы кашей набит. Повозил языком по небу, счищая налипь. Бесполезно. Вздохнул зажато – а ведь сейчас Белозерцев будет его обкладывать. Пока еще не начал, но с утра начнет. Интересно только, кому он это дело поручит – своим доморощенным пинкертонам, выпестованным им же, Высторобцем, или наймет кого-то на стороне? Если на стороне – будет худо. Высторобцу их практически не вычислить, если же свои… то кто конкретно? Он перебрал службу безопасности «Белфаста» по пальцам, поименно. Больше всего для этой роли подходили Фомины. Только вряд ли братья потянут на него… А с другой стороны, почему бы и нет? «Ладно, утро вечера мудренее, надо укладываться, – решил он. – За постой уплачено, условия, правда, хуже, чем в “Кемпинском”, но все же…» Высторобец налил себе еще шампанского, выпил залпом, словно водку. Заел какой-то иностранной кислятиной, взятой в ресторане, – то ли морской, то ли земляной, размножающейся, как картошка, подумал о том, что от всей этой диковинной пищи можно только расстройство желудка заработать, покосился на окно, на простенькую «рабоче-крестьянскую» занавеску. «Не фонтан живет Оксана, эти коблы из подвала обирают ее», – подумал он расслабленно, сонно, прицелился куда бы лечь, как вдруг Оксана проснулась, села на постели и по-детски потерла кулаками глаза. – Ты чего? Спи! – сказал ей Высторобец. – Шампанского хочу, – капризно протянула Оксана. – Сейчас принесу. – Не надо. Я сама принесу. И сяду с тобой за стол. – А спать? – тупо спросил Высторобец, понял, что сказал не то, но поправлять себя не стал – не было сил. – Спать? – весело, уже окончательно отойдя от сна, хмыкнула Оксана. Вот что значит здоровый юный организм: забылась всего на пятнадцать минут и стала свеженькой, будто лесная земляника. – Спать, отсыпаться после будем. А ты… ты ложись, у тебя глаза усталые. Что-то насторожило Высторобца – что конкретно, он и сам не понял – то ли сама фраза, то ли интонация, то ли неожиданная забота, совершенно не присущая юной путане, то ли вообще факт, что она вскочила, словно на работу, хотя в ее возрасте люди очень любят спать, Высторобец стиснул зубы, с силой растер пальцами виски, отгоняя сон. Обхватив бутылку обеими руками, Оксана хотела налить шампанского себе и Высторобцу, потом с озабоченным видом поставила черную, с матовыми боками бутылку на стод. – Стаканы-то грязные… Чего мы пьем с тобой такое хорошее шампанское из грязных стаканов, когда есть чистые? Ты подожди, я мигом! Она была очень проворной, юная хохлушечка Оксана, – даже излишне проворной по ночному времени, и это еще больше насторожило Высторобца. Принеся с кухни два чистых стакана, она с лихим стуком поставила их на стол – один перед Высторобцем, другой перед собой. В стакане, который находился перед Высторобцем, на дне бугрилось несколько прозрачных капелек – вода и вода, а может, и не вода, – стакан же Оксаны был сух. – Вот это совсем другое дело, – объявила она с бывалой взрослой интонацией, сбила стаканы потеснее, в одну кучу, чтобы было удобнее наливать, и лихо наполнила их шампанским – сделала это куда лучше, проворнее и опытнее, чем это сделал бы Высторобец. Приподняла опустевшую бутылку за горлышко, посмотрела на свет – не осталось ли чего? Произнесла с сожалением: – Вот и еще один «огнетушитель» остался в прошлом. – Это поправимо, – внимательно глядя на Оксану, произнес Высторобец. – Поправимо не только это, в жизни вообще все поправимо, – Оксана водрузила бутылку на стол. В ней неожиданно появилась странная гвардейская лихость: – Кто же ставит пустую бутылку на стол? – упрекнул Оксану Высторобец. – Что, плохая примета? – Если хочешь, чтобы в доме у тебя вообще ничего не было, тогда можешь всю опорожненную посуду, всю до последней бутылки, выставлять – действует безотказно: вскоре у тебя даже ниток не будет, чтобы пришить пуговицу. Настороженное, зверушечье выражение промелькнуло во взгляде Оксаны, она вытянулась свечкой и проворно смахнула бутылку со стола. – А верно ведь. Я и раньше об этом слышала, только забыла. – Это не самый большой грех на белом свете, – успокоил ее Высторобец. – Я сейчас, – Оксана с пустой бутылкой метнулась на кухню. Отсутствовала она всего ничего – несколько мгновений, но этого Высторобцу было достаточно, чтобы совершить «ченч» – свой стакан передвинуть на Оксанину сторону, а ее переместить к себе. Оксана проворным раскрасневшимся зверьком вылетела из кухни, подхватила стакан, стоящий на ее половине. – Ну что, не пьем, а лечимся? Не алкоголя ради, а здоровья для? – Лечимся, – подтвердил Высторобец, поднял свой стакан и чокнулся с Оксаной. Взгляд у той сделался заинтересованным, она не выдержала, прищурилась: выпьет клиент шампанского или не выпьет? Высторобец медленно поднес стакан ко рту, с удовольствием отпил несколько глотков, кивнул удовлетворенно – шампанское было хорошее, – потом отпил еще несколько глотков, в третий заход осушил стакан до конца, перевернул его горлом вниз и выразительно постучал пальцем по донышку. – 3а тебя, маленькая! Как видишь, ни одной капли не осталось. Оксана расцвела, напряженное лицо ее ослабло, она, подскочив к Высторобцу, чмокнула его в щеку: – Спасибо тебе! – потом маленькими вкусными глотками, не отрываясь, одолела свой стакан – она пила шампанское, как водку, – затем, так же как и Высторобец, перевернула стакан дном вверх и красноречиво стукнула крашеным розовым коготком по стеклу. – А вот и я! – объявила она. – Как видишь – не отстала! Реакция последовала буквально через несколько минут – видать, те капельки обладали немалой силой, – у Оксаны начала безвольно клониться набок голова – не держалась, падала, словно подрубленный кочан капусты, на плечо, глаза сжались в две узкие прорези – хоть спички туда засовывай, так поспешно начали они слипаться. – Ой, что это со мной? – Оксана хихикнула с вялым смущением. – Спать хочу невероятно. Устала, наверное… Ты простишь меня, если я пару минут покемарю? А потом мы с тобой займемся… чем хочешь, тем и займемся. – Покемарь, покемарь, – добродушно разрешил Высторобец. Через минуту Океана сломалась совсем, уснула прямо за столом. Высторобец пожалел ее – упадет со стула, расшибется, внешность себе испортит, хотя жалеть не надо было, он уже хорошо знал, как будут развиваться события, – взял Оксану на руки и, вялую, уже слабо похрапывающую, сложившуюся безвольным комом, отнес на тахту. Увидев на кресле плед, сдернул его, накрыл Оксану. «Спи, ты сама себя наказала…» О том, что Оксана была виновата, Высторобец не думал – да и не так это, наверное, – Оксана тоже попала в тиски обстоятельств. Высторобец хотел было уйти – в конце концов, он может снять еще одну Оксану. Проблем нет, возьмет девушку постарше, не «указницу», с машиной, с квартирой побогаче, – пока у Высторобца были деньги, он имел возможность маневрировать. Но уйти Высторобец не успел – в замочной скважине послышалось характерное железное карябанье ключа. Вот и свидетельство того, что Оксана работает в паре с ресторанными качками… Само пожаловало, без «вызова». Да разве может она работать в одиночку? Это только Высторобец мог поверить в заявление этой девочки, которая в школе еще не успела пройти курс алгебры, рассупонился, развесил уши… Наивный человек Высторобец. Он глянул на Оксану – спит, как сурок, – пожалел, что под руками нет пустой бутылки – Оксана унесла ее на кухню, – очень пригодилась бы, но идти на кухню и искать ее там было уже поздно и Высторобец, матюкнувшись, встал в прихожей за вешалкой, на которой висел старый армейский плащ из негнущейся прорезиненной ткани, прикрылся чуть этим плащом, примерился – правой ногой он сшибал как минимум двух человек… Да и вряд ли больше станет толпиться в дверях, просто не вместится, – сшибет двоих, а там видно будет. Отер рукой вспотевшее, сделавшееся каким-то чужим лицо. Неизвестный гость слишком долго ковырял ключом в скважине – похоже, с этой квартирой не был знаком, – делал это аккуратно, воровато, явно чего-то боясь. Высторобец успел напоследок выключить свет и, когда дверь наконец распахнулась, увидел в проеме знакомого щекастого качка-распорядителя. Только фирменный пиджачок качок с себя скинул, надел другой, песочного цвета, с оловянными пуговицами. Качок стоял в проеме и слепо помаргивал глазами – к темноте прихожей надо было привыкнуть, – за ним высился еще один качок, с налитыми силой плечами, сквозь ткань пиджака приметно выпирало мясо – витые железные мускулы, – при себе он, похоже, имел оружие, но на рассуждения, с оружием пришел этот качок или нет, времени не было. И разбираться в самом себе – что там внутри, екает все; сжимается от страха или ничего этого нет – времени тоже не было. Неправда, что у киллеров не бывает страха, киллер – такой же человек, мясной, костяной, состоит из жил и крови, и у него есть все, что есть у других людей. Высторобец резко шагнул вперед и нанес любимый свой удар – бесшумно и сильно выбросил вперед руку и ногу. Вместе. Спаренно. Он угодил в яблочко – ногой, самим ребром, попал щекастому качку в грудь, услышал, как в тиши хрустнула кость, кулаком разнес переносицу. Качок всхлипнул, словно лишился сил, взмахнул руками, заваливаясь назад. Качок, шедший следом, подхватил его на руки, но не удержал – щекастый немалым весом своим сбил его с ног. Высторобец прыгнул вперед и снова нанес спаренный удар ногой и рукой. Этот страшный удар получался у него лучше иных ударов, недаром он был любимым, – ногу Высторобец пронес вперед, чтобы достать второго качка – и достал, – рукой он добавил первому качку, хотя с того уже хватало, свое он получил, – оба качка рухнули на лестничную площадку. Высторобец выскочил из квартиры. Поднимутся качки или нет? Краснощекий вяло шевелился, открывая и закрывая рот, из ноздрей у него вытекли две алые свежие струйки, второй качок вообще не шевелился – Высторобец разнес ему ногой все лицо. В углу рта висел на тонкой и страшной кровяной нитке выбитый зуб. Подхватив щекастого под руки, Высторобец втащил его в квартиру. Пока тащил, невольно морщился от того, что у щекастого конвульсивно дергалась рука, сокращалась сама по себе, словно Высторобец перебил ему некую мышцу или нерв. Было понятно: если оклемается – лечиться придется долго. «За что боролся – на то и напоролся», – зло подумал Высторобец. Он бросил щекастого посреди квартиры, поспешил за вторым качком. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь из соседей выглянул на лестничную площадку. Если выглянет – сразу все поймет и немедленно вызовет по телефону милицию, а встречаться с милицией Высторобцу не хотелось. Он за ноги втащил в квартиру второго качка, положил рядом с первым. Отвернул у него борт пиджака – у этого гуся под мышкой должен быть пистолет. Пистолет был – небольшой, дамский, засунутый в матерчатую, мокрую от пота кобуру. «Спешил товарищ, – понял Высторобец, – по мою душу спешил. Даже кобура взмокла, не только сам». Отметил, что пистолетик слабоват – только по мухам из него стрелять. Следом он обшарил первого качка, продолжавшего судорожно дергать одной рукой, в кармане у него нашел паспорт на грузинскую фамилию, хотя щекастый качок никак не был похож на гордого сына гор, деньги – доллары и пачку родных, «деревянных». Поколебавшись немного, взял триста долларов – компенсацию за то, что он потратил на Оксану, ресторан и прочие вечерние прелести. Перевернул качка лицом вниз, поскольку подмышечной кобуры у него не было, и, хотя тот не должен был иметь оружие – лишняя тяжесть при приставленном охраннике, да и хлопот не оберешься, если угодишь к омоновцам, – нашел пистолет – вполне приличный «макаров», заткнутый за ремень «макаров» – это не короткоствольная пукалка, которой был вооружен его напарник, это серьезное оружие. Высторобец засунул его себе за ремень – на манер качка, – бесшумно скользнул к двери, прислушался. Было тихо. Можно было, конечно, и остаться здесь – перетянуть руки и ноги качкам, чтобы не подползли, пока он будет спать, худосочная Оксана все равно проснется нескоро, – отдохнуть, прийти в себя, но это будет не отдых. Нужно уходить. Он еще немного послушал лестничную площадку, подъезд, не обнаружил ничего опасного и ушел, беззвучно затворив за собой дверь.
20 сентября, среда, 24 час. 00 мин. Г-господи, сколько всего случается в этот ночной час в Москве – городе некогда тихом, пристойном, дисциплинированном, никогда не отличавшемся хапужничеством и кровожадностью, – люди душат друг друга, режут, колют штыками, жгут огнем, выковыривают друг другу глаза, полосуют спины на лапшу, проламывают головы утюгами и чугунными сковородками, обливают ацетоном, бензином, скипидаром, прочей горючей жидкостью и тут же подносят спичку… Москва преобразилась неузнаваемо, от этого города отвернулся Бог.
21 сентября, четверг, 8 час. 00 мин. Белозерцев спал плохо – просыпался в поту от того, что ему являлись разные страхи, видения, вертел головой, пытаясь понять, где он находится – неужели его взяли налетчики и засунули в подвал? Зажимал зубами крик, рвущийся из груди на волю, проводил рукой по мокрому лбу, потом зажигал свет и вздыхал облегченно – нет, не взяли, все в порядке, он находится у себя в конторе… Тянулся к телефонам, поднимал одну трубку, другую, словно бы хотел услышать добрые слова поддержки, но из трубки доносились только назойливые визгливые гудки, и Белозерцев, встряхиваясь от одури, клал телефонные трубки на место, тяжело опускал голову на подушку и засыпал снова. Встал он с тяжелой головой, забрался под душ, побрился; прополоскал шведским эликсиром рот – хоть и пил он вчера первоклассные напитки, а осадок от них остался такой, как и от обычной сивухи – тяжесть в желудке, будто он наелся земли, и вонь изо рта невероятная – помойкой несет, обычной помойкой, на которую побрызгали одеколоном, и еще, может быть, самую малость – коньячком. Подумал: «Не позвонить ли домой?» Ведь что бы там ни пели ему Зверев с генералом Веней, жизнь граждан, в том числе и его, контролируется – с помощью «жучков», «паучков», прочих элементов прослушивания. Все засекается, как никогда, и какой-нибудь неведомый оператор, лакей в чине младшего лейтенанта, ухмыляется, теребит пальцами тонкогубый рот, слушая, как тут изголяется в своих речах Белозерцев. Белозерцев уже заранее ненавидел этого младшего лейтенанта, ненавидел люто – у него зудели руки, чесались костяшки кулаков, едва он начинал думать о нем. Да, прослушивают невинных граждан ныне все, кому не лень, и его тоже прослушивают – ведь он ничем не лучше и не хуже других. Поэтому лучше сделать звонок, чем не делать его. «Зачем? – с внезапно подступившей тоской спросил он себя. – Прежнего дома уже нет. И Ирки нет. Все!» Но звонок сделать надо было, и он это понимал. Он взял трубку. Прошелся пальцами по кнопкам набора и, когда раздались длинные гудки, дунул в трубку и выкрикнул громко: – Алло! – Ему показалось, что те, кто должен услышать его, засечь, не слышат ничего, и он выкрикнул еще раз: – Алло! – потом произнес с досадою: – Дрыхнет, нерадивая жена! – и бросил трубку на рычаг. А с другой стороны, чего ему бояться, когда есть на свете близкие друзья Зверев и Иванов? Абсолютно нечего. И тем не менее что-то протестующее, рождающее в душе муть, некий далекий озноб, возникло в нем: Зверев с Ивановым, конечно же, выручат его, но вдруг за ними, как за старыми, той еще, советской, поры кадрами, следят? Ведь нынешним властям брежневские чиновники совсем не нужны. Через десять минут он вызвал к себе братьев Фоминых. Те вошли в его кабинет, крупнотелые, с отточенными движениями, с приветливыми улыбчивыми лицами, с которыми никак не совмещалась настороженность, застывшая в глазах. – Есть одно дело, хлебное, – сказал он им, – и очень деликатное. Хочу поручить его вам, больше поручать некому. Справитесь? – Попробуем, – ответил за двоих Андрей Фомин, – только что за дело? – Надо убрать Высторобца, – не стал скрывать Белозерцев: он понимал, что об этом лучше сказать сразу, не ходя вокруг да около… – В смысле? – лицо у Андрея Фомина побледнело. – Смысл один – убрать и все. Сможете? – Это можно… дело это нехитрое, – Андрей Фомин покрутил шеей, словно ему нечем было дышать, – только… – Что «только»? – нетерпеливо, с напором поинтересовался Белозерцев. – Что «только»? – Все-таки он наш шеф. Брал нас на работу. Проверял… доверял, ничего худого мы от него не видели… И вдруг? – Все дело в том, что прыщи на чистой коже не возникают – вскакивают там, где грязь, на пораженных участках. А Высторобец – это сплошной пораженный участок. Его надо убирать, срезать, и чем раньше – тем лучше. Я не буду вам излагать, что произошло. Как говорится: меньше знаешь – лучше спишь… Высторобец сам подписал себе приговор. Сам! – Белозерцев открыл стол, достал оттуда две пачки долларов. – Здесь аванс, по полторы тысячи на брата. Выполните задание – получите еще столько же. Как убрать Высторобца – подумайте сами, не мне вас учить. В восемь тридцать Высторобец будет у меня. Хотелось бы, – Белозерцев энергично перечеркнул рукой пространство, словно располосовал чей-то предвыборный плакат, – в общем, хотелось… – он выразительно посмотрел на братьев, – сами понимаете, чего хотелось, а точнее, хочется. Превратить настоящее время в прошедшее – ваша задача. Берите деньги, – он придвинул пачки долларов братьям, – и за дело! – А если мы откажемся? – неестественно застывшим голосом спросил один из братьев, Владимир. – Мне будет очень жаль, – Белозерцев вздохнул: он начал игру и не имел права ее прерывать либо выходить, это для него было смертельно опасно – даст слабину, попробует отработать назад, и все – на самом себе он может ставить крест. – Я бы тысячу раз подумал, прежде чем задавать такой вопрос. Больше ничего предлагать я вам не буду. – Это мой брат так, Вячеслав Юрьевич… сдуру ляпнул, – Андрей Фомин потянулся за деньгами, взял одну пачку, положил перед братом, буркнул: – Это тебе. – Вторую сунул в карман куртки. – В восемь тридцать, говорите, Вячеслав Юрьевич? – Я рад, что вы меня поняли. В восемь тридцать. – Добро, – сказал Андрей Фомин и улыбнулся, у него была очень подкупающая улыбка, у брата его, собственно, была точно такая же, позвал: – Пошли, Вовк!
21 сентября, четверг, 8 час. 30 мин. Белозерцев обдумал предстоящий разговор с Высторобцем и решил не мудрствовать лукаво – выплатить ему деньги за выполненное задание – ну, скажем, за охрану шести грузовиков, доставивших из Италии модную обувь, или сопровождение танкера с нефтью из Одессы в Грецию, а затем объявить о разрыве контракта. Или нет – не о разрыве объявлять, а поступить хитрее – отправить на отдых. Поработал, мол, на славу, теперь пора на солнышке погреться. А потом – прошу снова в родной «Белфаст», господин Высторобец… Да только не дано господину Высторобцу греть кости на солнце, братья Фомины уберут его через полчаса. Белозерцев сдвинул обшлаг рубашки, глянул на циферблат «роллекса» – что-то господин этот, Высторобец который, опаздывает: В последнее время он вообще привык опаздывать. Все, хватит! Больше этого не будет. Надо совершить последний рывок, один из последних, ведь кроме Высторобца есть еще кое-какие заботы – и убитая Ирина, которую надо похоронить по-человечески, и Костик, находящийся в лапах похитителей, и… но все равно он уже находится на финишной прямой. «Котька, бедный, как ты там?» – Белозерцев пожевал ртом, сдерживая себя. Осталось немного. Котьке надо потерпеть еще чуть-чуть, сегодня он будет дома. «Дома? Ведь там же Ирина… Так где же будет ночевать Костик? Тьфу! Вот новая забота! Ладно, обо всем по порядку. Для начала – Высторобец и братья Фомины… Приготовились ли братья взять Высторобца на короткий поводок и придавить? Наверное, уже приготовились». А Фомины в этот момент находились через две стенки от Белозерцева, в свободной комнате, где шеф «Белфаста» обычно проводил переговоры, начиненной сильной заморской электротехникой, которая находилась под особой опекой службы безопасности «Белфаста». За ней тщательно следили, проверяли перед всякими «кофепитиями», прощупывали каждый сантиметр, прозванивали специальным прибором – искателем «жучков», «тараканов», «сверчков», прочих насекомых, – и все равно случались проколы. Однажды «Белфаст» здорово подставила смазливая секретарша – эту историю в качестве назидания рассказывали каждому новому сотруднику, приходящему на работу в их контору. – Ну, что скажешь, Андрюха? – спросил один Фомин у другого. – Не нравится мне все это. – Мне тоже. – Что будем делать? – Надо поразмышлять. – Т-с-с, – Андрей Фомин приложил палец к губам и выразительно обвел глазами пространство. Размышляли они недолго: если откажутся от задания, то сами будут уничтожены – Белозерцев дал это понять совершенно недвусмысленно, – значит, задание надо выполнять. Но и опыта такого, чтобы без особых осложнений завалить матерого Высторобца, у них тоже нет. Но, в конце концов, не так страшен серый волк, как его малюют. Братья Фомины принялись готовить оружие для встречи с Высторобцем. Но Высторобец на встречу с Белозерцевым не явился. – Во-от сучье! – выругался Белозерцев, в очередной раз глянув на часы. – Неужели все просек? И перехитрил, а? Вот сучье! – Белозерцев с досадой громыхнул кулаком о стол. – Ну погоди-и! Вместо легкой кончины ты за все свои спектакли получишь то, что… Ты даже сам не представляешь, что получишь, Высторобец! Всякие афганские и прочие страсти-мордасти будут детским лепетом по сравнению с тем, что ты получишь!..
21 сентября, четверг, 8 час. 40 мин. – Ну, чего мы имеем с гуся? – спросил Зверев по телефону у руководителя группы «топтунов» – службы наружного слежения. – Приходил кто-нибудь к Белозерцевым, кхе-кхе, ночью? Никто не появлялся? Хорошо. И мину никто не подкдадывал? Тоже хорошо. Хотя зачем подкладывать ему мину? Его беречь надо, чтобы он деньги собирал… – лицо у Зверева приняло обиженное выражение, словно бы его обманули. – А где ночевал Белозерцев? У себя в офисе? Ладно, подполковник, спасибо за информацию. Ее трэба разжуваты. Людей пока не снимайте, пусть дежурят. Да так, чтобы ни одна муха незамеченной не пролетела. Позвонил по другому телефону. – Ну что там, Волошин, есть пальчики в эфире или кхе-кхе. Никто нашему подопечному не звонил? Странно, странно. А сам он куда-нибудь звонил? Домой? Один только раз, и все? Ладно, майор, спасибо за информацию! Зверев положил трубку на рычаг, откинулся в кресле, скрестил на животе руки и начал большими пальцами вертеть «мельницу» – несколько движений вперед, потом несколько движений назад, затем снова вперед, – лысый лоб у него прорезала вертикальная длинная складка: Зверев чувствовал, что-то произошло – дух беды наполнил воздух, неприятно щекотал ноздри, лез в глотку, – а вот что произошло, что за беда навалилась, не знал и поэтому нервничал. Сдвинул на селекторе один из рычажков. Селектор ожил, отозвался грубым просквоженным голосом. – Ну как там, люди к десяти часам дня готовы? Имейте в виду, возможна стрельба. – В девять ноль-ноль обе группы выедут на место. К стрельбе готовы. – Ну, насчет стрельбы я, кхе-кхе, погорячился, лучше обойтись без всякого «пиф-паф». Стрелять только в крайнем случае, понятно? – Зверев отключил селектор и снова откинулся назад. «Интересно, почему друг Белозерцев ночевал не дома, а в офисе, и вообще, что произошло?» Глаза у него приобрели тяжелое, тусклое выражение, в виски ввинтилась боль: было похоже, что он подхватил грипп. – Этого еще не хватало, – вслух произнес Зверев, достал из портфеля пенальчик с растворимым аспирином. В этот аспирин, изобретенный неким Бауэром, Зверев верил как в некое чудодейственное средство – от всех болезней спасение: от ломоты в крестце, от рези в паху, от сонливости, от переохлаждения организма, от простуды, когда из носа течет, как из плохого водопроводного крана, от перебоев в дыхании, от свистов и неровного стука в сердце – что болит, то чудодейственный аспирин и лечит. Налив из графина воды в стакан, Зверев бросил туда плоскую белую лепешечку. Лепешка задергалась, заерзала в воде, словно живая, застреляла острыми колючими пузырьками, которые выпрыгивали из воды, как блохи – резво и далеко, нырнула на дно стакана, оттолкнулась от него, снова очутилась на поверхности. – Кхе-кхе, – не удержался от кашля Зверев, потом, не желая больше смотреть на чехарду прыгучей белой лепешки, скосил глаза в сторону, взгляд у него сделался совсем тусклым – что-то произошло или происходит, может быть, даже в эти минуты происходит, а он этого не знает, только чувствует… А ведь, вполне возможно, от того, что происходит, будет зависеть и его судьба. Все в мире взаимосвязано, один обрывок веревки обязательно бывает соединен с другим таким же обрывком – и если нигде нет узла, отсутствует соединение, то это все… – Кхе-кхе-кхе, – снова невольно закашлялся Зверев. Таблетка в стакане успокоилась, на дне остались несколько белых солевых крупинок, Зверев залпом выпил лекарство, крупинки сплюнул на пол.
21 сентября, четверг, 8 час. 45 мин. Высторобец лежал у слухового окна на чердаке небольшого дома, расположенного напротив «Белфаста», и наблюдал за родной конторой. Высторобцу важно было понять расписание Белозерцева, засечь изменения в жизниконторы, если они, конечно, появились, – по деталям, по мелочам он определит, что происходит, вычислит события. В том, что Белозерцев будет его убирать, Высторобец теперь был уверен на все сто – нет, на сто пятьдесят – процентов. Если ночью у него и возникли некоторые сомнения, то сейчас сомнений не было. Ночевал он здесь же, на чердаке, на ложе, обустроенном неизвестным бомжем, – бомж на место ночевки давно не приходил, оно было брошенным, да и вполне возможно, бомжа этого давно уже не существовало на свете, он превратился в пыль. Пыль. Пыли здесь было много. Ее запахом на чердаке пропиталось все: бугристые ряды стекловаты, сложенной у столбов-подпорок, куски листового железа, снятого с крыши во время ремонта, дерево стропил, старые школьные тетради, которые неведомый бомж аккуратно разложил, прежде чем накрыть дырявым, выцветшим и, странное дело, довольно чистым матрацем, – пыль рождала пыль, поэтому и неудивительно, что человек в конце концов тоже обращается в пыль. «Это что же, и я стану пылью? – возникла у Высторобца нехорошая мысль. – Бомж стал, а теперь и я? Моя очередь?» Он вытащил из-под матраца тетрадку, открыл ее. «Старость, заботы, страхи, болезнь, недовольство собой – все унеслось на широких и легких крыльях песни. Не потому, что она значительна, глубока, богата, но потому, что за ней молодость», – прочитал Высторобец, медленно и вяло шевеля тубами, подивился языку этих двух фраз – хорошему, целостному, емкому. Есть, оказывается, кроме грязи, наносов нынешнего времени и чистые высокие понятия, дивный слог, литература, перед которой можно опуститься на колено. Интересно, кто это написал? Высторобец перелистал тетрадку, фамилии не нашел – у тетрадки было вырвано начало. Вздохнув, тихо засунул тетрадку под матрац – пусть пока покоится там. До следующего прихода. Если, конечно, следующий приход будет. Он продолжал наблюдать за конторой, благо наблюдать было удобно – он находился много выше особняка, в котором располагался «Белфаст», – весь особняк вместе с трубой, украшенной блестящим, с рисунчатыми краями колпаком – прихоть Белозерцева, пожелавшего чем-нибудь обязательно украсить несуразную кирпичную колонну, – находился у него, будто на ладони. Белозерцев не показывался. Но то, что он находился в особняке, Высторобец знал точно – и машина его стояла тут же, на асфальтовом квадрате слева от входа – там располагалось персональное место для двух машин шефа, – и водитель Белозерцева, толстогубый Боря, несколько раз выходил из дверей, ковырялся в «вольво», чего-то доставал, чего-то укладывал, чего-то приносил – суетился, словом, – это тоже признак того, что Белозерцев находился где-то рядом. Имелись еще косвенные приметы того, что Белозерцев не покидал особняк. Вот появились ребята, которых Высторобец брал на работу, – братья Фомины, немногословные, добродушные, – Высторобец к ним всегда испытывал симпатию, – рослые, внимательно поглядели на дом, в котором сейчас находился Высторобец. У Высторобца невольно дрогнуло сердце – показалось, что Фомины видят его – слишком уж внимательно они рассматривают дом, изучают каждое окно… Нет, Высторобца они, естественно, не видят, но по той особой внимательности, с которой они оглядывают каждое окошко, подъезд и вообще все вокруг, Высторобец понял, что Белозерцев предпринимает особые меры для собственной защиты. Он сделает все, чтобы накрыть сачком Высторобца. Потом один их Фоминых – кажется, Андрей, с верхотуры не было видно, кто именно – приставил лестницу к стенке особняка и забрался на крышу. Высторобец обеспокоенно шевельнулся на своем ложе. Фомин снова, уже с «крышевой» точки, оглядел здание, где находился Высторобец, окинул глазами макушки деревьев с редкой посеченной листвой – в центре Москвы гибнет вся зелень, через пару лет останутся лишь голые стволы, – потом повернулся к Высторобцу спиной и, приподняв железный люк, заглянул в него. Про этот люк Высторобец знал – он вообще как шеф безопасности должен знать каждую щель в особняке, каждую паутину, свитую пауками на чердаке, но, честно говоря, не думал о нем. А зря – люк наводил на определенные мысли. Фомин обследовал чердак и ушел, лестницу оставил на месте. Словно бы специально для Высторобца. Впрочем, это для Высторобца ничего не значило. Если он изберет чердачный вариант, то обойдется и без лестницы. А с другой стороны – пусть лестница будет, она никогда не помешает. Выходит, братьям Фоминым и поручили охоту на него… Высторобец досадливо вздохнул, засипел простуженно – попал ночью под сквозняк, вот внутри все и разладилось, расстроилось. Стоит только попасть в условия, скажем так, недомашние, как в организме появляются сбои. Покусал ноготь, продолжая наблюдать за Фоминым. А по дому он здорово скучает – привык… Раньше мог запросто променять теплую домашнюю койку на бивуак где-нибудь под вершиной горы или на спанье в дырявом меховом кукуле – спальном мешке, поднимался в три минуты и исчезал, – сейчас это делать стало тяжело. И тоска по дому, по Ленке – жене, появилась, выходит, стареть начал. «Значит, братья Фомины… Ну что ж, пусть будут братья Фомины. Все равно, в конце концов. Хоть и жаль». Высторобец выжидал, он должен был просчитать день Белозерцева, вычислить, выждать, когда тот поедет на первую встречу с налетчиками – если Белозерцев на ней не побывает, Костика могут убить, Высторобец учитывал и это, – а уж потом от этой встречи, как ст порожка, действовать. Неожиданно совсем рядом с собой он увидел мышонка – крохотного, с черными точечками глаз, ушастого, смелого. – Ты чего? – шепотом спросил у него Высторобец. Мышонок в ответ шевельнул длинными черными усами, сделал несколько маленьких шажков к Высторобцу – человека он не боялся. Наверное, потому, что до этой поры никогда не видел человека – дернул розовой точечкой носа, словно бы собираясь чихнуть. – Ну ты даешь, – сказал ему Высторобец. – Я понимаю, тебе хлеб нужен. Я тоже здорово проголодался. – Он действительно здорово проголодался, Высторобец, с удовольствием доел бы и допил то, что не доел, не допил вчера. Но что не дано, то не дано. Высторобец не сдержал сожалеющего вздоха. Надо бы пробраться к себе в дом, там жена мигом все соорудит, но в дом нельзя: пока жив Белозерцев, нельзя – его люди сразу же сядут на хвост, на голову накинут мешок. Когда Белозерцева не станет, его приказ отомрет сам по себе – кто же выполняет приказы мертвых людей? И как же это он поверил Белозерцеву, взялся за устранение его жены и этого петуха с бараньим голосом – думал, что Белозерцев благодарен будет, перестанет придираться за мертвого Агафонова, а вышло вон что… Ведь он же тертый калач, Высторобец, как же это он поверил блудливому шефу, почему же он посчитал, что из правил возможны исключения? Первый раз убил человека Высторобец в Афганистане, в восемьдесят втором году. «Соляра», как на афганском солдатском жаргоне звали пехоту, никак не могла взять в горах один кишлак – слишком уж он был неприступен, – более того, пехота умудрилась оставить там своих людей, угодивших в ловушку. В кишлак вела одна дорога, на ней душманы, которых наши солдаты звали «прохорами», ставили пулемет со сменными стволами и косили всех подряд. Только перегревающиеея стволы меняли. Чтобы выручить пленных, в кишлак решили бросить взвод офицеров спецназа, недавно прибывших из Москвы. Во взводе находился и старший лейтенант Высторобец. Взвод был сброшен двумя вертолетами на каменный выступ, нависший над кишлаком, спецназовцы скатились с него на крыши домов. Высторобец перемахнул через какую-то хлипкую стенку, потом одолел вторую, угодил в овечий загон – овцы с блеянием шарахнулись от него в угол, сбились в огромный шевелящийся шерстяной ком, перепрыгнул еще через один, неровно слепленный глиняный забор-дувал. Почти беззвучно приземлился. То, что он увидел, привело его в состояние шока, у него перехватило дыхание, ноги и руки сделались чужими, ватными: рыжебородый кряжистый душман в грязной зеленой чалме рубил большим топором голову тонкошеему пареньку с сержантскими погонами на гимнастерке. Душман опустил топор прежде, чем Высторобец сообразил, что надо делать – одним ударом отделил голову от туловища, и голова с широко распахнутыми голубыми ребячьими, еще несмышлеными глазами полетела, брызгая кровью, в сторону Высторобца. Высторобец, опешив, сделал два шага назад. Голова, хлопнувшись на пыльную рыжую землю, покатилась, пачкаясь собственной кровью, пылью, сухим пометом, подхватила по дороге смятый окурок – тот прилип к срезу шеи, пропитался кровью. Тело неведомого сержанта дергалось, босые ноги сами по себе скребли землю, ломали ногти, связанные за спиной руки пробовали развязаться. Душман, поняв, что он не успеет допрыгнуть до автомата, лежащего на низкой скамеечке в трех метрах от плахи, поднял топор и, ощерившись – стали видны все его зубы, до единого, чистые, крупные, яркие, – пошел на Высторобца. – Алла акбар! – прорычал он. Высторобец сделал еще два шага назад и в следующую секунду, словно бы поняв, что отступать нельзя, да и некуда, нажал на спусковой крючок автомата. Короткая очередь буквально перерезала душмана пополам, в сторону полетели кровяные брызги и куски мяса, топор выпал из рук душмана прямо ему на ноги… Это был первый человек, убитый Высторобцем. А сколько их было потом, и вообще, что было – неинтересно. Всегда запоминается первый… Как исчез мышонок, Высторобец не заметил. Может, мышонка и не было вовсе.
21 сентября, четверг, 10 час. 00 мин. – Ох, как разрослась Москва! – удивленно проговорил Белозерцев, когда они выехали на солнцевские просторы, расположенные за кольцевой дорогой. – Я ведь это Солнцево помню еще обычной деревней с пожарной каланчой, лесом, в который врезались огороды, железнодорожной веткой, протянутой через все село, и дурацким загсом, очень похожим на отделение милиции, куда разных дурачков силком приводили, чтобы они расписывались, не увиливали от своих брюхатых невест… – Это было давно, – водитель Боря раздвинул толстые негритянские губы в добродушной философской улыбке – он словно бы подвергал слова Белозерцева сомнению, – и было ли?.. – А лес тут, Боря, знаешь, какой стоял? Грибы в нем росли, будто пни, огромные и без червей. – И это тоже было давно, Вячеслав Юрьевич. Сейчас в Солнцеве ничего, кроме поганок, не растет. Если уж и остались где грибы, то в Брянской области. – Чернобыльские, – сморщился Белозерцев, – пораженные радиацией. – Еще в Смоленской области, – продолжал Боря, он будто бы и не слышал голоса начальства, – во Владимирской области, – ловко обошел по правой стороне иномарку серебристо-синего цвета, потом опасный жигуленок, за рулем которого сидела женщина с надменным, сильно напудренным лицом. Это самые опасные люди на дороге – женщины. Встречая их за рулем, Боря всегда нехорошо холодел. – В Новгородской области есть роскошные грибные места, на Валдае и у озера Ильмень. – А в Карелии? – Не знаю. Там я не был. – Боря, хвоста за нами нет? Вчера нас с тобой пасли, а сегодня? – Сегодня пока нет, но это ничего не значит, Вячеслав Юрьевич. Хвост непременно будет. Он просто обязан быть. – А вчера был, – хмуро и капризно проговорил Белозерцев, развернулся на сиденье всем корпусом, поглядел назад. Сзади, словно бы специально пристроившись им в хвост – другие полосы были свободны, – несся поток автомобилей: быстрый ручей из трех жигулят, «Волги», «ситроена», «ауди» и двух «мерседесов». – Это не хвост, – успокоил Белозерцева Боря, – эта цепочка освобождает полосу для поворота. А хвост, он ведет себя по-другому. За тем, что происходит сзади, я смотрю очень внимательно, – Боря тронул пальцами широкое зеркало заднего обзора, висящее у него над головой, – у меня – телевизор. Белозерцев покивал одобрительно и погрузился в себя – у него словно бы выбили землю из-под ног, все под ним сейчас качается, ползет из стороны в сторону, будто неверная штормовая палуба; и ухватиться не за что, он пробует взяться рукой за одно, за другое, и все обламывается, сминается под пальцами, рушится, он медленно опускается невесть куда, в бездну, пробует подошвой нащупать твердину, опереться на нее, но не тут-то было: почва оказывается болотной, это обычная топь, а не надежная твердь. Внутри все сыро, под сердцем пусто и холодно, оно вообще скоро обратится в издырявленный разными бедами кусок льда, и все разговоры, что сейчас ведет Белозерцев – механические, чтобы отвлечься, занять себя, попытаться удержаться на поверхности. Уж слишком быстро произошло превращение, слишком поспешно переместился он из одного состояния в другое. Жены уже нет, и в дом свой Белозерцев боится входить, Костик еще не возвращен, единственный твердый оставшийся бережок – Вика, и в ту сторону он сейчас даже опасается дышать: а вдруг? Ох, если бы знать, чем иногда оборачивается это «вдруг», если бы знать… Он снова, тяжело заскрипев кожаным сиденьем, оглянулся: ну что, рассосалась цепочка машин, пристроившихся им в хвост, или нет? Цепочка рассосалась. А может, хвоста и не было вовсе? Вчера понятно, почему хвост был – похитители боялись, что Белозерцев сорвет им операцию, подстраховывались, так сказать, а сегодня? Чего им следить сегодня, раз уж все обговорено и он согласен отдать этой мрази все деньги, целиком, сколько они требуют, – а это больше, чем состояние. За такую сумму, Белозерцев знал, людей не только убивали – убивали даже их семьи или целиком закапывали в землю. Живыми. Находили где угодно: в Бразилии, в Швейцарии, в Танзании – границы не имеют никакого значения, русская мафия оказалась сильнее и серьезнее полиции всех стран и прочих мафий – итальянских, испанских, колумбийских. Все прочие перед российской мафией оказались безобидными козликами, мальчиками в коротких штанишках, октябрятами, пионерами – детишками, в общем. После Солнцева дорога сузилась, сверкающие своей белизной многоэтажки отступили назад и исчезли, слева и справа потянулись скучные деревенские дома. – Что, Москва уже кончилась? – с неясной внутренней тоской спросил Белозерцев, словно бы Москва могла защитить его – в ней он был неприступен, мол, а за пределами города уязвим, как новорожденный цыпленок. – Нет, это все еще Москва. Только неосвоенная. – Хвоста нет? – Пока не вижу. Проскочили унылое сжатое поле, потом бравый, с солдатской выправкой лес, явно скрывающий в себе что-то военное, хотя по нынешней поре вряд ли представляющее; опасность для той же Америки – все наши; ракета, торпеды, атомные бомбы и прочее, что может летать, двигаться и взрываться, нацелены уже не на Америку, так что чего, от каких шпионов скрывать свои зубы? За леском последовало угрюмое, с пожухлой травой и убогими памятниками кладбище, затем речка, около которой стоял старый «москвич» и пенсионер в шляпе с обвисшими краями драил бока машины мягкой домашней мочалкой, – Белозерцев, ощущая нарастающую внутри тревогу, неясный страх, засекал каждую мелочь, каждую деталь, словно бы они могли отвести от него беду. Дорога пошла в гору, напряжение нарастало. – Боря, что там сзади? – ссохшимся трескучим голосом спросил Белозерцев. – Сзади все спокойно. Справа мелькнул старый автомобильный руль, прибитый к дереву и перевязанный свежей красной ленточкой – место гибели неизвестного человека, – и Белозерцев невольно дернулся, побледнел: похоронный символ на него подействовал хуже, чем кладбище, облизнул жесткие, в фанерных застругах губы. Если бы он умел креститься, то перекрестился бы. Но креститься Белозерцев не умел – не научили. – Что там сзади? – вновь нетерпеливо спросил Белозерцев, потом, не ожидая ответа, развернулся сам, чтобы удостовериться, есть хвост или нет. Сзади их «вольво» стремительно настигал шустрый, сверкающий свежей краской карминный жигуленок. – Во шпарит! – одобрительно отозвался о жигуленке Боря. – Похоже, летчик, в аэропорт торопится. – На тот свет он торопится, – раздраженно пробормотал Белозерцев, в следующий миг прижал к губам пальцы: ему почудилось, что карминный жигуленок странно себя ведет. «Неужто он?» – мелькнула у Белозерцева мысль. Он повторил вслух: – Неужто он? Великое дело – чутье, оно никогда не подводило Белозерцева. Он никогда не видел эту машину, не знает человека, сидящего за рулем, не знает человека, расположившегося рядом, но уверен – эти двое, находящиеся в карминном жигуленке, мчатся по его душу. – Что вас беспокоит, Вячеслав Юрьевич? – Боря всегда точно угадывал состояние своего шефа. – Красный «жигуль»? Это крашеное пасхальное яйцо? – Да, Боря, – сдавленно подтвердил Белозерцев. – Возьми его на заметку. – Мы можем оторваться от него в несколько секунд. На крыльях. Хотите? – Скоро место встречи. Уходить нам нельзя. – Это единственное, Вячеслав Юрьевич, что нас останавливает. За карминным жигуленком шла еще одна машина – тоже «жигули» блеклого песочного цвета с зеленоватой притемью по лобовому стеклу – защита от солнца, следом – также «жигули» немаркого навозного тона, с той же темной полоской по верху лобового стекла, чтобы водителя не слепил яркий свет. «Уж не Бенина ли это команда за мной шпарит? – мелькнула у Белозерцев в голове. – Только откуда Иванов узнал об этом? О беде моей, а? Зверев сказал? Телефоны мои прослушивал? – Белозерцев невольно поежился, солнечный, распускающийся, словно цветочный бутон, такой же яркий, но менее изнуряющий, чем вчера, день сделался темным и угрюмым. Еще не хватало, чтобы его пасла Лубянка. С Лубянкой дело иметь опасно, какие бы близкие друзья там ни работали. Самые лучшие друзья обычно и продают. За хвост селедки и огрызок огурца, если это надобно начальству. – Или это Зверев страхует меня, а? Взялся за ум и теперь страхует. Старый лысый преданный Зверев…» День немного прояснел, в нем вновь появилось солнце. Деревня, которую они проскочили на хорошей скорости, была бедной и пьяной, – около палисадников с зачумленной редкой сиренью Белозерцев засек трех «луноходов» – мужиков с негнущимися, подрубленными алкоголем кривыми ногами. Налево уходила дорога к внуковскому аэропорту – разбитая, в воронках, словно бы ее посекли мелкими танковыми снарядами, грязная. Белозерцев проследил за машинами – а не свернет ли какой из «жигулей» к аэропорту? Ни одна из машин не свернула. Неужели все они несутся, чтобы откусить от него кусок тела, часть души, страхуют друг друга? Он вытер ладони платком. Ладони были мокрыми, горячими. Через несколько секунд деревня осталась позади – она, оказывается, была такой маленькой, усеченной, нищенской, а Белозерцеву мнилось, что она будет огромной, и он приготовился к этому, но деревню будто бы обрезало, и потянулось пустынное мятое поле с остатками какой-то хлебной растительности – какой именно, Белозерцев не знал: слаб был в сельском хозяйстве. – Не гони! – попросил он Борю и, не сдержавшись, тоскливо и зажато вздохнул. – Уже скоро. – Не тушуйтесь, – засек его вздох водитель, – все будет в порядке, Вячеслав Юрьевич. – А если они стрелять начнут? – Вряд ли. С чего бы стрелять, а? Этому нет никаких объяснений. Если только у них стоит цель – уничтожить нас, тогда да, тогда все понятно, но они хотят получить деньги… Для этого не убивают, а, наоборот, оберегают клиентов. – Слишком умный ты, Боря. – Весь в маму, – отозвался водитель и неожиданно захохотал, смехом своим сняв немного напряжение с Белозерцева. Белозерцев покивал согласно, вновь вытер платком ладони. – У меня мама была очень жизнерадостным человеком, – сообщил Боря. – А у меня нет. – Мамы разные нужны, мама разные важны, Вячеслав Юрьевич, – поняв, что приблизился слишком вплотную к шефу, а это опасно, Боря стушевался и деликатно похмыкал себе в кулак – изобразил смущение. Белозерцев не заметил смущения водителя. Голова была пустая, звонкая, внутреннее состояние испуганным, под сердцем сидел, словно бы навсегда поселившись в его организме, холодный ужас. Белозерцев плотно зажал руками платок, стиснул руки коленями и в следующий миг почувствовал, как из платка на сумку, стоящую в ногах, что-то потекло. Он оторопело глянул вниз. Из платка тянулась тонкая мутноватая струйка, словно бы он раздавил куриное яйцо и из него потек белок. Напряжение возрастало. – Боря, Боря, – зашевелил Белозерцев влажными губами, – скорость поменьше, пожалуйста. И все засекай. Сейчас все и произойдет, – он снова глянул вниз, на фирменную сумку, набитую деньгами. Тоненькая струйка, выжатая из платка, перестала на нее течь. Карминный жигуленок резко добавил скорость и начал настигать «вольво» Белозерцева. Остальные «жигули» как шли, так и продолжали идти – попыток к сближению не делали. – Это он, Вячеслав Юрьевич, – сказал Боря. – А те, что сзади тянутся, они, кстати, тоже нечужие, они тоже отношение к этому «пасхальному яйцу» имеют. – Вижу, Боря. Еще чуть сбавь скорость. – Скорость уже шестьдесят. Ниже нельзя. – Выходи на встречную полосу, жигуленок подойдет к нам с правой стороны. Впереди не было видно ни одной машины – ну словно бы специально было это сделано, словно бы на узком Боровском шоссе специально включились все светофоры, если они, конечно, на нем были, и встречное движение замерло целиком. «Во расчет, во точность! – невольно восхитился Белозерцев, вяло шевеля мокрыми, ничего не чувствующими губами. – Та-ак, у водителя на котелок должен быть нахлобучен картуз с надписью “Кент”. И пароль… Какой же пароль он должен произнести? Забыл, забыл, г-господи!» – Белозерцев, расстроенный, сам себя не узнающий, ухватил дрожащими пальцами ручку сумки, водрузил этот денежный мешок себе на колени… Карминный жигуленок приблизился. Белозерцев скосил глаза вправо, потом оглянулся – догоняют их других машины или нет? Трое «жигулей» самой разной масти продолжали держать прежнюю, довольно почтительную дистанцию. За рулем карминного жигуленка сидел толстощекий, с маленькими добродушными глазками, мятый человек. На круглой плотной голове у него косо сидела полотняная кепка с длинным козырьком и надписью «Кент». Водитель карминного жигуленка улыбнулся, и Белозерцеву захотелось закрыть глаза от нестерпимого золотого сверка, вырвавшегося у него изо рта. Рядом с золотозубым сидел хмурый, с неприятным лицом человек, покалывал Белозерцева острым взглядом: Руки он прижал к животу, словно был беременным. «С оружием, – понял Белозерцев, – наготове держит». – Гутен таг! – весело поздоровался золотозубый водитель. – Гутен таг! – хмуро отозвался Белозерцев. – В вашей машине стучит карданный вал! – прокричал человек в кепке с надписью, стараясь, чтобы его хорошо было слышно, золотое, сияние чужих зубов вновь ослепило Белозерцева. «Попадет в какую-нибудь компанию золотоискателей в кавычках, – невольно подумал Белозерцев, стараясь не обращать внимание на посторонние вещи, но из этого ничего не получилось, он по-прежнему не владел собой – руки тряслись, губы дрожали, лицо золотозубого увяло – прямо перед глазами обрело серый цвет, – те живо золото клещами из челюстей повыдирают. Ныне опасно такой товар хранить в собственной пасти. И дурацкий же пароль придумал их пахан… Разве может в “вольво” стучать карданный вал? “Вольво” – это же не похожая на телегу ржавая “волга”, “вольво” – это “вольво”, и этим все сказано». Золотозубый, судя до всему, знал Белозерцева – видел раньше на фотоснимках, если бы не видел, то вел бы себя иначе, – он снова слепяще улыбнулся и сунул в окно машины видеокассету: – Как и договорились, производим обмен овощами, – прокричал он, – держите! Белозерцев поднял с колен сумку, увенчанную надписью «Белфаст», передал ее в окно золотозубому. Пот тек с Белозерцева струями, заливал глаза, щипал ноздри, было ему муторно, он боялся – боялся золотозубого, боялся его угрюмого напарника, боялся своего водителя Борю, он всего в этот момент боялся, руки у него дрожали – да ладно бы только руки, Белозерцева трясло всего. Золотозубый принял сумку с доброжелательной улыбкой, подмигнул Белозерцеву, как старому знакомому, – он, похоже, относился ко всему с иронией и пониманием, по закваске своей был совершенно иным человеком, чем его напарник, и Белозерцев неожиданно ощутил к нему благодарность. Словно бы подтверждая его мысль, золотозубый выкрикнул на прощание: – Не боись, родимый… С твоим сыном все в порядке! Дальнейшие указания получишь по телефону, – выкинул руку вперед, приказал: – Поезжай прямо! Вправо уходила дорога к писательскому поселку и железнодорожной станции – искривленный асфальтовый проселок длиною километров в пять, не менее. – Свернем или поедем прямо? – спросил Боря. – Если свернем – нарушим правила игры. Поезжай прямо. Карминный жигуленок резко, не сбавляя скорости и осев на вираже на один бок, ушел в сторону, «вольво», приподнявшись над взгорком, в следующий миг тяжело клюнула носом, словно самолет с остановившимся мотором, нырнула вниз. Впереди показались высокие современные дома, слепяще белые, несколько диковато смотревшиеся среди серых сельских построек. – Все, деревня кончилась, – объявил Боря. – За теми домами разворачиваемся и едем назад, в Москву, – приказал Белозерцев, закрыв глаза: ему хотелось как можно быстрее очутиться в городе, в своем офисе и вообще исчезнуть с этого страшного места. И из этой страшной страны, если хотите. Но и у тех, кто исчезает, спокойной жизни за кордоном тоже не бывает – так же наваливается рэкет, терзают разные банды, гордо именующие себя мафией, налетчики и похитители, все хотят обклевать, общипать «новых русских», хотя сами тоже являются «новыми», только полагают, что меньше откусили от богатого российского пирога, – нет, исчезнуть не дано. Если, конечно, собираешься жить. Если хочешь умереть – тогда другое дело. Он чувствовал себя выжатым, будто лимон, из которого выдавили весь сок, вышвырнули на обочину, за обочину, в кювет, и главное, в нем поселилось то, чего еще вчера не было, – страх. Белозерцев сейчас боялся. Всего боялся. Боялся золотозубого и его напарника, налетчиков, своей обустроенной и ухоженной квартиры, где лежала мертвая Ирина, городской милиции и Лубянки, собственных охранников и компаньона по «Белфасту», проживающего в Лондоне. Он почувствовал, что Боря притормаживает, прижимается к бровке асфальтовой площадки – наверное, автобусной остановки, – и разворачивается на малом газу, но глаз не открыл.
21 сентября, четверг, 10 час. 40 мин. – Ну и чего, кхе-кхе, имеем с гуся, господа наты энд пинкертоны? – поинтересовался Зверев в телефонную трубку. – Значит, работали они одной машиной? Примитивно, примитивно… Это значит, что они ничего не боятся. А мешок передал сам Белозерцев? Извини, сумку, сумку, я все понимаю. Я тоже, Родин, люблю точность, но случается, что кошелек из крокодиловой кожи по старческой привычке называю авоськой. Той самой продуктовой плетенкой, в которой носят картошку, так что позволь мне иногда интерпре… интетрепировать малость, кхе-кхе, манную кашу называть какашечной, а кабачки – коровьей радостью. Следили за «жигулем» аккуратно? Молодцы. А куда они сейчас направляются? По тому району у нас уже есть крупный специалист. Как «кто»? Майор Волошин. Как только загонят машины в гараж – доложи, кхе-кхе… Несколько минут Зверев сидел неподвижно, задумчиво поджав губы и глядя в одну точку – в притемь, скопившуюся, словно пороховой налет, в углу кабинета, хотел было позвонить генералу Иванову на Лубянку и уже взялся за трубку вертушки, но передумал: рано пока общаться с Ивановым и подводить промежуточную черту. Интересно, засекли налетчики хвост, наладившийся за ними следом или нет? Не должны засечь – машины, пока вели похитителей, менялись трижды. Он позвонил Белозерцеву. Белозерцев не ответил – не вернулся еще в офис. Звонить Белозерцеву можно было уже без всяких опасений – хорь, поселившийся на телефонной станции и прослушивающий телефоны милиции, госбезопасности и крупных бизнесменов, из своей норы выкурен. Нора пустая. До следующего хоря. А в том, что «свято место пусто не бывает» и в ней поселится новый хорь, Зверев не сомневался. Народная поговорка – штука убедительная. Зверев печально улыбнулся: вспомнил, как сын его, когда был маленьким, вместо слова «поговорка» произносил «поговорилка».
21 сентября, четверг, 10 час. 50 мин. Высторобец уже освоился на чердаке, наметил точки отхода – на случай, если его засекут братья Фомины, – огляделся и обжился – в общем, ему здесь нравилось. И пылью стало пахнуть меньше. По деревянным стропилам бегали, будто развлекаясь, солнечные зайчики. За массивной кирпичной трубой он нашел несколько сплющенных, со слипшимися обтрепанными страницами книг. Ничего интересного: это были старые, послевоенной поры школьные учебники по химии, алгебре, геометрии и русскому языку – вечные, в общем-то, книжки, поскольку содержание их, в отличие от учебников по истории и литературе, никогда не меняется. Он наблюдал за отъездом Белозерцева – суматошным, с беготней и тревогой, с сомнениям – брать с собой охрану или не брать, дивился Белозерцеву: надо же, не знал за ним такого свойства, как нерешительность, ему всегда казалось, что Белозерцев – человек без сомнений, к цели идет, не вихляясь, не спотыкаясь – словно танк, подминая всякие кочки, кусты, куртины, попадающиеся по пути. В конце концов Белозерцев уехал без охраны, с водителем Борей – вся охрана осталась в офисе. Впрочем, Боря тоже вооружен. И неплохо. Без десяти одиннадцать – Высторобец специально засек время, – Белозерцев вернулся и, выскочив из машины, бегом, зигзагами, словно по нему стреляли, пронесся в офис. – Чего это он? – недоумевая, вслух произнес Высторобец. – Кто ему насыпал перца под хвост? К телефону позвали, что ли? Но ведь у него есть сотовый телефон, переносной, Белозерцев может звонить хоть из сортира. Тогда что же? Он еще раз посмотрел на часы – было без десяти минут одиннадцать. Высторобец ждал – время его еще не наступило.
21 сентября, четверг, 10 час. 58 мин. Просмотрев кассету с записью, Белозерцев зажмурился, сжал кулаки и застыл, будто обратился в камень – все в нем ныло от боли: ну будто веревкой стянули ему горло, передавили хрящи, и нет ни воздуха, ни света. – Ну, погодите, н-ну, погодите, – шептал он едва связно, не открывая глаз и еще сильнее стискивал кулаки. Слезные, будто раненые, вскрики Костика, его мокрые глаза, лицо, руки, протянутые прямо в объектив, – все это добило Белозерцева, лишило сил. Он сидел в кресле, вяло крутил головой и продолжал повторять с зажмуренными глазами: – Ну погодите… н-ну, погодите… Он мог бы при встрече с золотозубым – прямо там, на Боровском шоссе, – раскроить его харю автоматной очередью – автомат ведь находился между сиденьями, под рукой, – перепилить ровно пополам, мог швырнуть в окно жигуленка гранату и посмотреть, каков будет взгляд у того мрачного пустоглазого ублюдка – соседа золотозубого. Белозерцев вслепую ударил кулаком по столу, стиснул зубы: а с Костиком они в таком разе что сделают? Нет автомат и граната – это не выход. Вначале надо заполучить Костика, а потом уж разрабатывать акцию возмездия. Ох, и покрутятся у него эти люди! Будет резать тупым ножом и живьем жарить на сковородке. Раздался телефонный звонок. Белозерцев, не открывая глаз, тупо повозил рукой по воздуху, будто сопротивляясь звонку, тщетно пытаясь, его вырубить, но звонок был настырный, не прерывался, словно звонивший знал: хозяин кабинета находится на месте, и Белозерцев поднял трубку. – Ну, как ты там, кхе-кхе, курилка? Живой? – от голоса Зверева Белозерцев раздраженно сморщился. «Кхе-кхе! Лучше бы воров с убийцами ловил да жизнь честных граждан оберегал вместо того, чтобы носом толкать кильку в бассейне». – А, кхе-кхе? – Живой, – недовольно пробурчал в ответ Белозерцев. – А… это самое, кхе-кхе, ты мне кассеточку не дашь поглядеть? – Какую кассеточку? – раздражаясь еще больше, с визгливыми нотками в голосе спросил Белозерцев: он действительно не понял, какая «кассеточка» понадобилась лысому милицейскому прянику. – Ну, ту, что тебе передал водитель красных «жигулей». Номер машины назвать? – Ты что… ты все-таки следил за мной? – невольно похолодев, так, что по шее резво забегали мурашки с неприятно-колючими быстрыми ногами, спросил Белозерцев. – А ты как думаешь? – Ты же отказался мне помочь, сказал, чтобы я собирал деньги и платил бандитам выкуп. – Все правильно. И это потому, что у тебя денег больше, чем у всех московских милиционеров, вместе взятых. Если бы ты отказался платить, мне бы пришлось обратиться в Госбанк и дать тебе нужную сумму, чтобы ты заплатил… – Ничего не понимаю. – Иначе бы они убили Костика, – Зверев специально подчеркнул слово «они». – Опять ничего не понимаю. Извини – тупой! – Ага, – «доцент – тупой». Ничего страшного. Такова специфика нашей работы. – Кстати, разговор наш прослушивается. Соображай, что можно говорить, а чего нельзя. – Уже не прослушивается. – Что, взяли слухача с отверткой и набором телефонных блоков в руках? – Угу: в чине подполковника. И с ним кое-кого еще. – Ты хотя бы слово какое обронил, что ли, знак подал, чтобы я знал, – Белозерцев растер рукой шею, словно сгреб оттуда муравьев, зажмурился от яркого света, ударившего ему в лицо – в стекло откинувшейся форточки попал солнечный луч, отпрыгнул к Белозерцеву, угодил в глаза. – А зачем тебе, кхе-кхе, знать? – Зверев рассмеялся. – У тебя своя работа, у меня – своя. И секреты также… У тебя одни, у меня – другие. Белозерцев понял, что он недооценивал Зверева, настолько недооценивал, что однажды может утратить бдительность и выдать себя, внутренне сжался, откинулся назад, уходя от луча, мешающего смотреть, а такой промах недопустим. – Понял, – сказал он чуть хрипловато, с внезапной одышкой. – Ладно, пленочку я тебе дам, присылай водителя. – А ты чего дома не ночевал? Кхе-кхе. – Зверев, кажется, собирался совсем добить его, Белозерцев почувствовал, что он плывет: приятель-генерал буквально вышибает у него камни из-под ног. Белозерцев помял пальцами кадык, покрутил головой, освобождая шею. – Чего, кхе-кхе, молчишь? – Да потому молчу, что думаю, откуда ты все это знаешь? – Работа у меня такая, я же сказал. Из болота тащить бегемота. А ты не лезь в Бутырку. – Ну и шуточки у тебя… господин учитель. Бутылка – Бутырка. Святое смешал с нечистой силой. Тьфу! – Просто я велел своим ребятам присмотреть за твоей квартирой: а вдруг какие-нибудь ниндзя в нее полезут? – Спасибо. Я как-раз собирался тебе звонить. Шофер мой, который сбрендил от страха… ну, тезка нашего министра обороны… так вот, он при мне трижды повторил одну фразу: «В моторе “жигулей” стучит один цилиндр, машина съедает много бензина». И можешь себе представить мое состояние, когда мы ехали обратно, Борис – нынешний шофер мой, говорит: «В моторе этих “жигулей” стучит один цилиндр, машина съедает много бензина». А! У меня чуть волосы на голове не зашевелились. – От этого волосы могут зашевелиться и на заднице. Просто эта машина участвовала в налете на детский сад. Только цвета она была другого – синего, а сейчас стала красной. Они ее перекрасили. И номер, кхе-кхе, имела другой. А это вообще проще простого – сменить номер. Перевесил – и все. – У них что, целое подпольное производство? – Представь себе! А дома ты все-таки побывай. Жена, наверное, заждалась. Белозерцев вновь почувствовал, как по шее у него забегали шустрые мурашки с колючими острыми лапками. – До вечера ничего с ней не сделается, – сказал он, взяв себя в руки. – Я с Ириной в ссоре.
21 сентября, четверг, 11 час. 25 мин. – Ну что, с почином! – Клоп потер руки над распахнутой горловиной сумки, из которой выглядывали пачки денег – целая гора. – С такими деньгами нигде не пропадешь. Даже на Северном полюсе. – Заткнись, дурак! – грубо обрезал его Деверь. Клоп не обиделся, вновь азартно потер руки. – Хороший гонорар за маленький видеофильм! – вкусно потянув носом, Клоп изобразил на круглом, с брылами, лице мечтательное выражение, воскликнул незнакомым медовым голосом: – Удачу положено обмывать. А что – неплохое это дело… Обмыть бы его несколькими стопками ледяного «Абсолюта» да пивком вдогонку… А? Это, мля, класс! И пара бутербродов с ветчиной, чтоб легла на дно желудка… на самую задницу… А? Класс! – Тебе сегодня еще за руль садиться. – Когда? – Когда скажут! – За это время все выветрится. – Я же сказал: «Нет!» – Деверь повысил голос, ожесточенно почесал страшноватую шишку, проглянувшуюся у него из волос на голове справа, смягчился: – Впрочем, бутербродами можешь хоть обожраться. И арбузенка покорми! Нам его надо держать в форме. – Арбузенок спит. Как вчера подсыпали ему в молоко толченого димедрола, так с тех пор и спит. – Ладно, пусть спит, – решил Деверь, оттянул створки жалюзи, поводил носом из стороны в сторону, будто чувствовал жареное. – Что-то такое не то происходит, – сказал он. – Цицерон! – похвалил его Клоп. – «Что-то такое не то…» Тебя цитировать, как Ленина, надо. – Можешь занести в свою записную книжку. Когда нет своих мозгов – пользуйся чужими. – Ах-ах-ах! – Чувствую запах пороха и крови. Только вот откуда пахнет – не пойму. – С Петровки пахнет, да еще с Лубянки, откуда же еще! – Ваши бы лапти да к нашим ногам. – Деверь опустил пластинку жалюзи, та с жестяным щелканьем вернулась на место. На улице было пусто, солнечно, пыльно. Ни машин, ни людей. С другой стороны, угол здешний – медвежий, в нем карнавалов и гуляний не бывает – всегда тихо и угрюмо. – Надо бы проверить оружие. – Проверяли, когда выезжали на свиданку с твоим этим… как ты говоришь, большим арбузом. – Надо проверить еще. – Во, мля! – в сердцах воскликнул Клоп. Командирские замашки Деверя ему не нравились. – А около арбузенка должен постоянно находиться человек с автоматом. Медуза, это будешь ты! – приказал Деверь. – Когда поедем на вторую встречу с нашей дойной коровой? – Скажут! – Деверь похлопал ладонью по чехлу сотового аппарата, висевшего у него на поясе. – Действуем по плану, который никто не отменял. Поскольку арбуз собрал все деньги целиком и сообщил нам об этом, то сегодня и произойдет ченч. Нам – деньги, все целиком, дойной корове – отпрыска. Тоже целиком, не частями. – Хорошая была операция, – похвалил Клоп. – Не каркай! «Была»… Она еще не закончилась, – Деверь нервно заходил по комнате. Остановился, метнулся в угол, встал за косяк окна, чтобы его не было видно, снова приподнял пластинку жалюзи, глянул на пустынную, будто бы вымершую, улицу. – Не пойму, где люди? Где люди, люди, люди? В этом городе Задрищенске люди есть? – Успокойся! – Клоп сделал мягкое движение рукой, пытаясь усадить Деверя на стул. – Все есть, как и везде, только народ сидит на дачах, копает картошку. – Какие могут быть дачи? Сегодня четверг, рабочий день. Четверг! – Во, мля! – не выдержал Клоп. – И долго ты над нами измываться будешь? Деверь ему не ответил, и когда Клоп сделал вторичное движение, стараясь успокоить его – придвинул стул, положил руку на плечо, – Деверь резко сбросил его руку с плеча. – И телефон молчит! – Деверь колупнул ногтем кобуру сотового телефона. – С таким мешком денег мы можем запросто спечься, – он покосился на сумку с долларами, – стоит только о нем кому-нибудь узнать. Клоп подумал о том, что перестрелять бы сейчас всех – втихую, из пистолета с накрученным на ствол глушителем, – подхватить эту сумку, выдернуть брата из его МУРа и исчезнуть. С такими тугриками где угодно не пропадешь! Он глянул на сумку, из которой выглядывала долларовая гора, облизнул губы. Деверь с треском застегнул молнию сумки, пробормотал ворчливо: – Ладно, уговорили, славяне, – дернем по паре стопок «жидкого хлеба». В ответ Клоп помахал в воздухе рукой – он словно бы отгонял от себя наваждение: конечно же, никогда никого он не пристрелит – внутренняя закваска у него не та, и «банан», сорванный компанией, он никогда не присвоит себе. И брат из МУРа вряд ли уйдет – там он при эполетах, а значит, при власти, при почете, при железках, которые ему ляпают на грудь одну за другой. Лицо у Клопа сожалеюще подобралось, глаза обрели задумчивый блеск, он подошел к окну, приподнял пластину жалюзи, как это только что делал Деверь. Улица по-прежнему была пуста, словно людей в этом районе поубивали, от земли поднимался тихий прозрачный пар – по улице только что прошла поливалка, у телефона-автомата, расположенного от дома наискось, отвалилась одна петля, и дверь скособочилась, на самой будке сидела сонная жирная ворона с задумчиво склоненной набок головой, улица была не московской, а провинциальной, глухой, бедной: ни один исследователь, если улицу запечатлеть на фото, не догадается, что она – столичная. – Чего там увидел, Клоп? – спросил Деверь. – То, чего не увидел ты! – Клоп говорил правду, к ограде их дома подкатила черная «Волга», остановилась, мягко качнувшись на рессорах. Над крышей машины торчал бойкий хромированный шпенек радиотелефона, номер был украшен большим трехцветным флажком, что означало: машина возит важную шишку. – То, чего не увидел я, только я и знаю, – сказал Деверь. – А вот ты не знаешь, кто из нас будет сейчас заниматься кухонными делами? – Не-а, – ответил Клоп с безмятежной легкостью, позвал Деверя: – Иди сюда! – Во дает! – пробормотал Деверь с яростью, готовый взорваться. – И не боится заяц, что будет бит! – он приподнял одно плечо, словно готовясь напасть на Клопа, но потом передумал и подошел к окну: – Ну? – К нам – гости, – Клоп приподнял повыше гнущуюся жестяную планку жалюзи. – Мне кажется, ты ждал именно их. – Мало ли чего тебе кажется! – пробормотал Деверь зло, но злое, собранное из углов и неровностей лицо его преобразилось в считанные миги – рот растянулся в готовной улыбке, глаза помягчели, шишки, выглядывающие из волос на манер рогов – старых, стесанных, округленных, но тем не менее придававших Деверю разбойный чертенячий вид, – втянулись в волосы, и Деверь пробормотал обрадованно: – Это они! –Глянул на Клопа: – Хорошо, что мы на столе еще ничего не разложили, а то бы они нас за пьянкой застали. Я нюхом, задницей чувствовал, что они вот-вот пожалуют… Открылась дверь «Волги», Деверь увидел точеную женскую ногу, обутую в дорогую «лодочку», и ахнул: неужели сама Полина Евгеньевна приехала? Нога осторожно ощупала «лодочкой» землю, словно бы пробовала ее на прочность, и Деверь ахнул вторично: надо же, как изящна Полина Евгеньевна! – излучая радостный свет, восхищенно задержал в себе дыхание, метнулся от окна в середину комнаты, потом снова вернулся к окну, приказал: – Клоп, немедленно прибери все в комнате! – Во-первых, поздно, а во-вторых, у нас и так все прибрано! Деверь всплеснул руками, словно выпускница института благородных девиц, – Клоп не узнавал его, он никогда не видел Деверя таким, ухмыльнулся злорадно, – бросился к двери и через минуту раздался его голос, источающий мед: – Полина Евгеньевна… Как приятно вас видеть, Полина Евгеньевна! – Откуда ты знаешь, что я – Полина Евгеньевна? – Холодно и грубо, враз отбрасывая Деверя на огромное расстояние, спросила гостья. – Мы что, за одним столиком в ресторане сидели, в одном банке деньги держим? У нас что – один круг общения? – Нет, что вы, что вы, – стушевался Деверь, отступая от Полины Евгеньевны, с грохотом врезался спиной в простенок, – просто я о вас столько слышал, что ошибиться никак не могу. Вы ведь – Полина Евгеньевна? – В годы войны был хороший лозунг: «Болтун – находка для врага!» И болтунов безжалостно ставили к стенке. Как немецких шпионов. И пулю – в лоб. Без всякого стеснения. – Извините меня, ради бога! – взмолился Деверь: он знал, что с ним могла сделать Полина Евгеньевна. Больше такое не повторится. Я не из болтунов. – Где деньги? – резко и по-прежнему холодно спросила Полина Евгеньевна. – Здесь, здесь… В сумке. Тут все на месте. Как вручили – так и привезли. – Деньги пересчитывали? – Нет. – Хоть сюда-то свой нос не сунули – и то хорошо. Отнеси сумку в машину, – сказала она человеку, сопровождающему ее, – запри в багажник. – Мне возвращаться? – Да. Придется еще кое-что перенести. – Она проводила взглядом своего шофера, который, когда поднимал сумку с деньгами, уважительно крякнул: хорош улов! – спросила у Деверя голосом, не допускающим никакого сближения, – Деверь был для нее человеком другой, небелой, породы (да и был ли вообще человеком, вот вопрос): – Где ребенок? – Спит. Мы ему вчера дали снотворного, чтобы он не дергался, и он спит. До сих пор не проснулся. – Это хорошо, – похвалила Полина Евгеньевна. – Где он находится? Здесь или в гараже? – В соседней комнате. Она прошла в соседнюю комнату, где на тахте мирно сопел забывшийся Костик, накрытый пятнистым, под шкуру ягуара, пледом. Сидевший рядом с ним в кресле Медуза вскочил, оторопело захлопал глазами. Автомат, который лежал у него на коленях, чуть не свалился на пол. Медуза неловко перехватил его правой рукой, отсалютовал им, будто деревянным ружьем. – Сторож? – поинтересовалась Полина Евгеньевна неожиданно миролюбиво, не глядя на Медузу. Было понятно без всяких слов: что есть Медуза, что нет его, для Полины Евгеньевны – все едино. Он был для нее обычным неодушевленным предметом. Пройдя к тахте, Полина Евгеньевна несколько минут вглядывалась в Костика, в лицо его, изучала черты, словно бы хотела распознать нечто неведомое – может быть, даже отыскать родство с американским президентом или с кем-нибудь из кремлевских небожителей. Потом оглянулась и сделала мягкий щелчок пальцами. – Я здесь, – тотчас же отозвался человек, приехавший с ней, шофер, судя по всему. – Мальчика – в машину! – приказала Полина Евгеньевна. – Только поаккуратнее, чтобы он не проснулся. И пледом лучше прикрой – пусть со стороны непонятно будет, что несешь… то ли тюк с бельем, то ли мясо под одеялом. Молча наклонив голову, – понял, мол, – сопровождающий поднял Костика на руки, замер на секунду, ожидая, проснется Костик или нет – у того только свесилась набок голова да приоткрылся рот, а так он даже не шевельнулся, спал крепко, шофер накрыл его целиком пледом, один край пледа свесился низко, но сопровождающий поправлять его не стал и унес Костика в машину. Вернулся назад за новым приказом, но Полина Евгеньевна энергичным жестом отправила его обратно: – Все! Жди меня в машине. – Подошла к Деверю и произнесла спокойным железным голосом: – Готовьтесь ко второй встрече. Где она состоится – будет сообщено! – Полина Евгеньевна смерила Деверя с головы до ног взглядом, проговорила презрительно: – Что-то уж больно на чучело смахиваете… Клоун из бродячего цирка. Что, может, денег на нормальную одежду нет? – Есть, есть! – смято пробормотал белый, как бумага, Деверь. – Ну так и нарядитесь нормально, не по-клоунски! – бросила гостья раздраженно напоследок. Через несколько секунд гулко хлопнула дверь, по-собачьи клацнул автоматически запирающийся замок. Деверь стер пот со лба: – Ф-ф-ф, пронесло…
21 сентября, четверг, 11 час. 35 мин. Зверев внимательно, чуть ли не приклеиваясь глазом к лупе, рассматривал карту района, где находились дома братьев-пенсионеров, снятые в аренду сотрудниками малопонятного ТОО – в милицейском компьютере об этом товариществе не было никаких сведений. – А может, вы плохо искали? – спросил генерал у Волошина. – Может, искали ТОО, а они – АО? Или еще, кхе-кхе, хуже – ИЧП? Тьфу, ноги в этих ичепе сломать можно, не только язык. – Искали так, как надо, товарищ генерал, – твердо ответил Волошин, – и не нашли. Нет этой шарашкиной конторы в нашем компьютере. – А у соседей, у чекистов, смотрели? – Пока команды такой не было. – Не было, не было, – ворчливо передразнил Волошина генерал и провел рукой по карте. – Ну что, будем брать эту твердыню? – Да какая это твердыня? Крепость из хлебного мякиша, – насмешливо отозвался майор Родин. – Три минуты драки – и с приветом, Шишкин! – А если мальца… кхе-кхе, того? Если заденете и мальчишка пострадает? – генералу от одной только мысли, что сын Белозерцева может угодить под пулю, сделалось жарко. – Все под Богом ходим, – Родин недовольно приподнял узкие мальчишеские плечи, – волков бояться – в лесу под кустом не сидеть и цветы не нюхать – это может случиться с каждым. Генерал демонстративно отвернулся от Родина и снова взялся за лупу: просчетов, когда будут брать этот «хлебный мякиш», быть не должно, а жертв – тем более. Самое лучшее – вообще обойтись без всякой стрельбы. – М-да, сподручнее все-таки брать их тут, а не в чистом поле, на дороге, либо в городе среди людей, когда они ко всему готовы и палец держат на спусковом крючке, – заключил Зверев и отложил лупу в сторону. Вошел дежурный. Зверев глянул на него, протянул руку: – Давай сюда! Дежурный вложил ему в руку бумажку. Судя по тому, как он с ней обращался, сразу было видно – бумажку важная, может быть, даже секретная. Зверев прочитал бумажку, недоуменно пошевелил бровями, лицо у него нехорошо потяжелело, стало темным. – Что, плохие новости? – забеспокоился Родин. – Ни то ни се, – сказал Зверев. – От «крепости из хлебного мякиша», как вы, майор, изволили выразиться, только что отъехала машина – черная «Волга» из правительственного гаража. «Волга» забрала сумку с деньгами и кое-что еще… – Сумку – это понятно, а что еще? – Если бы я знал. Машина-то – без права досмотра. Принесут снимки – попробуем разобраться. То ли коврик какой дорогой, то ли одежду в скатке – наружное наблюдение на этот счет своего мнения не имеет. «Волга» пробыла у дома шесть минут, сорок четыре секунды и ушла. Хронометраж точный. Ну что, будем штурмовать товарищество с ограниченной ответственностью, господа офицеры? – Будем! – в один голос ответили Родин и Волошин. – Люблю хоровое пение, – одобрил генерал. – А куда ушла правительственная «Волга», известно? – спросил Родин. – Пока неизвестно… Пока, кхе-кхе. Но скоро мы это будем знать. Денек-то сегодня, а? Не хуже вчерашнего. Самая милая пора для борьбы с бандитизмом. – Действительно, товарищ генерал, самая милая, – улыбка у Родина была мальчишеской, незащищенной, майор, похоже, не умел прятаться и скрывать свои чувства, – надо бы и праздник нашему президенту объявить специальным указом: двадцать первое сентября – всероссийский день бандитов. Или бандитизма. – Раньше в милиции специальные отделы были. По борьбе с бандитизмом. ОББ… Обэбэ! Потом их, при Никите, пустили в распыл, майор, – сказал Зверев. – А вообще, хорошее новое – основательно забытое старое. – Лихой был боец, наш Никита. Наколбасил на века. – Все это семечки, изюм. Родин, берите группу, поезжайте на место. – Без стрельбы, значит? – Если получится. Я же сказал – аккуратно. Как это сделать – смотрите сами, на месте, – Зверев постучал пальцем по карте, где красным карандашом были обведены два квадратика – кирпичные особняки братьев-пенсионеров. – А мне как быть, товарищ генерал? – Волошин привстал на стуле. – Я ведь уже был там, знаю, чем удобрены тамошние огороды… – Что, тоже тянет в драку? – Ну, не то чтобы тянуло, но… товарищ генерал, – тон у Волошина сделался просящим, в этом они были схожи с Родиным, оба – большие дети, – я Родину здорово подсобить смогу. – Родин… Тоже мне защитника нашел, – проговорил Зверев ворчливо, – а я тут с кем работать буду? С дядей Ваней, который в саду косит траву? – Зверев приподнялся, глянул в окно – внизу дюжий мужик в засученных до колен милицейских штанах точил косу, собираясь посечь макушки у свежей, вылезшей на поверхность сквозь старую, пожухлую, травы. Глянув на него, Зверев отрицательно покачал головой: – Нет, это не мой кадр. Вчера был мой. – Этот кадр вообще из конной милиции, – сказал Родин, – кобылам хвосты крутит, служба их – не милицейского подчинения. – Чьего же? – ехидно поинтересовался Зверев. – Да тем подчиняется, кто лошадей любит. – А я уже того… враг животным? Ладно, Волошин, поезжай, – разрешил Зверев, – но только для того, чтобы Родина сориентировать на месте, не больше. После этого – сразу назад.
21 сентября, четверг, 12 час. 20 мин. В районном управлении Родин устроил небольшое совещание: надо было определиться – как проникать в особняк? Брать его с налета, как в обычной операции – без стрельбы не обойтись: от ограды до двери особняка – слишком большое расстояние, хорошо контролируемое и явно выверенное по миллиметрам, точечно простреливаемое, но стрельбы группа, приехавшая с Родиным, несмотря на запрет генерала, не боялась. Ее командир – капитан из Управления по борьбе с организованной преступностью лишь презрительно усмехнулся: – Это нам все равно что два пальца… об асфальт! – Но там ребенок, – сказал Родин. – Как сделать так, чтобы пуля не зацепила его? – Знать бы точно, где он находится, тогда можно было что-то гарантировать, – заявил капитан, – а так… – он сделал неопределенный жест рукой, – нужна разведка. – Проще прихлопнуть весь дом. Они ни одного разведчика к себе не пустят. – Ну почему же? – подал голос молчавший до той поры Волошин. – Кто у нас беспрепятственно входит в каждый дом, и его все беспрепятственно пускают? Одет обычно в неглаженую форму с пузырями на коленях, в старую фуражку, обут в ботинки со сбитыми каблуками – это от того, что приходится слишком много ходить пешком, в руках держит древнюю, времен Великой Отечественной войны, кожаную планшетку… – Участковый уполномоченный, что ли? – перебил Волошина Родин. – Они сейчас называются инспекторами. – Не суть важно. Но это же рискованно. – Я могу быть этим уполномоченным, – предложил Корочкин. – Я в этих краях, на этих улицах, собственно, когда-то участковым начинал. Родин, жестко сжав глаза, окинул Корочкина с головы до ног. – А что? Годится! Форма есть? А то ведь участковые уполномоченные редко носят шелковые рубашки с галстуками от Диора. Корочкин сегодня был одет так, будто собрался на бал в Большой Кремлевский дворец. – Все есть. И форма, и пистолет в рукав на резинке, и даже кожаная планшетка пятидесятых годов. Родин перевел взгляд на Волошина. – Твоя точка зрения? – Поддерживаю, – сказал тот, – полный «одобрям-с». – Наклонился к Корочкину: – А я и не знал, что ты когда-то работал участковым. – Было дело. Да сплыло. Самая собачья работа! Все время между двух огней: с одной стороны – начальство, с другой – подопечные. Начальство кулаком по столу, а разные джентльмены из подворотни – кулаком по загривку. И так с утра до вечера. Выживали только сильные. – Все, готовимся к операции! – скомандовал Родин. – Корочкин, переодевайся!
21 сентября, четверг, 12 час. 40 мин. – А ты знаешь, без мальца стало как-то не так, – сказал Клоп Деверю, обгладывая куриную кость, – и скучно, и грустно, и некому лапу пожать. – Тоже мне, Лермонтов! – Нет, действительно, сразу какой-то расслабон пошел, делать ничего не охота, в сон тянет. – Но-но-но! – повысил голос Деверь. – Расслабон! У нас сегодня состоится еще одно свидание, а уж потом будет расслабон! – Когда мадам выдаст нам наши кровные, честно заработанные? – После окончания операции. Мадам сурова, ты же видел! – Глядя на то, как все было сделано, как в руки приплыл мешок с «зеленью», охота послать мадам к бениной маме и самим организовать товарищество с ограниченной ответственностью. Неужели мы с тобой не потянем, Деверь? Ведь пустяки же! Деверь зло свел брови вместе, хотел было обрушиться на Клопа, но вместо этого промолчал и отвернулся в сторону, показав собеседнику жилистую мускулистую щеку с напряженно работающими желваками. Интересно, какие мысли рождались у него сейчас в голове? Понятно одно – раз он не стал рявкать, плеваться матерщиной, раз молчит – значит, согласился с тем, что ему было высказано. Клоп, подумав о том, что могло быть, невольно задержал в себе дыхание: он ступил на опасную дорожку, идет сейчас по лезвию ножа, балансирует руками, вот-вот свалится. То, что Деверь молчит, еще ничего не значит. – Это все в будущем, Деверь, не сейчас, – проговорил он успокаивающе, – когда капитал сколотим, опыта наберемся, кого-нибудь из своих баб на бухгалтера выучим, вот тогда и создадим Тэ-О-О, – аббревиатуру ТОО он произнес с особым смаком. – Может, к этой поре Тэ-О-О будут по-иному называться, не так дурацки, – Клоп нарисовал куриной костью в воздухе замысловатый вензель, будто расписался под собственными словами, – какими-нибудь окадэ или бэжэсээрами. Деверь перестал жевать, спросил, не оборачиваясь: – Чего, чего? – Окадэ – вначале буква «о», потом буквы «кэ» и «дэ» – общество дураков, а бэжэсээр – «Бей жидов, спасай Россию!» Клич московских мясников времен Гражданской войны, – Клоп заговорил таким напористым и незнакомым тоном, что Деверь чуть не поперхнулся: раньше такой напористости за Клопом он не наблюдал. Неожиданно раздался дребезжащий, неровный, будто у него не хватило дыхания, звонок. – Это еще что такое? – вскинулся Деверь и вытащил из-за пояса пистолет. Клоп замер с костью у рта, побледнел. – Звонок в дверь, – как ни в чем не бывало пояснил Медуза, он всегда на все реагировал медленно, отставал, отстал и на этот раз. – Нет, не в дверь звонят – в калитку. У нас кнопка звонка там находится. Деверь снова засунул пистолет за пояс, подскочил к жалюзи, хотел по привычке отжать пластину, но в последний миг отдернул руку: а надо ли это делать? Ведь можно неосторожно засветиться и выдать себя. Попытался сквозь пластины разглядеть, кто их тревожит, но видно было плохо. Звонок повторился. – Кто бы это мог быть? – недоуменно проговорил Деверь. Медуза тем временем отыскал в другой комнате расщелину между жалюзи и стенкой, прокричал оттуда: – Милиционер! – Что за черт! Какой милиционер? – Не знаю. Мент стоит у калитки, переминается с ноги на ногу. – Ехали, ехали – и приехали! – пробормотал Деверь, снова вытащил пистолет. – Чего ему здесь надо? – Может, участковый? – предположил Клоп и не узнал своего голоса – слабого, свистящего, испуганного. – А участковый – это не страшнее электрика из жэка, такой же беззлобный работяга. – А если это дядя из МУРа, с Петровки, из красных милицейских оперативников? Ладно, Медуза, выгляни на улицу, спроси, чего ему надо? А ты, Клоп, приготовься на всякий случай, – Деверь передернул затвор пистолета, загоняя в ствол патрон, сжал зубы: – И тут, сволочи, нашли! Сдернул с ремня кобуру с сотовым телефоном, поспешно раскрыл его, набрал номер. – Молчит, сука! – просипел он. – Деньги считает. – Ты кому звонишь? – спросил Клоп, хотя и так было понятно, кому тот звонит. – Мадаме, что ли? – Кому же еще? Предупредить-то надо. А с ней, с мадамой этой, нас никакая милиция взять не посмеет. Ты видел ее машину? – Сейчас на таких машинах «воры в законе» ездят. – Ну правильно, пробрались в правительство и жируют… А народ, – Деверь недоговорил, скрипнул зубами, пригнулся, пытаясь подснуться под жалюзи, – выматерился сочно, когда это не удалось. – Чего надо? – донесся с порога голос Медузы. – Участковый я, – послышался далекий, словно бы сплющенный расстоянием ответ, – новый, неделю назад на должность заступил. Капитан Корочкин Николай Николаевич. Обход территории делаю, с хозяевами знакомлюсь. «Корочкин, Корочкин, – напрягся Деверь, стараясь вспомнить, слышал он когда-нибудь эту фамилию или нет, – а сдругой стороны, чего вспоминать-то? Этот милиционер мог любую взбредшую ему в голову фамилию назвать и любое удостоверение предъявить. – Корочкин, Корочкин…» Нет, фамилию Корочкина он никогда не слышал. – Документы есть? – поинтересовался Медуза. – Конечно, есть, – незамедлительно последовал ответ. – Дур-рак! – выругался Деверь. – Я щас! – выкрикнул Медуза участковому, заскочил в дом с распарившимся лицом, пот скопился у него в подглазьях, лужицами натек в складки кожи. Спросил растерянно: – А теперь чего делать? – Чего, чего? – набросился на него Деверь, выматерился, сплюнул на пол. – Теперь делать нечего… Зови! – Накинулся на Клопа: – Спрячь пушку, дур-ра! Свой пистолет Деверь убрал настолько стремительно, что Клоп даже не заметил, когда и как он это сделал. – Заходи! – прокричал с порога Медуза и нажал на кнопку электрического замка. – Удостоверение приготовь, товарищ капитан, чтобы все чин по чину было. – За этим дело не замерзнет… Мне бы хозяина надо. – И чего этому красноголовому неймется? – Деверь стиснул зубы. – И чего он всюду свой нюхательный аппарат сует? Пронюхать менты ничего не могли? – А как? – губы у Клопа выгнулись озадаченной скобкой. – Каким образом? Нет, не должны. Ни хвоста за нами не было, ни… В общем, я ничего не заметил, хотя, когда сидишь за рулем – все засекаешь. Даже какой водой торгуют бабы в коммерческих ларьках. – Ладно, будем считать, что этот снегирь забрел к нам случайно, – Деверь, жестко щуря глаза, следил за милиционером, морщился: слишком медленно этот неведомый Корочкин одолевает пространство от калитки до порога, спотыкается, хотя на бетонной тропке нет ни одной застружины, кашляет, сопливится. В следующий миг Деверь понял: это обычный малограмотный участковый, а не оперативник с Петровки – слишком старается ко всему приглядываться, слишком медлителен. Оперативники все засекают стремительно, со скоростью света, а этот тянет, тянет, сопли на ботинки роняет… – Вот гад! – выругался Деверь. – Навозная куча какая-то, а не милиционер. Наконец участковый добрался до крыльца, остановился, высоко задрав голову, словно был слепым и очень гордым одновременно. – Вы бы кого конкретно хотели? – спросил его Медуза. – Мне бы хозяина. Его надо повидать, познакомиться… Я – новый участковый, – повторил Корочкин уже сказанное, – ознакомительное, как говорится, турне совершаю, – участковый коротко рассмеялся, приподнял над головой фуражку и провел пятерней по волосам. Был он худ, легок, словно некормленный, – неопасный, в общем, человек, на такого один раз дунь – второго раза не надо будет, – он, как невесомое птичье перышко, улетит в нети. Оценив пришельца, Медуза так же, как и Деверь, успокоился. – А хозяина нет, – сказал он, – хозяин живет за городом. На даче. – Тогда того, кто его замещает. – Это мы с удовольствием, – Медуза посторонился, пропуская участкового в дом. – Хорошо, что арбузенка нет, – заметил Деверь, – вовремя увезла его мадама. Не то мы могли бы припухнуть. – Вряд ли, – усомнился Клоп, – он же спал. – Запросто могли! На мелочах все и припухают. И мы припухли бы. Участковый громко затопал ногами около двери: – Можно? – Заходите, – поморщившись, пригласил Деверь. Гость у Деверя, так же как и у Медузы, никаких опасений не вызывал: во-первых, он не оперативник, а во-вторых, больно уж хлипкий. Может, участковый и силен в каком-нибудь своем деле – ловко ищет беглых детишек, умело воспитывает карманников, читая им мораль на кухне, обнаруживает в подвалах пропавшие вещи и успешно борется с «зайцами» в транспорте, но только вот по части кулака, боевой решимости, готовности метнуть фанату в окно ресторана участковый явно уступает Деверю с Клопом, уступает даже рыхлому Медузе. Побольше бы мяса, мускулов, жил этому кашлюну-капитану с красным простуженным носом и довольно ладной, с пробором, прической – сразу другим бы человеком стал. Корочкин вошел в дом, приложил ладонь к козырьку: – Здравия желаю! Я, собственно, как уже и говорил, без особых дел… – Это мы слышали, – оборвал его Деверь, – хозяина нет. – А это я слышал, – сказал участковый. – Скажите, когда надо вызвать вам хозяина для знакомства, мы его привезем. Только точно, чтобы человеку зря в дороге кости свои не трясти. – Вы же повезете его на машине, не на танке, – при чем тут тряска? Даже со стороны было заметно, как между участковым и Деверем проскочила искра неприятия – пронеслось что-то темное, злое, – и вот глаза Деверя уже начали отливать железом, в зрачках зажглись тусклые беспощадные огоньки, лицо пришедшего капитана тоже сделалось жестким, взгляд потвердел. Деверь насчет «При чем тут тряска?» отвечать не стал, взгляд его был более чем красноречив: «Все равно ты ничего не унюхаешь и не засечешь, милицейская сука!» – Ладно, – примирительно произнес участковый, сегодня у нас четверг, давайте повидаемся с хозяином в начале будущей недели, годится? – и уловив бесстрастный короткий кивок Деверя, продолжил: – Понедельник – день тяжелый, в понедельник не будем, а вот во вторник встретиться было бы в самый раз. Как насчет вторника? – Пусть будет вторник, – стараясь, чтобы голос его был спокойным, произнес Деверь. – В десять часов утра… Это время годится? – Годится, – ответил Деверь, немного подумав. Теперь он окончательно убедился, что пришедший капитан ничего им не сделает, это обычный милиционер, мент, мусор мусорок, простодырный снегирь – две сопелки и два уха, который максимум что может в своей жизни – выписать штраф на пятьдесят копеек. Деверю неожиданно сделалось весело и он, вызвав у Клопа невольное удивление, предложил: – Может, стопочку водки? Ради знакомства, а? Как это всегда было на Руси? А? – Может! – согласился участковый. Сделал он это почти без раздумий, что тоже свидетельствовало о его характере. – Но только стопочку и больше ни-ни! Я на службе. – Да-да, мы тоже на службе. Не садясь выпьем. И закусим стоя. Прошу сюда, – Деверь на манер регулировщика дорожного движения сделал сразу двумя руками слаженный жест. – Сюда, сюда! Корочкин, стараясь запомнить все, что он видел, цепляясь взглядом за всякие мелочи, за детали, пытался угадать присутствие ребенка в доме – по брошенной игрушке, смятому ботиночку, штанишкам или рубашке, в скомканном виде засунутым под стул, но ничего пока не обнаружил. – Мне сказали, что здесь офис находится, товарищество с ограниченной ответственностью, – начал Корочкин аккуратно, теперь уже специально стараясь задобрить человека, сопровождавшего его – старшего в команде, – но что-то ни столов конструкторских тут нет, ни компьютеров, только жалюзи… – Совершенно верно, – подтвердил Деверь, голос у него наполнился опасной звонкостью – преображение произошло мгновенно, – Корочкин среагировал, насторожился, постарался оценить свою позицию и наметить путь для отступления. – Через неделю вы этот дом не узнаете, капитан, – звонким стальным голосом продолжил Деверь, – тут все будет – и канцелярские столы, и плавающие кожаные кресла, и компьютеры «айбиэм». – Налоги товарищество платит? – А как же! – Деверь сделал вид, что обиделся. – Смотрите, а то сегодня у нас были чины из налоговой полиции – оч-чень серьезные мужики! – Не-ет, мы законы не нарушаем и с каждого рубля дохода платим налог – к родному Российскому государству мы относимся с уважением, снимаем шляпу аж издали, – проговорил Деверь без запинки, словно бы заранее выучил текст, – сюда-сюда, налево, капитан, – проговорил он, но Корочкин, будто бы перепутав руки, где «право», а где «лево», свернул направо, нырнул за занавеску и очутился в небольшой, с плотно зашторенным окном комнате. «Окно выходит во двор», – засек он, мигом сфотографировал комнату взглядом и в ту же секунду почувствовал, как опасный холод обварил ему горло: на тахте, заправленной грязным, с темными, похоже, масляными пятнами пледом, лежал автомат Калашникова. Укороченный, десантный, столь любимый и мафиози, и милиционерами, и разного рода охранниками, и самими десантниками. Отдельно лежал запасной рожок, в прорези рожка был виден новенький, торжественно поблескивающий ярким металлом патрон. – Что это? – спросил Корочкин, ткнул пальцем в автомат и, оборачиваясь, резко отступил в сторону. Увидел расширенные жесткие глаза сопровождающего. В следующий миг понял: «Сейчас будет стрелять» – сопровождающий выдергивал из-за пояса пистолет, а тот, как назло, зацепился чем-то за складку ткани, и Деверь, осознавая, что он проигрывает драгоценное время, секунды, которые могут стоить ему жизни, что-то сипло выкрикнул Корочкину в лицо, с силой рванул пистолет, раздирая себе брюки, и тут же понял, что опоздал: пришедший в гости капитан оказался проворнее его. – Ах ты мент! Ах ты, с-сука! – прохрипел Деверь, он все-таки выдрал пистолет из-за пояса, но время его ушло, он бездарно проиграл, разбазарил его. В то же мгновение раздался выстрел. Это выстрелил Корочкин. Пуля попала Деверю в лицо, выкрошила несколько зубов, оторвала кусок носа, вогнала кожу, кости, еще что-то внутрь – лицо у него мигом стало похоже на большую куриную задницу, над которой блестели два больших, покрывшихся слезами яростных глаза: Деверь ненавидел Корочкина, в его лице он ненавидел всю московскую милицию и жаждал с ней разделаться, – он был еще жив и продолжал поднимать пистолет. Корочкин заметил, как Деверь машинально большим пальцем сдвинул флажок предохранителя, ставя пистолет в боевое положенние, и Корочкин, опережая его, выстрелил во второй раз. Вторая пуля всадилась Деверю в шею, порвала кадык, в страшной кровянистой дыре вспух розовый пузырь, лопнул, за первым пузырем вспух еще один, лопнул, окрасив красными брызгами чистый, тщательно выбритый подбородок Деверя. Казалось, словно в легких Деверя отказали какие-то клапаны и весь воздух полез из него наружу. Но Деверь был еще жив и продолжал поднимать руку с пистолетом. Корочкин выстрелил в третий раз – не целясь, пугаясь, того, что человек, в которого он стрелял, должен быть уже мертвым, а тот продолжает жить, душа у него упорно цепляется за тело. Третья пуля попала Деверю в грудь, выдрала кусок ткани из куртки, развернула его боком, но Деверь – еще живой, он никак не хотел уходить, сдаваться – снова выпрямился, его привлекала только одна цель, один маяк – Корочкин, и прежде чем Корочкин выстрелил в четвертый раз, Деверь нажал на спусковой крючок своего «макарова». Конечно же, Деверь уже не видел Корочкина, хотя шел на капитана и хорошо чувствовал его своим нюхом, своей кровью, своей кожей, – но уже не видел его, – стрелял он из той, загробной, жизни в эту, не различая цели, – он не попал в Корочкина. Пуля с густым шмелиным звуком прошла около головы Корочкина, впилась в угол, выкрошив кусок дерева, и затихла. Только сейчас Корочкин ощутил пронзительный острый щекотный запах горелого пороха, горячей меди, еще чего-то, что сопровождает всякую стрельбу, задохнулся, из глаз у него выбрызнули слезы, он закашлялся и отпрыгнул в сторону. Мертвый Деверь выстрелил еще раз. Непонятно, как он сумел сориентироваться на прыжок, но вторая пуля переместилась вместе с Корочкиным – она также вспорола воздух около его головы. Корочкин снова прыгнул – теперь уже к автомату, поскольку понимал: с пистолетом, у которого половина обоймы пуста, много не навоюешь. Да и к этим ребятам – к рыхлому, с нездоровым цветом лица увальню, который открывал ему дверь, ко второму – мякишу с золотыми зубами через несколько минут прибудет подмога. Из гаражей и хозяйственных построек, расположенных на задах участка. Если, конечно, подмогу эту не успеют опередить спецназовцы. Он схватил автомат, поспешно передернул затвор, и когда в проеме появился рыхлый, тяжело дышавший бандит с «калашниковым», прижатым к животу, – это был Медуза, – Корочкин и в этот раз опередил соперника, опередил всего на несколько коротких мигов – он первым нажал на спусковой крючок. Ствол автомата расцвел красным бутоном, будто большой тюльпан, из бутона выплеснула огнистая, пышущая жаром струя, и Медуза резко запрокинулся назад, из пробитого живота его пули выдрали несколько кровянистых клочьев, в воздухе мелькнул ботинок, сорвавшийся с Медузиной ноги, подволокся, будто живой, по полу к Корочкину. Подошва ботинка была стерта донельзя, срезы гвоздей золотисто поблескивали. «Плохая примета, – машинально отметил Корочкин, – если на улице машина сбивает пешехода и у него с ног слетают башмаки, песенка этого пешехода спета – он никогда не выживет, ему суждено умереть. Так и здесь». В острой гулкой тиши, возникшей после автоматной очереди, было слышно, как что-то жалобно и тоненько попискивает, звук исходил из пробитого пулями живота Медузы – там то ли кровь лилась, то ли воздух выходил наружу. «Остается еще один, третий, он может быть самым опасным». Третий знает, где конкретно находится Корочкин, он может стрелять из автомата прямо через стену – это, кстати, самое лучшее для него, – и Корочкин ничего не сумеет сделать с этим третьим, с золотозубым. Пора выбираться из этой передряги, покидать комнату. Корочкин перекатился по полу на противоположную сторону, выставил перед собой ствол автомата, подождал несколько секунд – вдруг золотозубый проявится? Каким-нибудь звуком, шорохом, корябаньем, шарканьем подошвы, но нет, было тихо, золотозубый никак не обозначился, и тогда Корочкин, перескочив через распластанного на полу Деверя, нырнул в дверь. По дороге подскользнулся на луже крови и упал рядом с Медузой. С силой оттолкнувшись от него ногой, откатился к стенке. Сделал это вовремя – раздалось сразу три выстрела, и пули одна за другой впились в пол рядом с телом Медузы. Острая щепка отскочила от одной из паркетин и всадилась Корочкину в скулу. Он отплюнулся, ударил на звук выстрелов из автомата. С досадой подумал, что запасной рожок оставил в комнате. Сейчас патроны кончатся и в «калашникове», автомат тогда обратится в обыкновенную дубину. Послышался мягкий шелестящий звук, словно бы по воздуху пролетела скомканная тряпка, и Корочкин снова надавил на спусковой крючок, целя через перегородку на этот звук. Раздался вскрик. «Попал», – обрадованно отметил Корочкин, еще раз надавил на спуск. В ответ раздался противный пустой щелчок. Корочкин поискал глазами: где же автомат толстяка с нездоровым рыхлым лицом? Ведь он же держал его обеими руками и не выпускал даже, когда был уже мертв. Автомата не было. Зато из кармана штанов торчал запасной автоматный рожок. «Так не бывает, – невольно подумал Корочкин. – Такое случается только в кино, но не в жизни!» Но факт был фактом – запасной рожок готовно выглядывал из кармана мертвого толстяка. Корочкин вытер пот, обильно проступивший на лице. До запасного рожка надо было еще добираться. А малое пространство это хорошо простреливалось. Свидетельство тому – три пули, сидящие в паркете. Корочкин прислушался: нет ли чего подозрительного снаружи? Не раздается ли топот бегущих ног? Из гаражей ведь обязательно должна примчаться подмога – люди, находящиеся там, явно услышали стрельбу и поняли, что происходит в доме. С улицы ничего не доносилось. Было подозрительно тихо. А как золотозубый? Золотозубый тоже не давал о себе знать. Но вот тишину взрезал короткий глухой стон, и капитан в ту же секунду дважды выстрелил из пистолета на стон – стрелял низко, с прикидкой, что бьет по человеку, лежащему на полу. С другой стороны, почему он так уверен, что золотозубый лежит на полу? А если он лежит на тахте или стоит, прислонившись плечом к стенке, или сидит на подоконнике, выставив перед собой пистолет? Стон повторился, капитан выстрелил еще раз и сам чуть не застонал: хватит стрелять, в пистолете остался лишь один патрон; он засунул «макаров» за ремень сзади, стволом вниз, перевел флажок предохранителя, чтобы не было случайного выстрела, и сделал несколько бесшумных кошачьих движений, подбираясь к Медузе. Надо было во что бы то ни стало вытащить у него из кармана запасной рожок. Он не успел доползти до Медузы, когда раздался грохот, вышибленного вместе с решеткой и пластинчатым жалюзи окна, одновременно с окном – выбитой двери, поверху прошлась короткая автоматная очередь и раздалась громкая злая команда: – Всем на пол! Руки за голову! «Наши, спецназовцы, – облегченно вздохнул Корочкин. – Успели!» Он поднялся на колени, и в ту же секунду крик, исполненный бешенства, заставил его опуститься вновь: – На пол! На пол! И руки на затылок! – Да я свой, – обиженно пробормотал Корочкин, обиду он не смог сдержать, она стиснула ему горло, – свой! – Потом будем разбираться, свой или не свой! А ну, р-руки! Корочкин поспешно сцепил руки на голове, лег. – Два трупа, товарищ майор, – доложил кто-то невидимый, – еще один – раненый и один пленный, в милицейской форме. – Пленного освободить, это наш сотрудник! – Корочкин узнал голос майора Родина. Над Корочкиным навис молодой спецназовец в защитного цвета маске, ткнул его стволом автомата: – Поднимайтесь, вы свободны! – А повежливее нельзя? – у Корочкина от обиды и напряжения голос сделался тонким, обрел прозрачную хрупкость. – Нельзя! – отрезал спецназовец. – Эй, Чижик, поаккуратнее с нашим товарищем, – послышался предупреждающий окрик Волошина, и Корочкину сделалось легче – хоть один защитник нащелся среди этих жестких, со злыми, настороженными лицами ребят. – Раненого перевязать! В проеме двери появился Волошин, помог капитану подняться. – Цел? Нигде не зацепило? – Слава богу! – Тьфу-тьфу! Значит, долго будешь жить. – Тех, кто в гараже, взяли? – Скрутили. Даже пикнуть не успели, не то чтобы «А» произнести. А ты тут, смотрю, сумел кое-чего нагородить. Где ребенок? – Не знаю. Не добрался до него. – Ребенка в доме нет, – сказал появившийся в комнате Родин. – Пошли допрашивать золотозубого, пока он горячий… Хоть и стрелял Корочкин через стенку, вслепую, а угодил точно в Клопа – одна пуля пробила ему плечо, другая – грудь; спецназовский фельдшер, содрав с раненого рубашку, обматывал его бинтами. Клоп стонал. – Молчать – прикрикнул на него фельдшер. – Не стони. Ранения-то – тьфу, детские. Если за автомат не будешь больше браться – до восьмидесяти лет проживешь. Волошин подошел к Клопу, резко поддел пальцами ему подбородок, глянул в замутненные, пьяные от боли глаза: – Где ребенок? – У… увезли. Час назад. – Кто? – Женщина… она… Кто она – не знаю… – На черной «Волге», что ль? С правительственны номером. Она? – Она. – Лейтенант, сделай ему обезболивающий укол, – приказал Волошин фельдшеру, – иначе от боли он потеряет сознание. – Уже сделал. На него обезболивающее, странное дело, не действует. – Ладно, – Волошин решительно рубанул рукой воздух, – найдем и черную «Волгу», и женщину, и… все, найдем! Клоп морщился, глядя на него, скалил зубы, стонал, до крови грыз губы, едва сдерживаясь, чтобы не закричать от боли; Волошин вгляделся в него внимательно и спросил: – Документы у тебя есть? – Нет. – Ладно, пусть не будет документов, ладно… Тогда скажи, у тебя родственник случайно в милиции, на Петровке, не работает? Келопов его фамилия. А? Клоп поморщился, ему было больно, очень больно, облизнул окровяненным языком губы и с трудом произнес: – Это мой брат. Услышав признание Клопа, Волошин присвистнул: надо же, что на белом свете творится!
21 сентября, четверг, 13 час. 20 мин. – Ничего себе клубок свился! – Зверев даже забыл про свое традиционное «кхе-кхе», поцокал языком удивленно, когда сложил все концы – одни концы свел с другими, совершенно не совпадающими по «сюжету», проследил за тем, куда они выводят, на каких конкретно людей, и от досады ожесточенно покрутил потной головой: кого тут только не было – и милицейские работники, и правительственные чиновники, и охранники банков, и талантливые инженеры, потерявшие работу, и матерые пьяницы, даже один учитель затесался (Медуза и был учителем). – Вот змеюшник! – не удержавшись, воскликнул Зверев, поглядел в ярко освещенное солнцем окно, показавшееся ему сегодня серым, пыльным, неопрятным. – Вот сволочи! – Он никак не мог одолеть, переварить в себе то, что узнал. Сидевшие напротив Волошин и Родин молчали. Наконец Зверев повернул к ним тяжелую голову – взгляд у генерала был такой, словно он решил подать в отставку – загнанный, недобрый. – Вот твари, – вновь не сдержался он, выругался. – И чего людям не хватало? – в следующий миг, словно бы не желая верить в то, что все так плохо, тускло и никаких светлых пятен в черном, душном пространстве нет, он вздохнул и, переключаясь в мыслях на другое, спросил у Волошина: – А этот Корочкин, капитан, в районе прочно сидит? – Прочно. Он там на хорошем счету. – Надо бы его к нам перевести, в город. Что-то совсем не стало у нас хороших сотрудников, – генерал хмыкнул, поймав себя на том, что его слова могут быть обидны для Волошина с Родиным, произнес извиняясь: – О присутствующих я не говорю – жена Цезаря вне подозрений. Все хорошие по коммерческим структурам разбежались, пополнение нам очень нужно… – Геофизики милиционеров из милиции выдавили, товарищ генерал. И если на генеральскую должность придет учитель рисования или заведующий куриным инкубатором – не то еще будет! – Ладно, с людьми мы разобрались, – проговорил Зверев, не обращая внимания на реплику Волошина, – а с техникой? Что там у них насчет техники, оружия? «Стингеры» случайно не нашли? – «Стингеры» не нашли, но мастерская у них отличная была. Несколько дядьков с золотыми руками там делали такое… такое присниться только может. Никакой завод не справится. Кстати, найден пистолет, из которого был убит охранник Белозерцева и пристрелен раненый налетчик. В общем, все есть, все арестованы, кроме… – Волошин сделал выразительные глаза и потыкал пальцем в потолок. – Понятно, на верхний слой атмосферы намекаешь, – Зверев взялся рукой за щеку, словно у него болели зубы, – на членов правительства, значит: – Намекаю, хоть это и не очень вежливо с моей стороны. – Но ты ведь знаешь, майор, что до Бога высоко, а до царя далеко, – вид у Зверева сделался кислым, он помолчал немного, достал из стола два фотоснимка, уложил их рядом на столе. – Тут еще одна любопытная сюжетная линия намечается, посмотрите, кхе-кхе, сюда. Найдите десять совпадений… На одном фотоснимке была изображена женщина – очень элегантная, вызывающе броская, стройная, идущая по садовой дорожке от дома к калитке. Волошин переглянулся с Родиным, не удержался – дом был им очень хорошо знаком. На втором снимке была изображена та же самая женщина, стоящая с тщательно одетым мужчиной у входа в ресторан «Пекин». – Хороша женщина? – спросил Зверев у Волошина с Родиным и, не дожидаясь ответа, ответил сам: – Оч-чень: хороша. Как мадонна на гравюрах Дюрера. Хотя я не помню, рисовал когда-нибудь Дюрер мадонн или не рисовал. Волошин, ты у нас все знаешь, ответь на вопрос, рисовал Дюрер мадонн или не рисовал? – Рисовал, товарищ генерал. – Врешь, не рисовал. – А действительно хороша, – Волошин невольно прищелкнул языком. – Да не для нас с тобой, майор, сшита. Дом на первом снимке узнаете? – Так точно! – в один голос ответили Волошин с Родиным. – Теперь я вам предложу еще одну фотокарточку. Из той же серии, – генерал достал из стола третий снимок, такой же, как и первые два, тускловатый, с размывами по краям, сделанный с неудобной точки, но вполне приемлемый: все, что надо было увидеть – можно было увидеть. На снимке по той же бетонной дорожке, ведущей от навязшего в зубах – скоро уже будет сниться– дома номер пятнадцать, шел угрюмый безлобый человек с низкой стрижкой и нес в руках что-то завернутое в плед. Что конкретно – не разобрать: то ли тючок дорогой материи, то ли персидский ковер, замотанный в плед, то ли пару бараньих ног для воскресного шашлыка. – Как вы думаете, что он несет? – Во-первых, товарищ генерал, что это за мужчина? – поинтересовался Родин, по-школярски склонив голову набок. – Шофер этой вот Шехерезады, – Зверев постучал пальцем по снимку, на котором была изображена красивая женщина. – А во-вторых? – А во-вторых, кто эта Шехерезада? – Вот это, господа, я вам сообщу позже. Чтобы вдохновения у вас побольше было. Ведь в нашем деле как: чем больше загадок – тем больше вдохновения. Итак, знаете, что несет этот драйвер первого класса? Родин! – Стопку хорошо отутюженных простыней для бани. – Не угадал. Волошин! – Пачку антиправительственных газет, которые приготовился контрабандой отправить на Дальний Восток. – Двойка, Волошин. Такие газеты сейчас можносвободно купить в России на каждом углу. Совершенно открыто. Без всякой контрабанды. Под пледом находится спящий ребенок. Костик Белозерцев. Это его шофер выносит из дома. – А это – папаша! – Родин ткнул пальцем в мужчину, снятого на фоне «Пекина». – Сам Белозерцев. – Так точно, это сам Белозерцев, – подтвердил генерал. Родин вгляделся в лицо женщины – вначале на одном снимке, потом на другом, сравнил, на лбу у него образовалась лесенка морщин. Родину показалось, что он знаком с этой женщиной, но в следующий миг понял: нет, не знаком. Он откинулся назад, давая глазам возможность переключиться, потом наклонился снова. – Ну и что, майор? – поинтересовался Зверев, улыбнулся одобряюще – ему нравилась цепкость Родина, майор вел себя, словно умный пес: если вонзит зубы во что-то, то ни за что не отпустит, пока не почувствует во рту вкуса крови. Хороший сыщик из майора может получиться. И возраст позволяет. – Не пойму что-то, – пробормотал Родин озадаченно, – у меня такое впечатление, что я эту женщину где-то встречал. Но где конкретно – не могу вспомнить. Может, на экране телевизора? Вряд ли, я бы засек это намертво. Не знаю… Кто это, товарищ генерал? – Позже, чуть позже, я еще сам не знаю. Для начала нам надо спасти ребенка, а уж потом – все остальное. – Все группы готовы к действию, – Родин невольно вытянулся около стола, – хоть сейчас можем выезжать. – Хорошо, – похвалил генерал, потом поморщился, словно раздавил зубами какой-то неувертливый твердый хрящик и причинил себе боль, – только время еще не наступило. Наступит время «Чэ» – поедете. Меня сейчас беспокоит другое: почему квартира Белозерцева вдруг стала мертвой? Никто из нее не выходит, никто в нее не входит, на звонки квартира не отвечает. Не случилось ли чего? – А что может случиться, товарищ генерал? Это же Белозерцев! У него охрана, собственные пятнистые – очень тренированные мальчики. – Кхе-кхе, случиться может всякое, не мне вам объяснять. И Белозерцев на квартиру носа не кажет. Ночевал он в офисе… Ладно, времени у нас еще немного есть. Проведем школьный опыт по влиянию электричества на организм лягушки. Зоологию в школе ведь изучали, господа офицеры? – А как же! За семьдесят лет советской власти поколений двенадцать на этих опытах встало на ноги, все наблюдали, как дергается лягушачья лапка, когда в нее какой-нибудь парубок тыкал проводком батарейки. – Все прошли, живодеры, – пробурчал генерал, pacкрыл телефонную книжку, провел по ней пальцем. – Белозерцев, Белозерцев… Где ты есть, старый друг Белозерцев? Ага! – произнес он торжествующе. Набрал семь нужных цифр. – Ну что, кхе-кхе, страдалец, как чувствуешь себя? В весе здорово потерял? – поинтересовался он жизнерадостным тоном. – Держись, брат Кукарекин, держись, иного пока посоветовать нельзя. Я хочу к тебе заглянуть. Стопка французского коньяка для гостя найдется? Только качественного, а не муры, произведенной в навозной бочке где-нибудь в деревне Диканьке, воспетой Николаем Васильевичем Гоголем. Ладно, еду. Сейчас сажусь на колеса и еду… Что? Никого с собой не брать? Я и не собирался кого-либо с собой брать, – он поднял голову, посмотрел на Родина, приподнял одно плечо, потом перевел взгляд на Волошина, приподнял друге плечо. – Готовь, кхе-кхе, посуду и бутерброды! – сказал Зверев на прощание и повесил трубку. – Приятного аппетита, товарищ генерал! – не удержался от подковырки Родин. – Язва! – генерал довольно похрюкал в кулак. – Один ноль, майор, в твою пользу. Ход за мной. Я, конечно, могу и не сдержать слова, и приехать туда не один, но поеду я к Белозерцеву один, – он задумчиво побарабанил пальцами по столу и со старческим кряхтением поднялся. – А вы, господа хорошие, будьте наготове и ждите меня. Могут быть всякие неожиданности.
21 сентября, четверг, 13 час. 30 мин. Высторобец продолжал сидеть на чердаке – он уже привык к здешней пыли и захламленности, к узкому пространству, в котором обязательно возникает ощущение некой внутренней стиснутости, названной Высторобцем эффектом консервной банки, – он и с этим смирился, привык к двум серым мышам – постоянным обитателям чердака. Мыши были существами серьезными, вначале пришел один, серый неулыбчивый гражданин, глава семейства, так сказать, потом появилась «вторая половина», некоторое время они приглядывались к новому постояльцу, что-то прикидывали, обсуждали про себя, затем, когда Высторобец угостил их кусочком хлебной мякоти, поспокойнели и смирились с присутствием человека на этом пыльном чердаке. – Жить в мире и спокойствии – лучше, чем вести войну, – сказал мышам Высторобец, – так что будем уважать друг друга! Он продолжал наблюдать за особняком «Белфаста», за перемещениями Белозерцева, за всем, что происходило, и особенно – за братьями Фомиными. – Что же вы так скоро предали меня? – пробормотал он, увидев, как те примчались на машине, расстроенные, с плоскими от огорчения лицами, бегом понеслись к Белозерцеву докладывать, что Высторобца дома не нашли, ночью он в квартире не появлялся, диван, на котором он обычно спит, остался неразобранным, – сами это проверили, лично, – жена встревожена его исчезновением, коротает время в одиночестве, опухшая от слез. «Ну, жена может вам и не такое изобразить, это же великая актриса, – с грустью подумал Высторобец, – практика у нее имеется хорошая», вслух произнес: – Неужели вы забыли, как я вас нянчил, как оберегал от синяков и шишек, как натаскивал? Это был вопрос, на который не требовалось ответа: и без того все было ясно. – Ладно, Бог вам судья, – сказал Высторобец, достал из кармана хлеб. Хотелось есть. Скатал мякиш в комок, раздавил его зубами, небом, языком – надо было почувствовать вкус хлеба, он очень любил этот вкус, – проглотил, скатал второй мякиш. Организм Высторобца мог обходиться малым – малой едой, малым питьем, двое суток Высторобец мог вообще ничего не есть, не пить и чувствовать себя прекрасно, – это было уже проверено. Перекусив, он положил остатки хлеба в полиэтилен, сунул пакет в карман: хоть и мог он купить в магазине что угодно, от французской гусиной печенки до норвежской лососины, а в магазине появляться ему было нельзя – на несколько часов он лег на дно. Вот останется позади второе действие спектакля – тогда он всплывет. И снова ляжет – за вторым действием должно последовать третье. Он поднялся, аккуратно, чтобы под ногой ничего не проминалось, не трещало, не выдало его обитателям этого дома, пробрался под потолочную балку – это было самое надежное, самое укрепленное место. Под ней, снизу, была проложена еще одна балка, такая же прочная, в пяти или в шести местах мертво сшитая деревянными шипами. Высторобец прошел по балке в один конец, потом развернулся, прошел в другой. Ему важно было все знать про этот чердак, заучить все изгибы и повороты, увидеть, что навалено в углах, определить, ковырялся ли кто в старых учебниках, грудой сваленных у кирпичного дымохода, и хотя открытие тут он вряд ли сделает, самому убедиться, насколько надежно заперт второй лаз на чердак, прикинуть, сколько ударов потребуется, чтобы сбить с него замок. Между двумя стропилами была протянута веревка тонкая, скользкая, капроновая. Он подергал ее руками, потом навалился на веревку всем телом – по крепости она не уступала стальному тросу, на ней можно было буксировать автомобиль. Высторобец постоял несколько секунд, у веревки, потом одобрительно склонил голову: годится. Больше ничего приметного на чердаке не было. Высторобец снова лег у слухового окна, продолжил наблюдение. Было скучно и жарко. У всех крыш, из чего бы они ни были сколочены – из железа ли, из шифера, из черепицы ли, – есть одна особенность: они очень быстро нагреваются, воздух под ними становится каленым, сухим, совершенно лишенным кислорода, дышать бывает трудно, перед глазами, в голове все прыгает, мозги текут, в ушах поселяется пронзительный сверчковый звон. Южный звон – только на Юге могут так пронзительно и противно трещать разные кузнечики, древесные лягушки, букашки, стрекозы и прочая земная саранча. Он достал из кармана пистолет, изъятый ночью у любителя легкой наживы, пистолетик был плохо ухожен, хозяин не следил за ним, хотя явно знал, что неухоженное оружие имеет особенность подводить владельца и быстро стареет, выдавил из рукояти обойму. А вот патроны были новые, убойные, сально поблескивали от масла. Высторобец невольно отметил: патроны не наши, а одной испанской фирмы, производящей боеприпасы для пистолетов Макарова. Хоть это-то родило в нем удовлетворенное чувство. Он вновь увидел на дворе братьев Фоминых, те опять прыгнули в машину – расхристанный, с болтающимися крыльями разъездной джип – и, сделав на площадке крутой стремительный разворот, исчезли. За рулем сидел Андрей Фомин – Высторобец не мог сказать, почему он решил, что это был именно Андрей и как он сумел на расстоянии отличить Андрея от Володьки, когда это невозможно сделать даже в пяти шагах, но он был твердо уверен, что баранку крутил Андрей Фомин. Его, Высторобца, поехали искать Фомины. Высторобец не сдержался, проговорил тихо, с недоброй усмешкой: – Ищите, свищите… Свищите, пока время есть. Скоро будет поздно. Неожиданно совсем рядом с собой он опять увидел мышь – крохотную, шерстистую, пахнущую пылью и хлебом, сообразительную, с черными мокрыми бусинками глаз – это была другая мышь, не из тех, что он уже видел, спросил едва слышно, не разжимая рта: – Ну чего? Он думал, что мышь испугается его, исчезнет, но та не испугалась, лишь дернула усиками, потом смешно сморщила мордочку и чихнула. – Ну ты, подруга, и даешь, – удивился Высторобец. – Столько я прожил на белом свете, но никогда не видел чихающих мышей, – аккуратно, чтобы резким движением не испугать гостью, забрался в карман, отщипнул немного хлеба, смял в маленький комочек и бросил мыши. Та не испугалась броска, все поняла, подскочила к хлебу, обнюхала его, потом по-собачьи ухватила зубами и уволокла. – Молодец! – вдогонку похвалил ее Высторобец. В это время его внимание привлекла новая черная «Волга» с фонарем и радиоантенной на крыше, въехавшая во двор «Белфаста». – Ну-ну, – только и произнес Высторобец, приник к слуховому окну. Почему это окно называется слуховым, он до сих пор так и не понял. Это же смотровое окно – смотровое, а не слуховое. Из черной «Волги» вылез человек с красными лампасами на брюках и направился в «Белфаст». – Ба-ба-ба! – не удержал изумленного восклицания Высторобец. – Живой милицейский генерал!
21 сентября, четверг, 13 час. 40 мин. Белозерцев был в более чем раздраженном состоянии – он не понимал, как эти два здоровых качка, братья Фомины, которым дадено все – и машина, и деньги, и оружие, и патроны, и свобода действий предоставлена полная: что хочешь, то и делай, в кого хочешь, в того и стреляй, – не могут обнаружить, где находится этот никчемный Высторобец. Приходят в кабинет и беспомощно разводят руками: не знают… А кто знает? Иван Батькович Крылов? Великий российский полководец… этот самый, с выбитым глазом… Кутузов? Вот Белозерцев и высказал братьям все, что о них думает. Оба выскочили из кабинета испуганные, краснолицые, мигом вспотевшие, будто он выгнал их отсюда струей горячего пара. – Найти, видите ли, не могут…. Сучье! Тьфу! – выругался он, откинулся в кресле. Обе ноги водрузил на стол: слышал, что американцы делают это не потому, что они такие гордые, совсем по другой причине – кровь в таком положении отливает от конечностей и хозяину становится легче. – Найти не могут! Надо было брать жену под микитки и туда же, под микитки, засунуть ее голову. Или в ведро с соленой водой. Чтобы дышалось легче. И держать до тех пор, пока не скажет, где находится муж. Детский сад! Вот набрал недоумков со слюнявчиками, себе сопли вытереть и то не могут! – он говорил не останавливаясь до той минуты, пока на пороге кабинета не показалась Зоя Космодемьянская, ни с того ни с сего побледневшая больше обычного, окостлявевшая, растрепанная. «В молотилку попала, что ли? – невольно подумал Белозерцев. – Или под петуха… – не удержался, растянул губы в улыбке, – под двухногого, пьяного, с медными яйцами и карманами, набитыми долларами?» Спросил громко, властно: – Ну? – Там это… это, – потыкала пальцами назад, за спину, и в следующий миг, отодвинутая чьей-то сильной рукой в сторону, сделалась совсем плоской, тусклой, некрасивой, на ее месте появился полный, брызжущий энергией Зверев. – Ну что, гостей все-таки принимаешь, господин миллиардер, али как? – громыхнул генерал жизнерадостным басом, и от этого беспечного баса, от вида плотной фигуры, излучающей довольство, Белозерцеву захотелось ругаться, крыть матом всех и вся, налево и направо, но вместо этого он пробормотал довольно добродушно: – Али как! – И коньячок, как обещал, найдешь? – Оля! – позвал Белозерцев, глядя, как плоская, окончательно раздавленная громоздкой генеральской фигурой секретарша шевелится в дверном проеме, пытаясь высвободиться, делает слабые движения руками, но ничего у нее не получается: – Пожалуйста, нам французский коньяк, кофе, печенье, бутерброды с сервелатом и ветчиной, шоколад, конфеты, орехи. – Не слишком ли, кхе-кхе, много? – Ты толстый. Одолеешь. – Толстых все обижают… А почему, спрашивается, все обижают толстых? Да потому, что в них попасть легче. – Зато в толстых вмещается много. – Ладно, давай неси все, – со вздохом согласился Зверев. – Еще, Оля, не забудьте шпроты, сыр, горчицу, повидло, соль, перец, сметану, сахар и сливочное масло. Оля вопросительно глянула на Белозерцева. – Дядя шутит, – сказал тот, – не обращай внимания! Неси то, что я сказал. – Ну и жмот! Горчицы пожалел. – Зверев бесшумным катящимся шагом – этакий скоростной луноход – переместился на середину кабинета. Был он одет в форменную серую рубашку и новые брюки с яркими красными лампасами. – Лампасы у тебя шире, чем у министра обороны, – заметил Белозерцев. – Этого не может быть. У Грачева все шире – и лампасы, и задница, и зарплата, и продуктовая авоська. – Авоськи-то, говорят, отменили. – Это только говорят, а на деле кому отменили, а кому совсем наоборот. Ты что, думаешь, демократы не любят осетрину? Или черную икру с языковой колбасой? Как бы не так. – Ладно, господин главнокомандующий, садись в кресло и выкладывай, с чем пожаловал! Зверев уселся в кресло, проверил его – не сломается ли? Посерьезнев, вздохнул. Ткнул пальцем в кресло, стоявшее напротив, по другую сторону тонконогого приставного столика. – Садись сюда! Я тебе кое-что показать собираюсь. – Це-це-це, – не замедлил отозваться на это предложение Белозерцев. – Пришел в чужой кабинет, расположился, как у себя дома, и еще командовать собрался – куда мне сесть и те де, и те пе?.. – У милиции чужих кабинетов нет. – Все свои! – усмехнулся Белозерцев, перешел к креслу, указанному Зверевым, со скрипом уселся в него. Показал пальцем вниз: – И там свои, – ткнул пальцем вверх, – и на небе? Везде свои кабинеты имеете. – Везде, кхе-кхе, – Зверев расстегнул потертую кожаную папку с давленым клеймом «60 лет советской милиции», достал оттуда несколько снимков, положил изображениями вниз. – Может, тебе новую папочку подарить? – Белозерцев никак не мог успокоиться, его тянуло на подначки, на издевки, а внутри были холод, тревога, дырки, сочившиеся болью, перед глазами вновь, как и вчера, начала дергаться черная вертикальная строчка. – А чем тебе эта не нравится? – спросил Зверев. – Отжила она свое. Совковая. С атрибутикой умершего государства. И слова какие: «Советская милиция!» Это что же – та милиция, что «меня бережет»? Не уберегла. Аллес капут! – Не уберегла, – согласился Зверев, – не уберегла, кхе-кхе, – он хотел добавить что-то еще, но слов не нашлось, около рта образовались печальные морщины, и вид у этого уверенного в себе генерала сделался растерянным и старым. Как ни крути, Зверев все же – принадлежность прошлого, а не настоящего. – Ладно, взялся за грудь, так спой что-нибудь, как в эпоху соцреализма любили говорить в заведениях, украшенных красными фонарями. – Кхе-кхе… В обкомах, что ли? – М-да, старым стал Зверев, раз не догадывается, что это? Впрочем, Зверев и сам это понимает. – Ну что ж, – сказал он, – за грудь, так за грудь. Перевернул один из снимков – тот, на котором была изображена Полина Евгеньевна Остапова, идущая по бетонной дорожке от дома номер пятнадцать к машине. Машина на снимке не была видна и калитка тоже не была видна. – Ты знаешь эту женщину? Белозерцев взял снимок в руки, щеки у него покраснели, он быстро глянул на Зверева: – С ней что-нибудь случилось? – Ничего. Лицо у Белозерцева помягчело, краснота сползла со щек. – Еще бы, – сказал он, – это Вика. Виолетта. Откуда ты ее знаешь? – Это для тебя она Вика. Или Виолетта. А для меня – Полина. Отчество – Евгеньевна. Женщина, между прочим, очень красивая, в такую мудрено не влюбиться. Снимаю шляпу. – Ты что, за мной следил? – Естественно, – спокойно ответил Зверев. – Ты же мне позвонил, попросил о помощи… – Но ты в ней отказал! – Отказал потому, что не знал, как буду действовать. Как фамилия твоей Виолетты, знаешь? – Сергеева. – Нет ничего проще, чем придумать себе такую фамилию. Сергеева, Иванова, Сидорова… Старый кагэбэшный прием, над которым я не перестаю потешаться. Настоящая ее фамилия – Остапова. – Ничего не понимаю, – Белозерцев ожесточенно покрутил головой, словно собирался вытряхнуть из ушей то, что он слышал. – Абсолютно ничего не понимаю. – Что, радостный сюрприз я тебе преподнес? Но это еще не все. Хотя и зовут ее не Виолеттой, а Полиной, она, вполне возможно, имеет паспорт на имя Виолетты Сергеевой – я это очень даже допускаю, но… – Зверев неожиданно замолчал и сделал осаживающий жест, возвращая привставшего Белозерцева в кресло. Вообще-то, он безжалостно поступает со своим приятелем, вываливая на него все сразу – тому надо дать отдышаться. Лучше было, конечно, вообще ничего ему не говорить – вон как вытянулось, стало потным лицо Белозерцева, явно у него с этой Полиной-Виолеттой что-то есть… и не просто «что-то», а очень и очень даже тесное «что-то»… Зверев не выдержал, спросил, понизив голос, словно здешние стены имели уши, а прослушивающим аппаратом управляла жена Белозерцева: – Слушай, у тебя с ней что-то было? – Было, – шепотом отозвался Белозерцев, махнул рукой горько, – было… Не то слово. Да я… Как-нибудь потом, когда все пройдет, я тебе расскажу… «Когда все пройдет, – невольно, почти автоматически зацепился за фразу Зверев, – он уверен, что все пройдет… Он уверен, а я не уверен, – Зверев вздохнул, повел головой в сторону, освобождая себе горло, позавидовал: – Мне бы такую уверенность, я бы давно министром внутренних дел стал». – Твоего ребенка похитила эта женщина, – тихо и твердо произнес Зверев. – Что-о? – свистящим шепотом спросил Белозерцев, голоса у него уже не стало, только шепот. – То, что слышал, – Зверев перевернул второй снимок, придвинул к Белозерцеву. – Здесь сфотографирован шофер Полины… – Какая, к шутам, Полина? Вика! Виолетта! – Белозерцев не мог смириться с тем, что слышал. – Может быть, и Вика, но от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Что Вика, что Полина – для закона все едино. Это ее шофер. Он несет твоего сына. Под пледом. Укутан твой Костик так, что не понять, человек ли это? Через четыре минуты после того, как был сделан этот снимок, Полина Евгеньевна Остапова увезла твоего Костика. – Нет… Не верю! В голове не укладывается. Зачем она это сделала? – вид у Белозерцева сделался жалким, глаза обрели неприятно униженное выражение, будто у собаки, которую несправедливо обидели. – Как зачем? Ты же богатый человек! – Но я давал ей деньги и без того… Доллары. Франки. Марки. Сколько надо, столько и давал, – пробормотал Белозерцев растерянно. – Значит, мало давал. Ты давал что-то, а ей надо было все. – Я же ей предложение сделал… – Вот те раз! А Матрену свою свет Патрикеевну куда? На свалку? – Почему «на свалку»? У нее будет своя жизнь, у меня – своя. Нам уже пора разбегаться. Пора. На то есть причины. – Ты дома давно не был? – хоть Зверев и не повышал голоса, а вопрос его прозвучал резко, как щелчок хлыста. По щекам Белозерцева пробежала тень, он отвел взгляд в сторону. – Более суток. Вчера днем заглядывал. Ночевал я здесь, в офисе. – Это я знаю. – Ну раз знаешь это, то знаешь и все остальное, – просто и печально произнес Белозерцев, про себя подумал, что ничего этот старый хряк не знает. Дышать Белозерцеву сделалось легче. – Вообще мадам не звонила мне уже давно. – У тебя дома ничего не могло случиться? – А что там могло случиться? – Белозерцев не выдержал и отвел глаза в сторону, потряс головой. – Нет, в мозгу это никак не укладывается. Вика, Вика… и какая-то Полина. Да еще Евгеньевна! Вика Сергеева – как просто и вкусно! Но нет – Полина! Пфу! – Он потянулся к телефонной трубке и предложил Звереву: – А что, если я сейчас ей позвоню? – И что ты ей скажешь, кхе-кхе? – Найду что сказать. – Хорошо, позвонишь, наговоришь резкостей, и она тебе тут же признается: «Я украла Костика, чтобы нам с тобой лучше жилось, и хотелось и моглось, и давалось и бралось… Но я больше не буду!» Ты думаешь, она это скажет? Это? – «Эх, хорошо в стране советской жить!» – Это все в прошлом. Могли бы жить, да не захотели. А Полине звони, не звони – дохлое дело, пустое, кхе-кхе. Через час мы ее брать будем. Как только определим, где твой сын находится, так и возьмем. – Мне с вами можно? – Не знаю. Это не я определяю. – А кто определяет? – Чекисты. – А ты что, уже и не начальник? – Начальник. Но только над своими подчиненными. А ты к числу моих подчиненных не относишься. – Г-господи, что происходит! – Белозерцев застонал, взялся руками за голову, качнулся в одну сторону, потом в другую, затем, остановившись, схватил фотоснимок, поднес его к глазам. – Да, это она, Вика! – У него невольно, сами по себе задрожали губы. – Это она! – Белозерцев, рассматривая снимок, прижал пальцы к одному глазу, потом к другому, пояснил: – Понимаешь, глаза плохо видеть стали. Плывет все, черная линейка перед глазами дергается. В голове – шум, – он, словно раненый, осторожно ощупал пальцами затылок. Зверев понимал: это от внутренней боли, слишком много сейчас сидит в Белозерцеве боли. А вот насчет Вики-Полины – интересная новость, которую следует хорошенько обмозговать, может, она, объяснит, почему в квартире Белозерцева – мертвая тишь, никто в ней не ходит, не дышит – ни единого шороха, ни единого движения, словно никто в ней не живет, – и как это Зверев проглядел созревание своего банного друга Белозерцева в новой ипостаси – суженого… или как лучше сказать… жениха, что ли? – красивой, но очень уж загадочной по части Уголовного кодекса женщины? Зверев вежливо улыбнулся, вздохнул – в кабинете было душно. Ни кофе, ни коньяка, ни орехов не было, Зверев понял, что эта плоская доска, секретарша белозерцевская, невзлюбила его, тянет время и, конечно, постарается, чтобы визит Зверева закончился раньше, прежде чем она закончит обустраивать поднос с едой и напитками. Он ощутил в себе некую странную обиду, но потом решил, что это – ребячье, мелкое очень, на такое, не стоит обращать внимания, и подавил обиду. – Ты знаешь хоть, кем твоя Вика работает? – спросил он. Белозерцев вяло махнул рукой. – Менеджером в каком-то «джойнт венче» – смешанном российско-шведском предприятии. Или что-то в этом духе, я точно не помню. Для меня это не имеет значения. – Напрасно. Это, кхе-кхе… это должно иметь значение. А насчет смешанной со шведами компании она тебя обманула. Она работает в аппарате президента. – В аппарате президента? – Да. И у нее очень приметная должность. Странно, что ты об этом ничего не знаешь. – И никогда об этом не слышал. Когда я с ней познакомился, она была никем… Никем, понимаешь – девушкой, стоящей на троллейбусной остановке. – Была никем, а стала всем: демократы очень четко усвоили этот лозунг большевиков и взяли его на вооружение. Но башка-то у тебя на плечах, Вава, всегда была… Эх, Ва-ва! – прочеканил генерал медленно ребячьим голосом, будто ставил себе дикцию – ему было жаль Белозерцева. Как все-таки иногда жизнь потешается над людьми, играет с ними, словно с котятами – только что, еще сутки назад, человек находился на вершине большой горы, прозванной Олимпом или чем-нибудь в этом духе – горой Удачи, Славы, Богатства – сидел в золоченом кресле, трескал ананасы с рябчиками, запуская руку в мешок, ссыпал вниз с горы монеты, простые смертные жадно ловили их, – и вдруг оказался в дерьме, в беде, в грязи, сейчас ему плохо, но будет еще хуже, вот ведь как. Повторил прежним чеканным ребячьим голосом: – Ва-ва! Не удержался Белозерцев, сморщился, лицо его поехало в сторону – а ведь так, Вавой, его совсем недавно называла Вика. Он поглядел на свои ладони – они помнили нежную гладкость ее кожи, форму ее затылка, шеи, ласковую невесомость головы, внутри у Белозерцева родился скулящий звук – все было и все, увы, ушло. Никого нет. И ничего. Он остался один. – А это…. Вы когда Вику брать будете? – Готовимся. Как только все будет готово – так и пойдем. Главное, чтобы стрельбы не было. – А может быть? – Может, кхе-кхе. Вика твоя – штучка серьезная, у ее подопечных есть все, вплоть до гранатометов. – Не верю, – Белозерцев не выдержал, вновь застонал. – В голове не укладывается. – Еще долго, кхе-кхе, не уложится, – пообещал генерал, – но потом все станет на свои места, и ты уже удивляться ничему не будешь. Человек – животное такое, что ко всему привыкает. – Может, это не она? – Она! – Какая должность хоть у этой Полины… у Вики? Кто она в правительстве? – Сидит она неплохо. У нее ранг заместителя министра. А еще она – зампред в каких-то комиссиях, в комитетах и прочее, там сам черт ноги сломает, столько демократы понасоздавали всего. – Не любишь ты демократов, – Белозерцев замутненными покрасневшими глазами зло глянул на Зверева – что-то в нем прорезалось, отвлекло от боли, заняло его мысли. Может, новая боль, более сильная? – Не люблю, – не стал отрицать Зверев, – поскольку сам я не демократ. – Поднялся с кресла, поглядел на дверь, словно ожидая, когда там появится Оля с подносом. – Мне пора. И не глупи, Вава, возьми себя в руки, будь мужчиной, а не только… предпринимателем, что умеет лишь отбирать последний рубль у старух и носить роскошные брюки, – он усмехнулся. Белозерцев усмешки не заметил. Он многого сейчас не замечал. – Ладно, учитель… – пробормотал он в ответ едва внятно. – И чего это ты меня так не любишь? – Наоборот. Люблю. Если бы не любил – не говорил бы этих слов. А видеозапись ты мне все-таки дай. – Возьми, – Белозерцев придвинул Звереву видеокассету в дешевой яркой обложке, – это оригинал. Оля мне с него перегнала копию. Третий снимок Зверев не стал показывать Белозерцеву, это было ни к чему.
21 сентября, четверг, 14 час. 20 мин. Полина Евгеньевна, сидя у себя в кабинете, размышляла о своей судьбе. Ей многое удалось, она хороша собой, она молода, она сделала карьеру, хотя никогда не стремилась к ней, но помог случай. Вначале в августе девяносто первого года, потом в октябре девяносто третьего. В августе она целый день провела в коридорах Белого дома, совершенно не думая о противостоянии, что образовалось на московских улицах, – познакомилась с людьми, которые уже через полгода взлетели настолько высоко, что оказались видны со всех точек России. Хоть и не была она солдатом и к оружию никогда не тянулась, автомат ей тогда выдали. Стрелять, слава богу, не пришлось. Автомат назад не потребовали, и Полина привезла его домой – штука железная, корма не просит, не гниет – может пригодиться. С этого автомата впоследствии, собственно, все и началось… Затем был октябрь девяносто третьего. Полина уже находилась при портфеле, при машине и при шофере, при шефе – вице-премьере правительства, – помогли коридорные связи Белого дома с людьми, чьи лица не сходили с экранов телевизоров, помогли несколько любовных интриг, две из которых Полина продолжала до сих пор и иногда очень потешалась, видя, как на заседаниях правительства эти люди садятся рядом и очень мило беседуют друг с другом, совершенно не зная, что их объединяет общая постель в ее квартире – словом, к тому злополучному октябрю все у нее складывалось как нельзя лучше. Но она оказалась на распутье – надо было выбирать. Кто окажется сильнее: Ельцин или Хасбулатов, не знал ни один человек в мире, и никто, ни одна ясновидящая бабка не могла предсказать события – как они развернутся, кто возьмет верх? Она вновь не ошиблась – сделала правильный выбор, пошла за Ельциным. И поднялась еще на пару ступенек. Хоть и дешевы были бутерброды с семгой в тех буфетах, в которых она кормилась, хоть и получала она кроме зарплаты, за которую расписывалась в официальной ведомости, еще и конверт, о содержимом которого знали только она да человек, который вручал ей этот конверт, а денег у нее было мало. Ей нужны были деньги, много денег. И желательно – в долларах. Вот тогда ей в голову и пришла нужная мысль – автомат, на который она случайно наткнулась в квартире, подсказал. С тех пор материальное положение Полины Евгеньевны Остаповой значительно улучшилось. Она купила себе три квартиры, часть денег вложила в драгоценности и тряпки, остальное перебросила за границу. У нее были свои счета в Германии, в США и в Египте. Но этого было мало, неплохо бы иметь еще – в Швейцарии и в Австрии, в Австралии и в Марокко – странах, которые Полина любила. Она была вещью в себе, о ней мало кто что знал, ее изображение не возникало на экранах телевизоров, голос не звучал по радио, а статьи, время от времени появляющиеся в газетах, ни о чем не говорили – тот же Белозерцев знал ее как Сергееву, а она подписывалась своей настоящей фамилией – Остапова. Операция с Белозерцевым была самая крупная из тех, которые когда-либо проводило ее «товарищество с ограниченной ответственностью», и самая, похоже, трудная. Не потому, что товарищество теряло людей – людей оно потеряло уже много, это считалось обычным делом, поскольку всякие деньги, а доллары особенно, требуют жертв, – а потому, что с самого начала пошла наперекос – ну словно бы патрон заклинило в стволе, как сказал ее шеф… В чем было дело, Полина Евгеньевна не знала. И не могла понять. Может быть, ее близкие отношения с Белозерцевым, нечто такое, что оставляет след в душе и потом мешает действовать, связывает руки, а порой и вообще вызывает слезы, – это вряд ли. Белозерцев не из тех людей, которые способны оставить след, отметину на сердце – ожиревший, туповатый, не всегда щедрый. А вся эта комедия в «Пекине» со сватовством, вызывающая невольное свербение в зубах и смех. Единственное, что хорошо, – кольцо достойное подарил, не стал жмотничать. Но этого мало, мало, мало! Надо, чтобы к ней перешли все деньги этого человека, а дальше… дальше пусть он трескает гречневую кашу со своей Матреной Дормидонтовной, радуется голубому московскому небу и дышит бензиновым взваром центра – это поможет ему в будущем подняться на ноги. Она посмотрела на часы, потом раскрыла лежащий на столе красочный буклет, наполовину забитый рекламой, вторую половину занимало расписание самолетов. Вечером уходили самолеты в Париж, во Франкфурт, в Лиссабон, в Мадрид – на любом из них она могла улететь. Виза в ее паспорте имелась: несколько дней назад она получила шенгенскую во французском посольстве, этой французской визы было достаточно, чтобы въехать в любую из крупных стран Европы – Полина могла уже сегодня ужинать в ресторане где-нибудь на Елисейских Полях… Но это – позже. Пока надо было получить деньги. Поскольку паспорт у нее был дипломатический, она не боялась таможни – багаж человека с таким паспортом не досматривается ни в одной стране, – сумки с деньгами спокойно вместятся в чемодан, – и та, что получена от Белозерцева утром, и та, что еще будет получена. Ясно пока одно: раз Белозерцев собрал все деньги, все «зеленые», то все их и надо забирать во второй заход, и никаких третьих заходов не делать. Костика же нужно вернуть. Ей неожиданно захотелось посмотреть, как он выглядит, Костик Белозерцев – маленький человечек, который мог бы стать ее приемным сыном. Пленку, которую смонтировали и передали Белозерцеву, она не видела, монтаж сделали без нее – и слава богу, что не видела – расстройства будет меньше. Она довольно жестко выдавила из себя мысль о Костике – ко всем шутам разные дамские слабости! Та-ак, теперь надо продумать технологию получения второго куша. И возвращения Костика в объятия родного папашки – сыну Белозерцева она зла не желала. И улететь на неделю, максимум, на десять дней, в Париж и оттуда поглядеть: не останется ли след от этого похищения? Вообще, что касается похищений, то ее «товарищество» впервые пошло на это. Киднеппинга – детских похищений – на счету ТОО еще не было. Было кое-что другое, приносящее хороший доход, но не похищения. И в будущем с детьми связываться не стоит – слишком хлопотно и много ударов по живому. А ведь она – человек. Такой же, как и все. Поэтому… Она достала из сумочки список, в котором стояло пять детских фамилий. Пятеро детей, чьих богатых отцов она знала. Знала близко – так же, как и Белозерцева. Костик Белозерцев шел в этом списке первым. Помедлив немного – душа все-таки отозвалась тихим усталым протестом на то, что она собираясь сделать, – Полина Евгеньевна разорвала листок на четыре части, достала спички – плоский гостиничный коробок, взятый где-то в отеле за границей, чиркнула спичкой, подожгла бумагу и, подержав ее немного в пальцах, бросила в хрустальную пепельницу, стоявшую на приставном столике. Проследила за тем, чтобы кусочки бумаги сгорели дотла. Костик находился сейчас на второй квартире Полины Евгеньевны. Первую ее квартиру – на Садовом кольце, около Таганки, Белозерцев хорошо знал и бывал в ней – так уж получилось, что она, когда ей было плохо, впустила Белозерцева туда, а потом выгонять было уже поздно, вот Белозерцев и наведывался беспрепятственно к «Вике», вторая квартира находилась на тихой тенистой улице Медведева, где на зеленых лужайках внутри дворов росли ромашки и пахло липовым цветом, уже совершенно исчезнувшим в Москве, квартира эта имела хорошие подходы: из нее все просматривалось, на скамейке у входа всегда дежурили добровольные «собаки» – кривобокие, одышливые и очень злые старушенции во главе с бабой Фрузой, готовой любому человеку переломать своим костылем ноги – кроме красивой Полины; третью квартиру она купила совсем недавно, еще не успела ни отремонтировать ее, ни обставить толком, хотя место там – лучше не придумаешь, Полина собиралась в будущем переселиться туда, в один из старых сретенских переулков. Лицо у нее сделалось далеким, мечтательным, строгие серые глаза посветлели: ей, как некой романтической девчонке, всегда хотелось чего-то очень хорошего, хотелось мечтать. Она сваливалась в мечты, в воспоминания, словно в яблоневый дым, Полине там легко дышалось, от светлых мыслей чище становилась голова, но потом требовалось усилие, чтобы вернуться в явь. А явь, она – как одурь, в ней все плохо пахло. По лицу Полины проползла протестующая тень – она услышала тихое движение в двери, выкрикнула, не поднимая головы: – Я занята! Никого сейчас не принимаю. Но тихое шевеление в двери продолжалось и после выкрика, и тогда Полина, капризно скосив губы, подняла голову, глаза у нее посветлели еще больше, расширились, и она невольно привстала в кресле: к ее столу стремительно шли трое людей в одинаково серых, явно купленных в одном магазине, безликих костюмах. И вот ведь как – лица у них тоже были одинаковые, все они походили на озабоченных сбором членских взносов комсомольских работников десятилетней давности. Она все поняла и сделала движение к окну, в тот же миг один из вошедших стремительно перекрыл ей дорогу. У Полины горько дернулся рот, она остановилась, спросила тихо, словно бы на что-то еще надеясь: – Вы кто? – Полина Евгеньевна Остапова? – довольно деликатно осведомился один из незваных гостей, тот, который шел в середине. – Да, – помедлив, ответила она, потерла пальцами горячий левый висок – что-то там потяжелело, и вообще внутри все потяжелело, в сердце, в легких, в горле – она почувствовала себя плохо. – Вы арестованы, – старший группы протянул ей бумажку, – вот ордер! – Потом достал из кармана темные стальные наручники и скомандовал жестким неприятным голосом: – Руки! – Руки? Зачем руки? – побледнев так, что на лице сквозь кожу проступили жилки, все стало видно, будто на анатомическом муляже, по которому студенты учат строение человеческого тела, поспешно спрятала руки назад, за спину. – Руки! – вновь жестко, глядя на нее невидящими, словно бы отлитыми из металла, глазами, потребовал старший группы. – А без этого нельзя? – мученически сморщившись, спросила Полина, повела головой в сторону наручников. Она чувствовала, что сдает, внутри происходит разрушительная работа, все ломается, через два часа она будет совсем иным человеком – старым, сломленным, некрасивым. – Без этого нельзя, – сказал ей старший, хотя мог вполне обойтись без наручников, но он не любил «новых русских», к которым причислял и эту красивую женщину, тосковал о былом и жаждал расправы, – пусть хоть вот так, мелко и примитивно, но все-таки это была расправа, сведение счетов с теми, кто бросил страну в современную давильню, в первобытный капитализм, в жуткую муть, напичканную «сникерсами» и «херши-колой», сделал нищими тех, кто еще вчера считались вполне обеспеченными людьми. – Вы знаете, я здесь работаю… Меня увидят подчиненные, – жалким дрожащим голосом пролепетала Полина, почувствовала, как по щекам ее покатились крупные горячие слезы. – Об этом раньше надо было думать. – Я прошу вас… – Руки! Она поняла – никакие уговоры не помогут ей, придется пройти сквозь строй своих сотрудников в наручниках, это добило ее, ноги у Полины сделались чужими, неслушающимися, она, не удержавшись, застонала: еще не хватало, чтобы ее с отказавшими ногами волокли по коридору эти «собиратели членских взносов». Она протестующе помотала головой, сжалась – ей надо было прийти в себя, достойно преодолеть расстояние, отделяющее ее от камеры и пахнущих клопами тюремных нар, и она почти преуспела в этом, но на глаза ей попалась хрустальная пепельница с горкой пепла, высящегося в ней. Подумала, что вовремя спалила проклятую бумажку, это ведь такая улика! Старший группы перехватил ее взгляд, перевел свои непрощающие металлические глаза на пепельницу и все понял. Сделал в сторону пепельницы указующее движение: – Иванько! Находившийся слева от него оперативник аккуратно накрыл пепельницу твердой прозрачной коробкой, невесть откуда взявшейся у него в руках – она словно бы возникла из ничего, по команде, сама материлизовалась из воздуха, – взял пепельницу с собой. Серая рассыпчатая горка на ней даже не шевельнулась. – Все, что там было написано, восстановим, – сказал Полине старший, – но если хотите – изложите сами. Это зачтется. Что там было написано? – Ничего особенного, – уже не владея собой, боясь, что рухнет на пол, проговорила Полина. – Фамилии… – Какие фамилии? – Не помню. – Р-руки! – металлические глаза старшего сжались в узкие монгольские щелочки, Полина поняла, что сейчас он применит силу и, боясь боли, унижения, еще чего-то, с чем она вообще не была знакома, на этот раз покорно протянула руки, и тот ловко защелкнул у нее на запястье «браслеты», скомандовал: – Пошли! Полина попробовала сделать первый шаг – ноги ее не слушались, они не гнулись в коленях, были чужими, деревянными, она нагнулась, ощупала колени пальцами – колени ничего не чувствовали, прошептала обреченно, слезно: – Не могу идти. – Что так? – с издевкой в голосе поинтересовался старший. – Конечности отнялись, не слушаются? – он словно бы в воду глядел. – Не слушаются, – подтвердила Полина все тем же обреченным шепотом. – Отказали. – Придется до машины волочь, – безжалостно произнес старший. – Не надо… Подождите полминуты, пожалуйста. Я сейчас приду в себя. Но прийти в себя Полина не смогла – что-то в ней сломалось окончательно, полетели, разрушились все сцепы, старший сделал знак, двое сопровождающих подхватили ее под мышки и потащили из кабинета в приемную, оттуда – в коридор.
21 сентября, четверг, 14 час. 30 мин. Потрясение, которое испытал Белозерцев, нельзя было сравнить ни с чем – даже похищение Костика теперь казалось уже чем-то мелким, нетрагичным, совсем не таким, каким оно казалось еще сутки назад… Как всякий бизнесмен, он был готов к потерям – слишком уж беспокойная жизнь у этих людей, она, как на фронте, попахивает дымом и кровью, но потеря потере – рознь… Это первое. И второе: снаряд не должен ведь два раза подряд ложиться в одну и ту же воронку, это закон войны, а у Белозерцева было уже не два, а три и, может быть, даже больше попаданий в одно место. Похищение Костика – это первый снаряд. Предательство жены – второй снаряд. Теперь вот – Вика… или как ее там величают? Третий снаряд. Есть и еще снаряды… Правый глаз рассекла вертикальная дергающаяся строчка, он, ощущая духоту, противное жжение в сухой глотке, прикрыл глаз веком, помог себе пальцем – строчка обозначилась и в коричнево-кровянистой шевелящейся темноте, черная, по-червячьи противная, а вот левый глаз был чист. Это немного успокоило его – не весь он еще прогнил, есть живые места… Повертел в руках кассету с записью Костика – копию, сделанную Олей, и отложил в сторону – чего понапрасну травить себя? Костика он выручит, выкупит – за Костика он уже не тревожился. Беспокоило другое… Он нажал на кнопку, вызывая секретаршу. Та готовно появилась в проеме двери, держа в руках блокнот для записей – приготовилась фиксировать распоряжения шефа. – К черту блокнот, – поморщился Белозерцев. – Скажи лучше, эти охламоны, братья Фомины, не звонили? – Нет. – Вотохламоны, иначе их не назовешь. И за что только я плачу им деньги? Высторобец. Вот что тревожило сейчас Белозерцева, он, ощущая опасность, внутренне заметался, занервничал – и результат не замедлил сказаться: затылок стало давить сильнее, тиски, схватившие его, были железными, звон в ушах сделался резким, жестяным, черная строчка, возникшая в правом глазу, уже не дергалась, она умерла, став широкой, неподвижной. – Как позвонят – сразу соедини, – приказал он Зое Космодемьянской, движением руки отправил ее назад, в прихожую. В кабинете сделалось еще душнее. Белозерцев поднялся, чуть ли не бегом вымахнул на улицу – захотелось поскорее дохнуть свежего воздуха. Около машины стоял водитель Боря, о чем-то думал, сложив бантиком толстые губы. Увидев Белозерцева, расцвел в улыбке. – Дождь будет, – сказал он, – парит сильно. – Воздуха не хватает… Да, наверное, это к дождю, – согласился с ним Белозерцев. Ему неожиданно захотелось пожаловаться, поплакаться хоть кому-нибудь – пусть даже не в жилетку, а в плечо, пусть не духовнику, отпускающему грехи, а собственному водителю, – подошел к нему, оперся рукой о его плечо и произнес жалобно: – Боря, мне плохо. – Я вижу, Вячеслав Юрьевич, – отозвался Борис, – вижу все и переживаю за вас. Вячеслав Юрьевич, поверьте, все перемелется– мука будет. – Твоими бы устами, да мед пить, Боря. – Я правду говорю. – Вику помнишь, Боря? Я ведь не ней чуть не женился. – Да вы что, Вячеслав Юрьевич! – небольшие рыжие бровки на Борином лице стремительно взлетели вверх. – Да она вовсе и не Вика, Вячеслав Юрьевич. Я давно хотел вам об этом сказать, но случай удобный не представлялся. Баба она приятная, конечно, да вот только жениться на ней не надо. – И кто же она, если не Вика? – Ее Полинкой зовут. Полинка – от… хрена половинка, – Боря споткнулся на мгновение, на ходу заменил мат на более подходящее слово. – У меня сосед есть по даче, журналист – теперь уже отставной, а раньше был в большой силе. – Леня Ростовский, так она к нему несколько раз приезжала. Он ее драл по-всякому, и вдоль и поперек, и один драл, и с напарником – как получалось. А рассказывал такое… – Боря театрально сдавил руками голову. – В книжках никогда не прочитаешь, что он рассказывал. А вы – жениться! В ответ Белозерцев лишь жалобно вздохнул, косо глянул на водителя, потом ожесточенно сгреб свой рот в ладонь и зажал его пальцами, словно бы стараясь удержать слова, что хотели вырваться из него. – Боря, а ты знаешь, кто оказался во главе всей банды похитителей, а? Генерал-то за этим ко мне приезжал… А? – Неужто она, Вячеслав Юрьевич? – у Бори изумленно открылся рот, толстые губы побелели, и он, не выдержав, покачал головой. – Одно дело – слабый передок, а это-о… Это совсем иная литература, и гонорар тут иной. Вот те раз? – К сожалению, Боря, это так… Собственная подстилка и выкинула фортель. А я, брат, вчера разорился на перстень с бриллиантом для нее, – Белозерцев несколько раз подряд по-рыбьи жадно затянулся воздухому с шумом прогнал его через себя, – перстень с хорошим бриллиантом, Боря… Вот дурак! На это водитель ничего не сказал, только развел руки в стороны, а Белозерцев, понурив голову, старческой походкой поплелся к себе в кабинет. Борису было жалко его.
21 сентября, четверг, 14 час. 40 мин. Высторобец, проводив взглядом Белозерцева, задумчиво стукнул ногтем по стеклу слухового окна, посмотрел в очередной раз на часы и сказал себе: – Пора! – подумал о братьях Фоминых: а вдруг те прискачут раньше времени и все испортят? Да вряд ли они в последний раз вынеслись из конторы зачумленные, похожие на собак с поджатыми хвостами – видать, Белозерцев не удержался, высказался по «полной программе», а когда он не в настроении, то слов не жалеет, в выражениях не стесняется – все вокруг умолкают, как с побитыми физиономиями. – Пора, – повторил Высторобец решительным тоном, словно бы подвел черту под некими сомнениями. Почувствовал, как внутри шевельнулся злой холод, он сжал зубы – желваки на щеках дернулись, сделали несколько скачущих движений, будто он не мог разгрызть какую-то одеревеневшую корку, правую щеку обожгло что-то невидимое, он помассировал ее пальцами. Ощутил стыд – что же это он вчера танцевал перед Белозерцевым на задних лапках, будто ученый кот, зарабатывающий себе на ужин кусок сыра? Пленку ему предъявил… В результате в населении Москвы – дырка. Как минимум – минус два человека. А может, и три или даже четыре: вряд ли качки, пришедшие тряхнуть его на квартиру к юной путане из Чопа, смогут в ближайшее время резвиться, словно молодые козлята на лужайке. Как бы путане не пришлось отправлять их в морг. – И в этом ты виноват, ты сам, – пробормотал он глухо, поднялся, срезал с гвоздей веревку, смотал ее, сунул в карман. Огляделся – нигде ничего не выронил, не наследил? Проверил пистолет – лишний раз проверить оружие никогда не мешает, это Высторобец хорошо знал по Афганистану, задержал в себе дыхание. – Ну, теперь все. Он просчитал практически по секундам свою дорогу в контору «Белфаста». Сзади офиса находился забор, там осталась лестница, по которой братья Фомины лазали на чердак, – им бы ее унести, а они поленились, посчитали, что лестница еще понадобится. По всем законам безопасности они не должны были оставлять ее у забора, Высторобец выдрал бы Фоминым за это ноги, – он не выдержал и с досадою поморщился: учил, учил их… все науки превратились в пшик. Беззвучно – не раздалось ни единого скрипа – он спустился на первый этаж и, прикрывшись кустом сирени, оглядел родной офис. Пустынно, ни единого человека на улице, даже шоферов нет – все ушли, коротают сейчас время в помещении, прячутся от необычной осенней жары. Пахнет пылью, заплесневелым хлебом, мышами. Высторобец поднял голову, осмотрел окна «своего» дома. Ни одной открытой форточки, все жильцы – на работе. Уходя на работу, люди плотно закупоривают свои квартиры и в первую очередь закрывают окна – редкая кража ныне обходится без раскуроченного окна, а проворно юркнуть в открытую форточку – для вора самое милое дело. Большинство воров имеет мальчишескую комплекцию, иному форточнику уже сорок лет, а он все на школяра смахивает – и тощей куриной грудью, и косой челкой на голове, и тонкими руками с приплюснутыми чуткими пальцами. Никто, ни один человек не увидел, как Высторобец пересек двор, разделяющий контору «Белфаста» с домом, расположенным напротив. Через несколько минут Высторобец оказался уже на крыше. Там снял башмаки, в носках прошел по жесткому ребру новой, недавно постеленной кровли и скрылся в слуховом окне «Белфаста».
21 сентября, четверг, 14 час. 50 мин. Состояние ошеломления, боли, чего-то отвратительного, что, казалось, навсегда поселилось в нем, не думало исчезать, никак не проходило. Белозерцев пытался успокоиться, взять себя в руки, вообще бороться с собой – нет, все бесполезно. Тогда он воспользовался заморским успокоительным средством, подаренным ему Фастрейном, очень сильным снадобьем, заставляющим забыть о любой беде, выпил три таблетки сразу. Помогло – лекарство действительно оказалось сильным и быстродействующим. Белозерцева встревожил визит Зверева, то, что этот лысый пингвин не все сказал ему – он знал много больше, чем сказал, и это родило в Белозерцеве невольную тревогу, некую иссушающую тоску: а что, если Зверев пронюхал про Ирину, про ейного этого… Он не выдержал, с силой грохнул кулаком по столу, отбил себе мякоть ладони, вгрызся в нее зубами, лизнул языком, удивился, что рука была соленой, – мякоть кулака быстро покраснела. Даже если Зверев – или кто там еще из мусоров с Петровки – что-то пронюхает, – это ерунда. Есть хороший способ борьбы: хрустящие бумажки цвета загустевших кислых щей, отпечатанные богатым дядей Сэмом. За океаном. Две, три, пять, восемь тысяч долларов сделают все, в результате окажется, что такая женщина, как Ирина Константиновна Белозерцева, в девичестве Соловьева, вообще никогда не рождалась на свет, у нее не было родителей, не было мужа, она никогда не училась в школе и не имела сына Костика. Слава богу, ныне это делается просто, не то что при бровеносце Брежневе или при этом хомяке Андропове, когда шагу нельзя было ступить без окрика и подозрительного взгляда из подворотни. Из бытовых забот осталась только одна – Костик. Надо выручить Костика и съездить с ним куда-нибудь отдохнуть на недельку. В Анталию, например. Говорят, для ребенка райское место. Сейчас в Анталии самое время для отдыха – конец сентября. Море там, как слышал Белозерцев, ласковое, бирюзовое, вода необыкновенно теплая, рыба с удовольствием сама вешается на голый крючок самодура, а закоптить ее прямо на набережной у веселых и черных, похожих на цыган шалманщиков нет никаких проблем. И – с холодным, ломящим зубы пивом… Костику пиво, конечно, нельзя. Костик будет пить херши, коку или какую-нибудь колу, или малиновое ситро. Белозерцев же – не только пиво, но и кое-что покрепче. Он затяжно вздохнул – позавидовал людям, находящимся сейчас в Анталии, собственным думам, и ему так захотелось к морю, в ласковую, теплую воду, под тамошнее задымленное солнце, что хоть криком кричи, сердце его не выдержало, заколотилось громко, горячий обруч стянул голову, шею, грудь. Но уезжать отсюда, пока не будут закончены все дела, нельзя. И Зверев. Ну что Зверев? Он служака, лакей, он с шумом дышит в две свои сопелки и исполняет то, что ему велят. А в бане с Белозерцевым Звереву больше не быть. Да и генералу Вене, пожалуй, тоже не быть. Пусть моются дома из старой ржавой шайки или из пластмассового детского ведра. Белозерцев встал, потянулся, услышал хруст собственных костей, еще раз потянулся: пора выходить из состояния, когда слышишь, чем пахнет собственная моча. Поглядел на картинный рядок телефонов, выстроившихся на столе: молчат, сволочи. Деньги, которые он отдал и еще отдаст за Костика, Белозерцев уже не жалел: если вчера он считал, что будет разорен, то сегодня понял – деньги эти должны вернуться к нему, долларовая прореха не будет разорительной. Как-то на даче в сумрачный июньский день он нашел цветущий папоротник – в зеленой блестко-мокрой траве вдруг высветилось что-то завораживающее, яркое, колдовское. Он не сразу понял, что за цветок вытаял из густой, неряшливо поваленной на землю травы, а когда понял, то ощутил внутри некую щенячью робость: показалось, что цветущий папоротник принесет ему зло. Белозерцев никогда в жизни не видел цветущего папоротника, только слышал, что он расцветает очень редко и только в ночь под праздник Ивана Купалы, и его ищут влюбленные, и думал, что папоротник распускается пышными яркими цветками, как, например, кактус. У того цветы такие, что никогда не подумаешь, что такое колючее чудище может озарять мир воздушно-красными, лиловыми и розовыми светящимися всполохами. У папоротника не было цветов – цвели сами рисунчатые лапы. Одна резная прядь на ветке была фиолетовой, вторая розовой, третья желтой, четвертая светло-охристой, как свежий надрез на куске хорошего сыра. Он сорвал несколько веток, вложил их в книгу – решил высушить. На следующий день один из знакомых сказал ему: – Белозерцев, цветущий папоротник – это к несчастью. Белозерцев лишь усмехнулся в ответ. Через неделю он ушел с работы. По учреждению прошел слух, что его уволили. Вечером ему позвонил тот приятель и сказал с горечью: – Ну, чего я тебе говорил? Не надо было этот папоротник рвать. Пусть бы цвел и цвел себе. Он еще что-то говорил, но Белозерцев не слушал его, а когда тот недоуменно умолк, Белозерцев вежливо попрощался и повесил трубку. Через неделю он подписал документы о создании «Белфаста», а через полгода стал миллионером. Так что искать цветущий папоротник надо не влюбленным, а разным потным лавочникам, желающим выбиться в люди, мальчикам, что не перестают считать доллары в своих кошельках, хотя от того, что их часто мусолят, треплют грязными пальцами, сумма не увеличивается, хватким бабешкам, готовым открыть свой банк, путанам, мечтающим выйти замуж за принца, старикам, которые не хотят мириться с нищенской пенсией… Цветущий папоротник – это удача. Все бы хотели ухватить ее за хвост, да не всем это удается. Белозерцев не выдержал, всхлипнул зажато – долго все-таки насиловал себя, не давал выплеснуться слезам, в горле у него что-то опасно завибрировало, сжалось, и он, перестав владеть собою, заскулил. Никуда, ни в какую Анталию он, конечно же, не поедет – просто не дано, и, как будет строиться его жизнь сегодня вечером, завтра и послезавтра, он не знает. Сдавил себе пальцами горло, перекрывая дорогу слезам, затем вскинулся в охотничьей стойке и бросился к телефонам – показалось, что одна из этих бездушных пластмассовых машинок ожила, рванул одну трубку, другую, третью – во всех трубках прозвучали одинаково безжалостные, спокойные, безжизненные гудки. Собственно, a oт кого он ждет звонка? Белозерцев аккуратно положил трубки на место и опустился в кресло. Перевел дыхание. Может, действительно, не надо было ему рвать колдовской папоротник: кто знает, какая сила заставляет его цвести, какие тайны хранит в себе загадочное северное сияние, выплеснувшееся шаманским светом на резную зелень веток? Он снова всхлипнул. Действие таблеток начало проходить. Затылок сдавило клещами – вполне возможно, из-за таблеток: ведь эта химия всегда действует так – одно приводит в норму, а другое… Другое прогибается, словно доска, переброшенная через канаву, на которую ступает тяжелая человеческая нога, прогибается и сдает, лопается в тонком месте. Белозерцев взял в руки стакан, стоявший на столе рядом с телефонными аппаратами, слил в рот остатки воды. Горло было сухим – этот глоток не помог, глотку начало драть, будто наждаком. Белозерцев вытер глаза, собираясь призвать на помощь Зою Космодемьянскую, потом подумал, что не надо ей видеть шефа расклеенным, мокроносым, растерявшимся, – вытряс из стакана на ладонь последнюю каплю, словно бы надеясь на чудо, и, вздохнув, пошел в заднюю хозяйственную комнатенку, где стоял холодильник, за водой. Открыл дверь и сразу же почувствовал, что в комнате кто-то есть, страх липким клубком шевельнулся в нем, Белозерцев крутанулся на одной ноге, на каблуке, словно солдат на учениях, стены послушно совершили вокруг него оборот, Белозерцев остановился и в ту же секунду увидел перед собой Высторобца. Страх прошел: он ожидал увидеть какого-нибудь Парамона Парамоновича в милицейской форме, присланного с Петровки или даже с Лубянки, но не Высторобца. Спросил на «ты», не веря себе: – Ты? – Я. Высторобца он сейчас не боялся, хотя почувствовал сильную духоту и еще засек, что предметы, которые расплывались перед ним, начали вести себя странно: они то делались совсем неясными, словно бы у него совсем садилось усталое зрение, растворялись в воздухе, то неожиданно появлялись вновь, обретали четкость, становились резкими. Воздух попрозрачнел, будто в пору осенних холодов, лицо Белозерцева тоже обдало холодом, и ему сделалось легче – из невидимых щелей подул колючий сентябрьский ветер. В следующий миг он снова почувствовал духоту и тяжесть. – Вернулся? Это хорошо! – Белозерцев потер руки, словно бы ничего не происходило, словно бы он не отдавал приказа убить Высторобца и словно бы тот никуда и не исчезал, а уж то, что этот человек вошел к Белозерцеву через крышу либо через стену – вообще обычное дело, рядовой факт, будто Высторобец был духом, не имел плоти и проникал в помещения только так. Но на духа Высторобец не был похож, поэтому он и ответил угрюмо, хрипло – пока лежал на чердаке, голос просел, покрылся пылью: – Вернулся! – Приступай к исполнению служебных обязанностей. А то я уже подумал, что ты исчез совсем, и хотел одного из Фоминых назначить и.о., – Белозерцев не удержался, зевнул – после хвалебных заморских таблеток тянуло в сон, похлопал по рту ладонью. – Белозерцев, ответь на один вопрос: ты нормальный? – грубо, также на «ты», хотя раньше никогда не был с шефом на «ты», спросил Высторобец. – Абсолютно! – как ни в чем не бывало, ничему не удивившись, ответил Белозерцев. – У меня даже справка есть. – Да-а-а? – горько протянул Высторобец, лицо у него дрогнуло, глаза сделались пустыми – он словно бы только сейчас понял, кому служил, – лишний он среди тех, кого ныне называют «кабанами» и «быками», использовал его этот «кабан», как тряпку, вытер ноги и швырнул на асфальт, под колеса проезжающих машин. Лицо Белозерцева странно дернулось, сделалось большим, заполнило все пространство комнаты, потом увяло, принимая нормальные размеры, затем снова начало расширяться. Высторобец увидел, как Белозерцев шагнул к холодильнику, поставил на него стакан, потом круто, по-солдатски стремительно развернулся, чтобы уйти, и Высторобец, по-блошиному скакнув вперед, схватил шефа за плечо: – Стой! Тот дернулся, замер – Высторобец держал его крепко, повернулся с перекосившимся лицом: – Да, насчет окончательного расчета ты не беспокойся – я все обещанные деньги тебе выплачу. В долгу не останусь, ты это знаешь. – Я это знаю, – не удержался от печальной усмешки Высторобец, – уже это почувствовал. – Ты все отработал честно. – Это я тоже знаю. Голос, тон, манера поведения должны быть другими у Белозерцева, не такими откровенно фальшивыми, Белозерцев обязан был вести себя иначе: плакать, клясться, обещать Высторобцу золотые горы, дом в Майами, особняк на Маврикии – ведь он угодил в ловушку, в сеть, которую сам и поставил, но Белозерцев вел себя так, словно ничего не произошло. Чужая душа – потемки, а уж белозерцевская – тем более, в этой душе никогда ничего не высвечивается. Разные психологические тонкости уже не имеют никакого значения. Чего в них ковыряться? Высторобец стремительно выхватил из кармана веревку, накинул ее на шею шефа. Тот вывернулся – не верил до конца, что Высторобец может его убить, просипел свистяще: – Ты что-о? – Ничего. Просто воздаю должное хорошему современному принципу: за все надо платить. – Ты видел когда-нибудь, как цветет папоротник? – Белозерцев пытался сопротивляться, но сопротивляться у него не было сил, как не стало сил жить, дышать, пить водку, любить женщин: Белозерцев перестал быть Белозерцевым. – Не видел, – угрюмо, надтреснутым голосом проговорил Высторобец. – Мне это ни к чему, я в приметы не верю, – он чуть натянул веревку. – Не надо, – изо рта Белозерцева вылез черный, в бугристых сизых жилах язык. – Я сейчас закричу – ты даже уйти отсюда не успеешь. – А ты не успеешь закричать – гораздо быстрее я перерублю тебе глотку, – Высторобец с силой натянул концы веревки. Белозерцев засипел, попытался просунуть пальцы под веревку – не получилось, когда Белозерцев вывернулся, одной рукой потянулся к Высторобцу, тот, как в боксе, не ослабляя петли, резко ушел в сторону, загородился от Белозерцева локтем, шеф «Белфаста» лишь впустую расцарапал ногтями воздух. – Э-э-э-ы-ы, – засипел Белозерцев еще сильнее, ловя мутнеющим взором лицо Высторобца. – Э-э-э-ы-ы! – Я тебе не только глотку, я тебе даже голос перерублю, – Высторобец изо всех сил стянул петлю на шее Белозерцева, тот задергался у него в руках, захрипел, глаза закатились, обнажив кровянисто-желтые страшные белки, из носа потекла кровь. Высторобец брезгливо отстранился, чтобы не запачкаться, отвернул голову в сторону, поняв, что из шефа сейчас потечет не только кровь…
21 сентября, четверг, 15 час. 15 мин. Когда секретарша Белозерцева, Оля, подняла телефонную трубку, то не сразу узнала в далеком, с металлическим налетом голосе Андрея Фомина, переспросила удивленно: – Андрей, это ты? – Я это, я! – прокричал тот раздраженно в телефонную трубку. – Надо же, голос какой – не узнать! Богатым будешь! Такое впечатление, что ты звонишь из штата Колорадо, а может, и еще дальше. – Скоро я там буду. В Колорадо и еще дальше. Как шеф? – Заперся. Злой – невероятно. Лишний раз зайти к нему боюсь. – И мы с братом тоже боимся. – Что-нибудь не получается? – Не то слово. Приказал найти Высторобца, мы всю Москву облазали, даже под землю спускались – дохлый номер. Нет Высторобца! – Ну что, соединить с шефом? – Орать ведь будет, – несмотря на помехи и далекий, будто действительно из-за океана, голос, было слышно, как Фомин вздохнул. – Будет, – подтвердила Оля. – Ладно, двум смертям не бывать, а одной не миновать – соединяй. Поорет, поорет – и перестанет. В крайнем случае – выгонит. Но это тоже не смертельно. Так, Оль? – Лучше не надо… Не вешай трубку, пойду посмотрю, как он там? Если будет очень уж не в себе – соединять не буду. – Нет уж, соединяй во всех случаях. Оля аккуратно, словно обращалась со стеклом – не хотела создавать лишнего шума, – положила трубку на стол, беззвучно скользнула за дверь. Было тихо. Андрей Фомин ждал. Неожиданно он услышал далекий, словно бы сплющенный расстоянием, крик Оли и все понял, повернул голову к брату – тот удивился, увидев мертвенно-бледные щеки и неживые глаза Андрея, пробормотал смято: – Что случилось? – То, что должно было случиться. Он достал его, – и хотя Андрей Фомин не сказал, кто кого достал, было понятно без всяких слов. – Едем срочно в офис.
21 сентября, четверг, 15 час. 45 мин. В «Белфасте» было тихо, словно бы жизнь остановилась, хотя никто не успел ничего сделать и даже толком сообщить тому же Звереву, что произошло, – в офисе уже пахло ладаном, поминальным церковным вином, хвоей, еще чем-то сладковатым – то ли мертвечиной, то ли приторным одеколоном. Как все-таки быстро возникают эти запахи, когда в доме появляется покойник! На пороге сидел Борис – водитель Белозерцева – и плакал. Толстые негритянские губы его тряслись. – Где он? – спросил Андрей Фомин. – У себя… в задней комнате. – Милиция была? – Еще нет. Андрей Фомин горестно, как-то по-женски всплеснул руками, тяжело взошел на крыльцо и исчез в конторе. Володя последовал за ним – он вообще не отходил от брата ни на шаг, следовал за ним по пятам, будто тень. Борис сморгнул слезы, растер мокреть кулаком по щекам, поднялся на ноги, качнулся – держался он нетвердо, будто пьяный, – лег плашмя на дверь, открывая ее своей тяжестью. У двери была тугая пружина, шофер с одного раза не одолел ее, навалился сильнее и так, плашмя, чуть не рухнул в темное нутро офиса. Оля уже завесила зеркало – нельзя было, чтобы покойник глянул в него, взгляд мертвого может через зеркало приклеиться к другому человеку, принести несчастье, – лишний свет был выключен. Борис всхлипнул, скривил губы: – Вя-яч… Юрич… Ты же как отец был… Вя-яч… Откуда-то сбоку вывалилась Оля, прислонилась к шоферу, заплакала. Борис прижал ее нескладную, тяжелую, будто у мужчины, голову к своему плечу, погладил по волосам. – Что ты, Оль… Успокойся, пожалуйста, – но в следующий миг снова поплыл сам: – Вя-я-яч… Белозерцев лежал на полу с мученически искаженным лицом и вывалившимся распухшим языком, на котором застыла рвота, один глаз был закрыт, другой зло посверкивал сквозь сжим век, шея была передавлена прочной бельевой веревкой… Один конец ее болтался у Белозерцева на шее, второй был закинут на крючок, к которому прикреплена тяжелая плоская люстра с бронзовым окаемом. Андрей Фомин стоял под люстрой и смотрел на веревочный конец. – Откуда же он пробрался? – Владимир Фомин обследовал глухую, без окон и входов-выходов комнатенку, обстучал стену пальцем, проверяя, нет ли где полых мест, трещин, потайных дверок, недоуменно приподнял сразу оба плеча. – Зашел через приемную, через Олю? – Откуда, откуда… Прошел через крышу, слуховое-то окно было открыто – через люк спустился в туалет, а там шеф угодил к нему прямо в руки. Сам, на белом блюдечке с голубой каемкой. В комнату неслышной белой тенью вплыла Зоя Космодемьянская. – Милиция приехала. – Наконец-то! Все, братан, смываемся. Нам с тобой сегодня предстоит тяжелая работа – тянуть из болота бегемота. – Может, не надо? А? Чего нам тянуть бегемота? А? Тот, кто отдал приказ – мертв, – Владимир Фомин покосился на быстро посиневшего Белозерцева, защипнул пальцами ноздри – здесь запах был другой, чем в приемной, от трупа пахло не ладаном и сладковатой хвоей, пахло по-бытовому грубо, неприятно – кровью, мочой, калом. Не выдержал: – Ну и душок! – Да, душок еще тот, – согласился Андрей, – а насчет «из болота бегемота» – надо! Ты знаешь, я ведь ему пообещал… – Андрей покосился на мертвого Белозерцева, так же, как и брат, зажал пальцами нос, – ему! А мертвые, как известно, не любят, когда их обманывают. Не дай бог! Будет еще во сне преследовать. Оля прижала ко рту ладонь, согнулась горбато, некрасиво, внутри у нее родился булькающий тяжелый звук – ее чуть не вырвало. Она еле-еле сдержалась. Выбежала из комнаты, продолжая прижимать ладонь ко рту. Братья вышли следом. – Все-таки Высторобец брал нас на работу, научил кое-чему, – не отвязывался от брата Владимир. – Надо ли нам за ним по следу, а? Где наша благодарность? – Вот это и будет наша благодарность, когда мы его обложим, словно волка, и возьмем. За то, что научил… – Я, конечно, тебя не брошу, но считай, что я – против. – Володь, мне надоело твое нытье – сплошные слюни. Ни тебе, ни мне он отцом родным не был. А посему… помнишь, в армии была команда: «Делай, как я»? Так вот, делай, как я! Все понял? Через минуту братьев Фоминых уже не было в здании.
21 сентября, четверг, 16 час. 15 мин. С Костиком находились двое: Рокфор, вид и манеры которого рождали у младшего Белозерцева невольную дрожь, и Циклоп, которого Костик видел впервые, – вполне интеллигентный, похожий на служащего какого-нибудь банка, очкастый – очки у него, кстати, были недешевые, в американской оправе, Костик заметил, что эта тяжелая оправа – именно американская, видел такую у отца, – с крупными складками на щеках и прищуренным изучающим взглядом. Почему этого человека звали Циклопом – непонятно. Оба глаза у него были целы. Циклопа Костик не боялся, а Рокфора боялся. – Ну что, малый, – спросил у него Циклоп, – домой хочешь? – Хочу, – признался Костик. – А мамашка дома не бьет? – Не-а. Она меня любит. – Один такой, как ты шнурок, спрашивает как-то свою маманю: «Мам, а ты меня любишь?» «Конечно», – отвечает та. «Тогда выйди замуж за того дядю, который торгует на углу мороженым!» Рокфор, выслушав анекдот, гулко, брызгая слюной, захохотал, а Костик из анекдота ничего не понял. – Ничего, у тебя все впереди – ободрил его Циклоп. – Когда подрастешь – не такие анекдоты сечь будешь. И матом ругаться. Ты умеешь ругаться матом? – Не умею. – И это тоже впереди, – пообещал Циклоп. – Если хочешь, я тебя научу. – Не надо, – жалобно попросил Костик. Потрогал поврежденное ухо. Ухо болело. – Мужчина никогда не станет мужчиной, если он не умеет ругаться матом. – Не надо, – еще жалобнее, со слезами в голосе попросил Костик, передернул плечами, будто от озноба, ну, пожалуйста, дяденька! – А чего ты, собственно, боишься? – Циклоп подошел к одному окну, подергал рукой шпингалеты, вначале вверху, потом внизу, поцокал неопределенно языком, затем проверил шпингалеты у второго окна, также поцокал. – Я ничего не боюсь, – ослабшим голосом пробормотал Костик, – я просто не хочу. Костик еще что-то говорил, но Циклоп уже не слушал его – Костик словно бы выпал из поля зрения этого человека, растворился в пыльном солнечном луче, пробившемся через немытое стекло. – Рокфор, сколько мы тут куковать будем, не знаешь? – Сказали, недолго. – Недолго, недолго, – Циклоп сжал глаза в едва приметные щелки, хорошо прикрытые стеклами очков. – В годы войны случалось, что ставили на объектах часовых, а потом забывали об их существовании, – он выкинул перед собой руку с грозно расклешнявенными крепкими пальцами, стремительно сжал их, потом разжал, затем снова сжал и разжал – движение было механическим, страшноватым, будто у крупной хищной птицы, не знающей милосердия. – Чем ты недоволен? – спросил Рокфор, заинтересованно наблюдая за птичьими манипуляциями напарника. – Всем недоволен. Особенно тем, что на окнах нет решеток. – Ты же только что языком цокал – шпингалеты, дескать, хороши. Я так тебя понял… – А вдруг воры? Рокфор улыбнулся милой шутке напарника, он вообще, как выясняется, ценит юмор, показал Циклопу крепкие кривоватые зубы, – не удержался и присвистнул компанейски: – Ну ты даешь! – С бубенцами ездят не только на тройках, но и на «вольво» целыми компаниями, караваном, – Циклоп оглянулся на Костика, – взять эту квартиру – все равно что два пальца… – Он, не сводя взгляда с Костика, со смаком произнес слово, на котором споткнулся – Циклоп привык называть вещи своими именами. – Ногами вышибаешь стекло – и тут! – А грохот от выбитой рамы, а соседи, а… – Кого это сейчас волнует? – Верно, Циклоп, тут ты прав – никого не волнует. – А в квартире есть что взять. Ну, золотых, скажем, цацек не видно, они спрятаны, зато цацек других, покрупнее размером, полным-полно. Смотри, они кругом: телевизор, видеомагнитофон, холодильник, разная хрустальная мура… – Это не в счет. – Не скажи. Хрусталь на рынке стоит не меньше золота, особенно если хрусталь хороший. И главное, покупатели на эту муру есть – знаешь, как приезжие на хрусталь клюют? Разные ватюки и чукчи из Бердичева, Мухоесанска и деревни Толстозадовки, привыкшие пить водку из пластмассы, а теперь ставшие культурственными, как они сами о себе говорят, – Циклоп покосился на Костика, поинтересовался: – И сколько же за этого дохляка просят? – Не знаю. – Не сообщили, выходит. С нами всегда так поступают: мы своей задницей рискуем, кровь собственную проливаем, я они снимают пенки, – Циклоп обиженно вздохнул, глянул в окно, на сухое, с лохмотьями старой изопревшей коры дерево, которое портило пейзаж, но никому до этого дерева не было дела, никаким городским властям, поморщился, словно надкусил стручок острого перца. – У Полины столько денег, что могла бы дать пятнадцать тысяч дворнику, чтобы тот спилил эту прелую корягу. – А зачем? – спросил Рокфор. – Чтобы в глаза не лезла. – А вдруг она дает деньги для того, чтобы это дерево не трогали? Может, оно святое? – Рокфор так же, как и его напарник Циклоп, считал, что работа у них тяжелая, свихнуться можно от напряжения, и если выпадет нелегкая доля кого-то охранять, то лучше всего убивать время разговорами: не сводить глаз с пленника и разговаривать, разговаривать, болтать о чем угодно, о разных пустяках, и, главное, не напрягаться. – Может, она на Троицу баранов под ним режет или лягушек кушает? – Ну, если только, – проговорил Циклоп недовольно, в следующий миг лицо у него изумленно вытянулось, очки сами по себе соскользнули на кончик носа, Циклоп потянулся было за ними, но на ходу отвел руку и сунул ее за пазуху, к подмышечной кобуре, очки с лязгающим железным стуком упали на пол, отлетели в сторону, Рокфор, глянув на Циклопа, стремительно развернулся и также схватился за пистолет. В двух окнах одновременно показались люди в камуфляжной форме, прикрытые бронежилетами, Циклопу почудилось даже, что они спрыгнули с верхушки голого дерева, о котором он только что вел речь, повисли, словно мухи, в воздухе перед ними… Висели незваные гости недолго, оба дружно качнулись и с силой врубились ногами в окна, тонкие стекла разлетелись с жалобным льдистым треском, один из пятнистых впрыгнул в комнату, за ним на паркет соскользнула прочная витая веревка, – вскинул короткий, с широким стволом автомат, рявкнул на Циклопа: – А ну, лицом к стенке! И руки… руки вверх! Циклоп, опешив, вздернул было руки к потолку, но потом, словно бы одумавшись, отпрыгнул в сторону, упал, покатился по полу, выдернул из кобуры пистолет и выстрелил трижды – выстрелы были частые, три слились в один, пистолет работал в режиме автомата, Костик закричал – он увидел, как грудь человека в пятнистой форме украсили три розовых шара, шары вспухли, слились в один, беззвучно лопнули, оставив после себя запах химической тухлятины, пятнистый также закричал. Сбитый пулями с ног, он отъехал назад по скользкому паркетному полу и завалился на спину. Костику показалось, что этого человека убили, и он закричал снова, забился в плаче, в истерике. Второй человек, врубившийся ногами в окно, по-птичьи раскинул руки в пятнистых рукавах в обе стороны и выстрелил в Циклопа прямо из рамы, из проема, Циклоп, словно бы угадав движение пули, стремительно откатился по полу в сторону, выстрелил ответно и тоже промахнулся. Весь пол в большой, тщательно обставленной чистой комнате оказался засыпан осколками. – Бросай оружие, гады! – прорычал человек из окна, выстрелил дважды в Циклопа, одна пуля прошла мимо, вторая угодила в плечо, Циклоп выронил пистолет, схватился рукой за рану, завизжал. Циклоп зашелся в крике, в следующий миг крик застрял у него в горле, закупорил дыхание, вместо крика раздалось страшное сплющенное сипение, икание, птичий клекот, Циклоп, плохо видя – очки он так и не сумел поднять, их засыпало стеклянными брызгами, – загородился от стрелявшего целой рукой, заскользил, заперебирал ногами по битому стеклу, стремясь лежа уехать из этой комнаты, спрятаться. Это ему не удалось – парень в пятнистой форме выстрелил в третий раз: срабатывал жестокий закон «око за око» – раз Циклоп поднял оружие на его напарника, выстрелил в спецназовца, олицетворяющего власть, – Циклоп должен умереть. И никакие судьи с добрячками-прокурорами не помогут, не защитят Циклопа. Пробка, возникшая в глотке у Циклопа, просалилась, протолкнулась внутрь сама по себе, он завизжал еще сильнее, Костик разобрал в его визге только одно слово «мама» и, не выдержав, заткнул себе уши. Человек в пятнистой форме выстрелил еще раз – в четвертый. Лицо его, прикрытое вязаной хлопчатобумажной маской, ничего, кроме холодного спокойствия и некой совершенно неземной сосредоточенности, не выражало. Он занимался только одним противником – Циклопом, на другого совершенно не обращал внимания, словно того вообще не существовало. У людей, штурмовавших сейчас квартиру Полины Евгеньевны Остаповой, были разработаны свои правила поведения. Через несколько секунд в квартире оказалось еще чеверо крепких, размашистых в движениях парней в пятнистой форме. Пятая пуля вообще вытолкнула Циклопа из комнаты – он, собственно, и хотел ее покинуть – Циклоп вскрикнул напоследок и умолк, и будто бы и не было его на белом свете. Дверь квартиры вышибли двумя тяжелыми ударами кувалды – бил один человек, вразмашку, изо всей силы второй прикрывал его щитом. Рокфор, метнувшийся было к двери – своего напарника Циклопа он бросил, не стал даже ввязываться в перестрелку, – кинулся назад, закричал что-то невнятно, зарычал, выстрелил в человека, оказавшегося у него на пути, тот согнулся и вместо того, чтобы выстрелить ответно, ударил Рокфора кулаком по лицу, Рокфор крутанулся на одной ноге, удержался, выплюнул два выбитых зуба: – А-а-а! – опять закричал Костик. Ему было страшно, очень страшно. Рокфор дважды выстрелил в того, кто ударил его кулаком, одна пуля со сверком черкнула по рванине бронежилета – соприкоснулась с оголенным металлом, от нее задымилась, загорелась ткань, вторая вонзилась ему прямо в лицо, в центр переносицы, вдавила нос в голову, череп у спецназовца вспух, лопнул. Над головой, словно кукурузная вата, вскипел мозг. – А-а-а! – продолжал кричать Костик. Он видел все это в кино, восхищался тем, как хорошие герои убивали плохих, аплодировал ловкой стрельбе и драке, но никак не думал, что это так страшно. Рокфор уложил человека в пятнистой форме наповал – тот со скособоченной, лишенной черепа головой грохнулся спиной на осколки стекла, проскользил по полу, оставляя за собой длинный кровяной след, кулем сложился у стены и затих. В это время в Рокфора выстрелили сразу с двух сторон: худой, прикрытый щитом боец, вломившийся в дверь, вооруженный короткоствольным, похожим на пистолет автоматом, и один из пятнистых, спустившихся с крыши – коротконогий плечистый боец в защитно-зеленой маске, с грохотом впрыгнувший в окно. Он не стал разбираться кто есть кто, он почти инстинктивно стрелял по человеку с оружием – он вообще бы стрелял по любому, кто не был одет в пятнистую форму, но держал в руке пистолет или нож, у него был приказ, он четко выполнял его и в плен этих люди – для суда, для следствия – не брал. Рокфор был обречен, его ожидала участь Циклопа, уйти живым с этой страшной квартиры у Рокфора не было ни одного шанса. Единственное что – боец хватал сам себя за руку, если под дулом автомата оказывался ребенок – сегодня он пришел спасать ребенка, а не убивать его. Над головой Костика в стену впилась пуля, обсыпала крошкой, он, перестав кричать, повалился на спину, как можно сильнее вжался в тахту, стремясь стать плоским, сохраниться, но это ему не удавалось, и он закричал снова. Комната уже была полна дыма, вони, Рокфор, до того как его буквально пополам располосовала автоматная очередь, успел еще один раз выстрелить, в следующий миг сразу несколько пуль выбили у него из руки пистолет, отшибли два пальца, и они, окровяненные, скрюченные, ударившись о потолок, свалились на верхушку шкафа. Рокфор зарычал, завыл яростно, но тут же по этому загнанному злому рычанью прошлась автоматная очередь. Пули будто бы шлепали по мокрому, растворялись в Рокфоре, тонули, как в болотной жиже, куртка, в которую он был одет, разлетелась в разные стороны сырыми окровавленными клочьями, Рокфор провернулся несколько раз вокруг самого себя, словно бы свиваясь в страшный мясной кокон, и растянулся на полу. – Все, – произнес кто-то властно, – их было только двое. – Странное дело, вооружены оказались слабо, у них даже автоматов не было. – Видать, хозяин запретил… Или кто там у них – хозяйка? – Мальчик жив? – Жив, с ним все в порядке. А вот Родин, майор с Петровки, погиб. Не повезло мужику. Пуля попала прямо в голову. – Дурак майор! Говорил же ему – не лезь не в свое дело! Нет, полез. И вот тебе результат, – проговорил человек с властным голосом, в голосе, кроме властности, прозвучало еще и равнодушное сожаление, – это был командир группы спецназа. – Опять начальство шею пилить будет. А за что, спрашивается? Еще потери есть? – Нет. В Петрова первый качок, который начал стрелять, три пули вогнал – и все в бронежилет. Хоть бы хны Петрову: прокашлялся и уже готов снова в драку. – Повезло Петрову, – спокойно и чуть завидующе произнес командир, – но в следующий раз может и не повезти. Мальчишку – в одеяло и в машину, трупы после визита следователей – в морг… В общем, сами все без меня знаете, – командир стянул с лица повязку, повернулся к Костику: – Ну что, дружок, перепугался? Костик поднялся на тахте и заплакал – слишком многое выпало на его долю, растер слезы кулаками по щекам. – Не плачь, – сказал ему командир. Без повязки у него оказалось очень доброе и простое, совершенно крестьянское губастое лицо. – Я все понимаю, дружок… Скоро ты будешь у папы с мамой. Все, твои мучения кончились. – М-мне с-страшно, – захлебываясь, глотая вместе со слезами слова, буквы, давясь воздухом, пробормотал Костик, – м-мне о-очень страшно. – Все, все, малыш, не надо лить соленую воду… Ты же ведь знаешь, слезы – это обычная соленая вода, – командир не знал, как утешить Костика, чем отвлечь его – то ли автомат дать поиграть, то ли гранату – ребристую, похожую на маленький ананас, в клетках-дольках Ф-1, то ли сказку рассказать, не выдержал и прикрикнул на Костика: – Хватит! Ну, кому говорю! Операция по освобождению Костика Белозерцева завершилась.
21 сентября, четверг, 16 час. 35 мин. Высторобец понимал, что сейчас ему лучше всего исчезнуть. На неделю, на две, на месяц. Завалиться в берлогу, лечь на дно, купить билет на пароход и уплыть в Астрахань, в тамошних ериках поставить себе шалаш и под видом беспечного отпускника, ловящего последнее летнее тепло, провести месяца полтора у воды, поесть дынь и рыбы, черной икры, позагорать, поохотиться на уток, потом сняться и по Каспию переместиться в Баку, поскольку для поездок туда пока не надо никаких виз, из Баку переместиться в Одессу, из Одессы в Сочи и уж потом, когда все перемелется, забудется, вернуться в Москву. Но для того, чтобы исчезнуть, ему нужно было взять на работе деньги, спрятанные в оружейном чуланчике, дома – документы, запасной паспорт на имя Прохорова Виталия Алексеевича, проживающего в городе Рязани на Пролетарской улице, – этот паспорт и еще пару других Высторобец держал в заначке на всякий случай. Он надеялся, что случай не наступит, – успешно отводил от себя всякие беды, несколько раз уже обошелся без «крайних мер», но случай наступил гораздо раньше, чем он ожидал. В общем, собственная жизнь на ближайшие три месяца Высторобцу была ясна, оставались только некоторые технические детали – как заполучить паспорт и каким образом забрать в помещении «Белфаста» деньги? С офисом все понятно, тут Высторобцу придется действовать аккуратно, в одиночку – может быть, даже нарядившись в представителя власти, с приклеенными усами и бровями – только так можно обмануть бдительную охрану «Белфаста», которую Высторобец сам и ставил на ноги и теперь пожинал результаты, а вот как быть с паспортом, он пока не решил. Позвонить домой, попросить жену, чтобы принесла документы к автобусной остановке? А если братья Фомины уже сидят на его телефоне, привалились к нему своими медными ушами – подсоединились к клеммам, к проводам, в коммерческих структурах это делается очень просто, – и не только чуткими ушами, бывает, присобачиваются, припаиваются зубами, желудком, держатся мертво, никакими клещами не отодрать, такая прочная бывает «пайка». Время поджимало, надо было действовать. Высторобец почувствовал голод – что-то сосущее, противное подкатило к желудку, сдавило его, сдавило горло. Высторобец покашлял в руку и через несколько минут уже стоял около, невзрачного заведения с привлекательной надписью «Русские блины». В «Блинах» была обычная обшарпанная стойка, вялые осенние мухи, здорово разжиревшие на здешних харчах и приготовившиеся укладываться на зиму, да еще две такие же вялые, похожие на мух, бабы взамызганных передниках – ну будто бы ничего не изменилось, будто улица никогда не заглядывала в это грязноватое, пропахшее горелым духом помещение – эти бабы были такими же и в горбачевскую пору, и в пору краткосрочного болезненного Черненко, и при бровастом – при Брежневе, их не трогали ни перемены, ни время, их мог взять только гранатомет. Высторобец рассмеялся невесть чему и поздоровался по-фельдфебельски громко, отрывисто: – Здравия желаю, бабоньки! – Будь здоров, командир, – довольно равнодушно отозвались те, – в меню не гляди, все съедено. – Что тогда не съедено? – Блины со сметаной и блины с маслом. – Богатый выбор! С икрой я и сам просить не буду, поскольку порция стоит, наверное, не менее шести минимальных зарплат… – Угадал. – А обедать на такие деньги просто неприлично, народ не поймет. Кофе к блинам найдется? – Кофе отыщем. – С молоком, пожалуйста. И четыре порции блинов со смаслом. А, залеточки?! – Пузо не треснет? От молока со смаслом? А, миленочек? – на усталых, распаренных до творожной рыхлости лицах этих выработавших свое женщин возникли слабенькие улыбки – клиент вроде бы живой попался. Высторобец знал одну простую истину: когда поговоришь с такими бабами по-свойски, да еще, если удастся, по крупу легонько шлепнешь – намек, мол, – пообедаешь в два раза вкуснее обычного и в шесть раз вкуснее тех случаев, когда покажешься им некой квасной бочкой с кислой рожей. У обшарпанного узкого стола он встоячку жевал, блины, запивал их мутным коричнево-блеклым напитком, по ошибке названным кофе, и просчитывал свои действия: сейчас, когда за ним началась охота, ошибаться было нельзя. Ни по-крупному, ни по-мелкому, все для него было одинаково важно – на карту поставлена его жизнь. Хотя он никак не мог смириться с одним: как это он проглядел братьев Фоминых, не докопался до их нутра, до сути, раз они пошли против него? – Милашечки! – позвал он женщин. – А еще две порции можно? На сей раз со сметаной. – Что, со смаслом надоели? – Нет, но кроме супа хотелось еще и жареного бифштекса. С кровью и лопающимися масляными пузырями. А то все суп, да суп! – Сладкоежка! Гурман! – Ого, какие мы грамотные, бабоньки! С высшим образованием небось! Слова закордонные знаем! Он наелся плотно – под завязку, ухмыльнулся про себя: «Дешево и сердито», вышел из «Блинов» и через десять минут был уже на оживленной Тверской улице, в магазине, где продавали грим, книги по искусству, парики, накладные бороды и усы, краски, различные картонные безделушки, раскрашенные под золото и платину, шутовские костюмы, очки – в общем, разнообразный театральный реквизит. Высторобец купил себе бороду и усы – он знал теперь, как проникнет в «Белфаст» за деньгами, – а деньги в изменившихся обстоятельствах ему нужны были дозарезу, часть из них надо было оставить жене, чтобы той было на что жить, часть забрать с собой. Хоть и удавалось пока все Высторобцу – он не допустил ни одного промаха, а чувствовал он себя напряженно, если не сказать – паскудно. Внутри, глубоко впившись корнями в плоть, что-то сидело, высасывало кровь, соки, мозг. Его не покидало ощущение, что он потерял часть самого себя, проиграл собственную жизнь, неосторожно поставив ее на кон, но он-то точно знал, что ничего еще не проиграл. Тогда откуда же это ощущение? Еще… Еще не проиграл. «Еще» – такое хлипкое слово, совершенно ничтожное – никчемная приставка к несовершенному действию, предполагающая лишь, что действие это может быть совершено, это тьфу, воздух, пустота, но он будет бороться, чтобы это хлипкое слово оставалось с ним всегда, было его удачей, амулетом, крохотной тусклой звездочкой, позволяющей ему жить, дышать, радоваться солнцу, ходить по земле. Высторобец сложил покупки в яркий фирменный пакет с двумя плоскими лямками-ручками и покинул магазин. На улице было жарко и шумно, дюжие ребята в оранжевых, будто бы подсвеченных изнутри, комбинезонах бензиновой пилой рушили толстокожее, способное еще долго жить, но кем-то безжалостно приговоренное к смерти дерево, делали это азартно – весело покрикивали, гикали, потели, похохатывали. «Вот так и со мной когда-нибудь поступят, – с невольной печалью подумал Высторобец, лоб у него прорезала глубокая вертикальная складка, исказила лицо, – как с этим деревом. Только когда? Знать бы эту дату!» Да, хорошо бы знать, чтобы подстелить соломки и упасть помягче, но не дано. Воздух был теплым, вязким, на тротуаре, совершенно не боясь людей, два воробья расклевывали кусок пшеничной булки, а когда к ним важно, враскачку, лениво, будто чиновник московского правительства, зашагал надутый, с высоким зобом, голубь-сизарь, воробьи попробовали уволочь от него эту корку по воздуху, но боевая операция им не удалась – силенок у горластых оказалось маловато. – Налог на добавленную стоимость не хотят платить, вишь! – отметил этот факт наблюдатель, стоявший рядом с Высторобцем – старик с голым, как бильярдный шар, черепом и смешно оттопыренными ушами. – Есть хотят, а налоги платить голубю не хотят – вот публика! Высторобец посмотрел на него и удивился: очень уж старик был похож на сизаря – ну как две капли воды! Голубь и голубь. В жизни встречается много всего, на что приходится обращать внимание – полно мелочей, способных удивить, озадачить, доставить радость, – но если на всем задерживать свой взгляд, анализировать, трепать на этом свои мозги, то очень скоро можно сойти на нет от перегрузки: ноша, как пить дать, окажется непосильной. Высторобец вздохнул, перехватил пакет за лямки и пошел в сторону метро. По дороге Высторобца немного отпустило, ощущение досады исчезло, на смену пришла некая душевная легкость. Он убыстрил шаг, по дороге с удивлением оглядывал дома, словно бы видел их впервые, хотя много раз бывал здесь раньше, кафе с вынесенными на тротуар столиками, отмечал невольно про себя: «А у нас стало, как в Париже», шел дальше, бросая взгляды по сторонам – многое ему было здесь внове. Впрочем, вполне возможно, он видел все-это и раньше, только не замечал. Замечал совсем другое – не это, но сейчас то, другое, прежнее, ушло на задний план, и он, Высторобец, изменился, сделался другим человеком, у него глаза стали другие…
21 сентября, четверг, 17 час. 30 мин. Братья Фомины засекли Высторобца, когда он звонил жене и нудно, чужим голосом – пытался изменить его – объяснял, где лежит запасной паспорт на чужую фамилию и где он ждет жену. Андрей колюче глянул на брата, проговорил едва приметно, почти не разжимая зубы, чтобы не услышал Высторобец: – Вот и все. Попался дядя. Приближается последний акт театрального представления… – Может, не будем? – Опять ты за старое! Сейчас надо думать, как его обложить, чтобы он не ушел, а не нырять в кусты. Наш дядюшка Высторобец – бобер еще тот. – А вдруг он стрелять будет? – У него нет оружия. Я сам лично все стволы проверил, сличил с записями – все оружие он оставил в «Белфасте». Стрелять он не будет. И вообще не комплексуй по поводу Высторобца – не тот он человек! Был папаша Высторобец и не стало его. Не по нашей вине – по его. И не мы определяли степень этой вины. – Того, кто определял, уже нет в живых. – Все, спорить не будем. В нашей паре я – старший. А ты подчиняешься мне, братан. Понял? Владимир Фомин ничего не ответил Андрею, склонил голову – так уж в жизни получилось, что Андрей всегда приказывал, а он исполнял приказы – так распределились роли.
21 сентября, четверг, 18 час. 00 мин. Высторобец вывернул куртку изнаночной стороной наверх, обнаружил, что где-то на швах и изгибах ткань протерлась, стала грязной, вздохнул: «Уж больно бомжистый вид!», но выворачивать куртку обратно не стал, справедливо посчитав – не на бал он отправляется, не к девочкам в гости, – приложил, глядясь в кусок стекла, себе усы – нормальный вид! Ни за что не узнаешь в этом усатом человеке Высторобца! Так оно и получилось: его не узнал никто. Когда в коридоре «Белфаста» с ним столкнулась Оля – белозерцевская секретарша, то с равнодушно-заплаканным видом проследовала мимо. Не только Оля – собственная жена не узнала бы в этом согбенном, очкастом, волосатом дяде в корейской кепчонке, натянутой на самые очки, с суковатой клюкой, которую едва удерживали ослабшие от возраста дрожащие руки Высторобца. Белозерцева уже увезли, хотя запах ладана, похоронных венков и свежего трупа не проходил. Милицейская бригада, нагрянувшая в «Белфаст», также отбыла. Собственно, «Белфаст» практически уже был пуст – с милиционерами уехала и часть сотрудников. Непонятно только было – зачем их взяли эмвэдэшники – то ли снимать отпечатки, то ли брать показания. Непрофессионально работают люди. Пора профессионалов прошла. Высторобец без особых осложнений проник к себе в оружейную комнату и взял деньги. Место, которое он назначил для свидания жене, оказалось хоть и пустынным, но неудачным – не просматривались подходы, но иного места у Высторобца «под руками» не было, да и свидание с женой должно было занять всего несколько минут. Жену он увидел издали – Лена шла к нему надломленной, разбитой походкой, какая всегда возникает у много работающих женщин, лицо у нее было беззащитным, каким-то виноватым – людей с такими лицами всегда все обижают, – и у Высторобца сделалось горячо в груди, на ключицах, в ложбинах, образовался горячий пот, стек по груди вниз, обжег живот. На языке начали вертеться некие ободряющие слова, но он не смог произнести ни одного, беспомощно оглянулся и пошел к жене навстречу. Шел и удивлялся тому, как рано у нее постарело лицо, выцвели глаза, на щеках укрупнились поры, а походка потеряла прежнюю девчоночью пружинистость. Лена помогала ему выстоять в жизни и сама боролась с этой жизнью, ему было тяжело, а ей – трижды тяжелее, она выкладывалась до остатка, будто рабочая лошадь, одолевающая с плугом непомерные пространства земли, выдыхалась, находясь рядом с Высторобцем, а он этого не замечал. – Эх, Лена, Лена, – покачал головой Высторобец, не понимая, отчего же это вдруг глазам сделалось тепло, а в горле захлюпала сырость. – Эх, Лена, Лена… Он приблизился к ней, взял за руки, как когда-то в молодости, в пору затяжных свиданий, поцеловал вначале одну руку, затем другую, улыбнулся благодарно. – Ты куда пропал? – спросила она шепотом, словно бы чуяла, что муж находится в опасности. – Об этом потом… Принесла паспорт? Она передала Высторобцу паспорт, специально заказанный им у ребят из одного ведомства – можно догадаться, какого, – подлинный, к которому никто никогда не придерется, отдельно – сверток, перевязанный бумажной бечевкой: – Здесь полотенце, мыло, зубная щетка, бритва. – Ты умница, – шепнул он жене растроганно. – Когда вернешься? – Думаю, что не раньше чем через месяц. – Командировка? – Командировка. Она ему не поверила. – Все так серьезно? – Не очень, но… – он виновато улыбнулся, развел руки в стороны, – сама понимаешь. Не от меня это зависит. – Береги себя! – Лена заморгала глазами, стараясь сдержаться, в уголках век появились мелкие беспомощные слезы. – Вот тебе деньги, – он сунул в руку жене плоский увесистый пакетик, завернутый в фирменную «белфастовскую» бумагу, перетянутый прозрачной липкой лентой. Здесь три тысячи долларов. Тебе должно хватить. Она сморгнула с глаз слезы. – Разве это главное? – произнесла она дрогнувшим голосом. – И это тоже. Ну все, Лен, все, – заторопился Высторобец, боясь того, что она расклеится, заревет в голос, привлечет к себе внимание, – он оглянулся, поблизости никого не было, – а главное – расклеился он. Это будет очень плохо, гораздо хуже, чем можно вообще предположить. – Все, Ленок! Он поцеловал ее во влажную соленую щеку, попятился к густому, не растерявшему сочной листвы скверику, откашлялся на ходу – ему сдавливало горло, – перемахнул через хлипкую железную ограду и исчез. Опасность он почувствовал минуты через три, когда выбрался из сквера. Он уже почти выбрался в тихий затененный проулок, осталось одолеть всего ничего, когда услышал громкий хруст за спиной, такой же хруст раздался сбоку, и неожиданно понял, что он обложен. Страха не было – в таких случаях лучше вообще не знать, что такое страх, возникло лишь ощущение досады, проигрыша: ну будто бы взял и просадил все имеющиеся у него доллары в наперсток – пустую игру, в которой мошенники облапошивают честных людей как хотят, он не успел даже вьщернуть из-за пояса пистолет, когда увидел Андрея Фомина. Андрея он узнал и не узнал одновременно – всегда улыбчивый, доброжелательный, Андрей Фомин преобразился, доброе лицо его было мстительным, злым, незнакомым, в глазах посверкивало железо, Андрей поднял руку и выстрелил – он не сказал ни слова, не предупредил Высторобца, не окликнул – просто взял и выстрелил. За первым выстрелом, почти в унисон, сделал второй. Не напрасно Высторобец, выходит, учил его стрелять из разных положений, по-всякому, в том числе и на звук, и вслепую, с закрытыми глазами, Андрей Фомин попал в своего учителя. Пуля ткнулась Высторобцу в левое плечо, сверток с полотенцем и туалетными причиндалами вылетел из руки, покатился по земле, Высторобец застонал, вторая пуля всадилась ему в руку, опять в левую же, напрочь отрубила ее, он нырнул за громоздкий старый ствол липы, прижался к нему спиной, стиснул правой рукой рану на плече, огляделся, увидел, что Андрей Фомин вышел на открытое пространство, и неспешно, держась очень уверенно, направился к нему. «Он идет, чтобы добить меня – добить и исчезнуть. Таков у него приказ. Приказ покойного Белозерцева. Жалеть, щадить или слушать, что я скажу, он не будет, – Высторобец едва сдержал стон. Было больно, очень больно, от этой боли можно было шипеть, как змея, можно было ползать по стволу липы, будто муха. – Он сейчас снова выстрелит. Вот скотина! – И еще одну вещь понял Высторобец: Андрей Фомин идет так неспешно, открыто, нагло лишь потому, что уверен – у Высторобца нет оружия. Андрей проверил все стволы в “Белфасте”, увидел, все оружие на месте, Андрей знает, что Высторобец не взял с собой ничего, и теперь считает, что учитель его пуст, в кармане, может быть, даже и перочинного ножика нет. Иначе бы Фомин подкрадывался к нему по-пластунски, давя животом гусениц и хватая ртом разный мусор, жуя землю и птичий помет. – Ах ты, сволочь, научил же я тебя разным премудростям на свою голову! Но подлости-то я тебя никогда не учил. Не было этого, не было! Ладно, я тебя породил – я тебя и убью!» Липкой от крови рукой Высторобец стал нашаривать у себя за поясом пистолет: «макаров» был у него заткнут за ремень сзади, от резких движений пистолет неловко сдвинулся на левый бок, достать его было непросто, но достать надо было – этот трофей, взятый у качков, был сейчас единственной надеждой Высторобца. Он подумал, что Андрей Фомин засечет это судорожное движение и не замедлит с новым выстрелом. Тот по дуге огибал ствол липы и действительно засек, Высторобец суетливо лапает окровавленными пальцами свои брюки, пачкает их, презрительно улыбнулся – не верил, что у Высторобца есть ствол, он видел глаза Высторобца, его лицо, боль, плескавшуюся во взгляде, растерянно трясущиеся губы, он все понимал – будто бы читал по книге, что сейчас Высторобец чувствовал, что у него есть и чего нет. И вообще, если бы у Высторобца был пистолет, то Белозерцева он не стал бы давить какой-то пошленькой бельевой веревкой – пристрелил бы и дело с концом, а так Высторобец мог стрелять только гнилыми огурцами, да еще соевыми батончиками. Из кулака. Другого оружия он не имел. А Высторобец, кривясь от боли, зажимая зубами язык, полз рукой за пояс, стараясь добраться до пистолета. Это простое движение оказалось мучительным, долгим, требовало не только душевного напряжения – на него надо было потратить все силы, что остались у Высторобца. Он застонал от радости, когда наконец почувствовал под пальцами теплую рукоять «макарова». Аккуратно потянул пистолет на себя. Андрей Фомин был уже близко, он весело и безжалостно улыбнулся Высторобцу, поднял свой пистолет. Ах, как он не был похож на того Андрея Фомина, которого знал Высторобец, это были небо и земля, – в том Андрее не было ничего безжалостного, злого, а в этом… Андрей Фомин мстительно улыбнулся, и Высторобец понял: сейчас он будет стрелять. Они выстрелили одновременно, Высторобец, у которого в окровавленной скользкой руке едва держался пистолет, и Андрей Фомин, глаза у которого от нехорошего изумления чуть не вывалились наружу, испуг внезапно, будто электрический ток, пробил его – он не ожидал увидеть у Высторобца оружие. Пуля Андрея Фомина пробила Высторобцу шею, посадила его на колени – он тяжело рухнул на них, боль звоном отозвалась в висках, Высторобец понял, что никуда отсюда, из этого сквера, он уже не уйдет – не сможет просто, и эти загаженные собаками кусты станут последним его помостом в жизни, последней сценой, за которой уже не будет ничего – только холод, темнота да тлен… Вторая пуля Фомина всадилась в древесную плоть над его головой, сыро чавкнула и забусила глаза мелким корьем. Высторобец поймал стволом пистолета грудь Фомина – цель была близкая, крупная, он знал, что не промахнется – промахнуться было просто мудрено, – и трижды нажал на курок «макарова». Все пули попали в цель, разворотили грудь Андрею Фомину – на нем даже загорелась модная футболка, Фомин вскинул руки, распахнул в полунемом неверящем мычании рот и упал на землю, вцепился в нее ногтями, пробуя подтянуться – до Высторобца оставалось всего ничего, Высторобец выстрелил еще раз, в голову, и Фомин на мокрети, споро вытекающей у него из груди, отъехал назад и затих. Последняя пуля Высторобца снесла ему ползатылка. Высторобец застонал, приподнялся на ослабших неслушающихся ногах, попробовал обернуться на быстрый опасный хруст, раздавшийся совсем рядом, но не смог, словно был парализован, из шеи выхлестывала кровь, заливала ему лицо, он поднял пистолет, собираясь стрелять через плечо на звук, но стрелять не стал, зацепился взглядом за клочок голубого неба, больно всадившийся ему в глаза, в следующий миг увидел совсем рядом увеличенное, сильно растекшееся по пространству лицо своей жены, услышал ее крик – она звала его, плакала, крик был раздавленным от горя, но таким знакомым, родным… Потом все стихло. Владимир Фомин тоже не стал стрелять – у него к Высторобцу было свое отношение, подбежал к брату, перевернул его на спину – лицо Фомина передернулось от жалости к Андрею, от того, что он видел, отвернулся и, услышав неподалеку сирену милицейской машины, пригнулся и нырнул в просвет между кустами. На Высторобца он даже не посмотрел
21 сентября, четверг, 18 час. 10 мин. Около входа в «Белфаст» остановилась знакомо черная, начальственного вида «Волга», из нее, покряхтывая, вылез плотный лысоголовый человек в генеральской форме: это был Зверев, протянул руку в салон машины. В нее вцепилась тонкая исцарапанная ручонка, показавшаяся из салона, следом вцепилась еще одна, и из машины выбрался Костик – бледный, испуганный, в мятой одежде, с дыркой на грязных джинсовых штанах. – Ты, кхе-кхе, не бойся, больше никто никогда тебя не обидит, – успокаивал его Зверев, – все страхи, кхе-кхе, остались позади, за горизонтом. Там, – он махнул рукой в сторону, обвел пространство, – все позади! Из двери «Белфаста» выбежала Оля – секретарша отца, которую Костик знал, кинулась к Костику, прижала его к своей плоской груди, ткнулась носом в его волосы: – Ко-остик! – Ну хватит, хватит, – недовольно проговорил генерал, – не надо разводить сырость, ее и без того достаточно. Они вошли в офис – впереди Костик, потом Зверев, замыкающей – Оля. Оля, словно расстроенная девчонка, терла пальцами глаза, сморкалась в платок, плечи у нее потряхивало, Костик остановился, протянул ей руку. Она поспешно протянула ему в ответ свою, крепко сжала пальцами его ладонь, притянула к себе, не сдержалась и всхлипнула вновь. – Я же сказал – нечего сырость разводить! Кхе-кхе – кхе. Хватит! – Зверев повысил голос. – И без этой сырости тошно. Так тошно, что… Ему действительно было тошно: погиб майор Родин – лучший оперативник управления, двадцать минут назад вскрыли квартиру Белозерцева, обнаружили там мертвую Ирину Константиновну… В связи с этим возникла новая головная боль: на кого оставить Костика, с кем он будет жить? А десять минут назад Зверев прямо в машине по телефону получил очередную головомойку: преступность в Москве растет не по дням, а по часам, и кажется, нет уже силы, способной с ней справиться, всем страшно, а всякий страх, как известно, рождает бессилие и вопрос: что делать? Вот Зверева и теребят, и колотят, как грушу, на которой тренируются боксеры: что делать и что конкретно он делает для искоренения преступности в Москве? – Тьфу! – неожиданно отплюнулся Зверев, положил руку на плечо Костика. – Проходи, сынок, во владения своего отца. Вполне возможно, что со временем ты сядешь в его кресло – закончишь институт и сядешь. Это достойное место для тебя, – Зверев еще что-то говорил, но Костик не слушал его, всхлипывал, зажимал зубами тонкий горловой звук, рвущийся изнутри, схлебывал его вместе со слезами, а Зверев все говорил, говорил, говорил – он понимал, что останавливаться нельзя, как только он остановится, Костика начнут душить слезы. А Костиковых слез, как и вообще всяких слез, Зверев боялся. Через широкую, обставленную стильной офисной мебелью, специально привезенной из-за кордона, прихожую прошли в кабинет Белозерцева. Оля, таща за собой Костика, обогнала генерала, распахнула готовно дверь и шмыгнула носом: – Вот! – Садись, Костя, вон туда, за стол, на место отца, – Зверев показал на кожаное кресло Белозерцева. – Это твое законное место. – Остро глянул на дверь, ведущую в заднюю комнату: надежно закрыта или нет? Комната была не только закрыта, но и опечатана – на срез двери была приклеена белая полоска бумаги с чьей-то размашистой подписью и печатью. Зверев одобрительно кхекхекнул. Косо глянул на Олю: – Вот и свиделись мы сегодня во второй раз. Никто из нас и не думал, что произойдет это при таких обстоятельствах, кхе-кхе. Бутербродов в прошлый раз не было, чаю тоже. Сейчас-то чай найдется? – Найдется, – Оля снова шмыгнула носом. – В прошлый раз я ждал, ждал чаю… или что там было обещано? Кофе? Коньяк? Кофе с коньяком? Ждал кофе с коньяком и бутербродами и не дождался, – Зверев сделал обиженный вид. – Извините, – пробормотала Оля побито, – я просто не успела. Замоталась. Но и сейчас она не торопилась с чаем, не покинула Костика со Зверевым, чтобы в прихожей включить быстро нагревающуюся «ровенту» – итальянский пластмассовый чайник, и Зверев, если честно, несмотря на бурчание, был благодарен ей за это, он больше всего боялся сейчас остаться с Костиком наедине в кабинете его отца, боялся расспросов: где мама, где папа? А что он может сказать Костику? Но Костик не спрашивал его ни про отца, ни про мать – хоть и маленький он был, а закваска современного российского бизнесмена в него уже была заложена. Зверев вздохнул: – Эх, Костик, Костик, что же мы теперь будем с тобой делать, а? Опустился в кресло, приставленное к столу Белозерцева, разгладил что-то невидимое на полированной поверхности и, сжав губы в скорбную морщинистую щепоть, снова глянул на запечатанную заднюю дверь, покривился болезненно, перевел взгляд на Олю, севшую в кресло, стоявшее по ту сторону столика. – Вы их найдете, господин генерал? – спросила Оля. Слово «господин» кольнуло Зверева. Вот они, современные коммерсанты! Господа в рваных штанах, пахнущие навозом, но подтирающие себе задницу новенькими долларами. – Кого «их»? – непонимающе пробормотал генерал, предупреждающе покосился на Костика, давая Оле понять, чтобы поменьше болтала, и произнес: – Обязательно найдем! Про себя подумал: «Почему эта дамочка считает, что убийца был не один? Она произнесла “их”, а раз “их”, то значит – много. Надо этот фактик взять на заметку». А с другой стороны, к чему эта подозрительность? Устал он от этих «фактиков». Конечно, их было много, детей ныне в одиночку не похищают, это ясно, как божий день. И ему, заслуженному генералу, отмеченному всеми эмвэдэшными наградами, которые только существуют в министерстве, да и не только этими цацками, а и цацками государственными (прошлыми, правда, не нынешними, но от этого ценность свою не утратившими) – орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, – иногда бывает стыдно носить милицейскую форму. Ведь кого только не найдешь среди нынешних милиционеров. Тут и взяточники, и вымогатели, и убийцы, и рэкетиры, а уж те, кто ежедневно превышает служебные полномочия, – сплошь и рядом. Все-таки много среди нынешних милиционеров дерьма и преступников. Если раньше милиция была малочисленной и усеченным составом справлялась со всеми бедами, то сейчас она по численности своей уже стала равна армии: что Вооруженные силы, что милиция – один, извините, шут. – Кхе-кхе, – покашлял Зверев огорченно, подумал о том, что пора уходить на пенсию, выращивать на даче огуречную рассаду – самое милое дело для боевого старика. Вот тебе и «кхе-кхе». Он не знал, что делать с Костиком. Собственно, за этим он и приехал в «Белфаст». Отец Костика убит, мать убита. Квартиру Белозерцева вскрыли полтора часа назад, и Зверев там уже успел побывать. Картина не для людей со слабыми нервами. Отправить Костика в детский дом – пропадет, оставить одного в залитой кровью квартире, смыв, конечно, предварительно следы убийства со стен и пола, – также пропадет, близких родственников у Белозерцева не оказалось, у покойной Ирины Константиновны они были, но тех, кто с охотою взял бы к себе Костика, не нашлось, а вручать судьбу этого маленького человека кому-то силой – значит, погубить его. – Кхе-кхе, – снова покашлял генерал и вздохнул: – Это, Костик, значит, и есть твое место, – он ткнул пальцем в кресло, в котором сидел молчаливый, с заплаканным бледным лицом Костик, – как подрастешь, так, кхе-кхе-кхе, и займешь его. Какую-то ерунду говорит он, что-то незначительное, мелкое, суетное, при чем тут кресло, под которое Костик еще ходит пешком, не задевая макушкой за кромку сиденья, – к той поре, когда он подрастет, от «Белфаста» останутся рожки да ножки, а люди – те вообще не вспомнят, была такая контора или нет? Правда, одна вещь все-таки должна привлечь Костиковых родственников, странно, почему они на это не клюют – у Белозерцева остался большой капитал. Вот этот-то капитал и поможет Костику подняться на ноги. Дверь кабинета неожиданно открылась и на пороге появился Пусечка – чуть помятый, со сбитой набок прической. Одернул на себе пиджак – сегодня он нарядился в коротковатый пиджачок, поправил галстук-бабочку на шее, сделал широкий шаг вперед и поинтересовался чужим, каким-то севшим голосом: – Где Вячеслав Юрьевич? – Гм, кхе-кхе, – Зверев достал из кармана платок, вытер им края глаз. – Нет Вячеслава Юрьевича. – Я понимаю, что здесь его нет, но где-то он есть? – на щеки Пусечки наползла помидорная краснота: он не любил неясных ситуаций, розыгрышей, двусмысленностей. Сделал еще один шаг вперед. – Весь вопрос в том, что я должен с ним объясниться. – Поздно, – спокойно, ровным мертвенным тоном произнесла Оля. – Как «поздно»? Косо глянув на Костика – Оля, как и Зверев, сейчас не знала, что можно говорить, а чего нельзя, – помялась немного, лицо у нее от напряжения чуть поехало в сторону, потом решилась и произнесла шепотом: – Вячеслава Юрьевича больше не будет. – Не понял, – Пусечка встрепенулся. – Он что, срочно отбыл за границу?.. – В следующий миг его осенило, лицо Пусечкино посветлело. – В «Белфасте» будет новый хозяин? Оля умоляюще стрельнула глазами в сторону Костика, но Пусечка ничего не понял, сделал очередной шаг к столу и пробормотал озадаченно: – Вот так-так! Оля вскинулась в своем кресле, глаза ее полыхнули ярким светом, она хотела было произнести несколько резких фраз, но вместо этого поднялась и тихо, словно бы лишь для себя, проговорила: – Игорь Борисович, вас можно на несколько минут в приемную? – Конечно, конечно. Оля через полминуты вернулась обратно, а еще через полминуты в двери раздалось карябанье; царапанье, какие-то неясные звуки, и в кабинете вновь очутился Пусечка. Сделав несколько шагов по паласу, он неожиданно плюхнулся на колени и, всхлипывая, размазывая рукой по щеке мокреть, двинулся на коленях к столу. – Костик, Ко-остик, – Пусечка не выдержал, к всхлипываниям добавился гулкий булькающий звук, и он зарыдал в голос: – Ко-остик, ты единственный сын моего лучшего друга, ты… – Пусечка заломил руки над собой, задрал голову, глянул в потолок, зажмурился, словно увидел там слепящее солнце, покрутил горестно головой. – Как же ты теперь будешь жить? Вот вопрос, на который безуспешно искал ответ Зверев – искал и пока не находил. – Сын моего друга – мой сын, – возвестил тем временем Пусечка со слезами. – Я забираю тебя к себе. Если хочешь – я могу тебя усыновить. А, Костик? Костик ничего не ответил, он не понимал еще, вернее, не понял пока до конца, что происходит, шок не прошел – прямой и бледный, он сидел в кресле Белозерцева, поглядывал загнанно на собравшихся здесь людей и ждал отца. – Нет, действительно, я тебя усыновлю, Костик, – Пусечка протянул к младшему Белозерцеву обе руки, – квартира у меня хорошая, от родителей досталась в наследство, в престижном старом доме, стены метровой толщины, вот такие, – Пусечка показал, какие стены в его доме, – все удобства… Тебе, Костик, понравится, – Пусечка говорил о вещах, в которых Костик ничего не смыслил, но Пусечке они казались важными. – Мы с твоим отцом вместе в институте, знаешь, сколько красного вина выдули? О-о-о! Мы оба любили красное крепленое вино. С конфетами. И еще пиво. Тоже с конфетами, с монпансье. Знаешь, как это вкусно – красное вино и карамель с повидловой начинкой? Или пиво с леденцами, а? Лучше может быть только горький французский шоколад с мартини, и больше ничего… А, Костик? Зверев вначале слушал Пусечку раздраженно, с усмешкой на губах: «Не Костик тебе нужен, а деньги его, Вавины, то есть Вячеслава Юрьевича, получив эти миллионы, ты мигом забудешь о Косте», но то ли слезные подвывы Пусечки, то ли искреннее заламывание рук тронуло Зверева, а может, тронуло еще что-то, усмешка исчезла с его лица, и он начал одобрительно кивать. «А верно ведь, из этого кудрявого зайца может получиться хороший опекун. Он труслив, а трусливому человеку всегда можно наступить каблуком на хвост. Трусливые больше всего на свете боятся нарушить закон. Надо только правильно оформить документы, чтобы там был пункт для “каблука”. Как только кудрявый нарушит правила игры, так ему сразу ботинком на хвост, и он из опекунов переместится на другую ступеньку. А, кхе-кхе? Станет тем, кем был до опекунства. Кто был никем, тот станет всем. И наоборот… А?» Зверев закряхтел, поднялся с кресла, строго, будто учитель, которого боятся ученики, склонил голову в Пусечкину сторону: – Вы, значит, однокурсник… – Однокурсник, однокурсник, – поспешно подтвердил Пусечка. – И с вашим… гм-м, однокурсником были хорошо знакомы? Дружили домами? – Хорошо, очень даже хорошо… Много лет! Я и мать Вячеслава Юрьевича знал, и отца… Оба они ныне, к сожалению, покойные, – Пусечка всхлипнул, встал с коленей на ноги, отряхнул брюки, снова всхлипнул и улыбнулся виновато: – Простите, я не знаю, что со мной происходит. Расклеился совсем. – Ничего, я тоже расклеился, – успокоил Пусечку генерал, усадил на свое место – хлипкое заморское кресло совсем не было приспособлено для кряжистых российских фигур, – глянул заботливо Пусечке в лицо: – Может, платок? – Нет, у меня есть свой. Зверев вновь испытующе посмотрел на него – важно было не ошибиться. Можно, конечно, повременить с принятием решения, но куда деть Костика? Отправить в детприемник? Это все равно что из одного заточения затолкать в другое – парень может на всю жизнь остаться заикой. Взять пока к себе домой? Там жена также устроит Костику детприемник – слишком не любит чужих детей. Определить на постой к общим знакомым? Нет, это тоже не выход. С другой стороны, сопли, стоны, плач и невнятное бормотанье этого кудрявого голубя – разве выход? М-да, в трудном положении оказался Зверев. Его дело – кого-нибудь скрутить, шлепнуть рукояткой пистолета по затылку, размотать сложное уголовное дело, но быть вторым Макаренко? Этому его никто никогда не учил. В голове родился странный далекий шум, к вискам прилила кровь, на лысое темя надавило что-то тяжелое, теплое, Зверев понял – опять повышается давление. Переволновался, перенервничал… – Ладно, кхе-кхе, – сказал он, понимая, что молчать нельзя, надо что-то говорить, от него сейчас зависит судьба Костика Белозерцева, как он, в общем-то, чужой, незнакомый, далекий Костику человек, решит, так и будет, но Зверев не мог принять этого решения, не мог поставить точку – он колебался, тянул время, кхекхекал. – Ладно. Значит, так и порешим. Но чтобы все было честь по чести, я сам проверять буду – все буду: и отметки, и воспитание, и… все, словом. Забирай Костика, – он подтолкнул рукой воздух, словно бы подгреб ладонью под то самое место, снизу вверх, а потом вперед. – Документы же… документы… мы эти бумаги потом оформим. – А где мой папа? – спросил, едва шевеля губами, Костик. Он словно бы очнулся, лицо его сделалось еще белее, стало совсем мучнистым, из глаз выкатились две крупные горькие слезы, заскользили вниз по щекам. – Где? Скажите, пожалуйста, где мой папа? Маленькая нескладная фигурка его затряслась, согнулась, будто Костика ударили кулаком, вызвала у Зверева приступ жалости, он тоже согнулся, зажал в себе дыхание – ему было жаль Костика, жаль семейство Белозерцевых, жаль себя, жаль этого дурака Пусечку – он теперь вспомнил издевательскую кличку, данную этому кудрявому барану злоязыким Вавой, жаль плоскую секретаршу-доску с заурядным бледным лицом и жестковатыми, разочарованными в жизни глазами, он затряс головой протестующе, впустую захватил ртом воздух, стараясь утишить боль, возникшую в нем, но боль не проходила, и Зверев почувствовал, что его закружило, понесло куда-то в сторону сильным течением, на темя снова легла жесткая горячая ладонь, стала давить, он открыл рот, чтобы ответить Костику, но ничего не смог произнести, у него не хватало слов для ответа. Да что там слова – не хватало дыхания. Останавливалось сердце. – Где папа, а? – повторил вопрос Костик. – И мама где? Все молчали, в том числе и Пусечка, который, как и Костик, похоже, только сейчас начал понимать, что же произошло на самом деле, – смотрели друг на друга с надеждой: ну кто сможет ответить на этот простой и страшный вопрос? Ни у кого не хватало решимости ответить. – Нет больше твоего папы. И мамы нет, – набрав побольше воздуха в грудь, чтобы не пекло, произнес наконец Зверев и наклонил голову в сторону Пусечки. – Вот он теперь будет твоим папой. И мамой тоже, – он зачем-то посмотрел на Олю, словно бы хотел попросить ее быть Костиковой мамой, но лишь шумно выдохнул, освобождаясь от теснения в груди и, обиженно сморщив рот, молча отвернулся в сторону. Зверев понимал, что не имел права говорить то, что он сказал, но и не сказать ничего тоже не имел права. Вот жизнь наступила, будь она проклята, вот жизнь! В самом худом сне не увидишь то, что происходит ныне в яви, на тех же московских улицах. Да и не только московских… И Зверев чувствовал себя виноватым за все это и страдал, очень страдал от того, что ничего не мог изменить. Москва – пос. Внуково. 1994–1996 гг.
Полянский Анатолий Десять процентов надежды
ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ НАДЕЖДЫ
КОМАНДИРУ… СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ПОЛКОВНИКУ ТЮТЕРЕВУ А. М. Остров Итуруп 29 августа 1945 годаДОНЕСЕНИЕ
Настоящим доношу, что при подходе к острову корабли отряда попали под огонь береговых батарей противника. Катер, бортовой номер 742, получил несколько попаданий и стал тонуть. На нем возник пожар. Оказать помощь не удалось: начался шторм. Экипаж катера и находящиеся на нем десантники пали смертью храбрых в бою за Советскую Родину. Список погибшего личного состава прилагаю: 1. Младший лейтенант Семибратов Н. Н., командир взвода. 2. Старший сержант Мантусов М. Ф., пом. командира взвода. 3. Сержант Воронец С. П., командир минометного расчета. 4. Рядовой Белов А. И. 5. Рядовой Касумов Р. Ш. 6. Рядовой Пономарев М. И. 7. Рядовой Семенычев Г. П. 8. Рядовой Шумейкин И. А. 9. Рядовой Комков Я. Л. 10. Рядовой Яшин И. И. 11. Рядовой Яковлев Л. В. 12. Мичман Сазонов Т. И., командир катера. 13. Матрос Галута И. В. 14. Матрос Селезнев В. В. 15. Матрос Караулов Х. М. 16. Матрос Быкин К. Г. Ходатайствую о награждении боевыми орденами и медалями — посмертно.Командир штурмового отрядамайор Иволгин П. А.
Начальнику штаба
1) Поименованный личный состав исключить из списков части. Снять со всех видов довольствия. 2) Сообщить семьям погибших. 3) Представить к правительственным наградам посмертно. 30.08.45 г.п-к Тютерев.
Глава первая
…Шумейкин появился на пороге казармы в гимнастерке с расстегнутым воротом, в лихо сбитой на затылок пилотке, скептически осмотрел двухъярусные нары и поморщил приплюснутый пос. — Что-то не нравится мне эта зала. — Ничего, понравится, — насмешливо отозвался из угла старший сержант Мантусов. Он только что сменился с наряда и лег отдохнуть. — Кто-то что-то сказал или мне показалось? — обернулся Шумейкин к вошедшему следом за ним низенькому белобрысому бойцу. Тот послушно закивал: «Ага, значит, показалось». Шумейкин хлопнул спутника по плечу. — Верно, Пономарев? Мантусов неторопливо опустил ноги с нар, сунул их в сапоги и тяжелой квадратной глыбой надвинулся на Шумейкина. Старший сержант был на голову выше его и намного тире в плечах. — Ну вот что, товарищи, лишние разговорчики нам ни к чему. Я помкомвзвода. Шумейкин смерил его с ног до головы нагловатым взглядом и с той же ухмылкой спросил: — Где ж нам разместиться, помкомвзвод? К месту службы прибыли. Требуется отдохнуть. Мантусов кивнул в противоположный угол: — Там будете отдыхать. После отбоя, разумеется. Два крайних места на нарах свободны. А сейчас марш на кухню! Картошку чистить. Там как раз помощь требуется. Темные, с узким разрезом глаза Шумейкина зло сощурились. — За что это, извиненьица прошу… Толстые губы Мантусова тронула усмешка: — За непочтение к родителям. Казарма отозвалась дружным смехом: понравилось. Мантусов, однако, тут же подавил усмешку, стал серьезным, и глаза его доброжелательно глянули на пришедших. Он не умел долго сердиться. Знал это за собой и старался не показывать солдатам свою отходчивость. Поэтому голос его прозвучал сурово: — В другой раз будете представляться по всей форме. Шумейкин вспыхнул. Краска залила его смуглое, с редкими рябинками лицо. Глаза еще больше сузились, в них сверкнул недобрый огонек. — Видели мы таких… в штрафбате, — шепотом выдохнул он. — Рога ломали… Разговаривать так с помкомвзвода не позволял себе никто. Мантусова уважали: он долго воевал, имел ранения, был опытным и заботливым сержантом. В казарме наступила звенящая тишина. На квадратном лице Мантусова не дрогнул ни один мускул. Только серые глаза подернулись ледком и спокойно, будто беря на мушку, остановились сперва на одном, потом на другом солдате. Он помолчал и отрывисто, будто отрубая слова, сказал: — А ну, стать, как положено! Смирно! Повторить приказание. Шумейкин, почувствовав враждебность казармы, поежился. Он нехотя приставил ногу и опустил руки по швам: — Есть… идти… на кухню.
К утру шторм начал стихать. Дождь перестал хлестать косыми струями, а сыпал тихо и нудно, временами прекращался совсем, и тогда в просветах между тучами проглядывало побледневшее небо. Заря постепенно разгоралась, и волны, бывшие час назад черными как деготь, светлели. Прежней силы в них уже не было. Пенистая, клокочущая вода быстро скатывалась с палубы. Всякий раз, когда соленые брызги залетали в рубку, Семибратов поеживался. Брызги были холодными, а его и так пробирал озноб: намокшая гимнастерка прилипла к телу. Спать не хотелось, хотя прошли уже сутки, как он не смыкал глаз. Голова была тяжелой и побаливала. Больше всего Семибратова угнетало сознание собственной беспомощности. Люди надеются на него, верят, а он, командир, ничего не может сделать и вынужден подчиняться стихии. Ему казалось, что из этого положения обязательно должен быть выход. Должен быть! В училище им говорили: безвыходных положений не бывает, командир обязан найти какой-то выход и принять наиболее разумное решение. Так, кстати, и записано в уставе. Надо что-то предпринимать, а не сидеть сложа руки! Сазонов склонился над картой. Было уже достаточно светло. Семибратов с надеждой посмотрел на него. — Ну как? Определили, где мы находимся? — По всей видимости, тут. — Мичман ткнул пальцем. Но в голосе не было уверенности. В том месте, куда указывал Сазонов, Семибратов увидел лишь синеву, переплетенную координатной сеткой. Ни единой коричневой крапинки суши — сплошная синяя краска. — А может, нас снесло к северу или к югу? — спросил он, все еще не теряя надежды. Сазонов пожал плечами. Что он мог сказать? С его точки зрения, этого не могло быть. Однако такой ответ не удовлетворит командира десантников. Сазонов понимал, что младший лейтенант меньше всего думает о себе. Ему доверены люди. Сазонову стало жаль молодого лейтенанта. Небось в мирное время гонял бы себе голубей, не зная ни забот, ни горя. Ему же лет двадцать, не более. Совсем пацан. Взвалили вот на таких пацанов ответственность. И они, как ни странно, выдерживают. Собственно, что ж тут странного? Сазонов помнит себя в эти годы. В революцию он, правда, не успел. Но зато потом дел хватало. Продотряды. Борьба с зелеными. Создание коммуны… Их поколению было, пожалуй, не легче… На какое-то время в рубке воцарилась тишина. Стало слышно даже, как поскрипывает рулевое колесо. Сазонов прислушивался и думал: какая же старая у них посудина, как она только выдержала такую встряску! Давно пора было ее списать, да нельзя. Боевых кораблей не хватает, особенно сейчас, когда на Курильские острова высаживаются десятки десантов. Пришлось пустить в ход даже рыбацкие лайбы. Семибратов, не сводя глаз с рулевого, тоже прислушивался к скрипу штурвала, но думал о другом. Галута стоял неподвижно, широко расставив кривые крепкие ноги. Могучий торс лишь слегка наклоняется в такт качке. Узловатые пальцы намертво вцепились в рулевое колесо. Губы плотно сжаты. На скулах желваки. От всей фигуры матроса веяло силой и удивительной прочностью. И это вызывало у Семибратова ощущение твердости и уверенности. Конечно, будущее у них вдруг стало зыбким, неопределенным, трудно предположить, что случится. Да с такими, как Галута, не пропадешь. На таких можно опереться. Они не подведут! Мглистое утро просветлило небо. Серые тучи сменились грязно-пепельными облаками. Но океан от этого не подобрел. Он был все такой же хмурый, штормящий и беспредельный. Взгляду остановиться не на чем: волны, волны, волны… Ничего, кроме волн. Семибратову стало страшно от этого однообразия. «Так и с ума сойдешь, — промелькнула у него мысль. — Ну еще час, два, десять… А дальше что? Ведь перед ними не море, а Тихий океан!» Думы Семибратова прервал взволнованный голос рулевого. Младший лейтенант не сразу понял, и лишь когда Галута повторил: «Справа по носу — земля», — до Семибратова наконец дошло. Он впился глазами в горизонт, но ничего не увидел. Растерянно посмотрел на Сазонова и по его напряженной улыбке догадался, что рулевой не шутит. — Держать курс на остров! — Команда Сазонова прозвучала спокойно и даже обыденно, а Семибратова охватило блаженное состояние. Нет, он верил недаром, он знал, что безвыходных положений не бывает. Некоторое время он еще вглядывался в горизонт, а потом выскочил из рубки и бросился к люку. — Товарищи! — крикнул он в трюм. — Впереди остров! Выходите! Солдаты высыпали на палубу. — Осторожней! — закричал Сазонов, высовываясь из рубки. — Скользко! Еще за борт угодите! Но его никто не слушал. Потрясая автоматами, бойцы что-то возбужденно кричали, махали руками. Вид земли во все века радовал человека в море. Остров медленно поднимался из-за горизонта. Океан еще стремился упрятать его в волны, но остров упрямо выныривал из воды и постепенно рос. Вскоре на нем можно было различить скальную гряду, а чуть дальше — неровный конус вулкана. Над ним низко плыли серые облака. Сазонов стоял у рубки рядом с Семибратовым. Приближающаяся земля вызывала в нем двойственное чувство. С одной стороны, трудно было предположить, что ждет их впереди. Чей это остров? Как он встретит их? С другой — Сазонов испытывал громадное облегчение. Он свое дело сделал: доставил людей на землю. На море он был за них в ответе. И, чего греха таить, побаивался, ох как побаивался! Теперь-то уж можно признаться в этом хоть самому себе. На такой хлипкой посудине в восьмибалльный шторм. Расскажи кому — не поверят. Марфа первая сказала бы: «Завираешь, чай, Трофим Игнатьевич…» Она его по отчеству не часто балует, больше покрикивает. Крутоват нрав у жены. Приятели по этому поводу над Сазоновым подшучивали: «Твоей бабе, Трофим, мужиком родиться. В самый раз было бы…» И они в какой-то мере правы. У Марфы и профессия-то мужская — такелажница. Зато баба она что надо. Сазонов спокоен: семейная позиция у него прочная. Три года воевал и горя не знал. Другие маялись, переживали. А он был спокоен. Раз Марфа сказала, что ждать будет, — слова своего никогда не нарушит. Еще после свадьбы она ему заявила: «Захочешь баловать, за штаны держаться не буду, катись на все четыре стороны». Жили они ладно. Ну, ссорились иногда. Без этого кто обходится? Но чтоб он в другую сторону смотрел — того не было. Нет, не было! Земля приближалась. Теперь отчетливо виделся плоский берег, каменистая морская терраса за ним. Сазонов рассматривал ее и думал: «Здесь кончается моя власть. На море я был хозяином. Теперь пусть младший лейтенант на себя команду берет. Мичман Сазонов может и передохнуть. Он свою задачу выполнил…» Сазонов усмехнулся своим мыслям. Не в его характере было отдыхать. Облака заметно посветлели, стали бело-голубыми, яркими. Где-то за ними угадывалось солнце. Его рассеянные лучи пробивались к воде и обесцвечивали ее. Ближе к берегу синева густела и прерывалась белой полосой. Вначале Сазонов подумал, что это линия прибоя, но, присмотревшись, вдруг понял, что перед ними рифовый барьер. Он повел взглядом и с тревогой убедился, что почти сплошная пенистая дуга тянется вдоль берега. Вода вспыхивала на рифах белыми бурунами. Сазонову стало жутко. Он лучше, чем кто-либо другой, понимал ситуацию. Если катер швырнет на рифы, от него через несколько минут останутся только щепки. Шторм еще не утих! Сазонов перехватил тревожный взгляд Галуты. Мичману захотелось крикнуть матросу: молчи, не поднимай паники! Но тот, видно, и сам догадался, что надо помалкивать. Галута ничем не выдал своего волнения. Только пальцы еще сильнее стиснули штурвал. Семибратов повернулся к Сазонову, словно почувствовал неладное. — Это камни? Неужели не проскочим? Сазонов не отозвался. Что он мог ответить? — Надо же что-то делать! — воскликнул Семибратов. Сазонов сжал его локоть и указал глазами на солдат. Семибратов понял, замолчал, потом тихо спросил: — Разобьет? — Все зависит от того, как нас бросит на камни, — так же тихо отозвался Сазонов. — Командуйте: надеть спасательные пояса и приготовить шлюпку. Да пусть покрепче держатся за леера! Семибратов оставался неподвижным. Его завораживал вид пенящихся бурунов. Он смотрел на них и с горечью думал: «Столько пережили, и вдруг в самый последний момент… Глупо!..» Потом он стряхнул с себя оцепенение. Пришло время действовать. — Надо спасать технику, — сказал Семибратов, подозвав Мантусова. — Будет сделано, командир, — с привычной сдержанностью отозвался помкомвзвода. Лицо его было, как обычно, спокойным. И движения остались такими же размеренными и неторопливыми. — Отберите несколько человек покрепче, — приказал Семибратов. — Чтобы плавать хорошо умели. Моряков прихватите в помощь. Шлюпка тоже в вашем распоряжении. А уж мы с Воронцом займемся личным составом. — Понятно. Разрешите идти? — Мантусов козырнул. В обращении со старшими он всегда соблюдал субординацию. И это заставляло Семибратова быть с ним тоже официальным, хотя чаще хотелось подойти к помкомвзводу просто так, по-человечески, сказать о своих сомнениях, спросить совета. Он не только уважал Мантусова, в глубине души даже робел перед ним. Тот был много старше, к тому же воевал. Ну а какой у Семибратова опыт? Так, смех и горе. Он же всего полгода, как из училища. В атаки разве что на тактических учениях ходил. А Мантусов на фронте взводом командовал! Случайность, что он оказался в подчиненных. Если по справедливости, по заслугам, то ему бы надо было сейчас командовать, не Семибратову. Ничего этого Мантусов, разумеется, не знал, да и знать не мог. Семибратов ни с кем не делился своими мыслями. Он вообще стал замкнутым. Раньше хоть с Воронцом мог по душам поговорить, но с некоторых пор разладилась у них дружба. Наверное, не надо было просить начальство направить Сергея Воронца во взвод командиром расчета. На расстоянии, может быть, и восстановились бы между ними прежние отношения. А теперь никак не могут найти верного тона в обращении: то «ты», то «вы»… Воронец затаил на него обиду, будто он, Семибратов, виноват, что его выпустили из училища офицером, а Воронца — сержантом. Воронец сам подошел к Семибратову. Он был далеко не так спокоен, как Мантусов. Однако от иронии удержаться все же не сумел: — Ну, так что же решил командир взвода? — Брось! — Семибратову стало досадно, что Сергей даже в такую минуту не сдержался. — Эх ты!.. — с откровенной обидой протянул он и, не договорив, махнул рукой. Воронец поднял на Семибратова свои прозрачно-голубые глаза. В них было раскаяние. — Ладно, не обижайся, — сказал просительно. — Я не хотел. Говори, что делать? Сейчас это снова был прежний Серега, верный друг, готовый для товарища сделать все. Таким Семибратов давно его не видел; захотелось обнять Воронца и сказать ему, как трудна для него их размолвка. Но заговорил он совсем о другом, о том, как лучше распределить людей, как организовать страховку. Воронец, однако, понял все и, чуть смутившись, неловко протянул руку, сказал: — Ты смотри… береги себя! Рифы вплотную подступили к катеру. Вспыхнули, запенились буруны у самого носа. Выглянули из воды, оскалились острые замшелые камни. Катер еще раз вынесло на гребень высокой волны и бросило на рифы. — Осторожней! — крикнул Сазонов. — Держись крепче! Раздался глухой удар. Что-то заскрежетало внизу, захрустело. Волны перекатились через палубу. Семибратов еле удержался на ногах. — Всем покинуть судно! — громко скомандовал он. — Взять… Голос сорвался. Ветер унес недосказанные слова… Десантники один за другим попрыгали в воду. Рядом с рифом закачалась спущенная шлюпка. В ней был Мантусов. Комков перегнулся через борт и протянул ему гитару. — Очень прошу, старший сержант! От всего общества! На корме остался лишь один боец. Маленький, худой, он судорожно вцепился в поручень и с ужасом смотрел на воду. — Чего ждете, Белов?! — крикнул Семибратов. Солдат повернул к нему испуганное курносое лицо: — Я… я не умею плавать… — Как же так! — воскликнул Семибратов. — Я же всех опрашивал! И вы заявили… — Я хотел идти в десант, а вы бы сняли… На уговоры уже не оставалось ни минуты. Судно в любой момент могло развалиться и пойти ко дну. — Прыгайте! — крикнул Семибратов. Белов не двинулся с места. Руки его еще сильнее сжали поручень. Семибратов растерялся: что с ним делать? В этот момент появился Воронец. Он сразу сообразил, в чем дело, обнял солдата за плечи и сказал: — Ну, давай вместе, Сашок! Я по плаванию почти чемпион. Он мягко оторвал руки солдата от поручня и легонько толкнул его за борт. Сам прыгнул следом. Очередная волна приподняла катер, ударила о камни. Затрещали переборки. Рухнули остатки рубки. Корма стала медленно задираться кверху. — Товарищ младший лейтенант, прыгайте! — донесся до Семибратова голос Сазонова. Вода была холодной и показалась липкой. Сапоги сразу потянули ко дну. «Как бы не потерять их, — с опаской подумал Семибратов. — Не хватает только, чтобы командир оказался босым». Он впервые пожалел, что не выкроил времени и не сходил на склад. Хромовые сапоги легче и плотнее сидят на ноге. Пистолет съехал на живот. Семибратов поправил его и поплыл размашистыми саженками. Неподалеку, поддерживая Белова, плыл Воронец. Чуть дальше виднелись головы Комкова, Касумова, Пономарева, Семенычева. «Кажется, все», — обрадованно отметил Семибратов, но тут волна накрыла его. Он рванулся, хлебнул воды и почувствовал под ногами дно. Метрах в десяти был серый прибрежный песок. Волны мягко катились по нему и оседали. Какая все-таки великолепная штука — земля! Десантники уже брели по пояс в воде. Слышались восклицания, смех. Вдруг из-за скалы ударила длинная пулеметная очередь. Кто-то вскрикнул. Пули вспенили воду.
Глава вторая
Встреченные пулеметными очередями, десантники залегли в камнях у самой воды. — Огонь! — хрипло крикнул Семибратов, лихорадочно выхватывая пистолет. Ошарашенный неожиданным поворотом событий, он еще плохо соображал, что к чему, и помнил лишь об одном: ему надо командовать, руководить боем. А как это делается, он представлял смутно. Конечно, в училище им все объясняли по науке: рекогносцировка, оценка обстановки, принятие решения… Но какая тут, к дьяволу, наука, когда кругом свистят пули и гибнут люди. Надо скорее что-то предпринять! Он высунулся из-за камня и посмотрел вперед. Японские окопы располагались неподалеку, на возвышенности. Удобное место выбрали себе, черти! Никак к ним не подберешься: открытое пространство. Разве только слева, прячась за груды камней? Там вроде и огонь потише. Сзади подполз Мантусов. Тяжело перевел дух. — Ишь что задумали! — сказал он сердито. — Даже не стреляют в этом секторе. Понимаете? Ждут нас слева. Семибратов на всякий случай энергично закивал: понятно, мол, вражеская хитрость. — А мы давайте вид сделаем, — предложил Мантусов, — будто попались. Я возьму трех человек и продемонстрирую. А вы погодя чуток ударите справа! Все дальнейшее произошло быстро. Группа Мантусова отвлекла огонь на себя. Семибратов немного выждал и поднял взвод в атаку на правом фланге. Это было неожиданно для японцев. Они дрогнули, но сопротивляться не перестали. Дрались японцы обреченно и в плен не сдавались. Хорошо хоть гарнизон на острове оказался малочисленным. После боя в густых зарослях курильского бамбука десантники насчитали шесть трупов. Лишь двоих японцев удалось захватить живыми. Да и то только потому, что один был ранен, а другой не бросил его. Прикрывая товарища, он стрелял до последнего патрона. Когда патроны кончились, японец отшвырнул ненужную уже арисаки[5] и, загораживая собой раненого, выхватил нож. Он стоял сухой, изможденный, широко расставив слегка согнутые кривые ноги. Раскосые глаза были налиты страхом и ненавистью. Изъеденное морщинами скуластое лицо ощерилось и дрожало. На какой-то миг Семибратову стало жаль японца. Воинственная поза его выглядела нелепо и беспомощно. А то, что он так рисковал собой ради товарища, вызывало невольное уважение. — Брось тесак! — крикнул Мантусов. — Брось, тебе говорят! Старший сержант угрожающе поднял автомат. Но японец не переменил позы. Он ждал приближения врагов и был готов к последнему прыжку. — Тю, дурень! — воскликнул Семенычев. — Ты что, не бачишь, як нас богато? Но японец явно не собирался сдаваться. Чем ближе подходили десантники, тем сильнее сжимал он в руке нож, затравленно озираясь по сторонам. — А ну, братва, дайте-ка я его! — Шумейкин передернул затвор автомата, намереваясь выпустить очередь. Его опередил Воронец. — Постой! — крикнул он и, прыгнув к японцу, коротким ударом выбил у него нож. Японец отскочил и с размаху наткнулся на Шумейкина, который стволом автомата больно ударил себя в подбородок. — Ах ты гад! — выругался Шумейкин, хватаясь за разбитый в кровь подбородок. — Я ж тебе пасть разорву! Поправив автомат, он яростно рванулся к японцу. Тому пришлось бы худо. Но тут между ними вырос Семибратов. — Отставить! Шумейкин изумленно остановился. — Как отставить? Они же наших троих положили! — посмотрел на Семибратова и прохрипел: — А ну, отхлынь, младшой! Я с него бублик сделаю! Слова стеганули Семибратова, как крапива. Он вспыхнул. Рука машинально рванулась к кобуре пистолета. — Рядовой Шумейкин! Прекратите! Шумейкин с неподдельным удивлением проследил за жестом командира. Потом до него дошло, очевидно, что это означает, и он отшатнулся. — Да ты… Вы что?! Взгляды их встретились. Голубовато-холодный командирский не уступил.Приземистая казарма пряталась в расщелине между скал. Прибой шумел от нее в каких-нибудь ста метрах. В казарме было три помещения: небольшая комната, что-то вроде канцелярии, столовая с обитой жестью печуркой и спальня — два ряда грязных циновок на полу и пирамида для оружия. — Не богато жили, — сказал Мантусов, осматривая помещение. — Но за неимением лучшего придется разместиться здесь. Наши подойдут не раньше чем через несколько дней. Верно, командир? Семибратов ответил не сразу. Он понимал, что, пока не окончится Курильская операция, их вряд ли будут искать. Сейчас не до них. Пройдет еще недели две, а то и три… Получается, уже к концу сентября. Вот тогда, может быть… Из этого и нужно исходить при расчете рациона питания. Выслушав командира взвода, Мантусов кивнул. Все правильно. Только нужно, пожалуй, выделить еще НЗ — на всякий случай. Семибратов согласился: НЗ не помешает. — Займитесь-ка вы этим сами, — попросил он, — не откладывая. Возьмите на учет все продукты и боеприпасы. И чтоб без вашего разрешения никто не имел права их расходовать. — Тогда организацию охраны придется поручить сержанту Воронцу, — заметил Мантусов. — Мне будет некогда, а дело не терпит. — От кого нам охраняться? — Стоявший тут же Воронец усмехнулся. — Как от кого? — Мантусов нахмурился. — Противник у нас реальный. Мы, кажется, на войне. — Какой там противник! — Воронец махнул рукой. — На десятки миль кругом вода. — А ты уверен, что японцев на острове было лишь восемь человек? Но дело даже не в этом. Мы воинское подразделение. И должны им оставаться в любом случае. Со всеми вытекающими из этого последствиями. Воронец хотел что-то возразить. Семибратов остановил его. Хватит спорить. Помкомвзвода прав. Они должны быть бдительными. Не исключено, что японцы пошлют корабль за своим гарнизоном. Воронец не отозвался, но глаза его продолжали иронически щуриться. Видно, он так и остался при своем мнении. — Сколько постов прикажете выставить, товарищ младший лейтенант? — спросил Воронец с нарочитой официальностью. Семибратов укоризненно покачал головой. Опять! Ну к чему? Знает же, как неприятна ему эта его манера разговаривать. И все-таки делает. Будто назло!.. Мантусов давно заметил неладное между ними. Он несколько раз порывался заговорить об этом с Семибратовым, да что-то останавливало его. Мантусов был деликатен и, вероятно, не считал себя вправе вмешиваться в дела командира. Однако во время их стычек с Воронцом неизменно становился на сторону Семибратова. Вот и сейчас, услышав вопрос Воронца, помкомвзвода помрачнел и жестковато сказал: — Ты сам реши, где, что и как. Тебя ж обучали этому. Осмотри местность. Составь схему обороны. Прикинь расписание на случай боевой тревоги. Потом покажешь мне…
Погибших при захвате острова похоронили на сопке, недалеко от берега. В каменистом грунте выдолбили братскую могилу. Насыпали над ней небольшой холмик. Сверху положили пилотку и две бескозырки. Ударил прощальный залп. Сазонов и Галута задержались на сопке. Они еще долго стояли у могилы с обнаженною головою. — Теперь мы с тобой вдвоем остались от всего экипажа… — Сазонов вздохнул, кладя руку на плечо Галуты. — Добрые были братишки… Морщины на лице мичмана стали резче, изломанней. Рассекая худые, ввалившиеся щеки, они огибали подбородок, сеточкой обметали глаза и, разветвляясь, терялись в рассыпавшихся надо лбом жестких седых прядях. — Да-а… Добрые были братишки, — грустно повторил Сазонов. — Сквозь такую карусель прошли. И в самый что ни на есть последний момент голову положили. Обидно. Галута не отозвался. Он стоял, словно на ветру, наклонив голову, расставив ноги. Лобастое лицо его морщилось. Руки были сжаты в огромные кулаки. — Эх! — наконец выдавил он горестно и нахлобучил бескозырку до самых бровей. — Пошли. Шел он медленно, переваливаясь с ноги на ногу, как ходят люди, привыкшие к морской качке. Галута уже не помнил себя без моря. Вот только любил ли он его, сказать трудно. Море лишило его юности; там не до забав — работать надо. Море отняло у него семью. Жена не захотела ждать его месяцами. Взяла сына и отчалила к другому берегу. Он тогда здорово начал в рюмаху заглядывать. И все же море тянуло его. Когда Галута оставался на берегу несколько недель, ему не хватало штормового ветра и зыбкой палубы под ногами, не хватало тоски по берегу.
После полудня небо снова насупилось. Солнце потускнело и вскоре совсем скрылось. Серые облака набухли и надвинулись на остров. Склоны вулкана затянуло белесой дымкой. Воздух наполнился мягкой водяной пылью; не поймешь: то ли дождь, то ли туман. Расположившись у казармы, десантники чистили оружие. Мантусов распорядился привести все снаряжение в идеальный порядок: чтоб ни пылинки, ни ржавчинки. «Сам проверю», — предупредил он. — Пожалуйте бриться! — буркнул Галута, густо смазывая свой автомат. — Курильский бус явился — знакомьтесь. Теперь вся наша работенка коту под хвост. — Это почему же? — поинтересовался Пономарев, старательно протиравший патронник автомата. — Эх, пехота! — презрительно протянул Галута, поворачиваясь к Пономареву. — Соображать надо. Влажность-то, чуешь? Как в тропиках. — Як ты сказал? Бус? — переспросил Семенычев. — Що ж це за штуковина? — А вот сиди и мокни. — Галута шмыгнул носом. — И оружие каждый день драй. Это уж как пить дать. В общем, привыкай, Семеныч. — Чтоб к нему лихоманка привыкала! — Семенычев протянул Галуте кисет с махоркой. — Мне до дому треба. Жинка ждет. Да и уборочная у нас началась… — Ничего с твоей жинкой не сделается, чуток еще подождет! Галута вернул кисет Семенычеву. Тот скрутил «козью ножку» и, затянувшись, густо пыхнул дымом в прокуренные усы. — А уж с уборочной как-нибудь без тебя обойдутся, — продолжал Галута. — Тут хоть бы к зиме вернуться. Семенычев неторопливо опустился на крыльцо. Был он невысокий и какой-то невзрачный. Худое лицо. Узкие плечи. Тонкие руки. Белесые, с проседью, волосы, торчащие из-под пилотки, были реденькими и лишь чуть темнее пшеничных усов. — Шукать долго будут, — сказал Семенычев после паузы. — Но найдут. Непременно найдут! За его спиной на пороге дома появился Комков с гитарой в руках. Он уже почистил свой автомат и поставил его в пирамиду. Пилотка у Яшки была лихо сбита на затылок. Ворот гимнастерки расстегнут, и из-под него выглядывала полосатая тельняшка. Мантусов уже не раз посягал на нее. Но Комков сумел как-то убедить помкомвзвода и сохранить свою «морскую душу», без которой моряку на сухопутье, как он считал, хоть ложись да помирай. — Сейчас за драгоценную жизнь рядового Семенычева Георгия Пантелеевича, или просто деда Семеныча, как зовут его в обиходе верные друзья, сам командующий думает. Сидит в штабе и прикидывает: какие корабли послать, какие самолеты выделить для скорейшего его спасения. Комков затянулся окурком и тронул струны гитары. Его лицо оставалось безразличным. Это обычная Яшкина манера. Даже когда все катались со смеху от его шуточек, Комков оставался невозмутимым. Лишь где-то в глубине его больших черных глаз прыгали озорные искорки. — Надеюсь, мое обстоятельное разъяснение удовлетворило присутствующих? — Комков сел рядом с Семенычевым. — Тогда перейдем к следующему, не менее важному вопросу. Требуется назначить надежного, грамотного человека на ответственнейшую должность кока. Какие будут деловые предложения? Десантники зашумели: — Поручить это дело Семенычу! Дед бывалый, кашу сварит. — Галуту! Моряки ко всякому делу привычны. — Касумов плов умеет готовить! Комков поднял руку. — Тихо, други. — Он всегда оказывался в центре любого конфликта и умел найти решение, удовлетворяющее все спорящие стороны. — Так мы до завтра будем без вкусной горячей пищи. Предлагаю назначить на камбуз рядового Белова Александра Ивановича. Взвод загудел одобрительно. А Сашок растерялся. Ему бы возразить, что он ничего не умеет. Мама когда-то говорила: научись хоть борщ да кашу варить — пригодится. А он не захотел: не мужское, дескать, занятие. — Решено, — подытожил Комков. — Рядовой Белов Александр Иванович всегласно и принародно назначается мастером по кулинарной части. Музыка — туш! Резко ударили струны гитары. Сашок так и не успел сказать ни слова.
Усыпанный камнями склон вулкана круто уходил книзу. Спускаться по нему было еще хуже, чем подниматься. Двигаясь вверх, помогаешь себе руками, да и ноги как-то быстрее находят опору. А когда спускаешься, не за что ни уцепиться, ни удержаться. Сапоги скользят, из-под них катятся камни. Того и гляди, сорвешься и уж одними синяками не отделаешься. Семибратов с опаской посмотрел вниз. Напрасно он, наверное, не послушался Сазонова. Мичман предлагал отложить все на завтра. Совершить восхождение утром, не торопясь. Взять побольше людей, чтобы торжественней было. Государственный акт — водружение флага над островом. Семибратов не согласился с ним, должно быть, из духа противоречия. Что это за командир, который принял решение и тут же меняет его! Так и авторитет свой подорвать недолго. Семибратову не терпелось установить флаг еще и потому, что потом в донесении можно будет написать: в первый день высадки на остров, двадцать восьмого августа тысяча девятьсот сорок пятого года, эта земля стала советской. Флаг оказался небольшим, пришлось использовать корабельный вымпел, снятый Сазоновым с катера. С моря его вряд ли можно было рассмотреть невооруженным глазом, но для Семибратова важен был сам факт: над островом отныне развевается алое полотнище с пятиконечной звездой. Устанавливая флаг, Семибратов был горд. Он сознавал, что совершает что-то необычное. Пройдут годы, а этот момент никогда не изгладится из памяти. Разве забудешь, как брались Курильские острова и как над исконно русскими землями поднимались красные полотнища!.. Сумерки сгущались. Тучи потемнели, стали свинцово-синими, зловещими. Бус не прекращался. Волнами наплывал холодный туман, сеял водяную пыль. Она оседала на камнях, делала их мокрыми и скользкими. В одном месте Семибратов не удержался и покатился вниз, срывая кожу с рук. Ему с трудом удалось ухватиться за какой-то обломок гранита. Подскочивший Сазонов протянул руку и с тревогой спросил: — Не ушиблись, товарищ младший лейтенант? — Кости целы, — хмуро отозвался Семибратов. — Поосторожней надо. За землю крепче держитесь… В последних словах мичмана Семибратову послышалась усмешка. Он подозрительно посмотрел на него сбоку, но промолчал. Говорить было, собственно, нечего. Сазонов прав. Лазить по таким кручам на ночь глядя да еще без страховки было, оказывается, опасно. А что изменилось бы, поставь они флаг завтра, даже послезавтра? Ровным счетом — ничего! Торопиться им действительно некуда. Так зачем же?.. Выходит, он зря рисковал людьми? Придя к такому неожиданному выводу, Семибратов растерялся. Что же тогда получается?.. Он всегда считал, что поступает по совести, разумно, сообразуясь с обстановкой и интересами дела. Было уже совсем темно, когда они спустились с вулкана. У казармы горел костер. Семибратов вдруг почувствовал себя дома. Кругом привычная, знакомая обстановка. Вкусный запах еды. Дымящие цигарки. Солдатский смех. И даже этот, казалось бы, обычный и в то же время такой приятный вопрос Мантусова: — Будем снимать пробу, командир? Семибратов улыбнулся. — Давайте, — как можно строже сказал он. — Что там? Рисовая каша? Пока он не съел несколько ложек, Мантусов молча стоял рядом. Потом осторожно спросил: — Ну и как? — Услышав одобрение, обрадовался: — А я, честно говоря, побаивался. Все-таки из трофейных запасов ужин-то готовили. Разрешите производить раздачу? Дружно застучали ложки. — А мы бачили, як вы флажок втыкали, — выскребая котелок, сказал Семенычев. — На самом горище. — Не флажок, а государственный стяг, — покровительственно поправил Комков. — Понимать надо, темнота. Его слова почему-то задели Касумова. — Зачем так говоришь? Зачем старый человек обижаешь? Нельзя обижать! За такой плохой слово у нас в Фергана салям-алейкум не будут говорить. — Голос Касумова звучал гневно, в темных сердитых глазах плескались отблески костра. — Знамя командир ставил. Знамя! Понимать надо! — Правильно, Рахим, — поддержал его Галута. — Что вы на меня набросились? — засмеялся Комков. — Будто я несознательный. — Во-во, он самый и есть, — подхватил Галута, — раз таких простых вещей не понимаешь. — И, помолчав, добавил назидательно: — Знамя — это ж святыня! А ты хиханьки да хаханьки развел. Слушая бойцов, Семибратов неожиданно вновь вернулся к своим мыслям. А может, он все-таки прав, что сегодня поставил флаг? Вон и бойцы говорят. Они понимают, чувствуют… Раздумья его прервал Сашок. — А меня тут, товарищ младший лейтенант, поваром назначили, — жалобным тоном сказал он. — Ну так что? — Я же не умею… Мама меня заставляла: учись хоть борщ варить. А я не хотел… Его слова потонули в дружном хохоте. — Медведя и того учат разным премудростям, — сквозь смех выдавил из себя Комков. — А тебя родная маманя заставляла… На сей раз даже Семибратов не выдержал и рассмеялся. — Ничего, товарищ Белов, поможем, — сказал он и, подозвав Мантусова, приказал строить взвод на вечернюю поверку.
Тишина заполняла казарму постепенно. Сначала прекратился стук мисок на кухне: Сашок, должно быть, закончил мытье посуды. Потом стихли голоса в спальне. Наконец, погас свет в канцелярии: успокоился командир, обсудив с помощником все дела на завтра. Комков не мог заснуть. Он лежал неподвижно, вслушиваясь в наступившую тишину. Никаких посторонних звуков. Лишь мерные шаги часового у входа да еще тихий плеск волн. В этом плеске своя мелодия. Ее нетрудно уловить. Стоит только прислушаться. О многом могут поведать волны… Рыбацкие шаланды. Серебристая камбала. И мирное море на закате. Трудно представить себе что-либо красивей и печальней. В небе медленно умирают краски. Голубизна его темнеет. Блекнут белые облака. Море тоже становится темным. И вот однажды все кончилось. Не стало мирной жизни. Все изменилось, почернело. Даже море уже было иным. Куда подевалась его тихая нежность, мягкие краски заката? Яшке никогда не забыть моря, стонущего от бомб. На твоих глазах умирают товарищи. А ты до боли стискиваешь кулаки от бессильного гнева. Ну разве уснешь от таких дум? Комков осторожно, чтобы никого не разбудить, надел брюки и, сунув босые ноги в ботинки, вышел из казармы. С океана потянул сырой ветер. Яшка поежился и стал торопливо скручивать цигарку. Вдруг справа он увидел какую-то тень. Она двигалась по берегу, крадучись. — Часовой! — крикнул Яшка. — Часовой, гляди! Стоявший на посту у казармы Пономарев, очевидно, ничего не видел. — Где? Что? Куда глядеть-то? — Да вон же! Тень метнулась в сторону и на секунду замерла. — Стреляй же, мама родная! Стреляй, тебе говорят! Автоматная очередь вспорола тишину. Захлопали двери казармы. Бойцы выскакивали кто босиком, кто в трусах, но с автоматами. Комков показал Семибратову, где видел тень. Десантники рассыпались по берегу, обшарили скалы и ничего подозрительного не обнаружили. — Може, то зверюга какая? — высказал предположение Семенычев. — Конечно, — поддержал его Пономарев. — Яшке спросонья привиделось, — усмехнулся Галута. Но Комков настаивал на своем. — Развел баланду, — недовольно буркнул Шумейкин. — Пошли, братва, спать. Десантники направились к казарме, поругивая Комкова, и тут справа, где песчаный берег был усыпан камнями, раздался голос Мантусова. Старший сержант звал к себе. Солдаты бегом устремились к помкомвзвода. Мантусов включил электрический фонарик и направил луч в камни. На песке четко обозначился свежий след сапог. — О це да-а! — Семенычев присвистнул. Набежавшая волна смыла след. Начинался прилив. Семибратов подозвал Мантусова. — Надо выставить второй пост на берегу, — сказал он. — И завтра с утра еще раз прочесать окрестности.
Глава третья
Комков стал лекарем поневоле. Сперва санитаром во взводе числился Сазонов. Вероятно, потому, что у него была аптечка, предусмотрительно захваченная с катера. Однако вскоре выяснилось, что о медицине мичман имеет самое туманное представление. Сашок, чистивший рыбу, порезал руку, и Сазонов взялся перевязывать его. Он делал это так неумело, что Комков, наблюдавший со стороны, не выдержал. — А ну, дай-ка я, — сказал он, подходя и легонько оттирая мичмана плечом. Сазонов уступил без возражений. Он прекрасно понимал, что санитар из него никудышный. Бинтовал Комков быстро и ловко. Повязка ложилась ровно, слой за слоем, без морщинки. Надорвав бинт и завязав его бантиком, он слегка отстранился и полюбовался своей работой. — Морской порядок на полубаке. — Комков подмигнул стоявшему неподалеку Семенычеву. — Ну, гуляй, малыш! — Он толкнул Сашка в бок. — До свадьбы заживет. Сашок улыбнутся и уважительно спросил: — Вы, наверное, на медицинском учились? — Угадал. — Комков убрал остатки бинта. — Кончал академию. Да не где-нибудь, а в морской пехоте. Дошло? — Кончай базарить, — спокойно перебил подошедший Мантусов. Он внимательно осмотрел повязку и одобрительно хмыкнул. — Годится. — Покосился на Комкова и, как всегда растягивая слова, сказал: — Ну, вот что, будешь пока за санитара. Яшка попытался возразить, но Мантусов нахмурился. — Что, я неясно выразился? — спросил он, не повышая голоса. — Понятно, — ответил Комков. Чистивший в сторонке картошку Шумейкин ухмыльнулся: — Гляди, братва, новая медсестричка объявилась. — Не медсестра, а медбрат, — подал голос Пономарев. — Ни, — вмешался Семенычев, — лекарь — оно правильней будет. Комков обвел взглядом стоявших вокруг десантников. — Ну, погодите, дьяволы! — Он шутливо погрозил пальцем. — Попадетесь мне теперь в руки. Каждому слоновую дозу касторки пропишу. Следующим пациентом Комкова стал раненый японец. Семибратов распорядился помочь ему. Комков осмотрел раненого, пощупал лоб, посчитал пульс. Второй японец наблюдал за ним враждебно и недоверчиво. Но когда Комков, достав свежий бинт, начал осторожно перевязывать рану, японец суетливо бросился помогать ему. Прошло несколько дней. Комков продолжал следить за раненым, делал перевязки. Второй японец теперь встречал его заискивающим взглядом и все время что-то старался объяснить. Ничего не понимая, Комков лишь успокоительно похлопывал японца по плечу. А японец не отходил от раненого, то и дело менял ему мокрую тряпку на лбу, поправлял циновку, кормил. Пытался даже свою еду отдать товарищу. Но тот уже вообще перестал есть. Семибратов не без удивления наблюдал за японским солдатом. Вражеская армия всегда представлялась ему сборищем людей, обособленных друг от друга, живущих по принципу: человек человеку — волк. А тут он видел совсем обратное. Японец самоотверженно и совершенно бескорыстно ухаживал за раненым товарищем. Это заставляло задуматься. Рушились прежние представления, оказавшиеся слишком примитивными. Несколько раз Семибратов пробовал заговорить с пленными. При подготовке десанта их начали учить японскому языку. Но курс обучения был слишком коротким, и им сказали: «Остальное постигнете на практике». В памяти осталось всего лишь несколько слов: арисаки — винтовка, доодзо — пожалуйста, гета — обувь, фуросики — платок. С таким скудным словарным запасом было невозможно вести беседу. Японец старался вникнуть в то, что говорил русский офицер,но, ничего не понимая, лишь виновато улыбался. После долгих усилий Семибратову удалось узнать, что солдата зовут Киити Ясуда, а родом он с Хоккайдо. На пятый день раненому сделалось совсем худо. Он уже не стонал, как раньше, не вскрикивал и не пытался вскочить. Прежде хриплое, с надрывным кашлем дыхание стало почти неслышным. Японец лежал тихо-тихо, и только капельки пота, блестевшие на острых, покрытых болезненным румянцем скулах, свидетельствовали о том, что человек еще жив. Осмотрев утром раненого, Комков огорченно покачал головой. Перехватив тревожный взгляд Ясуды, сидевшего рядом, он насупился и со вздохом заметил: — Вот какой компот получается, брат Ясуда. Как бы свечку не пришлось ставить. Как, по-вашему, будет бог? Японец сложил руки, посмотрел на Яшку с мольбой. — А-а… Ничего-то ты не понимаешь, — досадливо отмахнулся Комков. — И кто только ваш язык придумал? Ясуда что-то забормотал, показывая на раненого. — Сам знаю, что помочь надо, — хмуро произнес Комков. — А как?.. Ну ладно, постой, попробуем еще… Яшка вышел из казармы и, разыскав Сазонова, спросил, нет ли в аптечке стрептоцида. — А поможет? — Черт его знает! Я ж не медицинский академик. Стрептоцид раненому уже не помог. Он умер на другой день. Семибратов распорядился закопать его на крутом берегу, где были прежде похоронены убитые японцы. Рыть могилу он послал Галуту, Шумейкина и Пономарева, назначив старшим Комкова. Шумейкин что-то недовольно проворчал, но вслух возражать не стал. Грунт был каменистым, и они с трудом выдолбили в нем яму. Ясуда завернул своего товарища в шинель и бережно опустил в могилу. Затем взял в руки пригоршню земли, начал что-то шептать над нею бескровными растрескавшимися губами. Слезы сбегали по его впалым щекам и застревали в черной щетине подбородка. Потом Ясуда взял лопату и стал засыпать могилу. Комков хотел помочь ему, но японец покачал головой. Бойцы отступили, с сочувствием наблюдая за пленным. Подлинное человеческое горе не может не вызвать сострадания. Обнажив голову, Яшка стоял в сторонке и думал: «Сколько их, безымянных могил, разбросано по земле-матушке? Где-то ведь ждут человека, надеются, верят. А его уже нет». Ясуда зарыл могилу, медленно поднялся. И тогда Комков поднял автомат. — Дадим залп, други. Шумейкин оторопело посмотрел на Яшку. — Ты что, серьезно? — Приготовиться! — вместо ответа скомандовал Яшка. Галута, а за ним, помедлив, Пономарев подняли оружие. Шумейкин шагнул к Яшке. — А ну, кончай выпендриваться! Над всяким гадом стрелять… Комков даже не посмотрел в его сторону. Он мог бы, конечно, сказать, что признание мужества врага не умаляет заслуг победителя. Но вместо этого, кивнув в сторону могилы, тихо произнес: — Он был солдатом и погиб в бою. Глухо ударил залп трех автоматов. Эхо протяжно отозвалось в скалах. Комков поймал на себе взволнованный, благодарный взгляд Ясуды и решил: «Все правильно!»Ночью разыгрался небольшой шторм. Волны сердито гудели в рифах. Но к утру ветер стих. Успокоившийся океан лениво плескался у берегов. Над горизонтом медленно вставало солнце. Вода, окрашенная его косыми багровыми лучами, стала желтовато-зеленой. — Погодка в самый раз для плавания, — заметил Воронец. После физзарядки и умывания десантники в ожидании завтрака сидели у казармы. — А что, командир? Может, и в самом деле пойдем? — поддержал Воронца Мантусов. Накануне они как раз говорили о том, что нужно обойти вокруг острова и детально его обследовать. Прочесывание окрестностей лагеря так ничего и не дало. Но не исключено, что где-то все-таки скрываются люди. Может быть, с моря их легче будет обнаружить. К тому же надо знать место, где живешь. Мало ли что случится! — Гарна погодка, — протянул Семенычев, сидевший рядом на камне. — Только на лодочках и кататься. Его слова возмутили Галуту. — На лодочках барышень возят, пехота! А у нас шлюпка. Семенычев не обиделся. Его вообще было трудно вывести из равновесия. — Хай буде по-твоему, — миролюбиво сказал он, — А на ней втрех можно? — Можно и втроем, — снисходительно пояснил Галута. — Только против хорошей волны тогда вряд ли устоит. Штиль требуется. Да и подконопатить ее не мешало бы. — Верно он говорит, — подтвердил Сазонов. — Прежде чем идти вокруг острова, шлюпку надо привести в порядок. — Вот ты этим и займись сегодня. Сможешь? — спросил Мантусов, поддевая носком сапога камень, лежащий на песке. Сапоги у Мантусова огромные: не сапоги, а сапожищи. На заказ шиты. Сорок шестого размера. И с обмундированием то же. Даже на бригадном складе не нашлось нужного размера. — Что ж, можно попробовать, — согласился с Мантусовым Сазонов. — Может, тогда после завтрака и возьметесь? — спросил Семибратов. — Помощники нужны? — Пусть Галута при мне побудет. Он хорошо разбирается… Ремонт шлюпки занял весь день. Пришлось укрепить шпангоуты, проконопатить, просмолить дно и починить румпель. Благо еще японцы позаботились об инструменте: в пристройке за казармой нашлись топоры, пила, молоток, смола. Заканчивали работу уже под вечер. Сазонов смазал гнезда уключин и, стерев пятерней пот с лица, устало опустился на песок. Весь день он снова думал о Марфе. Руки хоть заняты, а голова нет. Мысли из нее не выкинешь, какими бы тяжкими они ни были. И эти думы утомили Сазонова больше, чем работа. Он чувствовал себя разбитым. Его не покидала тревога. Как она там? Что с ней? Может, полегчало? Доктор говорил, что операция пользу принесет. А он зря говорить не станет. Когда Сазонов по ранению приехал домой, с доктором у него состоялся откровенный разговор. Только лучше бы ему не знать той правды. Правда горше горького оказалась. И откуда только берется такая напасть? Может, на работе надорвалась Марфа? Двадцать три года прожили, двух сыновей вырастили. А тут, выходит, все: край жизни пришел… Мысли Сазонова прервал крик. Из зарослей бамбука, тянувшихся вдоль берега, кто-то звал на помощь. Мичман перепрыгнул через поваленное дерево и, поудобней перехватив топорище, побежал на зов. У зарослей столкнулся с Комковым и Семенычевым. Они тоже еле переводили дух. — Кажись, возле ручья… Оттудова звали, — сказал Семенычев. — У какого ручья? — Тут рядышком течет. Вчера разведали. — Ну, веди, если знаешь. Семенычев двинулся вперед. Сазонов с Комковым последовали за ним. Местами бамбук был выше человеческого роста. Упругие изжелта-зеленые листья больно хлестали по лицу. Слева громко затрещало: кто-то лез напролом. Послышалось тяжелое дыхание. Десантники остановились. Комков поправил автомат, Сазонов крепче сжал топор. Заросли бамбука раздвинулись, и перед ними предстал исцарапанный Сашок. Круглое румяное лицо его было испуганным. Пухлые губы подрагивали. — Там… там… — Он схватил Сазонова за руку. — Медведь! — Медведь? — с опаской переспросил Семенычев. — Сам бачил? Сашок торопливо объяснил: после обеда он мыл посуду в ручье, глянул, а на том берегу — зверь… — Далеко? — спросил Яшка. — Что вы, совсем рядышком. Вот тут, прямо! Они быстро прошли оставшуюся часть пути и осторожно приблизились к берегу ручья. На другой стороне, возле самой воды, сидел медвежонок. Он неотрывно смотрел в ручей, где изредка появлялась рыба. Заметив ее, медвежонок проворно совал лапу в воду и, подхватив рыбешку, бросал через себя на землю. — Вот так медведь! — Комков захохотал. — А Сашок як перелякался! — Семенычев тоже залился тоненьким смешком. Услышав смех, медвежонок поднял голову и подозрительно понюхал воздух. Потом прислушался и встал на все четыре лапы, намереваясь задать стрекача. — Хватай его, други! — крикнул Комков и ринулся в воду. — Бери в кольцо! Медвежонок растерялся. Метнулся сначала влево — вдоль ручья, потом вправо, наткнулся на Сазонова и только тут наконец устремился в заросли. Но было уже поздно. Комков догнал медвежонка и схватил его сзади. Тот, обернувшись, больно укусил бойца за палец. Подоспевший Сазонов помог Комкову справиться с медвежонком. Они скрутили ему лапы, завязали платком морду, чтобы не кусался, и торжественно понесли к главной островной резиденции, как назвал их лагерь Комков. Десантники встретили зверя с восторгом. И только Сашок, увидев медвежонка, смущенно отвернулся. Он умоляюще посмотрел на друзей. Те переглянулись. Сазонов нарочито громким голосом сказал Семибратову: — Мы тут на медвежонка наткнулись. Совсем случайно, конечно. Вот и решили прихватить. В хозяйстве сгодится. Сашок признательно улыбнулся мичману. Комков заговорщически подмигнул и, не удержавшись, шепнул: — Плошки-то твои уплывут. А они в кулинарном деле не последнюю роль играют. Поспеши. Сашок побежал к ручью. — Как же мы его назовем? — спросил Семибратов, поглаживая пушистую шкуру зверя. — Михаил Иванович, — сказал кто-то. — Длинно, — отверг Яшка. — А если — Кузя? — Для сибирского кота подходяще. — Может, Топтыгин? — Стоп. В этом что-то есть. Только лучше — Топтун. Эй, Топтун, ко мне! — крикнул Яшка. Медвежонок не шевельнулся.
Мантусов спал плохо. У него снова разболелось бедро. Вот же, проклятое, как мучит! Бывали раны и похуже. Под Сталинградом его стукнуло и в голову и в грудь сразу. Ничего. Отлежался в госпитале — и опять на передовую. А тут и ранило-то не очень: зацепило бедро осколком на излете, и вот, поди ж ты, болит и болит. Да и в медсанбате никак не заживало. Уже все сроки прошли, а рана не затягивалась. Вот и пришлось ехать в отпуск из-за этого. Какой же из тебя боец, если ты хромаешь? Ему так и сказали в медсанбате: «Долечивайтесь, поправляйтесь. Заодно и девочку пристроите. Негоже ей здесь находиться». С ним уже тогда была Пуговица. Он нашел ее в полусожженной деревне, где стоял медсанбат. Однажды, когда врачи уже разрешили Мантусову ходить, он отправился подышать свежим воздухом на самый край села. Домов там было мало. Вдоль улицы торчали обгорелые трубы, виднелись воронки, наспех выкопанные землянки. Опираясь на костыль, Мантусов медленно брел по улице, старательно обходя затянутые тонким льдом лужи. Зима шла на убыль, и все чаще и чаще на дорогах появлялись проталины. Чувствовал себя Мантусов скверно. Не переставая, болело бедро. Да и настроение было паршивое, В сегодняшней почте для него снова не оказалось письма. А он так ждал его, так надеялся! Родители Мантусова погибли в самом начале войны при бомбежке; брат — в сорок втором, на фронте. Теперь у него осталась только сестра. Она жила в Куйбышеве. И он написал ей, как только попал в медсанбат. Но прошло уже больше месяца, а ответа все нет и нет. Он так задумался, что даже вздрогнул, когда его окликнули. Голос был детским: «Дядя, а дядя… Ты наш?» Вопрос был задан не зря. На Мантусове была одежда, в которой раненые обычно выходили на прогулку: стеганый ватник, такие же брюки, валенки с калошами и потертый треух. Словом, он никак не походил на бойца. Обернувшись, Мантусов увидел девочку лет шести-семи, закутанную в рваный шерстяной платок. Вместо обуви на ногах какие-то грязные, перетянутые веревками тряпки. Лицо худое, бледное, с выпирающими скулами и приплюснутым носом. Девчушка стояла на обочине дороги и настороженно смотрела на него, готовая, как видно, убежать в любой момент. «Ты чей?» — строго переспросила она. Мантусов улыбнулся. «Что ж ты нос-то себе не отрастила? А? У тебя же вместо носа пуговица. Тебя как зовут?» «И не пуговица вовсе, — не приняла шутки девочка. — А зовут меня Машей». «Где ж твоя мамка?» Девчушка потупилась. «Мамку миной убило… За картошкой она пошла, а там как бабахнет… Нету мамки. И тетя Фрося померла тоже… — Она вздохнула и, помолчав, неожиданно спросила: — А у тебя, дядя, хлеба нету?» Ее слова и особенно то, как они были сказаны — просительно и в то же время с каким-то недетским достоинством, — вызвали у Мантусова и жалость, и какую-то беспомощность, и даже смущение. Словно он был виноват в том, что у этого ребенка нет хлеба. Он протянул руку и хотел погладить девочку по голове. Но она испуганно отпрянула в сторону и крикнула: «Не тронь!» «Есть у меня хлеб, — как можно серьезней сказал он. — Только не здесь. Пойдем со мной?» Она глянула на него все еще недоверчиво и заколебалась. «Не бойся! — Он протянул ей руку. — Ну, пошли, Пуговица!..» В столовой медсанбата девочку накормили. Она сразу подобрела и доверчиво прижалась к Мантусову. Он почувствовал, как у него запершило в горле, и, чтобы скрыть нахлынувшие чувства, грубовато погладил девочку по спутанным, давно не мытым волосам. Так Пуговица оказалась в медсанбате, а Мантусов стал чем-то вроде няньки. На рассвете Мантусов задремал. Потом опять проснулся. По бледной синеве окна определил, что еще рано. Попробовал устроиться поудобней — и не смог. Циновка казалась жесткой и неприятной. Боль в бедре не утихала. В казарме было душно. Сильно пахло плесенью, по́том и еще чем-то кислым. Всю неделю, что они жили на острове, Мантусов не замечал этих запахов, а сегодня вдруг почувствовал, да так остро… Казарма была буквально пропитана этой затхлой кислятиной. И каждый запах различался отдельно, будто существовал сам по себе, ни с каким другим не смешиваясь. Мантусов давно уже заметил за собой эту особенность: как только заноют старые раны, обоняние сразу обостряется. Ну разве мог он раньше по дыму определять сорт махорки?.. Где бы кто ни курил, табачный дым казался ему совершенно одинаковым. А сейчас, стоит лишь принюхаться, сразу скажет — у кременчугской махорки дым с горчинкой, она покрепче павлодарской будет, а к краснодарской всегда примешивается какой-то тонкий, еле уловимый сладковатый аромат — так пахнет лаванда. Поворочавшись еще немного, Мантусов встал. Осторожно, чтобы не разбудить спавшего рядом Семибратова, натянул свои огромные сапоги. В канцелярии, где они размещались вдвоем, было тесно, не развернешься. Тихо ступая, Мантусов вышел из казармы. Посты по-прежнему оставались удвоенными. И хотя окрестности трижды прочесывали и никого не нашли, взвод все равно оставался в боевой готовности. У крыльца на посту стоял Пономарев. Увидев старшего сержанта, обрадовался: — Закурить не найдется? — Я тебе закурю! — пригрозил ему Мантусов. — Устав забыл? На посту, не где-нибудь находишься. — Другие курят, а я что, рыжий? — огрызнулся Пономарев. — Ничего, попадутся мне еще эти курильщики! Как раз есть надобность туалет почистить… Обогнув казарму, Мантусов вышел из расщелины и увидел второго часового. Тот стоял у минометов, приведенных в боевое положение. Плиты, их были плотно укреплены дерном, двуноги упирались в слежавшийся песок. Рядом в ящике — две мины. Все, что им удалось спасти из боезапаса; остальное вместе с катером находилось на дне океана. Случись бой, подумал Мантусов, два выстрела ничего не решат. Бесполезное это теперь оружие. А Семибратов у минометов пост установил. К чему? Но когда Воронец сказал: «Людей и так мало. Зачем еще увеличивать наряд?» — Мантусов поддержал командира, резковато ответив: «Приказ командира обсуждению не подлежит». — Стой! Кто идет? — крикнул часовой. — Свои, — сказал Мантусов. — Не узнаешь? — Фу, перелякал! — откликнулся Семенычев. — И чего тебя, старший сержант, в такую рань лихоманка носит? Спал бы себе, як другие. Мантусову было приятно слышать ворчливый голос Семенычева. Он любил этого старого казака, умевшего с таким смаком рассказывать станичные байки. Семенычев если и врал, то весело и складно. — Как настроение? — спросил Мантусов. — Як положено славному бойцу на наиважнейшем посту. — В голосе Семенычева прозвучала усмешка. — Не одобряешь, значит? — Мне-то шо… Сказано: охраняй боевое имущество. Ну я и охраняю. А уж от кого там — чи от врага, чи от ветру, — це не мое дило. — А как же склад? Бросить? — кивнул Мантусов в сторону грота. Вход в него виднелся неподалеку прямо в скале. Японцы хранили здесь свои запасы продовольствия: рис, бобы, соль, муку. Место было выбрано довольно удачно, и Семибратов решил не переносить склад, хоть он и располагался близко от воды. — Да я ж не супротив, — поспешно отозвался дед Семеныч, — я завсегда «за». Мантусов улыбнулся. Он почувствовал, что боль отступает. Она еще не исчезла вовсе, но уже ослабла, притихла. Дышать стало легче, свободней. И даже краски вокруг неуловимо изменились: то были серыми, размытыми, а теперь посветлели. Мантусов увидел зарю, нежную, дрожащую. Солнце еще не взошло над горизонтом, но оно было уже где-то близко к нему, совсем рядом. Небо голубело все сильней и сильней. И воздух тоже становился прозрачным и голубоватым. Мантусову показалось, что воздух по цвету похож на те подснежники, которые он подарил когда-то Ирине. Он раньше и не подозревал, что дарить цветы — это очень приятно. Особенно если они такие чистые и прозрачные, как Иринины глаза.
Мантусов никогда прежде не дарил цветов. Сначала потому, что был мальчишкой и чаще дергал девчонок за косы, чем рассматривал, какие у них глаза. Потом, вероятно, оттого, что быстро возмужал и огрубел. Мальчишки на фронте и в семнадцать становились взрослыми. А ему было двадцать четыре, когда он попал под Сталинград, где началась его военная биография. Потом были бои на Дону, под Курском, на Днепре, ранение, контузия, опять ранение… Пуговица отыскала его в палате. В один прекрасный день она появилась на пороге и, протягивая ему кусочек сахара, сказала: «Это полезно. У тебя сильно болит?» Ему стало и смешно, и грустно. Милая, добрая девчушка! Как он все-таки привязался к ней! «Нет, не очень, — доверительно признался он. — Мне хорошие лекарства дают». «А ты с этой ходишь? — потрогала она костыль, стоявший в изголовье. — Можно мне немножко?» «Валяй, — разрешил он, — только смотри, чтобы тетя в белом халате не увидела. А то попадет нам обоим». Пуговица прижилась в медсанбате. Раненые кормили ее, угощали нехитрыми сладостями. Она носила им цветочки, декламировала стишки и даже пела иногда «Широка страна моя родная». Это был коронный номер в ее репертуаре. В тот раз его долго не выписывали из медсанбата. Затянувшаяся было рана открылась вновь и загноилась. Получив наконец отпуск по ранению, Мантусов выписал проездные документы в Куйбышев: Он все же намеревался поехать к сестре, хотя так и не получил от нее ни одного письма. Но все могло быть: время военное, почта работает с перебоями. Пуговицу Мантусов решил взять с собой. Отдавать девочку в детдом ему не хотелось.
Весна ворвалась в город пением скворцов, блеском луж, разноголосой капелью. Приятно было вдыхать свежий, не пахнущий пороховой гарью воздух и громко, не таясь и не соблюдая маскировки, шлепать по талому снегу. И хотя радоваться было, собственно, нечему (сестра уехала из Куйбышева куда-то на Дон), Мантусов шагал по городу и улыбался. Ему негде было ночевать. Он не знал, куда теперь определить Пуговицу. Но ощущение полноты жизни не покидало его ни на минуту. Выйдя от коменданта, где он отметил свои документы, Мантусов легонько щелкнул девчушку по вздернутому веснушчатому носику и весело сказал: «Куда ж нам сейчас податься?» «Ты же говорил, к тете пойдем». «Уехала наша тетя. — Мантусов усмехнулся. — И где теперь ее только искать?» «Вот беда-то… — Пуговица вздохнула совсем по-взрослому. — Что же нам делать?» «Ну, это еще не беда, а лишь четверть беды», — неожиданно раздалось у них за спиной. Мантусов обернулся и увидел женщину. В огромных синих глазах ее золотисто плавилось солнце. И глаза были удивительно чистыми и ясными. Такой бывает вода в пруду на рассвете, когда утро только-только занимается. Мантусов любил купаться в это время. Деревня еще спит. Покрикивают изредка горластые петухи. И пыль лежит на дороге, не тронутая ни стадом, идущим на водопой, ни колесами бричек, выезжающих на косовицу. Ты бросаешься в прозрачную воду, и она обнимает тебя — нежно и прохладно. «Наверное, эти глаза тоже умеют ласкать», — неожиданно подумал Мантусов и смутился, будто Голубоглазка, как он ее сразу окрестил, могла угадать его мысли. «Насколько я поняла, подслушав ваш диалог, — сказала женщина, — вам негде ночевать». Мантусов неловко переступил с ноги на ногу. Он увидел, какие грязные у него сапоги. «Могу предоставить временное убежище в нашей школе, — продолжала женщина. — Годится? Здесь был госпиталь. Теперь он переехал. Так что место есть. И койки тоже. Давайте знакомиться. Меня зовут Ириной». Мантусов трудно сходился с людьми, особенно с женщинами, а тут уже через неделю-другую почувствовал себя с Ириной так, будто они были знакомы не один год. Именно Ирине Мантусов впервые в своей жизни принес подснежники и только тогда понял, как приятно дарить цветы любимой женщине. «Милый Мантусов, — сказал она, грустно глядя на подснежники, — не забывайте, что я вдова и на несколько лет старше вас». В этот момент в класс, где они сидели, вбежала раскрасневшаяся Пуговица. Увидев подснежники в руках Ирины, она сразу посерьезнела, а потом вдруг расплакалась. Мантусов долго не мог ее успокоить. Взяв девочку на руки, он баюкал ее, пока она не затихла. «Почему ты плакала?» — спросил ее Мантусов на другой день. Пуговица молчала. «Тебя кто-нибудь обидел? — допытывался он, взволнованный непонятным поведением девочки. — Почему ты не отвечаешь?» Упрямо опустив голову, Пуговица стояла перед ним какая-то неуступчивая, отчужденная. Он так и не смог ничего от нее добиться. Это встревожило его. Он терялся в догадках. Что могло случиться? Не будет же ребенок капризничать беспричинно? Вскоре Мантусов начал замечать, что Пуговица сторонится Ирины. И если та о чем-нибудь ее спрашивает, отвечает неохотно и односложно. Мантусов никак не мог понять, почему так резко изменились их отношения. Неужели между Пуговицей и Ириной что-то произошло? Но тогда Ирина сама должна была рассказать ему обо всем. Отчего же она молчит? Потом ему припомнились вещи, на которые он раньше не обращал внимания. Ирина нередко бывала строга с Пуговицей, не допускала, чтобы та баловалась. Ирине он, разумеется, ничего не говорил. Но она сама почувствовала неладное и однажды вечером спросила его напрямик: «Отчего между нами появился какой-то холодок? Я, кажется, не давала к тому ни малейшего повода». Мантусов смутился, что-то растерянно забормотал о чуткости и доброте к детям. Ирина перебила его: «Так вот в чем разгадка шарады… — В ее голосе прозвучала печаль. — Милый Мантусов, а я-то думала, что вы понимаете меня. Очевидно, я не учла одного: вам не довелось быть отцом. — Она грустно улыбнулась и продолжала все так же спокойно: — Проще всего пожалеть ребенка. Тем более сироту. Гораздо труднее воспитать в нем понятие «нельзя». Оно в детях очень слабо развито. И ваша девочка тут не исключение… Впрочем, она пока еще и не ваша. Вы до сих пор не удочерили ее. Думаете, она не понимает этого и не переживает?..» Последние слова Ирины особенно больно задели Мантусова. Оказывается, она может быть и жестокой, подумал он расстроенно. То же самое можно было сказать мягче: просто напомнить, что надо оформить документы. Не по злому же умыслу он этого не сделал. На другой день Мантусов побывал в исполкоме и оформил удочерение. Теперь Пуговица стала Машей Мантусовой. Потом он нашел частную квартиру, и они переехали. В школе начинались занятия.
Глава четвертая
Солнце вынырнуло из-за вулкана, океан пожелтел. Сырая полутьма казармы отступила, и по комнате заплясали пылинки. Солнечный луч заглянул в бачок с кашей, маслянисто-рассыпчатой, крупинка к крупинке. — Яка гарна с виду, — сказал Семенычев, протягивая котелок повару. — И погана на вкус, — в тон ему добавил Шумейкин. Сашок обиженно насупился. — Я ж говорил: не умею готовить. Не получится из меня кашевара. — Не скули, без тебя тошно, — оборвал Шумейкин. В это время Ясуда, получив порцию каши, отправился в свой угол. Он обычно сидел в этом темном углу, поджав под себя ноги и закрыв глаза. Осторожно ступая, японец обошел бойцов и ненароком задел Шумейкина. — Ты что, не видишь? — разозлился тот еще больше. Ясуда что-то извинительно забормотал. Но Шумейкин не унимался: — Ходит тут всякое дерьмо! Только лишнюю пайку жрет. Ну, чего выпялил буркала? Рядом с Шумейкиным оказался Комков. — Побереги свои потрепанные нервы. Бойцы засмеялись. — Хватит вам, петухи, — примирительно проворчал Галута. — Чуток обнюхайтесь. Свои же… Комков добродушно ткнул Шумейкина в бок. Вытащил кисет. Они скрутили по цигарке и вышли из казармы. — Ох и злой же ты! — заметил Комков. — Жизнь таким сделала. — Так уж и жизнь? — Комков нахмурился. — Привыкли мы все на нее спихивать. Человек прежде всего сам себя делает. — А обстоятельства, по-твоему, ничего уж и не значат? — Какие у тебя могут быть особые обстоятельства? Чепуха. Ты не на положении бесправного негра в Америке… У нас хочешь не хочешь — все равно за уши вытянут. Система! Шумейкин сердито пыхнул цигаркой. — Может, меня та самая система и загубила. Потому как папаша у меня был сволочь порядочная. В революцию за кордон дал тягу. Мамашу с ребеночком, понятно, бросил. А ребеночку жрать требуется. Где пайку достать? За красивые глаза система не выделяет. Кто не работает, тот не ест. А мамаша у меня сызмальства была к работе не приучена. Вот и пришлось мне пощекотать одного борова. Замели меня. Срок, понятно, дали как малолетнему. С этой печаткой так и хожу с тех пор.Из казармы с автоматами вышли Семибратов, Сазонов и Галута. Погода стояла хорошая. И десантники решили обойти вокруг острова. Взвод высыпал на берег проводить отплывающих. Желали попутного ветра, семь футов воды под килем. Каждый в душе надеялся: а вдруг с той стороны острова видна другая, обитаемая земля? На Курилах островов много. Почему бы им и не быть рядом?.. Вслух, разумеется, такие мысли никто не высказывал, но про себя таили. Островное житье уже порядком надоело. Третья неделя, как они здесь. Неужели о них забыли? За все это время даже в отдалении от острова не появилось ни одного судна. Чистым было и небо: самолеты здесь тоже не летали. Все это наводило на невеселые размышления. Шлюпка ходко отошла от берега. Океан был тих, мелкая зыбь лишь слегка морщинила воду. Прибой медленно катился по рифам, на них уже не вспыхивали буруны. Окруженные пеной камни лениво ныряли в волнах. Все дальше от лагеря уходила шлюпка. Росло расстояние, и стоящие на берегу люди постепенно уменьшались. Уже нельзя было различить лиц. На фоне светло-серого песка вырисовывались лишь темные силуэты. Но Семибратов все равно мог бы точно сказать, где кто стоит. Он уже не спутает Комкова с Пономаревым, хотя они и одного роста, а Касумова за версту отличит от Шумейкина или Семенычева. А давно ли, принимая взвод, Семибратов с волнением вглядывался в солдатские лица и думал: до начала операции остается всего ничего, сумеет ли он изучить людей? Ведь ему надо знать, кого он поведет в бой. Говорят, чтобы понять человека, надо с ним пуд соли съесть. А в его распоряжении два, ну, пусть три месяца. Если же сюда прибавить еще отсутствие командирского опыта… Теперь-то Семибратов знает, что надо было начинать совсем не так, как он начинал. Ну, что ему дали тогда официальные беседы с бойцами? Где родился, учился, кто мать, отец, можно узнать из документов. А вот что думают люди, о чем они мечтают? Это ни в каких анкетах не записано. Такие вещи надо сердцем понимать. Люди это сразу видят. Участие они чувствуют, а равнодушия не прощают. Островное житье помогло Семибратову понять многое. Люди здесь были все время на виду. И в этих необычных условиях быстрее проявлялись характеры. Да и не на кого было теперь Семибратову оглядываться. Ни комбат, ни кто другой не могли уже поправить его, подсказать, как поступить в том или ином случае. Все дела он решал сам и отвечал за них тоже сам. И эта огромная мера ответственности заставляла быть собранным, пытливее вглядываться в окружающих, понимать, что движет поступками людей, и, принимая решение, думать, думать и еще раз думать. …Галута налег на весла. Шлюпка быстро двигалась вдоль берега мимо мшистых скал, песчаной косы, бамбуковых зарослей. Сазонов вытащил свою записную книжку и на чистом листе набрасывал линию побережья. Он решил составить карту острова: нанес вулкан, лагерь, ручей, который по общему согласию назвали в честь Топтуна — Медвежьим. Параллельно рифовому барьеру они обогнули остров и пошли вдоль длинной морской террасы. По берегу тянулась узкая полоса мелкого песка. Издали она напоминала асфальт, особенно после того, как волны, смочив песок, отступали в океан, оставляя за собой гладкую поверхность серого цвета. Чуть подальше от кромки прибоя лежала мелкая галька, валялись большие раковины, похожие на диковинные узорные тарелки. — Заместо пепельниц надо бы набрать, — заметил Галута. — Вполне подходяще. — Кабы курить было что, — невесело отозвался Сазонов. — Последние крохи махорки доскребаем. А без курева на кой ляд те пепельницы сдались. Над обрывом морской террасы склонялись березы. Тонкие стволы их были причудливо изогнуты и напоминали корабельные канаты, закрученные в тугие узлы. За березами начинались заросли курильского бамбука, тянувшиеся до самого подножия вулкана, — целое зеленое море. В одном месте шлюпка чуть не наскочила на подводный камень. Рифы здесь вплотную подходили к берегу и хищно прятались в волнах, подстерегая добычу. — Давай мористее, — опасливо сказал Галута Сазонову, сменившему его на веслах. Через некоторое время слева показались три островка. Над ними кружились птицы. В воздухе стоял разноголосый гомон. И чем ближе подходила шлюпка, тем сильнее становился этот гомон, пока не заглушил все остальные звуки. Это был птичий базар. Тысячи кайр гнездились на каменистых уступах. Среди кайр виднелись бакланы, более крупные по размеру, мелькали чайки, буревестники, качурки. — Было бы начало лета, товарищ младший лейтенант, полакомились бы яичницей! — наклонившись к Семибратову, крикнул Галута. — А запашок… Запашок слышите? Как в гальюне при плохом боцмане. Запах действительно был не из приятных. Десантники поторопились отъехать от птичьего базара. К северу остров сужался и заканчивался длинной песчаной косой. По ней ползали тучные ластоногие звери. — Никак тюлени! — воскликнул Семибратов. Галута снисходительно улыбнулся. Он был коренным дальневосточником, к тому же матросом, повидавшим на своем веку всякого морского зверья. — Для тюленей, товарищ младший лейтенант, малость великоваты. — А что же это тогда? — Сивучи. Каждая такая тушка центнера на три-четыре. — Между прочим, сивучи, я слыхал, тоже тюлени, — пряча усмешку, сказал Сазонов. — Семейство ушастых тюленей. Звери были великолепны. Огромные, мускулистые, они величественно лежали на берегу неподвижными темно-серыми глыбами. Длинные белые усы украшали клыкастые свирепые морды. Могучие, широкие ласты лениво шевелились на песке. Завидев приближающуюся шлюпку с людьми, самый крупный сивуч, очевидно вожак, повернул свою гордо посаженную голову и заревел. Зверь как бы предупреждал: берегись! — Ну и зверюга! — Галута перестал грести. — А что вы думаете, ведь цапнет не за понюшку табаку. Ребята у нас рассказывали… — Давай, давай поближе, — беспечно сказал Семибратов, — сойдем тут на берег. Вожак медленно повернулся к людям широкой грудью, исполосованной рубцами — следами свирепых схваток с соперниками. Еще минуту назад сонные и неподвижные, глаза зверя расширились и в упор уставились на пришельцев. В них появился злой огонек. Сивуч пошевелил пышными усами и, широко раскрыв пасть, грозно заревел. Перевитые тугими мышцами ласты напряглись и нервно ударили по песку. Вожак бросал вызов и был готов к бою с неведомыми врагами. Но «враги» не испугались трубного рева. И тогда вожак опасливо попятился, а в его темных глазах мелькнул страх. Сивуч стал медленно отползать, все еще рыча и не теряя чувства собственного достоинства. — Гляди, боится! — Галута засмеялся. Время шло к вечеру. Путешественники решили переночевать на берегу в кустарнике. Галута загнал шлюпку в небольшую бухту и крепко привязал ее к коряге. Развели костер, чтобы приготовить еду. Семибратов и Сазонов углубились в кустарник. Их окружили заросли шиповника. Краснобокие, крупные, как яблоки-дички, плоды были кисловаты. — Лучшее средство от цинги, — заметил Семибратов. — А вон, глядите, товарищ младший лейтенант. — Сазонов показал в сторону. — Жимолость. Эх, сколько ее тут! Тоже съедобная штука. Сизые продолговатые ягоды жимолости были сочными и по вкусу напоминали голубику. Попробовав их, Семибратов задумчиво спросил, нельзя ли эту ягоду посушить на зиму. Сазонов остановился и пристально посмотрел на него. Неужели командир десантников тоже так думает? Сазонов уже давно пришел к выводу, что не исключена возможность зимовки на острове. Все те планы, что предлагались десантниками для установления связи с Большой землей и вызывали так много споров, были нереальны. Он, как моряк, лучше, чем кто-либо другой, понимал это. С океаном шутки плохи. На шлюпке никуда не доплывешь, а некоторые горячие головы требуют этого. Сазонов решительно выступил против. Посылать человека в шлюпке в открытый океан — значит заранее обрекать его на верную гибель. Вероятность добраться куда-нибудь настолько ничтожна, что ее просто не следует принимать во внимание. Что же касается постройки плота — идея принадлежала Воронцу, — то для этого на острове не было подходящего леса. Деревьев мало, и все они хилые, низкорослые, а каменная береза, что растет в роще близ лагеря, и на воде-то не держится, тонет. Сазонов еще раз внимательно посмотрел на Семибратова. Честно говоря, тот удивлял его все больше и больше. Он как-то не предполагал прежде в командире десантников таких качеств, как выдержка, дальновидность. Семибратов оказался не совсем таким, каким представлялся Сазонову вначале. И чем лучше узнавал его, тем быстрее росла симпатия мичмана к молодому офицеру. Семибратов был, конечно, молод. Отсюда шли и некоторая его горячность, излишняя категоричность суждений, неоправданная боязнь за свой авторитет. Но не это определяло характер Семибратова. Младший лейтенант оказался твердым, думающим, волевым командиром, и это было главным. Причем, как уже заметил Сазонов, Семибратов думал не о себе, а о людях. И те чувствовали это, понимали. — Интересно, а мясо сивучей съедобно? — после паузы снова спросил Семибратов. — Вероятно, съедобно. Только рыбой, пожалуй, будет пахнуть, — отозвался Сазонов. — И шкуры их тоже можно использовать, на теплую одежду например, — оживленно сказал Семибратов. — По всей видимости, можно. — Сазонов невесело улыбнулся и, помолчав, осторожно спросил: — Полагаете, нас списали? Некоторое время Семибратов шел молча, раздвигая кусты руками. Сазонов уже решил, что его вопрос останется без ответа, но Семибратов заговорил: — Да, Трофим Игнатьевич, нам нужно быть ко всему готовыми. Может, война уже и кончилась, кто знает. Но только не для нас. Мы по-прежнему остаемся на фронте. Пусть не в первом — во втором эшелоне, все равно на фронте. Он впервые назвал мичмана по имени-отчеству, и тот почувствовал, как уважительно это прозвучало. Захотелось ответить тем же — доверием, участием, сказать: «Держись, сынок! Впереди еще много такого, что будет нелегко пережить. Но ты должен выстоять. Иначе нельзя. Мы верим тебе…» Вместо всего этого он сдержанно сказал: — Верно, командир, рассчитывать нам следует только на себя. Мичман произнес это буднично и просто. И лишь короткое «командир» (так обычно звал Семибратова Мантусов) выдало волнение Сазонова. Они вышли на небольшую полянку. Слева блеснуло озеро, полузаросшее осокой. — Одного не пойму, — задумчиво произнес Семибратов, — если японцы держали здесь гарнизон, должен же быть остров на карте? А его нет. — А казарма-то у японцев совсем новая, — заметил Сазонов. — Ну и что? — А то, что, может, год-полтора назад тут и вовсе никто не жил. — Думаешь, остров был необитаем? Они и сами не заметили, как перешли на «ты». — В войну японцы захватили немало островов, никогда им не принадлежавших. Все могло случиться. — Где же мы тогда находимся? Сазонов вздохнул, взял прутик и стал чертить им на песке. — Тут, на севере, Камчатка. Рядом — Командоры. Внизу — Хоккайдо. Между ними огромная Курильская гряда. Знаешь, как ее называют? Архипелагом тысячи островов. Тысячи! — повторил Сазонов многозначительно. — Западнее — Охотское море, восточнее — Тихий океан. — Ну и что? — снова нетерпеливо спросил Семибратов. — Ничего. — Сазонов пожал плечами. — Если ночью нас несло на норд-ост, что наиболее вероятно, то мы здесь, в океане. — Сазонов ткнул прутиком в песок. — И далеко? — Не знаю. Остров, может, даже к Курильской гряде не относится. Да и вообще в этой части океана еще немало неисследованных клочков земли. — Невеселая перспектива! — Семибратов лег на спину и заложил руки под голову. В далекой синеве плыли редкие сизые облака. Небо сквозь них казалось туманным и еще более таинственным. Оно всегда манило Семибратова. Когда-то он мечтал пойти по стопам отца — стать летчиком и испытывать новые машины. Они жили тогда в большом городе, недалеко от авиационного завода. Самолеты взлетали над самыми крышами поселка и свечой уходили вверх, исчезая в далекой, недоступной синеве. Наблюдая за ними, он пытался угадать, что там, за самыми-самыми высокими облаками? И никак не мог представить бездонности неба. Когда его призвали в армию, шел сорок четвертый год. Отец погиб в сорок третьем. Семибратов попросился в авиацию. Но военком сказал ему: «Сейчас война, и надо все свои желания подчинять ее законам. Пойдешь в артиллерийско-минометное училище. Так нужно!» И пришлось ему вместо самолетных винтов крутить лошадиные хвосты: орудия были тогда еще на конной тяге.
Взвод поднимался в пять утра, и курсанты шли чистить лошадей. После занятий опять шагали на конюшню и снова чистили мохнатых битюгов из артиллерийских упряжек. Конский пот въедался в тело. Его ничем нельзя было вытравить. Лей на себя хоть флакон одеколона, два раза в день стирай обмундирование — ничто не поможет: от тебя за версту будет разить конским потом. А какой девчонке это понравится? Один танец с тобой станцует и сразу же: «Извините, у меня что-то голова кружится…» Ну кому охота нарваться на отказ? У парня должна быть своя гордость! С Ниной он познакомился на танцах. Был воскресный день, и в клубе училища играла радиола. Девчат было много. Но Семибратов долго не решался выбрать себе партнершу. Он был не то чтобы робок, нет. Просто считал, что у него нет еще достаточного опыта в обращении с девушками. Танцевала Нина легко, с каким-то неброским изяществом. Когда вальс кончился, Семибратов пожалел об этом. Пока они шли из круга, он набрался храбрости и спросил: «Можно вас пригласить еще?» Она посмотрела на него искоса. «Ну хорошо. Меня подруги ждут. Я сейчас вернусь и обещаю вам еще один танец». «Только один!» — невольно вырвалось у него. Они танцевали весь вечер. Семибратову было удивительно легко с ней. Он не чувствовал никакой застенчивости. Время пролетело незаметно. Когда же заиграли прощальный вальс, им вдруг овладело смятение. Вот сейчас все кончится! Она уйдет. Проводить он ее не сможет. У него нет увольнительной. И они больше никогда не увидятся. Она будто угадала его мысли, улыбнулась. «Когда сможете, приходите ко мне. — Она назвала адрес. — А сейчас прощайте. Меня ждут подруги». Вернувшись из клуба, Семибратов нашел Воронца, который дежурил по батарее, и рассказал ему об интересном знакомстве. Сергей выслушал его с улыбкой, потом переспросил: «Зеленые насмешливые глаза? Щурится? И родинка на левой щеке? Все ясно — Нинка». Семибратов растерянно замолчал. Так вот, оказывается, кто его новая знакомая. И как только он не догадался раньше. Нинка! Воронец часто ее так называет. Вредная, говорит, девчонка. А это значит — уважает. Семибратов изучил все привычки друга. Сколько уж раз тот грозился не ходить к Нине, а все ходит. Злится и ходит. «Ты извини меня, — сказал Семибратов. — Я просто не знал, что это она». «Чепуха, в следующий раз пойдем вместе». Семибратов идти не хотел, но Воронец настоял. Он такой: уж если что сказал, как отрезал. В воскресенье они явились к Нине вдвоем. «Ребята, — скомандовала Нина, ничуть не удивившись, — накрываем на стол. Сегодня у меня день рождения. Веселимся». «Не слишком ли тесен наш круг?» — спросил Воронец. «Уж не ревнуешь ли ты, Отелло? Ах нет? Вот и хорошо. Люблю, чтобы у меня было два кавалера. Достань-ка из буфета бутылку вина. — Она заметила протестующий жест Семибратова и улыбнулась. — Не беспокойтесь, Коля. Я в курсе дела и не собираюсь вас подводить. Стакан сухого вина вам, я думаю, не повредит. Верно, Воронец?» Они выпили по рюмке вина и стали по очереди танцевать с Ниной. Семибратову в какой-то миг вдруг захотелось поцеловать ее. Желание было настолько сильным, что он даже испугался. А вдруг и вправду поцелует? Каково-то будет Сергею? Ведь Нина — его девушка. И если ты считаешь себя другом, то даже мысль об этом — уже подлость! Весь остаток вечера Семибратов хмуро просидел на диване. Нина несколько раз приглашала его танцевать, он отказывался. Сидел нахохлившись, думал. На душе было муторно. Когда они возвращались в училище, Воронец спросил, почему он вдруг раскис. «Да так, — уклончиво ответил Семибратов. — Голова разболелась». «Брось! — Воронец досадливо махнул рукой. — Тебе же нравится Нинка». «И вовсе нет!» — запальчиво воскликнул Семибратов. Эти слова, произнесенные вслух другом, показались ему кощунственными. «Зачем ты так? — Воронец укоризненно качнул головой. — Я же вижу». «Я не пойду к ней больше!» «Глупости! Пойдешь. И со мной, и без меня. Обязательно пойдешь. Соперничество должно быть честным. Так что давай без этого…» Семибратов с благодарностью поглядел на Воронца. Конечно, втом, что тот говорил, была частичка бравады. И где-то в глубине души Семибратов это чувствовал. Они по-прежнему оставались друзьями.
Путешественники вернулись в лагерь на другой день к обеду. Их ожидало неприятное известие. Ночью из склада исчезла часть продуктов. Часовыми на втором посту стояли по очереди Комков и Шумейкин. Кто-то из них заснул. Семибратов вызвал к себе обоих. — Рассказывайте. — А чего тут антимонию разводить, — ответил Шумейкин. — Проспали, потому и прохлопали. Кто-то пошуровал в складе. — Черт его маму знает. — Комков развел руками. — В толк не могу взять, как это случилось. — Так кто же из вас все-таки проворонил? — спросил Семибратов, в упор глядя на бойцов. — Вот вас всего двое. Кто? Шумейкин отвел глаза. А Комков вздохнул и неожиданно сказал: — Наверное, все-таки я, товарищ младший лейтенант. Чего там… — Наверное или точно? — Точно, — помедлив, ответил Комков. — Перед самым рассветом вздремнул малость. Сам не заметил. Стою и вроде сплю, как, извиняюсь, самый распоследний разгильдяй. Семибратов посмотрел на него с подозрением. Ему показалось, что Комков врет. Но делать было нечего: Комков признался. Пришлось дать ему три наряда вне очереди.
Вечером на берегу заседало, как выразился Комков, верховное островное главнокомандование. Вопросы обсуждались важные: кто и где скрывается на острове? Как его отыскать? Враг был опасен тем, что до сих пор ничем не выдал себя. Наблюдая за ними, он оставался невидимым и мог наделать немало бед. — В зарослях бамбука может целая рота спрятаться, — сказал Воронец, — не то что один-два человека. — А почему ты считаешь, что их один-два? — спросил Мантусов. — Было бы больше, давно дали бы нам прикурить. — Резонно, — согласился Мантусов. — И оружия у них, по всему видать, нет, — высказал предположение Сазонов. — Иначе без пальбы не обошлось бы. Семибратов ни разу не перебил сержантов, хотя порой ему и хотелось бросить реплику. Он сдерживал себя: нужно дать всем высказаться, а уж потом подытожить и принять решение. Кажется, прописная истина, именно так обязан поступать командир, но и до нее он не сразу дошел. Да, многому ему еще надо учиться. — Поиски, конечно, следует продолжать, — после того как все замолчали, опять заговорил Сазонов. — Но не сильно будем на них полагаться. На острове есть где спрятаться. Век будешь искать. — Что же ты предлагаешь? — резко спросил Мантусов. — Сидеть сложа руки? — Нет, зачем же! Мы обязаны быть настороже. Семибратов понял его. — Верно, Трофим Игнатьевич, — поддержал он Сазонова. — Врагу мы должны противопоставить свою бдительность. Но и поиск расширим. Создадим три группы. Одну поведу я к подножию вулкана, другую Мантусов — к озеру. А ты, Воронец, со своими обследуешь морскую террасу. Выступаем завтра в семь ноль-ноль.
Глава пятая
Комкову не хотелось идти на собрание. Он играл с Топтуном, учил его приносить палку. Зверь еще плохо слушался его, но Комков был настойчив и шумно радовался малейшему успеху своего четвероногого ученика. — Смотрите, други, и не говорите, что вы не видели! — весело покрикивал он. — Единственный в своем роде, неповторимый аттракцион: сверхумный медведь. Але! — Ну сколько можно тебя звать? — рассердился Пономарев, когда Сазонов во второй раз послал его за Комковым. — Так я ж беспартийный. — Сказано тебе: собрание открытое. Приглашают всех. Парторг велел… Создать в островном гарнизоне партийно-комсомольскую организацию предложил Сазонов. Два коммуниста да шесть комсомольцев — это же какая командиру подмога! Семибратов засомневался: обычно присылают представителя политотдела. А тут они сами? Ведь не положено… Сазонов решительно отверг его возражения. Ну и что, если не по уставу? Ведь у них самый что ни на есть крайний случай. И никто их не упрекнет. Люди сызмальства приучены к организации и к партии всегда сердцем тянутся… Семибратов не мог не согласиться с доводами Сазонова. Пожалуй, так действительно будет верней и надежней. Что же касается обязанностей парторга, то уж придется эту ответственность взять на себя мичману — больше некому. Собрание открыл Семибратов. Он встал, по привычке одернул гимнастерку и почему-то заволновался. Одно дело высказывать опасения, строить догадки, не теряя, однако, веры, что вот-вот придут, снимут с острова, и совсем иное — сказать прямо, что надежды на скорое возвращение мало и надо готовиться к худшему. Связаться с Большой землей и дать о себе знать у них возможности нет. Вероятно, придется зимовать на острове… Семибратов долго думал, прежде чем решиться на такое выступление. Он хорошо понимал, что у людей могут опуститься руки, появится уныние — и будет тогда тяжелее жить и бороться. Но он также понимал и другое: люди должны знать правду, как бы горька она ни была. Кто-то должен сказать ее! И кому, как не ему, командиру, это сделать? Заканчивая свое выступление, Семибратов сказал: — При любых обстоятельствах взвод остается подразделением Советской Армии. И все воинские законы обязательны для каждого из нас. Наступила долгая, томительная пауза. Бойцы сидели, глубоко задумавшись. Семибратов окинул их беспокойным взглядом. Неужели так и будут молчать? На какой-то миг он пожалел, что согласился с Сазоновым и затеял это собрание. Проще было бы, наверное, построить взвод, поставить задачи, отдать распоряжения — и все: будьте добры выполнять не рассуждая. Но он тут же отогнал эту мысль. На одних приказах далеко не уедешь. Надо, чтобы люди осознанно выполняли волю командира. Тогда и результаты будут совсем иными. В этот момент, словно подтверждая его мысль, поднялся и заговорил Галута: — Об чем речь, братишки! Утешение, полагаю, нам не требуется. Командир верно толкует: на себя у нас надежда. Концы отдавать никому неохота. Потому вкалывать надо на совесть. Берусь сивучей бить. Без теплой робы нам никак нельзя в зиму. А с сивучей шкуры добрые. Кто со мной? Вдвоем надо. Взвод одобрительно загудел. Слова Галуты, как видно, понравились. — Бери меня! — крикнул Комков. — И я тоже могу, — нерешительно протянул Сашок. Бойцы поняли: от кухни хочет увильнуть. Неожиданно встал Шумейкин, сказал, что на зиму понадобятся дрова и заготовить их надо побольше. А ему приходилось этим заниматься. — О це верно! — воскликнул Семенычев. — Хай и нам послужит твоя наука. Семибратов, слушая бойцов, вздохнул с облегчением: с души его будто сняли тяжелый камень. Напрасно он сомневался, поймут ли его. Великолепно поняли. И поддержали. Значит, верят ему. А это для командира высшая оценка. — Ну, как впечатление, командир? — хитровато улыбаясь, спросил Сазонов, когда собрание закончилось. Семибратову не оставалось ничего другого, как развести руками. — Сдаюсь, — сказал он с легким смешком. — Ты оказался прав, комиссар.Вода в ручье как стекло. Ручей бежит и бежит к океану нескончаемой прозрачной лентой. Глянешь в него — и даже конопушки на щеках видны. И глаза большие и круглые, как пятаки. Только цвет их не рассмотреть. Вода плохо передает оттенки. Но Сашок и так знает, что глаза у него серые, а лицо — бледное и курносое. Кому может понравиться такое заурядное лицо? Вдобавок ко всему он еще и несмелый. Медведя испугался… Совсем безобидный зверь Топтун. Небось Комков не побежал. Хороший он парень. И все у него получается. Уж как только Сашок не улещал Топтуна, не слушается его медвежонок. А Комков свистнет — и Топтун несется к нему со всех ног. Или тот же Ясуда — японец, враг. Пусть пленный, — все равно. А с Комковым они вроде бы понимают друг друга… Бежит ручей, поет на перекатах. Точно как Рахим — длинно и монотонно. Тот глаза закроет, покачивается из стороны в сторону и тянет одну ноту. Да так жалостливо, будто плачет. Шумейкин, если слышит, всегда злится: «Заныл, зануда!» Мантусов, конечно, тут же одергивает его. Шумейкин послушно замолкает, он старшего сержанта побаивается. Вот на кого Сашок хотел бы еще походить — на Мантусова. Он всегда уверенный, будто наперед знает, что будет. Мантусова даже сам младший лейтенант слушает — авторитет! Если бы кто другой предложил ему, Сашку, помощника по кухне, наверняка не отказался бы. Почему он должен один посуду за всех каждый день драить? Хватит того, что кашеварит для целого взвода. Но Мантусову Сашок не мог так ответить. Он сказал даже, что няньки ему не нужны. Сам справится. — Ну что ж, Белов, не возражаю. Весь кухонный инвентарь и вся посуда теперь на твоей совести. За исключением, разумеется, тех случаев… — Мантусов усмехнулся, — когда будут штрафники. Однако за все это время лишь один Комков получил три наряда вне очереди. И ведь ни за что. Сашок голову дает на отсечение: не спал Комков в ту ночь на посту. Не такой он человек! Это Шумейкин, точно. Комков просто взял вину на себя. Зачем — непонятно. Наверняка у него какая-нибудь тайная мысль на уме. Вот бы узнать! Нет, Сашок не любопытен. Он же не девчонка. Мужчина должен быть сдержанным. Не спрашивают — не лезь. Значит, не следует тебе знать, не положено. Имей выдержку. Когда надо — скажут, а то и прикажут. Ведь он боец Советской Армии. Пусть он служит всего каких-нибудь три месяца, все равно: порядки армейские знает. И дисциплину тоже понимает. Инициатива — вещь, конечно, хорошая. Но Мантусов прав. Проявлять ее нужно с умом, а то ведь и дров наломать можно, из самых добрых побуждений товарищей подвести. Ну и себя, конечно. Взять хотя бы тот случай, когда за мальчонкой в речку прыгнул. Ведь не будешь стоять на берегу и смотреть, как человек тонет. Рассуждать-то уже некогда! Он и опомниться не успел, как в воде очутился. Будто его подхватила какая-то сила и толкнула вперед. Мама потом, как узнала, так и ахнула: — Как же так, горе ты мое луковое? Ты же плавать-то не умеешь! Ну и что с того? Человек на помощь зовет. Разве тут о себе будешь думать? А что, собственно, переживать? Ничего не случилось. Им другие люди помогли — вытащили обоих.
Сашок домыл посуду и с трудом выпрямился. Он сидел на корточках, наклонившись, и от неудобного положения занемела спина. Собрав котелки, Сашок повесил их на палку и поднял ее на плечо — так удобней нести. Тропинка вывела его к берегу. Он хотел уже повернуть влево, к лагерю, но тут вспомнил, что вчера вечером видел чуть правее два черных отверстия в скале и еще подумал: «Наверное, пещеры. Могут пригодиться. Шумейкин жаловался, что негде дрова хранить». Сашок решил проверить свою догадку. Он снял с плеча ношу, положил на песок и повернул направо. Однако не успел сделать и десятка шагов, как услышал голос Мантусова: — Ты куда это, Белов? — Там что-то вроде пещер, товарищ старший сержант. Нам же для дров нужно. — А ты разве не знаешь, что командир приказал в одиночку не ходить? Тем более вдали от лагеря. — Так это ж совсем близко. — Вот всыплю тебе пару нарядов вне очереди, будешь знать тогда, далеко или близко. — Я хотел как лучше, — упавшим голосом сказал Сашок. — Ну ладно, — смягчился Мантусов. — Только больше ни-ни. Понял? А сейчас показывай, что ты там нашел. Они обогнули нависшую над водой скалу и начали подниматься по крутому склону морской террасы. Мантусов шел, припадая на ногу. У него опять ныло бедро: вероятно, к непогоде. И он, как всегда в таких случаях, острее воспринимал запахи. Обычно не различаешь, как с океана тянет рыбой, сыростью, йодом. Если же ветерок меняется и дует от вулкана, то пахнет уже багульником, зеленью и серой. Сашок не ошибся. На уступе морской террасы были две пещеры. Одна — большая, уходившая вглубь извилистым коридором; другая — немного поменьше, сухая и низенькая. — Классное местечко! — восторженно воскликнул Сашок. — Верно? Мантусов не отозвался. Его беспокоил запах, стоящий в пещере. — Вы что принюхиваетесь, товарищ старший сержант? Мантусов сделал несколько шагов в глубь пещеры и теперь отчетливо уловил запах табака. Запах был довольно сильным и к тому же неприятно горчил. Мантусов, пожалуй, только однажды чувствовал нечто подобное, но запомнил хорошо. Когда это было? Кажется, под Сталинградом. Они тогда захватили у немцев генеральский блиндаж и нашли там странные сигареты — тонкие, как прутики, с ярким золотым мундштучком. Переводчик пояснил им, что это значит. Неужели и здесь, в пещере, кто-то курил сигареты с опиумом? — Быстро в лагерь! — распорядился Мантусов и, забыв про боль в ноге, побежал вниз по крутому спуску. Через полчаса взвод был поднят по тревоге. Десантники зажгли факелы, тщательно обследовали обе пещеры, но никого не обнаружили. Лишь в самом дальнем углу под низкими сводами был найден окурок сигареты с золотым ободком. Теперь сомнений больше не оставалось: враг прятался здесь. В этот вечер в казарме снова долго не спали, обсуждая происшедшее. Семибратов выставил у пещер засаду, усилил посты и сам проинструктировал часовых. Только поздно вечером уставшие бойцы наконец угомонились. Над вулканом взошла полная луна, посеребрив его уступчатые склоны. С океана дохнул резкий сырой ветер. Глуше, сдержанней зашумел прибой, предвещая шторм.. В три часа ночи на посты заступили Галута и Рахим Касумов. Договорились на всякий случай о сигналах и разошлись по своим местам. Ветер крепчал, набирая силу, сердито свистел в скалах. Он срывал с верхушек волн мелкую водяную пыль и швырял ее на берег. Брызги обдавали Рахима с ног до головы. Чтобы хоть немного согреться, он закинул автомат за спину и стал размахивать руками. Озяб Рахим. Как старая женщина. Кровь совсем плохо греть стала. Мангалку бы сейчас сюда. От нее тепло идет. А Рахим тепло любит. В Фергане у них всегда жарко: и когда урюк цветет и когда хлопок собирают — тоже. На уборку хлопка весь кишлак выходит — с музыкой, с флагами. Как на праздник! Самое большое их богатство — хлопок. И прадед, и дед Рахима хлопок выращивали, и отец, и он сам. От работы Рахим никогда не уходил. Что бригадир велел — делал. Недаром получил от колхоза три грамоты. Человек должен хорошо работать везде! Война ведь тоже работа. Тяжкая работа, но ее нельзя плохо выполнять. Сказали окоп рыть — рой. Сказали до конца стоять — стой, назад ни шагу: позади твой кишлак. Даже если русский, латышский, белорусский, все равно твой… Касумов дошел до кустов, росших над обрывом, и хотел повернуть обратно. Но тут кусты раздвинулись, и Рахим увидел черную оскаленную морду. Касумов попятился. Дыхание у него перехватило. Зверь надвинулся на Рахима тяжелой темной массой и заревел. И только тут до Рахима наконец дошло, что это медведь. То ли эта мысль, то ли звериный рев вывели Рахима из оцепенения. Он отпрыгнул назад и, подняв автомат, дал очередь. Медведь зашатался и рухнул на землю. От казармы к Рахиму уже спешили бойцы. Они окружили тушу зверя, и кто-то удивленно сказал: — Ого! Медведица. — Так это же, братцы, мамаша нашего Топтуна, наверное, в гости к сыночку приходила, — воскликнул Комков. — А мы ее так невежливо встретили! Подошел Мантусов, посмотрел на зверя. — Пудов на двенадцать, не меньше, — одобрительно протянул он. — Хороший запасец вяленого мяса на зиму.
Глава шестая
После дождей ручей Медвежий вышел из берегов и вплотную подступил к зарослям бамбука. Вода в нем потемнела, вспенилась, громче зарокотала на перекатах. Утром десантники стали свидетелями необычной картины. По Медвежьему ручью навстречу течению плотно пошла горбуша. До этого дней шесть-семь, прокладывая путь к нерестилищам, плыли одинокие «гонцы». Теперь же двинулась основная масса рыбы. Сперва еще можно было рассмотреть чистые разводья, но к вечеру горбуша заполнила ручей: казалось, ее стало больше, чем воды. Обдирая бока о камни, рыба шла в свой последний путь: отметав икру, она погибала. Горбатые самцы яростно вспенивали воду, выпрыгивали на берег и судорожно били хвостами по мокрой гальке. Семибратов объявил аврал. Весь взвод вышел на заготовку рыбы. Обед решили не готовить — поесть всухомятку. Ясуда организовал производство красной икры. Он оказался специалистом по этой части. Галута ему помогал, Сазонов руководил сухим посолом горбуши. Спасибо заботливым японцам: в прикухонном складе десантники нашли несколько мешков соли. Это было целое богатство. Рыбу солили прямо на земле, предварительно расчистив место. Мичман орудовал здесь, как заправский резчик. Подхватив рыбину, он точным ударом ножа рассекал ее и, быстро выпотрошив, начинал ловко втирать соль в бока. Возле него росла гора уже готовой продукции. — Не хватит ли? — осторожно заметил Семибратов, подходя к мичману. Сам он вместе с Семенычевым и Сашком все утро ловил горбушу. Рыба продолжала идти густо, почти сплошняком, и можно было вылавливать ее на выбор, причем чуть ли не руками. Семенычев приспособил для этой цели палки с загнутыми гвоздями. Получилось что-то вроде крючьев, которыми и подхватывали рыбу. Десантники выбирали наиболее крупные экземпляры и, выбросив их на берег, сортировали: икряную рыбу отправляли Ясуде, а остальную — Сазонову. — Пожалуй, хватит солить-то, — повторил Семибратов. — Так мало же еще, — возразил Сазонов, удивленный словами командира. — В зиму это самая что ни на есть подходящая еда. Надо побольше заготовить. — Не спорю, Трофим Игнатьевич, надо бы… — Семибратов вздохнул. — Да запасы соли у нас не безграничны. Об этом следует помнить. Сазонову стало неловко. Уж кому другому, а ему, старому морскому волку, не следовало бы упускать из виду такую простую вещь. Пищу они еще могут добыть: рыба, птица, зверье. А вот без соли нельзя… Увлекся он, забыл об этом. А Семибратов небось не забыл. Предусмотрительным оказался. Даром что молод. А все почему? Ответственность чувствует. За людей болеет. Молодец он все-таки! Таким и должен быть командир. — Ну, а с этой что будем делать? — Сазонов кивнул на кучу свежей рыбы. — Может, повялить? — Попробуем, — согласился Семибратов. — Это даже лучше будет. Расход соли небольшой, а хранить можно долго. Действуй! — Есть! Сейчас только натяну веревку на шестах, и начнем нанизывать. Комков с Ясудой таскали рыбу от ручья к засолочной площадке, расположенной на скалистом уступе. Сначала носили ведрами, потом Ясуда сплел из бамбука две вместительные корзинки. Комкову они понравились. Он даже языком прищелкнул от удовольствия. — Мама родная, какая великолепная работа! Ты меня должен обязательно этому выучить. Будет у меня запасная профессия — корзинщик. Ясуда обрадованно закивал. Он уже знал, когда русский солдат одобряет его работу. Разговаривали они по-прежнему больше мимикой и жестами. И тот и другой выучили друг у друга по нескольку слов и пока обходились. Они вывалили принесенную рыбу на площадку возле Сазонова, и Комков спросил: — Как там, не пора заправляться? Мичман вынул свои карманные часы-луковицу. Это был еще дедов подарок, и Сазонов с ним никогда не расставался. — Пожалуй, надо делать перерыв. — Кончай ночевать! — Комков весело хлопнул Ясуду по плечу. — Сейчас мы устроим королевский пир. На первое, второе и третье — красная икра, приготовленная по способу а-ля Галута. Комков сбегал к ручью и через несколько минут вернулся с миской, наполненной блестящей ярко-красной икрой. — Приступим, други мои! — воскликнул он, выхватывая ложку из-за голенища. Ясуда устало опустился рядом на камень и достал из-за пазухи кусок высохшей рыбы. Он ел рыбу, как хлеб, заедая ею суп, кашу — любое блюдо. — Э-э… Так не пойдет, — запротестовал Комков. — Садись-ка рядом. Не брезгуй нашей компанией. Ты же в эту икру труд вложил. Японец вначале не понял, вопросительно посмотрел на бойца. Но когда тот вручил ему ложку и ткнул пальцем в миску, Ясуда вдруг часто-часто заморгал. Комков придвинул к нему миску поближе и подмигнул: — Ешь, ешь. Шикарная закусочка. К ней бы еще наши фронтовые гвардейские сто пятьдесят!.. Ясуда нерешительно потянулся за икрой. Некоторое время ел молча, тщательно облизывая ложку. Потом осторожно тронул Комкова за локоть и что-то сказал. — Ну, чего ты? — спросил Комков. Ясуда продолжал говорить, все больше возбуждаясь, потом схватил прутик и начал чертить на песке, приговаривая: «Нож… нож…» Видно, он хорошо усвоил это слово. Заинтересовавшись, к ним подошел Семибратов. — Что это он? — Черт его маму знает! — Постой! — воскликнул Семибратов. — Я, кажется, начинаю понимать. Он нарисовал восемь ножей. Сколько японских солдат было в здешнем гарнизоне? Восемь, не так ли? А эта кривулина на песке, по всей вероятности, сабля. Очень похоже… Ну конечно, офицерская сабля. Должен же быть с ними командир. — Семибратов повернулся к Ясуде и спросил: — Командир? Самурай? Ясуда обрадованно залопотал: — Самурая, самурая… Юти Хасимото… — Хасимото? — повторил Семибратов. — Так вот кому принадлежала сигарета с золотым ободком! А ну спроси-ка его, Комков, не знает ли он, где этот офицер скрывается? — Плохой из меня переводчик, товарищ младший лейтенант. По-немецки я бы еще попробовал, а тут — язык сломаешь. — Жаль. Он бы мог нам помочь. — Семибратов кивнул на Ясуду. — Ну да и на том ладно. Теперь хоть знаем, кто наш противник. После обеда работа продолжалась. Комкова позвал Шумейкин. Попросил помочь отнести в лагерь ящик с соленой рыбой. Они двинулись от ручья напрямик по зарослям бамбука, сокращая путь. Некоторое время шли молча. Потом Комков громко сказал: — Саса. — Чего ты? — не понял Шумейкин. — Саса, говорю. Курильский бамбук по-японски: А дзори — это обувь. — И охота тебе всякой ерундой мозги сушить! Носишься с этим косоглазым, как с писаной торбой. — Тебе этого не понять. — Комков усмехнулся. — Куда уж нам с суконным рылом да в калашный ряд! Шумейкин был настроен добродушно. Даже Яшкины насмешки сегодня не выводили его из себя. Пройдя еще немного, он предложил сделать перекур. Подмяв бамбук, они легли на мягкое ложе. — А ты хоть и болтаешь, а ничего парень, — заговорил Шумейкин. — В лагере тебе цены не было бы. Там любят тех, кто арапа заправлять умеет. — Спасибо за признание! Вот уж не предполагал, что могу прийтись ко двору такой компании. — Перестань! — Шумейкин поморщился. — Что ж, я тебе должен теперь еще в ножки кланяться? — Можно хоть узнать за что? — Как за что! Ты ж меня тогда здорово выручил. Младшой меня терпеть не может. Уж мне это так просто не сошло бы. — А ты что, действительно спал на посту? — спросил Комков. — Здрасьте… А ты сам что делал? — Постой. — Комков даже приподнялся на локтях. — Как же так? Я ведь нарочно сказал. Понимаешь? Я не спал. Думал, мы просто с тобой проморгали. Так не все ли равно, кто виноват? Там, если в затишек за скалу зайти, подход к складу с одной стороны не просматривается. Я потом проверил. — Нужен мне твой затишек! — Шумейкин фыркнул. — Выдумали охрану какую-то, само начальство небось дрыхнет. Пошли они!.. Я всегда сплю. Пристроюсь где-нибудь в сторонке и кемарю. Здоровьице нам еще пригодится. Комков вскочил. — Ну и гад же ты первостатейный! Я бы тебя… — Он ожесточенно пнул ногой ящик с рыбой. — Неси сам свою паршивую тару! Небось пуп не надорвешь! Он круто повернулся и быстро зашагал обратно к ручью. Шумейкин попытался приподнять ящик. Ну и тяжеленный же, дьявол! А кто, собственно, заставляет его надрываться? Он огляделся: вокруг ни души — и стал выбрасывать рыбу из ящика, приговаривая: «Так-то оно будет полегче…» Не было на самом деле у Шумейкйна никакой мамы из благородных и никакого папы-офицера, драпанувшего за границу. Отца своего он не помнит. Говорят, его в пьяной драке ножом пырнули, вот и откинул копыта. А мать торговала на базаре. Баба она была, как говорили во дворе, оборотистая: там купит, тут продаст — в обиду себя не давала. Ну и сына — тоже. Любила она ого. Глаза могла выцарапать, если что. Побаивались ее соседи. Он рано это понял. И пользовался. Разобьет стекло у кого-нибудь, а матери говорит: зря, мол, на него спихивают. Мать всему верила… Сколько Шумейкин себя помнит, всегда старший давил младшего. Сильный бил слабого. Шумейкин насмотрелся. К ним в дом ходили всякие. Он хоть и шкетом был, а быстро научился разбираться. Если оборванец какой, с ним можно не церемониться — все стерпит. Тем более, если от матери зависит. Еще и на леденцы даст. Только на испуг его надо брать: «Не дашь — милиционеру скажу». Они этого ой как боялись! Много позже Шумейкин понял почему. Ну а уж когда гость был степенный, особенно издалека, с юга, тут только обходительностью и можно было взять. Принести, подать, рассмешить — глядишь, и апельсинчиков получишь и денег. Жить надо умеючи…Комков долго не мог успокоиться. Надо же: Шумейкин за своего принял! «В лагере тебе б цены не было…» По себе, гад, мерит! Дрыхнет на посту. Из-за такого могут все пострадать. Да на фронте за подобные штучки к стенке ставили! Нет, за этим типом определенно нужно присмотреть. Как бы чего не натворил. Даже взявшись снова за работу, Комков продолжал чертыхаться. Уж так его Шумейкин разозлил — просто невозможно. Не выдержав, он снова закурил. Особой радости это ему не доставило. Табак кончился, и они курили сухой мох, смешанный с какой-то травой и листьями по методу Ясуды. Эта адская смесь была удушливой и драла горло. С океана подул холодный ветер. Качнулся пожелтевший бамбук, зашелестел протяжно и недовольно, будто жалуясь на приближающуюся зиму. Комков так задумался, что не расслышал, как его окликнули. И даже потом, когда Семенычев вторично позвал его, до него не сразу дошло, что надо идти обедать. — Там така уха навариста, — радостно сообщил Семенычев, — с одного духу сытый будешь. — Кто готовил-то? Ведь решили сегодня всухомятку. — Сашок же, кто ще така добра душа! Комков был доволен. Нет, не зря он предложил этого парнишку в кашевары. Будто чувствовал, что толковый кок из него получится. Главное — заботливый. Сколько вначале на его бедную голову чертей сыпалось — мама родная! У них на таганрогском пляже камней, наверное, поменьше будет. А теперь ничего: словно их поставили на довольствие в лучший приморский ресторан. Обедали на берегу ручья. Хлебали уху и хвалили. А Сашок слушал и улыбался. Подошел Топтун. Обнюхал сидевшего с краю Галуту и отвернулся. Медведь был любимцем бойцов, и он, словно чувствуя это, ждал лакомства. Кто-то протянул ему рыбу. Медвежонок только недовольно сморщил нос. — Топтун, ко мне! — крикнул Комков. Зверь послушно подошел и улегся у его ног. — Отзывается, — не без удивления заметил Галута. — А что? Разве мы ему плохое имя дали? — спросил Комков. — Очень даже хорошее, — вместо Галуты ответил Сашок. — Теперь нам надо бы дать название острову. — Точно, — поддержал его Комков. — Что это мы на безымянной земле живем? Или фантазии не хватает? — Он вскочил. — Идея, други мои… Объявляется всевзводный конкурс на лучшее островное имя. Жюри ждет заявок. Кто первый? Вы, товарищ младший лейтенант? — Пожалуйста. — Семибратов на секунду задумался. — Предлагаю назвать просто — Советский. — Уже есть, — сказал Сазонов. — Есть такое название в Крыму. Может, Рыбачий? — Тоже не ново, — вмешался Мантусов. — Есть полуостров Рыбачий в Баренцевом море. А вот острова Десантников нет. Давайте? — Кто лучше? — спросил Комков. — А ты, дед Семеныч, что же молчишь? — А шо я?.. Я ще не придумав. Може, остров Больших напастей. Чи не так? Бойцы засмеялись. Дело пошло веселей. Названия посыпались со всех сторон: Красный, Октябрьский, Скалистый… Комков браковал их одно за другим. — Ну а сам-то ты что? — крикнул ему Пономарев. Яшка почесал затылок и неуверенно сказал: — Может, Край света? Ничего вроде? Но и его предложение было отвергнуто. Тогда Семибратов поднялся и сказал: — Вот что, товарищи, митинговать нам некогда — работа ждет. Есть одно, по-моему, очень подходящее название — остров Надежды. Пусть надежда никогда не покидает нас. Ставлю на общее утверждение. Кто против? Принято единогласно. Предлагаю разойтись по местам. Сумерки надвинулись из-за вулкана, заползли сперва в бамбук, потом почернили воду в ручье, спрятали отдаленные скалы. Идя с корзинкой на плече, Мантусов споткнулся и рассыпал рыбу. — Пора кончать, командир, — сказал он. — Люди устали. Лучше завтра пораньше начать. Семибратов согласился. Весь инвентарь Мантусов предложил оставить у ручья. Зачем таскать туда-сюда? — Но тогда здесь придется выставить ночной пост, — заметил Семибратов. — А надо ли? — усомнился Мантусов. — Кто польстится на наши ложки-плошки? — Не забывай, что тут остается изрядный запас свежей и соленой рыбы. Может зверь наведаться. Помнишь случай с медведицей? Комков слышал этот разговор. «Возьмут да Шумейкина поставят, — с раздражением подумал он. — Наряд-то внеочередной, за Шумейкиным грехов немало. А он опять дрыхнуть будет!» — Разрешите мне заступить, товарищ младший лейтенант? — неожиданно даже для самого себя попросил Комков. Семибратов посмотрел на него не без удивления, не понимая, чем вызвала эта просьба. Комков и сам почувствовал неловкость и, чтобы хоть как-то сгладить ее, весело сказал: — Мы с Топтуном подежурим. За компанию. Так веселей, и надежней.
Глава седьмая
Вечерний океан хмур. Таинственно прячет он в сумерки свои взлохмаченные волны. Линия горизонта постепенно исчезает, расплывается в густой синеве. И вот уже нет ни неба, ни воды — сплошная темень, продуваемая холодным ветром. Того и гляди, повалит снег. Сердито гудит прибой во мраке, вызывая ощущение неуютности и удивительной зыбкости мира. После отбоя Семибратову захотелось отдохнуть и подумать о делах сегодняшних и завтрашних. Он вышел на берег и, побродив немного, уселся на небольшом валуне неподалеку от воды, но вскоре озяб и снова зашагал вдоль кромки прибоя. Шел и с удовольствием ощущал под ногами привычную твердость земли. А каково было бы сейчас в океане, подумал он, припомнив недавний спор с Воронцом. Замерзли бы люди и погибли, как говорит Галута, ни за понюшку табаку. Нет, нельзя было рисковать. Риск этот неоправданный, более того — бессмысленный. Сазонов прав: только тот, кто не знает, почем фунт матросского лиха, мог до такого додуматься. Воронец не впервые заводил этот разговор. Он уже предлагал и шлюпку послать и насчет плота попробовать. Но на сей раз Сергей был особенно настойчив и обвинял всех чуть ли не в бездеятельности: они, видите ли, смирились и не проявляют должных усилий для установления связи с Большой землей. Он вбил себе в голову, что неподалеку должны непременно быть другие острова. И некоторые из них наверняка обитаемы. В южной части Курил много разных земель — и больших и малых. «А почему в южной? — спросил у него Мантусов. — Может, нас отнесло к северу». «А растительность? — резонно возразил Воронец. — Курильский бамбук, аралия, жимолость… Такое на севере не растет». «Допустим, — вмешался в разговор Сазонов. Они сидели в канцелярии, весь командный состав, и обсуждали текущие дела. — Но ты имей в виду, — продолжал мичман, — острова тут маленькие, вроде нашего, пять — семь миль в поперечнике. А промеж них — океан. Попробуй угадать направление. Выйти на сушу без приборов практически нет никакой возможности. Обязательно проскочишь мимо». Однако Воронец не сдавался. «И все же мы должны попробовать! — упорно повторял он. — Теперь уже совершенно ясно: нас не ищут. Никто за нами не придет. Можно проторчать тут и год, и два». «Думаешь, не выдержим?» — Мантусов усмехнулся, и по всему было видно, что помкомвзвода думает как раз обратное: выдержим, что бы ни случилось. Они так и не смогли ничего доказать Воронцу. Тот был упрям, эту черту его характера Семибратов хорошо знал. Уж если Сергей что-то надумал, заставить его изменить решение было трудно. Раньше в их спорах иногда участвовала Нина. Правда, и она не всегда могла переубедить Воронца, хотя уже окончила учительский институт и преподавала в вечерней школе. В классе у нее занимались раненые фронтовики, люди вспыльчивые, но она отлично с ними управлялась. А Семибратов был всего лишь желторотым курсантом, постигавшим азы политграмоты. Семибратов был уверен, что Нине Сергей нравится. Тот до армии учился в институте. Да и познакомились они раньше. Однако Нина вдруг беспричинно, так по крайней мере казалось Семибратову, изменила свое отношение к Сергею. Она стала оказывать явное предпочтение его другу. Семибратов остановился и снова услышал громкий гул прибоя в ночи. Ходьба немножко согрела его. Он поднял голову и увидел звезды. Они мигали, точно задуваемые порывистым ветром. Быстро плывущие облака то закрывали, то открывали их. Семибратову вдруг показалось, что над ним вовсе не звезды, а маленькие лампочки, какие развешивались в училище под Новый год. Он танцевал тогда с Ниной, и у него закружилась голова. Странно: никогда не кружилась, а тут вдруг то ли духота подействовала, то ли еще что… Все поплыло перед глазами: танцующие пары, самодеятельный оркестр на эстраде, картины на стенах. Замелькали лица, погоны, прически… Музыка оборвалась, Семибратов остановился, слегка покачиваясь, как пьяный, и молча, с улыбкой посмотрел на Нину. В ее зеленых глазах отражались разноцветные лампочки. «Отпусти же меня!» — Она засмеялась. Семибратов огляделся и увидел, что другие пары расходятся, а они стоят посреди зала, и он крепко прижимает ее к себе. Стало неловко. Он смутился и покраснел. «Понимаю, что не нарочно. — Она опять рассмеялась. — Иначе тебе бы попало. Ишь ты, обниматься на виду у всех. Что Воронец скажет?» Сергей ждал их, стоя у стены, покусывая тонкие губы, бесстрастный, спокойный. Но в самой глубине его зрачков притаилась понимающая усмешка. «Не пора ли перейти к индивидуальным мероприятиям? Ведь увольнение только до трех. Подтверди, Николай», — сказал он. «Ну, еще один танец! — взмолилась Нина. — Не будь таким жестоким, Воронец. Даме надо уступать». Она повернулась к Семибратову, ища поддержки. Но тот промолчал. «Ах, вы заодно! — воскликнула она. — Ну ладно, Николай, припомню я тебе эту мужскую солидарность…» Домой к Нине они, как всегда, шли втроем. Она чуть впереди, а они — на полшага за ней. Нина рассказывала о своих учительских делах. И они еще, помнится, спорили о педагогике. Потом Нина шутливо их отчитала: «Говорите о воспитании, о высоких материях, а у самих нет ни малейшего представления о воспитанности. Вместо того чтобы взять даму под руку, идете по бокам, как конвоиры». «А может, ты и вправду у нас в плену, — пошутил Воронец. — И положение у тебя безвыходное: либо погибай, либо сдавайся на милость победителей». Нина обернулась. В лунном свете блеснули ее белые зубы. «Думаешь, третьего не дано? — спросила она. — А разве в плену нельзя бороться? По-моему, безвыходных положений не бывает». «Ерунду городишь! — с досадой возразил Семибратов. Ему показалось, что она обращается именно к нему. — Сдаваться в плен нельзя. Никогда и ни при каких обстоятельствах». «Ты что разбушевался, Николай? Никто не собирается сдаваться на твою милость. Но если говорить серьезно, то в жизни, в истории есть немало примеров…» «В истории? — возмутился Семибратов. — Ты забыла Шота Руставели: «Лучше гибель, но со славой, чем бесславных дней позор». Так думали люди даже в глубокую старину». Он посмотрел на Воронца, ожидая, что тот скажет. Но Воронец промолчал. Последнее время он все чаще и чаще помалкивал, предоставляя им возможность спорить хоть до хрипоты. Это вызывало у Семибратова неприятное ощущение. Нет, он не хотел, чтобы Сергей был всегда на его стороне, даже из солидарности. Пусть будет против. Есть же у него какая-то своя точка зрения. Так выскажи ее. Чего молчать?! Настроение у Семибратова было испорчено. И хотя он старался не подавать виду, веселья за столом уже не было. Нина танцевала с Воронцом. Она доверчиво положила руку на курсантский погон и, слегка наклонив голову, улыбалась. Во всю щеку у нее горел румянец. Глаза были полузакрыты. Ей, наверно, было очень приятно. «С Сергеем ей, конечно, лучше. Это сразу видно, — ревниво подумал Семибратов. — Да оно и понятно: Серега — парень что надо. И ничего удивительного тут нет. Все правильно. Так и должно быть!» Семибратов вышел в кухню. Там пахло луком и селедкой. Он присел на табуретку. Возомнил о себе бог знает что! А ему дали ясно понять, что третий — лишний. Ну что ж, он может ж уйти. У него хватит сил. Мужчина должен быть сильным. Теплые руки внезапно обняли его сзади за плечи. Нина! Семибратов вскочил. Она прижалась к нему. «Ох и дурной же ты! — В ее голосе прозвучала нежность. — Такой дурной, — повторила она, уткнувшись ему в грудь. — Ничегошеньки-то ты не видишь…» Потом она отстранилась и оглянулась на дверь. «Осторожней… Мы же не одни». Ему стало не по себе. Сергей, конечно, обо всем догадывается. А если и не догадывается, это не меняет дела. Он посмотрел ей прямо в глаза. Их зелень показалась ему прозрачной и холодной. И это как-то сразу отрезвило его. «Быть одному в новогоднюю ночь не очень-то весело», — донесся из комнаты голос Сергея. «Уж не ревнуешь ли ты, Воронец?» — спросила Нина. Фраза прозвучала насмешливо, но Семибратову показалось, что Нина стремится скрыть свое смущение под напускной бравадой. «Выпьем за наступивший Новый год, — предложил Воронец. — Пусть он будет годом нашей победы». Они выпили еще по рюмке, снова завели патефон. Но веселья не получилось. Семибратов вышел из комнаты. Постоял в коридоре, потом решительно снял с вешалки шинель и осторожно оделся, точно боясь кого-то разбудить. Мороз обжег лицо. Воронец догнал его возле училища, пошел рядом. «Ты что взбеленился?» «Нет, Сергей, ты ошибаешься, — сказал Семибратов. — Я совершенно спокоен. Я же все вижу, все! И не надо… Не надо меня обманывать». «Ты пьян, Колька!.. Нет, ты не пьяный, ты слепой! Неужели ты ничего не замечаешь! Она же меня в грош не ставит. А ты… ты для нее все! Хотя, убей бог, не пойму, почему так случилось. Скажи, Николай, ты вообще-то веришь мне?» Воронец вплотную приблизил к нему свое лицо. Темные глаза его расширились. Семибратов почувствовал, что Сергей задает не праздный вопрос. Это волнует, мучает его. И если не ответить искренне… «Верю», — сказал он и сам почувствовал, что интонация у него не та. В ней нет тепла, задушевности, чего ждал Воронец. «Ладно, — сразу погаснув, сказал Сергей. — Пошли, а то опоздаем».Семибратов почувствовал холод. В небе по-прежнему тускло мерцали звезды. Луна так и не показалась. Пора возвращаться в казарму и ложиться спать. Подъем завтра, как обычно, в шесть, потом физзарядка, туалет, утренний осмотр. Кое-кому не нравится, что он так педантичен. Ворчат: дескать, зачем? Неужели нельзя обойтись без придирок? Ведь не на парад собрались. Но Семибратов был уверен: без требовательности нельзя! Жесткий распорядок дисциплинирует людей. Они чувствуют себя в строю. И это заставляет их быть собранными, в любой миг готовыми к действию. Воинское подразделение не может жить иначе. В казарме было тепло и тихо. Бойцы уже спали, И лишь в канцелярии горела коптилка. Керосин давно кончился, и Сазонов вместо лампы приладил светильник. Коптилка заправлялась нерпичьим жиром. Семибратов еще долго не мог заснуть. Потушив светильник, он лежал в темноте, прислушиваясь к шуму океана и улавливая в нем величественный ритм. Заботы снова одолели его. Но ему не хотелось ни о чем думать: ни о заготовке продуктов, ни о теплой одежде, ни об освещении. Полежать бы просто так, помечтать, вспомнить что-нибудь интересное, приятное. Но даже и этого не хочется. Видно, слишком устал. Думы, думы, тяжкие командирские думы… Он уже начал дремать, когда раздались выстрелы. Первым вскочил Мантусов. — Подъем! — крикнул старший сержант. — Тревога! Вооружившись, десантники выскочили из казармы. — У ручья вроде стреляли, — сказал Семибратов. — Там Комков, — отозвался Мантусов. — Этот шум зря подымать не будет. Поспешим! Они нашли Комкова у самой воды. Он лежал ничком и тихо стонал. Автомата при нем не было. Комкова приподняли. Он открыл глаза. — Что случилось? — Семибратов склонился над ним. — Где оружие? Комков поморщился, потрогал рукой разбитую голову. — Вот же гад! Стою… Слышу, вроде что-то шуршит… — Он говорил с запинкой. — А тут еще Топтун, как на грех, куда-то смылся. Я туда-сюда, никого… Успокоился. И тут меня сзади по голове как тюкнут… Глаза на лоб полезли. — Ну а дальше-то что? — спросил Галута. — Помню, успел спуск нажать… Десантники обшарили вокруг все заросли, но никого не нашли. Семибратов приказал прекратить поиски и построить взвод. — Враг теперь вооружен, — сказал он. — И нам надо быть особенно бдительными, готовыми ко всему. Посты удвоить. Спать не раздеваясь. Автоматы держать при себе. Взвод должен находиться в боевой готовности.
Постепенно в казарме снова установилась сонная тишина. И лишь Сашок не смыкал глаз. Он не мог позволить себе заснуть. А вдруг что случится? Его удивило поведение Ясуды. В суматохе, когда все кинулись к ручью, на Ясуду никто не обратил внимания. А зря. Нетрудно было заметить, что японец не просто взволнован. У него определенно недоброе на уме. Увидев окровавленного Комкова, он начал что-то зло шептать. Сашок это сразу заметил. Он глаз не спускал с японца и не отходил от него ни на шаг. Конечно, надо было бы доложить обо всем командиру, но Сашок постеснялся. Вдруг вообразил бог знает что. А на самом деле ничего такого и нет. Над ним уже и так подсмеиваются. А разве он виноват, что возраст у него такой?.. Да и не молодой он вовсе. Полных семнадцать есть. Не зря же его в армию призвали — Родину защищать. А на фронте и помоложе воевали. Чем он хуже? Сашок решил сам последить за Ясудой. Может, это даже лучше. Японец, ни о чем не подозревая, будет действовать менее осторожно, и его легче выследить. А вдруг с ним придется схватиться в открытую? Один на один? Что же, Сашок согласен. Пусть все увидят, что он не трус. Лежа в своем углу, Сашок напряженно прислушивался. Не исключено, что японец воспользуется темнотой и попытается скрыться, чтобыприсоединиться к своим. Ясуда всегда казался ему подозрительным. Теперь Сашок был почти уверен, что японец задумал неладное. Поэтому спать нельзя. К тому же сегодня душно, просто дышать, нечем. Как тогда, в запасном полку перед отправкой. Их набилось в казарму человек двести, если не больше. Лежали вповалку. Прямо на полу. Каждый день на запад уходили эшелоны. Но отправку их партии почему-то задерживали. Они уже неделю жили в казарме, почти не выходя из нее. На улице шел снег, мокрый и липкий, как раскисшее мороженое. Дул сырой ветер. Сашок каждый день после завтрака уныло брел к воротам. Он часами простаивал здесь и ждал. Смешно, конечно: другие ждут жен, невест, девчонок, а он… маму. Стыдно даже кому-нибудь признаться. Но что поделаешь, если это так? Не было и нет на свете человека для него дороже, чем мама. Накануне того дня выдали сухой паек. «Шабаш, — сказал старшина. — На этом моя миссия заканчивается. Теперь вы переходите под другое начало…» Ночью их подняли по тревоге. Прозвучали отрывистые команды. Распахнулись ворота. Колонна нестройно двинулась вперед. У ворот толпились родственники и друзья новобранцев. И откуда они только разузнали об отправке? Сашок опустил голову. Его никто не провожает. Неужели мама в ночной смене? Но ради такого случая разве ее не отпустили бы? И вдруг он увидел маму. Она стояла в толпе провожающих и, кажется, даже не плакала, а просто смотрела на него. Он боялся увидеть ее слезы. Тогда будет еще хуже… Их погрузили в вагоны. Застучали колеса на стыках рельсов. Навстречу поезду из сумрачного рассвета побежали телеграфные столбы. Эшелон уходил на восток… Сашок проснулся, как от толчка. Торопливо приподнялся и посмотрел в угол. Уже рассветало. Ясуды на месте не было.
Глава восьмая
Глаза Ясуды быстро привыкли к темноте. Теперь он шел, не спотыкаясь и не сворачивая. Ясуда был уверен, что Хасимото скрылся неподалеку, наверное, в той пещере, которую они когда-то нашли на занятиях по тактике у подножия вулкана. Бамбук расступился перед ним, слегка потрескивая под тяжелыми гета[6]. Спать совсем не хотелось. Киити Ясуда привык вставать затемно. Рыбаки выходили в море еще ночью, чтобы на рассвете сделать первый замет. Ранним утром хорошо идет рыба. Недаром у них в поселке говорили: рыбак не поспит — улов будет. А братья Ясуда считались в Раусу удачливыми рыбаками. Они почти никогда не возвращались без улова. Их «Сидзи-Мару» была отличной шхуной. В начале войны за нее предлагали большие деньги. Яда и Тацу уговаривали Киити продать судно. Все равно им скоро идти на войну — защищать бога-императора и великую Японию. Но он не согласился. Что за рыбак без шхуны! А слово старшего брата было законом. Рассвет выполз из океана и побелил горизонт. Ночь отступала неохотно. Темнота цеплялась за скалы, таилась в расщелинах. На сопках уже совершенно светло, а в зарослях, как в хихете[7] с занавешенными окнами, пряталась темнота. Наконец небо на востоке стало розовым, точно лепестки хаманаси. Ясуда любил хаманаси. В Раусу можно любоваться ими уже в сентябре, когда лето особенно теплое. Матово-алые лепестки и такие же красные, только отливающие глянцем, плоды хаманаси встречаются на каждом шагу. Идешь по дороге вдоль изгороди, а над тобой большие яркие плоды, похожие на сплюснутые шарики, вырезанные из дерева. Их особенно много по пути на кладбище. Братья пошли туда, на могилу отца, перед уходом Яда и Тацу в солдаты. Надо же сообщить покойнику, что ты расстаешься с Раусу и теперь долго не сможешь навестить его. Яда принес с собой ароматические палочки и глиняный кувшин с водой. Тацу захватил цветущую чайную ветвь. Киити держал в руках большой пирог с бобовой начинкой. Все как положено по обычаю при разговоре с дорогим покойником. Однако попрощаться как следует с отцом они не смогли. На кладбище появились солдаты. Низенький кривоногий офицер с тонкими усиками объявил братьям, что отныне этот район — запретная зона и ходить тут можно только по пропускам, выданным в префектуре. Братья вернулись с кладбища подавленными. Отец наверняка теперь рассердится и не даст им своего благословения в далекую и опасную дорогу. Но Аматерасу[8] свидетель, они в этом нисколько неповинны. Вечером братья пили сакэ[9] и последний раз плясали в трактире «Ясуки». Они танцевали все свои любимые танцы. Особенно искусно получалось это у Яда. Легкий, изящный, как цветок сакуры[10], он танцевал стремительно и весело. Даже красавица Тосико загляделась на него. Она была отличной танцовщицей, и все парни в Раусу вздыхали по ней. Не уходи Яда в солдаты, может быть, и подарила бы очаровательная Тосико ему свою любовь. Сладка, говорят, любовь у Тосико, слаще хмельного тосо[11]. Но Яда не обращал внимания на пламенные взгляды Тосико. Он уходил воевать за бога-императора и великую Японию. Не знал тогда Киити, что больше не увидит ни Яда, ни Тацу. Не мог предполагать, что в страшном огненном пекле Окинавы вместе с его братьями найдут свое вечное успокоение десятки тысяч сынов Страны Восходящего Солнца. Киити забрали в солдаты прямо со шхуны. Не дали времени попрощаться даже с матерью и сестрами. А куда было спешить — непонятно. Их потом неделю держали в казарме. «Сидзи-Мару» осталась у причала без хозяина. Теперь на ней уже некому было ловить рыбу. Ясуда тогда пожалел, что не послушался братьев и не продал шхуну. Были бы теперь у матери в запасе иены на черный день. Его, конечно, могла бы отпустить, чтоб совершить торг. Их лагерь был недалеко от Раусу. Но разве Хасимото отпустит? Стоило только Ясуде заикнуться о поездке домой, как лейтенант вышел из себя и стал кричать на него. Командир верноподданного взвода, как прозвали Хасимото в полку, невзлюбил Ясуду с самого начала. Когда их обучали ружейным приемам и при этом заставляли непременно кланяться на восток, он сказал: «И кто только придумал это? В других же взводах так не делают». Про непочтительные речи солдата второго разряда Киити Ясуды в тот же день доложили Юти Хасимото. Лейтенант вызвал солдата и заорал: «Если ты, паршивый осел, проникнешься уважением к нашему воинскому уставу, то поймешь всю прелесть поклона, обращенного к императору! И только тогда тебя охватит безграничный восторг!» Три месяца Хасимото учил их стрелять, колоть штыком врагов бога-императора и великой Японии. Три месяца вдалбливал в их головы, что умереть, выполняя священную волю императора, значит, сразу переселиться в лучший из миров. Потом некоторым солдатам дали на погоны по второй звездочке: они стали рядовыми первого разряда. Ясуда, конечно, не заслужил, этого. Он был плохим солдатом. Ему даже увольнения не полагалось. Поэтому все новости из дома он узнавал случайно. Перед отправкой на Курильские острова Ясуде передали, что младшая сестра стала гейшей. Весть ударила его в самое сердце. Маленькая веселая Тори… Ведь ей всего пятнадцать, несозревший плод хаманаси… Куда же смотрит бог-император и богиня Аматерасу? Как они могли такое допустить? Он пошел к лейтенанту Хасимото, на коленях просил дать увольнение. Но Хасимото возмутился: «Разве у безмозглого болвана, не испытывающего должного уважения к воинскому уставу, может быть порядочная сестра?» Он предложил бы ей место в солдатском доме развлечений. Там есть вакансии… Уж лучше бы он его ударил, чем сказал такое! Ясуда не мог ответить, как ему хотелось, и только с ненавистью смотрел в бледно-желтое от опиумных сигарет лицо Хасимото. Лейтенант, должно быть, заметил мелькнувшую в глазах Ясуды злобу и потому, вскочив, закричал: «Ну, ну, болван! Пошел вон!»Ясуда шел сейчас сквозь заросли бамбука и снова думал о тех страшных словах лейтенанта. Навстречу Ясуде вставал розовый рассвет, похожий на плоды хаманаси. Только хаманаси еще красней. Как флаг у этих русских. Они его поставили на самом вулкане. Зачем? Непонятно. Сам русский офицер лазил туда. Будто нет у него солдат. Чудной он какой-то, Ну кто увидит этот флаг? Никого тут нет. И еще долго не будет. Хасимото им объяснял: кругом океан. И пароходы плавают далеко-далеко, не увидят их, а значит, не помогут. Даже если кадомацу[12] будет весь год висеть над входом в казарму. Странные все эти русские. Странные и добрые. Кормят, одежду дают. Не бьют и совсем ничего от него не требуют. Он иначе представлял себе врагов бога-императора и великой Японии. Его учили: чем сдаваться в плен — лучше харакири, сразу вознесешься на небо… Видит бог, он стрелял из арисаки до последнего патрона. Потом бросился с ножом на русских. Но сделать харакири… Этого Ясуда не мог. Рука не поднималась. В конце концов он же не самурай, а всего лишь простой рыбак. Но он все равно ждал смерти, потому что русские убивают пленных — так им говорили всегда… Но они не тронули его. Наоборот, дали рис, рыбу. И Хасагаве помогали. Яша-сан[13] лечил его, лекарства давал. Ясуда любил Хасагаву. Они вместе были рыбаками в Раусу, потом вместе солдатами. Яша-сан не виноват, что Хасагава все-таки вознесся на небо. Ясуду многое удивляло в русских, Между собой они никогда не ругались. Работали все одинаково. Часто смеялись. И солдаты совсем не боялись офицера. Тот ни на кого не кричал, никого не бил, а его все равно слушались. Странно… Офицер был как бы «ани-сан» — старший брат. Его уважали. Но самый добрый это, конечно, Яша-сан. Он к Ясуде относится как к своему: учит говорить по-русски. А какой он веселый! Будь проклят Хасимото! Ну что плохого сделал ему Яша-сан? Утро затопило заросли солнечным светом. Широкие, с прожилками листья бамбука стали прозрачно-зелеными, как море возле Раусу в хорошую погоду. Ясуда спешил. Поздно уже. Вот и место, где Хасимото напал на Яшу-сан. Кровь на земле… Дальше Ясуда шел по следу. След был еле заметен в густой пожелтевшей траве. Местами исчезал совсем, но потом появлялся снова. Ясуда еще не знал, что он скажет Юти Хасимото, когда найдет его, но слова придут сами… Солнце высушило траву, поднялось над вулканом, выгнало из расщелин мошкару. Мошкара лезла в глаза, в рот. Ясуда не обращал на нее внимания. Почва стала каменистой, и след исчез. Ясуда остановился и неожиданно увидел Хасимото. Тот сидел, поджав под себя ноги, и ел сырую рыбу. Руки его тряслись. По заросшему рыжей щетиной подбородку сползала красная икра. Одежда висела клочьями. В ней трудно было узнать мундир офицера императорской армии. Увидев Ясуду, Хасимото поднялся. Воспаленные глаза его побелели. — Ты?.. Ты — предатель, паршивая свинья! Хриплый голос лейтенанта напомнил Ясуде три долгих месяца издевательств и унижений. «Безмозглый болван», «осел», «идиот»… Ясуда до смерти не забудет этих слов, хлеставших больнее, чем кнут. И еще не забыть ему маленькую Тори, которая стала гейшей. Он ничем не смог ей помочь, потому что Хасимото не отпустил его… Все перемешалось в голове Ясуды. Он шагнул вперед и совсем близко увидел бледно-желтое прыщавое лицо, искаженное ненавистью и презрением. Ясуда хотел что-то сказать, но Хасимото не стал его слушать. Он размахнулся и ударил Ясуду по лицу. — Убить тебя мало, свинья! Ясуда отшатнулся. Он не хотел ничего плохого — так уж получилось. И толкнул-то он Хасимото легонько. Но тот споткнулся и упал. Вскочил, разъяренный. Губы его дрожали от злости. Ясуда увидел, как он лихорадочно дернул затвор автомата, и понял, что сейчас произойдет. На миг ему стало страшно. Но он не отступил, не упал на колени. Коротко ударила очередь. Ясуде обожгло правый бок. Но он все же успел броситься вперед и схватиться за автомат. Падая, Ясуда что есть силы дернул оружие на себя. Автомат выскользнул из рук Хасимото. Ясуда нажал на спуск. Снова пророкотала автоматная очередь. Ясуда услышал, как громко закричал Хасимото. Потом наступила блаженная тишина. Небо опрокинулось и пошло куда-то в сторону. Ясуда почувствовал, что ему жарко и спокойно. «Ну вот и все», — устало подумал он и закрыл глаза.
Японского офицера закопали в небольшом распадке и сверху засыпали камнями. Таскавший по распоряжению Мантусова камни Пономарев недовольно ворчал. А когда работа была окончена, он вытер рукавом потное лицо и сердито сплюнул, подражая Шумейкину. Прибыв одновременно во взвод, они так и держались особняком. Их часто можно было видеть вместе. Но отношения между ними сложились странные. Шумейкин обращался с Пономаревым снисходительно, покровительственно. А тот принимал это как должное, не возражал и даже внешне старался походить на своего дружка. Пономарев был скрытен. Сам он почти никогда не высказывался: обычно молча слушал других, и на лице его частенько появлялось какое-то недоверчивое выражение — словно он заранее подозревал собеседника в том, что тот говорит неправду. Временами губы его трогала язвительная ухмылка, которую он, впрочем, старался тут же подавить. Семибратов неоднократно беседовал с Пономаревым. Он уже знал, что тот уралец, окончил семилетку, был почтовым работником. Но эти данные мало о чем говорили. Если с другими бойцами Семибратов легко находил контакт, то Пономарев во многом оставался для него загадкой, которую еще предстояло решить. — Носилки готовы, — доложил Мантусов. — Можно нести, командир? — Как вы считаете, выживет Ясуда? — Ранение тяжелое, в живот… Бойцы бережно приподняли раненого. Он пришел в себя, слабо застонал. Сазонов наклонился к нему. — Как чувствуешь себя, Ясуда? Японец не отозвался. Он не понял мичмана, но услышал участливые интонации в его голосе. Боль немножко поутихла, и на душе стало спокойно. Мягко покачивались носилки, и мысли плыли так же неторопливо, будто в замедленном танце. Брат Яда умел так танцевать — не спеша, плавно. Теперь Ясуда, наверное, скоро встретится с ним. И уже кто-то другой, наверное мать, принесет на его могилу ароматические палочки, глиняный кувшин с водой, цветущую ветвь чайного дерева и большой пирог с бобовой начинкой. Ясуда любит такие пироги… А небо над головой солнечное. И не голубое, а розовое. Как лепестки хаманаси. Только чуть-чуть бледней. Будто на него набросили легкое прозрачное хаори[14]…
Десантники спустились к подножию вулкана и медленно направились к лагерю. Двое несли раненого Ясуду, остальные гуськом двигались следом. Шли молча. Напряжение, в котором жили люди все последние дни, ожидая нападения, спало. Теперь опасности больше не существовало. И каждый испытывал облегчение. Галута шел позади всех. Задумавшись, он немного отстал. Мысли ворочались медленно. Галута всегда был тугодумом. Он не терпел спешки. Уж если решать какие-то серьезные вопросы, то не суетясь, основательно, так, чтоб раз и навсегда. Он тоже был рад, что все кончилось благополучно и отныне можно ходить по острову без опаски, как по родной палубе. Никто уже не всадит тебе нож в спину. Смущало его другое: почему мичман так внимателен к этому японцу, будто тот ему сват или брат? Беспокоится: «Выживет ли?» А давно ли этот «сват-брат» стрелял в Галуту? И запросто мог отправить на тот свет. Так в чем же тут дело? Никак это до Галуты не доходит. Неужто он действительно, как та баржа, задний ход дать не может? Так когда-то про него старпом говорил. Язык у того был что бритва, но мужик мировейший! Это он помог Галуте найти сына. Галута уже не надеялся. Бывшая его женушка третьим мужем обзавелась и жила под другой фамилией. Не сыскать бы ее Галуте ни за что, не будь старпома. Как увидел Коську, аж похолодело внутри. Ну до чего ж пацан на него похож, жуть! Особенно нос, огромный, как румпель. Во всем Владивостоке, наверное, не найдешь другого такого. И потом походочка! Идет вперевалку и покачивается, как в море лодочка. Вылитый отец. Ну как тут не расчувствоваться? С тех пор Галута часто бывал у сына. Возвращаясь из рейса, он привозил Коське диковинные ракушки, китовые усы, моржовые клыки и много разных подарков. Сын ждал его. Всякий раз они подолгу гуляли по городу. Постепенно у Галуты крепла мысль забрать сына к себе. Он не знал еще, как к этому отнесется его бывшая жена. Но ему почему-то думалось, что она не будет особенно сопротивляться. Тем более что ее новый муж, как успел заметить Галута, детей не любил. Однако тут нельзя было пороть горячку. Галута вытребовал в пароходстве комнату. Купил гардероб с зеркалом, диван и кровать. Потом отыскал в родной деревне старушку, свою двоюродную тетку, и перевез ее во Владивосток: надо же кому-то за пацаном приглядывать в его отсутствие. В первые же дни войны Галуту призвали на флот и определили рулевым на боевой корабль. Ничего на свете не боялся Галута. Мог хоть черту на рога полезть. Потому как в жизни все равно один раз концы отдавать. А тут не то чтобы бояться стал, нет! Дрался как надо. Две боевые медали имеет. Но все же действовал поосмотрительней. По прежним-то временам мог в драку очертя голову броситься. А теперь нет. Понял, что голова-то еще может пригодиться. Она на то человеку и дана, чтобы думать… Не хотелось ему осиротить сына. Хватит того, что сам без батьки вырос. Надеялся Галута, что вернется. Непременно вернется! И заживут они вдвоем с Коськой. Никого им больше не надо. Уж он-то сделает из сына настоящего моряка! Галута посмотрел на носилки, на которых лежал раненый Ясуда, и неожиданно подумал: «А ведь и со мной так могло бы случиться. Не вернулся бы тогда с войны матрос Галута. И Коська уже никогда не увидел бы отца. Потому как у того гада в руках был добрый русский автомат, а он бьет без промаха… Что ж это получается? Если бы не Ясуда, пуля вполне могла найти рулевого Ивана Галуту… И выходит, мичман прав: Галута тоже может сказать спасибо этому Ясуде». Он догнал носилки, некоторое время шагал рядом. Потом подошел к Касумову и грубовато сказал: — Устал, поди… Дай-ка я подменю.
Глава девятая
Ночью Сазонов проснулся от какого-то легкого покачивания, Ощущение было такое, как перед выходом в открытое море, и потому вызывало смутное беспокойство. Сазонов полежал немного, прислушиваясь: в казарме стояла сонная тишина. Из канцелярии доносилось похрапывание. Сазонов невольно улыбнулся. Вот дает Мантусов! Каково-то командиру спать рядом! Такое «музыкальное сопровождение» кого хочешь разбудит. Впрочем, командир молод: нервы у него крепкие. Сазонов в его годы мог спать под орудийную пальбу. Да и сынов, бывало, не добудишься, особенно младшего. Семибратов чем-то похож на него. Нет, не внешне. Внешне этот поплотнее будет. И выше. Да и в плечах, пожалуй, пошире. А вот волосы такие же — темные, жесткие. Лейтенант их под фуражку прячет, а они не слушаются. И манера говорить у них похожая. Сын так же внимательно слушал собеседника и, если был несогласен, хмурил широкие брови и поджимал по-мальчишески пухлые губы. Когда его зря задевали, он смотрел в упор и отвечал резко и откровенно, нисколько не заботясь о том, какое впечатление произведут его слова. Семибратов точно такой же. Если он считает себя правым, не уступит ни за что и говорит тогда жестко, решительно, отметая все сомнения и возражения. Вчера, когда они заспорили, он именно так и сказал: «Порядки у нас воинские, определенные уставом. И нечего тут мудрить! Положен трехсменный пост, о чем еще разговор?» Речь зашла о том, чтобы уменьшить наряд во взводе. После смерти японского офицера уже прошло полторы недели. На острове стало спокойно, и Сазонов предложил сделать посты двухсменными, выставляя их только ночью. Днем-то зачем? Все имущество у них и так перед глазами, присмотрят. «По-граждански рассуждаешь, Трофим Игнатьевич», — сказал Семибратов. «Нет, командир, по-человечески, — возразил задетый Сазонов. — Людям отдых нужен». Семибратов поджал губы и посмотрел на него в упор. «Выходит, ты, комиссар, — настоящий человек, о бойцах заботишься, а я формалист, мне эта забота ни к чему?» Сазонов не хотел обижать Семибратова. «Прости, ежели что не так сказал, — уступил он. — Но ты меня не понял». Семибратов неожиданно улыбнулся. Эта привычка у него появилась недавно. Хмурится-хмурится, скажет резко, а потом, очевидно, поймет, что лучше объяснить спокойно, чем приказывать, и сразу подобреет, улыбнется, заговорит мягко. «Не нужно извиняться, Трофим Игнатьевич. Мы с тобой должны говорить напрямик. И если я буду неправ, поверь, постараюсь признать это. Но сейчас не могу. Так, как ты, рассуждают многие во взводе. Думают, что суть только в охране имущества. А все гораздо сложнее. Как тебе это объяснить?..» Он очень хотел, чтобы его поняли. И Сазонов уловил мысль командира. Человек военный привыкает к определенному образу жизни, создает для себя какие-то незыблемые правила. И если их нарушить, то он может подумать: значит, это необязательно. А потому необязательно и многое другое. «А ведь он прав, — думал Сазонов, уже засыпая, — даже очень прав. Кроме того, нужно вести постоянное наблюдение за океаном, за воздухом. Вдруг корабль, самолет… Нет, трехсменный пост, конечно, нужен…» Беспокойство, овладевшее Сазоновым, исчезло. Померещились ему эти подземные толчки. Не стоит об этом зря болтать, чтобы люди не волновались. Утром, когда они выбежали на физзарядку, Сазонов пристально посмотрел на океан. Он рокотал приглушенно, точно сдерживая себя, накапливал ярость. Так рокочет гром, когда гроза еще только приближается. Молний не видно, они где-то за горизонтом, но раскаты грома звучат уже протяжно и недобро. Мелкие, подвижные, как мехи гармоники, волны катились по заливу и часто-часто били в скалы. Пена на гребнях сплеталась в причудливую вязь, шипя, набегала на песок. После завтрака Семибратов распорядился снимать с шестов провяленную рыбу и сносить в грот, где размещался у них продовольственный склад. — На всю зиму хватит! — радовался Семенычев. — Запасец, як у моего батьки. Он дюже запасливым человеком был. Гвоздик ли, подковка на дороге лежит — не пройдет мимо, в карман сунет. И чего тильки в его карманах не було… — Ты в него, дед, пошел, — заметил Пономарев, работавший с ним в паре. — Тебе бы завхозом быть. Глядишь, и себе чего-нибудь перепало бы. Верно? Семенычев посмотрел на Пономарева и не ответил, продолжая складывать вяленую рыбу. Ставший свидетелем этой сценки, Семибратов глянул на казака. Лицо того было хмурым, усы сердито топорщились. «А ведь он не любит Пономарева», — подумал Семибратов. Ему припомнился один разговор с Семенычевым. Напрямик тот, правда, ему ничего не сказал, но дал понять: «У нас в станице ось як говорят, командир: коли ты добрый казак, лиха про себя не таи, на миру бедовать лучше, а коли таишь да про запас камень держишь за пазухой — добра не жди…» Семибратов постеснялся его расспрашивать, но сейчас до него вдруг дошло, на что намекал старый казак. Пономарев скрытен. И это уже само по себе неприятно. Когда человек что-то таит, поди узнай, что у него на уме… Впрочем, он, может, зря так думает. Разные обстоятельства бывают у людей. Под их воздействием формируется характер. Хмурый человек не обязательно злой. Но даже в самом плохом человеке всегда есть что-то доброе. Надо только это доброе разглядеть. Семибратов проверил укладку рыбы и вышел из грота. Решил еще проверить, как подвигается заготовка дров, которой заведовал Шумейкин. Потом, конечно, проведать Ясуду. Его очень беспокоило состояние раненого. Японец не приходил в сознание. Ему было худо, несмотря на все усилия Комкова. Тот почти не отходил от него. Молодец он все-таки, Яшка Комков! Вот уж кто ничего не таит в душе… Помнится, еще вначале Семибратов сказал ему: «Вы приглядывайте за этим японцем. Как бы беды не натворил». Комков засмеялся. «Что вы, товарищ младший лейтенант! Он же нашенский, старая просоленная рыбацкая камбала! Вы гляньте на его руки. Все ж в мозолях…? Часовой у казармы приветствовал командира. Это был Рахим Касумов. Семибратов козырнул в ответ. Он любил, когда четко исполнялись воинские ритуалы. Как-то они поспорили с Сазоновым по этому поводу, и Семибратов объяснил ему свою точку зрения. Воинское подразделение, где бы ни находилось и в какие бы условия ни попало, должно жить по строгим армейским законам. Только тогда будут и дисциплина и порядок, только тогда люди смогут выстоять в любой беде. Семибратов поправил пистолет на поясе и полез вверх по склону. Но в этот момент его остановил громкий крик часового: — Гляди! Гляди!.. Занятые работой десантники не смотрели на океан, но Касумов стоял на посту и не мог не заметить странного явления. Вода медленно отступала от берега, обнажая мшистые, скользкие рифы. Между камнями судорожно билась очутившаяся вдруг на суше рыба. Тут же виднелись диковинные морские звезды, губки, ракушки, даже кальмар… Там, где еще минуту назад пенился прибой, теперь было почти сухо. Лишь мутные лужи, оставшиеся в выемках между рифами, напоминали о том, что тут было дно океана. — Мама родная, куда ж это море-океан двинулось! — воскликнул появившийся на пороге казармы Комков. Он удивленно смотрел вперед, машинально поправляя на голове грязную повязку. Рана его уже почти зажила. Из-за скалы выскочил Галута. Квадратное лицо его было серым, в глазах застыл испуг. — Цунами! — крикнул он. — Спасайся, братишки! Скорей на скалы! Только тут Семибратов понял, что им грозит. Цунами! Он читал об этом. Гигантская морская волна. Результат землетрясения в океане. Сокрушает все на своем пути. Что же будет? В следующую секунду он уже овладел собой и громко скомандовал: — Тревога! Всем укрыться на скалах! Десантники бросились к скалам. Подсаживая друг друга, люди лезли по почти отвесной стене, обдирая в кровь руки и ноги. Важно было одно: скорее! Скорее наверх! Никто не обратил внимания на Комкова, который вместо того, чтобы бежать к скале, вдруг нырнул в казарму и лишь через минуту появился на пороге. На плечах у него был Ясуда. Яшка бежал тяжело, споткнулся, чуть не упал, но на помощь ему бросился Мантусов, потом Галута. Втроем они подхватили Ясуду и быстро полезли по крутым уступам. Семибратов карабкался вместе со всеми по скалам, подбадривая бойцов. Он добрался почти до верха, но вдруг остановился: «А как же оружие?» — Назад! — крикнул он. Голос сорвался. — Взять автоматы! Сазонов еле успел схватить его сзади за ремень. — С ума сошел, командир! Гляди! Из-за далекого горизонта поднялся океан. Встал на дыбы. Высокой мутной стеной пошел на берег. Тишина. Страшная, звенящая тишина… Водяной вал рос на глазах, ширился, надвигался. Чем ближе к земле, тем выше, темней, пенистей. Волна достигла берега. И тогда раздался грохот. Не шум, не гул, а именно грохот, в котором потонули все другие звуки. Вода стремительно перекатилась через гранитные валуны у линии прибоя, пробежала по песку и накрыла казарму. Потом как-то вздыбилась и с огромной силой ударила в скалы. Вверх взлетели каскады брызг. Дрогнула, загудела земля. Волна отхлынула через мгновение. Берег вокруг оказался пустым. На нем не было даже камней, но казарма еще стояла. Скособочившись, без крыши, без двери, без крыльца, она смотрела в океан пустыми глазницами окон. — Может, там еще что-нибудь осталось! — с надеждой воскликнул Мантусов. Он было бросился вниз, но на его пути встал Галута. — Нельзя! Возвратная волна! Мантусов попытался отстранить его, но Семибратов положил ему сзади руку на плечо. — Отставить! — устало сказал он. — Поздно. На горизонте снова вспух океан. На миг застыл, будто не решаясь двинуться дальше. Жалобно заскулил Топтун. Волна снова медленно прошлась по берегу. Еще раз основательно тряхнула скалы. Недовольно ворча, так же неторопливо отступила. Ровный, без единой морщинки песок лежал там, где еще совсем недавно стояла казарма, подальше торчали огромные гранитные валуны, а между ними виднелась чудом застрявшая шлюпка… Десантники ошеломленно смотрели на пустой берег. Случившееся не укладывалось у них в голове. Потом раздался сдавленный голос Комкова: — Что же это такое, мама родная! Такая беда! И человека не стало… Сазонов подошел к Комкову и, посмотрев на Ясуду, стащил с головы бескозырку. Потом наклонился и осторожно, точно боясь потревожить японца, закрыл ему глаза.Последствия цунами оказались более чем печальными. Десантники лишились не только жилья. Пропали их одежда, оружие, инструменты, почти все запасы продовольствия, которые заготовили на зиму. Вода залила грот, где хранились продукты. Пострадали и запасы соли, спрятанные в расщелине. Во взводе остался один автомат, тот, что был у часового, сорок патронов к нему и пистолет с двумя заряженными обоймами.
Ясуду похоронили на берегу. Молча постояли над могилой с обнаженною головою. Затем Мантусов построил взвод и доложил Семибратову, что все бойцы налицо. Семибратов посмотрел на солдат. В обтрепанных гимнастерках и драной обуви, они стояли перед ним и ждали. С какой-то особой остротой он почувствовал, что люди ему верят, и от того, что скажет сейчас им командир, зависит многое. Что же нужно сказать? Как найти слова, которые поддержали бы, вдохнули веру, помогли сохранить надежду? Надежду на жизнь. Пусть немного — пятьдесят, двадцать, даже десять процентов… Он согласен и на это, если только надежду можно мерить процентами. Семибратов почти физически ощутил ответственность, которая, казалось, тяжелой глыбой легла ему на плечи. — Товарищи бойцы, — глуховато начал он, — мы с вами оказались в очень трудном положении. — Помолчав, младший лейтенант продолжал уже более уверенно: — Но наш долг, долг советских воинов… Семибратов говорил, чувствуя, что слова его плохо доходят до сердец стоящих перед ним людей. Видно, он, их командир, не сумел ярко и точно выразить мысли и чувства, которые владели им. Ведь он верит. Верит в своих бойцов, в их разум, мужество, сплоченность. Без этого нельзя в борьбе. Без этого не выстоять. А они обязательно должны выстоять до конца, чего бы это им ни стоило! И все же его поняли. Поняли даже то, что хотел он сказать, да не сумел. Лучше всех это выразил немногословный Мантусов. Когда Семибратов, замолчав, обвел взвод вопросительным взглядом, старший сержант кашлянул и пробасил: — Все ясно, командир. Начнем сначала. Приказывай. Строй одобрительно загудел. И Семибратов так же буднично, словно ничего не произошло, проговорил: — Начнем. Жить будем в пещере…
Вечер укутал побережье в холодный туман. Глухо, протяжно и тоскливо гудел океанский прибой. — Ось як жалостно реве, — заметил Семенычев, прислушиваясь. — Когда жрал все наше хозяйство, жалости у него не було. Он пытался зажечь фитиль от своего кресала, но искры сыпались веером, а фитиль не загорался. — Ослепительно яркого света, други мои, как видно, не будет, — констатировал Комков. Десантники перенесли в пещеру оставшиеся пожитки и разместились кто как мог. В пещере было сухо, пахло плесенью. Под сводами гулко раздавалось эхо. — Дай-ка мне, Семеныч, — не выдержал Мантусов. — Разжечь надо. — Хиба ж я не знаю, — обидчиво возразил Семенычев, но кресало послушно отдал помкомвзвода. Однако и у Мантусова ничего не получалось. Его усилия разжечь огонь тоже сопровождались репликами Комкова: — Первобытный пещерный огонь всегда добывался в муках. Эх, жаль, пропал мой шикарный певучий инструмент. Я сейчас пропел бы вам торжественный гимн в честь победителя над мраком неизвестности! Фитиль все-таки затлел. Галута протянул Мантусову сухой мох. Вскоре в пещере весело потрескивал огонь, бросая на неровные своды багровые отблески. На углях испекли рыбу и молча поужинали. Семибратов распорядился выставить часового у входа и скомандовал «отбой». Через несколько минут в пещере наступила тишина. И тогда стало слышно, что пошел дождь. Он стучал монотонно, постепенно усиливаясь. Семибратов поежился, становилось холодно. Он подумал, что надо бы часовому в такую погоду разрешить укрыться в пещере. Хорошо, хоть у них есть крыша над головой. Иначе было бы совсем худо. Повернувшись на другой бок, Семибратов вдруг почувствовал сырость, пощупал чуть дальше — опять вода. — Братцы, тонем! — крикнул кто-то. Вода проникала в пещеру и постепенно прибывала.
Глава десятая
Утро застало десантников за работой. Дождь то прекращался, то сыпал вновь — мелкий, спорый, холодный. Мутная пелена затягивала океан. Мир сузился. В нем не осталось уже ничего, кроме дождя и ветра. Ветер налетал порывами, сердито вихрил между скал серую водяную пыль. Она оседала на камнях мелким бисером. Капли постепенно сползали, накапливаясь в выемке карниза. Чтобы осушить карниз и сделать пещеру пригодной для жилья, нужно было отвести воду к обрыву, иначе она стекала внутрь. Инструментов не было, не считая трех ножей, случайно оставшихся в карманах у бойцов. Но Семибратов запретил долбить камень ножами — их надо было беречь. Поэтому работали, как выразился Комков, доисторическим методом — заостренными палками, камнями. Дело подвигалось медленно, хотя и сменяли друг друга каждые пятнадцать минут. Двое долбили, остальные ожидали своей очереди в пещере. В ней горел костер и было тепло. Люди сидели молча, хмурые, невыспавшиеся, настроение было подавленное: все прекрасно понимали, в каком скверном положении они очутились. Тут было над чем подумать. Даже неугомонный Комков притих. Лежа у костра, он молча смотрел на огонь. Отблески пламени плясали в его черных глазах, отчего они сейчас казались глубокими и печальными. Сидевший у стены Семибратов смотрел на Комкова и думал: «Уж если Яшка загрустил, что ж тогда говорить об остальных. Так дело дальше не пойдет. Надо что-то предпринять, чем-то встряхнуть людей. Только кто бы подсказал, как это сделать…» Семибратов устало закрыл глаза. Нет, никто за него решать ничего не будет. Он должен решать сам. Это только в сказках все делается по мановению волшебной палочки. Но сказки давно кончились. От той поры остались лишь приятные воспоминания. …Коврик с тигрятами над кроватью. Тигрята почти живые. Мама вышивала их желтыми и черными нитками. А усы у них красные, карандашом нарисованные. Отец увидел и грозно спросил: «Твои художества, Николай?» Обычно он звал его Миколкой, а уж раз назвал Николаем, значит, сердится. «Да ведь с усами-то лучше! У мамы, наверное, нет красных ниток…» Отец засмеялся. «Ладно, — говорит, — давай только сами признаемся. Ты сделал, а я разрешил».Сквозь полуприкрытые веки Семибратову видны неясные в наступивших сумерках фигуры бойцов. Хоть бы кто догадался подбросить сучьев в костер. Можно, конечно, самому встать, но Семибратову не хочется шевелиться. Ага, подбросили-таки дров. Блики от этого на стене стали ярче. В пещере душновато. От костра волнами плывет тепло. Телом овладевает приятная истома. Семибратов приваливается спиной к стене и чувствует ее шершавую поверхность. Он прислушивается к глухим ударам, доносящимся с карниза. Работы при таких темпах до вечера хватит, может, и на завтра останется. А ускорить нельзя: карниз узкий — не развернешься. Вдвоем только и можно работать. Остальные сидят без дела. Это хуже всего, когда человеку нечего делать. Тогда в голову лезут всякие ненужные мысли. Невольно начинаешь вспоминать прошлое. И тосковать. В прошлом у каждого из них есть светлые минуты, которые хотелось бы вернуть. Пономарев тут, конечно, неправ. Как он тогда сказал? «Жизнь наша — вроде этой воды, серая…» Горькое признание, если это так. Они разговорились случайно, как раз накануне цунами. Дело было вечером. Ждали ужина, лежали в траве. Комков, помнится, как всегда, балагурил, все смеялись. И лишь Пономарев сидел особняком и не принимал участия в общем веселье. Семибратов, посмотрев на Пономарева, почувствовал, как тот одинок, и даже ощутил какую-то свою неосознанную вину перед ним. Он осторожно подсел к солдату и, помолчав, шутливо спросил: «Почему мы снова не в настроении?» Пономарев покачал головой: «Веселиться-то вроде не с чего». «Но и падать духом — тоже», — возразил Семибратов. «Эх, товарищ младший лейтенант…» — Пономарев вздохнул и произнес ту самую фразу о серости жизни, что так поразила Семибратова. Это же страшно, когда в жизни не видишь ничего светлого; можно не только замкнуться, весь свет возненавидеть… Понял Семибратов и другое: Пономареву нужны дружеское участие и доверие. Он и к Шумейкину-то тянется лишь потому, что тот вроде к нему по-дружески относится. А они все оказались в стороне. И командир тоже. Да, да, это в первую очередь его вина. Вот только как все это поправить?.. Мысли Семибратова были прерваны громким восклицанием. — Ой, лишенько! Що ж це робыться, мама родная! — Семенычев всплескивает руками и жалобно смотрит на выход из пещеры. Только тут Семибратов замечает, что вместо дождя идет мокрый снег. Он падает на камни крупными студенистыми хлопьями и быстро тает. Хлопьев становится больше. Накрывая друг друга, они уже не расползаются мутными лужицами, а превращаются в серую кашицу. Кашица твердеет, покрывается беловатым хрустящим налетом. — Вот и зима, — тихо говорит Мантусов. «Зима», — мысленно повторяет Семибратов. Пора, скоро конец ноября. Еще немного — и загуляют метели. Семибратов сам ведет календарь: они же обязаны знать точный счет дням. Зима здесь должна быть снежной и долгой. А они слабо подготовлены к ней. Запасов продовольствия маловато. Обмундирование истрепалось. На весь взвод — три бушлата. Обувь начинает рваться. Да и пилотки — плохая защита от мороза. Семибратов не заметил, как рядом с ним оказался Воронец. Нервным каким-то стал Сергей, издерганным. Ну, как тогда, в училище, перед выпуском. В своем несчастье он готов был обвинить весь свет: не удержали, не помогли… Как будто кто-то мог предвидеть, что дело обернется дракой. А такие вещи в военное время не прощают, Грубейшее нарушение воинской дисциплины. Как же можно после этого доверить человеку командовать людьми?! Нет, не достоин он офицерских погон!.. Воронец никогда не рассказывал Семибратову подробности той роковой ночи… Но, видно, здорово задели, раз не выдержал и полез с кулаками. Сергей был гордым, он не стал просить прощения, хотя переживал сильно: он очень хотел стать офицером. Да и Нина… Уезжая в часть, Сергей с ней даже не попрощался, а Семибратову, пряча глаза, сказал: «Ну вот, теперь ты один. Никто вам мешать не будет». За такие слова следовало бы съездить по шее. Но Семибратов понимал состояние друга. Не секрет, что тот влюблен в Нину, только старается это всячески скрыть. Семибратов ничего не сказал другу. Неужели Сергей не понимает, что отныне он будет незримо стоять между ними? Одно дело — на равных. Победителем мог оказаться любой. А теперь… Теперь все! Разве можно позволить себе что-либо в отсутствие друга? Нет, он никогда не воспользуется своим преимуществом и не предаст дружбу!.. Семибратов искоса посмотрел на сидевшего рядом Воронца. Как быстро пролетело время: любовь, ревность!.. Мальчишки. Теперь не до любви и не до ревности. Повзрослели сразу, будто прожили на острове не несколько месяцев, а лет десять, не меньше. Семибратов чувствовал себя гораздо старше и опытнее Сергея. Взгляды их встретились. Воронец усмехнулся и осторожно положил ему руку на колено. В этом нерешительном жесте были дружеское участие, сердечность. Семибратов вначале даже не поверил. Что произошло с Сергеем? Сколько раз он пытался поговорить с Воронцом по-дружески, но ничего не получалось, и он потом клял себя за то, что перетащил Сергея в свой взвод. Он ведь так надеялся, что Воронец станет его верным помощником! Увы! Не получилось. Трудно сказать почему. Может, Сергею мешало самолюбие? Вероятно, он думал, что мог бы тоже командовать взводом. И не хуже Семибратова. Может, так оно и есть? Семибратов вдруг представил Воронца на своем месте, здесь, на острове. Как бы тот руководил людьми? Лучше или нет? Семибратов задумался и в конце концов должен был откровенно признаться себе: нет, не хуже. Справился бы. Только вот эта бредовая идея со шлюпкой: неужели послал бы? Или предложение о постройке плота? Он же не мог не сознавать, насколько это несерьезно, более того, опасно! Где же зрелость, трезвость, наконец, чувство ответственности, без которых не может быть командира? Вера в командира рождает у солдат уверенность и в своих силах. Понимает ли это Сергей хоть теперь? — Ты не думай, — тихо сказал Воронец, — я вижу: тебе трудно. Я хотел бы… Он не договорил, но Семибратов все понял. Душевность Сергея тронула его. — Спасибо! — так же тихо сказал он. Сейчас Семибратов ощущал в себе силы, уверенность. Он был способен на многое. Он знал точно, что уныние, охватившее людей, временно. Оно пройдет. Он сумеет им помочь. Ему верят, его слушают, за ним пойдут все, и Сергей тоже. Они были и будут друзьями! В пещеру вошел Галута. Он еще с утра отправился на рыбалку. И хоть улов был небогат, десантники воспрянули духом. Значит, есть рыба, можно ее ловить. Пришел и Сашок. Он тоже отправлялся на розыски. Обшарил все заросли вдоль Медвежьего ручья и нашел два котелка, помятое ведро и кастрюлю. — Живем, братишки! — воскликнул Галута, швыряя рыбу в ведро. — Уха будет. А то я гляжу на деда Семеныча, и так его жалко становится, аж слеза прошибает. — Це ж почему? — Так исхудал же ты очень, Даже про своего батьку перестал травить. Бойцы засмеялись. Семибратов отметил это: лиха беда — начало. Важно переломить настроение. А потом пойдет… Вскоре в ведре забулькала уха. Вкусно запахло вареной рыбой. — Приготовить боевые ротные минометы, — скомандовал Комков, доставая ложку. — Никто не потерял главное заправочное оружие? Ложки оказались у всех, за исключением Пономарева и Касумова. Они выронили их в суматохе. — Будете принимать котловое довольствие во вторую очередь, — решил Комков, — вместе с Топтуном. — Он похлопал лежащего у его ног медведя. — Как, Топтун, принимаешь их в свою компанию? — Самим жрать нечего, — процедил сквозь зубы Шумейкин. — А тут зверье всякое… У нас не богадельня. — Кто-то что-то сказал или мне показалось? Комков точно скопировал голос и манеру Шумейкина и его первые слова при появлении во взводе. Люди, конечно, помнили их. Пещера дрогнула от дружного смеха, а Комков невозмутимо продолжал, на сей раз подражая Мантусову: — А сейчас на кухню.Картошку чистить. За непочтение к родителям. Последовал новый взрыв смеха. Шумейкин сощурился: не глаза — узкие щелочки. Метнул в Комкова злой взгляд, но ничего не сказал. Приучили его все-таки во взводе к «почитанию родителей». — Ну вот что, други мои, — заявил Комков. — Ставлю вопрос о Топтуне на всевзводное обсуждение. Чтобы не было потом никаких сомнений. Кто за то, чтобы поставить нашего Топтуна на полное котловое довольствие? У тебя что, Галута, мозоли книзу тянут? Ах нет! Ты — «за»? Один Шумейкин, выходит, против? Остальные — единогласно. Теперь ты, Топтун, будешь получать свою законную пайку.
После обеда Семибратов собрал людей у костра и сказал: — Сейчас у нас две задачи: создать хотя бы небольшой запас продовольствия и обеспечить себя теплой одеждой. И то и другое важно. Но одежда, пожалуй, стоит на первом плане. Зима начинается. Могут ударить морозы. — Шкуры надо добывать, — заметил Галута. — Но сивучи, верно, смотались уже отсюда. Они любят теплые края. А вот нерпы — те зимуют. Может, мне заняться этим? — Ни, — вмешался Семенычев, — у тебя с рыбой дюже гарно получается. Це дило тонкое. Не всякий смогет. — А с нерпами, думаешь, легче? — спросил Мантусов. — Тоже надо уметь. — Давайте разделим нашего верного Галуту на две равные, одинаковые половинки, — шутливо предложил Комков. — Он и тут поспеет, и там. Сазонов укоризненно покачал головой. — Дело-то серьезное. Давайте думать… Неожиданно поднялся Воронец: — Разрешите мне? Просьба удивила всех. Солдатам было известно, что Воронец не охотник. Но они не знали другого. Сергей имел спортивный разряд по стрельбе. Семибратов это знал и обрадовался. — Полагаю, товарищи, что против кандидатуры Воронца, лучшего стрелка в нашем взводе, возражений не будет, — скорее утвердительно, чем вопросительно сказал Семибратов. Он не стал никого убеждать в своей правоте. Пусть уж положатся на его авторитет. Так будет лучше. Он достал из кармана мешочек с патронами и молча отсыпал половину. — Отчитаетесь за каждый выстрел, — сказал Семибратов, протягивая Воронцу двадцать восемь патронов.
Глава одиннадцатая
Жизнь на острове снова входила в свою колею. Десантники ловили рыбу, собирали шиповник. Воронец, дорожа каждым патроном, бил зверя, добывал шкуры. Семенычев оказался, как он сам выразился, «наипервейшим швалем». Он мастерил из шкур короткие кухлянки, колпаки, заменявшие шапки, чуни. Скрепленные жилами изделия получались грубыми и неуклюжими. В них было неудобно ходить. Зато они неплохо защищали от холода. Когда на землю опускалась темнота, десантники собирались в пещере. Вечера были длинными, и до ужина у костра обычно проводились занятия. Мантусов брал автомат и заставлял бойцов по очереди разбирать и собирать его, называя детали. Потом Воронец на память читал статьи уставов и наставлений. Он многое знал наизусть. Когда Семибратов впервые провел такие занятия, некоторые недоумевали. Что они — новобранцы? Или не знают устройства оружия? Да и автомат у них один на весь взвод. Услышав такие рассуждения, Семибратов нахмурился. Чего другого, а отступления от армейских порядков он допустить не мог. — Вот что, товарищи, — жестко сказал он, построив взвод. — Давайте условимся раз и навсегда. Никто в запас нас с вами не увольнял. Мы продолжаем служить в армии и должны делать все, что положено военному человеку. В тот же день он приказал Мантусову позаботиться о внешнем виде бойцов. Некоторые стали отпускать бороды. Этого еще не хватало — немедленно сбрить. Вместо бритвы есть специально отточенный Галутой нож и предоставлено личное время. На головных уборах, независимо от фасона, как символ принадлежности к Советской Армии, должна быть обязательно звездочка. Если кто потерял — сделать. Пусть вырежут деревянные или, еще лучше, из розового крабового панциря. Сержантам необходимо повысить требовательность. Без этого нельзя. Никаких скидок на островную жизнь! Как-то вечером к Семибратову подошел Сазонов и нерешительно сказал: — Я вот тут надумал, командир: надо бы нам что-то вроде политчаса устраивать. Как полагаешь? У Семибратова уже мелькала такая мысль. В училище много говорили о политическом воспитании бойцов. Был даже специальный предмет: партполитработа. Но он не знал, как в их положении к этому подступиться. Предположим, введут они политчас. О чем говорить на нем? Ну, для начала о ходе войны еще можно рассказать, о победе в Берлине. А дальше что? Они же не имеют ни малейшего представления о том, что происходит в мире. Даже не знают, кончилась ли война с Японией. Семибратов задумался. На Родине, наверное, мирная жизнь началась. Восстанавливают города, заводы. Новые стройки небось развернули. Эх, взглянуть бы одним глазком! Сазонов настойчиво ждал ответа. Он стоял перед Семибратовым и вопросительно смотрел на него. — Ну хорошо, — вынужден был после паузы снова заговорить Семибратов. — Как же ты мыслишь проводить этот политчас? — Сомневаешься? — Понимаешь, Трофим Игнатьевич, нас еще в училище предупреждали, что боец не любит пустопорожней болтовни. Уж если говорить, надо дело говорить. А когда сказать нечего, лучше помолчать. Широкие брови Сазонова хмуро сошлись над переносицей, в них особенно заметной стала обильная седина. — Не согласен, командир, — резковато сказал он. — Неправильно ты рассуждаешь. Нам есть что сказать людям. Есть! — повторил он убежденно. — О стране. О революции. О партии. Да и про дела текущие — тоже… Мичман говорил взволнованно, непримиримо. Семибратов не без удивления посмотрел на своего невозмутимого парторга. Оказывается, тот может быть и таким! Собственно, чему тут удивляться? Его это кровно задело. Что ж, пожалуй, он прав. Даже наверняка прав! Во взводе начались политзанятия. Официально их не объявляли. Семибратов считал (Сазонов был с ним согласен): чем проще, доверительней обстановка во время бесед, тем лучше бойцы воспримут серьезные вещи. Один политчас Сазонов поручил провести Воронцу. Тот пожал плечами. Может, хватит того, что он ведет занятия по уставам? — Географию знаешь? — спросил его Сазонов. — Ну, предположим… — А про Курилы помнишь? Вот и разъясни. Слушали Воронца внимательно. В пещере стояла тишина. В скалах посвистывал ветер да шумел прибой. Воронец неожиданно увлекся. Когда-то он любил читать книжки о путешествиях. Рассказывая, Воронец как бы заново открывал для себя окутанные дымом и пеплом вулканы, клокочущие паром гейзеры, кипящие озера, горячие пляжи на побережье… — Курильская островная дуга — это удивительный край, — говорил он. — Тут вплотную столкнулись север и юг, тундра и субтропики: рядом кедровый стланик, мох, лишайник и бархатное дерево, тис, бамбук, гортензия, лианы. На стене пещеры Воронец мелом нарисовал по памяти карту Курильских островов. И теперь, водя по ней прутиком, горячо продолжал: — С юго-запада на северо-восток острова тянутся на тысячу двести километров. Нижняя точка соответствует примерно широте Сочи. Понимаете? — Кабы знать, где туточки наш остров… — Семенычев вздохнул. — Без приборов трудно определить. — Воронец оценивающе посмотрел на «карту». — Но мне почему-то кажется, что мы находимся где-то невдалеке от Малой Курильской гряды. И если судить по растительности, то, пожалуй, ближе к югу. — А другие острова далеко? — подал голос Шумейкин. Обычно во время бесед он помалкивал. А однажды даже, криво усмехнувшись, процедил: «У нас в лагере такая же петрушка была, тоже… воспитывали…» Все с любопытством повернулись к Шумейкину. — Тебе-то зачем эти сведения понадобились? — спросил его Галута. — Али в гости туда собрался? Шумейкин не удостоил его ответом. Но этот вопрос заставил Воронца задуматься. Когда-то он отчаянно спорил и с Семибратовым и с мичманом, утверждая, что неподалеку должны быть острова. Ведь их тут тысячи… Потом усомнился: кто знает, может, штормом отнесло катер далеко в океан? Помедлив, он сказал: — Не исключена возможность, что в нескольких десятках миль к востоку или к северо-востоку от нас находится суша. Просто мы не знаем этого, а определить не можем. — Други мои, разве вы не догадываетесь? — вмешался Комков. — У нашего Шумейкина там дорогие родственнички проживают. Вот он и жаждет совершить морскую прогулку. Бойцы сдержанно засмеялись. — В нашей шлюпке в самый раз по океану прогуливаться, — заметил Галута. — Подходящая посудина концы отдавать…Висевший над островом туман стал редеть, распадаться на клочья. Ветер подхватывал их и, разрывая, швырял на камни, Меж сопок проглянуло тусклое, будто заржавевшее, солнце. Но скоро оно скрылось, затянутое низкими облаками. Пошел снег. Второй день рыбаки возвращались почти без улова: одна-две рыбины не в счет. Разве по стольку ловили прежде! Бывало, отойдут на шлюпке недалеко от берега, закинут удочки — и пошли таскать одну за другой: сайра, камбала, палтус… А теперь попадаются лишь жалкие окуньки, да и то изредка. Возле песчаной косы рыба и вовсе перестала ловиться. Даже крючки, которые Сазонов смастерил из тонких гвоздей, найденных на берегу в досках, выброшенных океаном, оказались бесполезными. — Проклятущая рыба, — ворчит Сазонов. — Куда ж она подевалась? Не на зимовку же в теплые края подалась… Ворчание раздражает Пономарева. Так всегда ворчал его отец, вечный неудачник, человек брюзгливый и неуравновешенный. То он хотел, чтобы сын учился: «С образованием никогда не пропадешь», — то настаивал, чтобы тот шел работать на завод: «Сейчас людям от станка — все блага!» Должно быть, поэтому Пономарев и не доучился и рабочим не стал. Окончив семилетку, он устроился на почту. Там служил его приятель Валька Зубцов. Они жили по соседству. Валька был года на три постарше да и поудачливее Пономарева. Впрочем, это, пожалуй, не то слово: удача — понятие в общем-то благородное, Валька же мог в любую дырку пролезть и выгоду для себя извлечь. Когда Пономарев прижился на почте, Валька как бы мимоходом намекнул: «Начальник наш непрочно сидит». Валька оказался прав. Вскоре сняли начальника почты, а Вальку на его место поставили. Как-то Пономарев спросил у него под рюмку: «Насчет нашего… ты позаботился?» Валька не ответил, только довольно хохотнул. И Пономарев подумал: «Вот же сукин сын! Сам небось себя за пролетария выдает. А какой он пролетарий? Пусть сказку не рассказывает. Зубцов-старший до революции не ремесленником был, а самым настоящим лавочником. Я-то знаю его как облупленного…» Видимо, черт тогда за язык дернул сказать об этом. Валька сразу учуял, откуда ветер дует. С тех пор не стало у Пономарева спокойной жизни. Ох и изводил же его этот проклятый Зубцов, чтоб ему ни дна ни покрышки! Придирка за придиркой. И не пожалуешься ведь: начальник все-таки и вроде справедливо требует. А кто же против справедливости пойдет? Вот и пришлось терпеть. Пономарев и раньше как-то особняком жил, а тут и вовсе замкнулся. Решил, что верить никому нельзя — продадут ни за грош… Снег медленно оседает на склоны вулкана. Становится зябко. Пономарев поеживается. Ему холодно. И не только сейчас. Холодно вообще в жизни. Друзей нет, некому открыть душу. Не поймут, не так настроены. Может, Шумейкин понял бы? Если б, конечно, захотел. Но и тот тоже только о себе думает. С Шумейкиным они познакомились в запасном полку. Жизнь там была несладкой. Во взводе, куда попал Пономарев, братва подобралась еще та — большинство из бывших заключенных. А у них такое правило: где бы ни работать, лишь бы не работать. Ну и насели они на Пономарева. Поняли, что он безотказный и жаловаться не будет. Его и полы заставляли мыть вне очереди, и на учениях окопы за других рыть. Тяжко было. Пока не появился Шумейкин. Почему он заступился за Пономарева, трудно сказать: то ли из прихоти, то ли просто пожалел или хотел показать свою власть. «Ша! — заявил он. — Этого салагу отныне без меня не трогать». Как бы там ни было, Пономарев благодарен ему. Шумейкин все ж получше других. Хотя и ему полностью доверять нельзя. Но должен же человек хоть к кому-то притулиться! Ледяным ветром продувает остров. Пронизывает Пономарева до костей. Уже и бушлат не спасает. Тем более что на нем латка на латке. Надо было взять кацавейку из нерповых шкур, ту, что Комков сшил на спор с дедом Семенычем. Вот кто мастер на все руки. Пономарев завидует ему. Яшку любят все. Даже строгий Мантусов хоть и покрикивает на него, но не всерьез… — Пошли до дому, — перебивает мысли Пономарева Сазонов. — Нечего тут попусту торчать. Лицо мичмана хмурится, морщины проступают резче, изломанней. Глаза сухо поблескивают из-под насупленных бровей. Пономарев не решается ему возражать. Сазонов заметно изменился за последнее время. Часто задумывается, подолгу угрюмо молчит. Будто никак не может решить какую-то трудную задачу. Если к нему обращаешься, отвечает не сразу. Сначала повернется, помолчит, словно вслушиваясь в вопрос и взвешивая его, потом посмотрит досадливо и уж после этого заговорит — глухо и медленно. Пономареву кажется: томит его что-то.
Утром Мантусов заговорил с командиром о дровах. Костер горел круглые сутки. Попробуй тут напастись. — Что же ты предлагаешь? — спросил Семибратов. — Есть мысль. Но сначала разреши сходить на разведку неподалеку. Хочу проверить одну свою догадку. Как-то с Галутой они охотились на птиц. К северу от озера моряк попал в топь. Мантусов не без труда вытащил его. Почва вокруг была зыбкой и сильно пружинила. Уже тогда Мантусов подумал, что тут должен быть торф. Теперь бы он им здорово пригодился. Однако, не заглянув в святцы, нечего бить в колокола. Семибратов не стал расспрашивать его. Надо так надо. Только снял с пояса пистолет и протянул ему. — Возьми на всякий случай и постарайся вернуться засветло. Чтоб мы не беспокоились. Мантусов шел по целине. Подмораживало. Снег затвердел и похрустывал под ногами с каким-то причмокиваньем. Звуки были удивительно знакомыми. «Хрусть, хрусть, чмок…» Где же он слышал это, когда? Мантусов прибавил шаг. Скоро полдень. Надо поторопиться. «Хрусть, хрусть, чмок…» Маленькая Пуговица. Ну конечно, это она. В том году уже давно стояли морозы, а снега не было. Земля заледенела, нахолодала. Первый снег сразу стал крепким и хрустящим. Пуговица, помнится, сунула ноги в калоши, выскочила из дому и стала громко топать по выбеленному за ночь двору. «Хрусть, хрусть, чмок…» Чмокали калоши. Они соскакивали с ее голых пяток. Мантусов вышел во двор и загнал девочку в дом. Ей это не понравилось. Ох и хитрющая эта Пуговица! Когда хочет подластиться, зовет его папой. Он уже объяснил ей, что теперь она его дочь. Однако стоило ей обидеться, как сразу же опять: «Дядя Матвей». Но Пуговица не умела долго сердиться. Посидит в сторонке, отвернувшись. Потом подойдет, сморщит свой вздернутый нос и смотрит выжидательно. На сей раз ссора затянулась. Мантусов здорово на нее рассердился и, чтобы наказать, не стал с ней разговаривать. Они сидели в разных углах комнаты и молчали. В дверь заглянула квартирная хозяйка. «Не хотите ли вареников, Матвей Федорович? Я сварила, вкусные получились». Он не без удивления покосился на хозяйку. Что-то уж очень она раздобрилась. Обычно у нее, как говорится, снега среди зимы не выпросишь. Скуповатая женщина, если не сказать большего. Пожилая, одинокая. Работает в столовой, сыта вроде — чего еще надо? Война. Все трудно живут. Так нет, вечно она чем-то недовольна, ворчит, жалуется. Будто ей одной худо. Мантусов вначале удивлялся: откуда это брюзжание, скудость? А потом понял: не война тут виновата — натура у женщины такая. «Так пойдемте, Матвей Федорович», — настойчиво повторила свое приглашение хозяйка. «Не надо нам ваших вареников», — вместо Мантусова неожиданно ответила Пуговица. Она с самого начала невзлюбила хозяйку. И та, по-видимому, отвечала ей взаимностью. Своих детей у нее не было, а к чужим не привыкла. «Ну зачем же ты так, доченька? — пропела хозяйка. — Я от чистого сердца предлагаю». Это тоже было что-то новое: и необычная ласковость в голосе, и обращение «доченька». Однако Мантусов решил не обострять отношений. «Ладно, — примирительно сказал он. — Раз приглашают, тем более от чистого сердца, нехорошо отказываться». Пуговица послушалась, но пошла неохотно и ела вареники без всякого аппетита. Нахохлившись, сидела она за столом, настороженно поглядывая на хозяйку. А та хлопотала вокруг них, будто ничего не замечала. «Не подложить ли вареничков? Сметанку берите и сахар. Не стесняйтесь…» Непривычно все это было Мантусову, и потому чувствовал он какую-то неловкость. Сидел и думал: «Какая же муха ее укусила?» Разгадка пришла немного позднее и была до обидного простой, хотя несколько неожиданной.
Ветер с океана налетает порывами. Мантусов сквозь меховую кухлянку чувствует его ледяное дыхание. Надо торопиться. Метель разыгрывается не на шутку. А ему еще следует обойти озеро и осмотреть то место, где они с Галутой осенью приметили торф. Быстрая ходьба не мешает Мантусову думать. И мысли снова возвращаются к недавнему прошлому. Хотя кто знает, может быть, это и не прошлое вовсе, а самое что ни есть настоящее — то, чем он живет и во имя чего стоит жить. Ирина, Ирина… Как он тосковал тогда по ней! Глупо все получилось. Сколько раз он корил себя, что не поговорил начистоту, не объяснился! Разве не поняла бы? Несколько раз Мантусов порывался сходить к Ирине в школу. Хотелось просто увидеть ее — и ничего больше. Постоять рядом, заглянуть в ее глаза, услышать голос, смех. Неужели она никогда не вспоминает о нем? И что же произошло у них с Пуговицей? Может, ничего вовсе и не было, а ему почудилось? Иногда Мантусов пристально всматривался в лицо девочки, как бы ища ответа на свои недоуменные вопросы. А однажды она вдруг спросила: «Папа, тебе не хочется туда?» «Куда?» — не понял он. «Ну… в школу…» Он растерялся. Пуговица молчала — ждала ответа. После долгой паузы Мантусов вынужден был сказать: «Ладно. Сходим когда-нибудь и в школу». Казалось, она успокоилась, удовлетворенная. Он раздел ее, уложил в кровать. Девочка затихла, и Мантусов решил, что она заснула. Он уже хотел выйти из комнаты, но тут она снова открыла глаза и неожиданно спросила: «Папа, а ты не уедешь?» Голос ее прозвучал взволнованно и настойчиво. Тревога девочки невольно передалась ему, и он подумал, что ведь действительно скоро придется уезжать. Тут ничего не поделаешь. Длительный отпуск, предоставленный ему на лечение, подходит к концу. Он уже здоров. Недавно его вызывали в военкомат, интересовались, как дела. Бои идут уже в Польше, Румынии. Наши наступают. Но люди там все равно нужны. Тем более такие опытные фронтовики, как он. Как же быть с Пуговицей? Сестра так и не нашлась. Неужели все-таки отдавать в детдом? Он задал себе тогда этот вопрос и не смог на него ответить. На душе было неспокойно.
Снег все крутит и крутит, затягивает горизонт мутной пеленой. Мантусов идет дальше. «Хрусть… хрусть…» Чмоканья уже не слышно. Мороз усиливается, и снег твердеет. «Хрусть… хрусть…» Пуговица шагает через сугробы, наметенные за ночь на тротуарах, у нее новые валенки. Мантусову выдали по талону на заводе, где когда-то работала его сестра. Председатель завкома сказал: «На прощание, дружище, возьми дочурке». Послезавтра — на фронт. Пуговица остается здесь. От этой мысли ему делается тоскливо. Теперь уже ничего не изменить. Он сам настоял в военкомате на отправке. Морозец поджимает, хватает за щеки, за нос. Пуговица раскраснелась, но не повеселела. Ей известно, что он уезжает. Нет, она не плачет. «Фронтовики не должны плакать». Она повторяет эти слова вслед за ним. «И жаловаться — тоже. Верно, папа? — И добавляет совсем по-взрослому: — Ты за меня не беспокойся. Мне совсем, ну совсем хорошо». «Хрусть… хрусть…» Скрипит под ногами снег. Мантусов делает несколько неуклюжих прыжков. Ему хочется развеселить девочку. Но глаза ее остаются грустными. Она стряхивает с плеча снег и печально улыбается. «Не надо, папа». Мантусов смущенно кряхтит. Вчера наконец состоялся разговор с хозяйкой. «Уезжаете, значит, Матвей Федорович? Какая жалость! » Вначале он принял ее слова за чистую монету. Мантусов привык видеть в людях прежде всего хорошее. Однако то, что он услышал потом, несколько поколебало его убеждение. Хозяйка сказала все тем же ласковым голосом: «А дочку вы мне оставьте. Вдвоем будем жить. Аттестатик нам пришлете. Ну и посылочки когда… Сейчас с фронта очень даже хорошие посылочки присылают. Все дорогое, заграничное…» Так вот, как сказала бы Ирина, в чем разгадка шарады. А он-то ломал голову! Ей нужны посылочки, аттестат. Отсюда и варенички, и «доченька», и елейная нежность. Нет уж! Дочку он ей не оставит. Мантусов так и сказал хозяйке. «Что вы! Что вы! — На лице хозяйки изумление. — Я же от чистого сердца». Он все же предпочел детдом. Хотя отдавать туда девочку ему ой как не хотелось! Вряд ли Пуговица слышала их разговор с хозяйкой, но тем не менее она спросила у него: «Папа, а ты правда не оставишь меня здесь?» «Нет, нет!» — торопливо заверил он. «А мы еще сходим в школу?» Она выразила то, о чем он уже давно думал. И вот они идут в школу. Знакомая дорога. И снова лужи под ногами. Будто и не было этих тягостных месяцев. Они сворачивают в калитку, и вдруг Мантусов слышит ликующий крик: «Тетя Ира! — Пуговица вырывает руку, бежит через сугробы, падает, вскакивает. — Тетя Ира!» У Мантусова холодеет под сердцем, как перед броском в атаку. В синих глазах Ирины золотисто плавится солнце. И глаза от этого удивительно чистые, ясные. Они стоят друг против друга и улыбаются, точно вчера расстались. Пуговица повисла на шее Ирины и без конца повторяла: «Тетя Ира! Как хорошо! Тетя Ира!» Потом они идут по аллее втроем. И беспричинно смеются. На душе легко и радостно, как в праздник. Пуговица скатывает снежок и запускает им в Мантусова. Он ловит его на лету и бросает в Ирину. Они сталкиваются, хохочут. «Ну, мне пора на уроки», — говорит Ирина. Эти слова сразу гасят улыбку Пуговицы. Ирина замечает и легонько щелкает ее по веснушчатому носу. «Приходите ко мне в гости. Я живу там же, при школе. Буду рада вас видеть». В тот вечер Пуговица долго не могла уснуть, все ворочалась, вздыхала. Мантусов не отходил от нее. Он видел, что ее что-то мучает. А ему очень хотелось помочь ей. Потому что не было на свете существа дороже для него, чем эта маленькая девчушка. Пуговица приподнялась на локте. «Папа, ты не будешь сердиться? Я тебе хочу что-то сказать. Не будешь? Ладно?» «Хорошо, не буду, — согласился он. — Что стряслось?» Она села и еще крепче сжала его руку. «Папа, тетя Ира меня совсем не ругала, ни капелечки, И хорошо относилась ко мне. Всегда. Прости меня, папа. Я боялась… Ты с ней и с ней… Прости меня!» Глаза девочки наполнились слезами. Она со страхом следила за ним. Глупенькая, ревнивая девочка. Она, пожалуй, меньше виновата, чем он. Нужно было сразу понять ее отчаяние, ее страх потерять единственного близкого человека. Она защищалась, как могла. На другой день вечером он пришел в школу и отыскал Ирину. Та не удивилась. «Я знала, Мантусов, что вы придете». Он шагнул к ней. Слов не было, но как много он хотел бы сказать. Она жестом остановила его. «Не надо, Мантусов. Я все, все знаю». Сколько простояли они в прихожей, он не помнит. «Я завтра уезжаю на фронт, — сказал он. — И я очень хотел бы… Если это только возможно. Вы извините меня…» Она улыбнулась. «Не надо так длинно, милый Мантусов. Вы хотите оставить у меня дочь. Я это знаю. И вы чувствуете, что я привязалась к девочке». Мантусов, как сейчас, слышит эти слова и заново переживает то, что было. Ведь именно тогда, в тот вечер, в тот самый момент, когда Ирина сказала, что они вдвоем будут ждать его, он понял, чего ему не хватало все эти долгие месяцы. Как только он раньше не мог понять!..
За озером Лагунным почва стала зыбкой и пружинистой. Это было то самое болото, где они осенью охотились с Галутой. Теперь надо взять чуть левее. Опять пошло суше. Но земля была все же мягкая. Ступаешь по ней, как по ковру: шагов не слышно. Мантусов разгреб снег и ножом подрезал дерн. Снял еще два пласта. Стало жарко. Он сбросил кухлянку. Пройден еще один слой. Наконец-то! Так и есть, настоящий торф. Уж кто другой, а Мантусов понимает в этом толк. Их районная электростанция работала на торфе. Она стояла сразу за селом, и он лет семь был там механиком, целую науку прошел. Знает, какой сорт торфа какую имеет зольность, как горит. Тут, на острове, торф темно-бурый, с еле заметными светло-серыми прожилками, сухой и рассыпчатый. Огонь от него будет неяркий, но жару даст много. Как раз то, что нужно. Мантусов взял пробы в трех местах. Площадь залегания была большой. Этих запасов им хватит надолго. Вот обрадуется Семибратов. Да и ребята тоже. Однако пора возвращаться. День клонится к вечеру. Мантусов надел кухлянку и решил махнуть напрямик через озеро. Лед хоть и тонкий, но должен выдержать. Зато дорога будет чуть не вдвое короче. Мантусов с некоторой опаской ступил на лед. Он потрескивал, но держал. Мороз усиливался. Мантусов поглубже засунул руки в карманы, пальцы озябли — он забыл взять у Комкова рукавицы и сейчас пожалел об этом. Лед под ногами затрещал сильнее. По заснеженной поверхности побежали черные языки. Вода обожгла Мантусова. Он почти по пояс погрузился в озеро. Тут было неглубоко. Лед крошился под руками. И Мантусов, ломая его, тяжело побрел к берегу. Вот наконец и сухое место. В сапогах хлюпает вода. Но снимать их нельзя: мокрые потом не наденешь. Мантусов лег на спину и поднял ноги. Вода вытекла из сапог, струйками побежала по заледеневшим брюкам. А метель бушует все сильнее. Идти неудобно. Мешает ледяная корка, сковавшая одежду. Но он не останавливается. Быстрей. Еще быстрей! Слева доносится гул прибоя. Он вплетается в свист пурги. И кажется, что это гудит приближающийся поезд. Неожиданно Мантусов обнаруживает перед собой морскую террасу. Он взял слишком вправо. Так недолго и заблудиться. Он поворачивает и спешит к гранитным валунам. Земля уходит из-под ног, точно выбитая внезапным ударом. Мантусов падает, пытается подняться. Но от боли в колене вскрикивает. Неужели вывих? А может, и того хуже — перелом? Тогда совсем скверно. Снег уже не падает густыми, мохнатыми хлопьями, а валит так, что в двух шагах ничего не видно. Мантусов приподнимается и, пересилив боль, становится на ноги. Перелома, вероятно, нет. Можно двигаться, но каждый шаг дается с трудом. Боль пронизывает бедро, отдается в боку. Он снова надает. Лежит неподвижно… Свистит пурга. Гудит прибой. И Мантусову опять кажется, что это поезд, который умчит его на фронт. …Последние пять минут, отмеренные на прощание. Ирина и дочь — они будут ждать его, очень ждать. Он не имеет права не вернуться. Он должен встать. Встать и идти! И как бы ни был далек этот путь, нужно пройти его. …Он опять лежит в сугробе. Осталось совсем немного. Где-то близко товарищи. Если б они только знали! Если бы знал Семибратов! Мантусов нащупывает на поясе кобуру. Пальцы слушаются плохо. Медленно, точно боясь сделать лишнее движение, он поднимает пистолет. Нет, он все равно вернется! Они обе ждут его. И дождутся. Мантусов собирается с силами, нажимает на спуск и стреляет…
Глава двенадцатая
Полторы недели над островом бушевала пурга. Ветер осатанел и буквально валил с ног. В двух шагах ничего невозможно было рассмотреть. Но Мантусова все же сумели найти. Услышав выстрел, Семибратов поднял взвод по тревоге и, разбив на несколько групп, отправил на поиски. Группа Сазонова обнаружила помкомвзвода на крутом склоне морской террасы, когда тот уже был почти занесен снегом. Его притащили в пещеру, и Комков растер старшего сержанта остатками нерпичьего жира. У Мантусова оказались приморожены пальцы на ногах. Метель утихла внезапно, так же, как и началась. Десантники, выйдя на промысел, обнаружили, что остров покрыт глубокими сугробами. Люди тонули в них. Охотиться было невозможно да и не на кого. Солдаты не видели ни одной птицы. Плохо ловилась и рыба. И хотя ярко светило зимнее солнце и чистое небо отражалось в спокойной глади океана, настроение у десантников было подавленное. В сумерках вернулись в пещеру уставшие рыбаки, молча протянули повару трех окуньков и подсели к костру. Никто не стал их расспрашивать: все было ясно и так. — Эх, сейчас бы рюмаху опрокинуть! — Галута вздохнул, протягивая озябшие руки к огню. Толстые, узловатые пальцы его подрагивали. — Ты точно кур воровал, — Пономарев криво усмехнулся. Галута посмотрел на него, но промолчал. За моряка обиделся работавший вместе с ним Касумов. — Нехорошо говоришь! Сугроб на берегу. Опоры нет. Большой сугроб. И вода брызгает. Удочку бросаешь, а нога скользит. Весь мокрый. — Все работаем, — буркнул Пономарев. — Мы тоже торф рыли. Легко, думаешь? — Ну конечно, — протянул Комков. — В чужих руках и ломоть кажется буханкой. — А вин як тот куркуль: раз це мое — гарно, а ни — погано, — сказал Семенычев. Светлые глаза Пономарева недобро прищурились. Он перевел взгляд с Комкова на Семенычева, хотел, как видно, сказать что-то резкое, но сдержался. А Семибратов подумал: «Ну вот, опять. И чего зря злится человек? Ребята же шутят». Он так и сказал Пономареву чуть позже, когда они сидели рядом в глубине пещеры. И еще добавил, что пора бы уже понять: нельзя быть особняком от людей. Тут прямая зависимость: как ты к ним, так и они к тебе. Семибратову очень хотелось помочь Пономареву. Но он так и не мог решить, как это сделать. Придумывал разные методы и тут же их отвергал. Дело было тонкое и требовало весьма деликатного подхода. Когда он поделился своими сомнениями с Сазоновым, тот сказал: «Не надо спешить, командир. Наскоком тут ничего не сделаешь. Все образуется само собой. Дай срок. Пусть человек, сам поймет, что к чему, сердцем воспримет. А в наших условиях это неизбежно случится». Вероятно, парторг прав. Но Семибратов всегда был сторонником активных действий и поэтому при каждом удобном случае старался поговорить с Пономаревым, расположить его к себе, вызвать доверие. И хотя он видел, что боец относится к нему все еще настороженно, попыток своих не оставлял — капля и камень долбит. Вернулся Сашок. Семибратов поручал ему проверить, сколько осталось продуктов. То, о чем он доложил, было весьма неутешительно. Запасы оказались скудными: немного риса, килограммов пять вяленого мяса и столько же соленой рыбы. В пещере наступило тягостное молчание. Люди понимали, что ожидало их. — Медведя бы поискать, — сказал наконец Галута. — Цельная гора мяса. И шкура к тому же. — Да кто ж на медведя зимой ходит? Воны ж спят, — возразил Семенычев. — То наш Топтун не спит. Потому как промеж людей живет. — Семенычев по привычке вытащил из кармана кисет и огорченно потряс им в воздухе: табака не было ни крошки. — То мой дид мог зимой на фазанов ходить, — продолжал он с усмешкой. — Бывало, берет дробовик и бабке кажет: пошел на фазанов. А сам к шинкарке подался. Байка Семенычева не вызвала привычного смеха. И Семибратов отметил с горечью: людям не до шуток. — Ну вот что, товарищи, — сказал он. — Придется нам потуже затянуть пояса. Другого выхода пока нет. С завтрашнего дня и вплоть до особого распоряжения рацион питания урезается вдвое. Соль по самой малой мерке выдает лично помкомвзвода… — Семибратов помолчал, намереваясь напомнить о долге, выдержке, спайке. Но, обведя бойцов взглядом, понял, что говорить ничего не нужно. В лицах солдат не было ни растерянности, ни уныния. Да, они понимали все и готовы были стоять до конца. Замечательный все-таки в его взводе народ. — Вопросы есть? Нет?.. Тогда все. Воронец, стройте взвод на вечернюю поверку. Вскоре все спали. Лишь Шумейкин лежал у стены на своем месте и думал тяжкую думу. Ложе казалось ему сегодня особенно жестким. А мысли были тягучими, как резина. Нет, он уже не колебался. Сомнения кончились. Раньше он еще думал: вместе, как ни говори, надежней. Но теперь все. Хватит! Дурных нет подыхать вместе. Он не согласен. И если есть хоть какой-то шанс, надо им воспользоваться. План побега был разработан детально. Перед рассветом, когда все спят, он стукнет часового. Легонько, конечно. На «мокрое дело» идти не стоит. Прихватит автомат, продукты какие есть. И поминай как звали. Лодка с веслами — возле маленькой бухточки. Ее нетрудно столкнуть на воду. Должны же быть острова неподалеку. Вот и Воронец говорил, что есть. Неярко горит торф в костре, почти тлеет. Горячий воздух плывет по пещере, но спина мерзнет от холодного камня. Шумейкин открыл глаза и не сразу сообразил, где находится. Костер. Каменные стены… Ах да, пещера… Так все на свете продрыхнуть можно. Пожалуй, пора. У костра сидел Комков. Он, видно, только что заступил на пост. «И надо ж было как раз ему оказаться в эту ночь часовым, — подумал Шумейкин. — Лучше бы кто другой». Он подождал, пока Комков вышел из пещеры. Осторожно приподнялся на руках.. Сжал в кулаке заранее приготовленный увесистый камень. «Надо поаккуратней, — подумал опять. — Чтобы не наследить». Он прокрался вдоль стены и выглянул из пещеры. Комков стоял на краю площадки. Над океаном висела полная луна. К самому горизонту убегала ровная лунная дорожка. Она сверкала и переливалась. Комков загляделся на лунную дорожку. Он стоял не двигаясь. Шумейкину именно это и было нужно. Он подобрался к нему сзади. Комков без звука свалился на землю. Шумейкин сорвал с него автомат. Теперь пусть попробуют сунуться. Шумейкин зашел в маленькую пещеру, где хранились продукты, нащупал в кармане кресало Семенычева — вовремя он его спер. Хотел разжечь огонь, но передумал. Осторожно вернулся к костру, выбрал горящую головешку потолще и возвратился в маленькую пещеру.Сашок увидел Шумейкина, когда тот брал из костра головешку, и удивился: зачем это ему понадобилось? Потом он вспомнил, что на посту должен быть Комков. При чем же здесь Шумейкин? Сашок ясно слышал, как Мантусов говорил младшему лейтенанту, что Шумейкин не очень надежный часовой. Ответственности у него никакой. Семибратов приказал пока его на пост не ставить. Сашок встал, осторожно переступая через спящих, выбрался из пещеры. На площадке никого не было. Только какая-то темная масса лежала на краю карниза. В маленькой пещере виднелся свет. Ну так и есть. Шумейкин решил забраться в кладовую. — Как тебе не стыдно! — звонко выкрикнул Сашок, появляясь на пороге маленькой пещеры. Шумейкин отскочил в сторону как ошпаренный. Но мешка, в который складывал продукты, не выпустил. Лицо его исказилось. — Ты!.. Ты!.. — Сашок подскочил к нему. — Положи сейчас же! Слышишь? — Ты что, с ума сошел? — прошипел Шумейкин и, коротко размахнувшись, ударил Сашка по лицу. Тот упал, но тут же вскочил и бросился на Шумейкина. Нелепо размахивая руками и всхлипывая, Сашок повторял: — Не дам! Не дам! Не дам! Он вцепился в мешок, как клещ. Тогда Шумейкин отпустил мешок, сорвал с плеча автомат и ударил Сашка прикладом по голове. Тот вскрикнул, зашатался и медленно осел на землю. Шумейкин схватил мешок, выдернул из расщелины горящую головешку и швырнул в глубь пещеры. Она прочертила в воздухе огненный полукруг и погасла.
Комков не сразу пришел в себя. Сильно болел затылок. Приподнялся на локтях. Кто же его стукнул? И где автомат? Опять такая же история… Пошатываясь, он встал на ноги и увидел свет в маленькой пещере. Оттуда доносились тихие голоса. Комков узнал Шумейкина, потом Сашка. Он медленно приблизился к пещере и схватился за стену. Земля уходила из-под ног. Послышался короткий вскрик. Свет в пещере погас. Неужели и Сашка тоже? Вот гад! Когда Шумейкин выскочил с мешком в руках, Комков наклонился и схватил камень. От резкого движения закружилась голова. Он еле удержался на ногах. — Стой! — крикнул он, как казалось ему, громко и швырнул камень, метя в голову. Но силенок было маловато. Описав дугу, камень ударил Шумейкина по плечу. Тот охнул и уронил мешок. Обернулся и, увидев Комкова, злобно ощерился. — Ах ты… — Шумейкин длинно выругался. — Я тебя сейчас с обрыва. Мордой в камни. Мне терять нечего. Давить таких идейных мало!.. Он потащил обмякшее тело Комкова к обрыву. Это дело было нелегким. И вдруг услышал за спиной грозный рык. На Шумейкина надвигался Топтун. Оскаленная морда, глухое и злобное рычание не оставляли никаких сомнений насчет его намерения. Зверь шел на помощь своему другу. Шумейкин плюнул, отпуская безжизненного Комкова, подхватил свой мешок и по тропинке добежал вниз, к морю. А Топтун, облизывая лицо Комкова, продолжал грозно рычать ему вслед. Спустившись к бухточке, беглец отыскал шлюпку и не без труда перевернул ее. Слава богу, хоть весла на месте. Аккуратный Сазонов пристроил их внутри по бортам. Но как далеко ушло море! Не рассчитал, что будет отлив. Надо спешить. Шумейкин налег грудью на шлюпку. Она подалась только чуть-чуть. Стало страшно, а вдруг он не сумеет столкнуть лодку? Шумейкин уперся ногой в камень и что есть силы нажал плечом. Шлюпка медленно двинулась. Вдруг справа в камнях мелькнула тень. Шумейкин схватил автомат. — Кто там? Выходи! Стрелять буду! — Не будешь. Шума забоишься. Шумейкин по голосу узнал Пономарева и облегченно вздохнул. — А ну помоги! — грубовато сказал он. Пономарев не двинулся с места. Шумейкин опешил. Он никак не ожидал, что этот тихоня, подчинявшийся так безропотно, может ему не повиноваться. — Чего ж ты! — крикнул он без прежней уверенности. — Какой же ты все-таки! — Пономарев задохнулся от возмущения. «И этот туда же!» — подумал Шумейкин и со злобой грязно выругался. — Не яри меня! Отхлынь! — прохрипел он, поднимая автомат. Щелкнул затвор. Пономарев попятился. — Катись отсюдова! — крикнул Шумейкин, сталкивая шлюпку в воду. — Привет честной компании! Пономарев посмотрел вслед Шумейкину, и руки его невольно сжались в кулаки. Все они такие: что Валька Зубцов, что этот… Только бы себе хапнуть!.. Когда Пономарев бежал за Шумейкиным, ему хотелось только одного: как-то удержать, не допустить. Он так надеялся… Но не попрешь же на автомат! Пономареву стало вдруг страшно. Он подумал о том, как все это выглядит со стороны. Ведь они с Шумейкиным считаются дружками. Попробуй потом доказать! Кто поверит? Эти мысли погнали Пономарева наверх. Запыхавшись, он добрался до площадки и ужом скользнул мимо костра: осторожно забрался на свое место и закрыл глаза. В пещере все еще спали. Шум на каменном уступе почти не доносился сюда. Даже встревоженный рев Топтуна не разбудил уставших за день людей. Воронец проснулся сам. Он почувствовал странную тревогу. И тут же услышал слабый стон. Воронец приподнялся. Что-то случилось! Он толкнул в бок спавшего рядом Мантусова. Тот очнулся не сразу. — Что такое? — спросил, не открывая глаз. — Часовой вроде стонет. Мантусов сел. — Как ты сказал? Они торопливо натянули чуни, выскочили из пещеры и наткнулись на Комкова. Тот лежал на самом краю уступа и стонал. — Подъем! — крикнул Мантусов. — Тревога! Десантники высыпали на карниз и через минуту нашли Сашка. Тот лежал без движений. Из разбитой головы текла кровь. — Где Шумейкин? — спросил Семибратов. — Смотрите, вон он! — крикнул Воронец. В свете начинающегося дня вырисовывался хмурый океан. Темные, с просинью тучи висели на горизонте. Шлюпка среди волн, как щепка — крохотная, еле заметная, она долго еще маячила вдали, пока не скрылась из виду. Галута подошел к воде, пристально посмотрел на вспененную воду и покачал головой. — Норд-ост начинается, — тихо сказал он.
Глава тринадцатая
Комков лежал в углу, голова его была перевязана, и он бредил. Картины былого вставали перед ним с такой отчетливостью, будто это было вчера. В сознании реальность мешалась с вымыслом, их нельзя было отличить… Комков не освобождал родного города: он воевал на Севере, под Мурманском, за тысячи километров от южного, ласкового моря. Лежа в промерзшем окопе, он услышал: наши взяли Таганрог! От этих, казалось бы, обычных в военную пору слов ему стало жарко. Он отчетливо представлял, как происходило освобождение его родного города. Словно не кто-нибудь, а он сам с первым отрядом морской пехоты ворвался в знакомые переулки. Выбивая врага из домов, матросы шаг за шагом рвались к центру города. Короткие схватки вспыхивали на площадях и в скверах, в тесных дворах и кривых, булыжных переулках. Падали в грязь бескозырки. Падали их хозяева, чтобы уже не подняться. Но остальные шли все дальше и дальше, очищая город. Комков даже чувствовал, как раскалился ствол его автомата. Но он продолжал стрелять и стрелять. Неведомая сила несла его вперед — к набережной. Сашок лежал рядом с Комковым. Состояние его было несколько лучше, но исполнять поварские обязанности он не мог. Пришлось-таки Семенычеву занять его место. Он поворчал, но потом взялся за кастрюли с такой сноровкой, будто всю жизнь только этим и занимался. — Из тебя как пить дать отменный кок получится, — сказал Галута, пробуя варево. — Хиба ж це моя заслуга? — поскромничал явно польщенный похвалой Семенычев. — Це ж ты расстарался насчет утки. А сварить ее усякий бы смог. Галута возражать не стал. Он был доволен. Хоть и проползал на брюхе весь день, зато не без пользы. Семибратов выделил ему один патрон и предупредил: стрелять только наверняка — раненых надо подкрепить. Галута знал, что у них оставалось мало патронов, поэтому был осторожен. Подстреленная утка-морянка упала в волны недалеко от берега. Галута, не раздумывая, прыгнул в ледяную воду, чтобы достать добычу. Он весь промок. Но какое это имело значение, если раненые получили крепкий бульон из дичи. Да и остальным досталось по нескольку ложек вкусного маслянистого варева. Десантники ели, обжигаясь, и похваливали. — Сольцы бы сюда побольше! — мечтательно сказал Воронец. — Тебе бы мед, да еще и ложкой, — ворчливо заметил нахмурившийся Мантусов. Соль теперь расходовали особеннобережно. Шумейкин утащил изрядный запас, а то, что осталось, надо было строго экономить. Семибратов приказал повару «придерживать» соль, и недосоленная пища казалась безвкусной. Сазонов посоветовал пить морскую воду хотя бы по полкружки на брата в день. «Конечно, это противно, да надо, — сказал он. — Морская вода в какой-то мере возмещает отсутствие соли». На косе шумел прибой. Волны стремительно набегали на песок и медленно отступали. Не успевал схлынуть один, как накатывался новый водяной вал. Прилив поднимался все выше и постепенно вытеснял рыбаков с косы. Сазонов с Касумовым ловили рыбу на блесны, сделанные из консервной банки. С утра еще был клев, а потом прекратился. Касумов нервничал, приходя в отчаяние. — Почему не клюет? — восклицал он. — Должна же быть рыба! Сазонов молчал. Упорства ему не занимать. Он знал одно: без добычи они не имеют права возвращаться. Рыба нужна не только на сегодня, но и про запас. Без запаса им никак нельзя! Вдруг пурга? Припорошит все снегом, и расставленные силки окажутся пустыми. Хитрющий пошел зверь. И птица тоже. Ее подбить — ружьишко надо, а патронов раз-два — и обчелся. Утром Касумов по утке стрелял. Птица села у самого поста. Рахим не выдержал, и пропал патрон, доверенный ему как часовому. Взял да и выпалил — мимо, конечно. Уж как его Мантусов ругал! И никаких оправданий не хотел слушать. Хорошо, хоть Комков в себя пришел. Здорово его Шумейкин отделал. Ну, попадись он только! Беспощадным стал Сазонов. Предательства прощать нельзя! — Совсем темнеет. — Касумов прервал мысли Сазонова. — Блесны не видно. — Да, надо сматывать удочки, — хмуро отозвался Сазонов и вздохнул. — Пошли. Они двинулись берегом к пещере. Пошел мелкий снег, В сумерках он казался серым, похожим на песок. Темная крупа сечет лицо. Уже совсем стемнело, и они с Касумовым идут по каменистой тропинке почти вслепую. Бойцы встречают их молчанием. Ужин проходит в унылой тишине. Только ворчит Топтун да звякают ложки в котелках. — Отбой! — негромко командует Мантусов. — Вечерняя прогулка со звонкой строевой песней отменяется по причине метели, — невесело заключил Комков. Едва успев прийти в себя, он уже пытается шутить. Рядом с ним укладывается Топтун. Он вырос и если встает на задние лапы, то мордой вровень с плечом хозяина. Уже никак не назовешь его медвежонком. Пещера постепенно затихает. И тогда под закопченные гранитные своды входят сны. Разные. Непохожие. У одних они гневные, пропахшие порохом. У других, наоборот, — розовые. И таких больше. Это сны о женах, о милых подругах… Солдатам часто снятся любимые женщины.Шумейкин плыл на запад. Солнце поднялось у него за спиной, высветлило гребни волн, разогнало дымку над горизонтом. Вода почти сплошь покрылась искрящимися блестками. Голубизна ее поблекла и стала желтоватой, как недозрелый лимон. Ветер постепенно усилился, стал холодным, порывистым и непопутным. Серебристые волны накатывались на шлюпку откуда-то сбоку. На гребнях волн начала сердито закипать пена. Грести стало труднее. С непривычки ладони покрылись водяными мозолями и нестерпимо горели. Шумейкин обернулся и далеко в океане увидел оставленный им остров, который медленно оседал в волны и таял… «Еще каких-нибудь полчаса, — подумал Шумейкин, — и земля скроется из виду. Я останусь один в океане». Пожалуй, впервые ему стало страшновато. А ну как впереди нет ничего, никакой суши, одна вода? Что тогда?.. Вдруг трепанулся Воронец насчет островов? Запросто ведь мог, для утешения братвы. Шумейкин с тоской посмотрел вперед. Какое страшное однообразие: волны, волны, волны… Но должна же где-то быть земля! На географической карте земель много обозначено. А география — наука точная. Правое весло вывернулось из уключины и больно ударило Шумейкина по локтю. Он еле успел подхватить его. Потом с трудом разжал занемевшие пальцы. Ладонь была в кровоподтеках. Впереди по-прежнему никаких признаков земли. Шумейкин снова оглянулся. От острова Надежды над водой оставался лишь конус вулкана. Среди безбрежного морского простора это был единственный ориентир, и он, как магнит, притягивал к себе. Шумейкин боялся отвести от него взгляд, жутко остаться одному в океане. А собственно, что он хотел? Разве не знал, на что идет?.. Знал, и нечего тут бояться. Но Шумейкин напрасно пытался перебороть себя. Страх уже не отпускал, а, наоборот, подступал все ближе и ближе, туманил разум, мешал соображать. «А что, если вернуться?» Эта пришедшая неожиданно мысль заставила его вздрогнуть. Нет, ни за что! Ему никогда не простят того, что он сделал. Пути назад нет! С севера надвинулись пепельные облака, затянули небо. Стало сумрачно и холодно. Серо-синяя вода покрылась пенистой вязью, похожей на давно не стиранные кружева. Вязь соскальзывала с гребня волны, и тогда казалось, что кружева порваны… Такие кружева, помнится, купила мать. Они долго лежали на комоде, запылились настолько, что из белых превратились в серые, и, когда их постирали, они порвались. Волна перехлестнула через борт шлюпки и окатила Шумейкина с головы до ног. Он почувствовал, что его бьет мелкая дрожь. Нет, ему не было холодно, скорее, жарко. Пот скатывался по лбу, щипал глаза. На дне шлюпки хлюпала вода. Шумейкин не успевал ее вычерпывать, ведь нужно было еще и грести. Ветер крепчал. Он дул уже с запада, бил прямо в лицо, перехватывая дыхание. Весло снова выскочило из уключины. Шумейкин с усилием вставил его обратно. Делать ничего не хотелось. «Теперь уже все равно», — вяло подумал он. Впереди ничего нет, никуда он не доплывет, надо поворачивать обратно, пока еще виден вулкан. Дурак он, идиот! Умнее всех хотел оказаться. Подумал бы, что другие тоже не лыком шиты. Неужели, если была бы хоть малейшая возможность достичь другой земли, младшой не послал бы шлюпку? Да и ребята попытались бы… Спорили же об этом — и отвергли… Нет, кончено! Назад, только назад!.. Конечно, ему несдобровать. Все равно другого выхода нет! Будь что будет…
Утром Комков попросил вывести его из пещеры. Он был еще слаб и не мог передвигаться самостоятельно. Но лежать надоело. Захотелось подышать свежим воздухом — для моряка это весьма полезная вещь. Хватишь просоленного морского ветра — и чувствуешь, как кровь начинает быстрее бежать по жилам. Поддерживаемый Галутой и Касумовым, Яшка вышел на уступ. Прислонившись к камню, он жадно глотнул холодный воздух и посмотрел вдаль. Вот она — его стихия. Можно сердиться на непостоянство океана, на его неспокойный нрав, но не любить нельзя. Океан был сизым и хмурым. Лохматые волны ворчливо катились по заливу. Сердито рокотал в рифах прибой, предвещая шторм. В этих угрюмых звуках была своя суровая мелодия. Комков вслушивался в нее и с особой остротой чувствовал горечь разлуки с Большой землей, с родным Таганрогом. К Комкову подошел Топтун, ткнулся мордой и заворчал. Боец потрепал зверя по шее. — Успокойся, мохнатый, не сердись. Что тебя волнует? — Та вин проголодався, — высказал предположение Семенычев, вышедший из пещеры с большой кастрюлей в руках. — Вот еще! — Галута засмеялся. — Уж кто-кто, а Топтун прекрасно на подножном корму обходится. То рыбку поймает, то ягоды найдет. Ты вот не найдешь, а он найдет. У него нюх. — Нет, — не согласился Семенычев. — Обед он все равно чует. — Твой обед почуешь! — Галута ухмыльнулся. — Ни навару, ни привару. Опять уха-требуха? — Никакая не требуха, — обидчиво возразил Семенычев. Он ревниво относился к своим поварским обязанностям и очень старался приготовить повкуснее, что было весьма затруднительно с теми продуктами, которые находились в его распоряжении. — Сегодня у нас рыбья затируха. Галута пожал плечами. — Что-то не слыхал о таком деликатесе. — Деду Семенычу патент на новые блюда надо взять, — предложил Комков. — Знатную еду готовит из даров океана. Яшка посмотрел вперед и внезапно нахмурился. Среди волн он увидел ныряющую шлюпку. — Мама родная! — воскликнул Комков. — Никак, посудина наша идет?! Десантники бросились к берегу. Подгоняемая ветром шлюпка медленно плыла к острову. Волны швыряли ее, ежеминутно грозя перевернуть и разбить о рифы. Но она упрямо выныривала из воды и постепенно приближалась к песчаной косе.
Шумейкин лежал на дне полузатопленной шлюпки. Глаза его были закрыты. Из рассеченной головы текла кровь. В правой руке был судорожно зажат обломок весла. Видно, он греб до тех пор, пока хватало сил. Семибратов приказал вынести Шумейкина на берег и сделать перевязку. Мантусов снял с него автомат и погладил ложе. Увидев ржавчину на кожухе ствола, недовольно поморщился. — Возьми-ка… — Он протянул оружие Пономареву. — Приведи в порядок. Семенычев выделит тебе нерпичьего жира. Галута придирчиво осмотрел шлюпку и возмущенно покачал головой. — Ну и обшматовал же посудину. Одно весло потерял, другое сломал. Вот шушера! — Може, шо с продуктов осталось? — с надеждой спросил Семенычев. — Рис чи соль? — Держи карман шире. Все сожрал, зануда… Хотя, постой, соли, кажется, есть немного. Шумейкина перенесли в пещеру. Семибратов распорядился дать ему рыбной затирухи. — Ще и корми эту вражину, — недовольно заворчал Семенычев. — Вин же… — Разговорчики! — оборвал его Мантусов. Семенычев послушно умолк и принес еду. Однако сам кормить не стал. — На! — Он ткнул котелок Галуте. — Почему это я? — возмутился тот. — Тебе сподручней. Мантусов прервал их перебранку. Он поднял голову Шумейкина и приказал Семенычеву влить немного жидкости в рот. Шумейкин глотнул и закашлялся. Через минуту он открыл глаза и обвел присутствующих непонимающим взглядом. — Что, не узнаешь покинутую компанию? — Насмешливый голос Комкова сразу привел Шумейкина в себя. Губы его дрогнули, глаза испуганно округлились. Он судорожно приподнялся на локтях. — Я… я не хотел, братва! — Шумейкин не узнал своего голоса. — Поверьте… Не хотел… И я же сам вернулся, сам. Страшно там одному-то, в океане. Никто не отозвался. Молчание было тяжелым, оно не предвещало ничего доброго. Шумейкин затравленно огляделся. Десять пар непримиримых глаз в упор смотрели на него. И не было в этих глазах ничего, кроме гнева и презрения. — Встать! Резкая команда Семибратова хлестнула Шумейкина. Еще минуту назад казалось, что нет сил даже двинуть пальцем. А тут он дернулся и быстро поднялся. Шумейкин стоял в тесном кругу солдат, и ему было страшно. — Взять под стражу! — распорядился Семибратов. В пещере наступило гнетущее молчание. Тишину нарушало лишь потрескивание сучьев в костре. Неподвижно сидели бойцы, погруженные в нелегкие думы. Сейчас им предстояло решить участь Шумейкина. А это всегда нелегко — решать судьбу другого, даже если он негодяй. — Что будем делать, товарищи? — нарушил Семибратов затянувшееся молчание. — Набить бы ему морду, — выдохнул Галута. — Что и говорить, суровая мера наказания, — насмешливо протянул Воронец. — А что? — вмешался Семенычев. — В старину у нас в станице добре учили батогами. Но тут поднялся Сазонов. Заговорил он глухо, с растяжкой: — Земля, где мы с вами сейчас живем, от Родины далеко. Но остров-то наш. За его освобождение мы своих товарищей положили. — Ну и что с того? — не выдержал Галута медлительности мичмана. — К чему ты клонишь? — Ни к чему я не клоню. Просто хочу сказать: раз земля наша — и законы на ней должны быть наши, справедливые. — Что же ты предлагаешь, Трофим Игнатьевич? — спросил Мантусов. — Ничего особенного, Матвей Федорович. Предлагаю сделать как положено: судить. — Судить? — Воронец удивленно присвистнул. — А кто нам дал такое право? — Советская власть, — спокойно отозвался Сазонов. — Суд-то наш не зря зовется народным. В нем народ полный отчет с виноватых требует. А у нас самый что ни на есть крайний случай. Дезертирство! Человек на своих товарищей руку поднял. Ни понять такого, ни простить нельзя. Сазонов умолк, и снова надолго наступила тишина. Уж очень суровы и беспощадны были слова, сказанные парторгом. Но возразить нечего — против справедливости не пойдешь. — Мичман верно говорит, — глухо произнес Галута. — Раз ты всех нас не за понюшку табаку продал, значит, получай кару. — Вин же почти уси продукты спер, — поддержал Галуту Семенычев. — При рачительном расходе нам бы еще надолго хватило. — О чем речь? — хмуро заметил Мантусов. — Назначай трибунал, командир. Семибратов ждал, пока выскажутся все. Ему важно было знать, что думают люди. А думали они верно. — Что ж, комиссар, — негромко сказал Семибратов. — Тебе придется быть председателем. — Кандидатура самая подходящая, — сказал Мантусов. — Возражений не имеется. Сазонов повернулся к нему. — Согласен. При условии, если ты тоже войдешь в состав трибунала. — А кто ж третий? — спросил Воронец. Семибратов обвел десантников взглядом. — Пусть будет рядовой Семенычев. Он постарше нас.
Военный трибунал заседал по всей форме. — Шумейкин Иван Петрович, одна тысяча девятьсот двадцать второго года рождения, дважды судимый, амнистированный, обвиняется… На вопросы Шумейкин отвечал сквозь зубы. Он уже оправился от пережитого потрясения и презрительно усмехался: самодеятельность, а не суд. Сазонов долго терпел, потом возмутился: — Перестаньте, Шумейкин! С вами не шутят! И по тому, как это было сказано, Шумейкин понял: а ведь действительно не шутят. Могут и припаять! И тогда он начал юлить, изворачиваться: он не дезертир и ни от кого не бежал. Он хотел сделать лучше для всех. Все боялись, а он рискнул. Подмога же нужна! Небось доплыл бы да сообщил куда следует — в ножки ему поклонились бы. Эта версия так понравилась Шумейкину, что он стал повторять ее на разные лады. «Ловко придумано, ничего не скажешь, — отметил про себя Пономарев. — Экий же скользкий тип, голыми руками не ухватишь! Сукин сын, почище Вальки Зубцова. Гляди, еще и выкрутится». Он сидел в сторонке и слушал то, что говорилось. Но когда Шумейкин нашел столь неожиданное объяснение своему поступку, Пономарев едко усмехнулся. Он даже испытал что-то вроде зависти. Но чувство зависти уступило место досаде. Ну зачем же так врать? Кого Шумейкин хочет обмануть? «А что, если ему действительно поверят?» — подумал Пономарев, и ему стало неприятно. Он попытался побороть это ощущение. В конце концов, ему-то какое дело? Но досада не проходила, а, наоборот, усиливалась. И чем сильнее изворачивался и лгал Шумейкин, тем неприятней было Пономареву слушать его. Уж кто-кто, а он-то знал Шумейкина: ради других и пальцем не пошевельнет. Это точно! Все для себя, только для себя. Если будет выгодно, мать родную продаст! В какой-то момент Пономареву почудилось, что Шумейкина слушают сочувственно. Он заволновался. Как же так? Неужели все-таки могут поверить? Пономарев обвел взглядом присутствующих, и ему захотелось закричать: «Братцы, разве вы не видите? Раскройте шире глаза!» В этот момент Пономарев, пожалуй, впервые почувствовал, что люди, сидящие здесь, рядом с ним, не то чтобы дороги ему, а как-то близки и понятны, что он с ними! Шумейкин продолжал говорить, и тут Пономарев не выдержал, вскочил и крикнул: — Врешь! Все ты врешь! Шумейкин умолк на полуслове и тяжело повернулся к Пономареву. Он никак не ожидал такого «предательства» и в первую секунду был ошарашен. Пономарев был обязан ему многим. Он и вел себя всегда соответствующе: поддакивал, сочувствовал. Какая муха его укусила? Шумейкин исподлобья поглядел на Пономарева. — Пока вы тут дрыхли без задних ног, — сказал Шумейкин насмешливо, — мой дружок Пономарев помог мне отбыть с острова. Сам я, прошу извиненьица, пупок надорвал бы, прежде чем лодку спихнуть. Пономарев похолодел. Он не предполагал, что дело может обернуться таким образом. Вот же гад! Но кто поверит, что это не так? Они же всегда были дружками — все видели. Пономарев поднялся. Слова застряли у него в горле. — Нет! — с трудом проговорил он. — Нет! — повторил с отчаянием. — Рассказывай сказки! — Шумейкин захохотал. — Он хотел со мной драпать! Я его просто не взял. А то бы и он… — Прекратите, Шумейкин! — оборвал Семибратов. Все время он внимательно наблюдал за Пономаревым и понимал, что творится в душе у того. Пономарев растерянно посмотрел на командира, потом на бойцов. Он знал, что от Семибратова зависит все. Как тот скажет, так и будет. Но не это почему-то сейчас волновало его. Страха не было. Было лишь недоумение и обида. Неужели не поймут? — Садитесь, Пономарев, — мягко сказал Семибратов и, повернувшись к Шумейкину, добавил: — А вы не пытайтесь взвалить свою вину на другого. Пономарев продолжал еще некоторое время растерянно стоять, пока Семенычев не потянул его за рукав. — Сидай же. Когда Пономарев опустился на камень, Галута обнял его за плечи и шепнул: — Не обращай внимания, мы же видим, что он за птица… Шумейкин хотел еще что-то сказать, но Сазонов, подняв руку, сурово бросил: — Пойдем дальше… Заседание трибунала продолжалось. Только под вечер Сазонов, Мантусов и Семенычев закончили разбор дела и выяснение всех обстоятельств преступления. Затем они удалились на совещание в маленькую пещеру и долго не возвращались. Десантники сидели хмурые и старались не смотреть в сторону «скамьи подсудимых», где находился Шумейкин. Около него с автоматом в руках, как живое напоминание о совершенном преступлении, стоял Комков с перевязанной головой. Пещеру заполнили сумерки. Длинные тени легли по углам. Касумов подбросил веток в костер — пламя подпрыгнуло кверху. Желтые блики заплясали на стенах. — Встать! Суд идет! — раздалась команда. Сазонов подошел к костру. — Именем Союза Советских Социалистических Республик… — Голос у него был ровный, без интонаций. — За трусость и предательство… Шумейкин еще храбрился. Губы его кривила усмешка. Но где-то в глубине души уже поднимался страх, липкий и вязкий. А Сазонов продолжал: — …за дезертирство из рядов Красной Армии, за нападение на товарищей Шумейкин Иван Петрович… — он сделал паузу, — …приговаривается к расстрелу! Кто-то громко охнул. Люди ждали именно такою решения, но сейчас всем стало жутко. Сазонов сурово произнес: — Приговор окончательный. Обжалованию не подлежит.
Глава четырнадцатая
Семибратов не надеялся на более мягкий приговор. Знал, что будет именно так, а не иначе. И все-таки в глубине души жила надежда: а вдруг? Вдруг они найдут какое-нибудь другое решение? Разве нет способа исправить человека? У каждого в душе должны быть добрые струны, и если затронуть их… Он лежал на своем гранитном ложе. Рука затекла, хотелось курить. Давно было пора отвыкнуть от курева, но не смог. Память вновь и вновь возвращала его к прежним привычкам и понятиям. Их не сбросишь, как старую одежду. В военной присяге говорится: «Если же я нарушу… пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся». Какой же мерой можно измерить глубину предательства? Круг замкнулся. Из него нет выхода. Нет и не может быть прощения предателю. Пожалуй, при любом составе трибунала приговор был бы точно таким. Теперь остается одно: привести приговор в исполнение. И чем скорее, тем лучше. Семибратов понимает это умом, а вот сердцем… Сейчас от него зависит, когда и кто это сделает. Он здесь высшая инстанция, и ему принадлежит последнее слово. Но кто бы знал, как его трудно произнести! Не спалось. Было душно. Измученный Семибратов поднялся и вышел из пещеры. Над островом занимался рассвет. Врезанный в небо вулкан был затянут дымкой. Семибратов тряхнул головой. Забыть бы обо всем на свете! И не думать ни о тревогах завтрашних, ни о заботах сегодняшних, ни о том, что ты начальник гарнизона и тебе надо принимать окончательное решение. На посту у входа стоял Касумов. Он крепко сжимал автомат. Увидев командира, Касумов обрадовался. Улыбка тронула полные губы. — Давно вопрос задавать хотел, товарищ младший лейтенант, — сказал он несмело. — Слушаю вас, Касумов, — машинально отозвался Семибратов. Мысли его были заняты другим. Рахим смущенно переступил с ноги на ногу и неожиданно выпалил: — Скажи, пожалуйста. Только честно… На какой срок еще рассчитывать? До Семибратова не сразу дошел смысл вопроса. И лишь когда Касумов добавил: «Скоро хлопок сеять. В кишлаке работать нужно», — он понял, что́ волнует бойца. Так же, наверное, как и других. Только другие пока молчат. Но каждый все равно задает себе один и тот же неотступный вопрос: «Сколько же мы еще тут пробудем? Месяц, два? Или год? Суждено ли нам вообще вернуться на Большую землю, обнять матерей, жен, друзей?..» Семибратов и сам нередко спрашивает себя об этом же. И, если честно, не может ответить. Теперь уже совершенно ясно, что остров их лежит вне обычных морских путей. За все это время вблизи не появилось ни одного пароходного дымка. Так что рассчитывать можно разве только на случай. Но не скажешь же об этом Касумову. Хотя, кто знает, может быть, как раз и надо обязательно сказать! — А как вы думаете, Рахим, — неожиданно спросил он, — сколько мы сможем тут продержаться? Ну, если никто не придет? Касумов посмотрел на него недоверчиво. Семибратову показалось, что боец подумал, будто он что-то скрывает. — Нет, я просто теоретически спрашиваю, — поспешно пояснил Семибратов. — Хочу знать ваше мнение. Касумов насупился. — Зачем спрашиваешь? Разве так не знаешь? — Оно-то, конечно… — Семибратов смутился. — Но все же… Как вы полагаете? Долго мы могли бы продержаться? Рахим помолчал, будто взвешивая слова командира. Потом пожал плечами и совсем просто сказал: — А сколько надо… Семибратов облегченно рассмеялся. — Вот вы сами и ответили на свой вопрос, Касумов. Все правильно. И… спасибо вам! Рахим удивленно вскинул брови и с искренним недоумением воскликнул: — Мне зачем спасибо? Мне не надо. Это тебе надо! Верно, верно говорю! Семибратов больше ничего не сказал, хотя сказать хотелось многое. Задумчиво спустился к берегу и медленно пошел вдоль кромки прибоя. На душе потеплело, но было по-прежнему тревожно. Доверие — это, конечно, здорово! Но ответственности от этого, пожалуй, еще больше. И какой ответственности! Время идет. И насчет Шумейкина надо принимать решение. Пора! Когда и кто?.. Кто-то торопливо шел по берегу. Семибратов обернулся и увидел, что его догоняет Воронец. Это не удивило. В глубине души он надеялся, что Сергей придет к нему именно сейчас, как приходил всегда в трудные минуты. Воронец, будто оправдываясь, сказал: — Я искал тебя, Николай… Я подумал, что могу понадобиться. Знаю, что ты и сам сильный, но вдвоем… — Догадался, что сомневаюсь? — не поворачивая головы, спросил Семибратов. — Это-то и хорошо, что сомневаешься! — воскликнул Воронец. — Ты очень изменился, Николай. — Наверное, не в лучшую сторону… Ирония не ускользнула от Воронца. — Не надо, — сказал он тихо. — Я же серьезно… Раньше ты бы, не задумываясь, принял решение. И я, честно говоря, не уверен, что оно было бы лучшим. А теперь… Он запнулся, не находя, очевидно, подходящего выражения. Но Семибратов понял его и так. Он снова чувствовал себя старше, опытней и понимал друга гораздо лучше, чем тот мог предположить. Воронец присел на валун и кивнул в сторону океана. — Вот нам живой пример диалектики. Помнишь, учили? Все течет, все изменяется, всякий раз новые краски, линии, звуки. И все же есть что-то постоянное, даже не поймешь сразу что… Я, откровенно говоря, долго не понимал. — В радуге помимо семи цветов есть много оттенков, так, что ли? — напомнил Семибратов. — Верно, оттенков действительно много. В этом Нина права. Но она всегда упускала другое… — Что же именно? — Оттенков-то много, а основных цветов — семь. Всего семь, — повторил Воронец. — И нам их никак нельзя забывать. Белое не следует путать с серым, а черное — подбеливать. И опять Семибратов понял, что хотел сказать Воронец. Видно, вначале и он сомневался в правомочности их трибунала и, следовательно, в законности его приговора. Однако предательство есть предательство. Тут не может быть двух мнений. Семибратов обнял друга за плечи. Он был благодарен Воронцу за то, что тот, сам, возможно, не подозревая об этом, помог ему принять окончательное решение. — Ну, я пойду? — сказал Воронец. — По-моему, тебе надо сейчас побыть одному. — Ладно. Иди. Семибратов смотрел вслед другу. Тот шел легко и быстро, словно по ровной дорожке, а не по крутой каменистой тропе. Так ходят люди, привыкшие к горам. И Семибратов вспомнил, что Сергей вырос на Урале. В Донбасс приехал с родителями перед самой войной. Здесь и остался! Об этом говорилось на комсомольском собрании. Они тогда крепко поссорились. Семибратов не мог простить ему дурацкой драки. Кулак — не лучший аргумент в споре. Воронца направили в запасной полк. В канун Восьмого марта он должен был уехать на Дальний Восток. Нина прибежала на проходную, вызвала Семибратова. — Ему нельзя на денек задержаться? — спросила она. — Ты забываешь, что идет война. — Не считай меня дурой, Николай. — Она гневно сдвинула брови. — Я знаю, что такое военное время. — И тем не менее армейские порядки ты представляешь плохо. Глаза Нины порыжели, как выжженная солнцем трава, но выдержка не изменила ей. Она резко повернулась к дежурному. — Вы не смогли бы, товарищ лейтенант, проводить меня к начальнику политотдела? Очень прошу вас! Она прошла мимо Семибратова, не повернув головы. Вернулась минут через пятнадцать и категорически объявила: — Сегодня вечером жду вас к себе. — Я не смогу прийти! — сказал Семибратов и совсем близко увидел яркую зелень ее глаз. — Ты придешь, Николай. И Воронец придет. Пока! Они, конечно, пришли. Только не вместе, порознь. Даже не поздоровались, настолько далеко зашла их ссора. Сидели в разных углах комнаты и молчали. Воронец листал старый журнал. Семибратов старательно разглядывал фотографии на стене. Нина принесла винегрет, сало, нарезанное мелкими кусочками, немного хлеба, достала из шкафчика бутылку домашнего вина. — Веселимся! Никто не отозвался. — Да вы что?! Эй, проснитесь! На такой роскошный стол я чуть не ползарплаты израсходовала. Черти неблагодарные, для вас же старалась! — Спасибо, — выдавил Сергей, не поднимая головы. — И это все? Она внимательно посмотрела на них. — Что же все-таки случилось у вас, мальчики? — спросила тихо. — Молчите? Ну и дьявол с вами! Но завтра Восьмое марта. Выпить рюмку наливки за мой праздник вы можете? Воронец молча встал и подошел к столу, взял рюмку. Семибратов сделал то же самое. Они не притронулись к еде. — Как на похоронах, — заметила Нина с усмешкой. — Может, мы и в самом деле на похоронах, — ответил Воронец. — Похороны ведь бывают разные. Можно хоронить, например, привязанность, дружбу… — Воронец искоса посмотрел на Семибратова. — Грош цена такой дружбе, когда она основана на беспринципности! — запальчиво возразил Семибратов. — Думаешь, ты прав, вычеркнув себя из рядов будущих офицеров? Мало тебе… — Что я слышу! — воскликнула Нина. — Вот это речь! Так его!.. Давай, давай, самый подходящий праздничный разговор. И побольше нравоучительности. Ее насмешка подлила масла в огонь. — Нечего иронизировать! Ничего смешного тут нет. Нина откинулась на спинку стула и посмотрела на Семибратова, будто видела его впервые. Потом задумчиво и устало сказала:. — Жаль, Николай, я так тебя ничему и не научила. А ведь старалась… — Напрасно, — подал реплику Воронец. Нина резко повернулась к нему: — А я тебе слова не давала. О тебе речь впереди. Получишь еще свое… — Если захочу. — Захочешь. — В голосе ее прозвучала непреклонная уверенность. — Тем более что я знаю все. Чем ты гордишься? Кому нужна твоя дурацкая щепетильность?.. Ишь нашелся защитник девичьей чести на кулаках! — Ну, знаешь! Я могу и уйти. — Вот как? Уходи! Уходите оба!.. Они разошлись молча. И хотя шли до училища вместе, не сказали больше друг другу ни слова. Через два дня Воронец уехал, не попрощавшись. После его отъезда Семибратов перестал бывать у Нины. Он не считал себя вправе ходить к ней… Семибратову захотелось вернуть Сергея, сказать ему что-нибудь доброе, хорошее: ну хотя бы насчет Нины и их последнего свидания. Воронец об этом ничего не знает. Все было недосуг рассказать. Но Семибратов сдержался, понимая, что теперь не время и не место для подобных объяснений. — Ладно, — тихо проговорил Семибратов и подумал, что когда-нибудь расскажет Сергею обо всем, что произошло возле клуба училища в тот памятный вечер.Они встретились с Ниной случайно. Кто-то из ребят пригласил ее на выпускной вечер. Семибратов неожиданно столкнулся с девушкой в дверях клуба. Он растерялся: никак не предполагал увидеть ее здесь. Нина была такой же красивой, как и прежде. Нет, даже лучше! Она немного похудела, черты лица слегка заострились. Но улыбка и особенно выражение глаз остались прежними. «Потанцуем?» — предложила Нина так, будто они расстались вчера, а не полтора месяца назад. Нельзя сказать, что его не тянуло к ней. Но он запретил себе думать об этом. Эх, кто бы знал, как тяжело ему было! Сколько раз он говорил себе: «Ну что из того, если я схожу к ней? Просто так, скажу: «Здравствуй» и «До свидания». Что в том худого?» Но он прекрасно знал, что не пойдет и ничего не скажет. После танца они отошли в угол, к эстраде. Нина окинула его оценивающим взглядом ж улыбнулась. «Ты такой шикарный. Знаешь, как… — Она запнулась под его сердитым взглядом, пожала плечами и продолжила: — Нет, ты ничего не думай. Просто тебе очень идут офицерские погоны, поверь мне… Душно тут. Выйдем?..» В небе висела полная луна, и было светло как днем. Они долго стояли молча в густой тени каштана. Наконец Нина, не то спрашивая, не то утверждая, тихо сказала: «Уезжаешь…» «Нас отправляют на Дальний Восток», — зачем-то начал объяснять ей Семибратов и вдруг отчетливо понял: не то он говорит. Она ждет от него совсем иных слов. Он почти наверняка знал, каких именно, и рад был бы сказать их, но не мог. И от этой раздвоенности ему было больно. Он замолчал. Пауза затянулась, стала неловкой. «Понимаешь, Нина, я не ходил…» Она перебила его: «Не надо, — и повторила с еле уловимой горечью: — Не надо… Я же знаю, что для тебя в радуге нет оттенков, есть только основные цвета. Иного ты не признаешь». «Неправда!» — горячо воскликнул он. «Правда, Коля. К сожалению. — Она вздохнула. — А впрочем, может быть, и к счастью». Нина зябко повела плечами. «Тебе холодно?» — встревожился он. «Эх, Коля, Коля… — В голосе ее послышались нотки сожаления. — Так тебя я ничему и не выучила. Ты остался наивным. Но это, наверное, даже хорошо». Он хотел возразить. Она остановила его жестом. «Оставайся таким всегда, — сказала Нина. — Ну, я пойду. Не провожай меня, пожалуйста. Не надо. Я буду ждать. Возвращайся… Возвращайтесь оба. Живыми!»
Второй день над островом бушевала пурга. Второй день, не затихая ни на минуту, злобствовал ветер. Океанская волна тяжело била в берег, и от этих ударов подрагивала земля. Снег кружился над сопками, оседая между скал. Над обрывом морской террасы угрожающе нависали белые карнизы. Под ними снег оседал мягкими усталыми изломами, а у самой воды лежал почти ровными наносами. Прибой жадно лизал их, заставляя отступать все дальше от берега. Когда же вода спадала, в снегу оставались желтые щербатые скосы. Пурга быстро забеливала их. Мелкая снежная пыль залетала в пещеру и оседала на полу белесым скрипучим налетом. Вокруг костра налет быстро таял, а по углам лежал нетронутый и постепенно утолщался. Мантусов периодически заставлял кого-нибудь из бойцов смести снег к выходу, где теперь стоял часовой. Топливо экономили, костра во второй пещере не жгли, поэтому Шумейкин был временно, до исполнения приговора, переведен в общее жилище. Никто не разговаривал с осужденным. Шумейкин часами неподвижно сидел на полу, обхватив руками колени, и молча смотрел на огонь. В глазах его не отражалось ни одной мысли, лишь плескались отблески пламени, не придавая, однако, глазам жизни. И ел Шумейкин точно так же — машинально и равнодушно. Семибратов попробовал спросить у него, не хочет ли он написать что-нибудь родным. Шумейкин не ответил. На лице, кроме досады, не отразилось ничего. Семибратову было бы понятнее, если б Шумейкин злился, негодовал. Любые чувства, пусть даже плохие, говорят о том, что человек жив. А этот будто уже мертв. К Семибратову подошел Мантусов, мягко взял за руку: — Не надо зря тратить порох, командир. Не стоит он того. — Не понимаю я таких людей, Матвей Федорович, — вздохнул Семибратов. — Ничего особенного, командир. Просто сгорел человек до срока. Слишком густо жил. Вот и осталась от него одна видимость. — Базу подводишь? — Базу под наш приговор, если его имеешь в виду, он сам подвел. Семибратову хотелось расспросить Мантусова, о чем тот думал, когда подписывал смертный приговор. Ведь это очень трудно, даже когда убежден, что человек виновен. Однако помкомвзвода не был расположен обсуждать эти вопросы. Он свое слово сказал. О чем еще толковать? Тем более есть вещи поважнее. Сегодня заложили в котел последнюю рыбу. Больше запасов нет! Сообщение Мантусова застало Семибратова врасплох. Он надеялся, что запасов хватит хотя бы до окончания пурги, когда можно будет охотиться. Вчера они попытались выйти из пещеры, но тут же увязли в снегу. В пяти шагах ничего нельзя было рассмотреть. Пришлось дать сигнал к возвращению: не стоило рисковать людьми. — Не помешаю? — спросил, подходя, Сазонов. — Тебя-то как раз и не хватает, комиссар, — невесело улыбнулся Мантусов. — Кликнуть еще Воронца и можно открывать военный совет. Отблески костра освещали пещеру неровными вспышками. В дрожащих отсветах пламени лица Сазонова и Мантусова казались особенно худыми и постаревшими. Глубокая чернота залегла под глазами. Отчетливее проступили морщины на лбу. «Наверное, и я не лучше выгляжу», — подумал Семибратов. Сазонов перехватил его взгляд. — Что, командир, краше в гроб кладут? — Ну что ты, Трофим Игнатьевич! — возразил Семибратов как можно бодрее. — Не надо, командир. Худо дело. Помнишь, мы как-то насчет надежды толковали. Ты и теперь остался при своем мнении? — А что ты думаешь, кончилась моя надежда? — не отвечая на вопрос Сазонова, сказал Семибратов. — Нет, дорогой Трофим Игнатьевич, надежда умирает только с человеком. — Но все же поубавилось ее малость, не так ли? — Есть такое, — признался Семибратов. — Но я уже говорил и могу повторить: десять процентов надежды остается в любом случае. Это минимум, без которого нельзя жить и бороться. — Согласен. Но это в общем и целом. А конкретно? — Что ты пристал к командиру? — вмешался Мантусов. — Сам же знаешь, не пропадем. — Понятно, не пропадем. Но все же не мешает и перспективу видеть. Ну хотя бы чем завтра будем кормить людей, если пурга не утихнет? — Пустим в котел нерпичьи шкурки. На них и жир имеется. — Мантусов улыбнулся. — Я не шучу… — Сазонов досадливо поморщился. — И я говорю вполне серьезно. Да и рис еще есть. К тому же мы люди военные, у нас дисциплина, организованность. И мы продержимся в любом случае, — сказал Мантусов. «А ведь он прав, — подумал Семибратов. — Пришлось бы гораздо труднее, не будь у нас воинского порядка». В пещере сгустились ранние сумерки. Грохот океана стал глуше. Ужинали уже в темноте. Морщась, хлебали жиденькое горячее варево. — А что, други мои, сервис, как в лучших приморских ресторанах, — первым, как обычно, заговорил Комков. — Да-а… куда уж там, — мрачно протянул Галута. — Такое можно жрать только с большой голодухи. — Мама родная, да у тебя ж нет, никакой фантазии. Моряк, монсеньер, должен быть романтиком. Когда требуется, он, извиняюсь, заместо гальюна обязан представлять первоклассную портовую парикмахерскую. У нас в Таганроге обслуживают в парикмахерских на высшем уровне. А какие запахи — умереть можно. Одеколон «Фиалка», духи «Сирень». Как в оранжерее… Ложки заработали веселей. К Комкову подошел Топтун, широко зевнул и улегся возле ног. Семенычев не без опаски погладил зверя по боку. — Отощал вовсе. А какой был справный! — Исхудать-то, конечно, исхудал, — заметил Галута, — но кое-что еще имеется. А я, ребята, медвежатнику люблю… Бойцы замолчали. Намек был слишком явным, но высказаться вслух никто не решился. Семибратов оборвал тишину: — Ну, все. По местам. Отбой!
Комков терпеливо ждал, пока все заснут. Слова Галуты не шли у него из головы. Он был зол на Галуту и в то же время не мог не признать, что моряк прав. Если придется, он жизнь готов отдать за товарищей, но Топтуна — на мясо?! Комков прижал к себе лежащего рядом зверя. Медведь доверчиво лизнул ему руку. В свете костра Комков увидел Сашка, стоящего у входа с автоматом через плечо. Комков нащупал в кармане ошейник Топтуна, сделанный из обрезков нерпичьей шкуры. Он почти не надевал его на зверя. Обычно Топтун ходил свободно, без поводка. Но сейчас Яшка посчитал нужным надеть ошейник. Медведь мог заупрямиться и не пойти из теплой пещеры на холод. Однако зверь покорно встал и двинулся следом за хозяином. Проходя мимо часового, Яшка приложил палец к губам. Метель утихала. В разрыве облаков проглядывала луна. Миновав морскую террасу, Комков свернул к ручью. У зарослей бамбука он остановился, отстегнул ошейник и ласково, потрепал Топтуна по загривку. Медведь будто почуял неладное. Он поднялся на задние лапы и, казалось, вопросительно заглянул Комкову в глаза. У того навернулись слезы. — Ну, иди… иди! В этот момент отрывисто ударил выстрел. Комков вздрогнул. «Что-то случилось!» — подумал он и побежал к пещере. На уступе толпились возбужденные десантники. В кругу с автоматом в руках стоял растерянный Сашок. Из пещеры вышел Семибратов. Был он, как всегда, собран и спокоен. Даже, может быть, слишком спокоен, что всегда выдавало его волнение Мантусову да еще Сазонову. — Что случилось, Белов? — строго спросил он. — Честное слово, товарищ младший лейтенант, я не хотел… Он толкнул меня и побежал… Он там, внизу… — Кто он? Объясните толком. — Да Шумейкин же!..
Шумейкин вот уже третью ночь не мог сомкнуть глаз. Стоило ему задремать, как тут же наваливались кошмары. Становилось трудно дышать, и было страшно. Ничего другого, никаких ощущений: ни отчаяния, ни злости, ни тем более раскаяния — один страх. Где-то в глубине сознания он понимал, что игра проиграна. Подбиты бабки. Теперь надо расплачиваться. А расплачиваться нечем, кроме собственной жизни. Но примириться с этим он не мог. Ему нужно выжить во что бы то ни стало! В эту последнюю ночь Шумейкин тоже не смог уснуть. Лежал с открытыми глазами и смотрел на костер. Когда рассвело, он вдруг заметил, что стоящий на посту у входа в пещеру Сашок дремлет, прислонившись к скале. Еще минуту назад Шумейкин не думал о побеге, сознавая, что это бессмысленно. А тут вдруг сработал рефлекс. Шумейкин резко оттолкнул часового и выскочил из пещеры. Свобода опьянила его. Он кинулся вниз. Сзади отчетливо лязгнул затвор автомата. Шумейкин оглянулся. Яркая вспышка ударила в глаза. Выстрела он уже не услышал…
Глава пятнадцатая
Над океаном плыли спокойные облака. И сам океан был удивительно спокоен. Так и хотелось броситься в него и поплыть на восток, навстречу ласковому солнцу. Утро началось удачно. Воронец поймал на блесну крупного морского окуня, а Касумов — морскую собаку. Разочарованный Рахим хотел было выбросить ее обратно в океан, но Галута удержал: — Постой. Не торопись, пехота. На нашем базаре все сгодится. Попробуем на приманку пустить. Не для рыбы, так для зверя. Вчера вон дед Семеныч лису в силки поймал. И тоже на приманку. На худой конец Топтуну отдадим. Надо ж подкормить его, исхудал совсем. Как вернулся, не узнать. Даже зверю одному худо. Воронец хитровато прищурился. — А кто-то, помнится, хотел медвежатины отведать… — Ну, когда это было! Никто бы его не тронул, — ответил Галута. — Яшка тогда зря испугался. — А Топтун все равно назад ходил, — засмеялся Касумов. — Смешно было… Сидел Яшка грустно-грустно, а тут морда… — Яшка обрадовался… — А ты будто не рад был, — усмехнулся Воронец. — Первым небось к Топтуну бросился. — Ну и бросился, — буркнул Галута. — Что ж тут такого? Животное, оно бессловесное, его любить надо. Воронец снова поймал окуня. — Вот уж никак не предполагал, что из меня путный рыбак получится. — Он засмеялся. — Я ведь в горах вырос. — Нужда всему выучит. — Ну не скажи, — задумчиво возразил Воронец. — Я читал, что одна экспедиция, не то голландская, не то португальская, потерпев кораблекрушение, погибла от голода на Полинезийских островах. А ведь там и растительный и животный мир не чета здешнему. — Сравнил! — протянул Галута. — У них же там никакой сплоченности нет. И закалка опять-таки не нашенская. Уж если мы такую войну выдержали, значит, и не то можем!Ночью еще держался легкий морозец, сопки на рассвете серебрились от инея. Но стоило только выглянуть солнцу, как скалы сразу темнели, от них шел пар. Приближалась весна. Идя по берегу ручья, Семибратов прислушивался к звону веселой капели. За зиму все устали от вынужденного порой безделья, от невозможности развернуться как следует. Теперь ему хотелось двигаться, действовать, принимать важные решения и тут же осуществлять их. Дел у них было непочатый край. Он видел это, знал и готов был к любым трудностям. Вчера Мантусов спросил: «С чего начнем, командир?» Семибратов ответил: «С самого начала». И это была не просто фраза. Десятки планов рождались у него в голове и становились реальными, осязаемыми задачами. Они теперь, как сказал Комков, стали зрелыми, хлебнувшими лиха робинзонами и не имели права на ошибки. Слишком много их было сделано за зиму.Горькие уроки надо учитывать. Рядом с Семибратовым размашисто шагал Сазонов. Ветер трепал его непокрытые седые волосы, на морщинистом лице появилось несвойственное Сазонову мечтательное выражение. Они миновали заросли бамбука и поднялись вверх по склону на небольшую плоскую площадку. Сазонов остановился у огромного валуна и неторопливо сказал: — Вот то самое место, что мы вчера на рекогносцировке выбрали. Вода рядом. Деревья недалеко — при постройке дома без лесоматериала не обойтись. Камень тоже есть, для фундамента и для кладки стен. Семибратов молчал, задумчиво глядя вдаль. Сазонов решил, что не убедил командира, и продолжал настойчиво: — Глина тут неподалеку, носилками таскать можно. А вид! Вид какой! Ты посмотри, отсюда вся бухта просматривается. — Так я ж не против. — Семибратов улыбнулся. — Что ты меня уговариваешь, как девицу? — Да я уж подумал: не нравится, — признался Сазонов. — Нет, место для жилья подходящее. Завтра же и начнем. Кто у нас за главного инженера? — Дед Семеныч вызвался. Приходилось, говорит, хаты ладить, дело немудреное. Полагаю, справится. Ты чем-то недоволен вроде? — Не то. Я просто представил себе на минуту, что тут будет. Да, да, Трофим Игнатьевич! — Семибратов повел рукой. — Я о перспективе говорю. Дом — это только начало. Потом, нам понадобятся склады для продуктов, для дров, для торфа. Ледник нужен обязательно. Да еще коптильня! — Программа по крайней мере лет на пять. — Сазонов усмехнулся. — Если потребуется, можно и на пять! Думаешь, не выдержим? Глаза их встретились. Сазонов посерьезнел. — Почему нет? Выдержали зиму. А она была трудной. — Что и говорить, комиссар, досталось изрядно. И холод, и голод… Мысленно Семибратов снова вернулся к тому, о чем уже много думалось. Да, перенесли они немало. Выстояли. Не согнулись. А разве могло быть иначе? Силы человека не беспредельны. Есть же, наверное, где-то черта, за которой слабеет дух и падает воля? Он уже неоднократно задавал себе этот вопрос. И всякий раз после долгих раздумий приходил к одному и тому же выводу. Нет, иначе быть не могло. Они должны были выдержать. И если понадобится — теперь Семибратов знал это наверняка, — выдержат еще больше. На то они и солдаты. Пройдя еще немного, Семибратов и Сазонов остановились на высоком скалистом мысу. Все так же медленно и величественно рокотал океан. Кипел прибой на рифах, и волны грузно наваливались на берег. Над водой летали кайры. И ветер по-прежнему пах солью, водорослями и надеждой…
НАЧАЛЬНИКУ ПОГРАНОТРЯДА ПОЛКОВНИКУ АЗЛИДЗЕ А. А. 25 июля 1946 годаРАПОРТ
Доношу, что мною с рыбацкого сейнера № 244 снята группа военнослужащих в числе 10 (десяти) человек, прожившая, как они утверждают, с августа 1945 года на необитаемом острове в квадрате 14—38, названном ими островом Надежды. Сюда их забросило штормом после того, как катер, на котором они штурмовали остров Итуруп, был подбит береговыми батареями противника и потерял управление. Список личного состава, обнаруженного рыбаками на острове Надежды в квадрате 14—38, прилагаю: 1. Младший лейтенант Семибратов Н. Н., командир взвода. 2. Мичман Сазонов Т. И., командир катера. 3. Старший сержант Мантусов М. Ф., пом. командира взвода. 4. Сержант Воронец С. П., командир минометного расчета. 5. Рядовой Белов А. И. 6. Рядовой Пономарев М. И. 7. Рядовой Касумов Р. Ш. 8. Рядовой Семенычев Г. П. 9. Рядовой Комков Я. Л. 10. Матрос Галута И. В.Командир сторожевого корабля ЭШ-398капитан-лейтенант Родимцев.
Начальнику штаба
1) Поставить людей на все виды довольствия. 2) Сообщить о случившемся в редакцию окружной газеты.п-к Азлидзе.
ПАМИРСКАЯ ЛЕГЕНДА
ВСТРЕЧА У ГОРЯЧЕГО ОЗЕРА
Глава первая В ПУСТЫНЕ КАРАКУМ
Получив в штабе пакет, летчик Сергей Голубев вылетел в Хорезмский полк ОГПУ, находившийся, как ему объяснили, где-то в двух-трех переходах от колодца Даш-Аджи. Стояла весна, прекрасная в этих краях, как невеста. Внизу, под крылом самолета, насколько хватал глаз, простирались цветущие хлопковые поля. Отсюда, с высоты пятисот метров, они казались бескрайним бело-зеленым ковром, затянутым, словно паутиной, сеткой серебристых арыков. Изредка виднелись кишлаки. Крыши глинобитных домов утопали в садах, будто припорошенных первым снегом. Вокруг кишлаков — неровные квадраты бахчей, рассеченные грязно-молочными каналами. Свежий ветерок, бивший в лицо, отдавал горьковатым привкусом миндаля. Дышалось легко, свободно. Сергей уверенно вел самолет и думал о том, как хорошо все у него в жизни сложилось. Разве мечтал он, двадцатидвухлетний крестьянский парень, сесть когда-нибудь за штурвал такой вот чудесной машины! Да у них в селе на Амуре и трактор-то был в диковину. Потрепанный, не раз побывавший в переделках Р-5 даже сейчас представлялся Сергею волшебной птицей. Давно ли учлет Голубев зубрил физику, чертил кривые траекторий, ломал голову над математическими задачами! Как трудно, неимоверно сложно казалось тогда познать все эти премудрости! А с каким трепетом он впервые садился за штурвал, как волновался из-за неровной посадки, переживал выговор инструктора! И вот ему доверили настоящий боевой самолет и послали на ответственное задание: в Каракумах шли жаркие схватки с басмачами. За Хивой природа стала меняться. Вместо цветущих садов и бахчей пошли солончаки. Ни кустика, ни травинки. Только бурые сухие шары перекати-поля да поблескивающие пятна соли — следы бывших когда-то здесь озер. Но вскоре и это исчезло. Начались сплошные пески. Бескрайнее царство песков, унылое и однообразное. Ни малейшего ориентира. Голубев забеспокоился: не сбиться бы с курса. Он еще раз взглянул на карту, хотя маршрут знал на память, сверил положение самолета по компасу. Все было в порядке. Прошел еще час полета. Тревога Сергея росла. Заблудиться при первом боевом вылете?! Этого еще не хватало! На весь отряд стыда не оберешься. Наконец, к великой радости летчика, среди холмистой пустыни мелькнул колодец. Голубев по описанию узнал Даш-Аджи. Отсюда к Хорезмскому полку следовало повернуть строго на юг. Сергей облегченно вздохнул, сделал вираж и повел машину низко над землей. Стали видны заросли саксаула, венчающие гребни барханов. Вскоре внизу показались палатки. Над одной из них трепетал красный флаг. Выбрав ровную площадку, Голубев мягко посадил свой Р-5 на три точки и, улыбнувшись самому себе, вспомнил, как инструктор всегда говорил в таких случаях: «Посадочка нормальная. А на «отлично» я и сам не сажаю». Только сейчас, на земле, Сергей в полную меру почувствовал одуряющую жару пустыни. Тело моментально покрылось липким потом. Комбинезон стал непомерно тяжелым. Волосы взмокли. Кожаный шлем обручем сдавил голову. Сергей с трудом стянул его и грузно, зашагал к штабной палатке. Навстречу ему уже бежали люди. Высокий, плечистый, Голубев с трудом протиснулся в узкий вход штабной палатки. При появлении Сергея два человека в гимнастерках, склонившихся над столом и о чем-то споривших, сразу замолчали и выпрямились. Один из них, прищурив близорукие глаза, шагнул вперед и, узнав по обмундированию летчика, приветливо пробасил: — А-а, воздушный бог, здравствуй! Чем ты нас порадуешь? Сергей лихо представился и протянул пакет. Помполит командира полка надел очки и, прочитав документ, нахмурился. — Придется, начштаб, командира будить, — сказал он. — Жаль… Не хотелось бы… — И, словно извиняясь, добавил: — Трое суток не спал человек!.. — А в чем дело? — спросил начальник штаба, протягивая руку за приказом. — Придется выступить на помощь отряду Кулиева. В окружении он. Прочитав приказ, начальник штаба тяжело прошелся по палатке. Был он высок и грузен. На круглом лице резко выдавался жесткий подбородок с глубокой складкой у рта. — Плохо, — сказал он. — Да, плохо. Но приказ есть приказ. Голубев переводил взгляд с одного на другого, не понимая, о чем идет речь. Помполит пояснил: — Мы остались без воды. Утром выслали специальный отряд к колодцу Даш-Аджи, которому пора бы уже вернуться, но… — Вернется, — вмешался начальник штаба, — уверен, что скоро вернется. Что с ним случится? — И глаза его, внимательно смотревшие на Сергея, смягчили первоначальное впечатление суровости и придали лицу добродушное выражение. — Если на басмачей не нарвется. — В этом районе басмачей сейчас нет. — Ну, это как сказать… — О чем спор? — раздался за спиной Сергея резкий голос. Он оглянулся и увидел человека в бурке. Был он малого роста. Лицо, худощавое и почерневшее, опаленное среднеазиатским солнцем, было властным. Узкие с косым, разрезом глаза смотрели пристально, не мигая. Перед Голубевым стоял знаменитый командир Хорезмского полка ОГПУ, о смелости которого по Туркестану ходили легенды. Прочитав привезенный летчиком приказ, командир полка задумался. Потом решительно выпрямился, поправил бурку и приказал: — Выступаем через пятнадцать минут. Мы должны помочь отряду Кулиева разбить остатки банды Ахмед-бека и не дать им соединиться с Дурды-Муратом. Ты, Фролов, — обратился он к начальнику штаба, — останешься здесь с третьей ротой для охраны отбитого обоза. Больше сил выделить не могу. А вы, — повернулся командир полка к Голубеву, — прикомандированы к нам на время операции для связи и тоже пока останетесь тут. Через четверть часа полк снялся с места и, оставив сильно поредевшую в последних боях роту для охраны трофейного имущества, ушел в пески. Осмотрев самолет и на всякий случай приготовив все для взлета, Сергей неторопливо направился вдоль палаток. Жара усиливалась. Над сыпучими дюнами струилось обжигающее марево. Не выдержав, Сергей уже дважды прикладывался к фляге и с наслаждением делал несколько глотков. Но через минуту жажда становилась еще острее и мучительней. Во рту все пересыхало, появлялась горечь. Губы потрескались, а язык стал шершавым, как высушенная хлебная корка. Проходя мимо крайней палатки, Голубев внезапно уловил на себе чей-то пристальный взгляд. Невольно обернулся и увидел женщину. Сразу поразили ее большие горящие глаза. Они светились в полутьме, царившей в палатке. Светились мрачно, огромные, агатовые, окруженные густыми, пушистыми ресницами. Сергей остановился, потоптавшись, приблизился к открытому пологу. Гибкая, маленькая, почти детская фигурка съежилась, словно в ожидании удара. К Голубеву подошел боец из охраны. Он почтительно покосился на кожаный шлем летчика и негромко сказал: — Двенадцатая жена. — Что? — не понял Сергей.. — Двенадцатая, говорю, у Ахмед-бека была, — пояснил боец и добавил с сожалением: — Шестнадцать лет ей всего… Сергей не отрывал взгляда от женщины. Шаль сползла у нее с головы, обнажив волосы, густые, иссиня-черные. — Мы весь обоз Ахмед-бека захватили, — словоохотливо продолжал боец. — Он сам мало-мало ноги унес. Всех жен его забрали. Тут сидят, — ткнул он рукой в палатки, стоящие рядом. — А эту, самую молодую, бек, говорят, всего полгода, как взял где-то в горном кишлаке на Памире. Страдает сейчас, бедная, привычки нет к такой жаре. У них там, в горах, прохладно, а здесь… — Боец вздохнул. Видно, и ему, коренному жителю этих мест, было несладко. — А тут еще воды нет. Сами второй день по капле пьем. Увидев выходящего из штабной палатки Фролова, боец заторопился прочь. Начальника штаба здесь, вероятно, побаивались. А Сергей, повинуясь какому-то неясному чувству, отодвинул полог и вошел внутрь. Женщина испуганно взглянула из-под шали, что-то быстро сказала и стремительно отодвинулась в самый дальний угол. Голова ее наклонилась, плечи передернулись. — Не бойся, — тихо сказал Сергей, опускаясь на ковер у входа. — Не бойся, — повторил он мягко, чувствуя, что она его не понимает. В палатке наступила тишина. Слышно было только дыхание женщины, частое, горячее, с еле уловимой хрипотцой. Голубев отстегнул флягу и протянул ей. — На, пей! Она опять не поняла и, судорожно сжимая в руках платок, смотрела на него расширенными от страха глазами. — Возьми же! Напейся! Вода! — сказал он и для большей убедительности, отвинтив крышку, отпил глоток. — Не бойся! Женщина, уловив в голосе неподдельное участие, наконец поняла, нерешительно протянула руку и взяла флягу дрожащими пальцами. Зубы стукнулись о металлическое горлышко. Она пила жадно, захлебываясь и тяжело дыша, боясь, что у нее вот-вот отберут драгоценную влагу. А Голубев сидел в двух шагах от нее и с улыбкой смотрел на женщину, поглощавшую его неприкосновенный запас. Ему нравилось, как она пьет, нравились ее нежные, чуть припухшие губы. Так бы и поцеловал их. Давно он уже не целовал девчат. С тех самых пор, как покинул родное село на Амуре… Когда фляга была опустошена, женщина с виноватым видом протянула ее обратно. — Рахмат! — прошептала она благодарно, и на густых ресницах сверкнули слезинки. — Ну зачем же плакать! — воскликнул Сергей. — Не надо. Теперь ты в безопасности. И бай твой больше не придет… Он не мог оторвать взгляда от этих огромных завораживающих его плачущих глаз. До чего же хороши! Эх, будь на месте этой байской жены какая-нибудь из амурских девчат, он бы уж знал, как ее утешить. А эту?.. Разве вот… Сергей вытащил из кармана пакет с шоколадом — тоже неприкосновенный запас — и протянул его женщине: — На, вкусно! Она с минуту поколебалась, потом взяла. Голубев обрадовался: — Вот и хорошо! Давно бы так. Ешь, ешь, не стесняйся… Как зовут-то тебя? — Видя, что она недоуменно смотрит на него, Сергей переспросил: — Зовут как? Есть же у тебя имя? — Потом ткнул себя пальцем в грудь и раздельно произнес: — Я — Сергей, Сер-гей! Она догадалась. — Си-рей! — повторила по складам и, положив маленькую руку на грудь, тихо произнесла: — Джамга… Джамга…Глава вторая НАПАДЕНИЕ БАСМАЧЕЙ
Оторвав взгляд от карты, Фролов увидел входящего в палатку летчика и приветливо кивнул. Все эти дни они жили вместе и успели подружиться. Сергею нравился всегда собранный, никогда не унывающий начальник штаба. У Фролова была богатая биография: а прошлом шахтер, потом машинист, подпольщик и, наконец, чекист. Повидал он на своем веку немало и умел удивительно интересно об этом рассказывать. Смеялся он громко, раскатисто, заражая собеседника. При этом его массивная фигура колыхалась так, что трещала по швам гимнастерка. — Видел, Серега, воду привезли! — воскликнул он радостно. — Только маловато. Знаешь, по дороге их все-таки басмачи задержали. Прав был помполит. Целый бой хлопцам пришлось выдержать, а потом в пески уходить. Но ребята молодцы, не подкачали. Жаль, что бурдюков удалось сохранить немного. Пулями продырявили, сволочи!.. Сейчас отправлю воду вдогонку за полком. Себе оставим только минимум. Фролов довольно потер мозолистые ладони. Кожа на руках у него была темной, со следами угольной пыли, въевшейся, кажется, навечно. Лукаво глянув на Сергея, он внезапно спросил: — А ты, я замечаю, дружище, в крайнюю палатку все заглядываешь. Что, понравилась? Сергей покраснел. Начальник штаба попал в точку. Его действительно все эти дни неудержимо тянуло к Джамге. Да и не могла она не понравиться. Тоненькая, гибкая, она казалась ему сказочным цветком, случайно заброшенным ураганом в пустыню, цветком прекрасным и диким, как здешняя природа. Эх, если бы только она не была байской женой!.. Фролов улыбчиво смотрел на Сергея. Такой должен нравиться девушкам. Смуглое худощавое лицо, волнистые русые волосы, мягкие, как шелк, доверчивые голубые глаза. Сейчас он старался держаться осанисто, независимо, как человек, знающий, что он поступает правильно. Но перед Фроловым это ему не удалось, и на губах вместо твердой складки вспыхнула озорная мальчишеская улыбка. Сергей по нескольку раз в день заходил в палатку Джамги. Приносил еду, воду. Но чаще приходил просто так — посидеть, посмотреть на нее. Она вначале дичилась, молчала, но постепенно привыкла к его приходам, прониклась благодарностью и стала даже поглядывать на него с любопытством. Незнание языка не мешало им. Наоборот, придавало встречам какое-то своеобразие. Сергей садился у входа. Дальше Джамга не пускала его. И начинался разговор, больше походивший на детскую игру угадайку. Сергей показывал на какую-нибудь вещь. Она называла ее по-таджикски. Он повторял, безбожно коверкая слова. Она смеялась, довольная. В глазах появлялись искорки, а на щеках — ямочки, которые так нравились Сергею. Он иногда даже нарочно говорил неправильно, чтобы вызвать ее улыбку. Затем роли менялись, но игра продолжалась. Теперь Сергей называл предметы по-русски и заставлял ее повторять. Делал он это с увлечением, забывая обо всем на свете, и время летело незаметно. Вот и сейчас Сергей только что вернулся от Джамги, оставив ей целый котелок свежей воды. Поэтому замечание Фролова так смутило его. — Ну что ты, Фролыч, — ответил он в замешательстве. — Просто жаль девушку. Она же почти ребенок. — Ты-то далеко от нее ушел? Фролов ласково потрепал русые вихры Сергея и нежно посмотрел на него: — Все понимаю, друг мой. Она ведь тоже к тебе потянулась. Сердцем почувствовала, что с открытой душой ты, а не для баловства… Думаешь, ей у бека сладко жилось? Ахмед, конечно, к ней благоволил. Еще бы: самая молодая жена, последняя. А она, кроме страха, по-моему, ничего к старику не испытывала. Терпела, не имея другого выхода… Вдобавок еще старшие жены злобу свою на ней вымещали, все делали, чтобы погасить ее необыкновенную красоту. Когда мы обоз отбили, я ее всю в синяках нашел. Каково так жить?.. Слушая Фролова, Сергей впервые подумал о Джамге серьезно. До этого все выходило как-то само собой. Он посочувствовал красивой девушке и принял в ней участие. Но если разобраться, то она — представитель вражеского класса, а он — комсомолец. Как совместить чувства и разум?.. — Рвалась ее душа на свободу. Ой как рвалась, — продолжал Фролов, точно угадав-мысли Сергея. — Не раз бежать хотела. Девушка она гордая, в горах выросла. И красавица. Верно? Такую и полюбить не грех. Да не красней, Серега, все понимаю. Со мной аналогичный случай в молодости был. — Фролов грустно усмехнулся. — В твои годы я дивчину из белогвардейского лазарета увез. Возвращался с хлопцами под утро из далекой разведки, наскочил на их избу, а она и просит: возьми, казаче, с собой, нету мочи жить тут. Взял да и увез! А потом чуть под трибунал не попал из-за этого. Старый подпольщик, говорили, опытный командир, а глупость такую сотворил. Так-то… — А она как? — Ничего. Хорошей хозяйкой стала. — Где же она сейчас? Начальник штаба низко опустил голову. — В двадцать четвертом в Гульче от басмаческой пули погибла, — ответил глухо Фролов и, нахмурившись, опять склонился над картой. В палатке воцарилась тишина. Только далеко в барханах посвистывал ветер. Быстро сгущались сумерки. Сергей снял гимнастерку и с удовольствием растянулся на кошме. Фролов зажег лампу и что-то еще долго высчитывал по карте. Сергей уже начал дремать, когда начальник штаба наконец поднялся. — Спишь, Серега? — потянувшись, спросил он. — Нет еще. — Завтра на рассвете вылетишь в Самаркандский полк. Он стоит южнее… — Фролов подсел на кошму и по карте показал маршрут. — Понял?.. А теперь спать. Через несколько минут палатка огласилась его могучим храпом. Сергей же долго не мог заснуть, ворочался, курил. Он думал о Джамге, понимая, что завтра расстанется с ней и увидит ли еще когда-нибудь?.. Беспокойные мысли лезли в голову. Сквозь дремоту до него доносились мерные шаги часового да временами заунывный вой шакала. А поток опять томительная тишина. И вдруг над лагерем, словно гром, разорвался отрывистый винтовочный выстрел. В палатку вбежал боец. — Товарищ начальник! — крикнул он. — Басмачи! — Спокойно! — резко сказал Фролов, приподнимаясь. — Без паники. Где они? Сколько?.. Через минуту они с Голубевым выскочили из палатки и бросились на выстрелы. В суматохе Сергей потерял Фролова. Добежав почти до границы лагеря, он увидел, что вспышки выстрелов сместились вправо. Хотел было повернуть обратно, но вдруг у крайней палатки заметил две тени. Тени скользнули и замерли, притаившись. Сергей выхватил из кобуры револьвер и крикнул: — Стой! Стреляю! В ответ не раздалось ни звука. Потом кто-то вскрикнул и глухо, протяжно застонал. «Джамга», — мелькнуло в голове. Не раздумывая, Сергей рванулся вперед, рывком откинул полог палатки. В глубине ее кто-то находился. На Сергея надвинулась большая, явно не женская фигура. Послышалось тяжелое, как после бега, дыхание. Голубев вскинул револьвер, но выстрелить не успел. Сильный удар сзади по голове свалил его с ног. Очнулся Сергей от мягкого прикосновения: кто-то осторожно бинтовал ему голову. Он медленно открыл глаза и увидел склонившегося над ним санитара. В бледном свете начинающегося утра настороженно трепетала парусина палатки. — Где Джамга? — спросил Голубев. — В санитарной палатке… Только не делайте резких движений. Но Сергей уже не слышал его. С усилием поднявшись, он не совсем уверенной походкой направился к санитарной палатке. Голова кружилась, ноги стали тяжелыми и непослушными. Навстречу попался фельдшер. — Ну как она, доктор, серьезно? Фельдшер опустил голову и снял очки. — Три глубоких ножевых раны, — как бы оправдываясь, тихо сказал он и вздохнул. Сергею стало зябко. Осторожно ступая, словно он мог этим помочь раненой, вошел в санитарную палатку. При скудном свете керосинового фонаря лицо. Джамги было таким бледным, что почти сливалось с бинтами, перепоясывающими грудь. Под глазами легли черные тени, щеки ввалились, выделив скулы и придав чертам юного лица заостренность. Только волосы, черные как смоль, остались такими же. Джамга открыла глаза. Взгляд ее бессмысленно скользнул по сторонам и остановился на летчике. — Сирей, — губами прошептала она. Лицо дрогнуло, по щеке медленно скатилась слеза. Голубев молча опустился перед ней на колени. Во рту сразу пересохло. Он понял, скорее, почувствовал, что вот сейчас потеряет ее. Совершенно новое, неизведанное прежде ощущение охватило его. И уже никого не стесняясь, он нежно взял ее руку, по-девичьи узкую, с длинными пальцами, и прижался к ней щекой. Самое страшное, когда видишь, что человек, ставший тебе таким дорогим, мучается, а ты — большой здоровый и сильный — ничем не можешь помочь ему. Чувство бессилия придавливает тебя, мешает дышать. Сергей рванул ворот гимнастерки и, встретившись с ее лихорадочным взглядом, опять виновато опустил голову. Что он может сделать для нее? Что он может сказать ей?.. Джамга медленно отняла у него руку и легонько провела по волнистым волосам Сергея. Он задрожал от первой ее ласки. А она, внезапно что-то вспомнив, судорожно приподнялась на локтях. Сжимая уголок подушки рукой, зашептала невнятно и отрывисто. В ее больших, теперь матовых, как сажа, глазах появилась мольба. Сергей наклонился и смог разобрать только два слова: «Ак-Байтал… Музкарабол…» Все еще продолжая что-то шептать, Джамга с трудом вытащила спрятанный на груди желтый платок и протянула летчику. — Бе-ри, — сказала тихо, по складам. — Муз-кара-бол… Ак-Бай… — Доктор! — крикнул Сергей. — Она что-то просит! Что она говорит? Скорее! Вбежавший фельдшер наклонился над раненой, некоторое время напряженно вслушивался в ее бред. — Ничего не разберу, — пробормотал он. — Все-таки три ножевых раны. Какой-то Ак-Байтал поминает все время. Наверное, место есть такое. Может, родина ее… А впрочем, не знаю… Джамга умолкла, откинулась на подушку и замерла. Сергей долго стоял над ней, не двигаясь. Потом наклонился, бережно закрыл ей глаза и осторожно, точно боясь разбудить, поцеловал в губы. Над пустыней медленно вставало солнце. Огненно-красный диск только чуть показался над горизонтом и сразу же окрасил верхушки барханов багрянцем. Сергей медленно шел навстречу ветру, бившему в лицо, ничего не видя перед собой. Внезапно на плечо легла рука Фролова. — Ее убил Осман-курбаши, ближайший помощник и телохранитель Ахмед-бека, — сказал он. — Мы поймали одного басмача. На допросе он показал, что Джамге якобы отомстили за неверность по личному приказу бека. Но, по нашим данным, самого бека уже нет в живых. Так что дело, по-моему, вовсе не в неверности. Сергей, казалось, слушал внимательно. Но слова Фролова плохо доходили до его сознания. Он машинально кивал головой в знак согласия, но думал только о Джамге, о ее нелепой смерти, и никак не мог примириться с мыслью, что ее уже нет. Они прошли до конца лагеря и повернули обратно. — А ты знаешь, Фролыч, — вспомнил Сергей, — она мне перед смертью какой-то платок подарила. И еще что-то хотела сказать. Только я не разобрал. Вот смотри… Но Сергей не успел вынуть предсмертный подарок Джамги. Резко ударил выстрел, разбудив сонную утреннюю тишину, затем другой, третий. И, словно вторя им, справа отозвался пулеметный басок. — Наш «максим» заговорил! — воскликнул Фролов и бегом устремился к лагерю. Голубев бросился за ним. Через минуту все стало ясно. На лагерь двигалась банда. Конные басмачи попытались с ходу ворваться в расположение части. Но часовые своевременно заметили их и открыли огонь. Бандиты отошли. Переменив тактику, они спешились и вновь полезли вперед. И опять откатились с большими потерями. Тогда басмачи стали постепенно окружать лагерь со всех сторон. Сергей попытался сосчитать папахи, маячившие то тут, то там среди барханов, и не смог — сбился. Папахи двигались, перемещались, но было их не меньше сотни. — Тебе нужно немедленно вылететь, Серега, — озабоченно сказал Фролов, — а то эти дьяволы окружат нас. Тогда не взлетишь. — Взлечу! — Медлить нечего! Отправляйся в Самаркандский полк. Маршрут тебе известен. Расскажешь там обо всем. Положение у нас серьезное. Басмачей сабель сто пятьдесят. А нас, сам знаешь, со всеми писарями едва ли сорок активных штыков наберется. На тебя надежда! Они крепко пожали друг другу руки и внезапно, не сговариваясь, обнялись. Сердце Сергея дрогнуло: — Хороший ты человек, Фролыч. Спасибо тебе за все! Жаль, что мы раньше с тобой не встретились. Очень жаль! Сергей выпалил все это сразу и тут же почувствовал неловкость оттого, что разговор получился не мужской. А ему еще хотелось сказать, что трудно покидать товарищей в минуту опасности. Ведь он же боец Красной Армии, комсомолец. Но приказ есть приказ. И выполнить его никто, кроме Сергея, не может. Мотор завелся сразу. Прибавив газ, Сергей всем телом ощутил знакомую дрожь машины. Самолет, набирая скорость, запрыгал по кочкам. Откуда-то сбоку внезапно выскочили несколько всадников в папахах. С криками, размахивая саблями, они устремились к машине. Сергей скорее почувствовал, нежели понял, что по нему стреляют. В душе вспыхнула злость. — А-а, гады! — стиснув зубы, прошептал он и, поймав всадника в прорезь прицела, нажал гашетку пулемета. Длинная очередь моментально расчистила дорогу. Самолет легко оторвался от земли. В этот момент что-то кольнуло Сергея в бок. Вначале он не сообразил, в чем дело, и, только увидев на комбинезоне кровь, понял, что ранен. Потом в руках появилась слабость, закружилась голова. На миг он потерял управление. Машина резко клюнула носом. Сергей с трудом выровнял ее. Некоторое время полет проходил нормально. Но вот чуткое ухо летчика уловило, что мотор стал давать перебои. Голубев бросил взгляд на стрелку, показывающую уровень бензина в баке, и сразу понял, что случилось. Пробит бак или перебит бензопровод: стрелка стояла на нуле. Нужно немедленно садиться. Но куда? Внизу вздымалось бескрайнее море волнистых барханов. Ни одной ровной площадки! Голова все сильнее клонилась к штурвалу. Боль растекалась по всему телу, туманила сознание. Последним усилием воли Сергей попытался спланировать, нащупать восходящий поток, «протянуть» немного. Но машина уже не повиновалась. Она упрямо тянула к земле. «А там будут ждать! Как все неладно получилось!..» — это было последнее, о чем подумал Сергей. Сильный удар швырнул летчика из кабины. Послышался громкий треск. Голубев упал на песок и потерял сознание.Глава третья ИЗ ВРАЖЕСКОГО КОЛЬЦА
Басмачи пошли в третью атаку. Выстрелы и несущийся отовсюду крик «алла-ла!» слились в один нарастающий рев. Красноармейцы молчали. Фролов приказал беречь патроны и без команды не стрелять. Опьяненная запахом крови, басмаческая орда все более суживала круг, быстро пожирая расстояние, отделяющее ее от добычи. А в лагере, бандиты знали, есть чем поживиться: богатый обоз Ахмед-бека представлял собой лакомый кусок. — Пора! — прошептал лежащий рядом с Фроловым политрук роты, худощавый низенький киргиз с глубоко запавшими глазами. — Пора, начальник! Фролов молчал. Он так крепко сжал губы, что в уголках рта залегли жесткие морщины. Трудно, очень трудно сдерживать себя. Так и хочется что есть мочи крикнуть: «Огонь!» Но, собрав волю, Фролов молчал и ждал. Чем ближе подпустить врага, тем более разящим будет удар. А басмачи приближались. Уже можно различить их лица, искаженные, страшные. Из цепи на Фролова все чаще и чаще посматривали бойцы. Только высокая дисциплинированность сдерживала их. Но, вот один не выдержал нечеловеческого напряжения. Вскочил на бруствер, рванул гимнастерку на груди, хрипло, срывая голос, крикнул: — Нате, стреляйте, сволочи! Фролов метнулся к нему, схватил за ногу, дернул, но поздно. Несколько пуль пронзили тело бойца. Он без звука свалился на руки начальника штаба. Губы Фролова дрогнули: — Огонь! И сразу же, заглушая рев орды, дружно ударил залп. С флангов разом застрочили пулеметы. Вражеская цепь остановилась, заколебалась. И в следующий миг отхлынула назад, устилая песок трупами. Внезапно один из «максимов» замолчал, будто захлебнулся. Через секунду брызнул короткой, очередью и вновь смолк. Фролов беспокойно посмотрел вправо: что там стряслось? Правда, атаку басмачей отбили, но они могут повторить ее в любую минуту. Фролов коротко ругнулся и, пригибаясь, побежал к пулемету. Над головой просвистело несколько пуль. — Что, заело? — зло бросил он пулеметчику. — Никак нет, товарищ начальник штаба, — спокойно ответил тот. — Воды нет. — Как так нет? Я же приказал выдавать только раненым да на пулеметы! Боец молча пожал плечами. Спокойствие красноармейца отрезвило Фролова. — Сейчас проверим, — сказал он бойцу и направился в тылы. Тылами они называли небольшую ложбину в самом центре лагеря, спрятанную между двумя барханами. Там стояли лошади, размещался обоз и раненые. Тыл был, конечно, относительный, над головою все равно жужжали пули. К большому огорчению Фролов убедился, что боец прав. Воды действительно почти не было. Как бережно ее ни расходовали санитары, раненых становилось все больше, и они просили пить. — Собрать всю воду, — хмуро приказал Фролов и, сгорбившись, зашагал к окопам. Нет, он не жалел, что основной запас воды отправил вслед за полком. Там она нужнее. Но как бы сейчас пригодилась хотя бы пара бурдюков… Перед закатом солнца, когда басмачи ринулись в четвертую атаку, их снова встретили лавиной пулеметного огня. В кожухи пулеметов были залиты последние остатки воды, по капле собранные из фляжек. — Теперь до утра не сунутся, — сказал политрук, когда все затихло. — Нагнали мы на них страху. — Как знать, — отозвался Фролов, скручивая цигарку подрагивающими от напряжения пальцами. — Смотри, начальник! Смотри! — воскликнул политрук, указывая вперед рукой. — Белый флаг. Перемирия просят! Фролов выглянул из окопа и негромко сказал: — Ну что ж, посмотрим. Ответьте таким же сигналом. Политрук быстро принес кусок простыни, которыми из-за нехватки бинтов перевязывали теперь раненых, натянул его на штык и помахал. Басмачи сразу приняли сигнал. Из-за барханов вышел человек с белым флагом и направился в их сторону. Шел он не спеша, с достоинством и, как видно, не трусил: ни разу не оглянулся и не сбился с шага. — Чинно шествует, — заметил кто-то из бойцов, — как поп на молитву. — Понимает, собака, что не тронем, — с ненавистью проговорил политрук. — Изучили уже, знают, что красноармейцы в пленных и парламентеров не стреляют. Не то что они!.. — Он зло сверкнул глазами. — Друга моего Костю под Хорогом вот таким образом убили. С белым флагом к ним шел, сдаться предлагал. Наших много было, а их совсем мало… И убили, собаки! Парламентер подошел настолько близко, что теперь можно было хорошо рассмотреть его. Басмач отличался исключительной худобой. Ввалившиеся щеки, глубоко запрятанные глаза, скрытые за резко изломанными надбровными дугами, острый кадык. Лицо морщинистое, желтое, с аккуратно расчесанной бородкой клинышком — типичный мулла. На голове чалма. Только четок в руках да корана под мышкой не хватает. Перед ними был не рядовой басмач. Халат на нем богатый, в поясе перетянут шелковым кушаком. На ногах добротные кожаные сапоги со шпорами. — Смотри, начальник, на хитрость не поддавайся, — предупредил политрук. — Басмач хитрый, совсем хитрый. — Он, видно, очень волновался. На лице была написана откровенная ненависть. А руки то и дело тянулись к винтовке. Парламентер остановился перед окопами и вытащил из-за пазухи пакет. — Комиссара надо, — сказал он, чуть шепелявя, — только комиссара. — Ну что ж, давай, — проговорил Фролов, выскакивая на бруствер. Политрук попытался удержать его, но начальник штаба так выразительно посмотрел, что тот виновато опустил голову. Взяв пакет, Фролов тут же распечатал его и вынул лист бумаги. Неровными печатными буквами там было написано:«Комиссарам Хорезмский полк ГПУ! Предлагаем вернуть желтый платок, священная память Ахмед-бека. Кровопролития не нужно. Мы сами уйдем. Ответ немедленно. Осман-курбаши».— Что они там нацарапали? — спросил политрук, когда Фролов спрыгнул в окоп. — Уж не сдаться ли предлагают? — Нет. Платок какой-то священный спрашивают. Уйти обещают, если отдадим. На, читай. Политрук пробежал бумагу глазами и покачал головой: — Не верь, начальник. Обман тут! — Но о каком платке идет речь? Я сам делал опись вещей в обозе Ахмед-бека и никакого желтого платка не видел. Черт его знает! Фролов тщетно перебирал в памяти длинный список вещей, но припомнить платка не мог. Однако раз басмачи так настойчиво хотят завладеть им, значит, здесь что-то кроется. Но что?.. Ведь не стали бы они ради какой-то тряпки, пусть даже священной, лезть под пули. Несмотря на религиозный фанатизм бандитов, Фролов не мог им поверить. — Интересное предложение, — задумчиво протянул начальник штаба. — Зачем думать? Не нужно думать, — загорячился политрук. — Если и был платок, все равно не отдавать, совсем не отдавать. Понятно? Пусть свинцовым урюком подавятся! — Пожалуй, решение правильное, — усмехнулся Фролов. — Верно, товарищи? — обратился он к бойцам, лежащим в цепи. Те одобрительно зашумели, услышав, о чем идет речь. Начальник штаба выпрямился в окопе и громко сказал парламентеру: — Платок нам и самим нужен. Так и передай. Пусть Осман-курбаши попробует взять его! Все! — Уматывай отсюда! — крикнули из цепи. — Всыпем мы еще твоему курбаши по пятое число! Глаза басмача еще более сузились. Тонкие ноздри нервно задергались. — Пусть гнев аллаха падет на вашу голову, неверные! — тряся бородкой, закричал он и, резко повернувшись, почти побежал назад какой-то дергающейся, смешной походкой. А вдогонку ему неслось: — Штаны поддерживай, не то потеряешь! До бека не донесешь! — Халат подбери, легче драпать будет! Басмач на ходу обернулся, что-то зло выкрикнул и погрозил кулаком. — Ишь ты, как его разобрало, — рассмеялся политрук. — Лопнет от злости. Не привык к насмешкам. Видно, в главарях ходит. Слова политрука вновь натолкнули Фролова на мысль, что басмачи не без умысла беспокоятся о платке. Но где она — эта священная тряпка?.. Около получаса над пустыней стояла тишина, знойная и настороженная. Очевидно, басмачи совещались. А уже в сумерках началасьочередная, пятая по счету, атака. Бандиты лезли остервенело. Кое-где доходило до рукопашной. Но враг был снова отбит с большим для него уроном. …Смеркалось. С юга потянул ветерок. Но он не принес желанной прохлады. Пыльный, накалившийся за день воздух обдавал лицо жаром. Фролов печально посмотрел на багровый закат. Ему только что доложили о потерях. В роте оставалось восемнадцать бойцов, способных еще держать в руках оружие. И хотя басмачей они положили раза в четыре больше, начальник штаба с тоской думал о погибших людях. Потеря была невосполнима. Кликнув вестового, Фролов приказал ему собрать командиров и политработников. В ожидании он сел на песок и продолжал размышлять. Платок, которого так настойчиво добиваются басмачи, не выходил у него из головы. Внезапно ему вспомнились последние слова Голубева. Постой, он говорил о каком-то желтом платке — предсмертном подарке Джамги. Точно. Даже показать хотел, но не успел. Не из-за него ли весь сыр-бор? Ведь и люди, напавшие на Джамгу, тоже что-то искали… Подошли бойцы. Из командиров взводов явился только один, двух других заменяли младшие командиры, причем оба раненные. «Да, надо уходить, больше не продержимся, а на помощь рассчитывать не приходится, — подумал еще раз Фролов. — Тем более что такая возможность пока есть. Басмачи ночью, как правило, не воюют. Следовательно, до утра в нашем распоряжении по крайней мере пять-шесть часов. А выходить нужно через ту балочку на левом фланге, которую обнаружил, обходя лагерь в сумерках». Балочка по счастливой случайности была не занята бандитами. Басмачи то ли проявили беспечность, то ли понадеялись, что в глубь Каракумов, куда вел этот путь, красноармейцы отходить не будут. Фролов разъяснил собравшимся обстановку. — Выход один, — сказал он, — скрытно уйти из кольца. Все ценное уничтожить. Раненых взять с собой. Только… — Он на секунду замолчал. — Нужно оставить заслон хотя бы из двух человек. Враг ни в коем случае не должен заподозрить, что лагерь покинут, иначе бросятся в погоню. А у басмачей лошади. — Разрешите мне остаться? — поднялся политрук. — Ни жены, ни детей не имею. — И мне, — вставая, сказал один из младших командиров. — Я коммунист, — тихо добавил он. Фролов посмотрел на них долгим, запоминающим взглядом и вполголоса сказал: — Сдать партийные документы… Стояла глухая ночь, когда рота начала отход. Без единого стука, неся раненых на руках, бойцы вытянулись в цепочку и по команде двинулись вперед. Фролов остановился у балочки и пропустил мимо себя всех красноармейцев. Долго смотрел он еще на лагерь. Там по-прежнему ярко горели костры. Изредка с разных сторон раздавались выстрелы. Казалось, ничего не изменилось: все так же бодрствуют часовые, бдительно охраняя отдых товарищей. — Пойдем, начальник, — шепотом позвал ординарец, вернувшийся за Фроловым. — Все уже совсем далеко ушли. Ждать будут. Нехорошо. Фролов последний раз бросил взгляд на лагерь и, уже не оборачиваясь, тяжело зашагал вперед.
Глава четвертая ДРУЗЬЯ ПО НЕСЧАСТЬЮ
Сергей очнулся в госпитале только на вторые сутки. Он открыл глаза и обвел палату недоумевающим взглядом. Ему показалось, что комната обильно усыпана снегом. — Где я? — спросил Голубев. — В лазарете. Не разговаривайте. Нельзя вам, — наклонилась над ним сестра. — Как я попал сюда? — не унимался Сергей. — Ну хорошо. Я расскажу. Только больше ни слова. Договорились?.. Оказалось, что Сергея подобрал караван, случайно наткнувшийся на разбитый самолет. Летчик лежал невдалеке от машины и стонал. Караванщики бережно подняли его, как смогли, перевязали раны и забрали с собой. Долго еще шел караван по пустыне под палящим солнцем. На голове раненого непрерывно приходилось менять смоченную в воде тряпку, которая постоянно высыхала от зноя. И хотя за ним ухаживали караванщики, люди, видавшие виды, надежды на то, что он выживет, было мало. Сергей бредил и за всю дорогу ни разу не пришел в сознание. Однако молодой организм выдержал. В госпитале, куда Голубева доставили самолетом, ему сделали операцию. И дело пошло на поправку. Через некоторое время окончательно пришедший в себя Сергей познакомился с соседями по палате. Справа от него у стенки лежал кавалерист Микола Гринько. Он лихо отрекомендовался: «Микола — сын своего батьки, образца одна тысяча девятьсот осьмого року, без дроби». Это был веселый, жизнерадостный паренек, худой и очень подвижный. Он и минуты не мог улежать: то листал книгу, рассматривая картинки, то строил пирамиду из спичек или, тренируясь, передвигал шашки на доске. Большие глаза его, по-цыгански черные, озорно поблескивали, словно предупреждая о готовящейся проказе. А проказничать Гринько любил. Спрячет чье-нибудь полотенце, поменяет мыльницы — и доволен. А когда сестра начнет ругать, опустит голову и молчит, по-детски смешно надув губы. На него нельзя было сердиться, уж очень он был ребячлив. На голове у Гринько торчал хохолок, придавая лицу какое-то смешное и вместе с тем трогательно-растерянное выражение. — Чего я тильки не робыв с проклятущим чубом! — жаловался он Сергею. — Хоть плачь! Даже солидолом смазывал — ничего не помогает. От и хожу завсегда в картузе, а то дивчата, як над дурнем, смеются. Гринько был ранен в боях под Гульчой и, как он сам выражался, в очень неудачное место. — Проклятый басмач из-за угла саданул и напрямую меж лопаток. Надо ж! — с обидой сокрушался он. — Словно я сматывался от тех бисовых бандюг… Нет бы в грудь!.. Соседом слева у Голубева оказался пожилой узбек Умар Танджибаев. Полный, приземистый, с продолговатой, как узбекская дыня, наголо стриженной головой. Он медленно, прихрамывая, передвигался по палате и болезненно морщился. Широкое скуластое лицо с неровно посаженными глазами выглядело добродушным. Толстые губы, слегка приплюснутый нос, рыжеватая щетина на полных щеках. Словом, Умара можно было представить человеком любой мирной профессии — продавцом, духанщиком, поваром, но никак не отважным пулеметчиком. И только когда Умар раздевался, чтобы выполнить ежедневную процедуру обтирания холодной водой, все становилось ясным. На руках мощные бицепсы, мускулистая грудь, кожа словно продублена, и на ней несколько шрамов. Всю гражданскую Умар не слезал с тачанки. После войны остался на сверхсрочную и нес службу на одной из далеких памирских застав. Там его и ранило в бедро. Коренной дальневосточник, Голубев очень любил свой край. Обычно молчаливый, он преображался, если заговаривал о Востоке. Глаза загорались, голос креп, становился певучим. И говорил он вместо горы — сопка, вместо балки — распадок. От него друзья впервые услышали об огромных, в два-три метра, осетровых рыбах, которые можно встретить только на Амуре, о непроходимых таежных дебрях Уссурийского края, об удивительных зверях — тиграх, рысях, лосях, населяющих те края. Были в палате и другие раненые: боец продотряда ЧОН, младший командир из кавполка. Госпитальная обстановка располагала к сближению, тем более что почти все были лежачие. С Миколой Гринько и Умаром Танджибаевым Голубев подружился быстро. Они в первые же дни поведали друг другу свои нехитрые биографии. По вечерам, когда все вокруг затихало, мечтали вслух и делились затаенными думами. Сергей страстно хотел вернуться в авиацию. Умар и не мыслил себя вне родной заставы. Он бредил дозорами, служебными собаками. И только Гринько колебался: то ли ему остаться в армии, то ли податься домой, на Херсонщину. Мысли его зависели от настроения. Если рана не беспокоила, Микола мечтал о тихом украинском селе, чернобровой полногрудой хозяйке, хатке над Днепром. Когда же после перевязки нестерпимо ныла лопатка, он начинал чертыхаться и на чем свет стоит клясть басмачей. — Ось вернусь в эскадрон, — говорил он в такие минуты, — покажу я тим бисовым душам кузькину мать! Но боль утихала, и у Гринько в разговоре вновь появлялась хатка, корова, бахча. Сергей подтрунивал над непоследовательностью приятеля. Но Микола был незлобив. Он лениво огрызался, потом хохотал над собою вместе с друзьями. Не сразу узнали они историю Танджибаева. Тот неохотно говорил о себе. Только однажды, подзадоренный Миколой, разошелся. И перед глазами друзей предстала одна из героических историй, похожая больше на легенду. Умар рассказывал медленно, спокойно, как будто не о себе. А было в его рассказе вот что. …Тревога всколыхнула заставу уже за полночь. Бойцы заняли свои места. Танджибаев, как всегда, расположился с «максимом» у Большого камня, где проходила главная дорога на перевал. Через границу пробивалась большая банда басмачей. Их было по крайней мере раз в пятнадцать больше, чем защитников заставы. После ожесточенного сопротивления пограничники частью погибли, частью отошли в горы. Умар с двумя бойцами отступил к ущелью, через которое шел единственный путь в центральную часть Памира, Как уж им удалось вскарабкаться на узкий выступ Каменного зуба — небольшую площадку на тридцатиметровой высоте — да еще втащить пулемет по отвесной стене, объяснить трудно. Но зато с этой прекрасной позиции они перекрыли огнем все ущелье. Двое суток верный «максим» не знал отдыха ни днем, ни ночью, благо запас патронов был большой. Басмачи десятки раз пытались прорваться, но огонь с Каменного зуба намертво преграждал путь. Чего только не предпринимали бандиты, чтобы уничтожить пулеметчиков: и обойти хотели, и гранатами забросать. Все напрасно. Место, где засели пограничники, оказалось неприступным… Умар буквально заворожил всех своим рассказом. И когда он замолчал, в палате еще долго стояла звенящая тишина, в которой ритм «максима» точно совпадал с ритмом сердец раненых. Томительно тянется время в госпитале. День кажется годом. Уже переговорили обо всем, обсудили местные новости — глянь, а еще только полдень. И что делать, чем заняться — ума не приложишь. Особенно же длинны вечера. В полутемной палате, освещенной керосиновой лампой, время словно останавливается. Ни читать, ни в шахматы сыграть невозможно. Одно спасение — беседа. В один из таких вечеров Сергей и рассказал своим новым друзьям о Джамге. Рассказывая, очень волновался: поймут ли его правильно? Как-никак байская жена! Однако Умар и Микола слушали сочувственно. На лицах не появилось и тени улыбки. Сергей осмелел и заговорил громче, заново переживая совсем недавние события. И снова кругом установилась тишина. Только голос Сергея, подрагивая, отчетливо звучал в палате. История заинтересовала всех. Когда Сергей дошел до смерти Джамги, кто-то даже вздохнул. — А цей подарок, ну, платок ее, у тебя? — спросил Гринько. Он был возбужден больше всех: уж очень романтичным и таинственным оказался рассказ летчика. — Конечно, у меня, — ответил Голубев. — Покажь! — Он в кладовой вместе с другими вещами. — Давай попросим принести! Несмотря на протест Сергея, Микола позвал сестру и сказал, что летчик просит найти среди его вещей желтый платок и принести в палату. Через несколько минут сестра вернулась с платком. Гринько схватил его и стал жадно рассматривать. Потом удивленно присвистнул: — Дывытеся, тут щось вышито! Крестики, овалики… Неужто карта или план? Хай лопнуть мои очи, план! Сергей, который и сам еще толком не успел рассмотреть подарок Джамги, взял платок и с удивлением увидел на нем своеобразную вышивку, шедшую наискосок от одного угла к другому. Вышивка действительно напоминала грубый план какой-то местности: черточки, овалы, линии — все располагалось в строгом порядке. И главное, что сразу бросалось в глаза, — в правом верхнем углу чернела тонкая стрелка, напоминающая знак «север — юг» на географических картах. — А ну, дай сюда! — протянул руку Танджибаев. Сергей отдал платок ему. Умар некоторое время молча смотрел на него, потом перевел взгляд на дверь. Там толпились выздоравливающие раненые из соседних палат, привлеченные рассказом летчика. — Неправда твоя, Микола, — протянул Танджибаев насмешливо. — Барана за орла принял. Это же наша узбекская вышивка. А ты — план… — Що ты мне башку крутишь, — возмутился Гринько, но тут же осекся под свирепым взглядом узбека. — Хаёлган ты, фантазер, вот как, — с трудом выговорил Умар малознакомое, но, видимо, понравившееся ему слово. — Спать давай. Голова ночью светлый-светлый станет. Видеть все хорошо будет. Сунув платок под подушку, он укрылся одеялом. Гринько что-то недовольно проворчал и, сердито сопя, отвернулся к стене. Вскоре в палате наступила сонная тишина. И тогда до Сергея донесся шепот старого пограничника: — Серега, спишь, нет? Дело есть. Очень серьезный дело. Говорить надо. Серьезно говорить. Только нельзя здесь. Уши много-много лишний. И по тому, что Умар заговорил с сильным акцентом, Сергей понял, что он сильно встревожен. Дело принимало неожиданный оборот.Глава пятая НЕПОНЯТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Врач впервые разрешил Сергею встать с кровати. — Скоро танцевать сможете, — весело сказал он. Хирург был явно доволен и своей операцией, и шуткой. — А летать? — быстро спросил Сергей. — Не все сразу. Не все… — Ну а все же? Смогу? — упрямо нагнул голову Сергей и с тревогой посмотрел на врача. Для него этот вопрос был сейчас самым главным. Хирург сделал вид, что не расслышал повторного вопроса. — Поправляйтесь скорее, — сердито ответил он, — Это для вас и для меня сейчас самое основное. — И ушел из палаты, ворча что-то под нос. На душе Сергея стало тоскливо. Померкла радость от того, что можно уже встать с постели. «Неужели спишут из авиации? — с горечью подумал он. — Зачем же тогда жить? Что делать?..» Он забыл, что совсем недавно его мечтой было выйти с друзьями в сад, вдохнуть всей грудью аромат цветущего сада. Ему хотелось ощутить ту радость жизни, которая появлялась у него каждый раз, когда пробуждалась после зимнего сна земля. Плохо бы пришлось Сергею с таким настроением, не вмешайся друзья. — Порядок! — воскликнул Микола, хлопая друга по плечу. — В нашем полку прибыток!.. Пидемо у сад. Теперь компанией гулять будем. Умар подхватил друга с другой стороны и тоже излишне горячо стал уговаривать: — Воздух свежий-свежий дышать — хороший лекарство! Здоровым совсем-совсем станешь. Сильный, как орел. — Умар огляделся и заговорщически понизил голос: — Говорить нужно. Чужой ухо слышать не надо. Очень трогательным было желание друзей отвлечь Сергея от мрачных мыслей. Он через силу заставил себя улыбнуться и почти весело сказал: — Ну что ж, пошли! В сопровождении сестры, поддерживаемый с двух сторон друзьями, Голубев осторожно вышел из палаты. Ноги слушались плохо, будто на каждую навесили по пудовой гире. Спустились в сад. Отыскав в аллее укромную скамейку, приятели усадили Сергея и, заверив сестру, что они глаз с него не спустят, остались наконец одни. — Ну, за що ты говорить хотел? — быстро спросил Гринько, поворачиваясь к Умару. Однако узбек не торопился. Он спокойно вытащил из кармана наскавак — маленькую инкрустированную кубышечку с жевательным табаком, открыл ее. Медленно отправил порцию табака под язык и посмотрел кругом. Микола беспокойно заерзал на скамейке. Сергей тоже нетерпеливо и вопросительно смотрел на Танджибаева. А тот все так же неторопливо вытащил из-за пазухи желтый платок Джамги и расстелил его на коленях. — Помнишь, Джамга два слова говорил? — обратился он наконец к Голубеву. — Да, она настойчиво повторяла — Ак-Байтал и Музкарабол. Что это значит, Умар? — Ты не знаешь, Умар знает. Ак-Байтал — перевал называется. На востоке Памира. Музкарабол — раньше знал, сейчас забыл… — Ну и шо ты мозгуешь? — забеспокоился Гринько. Умар не отозвался. Он вновь о чем-то задумался. Потом пробормотал: «Тлахона?..» Друзья в ожидании смотрели на него. — Нет, — тряхнул он головой, как бы отгоняя назойливую мысль. — Проверять нужно… Хорошо проверять. Сегодня не могу говорить. Правда не знаю. Нужно правда… — Эх, якой ты, Умар! — с досадой воскликнул Гринько. — Я вже думав, що почую сейчас страшну тайну! — Потом будет тайна, — загадочно отозвался Танджибаев. — Ждать нужно. Время есть, не торопись. Зачем торопиться? — Но ты ж про якусь тлахону баял. Що це таке? — Я просто так сказал, — смущенно отозвался узбек, — совсем так. Веришь, нет? — Ну а все же, — заинтересовался Голубев, — что это значит? — Тлахона — слово наше, узбекское. Как сказать по-русски? Комната такая. Большая комната. И там золото. Много-много золота. — Сокровищница? — Она, она, — обрадовался Умар и повторил по складам: — Со-кро-вищ-ни-ца. В это время сестра неожиданно позвала Танджибаева к врачу. Он успел шепнуть друзьям: — Сейчас все доктор скажет, сейчас скажет — на границу пора. — И, стараясь не хромать, он бодро зашагал по аллее. Сергей с Миколой еще долго сидели под раскидистой алычой, обсуждая слова Умара. Уже начало темнеть, когда Гринько спохватился: — Тоби ж не можно долго тут. Совсем забув. Ось я ж и олух царя небесного! Гринько увел Сергея в палату. Дежурная сестра моментально уложила их в постель. Сразу захотелось спать. Потребовалось новое энергичное вмешательство сестры, чтобы Сергей принял лекарство и съел ужин, стоявший на тумбочке. Преодолевая дремоту, он покорно проглотил рисовую кашу и хотел уже накрыться с головой, чтобы поспать до прихода Умара, как тот вошел в палату. Вид у Танджибаева был расстроенный. Он тяжело опустился на кровать. — Ну что? — беспокойно спросил Голубев, догадываясь уже о случившемся. — Да говори, шо стряслось? — Плохо, — отозвался узбек, опуская голову. — Очень плохо. Совсем плохо… — Комиссовали!.. От дьяволы!.. Не понимают, бисовы души, человека! — Неужели наотрез отказали? — Сергей даже приподнялся в кровати. — Ты же просил. Рапорт подавал… Не может этого быть! — Может, все может, дорогой. По чистой уволили, — печально отозвался Умар. Помолчал, вздохнул и тихо, с завистью добавил: — Ты, Сережа, летать будешь. Высоко летать, как орел. — Правду говоришь? Откуда известно? — Зачем врать буду? Умар всегда правду говорит. Лечиться надо. От доктора слышал. Доктор говорил, хорошо лечиться надо. Санаторий ехать надо. — К черту санаторий! — воскликнул Голубев. — Скорей бы в отряд! Но ему тут же стало стыдно за свой неуместный восторг. У друга горе, а он радуется. — Ничего, дружище, — проговорил Сергей, — настоящие люди сейчас и в гражданке нужны. Поедешь на стройку. Или коммуну среди дехкан у себя организуешь. Польза-то какая! Земельно-водная реформа теперь проходит. Бедняки землю получат. Дел много. Умар вздохнул и покорно кивнул. — А мы с Гринько к тебе в гости приедем. Поможем, если надо. Верно, Микола? — Що за разговор! До биса нам уси санатории. Меня ить тоже на поправку видправляють. Два мисяца отпуск. По ранению… А на що он мени, цей отпуск. Мы до тебе в Ош на поправку приидемо. Приглашай, пока не передумали! — Рахмат, дослер! — растроганно проговорил Умар. — Спасибо! Долго еще сидели они, строя всевозможные планы. И если бы не сестра, то, вероятно, совсем забыли о сне. Лишь после третьего напоминания приятели разошлись по кроватям. А наутро произошло странное происшествие. Проснувшись, Умар собрался умыться. Он полез в тумбочку и, к удивлению, обнаружил там страшный беспорядок: носовые платки валялись рядом с мылом, а тетради перемешались с табаком. — Микола, а Микола, ты моя тумбочка смотрел зачем? — недовольно спросил Умар. — Якого биса я там забув, — с обидой отозвался Гринько. Танджибаев вопросительно посмотрел на Сергея. Тот тоже отрицательно покачал головой. — Подожди, подожди, дорогой. — Умар быстро распахнул тумбочку Голубева. — Так и знал!.. Аллах!.. В тумбочке Сергея был такой же беспорядок. — Мда-а, — протянул Сергей в раздумье, — рылся кто-то второпях. — Сестра! — позвал Гринько возмущенно. — Що це за… — Молчи! Говорить не надо! — схватил его за руку Умар, и, наклонившись к друзьям, старый пограничник отрывистым шепотом сказал: — Искали что, понимаешь? Платок. Твой память — платок желтый…Глава шестая ПОИСКИ
По прибытии в город Фролов первым делом направился в управление ОГПУ. Там о его приезде уже знали. Даже пропуск был заказан. Поднявшись на второй этаж, чекист по привычке одернул френч и постучал в кабинет начальника. — Войдите, — раздался знакомый голос. За столом сидел Кремнев, с которым они вместе работали в Петроградской ЧК еще в девятнадцатом году. — Кого я вижу! Фролыч! — воскликнул Кремнев. Друзья обнялись. Внешне они были совершенно разными. Массивный, высокий Фролов с тяжелым подбородком и сухопарый, жилистый Кремнев с рябоватым лицом. И все же что-то роднило их: то ли серые спокойные глаза, то ли высокие крутые лбы и упрямые складки у рта. Волосы у Фролова густые, черные, припудренные сединой, а у Кремнева — редкие, рыжеватые, а на макушке лысина. — Постарел, старина, — ласково сказал Кремнев, усаживая друга рядом с собой. — Вон седины сколько прибавилось! Время летит как ветер… Ну, чем порадуешь? Фролов начал рассказывать и, по мере того как он говорил, лицо Кремнева все более мрачнело. В скупых словах начальника штаба Хорезмского полка чувствовались горечь и печаль. Он рассказывал, а сам все время думал о тех, кто навсегда остался в знойных песках Каракумов. Перед взором Фролова проплывали картины последних боев, выход из окружения, тяжелый путь через пустыню. Без воды, без продовольствия бойцы упрямо шли по пескам. Нет, они не жаловались, не стонали, не роптали на свою судьбу. А уж если падали, то больше не поднимались. Фролову вспомнилось, как тяжело умирал пулеметчик. Высокий, крепкий, плечистый, настоящий русский богатырь, он держался очень долго. Несмотря на ранение, ни за что не хотел расставаться с пулеметом и упрямо шел в строю, неся на плече ствол. Лишь на третьи сутки он стал отставать. Ему попытались помочь. Но пулеметчик отказался. Двигался, пока мог. А потом сразу упал и сказал: «Все! Конец, братцы!» Товарищи попытались нести его. Четверо бойцов с трудом приподняли тяжелое тело товарища, Тогда пулеметчик сорвал бинты с раны и заявил: «Оставьте меня. Не хочу, чтобы из-за меня погибли другие. Идите!» Обливаясь кровью, он оттолкнул фельдшера, в последний раз поднял голову и, словно прощаясь, посмотрел на товарищей долгим взглядом. Было ему всего двадцать три года. Пулеметчика, как и других, похоронили под барханом. Едва успели отойти, как песок моментально замел могилу. Сколько их, этих безымянных могил, в Каракумах! Пять человек — это все, что осталось от роты, все, что удалось Фролову вывести из цепких лап пустыни. Но и оставшимся пришлось долго отлеживаться в лазарете, чтобы стать на ноги. Кремнев выслушал печальное повествование до конца, не проронив ни слова. Некоторое время сидел насупившись. Потом вздохнул и осторожно положил руку на плечо друга. — Отдохнуть бы тебе, старина, с месячишко, — тихо проговорил он, — но… Кремнев развел руками и встал. Поднялся и Фролов. — …обстановка здесь в настоящий момент напряженная. В связи с земельно-водной реформой подняли голову все недобитые остатки баев и мулл. Мутят народ, проклятые, пользуются темнотой и религиозностью дехкан. Меня еще в Москве при назначении сюда предупреждали. Но положение оказалось гораздо сложнее, чем там это представляют. — Готов выполнить любое задание, — вытягиваясь, проговорил Фролов. — Не так быстро, дружище, — улыбнулся Кремнев. — Денька четыре, ну, три, в крайнем случае, отдохнуть тебе еще следует. А потом… — Согласен, только не запирай меня в штаб, — попросил Фролов. — Куда угодно, лишь бы не в штаб. — Не волнуйся. В Хорезмский полк начальника штаба мы уже назначили. Кстати, полк вовремя помог отряду Кулиева. Банда Дурды-Мурата разбита. — Кремнев помолчал. — А чем бы тебе самому хотелось заняться? — Самому? — Фролов медлил. — Понимаешь, меня очень заинтересовала эта история с желтым платком. Что-то подозрительно басмачи за ним охотятся. — А я на эту деталь не обратил внимания. Думал, может, здесь и вправду так развито почитание убитых. Тем более что Ахмед-бек как-никак был у них главным атаманом. — Нет-нет, поверь моему чутью. Тут что-то кроется. — Ну что ж, не возражаю. Но срок дам сжатый, скажем, две-три недели — максимум. Договорились? Больше никак не могу. Нужен ты мне, старина. Уже в дверях Кремнев остановил Фролова. — А три дня отдыхать. Непременно. Слышишь? Это в срок не входит, — засмеялся он. — Отдыхать без всяких разговоров. На другой день, несмотря на обещание отдыхать, Фролов занялся розысками Сергея Голубева. Ведь у летчика был тот таинственный талисман, который так неудержимо привлекал басмачей. Но на первых порах Фролова постигла неудача. Он исколесил все летные отряды в округе, исходил все отделы штаба — Сергей как в воду канул. В авиационном отряде он числился пропавшим без вести. Расстроенный вконец Фролов к концу четвертого дня вернулся в Дом дехканина, где снимал номер. Ему не верилось, что Серега, веселый, жизнерадостный Серега погиб. Он, как живой, стоял перед глазами: стройный, русоволосый, с застенчивой улыбкой на припухших по-детски губах. Он всегда смущался, когда Фролов заговаривал с ним о Джамге. Видно, она по-настоящему понравилась парню, хотя он отчаянно старался подавить в себе это чувство. «Ведь жена-то байская», — повторял он. Но чувство было сильнее его. Не погибни Джамга от рук басмачей, трудно сказать, как сложилась бы их судьба. За то короткое время, что они были вместе, Фролов полюбил этого парня, так напоминавшего ему сына, убитого вместе с женой басмачами. Конечно, сыну было бы сейчас много меньше, чем Голубеву. Но Фролову представлялось, что сын вырос бы таким же высоким, статным, таким же увлекающимся, целеустремленным, как Серега. И таким же преданным революции. Уж об этом-то Фролов побеспокоился бы. Нет, не мог погибнуть Серега. Не хотелось Фролову думать иначе. Он гнал прочь дурные мысли, только чем дольше продолжались поиски, тем упорнее эти мысли лезли в голову. В вестибюле Дома дехканина Фролов неожиданно увидел своего верного ординарца Брамбаева, одного из пяти вырвавшихся с ним из пустыни. Брамбаев настолько ослаб, что ему пришлось задержаться в госпитале. — Товарищ начальник, — бросился боец к Фролову, — тебя жду. Давно жду. — Почему же в номер не зашел? Там бы подождал. — Он не велит, — кивнул боец на швейцара в ливрее, важно восседавшего у двери. — Нельзя без хозяина, говорит. Хозяин разрешить должен. Фролов с улыбкой посмотрел на своего ординарца. Он очень привязался к Брамбаеву за время службы в Хорезмском полку. — Ну идем, — сказал Фролов. — Да, постой, как ты здесь очутился? Я же тебя в лазарете оставил. Поправляться велел. — Зачем лазарет, товарищ начальник! Плохо лазарет. Не надо. Брамбаев совсем здоров. Фролов опять улыбнулся, но ничего не сказал. Приход ординарца навел на неожиданную мысль: «А нет ли Голубева в госпитале?» Ведь могло же так получиться, что Голубев был тяжело ранен и имя его нескоро выяснили. А пока разбирались, в авиационном отделе поспешили занести в графу «Пропал без вести». Не откладывая дела в долгий ящик, чекист на другой же день отправился по госпиталям. Он побывал в трех и уже отчаялся, как вдруг в четвертом, расположенном отдельно, вдали от города, ему неожиданно повезло. Дежурная сестра, хмуро выслушав Фролова, переспросила: — Голубев? Летчик? — Так точно, — обрадовался Фролов. — Он здесь? — А вам, собственно, зачем? — Это мой друг. Сестра поджала губы и подозрительно посмотрела на него: — Нету. Уехал ваш летчик.. — Куда? — А я почем знаю? В голосе сестры Фролов уловил враждебные нотки. Он понял, что ничего не добьется, если не назовет себя. Сестра сразу подобрела. Принесла историю болезни Голубева и рассказала, что летчику дали отпуск по болезни сроком на три месяца. От санатория он отказался и вдвоем с другим выздоравливающим, красноармейцем Гринько, который выписался досрочно, уехал на юг. А куда, она действительно не знает. — Почему же вы мне сразу все не рассказали? — прощаясь, спросил Фролов. — Потому что не знала, кто вы, — смутилась сестра. — Вчера приходил ко мне один человек, с бородой. Все о летчике выспрашивал. Уж больно он мне не понравился… Фролов вышел из госпиталя и задумался: «Серега жив — это главное. Но кому он понадобился?.. Человек с бородой!..» Сам себе объяснить это обстоятельство Фролов так и не смог.Глава седьмая РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Весь путь по железной дороге Голубев и Гринько проделали сравнительно быстро. Ехали по тем временам не без комфорта. Как раненых, начальник вокзала посадил их вне очереди, и друзья захватили две верхние полки, Так что можно было поспать дорогой. Правда, и в вагоне друзья продолжали свой спор. Дело в том, что перед отъездом Голубев предложил пойти в управление ОГПУ и рассказать о платке, потому что дело могло оказаться серьезным. Гринько запротестовал. — Виткиля мы знаем, шо це не басня, — заявил он. — Людей от дела оторвем. Спасибочки не скажут. Заявят: це ж на смих курям, хиба других забот у вас нема? Сергей заколебался. История действительно странная. Могут не поверить, слишком на сказку похожа. — Да ты не сомневайсь, — продолжал уговаривать Гринько, — все гарно буде. Пойдем до Умара в Ош. Усе равно времени у нас богато. Поговорим с Умаром. Он мужик — голова. Там и побачимо. После долгих раздумий Голубев сдался. Однако всю дорогу вспоминал об этом. И каждый раз между друзьями вспыхивал спор. До Андижана доехали благополучно. А вот дальше дело обстояло сложнее. Железная дорога здесь кончалась, и до города Ош нужно было добираться попутными средствами. Вначале ехали в арбе, запряженной ишаком. Потом шли пешком, что не доставляло особого удовольствия, так как жара перевалила за тридцать градусов. Последний же этап пути пришлось проделать верхом вместе с отрядом пограничников. Для Гринько, закаленного кавалериста, это было настоящим праздником. Он с удовольствием забрался в седло и всю дорогу радостно насвистывал. Но для Сергея, которому за всю жизнь приходилось садиться на коня раза три, да и то в детстве, путь показался долгим и мучительным. И если бы не рассказы командира отряда пограничников, он совсем бы раскис. Командир был старожилом этих мест, знал массу историй, легенд и обрадовался возможности рассказать все это незнакомым людям. От него друзья узнали, что Ош в переводе на русский значит «стой». Город назвали так потому, что, как повествует легенда, пророк, превыше всего почитавшийся до революции в Средней Азии, уставший от тяжелых странствий, остановил здесь своих быков словом «ош». — Это очень древний город, — говорил пограничник увлеченно. — Он упоминается в летописях еще тысячу лет назад. Город расположен как раз на перекрестке больших караванных путей в Индию и Китай. Именно здесь провозили свои неведомые для европейцев товары — фарфор и пряности — монгольские ханы и индийские раджи. А потом этим же путем прошли орды завоевателей. Сергей улыбнулся: — Вы рассказываете, как ученый. — Приходится и исследователем быть, — усмехнулся командир. — Пограничник должен все знать. Пока доехали, Сергей уже знал не только историю города, в который они направлялись, но и особенности здешнего климата, и обычаи местного населения, и даже то, что показавшаяся на горизонте скалистая возвышенность называется Сулейман-а-тахта и на склоне ее расположена старинная мечеть. В городе друзья распрощались с пограничниками и двинулись пешком вдоль бурной Ак-буры. Искать Умара пришлось довольно долго. Танджибаев жил на окраине. Друзья порядочно поплутали, пока нашли нужный дом. Голубев осторожно постучал. В ответ раздался остервенелый лай собаки. В соседних дворах мгновенно отозвались другие псы. — Хай им бис глотку заткне! — выругался Микола. — Стукай шибче! Наконец тихий женский голос спросил, что нужно. Несколько минут длилось молчание, и Голубев уже подумал, что ему почудился голос, как вдруг калитка широко распахнулась. На пороге стоял Танджибаев в широком цветастом халате и тюбетейке. Пополневший и оттого, должно быть, казавшийся еще ниже ростом, он совсем не походил на того бравого, подтянутого пограничника, с которым они распрощались в госпитале. — О, келинглар, келинглар… Проходите, проходите, дорогие! — воскликнул Умар, видимо не веривший, несмотря на обещание, в приезд друзей. — Прибыли, дорогие!.. — А як же, по договору! Приятели рассмеялись и, крепко обнявшись, вошли в дом. Умар не стал говорить ни о чем до тех пор, пока Сергей с Миколой не поели жирного плова, запив его зеленым чаем. Только когда Гринько, обессиленный, отвалился на ковер, Умар довольно улыбнулся и предложил пройти в другую комнату. Плотно притворив дверь, он церемонно пригласил друзей сесть. — Спокойной ли была дорога? — гостеприимно начал он беседу. — Добре доихалы, — приглаживая по привычке свой хохолок, в тон ему отозвался Гринько. Настроение его после сытной еды заметно поднялось. — Как здоровье? Сергей не выдержал заданного хозяином тона: — Ты не тяни, пожалуйста, Умар. Вижу, тебе есть что нам сказать… — Угадал, Сережа. Только обычай наш не позволяет. Сперва гость говорит. Новость он привез. Его слушать нужно. — Яки там у нас новости!.. Отпуск нам дали: и мне, и ему. Вот и уси наши новости. Скажи, шо у тебе, Умар. Про здоровье потом… Умар внимательно посмотрел на друзей и укоризненно покачал головой. — Слово гостя — закон для хозяина, — вздохнул он. Но в глазах Танджибаева Сергей уловил хитроватые искорки. Видно, Умару и самому не терпелось поскорее высказаться. — Был такой тлахона большой, — издалека начал он, — на весь Восток известный был. — О чем это ты? О сокровищнице? — спросил Голубев. Танджибаев кивнул и продолжал: — Все ценные вещи эмиры бухарские на свой мазар собирали, долго-долго собирали. — В гробницу, не так ли? — проговорил Голубев, предупреждая вопрос Гринько. — Да, да, в мазар свой все несли: золото, алмазы, рубины, ляпис-лазурь. По́том и кровью дехкан они добывались. Умар сделал паузу, обвел ничего не понимающих друзей загадочным взглядом и заговорил опять все так же витиевато: — Большая стража у тлахона стояла. Много-много воинов с клычами острыми. Юлбас юраклик — сердце тигров имели. Сколько бы денег ни давал — нельзя договориться… Стояли долго-долго, тысячу лет стояли. Но плохое время пришло. Появились шакалы, много-много шакалов. Напали они на тлахона. Загрызли воинов. Погибли они, с клычами в руках погибли. А тлахона шакалы растащили… Так народ говорит. Народ правда говорит… — Шо ж це за шакалы таки, бис им в горло? — А шакалы те, говорит народ, Ахмед-бека банда. — Так вот оно что, — протянул Сергей, начиная понимать. — Значит, басмачи ограбили гробницу эмиров бухарских? Так? — Не я говорю. Люди говорят. Люди обман делать не будут. Еще говорят, что бек золото из тлахона на Памире спрятал, в горах. — А где? Знаешь? — не выдержал Гринько. — Ахмед-бек знал, — чуть приметно усмехнулся узбек. — Значит, на платку все ж таки план якийсь? От здорово! Да вы… — Подожди… — остановил расходившегося друга Голубев, — здесь многое еще не ясно. Этот ли план на платке Джамги или другой? Извлекли ли уже басмачи из тайника сокровища или нет? — Отвечу, Сережа, сразу отвечу. Джамга беку любимая жена была. Самая молодая… А сама совсем-совсем не любила. Молчала. Так народ говорит. Но он доверял ей. Не знал бек сердца женщины. Темное оно, как ночь в горах. Не мог знать… — Пожалуй, похоже на правду, — задумчиво проговорил Сергей. — Басмач тоже ничего не знает, совсем не знает. Тайна Джамга прятал. Никто не знал больше. Хотели у нее тогда в пустыне узнать — не смогли. Потому убили. Ничего не досталось шакалам. Тебе досталось. Шакалы за тобой ходят, твой след нюхают. — Одного не уразумию, як они узналы, шо вин у нас, той платок, — пробормотал Гринько. — Уши много, дорогой, было. Сережа громко-громко рассказывал. И друг и недруг слушать мог. — Вот так-так! А я то думав, шо ты у меня платок отнял, потому как над басней посмеялся. — Зря думал, дорогой. — Значит, надобно поспешать! А то воны, бисовы души, нас обскачуть! — Не спеши. Дело серьезное, — одернул Миколу Голубев. — Тут обмозговать все нужно. Умар опять одобрительно кивнул. — Верно говоришь. Памир — трудная дорога, легких людей не любит. Готовиться нужно. Хорошо готовиться. Советоваться надо. — Может, завтра в ГПУ сходим, расскажем там все кому следует, — предложил Голубев. — Снова ты за свое! — Гринько досадливо махнул рукой. — Чи мы сами не справимось? Верно, Умар? Танджибаев недовольно посмотрел на Гринько: — Сережа правильно говорит, совсем правильно. Идти надо. Только не ГПУ, а уком. Секретарь — светлая голова. А в ГПУ начальник дехканина не слушает. Плохо. Много-много о себе понимает… Друзья еще долго обсуждали детали предстоящего путешествия. Они засиделись бы до утра, не вспомни Танджибаев о своем долге хозяина. Решительно поднявшись, он пригласил друзей следовать в отведенную им комнату. На другой день Голубев с утра отправился к секретарю местного укома партии. Тот долго и внимательно слушал его, потом сказал: — Что ж, попытайтесь, не возражаю. Но людей лишних у меня нет. Чувствовалось, что секретарь не очень верит в эту историю. Она действительно выглядела не очень правдоподобной и смахивала скорее на легенду. Однако делать было нечего. Сергей не настаивал, но попросил помочь немного снаряжением и, главное — оружием. Секретарь, хоть и не очень охотно, обещал посодействовать и обещание свое выполнил. Через день в распоряжении друзей было самое необходимое. Наняв караванщиков и взяв проводника, трое приятелей двинулись в путь.Глава восьмая УКУС СКОРПИОНА
Поднимая густую лёссовую пыль, небольшой караван выехал из города и мимо Сулейман-горы направился в горы. Вставало солнце. Его огненные лучи золотили дорогу, змейкой убегавшую вниз и терявшуюся где-то далеко среди травянистых холмов. Сергей привстал на стременах и, обернувшись, посмотрел на город. Низкие глинобитные, налезающие один на другой домики, пышные сады, стройные ряды тополей, словно гигантские зеленые заборы, разрезающие городскую окраину на неровные квадраты. Конечно, эта теснота — не то, что их дальневосточное раздолье, где маленькое село может раскинуться на два-три километра. Сергей улыбнулся, махнул рукой, словно прощаясь с последним островком обитаемой земли, и решительно тронул коня. Впереди были только горы: высокие, серые, угрюмые. — Ну, как тебе нравится проводник? — спросил Сергей у Танджибаева, ехавшего рядом. — Вроде неплохой, а? — Турсун-ака? Давно, говорят, здесь ходит, — неопределенно отозвался Умар. Дело в том, что Турсун-аку нанял Голубев. Проводник, прослышав об экспедиции в караван-сарае, пришел в дом Танджибаева и предложил свои услуги. Умара как раз не было дома. Сергей, поговорив с Турсун-акой и убедившись, что тот хорошо знает здешние места, дал ему задаток. Услышав об этом, Танджибаев с сожалением сказал: — Другого проводника хотел звать. Хорошо знаю. Но раз так, Турсун-ака пусть будет. Долго ехали молча. Говорить не хотелось. Каждый думал о своем, понимая, что впереди — нелегкий путь и что ушли они в горы надолго. Умар вспомнил, что забыл наказать брату Садыку сходить в только что организованную коммуну и достать кетмени: старые совсем поломались. Голубев жалел, что перед отъездом так и не успел ничего узнать о судьбе Фролова. И только Гринько не унывал. Дорвавшись наконец до седла, он не мог ехать спокойно. На своем низеньком лохматом жеребце Микола то вырывался на рыси далеко вперед, то галопом возвращался обратно и, довольный, ехал позади всех. Глядя на него, Умар улыбался. Но когда Микола вновь лихо пронесся мимо них, крикнув: «Догоняйте, бисовы души!», Танджибаев проговорил: — Предупредить надо. Нельзя так ехать, никак нельзя. — И позвал Гринько: — Быстро не надо лошадь гонять. Гонять будешь — коня погубишь… В горы идем, коня беречь надо. Гринько насупился. Нижняя губа у него оттопырилась, как у обиженного мальчишки. Сергей не выдержал и рассмеялся. Глядя на него, засмеялся и Умар. Настроение немного поднялось. Все трое поехали рядом. — А шо, — заговорил через некоторое время Гринько. Он уже забыл о своей обиде. — Добудемо сокровища, я себе хатку пятистенну первым дилом зроблю. Коня куплю. А може, автомобиль? Як вы думаете? — Дурья ты голова, — отозвался Голубев. — Разве мы для себя? — Он сердито посмотрел на Гринько. Тот смутился: — Я шо… Я ничего… На усех разделимо. — Не разделим, а в фонд республики отдадим, — строго поправил Сергей. — На укрепление Красной Армии. — Ну конечно… И я про те ж… — Не будем говорить. Нехорошо говорить, — тихо заметил Умар, выразительно поглядывая на караванщиков. Все замолчали. За первый день пути отряд прошел километров семьдесят: дорога все время была хорошей. Привал сделали, когда стемнело. Развели костер, вскипятили чай, поужинали и дружно полезли под одеяла. Однако поспать не удалось. Только Сергей задремал, как его разбудил отчаянный крик. — Шо стряслось? — вскочил Гринько. — Не знаю, — отозвался Голубев. Пока они переговаривались, крик повторился. — Поспешайте! — крикнул Гринько, выскакивая из палатки. Они добежали до места, где ночевали караванщики, предпочитавшие спать на свежем воздухе. Вспыхнул факел, и Сергей увидел погонщиков, столпившихся в кучу. Перед ними лежал на камне один из караванщиков и тихо стонал. — Что с ним? — спросил Сергей. Стоявший немного в стороне Турсун-ака обернулся и коротко бросил: — Скорпион. Оказалось, что спящего караванщика укусил скорпион. Рука у него вздулась и быстро краснела. Умар натер руку пострадавшему каким-то сильно пахучим веществом и перетянул веревкой. — А вин не умре? — со страхом спросил Гринько. — Можетбыть, дорогой. Скорпион сейчас опасно. Время такое. Больно кусает. Злой. Больницу очень быстро надо. Сразу ехать. Провожать надо. — Но наш отряд лишится сразу двух человек! — Что делать, Сережа. Человек спасать нужно. И Умар тут же приказал одному из погонщиков немедля везти пострадавшего в город, а остальным отдыхать, набираться сил для завтрашнего перехода. Лагерь постепенно затихал. Сергей тоже хотел отправиться досыпать в свою палатку, но его озадачило поведение Умара. Узбек воткнул факел в расщелину между двумя камнями и стал внимательно рассматривать землю вокруг места, где лежал караванщик. Окончив осмотр, Танджибаев в раздумье присел на землю. — Скажи, друг, — спросил Сергей, подсаживаясь к нему, — неужели местные жители до сих пор не нашли средства предохранять себя от укусов этих гадов? — Почему не нашли? Смотри, — Умар поднял что-то с земли и протянул Голубеву. Тот увидел волосяную веревку и недоумевающе посмотрел на друга. — Это защита, хорошая защита, — пояснил Умар. — Через веревку скорпион не ползет. Ночью караванщик веревку кольцом кладет кругом себя, спит спокойно. Понимаешь? — Нет, — признался Сергей. — Что же, выходит, наш погонщик забыл это сделать? Умар невесело усмехнулся и ткнул пальцем в конец веревки: — Порезана ножом…Глава девятая НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА
Поиски привели Фролова в Ош. Но здесь следы Голубева вновь затерялись. От пограничников удалось узнать, что с последним отрядом в город приехали двое военных, по описанию очень похожих на летчика и сопровождающего его красноармейца Гринько. Они разыскивали в Оше какого-то своего знакомого. Но вот кого — установить не удалось. На другой же день после прибытия в Ош Фролов побывал в местном отделе ГПУ. Однако и там не смог узнать ничего утешительного. Принявший его начальник отдела, низенький, полный и, как показалось старому чекисту, довольно самоуверенный человек, заявил: — Ничем, к сожалению, помочь не могу. И, увидев, как нахмурился приезжий, поспешно добавил: — Да вы не волнуйтесь, не пропадет ваш друг. Тем более что в нашем районе сейчас все спокойно. Басмачи, если и пошаливают, то очень далеко в горах. А у нас тихо. После недолгих размышлений Фролов решил побывать на базаре — самом людном месте в городе. Спустившись вниз и перейдя по шаткому мостику Ак-буру, он попал в самую гущу базарной толчеи. В воздухе стоял несмолкаемый гомон. «Катык! Катык!» — пронзительно неслось со стороны рассевшихся полукругом продавцов кислого молока. «Узюм! Узюм! Алма! Нок! Дыня! Биш кадак!» — вторили визгливые голоса из фруктового ряда. В толпе шныряли мальчишки в рваных халатах и засаленных тюбетейках. Подозрительного вида муллы торговали четками и одновременно попрошайничали. Возле чайханы свирепый на вид, высокий, толстый, с заплывшими жиром глазами табиб, местный знахарь, бойко предлагал свои снадобья от всех болезней на свете. Потолкавшись в скобяных и гончарных рядах, Фролов прошел на толкучку, особенно бойкую часть базара. Здесь торговали решительно, всем — от икон и подсвечников до ковров и верблюдов. Но напрасно чекист полдня бродил по базару: Сергея встретить не удалось. Фролов собрался уже уходить, жалея о потраченном времени, как вдруг в толпе заметил удивительно знакомое лицо. Ввалившиеся щеки, глубоко спрятанные за надбровными дугами глаза, брезгливая улыбка на губах и острый кадык. Вот только чего-то не хватает. Лицо мелькнуло и пропало. И в тот же миг Фролов вспомнил, чего недоставало — клинообразной бородки. Сомнений быть не могло. Это — бывший парламентер Османа-курбаши. Фролов хорошо его запомнил тогда в пустыне. Расталкивая толпу локтями, чекист рванулся вперед. Но разве можно было отыскать человека в этом людском круговороте?! Фролова оттерли, и он потерял всякую возможность вновь увидеть знакомое лицо. «Вот тебе и все спокойно в районе. Басмачи только далеко в горах пошаливают, — с усмешкой вспомнил чекист слова начальника местного отдела ГПУ. — А люди Османа-курбаши свободно по городу разгуливают… Нет, — решил Фролов. — Так дальше дело не пойдет. Нужно принимать решительные меры». С базара Фролов отправился в отдел ГПУ и написал донесение Кремневу. Затем пошел прямо к секретарю укома партии. И здесь он совершенно неожиданно напал на след Голубева. Секретарь укома с усмешкой рассказал о сумасбродной, по его мнению, затее летчика и его друзей, решивших отыскать какие-то неведомые сказочные сокровища. Правда, он помог все-таки фантазерам немного снаряжением и оружием, но в затею их не очень-то верит. Фролов слушал секретаря и все более мрачнел. Когда тот закончил рассказ, он грубовато сказал: — Напрасно вы так легкомысленно отнеслись к этой безумной, с вашей точки зрения, затее. Басмачи о ней совершенно иного мнения. Не зря в ваш город прибыли люди Османа-курбаши. — Не может быть! — вскочил секретарь укома. — Может, очень может быть! Сам видел одного из них сегодня на базаре. Ушел, проклятый! Но вам бы не мешало об этом знать раньше меня. — Неужели вы думаете, что они пожаловали сюда из-за этого? — заволновался секретарь, не замечая язвительного тона Фролова. — Не полагаю, а уверен. И Фролов рассказал о своей первой встрече с посланцем Османа-курбаши в Каракумах. — Да-а, пожалуй, здесь я допустил оплошность, — протянул секретарь. — И надо ж было так прошляпить! Восклицание секретаря укома было настолько искренним, что Фролов смягчился. — Чего уж там, — примирительно заметил он. — Сделанного не воротишь. Конечно, им нужно было дать охрану, но… Давайте вместе сейчас подумаем, как лучше помочь делу. Они договорились, что секретарь укома на завтра подготовит к походу небольшой отряд ЧОН из местных коммунистов. Отряд с Фроловым во главе выступит к перевалу Ак-Байтал. Название перевала секретарь случайно запомнил из разговора с Голубевым, и это давало в руки Фролова конечный пункт маршрута, по которому двигались летчик и его друзья. Кроме того, было решено, что секретарь укома соберет большевиков города, разъяснит обстановку, приведет в боевую готовность все части ЧОН, свяжется с пограничниками и примет меры к усилению охраны города и его окрестностей. Выйдя из укома, Фролов отправился по адресу, данному секретарем, в дом Танджибаева. Он надеялся хоть там узнать какие-нибудь дополнительные сведения о Голубеве. Калитку открыла женщина, закутанная в платок. Только черные бусинки глаз выглядывали из-под шали. — Здесь живет товарищ Танджибаев? — спросил Фролов. Женщина молчала. — Проходи! Проходи! — раздался из глубины двора голос, и к калитке подошел высокий узбек. — Танджибаева нет. Совсем нет, — проговорил он с сильным акцентом. Он хотел сразу же уйти, но Фролов быстро проговорил: — Поймите, я его друг. Танджибаеву и его друзьям угрожает большая опасность, и мне бы хотелось кое-что узнать от вас. Все еще недоверчиво поглядывая на пришельца, но, по-видимому, несколько успокоенный его искренним тоном, узбек пропустил Фролова во двор. Чтобы окончательно рассеять его подозрения, чекист вынужден был предъявить документы. — Вот оно что! — обрадовался узбек. — Проходи давай! Я Садык, брат. Понимаешь, брат Умара. — Здравствуйте, товарищ Садык! Фролов с удовольствием пожал мозолистую руку узбека. Через минуту на террасе, где они присели на ковер, появилось вино и фрукты. Садык радушно пригласил отведать всего хотя бы понемногу. — У нас растет, — горделиво пояснил он. — На нашей земле. Узбек охотно отвечал на вопросы чекиста. Он рассказал о сборах трех друзей, о том, какие трудности им встретились. Но о намерениях брата, его целях говорил весьма скупо. Фролов догадался, что Умар не особенно распространялся на эту тему. Даже брату не сказал, зачем они идут в горы, то ли по скрытности своего характера, то ли просто потому, что не хотел привлекать к экспедиции лишних людей. Под конец Садык поведал кое о чем таком, что заставило чекиста еще более насторожиться. Оказывается, вчера Танджибаева навестил неизвестный человек. Назвавшись другом Умара, а по местным обычаям человека, назвавшегося другом, встречают очень приветливо, он стал расспрашивать Садыка о том, где его брат, надолго ли ушел и кого взял с собой. Но Садык почувствовал неладное и на все вопросы отвечал уклончиво. Тогда незнакомец предложил ему деньги, заявив, что всегда рад помочь брату друга, такому хорошему человеку. — Гость был, — как бы оправдываясь, сказал Садык. — Гость нельзя трогать, а то… Он не договорил. Только сжал свои огромные кулаки. И Фролов понял, чего не досказал узбек. — Каков из себя этот человек? — Высокий — вот, — Садык показал рост незнакомца. — Лицо худой-худой, как мулла наш. Глаза черный и маленький, совсем плохо видно… «Значит, и здесь посланцы Османа-курбаши опередили меня! Идут впереди на целые сутки!» — с недовольством подумал Фролов. Сообщение Садыка очень взволновало его: враг действовал. Когда Фролов собрался уходить, Садык неожиданно попросил его: — Знаю. За Умаром пойдешь. Я тоже идти должен. Брат потому что… Фролов подумал и согласился. Лишний человек, знакомый с местными условиями, в отряде — хорошая помощь. На другой день отряд ЧОН, состоящий из двадцати пяти всадников, выступил из Оша в горы. Погода благоприятствовала. Кони резво бежали по дороге. К полудню позади остался сороковой километр. И тут навстречу отряду попалась странная процессия. Впереди двух лошадей, между которыми была натянута парусина, шел человек в ватном халате. На этих импровизированных носилках лежал другой человек и тихо стонал. Фролов, ехавший впереди отряда с проводником, остановился и соскочил с коня. — Что случилось? — спросил он. — Не можем ли мы помочь чем? Тот отрицательно покачал головой: — Доктора быстро нужно. Скорпион укусил. Из дальнейших расспросов выяснилось, что это караванщики из отряда Голубева. И без того небольшой отряд летчика уменьшился на два человека. Тревога Фролова возросла.Глава десятая ПЛЕН
Чем дальше в горы уходил караван, тем разительнее менялась природа. Исчезли абрикосовые деревья и тополи. Вместо них на склонах появились тесные рощицы древовидного можжевельника, или арчи, как его называют на Памире. Темно-зеленые заросли арчи перемежались с кустарниками облепихи, шиповника и тала. Повсюду — полевые цветы. Но особенно много их на широких прогалинах между речками, частенько попадавшимися по дороге. Ярко-красные, бледно-голубые, сине-желтые цветы сплетались в чудесную, неповторимую мозаику. Постепенно отступили и пышные альпийские луга. Караван попал в вечное царство камня. Теперь уже ничто не напоминало Голубеву родного Приамурья. Если там, внизу, невысокие горы, покрытые сочной травой, еще были как-то похожи на буйно-зеленые весенние сопки в поймах, то здесь — только камень, серый, темный, однообразный. Заночевать на сей раз решили в ущелье, по которому протекал ручеек. Отыскали небольшую ровную площадку в излучине, поужинали и улеглись в палатках. Спать на открытом воздухе никто не решался: температура ночью падала ниже нуля. Вскоре в лагере все замерло. Еще некоторое время раздавались осторожные шаги караульного, но вскоре и они смолкли. Только сонное дыхание людей да тихий шелест сена в торбах у лошадей нарушали тишину. Гринько не спалось. Захотелось курить. Поворочавшись с боку на бок, он решил встать и выкурить цигарку на свежем воздухе. Даже не надевая сапог, чтобы не разбудить друзей, он пробрался к выходу. В лицо приятно повеял свежий ветерок. Микола присел у палатки на камень и залюбовался развернувшейся перед ним картиной. Освещенная полной луной, сиявшей на небе во всей своей красе, вдаль уходила широкая панорама гор. Окруженная зубчатым венцом снеговых вершин, она была поистине прекрасной. Словно гигантские волшебные голубоватые камни, переливались в лунном сиянии ледники на далеких склонах. Спускаясь вниз и фосфорически поблескивая, они постепенно темнели, превращаясь из светло-синих в темно-фиолетовые и, наконец, в иссиня-черные. А навстречу им, будто вымазанные дегтем, подымались темные осыпи, змеящиеся, как плети, по серым откосам скал. Гринько так захватило это зрелище, что он не сразу обратил внимание на тень, мелькнувшую на краю лагеря. Но когда тишину ночи прорезал негромкий крик шакала, Микола насторожился. Похоже на сигнал. Прислушался. Крик повторился. Странно… Гринько напряженно всматривался в темноту, но ничего подозрительного не заметил. Начал уже успокаиваться, как внезапно увидел человека, выходящего из палатки караванщиков. Человек двигался пригнувшись, то и дело останавливаясь, к чему-то прислушивался. Он явно не походил на караульного. «Кто ж это у нас по ночам шляется?» — подумал Гринько. Сначала мелькнула мысль разбудить своих. Но, опасаясь вызвать шум и спугнуть неизвестного, он решил пока воздержаться и попробовать самому все выяснить, прежде чем поднимать тревогу. У Гринько мелькнула и другая мысль. Ему страшно захотелось самому отличиться, захватить неизвестного в плен и уж потом поразить друзей необыкновенным рассказом. Он на мгновение представил себя сидящим в палатке и эдаким безразличным, усталым голосом докладывавшим о событиях прошедшей ночи. Сергей и Умар сидят, слушают раскрыв рты. Вот потеха! Пока вы, мол, тут спали, я, смотрите, что сделал!.. Прильнув к земле, Гринько ужом скользнул мимо палатки и быстро пополз вперед. Не выпуская человека из поля зрения, Микола добрался до места, где стояли лошади. И тут на беду его конь, которого Гринько баловал лакомствами и частенько тайком, чтобы не ворчал Умар, подкармливал хлебом и солью, узнав хозяина, громко заржал. Тень незнакомца испуганно метнулась в сторону и исчезла. Гринько чертыхнулся и, забыв об осторожности, ринулся вперед. Но не успел пробежать и нескольких шагов, как метко брошенный аркан упал ему на плечи. Микола попытался освободиться из петли, закричать. Но веревка дернулась и перехватила горло. Гринько рванулся, захрипел и, упав на камни, потерял сознание… Очнулся он от сильной тряски. Связанный по рукам и ногам, Гринько лежал поперек лошади. Веревки впились в тело. Грудь стиснута, дышать нечем. Повернув голову, он увидел чуть позади еще двух всадников. Кони неслись быстро. Сколько продолжалась эта скачка, Гринько вряд ли мог сказать. Он то терял сознание, то приходил в себя и еще мучительнее ощущал свою беспомощность. Наконец лошади стали. Миколу тяжело, словно мешок с песком, сбросили на землю. Кто-то сильным рывком поднял его на ноги и разрезал веревки ниже пояса. Гринько, пошатываясь, стоял в кругу пестро одетых людей: рваные ватные халаты вперемежку с грязными шинелями и изодранными куртками. У каждого за спиной винтовка, у многих — маузеры, гранаты. «Значит, попал к бандюгам, — подумал Гринько. — И надо ж так влопаться!» Невысокий чернобородый басмач вплотную подошел к Гринько и что-то крикнул, показывая на брюки. Видно, его прельстили кавалерийские галифе. Микола сразу догадался о желании бандита, однако сделал вид, что не понимает. Лицо басмача исказилось. Сзади подскочили еще несколько человек, повалили Гринько, содрали брюки. Гринько остался в кальсонах и носках. «Хорошо, шо чобот не надив, — с крестьянской скупостью подумал он. — Усе равно ци бисовы души содрали бы…» Ноги зябли. Гринько, поеживаясь, шел по сырой от инея траве вслед за басмачом мимо пылающих костров. Они остановились у юрты в самом центре басмаческого лагеря. Посреди юрты сидели человек семь в богатых атласных халатах. Видно, здесь собралась верхушка шайки. Выделялся один. Одет он был в подбитую мехом куртку, хромовые сапоги, на голове высокая папаха из серого каракуля. «Атаман, наверное», — подумал Гринько. Атаман в куртке спросил о чем-то своего соседа. Тот подобострастно кивнул. Миколе показалось, что он уже видел где-то этого человека: запомнились плутоватые раскосые глаза и большой красный нос. Но раздумывать ему не дали. Человек в меховой куртке поднял голову и громко спросил: — Ты красноармеец Гринько? Маленькие серые глазки пронизывали пленника сверлящим взглядом. Говорил атаман по-русски довольно чисто, только немного картавил. Микола усмехнулся. Значит, они даже имя его успели узнать. — Говори, зачем в горы шел? — А тоби на що? — Не разговаривать! Какова цель вашего путешествия? Ну, отвечай! А то мы чик-чик делать будем! Сдерживая кипящую в груди злость, Микола довольно спокойно сказал: — Усе знаю. Тильки тоби, собака, не скажу! — Скажешь! — взвизгнул басмач. — Иначе… — Шо иначе? — с презрением оборвал его Гринько. — Говори! Кого лякаешь, мерзота? Тьфу! Микола смачно плюнул и удачно попал на мех куртки. Сидящий рядом с атаманом басмач вскочил и с ревом бросился на Гринько. Совсем близко от себя Микола увидел позеленевшие от ярости глаза. Сильный удар в челюсть свалил его с ног. И тут же в голове ярко, как вспышка, мелькнула картина: госпиталь, палата, вечер, Голубев рассказывает историю Джамги, а в коридоре толпятся выздоравливающие. И среди них — эта жирная свинья с красным носом и плутоватыми глазами. Точно! «Так вот кто выдал басмачам тайну платка!» — пронеслось в голове. — Ах ты, гадина! Предатель! Будь проклят! — прохрипел Гринько и, внезапно изловчившись, что есть мочи ударил ногой в пах басмача. Тот дико вскрикнул и медленно осел на землю, ловя ртом воздух. К лежащему на земле красноармейцу со всех сторон бросились сразу несколько человек. Со всех сторон посыпались удары. В глазах вспыхнули радужные круги. «Конец!» — мелькнула мысль. Микола, извиваясь, выбрал момент и вновь ударил головой одному из басмачей в лицо. Сквозь красную пелену, застилающую глаза, успел заметить, как бандит, обливаясь кровью, выскочил из юрты. Тело уже не чувствовало боли. Угасало сознание. Последнее, что он увидел, — властный жест атамана, который останавливал разъярившихся басмачей. «Хотят еще щось из мене выжать, сволочи! Не выйдет!» — подумал Гринько, чувствуя, что ему связывают ноги. Он потерял сознание.Глава одиннадцатая В КАМЕННОЙ МЫШЕЛОВКЕ
Таинственное исчезновение Гринько всполошило друзей. Проснувшись, они вначале подумали, что Микола, как уже не раз это делал, отправился тайком дать лакомство своему любимцу коню. Но обнаружив в палатке сапоги, без которых Гринько не мог, конечно, уйти, Голубев и Танджибаев тревожно переглянулись. Не сговариваясь, вскочили и быстро оделись. Наблюдательный Умар сразу же напал на след. — Смотри, — указал он. След привел к изгибу ручья. И тут друзья ясно увидели отпечатки двух пар сапог. Трава была примята. В стороне валялась пуговица со звездочкой. Следы явно свидетельствовали о борьбе. Сергей поднял пуговицу. Сердце защемило от предчувствия случившейся беды. Танджибаев продолжал осмотр. В одном месте он даже поковырял землю и задумался. — Неужели басмачи? — спросил Сергей. Умар утвердительно кивнул. — Странно, почему они на нас не напали? Танджибаев не отозвался. — Что мы медлим? Давай скорее звать караванщиков и поспешим на выручку… — Посмотри, — остановил Сергея Умар. — Один караванщик здесь ходил. Смотри лучше, мягкий сапог. Погонщики носят мягкий сапог. — Ты о наших погонщиках говоришь? Но мне не ясно… — Мне тоже, — перебил Танджибаев. — Потом говорить будем. Друзья решили собрать караванщиков, рассказать о случившемся и посмотреть, какое это произведет впечатление. Те, узнав о происшедшем, пришли в ужас. Они качали головою и со страхом поднимали руки к небу. — Аллах!.. Аллах!.. Басмачи!.. — только и можно было разобрать из их восклицаний. Один лишь Турсун-ака стоял в стороне и молчал. Танджибаев внимательно наблюдал за проводником, но ничего, кроме страха и растерянности, на его лице не заметил. Он даже, как показалось Умару, испугался больше других. Да это и понятно. Ведь Турсун-ака как-никак караван-баши и отвечает за людей и грузы. «Кто же все-таки?.. — пытливо всматриваясь в караванщиков, задал себе вопрос Танджибаев. — Кто помогал басмачам?» Погонщик, назначенный в эту ночь охранять лагере ничего вразумительного сказать не мог. Видимо, спал. Когда первые минуты растерянности прошли, все бросились седлать лошадей. И тут обнаружилась еще одна неприятность: недоставало двух коней. Их, видно, увели басмачи. Однако горевать было некогда. Нужно было спешить. Друзья направили лошадей по следу — отпечатки копыт хорошо сохранились на обильно смоченной росою дороге. За ними последовал лишь Турсун-ака. Остальные караванщики сгрудились и молча провожали их взглядом. — Скорее! Скорее! — торопил всех Сергей, подхлестывая коня. Ему казалось, что если они поспешат, то непременно догонят бандитов и отобьют Гринько. Ведь те с тяжелой ношей далеко не уйдут. А уж если они их настигнут, то… Сергей не решил, что сделает с бандитами, но чувствовал, что это будет страшно. Спешил и Умар, все еще недоверчиво поглядывая на Турсун-аку, скакавшего позади. Проводник торопился не меньше их. Он то и дело подхлестывал коня, стараясь не отставать. Ехать, однако, долго не пришлось. За ущельем дорога резко повернула влево и круто пошла вверх по краю пропасти, на дне которой глухо ревел пенящийся поток. Тут-то друзья и обнаружили новые следы борьбы. Видно, Гринько удалось вырваться из лап басмачей, и он решил погибнуть, но не даваться им в руки. По многочисленным следам попытались восстановить картину схватки. На Миколу набросилось сразу несколько человек. Он яростно отбивался. На земле явно были видны капли побуревшей крови. На самом краю пропасти Умар нашел клочок зеленой материи, несомненно вырванной из красноармейской гимнастерки. На камнях опять виднелась кровь. — Здесь, — тихо сказал Умар и медленно снял шапку. Сергей понял его: да, именно здесь нашел себе могилу Гринько. Отчаявшись вновь захватить его живым, басмачи, по всей вероятности, столкнули Миколу в пропасть. Несколько минут друзья молча, обнявшись, стояли над обрывом. Охваченные горем, они забыли обо всем на свете. Первым очнулся Сергей. — Едем дальше! — глухо сказал он. — Догоним их! Умар отрицательно покачал головой: — Поздно, дорогой, совсем поздно. Басмач далеко ушел. Не догонишь. Но Голубев все же настоял на том, чтобы продолжать преследование. Двинулись дальше. Но, проехав с километр, вынуждены были остановиться. Солнце высушило росу. Почва пошла каменистая, и на ней уже нельзя было рассмотреть никаких следов. Подавленные, друзья вернулись в лагерь. Говорить ни о чем не хотелось. Лицо Умара застыло, словно каменное, резко обозначились скулы. — Что делаем, Сережа? — заговорил первым Танджибаев. — Назад пойдем, нет? Голубев ответил не сразу. Мысли его были далеко. Но когда понял вопрос Умара, в сердцах махнул рукой: — Теперь все равно! Пропади оно пропадом! Умар нахмурился. — Нехорошо говоришь. Плохо говоришь. Не так говорить надо. — Он явно волновался. — Не себе ищем. Совсем не себе… Сергей устыдился: — Ты прав, Умар! Надо идти! Он подумал о том, что Гринько, пожалуй, не пал бы духом. Ведь не на прогулку они вышли в горы. Не сокровища сами по себе волновали всех троих. Стране нужны были деньги, ох как нужны! А тут такое богатство! Нельзя допустить, чтобы оно попало в руки врага. — Ты прав, Умар! — повторил он. — Теперь верно говоришь, — облегченно вздохнул Умар. — Обязательно идти. Мало осталось. В это время к палатке гурьбой подошли караванщики и заговорили все разом, наперебой. Напрасно Умар пытался унять их, расспросить кого-нибудь одного. Галдели все, поминая то и дело аллаха, и что-то настойчиво требовали. — Дальше ходить не хотите? — резко спросил Танджибаев. — Почему? — Нельзя, начальник. Никак нельзя. Аллах не велит, — выступил один караванщик. — Неправда ваша! Зачем так говоришь? Плохо говоришь! Кто слово держать будет? Слово караванщика — камень, крепкий камень, как скала. До Ак-Байтал не ходили. Платить за что? Платить нету. — Мы хорошо шли, начальник. Тебя слушали, — продолжал тот же караванщик. — Всю дорогу слушали. Нельзя обижать. Аллах не велит ходить дальше. Погонщик бедный-бедный… Сергей понял, что уговаривать людей бесполезно. Только зря терялось время. Видно, решили они твердо, и здесь ни угрозами, ни посулами не поможешь. Упрямый народ. — Ну что ж, силой не держим, — с досадой сказал он. — Уходите… И ты с ними? — обернулся Голубев к стоящему в стороне проводнику. — Как все, начальник, — уклончиво ответил Турсун-ака. Делать ничего не оставалось. Сергей расплатился с погонщиками, и те спешно начали собираться в обратный путь. Только Турсун-ака остался стоять на месте, печально глядя вслед ушедшим. — Я просил, начальник, говорил, много-много говорил, — тихо сказал он. — Не слушают караван-баши. Плохо! Танджибаев почувствовал неприязнь к проводнику. Как-то неестественно тот жаловался на свое бессилие. Это не соответствовало его манере властно обращаться с караванщиками. Но Сергей ничего этого не заметил и, повернувшись к Турсун-аке, попросил: — Пойдем с нами, друг! Выручай. На лице Турсун-аки отразились колебания. — Жалеть не будешь, друг, — продолжал Сергей. — Оставайся с нами. Хорошую награду получишь. Часа через два-три путешественники завьючили лошадей, взобрались в седла и двинулись дальше в горы. Путь пролегал по красно-бурой осыпи, состоявшей из обломков мрамора и гнейса. В обломках камней поблескивали многочисленные вкрапины гранатов и турмалина. Затем тропа резко подалась влево, в обход громадного цирка, и пошла взбухшими моренными холмами по мелкой щебенке, издали очень похожей на рассыпанную фасоль. Двигаться стало труднее. Воздух был уже сильно разрежен. Сказывалась высота. При вдохе покалывало в груди. Лошади шли тяжело. Бока их покрывались пеной. Похрапывая, кони то и дело скользили по камням. До конца дня удалось пройти всего каких-нибудь двадцать пять — тридцать километров. Остановились на ночлег. На перевале позади них к небу поднимался большой столб дыма, словно кто-то зажег огромный костер. Сергея поразило это странное явление. «Уж не пожар ли?» — подумал Голубев и уже хотел сказать об этом Танджибаеву, но вдруг случайно бросил взгляд на проводника. Турсун-ака, не отрываясь, смотрел на дым. На лице его была написана тревога. Голубев было собрался спросить проводника, что его встревожило, но тут заговорил Умар: — Скоро ехать надо, ночевать на перевале. Там Ак-Байтал рядом. Турсун-ака горячо поддержал это предложение: — Я на перевале хорошее место знаю. Хороший привал! — быстро проговорил он. Уже зашло солнце, когда уставшие путники достигли перевала. В наступивших сумерках только вершины гор еще можно было рассмотреть на фоне темного, грозового неба. — Там, — указал вперед Турсун-ака, — Ак-Байтал. Сергей взволнованно посмотрел вперед, но ночь уже вступила в свои права. Быстро расседлали коней. Палатку расставлять не понадобилось, потому что Турсун-ака показал им отличную пещеру, которая оказалась очень удобной для ночлега. Прямо в ней и развели костер. Сергей поставил варить рис, но варево не удалось. Даже после длительного кипячения рис и не думал развариваться. — Высота! — отозвался Турсун-ака. — Вот так штука, — недовольно проворчал Сергей, жуя твердую, как резина, кашу. — И голова болит чертовски… — Тутек, — коротко бросил Умар. — Что? — Тутек, говорю. Болезнь горная. Воздуха мало-мало. Дышать плохо… Танджибаев поднялся: — Отдыхать нужно. Спать ложись все. Дежурство моя очередь. — Давай я. Мне лучше, — предложил Турсун-ака. «Отказаться от его услуги, — подумал Танджибаев, — значит показать, что я ему не доверяю…» Он согласился, решив про себя, что не сомкнет глаз. Турсун-ака облегченно вздохнул. — Ложись, ложись, — захлопотал он, поудобнее устраивая ложе для друзей. Сергей с тревогой посмотрел на Умара. Видно, его тоже мучили дурные предчувствия. Но Танджибаев успокаивающе улыбнулся: все, мол, будет в порядке. Через минуту Голубев уже спал. Умар, прикрыв глаза, сквозь ресницы наблюдал за проводником. Тот спокойно сидел у костра, изредка поклевывая носом. Картина была настолько успокаивающей, что Танджибаев невольно усомнился: может, он перебарщивает в своей бдительности?.. Однако чутье пограничника подсказывало ему, что здесь не все чисто. И он продолжал бороться со сном, хотя усталость наваливалась на него тяжелой глыбой. А нужно было еще вдобавок лежать неподвижно. Сколько это продолжалось, Умар не помнил. Постепенно костер начал гаснуть. Темнота подступила вплотную, мягко окутала со всех сторон. И вдруг сильный грохот потряс пещеру. Друзья мгновенно вскочили, бросились к выходу, но натолкнулись лишь на груду камней. Сергей чиркнул спичкой. Яркая вспышка на мгновение озарила все вокруг. Пути не было: каменный обвал завалил выход из пещеры. Спичка догорела и погасла.Глава двенадцатая БАСМАЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ
Избитого, потерявшего сознание Гринько бросили в угол юрты. Словно сквозь сон слышал он громкие голоса споривших о чем-то басмачей. Потом в юрте наступила тишина. Дружно забормотали молитву. Затем раздалось чавканье. Постепенно к Гринько возвращалось сознание. Он чуть приоткрыл глаза и увидел, что басмачи едят мясо, жадно выхватывая его прямо из общего котла. Мясо было жирное, сало стекало с пальцев на халаты, но на это никто не обращал внимания. Все торопились насытиться, боясь, что другому достанется кусок побольше и пожирнее. Миколе нестерпимо захотелось есть. Засосало под ложечкой. Он сглотнул слюну и ощутил во рту горечь. Ныло избитое тело. Голова шумела, точно после свадьбы, когда перехватишь горилки. От неудобного положения затекли руки. Он с трудом сдерживал стон и лежал не шевелясь. Малейшее движение могло привлечь внимание басмачей. И тогда новые побои. А это уже наверняка конец. Побоев он больше не выдержит. Чавканье продолжалось: настоящая пытка видеть, как люди едят, если ты голоден. Гринько пытался думать о чем-нибудь другом, но запах баранины буквально сводил его с ума. Потом стала одолевать жажда. Во рту пересохло. Запекшиеся губы горели. Гринько уже и сам не знал, чего ему больше хочется: есть или пить. Но он упрямо терпел и не двигался. И его терпение было неожиданно вознаграждено. В юрту вошли трое. Впереди важно выступал человек в таком же, как и у большинства басмачей, лоснящемся от грязи халате. Однако вся его осанка: гордо поднятая голова, презрительно искривленные губы и надменный взгляд — свидетельствовала о том, что он не простой смертный. Да и черты лица, тонкие, изнеженные, как и русые волосы, выбивавшиеся из-под чалмы, сразу выдавали в нем европейца. Остальные двое — типичные узбеки: скуластые, с узкими щелочками глаз и свирепым выражением — очевидно, выполняли роль телохранителей. Увидев вошедших, атаман вскочил и суетливо захлопотал. — Зачем не предупредили, господин? — льстиво заговорил он по-русски. — Встретить нужно было. — Неважно, — также по-русски, хотя и с акцентом, сказал вошедший. — Вот что, Осман-курбаши, прикажите всем убраться отсюда. Разговор есть. «Так ось вин який, Осман-курбаши, — подумал Микола, сразу вспомнив рассказ Голубева о кровожадном наместнике Ахмед-бека. — Ишь ты, куда его заперло». Как только басмачи, поспешно заглатывая последние куски, покинули юрту, оба телохранителя угрюмо стали у входа. — А что это за падаль в углу? — кивнул гость в сторону Гринько. Микола даже дыхание затаил. — Мертвец, — усмехнулся Осман-курбаши, — скоро мертвец! — И сделал выразительный жест ладонью по шее. — Прошу кушать. Садитесь! Садитесь, господин! Осман-курбаши усиленно потчевал гостя. Тот, изрядно проголодавшись, ел все, что предлагали, запивая еду из фляги, висевшей на поясе. Видно, во фляге была не вода, а кое-что покрепче, потому что он морщился и покрякивал от удовольствия. Лицо его раскраснелось. У Гринько вновь засосало под ложечкой. Он закрыл глаза и на минуту забылся. Вскоре гость насытился. Вытерев платком губы, он пробурчал что-то вроде благодарности и, закурив, проговорил: — Ну, докладывайте! Я недостаточно изучил узбекский язык. Говорите по-русски, так привычнее. Впрочем, нам никто не помешает… — И гость удобно откинулся на подушки, услужливо придвинутые хозяином. — Плохо, господин, совсем плохо. Людей мало-мало осталось, да и… — Что? — повысив голос, перебил гость. — Вы же говорили, что по первому вашему зову под святые знамена ислама встанут сотни дехкан! — О, аллах, — смущенно отозвался Осман-курбаши, — время пришло другое. Проклятые большевики, да упадет гнев аллаха на их голову, землю оборванцам дали. Много земли. Слышали? — Земельно-водная реформа? Знаю. Теперь-то как раз и время поднимать народ. Сейте слухи, что коммунисты дали землю, чтобы весь урожай забрать себе. — Уборка началась, господин. Никто не отбирает. Дехкане верить не будут. — А вы на что? Надо вести провокационную работу. Организуйте небольшие отряды, летучие группы. Под видом ГПУ отбирайте у населения хлеб, хлопок. Уничтожайте все. Ясно? — Конечно, господин, но… — Что? Опять денег? — Деньги тоже нужны. Народ бедный-бедный стал. Оружия мало осталось. Людей кое-как найдем, а вот… — Послушайте, Осман, не валяйте дурака. Того, что у вас есть, вполне достаточно. — Клянусь аллахом, Осман ничего не имеет. — Что за чушь? Вам же Ахмед-бек передал. — Нет, нет, господин! Плохо вышло. Аллах призвал нашего Ахмед-бека очень рано. Не успел он своего верного друга Османа видеть… Платок вышить приказал. План. — Восточные фокусы! — недовольно фыркнул гость. — Правда ваша, господин. Темные люди здесь. — Осман-курбаши заискивающе улыбнулся. — Упустили платок. Красные взяли. — О черт! Как же вы допустили? — Гость сердито швырнул на землю недокуренную сигарету. — А где же сейчас это рукоделие? — Большевики в горы пошли. Сейчас идут. Хотят тайник найти. — Много их? — Нет, господин. Трое, всего трое. — Почему же вы до сих пор их не схватили? — Нельзя хватать, плохо хватать, господин. Они тайник знают. Больше никто. А план попортить можно. Мы хотели раньше его достать, но… — Что за чепуха! Да попадись они вам в лапы, неужели бы не смогли заставить их говорить? Осман-курбаши отрицательно замотал головой: — Никак, господин. Плохо большевиков знаете, совсем плохо. Бить можно, резать можно, говорить заставить нельзя. Мы за их караваном смотрим, все время смотрим. Пусть ищут тайник. Знать тогда будем. Потом можно схватить, а пока нельзя. Свой человек там. Плохо-плохо им делает. Большевика помог взять, — кивнул он в сторону Гринько. — Неосторожность. Красные всполошатся. Искать станут. Пойдут по вашим следам. У них это с большим шумом делается. Так называемое товарищество, — последнее слово гость произнес нараспев, с издевкой. — Не бойся, господин, — поспешил успокоить гостя Осман-курбаши. — Для них он мертвец, сразу мертвец. — Как так? — Горцы знают, как делать. Немножко барана режь. Кровь с собой бери. Ка́пай, где надо. Пропасть рядом… «Значит, хлопцы думают, шо я сгинул», — мелькнуло у Гринько. Сердце невольно сжалось. Если раньше у Миколы теплилась надежда на то, что друзья придут на помощь, то теперь она рухнула. Рассчитывать приходилось только на свои силы. Между тем разговор в юрте принимал другой оборот. — Довольно! — резко перебил гость Османа-курбаши, все еще рассказывающего о том, как тонко было инсценировано убийство Гринько. — Надо действовать. — Он вытащил из-за пазухи карту и расстелил ее на коленях. — Вот перевал Ак-Байтал… Гора Музкарабол. Здесь тайник. Я хорошо знаю эти места и сам поведу вас кратчайшей дорогой. А этих двух оставшихся убрать! — Будет сделано, господин! Наш человек сигнал получит. Будет знать, что делать. — Собирайте людей, да поживее! — приказал гость, поднимаясь. Осман-курбаши выглянул из юрты и позвал кого-то из басмачей. Что он ему приказал, Гринько не понял, но через минуту юрта опустела. «Шо ж робыть? — мучительно думал Гринько. — Неужто погибать?» Он даже застонал от бессилия. Рванул руки, но веревки только сильнее впились в тело. Микола уронил голову, и впервые слезы отчаяния выступили у него на глазах. «Не вырваться! Неужто не вырваться!..» Мутным взором обвел юрту. Взгляд задержался на костре. Языки пламени лениво поднимались кверху. Сизый дымок медленно плыл к потолку, где было проделано круглое отверстие. И тут у Гринько мелькнула отчаянная мысль: костер! Единственное средство. Он осторожно огляделся. Ничего подозрительного. Никто не следит. Перекатываясь с боку на бок, он стал продвигаться к центру палатки. Каждое движение вызывало нестерпимую боль. К горлу подкатывала тошнота. Вот и костер. За стеной юрты послышались голоса. Микола замер. Нет, прошли мимо. Он рывком повернулся спиной к костру и вплотную придвинулся к огню. Боль ударила словно током. Ноздри защекотал запах горелого мяса. Казалось, что с него живьем сдирают кожу. Гринько извивался, дергался, чувствуя, как огонь лижет веревки. Напрягшись, с силой рванул руки. Горящая веревка лопнула. Обгоревшими вспухшими руками Гринько схватил валявшийся на ковре нож. Разрезал веревки на ногах. Теперь он, кажется, на свободе. Но как вырваться из юрты? Кругом басмачи!Глава тринадцатая НА ВЫРУЧКУ
Гринько прислушался. Мимо юрты, перекликаясь, пробежали басмачи, готовясь к выступлению. Каждую секунду мог кто-нибудь войти. А у Миколы, кроме ножа, нечем защищаться. «Нет, теперь живьем в руки не дамся!» — подумал он, с тоской осматривая юрту. В углу лежал халат. Гринько подскочил к нему, встряхнул. Что-то тяжелое ударило по колену. Маузер!.. Горящими от ожогов пальцами с силой сжал оружие. — Попробуйте схватить, сволочи! — прошептал он и осторожно подкрался к задней стенке юрты. — Только бы не заметили! — Ножом он вспорол плотную ткань. Путь открыт. Голоса басмачей совсем неподалеку. Внезапно кто-то вошел в юрту. За спиной раздалось яростное восклицание: — Тохта аблах! Микола не раз слышал это выражение. Оно означает что-то вроде: «Стой, черт!» Значит, он замечен. Медлить нельзя. Рванув стену юрты, Гринько выскочил на волю. Вдогонку загремел запоздалый выстрел. Микола стрелой пробежал те два десятка метров, которые отделяли его от лошадей, и прыжком вскочил в седло. Сзади раздались громкие крики. Басмачи устремились следом. Откуда-то сбоку выскочил басмач и бросился наперерез. Гринько на ходу вскинул маузер и выстрелил. Путь был свободен. Конь вынес Гринько на косогор. Вперед узкой лентой уходила дорога. Микола оглянулся: растерявшиеся басмачи бегали по лагерю, ловили испуганных лошадей. На мгновение среди бандитов мелькнула фигура гостя, грозно потрясающего руками. «Что, выкусили?» — злорадно подумал Гринько и пустил коня в галоп. Басмачи открыли по беглецу беспорядочный огонь. Человек пятнадцать, поймав наконец лошадей, устремились в погоню. Дорога поворачивала за скалу и шла вниз. Гринько, не сбавляя скорости, мчался по каменистому плато. Вдали — неширокая речка. Вода пенится, клокочет и с сердитым ревом мчит дальше. Она поднимается коню почти по брюхо. Течение настолько сильное, что лошадь с трудом преодолевает его. Речка задержала Гринько на несколько минут. Стреляя и крича, басмачи неслись следом. Рикошетируя о камни, пули с визгом отлетали в разные стороны. «Того и гляди зацепят!» — с опаской подумал Гринько. — Поспешай, ридный мий! Поспешай! — шептал он коню, припадая к гриве. И тот, словно понимая его, вытянув морду, летел как ветер, едва касаясь копытами земли. Вдруг резкий удар сбил лошадь с темпа. Гринько увидел на шее своего четвероногого спасителя кровь. Не убереглись все-таки от шальной пули! Лошадь восстановила темп бега. Но не надолго. Кровь хлестала из раны. Конь начинал сдавать, А за спиной — торжествующий рев нагоняющих басмачей. Обернувшись, Микола выстрелил. Но это еще более раззадорило преследователей. Они яростно пришпоривали лошадей, чувствуя, что беглецу не уйти. Гринько выстрелил еще раз. Каждый выстрел валил на землю одного басмача. А конь сдавал, дышал со свистом. С губ срывалась розовая пена, Гринько чутьем старого кавалериста понимал, что лошадь дошла до предела. Вот-вот упадет. Из узкой теснины дорога вырывалась на широкий простор долины. Ровное поле. — Усе! — громко сказал он сам себе. — Конец! Но, бисовы шкуры, живым не дамсь!.. И вдруг откуда-то сбоку резко ударила пулеметная очередь. Басмаческая лава моментально рассыпалась в разные стороны. Гринько обернулся и увидел мчащихся всадников. На остроконечных буденовках поблескивали родные алые звездочки. Ему захотелось броситься им навстречу, обнять, расцеловать, но конь, словно подрубленный, упал, Гринько подвернул ногу. Силы оставили его. К Гринько подъехал высокий всадник в бурке, соскочил с коня. По властному голосу и осанке Микола догадался, что перед ним командир. Он попытался приподняться, но тот жестом остановил его и приказал двум красноармейцам помочь раненому. — Сиди, сиди, герой! — ласково сказал он. — Чей? Откуда? — Красноармеец Гринько, боец шестьдесят первого дивизиона. По тому, как удивленно вскинул брови человек в бурке, Микола понял, что имя его известно командиру. — Вот это удача! — воскликнул он. — А мы тебя с друзьями ищем. Я — Фролов… К басмачам-то ты как попал? Гринько коротко рассказал историю своего пленения. Фролов слушал и хмурился. Потом вызвал фельдшера и, пока тот перевязывал обожженные руки Гринько, пояснил Миколе, как их отряд появился в этих местах. — Как, товарищ начальник, моя правда? — сказал рослый узбек, очень похожий на кого-то из знакомых Гринько. — Твоя, Садык, твоя, — отозвался Фролов и, повернувшись к Гринько, сказал: — Это твой спаситель. Да ты разве не узнаешь? Брат Умара Танджибаева, Говорят, очень они похожи. Только младший старшего ростом перегнал. Если бы не он, мы вряд ли свернули в сторону. Он настоял… Дело в том, что отряд Фролова случайно натолкнулся насвежие следы лошадей, уходящие немного в сторону от маршрута, намеченного еще в Оше. Не будь с ними Садыка Танджибаева, они, вероятно, не обратили бы на следы особого внимания. Но Садык, знакомый с местными порядками и обычаями, уверил, что это следы басмачей и что они совсем близко. И не ошибся. Гринько с благодарностью посмотрел на Садыка. — Спасибо, друже, — сказал он, морщась от боли. — Ну а дальше? — допытывался Фролов. — Что было дальше в лагере басмачей? Микола рассказывал, а чекист все более мрачнел. — Значит, этот гость поведет банду кратчайшим путем? — уточнил Фролов. — Так точно. — Как бы они нас не обскакали. Надо торопиться. — Фролов вытащил карту, некоторое время пристально рассматривал ее, потом сказал: — Пойдем напрямик, через перевал Таш-Муюн. На взмыленной лошади подскочил боец. — Басмачи уничтожены, — доложил он, лихо козырнув. — Трое сдались в плен. Вдали мы видели еще двух человек, но, как вы приказали, не преследовали. — Правильно сделали, — одобрил Фролов. — Мы их уже не застанем. А драться с заслоном, который бандиты, очевидно, оставили, не имеет смысла. — Он повернулся к командиру отряда ЧОН. — Пошлите донесение в Гульчу и попросите у них немедленной помощи. Пусть идут прямо к перевалу Ак-Байтал. — Есть! — ответил командир отряда. — Ой, кого-то поймали! — воскликнул Садык. — Смотрите! Гринько с изумлением увидел идущего между двумя бойцами связанного Турсун-аку. — Так це ж наш проводник, бис ему в душу! — выругался он, догадавшись наконец, что именно Турсун-аку имел в виду Осман-курбаши, когда говорил гостю, что в их караване есть свой человек. — Задержан неизвестный, — доложил боец. — Сюда шел. К басмачам, наверное. Бежать хотел. — Господин начальник, — запричитал Турсун-ака, — я бедный дехканин… — Но тут же осекся, уловив горящий ненавистью взгляд Гринько. Он побледнел и боязливо втянул голову в плечи, словно ожидая удара. — Ах ты паскуда! — яростно прошептал Микола. — Где Голубев и Танджибаев, бис тебе в душу? — Не убивай, господин! — повалился в ноги Турсун-ака. — Не по своей воле. Аллах свидетель! — Говори, як на духу, сучий сын! Причитая и захлебываясь, Турсун-ака стал бессвязно рассказывать, то и дело перескакивая с одного на другое. — Значит, они остались в пещере на Большом перевале? — уточнил Фролов. — Да, да, господин. С ними ничего-ничего не случится. Клянусь вам! — Ну, дывысь! — скрипнул зубами Гринько и поднялся. — Куда ты? — удержал его Фролов. — С вами, конечно. До перевалу. — Но ты ведь и на лошади, пожалуй, не усидишь. — Усижу! Гринько произнес это так, что Фролов понял: отговаривать бесполезно. — Ну что ж, давай, — махнул он рукой и громко скомандовал: — По коням!Глава четырнадцатая ЦЕЛЬ РЯДОМ
Друзья обследовали завал, потратив на это полкоробки спичек, и убедились, что выход из пещеры завален прочно. — Что делать, Умар? — тихо спросил Сергей. В голосе его послышались виноватые нотки. Ведь именно он, а никто другой, нанял этого злосчастного проводника. Танджибаев, должно быть, понял мысли друга. Положив ему руку на плечо, проговорил: — Зачем недоволен? Умар виноват. Спать сначала не хотел. Потом заснул, шайтан бери! Они замолчали. Каждый думал над тем, как выбраться из ловушки. Не верилось, чтобы не было выхода. А тишина стояла могильная. Только где-то вдали медленно капала вода. Капель звучала неестественно громко и очень назойливо. — Пещера смотреть нужно, — сказал Умар. — Назад пойдем. Только назад. Вернулись к месту ночлега, сделали из ваты, выдернутой из подкладки куртки, нечто вроде факела. Облили его спиртом, сохранившимся у запасливого Танджибаева, и подожгли. Темнота отступила. Друзья увидели, что стоят в довольно обширном гроте. Вправо уходил узкий вход. — Рискнем! — предложил Сергей. Быстро собрав свои скромные пожитки, друзья медленно двинулись в глубь горы. Шагов через двадцать ход расширился и вывел приятелей в новую пещеру. Сергей, несмотря на их отчаянное положение, остановился восхищенный. Ему показалось, что они попали в волшебный лес, окаменевший и погруженный в непробудный, вековой сон. Переливаясь в свете факела, с потолка спускались причудливо изогнутые сталактиты. Играя золотыми и голубоватыми отблесками, словно сделанные из самоцветов, они походили на гигантские сказочные сосульки. Навстречу им с земли тянулись изумрудные сталагмиты. Затейливо переплетаясь, они опутывали пещеру, будто огромные щупальца осьминога. Оглянувшись, Сергей заметил, что Умар не разделяет его восторгов. Лицо узбека было нахмурено, сосредоточено: видно, не впервой ему видеть подобное. Танджибаев торопливо пересек пещеру и остановился у противоположной стены. Стена была глухой. — Ошибся… Не может ошибся, — пробормотал Умар. — В чем дело-то? — Выход один и выход второй нужен. Столбы, — кивнул Умар на сталагмиты, — воздух любят, очень любят. Другой выход обязательно нужен. Должен быть, — упрямо повторил он. Танджибаев отошел на середину пещеры и высоко над головой поднял факел. Пламя не шелохнулось. Тогда Умар опустил факел к земле. И тут золотистый язычок дрогнул и слегка отклонился в сторону. — Тут! — воскликнул Умар. — Видишь? Вправо пошли. Вправо нужно… Умар не ошибся. В стене друзья обнаружили узкий ход, вернее, лаз, в который можно было пролезть лишь по-пластунски. Танджибаев, не раздумывая, двинулся первым. За ним не без опаски последовал Сергей. Круглый, как труба, ход то расширялся до полутора метров в диаметре, так, что можно было даже стать на ноги и идти согнувшись, то сужался настолько, что в него протискивались лишь с огромным трудом. «А ну как застрянем! — с тревогой думал Сергей. — Попробуй тогда выбраться. Но назад не полезешь. Путь один — только вперед!» Ему показалось, что Умар перестал двигаться, застрял. Он вскрикнул и судорожно схватил Танджибаева за ногу. — Ты что? — донесся приглушенный голос Умара. — Ничего, ничего, — торопливо отозвался Голубев, боясь, как бы друг не догадался о его страхе. — Немного осталось, совсем немного, — ободряюще прогудел Умар и двинулся дальше. Сколько они так ползли, Сергей помнил плохо. Ныла от неудобного положения спина, саднили сбитые пальцы. Хотелось лечь и отдохнуть не двигаясь. Но Танджибаев полз без остановки. И, боясь отстать от него, Сергей тоже лихорадочно работал руками, стараясь не обращать внимания на острые камешки, больно впивающиеся в ладонь. Постепенно ход начал расширяться. Скоро друзья двигались уже в рост, только местами пригибаясь, чтобы не стукнуться головой о низкий свод. Сергей вздохнул свободнее. Даже дышать легче стало. Умар вновь зажег потушенный факел. Зашагали быстрее. — Постой! — радостно воскликнул Голубев. — Свет! — Где? Не вижу! — Вон, впереди! Да потуши ты огонь! Когда Умар задул огонь, они увидели дневной свет, струящийся из пролома в стене. Через несколько минут друзья уже сидели на склоне горы и полной грудью вдыхали утренний воздух. — Что, пугался? — Есть немного, — смущенно отозвался Голубев. — Пещера человек не любит. Тишина нужна. Кто стук делает, пещера сердит. Чтоб тихо-тихо было. — Куда уж тише! До сих пор звон в ушах от этой тишины. А у тебя на душе, поди, тоже кошки скребли? — Умар — человек. Человек всегда мало-мало боится. Но я к горам привык. Пещера бывал. Много раз бывал. А Сережа первый раз, самый первый. Трудно. Так? Друзья посмотрели друг на друга и облегченно рассмеялись. Начинался рассвет. И чем светлее становилось в горах, тем сильнее изумлялся Голубев. Заря на востоке была не красной, как обычно, а ярко-ярко желтой, почти лимонного цвета. Темная, усыпанная звездами синь неба медленно отступала под натиском этого неторопливо разгорающегося неестественно золотого восхода. Казалось, что снежные вершины гор на огромном протяжении объяты гигантским пожаром. — Вот это здорово! Никогда такого не встречал! Сплошное золото! — Заря, обычная заря. Так всегда. — Шутишь! Какая же она обычная? Обычная такой не бывает. Меня в разные места судьба бросала, а ничего подобного нигде не видел. — Памир много интересного знает. — Умар явно гордился своим краем. — Год будешь ходить, десять годов будешь ходить — никогда все не увидишь. Долина смерчей. Ледники. Горные реки… Много-много смотреть нужно. А заря желтая — воздух мало-мало. — Разрежен то есть? — Вот-вот. Вниз пойдешь, заря, как везде, будет. Перекусив остатками галет, предусмотрительно захваченных Умаром из пещеры, друзья двинулись к перевалу Ак-Байтал. Несмотря ни на что, они снова направились вверх, к своей цели. Путь проходил по бездорожью среди угрюмых скал, засыпанных снегом. То спускаясь вниз, то поднимаясь, они обогнули ледник и пошли по красно-бурой осыпи, скользкой и опасной. Того и гляди, сорвешься. На пути частенько встречались широкие трещины, которые невозможно было перепрыгнуть. Обходили их по кручам, рискуя ежеминутно свалиться в пропасть. Приходилось обвязывать друг друга веревкой. То и дело попадались неглубокие, но бурливые потоки. Вода в них неслась так стремительно, что буквально сбивала с ног. А в одном месте путь преградила гладкая, словно отполированная, скала, покрытая зеленым мхом. Поверх мха скатывалась тонкая пленка воды. Поток убегал вниз и низвергался в обрыв с громадной высоты. Наклонная скала имела ширину в три метра. Как ее преодолеть, если нет ни малейшей возможности за что-либо уцепиться? В обход далеко, часа два потеряешь, если не больше. Время же было дорого. Нужно еще думать о возвращении назад, о том, что у них почти нет продовольствия. — Вот чертовщина! — выругался Голубев, изучая скалу. — Овчак, — пояснил Танджибаев. — Часто-часто бывает. Пока Сергей тщетно ломал голову над тем, как преодолеть неожиданное препятствие, Умар спустился к самой воде и стал рассматривать камень. Потом показал на крошечные выбоины, видневшиеся на зеленой поверхности. Узбек снял обувь, стянул портянки и, упираясь ногами в эти выбоины, быстро преодолел овчак. Но сколько Умар ни подбадривал друга, как ни увещевал, тот наотрез, отказался следовать за ним. Уж больно скользкой и ненадежной казалась эта зеленая скала. А внизу грозно, предупреждая об опасности, ревел поток. Тогда Умар перебросил Сергею конец веревки. — Держи! — крикнул он. — Крепко держи! Тащить буду! Голубев намотал веревку на руку и, разувшись, с опаской ступил на первую выбоину. Перенес тяжесть на левую ногу, хотел сделать еще шаг, но заколебался. Голова закружилась. Сергей взмахнул руками и грузно упал вниз. С ног до головы его моментально окатило водой. Если бы не веревка, не миновать Голубеву пропасти. Танджибаев с трудом удержал друга на весу. Пришлось сразу разводить костер и сушить одежду, на что ушло часа полтора. До перевала Ак-Байтал они добрались уже под вечер. Солнце село, и, как это бывает в горах, быстро наступили сумерки. — Смотри, — указал Умар на белеющую справа вершину. — Музкарабол… Сергей с невольным волнением посмотрел на заснеженную вершину. Вот она — заветная цель!Глава пятнадцатая ТАЙНА ПЛАТКА РАЗГАДАНА
Сергей вытащил заветный желтый платок и попытался сориентироваться. Но как ни прикидывал, как ни вертел этот импровизированный план, ничего не получалось. План не сходился с начертанием окружающих гор. — Ерунда какая-то! — сердито сказал он. — В этой вязи, кругляшках, в точках да черточках сам дьявол не разберется! — Ругаться нельзя. Ругаться плохо. Начало надо найти. Самое начало… Человек делал план — человек понять должен. Давай мне! Прищурившись, узбек некоторое время рассматривал платок, то и дело переводя взгляд на горы и сопоставляя их с планом. Потом отошел в сторону, опустился зачем-то на корточки. Был он похож в это время на доброго мудрого колдуна. — Время горы точит, — проговорил в раздумье Умар, покачивая головой. — Вчера так было, сегодня не так. Обвал прошел — все другое стало. Камнепад скатился — нет скалы. Танджибаев встал на ноги и молча пошел вниз к подножию горы. Голубев послушно следовал за другом, уже сомневаясь, что они когда-нибудь смогут найти сокровища. Но Умар шел все уверенней, зорко поглядывая по сторонам. — Здесь! — внезапно остановился он. — Круг видишь? Вода был, много воды. — Неужели озеро? Не может быть! — Зачем не веришь? Умар правильно говорит. Смотри, хорошо смотри. Кружок на платке видишь? Вода, значит. Здесь была, ушла, совсем ушла. Так они нашли исходную точку маршрута. Дальше пошло легче. Друзья перешли на другую сторону высохшего озера, и тут первым догадался Голубев: — По-моему, эти пунктирные линии со штришками означают расходящиеся хребты. А стрелки маршрута между ними идут. Руководствуясь пометками на платке и своими догадками, друзья постепенно продвигались вперед. Приходилось останавливаться, даже возвращаться обратно. Время действительно внесло немало изменений в расположение скал. Так, пометка на платке ясно указывала на острозубую вершину у подножия Музкарабола. Здесь следовало сделать поворот. Но вершины такой в природе не оказалось. Друзья тщетно искали ее, пока Танджибаев случайно не наткнулся на груду камней — все, что осталось от скалы. Начался подъем. Дойдя до гранитной скалы в несколько тонн весом, чудом удерживающейся на покатом склоне, Сергей увидел узкую ложбинку, уходящую круто вверх. Именно сюда и указывали стрелки на плане-платке. Двигаться пришлось на четвереньках, цепляясь руками за неровные камни, словно шипы, торчащие по склону. Раза два, неловко ухватившись за ребристые глыбы гранита, Сергей терял равновесие и в кровь разбивал руки. Но азарт был велик. Мысль о том, что цель близка, все быстрее гнала его вперед. Сергея охватило нетерпение. «Что-то там они найдут? — тревожно мелькало в голове. — Неужели все усилия напрасны?..» Подъем кончился внезапно. Перед друзьями оказалась небольшая ровная площадка метров пятнадцать в окружности. За ней поднималась вертикальная гранитная стена. У стены лежала куча камней, различных по размеру: от щебенки, мелкой, как горох, до тяжелых двухпудовых глыб. На мгновение Сергей растерялся. Куда двигаться дальше? Ведь по отвесной стене не полезешь! Сомнения опять разрешил Танджибаев. Осмотрев кучу камней, он уверенно сказал: — Пещер тут! Камень сверху. Вход не видно. — Раскопаем! — предложил Сергей. Умар усмехнулся: — Долго-долго копать будем. — Ну и что же! Все равно придется! Сергей схватил огромный камень и с ожесточением потащил его в сторону. За первым камнем последовал второй. К Сергею присоединился Умар. Работа пошла веселее. Но каменная куча, несмотря на все старания друзей, почти не уменьшалась. — Постой! — тяжело дыша, сказал Танджибаев. — Порох попробовать надо. В мешках осталось. Сергей с сомнением покачал головой, зная, что пороху у них осталось немного. Однако спорить не стал. Пусть Умар попробует. Может, что-нибудь да получится. Он протянул другу свой рюкзак и, отойдя в сторону, сел на камень. Умар принялся набивать банки порохом. Его едва хватило на две банки. Сергей, рассеянно смотревший вниз, вздрогнул. По крутому склону неторопливо поднималась группа людей в халатах и куртках. Передние были не дальше чем в пятистах метрах. — Умар! — приглушенно воскликнул Голубев. — Басмачи! — Где? — Сюда идут! Друзья быстро спрятались за камни. По склону двигалось человек тридцать, да еще столько же, если не больше, оставалось внизу. Танджибаев и Голубев тревожно переглянулись: что делать? Отступать? Некуда! Позади отвесная скала. Принимать бой? Бессмысленно. Враг слишком многочисленный. Да и что они могут противопоставить ему? Две винтовки, к которым по три десятка патронов! — Эх, умирать, так с музыкой! — шепнул Голубев. — Тащи, Умар, банки, что ты приготовил для взрыва. Танджибаев метнулся назад и мгновенно возвратился с банками, начиненными порохом. Затем достал из мешка пузырек с остатками спирта. Голубев выдернул из куртки клок ваты, скрутил фитиль и обмакнул его в спирт. Затем подполз к куче камней на самом краю площадки, приподнял большую гранитную глыбу и положил туда порох. Умар понял, что Сергей хочет обрушить на басмачей каменную глыбу. «Нас ударит! Обязательно ударит», — подумал он. Странно, эта мысль не вызвала даже малейшего чувства страха. Басмачи подходили все ближе. — Давай! — проговорил Умар. — Пора! Совсем пора! Сергей быстро поджег фитиль и, схватив Умара за локоть, бросился за камни у пещеры. Раздался взрыв. Куски породы просвистели над головой, но, к счастью, ни один из них не задел друзей. Сергей выглянул из своего укрытия. Склон горы был пустой. Басмачей словно ветром сдуло. Только камнепад, вызванный взрывом, еще грохотал далеко внизу, постепенно затихая. Басмачи опомнились не скоро. Но на сей раз они двинулись со всеми предосторожностями, растянувшись редкой цепочкой и прячась за скалы. Со всех сторон по площадке ударили выстрелы. Танджибаев и Голубев стали отвечать. Стреляли редко, экономя патроны. В перестрелке внезапно наступила пауза. Голубев подумал было, что враг решил временно отступить, чтобы придумать что-нибудь каверзное, как вдруг справа сверху ударил выстрел. Басмачи обошли их и засели на уступе метрах в пятидесяти над скалистой площадкой. Скрытые за камнями и потому недосягаемые для пуль, они могли спокойно, на выбор, вести оттуда огонь. Друзья очутились в безвыходном положении. «Перестреляют, как куропаток! — подумал Сергей. — Что предпринять?..» Он стал перебирать варианты один нелепее другого: «Броситься вперед за уступ на краю — не добежишь, подстрелят. Спуститься слева по веревке — не успеешь. Где же выход?..» Следующий выстрел обжег Голубеву руку. Пуля скользнула по поверхности кожи. Вскинув винтовку, Голубев несколько раз выстрелил по уступу. На минуту огонь оттуда прекратился. Сергей обрадовался, предполагая, что подстрелил врага. Но это оказалось не так. Басмач просто сменил позицию. Вот снова на уступе блеснул огонек. Пуля, стукнувшись у самой головы Сергея, с визгом отскочила в сторону, обдав его каменной пылью. И вдруг откуда-то снизу дружно ударил залп. Один, другой. Застрекотал пулемет. Ничего не понимая, Сергей вскочил и бросился к обрыву. Представшая перед ним картина заставила радостно забиться сердце. По крутому склону горы ползли бойцы в буденовках. После короткой схватки басмачи были разбиты. Некоторые сдались в плен. На каменистую площадку в окружении бойцов поднялся высокий человек в бурке. Он повернулся лицом к Голубеву, и тот вскрикнул от радости. Перед ним стоял Фролов. Взволнованные, они крепко обнялись. Пока бойцы откапывали вход в пещеру, Фролов коротко рассказал Голубеву о своих поисках, о том, как шел по следам летчика и его друзей, о Николае Гринько. — Микола жив?! — воскликнул Сергей, узнав о спасении Гринько. — Слышишь, Умар? Жив! Так я и знал! Не такой парень, чтобы пропасть! А где он сейчас? — Там, внизу, вместе с фельдшером. Еле удержал, чтобы в драку не совался. Такой горячий! — засмеялся Фролов. В это время раздались голоса бойцов: вход в пещеру был отрыт. — Ну что ж, — задорно тряхнул головой летчик. — Давайте посмотрим на сокровища эмиров бухарских! Фролов промолчал. Только по губам его скользнула ироническая усмешка. Пещера ярко осветилась несколькими факелами. При их подрагивающем свете вошедшие увидели ящики, стоящие в два ряда. — Ого, сколько их тут! — подал реплику кто-то из бойцов. Один ящик моментально вскрыли. И перед глазами удивленных бойцов предстали тускло поблескивающие винтовки. — А ну, вскроем другой! Не может этого быть! — воскликнул Сергей, все еще надеясь найти сокровища. — Можно не трудиться. Все ящики одинаковы, — с усмешкой заметил Фролов. — Только образцы могут быть другими. Фролов не ошибся. В остальных ящиках тоже лежали новенькие винтовки английского производства, приготовленные, очевидно, для длительного хранения, части пулеметов, гранаты, запалы. На оружии была смазка в палец толщиной. — Вот так сокровища эмира бухарского! — разочарованно протянул Сергей. — А что? — заметил Фролов. — Конечно сокровища. Только не те, что ты ожидал. Другие. Припасенные для басмачей из-за рубежа. В пещеру вошел боец и доложил: — Товарищ командир, задержаны два бандита. Пытались удрать под прикрытием других. Очевидно, главари. Один из них бормочет что-то не по-нашему, видно иностранец. — Значит, удрать пытались, подставив других под пули? — переспросил Фролов. — Шкуру свою спасали? Хороши, голубчики! Пошли посмотрим. На площадке со связанными руками стояли двое. В одном из них Фролов без труда узнал Османа-курбаши, знакомого ему по фотографии, хранящейся в архиве. Другой, по всей видимости, был гость, о котором так красноречиво рассказывал Гринько. Чекист усмехнулся: — Довелось-таки встретиться, Осман. Как видишь, гнев аллаха не упал на мою голову, как предрекал твой посланец в Каракумах. Получилось как раз наоборот… А священный платочек Ахмед-бека и нам самим очень пригодился. Иностранец что-то забормотал быстро и сердито. — А, господин, простите, не знаю вашего имени-звания, — повернулся Фролов к «гостю», — по-английски заговорили? Что же, вы на этом языке и с басмачами изъяснялись? «Гость» не отозвался, только злобно скривил свои тонкие губы. — Насчет вашей неприкосновенности как иностранного подданного не извольте беспокоиться. Не поможет! Будем вас судить как шпиона и подстрекателя к мятежу против Советской власти. А на этот счет наши законы суровы.УХОДЯТ НА ГРАНИЦУ ДОЗОРЫ
Снежков прочитал последнюю строчку повести и поднял голову. В ленинской комнате стояла напряженная тишина. Слышно было, как за окнами шумит все тот же надоедливый курильский дождь. Пограничники молчали. Даже неугомонный Васильев — весельчак, шутник, задержавший недавно нарушителя, — на удивление сидел неподвижно. А уж Снежков-то знал, какой Васильев непоседа. Читая повесть, Снежков волновался. Как-то ее примут друзья-пограничники? Он и задержался на Курилах специально для того, чтобы выслушать их мнение. Творческая командировка подходила к концу — пора было возвращаться в Москву. В голове немного шумело от бессонных ночей. Последнюю неделю, спеша закончить повесть вчерне, Снежков работал по восемнадцать часов в сутки. Ему даже обед приносили в кабинет начальника заставы, где он жил. В самом начале чтения в ленинскую комнату вошел подполковник. Снежков сразу узнал его, хотя видел всего один раз — у Горячего озера. Да его и трудно было забыть: эти израненные руки, цыганские глаза, хохолок на затылке, который он все время машинально приглаживал рукой… Ткаченко хотел было подать команду, но подполковник остановил его жестом. Осторожно опустился на стул в углу и начал слушать. И вот чтение закончено. Некоторое время в комнате еще стояла тишина, потом пограничники оживленно заговорили, задвигались. — Разрешите сделать перерыв? — вставая, обратился к подполковнику капитан Ткаченко. — А як же — покурим! У кого тютюн е, товарищи? — сказал тот и подошел к Снежкову. — Ну, как ваше мнение, товарищ подполковник? — спросил Ткаченко и хитровато сощурился. — Ваша работа? — погрозил подполковник пальцем начальнику заставы, но тут же рассмеялся. — Так точно, моя, — засмеялся и Ткаченко. — Ну и ну! Снежков-смотрел на пограничников, озадаченный их смехом. Он решительно ничего не понимал. Может быть, ошибку в изложении допустил? Впросак попал? Но подполковник шагнул к Снежкову и, протягивая руку, сказал: — Давайте знакомиться. Не дюже гарно имени друг друга не знать. Подполковник Гринько Микола Иванович. — Вы? Вы — Гринько? — Снежков не мог прийти в себя от изумления. Так вот откуда у подполковника эти страшные шрамы на руках! Это же следы ожогов. Гринько сжег тогда руки на костре… Немного оправившись от смущения, Снежков с затаенным страхом, свойственным молодому автору, робко спросил: — А здорово я приукрасил, отошел, так сказать, от жизни? — Нет, не очень, — улыбнулся подполковник. — Только моя роль была куда скромнее. А так все правильно. — Он помолчал и сказал уже серьезно: — Большая просьба к вам: измените в повести мою фамилию. А то нехорошо получается… — Почему же нехорошо? — запротестовал капитан Ткаченко. — По-моему, как раз все на месте. Зачем менять? И Снежков согласился с начальником заставы. В самом деле — зачем менять? Пусть все остается так, как было. В коридоре раздалась команда: «Взять оружие! Выходи строиться!» На границу, как всегда, уходили очередные дозоры.Владимир Прибытков ПОТЕРЯННЫЙ ЭКИПАЖ Приключенческая повесть
Быть человеком — это чувствовать свою ответственность. Плевать я хотел на пренебрежение к смерти. Если в основе его не лежит сознание ответственности, оно лишь признак нищеты духа или избытка юношеского пыла.Антуан де Сент-Экзюпери,«Земля людей»

Глава первая
1
За стенами старого арестантского вагона надрывно выли сирены. В отделении охраны тупо стучали сапоги солдат. В голосе начальника конвоя хрипел страх: — Всем в укрытие! В вагоне остается Нагль! — Смена кончилась, господин штурмманн[15]… — Молчать! Повторите приказ! — Приказано остаться в вагоне… — Всё! Заприте дверь! Топот оборвался. Дверь лязгнула. Сапоги стремительно простучали вдоль вагона, кто-то крикнул: — Щель возле башни! — и опять ничего не стало слышно, кроме сирен. — Наши! — сжимая плечо Шуры Нечаевой, шепнула Нина. — Наши летят! Шура не успела ответить: в вагоне раздался отчаянный вопль. Десятки голосов подхватили его: — Выпустите! Выпустите! Убийцы! Женщины соскакивали с нар, топали, колотили в стены, трясли прутья решеток на крохотных оконцах. — Выпустите! Убийцы! Выпустите! Нина удержала рванувшуюся подругу: — Не смей! Вопли заключенных покрыл визг часового: — Молчать! Молчать, шлюхи! — Собирай наших! — быстро сказала Нина, подталкивая подругу. — Слышишь? Собирай! — Перестреляю! — заорал часовой. Вагон умолк. Лишь в дальнем углу кто-то тонко тянул на высокой ноте бессмысленное, потерянное: — А-а-а-а… — Падаль! — крикнул часовой. — Молчать! Всех… Всех убью, падаль! Шура соскользнула с нар, уползла в темноту. Нина ждала, слыша, как громко стучит сердце: так, так, так, так!..Часовой Фриц Нагль отступил к двери. Вызванное вспышкой ярости возбуждение ненадолго освободило от страха. Но сирены выли, выли, выли, и Фриц Нагль почувствовал, как опять холодеют внутренности. — Святая дева Мария… — забормотал Нагль. — Святая дева Мария, спаси меня… Смилуйся, спаси… Он не мог оторвать глаз от дверной решетки. По ту сторону решетки было спасение, ключ от двери лежал у Нагля в кармане, ключ оттягивал карман, но оказаться по ту сторону решетки Нагль не мог. Не мог. Он должен был охранять этих вшивых баб. Сорок вшивых, никому не нужных баб! Фриц Нагль кое-что знал. Он знал, что начальник лагеря «Дора» продал этих баб по сто пятьдесят марок за голову фирме «Байер» для проведения опытов с новым снотворным. Значит, бабам все равно подыхать! Все равно! И если бы эшелон не застрял здесь, в Наддетьхаза, они бы уже подохли! Доехали бы до места и подохли! Но эшелон задержали на двое суток, и теперь из-за баб может погибнуть Фриц Нагль! Нагль выругался. Рука сама скользнула в карман, нащупала большой холодный ключ. Часовой отдернул руку. Нет! Нельзя! Приказ!.. Нагль крыл начальника лагеря. Начальник получит шесть тысяч марок, а ты должен погибнуть, чтобы он получил эти шесть тысяч! Нагль крыл начальника конвоя. Тот прекрасно знал, что смена Нагля кончилась, но оставил его в вагоне! Спасал своих дружков! Конечно, Нагль у них недавно, вот на нем и решили отыграться! Сволочи! Каждый думает только о себе! Он им это припомнит!.. Сирены выли, словно отпевали. Фриц Нагль втянул голову в плечи, прижался к углу, крепко закрыл глаза. — Святая дева Мария! — быстро бормотал он. — Святая дева Мария! Святая де… Он не договорил, вспомнив, что на соседнем пути стоят цистерны с бензином и нефтью. Его снова бросило к двери. Только теперь он понял, почему так спешил начальник конвоя. Почему сразу смылись остальные… — Подонки! — простонал Нагль. Его оставили на смерть! Цистерны — это смерть! Одна бомба — и смерть! Подонки это знали, драпанули, а его оставили! На смерть оставили! Ноги часового Фрица Нагля подгибались, как ватные. Он судорожно сжимал в руке ключ от двери. В трех шагах стояли цистерны, сирены выли, а он не мог покинуть пост. Приказ! Он получил приказ! Приказ охранять баб! Шесть тысяч марок! Сволочи, подонки! Нельзя покидать пост! И все из-за баб! Из-за проклятых, вшивых баб, которым все равно подыхать!.. К воплям сирен примешался зловещий, хорошо знакомый часовому звук: звук пикирующего самолета. Яростно застучали зенитки. — Вот когда! — сжался Нагль. — Конец!!! И вдруг в смятенном мозгу вспыхнула молния: он может покинуть пост, если не будет баб!.. Никто не проверит!.. Никто не спросит!.. Бунт, и все!.. Да!.. А он останется жив!.. Фриц Нагль знал, что медлить нельзя. Но на долю секунды замешкался: идти на обман начальства… Его тронули за рукав, и Нагль отпрянул, вскинув автомат: — Назад! Заключенная что-то кричала. «Стреляй! — выл в Нагле страх. — Начни с нее!» — Там офицер!.. — слышал Нагль. — Там стучит офицер!.. Зовет вас!.. Офицер!.. Нагль, вскинул голову. Только теперь он услышал настойчивый стук в противоположном конце вагона. «Боже мой! Если бы я выстрелил!..» — с ужасом подумал Нагль. Ему не достало времени сообразить, что офицер мог подойти сюда, к этой двери. Он думал, что ему повезло. Еще миг — и он расстрелял бы женщин, расстрелял при свидетеле, при офицере, обрек бы себя. А теперь он спасен! Офицер — это спасение! Если стучит — прикажет покинуть вагон! Что-нибудь прикажет!.. Оттолкнув заключенную, Фриц Нагль, рядовой СС, бегом бросился к дальней двери. Ключ он держал в руке. Он хотел поскорее открыть, поскорее услышать приказ!.. Он не понял, почему вагон внезапно вспыхнул, разлетелся на миллионы разноцветных искр. В спину что-то толкнуло, что-то сжало горло, дыхание Нагля прервалось, и он рухнул на затоптанный пол вагона, разжав обессилевшие пальцы и выронив спасительный ключ.
Шура, припав к подруге, пыталась оторвать ее от часового: — Все, Нина! Все! Надо скорей! Из распахнутой двери несло холодом, слышался голос Елены, кричавшей по-чешски: — Женщины, бегите! Свобода! Бегите! Мимо подруг, натыкаясь на них, молча отшатываясь, бежали заключенные. — Нина, скорей! Нина, тяжело дыша, глядела в стриженый затылок часового. — Что? — спросила она. — Сладко? Сладко, гад? Получил? Лежишь? Все ляжете, все! Все до единого! Она нащупала на шее Нагля ремень автомата, перевернула убитого на спину, плюнула в смутно белеющее узкое лицо, сдернула автомат. Голова эсэсовца глухо стукнулась об пол. — Тварь! — сказала Нина. — Лежи, тварь! Лежи!
Они спрыгнули на землю последними. Возле вагона оставалась только Елена. Ждала. Она еще держал? в руке обрезок свинцовой трубы. Слева, возле водонапорной башни, где недавно послышался взрыв, желтело угасающее пламя. Блики огня скользили по черным, лоснящимся бокам стоящих на соседнем пути цистерн. Цистерны походили на туши ископаемых чудовищ. Тупые рыла чудовищ пялились на пожар. Сирены выли не умолкая. Шура неожиданно рванулась в сторону, уцепилась за поручни, полезла обратно в вагон. Елена протянула к ней руки, закричала. Нина, ничего не понимая, топталась на месте. Потом опомнилась. Закинула автомат за спину, ринулась к площадке вагона… Но Шура уже мелькнула в проеме вагонной двери, почти свалилась в объятья подруг. — Шура! Шура! Ты что?! Шура оттолкнула их. — Вот! Вот! На широкой Шуриной ладони лежала коробка спичек. — У гада взяла! — выдохнула Шура. — Уходите! Быстрей! — Да что ты, Шура?! Что?! — Уходите! — крикнула Шура, отбегая. — Девочки, уходите! Она уже карабкалась по узкой боковой лесенке ближней цистерны. Повозилась наверху, что-то бурно полилось на землю, резко запахло бензином. Шура очутилась возле подруг: — Уходите же! Ну! Одеревеневшие губы Нины еле выговорили: — Шура… — А-а-а! — с досадой уже не крикнула, а почти простонала Шура. — Да уходите же вы! Прочь! Она сорвала с головы платок, сунула в лужу бензина, нашарила возле рельсов камень, обернула его мокрым платком. — Прочь! Догоню! Вспыхнула спичка. Обернутый платком камень полетел в натекшую между путей лужу бензина. Широкая огненная полоса плеснула вдоль цистерны, опалив беглянок. Шура нырнула под вагон, Нина и Елена — за ней… Новый путь — новый состав. Опять под вагоны. Сбивая коленки, ударяясь о рельсы и рессоры. Ползком, на четвереньках, задыхаясь…

Чудовищный взрыв грянул за спиной. Огненные брызги взвились ввысь. Долетели до девушек. Тени вагонов метнулись вперед, отхлынули, и мрак ослепил… — Бегите! — кричала Шура. — Бегите! — Шура, Шурка… — Ложись, сейчас еще рванет! Грянуло. Ослепило. Грянуло второй раз. Третий. Пожар бешено заплясал над путями, раскидывая оранжевые, трепещущие под ветром рукава, доставая до неба встрепанными рыжими вихрами. Земля дрожала от неистовой пляски. — Скорей! Скорей! Последний путь. Канава с бурьяном. Ржавый рычаг заброшенной стрелки. Серая дощатая стена пакгауза. Нина оглянулась. В скользящем, неверном свете пути перебегали одинокие черные фигурки. Спешили в поле, подальше от взрывов, от проклятого эшелона. Нина размахивала автоматом, звала: — Сюда! Сюда! Кое-кто заметил, устремился на зов. Нина побежала. «Уйдем! — стучало в голове. — Уйдем!..» Беглянки удалялись от станции. Бежали. Шли. Бежали. Пересекли пустынную асфальтовую дорогу. Перебрались через вонючий ручей. Попали на стерню. Спустились в овраг. Выбрались в поле. Вязли. Падали. Поднимались. Шли. Вломились в неубранную кукурузу… Нина почти ложилась на тугие, толстые стебли. Разводила их руками, цеплялась за них, но больше она не могла, не могла… Ноги подкосились. Нина ничком упала на влажную землю. Рядом рухнул еще кто-то. Потом еще и еще… Голос Елены прошелестел: — Не можно… Нина с трудом набрала в грудь воздуха. Он разрывал легкие. — Лечь!.. Всем — лечь!.. Щека ее прижалась к земле, прохладной и мягкой, как чья-то полузабытая ладонь. Запах земли тоже был знакомый — грустный, чуть горчащий запах увядания и приволья. Так пахла по осени донецкая степь. Нина всегда помнила: она не увидит ни родной степи, ни родного домика на окраине Макеевки. Никогда не увидит ни отца, ни мамы, ни младшего братишки Вальки. Никогда. Даже если останется в живых. Потому что для своих она давно мертва. Хуже, чем мертва… Но теперь неважно было, увидит или не увидит она степь и родной дом. Важно было совсем другое… — Мама! — сказала Нина земле. — Мама!..
2
Удар о землю получился неожиданно мягким. Ноги по щиколотку ушли в рыхлую пашню. Бунцев откинулся на спину, уперся. Погасил парашют. В предутреннем сумраке у пашни, казалось, не было ни конца, ни края. Пашня и холодная осенняя сутемь сливались. Только на западе сквозь серое ничто уверенно проступал, то бледнея, то сгущаясь, живой свет зарева. Земля вздрагивала — зарево набирало силу. Оно цвело. А потом медленно увядало. До нового толчка и нового взрыва… Собирая парашют, Бунцев через плечо косился на пожар. Первые минуты он чувствовал себя ошеломленным. Словно, хлестнув прутом по кряжистому дубу, увидел вдруг, что прут сносит могучее дерево, как головку репейника. Бунцев знал — бензина в баках почти не оставалось… Но факт оставался фактом — дуб рухнул: на железнодорожном узле Наддетьхаза полыхало и гремело. «Боеприпасы! — еще не веря самому себе, подумал Бунцев. — Повезло! Зажег боеприпасы!» Видимо, ему действительно повезло. Иного объяснения не существовало. Бунцев выпрямился, повернулся лицом к городу, потряс кулаком: — Получайте, гады! Он стоял на земле. Командир без корабля. Сбитый в чужом тылу летчик. Но пока зарево полыхало, он еще чего-то стоил!Беспокойство овладело Бунцевым исподволь. Он оглянулся, отыскивая взглядом стрелка-радистку. Ее не могло отнести далеко: прыгали вместе. Штурман прыгнул раньше, сразу, а они потом, вместе. Глаза ничего не различали во мгле предсветья. Бунцев заложил пальцы в рот, свистнул. Прислушался и снова свистнул… Ожидая, пока текучая мгла вернет ответный свист, и еще не зная — вернет ли, он не шевелился. Бунцев сорвал шлем: «Не померещилось ли?!» Но свист повторился. Далекий, слабый, но повторился. Радостью обдало, как жаром. Следовало бы удивиться этому жару. Ведь Бунцев знал, почему Кротова не выполни та приказ и не прыгнула вместе со штурманом Телкиным. Знал, почему осталась в машине. Он и раньше обо всем догадывался. И в кабине падающего самолета, шагая к люку, хватаясь за стойки, бешено выругался в лицо радистке. Но Бунцев не удивился обжигающей радости. Сейчас казалось — далекий свист возвращает все. друзей, эскадрилью, полк, Родину!

Они заметили друг друга одновременно. — Ты?! — спросил Бунцев. — Цела? — Все в порядке, товарищ капитан… — сказала Кротова. — Стрелок-радистка Кротова явилась. Раскаяния в ее тоне Бунцев не услышал. — Ладно, — сказал Бунцев. — Вижу, что явилась… Почему вместе с Телкиным не прыгнула? Геройство проявляла? Он помогал ей сохранить тайну. Кротова молчала. Дольше, чем требовалось в их положении для спасительной лжи. — Нет, товарищ капитан, — сказала, наконец, Кротова. — Ничего я не проявляла… Я же партизанка, товарищ капитан. — Ну и что? — спросил Бунцев. — Что из того? Если партизанка, значит приказы не для тебя? Он знал, что Кротова почти три года воевала в тылу врага и в полк попала из партизанского отряда, когда тот соединился со своими. Он отлично знал это. И сам понял, что пустое спрашивает, зря спрашивает, но было поздно: спросил… — Не могла я вас бросить, товарищ капитан, — очень тихо сказала радистка. — Вы не обижайтесь… Мы же у фрицев в тылу… А мне не впервые… Бунцев сильно потер подбородок. — Ага! — сказал Бунцев. — Выходит, ты у меня теперь вместо ангела-хранителя!.. Ну, спасибо, выручила! Они зарыли парашюты, отрезав и спрятав по куску шелковых куполов. — Пригодятся, — сказала Кротова. Бунцев не спорил, хотя им вряд ли что-нибудь могло пригодиться. Покончив с парашютом, он встал с коленей, отер грязные ладони о полы куртки, спрятал нож. Взрывов он уже не слышал. Мгла редела. Похоже, приближался рассвет. Бунцев напряженно вглядывался в зыбкий сумрак, пытаясь разобраться, куда же их все-таки занесло, надеясь угадать среди неустойчивы, теней, порожденных игрой усталого зрения, хоть одну прочную, надежную — лес, кусты… Он ничего не мог угадать и ни в чем не мог разобраться. Видел лишь какие-то силуэты на розовом фоне пожара: не то скирды, не то низкие постройки. Но ведь не в сторону же города идти! Бунцев и Кротова несколько раз свистели, надеясь, что отзовется штурман. Штурман так и не отозвался. Выходило, что приземлился он очень далеко, и, значит, делать тут, на пашне, нечего, надо поскорей выбираться отсюда. Отдавая экипажу приказ покинуть машину, Бунцев назначил место сбора в лесу западнее Наддетьхаза. Значит, идти надо в этот неведомый лес. Бунцев соображал: пашня на северо-востоке от города, до горд а километра полтора — два, стало быть, отсюда до леса километров семь. А семь километров — это часа два ходьбы. Пожалуй, все три. Правильней считать — именно три. Но через час развиднеет и станет совсем светло… Бунцев потер подбородок. Если идет бой, то жизнь каждый миг зависит от совершаемого тобою дела. Так и получается, что в бою каждое деяние становится главным деянием твоей жизни. Новички, конечно, обманываются, думая, что вот-вот наступит передышка. Передышек в бою не бывает. Завершаешь одно только затем, чтобы сразу браться за другое. Ибо главным, пока ты выкладывался, успело стать именно другое, и медлить с ним уже нельзя. Передышка — это все, конец. Шансы на жизнь оставляет только действие. И побеждает только тот, кто знает, как надо действовать. Бунцев побеждал всегда. А теперь наступала передышка. Бой продолжался, а для Бунцева наступила передышка. Капитан сдвинул шлем, провел рукой по лбу. — Попали мы с тобой, партизанка, — сказал он. — Здорово попали, слышишь?
3
Лейтенант Телкин увидел чьи-то ноги в бурых шерстяных носках, ступающие по сырой брусчатке рядом с тупоносыми сапогами конвоя. Бурые носки были хорошо знакомы штурману, он даже узнал бежевую сеточку штопки на правом носке и невольно остановился, не понимая, откуда здесь эти носки… Ошеломляющий удар прикладом чуть ниже шеи, по позвонкам, толкнул лейтенанта вперед: — Шнелль! Телкин покачнулся, сделал несколько шагов, со странной дрожью в душе заметив, что ноги в шерстяных носках тоже торопливо переступают по серой брусчатке. Все оставалось диким и неправдоподобным. А началось со времени: едва заглох задетый осколками левый мотор, минуты, сжимаясь до секунд, потянулись часами… Будапешт остался позади, бомбардировщик вырвался из зоны заградительного огня, но уже отстал от полка, и нельзя было сообщить о себе — поврежденная рация молчала. А потом потекли баки… Командир вел самолет по «железке». Рельсы двухколейного пути светились внизу ровным, безжизненным светом, какой бывает только ночью. Телкин знал: командир хочет дотянуть дожелезнодорожного узла Наддетьхаза. До линии фронта не дотянуть, так дотянуть хотя бы до Наддетьхаза. Там эшелоны с войсками и боеприпасами… У Телкина прыгали губы. Командир был прав. Им ничего не оставалось, кроме железнодорожного узла. Но губы прыгали. Потом все произошло стремительно, как в плохом кинобоевике: впереди по курсу мелькнули огоньки, Бунцев отдал команду покинуть самолет, и штурман отстегнул ремни, пожал плечо командира, шагнул к люку, на миг увидел расширенные глаза стрелка-радистки, устремленные на Бунцева, в какую-то долю секунду понял, что она не прыгнет, но не успел ни удивиться, ни пожалеть Кротову, ни восхититься ею. А потом штурман почувствовал рывок парашюта и повис на стропах в пустынном небе… Страх он испытал чуть позже, увидев, что его сносит прямо на город. Телкин пытался скользить, но его упорно сносило на город, откуда в черную высоту медленно и плавно тянулись разноцветные пунктиры трассирующих пуль и снарядов. Телкин нащупал кобуру, расстегнул, вытащил пистолет. — Живым не даваться! — приказал он себе. Его тащило над садами, над крышами домов, засосало в узкую щель улицы. Телкин приземлился на камни, отбил ноги. Одолевая боль, лейтенант вскочил, начал освобождаться от парашюта. Топот он услышал сразу. И успел выстрелить в бегущего солдата. Но тут же сзади ударили по голове, рванули за ногу, тяжелый сапог раздавил запястье руки, сжимавшей оружие. Чье-то острое колено вдавилось в спину между лопатками. Дыхание остановилось. Новый удар оглушил… Теперь, шагая между конвойными по сумеречной улице, штурман тупо смотрел на нескладно заштопанные шерстяные носки и силился сообразить: откуда они здесь? Почему они здесь? Как сюда попали?.. Телкин отлично знал эти носки. Месяц назад их прислала из Челябинска невеста, Катя. Телкин сам был владимирский, но невеста у него была из Челябинска, и тут был целый роман. Роман начался с письма. Катя училась в машиностроительном техникуме и вместе с подругами написала на фронт: девушкам объяснили, что бойцы нуждаются в дружеской поддержке, в душевной теплоте. Катя никому конкретно письмо не адресовала, писала неизвестному бойцу. Попало письмо к Телкину, и он с ответом не задержался. Он-то знал, как надо писать девчонкам! Обрисовал смертельные бои, в которых непрерывно проливает молодую кровь, сообщил, что холост, что некоторые знакомые называют его блондином, что обожает драматическое искусство и поэзию, вписал симоновское стихотворение, сообщив, что сочинил его между двумя боевыми вылетами, признался, что давно мечтает о настоящей любви, и просил выслать фотокарточку.
Ответ почему-то задержался. Телкин повторил атаку и получил отповедь. Катя писала, что, судя по письмам лейтенанта, они очень разные люди и поддерживать переписку не имеет смысла. Тем более что Катя стихов не пишет, а чужие выдавать за свои находит некрасивым. Закончила она ядовитым пожеланием не проливать кровь столь безудержно, как проливает Телкин. А то, мол, что же останется «некоторым знакомым», считающим Телкина блондином?.. Дочитав послание, Телкин покраснел и тотчас оглянулся: не видит ли кто-нибудь? Видели. Бунцев видел. Лежал на койке, сосал карамельку и наблюдал. — Ну что, козел? — спросил Бунцев. — Получил по рогам? — Вот еще! — сказал Телкин. — Видали мы таких! Подумаешь, свистулька! — Ты стреляться не вздумай, — озабоченно предупредил Бунцев. — Во-первых, ЧП, а во-вторых, неизящно. Ты валяй, как римский патриций: наладься в баньку и там вены вскрывай. — Он бы пошел, да мыться не любит, — сочувственно сказал их сосед по комнате старший лейтенант Добряков. — Ладно! — сказал Телкин. — Остряк!.. Ну, чего ржете? Обрадовались! Скомкал письмо, полдня ни с кем не разговаривал, а кончил тем, что украдкой сочинил длиннейшее послание на Урал. В послании не было ни чужих стихов, ни намеков на загадочность телкинской натуры, мятущейся в роковом одиночестве, ни просьбы о присылке фотокарточки. Была только просьба не сердиться… Через неделю Телкина простили. А еще через три недели, получив конверт со знакомым обратным адресом, Телкин на ощупь определил: фотокарточка!.. Штурман вскрывал конверт бережно и терпеливо. Он ясно представлял, как войдет в свою комнату, поставит фото на тумбочку и на вопрос старшего лейтенанта Добрякова: «Кто такая?» — равнодушно бросит: «Так, одна знакомая…» И Добряков «умоется», потому что Катя, факт, похожа на Франческу Гааль из кинофильма «Петер» или в крайнем случае на Любовь Орлову. Телкин это по письмам чуял! Распечатав конверт, штурман озадаченно уставился на детски круглое девичье личико с кургузыми косичками и маленьким веснушчатым носиком. Он даже перевернул фотографию на обратную сторону. Дней через пять Телкин рискнул показать портрет Добрякову. — Ну, как?.. — Детский сад, — сказал Добряков. — Откуда выкопал? — Да так… — тоскливо сказал Телкин. И обозлился на Добрякова. Много он понимает! А глаза какие! И вообще… — Смотрите, Александр Петрович! — сказал Телкин Бунцеву. — Вот та самая уралочка. Я не показывал? Телкин ревниво следил за твердыми, неуклюжими пальцами пилота, готовый в любую минуту подхватить фотокарточку, если Бунцев, упаси бог, ее обронит. Но Бунцев карточки не обронил, а, отведя руку в сторону, чтобы получше рассмотреть лицо Кати, кивнул и сказал: — Да-а-а… Хороша Маша, но не наша!.. — Ага! — сказал Телкин. — Поняли? И, отобрав фото, тут же водрузил на тумбочку… Переписка с Катей длилась уже полгода, в мыслях штурман уже не называл Катю иначе, как невестой, а получив посылочку с папиросами и носками, впервые назвал невестой и вслух. Правда, не при ребятах. При почтальоне. Но — назвал!.. Тело штурмана ныло от ударов, левый глаз заплыл, в спину то и дело подталкивали, чужая лающая речь резала слух, и все это было так ужасно, так неправдоподобно. Телкин настолько был уверен, что ничего подобного с ним никогда не произойдет, что ему еще казалось это наваждением, оно минет, сейчас минет… Но он по-прежнему видел ноги в шерстяных носках, шагающие по брусчатке рядом с тупоносыми сапогами конвоя, он уже узнал эти носки, связанные для него Катей, узнал бежевую штопку на правом носке и неожиданно осознал страшную правду: это он, он идет по чужой улице без унтов, это его связали, его взяли в плен… В плен?! Телкин рванулся, раскидывая конвоиров, но удар прикладом опять свалил штурмана с ног, и он грянулся о брусчатку и проехался по ней, обдирая лицо о камни…
4
— Надо уходить, товарищ капитан, — сказала радистка. — Куда? — Все равно. Надо искать дорогу. — Дорогу? Ты думаешь, что говоришь?! Радистка помолчала. — Товарищ капитан, — сказала она, — разрешите, я объясню. — Ну! — Товарищ капитан, вы по званию старше и по должности. Вы командир. Но сейчас доверьтесь мне. Здесь оставаться нельзя, а пашней далеко не уйдешь… Надо искать дорогу. — Где?! И зачем? Там фрицы! — Нет там никаких фрицев, — сказала радистка. — Чего им ночью на дорогах торчать? Спят они ночью. Бунцев покосился на Кротову. — А ты ходила по дорогам? В тылу у немца, ходила? — Ходила, товарищ капитан, — сказала радистка. — Вы доверьтесь. Пойдем! Бунцев еще раз огляделся. «А почему бы и нет?» — подумал он. — Хорошо, веди, — сказал Бунцев вслух. — Куда пойдем? — Туда, — не задумываясь, ответила Кротова и махнула рукой в сторону пожара. — Туда?.. Город же там! — Идите, идите, товарищ капитан! — позвала Кротова уже из темноты.Каждые тридцать — сорок шагов они останавливались, нагибались, ножами счищали с унтов толстые, липкие ломти грязи. Бунцев вспотел. Он расстегнул меховую куртку, распахнул ворот комбинезона, снял шлем, но все равно ему было жарко и все равно приходилось отирать льющийся на глаза пот. Радистка забирала влево. Полоса побледневшего зарева тянулась теперь по правую руку, и летчики шли вдоль этой далекой полосы. «На восток идем, а надо на запад…» — думал Бунцев. — Где твоя дорога? — спросил он Кротову на первой же остановке. — Где-нибудь тут, близко, — сказала радистка. — Откуда видно, что близко? — Так ведь мы город огибаем, — сказала радистка. — Значит, должны на дорогу натолкнуться. Ведь какие-нибудь дороги в город ведут? Бунцев промолчал. До такой простой истины можно было додуматься самому. «Нервочки! — зло сказал он себе. — Нервочки!» Они не сделали и сотни шагов, как радистка подняла руку. — Что? — Дорога, товарищ капитан. Шоссе отделял от пашни неглубокий кювет. Радистка перебралась через кювет и ожидала капитана. — Ну, и что теперь? — отрывисто спросил Бунцев. — Нам же на запад, к Телкину!.. Кротова открыто стояла посреди пустынного шоссе, поправляла унты. Разогнула спину. — Вы не охотник, товарищ капитан? — При чем тут охота? — Утку, знаете, как стреляют? — Лекцию читаешь? — На перелете ее стреляют, — сказала радистка. — Она с кормежки на дневку всегда одним прямым путем летит. Здесь ее и колотят. Это была вторая простая истина, но Бунцев не захотел принять ее. — Так, — сказал он. — Утка, значит, прямиком летит… А кто петляет, ты знаешь? — Заяц петляет, — невозмутимо ответила Кротова. — И если хорошо петляет — гончие лапы собьют, пока разыщут, товарищ капитан. Бунцев еще не перешагнул кювет. — Все равно, — сказал он. — Все равно. Не дождутся, гады, чтобы я от них по кустам и канавам хоронился. Пусть приходят. Шесть пуль — им, седьмую — себе. — Нет! Шесть пуль им — мало! — жестко пояснила Кротова, — Больше можно. — И напомнила: — Надо идти, товарищ капитан. …Сумрак медленно, нехотя отступал, и, продолжая идти в нескольких шагах за Кротовой, Бунцев Еидел уже не только движущееся живое пятно, а различал шлем радистки, линию мехового воротника, покатые плечи, короткие, неестественно толстые в унтах ноги. Шоссе по-прежнему вело в безлюдную серую мглу, но глаз уже угадывал, где асфальт натыкается на щебенку обочин, а бурая пашня — на травянистые откосы кюветов. Бунцев оглядывался, напрягал слух: в неясных звуках этой выморочной поры ему чудились звуки погони. И хотя радистка теперь удалялась от города, ее спокойствие Бунцева тревожило. — Смотри, рассветет скоро! — предупредил Бунцев. — Ничего. Нам бы проселок найти, — не останавливаясь, ответила Кротова. — Свернем на проселок — разберемся… — Рассветет — поздно разбираться будет, — сказал Бунцев. Проселок попался шагов через пятьсот. Бунцев и Кротова свернули, около получаса шли на юго-запад, натолкнулись на тропу и пошли тропой. Небо посветлело. Ночной бесцветный мир обретал первые краски. Прибитая тропа серела среди поля — бурого поблизости и по-прежнему черного вдали. Белесыми вихрами торчали рядом с тропой кустики полыни. Показалась стена неубранной кукурузы. Она уже не была сплошной: глаз различал отдельные стебли, листья, обломанные верхушки растений. Зарево пожара над станцией Наддетьхаза потускнело. Стало видно: в небо поднимаются клубы дыма. Кротова приглядывалась к окрестности. Остановилась. — Придется там, — кивнула она в сторону кукурузы. — Очень светло… — Сворачиваем? — Надо найти межу. На меже следы незаметней. Они пробирались межой, пока кукуруза не поредела, пока не открылось новое поле, а за этим новым полем, в километре от летчиков, — темнеющие среди деревьев крыши хутора. Кротова повернула обратно. Летчики петляли по кукурузе, раздвигая толстые стебли, ступая по оборванным, побелевшим листьям. Кое-где под ногой хрустели обглоданные початки. Бунцев молчал. Он понимал: радистка «путает след». Что ж? Может, это выручит. Конечно, если немцы всерьез станут искать, то… Кукуруза опять поредела. Бунцев узнал за стеблями то самое поле, ту самую тропу, с которой они свернули. Радистка уже расстегнула куртку, бросила наземь кусок парашютного полотна, опустилась на него. — Здесь, — сказала радистка. — Если по следу пойдут, мы их первые заметим. И, вытащив пистолет, положила рядом с собой.
Глава вторая
1
Вернувшись к себе после осмотра места падения русского самолета, начальник разведывательного отдела армии майор Вольф приказал денщику подать горячей воды и приготовить свежий мундир. Майор долго и тщательно мылся, смывая гарь и сажу. Горячая вода, хрустящее белье, отглаженный китель мало-помалу возвращали равновесие духа, приглушали досаду. Майор уже спокойней думал о том, что осмотр почти ничего не дал. Но в запасе оставался пленный русский летчик. Вольф аккуратно разобрал перед зеркалом пробор в длинных, прямых волосах, смочил волосы одеколоном, придавил щеткой, скупо улыбнулся глядящему на него из глубины зеркала сухощавому, еще очень молодому на вид офицеру. Что ни говори, а выглядит он отлично, и вся жизнь еще впереди! Выпив кофе, майор Вольф приказал денщику убирать, а сам прошел в кабинет. В приемной располагался адъютант Вольфа лейтенант Миних. Здесь же стояла походная койка лейтенанта. — Хайль Гитлер! — вытянулся Миних навстречу своему шефу. — Хайль Гитлер! — ответил Вольф. — Пакет от заместителя командующего, — доложил адъютант. — Принесите. Больше ничего нового? — Больше ничего, господин майор.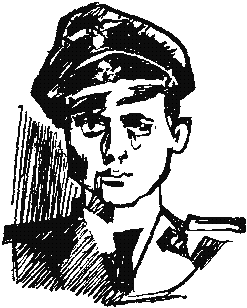
— А как пленный? На лошадином лице адъютанта расплылась улыбка. — Пленный недоумевает, господин майор! Но ему не понравилось, что забрали письма. — Ах, не понравилось? — Да. Он требует встречи с вами. — Отлично, Миних. Из гарнизонов сообщений нет? — Десант не замечен, господин майор. Я лично звонил… — Хорошо. Давайте пакет и готовьте пленного. Я займусь им сейчас же. — Может быть, вам следует отдохнуть, господин майор? Вы с четырех часов на ногах… — Миних, если вы намерены стать разведчиком, запомните раз и навсегда: мы никогда не имеем права отдыхать и медлить. Каждая минута нашего времени, проведенная с пользой для дела, равносильна выигранному бою. Запомнили? — Так точно, господин майор. — Идите! Отпустив адъютанта, майор Вольф вскрыл пакет от заместителя командующего армией, развернул вложенный в пакет лист бумаги с машинописным текстом. Глаза быстро бежали по строчкам:
«Секретно. Начальникам служб и командирам частей. 1. Приказом заместителя начальника тыла армии 30 октября 1944 года в 11 часов в городе Наддетьхаза будет проведена неожиданная для населения облава с целью задержания ненадежных лиц (партизан, диверсантов, парашютистов, переодетых в гражданскую одежду, евреев, коммунистов, а также сочувствующих и т. д.). 2. Заместитель начальника тыла армии проведение этой облавы возложил на эйнзатцгруппу Д (СД). В распоряжение командования СД будут переданы части начальника обороны города (всего 1850 человек), а также сорок человек из военной полиции и 20 человек из тайной полевой полиции. 3. Облавой будет руководить командир зондеркоманды 211 штурмбаннфюрер доктор Раббе. Командный пункт будет находиться в комендатуре города. 4. Город делится на пять оперативных районов…»Дочитав приказ (последние пункты майор Вольф лишь проглядел, так как к нему они отношения не имели), начальник разведки спрятал документ и, улыбаясь, поднял телефонную трубку. Телефонист вызвал гестапо. — Алло!.. Это вы, Понтер? Хайль Гитлер!.. Поздравляю с возвращением… У меня для вас, возможно, будут новости… Нет, нет! Это летчик, штурман бомбардировщика… Исключено, Понтер. Я осматривал самолет. Это новый двухмоторный. Для десантов не используется… А вот это другое дело!.. Не по телефону… Я жажду вас увидеть, Гюнтер! У вас же тьма новостей! Обедаете дома?.. Считайте, что я напросился на обед. Вольф, все еще улыбаясь, опустил трубку. Он радовался, что штурмбаннфюрер Раббе вернулся, наконец, из Будапешта. Любопытно, что он там слышал? Каковы планы верхов? Решится фюрер отвести войска из Венгрии для обороны границ рейха или оставит войска здесь? Скорее всего оставит здесь. Для чего же было присылать в Будапешт Отто Скорцени и похищать этого старика Хорти? Впрочем… фюрер может рассчитывать на салашистов. И тогда войска отведут. Вольф вышел из-за стола, остановился перед картой фронтов. Сигарета вяло повисла в уголке крупного рта. Д-а-а… Русские уже в Прибалтике, в Пруссии, в Польше, в Румынии. Они вошли в Белград. Они откололи Румынию. Вторглись и сюда, в Венгрию. Черт знает, откуда у них берутся силы! Пепел упал на пол, майор Вольф недовольно поморщился, ткнул сигарету в пепельницу, вздохнул. Апеннинский полуостров потерян, позиции в Африке потеряны, американцы и англичане высадились во Франции… Правильно, одними военными действиями выиграть войну уже нельзя. Нужна дипломатия, нужно столкнуть Запад с Востоком, а пока — диверсии, диверсии и диверсии! В тылу у русских надо действовать со всей решительностью. Ну и, конечно, надо готовить агентуру. Как бы ни повернулись события, агентура — это валюта, не подверженная изъятию и девальвациям. Агентура надежней долларов в южноамериканских банках. Еще неизвестно, доберешься ли до Южной Америки, а если у тебя есть агентура, ты хозяин положения. Ты будешь нужен. На пороге вытянулась долговязая фигура адъютанта. — Давайте штурмана Телкина, — сказал Вольф. Он вернулся к столу и опустился в кресло.
Голова и кисть правой руки пленного были аккуратно перевязаны ослепительно белыми бинтами, на ногах штурмана уже были унты, из-под левого обшлага комбинезона виднелся металлический ободок часов. — Ну вот! Теперь вы совсем иначе выглядите! — воскликнул Вольф. — Совсем иначе! Пленный не отвечал, глядя куда-то в угол, поверх головы майора. Вольф повертел в пальцах граненый карандашик. — Может быть, присядете, господин лейтенант? — сказал Вольф, внимательно следя, как пленный берет стул, размашисто подвигает к самому столу и плюхается на сиденье. — А ведь нехорошо, герр майор! — сказал пленный, смотря на Вольфа. — Что вы имеете в виду, лейтенант? — Письма чужие читать нехорошо. Вольф откинулся на спинку кресла, покачал головой: — Вы не учитываете специфики моей профессии. — Мне до вашей профессии дела нет! — Ну как так — «дела нет»! Вы же у меня в гостях находитесь… Кстати, вас нактэрмили? — Куском хлеба купить хотите? — спросил пленный. — Приберегите сильные выражения, Телкин! Я полагал, что вы просто сочтете нужным поблагодарить за завтрак. У культурных людей так принято. — Считайте, что я некультурный. — Не могу так считать. Вы летчик, офицер, а офицеры всегда были и будут носителями высшей культуры, лейтенант. Пленный промолчал, только криво улыбнулся. Майор Вольф развел руками, положил ладони на стол. — Боже мой! Когда вы поймете, что попали не к зверям, не к насильникам и убийцам, а к людям, Телкин? — Верните письма! — сказал пленный. — Раз вы такой заботливый и культурный, верните письма! — Верну, — сказал майор Вольф. — Вы, кстати, женаты? — До этого вам нет дела! — Опять ошибаетесь, лейтенант. Опять не учитываете моей профессии. — Чужие письма читать — профессия? — И чужие письма читать и досконально изучать семейные обстоятельства всех новых знакомых. — Грязная у вас профессия, выходит! Майор Вольф улыбался. «Главное, что ты заговорил, милейший! — думал майор. — Ты заговорил, и это главное!» — Ну, почему же грязная? — спросил он. — Профессия как профессия. — Сволочная! — Ах, вы имеете в виду нарушение некоторых моральных норм? Так это пустяки, Телкин! Уверяю вас! Всякий человек немножечко грешен, не так ли? Ну, там — измена жене, лишняя рюмочка, забытый должок, лесть… Со всеми случается, не правда ли? — Со мной не случалось. — Молоды вы очень. Двадцать лет! Разве это возраст? Вы еще и жить не начинали, Телкин. Поэтому и смогите на все сквозь розовые очки. Но вы не станете меня уверять, будто все ваши друзья и начальники ангелы во плоти? Не станете, верно? — Вас уверять — время тратить. Майор поиграл карандашом, укоризненно покачал головой. — Слова, дорогой лейтенант! Слова! Люди всегда нарушали, нарушают и будут нарушать моральные нормы. Таково уж свойство человеческой натуры. Его порождает неудовлетворение имеющимся… Вы следите за моей мыслью, лейтенант? Пленный молча скривил губы. — Итак, — сказал Вольф, — признавая, что людям свойственно нарушать нормы вообще и моральные в частности, надо признать и то, что принципиальной-то разницы между мелким нарушением и крупным не существует! Так? Остается, следовательно, вопрос масштабности. Вы согласны? — Нет, — сказал пленный. — Не согласен. Мораль-то у нас с вами разная. — Но, но, но! — поднял ладони майор Вольф. — Чепуха! Мораль извечна и везде одинакова: не убий, не укради, не пожелай жены ближнего своего… Разве не так? — Нет, не так. — Э! Не кривите душой, лейтенант! Не кривите!.. Знаете, такие взгляды просто страшны!.. Конечно, не ваши личные взгляды. Страшны взгляды миллионов людей, разделяющих ваши убеждения… Знаете почему? — И так как пленный не отвечал, только горбился и все глядел в сторону, майор пояснил: — Потому что, опираясь на ваш трепет перед нарушением так называемых моральных норм, и существует нынешний мир. Тот самый мир, который вас не устраивает, лейтенант, который вы хотите переделать. Пленный поднял голову, и майор Вольф заметил тень тревожного удивления на лице штурмана, впрочем тут же скрытую привычной кривой улыбкой. — Здорово! — сказал пленный. — Вы, значит, тоже против нынешнего мира? Тоже за новый мир? За добрый и чистый?.. Спасибо, объяснили… Майор видел: пленный волнуется, плохо владеет собой, и Вольфом все сильнее овладевал азарт охотника, предчувствующего удачу. — Оставьте, Телкин! — сказал майор. — Разве можно так полемизировать? Что же, по-вашему, зло само по себе, а люди сами по себе? Не прикидывайтесь наивным. Коммунисты, кстати, тоже уничтожают своих политических противников. Думаете, нам неизвестно, что происходило в вашей стране в тридцать седьмом году? — Вы мою страну не трогайте, — сказал пленный. — Не ваше дело. — Ах, вот как! Сталину, значит, все позволено, поскольку он действует во имя передовых идей!.. А вы убеждены, что он во имя идей действует, а не во имя личной корысти? Пленный резко выпрямился на стуле. Здоровая рука штурмана сжалась в кулак, кулак побелел. — Ух ты!.. — вырвалось у Телкина. Майор с застывшей улыбочкой выдержал бешеный взгляд. Пленный скрипнул зубами, первым отвел глаза. Дышал он тяжело. Майор снял руку с колокольчика. — А вы фарисей, — сказал он после паузы. — Впрочем, и фарисей и мытарь одновременно… Чисто русское явление, увы!.. Хотя вы в священном писании не сильны, конечно? Пленный молчал. — Н-да… — сказал майор. — Жаль. А ведь именно в священном писании основы нынешней морали и провозглашены, лейтенант. Если вы такой чувствительный моралист, у вас библия со стола не должна сходить… Впрочем, у вас своя библия. «Краткий курс», а? Пленный поднял лицо. — Стреляй меня! — сказал он. — Стреляй меня, паразит! Слышишь? Нечего со мной толковать! Враги мы! Майор Вольф улыбался. Он развел руками. — Ну вот, заладили: враги, враги! Выкиньте из головы, что я ваш враг, лейтенант! Я теперь ваш единственный друг, если хотите знать. Запомните: друг!.. И давайте покончим с вопросами морали. А то вы снова начнете о плохом и хорошем рассуждать. Выслушайте и поймите меня, лейтенант. Правильно поймите. Вдумайтесь в то, что я вам сейчас скажу. — Мерзавец, — пробормотал пленный. Майор Вольф пропустил оскорбление летчика мимо ушей. Оно даже позабавило майора. Оно не мешало, оно скорее помогало идти к цели. — Так вот, лейтенант, — сказал майор Вольф. — Запоминайте. Мораль — одно из величайших зол, полученных человечеством в наследство от прошлого. Мораль унижает и подавляет настоящую, сильную человеческую личность. И знаете, в чьих интересах? В интересах капитала, жидовского капитала, лейтенант, давно завладевшего миром. Ибо, внушая людям, что следует строго соблюдать нормы морали, захватившие мир жиды крепко держат людей в руках. А сами-то они, Телкин, никакой морали не признают! Не признают, уверяю вас! Они большие политики, а что такое политика, лейтенант? Политика — это самое гнусное нарушение всяких моральных норм, и ничего больше! Лицо пленного пошло красными пятнами. — Ишь ты! — сказал он. — Собственному фюреру по самую завязку выдали! Как вас гестапо терпит, а? Ведь это ваш фюрер морали не признает! — Никто из умных политиков теперь ее не признает, Телкин, — сказал майор. — Бросьте правоверного разыгрывать! Не с политруком говорите… Вы хоть поняли, для чего я столько времени на вас трачу? Пленный быстро взглянул на майора. — Как не понять! Хотите убедить, что подлец и честный человек одно и то же. И что только дураки честны, а умные все мерзавцы!

Майор Вольф улыбался. — Не утрируйте! Не утрируйте! Я хотел сказать совсем иное: всякий умный человек должен быть хозяином своей судьбы! В критические минуты он должен становиться выше заурядных взглядов толпы. — А я дурак, repp майор! — с издевкой сказал пленный. — Понимаете, дурак! У меня даже фамилия со значением: Телкин. Телок, одним словом, несмышленыш. Выходит, не на того вы напали, герр майор! Майор покачал головой. Укоризненно покачал. — Нет, вы не дурак, Телкин, — сказал он. — Вы далеко не дурак. Просто вы попали под власть коммунистических пропагандистов… Но вы не дурак. Вы даже остроумны. И мне вас жаль. Он вздохнул, передвинул бювар. — Местное слово, мне вас жаль! И поскольку вы все равно отвечать на мои вопросы отказываетесь, не стану я, пожалуй, с вами возиться. Отпущу я вас с миром. Пленный с прищуром поглядел на майора. — Гестапо грозите? — Да что вы?! Зачем?! Нет!.. Просто отпущу!.. Вы были бы рады, если бы я вас отпустил? Теперь майор не отрывал взгляда от пленного, подмечая каждое движение Телкина. — Не отпустите… — глухо сказал пленный. — А если все-таки отпущу? Представьте себе, что отпущу! Что бы вы стали делать? А? Рассказывали бы о фашистских зверствах? Пленный, видимо, мучительно колебался, медлил с ответом, не мог решиться… — Так что же вы бы стали делать, Телкин? Пленный резко выпрямился, подался к майору: — Я?.. Вырвись я… Я бы вас еще не так утюжил, как раньше! Не так! Потому — теперь вблизи повидал! Майор спокойно ждал, пока ярость пленного выдохнется. Он знал — долго это не продлится. Должен наступить спад. Пленный отер забинтованной рукой губы и обмяк на своем стуле. — Мне все понятно, — спокойно сказал майор, решив, что пора нанести удар. — Мне-то все понятно, лейтенант. Даже то, что сами вы еще не поняли. Майор рывком поднялся с кресла. — А куда бы вы от меня пошли, Телкин? — резко спросил он. — Куда? В армию? В свой полк? Да кто бы вам воевать позволил?! Вы что, младенец? Вольф подметил, что пленный растерян. — Вы попали в плен, Телкин, — напористо сказал Вольф. — Это несчастный случай, да! Вы сопротивлялись, да! Но кто вам поверит? И кого это интересует?! Вы что, не знаете выражения: «Советские офицеры в плен не сдаются!»?.. Знаете? И знаете, кому это выражение принадлежит? Так зачем вы тут дурака валяете, лейтенант? Ни в какую армию вы бы не вернулись. В самолет бы вас не посадили. Вас посадили бы в «смерш»! Знакомо вам это название? Замешательство летчика было явным. — У вас нет выбора, лейтенант! — стремительно продолжал майор. — Мы вас не тронем. А ваши же контрразведчики расстреляют. Побывав в плену, вы, по их понятиям, продались, пошли на службу в гестапо. Для них вы все равно будете шпионом и предателем. И вас расстреляют. Так из-за чего вы тут копья ломаете? Только из-за того, чтобы от «смершевской» пули погибнуть? Но если так, вы действительно неумны, Телкин! Неумны! Пленный сгорбился так, что почти касался лицом коленей. — Нет… — казалось, через силу выговорил он. — Меня не расстреляют… Поверят. — Расстреляют, — твердо сказал майор Вольф. — Даю полную гарантию. Поступят точно так, как поступали с другими. А они вовсе не были нашими агентами, лейтенант. Им просто повезло, как вам. Мы их оставили в живых, и одно это послужило поводом к обвинению в измене… Расстрел, Телкин! Расстрел! Вот что ждет вас! — Мои товарищи… — проговорил пленный. — У вас нет больше товарищей! Они отрекутся от вас! Что вы, не знаете? А не отрекутся — разделят вашу участь. Впрочем, вы их и не увидите! Им даже не сообщат, что с вами сделали. А вашу семью сошлют. И родителей и жену, рсли у вас есть жена… Или эта Катя из Челябинска вам не жена, а невеста? — Невеста… — И невесту сошлют! Сунут в лагерь к уголовникам, а там из нее сделают лагерную маруху, пустят по рукам, в карты начнут разыгрывать! Вы этого хотите, лейтенант? Вы, мужчина, этого хотите?! — Не сделают этого! — крикнул пленный. — Сделают!.. Вот ваши письма. Держите. Перечитайте. Их писала чистая девушка, лейтенант! Майор Вольф вынул из-под бювара письма Кати и бросил их перед Телкиным. Пленный не прикоснулся к письмам, словно боялся обжечься. «Готов», — подумал майор. Он отошел к окну, заложил руки за спину и стоял, разглядывая сад перед особняком. Игра сыграна, и сыграна чисто Раббе не верит в психологическое воздействие, а такой метод надежней любых пыток. Штурман Телкин — наглядное доказательство. Два часа назад он рвался из рук патруля, стрелял, начал с того, что отказался отвечать на вопросы, и вот — пожалуйста… Майор услышал, что пленный пошевелился, и быстро обернулся. Лейтенант Телкин теребил ворот комбинезона. — Вы! — с надрывом сказал лейтенант. — Вы же все равно горите! Чистым огнем горите! Вам же конец! Так что же вы перед Смертью жалите? Какая вам корысть? Зачем я вам?! — Спокойней!.. Кто вам сказал, что Германия проиграла войну? Ваши генералы?.. Ерунда! Германия готовит новое, сверхмощное оружие, лейтенант! Русские армии погибнут, не успев понять, что случилось. А кроме того, Германия в ближайшие дни заключает договор с американцами и англичанами. Они станут нашими союзниками, чтобы покончить с большевизмом, лейтенант! Вот как обстоят дела! Мы не проиграли, Телкин, мы на пороге победы! И вам выпадет счастье разделить эту победу с Германией. Слышите? Пленный, кажется, не понял ни слова из того, что говорил Вольф. Он тяжело дышал, облизывал губы, дергал «молнию» комбинезона. — Я-то вам зачем? — опять спросил он, едва майор умолк. — Я-то зачем?! Господин майор! — Вы тоже нужны, лейтенант, — успокоительно сказал майор. — Считаете себя слишком маленькой фигурой? Вас это не должно смущать! — Должно, не должно… — сказал пленный. — Ну, чего вы хотите? Зачем я вам нужен? Зачем? Взгляды майора и пленного встретились. В глубине широко открытого глаза пленного майор Вольф увидел тоскливую дрожь незащищенной, сломавшейся души. — Вы можете помочь очень многим! — строго сказал майор Вольф. Он позвонил в колокольчик. На пороге возник адъютант. — Миних! Карту фронта и бумаги, — приказал майор. — Лейтенант Телкин хочет дать показания.
2
Иоци Забо по сторонам не глазел. По сторонам тому глазеть хорошо, у кого ни забот, ни дум и на черный день припрятано. А если у человека долгов больше, чем блох на цепном кобеле, — голова сама на грудь свешивается. Ее и поднимать-то не хочется. Зачем? Чтобы другим людям завидовать, от красоты божьего мира расстраиваться? Иоци Забо медленно брел по полям в помещичью усадьбу. Надо бы поспешить, а то управляющий опять, как вчера, на охоту уедет либо в город и не успеешь попросить его обождать с долгом, но вот не хочется спешить, что ты будешь делать? Не идут ноги, и все тут! Обратно повернуть норовят, проклятые! А им, ногам, только волю дай — известно, куда притащат. Эй! А кому какое дело до ног Иоци? Он сам себе хозяин! Волен и в корчму завернуть, коли пожелает! Может так посидеть у Габора, а может и палинки выпить. И никому до этого дела нет. А кто станет мешаться, пусть на себя пеняет! Иоци терпит, терпит, да ведь может и не вытерпеть! Даст по уху, и все тут! Вытянув из кармана тряпку, заменявшую носовой платок, Иоци высморкался в сторону и вытер тряпкой пальцы. Эх-хе… Болтаешь, парень! Графу ты по уху не дашь, к примеру. И управляющему не дашь. Даже Габору и тому не двинешь… Жизнь собачья! Дождешься при такой жизни правды. Видно, как перебивался из куля в рогожку, так и будешь перебиваться. А теперь еще немцев принесло. Спасители! В своих касках рогатых они не на спасителей, а на чертей похожи! Никто их и не просил Иоци спасать. Красными пугают! Эй! Что красные Иоци сделают? С него много не возьмешь А что сын его в армии, так ведь силой парня угнали! Какой бы дурак по своей воле пошел? И еще неизвестно, в армии ли Бакта. Слушок был, бегут ребята из армии-то. Вон у кривого Золтана первенец неделю назад объявился. Сбросил мундир, напялил старый кожух, взял хлеба и куда-то к дальней родне подался… Что ж, Бакта дурнее золтанового первенца, что ли? Всегда умнее был! Так, может, он и домой из опаски не зашел, а прямо куда-нибудь в тихое место махнул, да и отсиживается… Сейчас время такое — всякому отсидеться нужно. Поглядеть, как дела пойдут. Куда ветер повернет. Эй!.. Ясно, русские со своими порядками здесь не нужны. Без их порядков обойдемся. Но если с их приходом землю делить начнут, как в двадцатом году после русской революции, милости просим! От такой подмоги не откажемся! В двадцатом не было подмоги — ничего и не удалось. А теперь русские сильны. Сильнее всех, видать. Жаль только, что безбожники они и какие-то колхозы в деревне устроили. А если бы…Иоци не успел додумать своей думы. На глаза ему попался валяющийся обочь тропинки кусок трубы. Иоци медленно нагнулся, подобрал находку, колупнул, прикинул на вес. Эй! Вот так штука! Свинец. Фунтов на пять потянет! И откуда бы трубе взяться? Вроде вчера вечером тут ничего не было… Иоци впервые огляделся, разыскивая взглядом того, кто бросил трубу. Но утренние поля оставались по-осеннему безлюдными. Кого из добрых людей понесет из дому в такую пору? Сейчас самое время на дворе сидеть: хлеб молотить, пиво варить. Только бедолаги нынче шатаются. Но бедолага добра не бросит и не обронит, а обронит — за семь верст воротится. Потому, если эту трубу расплавить, да пропустить свинец через дуршлаг, да накатать на сковороде — добрая дробь получится! Иоци отер находку рукавом пиджака. Самому охотиться — ну его к черту! Поймают — не рад и зайчатине будешь. По пенго за каждый волосок заячий сдерут. Но вот продать дробишку — дело! Тот же Габор возьмет дробь-то. И уж пару бутылок палинки Иоци с него стребует, как бог свят! Ведь свинец! Чистый свинец!.. Тащиться в усадьбу с пятифунтовой трубой было глупо. Следовало ее где-нибудь припрятать, чтобы забрать на обратном пути. Иоци решил спрятать трубу в кукурузе. Кукуруза господская, давно убрана, никто в нее не полезет. Надо только место приметить, и вся недолга. Отыскивая участок погуще, Иоци прошел еще немного и вдруг озадаченно уставился на землю. На земле виднелись следы многих ног. Они пересекали тропу и уводили в кукурузу. Иоци даже не успел разобрать, свежие ли это следы и какой обуткой оставлены, как — новая неожиданность! — ему почудились в кукурузе голоса… — Э-гей! Кто тут? — крикнул Иоци, на всякий случай переложив трубу в правую руку. — Э-гей! Кукуруза не отзывалась. «Померещилось, что ли? — подумал Иоци. — Да кой черт померещилось! Вот они, следы-то!» Он переступил с ноги на ногу. — Эй! Кто там? В ответ ни звука. Иоци шагнул в кукурузу. Шаг, другой, третий, четвертый… Никого. Еще несколько шагов. Иоци уже совсем было решил вернуться на тропу. Ну их к бесу, этих, кто ходил! Ходили и ходили. Не его дело. И кукуруза, главное, не его… В этот миг среди стеблей он заметил чью-то спину. — Геть, геть! — закричал Иоци. Просто так закричал, чтобы припугнуть. А тут на него на самого прикрикнули, да резко. Иоци оглянулся. Он выронил трубу и охнул, поднял руки. Прямо на него смотрел черный ствол автомата. Автомат держала баба. Какие-то бабы появились и справа и слева. Господи боже мой! — Эй! Брось! — сдавленным голосом крикнул Иоци. — Слышь? Брось! Не дури! Лоб его под высокой шапкой сразу вспотел. Ему показалось, что он внезапно очутился среди выходцев с того света: тощие, бледные, в каких-то отрепьях… И почему-то одни бабы? И чего им надо? Откуда свалились? Баба, державшая автомат, приближалась. Совсем молодая баба-то! Только худа, как цыганская кобыла, стрижена да в рванье вся, а так, на лицо, куда там! — Ну, что? Ну, чего? — сказал Иоци. — Ишь, пугают… Сдвинуться с места он все-таки не решался. Сдвинешься, а эта стриженая как полоснет!.. Женщины в отрепьях окружили Иоци. Их было никак не меньше двадцати. Такие и без автомата вцепятся — беда! — Гуляете? — спросил Иоци. — А я думаю, кто бы это? Дай, думаю, гляну… А это, значит, вы гуляете… Баба с автоматом встала перед Иоци. — Дейч? Мадьяр? — спросила она. — Мадьяр, мадьяр! — воскликнул Иоци. — Какой к черту дейч? Мадьяр! И тут Иоци осенило. Господи! Что же это он, старый дурак, перепугался? Ведь это не иначе как беглые. Работали у немцев и сбежали! Ясное дело! Народ толкует, что от немцев многие бегут. Наверное, и эти… Может, на родину пробираются… А он испугался! — Тьфу ты! — сказал Иоци. — Вот ведь, ей-богу… Ну, беда! И потянулся за тряпкой высморкаться. — Ты откуда? Кто ты? — по-немецки спросила молодайка с автоматом. — Крестьянин? — Крестьянин, крестьянин, — по-немецки же ответил, кивая, Иоци. — Вон наша деревня… Недалечко здесь… — Немцы в ней есть? — Нет, зачем? Немцы в городе… — А бывают в деревне? — Бывать бывают. Как не бывать? Напиться заходят, для машин воду берут. — А можно у вас еды достать? — продолжали выспрашивать Иоци. — Можно хлеба у вас попросить? — Попросить-то можно… — неуверенно сказал Иоци. — Люди ничего… Но вы ж беглые, э? Молодайка смотрела Иоци в глаза. — Да. Мы бежали от фашистов, — сказала она. — Сам видишь. Одни женщины. И у нас ничего нет. Ни воды, ни хлеба, ни одежды… У вас можно достать хлеба? Хоть немного хлеба? Иоци и так плоховато знал немецкий, а тут еще волнение мешало. Но все же он понял. — Немного-то можно, — сказал Иоци. — Отчего нельзя? Только ведь… Он замялся. По деревне не раз объявляли, что, кто не донесет на дезертиров, на беглых из лагерей или на русских-парашютистов, того возьмут в тюрьму, будут судить военным судом. Выходит, самим бабам показываться в деревне днем никак нельзя. Людей подведут. А принести им хлеба ночью — тоже рискованно. — Боишься? — спросила стриженая. Она разглядывала Иоци в упор, прямо сверлила глазами. — Кабы я один на свете жил — ладно, — сказал Иоци. — А у меня старуха. И сын Вот ведь как!.. Откуда хоть вы взялись? — Бежали из лагеря… Значит, не поможешь? Иоци топтался на месте. Глаз он не поднимал, не хотел встречаться взглядом с этой, с автоматом. — Ты погоди! — забормотал он. — Дай подумать! Подумать, говорю, дай! А что было думать? За сорок пять лет, прожитых Иоци Забо, не так часто случалось, чтобы люди нуждались в нем и просили у него помощи. Собственная старуха не в счет — с ней судьба одна, значит, и беды пополам. Но вот чтобы чужие доверились, чтобы выпало тебе, горемыке, людей спасти — такого не бывало. И так сходилось, что решалось сейчас — человек ты или не человек, помнишь бога или забыл о нем, есть у тебя совесть или впрямь ты оставил ее в корчме у Габора, как говорит управляющий поместьем. Так сходилось, что должен ты помочь этим замученным, тощим, полуживым бабам, нельзя тебе отмахнуться от них! Мало ли что немцы грозят! Ведь это бабы, а не солдаты! Какой от них кому вред? А не подать кусок хлеба голодному… Иоци еще раз оглядел окруживших его женщин, цокнул, сочувственно покачал головой: — Беда!.. Хлеба-то я вам принесу, ладно. Только до вечера потерпите. Потерпите? Молодайка торопливо растолковывала его слова другим беглым, и, когда растолковала, Иоци увидел бледные улыбки и глаза, полные слез. Ему кивали, его трогали за плечи, словно пытались робко погладить. — Да ладно, — торопливо сказал Иоци. — Ладно. А до вечера-то как перебьетесь? — Ничего, — сказала баба с автоматом. — Подождем. — Нет, — возразил Иоци. — Зачем ждать? Тут поблизости неубранная кукуруза есть. Я вас туда проведу. Погрызете малость… Только эту штуку оставь! — Он показал на автомат и повторил: — Спрячь! Но говорившая с ним женщина прижала автомат к груди, в глазах ее Иоци прочитал недоверие и махнул рукой. Господь с ней! Не хочет бросать — пусть таскает. Хотя, конечно, лучше бы бросила. Оружие — это такая штука, что непременно когда-нибудь выстрелит. А беглым лучше не стрелять. Им бы лучше затаиться. Какие уж из них вояки! Если их без оружия поймают — одно, а с оружием — другое. Тут их не пощадят. Но если молодайка не хочет бросать автомат, ее дело… Иоци переступил с ноги на ногу. — Вы только гуськом идите… Чтоб не топтать сильно-то… Тут недалеко. Живо дойдем. И хотя страшновато было Иоци, что ввязался он в такую историю, он считал, что поступает правильно, как бог велел: нельзя же отказать страждущему. Никак нельзя.
3
Бунцев забормотал что-то сердитое, примолк, почмокал губами, улыбнулся и затих. Он все-таки послушался, прилег, заснул, и Кротова с нежностью глядела на его широкое, обветренное лицо, на сросшиеся брови, на туповатый, забавно срезанный на самом кончике нос, на небритый подбородок. Она еще никогда не видела лицо Бунцева так близко, никогда не могла так долго смотреть на него без боязни выдать себя и глядела неотрывно, нежно и грустно, счастливая уже тем, что может смотреть, не мешая и не досаждая ему… Было время — она плакала по ночам, глупая девчонка, из-за своей внешности и остро завидовала красивым подругам: тем писали записочки, приглашали их в кино и на каток, целовали в подъездах домов. А ее никто не приглашал,никто не целовал, хотя охотно принимали в любой мальчишеской компании: ценили за острый язык и за бесстрашие во всем — и в отчаянном походе за город и споре с нелюбимым учителем. Мучители! Ей так хотелось, чтобы мальчишки заметили, что у нее тоже есть губы… В педагогическом институте, куда Оля Кротова поступила за два года до войны, повторялась та же история, что в школе: с ней дружили, но не влюблялись. Только один раз судьба, казалось, решила улыбнуться. В сороковом году на майской вечеринке после того, как все встали из-за стола и начали танцевать, а иные парочки попрятались по углам, к Ольге подсел однокурсник Сашка Белов. Сашка вовсе не походил на пьяного, только лицо у него было красным, и, когда он предложил Ольге «прогуляться», она не отказалась. На темной лестничной площадке Сашка внезапно схватил Ольгу в объятья, запрокинул ей голову, ткнулся губами в Ольгин нос, в глаз, потом впился в ее губы, забормотал что-то прерывистое, и она обомлела, и сама обняла Сашку, и открыла губы, трепеща и робея поверить, что это происходит наяву, что к ней могло прийти счастье. Руки у Сашки были бесстыдные, жадные, но она не отталкивала их, думая, что так, наверное, бывает со всеми и пугаться нечего. Потом с трудом вырвалась, и убежала в ужасе, и не вернулась на вечеринку, а долго бродила по улицам с пылающими щеками, даже не решаясь вспоминать грубой Сашкиной просьбы… Она не спала ночь, но утром решила: Сашку можно простить, только надо сказать ему, что они еще молоды и поженятся на последнем курсе… Сашка встретил ее в институтском коридоре. Побагровел, спрятал глаза. — Слушай, — сказал Сашка. — Извини, пожалуйста… Пьян был, ничего не соображал… Разве бы трезвый я подошел… Извини, а? И так искренне это у него получилось, что Ольга похолодела. Сашка так и не понял, почему ему крикнули: — Подлец! В сорок третьем году, случайно оказавшись в Москве, Ольга узнала, что Сашку убили в октябре 1941 года под Солнечногорском. Мертвые не нуждаются в прощении. Ольга решила, что Белов все же был неплохим парнем, если погиб в бою, и теперь вспоминала о нем просто как об однокурснике, о настоящем солдате. Странно, но она, привыкшая изучать людей прежде, чем вынести суждение о них, полюбила Бунцева с первого взгляда. Ну да, он был высок, плечист, темноволос, синеглаз. Но ведь и раньше она встречала высоких, плечистых и синеглазых, однако к ним не тянуло… Ее поразили глаза Бунцева: добрые, ясные, чистые. Она не сумела скрыть любви. Выдала себя тоскующим, страстным взглядом. И сжалась, заметив удивленный, растерянный и досадующий ответный взгляд. Это случилось месяц назад. Ольга больше не позволяла себе смотреть на командира так, как посмотрела однажды, но что это меняло? Бунцев уже обо всем догадался и, похоже, испытывал нелепое чувство вины из-за того, что не мог ответить на любовь своей дурнушки радистки. «Милый! — хотелось сказать Ольге. — Не беспокойся! Ни о чем не думай! Ты же такой хороший, такой добрый! Ты не можешь быть ни в чем виноват! Ни в чем!» Но сказать этого она не могла. Вероятно, лучшее, что Ольга могла сделать, — это подать рапорт с просьбой о переводе в другой экипаж… Радистка невесело улыбнулась. Нельзя сказать, что человек родился в сорочке, если даже право посмотреть на любимого вблизи он получает ценой страшной беды. Но ведь тут ничего не поделаешь, верно?.. Небо очистилось. Проглянуло солнце. Пригрело. Маленький черный жучок, ободренный теллом, взбирался на рукав капитана. Кротова тихонько смахнула жучка. Но маленький жучок оказался настойчивым. Сброшенный с рукава, он карабкался на шлем Бунцева. Радистка подставила жучку травинку, дождалась, чтобы жучок влез, и положила травинку поодаль. Жучок забеспокоился, заметался, потом раскрыл крылышки и улетел. Капитан Бунцев спал.Управляющий поместьем графа Шандора Пал Юданич пробовал подпругу. Рядом стоял конюх и озабоченно следил, пролезут ли пальцы управляющего между лошадиным брюхом и туго затянутым ремнем. — А, пришел! — сказал Юданич, заметив Иоци Забо. — Где деньги? Принес? Иоци снял шапку, развел руками, потупился. Ему было стыдно перед конюхом. Смешно, конюх — свой брат, батрак, а поди же ты — стыдно! Конюх тоже потупился. Невесело смотреть на чужое горе. — Так, — сказал Юданич. — Не принес. Ну, конечно, разве ты отдашь долг вовремя? Вовремя долги отдают порядочные люди, а не бездельники и пьяницы… Так чего ты притащился? Иоци тоскливо посмотрел на свою шапку. «Совсем вытерлась…» — не к месту подумал он. — Ваша милость… — вслух сказал Иоци. — Мы же одни со старухой… Сын у меня в армии… Я еще вчера приходил к вашей милости… Управляющий с презрением глядел на низкорослого, обтрепанного крестьянина. Хозяин! Только землю занимает. И вообще такие даром небо коптят! Юданич только что позавтракал, выпил два стакана доброго вина, он отлично чувствовал себя, и жизнь была бы совсем прекрасна, если бы не лентяи батраки, если бы не должники-крестьяне, черт бы побрал этих дармоедов! Граф в последнее время требует денег, денег, денег! Графиня, по слухам, собралась в Швейцарию лечить нервы. Просто уезжает от бомбежек и вывозит денежки. Ясно. Но где взять деньги? Урожай неважный, батраков только наймешь — берут в армию, а долги никак не соберешь. Поди объясни это графу, не желающему слушать никаких объяснений!.. Появление Иоци Забо напомнило управляющему о грозящих неприятностях и испортило хорошее утро. Юданич уже готов был сорвать зло на подвернувшемся мужике, он даже фыркнул, как кошка, в прямые, острые усики, ударил стеком по блестящим крагам, но, к удивлению Забо и конюха, не выругался, а снова внимательно, словно только что увидел, оглядел фигуру просителя, положил стек на плечо и, надумав что-то, поманил Забо:

— Подойди-ка, любезный! Управляющий вспомнил о недавнем телефонном звонке из города: комендатура просила сообщать все сведения о подозрительных лицах, которые могли бы появиться в окрестностях. Угасшие было надежды воскресли в душе Иоци. Если управляющий передумал, если подождет с уплатой долга, семья спасена! Не придется на старости лет продавать последний хольд земли, идти в батраки, можно будет кое-как перебиться! Иоци Забо неуверенно приблизился к управляющему.

— Господи, ваша милость… — Ты ведь из Нигалаша? — перебил управляющий. — Из Нигалаша, из Нигалаша, — торопливо подтвердил Иоци. — Как же! Из него. Ваша милость верно сказать изволили. — Ты как сюда шел? — спросил управляющий. — Я-то? — переспросил Иоци. — А как? Я как всегда… Тропочкой, ваша милость, тропочкой… — Ты полями, значит, шел? — настойчиво продолжал управляющий, и недоумение Иоци сменилось неуверенностью, тревогой и тоской. — Ага, полями, полями, — с привычной подобострастностью, но уже замешкавшись, подтвердил Иоци. Он опять принялся за свою облезшую шапку. — Ничего ты не заметил там, в полях? — как-то небрежно, словно просто так, от скуки, спросил Юданич, и от этой небрежности у Иоци Забо захолонуло в груди. «А что, если меня видели? — подумал мужик. — Что, если кто-нибудь уже донес про беглых?» — Ну? — послышался откуда-то издалека голос управляющего. — У тебя язык отнялся, что ли? «Вот как человек становится иудой, — подумал Иоци Забо. — Припрут к стене — и становится. Потому своя шкура всего дороже… Если видели меня — убьют…» — Побыстрей ты! Некогда мне! — А что я мог там, в полях, заметить? — подняв голову, с отчаянием и ненавистью глядя в кошачьи глаза управляющего, спросил Иоци Забо. — Что, ваша милость? Поля и поля… Нашему брату недосуг за дичью глазеть! И, не понимая, что делает, нахлобучил шапку. Юданич с минуту щурился, шевелил усиками, потом опустил стек, повернулся к Иоци спиной и протянул руку за поводьями. — Так подождете с должком, ваша милость? — шагнув вперед, облегченно и весело окликнул Иоци. — Пошел вон! — усаживаясь в седле и разбирая поводья, прикрикнул управляющий. — Нынче к вечеру не принесешь — пеняй на себя. Я и так вас избаловал. Совесть позабыли! Он направил кобылу на Иоци, и тому пришлось посторониться. — Напрасно, ваша милость! — громко сказал Иоци в спину уезжавшему. — Про совесть вы напрасно!.. Совесть мы не забываем! — Одурел ты! — сказал конюх. — Чего выпрашиваешь? Побоев? — Мое дело, — сказал Иоци Забо. — Мое дело, чего я выпрашиваю… Не лезь! Он плюнул в сторону графского дома, еще плотнее натянул шапку и зашагал прочь со двора. Конюх оторопело поглядел ему вслед, вздохнул, покачал головой и неторопливо побрел в людскую.
Был третий час дня. В крохотной столовой Раббе ярко горела лампа. Устав от допроса Телкина и от других многочисленных дел, Вольф с удовольствием пил привезенный Раббе из Будапешта французский коньяк, прихлебывал крепкий кофе, курил и слушал рассказ гестаповца о подробностях ареста венгерского регента Хорти и его приближенных. Раббе смаковал подробности, описывая действия своего давнего знакомого Отто Скорцени. Вольф изредка улыбался, вовремя кивал. — Кстати, — сказал Раббе. — Штурмбаннфюрер Хеттль поставил действия Скорцени в пример всем нам. Быстрота, находчивость, смелость, натиск, победа! Нет невыполнимых приказов, есть только недобросовестные исполнители! Только так, Ганс! Хайль! Бутылочное горлышко звякнуло о край рюмки. — Значит, это решено? — спросил Вольф. — Что? — спохватился Раббе. — Мы не сокращаем фронт? Мы остаемся в Венгрии? — Откуда вы взяли, будто мы собирались оставлять Венгрию? — Раббе подозрительно уставился на разведчика, посопел. — Оттуда же, откуда и вы, Гюнтер. Ну, ну, не смотрите так угрожающе! Вы меня понимаете! Раббе не понимал, но он знал — майор Вольф из молодых, присланных в армию после того, как разведку возглавил генерал Гелен. Очевидно, у майора неплохие связи и свои каналы информации… — Мы не оставим Венгрию! — сказал Раббе. — Наоборот. Мы должны твердо оборонять ее территорию. Максимум активности! Сейчас все внимание отдается Восточному фронту. С Западом фюрер заключит союз против большевиков. И мы вернемся в Россию! Мы должны быть готовы к возвращению! — Прекрасно, — сказал Вольф. — Что? — Я говорю: прекрасно. Раббе посопел: — «Прекрасно»!.. Штурмбаннфюрер Хеттль высказал, между прочим, недовольство работой разведки. Наши специальные батальоны и роты не оправдывают надежд!.. — Это было сказано в адрес нашей армии? — Это было сказано вообще. Но это относится и к нашей армии. Вам тоже нечем похвастать, майор! — Я получил достаточно поганое наследство. Но вы же знаете, Гюнтер, что я готовлю диверсантов. — Вы медлите. — Ничуть. Люди должны пройти хоть какую-то школу. Я не хочу забрасывать в советский тыл очередную партию смертников. — Когда вы планируете операцию? — Завтра я пошлю ее план высшему командованию. Сроки определит оно. — Значит, вы более или менее готовы? — Пожалуй, да. — Тогда я рад за вас… А что, кстати, нынешний летчик? — А!.. Он оказался замечательным рассказчиком. — Вот как?.. И вы послали его показания наверх? — Ну что вы! Первая заповедь разведчика, Понтер, не доверять пленным. В особенности тем, что сдаются так быстро. Все они сначала говорят в лучшем случае полуправду. Время хотят выиграть. Надеются на чудо, думают, что обманут нас, а там их освободят наступающие части… Нет, я пока что не послал показаний лейтенанта Телкина наверх. Раббе погладил сияющую лысину. — Вы всегда медлите, Ганс! И все этот ваш «психологический метод»! Может быть, он и дает результаты, но он требует драгоценного времени. А времени нет. Нет! Поступали бы не мудрствуя… Дайте вашего летчика мне, и его показания не придется проверять. Всю правду выложит! Майор Вольф усмехнулся. — Одна из ошибок людей вашего типа, Понтер, состоит в прямолинейности подхода к обстоятельствам и людям. Вы считаете, что самое страшное для человека — физические страдания. Это неверно. В особенности по отношению к русским. Они фанатики, а фанатиков физические страдания только ожесточают, укрепляют в заблуждениях… Я исхожу из другого. Я считаю, что страшно не столько наказание, в чем-то уже освобождающее волю человека, а угроза наказания. Человек, над которым нависла угроза наказания, теряет сопротивляемость. В особенности если эта угроза нависает не с нашей стороны, а со стороны его собственного лагеря… Мне остается лишь выступать в роли спасителя. — Ну, знаете! — побагровел Раббе. — Мне вы можете лекций не читать! Я поработал с русскими и знаю им цену!.. Да!.. Их надо пытать, а потом стрелять, как бешеных собак, и все! Майор Вольф внутренне усмехнулся. Он знал, чем вызвана вспышка Раббе. Воспоминаниями о сюрпризах русских партизан. — Если русский упорствует — конечно, его надо расстрелять, — миролюбиво сказал Вольф. — Но если он поддается — его надо использовать, Гюнтер, и использовать на все сто процентов. Сведения Телкина о русских аэродромах могут оказаться чрезвычайно ценными. Он может также кое-что знать о дислокации и передвижениях войск. И последнее — из него может выйти ценный сотрудник. — Желаю успеха! — мрачно сказал Раббе. — Но вы не были в России. В Брюсселе и Париже другие условия. Сами увидите… Лучше дайте вашего летчика мне. — Пока не дам, — весело сказал Вольф. — Самому нужен. Вот если увижу, что ничего не выходит, пожалуйста, берите! Он взглянул на часы и поднялся. — Гюнтер, вы побывали на станции? — Еще нет… А что? — Вас, помнится, интересовало, не выбросили ли русские диверсантов… Они их не выбросили, но диверсия на станции, возможно, была. — Что? — застыл на месте штурмбаннфюрер. — Диверсия? С чего вы взяли? — Мне показалось странным, что подбитый бомбардировщик мог вызвать такой пожар и такие разрушения… Кстати, по показаниям штурмана, пилот принял решение пикировать на железнодорожный узел только потому, что у них иссяк бензин. Значит, взрыв не мог быть сильным. Раббе усваивал неприятную новость, заплывшие глаза его мигали. — Почему вы не сказали мне об этом утром? Сразу же? — выдавил, наконец, штурмбаннфюрер. — Я еще не допрашивал пленного. И потом — по телефону, Гюнтер!.. — К черту! — сказал Раббе. — Вы испортили мне весь день! Проводив Вольфа, штурмбаннфюрер Раббе вернулся в столовую, налил рюмку коньяку, поднял ее, но тут же опустил на стол, выругался и подошел к телефону. — Машину! — потребовал он у дежурного офицера. — Немедленно!
4
Под вечер наползли тучи, затянули небо, ветер переменился, подул с севера, и заметно похолодало. Подняв воротник куртки, Бунцев неподвижно сидел возле спящей радистки, слушал, как шумит кукуруза, время от времени облизывал сухие губы. Мучительно хотелось пить. Бунцев сосал кукурузные листья, жевал обломки стеблей, но это не утоляло жажды, а лишь разжигало ее. Капитан в сердцах отшвырнул изжеванный стебель, покосился на Кротову, Просыпалась бы, что ли!.. Спит, как в родной избе на полатях. Может, пока партизанила, научилась и воду из воздуха добывать? С представлением о партизанской войне у капитана Бунцева, как у многих, связывалось представление о чем-то очень благородном, но безнадежно древнем, вроде испанских герильясов, конницы Дениса Давыдова или приамурских походов. Где уж сверкать навахам, трюхаться гусарам, где свистеть левинсоновским клинкам в век моторов и прочей техники! Недоверие укрепляли и очерки о партизанах, попадавшиеся Бунцеву. Он-то знал, что война — это неимоверный, сложный труд, кровь, грязь, боль, тысячи смертей, и ему казалось обидным, что писатели в погоне за эффектом описывают порой какие-то исключительные партизанские приключения, какие-то случайные, как он думал, эпизоды и не хотят или не умеют написать о настоящей войне.
Конечно, когда писатель пишет о тайнах подполья, о необычайных происшествиях, читателю любопытно, но ведь война не приключение! «Нет! — думал Бунцев. — Если ты настоящий писатель, ты напиши, сукин сын, как стрелковая рота десять раз на один поганый холм в атаку ходит! Напиши, как полк на бомбежку идет и половину самолетов иной раз теряет! Вот о чем напиши! Тогда от тебя польза будет! А так…» Бунцев покосился на Кротову. Спит. Что ж, надо, конечно, ей выспаться, но, пожалуй, подниматься пора. Потолковать требуется. Не пивши, не евши далеко не уйдешь. Речку поискать, что ли? Да и в лес, к Телкину, следует поспешить. Один парень остался. Мучается, наверное. Найти его — и тишком, тишком к линии фронта. К своим. Ночными тенями проскользнуть, хоть на брюхе проползти, но выйти к своим!.. Кротову будто толкнули. Села, подобрав ноги, поправила выбившиеся из-под шлема волосы, провела по лицу ладонью. — Который час, товарищ капитан? — Девятнадцать двадцать, — сказал Бунцев. — Спишь ты — позавидовать можно. Какой сон видела? — Мне сны давно не снятся, — сказала Кротова. — Может, после войны увижу. Только лучше не надо. Наверное, невеселый будет. — Это да, — согласился Бунцев. — Сны будут без участия Чарли Чаплина… Если, конечно, доживем. — Надо дожить, — сказала Кротова. — Вроде недолго и осталось… Пить, наверное, хотите, товарищ капитан? — Очень, — признался Бунцев. — Из лужи бы напился. — Если полевая лужа или лесная — можно, — сказала Кротова. — Только нам так и так, прежде чем к лесу подаваться, в деревню какую-нибудь зайти придется. Еды взять. Там и напьемся. — Слушай, — сказал Бунцев, — слушай, Кротова! Ты об этом так легко говоришь, словно тут родню заимела… Это у тебя природное легкомыслие или благоприобретенное, а? — Почему легкомыслие? — спросила Кротова. — Чего же здесь легкомысленного? — Ну, конечно, ничего. Абсолютно ничего. Удивительно серьезно — припереться в неизвестную деревню, так, мол, и так, мы советские летчики, привет вам с кисточкой, дайте, мамаша, напиться, да и подзакусить заодно… Или, может, ты полагаешь, там нас ждут не дождутся и пирогов напекли? — Нет, — сказала радистка, — я этого не думаю… — Слава тебе господи! — сказал Бунцев. — Наконец-то я здравые речи слышу! — Товарищ капитан… — Ну что? — спросил Бунцев. — Чем еще осчастливишь? — Да не осчастливлю… Вам вроде смешно и досадно, как я говорю… Но вы зря сердитесь… Меня же учили в тылу врага воевать. — Где такая академия существует? — спросил Бунцев. — Что-то я про нее не слышал. — Вы только не обижайтесь, товарищ капитан, хорошо? Но вы, возможно, многого не слышали… Вот, к примеру, про полковника Григорьева вы слышали что-нибудь? — Я и генералов-то всех не знаю, столько их за войну понаделали, — сказал Бунцев. — Не хватало, чтоб я всех полковников знал! — А вам не приходилось к партизанам летать? — Нет. Но какое отношение к нам твой полковник имеет? К чему ты его поминаешь? — А к тому, что училась у него, — сухо сказала Кротова, и в голосе ее Бунцев услышал обиду. — Полковник Григорьев Испанию прошел… Вы и про взрывы мин в Харькове не слышали, наверное. А этими минами Григорьев генерал-лейтенанта фон Брауна, коменданта Харькова, на тот свет отправил!.. Да что толковать, товарищ капитан! Вы любого партизана спросите — он вам скажет, кто такой полковник Григорьев и что он для нас, партизан, сделал! — Погоди-ка, — сказал Бунцев. — Я ж не хотел ни полковника твоего, ни тебя обидеть! Верю, мужик он правильный. Но здесь же не Харьков. Не Испания здесь!.. Ты, кстати, венгерский язык знаешь? — Нет, но… — Вот. А твой полковник испанский наверняка знал! — Не знал. У него переводчица была. — Неважно. Как-то он говорить с испанцами мог. А мы как говорить с венграми будем? — С венграми? — переспросила Кротова. — По-немецки, товарищ капитан, попробуем. — Привет! — сказал Бунцев. — Может, по-английски? — Зачем? — сказала Кротова. — Может, молодежь немецкий и не знает, а старики понимать должны. Ведь при австро-венгерской монархии жили. — А ведь точно, — сказал Бунцев. — Ведь и вправду была такая монархия. Ты говоришь по-немецки? — Как-нибудь объяснимся, — ответила Кротова. — Что ж, пойдем, товарищ капитан? Уже темно. — А не рано? Не лучше будет попозже? — Нет. Нам к деревне подойти надо, как огни гасить начнут. — Зачем? — А чтобы впереди вся ночь была. Чтобы уйти подальше смогли бы. — И этому тебя полковник учил? — И этому, — сказала Кротова.
Нина Малькова крепко обнимала подругу. — Не выдумывай! Рассержусь! — Тебе ж холодно! — дрожа всем телом и стуча зубами, проговорила Шура. — Ввв…озьми ппп…латок! — Не выдумывай! — повторила Нина. — Я о тебя греюсь. Ты же как печка. — Ннн… евезучая я… — дрожала Шура. — Нннадо же пппростыть… — Ничего. Согреешься. Полегчает. — Я и дддевчонкой всегда… пппростужалась… Мммать бранится, бббывало… Кккутала меня… А это ж… еще… хххуже… — Ты молчи, Шурок. Молчи. Прижмись ко мне и молчи… — Я и мммолчу… Тттолько обидно… — Ничего. Прижмись и молчи, родная. — Ммолчу… Шура умолкла. Нина гладила ее по широким, костлявым плечам, сильно надавливая ладонью, словно хотела втереть в дрожащее тело подруги капельку тепла и бодрости, передать ей хоть капельку своих сил. Ох, как не вовремя, как некстати заболела Шурка! Как она теперь пойдет? Отлежаться бы ей где-нибудь!.. Спасаясь от холода, девушки не сидели, а стояли, тесно сбившись в один кружок, стараясь греть друг друга. Нину с Шурой поместили в середину озябшей кучки. Остальные время от времени менялись местами: те, что стояли снаружи, становились на место согревшихся, а согревшиеся, в свою очередь, прикрывали их от ветра. Оставалось в кукурузе всего девять человек. Еще днем беглянки решили разбиться на группы по шесть — восемь человек и порознь пробираться кто куда надумал. Чешки и польки хотели идти в Словакию, где, по слухам, бушевало народное восстание. Две румынки, француженка и датчанка думали вернуться в Румынию. А семеро остались с Ниной и Шурой, чтобы пробиваться на восток: казалось, так они быстрей встретятся с советскими войсками. К вечеру, отчаявшись дождаться крестьянина-венгра, обещавшего принести хлеба, две группы ушли. А Нинина группа осталась и теперь мерзла на поднявшемся северном ветре, но ждала… — Может быть, зря стоим… — сказала одна из беглянок, нарушая долгое молчание. — Не зря! Придет! — быстро отозвалась Нина, оборачиваясь на голос. — Крепись, подруга! Придет! Женщины опять помолчали. Но безмолвно мерзнуть было выше всяких сил. — Может, лучше бы нам со всеми уйти… — произнесла другая женщина, безуспешно пытаясь закутаться в рваный халат. — Хоть согрелись бы при ходьбе… — Стог бы найти! — откликнулась ей соседка. — В стог зарыться… — Нин… — пробормотала Шура. — Что же они, Нин?.. — Тихо, Шурок, тихо… Нина попыталась разглядеть в темноте лица говоривших, но не смогла. — Девки! — сказала она тогда в темноту. — Вас никто же не держал! Сами судьбу выбирали. Что же вы ноетэ? Ну, опаздывает человек. Ну, мало ли что случиться может? Может, немцы у него в деревне!.. — А мог и струсить! — сказал кто-то, заходясь кашлем. Нина переждала, пока стихнет кашель. — Людям верить надо! — резко сказала она. — Если гг верить — и жить не стоит! Ложись и подыхай! Снова наступило молчание. Шура дрожала все сильней и сильней. Нина слышала, как трудно дышит подруга: не дышит, а словно заглатывает и никак не может заглотить воздух. — За меня не бойся, — угадав мысли Нины, горячечным шепотом сказала Шура. — Я крепкая, Нин… Выдержу… — Молчи, Шурок, молчи, милый! Все выдержат! — Я, знаешь, в ледоход однажды в речку провалилась… Думала, не добегу до хаты… А ничего… Даже воспаления их было тогда… — Молчи, Шурок, молчи! — Я молчу… Только ты не волнуйся… — Я не волнуюсь… Все хорошо будет!..

Однако Нина волновалась. Слишком долго не появлялся этот венгерский мужик, обещавший принести хлеба. Неужели действительно оробел? Нет, не может быть! По всему видно было — бедняк, а сердце у бедных людей на чужое горе отзывчиво. Вот разве не может из деревни выйти… Но тогда всем плохо придется. Тогда, пожалуй, пора самим куда-нибудь брести, хоть сарай какой-нибудь найти, хоть омет соломы, чтобы согреться. Долго здесь, на ветру, не простоишь. Да и Шурку погубишь. Пылает она. Пылает! «Еще немного подождем, — лихорадочно думала Нина, — а не придет мужик — уйдем… Но еще немного подождем!» Она хотела увидеть венгра уже не только из-за хлеба. Нет. Она хотела просить его спрятать Шуру. Пусть спрячет и поможет больной. Ведь скоро придут наши войска, прогонят немца. Долго прятать Шуру не придется. А если оставить ее без тепла и еды — не вынесет она. Сгорит. Нине послышался шорох. — Тихо! — шепотом приказала она. Все замерли. Но сколько ни прислушивались, человеческих шагов не услышали. Только кукуруза шумела и шумела. — Надо уходить! — с отчаянием сказала одна из женщин, и тесный кружок зашевелился и распался. — Уходить! — поддержала другая женщина. — Нельзя тут больше! — простонала третья. — Стойте! Стойте же! — вполголоса прикрикнула Нина. — Вы меня старшей выбрали! Слушаться обещали! — Если ты старшая — придумай что-нибудь! — дерзко ответили из темноты. — На гибель потащила — так придумай! — Мы уйдем! — сказала Нина. — Но уйдем, когда я скажу! Скоро уйдем! Только еще немного… — Хватит с нас! Подружку свою бережешь, а на остальных тебе плевать! Веди к жилью! Замерзли! Хлеба дай! Кружок сомкнулся, но теперь на Нину напирали, толкали ее, гневно дышали в лицо и шею. — Где хлеб? Где тепло? Где?.. Сманила на гибель! Уже чьи-то руки протянулись к платку, укрывавшему плечи Шуры, рванули его, чьи-то пальцы теребили Нинину куртку, смелели, норовя стянуть. Горечь затопила душу Нины. Она же спасала людей от немецкого рабства, от неминуемой смерти! — Прочь! — крикнула Нина, отпуская Шуру и резким движением тела отшвыривая обступивших женщин. — Прочь! Стреляю! Она задела кого-то стволом автомата, и задетая закричала. Беглянки отхлынули. — Эх, вы! — задыхаясь, сказала Нина. — Эх, вы! — Ниночка, не надо! — просила Шура. — Буду стрелять! — жестко сказала Нина. — Кто подойдет — буду стрелять! Сами не хотите? Я вас силой спасу! И вдруг осеклась. — Слушайте! — требовательно сказала она. — Слышите? Да, уже все услышали треск кукурузных стеблей и покашливание. И все притихли. — Где вы? — по-немецки спросил знакомый мужской голос. — Тут, тут! — отозвалась Нина. Давешний крестьянин не подвел! Женщины потянулись к нему, окружили. — Хлеб, да? Хлеб? Крестьянин помедлил. — Хлеба нет… — сказал он. Беглянки оцепенели. — Есть будем в деревне, — торопливо сказал крестьянин, чувствуя их отчаяние. — Жена сварила картошки и кукурузы. Горячее лучше. Она так сказала, жена… И в сарае теплей. Сколько вас тут? — Девять, — пересилив рыдание, сказала Нина. — Нас девять, товарищ!
Окна хуторских домиков гасли одно за другим. Дольше всех светилось большое, оранжевое в доме на правом краю. Но и оно погасло. — Пора, — сказала Кротова, поднимаясь с охапки хвороста. Непогожая осенняя ночь посвистывала ветром, пробирала холодком, окликала далеким, невнятным собачьим лаем. Пилот и радистка медленно приближались к хутору, с трудом угадывая прихотливые изгибы полевой дороги. У них не было денег, одежда выдавала в них советских летчиков, и все же Бунцев, поверив Кротовой, принял решение идти в хутор и добыть продовольствие. Близ околицы остановились. Бунцев, как договаривались, снял шлем, накинул на плечи широкий плащ Кротовой, оба достали пистолеты. Прислушались. Хутор, казалось, спал. — Входим, — шепнул Бунцев. Хуторская улочка пахла парным молоком, навозом, прелой соломой, теплом человеческого жилья. В нескольких шагах от пилотов, за надежными стенами домов люди лежали с мягких постелях, укрытые теплыми одеялами. Они были сыты, и они спали… Бунцев остановился поблизости от большой темной громады — дом окружали пристройки. — Давай сюда! — шепнул он. — Да. Хорошо. Кротова подошла к темному окну и сильно, резко застучала-забарабанила в стекла. Откликнулись им почти сразу. Хозяин дома недовольно и встревоженно спросил что-то на незнакомом языке. — Хиер зольдатен! — громко и требовательно сказал Бунцев. — Оффнен! Шнелль! — Глейх, глейх, — приглушенно донеслось из-за окна. — Ейн минутен! Прежде чем открыть дверь, хозяин дома приподнял занавеску, попытался рассмотреть стучавших. Он ничего не рассмотрел. Бунцев и Кротова предусмотрительно отступили к крыльцу. — Входите немедленно и сразу пригрозите, — быстро шепнула радистка. — Помню! Однако выполнить отлично придуманный план не удалось. Пилоты уже видели свет в щеляч входной двери, слышали шарканье, как вдруг хозяин дома засвистел, раздался быстрый стук собачьих когтей, к двери подскочил пес, шумно втянул в себя воздух и глухо, утробно заворчал. Кротова схватила Бунцева за руку: — Эта тварь все испортит! Стрелять нельзя — обнаружим себя… Надо уходить! Быстро удаляясь, они услышали голос хозяина дома, успокаивающего собаку и окликавшего солдат. Потом увидели светлый прямоугольник открывшейся двери, плотную фигуру человека с лампой, заметили, как из двери метнулось что-то темное, и сразу услышали злобный, густой лай. Судя по лаю, пес был здоровый. — Вер ист дас? — громко крикнул хозяин дома. Подбодренная окликом, собака залилась еще яростней. Но, видимо, она чувствовала опасность, потому что не бросалась на пилотов, а держалась поодаль. — Пристрелить бы проклятую! — сказал Бунцев. — Не надо. Отстанет. Пес провожал летчиков почти до околицы, не слушая окликов хозяина, но возле околицы действительно отстал. Между тем, взбудораженные его лаем, залились псы в других дворах. Кое-где в окнах появился свет. Кое-где захлопали двери. Летчикам пришлось бежать, и они остановились, задыхаясь, лишь через километр. — Ну? — сказал Бунцев, едва переводя дыхание. — Видала? Это тебе не ридна Украина! — Всяко случается, — ответила Кротова. — Думаете, на Украине сволочей не было? Тоже собак спускали! Кое-как оба отдышались. На светящихся часах Бунцева было восемь часов тридцать минут. — Еще два часа у нас есть, — сказала Кротова. — После одиннадцати лучше никуда не соваться. — Куда ж пойдем? Хлеба доставать надо! Пить! Радистка подумала. — Товарищ капитан! Нам все равно по пути к лесу железную дорогу переходить. Так давайте возьмем пару километров в сторону. Попытаем счастья у путевых обходчиков или стрелочников, да и след запутаем. — А если и там собаки? — Возле одиночной будки? Неопасно. Да и народ на дороге рабочий… Мы их не обидим. В крайнем случае я свои часы или цепочку золотую на хлеб сменяю. Бунцев шумно вздохнул: — Ничего не поделаешь. Эх, черт!.. Придется пошуровать на дороге… Примерно через час летчики выбрались к железнодорожному полотну. Железная дорога, как и предполагала радистка, никем не охранялась. Пилоты постояли, послушали, не заметили ничего подозрительного и пошли вдоль полотна на восток. Идти пришлось недолго. Уже через четверть часа они заметили переезд и тускло светящееся окошечко путевого обходчика. — Входить не будем, — сказала Кротова. — Дождемся поезда. Сторож его встретит и проводит, тогда и подойдем. Ожидая, пока появится поезд, Кротова вытащила кусок парашютного полотна, расстелила на земле, принялась натирать травой и грязью. — Плащ-палатку делаешь? — спросил Бунцев. — Ага. Нельзя же мне в летном… Бунцев помог радистке. Вскоре полотно потемнело. Теперь оно могло сойти за солдатскую накидку. — Сила! — сказал Бунцев. — И захочешь — не отстираешь. Вот только мокровато… — Не страшно. Куртка сырость не пропустит.
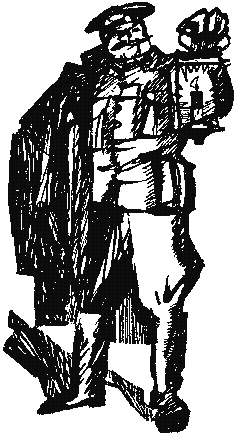
Загудели рельсы. Показались огни паровоза. На переезде зажглась красная электрическая лампочка, зазвенели короткие звонки. Минуту спустя из будки вышел человек с фонарем, встал у двери. Поезд прогромыхал мимо — длинный товарный состав с вагонами и платформами, укрытыми брезентом. Обходчик опустил фонарь, почесал под мышкой и повернулся. — Тихо! — по-немецки сказала Кротова, загораживая обходчику дорогу. — Тихо. Мы не сделаем вам ничего плохого. Обходчик растерянно топтался на месте, не понимая, откуда взялись эти двое вооруженных людей, кто они и что ему теперь делать. Закричать? Но у этих двоих пистолеты. Да и кто услышит крик? Жена? — Зольдатен? — неуверенно пробормотал обходчик. — Да. Солдаты. Словаки. Понимаешь? — Ах, словаки!.. Так, так… — Мы бежали из немецкой армии, — сказала Кротова. — Я медицинская сестра, а это мой жених. Мы идем на родину. Нам нужен хлеб. Железнодорожник понемногу успокаивался. Во-первых, с ним говорила женщина. Во-вторых, все объяснялось: это не бандиты какие-нибудь, а самые что ни на есть простые люди, да вдобавок бегущие от немцев. Одинокие люди. Голодные люди. — Да, да, теперь многие бегут, — сказал сторож. — Многие. Но и попадаются многие. Вот вчера одного неподалеку поймали. Бунцев и Кротова переглянулись. — Спроси, видел он пойманного? — потребовал Бунцев. — Как тот выглядел? Неужели Тольку?.. — Невысокий такой, чернявый, — описал обходчик Кротовой внешность задержанного. — Ваш товарищ? — Нет, — сказала Кротова. — Наши все высокие. Я одна маленькая. — Горцы все высокие, — согласился сторож. — Что он говорит? — волновался Бунцев. — Задержанный не похож на Телкина, — объяснила Кротова. — Я толкую, что наших тут много. Так, на всякий случай. — У вас там, в Словакии, восстание, — сказал обходчик. — Знаете? — Знаем, — ответила Кротова. — Оттого и бежим… Помогите нам. Дайте немного хлеба. — Заходите в дом. Но Бунцев и Кротова не рискнули показываться обходчику при свете. Все-таки человек неизвестный. Словаков он мог пожалеть, а как отнесется к русским летчикам, сказать трудно. — Мы подождем здесь, — сказала Кротова. — Вот, возьмите цепочку от часов. Золотая. Мы не хотим получать продукты даром. Обходчик пропустил цепочку между пальцами. — Дорогая вещь! — сказал он. — У меня не хватит добра, чтобы заплатить за нее. — Все равно! — сказала Кротова. — Нам идти еще неделю, а мы голодны. Дайте за цепочку, что можете. Обходчик потоптался, покачал головой и отправился в будку. На оконном стекле метнулись тени. До пилотов донесся взволнованный женский голос. — А что, если у него в будке телефон? — спросил Бунцев. — Вряд ли. В будках телефоны не ставят, товарищ капитан. — Эх, черт, а напиться-то забыли попросить! — Попросим, как выйдет…
Прикрыв за собой обитую войлоком дверь, обходчик остановился, неуверенно поглядывая на кровать, где лежала с грудной дочкой жена. Женщина не спала, растерянный вид мужа пробудил в ней тревогу. — Что случилось, Хусар? — поднимая растрепанную голову, шепотом спросила она. — Что-то случилось? — Да вот, Розалка… — сказал обходчик, протягивая ладонь со свесившейся цепочкой. — Видишь… Пришли там… Розалка уже сидела на краю постели, торопливо натягивая выцветшее ситцевое платье, нащупывая ногами сапоги. — Кто пришел? Что у тебя в руках? Обходчик, переступив через спящих на полу старших ребят, приблизился к жене: — Говорят, словаки они… Вот… Просят обменять на хлеб. — Словаки? — женщина уже стояла рядом с мужем, поправляла волосы. В пропотевших, прохудившихся подмышках светилось смуглое тело. — Словаки… Бегут от немцев… К себе… Женщина посмотрела на золотую цепочку, потом на мужа. — Побойся бога, Хусар! В ее глазах муж увидел гнев и ужас. — Что ты!.. Что?.. Почему мне бояться бога? — Зачем ты взял это? Розалка протянула пальцы, но не коснулась цепочки, отдернула руку, как от змеи. — Ну… Люди дают, вот и взял… Я отдам. Пусть уходят. Я отдам. — Нет! — приглушенно крикнула женщина. — Нет, Хусар! Она смотрела на мужа с непонятным тому выражением. — Чего же ты хочешь? — спросил Хусар. Женщина обвела взглядом своих детей, взглянула на темное оконце, потом опять на мужа: — Ты забыл о Гезе, Хусар? Обходчик растерянно мигнул, тронул седеющие усы, потупился. — О Гезе?.. Геза!.. А при чем тут Геза? Но он понимал, что виноват перед женой. Он и верно не вспомнил об ее брате Гезе, слесаре из Мишкольца. Тот в тридцать шестом уехал в Испанию сражаться против фашистов, да так и сгинул… Женщина тем временем торопливо шарила по комнатке, собирая снедь. Вытащила из кухонного стола буханку белого, отрезала кусок копченой ветчины, насыпала в тряпочку соли, вытащила из-под кровати ящик с яблоками, отобрала десяток покрупнее… — Я помогу, Розалка. — Не надо. Принеси-ка бутылку вина. Да быстрей! Волосы женщины опять рассыпались, она торопливо подбирала их. Боже мой! Боже мой! Кто бы там ни стоял за дверью — если эти люди бегут от немцев, если они враги немцев, значит, они друзья Гезы. Ее веселого, бесстрашного Гезы! Да, Геза никогда не мирился с подлостью, и будь он сейчас жив, он бы тоже дрался с немцами. Но они убили его. Убили там, в Испании. И может быть, Геза попался им, погиб только потому, что кто-то равнодушный не протянул в нужную минуту руку помощи, не дал куска хлеба… Боже мой! Муж принес бутылку вина. Розалка вышла из дому первой. — Кто здесь? — спросила она, ничего не видя на свету. — Где вы? — Мы… Простите, что потревожили… — ответил из темноты женский голос, и жена обходчика увидела выступившую вперед маленькую женщину в солдатской накидке. За маленькой женщиной, немного сутулясь, как Розалкин Хусар, выступил высокий плечистый мужчина. — Вот! Берите! — сказала Розалка. — Берите! И цепочку забирайте! Маленькая женщина протянула руки: — Спасибо… Но мы ничем не можем заплатить, кроме цепочки. — А мы не торгуем помощью!.. Кто это с вами? — Мой жених… Помоги же, Мирослав! — сказала маленькая женщина. Высокий мужчина нагнулся, чтобы взять от нее часть припасов. Лицо у него было совсем молодое, и он никак не походил на словака. Боже мой, никак не походил! Маленькая женщина и ее жених укладывали снедь в кусок какой-то белой материи. Уложили. Завязали узел. — Как лучше отсюда идти на Братиславу? — спросила маленькая женщина. — Боже мой, на Братиславу… — повторила Розалка. — Если на Братиславу — это вдоль железной дороги. Через два километра увидите шоссе. Оно поведет вас… — Спасибо, — сказала маленькая женщина. — Спасибо. Извините, нам надо уходить. Еще раз спасибо… Мой жених тоже благодарит вас… — Не за что! Не за что! — сказала жена обходчика. Она смотрела вслед исчезающим в темноте ночным гостям, взволнованно прижимая к подбородку сплетенные пальцы больших, разбитых работой рук. — Простудишься… — сказал муж. — Это не словаки, Хусар! — тихо сказала женщина, беря его за рукав. — Это не словаки! Слышишь? Обходчик встревожился: — Не словаки? Так кто же? — Боже мой, Хусар! Неужели ты не догадался? Обходчик оторопело уставился в ночь: — Ты… Ты думаешь? — Русские, Хусар! Русские! — дрожа от волнения, сказала Розалка. — Боже мой! Ведь это русские! Обходчик не мог поверить: — Зачем же они назвались словаками? — Господи! Да ведь это парашютисты! Пойми! Разве ты не обратил внимания на их обувь? — Да, да! — сказал обходчик. — Да! — Господи! — сказала женщина. — Теперь немцев выкинут. Теперь эту сволочь выкинут! Теперь недолго! Слава тебе господи! Довольно эта гитлеровская зараза тут хозяйничала! — Простудишься. Идем, — сказал обходчик. Розалка удержала его: — Постой!.. Детям — ни слова, Хусар! Мальчишки могут разболтать. И ты сам — никому!.. Понимаешь? Никому, Хусар! — Мне что? Жизнь надоела? — спросил обходчик. — Не читал я объявлений немецких… Иди, простудишься! — Господи! — сказала женщина. — Скоро эту сволочь выкинут! Скоро! Господи! Наконец-то!
— Да, это не куркули, — сказал Бунцев, шагая чуть приметной тропой. — Это прямо «пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Это нам повезло! — Мне так всю воину везло, — отозвалась Кротова. — Если б не люди… — Зря ты насчет Братиславы. По-моему, они и так никому ничего не скажут. Видела, и цепочку не взяли. — Ну, осторожность не мешает, — сказала радистка. — Помните, товарищ капитан, мы всегда должны на ложный след направлять. — Да здесь-то ни к чему было, — не согласился Бунцев. — Перегибаешь, товарищ сержант! Присев на шпалу, валявшуюся обочь тропинки, они поочередно жадно отпили из бутыли, отломили по куску хлеба, отрезали по ломтю ветчины. — Вино молодое, — сказала Кротова. — Много пить нельзя. В ноги ударит. — Такого мне ведро нужно, чтоб ударило, — усмехнулся Бунцев. — А ты что, и по вину специалистка? — До войны на юге была, знаю. А вы на юге бывали, товарищ капитан? — Не… Не бывал. У нас тайга лучше всякого юга. Вот окончится война, приезжай на Байкал. Такую красоту покажу — ахнешь! — Все на воине друг друга в гости зовут, — собирая провизию, сказала Кротова. — А когда ездить будет? Некогда. Сколько из развалин поднимать! — Да. Это верно, — сказал Бунцев. — Но ты все-таки приезжай, слышишь? Не пожалеешь! — Живы будем — приеду, — тихо сказала радистка, и капитан на секунду ощутил неловкость. — Отдохнули, товарищ капитан?.. Они долго искали дорогу, ведущую в нужном направлении, к лесу, так и не нашли ее, устали, но зато вскоре наткнулись на запущенное поле с твердым дерновым покровом, и обрадовались. Вдобавок заморосил мелкий дождичек. Он смывал следы, обещал, что погоня собьется с пути… Через два часа летчики заметили вдалеке темную массу долгожданного леса. — Вот Толька обрадуется! — шепнул Бунцев. — Небось в живых нас не числит! — Подождите! — шепнула Крогова. — Ты что? — Давайте присмотримся. Послушать надо. — Ты чего опасаешься? — Всяко бывает,товарищ капитан, — сказала радистка. — Слушайте! Неподвижно стоя посреди раскисшего поля, они долго вслушивались в ночную тишину, всматривались в безжизненный лес. Бунцев хмурился. Не нравилось ему недоверие Кротовой. Телкина не терпелось увидеть. Наконец радистка облегченно вздохнула. — Кажется, ничего… — Ничего и быть не могло, — отрубил Бунцев. И они пошли к лесу.
Глава третья
1
Штурмбаннфюрер Раббе в ночь перед операцией по решительной чистке Наддетьхаза спал отвратительно и мало. Причиной тому было увиденное и узнанное на железнодорожном узле. Осматривая после разговора с майором Вольфом станцию, Раббе старался не выдавать своих чувств сопровождавшим его офицерам и главарю наддетьхазских «Скрещенных стрел» Аурелу Хараи. А сдерживаться было нелегко: здание вокзала пострадало от пожара; с перрона еще не убрали обгоревшие доски, куски жести и землю, заброшенные сюда взрывами; путь, где стояли цистерны с бензином, и вагоны с боеприпасами, оказался развороченным, а соседние пути загромождали обгоревшие остовы вагонов. На железнодорожном узле создалась пробка. Спешно пригнанные солдаты строевых частей и рабочих команд копошились, как муравьи, растаскивая обгоревший хлам, засыпая ямы, пытаясь убрать искалеченные вагоны и платформы. Поезда пропускали всего по двум сохранившимся путям. Комендант станции охрип, объясняя командирам следующих на фронт частей, что сотворение чудес не его специальность… Штурмбаннфюрер потребовал указать место падения русского самолета. Раббе повели за водокачку. Там он увидел остатки врезавшегося в землю и обгоревшего советского бомбардировщика. — Где стоял ближайший эшелон с боеприпасами? — зарычал Раббе на коменданта. Выяснилось, что ближайший эшелон стоял за сто двадцать метров от водокачки. — Какова была сила взрыва при падении самолета? — Самое удивительное, господин штурмбаннфюрер, — просипел комендант, — что первый взрыв был относительно слабым… — Снаряды могли детонировать? — Сомнительно, господин штурмбаннфюрер… Это просто чудо, что они взорвались! Раббе смерил коменданта свирепым взглядом. Болван! Несет чушь с таким видом, словно его это не касается. — Арестовать! — приказал Раббе. У коменданта, пожилого офицера с несколькими нашивками за ранения и колодкой орденских ленточек, отвалилась нижняя челюсть. — Господин штурмбаннфюрер… Я… Офицеры Раббе привычными движениями сняли с коменданта ремень с пистолетом, проверили его карманы, завернули ему руки за спину. — Господин штурмбаннфюрер! — истерически хрипел комендант. — Я фронтовик… Я ранен под Ленинградом… Вы не смеете… — Молчать! — рявкнул Раббе. — Под вашим носом орудуют диверсанты, а вы тут удивляетесь, как старая баба! Уведите его. Злополучного коменданта повели к машинам. — Рабочие на узле — венгры? — спросил Раббе. — Очевидно, да, — решился заметить салашист Хараи. Раббе тяжело посмотрел на него. — Очевидно!.. Вы замечательные помощники, господа! Кажется, вам бы давно следовало проверить здесь каждую собаку! Вы проверяли, рабочих? — Видите ли, господин штурмбаннфюрер… — Пить надо меньше! — заорал Раббе, багровея от гнева. — Привыкли, что все за вас мы делаем! Хорти убирать — мы! На фронте воевать — мы! Что же, и рабочих нам проверять? Может быть, прикажете мне лично всю здешнюю сволочь опрашивать?! Высокий франтоватый Аурел Хараи нервно мигал. Гладко выбритые щеки салашиста алели, как от пощечин. Губы подергивались. Но он молчал. — Есть у вас тут свои люди? — немного тише спросил Раббе. — Так точно, должны быть, господин штурмбаннфюрер. — Так вызовите их! Пусть скажут, кто здесь якшается или якшался с коммунистами! Немедленно вызывайте! Хараи повернулся к сопровождающим его подручным, но Раббе опять прорвало: — Нечего командовать! Сами ступайте! Командовать здесь буду я! Живо! Хараи резко обернулся к гитлеровцу, но натолкнулся на бешеные глаза Раббе, сглотнул слюну, вытянулся и покорно сказал: — Слушаюсь! Хараи и его подручные рысцой побежали к зданию вокзала. Офицеры Раббе посмеивались. Штурмбаннфюрер обвел угрюмым взглядом и офицеров. Усмешки как смыло. — Вам, господа, тоже следовало бы работать поинициативней, — сказал Раббе. — Да. Вызвать сюда взвод военной полиции! Эти венгры год возиться будут! Возвратясь в кабинет коменданта станции, Раббе позвонил начальнику тыла армии и сообщил, что комендант арестован им за преступную халатность. Потом приступил к расспросам приведенного к нему десятника-салашиста. Тот испуганно мялся, но, когда сообразил, чего or него хотят, радостно закивал и назвал имена трех рабочих, которые, по мнению десятника, были явно неблагонадежными. Назвал он сцепщиков Мате Хегедюша и Лантоша Бачо, а также грузчика Тибора Ремете. — Коммунисты? — спросил Раббе. — Разве они скажут? — осклабился десятник, но тут же прикрыл рот ладонью и закивал: — Коммунисты! Я давно чую — коммунисты! Немцев… Ох! Германскую армию, значит, не уважают… Злобствуют! — Во время взрыва они были на станции? — Гм… Были, были! Конечно, были! — Так… Ступай! Раббе посмотрел на Хараи: — Возьмите полицейских и арестуйте названных рабочих. Сейчас же. На станции совершена диверсия. Это могло произойти только с ведома коммунистов. Ясно? Вы должны добиться у них признания! — Слушаюсь! — сказал Хараи. — Разрешите действовать, господин штурмбаннфюрер? — Действуйте! Хараи с подручными поспешил покинуть помещение. — Были жертвы во время происшествия? — осведомился Раббе. Помощник коменданта станции, немолодой фельдфебель, отрапортовал: — Так точно! Погибли пять солдат и сорок арестованных женщин из лагеря «Дора», господин штурмбаннфюрер. — Когда я спрашиваю о жертвах, меня интересуют только немецкие солдаты, — сказал Раббе. — Вы поняли? — Так точно, господин штурмбаннфюрер! Погибло пять солдат. — Откуда? — Трое из воинского эшелона. Смертельно ранены. Один из рабочей команды. Обгорел. Умер. Один из охраны арестованных. Сгорел. — Труп найден? — Так что… кости и медальон, господин штурмбаннфюрер. — Чудовищно! — воскликнул Раббе. — Вы видите, господа, на что способны красные варвары? И эти бандиты рассчитывают на нашу милость? Мы должны знать только одно снисхождение — немедленное уничтожение! Немедленное! Немедленное, господа!.. Покинув железнодорожный узел, Раббе до одиннадцати часов вечера инструктировал командиров частей, выделенных для облавы, и начальников районов города, уточнял с ними детали предстоящей операции, распределял автотранспорт, приказал очистить городскую тюрьму, расстреляв ранее задержанных из категории наиболее подозрительных, и вернулся к себе только в двенадцатом часу ночи. На ночь он не пил. Денщик принес горячее молоко и конфеты. Раббе проглотил таблетку пирамидона, позвонил в разведотдел. Майор Вольф еще не спал. — Что ваш летчик? — Размышляет о мироздании, — флегматично сообщил Вольф. — Я не расположен к шуткам, — сказал Раббе. — На станции совершена явная диверсия! — Я вас предупреждал! — Летчик продолжает утверждать, что десант не выбрасывался? — Да. И это очевидно. — А остальные члены экипажа? — Он полагает, что пилот и радистка погибли… А вы думаете, что, не успев приземлиться, они принялись взрывать пути? — Я сказал, что не расположен к шуткам! — крикнул Раббе. — Положение таково, что не до шуток! — Это местное подполье, Гюнтер, — успокоительно сказал Вольф. — Прочистите город, и все будет в порядке. — Обойдусь без ваших советов! — угрюмо сказал Раббе и бросил трубку, но тут же поднял ее, вызвал полицию. — Арестованы диверсанты? — Так точно, — сообщил дежурный унтер. — Задержаны двое. — Почему двое? Орудовали три человека! — Третьего не нашли, господин штурмбаннфюрер! Скрылся… — Ах, скрылся!.. Растяпы!.. Допросили арестованных? — Допрос вели эти, господин штурмбаннфюрер… Люди Хараи. — Ну! Где Хараи? — Не могу знать, господин штурмбаннфюрер. — Найти! Я пришлю обершарфюрера Гинцлера, он научит их допрашивать. Доложите, когда найдете Хараи. Скажите, что я приказал взять третьего диверсанта и завтра жду сообщения о признании виновных… Ясно? — Так точно, господин штурмбаннфюрер! — И объясните этому венгерскому кретину, что, если он не добьется признания коммунистической сволочи, я вынужден буду рассматривать его как пособника врага! Надо было поберечь себя, не нервничать, но как было не нервничать. Раббе знал: не найдешь виновных в разрушении железнодорожного узла — окажешься виноватым сам. Вильгельм Хеттль не из тех людей, что прощают бездействие и нерасторопность… Раббе внезапно дернулся на стуле, неуверенно встал на ноги. Лоб покрыла испарина. Господи! Какой же он идиот! Хеттль, наверное, уже узнал о случившемся. Шутка сказать! Эшелоны не могут проследовать на фронт, взорваны боеприпасы… Хеттль знает, а он, Раббе, не удосужился сам информировать Будапешт… Через полчаса штурмбаннфюрера соединили с канцелярией начальника службы безопасности Италии и Балкан Вильгельма Хеттля. Опасения Раббе подтвердились. В Будапешт кто-то уже накапал. «Вольф! — со злобой подумал Раббе. — Это Вольф!» — Преступники задержаны, — солгал Раббе. — Это два коммуниста из местного подполья. Приняты меры к задержанию остальных!.. Дежурный офицер холодно сказал, что доведет сообщение штурмбаннфюрера Раббе до сведения штурмбаннфюрера Хеттля, и разговор окончился. «Ничего! — успокоил себя Раббе. — Раз преступники задержаны, разноса не последует. А завтра мы почистим город…» Но спал он плохо и поднялся раздраженный и полный решимости навести в этом проклятом Наддетьхаза настоящий порядок. В десять часов утра он прибыл в комендатуру города. Здесь ему вручили донесение Хараи и Гинцлера о том, что при допросе сцепщиков Мате Хегедюша и Лантоша Бачо оба признались в принадлежности к Коммунистической партии Венгрии, в связи с русскими и в совершении диверсионного акта на железнодорожном узле Наддетьхаза, для чего ими были взорваны во время воздушной тревоги цистерны с бензином. — Где имена сообщников и главарей подполья? — спросил Раббе. — Я спрашиваю — где? Что вы мне суете эту дурацкую бумажку?! Я сам могу написать такую! Два коммуниста? Мне нужен десяток! — По меньшей мере десяток! Как я иначе смогу докладывать командованию?! Он отшвырнул рапорт, вызвал Гинцлера и приказал немедленно составить списки коммунистов. — Слушаюсь. Немедленно выполню, — сказал Гинцлер. — Подождите! — прервал Раббе. — Пока включайтесь в операцию. Список дадите потом. На основании данных о задержанных… Ясно? — Да, — сказал Гинцлер. — Желаю успеха! — сказал Раббе. …Ровно в одиннадцать часов утра кварталы города Наддетьхаза были оцеплены войсками и полицией службы безопасности. Улицы давно опустели. На углах главных магистралей выстроились черные тюремные фургоны. А еще через несколько минут из подъездов домов солдаты поволокли жителей: пытающихся протестовать мужчин, истошно кричащих женщин, плачущих детей… Командиры частей один за другим рапортовали в комендатуру города, что операция развивается успешно. Раббе выслушивал донесения, удовлетворенно кивал толстой лысой головой.2
Мате Хегедюш очнулся на цементном полу крохотной камеры. Тело от побоев стало деревянным, чужим, но едва он пошевелился — резкая боль током ударила в мозг, старого сцепщика снова окутал мрак… Мрак отступал медленно. Мате лежал неподвижно, боясь разбудить боль, и постепенно черная пелена перед глазами посерела, из нее выступили серая же лампочка под серым в серых трещинах потолком, серый угол стены, серые дранки на месте обвалившейся штукатурки. Лишь много времени спустя предметы начали обретать свой естественный цвет, и тогда Мате понял, что еще не все кончено, что ему еще предстоит жить и надо набраться сил для жизни. Он закрыл глаза и несколько минут продолжал лежать, не двигаясь, пока не пришла мысль о Лантоше. Где он? Старый сцепщик дышал часто-часто. Он знал, что надо повернуться и посмотреть, нет ли товарища рядом, но еще страшился боли. Наконец он медленно перекатил голову налево… Никого… Он перекатил голову направо… Лантош. Вот он, Лантош. Лежит ничком, выбросив странно изогнутую руку. С величайшим трудом Мате перевернулся на правый бок. Обливаясь потом от боли и слабости, встал на четвереньки. Руки и ноги мелко дрожали. Он никак не мог побороть дрожи, покачивался и стонал. Не выдержал, опустился на пол, полежал и пополз. Ползти надо было не больше метра, но Мате едва одолел это расстояние. Коснувшись пальцами пиджака Лантоша, он снова лег, отдышался, дал утихнуть боли. Он смог, наконец, приподняться. Лантош еще дышал. Мате смотрел на то, что недавно было лицом друга, и беззвучно плакал. Рыдания сотрясали тело, каждый толчок пронизывал болью, но сдержаться Мате не мог. Потому что по изуродованному лицу Лантоша из-под провалившихся век тоже текли слезы: иссякающие струйки крови… Мате помнил, как это было. Как двое черных схватили голову Лантоша, а их начальник, тот, высохший, как жердь, чистенький, похожий на адвоката или на доктора, вынул перочинный ножик, неторопливо приблизился к Лантошу и дважды ткнул маленьким лезвием… А эта сволочь Хараи и другие стояли и смотрели. Венгры! Стояли и смотрели! Мате кричал, не в силах вынести крика товарища. Кричал, чтоб палачи остановились, что так нельзя… Тот же начальник повернулся, шагнул к нему, размахнулся и со всей силы ударил Мате острым сапогом по голени. А когда Мате упал, Хараи прыгнул ему на спину, завопил, и Мате еще успел почувствовать, как врезаются в тело кованые каблуки… Как все, Мате знал о существовании гестапо. Как все, знал, что людей там пытают и уродуют. И все же случившееся после внезапного ареста казалось чудовищным. В сознании никак не умещалось, что один человек может так мучить другого. Мате понял, почему те, кто сюда попадает, на первых допросах всегда кричат: «Нет!!!» Он сам кричал: «Нет!!!» Беспомощная попытка отрицать бесчеловечность палачей, которые внешне походят на людей! Жалкая вера в благородство, якобы присущее каждому… — Лантош! Друг! Лантош! — прошептал разбитым ртом Мате. Тягучая кровавая слюна пузырилась на губах. Он сплюнул ее в ладонь вместе с кусочками раскрошенных зубов, отер руки о полу куртки. — Лантош! Товарищ не отвечал. Мате с трудом огляделся, увидел под зарешеченным окном стол с кувшином, подумал, что там, в кувшине, может находиться вода, и пополз к столу. Когда он вернулся, осторожно двигая кувшин перед собой по цементному полу, ему показалось, что товарищ шевельнулся. Мате обрадовался. Мгновенье спустя он понял: то была последняя, предсмертная судорога. — Лантош… — сказал Мате. — Лантош, товарищ… Он положил ладонь на неподвижную руку мертвого, пожал ее и затих. Ему подумалось, что закрывать выколотые глаза Лантошу не придется, и простота этой мысли ввергла в оцепенение.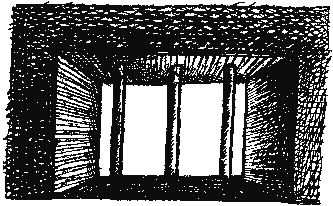
Потом Мате пришел в себя. Медленно приподнялся, сел, увидел кувшин, кое-как поднял его, стал пить. Вода проливалась на грудь и на колени, но ее прохлада была приятна, и Мате наклонил кувшин посильнее. Их с Лантошем кто-то выдал. Наверное, десятник. Сказал, что это они подожгли цистерны и боеприпасы. Сказал только потому, что догадывался о принадлежности Мате и Лантоша к партии мира… Нашелся иуда! Выслужился перед немцами…

Тоска сдавила грудь. Не оттого, что не перевелись предатели. А оттого, что обвинение было несправедливым… Сейчас Мате многое бы отдал, чтоб оно оказалось справедливым! Всю оставшуюся жизнь отдал бы, чтобы они с Лантошем на самом деле уничтожили эти цистерны и эшелоны! Потому что делал слишком мало, ничтожно мало, чтобы уничтожить мир насильников и убийц, мир, порождающий войны, мир, несущий страдания и смерть человеку! Мало! Мате вспоминал прожитое. Все пятьдесят два года жизни промелькнули перед ним, как один миг. Озера его детства под Мадарашем. Казармы его юности в Солноке. Та, первая бойня, окопы под Изонцо, откуда он вернулся, твердо зная, что мир надо перестроить. Радужные надежды и трагические могилы двадцатого года… Да, он пожил немало. Ему казалось даже, что в его жизни бывали радости: свадьба с Анной, рождение Андроша, пирушки с друзьями… Все это было самообманом. Страшным самообманом! Ибо кончилось вот этой тюремной камерой, умершим Лантошем и безысходностью: отсюда не выйдешь. Андрош воюет против русских товарищей где-то в Карпатах, Анна давно больна туберкулезом и не переживет его казни… Нет! Не так, не так надо было жить! Не так! Он слишком много думал о себе, часто боялся поступиться крохами призрачного благополучия и счастья, терпел… Одна только радость была настоящей за эти пятьдесят лет: радость восстания, радость революции. Но революцию подавили. А потом год от года становилось хуже и хуже. Нет! Партия не умирала. Но у нее не было прежней силы. И работала она часто не так, как нужно было бы… Мате сидел у стены, стараясь не менять положения тела. «Нечего кривить душой, — беспощадно думал он. — Найдутся мудрецы, которые найдут оправдания всему — и нашим просчетам, и нашим ошибкам, и даже себе самому. Но ты сам, ты сам — разве ты оправдаешься когда-нибудь перед своей совестью, перед людьми, перед тысячами убитых на фронте и сгноенных в тюрьмах?! Даже во время войны иные боялись жертв, — думал Мате. — Шла война. Каждый день убивали тысячи людей. А иные боялись… Но разве солдат имеет право бояться смерти? У него нет этого права! У него есть взамен другое величайшее право — право умереть в бою, а не сдохнуть от голода в лагере военнопленных или от пыток в тюрьме. А мы боялись! Три раза разбрасывали листовки и уже считали, что совершили величайший подвиг!.. Вот кто-то взорвал цистерны. Но кто? В ячейке партии никто такого задания никому не давал. Если бы дали, то, конечно, им с Лантошем. А они задания не получали. Значит, цистерны взорваны без участия их ячейки… Фронт уже рядом, а за них действовал кто-то другой. Если я останусь в живых, — подумал Мате, — если только я останусь в живых, то — клянусь кровью Лантоша!..» Мате прислушался. В коридоре кричали и топали. Дверь распахнулась. Солдаты швыряли в камеру людей. Одного, другого, третьего, четвертого… Люди падали на труп Лантоша, друг на друга.
— Есть такой испанский городок — Альбасете. Там и формировались интернациональные бригады. Григорьев оказался в Альбасете проездом на Южный фронт и сразу нашел добровольцев для войны в тылу у Франко. Эти люди чудеса творили потом! Между прочим, вы об югославском партизане Илье Громовнике ничего не слыхали? Нет? В Испании его звали Хуаном Пекенья — Иваном Маленьким, в отличие от его приятеля, тоже югослава, Хуана Гранде — Ивана Большого. Хуан Пекенья так наловчился, что в одиночку линию фронта переходил, неделями на железных дорогах мятежников орудовал. А одному очень тяжело ведь… Кротова спохватилась и виновато посмотрела на капитана. — Ладно, — хмуро сказал Бунцев. — Ну, чего замолчала? Рассказывай. Все равно мы Тольке помочь не можем… Ты про штаб итальянской авиационной дивизии хотела… Ну? — Это позже случилось, — сказала Кротова. — Уже под Кордовой. Во время фашистского наступления на Южном фронте… Они сидели под высокой, пушистой сосной, подстелив под себя собранные в лесу ветки. В просветах сосновых крон по-прежнему тускло серело, и по тому, как раскачивались верхушки деревьев, оба догадывались, что ночной ветер не утих. А в лесу было спокойно. Только сосны шумели да равномерно, с редкими перерывами постукивал неподалеку дятел. Словно и войны никакой не было. Покой раздражал Бунцева. Хотелось выйти из этого безмятежного леса, немедленно сделать что-то, попытаться найти штурмана, может быть, спасти его от гибели, но Бунцев понимал уже, что сейчас они могут только скрываться, и — если хотят жить, если хотят еще встретиться со своими — скрываться надо умело. Счастье, что рядом оказалась Кротова с ее партизанским навыком к заметанию следов. Без нее куда трудней пришлось бы. «Будь она парнем — лучшего друга не пожелаешь, — думал Бунцев, избегая долго глядеть на радистку. — И надо ж ей было девкой родиться…» А Кротова продолжала свою повесть: — Фалангисты намеревались выйти в тыл осажденному Мадриду. Они день и ночь силы подтягивали к линии фронта. А потом ударили. И начали, ясно, со зверских бомбежек… Григорьев осаждал командующего фронтом полковника Переса Саласа. Требовал, чтобы разрешили выйти на железнодорожные коммуникации противника. Но командующий запрещал ставить на железных дорогах противника мины. Он твердил, что так можно и пассажирский поезд под откос пустить. — Он что, скрытым фашистом оказался? — спросил Бунцев. — Да нет. До конца воевал за республику. Фалангисты его в тридцать девятом году расстреляли… Просто не понимал Перес Салас партизанской войны. — Ну, дальше, — сказал Бунцев. — А дальше так было. Взял Григорьев нескольких бойцов, пересек линию фронта, добрался до своей сыроварни, там люди отдохнули, а на следующий день вышли к железнодорожной дороге под Кордовой. Вернее, под вечер приблизились к железной дороге и стали ожидать наступления темноты в пустой пастушьей хижине. Вымотались они, Григорьев рассказывал, донельзя. Шли под проливным дождем, размокшими полями, с грузом взрывчатки, ну, вы сами представить можете, как это весело… По сведениям Григорьева, первый воинский эшелон около одиннадцати часов ночи должен был проходить, вот он и решил дать людям отдых. — Черт те что! — сказал Бунцев. — Как у себя дома разгуливали! — Разведку они вели непрерывно, товарищ капитан. И караулы выставляли. Вот и чувствовали себя уверенно. А вообще-то зачем же себя неуверенно чувствовать? Пусть противник боится. Так лучше. — Н-да… Лучше-то лучше, но и противник не дурак… — Не дурак, но в дураках его оставить можно. Только действовать надо неожиданно. В особенности у противника в тылу, где он никак тебя не ждет. — Ну, ну… Ты давай продолжай про Испанию, Оля. Бунцев неожиданно для самого себя назвал радистку по имени, и Кротова вспыхнула, залилась краской, стала шарить рукой по хвое. — Ты чего? — смущенно спросил Бунцев. — Не величать же мне тебя каждый раз по званию: «товарищ сержант»! И по фамилии чудно. Не люблю я девушек по фамилии называть… Я тебя блей звать буду. Лады? — Как хотите, товарищ капитан… — еле слышно ответила Кротова. — А у меня, между прочим, тоже имя есть. Александр. Сашка… Мы же не при исполнении служебных обязанностей находимся. Так что ты тоже… можешь меня по имени… — Нет, товарищ капитан, — так же тихо, но твердо сказала Кротова. — Нет. — Да брось ты! — сказал Бунцев. — Что же это получится — я тебя по имени, а ты меня по званию? Кротова молчала. — Ну, как хочешь, — сказал Бунцев. — Упрямая ты… Как хочешь. Радистка овладела собой: — Я доскажу?.. Бунцев кивнул: — Конечно… — Ну, так вот, — сказала Кротова, встряхнув белесой челкой, — вывел Григорьев людей к железнодорожному полотну. Там дорога по выступу скалы проходила и крутой поворот над обрывом делала. — Выбрали местечко! — Да… Но всего полчаса, всего полчаса до одиннадцати оставалось. Григорьев и его подрывники едва успели две мины заложить и отойти метров на триста, как услышали: гудит за скалой. Ну, они шагу прибавили, тем более — по раскисшему полю отходили, а после взрыва и крушения следовало подальше от дороги оказаться… Еще метров пятьсот прошли, слышно, поезд уже близко, Григорьев возьми и оглянись. А как оглянулся — так ноги к месту приросли: из-за поворота не товарняк, а ярко освещенный пассажирский экспресс вылетает! Григорьев рассказывал — он сразу все вспомнил: и прежние неудачи на Теруэльском фронте и запрет Переса Саласа. И подумал: все, точка. Теперь с фронта отзовут, нагоняй дадут, и уже не удастся доказать эффективности применения мин на дорогах. А ведь Григорьев всех убеждал, что мина надежней и снаряда и бомбы. — Ну, положим! — сказал Бунцев. — Мина и бомба… Тут даже сравнивать нечего! — Думаете, товарищ капитан? — быстро исподлобья глянула Кротова. — Не думаю, а факт. — А хотите, я вам обратное докажу? — Валяй, попробуй! Бунцеву надоело сидеть, он лег на бок, повозился и опять подзадорил: — Попробуй! — Ладно, — сказала Кротова. — Попробую. Вот скажите, чтобы эшелон разбомбить, вам сколько тонн взрывчатки надо? — Это как угадаешь попасть… И от высоты и от других обстоятельств зависит… Ну, тонны полторы… — А мина, самая большая, десяток килограммов весит. Есть разница? — Э! — сказал Бунцев. — Так не играют! Разве можно на одних эшелонах мерить? Авиация что хочешь разбомбит: и колонну танковую, и пехоту, и артиллерию вражескую, и доты… А мина что? — А в эшелонах разве игрушки перевозят? — возразила Кротова. — Те же танки, те же орудия, ту же пехоту… Только вы их бомбите, когда они уже на фронт добрались и наших уничтожают, а подрывник фашистскую сволочь на коммуникациях бьет. До фронта. Пока они еще ни одного снаряда и ни одной пули не выпустили. — Не спорю, — сказал Бунцев. — Подрывники свое дело делают, факт. Но авиация эффективней, война доказала. — Война доказала, что у нас недооценивали партизан, — возразила Кротова. — Были бы подготовленные диверсионные группы, были бы у них мины и взрывчатка — сели бы немцы в галошу. А то они по целеньким железным дорогам, на наших же целеньких паровозах, в наших же целеньких вагонах на Москву двигались! — Брось! — сказал Бунцев. — Правда, товарищ капитан. — Вот это номер! — сказал Бунцев. — Я этого не думал… Знал, что предательство имелось, что фрицы вероломно напали, но чтобы так… Чтобы по целым дорогам… Ну и ну! Ты точно знаешь? — Эх, товарищ капитан! — с сердцем сказала Кротова. — «Знаешь» — не то слово. Я все это своими глазами видела!.. Ну, зато мы потом, пользуясь беспечностью фрицев, наказали их здорово! — Нет, ты погоди, — сказал Бунцев и опять сел. — Погоди. Вот я четвертый год думаю, думаю и никак додумать не могу… Что же, наверху у нас так-таки ничего и не знали о готовящейся войне? Разведка ничего не докладывала? Ведь сколько лет подряд во всех газетах писали — фашистская Германия самый страшный враг! Про псов-рыцарей кинокартины крутили. «Если завтра война» пели. Утверждали, что самая могучая техника у нас, что мы по числу танков и самолетов фашистов превосходим. А как началось, оказалось, врасплох нас застали. — Товарища Сталина обманывали, — сказала Кротова. — Он верил, а его обманывали. — Погоди, — упрямо сказал Бунцев. — Кто обманывал? Вроде врагов народа не осталось. — Внезапное нападение, — сказала Кротова. — Тут дело во внезапном нападении. Это ясно. — Ни хрена не ясно! — с досадой сказал Бунцев. — Выходит, не наказали всех виновных. — Нет, — сказала Кротова. — Теперь товарищ Сталин все в свои руки взял. От того и побеждаем. А виноватых, я думаю, еще накажут. Еще многое после войны выяснится. — Это точно, — согласился Бунцев. — Может, после войны и откроется правда. Обнаружатся предатели. Иначе ничего не понять, если не обнаружатся. А по справедливости, за миллионы погибших кто-то ответить должен! Ты согласна? — Конечно, согласна, товарищ капитан! — Ух, — сказал Бунцев, — так хочется эту проклятую войну добить! И чтобы всю чистую правду узнать! Обо всем. Чтобы никогда сорок первый не повторился. Чтобы войн больше не было. — Больше и не будет, наверное, — сказала Кротова. — Все нашу силу увидели. Бояться будут. — Это так, — сказал Бунцев. — Но я вот что еще думаю: если всю правду не вызнаем, если хоть частица малая правды скрыта останется — плохой мир будет. Опять прежнее повториться может. — Товарищ Сталин все народу скажет, — возразила радистка. — Товарищ Сталин и народ — одно целое. Бунцев не ответил, глядя на сосны отсутствующим взглядом человека, занятого своими мыслями. Он подобрал хвоинку, сунул ее в рот и медленно грыз крепкими, крупными, очень белыми зубами. Хвоинка горчила, Бунцев сплюнул, но тут же подобрал другую хвоинку… — Товарищ капитан, вы, может, поесть хотите? — спросила Кротова. Бунцев очнулся: — А? Нет, есть я не хочу… Потом… — Давайте я нарежу хлеба. — Нет. Потом… Отвлеклись мы с тобой. Гадаем, как на кофейной гуще. Усмешка Бунцева была горькой. — Ты лучше досказывай давай про своего полковника. Как он с пассажирским поездом опростоволосился. Кротова отложила мешок со скудными запасами продовольствия, запахнула воротник куртки, поежилась. — Да он не опростоволосился, товарищ капитан. — Как так? — Да так. На следующий же день перебежчики с фашистской стороны появились. А среди них — алькальд одной деревушки, что поблизости от места крушения расположена. Вот этот самый алькальд, староста по-нашему, первый и рассказал, что фашисты взбешены, всех направо и налево хватают, потому что в этом пассажирском поезде, под откос пущенном, штаб итальянского воздушного соединения в Кордову перебирался, а при штабе — виднейшие итальянские авиационные специалисты. И все они к праотцам отправились. Все до единого. — Вот это сила! — пораженный неожиданной развязкой, воскликнул Бунцев. — Ну, как в романе! Так-таки ни один сукин сын не уцелел? — Ни один, — сказала Кротова. — Фашистские газеты три дня потом с траурной каймой выходили, некрологи погибших печатали. А франкистский генерал Кейпо де Льяно, пьяница известный, по севильской радиостанции слезу пускал и клялся партизан изловить и страшным пыткам подвергнуть… — Она опять улыбнулась. — До сих пор ловит. — Сила! — повторил Бунцев, искренне восхищенный рассказом. — Одним махом — целый штаб! Это да! Это не хуже авиации! — А может, даже лучше, а? Товарищ капитан? — невинным голосом спросила радистка. — Я не слышала, чтобы одной бомбой целый штаб уничтожали. Бунцев тихо засмеялся, потряс головой: — Подловила! Один — ноль в твою пользу. Но тут же оборвал смех и сказал со страстной тоской и горечью: — Эх, Оля, эх, товарищ сержант! Все равно бы я ни на что свой бомбардировщик не променял. Ни на какие мины! Надо же было нам гробануться, да еще когда — перед самым концом! Сиди вот теперь и истории про чужие подвиги слушай, вместо того чтобы воевать! — А зачем истории слушать? — возразила Кротова. — Мы и воевать можем, товарищ капитан. Просто рано нам было… — С чем воевать? — спросил Бунцев. — С этой пукалкой? — Он хлопнул ладонью по бедру, на котором висела кобура пистолета. — С ней много не навоюешь! Ты правильно говорила: шести пуль фрицам мало! Кротова внимательно рассматривала свои унты. — Товарищ капитан, — сказала она. — У меня план есть… Может, одобрите? — А ну, — сказал Бунцев, — выкладывай, какая идея тебя осенила. — Да идея не новая, — сказала Кротова. — И в общем-то выполнимая. Если захотеть. — Говори! Кротова оторвалась от унтов. — Идея, товарищ капитан, такая… Прежде всего оружием разжиться, ну, а потом… Ветер не стихал. Сосны все раскачивались, и раскидистые ветви их все метались в облачном небе, и только скрип стволов да свист ветра нарушали тишину леса.
3
…Нина лежала, слушая затихающий шорох кукурузных стеблей за спиной, злобный лай собак, перекличку немцев, тяжелое дыхание оставшейся рядом Шуры, и кровь гулко била в виски, а руки не слушались. В школе она сдавала зачет на значок «Ворошиловский стрелок», там ее научили целиться, но стрелять приходилось из малокалиберной винтовки, а не из автомата. Тем более немецкого. Нина видела, как стреляют немцы, понимала, как надо обращаться с оружием, и все-таки ей было страшно, что автомат не заработает… Все шло так хорошо! Крестьянин, назвавшийся Иоци, привел их на свой двор. Его жена принесла чугунок кукурузной каши и сало. Беглянок устроили в сарае на соломе, принесли им старые половики, а для Шуры — старый тулупчик. Мех был потерт, но грел. Выпив вина, Шура забылась. Уснула и Нина. И всю ночь они спали спокойно, а утром им опять дали каши и сала. Хозяева просили об одном: не выходить из сарая до ночи. Нина обещала, что никто не выйдет. Но в полдень уснула, а одной из женщин захотелось пить, она прокралась к колодцу, стала спускать бадью, и с этого началось. Не успела несчастная вытянуть бадью, как на улице затарахтел мотоцикл. Женщина опрометью бросилась в сарай. Но проезжавшие мимо немецкие солдаты заметили торопливо скрывшегося человека, заметили брошенную бадью, остановили мотоцикл, зашли во двор, подозрительно поглядели на сарай, о чем-то посоветовались, развернули свою машину и стремительно укатили… — Надо скрываться! — сказала Нина, как только ее растолкали и рассказали о беде. — Скрываться! Что вы наделали?! Людей подвели! Крестьянин уже стоял в дверях сарая. — Немцы оглядывались… — растерянно сказал он. — В поместье поехали. Там соберут своих… — Уходите и вы! — сказала Нина. — Уходите. Иоци покачал головой. — Из своего дома?.. Куда?.. Как-нибудь отговорюсь… А вы бегите. Спрячьте оружие. Утопите его. Бегите! — Нет, оружие я не отдам! — сказала Нина. Они ушли со двора Иоци среди бела дня. Выбрались на зады, опять побежали полем, опять скрылись в кукурузе. Но уже через полчаса услышали треск мотоциклетных моторов и собачий лай. — Разбегайтесь! — приказала Нина беглянкам. — Разбегайтесь! Я задержу немцев. — Тебя убьют! — твердила Шура. — Убьют! — Уходи! Я одна!
Она легла и приладила автомат. Оглянулась. Шура стояла рядом с ней на коленях, в глазах подруги дрожали слезы. — Уходи! — Нет. С тобой. — Тогда ляг! Ляг! Шура легла, прижалась к Нининому боку. — Если тебя ранят, я смогу… — сказала Шура. — Лежи. Кровь гулко била в виски. Было страшно. Страшно, что автомат не заработает. И когда Нина увидела в просвете стеблей рвущуюся вперед черную овчарку, а за овчаркой — немца, еще молодого, розового, но вдруг посеревшего и попытавшегося кинуться в сторону, — и когда автомат все-таки заработал, и овчарка, подпрыгнув, завизжала, а немец перегнулся пополам и ткнулся в землю, Нину охватила радостная ярость. Ей стало легко, легко. Встав на колени, забыв об осторожности, она поливала свинцом кукурузу, где прятались окружавшие враги, и кричала им, обзывая их ублюдками, и звала их идти, чтоб им сдохнуть, идти, если им их поганая жизнь надоела, идти, если хотят получить пулю… Автомат захлебнулся. Нина трясла его, нажимала на спусковой крючок, но магазин иссяк, автомат молчал. И тогда послышались шаги… — Ну, — крикнула Нина. — Идите, ну! Она вскочила, подняла автомат над головой, и стала ждать. Ее оглушили ударом сзади.
4
— Тебя надо расстрелять, Кандыба, — сказал майор Вольф. — А еще лучше — повесить. Потому что веревка дешевле. Вы согласны, что веревка дешевле? — Так точно, господин майор, — поспешно согласился мордастый, с разбойничьим чубчиком парень, стоявший навытяжку перед разведчиком. — Виноват, господин майор. Простите, господин майор… Выпимши был… Гнались за мной… Он хотел было переступить с ноги на ногу, но остерегся и только сопнул разбитым носом. Он не понимал, чего хочет от него этот незнакомый майор. Ну, верно, он, Кандыба, вчера украл золотой портсигар у Пилипенки, Пилипенко пронюхал, кто вор, и вчера же по пьянке они подрались. Кандыба вырвался из рук пилипенковых дружков, бежал, кого-то сшиб на улице, тут его самого настигли и свалили, а потом всех забрал немецкий патруль… Но почему же всех выпустили, а его держат и вдобавок привели к этому майору? Что он, Кандыба, хуже других, что ли?.. — Вы знаете, почему вас надо повесить? — Никак нет, господин майор. — Ах, ты не знаешь, сукин сын! — сказал Вольф, выходя из-за стола. — Ты не знаешь! — Господин майор!.. Господин майор!.. — Вчера в пьяном виде ты нанес оскорбление офицеру германской армии, мерзавец!.. — Господин майор!.. Господин майор!.. — твердил Кандыба. Глаза у него остановились, в животе заурчало. — Господин майор!! — взвыл Кандыба и бухнулся в ноги Вольфу. Разведчик торопливо отступил. Такой опереточной сцены он не предвидел. А Кандыба лежал перед ним, покаянно стуча чубатой головой о паркет, и заклинал: — Помилуйте! Помилуйте! Помилуйте!.. Ему было страшно. Если он оскорбил офицера — немцы повесят. Факт. — Помилуйте! — басом взревел Кандыба. Вольфа обуял приступ неудержимого смеха. «Думать о серьезном!» — приказал себе Вольф. Но думать о серьезном мешал неумолкающий тупой стук кандыбиной головы о пол и равномерные призывы: «Помилуйте!» Наконец Вольф справился со смехом, вынул платок, отер глаза и, брезгливо обойдя вопящего, остановился у стола. — Встать! Кандыба тут же замолк. Недоверчиво приподнял голову, жалобно скривился было, но понял, что стоны не одобрят, и поспешно поднялся. — Если выполнишь мое задание, тебя не повесят, — сказал Вольф. — Слушаюсь! — вытянулся Кандыба. — Готов все сделать, господин майор… Кандыба действительно готов был выполнить любой приказ разведчика. Лишь бы остаться в живых. Чтобы уцелеть и выжить, Кандыба всегда находил возможным делать, что прикажут. Петро Кандыба с детства учился жить умнесенько. Он внимательно прислушивался к речам Кандыбы-старшего, после стопочки поучавшего супругу и сына, что все люди сволочи и каждый, за красивыми словами прячась, только норовит изловчиться да побыстрей горло ближнего перегрызть. — Работа — она дураков любит, — угрюмо вещал Кандыба-старший. — Ты только подставь шею — на нее враз усядутся!.. Не-е-е! Лучше уж в таком разе я сам на чью-нибудь усядусь, чем хрип надрывать! Социализм, коммунизм! Один в кабинете пухлявочку щупает, а другой на холоду гайки крутит… Вот и весь ихний социализм! Великий порыв народа в будущее, рабочий энтузиазм — все вызывало у Кандыбы-старшего ядовитую ухмылку. — Стахановцы, вол их забодай!.. Знаю я энтих стахановцев! В дирекции и парткоме уговорятся, двух-трех на доски вывесят, в газетах пропечатают, карбованцев им подкинут, чтобы остальным, значит, приманку дать, ну, дураки и стараются… А получат шиш. Потому — если всем карбованцы подкидывать, ихое государство без порток по миру побежит… Не-е-ет… Мы уж без энтузиазма как-нибудь. Он и жил как-нибудь и сына учил жить как-нибудь. Сам ни на одной работе подолгу не держался, везде больше числился, пока не устроился сборщиком местовых на колхозном рынке, а сына, едва тот закончил с грехом пополам семилетку, определил в помощники кладовщика заводской столовой. И когда Петро поздним вечером принес домой тайком кусок свинины, Кандыба-старший долго этот кусок нюхал, вскидывал на красной волосатой лапе и довольно улыбался: из сына рос помощник!.. Петро довольно быстро усвоил нехитрую механику манипуляций с накладными на товары и операций с тарой. У него вскоре завелись денежки. Кандыба-старший справил сыну выходной костюм из бостона: пиджак на сатине-либерти, брюки-клеш, и в этом модном костюме, натянув на затылок кепочку-хулиганку — козыречек совсем малюсенький и наверху без пупочки, — Петро нарочно прохаживался перед своей бывшей школой. Кое-кто завидовал шикарному приятелю. Петро снисходительно поглядывал на ребят, разглядывавших модный костюм. Пусть учатся, дураки! Он и без ихней тригонометрии на кусок хлеба с маслом заработает. Вон учителя, все науки выдолбили, а в обтерханных брючонках трюхают. Мудрецы! Не-е-е! Папаня прав: работа и учеба дураков любят… Осенью тридцать девятого года Петро призвали в армию. Кандыба-старший хотел сыскать нужных врачей, придумать сыну подходящую болезнь, но врачей, готовых брать взятки, не нашли, из двух домов его с треском вытурили, и отец с сыном приуныли. Правда, ни по первой, ни по второй повестке Петро в военкомат не являлся. Но тут на завод нагрянула ревизия, в заводской столовой обнаружили хищения, и Петро кинулся в военкомат, не ожидая третьего вызова. Ревизоры пожалели уходящего в армию парня, дела против Петро возбуждать не стали, и пасмурным октябрьским деньком вместе с толпой ровесников Кандыба-младший отбыл из родного Киева, чтобы служить народу с оружием в руках. Иные из новобранцев хмурились, иные сосредоточенно прислушивались к собственным строгим думам, а Петро, малость подвыпивший, сыпал шутками, первым запевал песни и на каждой остановке эшелона, если находилась гармонь, откалывал такого трепака, что сопровождавшие эшелон молодые командиры не могли сдержать улыбок: «Вот это парень! Вот это будет солдат! Радуется-то как!» Если бы они знали, чему радуется Кандыба-младший!.. Армия круто взялась за Петро, и кто знает, может, сделали бы из него в пехотном полку настоящего человека, если бы и тут не нашлось неприметной лазейки. Петро живо сообразил, что здесь шутки шутить не любят и если хочешь по ночам спать, а в воскресенье получать увольнительные, а не дневалить вне очереди или сидеть на губе, надо соблюдать дисциплину и выполнять порученные дела на совесть. Физически он был здоровым парнем, от занятий уставал не очень сильно, и командиры пожаловаться на Петро не могли. Но Кандыба-младший оставался верен себе. Он сразу приметил, что комиссар батальона одержим идеей культурно-массовой работы. Комиссар спал и видел, чтобы его батальон любой ценой занимал первое место на дивизионных смотрах самодеятельности. И Кандыба-младший, вспомнив, что в эшелоне за ним установилась репутация весельчака и танцора, решил поддержать эту репутацию. Как бы ни уставал Петро, как бы паскудно ни было у него на душе, он находил в себе силы улыбаться и пускаться в пляс даже тогда, когда остальные от усталости валились на землю. Конечно, комиссар батальона узнал о Кандыбе. И с этого дня жизнь Петро резко изменилась. Роту посылали грузить дрова — Кандыба отправлялся в полковой клуб репетировать казачка. Батальон топал форсироватьводную преграду — Петро разучивал сольную партию в полковом хоре, исполнявшем новую маршевую песню. Рота тонула в колючем снегу, отрабатывая наступление за огневым валом, — Петро Кандыба мирнесенько грелся возле клубной печи. Июнь сорок первого года застал дивизию, где служил Кандыба-младший, в двадцати километрах от новой государственной границы на западе. Кандыба ночевал не в своем подразделении, а вместе с товарищами по дивизионному ансамблю, в помещении городского Дома культуры: на воскресенье назначался большой концерт для местного населения. Первые бомбы обрушились на городок в пятом часу утра. «Артистам» приказали немедленно отправляться в свои части. Но пока Кандыба добрался до расположения батальона, того на месте уже не оказалось. Вдобавок прошел слух, что прорвались немецкие танки. Кандыба выбежал на шоссе, прицепился к первому попавшемуся грузовику, принадлежавшему, как потом выяснилось, службе дивизионного тыла, и с этим грузовиком помчался на восток. Через сорок километров грузовик остановили, завернули, а всех посторонних построили, дали им в руки лопаты и приказали рыть окопы. Кандыба рыл, а сам оглядывался, прислушивался и оглядывался… Два часа спустя, во время налета немецких бомбардировщиков, он бросил лопату и махнул в лес… Три дня спустя его снова остановил какой-то грязный, охрипший, небритый лейтенант, сунул Кандыбе под нос пистолет, покрыл его трехэтажным матом и заставил встать в строй таких же грязных и злых, как лейтенант, солдат. — Учти, побежишь — пристрелю, — ровно сказал мрачный сосед Петро с забинтованной головой. И Кандыба-младший понял: застрелит. Еще через два дня лейтенант вывел бойцов в расположение какой-то части. Лейтенанта встретил молодой генерал, выслушал рапорт и, обняв грязного, ободранного командира, крепко расцеловал перед строем в худые, небритые щеки. Потом генерал обошел строй и пожал руки всем бойцам. Боец с забинтованной головой улыбался и плакал. Кандыба-младший тоже волновался: вдруг генерал прочтет его тайные мысли?.. Вместе с новой своей частью Кандыба зашагал на восток, прорываться из окружения. Так в те дни, не умея воевать в тылу противника, делали почти все, кто еще хотел драться.Вскоре часть приняла неравный бой. Большей группе солдат и офицеров удалось прорваться и выйти к своим. Кандыба остался за линией фронта: он не поднялся в решительную атаку… В первом же селе он выпросил гражданскую одежду и, выждав, пока гул сражений откатится, начал пробираться к Киеву. Он шел сожженными полями, разграбленными селами, по шляхам, обочь которых валялись сотни неубранных, разлагающихся трупов, искореженные автомашины и разбитые орудия. Сгоревшие танки задирали к небу поврежденные орудия. А Кандыбу тошнило от зловония и животного ужаса. Ведь это он мог бы валяться тут, на обочине, и это его лицо кишело бы зелеными мухами… И он считал, что опять поступил умнесенько, бросив винтовку: большевикам и Советам конец, против германской армии им не выстоять, только дураки станут помирать за ихний коммунизм. Темной октябрьской ночью, в дождь и ветер, постучался Петро в дверь отчего дома. Открыли не сразу. И прежде чем обрадоваться сыну, испуганно спросили: — Откуда? Зачем? Ответ Петро успокоил родителей. Кандыба-старший тоже полагал, что немец — сила и попусту рисковать башкой не след. Конечно, неизвестно, как там дела повернутся, всю Россию германцу не покорить, но пока суд да справа, и при немце жить можно. Вон уже торговлю и частное предпринцмательство разрешили. Ну и расчудесно! А потом, может, и немца прогонят, и большевиков не пустят, и настанет не жизнь, а самый заправский рай! На ночном семейном совете решили: соседям говорить, что Петро был контужен, отстал от своих, вот и пришел к родной хате. А самому Петро на улицу пока не соваться, отсидеться. Время покажет, как поступить… Кандыба-младший неделю высиживал в задних комнатках отцовского дома, жадно выслушивая новости, приносимые отцом и матерью с базара, где они открыли ларек по скупке ношеного платья. Новости успокаивали: немец прет, уже к Москве подошел, Гитлер объявил, что 7 ноября примет парад своих войск на Красной площади, Советам конец. Не оправиться им. Шутка сказать, половину России германец за пять месяцев отхватил! Когда такое бывало? Даже при покойном дураке Николашке, в прошлую мировую, и то врага так далеко не пускали. Белоруссия потеряна, Украина потеряна, Крым потерян, заводы самые большие либо разбиты, либо где-то на колесах «эвакуируются», хлеба не будет — с чем воевать? Кулаками, на голодное брюхо? — Я так полагаю, батя, надоть мне из подполья вылезать! — заявил Петро отцу. — Чего сидеть? Самое время на дорогу выходить! Отец не возражал, и Петро начал помогать ему: наладился ездить в ближние села, скупать зерно и муку, выменивать их на керосин и на вещички. Пропуск Кандыба-старший в комендатуре выхлопотал. Однажды, вернувшись из поездки с двумя мешками крупчатки, Петро никого дома не застал. Ему понадобились дрова. Взяв топор, он отправился в сараюшку. И там, в сараюшке, увидел девушку-еврейку — испуганное, затравленное существо, сжавшееся в комок при виде парня. — Ты кто? — испуганно спросил Кандыба. — Ты чего? Зачем? — Тише! — взмолилась девушка. — Ваш отец… Он разрешил… Меня убьют… Тише!.. — Батя разрешил? — не поверил Петро. Но оказалось, старый Кандыба действительно разрешил еврейке отсиживаться в их сарае, даже пищу ей носил. — Мало ли что, парень! — сказал Кандыба-старший. — Неизвестно, как судьба повернется. Может, еще и красные вернутся… А я против жидов ничего такого не имею. Народ и народ. Пусть живет. Ты только молчи. Петро не осмелился возражать отцу. Раза два он и сам снес девушке миску с едой. Девушка была чернокоса и черноглаза. Она благодарно улыбалась Кандыбе и хорошела от дружелюбной улыбки. «Все равно ей погибать…» — пакостно думал Петро. Выбрав день, когда все ушли из дому, он прокрался в сараюшку и запер за собой дверь. — Только скажи отцу — увидишь, что будет! — пообещал он рыдающей девушке, прежде чем выйти из сарая. Но она сказала. Кандыба-старший вошел в дом тяжело, сбросил полушубок, надвинулся на Петро и ударом в ухо сшиб парня с табуретки. — Паскуда! — взревел он. — Ты что сделал, паскуда?! Избитый Петро схватил шапку и вылетел из дому, в чем был. — Я тебе это попомню, батя! — глотая кровяные сопли, прокричал он. Тяжелое полено свистнуло над его головой, с грохотом ударилось о калитку. Петро присел, вильнул, рванулся на улицу. Приближался комендантский час, холодно, а пойти было некуда, кроме как на приватную квартиру Ляльки-брюнетки, вместе со своей подругой, Лялькой же, только блондинкой, принимавшей гостей в любое время дня и ночи. Туда Петро и притащился, и здесь, наглотавшись спирта, в пьяной обиде на отца поклялся, что не переступит порог его дома. Лялька-брюнетка решение одобрила. — Ты дурак, — заявила она. — Сколько ты ему денег отдал, отцу? Лучше бы мне принес… Ты хоть догадался часть спрятать? Петро не догадался. — Ничего, — успокоила Лялька. — Я тебя пристрою. Немцам люди нужны. Они тебе рады будут… На следующий день в квартире Ляльки появился красноносый, угрястый полицай Сеньков. Трезвый он потирал руки, называя Ляльку на «вы», без причины ласково скалил желтые зубы, а выпив, насупил брови, улыбаться перестал, заговорил начальственным басом и иначе, как «стервой», Ляльку уже не величал. — Я батальоном командовал! — гремел Сеньков. — Наливай, стерва!.. Ты кого мне подсовываешь? Может, он партизан? Может, он скрытый подпольщик? Чем он мне лояльность докажет? — Это он-то подпольщик? — пьяно ухмыляясь, смеялась Лялька. — Дурак! Ни капли тебе не налью больше! Допился! Скоро полком командовать начнешь! — Молчать! — рявкнул Сеньков. — У меня награды… Мой батальон отдельный был. Это и есть полк. Наливай! — А я докажу… лояльность, — запнувшись на незнакомом слове, выговорил Петро и поднял красные от водки, дурные глаза. — Хоть сейчас! Докажу! — Н-ну? — откинулся на спинку стула Сеньков. — Я знаю, где жиды скрываются! — выпалил Петро. — И показать могу! Сеньков таращился на него, осмысливая полученное известие. — Врешь! — сказал Сеньков. — Не вру! Вызнал! И покажу! Пьяный Петро со сладострастием думал о том, как съежится батя, как заверещит проклятая еврейка, нажаловавшаяся отцу. Пусть знают, как поперек дороги Кандыбе вставать! Пусть! Утром Сеньков растолкал Петро: — Вставай, пошли! — Куда? — В комендатуру. Доложишь, где жиды прячутся. Петро вспомнил, что наплел ночью, и облился липким потом. — Да что… Да какие жиды?.. — Отказываешься? — тихо спросил Сеньков. — Не хочешь?.. А ну, вставай! Петро с минуту лежал не двигаясь. Потом вскочил. — Ты, ты вон про что! Я с похмелья и не соображу! Извиняй! Трясущимися руками он хватался за одежду, не разбирая, где рубаха, где брюки. Он пошел с Сеньковым в комендатуру. А потом, вместе с другими полицаями, к своему дому. В родной двор. К отцовой сараюшке… Увидев Петро, девушка-еврейка истошно закричала. Но тут же оборвала крик. Выпрямилась. И он увидел ее глаза… С того дня Петро Кандыба смотреть в глаза людям не мог. Среди полицаев он прославился тем, что убивал схваченных, стреляя в упор им в лицо. Та же слава осталась за ним в отряде власовцев, куда он попал, бежав из Киева за отступающими немцами. Немцы оставались теперь единственной надеждой Кандыбы-младшего. И он служил им верой и правдой, делая все, что требовали: расстреливал, впихивал людей в душегубки, таскал трупы отравленных и опять расстреливал, травил, сжигал… В темной, вечно дрожащей, как прокисший студень, душонке Кандыбы непрестанно жило предчувствие страшной расплаты. И в звериной ненависти к людям, боясь их, Кандыба хотел бы уничтожить всех! Всех! Всех!.. «Этот — дерьмо, — брезгливо раздумывал майор Вольф, созерцая исполненную тупого рвения морду Кандыбы. — Но ничего другого под руками нет. Увы! Придется использовать это дерьмо. Его так отлично избили! Сойдет! С проверкой летчика медлить нельзя!» — Сядь, Кандыба! — сказал Вольф. — И слушай меня внимательно. От того, как выполнишь задание, зависит твоя жизнь. Кандыба вытянул шею. — Сейчас тебя посадят в камеру, Кандыба. А потом в эту же камеру приведут советского летчика. Ты выяснишь, Кандыба, правильные ли он дал показания…
5

Бунцев шарил по бедру, отыскивая кнопку кобуры. Кудлатая пегая собачонка, вздыбив шерсть и припадая на передние лапы, яростно тявкала на кусты, где залегли летчики. Испуганные тревожным, злобным лаем овцы, подбирая зады, сбились в кучу, толклись на месте, косясь в сторону леса, готовые ринуться прочь. Мальчонка-подпасок забегал по полю, подняв палку, отрезая пугливым животным путь к бегству. Пастух, высокий, сутулый старик в потрепанной бараньей куртке и опущенной на уши солдатской пилотке, прикрикнув на собачонку и видя, что та не унимается, медленно шел к кустам. — Придется задерживать! — быстро шепнула Кротова. — Давайте вы, товарищ капитан… А я отползу, постараюсь мальчонку перехватить. Испугается — убежит… — Ползи! — сказал Бунцев. — Давай ползи! Зашуршали листья, треснули сучья. Собачонка залилась пуще прежнего. Пастух в нерешительности остановился позади собаки. — Э-гей! — крикнул он и потряс палкой. — Э-гей! Бунцев лежал не отзываясь. Он уже отлично видел лицо старика: узкое, темное, горбоносое, с запавшей верхней губой и заросшими седой щетиной бугристыми щеками. Старик исподлобья смотрел прямо на тот куст, за которым лежал капитан, но ничего не видел. Он что-то сказал собаке, не то упрекая своего четвероногого друга, не то браня его. Пес, ободренный приближением хозяина, подскочил почти вплотную к кусту. Злость душила собаку, она не лаяла, а просто хрипела. Пастух, бормоча сердито, зашагал на куст. «Ах, ты черт! — опять подумал Бунцев. — Сидели бы в лесу, ничего не произошло бы…» Вина лежала на нем. Это он настоял облазить весь лес: еще надеялся найти Телкина. Может, тот приполз раненый и лежит где-нибудь рядом, не в силах двигаться и погибает… Телкина не нашли, а на пастуха напоролись. Теперь неизвестно, что будет… Бунцев пошевелился, готовясь встать, и пес с визгом отлетел в сторону, зашелся в истошном вопле. Пастух опять остановился. Бунцев поднялся в рост, вскинул руку и дружелюбно помахал. Он глядел на пастуха, но видел не только испуганное, недоумевающее лицо старика, но и прыгающую слева, совсем рядом собачонку с белоснежным оскалом зубов в черных губах, и мелко топочущих овец, шарахнувшихся было в поле и отпрянувших от палки подпаска-мальчонки, и самого мальчонку — паренька лет десяти, с поднятой палкой на фоне серого поля, и появившуюся справа от мальчонки, заходящую ему в спину Кротову. «Быстро успела!» — подумал Бунцев. Он махал рукой, улыбался, выказывая пастуху свое миролюбие. — Гутен таг! — крикнул Бунцев как можно приветливей. — Гутен таг! Пастух неуверенно поднес к пилотке коричневую руку, его мутноватые, старческие глаза смотрели недоверчиво. — Йо напот[16], — ответил он, опуская руку и перехватывая палку. Бунцев вышел из куста. Собака, заметив, что хозяин заговорил с незнакомцем, перестала лаять, однако еще ворчала, еще щетинилась, держалась поодаль и издали обнюхивала чужого человека. Старик уставился на бунцевские унты. — Шпрехен зи дейч? — спросил Бунцев, используя жалкие запасы своего немецкого словаря, чтобы только не молчать. — Шпрехен зи дейч, геноссе? Кротова уже приближалась к мальчишке, занятому разглядыванием капитана и ничего не подозревавшему. Старик отрицательно покачал головой, вскинул глаза на лицо Бунцева и снова воззрился на унты. «Ах, черт! — подумал капитан. — Заметил… Вот обутка проклятая!..» — Камарад! — сказал он. — Салуд, камарад! Теперь он стоял в двух шагах от старика, и собачонка крутилась возле самых бунцевских ног. Пастух палкой отпихнул собаку, недовольно прикрикнул на нее, избегая глядеть на пилота. Бунцев улыбался и улыбался, а сам следил за каждым движением старика и за Кротовой. Та уже подошла к мальчишке, положила ему руку на плечо, и паренек отшатнулся, но Кротова держала крепко. Она нагнулась, видимо уговаривая мальчишку не пугаться. Старик заметил взгляд пилота, устремленный куда-то вдаль, обернулся, увидел радистку, сунулся было к подпаску, но оглянулся на Бунцева и выпустил палку… — Тихо! — сказал Бунцев, поднимая пистолет. — А ну, тихо! Садись! Пастух растерянно и враждебно мигал тусклыми глазами. — Садись! — приказал Бунцев и показал рукой на землю. — Садись. Пастух, наконец, понял. Еще раз оглянувшись на подпаска и на овец, он нехотя опустился на землю. — Ничего, ничего, — успокаивающе сказал Бунцев. — Только сиди спокойно. Ничего плохого мы тебе не сделаем. Понимаешь? Кротова вела паренька к опушке. Пастух, сердито шамкая, произнес длинную непонятную фразу. — Порядок, порядок! — сказал Бунцев. — Ты, отец, только не шуми, и будет полный порядок! — Апукам! — крикнул мальчишка. — Миткел некик?[17] Он уперся и не хотел подходить близко. — Пусть сядет! — властно сказал Бунцев старику, хлопая ладонью по земле и кивая на мальчонку. — Пусть сядет! Старик, не оборачиваясь, негромко позвал мальчика. Тот подошел. — Эй, орел! — подмигнул Бунцев испуганному мальчишке. — Ты же мужчина! Чего же ты? Мальчик, покосившись на угрюмого старика, сжал губы и недобро сверкнул на чужого острыми черными глазенками. — Миткел нектек? — заносчиво выкрикнул он. — Эленьген, вадь ше-гитшейгюль эгест а вилагот течхивем![18] — Ты чего-нибудь понимаешь? — беспомощно спросил капитан у радистки. Кротова, не выпуская плеча мальчика, потрясла головой: — Они не говорят по-немецки. Только по-венгерски. Она нагнулась: — Сядь, милый. Сядь. Мы друзья. Ну? Мальчишка смотрел на пастуха. — Юль, Лайош. Некик федверь ван. Юль чак, — сказал старик, не поднимая головы. — Нем самит, юль…[19] Мальчишка дернулся, высвобождая плечо, подошел к старику и опустился рядом с ним, непримиримо разглядывая Бунцева и Кротову. — Надо им как-то втолковать, чтобы не боялись, — сказал Бунцев. — Давай говори чего-нибудь. Хоть по-немецки. Немецкий-то они слышали от фрицев небось. — Не понимают! — возразила Кротова, присаживаясь возле капитана. — Не знаю, как быть… Она сняла шлем, тряхнула короткими белесыми волосами, посмотрела на мальчишку, который косился зверенышем, и заговорила со стариком: — Мы не немцы. Мы словаки. Понимаешь? Старик оттянул пилотку, наставил ухо, вздохнул. — Тудатлан эмбер вадик. Мить акарьяток тэйлем эш фиуктол?[20] — сказал он. — Скажи, что мы с добром к нему, — подсказал Бунцев. — Втолкуй как-нибудь! Кротова прищелкнула языком, хлопнула по колену шлемом. — Мы не воюем, — сказала она. — Понимаешь? Война — нет. Пуф-пуф — нет, плохо. Мы — домой. Она показывала жестами и мимикой, что они с Бунцевым не хотят стрелять, что стрелять — это плохо, что им надо идти далеко-далеко, к себе. Пастуха успокоили мирные интонации странной женщины. Он внимательно следил за руками радистки, за ее лицом, но когда Кротова умолкла, напряженно ожидая ответа, пастух покачал головой. — Нет акарс тюзел, де ез айти хордод?[21] — И показал черным, потрескавшимся пальцем на кобуру Кротовой и на пистолет, который держал капитан. Бунцев убрал пистолет, показал старику пустые руки. Пастух внимательно смотрел на ладони капитана — широкие, мозолистые, и, когда Бунцев опустил было их, требовательно протянул свою черную ладонь. — Адь некюнк, керюнк нейз![22] Бунцев с готовностью положил руку на ладонь старика. Тот оценил эту готовность, кивнул, перевел взгляд с бунцев-ских мозолей на широкое, небритое лицо капитана и, похоже, стал что-то понимать. — Параст вадь?[23] — спросил старик. — Э? Он взял воображаемые вожжи, причмокнул губами, взмахнул воображаемым кнутом, потом указал на землю. — Параст вадь, э? Крестьянин, э? Капитан понял, о чем спрашивает старик. — Точно, отец! — обрадованно закивал и он. — Точно! — И изобразил, что налегает на плуг. Он считал себя вправе немного прилгнуть. Разве бесчисленные предки капитана не были простыми крестьянами и разве не имел он прав на это великое родство? Старик, похоже, повеселел. — Де э?[24] — показал он на радистку. — Невеста, — сказал Бунцев. — Медсестра и моя невеста. Со мной идет. Придем домой — и поженимся. Улыбаясь, он обнял Кротову за плечи и притянул к себе. Пастух глядел недоверчиво. Поскреб нос. Отрицательно покачал головой. — Ми дейльбол хозудод? Э нет пар некед[25]. Кротова густо покраснела, уловив смысл произнесенных стариком слов, и попыталась отстраниться от Бунцева. Старик улыбался насмешливо. Но Бунцев не отпускал радистку. — Невеста, — твердо сказал он. — И все, отец. А насмешек я не люблю. Сурово сведенные брови пилота заставили старика смешаться. Он опустил складчатые, коричневые, как у ящерицы, веки, легонько вздохнул, неприметно пожал плечами: ваше, мол, дело, только жаль мне тебя, парень… Кротова высвободилась, наконец, и, алая от смущения, натягивала шлем. — Брось, слышь? — сказал ей Бунцев. — Плюнь на этого старого хрена… Не верит, и ладно… Нам-то что? Мальчишка, сидевший до сих пор безмолвно, отрывисто засмеялся, что-то сказал. Старик цыкнул на огольца, тот присмирел. — Спросите, товарищ капитан, откуда они, — проговорила Кротова, не глядя на Бунцева. — Большая ли деревня? Есть ли немцы? — Сейчас, — ответил Бунцев. — Погоди. Может, я табачком разживусь? Табачок у пастуха нашелся, нашлась и затертая газетка. Они с Бунцевым скрутили по цигарке, закурили. — Ух, хорошо! — сказал Бунцев, глубоко затягиваясь и выпуская струю дыма. — Ух! Свой, что ли? Сам, говорю, сажал, отец? Как это ни странно, венгр понял вопрос и покивал со скромной гордостью мастера, польщенного вниманием знатока. — Хорошо! — еще раз похвалил Бунцев. — Ох… И поперхнулся: мальчишка внезапно вскочил, бросился прочь от сидящих. Кротова закусила губу, ее узкие глаза сузились еще больше. Она побледнела. Крылья побелевшего острого носика раздулись. Старик испуганно вскинул голову. — Лайош! — закричал он надтреснутым голосом. — Баранек! — не оборачиваясь, прокричал мальчишка. — Марш иннен, рондак, марш![26] Собачонка, прикорнувшая возле пастуха, уже мчалась следом за парнишкой. Она обогнала мальчика и первая набросилась на животных, трусивших в поле. Овцы шарахнулись обратно. Мальчишка, размахивая палкой, бранил их. Бунцев передохнул, покосился на радистку. Та быстро отдернула руку от пояса. Старик не заметил ее жеста. — Дьере висса![27] — позвал он мальчика. — Медьек![28] — Ладно, ничего, — сказал Бунцев, сильно затягиваясь. — Ничего. Ладно. «Неужели она могла бы?..» — подумал он. Ему не хотелось смотреть в сторону радистки. — Вот чертенок! — сказала Кротова с облегчением, и капитан ощутил, что она растерянно улыбается. — Убежал бы, и все. «Нет, не стала бы! — обрадовался Бунцев. — Не стала бы…» Собачонка продолжала носиться, тявкая на самых строптивых овец. Те недовольно блеяли. — Шустрая! Помощница! — сказал Бунцев, указывая на пса. Старик понял, что незнакомец хвалит собаку, и кивнул. — Где дорога на Будапешт? — спросила Кротова. — Дорога. Понимаешь? Двумя пальцами она изобразила шагающие ноги. — Будапешт! Будапешт! — настойчиво повторила она. — Будапешт? — старик перевел взгляд с радистки на Бунцева и, когда тот наклонил голову, опять повернулся к радистке: — Это туда… — Он махнул рукой на юго-запад, за лесок. Подошел мальчик. Видя, что взрослые мирно беседуют, он осмелел, с любопытством рассматривал чужаков. Протянул руку к кобуре Кротовой: — Дай! — Ишь, цыганенок! — засмеялся Бунцев. Кротова хлопнула мальчишку по руке, погрозила пальцем, сняла шлем и подала подпаску: — Примерь! Мальчишка взял шлем, скинул шапчонку, открыв буйные, туго завитые и давно не чесанные кудри, натянул обнову, утонув в ней. Смех взрослых его не смутил. Сдвинув шлем на затылок, мальчишка показал радистке острый красный язык, подпрыгнул, прищелкнул скошенными каблуками латаных ботинок и закружился, танцуя и дурачась. — Веселый народ! — сказал Бунцев. — Гляди, как выкомаривает! Старик погасил цигарку, кряхтя, стал подниматься. — Отпускать их нельзя! — тотчас напомнила Кротова. Бунцев встал, положил руку на худое плечо пастуха. — Нет, нет! Не уходи! Старик указал на небо, на деревню, видневшуюся на горизонте, на овец. — Не отпускайте! — повторила радистка. Она тоже поднялась, поймала мальчишку, потормошила, отняла шлем, нахлобучила ему старую шапку. Мальчишка вопросительно посмотрел на пастуха. — Медюнк, бачикам?[29] — спросил он. — Нельзя в деревню, — сказал Бунцев старику. — Ну, никак нельзя! Не могу я тебя отпустить. Погоди! Пастух опять нахмурился. Опять показал на овец. — Нет, — затряс головой Бунцев. — Вот вечер наступит — идите. А сейчас нельзя! Он сложил ладони, подложил под щеку, закрыл глаза, изображая спящего человека, потом показав на себя и на Кротову, махнул в сторону леса, а ткнув пальцем в грудь старику, махнул в сторону деревни. Старик недовольно покачал головой, стал объяснять что-то. — Ну, нельзя, нельзя! — сказал Бунцев. — Пойми, нельзя! Пастух сморщился, насупился, плюнул и снова уселся на землю. — Чудак человек! — сказал Бунцев. — Чего сердишься? Ну, нельзя! Болтнешь чего-нибудь или малец твой проболтается — конец же нам! А с тобой ничего не случится. — Много у тебя овец? — спросила Кротова. Старик не ответил. Кротова обратилась с тем же вопросом к мальчишке. Тот лишь язык высунул. — Обиделись, — сказал Бунцев. — Вот беда, ей-богу! — Мне нужны овцы! — сказала старику Кротова. — Слышишь? Нужны овцы! — На кой черт? — удивился Бунцев. — Обождите, товарищ капитан… Она жестами принялась допытываться у старика, чьих он пасет овец, нет ли у него своих и не может ли он продать им десяток барашков? На пальцах она показала: десять. Старик удивленно заморгал, тоже на пальцах спросил: — Десять? Тебе и ему? Радистка объяснила, что их с Бунцевым ждут товарищи, много товарищей, и мясо нужно для всех. Видя настойчивость незнакомой женщины, пастух, видимо, струхнул. Он пас чужих овец, не имел права торговать ими, отвечал за каждую и принялся объяснять это. — А где купить? Кто бы продал? — допытывалась Кротова. Старик пожал плечами, показал на деревню: там, мол, спрашивать надо! Кротова вздохнула с сожалением. — Нет! — сказала она. — Нам надо в Будапешт. В деревню мы идти не можем… Достав золотую цепочку, она все-таки уговорила старика продать им одну овцу. Они с пастухом пошли к стаду, изловили молодого барашка, связали ему ноги, зарезали, и старик принялся свежевать тушу. — Собирайте хворост, товарищ капитан! — распорядилась радистка. — Шашлык есть будем! Мальчишка, сообразив, чем пахнет дело, уже таскал сушняк. — А дым? — побеспокоился Бунцев. — Э! — беспечно сказала радистка. — Это же не мы, это пастухи. Стадо издалека приметно. Никто не придет. Затрещал костер. Потянуло горьким дымком. — Вот и скоротаем время, — сказала Кротова. — И пастухи довольны. Тоже небось не каждый день мясо видят. Старик резал сочащееся кровью мясо, нанизывал на прутья. Мальчишка зашел под ветер, распахнул пиджак, жмурился от дыма, грелся. Собака, лежа поодаль от огня, облизывалась и повизгивала. — Как туристы мы, — сказал Бунцев. — Тишь да гладь… Он взял кусок мяса, швырнул собаке. Та поймала кусок на лету, опрометью бросилась под куст, зарычала. Старик проводил ее осуждающим взглядом. — Зря, — сказала Кротова. — Это вы зря, товарищ капитан. Это крестьяне не одобрят. И не забывайте: нас много, мы должны отнести мясо товарищам. — Надо ли так, Оля? — сказал Бунцев. — Ну к чему здесь Художественный театр устраивать? — Если бы театр… — сказала Кротова. Старик держал прут над угольями. Мясо шипело, капли жира, падая вниз, трещали и разлетались колючими брызгами.
6
Долговязый фельдфебель с равнодушным видом отворил дверь в самом конце подвального коридора. — Битте! Какое-то мгновение Телкин медлил. Немецкий майор только что потребовал от штурмана проверить показания захваченного фашистами в плен гвардии капитана Вавилова, и Телкин долго и упорно отказывался от предложенной роли. — Но ведь это большое счастье — встретить в плену товарища! — как бы вскользь заметил немецкий майор. — Прежние товарищи стали моими врагами! Майор окинул штурмана холодным взглядом. — Тогда я не вижу причин, которые мешали бы вам выполнить мое задание, Телкин! — Да, — сказал штурман. — Да. Вы опять правы, господин майор… Но у меня не выйдет. Не умею прикидываться. — Прикидываться? — Ну, притворяться!.. Не поверит мне Вавилов! — Должен поверить! — сказал майор. — Мне не нужны люди, которым не верят, Телкин! Учтите, сейчас решается ваше будущее! Выясняется, на что вы пригодны. — Я понимаю, — тоскливо сказал штурман. — А если понимаете — идите!.. Запоминайте все, что скажет вам Вавилов. Какие части стоят перед нашим фронтом? Когда готовится наступление? На каком участке? Вам ясно? — Куда ясней! — вздохнул Телкин. И вот он здесь, перед камерой, где сидит Вавилов. Сейчас он увидит капитана. И должен будет признаться… — Битте! — повторил фельдфебель. Телкин решился. Но не успел переступить порога, как фельдфебель резко толкнул в спину. Потеряв равновесие, Телкин кубарем влетел в камеру, ударился головой о стену, рухнул на пол. Он не сумел сдержать стона.
— Сволочь! — вырвалось у штурмана. Дверь захлопнулась. Заскрежетал, проворачиваясь в замке, ключ. Кто-то сипло, отрывисто хохотнул. Ощупывая голову, Телкин поднялся. Чувствуя себя униженным и раздавленным, он с яростью и обидой смотрел на широкоплечего, чубатого человека в гимнастерке без погон и без ремня, сидевшего на дощатых нарах под таким же маленьким, как в телкинском чулане, оконцем. Смех Вавилова вызвал у него вспышку гнева. — Смешно, товарищ капитан? — спросил Телкин. — Смешно, да? Вавилов сидел спиной к свету, лица его Телкин различить не мог, видел только, что галифе на капитане яркие, словно только-только со склада, но рваные и испачканные. — Летел ты здорово, сокол! — хрипло сказал Кандыба. — Тут не на аэроплане, видно? А? — Да, — с вызовом сказал Телкин. — Тут не на аэроплане. Но и не в гвардейской части! — Чего? — спросил парень. — Что слышали, товарищ капитан, — сказал Телкин. — А! — сказал парень. — Понял!.. Ладно. Ты давай садись… Чего стоишь? Тебя сбили? — Нет, сам сюда прыгнул, — ответил Телкин. — Ага, — сказал парень. — Понял!.. Давай садись. — Он подвинулся, освобождая место. — Садись, сокол. Чего там… Телкин медленно подошел к нарам, опустился на грязные, пахнущие гнилыми яблоками доски и, еще не прощая Вавилову насмешки, стал поправлять сползший с правой руки бинт. Обида переполняла его. Он понимал, что сейчас не время обижаться, что надо немедленно заговорить с капитаном, но не мог совладать с собой и сердился еще больше, сердился уже на самого себя. — Так, значит, сбили? — услышал Телкин хрипловатый, осаженный голос. — Сбили, выходит? — Сами видите! — отрывисто сказал Телкин и попытался зубами затянуть узел на бинте. Ничего не получилось. Узел затянулся не там, где надо было. Штурман принялся распутывать злополучный бинт, неумело орудуя левой рукой. — Тебя сбили, а меня контузило… — услышал он. — Контузило — вот и взяли. Понял? Телкин поднял глаза. — А остальные?.. Чего же остальные?.. Бросили вас? Кандыба глядел в угол. — А! — сказал он. — Каждый за свою шкуру дрожит!.. Сволочи! — Что вы, товарищ капитан!.. Что вы!.. Наверное, ранило ребят или убило! — Убило! — хмыкнул Кандыба. — Как же!.. Бросили, сволочи, и всё! Глаза штурмана уже привыкли к полутьме. Теперь он видел и кучерявый, разбойничий чубчик парня, спадающий на сильно выпуклый, невысокий лоб, и толстые, малость обвисшие щеки, и толстые, разбитые, покрытые кровяной корочкой губы, и скулы, словно ободранные наждаком, и распухший, расцарапанный нос. Видимо, Вавилова сильно били. Видимо, он был измучен, тяжело переживал случившееся с ним. Он даже смотреть на Телкина не хотел, а все поглядывал по сторонам, как попавший в западню зверь. Он вызывал жалость. «А дальше-то он как будет? — беспокойно подумал Телкин. — Дальше-то как?» — Товарищ капитан! — тихонько сказал он. — А? Что? — вздрогнул парень. — Вы держитесь, — сказал Телкин. — Держитесь, слышите? Все равно наши скоро придут! Держаться надо! — Держаться? — спросил Кандыба, и штурман на миг увидел его странные, словно озябшие, но насмешливые и злобные глаза. — Держаться, да? «Что с ним? — подумал штурман. — Что с ним?» Кандыба между тем пощупал щеку, поглядел на дверь, поерзал на нарах и неожиданно отрывисто спросил: — А тебя допрашивали уже? — Допрашивали, товарищ капитан, — сказал Телкин. — Я же со вчерашнего дня тут. Точнее, с утра… Он запнулся. Черт возьми! Он называет Вавилова по званию, а того это не смущает, хотя погон на вавиловской гимнастерке нет. Что же, капитан даже не догадывается, откуда мог Телкин узнать его звание! Ведь таким обращением Телкин с головой себя выдает! Неосторожен капитан! Надо сразу объяснить, что к чему… — О чем допрашивали? — так же отрывисто спросил Кандыба, не обратив внимания на замешательство Телкина. — Об аэродромах небось? — Да, — сказал Телкин. — Об аэродромах… Товарищ капитан! — Выдал? — спросил Кандыба. — Раскололся? Выдал? Вопрос оттолкнул Телкина. Жадность, с какой этот вопрос был задан, ставила в тупик. Перед глазами маячил широкий, коротко подстриженный под бокс вавиловский затылок. — За кого вы меня приняли, товарищ капитан? — спросил Телкин в этот тупой затылок. — Вы не имеете права… — Чего? — непонимающе откликнулся Кандыба и чуть-чуть, на секундочку повернулся к штурману. — Чего? — Я не давал поводов оскорблять меня! Кандыба засопел. — Ладно, — сказал он. — Я не оскорбляю… Не назвал, значит, аэродромов? — А вы назвали бы, товарищ капитан? — еще не прощая, спросил Телкин. — Я! — торопливо сказал Кандыба. — Я бы им ложные сведения дал. Понял? На пустые места указал бы. Чтоб пустоту бомбили. Понял? — А я дурее вас, наверное, — сказал Телкин, немного удивленный торопливостью совета. — Я, наверное, настоящие аэродромы указал. — Чего? — подстерегающе спросил Кандыба. — Чего? Телкин ощутил неприязнь к капитану. Дурачком он прикидывается, что ли? Почему все время задает этот нелепый вопрос: «Чего? Чего?» Почему ни разу не посмотрел на Телкина прямо? Телкин заметил, что Вавилов косится на дверь, и косится так, словно видит за глухими досками кого-то, кто внимательно и сторожко вникает в каждое слово, произнесенное здесь, в камере. — Вы что, товарищ капитан? — напряженным шепотом спросил Телкин. — Вы что? — А? — вздрогнул Кандыба. — Что? Что тебе? — Слышите что-нибудь? — еле шевеля губами, спросил Телкин. — Там есть кто-нибудь? — Где? — встревоженно покосился Кандыба. — Там, за дверью?.. — А… Нет… Может, и есть… Я так… Значит, ты ложные аэродромы указал? Ложные, да? Телкин не спешил с ответом. Только что ему показалось: они живут с Вавиловым одной тревогой, а теперь Вавилов отчуждался. Неприязнь к Вавилову не пропадала. «Что же это? — смятенно подумал Телкин. — Товарищи по несчастью, а держимся, как враги! Ведь не так быть должно! Не так!» Но было именно так, и ничего с этим поделать нельзя было, и это тяготило и словно предвещало какую-то опасность… — Ты чего молчишь? — спросил Кандыба. — Ведь ты ложные аэродромы указал? Так чего молчишь? — Товарищ капитан! — подавляя и неприязнь и ощущение опасности, страстно желая лишь одного — чтобы они развеялись без следа, сказал Телкин. — Товарищ капитан! Нельзя так! Нельзя! — Чего нельзя? — быстро выглянул из-за плеча Кандыба. — Я — ничего… Ты что? Лицо его было повернуто к штурману, но глаза блуждали по-прежнему. — Ты что? — почти испуганно повторил он. — Боишься? Ты не бойся! Я свой!.. Понял? Свой! Телкин растерялся. Значит, Вавилов потому себя так вел, что опасался, будто ему в чем-то не поверят? Но это у Телкина были основания опасаться, что Вавилов ему не поверит, а у Вавилова таких оснований быть не могло!.. «А почему не могло? — опалила вдруг штурмана ужасная мысль. — А вдруг майор и его?.. Вдруг и он, как я, сюда посажен?..» Вавилов продолжал что-то быстро нашептывать лейтенанту, но Телкин не слышал, что он говорит, лишь смотрел на плечи Вавилова, на его тупой затылок, втянутый в плечи, и кровь молотом била в виски. «Нет, нет, он же избит!.. Но и меня били… Нет, нет, ведь майор требовал выпытывать у Вавилова военные тайны… Но капитан так выглядит… Нет, нет!.. Он не выдал!.. Людям надо верить!.. Нет, не всем можно верить. Тем более здесь… Почему он ни разу не посмотрел на меня?!. И почему он засмеялся, когда я упал?.. И почему про аэродромы сразу заговорил? Почему хотел узнать, правду я сказал майору или на ложный след его толкнул?..» Мысли сталкивались, мешали одна другой, путались. «Схожу с ума! — с отчаянием и тоской подумал Телкин. — Схожу с ума!.. Сейчас я капитана заподозрил, а через час, гляди, себе самому верить перестану!» Он опять попытался завязать бинт, рванул зубами узел, ничего опять не получилось, и Телкин с досады взмахнул руками. — Ты что? Что? — донесся до него хриплый шепот. — Ты что? Кандыба медленно отползал от штурмана, бочком, бочком отползал, перебирая толстыми руками по доскам, прерывисто дыша, и озябшие глаза его с ненавистью и страхом смотрели на лейтенанта. — Я? — спросил Телкин. — Я — ничего… С вами что? Вы что?.. Чего вы, товарищ капитан?! Кандыба обмяк, но дышал все так же часто. — Я тебе говорю… — сказал Кандыба, и ему перехватило горло. — Я говорю, а ты не слышишь… Глядишь… Ты на меня так не гляди! Не гляди, говорю!.. Понял?.. Голос сорвался, и Кандыба последние слова не произнес, а почти провизжал. — Да что вы, товарищ капитан? Что вы? — пробормотал Телкин. — Успокойтесь!.. В руки себя возьмите! — Да, возьми! — придыхая, ответил Кандыба. — Возьми!.. Я говорю, а ты… Он приходил в себя, сопнул, потрогал ладонью губы, сморщился и неожиданно мелко-мелко захихикал. — Я прямо испугался: думал — псих!.. Хи-хи-хи! Тоненький смех не шел к толстым щекам, к широким плечам, к разбойничьему чубчику Вавилова, и Телкину показалось, что смеется не Вавилов, а кто-то другой, невидимый, спрятавшийся в крепком теле капитана. И что-то скользкое, темное почудилось штурману в повадке Вавилова, в его тряском смешке. «Что происходит? — тоскливо подумал штурман. — Что у нас происходит?» Словно ему снился дурной сон, где все шло навыворот. И как в дурном сне люди мечутся, чтобы прогнать наваждение, так и Телкин сорвался с нар и, двигая плечами, прошагал к двери, круто повернулся, шагнул к нарам… Вавилов оборвал смех, собрался, словно готовясь в любой миг увернуться и дать сдачи. — Товарищ капитан! — с тоской сказал Телкин. — Давайте начистоту! Начистоту! — волнуясь, повторил Телкин. — Вы мне не верите, я вам перестаю верить… Как же так?! — Мне? — хрипло и беспокойно воскликнул Кандыба. — Не!.. Ты мне верь. Слышишь? Верь! Я — свой! Свой! Он вдруг почти ласково улыбнулся Телкину и теперь сам заглядывал штурману в лицо, правда ускользая от прямого взгляда телкинских измученных глаз. — Мне верь! — скороговоркой продолжал Кандыба. — Я ж тебе говорил, а ты не слушал… Нам друг за друга держаться надо!.. Ты, я вижу, тоже свой… Вот… Слышь?! Он оглянулся на дверь, показал Телкину на нары рядом с собой. Телкин присел. — Слышь? — зашептал Кандыба. — Нас вызволят! Думаешь, пропали? Нет! Я знаю! Я же разведчик! — Он захлебнулся словами, облизал губы. — Ты молчи только! Никакой я не Вавилов… Это я фрицам так сказал. А настоящее мое фамилие — Кочура. Из восемнадцатой стрелковой… Василий Кочура!.. Запомнил?.. В случае чего нашим скажешь… Понял?.. — Ну? — сказал Телкин, дрожа от неясного предчувствия чего-то важного, что сейчас совершится. — Ну? — Вот! — облегченно сказал Вавилов — Кочура. — Я знаю… Наши прорыв готовят… Котел… Понял?.. Девятая ударная подошла, три танковых корпуса… От Капушан на Мишкольц рванут и — котел!.. — Девятая ударная? — все глубже погружаясь в прежний дурной сон, почти бессознательно повторил Телкин. — Девятая? — Да! Девятая! От Капушан на Мишкольц!.. Понял? Вавилов — Кочура словно вдалбливал в сознание Телкина направление удара советских армий, словно нарочно вкладывал те самые сведения, какие требовались немецкому майору… Вкладывал, даже не успев узнать, с кем говорит, кто такой Телкин… В детстве отец учил маленького Толю прыгать в Клязьму с высокого обрыва. Мальчик упирался, вырывался из рук отца, и мать начинала браниться, пока сына не оставляли в покое. — Баба! — презрительно говорил отец. Он разбегался и, вытянув руки, словно отталкиваясь от земли, летел вниз, к далекой воде, и легко врезался в нее, вызывая одобрительные возгласы купальщиков. Толя завидовал. Отцовское презрение преследовало его. И однажды, уже осенью, скинув на пустынном берегу курточку, штанишки и рубаху, оглянулся и побежал к обрыву. На самом краю, испугавшись, Толя попытался отвернуть, но было поздно, и тогда он шлепнулся на зад… Он сидел в шаге от обрыва, и слезы затопляли все мальчишеское существо. Свидетелей позора не было, но все равно Толя чувствовал себя так, словно его видел весь город. Он вскочил, стиснул кулачки, зло поглядел на воду, отбежал, снова помчался к обрыву и, яростью поборов страх, прыгнул. Он навсегда запомнил то мгновенье, когда с замирающим сердцем летел по воздуху… Вот и сейчас сердце замерло, остановилось, как в детстве, в первом отчаянном прыжке в неизвестное. И так же внезапно, как внезапно просыпается человек, обреченный в дурном сне на гибель, штурман очнулся. — Понял! — еще дрожа от волнения, сказал он. — Понял!.. Слушай, тебе когда гвардейца присвоили? — Мне… А… еще за Сталинград… Всей дивизии… — Ты с самого начала войны? — Ага… Ты что? — На границе служил? — Ага… Вроде… Ну, почти… «Отвечает! Отвечает!» — подумал Телкин. — Всю войну прошел? — Всю… Вавилов — Кочура, наконец, забеспокоился: — Да ты чего? Чего? Допрашиваешь? «Нет, не ошибаюсь! — подумал Телкин. — Не ошибаюсь!» — А я вот только с прошлого года в действующей, — сдерживая рвущееся наружу волнение, сказал он. — С прошлого. Понял? — Конечно, — обеспокоенно сказал Вавилов — Кочура. — Ты к чему это? А? К чему? — А к тому, что не верю я тебе! — пристально глядя на соседа, решаясь на то, на что никогда не решился бы раньше, сказал Телкин. — Не верю!.. — Не верю! — не слыша себя, повторил Телкин, отмечая, как у Вавилова — Кочуры останавливаются ртутные зрачки. — Брось! Кочура, говоришь?.. Не заливай мне баки, капитан! Не заливай!.. Ты же разведчик! Ты же старослужащий! А даже я — сопляк перед тобой — не стал бы первому попавшемуся всю правду о себе выбалтывать!.. Понял, Вавилов — Кочура?.. Не стал бы!.. И ты думаешь, яповерю, что ты правду сказал? Не поверю, капитан! Как охотник, идущий по следу опасного зверя, чутким взором отмечает каждую сломанную веточку и примятую травинку на смертной тропе, так отметил Телкин переведенное дыхание соседа, захлопнувшуюся губу его и невольный жест: толстопалая рука облегченно вытирала пот со лба. — Эх, капитан! — тяжело опускаясь на нары, с укором сказал Телкин. — Эх, капитан! Нехорошо! На пушку меня берешь! Путаешь! А зря! Я же знаю — никакой девятой ударной здесь нет. И танковые корпуса под Сату-Маре стягиваются. Они не от Капушан, а от Петрешти на Дебрецен пойдут! А потом на Арад! На Дебрецен, а не на Мишкольц!.. Ну, видишь? Знаю же! А ты мне не веришь! Проверяешь! Ведь ты проверял меня, так? Проверял? Все звенело в Телкине, все длился и длился отчаянный прыжок… И Вавилов — Кочура, наконец, заговорил. Вернее, не заговорил, а, как и ожидал лейтенант Телкин, опять захихикал своим тоненьким, скользким смешком, будто повизгивал. — Хи-хи-хи!.. — слышал Телкин. — Точно… Ты угадал… Хи… Проверял я тебя, сокол! Проверял! Факт, я бы не стал кому попало… А теперь вижу — ты свой! «Ах, ты… — подумал Телкин. — Ах ты, червяк навозный!» Такое омерзение поднялось в нем, такое жгучее желание раздавить предателя, как поганого слизня, свело руки, что он едва не выдал себя. Но выдавать себя нельзя было. — Эх, ты! — только и вырвалось у Телкина, но, заметив, как шатнулся от него предатель, штурман на ходу нашелся: — Эх, ты!.. Я же к тебе всей душой, а ты петляешь!.. Товарищ называется! Какой же ты товарищ?! — Так ведь… В плену ведь… — пробормотал Кандыба, совершенно сбитый с толку. — В плену… — Видеть человека надо! — с жестокой радостью сказал Телкин. — Видеть! Я вот тебя увидел, а ты что же? Ослеп? — Да я… Я же нарочно… — пробубнил Кандыба. — Ты ж пойми!.. — То-то — пойми! — сказал Телкин. — А то распелся: Капушаны — Мишкольц, девятая ударная, котел!.. На олуха напал!.. На вот, завяжи бинт! — И добавил: — Тебя где взяли? — Под… под Ныирбакта… — запнувшись, ответил Кандыба, и пальцы, затягивающие узел на телкинском бинте, дрогнули. — Так чего ты мне про восемнадцатую стрелковую плел?! Чего?! Под Ныирбакта же триста пятьдесят шестая стрелковая и гвардейская житомирская стояли! — воскликнул Телкин, на ходу выдумывая номера и названия частей. — А ты — гвардеец! Значит, ты из житомирской! Факт? — Факт, — торопливо сглатывая слюну и вытягивая рожу в улыбке, подтвердил Кандыба, уже полностью подчинившийся воле Телкина. Он даже не вспомнил, как говорил, будто его дивизии звание гвардейской присвоили после Сталинграда. — Ну вот! — воскликнул Телкин и трахнул кулаком по плечу Вавилова — Кочуры. — Ну вот!.. Чудо-юдо!.. А я из десятого полка дальней бомбардировочной!.. Живы будем — приезжай ко мне в полк! Я тебе канистру спирта поставлю! Приедешь? — Приеду… — Чудо! — сказал Телкин. — Ты не морщись! Это я тебя на радостях! Черт! Я же так рад, что договорились мы! Он опять поддел соседа кулаком под ребра. «Вытерпишь, слизь! — злорадно подумал штурман. — Ты у меня все вытерпишь!» И тот стерпел. — Ну, лады! — сказал Телкин. — Да! Как твоя фамилия настоящая-то? Некуда было деваться Кандыбе от беспощадно-веселого взгляда лейтенанта, и, ерзнув, он чуть не проговорился: — Кан… Канюков… Канюков мое фамилие. — Фамилия, — тотчас поправил Телкин. — Капитан, а говоришь неграмотно. Как тебе капитана дали? А? Или за героизм особый? Он знал: он ничем не рискует, этот слизняк все съест, и церемониться с ним не стоит. Наоборот, чем бесцеремонней себя с ним вести, тем лучше. — В разведке же… — Ага! Значит, за героизм! — сказал Телкин. — Н-да… А мне вот как присвоили лейтенанта после училища, так и топаю с двумя звездочками… Хотя, конечно, теперь нам все равно с тобой, сколько у нас звездочек. Мне даже лучше. С лейтенанта спрос меньше, чем с капитана, да еще разведчика! — Чего? — никак не мог опомниться сосед. — Ну, как это «чего»? — развел руками штурман. — Тебе и по званию и по должности больше знать полагается, ну, значит, больше и подкинут горячих… Били ведь? — Чего?.. А! Били… — Еще не так будут! — пообещал Телкин. — Ты даже представить не можешь, что тебя ждет!.. Или ты мне врешь? Опять врешь, а? Капитан? Ведь врешь! Ей-богу, врешь! — Но… Что?.. Чего ты?.. — Врешь! — сказал Телкин. — По глазам вижу, что врешь! — Чего ты? Чего ты?.. Телкин нагнулся к уху мнимого капитана и горячим шепотком посоветовал: — Да ты признайся! Чего уж там! Признайся, слышь? — В чем? В чем? — дико взглянул сосед. — Да в том… в этом самом… Ну? — А? — невольно переходя тоже на шепот, откликнулся Кандыба. — Давай, давай! — поощрял Телкин. — Чего давать? — Признавайся! — В чем? — Да ведь ты же все сказал там… — Телкин ткнул большим пальцем в потолок. — Сказал, капитан! Не пялься! Сказал! Я же вижу! — Не… — неуверенным голосом запротестовал Кандыба. — Не… Я не сказал… Что ты? Не сказал… — Сказал! — оборвал Телкин. — Брось со мной вилять! Ты все сказал! — Ты… — выдохнул мнимый капитан, отодвигаясь от штурмана и готовясь вскочить. — Тебе чего? Телкин был начеку. Он властно удержал мнимого капитана за руку. — А того! — сказал он. — Не шеперься, дурак! Я не КГБ! Меня же тоже били, понял? Не хуже, чем тебя били! Понял? На толстых губах соседа заслюнявилась улыбка, но тут же погасла. Испуганно вырвав руку из пальцев Телкина, он вскочил с нар: — Не! Я не сказал! Я ничего не сказал! Меня не трожь! — Ах, не сказал? — вскочил на ноги и штурман. — Не сказал, гад? Ну, молчи! Молчи! Значит, мало тебе кинули! Мало! А с меня довольно! Понял? Довольно с меня! И хрен с ним, с моим лейтенантством! Зато я жив буду, а ты подохнешь! Жди, что тебя освободят! Жди! Пока немцам котел устроят, ты десять раз с прадедушкой увидишься! А я жив буду! Кандыба глядел на штурмана окончательно отупевшими глазами. — Дурак! — сказал Телкин. — Герой!.. Дурак ты, а не герой! Много тебе, дохлому, проку от геройства будет… Ты вон про аэродромы спрашивал. Выдал я их или не выдал? Так вот знай, дурак: выдал! Все выдал! И аэродромы и склады — все!.. Зато жить буду!.. И ты, если жить хочешь, лучше все скажи! Иначе — тюк — и нет тебя!.. И знай, гад, я же все равно все, что от тебя услышал, передам немцам. До единого словечка передам! Понял? Так что все равно твоему геройству хрен цена! Ты же мне, мне все раскрыл! И никуда не денешься! Неожиданно для Телкина мнимый капитан, оцепенело стоявший напротив с отвалившейся челюстью, кинулся к двери, замолотил руками и ногами. — Отворите! Отворите! Отворите! Он стучал, а сам косился на штурмана затравленными, обезумевшими глазами. Дверь распахнулась. Долговязый фельдфебель удержал рванувшегося мимо него в коридор Кандыбу: — Что происходийть? — Он убьет! — выкрикнул Кандыба. — Заберите меня! Убьет! — Тих-ха! — рявкнул фельдфебель, разглядывая штурмана. — Вы что делайт? Кто разрешаль? Ты что, негодяй? — Негодяй — он! — сказал Телкин. — И я ему прочищу мозги за агитацию! Герой нашелся!.. Скажите господину майору, что у меня к нему дело есть. Фельдфебель переводил непонимающий взгляд с Телкина на Кандыбу и с Кандыбы на Телкина. — Я тебя научу говорить, гад! — сказал Телкин Кандыбе и погрозил кулаком. — Я тебя научу!..
Глава четвертая
1
— Штурмбаннфюрера Раббе! — Господин штурмбаннфюрер занят. — Передайте, что говорит майор Вольф. — Слушаюсь, господин майор! Одну минуту, господин майор! Ожидая, пока Раббе возьмет телефонную трубку, майор Вольф исподлобья смотрел в окно, на облетевший осенний сад, залитый холодным солнечным светом. Солнце проглянуло внезапно. Чувствовалось — ненадолго. И хотя от деревьев тянулись по жухлой траве длинные влажные тени, хотя сучья кленов и грабов казались вычерченными черной тушью, а красная черепичная крыша гаража в глубине сада ярко блестела, ни глубина теней, ни четкость мокрых ветвей, ни блеск черепицы не могли прибавить тепла этому дню поздней осени. Поддавшийся солнечному обману воробей, сев на ветку прямо перед окном, вертел головкой и чирикал. Разглядывая воробья, майор иронически улыбнулся. Он знал: пичуга поплатится за легкомыслие. Солнце скроется, налетит ветер, хлынет дождь, воробьишке придется туго. Непогода сметет его, загонит в первую попавшуюся щель. Сиди и раскаивайся… — Сам виноват! — сказал майор воробью. — Что? — спросила трубка голосом Раббе. — Вы мне? — Гюнтер? — оторвался от окна майор. — Нет, нет! Это не вам!.. Но что же вы не отвечаете? — Я слушаю, — сказал Раббе. Его голос был угрюмым. — Я хотел поговорить с вами. — Говорите. — Нет, не по телефону. Лично. — Это что, срочно? — Зная вас, боюсь, что да — срочно. Раббе помолчал. — Очень важно? — спросил он. — Для меня — да. Для вас — тоже. В конечном итоге. Раббе подумал. — Хорошо… Можете приехать сейчас же? — А если вы ко мне? — Вам нужно, вы и приезжайте, — сказал Раббе. Майор Вольф скривил рот, но ответил бодро, как обычно: — Отлично! Через пятнадцать минут я у вас. Он опустил трубку на рычаг, поднялся, одергивая китель, провел ладонью по волосам. — Миних! Адъютант возник в дверях немедленно. — Машину, Миних!.. Минутку!.. Я уезжаю, а вы отправляйтесь спать. — Спать, господин майор? — Отучитесь переспрашивать старших, лейтенант. Да, спать. И только спать! Понятно? Возможно, ночью вам предстоит бодрствовать. — Слушаюсь, — сказал Миних. — Можно идти, господин майор? — Идите! — сказал Вольф. Вишневого цвета «хорх» развернулся у подъезда особняка, шофер-солдат выскочил, предупредительно распахнул дверцу. — Гестапо, — сказал майор Вольф, садясь. Солдат молча захлопнул дверцу, положил руку на тормоз, выжал сцепление, включил скорость, «хорх» ровно сдвинулся с места и так же ровно поплыл по аллее… Солнце зашло, и в надвигавшихся сумерках город казался покинутым: редкие пугливые прохожие, клочья пестрых афиш на рекламных тумбах, заваленная листвой мостовая, заколоченные досками, заваленные мешками с песком витрины, разинутые, словно в отчаянном вопле, пасти пустых подъездов… Патрули провожали машину равнодушными взглядами. Машину тряхнуло на выбоине. — Осторожней! — процедил Вольф. — Плохо заделывают воронки, господин майор! — виновато ответил солдат. Вольф смолчал. Его молчание было ледяным и осуждающим. У солдата порозовели кончики ушей. Он не имел права оправдываться, он допустил ошибку, и понял это. «Хорх» замедлил ход, остановился у перекрестка: дорогу пересекала колонна танков. Они шли с закрытыми люками, словно на поле боя, и Вольф подумал, что миновали те времена, когда танкисты торчали над башнями с сигаретами в зубах, и прикладывались к походным фляжкам, и перекликались друг с другом, стараясь перекричать стальной, оглушающий грохот машин. Теперь они шли с закрытыми люками по пустынным улицам, мимо разноцветных афишных тумб, мимо каменных садовых оград с пожелтевшими виноградными лозами, свисающими до тротуаров, и никто не пил, не смеялся, не окликал приятелей. В грохоте машин, по-прежнему оглушающем, уже не слышалось торжества. Штурмбаннфюрер Раббе ходил по кабинету. От угла до угла — девять шагов по мохнатому, пестрому турецкому ковру. Девять — туда, девять — обратно. Девять — туда, девять — обратно. Выпучив рачьи глаза, за Раббе следил со стены Адольф Гитлер. Казалось, глаза на портрете поворачиваются в глазницах, впиваясь в сутулую спину штурмбаннфюрера. Раббе был расстроен. Всего час назад Вильгельм Хеттль вызвал его к телефону. Хеттлю, видите ли, понадобилось лично узнать, как проходит операция по «эвакуации» еврейского населения. Раббе доложил, что на сегодняшний день зарегистрировались двадцать две тысячи лиц еврейского происхождения обоего пола, включая несовершеннолетних: все они изолированы в гетто, одиннадцать тысяч уже вывезены в ближайшие лагеря, остальные будут вывезены в течение недели. — Выявляем уклонившихся от регистрации, — сказал штурмбаннфюрер в заключение и умолк, ожидая, что последует дальше. Ведь не ради евреев звонил Хеттль! Сведения, услышанные им от Раббе, он мог получить из ежедневной сводки. И Раббе не ошибся. — Благодарю, — сказал Хеттль. — Да! Кстати, что там у вас произошло на станции? — Диверсионный акт. — Русские?.. — Нет. Венгры. Местные коммунисты. — Венгры?.. Надеюсь, венгерские власти приняли надлежащие меры? — Дело в том… — Я спрашиваю, — с нажимом сказал Хеттль, — приняли ли меры местные власти? Раббе догадался. — Так точно! Диверсанты арестованы. На допросе признались. — Ну вот, — усмехаясь, сказал Хеттль. — Я так и знал, что вышла ошибка. Вернее, что не обошлось без враждебных элементов. Тут, в Будапеште, кое-кто поднял шум, будто мы вмешиваемся во внутренние дела страны… Помните, что мы ни во что не вмешиваемся. Если бы слухи о вашем вмешательстве подтвердились, я бы принял самые жесткие меры… Вам ясно? — Ясно, — побагровев, сказал Раббе. — До свиданья, — добродушно сказал Хеттль. — Желаю успеха… Положив трубку, Раббе спросил себя; какая каналья успела все-таки сообщить в Будапешт и об арестованных рабочих? И когда успела? Каким образом? Едва схватишь мерзавцев, как это становится известно чуть ли не всему миру сразу! Исполненный гнева, штурмбаннфюрер позвонил главарю местных салашистов Аурели Хараи. — Немедленно явитесь ко мне! — приказал штурмбаннфюрер. Но оказалось, Хараи совершенно ничего не знает и тоже не может представить, кто бы это мог накапать в Будапешт. — Разрешите нам допросить коммунистическую сволочь! — попросил он. — Это уже излишне, — сказал Раббе. — Попрошу вас немедленно опубликовать сообщение о том, что рабочие задержаны вами. Что они схвачены вами на месте преступления и по приговору военно-полевого суда будут казнены. — Суд состоится на днях? — почтительно спросил Хараи. — Какой вам еще суд? — спросил Раббе. — Вы лично явитесь ко мне в двадцать два часа и примете участие в ликвидации бандитов. Поняли? — А… Понял! Понял! — заторопился Хараи. — Идите!.. Отпустив салашиста, Раббе позвонил в тюрьму. Из тюрьмы ответили, что один из арестованных венгерских рабочих умер. — А беглые девки и этот крестьянин? — Живы. Но одна в тяжелом состоянии. — Никому ничего не сообщать, — приказал Раббе. — Вечером ждите особого распоряжения. После этого Раббе связался с командиром спецподразделения Отто Гинцлером. — Обеспечьте на двадцать два часа фургон, — приказал он. — Все фургоны в работе, господин штурмбаннфюрер, — осторожно заметил Гинцлер. — Вы что, разучились понимать язык? — спросил Раббе. — Слушаюсь, господин штурмбаннфюрер! — Явитесь с фургоном сами. — Куда прикажете подать? — В тюрьму. Перед этим заедете ко мне. В двадцать один тридцать. — Слушаюсь!.. Так все устроилось. Но Раббе нервничал по-прежнему. Конечно, Хеттль прав. Следовало заставить работать одних са-лашистов. Пусть бы они арестовывали коммунистическую сволочь. Но посадить бы Хеттля на место Раббе! Наверное, и ему было бы не до дипломатии после такой диверсии! Подумаешь, в конце концов событие: два дохлых коммуниста! Но здесь, видите ли, союзная страна. С союзниками надо считаться. Обходить их неудобно!.. А по правде говоря, грош цена этим союзникам. Солдаты у них — сволочь, и весь народ — сволочь, рвань, цыгане, подлецы, предатели! Поменьше бы дипломатничали — больше толку было бы. Зажать всех в кулак, расстреливать каждого третьего, чтоб никнуть не смели! А то еще доносят!.. — Майор Вольф! — доложил дежурный офицер. — Просить! — сказал Раббе, останавливаясь. В голову штурмбаннфюрера пришла внезапная мысль: а не Вольф ли сообщил в Будапешт о нерасторопности гестапо? Черт его знает, этого Вольфа! У него высокие связи. Вполне мог напакостить. Но если он… — Хайль Гитлер! — сказал Вольф, дружески улыбаясь с порога. — Хайль Гитлер! — мрачно отозвался Раббе. — Входите. — Вы так на меня глядите, — посмеиваясь, сказал Вольф, проходя в кабинет, — так глядите, что можно подумать — у вас на меня по меньшей мере пять секретных донесений. — Боитесь? — мрачно полюбопытствовал Раббе. — Если донесения у вас — нет, — сказал Вольф. — Вы же не дадите им ходу, Гюнтер. Вы меня слишком хорошо знаете. — Иногда выясняется, что совсем не знаешь человека, — возразил Раббе, усаживаясь за стол. — Ко мне это не относится, — уверенно сказал Вольф. — Мы же друзья, Гюнтер. От вас у меня тайн нет. — Хотел бы надеяться, — сказал Раббе. — Послушайте, Гюнтер, — сказал Вольф. — Если у вас плохое настроение, это печально. Но откладывать свой визит я не хотел. — Слушаю. — У меня к вам маленькая просьба. — Все ваши просьбы маленькие. Говорите. — Прежде всего благодарю за Кандыбу. Он мне помог. Прекрасно сработал. — Ага! Ваш летчик все-таки врал? — Представьте себе, нет!.. Как видите, психологический метод себя оправдывает, Гюнтер. — Трудно поверить. — А вы поверьте!.. Штурман всерьез принял Кандыбу за русского капитана и, видимо, настолько был взвинчен, что чуть не избил его! Согласитесь, это смешно! — Он его бил?.. — Не успел. Вмешалась охрана. — А он не заподозрил во власовце информатора? — Исключено! Охрана слышала, как он кричал, называл Кандыбу дураком за то, что молчит на допросах. Все равно, мол, выхода нет! И все равно он его сведения сообщит кому надо. — Он их сообщил вам? — Да, Гюнтер. Он, понимаете ли, решил, что удачно выпытал у Кандыбы правду! Раббе исподлобья взглянул на майора: — Слишком быстро он начал работать на вас, Вольф. — По-моему, гораздо важнее то, что он начал работать, Гюнтер! — И все-таки… — От ошибок никто не гарантирован, Гюнтер. Но мне думается, с Телкиным ошибки не будет. На него произвело очень большое впечатление напоминание о «смерше». — Рад за вас, если так… Впрочем, вы уже передали его показания в Будапешт? — После Кандыбы — передал, конечно. — Значит, недолго осталось ждать. — То есть? — Наши летчики проверят, лгал он или говорил правду. — Ах, да… Конечно… Но я спокоен. Хотя моя просьба имеет прямое отношение именно к штурману Телкину. — Слушаю вас. — Скажите, Гюнтер, что у вас намечается на сегодня? На завтра? Раббе посмотрел на Вольфа с подозрением. Это что? Попытка получить сведения об арестованных на станции? — Что вы имеете в виду? — спросил Раббе. — Вы не намерены ликвидировать кого-нибудь? — А почему вас это интересует? — По очень простой причине, Гюнтер. Я хотел бы, чтобы мой штурман принял участие в этой… э… операции. — Хм!.. — Так надежней, Гюнтер. Сами понимаете, что так надежней. И хорошо бы парочку русских… У вас нет русских, Гюнтер? Раббе немного успокоился. В просьбе Вольфа он не видел никакого подвоха. Вполне естественная просьба. — Как раз парочка русских у меня есть, — сказал он. — Две русские девки. Девки вас устроят? — Это даже лучше, — сказал Вольф. — Это просто прекрасно! Женщины! Вы меня обрадовали, Гюнтер. После женщин Телкину некуда будет деваться. Да! Женщины — это хорошо! — Вы хотите дать ему оружие? — спросил Раббе. — Нет! Зачем? Я пошлю с ним Миниха. Вы разрешите, надеюсь? Миних отлично фотографирует. — Вы Телкину нож дайте, — посоветовал Раббе. — Пусть отрежет девкам… Но как Миних будет снимать ночью? — Ему подсветят фарами… Нож — это тоже идея. Да. Очень хорошо!.. А когда вы намечаете операцию? — Сегодня, — сказал Раббе. — Пусть Миних созвонится с Гинцлером. Тот в курсе дела. — Вы опять меня выручаете, Гюнтер, — сказал Вольф. — Не знаю, как вас и благодарить! — Сочтемся, — сказал Раббе. — Ничего, сочтемся, Вольф.2
Фигуры пастуха и подпаска растворились в сумерках, но еще слышалось постукивание овечьих копытец и разноголосое меканье отары. — Хороший старик! — сказал Бунцев. — Верно, Оля, хороший старик? — Да, — сказала Кротова. — И мальчишка. На молдаванина похож. — Замечательный старик! — сказал Бунцев. — Деды — они все один на другого чем-то смахивают, верно? — Да, — сказала Кротова. Бунцев оглянулся вокруг, посмотрел на сомкнувшиеся к вечеру стволы сосен, на темные клубы кустарников. — А Толи мы так и не дождались, — вздохнул он. — И ждать больше нельзя, как я понимаю… — Уходить надо быстро, товарищ капитан… Больше суток ждали, а теперь надо быстро. Мало ли что? Вдобавок видели нас. — Да, я понимаю, — сказал Бунцев. — Вот только со штурманом плохо… Кротова промолчала, давая Бунцеву время свыкнуться с невыносимой мыслью о том, что они уже не могут рассчитывать на встречу с Телкиным. Она ждала, чтобы он сам отдал приказ. И капитан Бунцев отдал этот приказ: — Пора. Пройдя насквозь сосновый лесок, Бунцев и Кротова вышли в поле. Дул слабый ветер. На севере тучи снесло, показались робкие звезды. — Чертовы унты! — сказал Бунцев. — Словно гири. — Ничего. Авось недолго, товарищ капитан… Слышите? Бунцев слышал: справа от них, далеко-далеко, еле различимо урчали моторы. — Шоссе, — сказал Бунцев. — Только почему огней не видно? — С подфарниками идут, наверное. И холмом скрыты. — Пожалуй. Они двинулись через поле, за день обдутое и уже не такое вязкое, как минувшей ночью, держа на тусклые, мигающие огоньки примеченного днем хутора. Шагали молча, чутко всматриваясь в темень, вслушиваясь в каждый новый ночной шорох. Останавливались, шепотом перекидывались двумя-тремя фразами, снова шли. Тусклые огоньки разгорались. Они дрожали впереди, словно их тоже пробирала прохлада. Летчики спустились в низинку, пахнувшую на них сыростью и болотом, перебрались вброд через тощий ручеек, поднялись на пригорок, и на обоих повеяло теплом. Бунцев усмехнулся: — Скажи, как получается… До хутора оставалось рукой подать, и они легли, чтобы понаблюдать и отдохнуть. — А ведь это не хутор… — шепнула спустя минуту — другую Кротова. — Почему так думаешь? — Больно много построек, кажется… — Это вроде не постройки, а лес. — Скажите тогда — целый парк. — Ну уж, парк… — Все может быть, товарищ капитан… Возможно, это поместье. — Ну и что? — спросил Бунцев. — Тем хуже для поместья. — Это-то верно… — ответила Кротова, напряженно вглядываясь в огоньки. — Это-то верно, товарищ капитан… — Но?.. — Но близко подходить не стоит. — Что же делать? — Выждем. Так они лежали с полчаса, и выжидали, и, наконец, дождались: на хуторе или в поместье, как утверждала радистка, послышался рокот мотора, потом прямо в сторону пилотов метнулись столбы света от автомобильных фар, и какая-то машина, выехав из парка, развернулась и быстро пошла по направлению к шоссе. — Так, — сказала Кротова. — Значит, проселок у них здесь… Попробуем с машиной. — Пошли, — сказал Бунцев. — Пошли. Все ясно. Теперь они удалялись от поместья, стараясь держаться той невидимой проселочной дороги, по которой ушла неизвестная машина. Лишь через полчаса ходьбы Бунцев решил, что можно выйти на проселок. Кротова не возражала. — Вы заправским партизаном становитесь, товарищ капитан, — прошептала она. Проселок оказался узкой щебенчатой дорогой. — Факт, поместье, — сказала радистка. — К хутору дорогу не мостили бы. Теперь ищите, товарищ капитан. Но Бунцев и так уже лазил по придорожным кустам, шаря руками, как слепой. — У тебя нет? — тихонько окликнул он. — Пока не вижу… Ничего. Должны быть!.. Ладонь капитана ощутила шершавый провод. — Ольга! — выдохнул он. — Иди сюда! Кротова перебежала дорогу, присела рядом с Бунцевым на корточки. — Самый настоящий телефонный, — определила Кротова. — Немецкий. Знакомое производство… Погодите, не режьте! Может быть, колючку найдем все-таки… Они обнаружили, что в одном месте дорога проходит между двумя рядами изгороди, но столбы были опутаны не колючей, а простой проволокой. — Жаль, — сказала Кротова. — Ну ладно. Тогда этот провод режьте, товарищ капитан. Пусть без связи посидят. Бунцев нагнулся к проводу, щелкнуло лезвие открываемого ножа. — Побольше куски режьте, — попросила Кротова. — Глядишь, пригодятся. Она оставалась на дороге, следила за ней. Бунцев перерезал провод, пошел, наматывая его на руку, в сторону шоссе. Шагов через двадцать остановился. — Может, хватит? — Режьте! Режьте! Бунцев вырезал еще несколько кусков провода. — Слышь! — сказал он. — Пойдем к шоссе. Там скорей твою колючку обнаружим. Но они не сделали и десятка шагов, как со стороны хутора донесся треск заводимого мотоцикла. — Стой! — сказал Бунцев. — Тихо! Кротова вытянулась, прислушиваясь. — Неужели обнаружили? — пробормотал Бунцев. — Точно!.. — с непонятной радостью ответила радистка. — Точно, товарищ капитан! Не иначе — связь восстанавливать хотят! — Да ты чего?.. — Товарищ капитан! — сказала радистка. — Только быстрей… Сейчас мы их научим, как связь восстанавливать… Быстрей только, товарищ капитан! Она бежала к изгороди. — Ты чего задумала? Чего? — еле поспевая за ней, спрашивал Бунцев. — Скорей!.. Держите конец! — сказала радистка, разматывая моток телефонного провода. — Да держите же! — Слушай! Они завелись! — с тревогой сказал Бунцев, принимая конец провода. — Выезжают! — Ладно! Стойте! Кротова перебежала дорогу, повозилась возле изгороди, бегом вернулась обратно. Мотоцикл уже трещал на дороге. — Скорей, товарищ капитан! Сюда! Ваша сила нужна! Бунцев сбежал за радисткой со щебенки. Кротова выхватила у него конец провода, накинула на один из столбов: — Тяните! Туже! Как можно туже! — Едут, сволочи! — процедил сквозь зубы Бунцев, натягивая провод. — Опутывайте столб! Крепите! Дайте помогу! Мотоцикл приближался. Его сильная фара далеко освещала дорогу, и казалось, полоса света вот-вот дотянется до летчиков. Бунцев и Кротова торопливо закрепили натянутый, как струна, провод и упали под изгородью. Уже догадываясь, что задумала радистка, но еще не веря в успех ее затеи, остро сознавая, как плохо обернется дело, если все сорвется, Бунцев лежал на земле, следя за приближающимся мотоциклом, и на всякий случай вытаскивал пистолет. Мотоциклист, видимо, хорошо знал дорогу и предполагал, наверное, что обрыв провода произошел где-то дальше. Может быть, связь и раньше нарушалась, и связисты уже знали, где чаще всего случаются обрывы. Во всяком случае, водитель гнал машину, ловко объезжая неровности дороги, как будто ехал среди бела дня по асфальту. Полоса света достигла места, где лежали летчики, в следующее мгновение грохот мотоциклетного мотора стал оглушающим, а еще через мгновение Бунцев увидел, как мотоцикл проносится мимо: тяжелая машина с коляской. В то же мгновение сидевший за рулем немецкий солдат вскинул руки, слетел с седла, мотоцикл вильнул, свет фары метнулся в поле, и машина с ревом рухнула в придорожную канаву, забилась там, как подбитая птица.Кто-то дико закричал. Кротова вскочила с земли, бросилась к дороге. Бунцев, не успев опомниться, за ней. Возле мотоцикла, оглушенный внезапным падением и, видимо, сильно помятый, возился на земле солдат без пилотки. Постанывая, он пытался подняться на ноги. Бунцев замер лишь на мгновение. Он знал: солдата надо убить. Немедленно. Оставлять в живых его нельзя. Надо убить, пока солдат не пришел в себя и не схватился за оружие. Но ему еще никогда не приходилось убивать человека, сойдясь с ним лицом к лицу… Бунцев увидел: радистка метнулась к солдату, сбила его, навалилась на отчаянно закричавшего… — А, сволочь! — вырвалось у капитана. Он рванулся вперед, уже не сознавая происходящего, зная только одно: то, что нужно сделать, нужно сейчас сделать ему, а не радистке, не женщине… Солдат дернулся и затих. — Где второй? — лихорадочно спросила Кротова. — Ищите второго! Теперь я сама… Бунцев, не чувствуя ног, выбрался на щебенку. Водитель мотоцикла валялся на обочине, как падал — лицом вверх. Капитан нагнулся. Голова, едва Бунцев прикоснулся к ней, качнулась, словно чужая распростертому телу. Капитан стоял на коленях и часто дышал… — Документы взяли? — услышал Бунцев быстрый голос Кротовой. — Ищите на груди! Стараясь не глядеть на голову убитого, Бунцев торопливо расстегнул прыгающими пальцами нагрудные карманы мотоциклиста, нащупал какие-то бумаги, запихал в куртку. — Пистолета нет? — спросила Кротова. — Нет… — сказал Бунцев. — Черт!.. Как его… — У того я взяла автомат. Надо еще поискать. В коляске. В коляске мотоцикла они обнаружили только сумку с инструментом. Но, поднимая мотоцикл, Бунцев задел ногой что-то твердое, нагнулся и нащупал второй автомат. — Есть, — сказал он. — Вот и оружие, — сказала Кротова. — Мотоцикл знаете? — Баловался… Бунцев ощупывал ручки мотоциклетного руля, уже разбирал, где газ, где тормоз, поражаясь тому, как обыденно отвечает Кротовой, словно ничего не произошло. — Не поврежден? — спросила радистка. — Вроде нет… Надо попробовать… — Выводите на дорогу, товарищ капитан. Радистка уперлась в люльку, вдвоем они выкатили тяжелую машину из канавы. От мотоцикла пахло бензином, и знакомый, давно привычный запах горючего действовал на Бунцева странно успокаивающе. «Иначе мы не могли, — впервые ясно подумал он. — Война. Мы не могли иначе». Он рывком нажал на педаль. Мотоцикл фыркнул, но не завелся. — Ничего! Заработаешь! — яростно сказал Бунцев мотоциклу. — Заработаешь, друг! Он выжал газ, давнул на педаль, еще давнул, и машина затрещала, оживая в привычных руках и подчиняясь им. — Надо убрать этих! — крикнула в ухо капитану Кротова. — Нельзя их оставлять! Бунцев оглянулся на трупы солдат. Да. Оставлять их на дороге нельзя было. Но он не стал глушить мотор. Почему-то было легче оттого, что мотор трещал. — Куда их? — крикнул Бунцев радистке, отрываясь от машины. — Где-нибудь должны быть труба или мостик! Погодите!.. Я сейчас! Кротова быстро пошла по дороге в сторону шоссе. Бунцев стоял около мотоцикла. Волнение еще не улеглось, но он уже ощущал трепет ветра, запахи ночной земли, вновь слышал далекий шум шоссейной дороги, видел дрожащие огоньки хутора. «Как быстро… — толчками бились мысли. — Там, на хуторе, конечно, не могли понять… Как быстро…» Он поглядел на водителя мотоцикла. Чувства жалости не возникало. Вместо жалости на Бунцева нахлынула волна ненависти к убитому. «Ты! — с яростью подумал Бунцев. — Ты заставил меня убить себя! Я никогда не хотел убивать! Но ты заставил! И я убил тебя, и если бы ты воскрес — слышишь, ты?! — если бы ты воскрес, я бы опять тебя убил, потому что ты заставил меня убивать людей! И я буду вас убивать! Слышишь, ты? Буду! Пока не убью всех, кто держит оружие! Чтобы вы не заставляли меня убивать! Чтобы никого не заставляли! Потому что люди должны жить, а не убивать!» Радистка потрясла Бунцева за руку: — Товарищ капитан! Есть! Труба. Там, дальше. Надо нести. Бунцев оторвал взгляд от водителя мотоцикла. — Да, — сказал он. — Давай понесем… А машина? — Пока оставьте… Бунцев отпустил руль: — Давай. Сначала этого. Давай, берись… Водоотводная труба находилась шагах в семидесяти, и перетащить оба тела было нелегко, но Бунцев и Кротова перенесли их и затолкали в трубу, где затхло воняло стоялой водой и плесневелыми камнями. Потом радистка побродила по щебенке, подобрала пилотку водителя мотоцикла, поискала, не осталось ли других следов, но ничего больше в темноте не нашла и вернулась к машине. — Все, — сказала Кротова. — Теперь поехали, товарищ капитан. Быстрей! Она забралась в коляску мотоцикла. — Вы на унты жаловались, — нервно смеясь, сказала Кротова. — Теперь легче будет. Теперь колеса есть. — На машине я вдвое человек, — сказал Бунцев, усаживаясь в седле. — Ну, Ольга! Я такую, как ты, впервые вижу… Он стронул мотоцикл и повел по дороге, удаляясь от хутора. Машина слушалась, хотя и норовила вильнуть на ямках и бугорках щебенки. Бунцев почувствовал горячащий азарт удачи. — Значит, на шоссе? — пригибаясь, крикнул он Кротовой. — На шоссе, товарищ капитан! — И к первой колонне? — К первой же колонне! Там поглядим! Бунцев удержал вильнувший мотоцикл, выпрямил, стиснул зубы, прибавил газу, и машина, завывая, рванулась вперед, в ночь, к шоссе.
3
Нина Малькова сидела на шершавом полу наглухо закрытого кузова тряского грузовика, поддерживая голову обессилевшей от болезни и побоев Шуры. Нина понимала, что смерть близка. Она поняла это еще в тюрьме по лицам вошедших в камеру гестаповцев, по их голосам, по их жестам, потому, что «такие» лица, «такие» голоса, «такие» жесты могли быть лишь у тех, кто ведет к виселице или яме… Ей пришлось помогать Шуре. Шура уже никого не узнавала, ноги у нее подкашивались, глаза не открывались. Нина вела Шуру по коридорам, потом по двору, к высокому черному фургону, где возле открытой задней двери стоял с карманным фонариком какой-то человек в высокой фуражке эсэсовца и недовольно кричал высоким тенором на солдат. Поднять Шуру в фургон Нина не сумела. Ее самое приподняли и толкнули в грузовик, а потом бросили туда же Шуру, и Нина оттащила подругу в угол, положила ее голову на колени и притихла, отдыхая. Из своего угла она видела, как вталкивали в фургон трех мужчин. Один показался Нине похожим на крестьянина, приютившего беглянок. Двух других Нина не знала, но ей показалось, что один уже мертв: брошенное в грузовик тело ударилось о доски с тупым стуком. — Готово! — недовольно сказал кто-то. — И подумать, что из-за пяти дохляков… — Не рассуждать! — оборвал звонкий тенор. — Закрыть дверь. — Слушаюсь, господин шарфюрер! Дверь захлопнули, в кузове воцарился мрак, и доносившиеся снаружи звуки стали глухими, ватными. Кто-то ходил, кто-то о чем-то спрашивал, послышался шум подъехавшей машины, кто-то рассмеялся, потом грузовик слегка тряхнуло — видимо, садился шофер, — зарокотал мотор, и начало покачивать и трясти… Нина очнулась, когда грузовик, завывая, брал подъем. Голова Шуры сползла с коленей, Нина сама съехала с места, ей пришлось кое-как вновь подбираться к углу кузова. Пока она подбиралась, фургон выехал на ровное, мотор загудел спокойно, и тряска улеглась. Нина с облегчением закрыла глаза. Ей послышалось, что рядом, в глухой темноте фургона, кто-то бормочет, и по интонациям бормотавшего она поняла, что неизвестный молится. Чему он молился? Зачем молился? Ведь тряска кончилась, дорога пошла гладкая, похоже было, она еще долго будет гладкой, ведь ехали быстро! И мотор гудел так ровно, так деловито, так надежно!.. Нина вновь погрузилась в тишину и оцепенение, инстинктивно приноравливаясь к колыханиям кузова, чтобы не разбередить боль и не потревожить Шуру, и не поняла, сколько времени прошло — мгновение или часы, потому что, открыв глаза, почувствовала: гладкая дорога не кончилась, мотор работает по-прежнему деловито и надежно… Она прижала к животу голову Шуры. Нагнулась, словно защищая больную. Ведь мотор гудел о том, что все идет, как надо, что все предусмотрено, все само собой разумеется и ничего иного быть уже не может. А она хотела жить! Она не хотела признать, что ей и Шуре надо сейчас умереть. Не хотела признать, что ничего иного быть не может. Нет!.. Прерывисто дыша, облизывая пересохшие губы, Нина торопливо гладила жесткие, спутанные волосы подруги, ощупывала ее невидимое в темноте лицо. Мотор по-прежнему успокаивающе гудел, что ничего не будет: ни мучений совести, ни побоев, ни издевательств, ни оскорблений и обид — ничего! — Ничего?!! Значит, у Нины с Шурой хотели отнять и землю, и небо, и тепло дружеских рук, и голоса людей, и поцелуи невстреченного любимого, и жаркую радость слияния с ним, и неизведанное счастье материнства, и смех и лепет нерожденных малышей?!! — Нет!.. — закричала Нина, стискивая голову Шуры. — Нет!! Невидимый сосед споткнулся на полуслове и тотчас забормотал еще быстрей и истовей. — Нет… — шепотом повторила Нина, но тут же какая-то огромная сила опять всколыхнула ее. — Товарищи! — крикнула она. — Кто вы? Где вы? Товарищи! Сосед опять споткнулся на полуслове, а из другого угла чей-то слабый голос отозвался: — Товарищ! Человек произнес это русское слово неуверенно, но, видимо, он знал это слово, и оно значило для него сейчас так же много, как для Нины. — Товарищ! — повторила Нина ликуя: она не одна, рядом находился друг! Она вложила в слово «товарищ» всю свою тоску по жизни, всю веру в жизнь, всю волю к жизни. Тот, что молился, умолк. Он вслушивался. Вслушивался в странное русское слово, звучавшее с такой непонятной силой и властью, что пробуждало надежду. Это слово отметало прочь мрак тряского фургона смерти, отметало прочь то, что ждало брошенных сюда, и вера, звучавшая в нем, была сильнее веры, звучавшей в молитвах. — Товарищи! Товарищи! — звала Нина. — Надо же что-нибудь!.. Как-нибудь! Мы не должны так!.. Нина протянула во тьму руки, сжатые в кулаки. — Не позволим убить себя! Не позволим! Товарищи! Не позволим! Она выпростала ноги из-под тела Шуры, шатаясь, бросилась к запертой двери фургона, ударила в нее плечом, отшатнулась, еще ударила и, не удержавшись на ногах, рухнула… Голова плавно закружилась, шум мотора отдалился, растаял в плотной, непроницаемой тишине.В просвете между пилоткой шофера и фуражкой лейтенанта Миниха набегала на ветровое стекло «хорха» серая полоса слабо освещенного подфарниками шоссе. Зажатый между двумя неизвестными ему офицерами (один в форме войск СС, другой в незнакомой, видимо венгерской), штурман Телкин напряженно ждал, чем кончится эта загадочная поездка. — Будет небольшая прогулка! — сказал ему без обычной улыбки майор, который вел допросы. — Почти пикник… «Расстрел?» — подумал Телкин. Но по виду майора он понял: его ждет не расстрел, а что-то другое. «Что же? Что? — мучительно думал штурман. — Чего они еще хотят?» Его вывели во двор. Лейтенант Миних ободряюще потрепал штурмана по плечу: — Гут, гут! Потом штурмана втолкнули в этот красивый, пахнущий кожей и дорогим табаком «хорх», повезли по городу. У высокой каменной стены на окраине города «хорх» остановился, лейтенант Миних и сидевший справа от Телкина эсэсовец вышли к часовым, предъявили какие-то документы, ворота раскрылись… «Тюрьма! — подумал Телкин. — Привезли в тюрьму…» Но ему не предложили выйти из машины, заставили остаться в «хорхе», а потом офицеры уселись на свои места. Машина опять мчалась через затемненный город, мимо домов, лавок, садов, особняков, выбралась на шоссе и покатила по шоссе. Еще в городе Телкин оглянулся и заметил, что вплотную за «хорхом», не больше, чем в десятке метров от него, едет высокий грузовик. — Не глядеть! — рванул штурмана за плечо эсэсовец. Телкин подчинился, не оборачивался больше, но все время прислушивался и знал: высокий грузовик не отстает, он здесь, прямо за «хорхом»… Третья бессонная ночь начиналась для лейтенанта Телкина. Третья бессонная ночь после двух суток нечеловеческого напряжения игры с немецкой разведкой. У Телкина почти не оставалось сил, чтобы разгадывать эти загадки. Он приказывал себе помнить лишь об одном: что бы немцы ни делали, они сделают это, чтобы еще раз проверить тебя. Надо быть начеку. Надо быть начеку!.. А ему хотелось спать. Глаза сами закрывались, голова сама падала на грудь, и вдруг штурману померещилось, что он не в машине, мчащейся куда-то, а в кабине своего бомбардировщика, на своем месте чуть позади и пониже капитана Бунцева, и где-то там, за спиной, съежилась возле пулеметной турели сержант Кротова, и они уже отбомбились, летят домой, и линия фронта уже позади, и скоро их аэродром… Телкин расслабленно и счастливо улыбнулся. Ему странно было только, почему, если линия фронта позади, если все в порядке, почему его не покидает чувство какой-то опасности. Бунцев неожиданно толкнул Телкина и почему-то по-немецки закричал в самое ухо: — Нихт шлафен! — и голос у него был не бунцевский, а чужой, совсем чужой. — Саш… — бормотнул Телкин. — Брось… Ну!.. Его снова встряхнули, на этот раз штурман пришел в себя и невольно привстал: самолет уже мчался по взлетной дорожке… Кто-то рванул Телкина вниз, на сиденье, и он окончательно проснулся, и опять увидел пилотку шофера и фуражку лейтенанта Миниха, и понял, что впереди не взлетная дорожка, а проклятое, неизвестно куда ведущее шоссе. Но спать хотелось неудержимо, спать хотелось сильней всего на свете, и спать даже надо было, так как немцы не хотели, чтобы штурман спал. Они почему-то этого не хотели, им надо было, чтобы он не спал, и Телкин поднял голову, широко раскрыв глаза, откинулся на кожаную мягкую спинку заднего сиденья «хорха» и все-таки заснул. Заснул, обманув гадов, заснул с открытыми, ничего не видящими глазами. Немцы поглядывали на лейтенанта, ничего не подозревая. Так промчались пять, десять, пятнадцать минут. Лишь тогда, заподозрив неладное, эсэсовец грубо двинул Телкина плечом в грудь, и штурман, проснувшись, медленно повернул к офицеру хмурое лицо. — Нихт шлафен! — сказал фашист. Телкин только бровями повел. Несколько минут сна освежили. Голова стала ясней, шею уже не ломило, как прежде, и веки освободились от налитого в них свинца. Машина замедлила ход. Лейтенант Миних вертел головой, словно приглядывался к местности. Он показал шоферу рукой направо. «Хорх» проехал еще метров двести, притормозил и свернул с шоссе на грунтовую дорогу. Телкин слышал: высокий грузовик идет следом за ними. «Хорх» переваливался в колеях, по левому борту царапнули ветки не то деревьев, не то кустарников. В тусклом свете подфарников перед машиной качалась глинистая, с травой на проезжей части дорога. Дорога свернула влево, словно огибаяхолм, потом опять вправо, огибая другой холм, пошла под уклон, на «хорх» наплывали, сближаясь, глинистые, поросшие кустами откосы оврага, потом дорога резко свернула налево, и откосы оврага раздвинулись, пропали, а лейтенант Миних поднял руку и четко приказал: — Стоп! «Хорх» остановился. Сидевший рядом с Телкиным эсэсовец выскочил из машины, что-то закричал шоферу грузовика. Грузовик медленно объехал легковую машину, протащился метров двадцать и тоже остановился. — Можно выходить! — обернулся к Телкину, скаля лошадиные зубы, лейтенант Миних. — Пикник начинался! Пожалуйста!
Охранники, высыпавшие из высокого фургона, делали свое дело без лишней суеты и торопливости, как опытные и уверенные мастера. Двое вытащили лопаты и кирки, отнесли шагов на пятнадцать от грузовика, прикинули на глаз расстояние, отнесли инструмент еще шагов на пять. Трое других тем временем, повозившись в фургоне, стали выводить оттуда людей. Какую-то рослую девушку и двух мужчин они вытолкали, а затем сбросили на землю два тела. Рослая девушка закричала. «Убийцы проклятые!» — услышал Телкин. Мужчин прикладами автоматов заставили подойти к выкинутым из фургона телам. Выполняя приказ эсэсовца, они нагнулись, подняли одно — из тел, отнесли к тому месту, где лежали лопаты и кирки, потом вернулись за вторым. — Мерзавцы! Подлые убийцы! Мерзавцы! — крикнула фашистам рослая девушка, разгибая спину. — Все равно не спасетесь! Все равно! «Наша! Наша! — с отчаянием думал Телкин, глядя на девушку. — Их привезли на расстрел! Немцы хотят, чтобы я… Вот чего, гады, хотят! Вот зачем!.. Ух, гады, сволочи! Гады!» Эсэсовец отдал новую команду, водитель грузовика залез в кабину, развернул фургон радиатором к привезенным на казнь, включил фары. Свет ослепил обреченных, они невольно подняли руки, заслоняясь от ярких потоков его. — Зо! — крикнул Миних. — Вундершон! Он все суетился где-то сбоку, забегал с разных сторон, словно выбирал место, откуда лучше будет смотреть. Эсэсовец приказал водителю потушить фары. Фары погасли. Теперь у грузовика горели только подфарники. Но пока свет бил прямо в заключенных, Телкин успел разглядеть их: статную русоволосую девушку в рваном полосатом одеянии, сутулого седоволосого мужчину в рыжем пиджаке и невысокого, видимо, тоже пожилого человека с темными усами. «Наши, наши! — думал Телкин. — Ведь наши!..» Охранники приблизились к своим жертвам, сунули им в руки лопаты, указали, где копать. Какое-то замешательство возникло там, но спины охранников загораживали место казни, и штурман не мог разобрать, что произошло. Громкая немецкая брань заглушила протестующие голоса, потом все смолкло, и Телкин различил стук лопат, вынимавших землю. «Копают… Сами себе… — с ужасом и тоской понял Телкин. — Сами себе…» Можно было, конечно, броситься на эсэсовца, распоряжавшегося казнью, сбить его. «Они же хотят, чтобы я стрелял! — лихорадочно думал Телкин. — Они дадут мне оружие!.. Надо ждать, пока дадут оружие!.. Только бы дали оружие!..» К штурману приблизился Миних, потрепал лейтенанта по плечу, засмеялся. — Пикник! На пикнике можно пить! Хотишь? Он протягивал штурману флягу. От самого Миниха уже попахивало. Телкин брезгливо отдернул голову. Пить после такого дерьма!.. Миних опять расхохотался: — Не бойсь! Коньяк! Пей! Он все тыкал и тыкал флягу, и Телкин с трудом удерживался от искушения трахнуть лейтенанта. — Не пью коньяк! — сообразил, наконец, что сказать, Телкин. — Нихт?! — удивился Миних. — А! Ты любишь водка? Верно? Руссиш водка! О! Да! Это продукт колоссаль! «Погоди, продукт!» — подумал Телкин. Эсэсовцу, видимо, не нравилось, как идет работа. Он поглядел на часы, покачал головой и отдал какой-то новый приказ. Тотчас двое охранников взяли лопаты, стали помогать рыть могилу. Эсэсовец и Миних о чем-то посовещались, подозвали водителя грузовика, тот козырнул, подбежал к фургону, снова включил фары. С помощью охранников обреченные на казнь уже углубились в землю по колено. Миних помахал копавшим эсэсовцам, попросил отойти, присел на корточки, и Телкин увидел: Миних снимает сцену рытья могилы. «Ублюдок! Подонок! — клокотало в душе у Телкина. — Тварь!» «Его — первого, — решил Телкин. — Как дадут оружие. Первого…»

Бунцев остановил мотоцикл перед выездом на шоссе и стоял с выключенной фарой, прислушиваясь и приглядываясь. Машины проходили редко, все одиночные. — Нам нужна колонна, — шепотом повторяла радистка. — За одиночной машиной не наездишься. Остановят ее — и нас остановят. Не успеешь развернуться. А в хвосте колонны или хотя бы двух машин мы хозяева положения. Пока у головной документы проверяют, мы за несколько километров окажемся… Но колонны пилоты пока не видели. Бунцев нет-нет да оглядывался назад, на щебенку: нет ли погони? Оглядывалась и Кротова. Автомат она держала наготове. Показались огоньки, послышался шум мотора. Бунцев насторожился, с нетерпением ждал, пока станет понятно: одиночная машина показалась или их несколько идет… Машина была опять одиночная и легковая. — Черт! — сказал Бунцев. — Сговорились они, что ли? — Ничего. Будет колонна или грузовик, — сказала Кротова. — Должны быть. — Ага! — сказал Бунцев. — А куда пойдут? — Все равно, — сказала радистка. — Нам бы километров на двадцать отъехать… Нам же все равно, товарищ капитан! Бунцев, однако, не считал, что им все равно, куда ехать. Его так и тянуло оказаться поближе к линии фронта. А чтобы оказаться поближе к линии фронта, следовало двигаться, как думал капитан, направо по шоссе, на северо-восток. И ему страстно хотелось, чтобы первая колонна машин показалась слева. Он понимал, что ехать придется за любой колонной, откуда бы она ни появилась, так как от щебенки надо уезжать немедленно, но ему очень хотелось, чтобы колонна появилась слева. Он и смотрел больше влево, словно силой взгляда мог вызвать из ночной тьмы желанные огоньки. Азарт первой удачи постепенно остывал, и, хотя нервы были напряжены по-прежнему, капитан снова начинал рассуждать трезво. Его вовсе не манили ночные приключения, подобные нынешнему. Его место, как ни крути, было не здесь, а за штурвалом бомбардировщика. В конце концов он был летчиком, и он имел право быть летчиком, и должен был поскорее вернуться в полк, вместо того чтобы шарахаться по немецкому тылу с сомнительными надеждами на то, что удастся прикончить еще двух — трех гитлеровцев. Он все поглядывал влево, и огоньки небольшой колонны первой заметила Кротова. — Товарищ капитан! — тронула она Бунцева за рукав. Бунцев повернул голову и даже крякнул с досады. Колонна шла справа… — Пропустите машины и выезжайте! — сказала Кротова. — Держитесь на расстоянии сотни метров от задней. Чтобы затормозить или свернуть можно было… — Ладно! — бросил Бунцев. Приходилось подчиняться обстоятельствам, и он был достаточно умен, чтобы подчиниться им. Колонна приближалась. Она двигалась с потушенными фарами, и только рассеянный свет подфарников выдавал ее. — Авиации-то боятся! — с быстрой усмешкой сказал Бунцев. Головная машина поравнялась с пилотами: громоздкий, укрытый брезентом грузовик. Под брезентом угадывались ящики. — Боеприпасы, наверное, — сказала Кротова. — Ах, ты… Одну бы миночку сюда! Хоть одну бы миночку! — Ладно тебе! — бросил Бунцев, не отрывая взгляда от проходящих машин. — Скажи спасибо, что не видят нас! Миночка! Он насчитал пятнадцать машин. — Пора! — сказала Кротова. — Пора, товарищ капитан! Волнуясь, Бунцев стронул мотоцикл, выехал на шоссе поехал за колонной. Красный стоп-сигнал замыкающего грузовика маячил перед глазами в каких-нибудь сорока шагах Капитан отлично видел, что у заднего борта грузовика, укрывшись брезентом, сидят солдаты. Несколько солдат. Наверное, из охраны колонны. Один даже приподнял брезент, поглядел на приставших к колонне мотоциклистов, но почти тотчас же отвалился к товарищам. Брезент опустился… — Не разглядел, — сквозь зубы, взволнованно сказал Бунцев. — И не разглядит, — спокойно ответила радистка. Бунцев покосился на нее. Кротова сидела в люльке, держа автомат на коленях, откинувшись на спинку сиденья, и только щурилась. Бунцев покачал головой. Сам он отнюдь не испытывал ни облегчения, ни покоя. От одной опасности они с Кротовой уходили, верно. Но только для того, чтобы втравиться в десятки новых. Бунцев просто предчувствовал, что добром такое наглое вторжение на немецкое шоссе не кончится. У него заломило в висках, когда послышался шум встречной машины. — Порядок, порядок! — тут же сказала Кротова. — Только не сворачивайте!.. Встречный грузовик промчался мимо, на миг посветив подфарниками. Его шум постепенно затихал. У Бунцева отлегло от сердца, виски отпустило. — Привыкнете, — сказала Кротова. — Видите, как просто… Попалась еще одна встречная машина, потом еще одна, а потом целая колонна машин, где на трех задник, сутулясь, сидели солдаты с автоматами, и ни одна из этих машин не остановилась, никто даже не окликнул мотоциклистов, хотя кое-кто из солдат и смотрел на них. Видимо, никому не приходило в голову, что по шоссе, вплотную за колонной с боеприпасами, не таясь, едут советские воины. — Ты скажи!.. — проговорил Бунцев. — Нет, ты скажи!.. Ощущение постоянной опасности, сознание дерзости собственных поступков опять горячило, опять вызывало прилив сил, пробуждало желание действовать еще отчаяннее. — Близко подъехали! — предупредила Кротова. — Отставайте, отставайте, товарищ капитан! Нас не должны разглядеть! Она, видимо, все время была настороже, ее не опьяняла эта поездка, не будоражил дьявольский риск. Она все взвешивала и учитывала. «Ну черт! — в который раз подумал Бунцев. — Ну и ну!» — Он поубавил газу и немного отстал от грузовика. — Довольно? — спросил он. — Порядок, — отозвалась радистка, перевешиваясь через борт люльки и пытаясь рассмотреть шоссе впереди колонны. — Возьмите чуть левее, товарищ капитан, а? Бунцев взял левее. — Что там? — Да как будто все спокойно… — сказала радистка. — Я смотрю, нет ли контрольно-пропускного впереди… Вроде нет… Бунцев вернул мотоцикл на правую сторону шоссе. — Километров пять отмахали, — сказал он. — Интересно, много у них бензина в бачке? — А на указателе? — Испорчен. Мотоцикл-то старый… Тоже мне раса господ! — Обтрепались они, — с усмешкой сказала Кротова. — Не подрассчитали прогулку, вот и результат… Некоторое время ехали молча. Тускло светил стоп-сигнал идущего перед мотоциклом грузовика. Под брезентом ворочались солдаты. Проносились встречные машины. — Слушай, — сказал Бунцев. — А если нагонять будут? Кротова оглянулась: — Вряд ли… А нагонят — посмотрим… Километров восемь есть? — Есть. — Еще бы столько… Если нагонять будут — присматривайте съезд с шоссе, товарищ капитан. Свернем. — Лады. Промелькнула встречная. — Если бы гады знали, кто тут едет… — сказал Бунцев. — Никогда бы не поверил, что так можно. Как во сне. — Ничего, — сказала радистка. — Это сначала всегда так, товарищ капитан. Я тоже не верила первый раз. — Это где было? — спросил Бунцев. Кротова подождала, пока стихнет шум очередной встречной. — Под Брянском, — сказала она. — Первый раз там. Под Брянском. — Тоже на мотоцикле? — Нет. На легковой. На трофейном, «фиате». — Чего раньше не рассказывала? — Так, ни к чему было, товарищ капитан, — сказала радистка. Разговаривая, приходилось кричать, чтобы слова могли пробиться сквозь гул автомобильной колонны и грохот мотоцикла. Бунцев умолк. Умолкла и радистка.


В рассеянном свете проносились по бокам шоссе силуэты редких деревьев, побеленные столбики над водоотводными трубами и мостиками, телеграфные столбы со стайками фарфоровых изоляторов, по-птичьи присевших на деревянные перекладины, словно в поисках ночлега. Километр. Второй. Третий… — Машина! — тронула Бунцева за руку радистка. Бунцев оглянулся. Их кто-то нагонял. Машина была еще далеко, но чувствовалось — она приближается, с каждой минутой «съедая» расстояние. Капитан стиснул ручки мотоцикла, высматривая какой-нибудь пологий съезд. Но съезда пока не было. Вдоль шоссе все тянулся и тянулся глубокий кювет. — Близко? — не оборачиваясь, не сводя глаз с обочины, бросил Бунцев. — Еще можно… — отрывисто сказала Кротова. Промелькнула минута. — В крайнем случае останавливайте… — начала Кротова, но в этот самый миг Бунцев увидел съезд. Полевая дорога круто сползала вправо. Капитан сбросил скорость, отстал от колонны, медленно свел мотоцикл с шоссе. — Быстрей! — сказала Кротова. — Гасите фару. Они вслепую проскочили десяток метров, впоролись в откос, в кусты, и капитан остановил мотоцикл. Кротова выскочила из люльки, вдвоем они быстро вытащили машину на ровное место. Прислушивались. Догонявшая их машина промчалась мимо. — Пронесло, — сказал Бунцев, вытирая пот. — Что теперь? — Сколько мы дали? — спросила Кротова. — Километров пятнадцать… — Тогда хватит. Поехали в сторону. Мотоцикл затрещал. Фара выхватила из тьмы поросшую травой дорогу. Бунцев дал газ. Дорога свернула влево, огибая холм, потом направо, огибая другой холм, пошла под уклон, на мотоцикл наплывали, сближаясь, глинистые откосы оврага, потом дорога круто бросилась вправо, и тут же перед летчиками вспыхнул яркий свет, и они увидели прижавшуюся к обочине легковую машину, какой-то высокий грузовик, и в ослепительном свете фар грузовика каких-то людей с оружием и других людей — связанных, стоящих на куче глины… Бунцев, не выключая мотора, сорвал с шеи автомат и ударил, не раздумывая, по вооруженным людям. Над ухом капитана резко и беспощадно бил автомат Кротовой…
Глава пятая
Офицер связи армии капитан Леопольд Фретер нервничал. Ему было приказано срочно доставить в Токай, командиру учебного полка майору Риттеру, пакет командующего, а в тридцати километрах от Токая у мотоцикла испортился мотор, и вот уже полчаса Фретер стоял на шоссе, напрасно ожидая какой-нибудь попутной машины. Водитель мотоцикла виновато копошился в моторе. — Ты у меня пойдешь под арест, сукин сын! — выбранился несчетный раз капитан Фретер, подходя к мотоциклу. — Ты обязан следить за машиной! — Господин капитан, это механики… — На фронт пошлю, мерзавец! — оборвал Фретер. — Не разговаривай, а работай! Скотина! Фретера разбирало зло. В кои веки выпадет такое замечательное поручение! Доставив пакет, можно было бы заночевать в Токае, и Фретер заранее предвкушал удовольствия ночи. Он знал одно местечко, где солдат может отдохнуть и забыться без всякого риска как для служебного положения, так и для здоровья. «Как зовут ту шатеночку? — попытался вспомнить Фретер. — Ализа или Элла?.. Нет, кажется, все-таки Элла… Ализа — эта та, в матросочке, зеленоглазая». Он всегда путал имена шатеночки и зеленоглазой, никак не мог твердо запомнить, какую как зовут, и это смешило Фретера, всегда придавало встречам особую пикантность. Капитан отшвырнул сигарету, и красный огонек, прочертив полукруг, погас где-то в мокрой траве. Черт! Что толку мечтать, когда этот идиот не может исправить мотор, и, как назло, ни одной попутной! — Долго еще? — спросил Фретер. — Стараюсь, господин капитан… — уныло ответил водитель. — Ну, смотри, задница! — пообещал Фретер. — Ты у меня запоешь! Я тебя научу держать машину в порядке! Научу! Он опять закурил и стоял посреди шоссе, расставив ноги, мрачно вглядываясь в пустынную дорогу. «Сволочь! — уныло думал водитель, ломая голову над тем, что же стряслось с мотором. — Сволочь! Из-за ерунды пропаду! Фретер такая скотина, что действительно на фронт может сунуть… Назначили, прости мне, господь, офицером связи такую жабу! Пьяница и бабник, сволочь! Говорят, из-за баб он под суд чуть не угодил, да у него дядюшка генерал, выручил племянничка… Сволочи! Пороха не нюхали, а туда же…» Водитель Шпейдель остро ненавидел тыловых офицеров. Сам он долго служил в регулярных войсках, проделал польскую и югославскую кампании, участвовал в оккупации Норвегии, почти три года провел на русском фронте, где получил два тяжелых и одно легкое ранение. Шпейдель знал, почем фунт лиха. Он знал, что такое идти за огневым валом, знал, каково сопровождать танки, и, когда после второго тяжелого ранения попал в комендантские части, вздохнул с облегчением. Тут, конечно, тоже несладко было, в особенности если посылали против партизан, но все же легче. А последние три месяца вообще хорошо жилось. Посылали только на расстрелы. А это, как известно, дело тихое, неопасное… «Надо было держаться комендантской команды! — думал Шпейдель, копаясь в моторе. — Черт меня дернул послушать этого Зигфрида! Напел всякой всячины, скотина! И машина, мол, в твоем распоряжении, и времени свободного сколько хочешь!.. Замолвил словечко, дерьмо такое! Сунул в штаб, в мотоциклисты… А тут эта жаба Фретер! И вообще все тыловое дерьмо!» — Скоро? — донеслось с шоссе. — Я стараюсь, господин капитан, — сказал Шпейдель. — Стараюсь же! — Ну, смотри… — завел было капитан Фретер свою обычную песню, как вдруг умолк. Шпейдель выпрямился. — Машина, господин капитан! — Сам слышу! Делай свое дело! — сходя с шоссе и останавливаясь возле испорченного «харлея», оборвал Фретер. — И считай, что тебе повезло, если меня возьмут. Оба, и офицер и солдат, вглядывались в даль, где уже светились огоньки. — Две машины, — определил Шпейдель. — Передняя — легковая, кажется. Машины приближались на большой скорости. — Работай! — сказал Фретер. Он сделал шаг вперед, вынул из кармана сигнальный фонарик и замигал, приказывая машинам остановиться. Машины не сбавляли скорости. — Мерзавцы! — пробормотал Фретер, продолжая сигналить. — Пусть только попробуют проехать мимо. — А может, начальство? — высказал предположение Шпейдель. — Шофер обязан остановиться! — сказал Фретер, вытягивая руку. Машины надвигались стремительно. — Мимо! — сказал Шпейдель. Ни Фретер, ни Шпейдель не успели больше произнести ни одного слова и даже не поняли, что, собственно, произошло: мчащийся мимо мощный «хорх» неожиданно резко вильнул влево, и перед Фретером и Шпейделем на мгновенье вырос радиатор машины…Похожая на больную таксу, потрепанная «ханза» майора интендантской службы Густава Лока медленно ползла по дороге, делая от силы тридцать километров в час. При выезде из Мишкольца у «ханзы» лопнул левый задний баллон. Шофер сменил его, использовав последний запасной баллон, и Густав Лок проехал Токай без приключений, но за Токаем, словно нарочно, забарахлил мотор. Возвращаться было бессмысленно. До Наддетьхаза оставалось примерно столько же, сколько майор отъехал от Токая. И Лок приказал шоферу полегоньку ехать вперед.

— Загубим машину, — вздохнул шофер. — Черт с ней! — вспылил Лок. — Может быть, тогда получим что-нибудь приличное, а не такой драндулет! Шоссе оставалось пустынным. Прошла колонна грузовиков, но ее водители ничем помочь не могли, лишь высказали сочувствие. «Ханза» поползла дальше. Так прошло около получаса. Показался одинокий грузовик. Майор Лок вышел из машины, поднял руку, но грузовик не остановился. — Свиньи! — вскипел Лок. — И номер запачкан! — Господин майор, — заметил шофер. — Эти не остановятся. — Что такое? — Это же фургон… — сказал шофер. — Эйнзатцкоманда. Майор оторопело поглядел вслед исчезающему грузовику. — Ах, вот оно что… — смущенно пробормотал он. — Да, действительно. Он покорно влез на свое место. «Ханза» ползла и ползла по шоссе, и майор Лок начал уже подремывать, смирившись с мыслью, что до рассвета вряд ли попадет в Наддетьхаза, а в свою дивизию раньше вечера не попадет вообще. Очнулся он от того, что «ханза» остановилась. — Какая-то машина, господин майор, — сказал шофер. — Машина? Лок снова вылез наружу. Они с шофером подошли к стоявшей на обочине легковой. Это был вишневый «хорх» с разбитой правой фарой и спущенным левым передним баллоном. — Авария, — сказал шофер. — Столкнулся с кем-нибудь. Он суетился вокруг автомобиля. — Господин майор! Тут есть запасной баллон! — Ну и что? — спросил Лок. — Он же нам не годится. Шофер, не отвечая, забрался в «хорх». Через секунду мотор «хорха» заработал. — Господин майор! — возбужденно крикнул шофер, высовываясь из приоткрытой дверцы. — Работает! Лок приблизился, похлопал ладонью по мощному корпусу автомобиля: — Скажите пожалуйста! — Господин майор! — волновался шофер. — Разрешите оприходовать? Лок поколебался: — A y нас ее не отберут? — Кто, господин майор?!. Машина вряд ли военная… Наши бы ее не бросили! Это венгры какие-нибудь!.. Господин майор! — А номер? — спросил Лок. — Плевое дело! — ответил шофер. — Номер — плевое дело, господин майор! Снимем с нашей «ханзы», и точка. А этот выбросим… Я ее перекрашу, господин майор! Ее родная мама не узнает! — Собственно… — неуверенно начал майор Лок. — Собственно, я имею санкцию на приобретение машины у населения. А в случае необходимости — на реквизирование… — Послушайте меня, господин майор! — возбужденно сказал шофер. — Вы только меня послушайте! Ну, что ваша «ханза»? Коляска для грудных, честное слово! На нее и мотор-то по ошибке поставили! А это же зверь, господин майор! Восемь цилиндров, господин майор! Вы только представьте себе — восемь! За два часа в дивизии будем! — Ну, а что делать с «ханзой»? — неуверенно спросил Лок. — Бросить ее к чертовой бабушке! Я ее сейчас с дороги сверну. Берем, господин майор? Да? Лок помялся. Рискованно, черт побери! Но, с другой стороны, жаль упускать случай. Все равно кто-нибудь подберет этот «хорх». А «хорх» явно венгерский. Военные бы такую машину не бросили. — А! Будь что будет! — сказал Лок. — Снимай номера! Меняй! Только чтобы завтра же перекрасить! — Нынче же ночью перекрашу! — обрадованно крикнул шофер, бросаясь к «ханзе». — Родная мама не узнает! Через пятнадцать минут злосчастная «ханза» была сброшена в кювет, номера на «хорхе» сменены, и Лок уселся рядом с шофером в новый лимузин. «Хорх» плавно набирал скорость. — Я же говорил — зверь! — ликуя, крикнул шофер. — Вы меня век за эту машину вспоминать будете, господин майор! Век! Я вам точно говорю!
Оставив умирающую жену на попечение невестки и сына, Тибор Каналаш натянул кожух и, тыча палкой, как слепец, побрел за ксендзом. Тибор прожил с женой сорок лет, он уже и забыл, какой она была в девках, и про то, как любил ее когда-то, тоже забыл, а если честно сказать, он давно уже только терпел ее присутствие в доме: перед богом обет давали, двух сынов и дочку она Тибору родила, тут хочешь не хочешь, а терпи! Но в потайных думках не раз представлялось Тибору, что жена-то и была причиной всех его бед, всей его нескладной жизни. Молодость глупа! Позарился на ясные глазки да розовые щечки батрачки, умней и сильней всех себя мнил, наперекор отцу пошел, а что вышло?.. Жаркими ночками сыт не будешь! Как прижала нужда, как взяло в оборот горе-гореванское, так и ясные глазки не милы сделались. Да и то верно толкуют, что все бабы только в девках хороши. Другая бы терпела, жила бы тем, что господь послал, а Тиборовой жене все не так!

Ох, горько слушать бабьи попреки да насмешки, слышать в голосе той, кого за ангела почитал, черную зависть к людям, лютую, неуемную жадность! А еще горше видеть, как торопится человек для себя одного лучшее урвать, о семье не думает, добро по ветру пускает! На третьем году совместной жизни собрался Тибор купить телку. Хорошую телку присмотрел у богатого мужика в Демшеде, и сговорился уже, по рукам ударили, а прибежал домой за деньгами, в потайном местечке уложенными, и чуть не ополоумел. Ткнулся в пустую укладку, как бык под обухом… И вдруг вскочил, рванулся к дому. Вспомнил: с прошлого воскресенья жена что-то непривычно ласкова была, посытней его кормить норовила, все прижималась да зазывно, тревожно посмеивалась, как молодуха!.. Жена как завидела Тибора, так за печку и — голосить. Кинулся он к бабьему сундуку, ключа под рукой не оказалось — топором замок сбил, откинул крышку, раскидал, что поверху лежало, и на минуту окаменел, держа перед собой расшитый шелками, замшевый, на пушистом меху полушубочек. Вот оно! Вот куда его по г. пошел! Сотворила по-своему, ведьма! Купила-таки не спросясь!.. И в бешеной злобе изрубил Тибор тем же топором злополучный наряд в куски. Пол повредил, так гакал!.. После жалел, конечно. Телки не досталось, так хоть одежа была бы. Но в первую минуту ни о чем не помнил, ни о чем не думал, кроме одного: баба ему поперек пошла, на пустое деньги бросила, хозяйство рушит, назло ему свое вершит. Враг! Враг в доме его, а не жена!.. Жена не забыла побоев и изрубленного полушубочка не забыла. Начался в семье сущий ад. Тибор — одно, жена — другое. Чуть отвернулся — полетели форинты на побрякушки, на ленты, на зеркальца, на кружева. Просил. Бил. Снова просил. Как об стену горох! Ты, мол, для меня обновы пожалел, так на вот, получи! Мне жизни не даешь, и тебе жизни не будет… Молчал Тибор. С такой бедой к людям не выйдешь: засмеют. Скажут: с бабой не совладал! И одно утешение осталось — вино. А где вино, там горе одно, всем известно… Опомнился Тибор. Трое ребятишек отцовских бед не хотят знать. Им хоть кусок хлеба, да подай в день!.. И потянулись безотрадные, оглушающие заботой будни. У другого, хоть и впроголодь живет, да близкая душа рядом. Другому есть с кем на будущее понадеяться. А у него никого. Жена — враг. Говорили, и погуливать начала. Но Тибору уже все равно стало. Чужая. Пусть как хочет!.. С тоской думал он, что иначе вся жизнь повернулась бы, приведи он в дом другую. Иначе повернулась бы! И не надо особого богатства, бог с ним. Человека, человека рядом с собой видел бы! …Старуха слегла неожиданно. Вроде крепкая была, а тут слегла. И вот нынче под утро велела ксендза звать. Еле прошептала: «Ксендза!..» А сама уже серая. И никого не видит… Тибор Каналаш, отирая быстрые, неожиданные слезы, убыстрил шаги. Господи, господи, не дай бедной умереть без причастия! И сама не жила, и его век заела, да разве ж она виновата, господи?! Хотелось бабе как все люди пожить, радости хотелось, веселья, думала обновками судьбу обмануть… Э-э-хе-хе, горе! И ему бы надо иначе с молодой-то… Ведь любил!.. А прожитого не вернешь, годы вспять не идут. Конец — вот он… Ничего уже не поправить. Только ксендза позвать… Хоть бы ксендз успел! Крытый красной черепицей беленький домик ксендза Алоиза Тормы стоял на краю села, откуда открывался вид на Альфельд и на озеро, поросшее высокими камышами. Еще издали Тибор заметил в окнах домика свет и обрадовался: слава богу, не придется будить. Он, грешным делом, побаивался священника: человек ученый, строгий. Разбуди его среди ночи, так и выбранит, пожалуй!.. Двустворчатая беленая дверь оказалась приоткрытой. Тибор обскреб сапоги о железный скребок, вбитый в крыльцо, кашлянул и постучал. Никто не отозвался. Подождав, Тибор постучал сильнее. Опять нет ответа. Тибор переминался с ноги на ногу. Господи! Да что ж такое! Человек помирает, а тут… Тибор набрался смелости, переступил порог. В передней еще покашлял. Почтительно, робко постучал во внутренние двери. Дом как вымер. Тибор топтался в передней, не зная, как поступить. Надо позвать ксендза, каждая минута дорога, но как войдешь без разрешения?.. Тибор еще покашлял, еще постучал… Ему почудилось за дверью не то мычание, не то стон, и вслед за тем показалось, что в доме упало что-то тяжелое. — Господи!.. Тибор невольно перекрестился. Да что ж такое?!. Входная дверь открыта, никто не отзывается, стонут, а свет горит? Тибор потянул дверь, заглянул в первую комнату — и обомлел. На ковре возле дивана корчился связанный по рукам и ногам какой-то человек в одном исподнем. Тибор не сразу признал в человеке духовного отца. Такое лицо — и в подштанниках! А потом, придя в себя, кинулся на помощь. Руки у Тибора были крепкие, умелые, но развязать хитрые, тугие узлы даже они быстро не сумели. — Ваше преподобие!.. Ваше преподобие!.. Да как же так?.. Да кто?.. — твердил Тибор. — Погодите маленько, я сейчас, сейчас!.. Ах ты господи, какое несчастье! Пока Тибор возился с веревкой, опутавшей ноги Алоиза Тормы, ксендз успел освободиться от заткнутого в рот кляпа. Он дышал, как запаленная лошадь. — Да будут прокляты нечестивцы! — возопил вдруг ксендз. — Отныне и вовеки! Отныне и вовеки! Тибор сдернул веревку с ног Алоиза Тормы. — Господи! Да что случилось? Кто вас так? Может, доктора? Ксендз встал на ноги, сделал неуверенный шаг к дивану, но ноги отекли, и ксендз едва успел присесть. Желтая, сухая рука ухватила валявшуюся на диване связку ключей. — Да будут прокляты! — опять возопил ксендз и погрозил связкой ключей в окно. — Отныне и вовеки! — Я людей кликну, ваше преподобие! — сообразил Тибор и повернулся к двери, но ксендз прытко скаканул с дивана, ухватил Каналаша за полу пиджака. — Не смей! Не смей! Стой!.. Ничего не понимающий Тибор мялся у двери, пока ксендз, метнувшийся в спальню, что-то там бормотал, шелестел одеждой. Наконец Алоиз Торма, напяливший сутану, выбежал, проскочил мимо Тибора, и тот услышал, что слуга господа метнулся во двор. — Да будут прокляты! — исступленно зазвучало на дворе. Тибор неуверенно двинулся на крик. В обширном ксендзовом дворе посреди раскрытых хлевов и клетей метался Алоиз Торма. — Уходи! — заревел ксендз, заметив Тибора. — Прочь! Тибор попятился, но вспомнил, зачем пришел, и остановился. — Уходи! — надвигался на него ксендз. — Ваше преподобие… У меня жена… — Уйди на улицу! Уйди! Сиди там! Тибор вышел. «А ведь ксендз-то рехнулся! — осенило Тибора уже на улице. — Человека ограбили, чуть не убили, а он не велит людей звать, вопит, кидается, как дикий!» В следующую минуту Тибор уже бежал к соседям. Загрохотал в двери: — Эгей! Люди! Люди! Ксендза ограбили! Он с ума сошел! Через полчаса вокруг дома ксендза Алоиза Тормы гудела толпа. Сбежавшиеся мужики и бабы судачили, пытались заглянуть в окна, позвать Алоиза Торму, но тот заперся и на все призывы отвечал только одно: — Расходитесь! Расходитесь! Тибор в сотый раз пересказывал, что увидел в доме Алоиза, придя звать его к умирающей жене. Никто ничего не понимал. Меньше всех понимал, что произошло, сам Алоиз Торма. Немецкие офицеры, которым он гостеприимно открыл дверь нынче ночью, вдруг набросились, связали его и экономку, отобрали ключи, а теперь выяснилось — ограбили его! Варвары! Варвары! На кого подняли длань свою? В чей колодец плюнули? Чей храм осквернили? Первым побуждением Алоиза было жаловаться. Ехать в город, требовать наказания для грабителей. Но, остыв, он струхнул. Кому жаловаться? Своим властям? Э! А жаловаться немецкому командованию на немецких офицеров… Одно смущало ксендза. Странно выглядели ночные гости. Небритые. У одного лицо в кровоподтеках. У другого — голова забинтована. Словно и не офицеры, а самые настоящие разбойники. Но ведь мало ли что… Ксендз досадовал на дурака-мужика, собравшего народ. Из этой истории нельзя поднимать шума. А теперь вся деревня взбудоражена. И упаси бог, если узнает мужичье, что на ксендза напал не кто-нибудь, а немцы! И так немцев ненавидят в деревне, а дай повод — шмелями зажужжат, неизвестно, до чего дойдут! Повсюду разнесут новость! «Нет, нет! — думал ксендз. — Нет! Волновать народ, разжигать страсти нельзя… Недостойно… Сообщить властям в корректной форме… Убытки вернут… А народ волновать нельзя!..» Собравшись с духом, он вышел на крыльцо. Много позже, когда мужики уже расходились, ксендз вспомнил о своем освободителе. Спросил, кто к нему приходил поутру, зачем. — Тибор Каналаш, ваше преподобие, — ответили ксендзу. — Жена у него помирает. Ксендз всплеснул руками: — Ей нужны святые дары! — Да уже не нужны, ваше преподобие, — сказал кто то. — Померла она. И, подумав, подтвердил: — Уже с час, как померла.
Солдаты второй смены контрольно-пропускного пункта под Тишальоком коротали время, рассказывая старые анекдоты и всякие истории. Но анекдоты иссякли, фронтовые воспоминания надоели, и солдаты умолкли. Наступило тяжкое, унылое молчание. — Хоть бы письмо пришло, — сказал, наконец, рядовой Грюнблат. В его голосе была тоска. Все знали, что семья Грюнблата живет в Дрездене, что он не получал писем вторую неделю, и догадывались, почему он их не получает. Рядовой Кнебель вздохнул. — Заскулили! — с ненавистью сказал рядовой Нойман. — Никто не имеет права скулить! Слышите, вы! Никто! — Припадочный! — сказал рядовой Кнебель. — Повтори, что ты сказал, негодяй! — Я сказал, что ты припадочный! И заткни свою поганую пасть! — неожиданно взревел Кнебель. — Заткни, псих! Заткни! Они стояли друг против друга, сжимая в руках оружие. Эти двое давно не выносили друг друга. Кнебель за глаза называл Ноймана доносчиком, а Нойман всюду грозился, что выведет Кнебеля на чистую воду, разоблачит его пораженческие настроения. Грюнблат не имел ничего против того, чтобы Кнебель набил Нойману морду. Сволочам надо бить морду. Но он боялся, что в ход пойдет оружие. — Бросьте вы! — заорал и Грюнблат. Противники не слышали. На счастье, дверь в караулку отворилась, вошел фельдфебель Цигль. — Что тут еще? — крикнул Цигль. — Как всегда, ссорятся… — поторопился сказать Грюнблат, чтобы не дать Нойману заговорить первым и возвести напраслину на Кнебеля. — Опять? — рявкнул Цигль. — Они опять скулят, господин фельдфебель! — крикнул Нойман. — Врешь! — оборвал Грюнблат. — Господин фельдфебель, разрешите доложить, что эта богемская свинья врет! Никто не скулил! А с ним нельзя двух слов сказать! Трусит, вот и бросается на всех! — Господин фельдфебель! — взвыл Нойман. — Молчать! — заорал Цигль. Фельдфебель был по горло сыт доносами. Из-за этих доносов его уже три раза за последний месяц таскали в гестапо, и три раза приходилось выручать своих болванов, доказывать, что в роте настроения самые боевые. Цигль знал: доносы — дело Ноймана, и не прощал тому попытки замарать роту. — Молчать! — еще яростней проорал Цигль, хотя все уже и так молчали. — Я вас научу нести службу!.. Кнебель! — Я, господин фельдфебель! — Два наряда вне очереди! — Слушаюсь, господин фельдфебель… — Нойман! — Я… — Два наряда вне очереди!.. И чтоб я не слышал больше разговоров о настроениях!.. Не ваше дело!.. Настроениями занимаются те, кому это положено! Ясно? — Осмелюсь доложить… — Молчать! — завопил Цигль. — Рядовой Нойман! Лечь! Нойман вскинул было голову, но тут же покорно шлепнулся в грязь. — Встать!.. Лечь!.. Встать!.. Лечь!.. Встать!.. Лечь!.. На десятый раз Цигль немного успокоился. — Всё поняли? — Так точно, господин фельдфебель… — прохрипел Нойман. — И зарубите себе на носу… — начал было Цигль, но умолк. К контрольно-пропускному пункту приближалась машина. Вернее, приближались две машины. Вторая шла метров за двести от первой. — Приготовиться к проверке! — приказал Цигль. Первая машина приблизилась и затормозила. В ней ехали офицеры танкового корпуса. Документы у офицеров были в порядке. Возвращая документы подполковнику-танкисту, Цигль заметил, что вторая машина разворачивается. — Кто ехал за вами? — быстро спросил Цигль подполковника. — За нами? Фургон. Из этих… — А! — сказал Цигль. — Прошу прощения, господин подполковник. Можете ехать. Он почтительно козырнул. Машина с офицерами прошла. Фургон удалялся. — Что это они назад отправились? — спросил Кнебель. — Смотрите. Сворачивают направо! — Не твое дело! — отрезал Цигль. — Это же СС… Не видишь, что ли? — А… — протянул Кнебель. — На Будапешт, что ли, они? — вставил Грюнблат. — И не твое дело, — повторил Цигль. — Распустились! А ну, рассказывай, что у этих двух свиней вышло. Фургон исчез, пропал на боковой дороге. Солдат он больше не интересовал. Не интересовал он и фельдфебеля Цигля.
Майор Вольф заканчивал обработку данных фронтовой разведки. Осторожно вошел заменявший в этот вечер Миниха дежурный офицер отдела лейтенант фон Рейтенау. — Да? — не отрываясь от бумаг, спросил Вольф. — Звонит господин Раббе. Спрашивает, можно ли вас видеть. — Конечно… Фон Рейтенау вышел. Появление дежурного сбило с мысли. Майор Вольф «потерял» конец недописанной фразы. Морщясь, он достал сигарету, механически взглянул на часы, чиркнул спичкой, но не закурил и, приходя в себя, опять посмотрел на часы. — Половина второго?!. Спичка обжигала пальцы, Вольф отбросил ее, зажег новую, выпустил струйку дыма, позвонил. — Лейтенант Миних вернулся? — осведомился он у фон Рейтенау. Тот, как всегда, был невозмутим: — Никак нет, господин майор. — Как это?.. Он давно должен был возвратиться. Фон Рейтенау с ледяным спокойствием повторил: — Лейтенант Миних не возвращался. Ровный тон дежурного офицера в данном случае как нельзя лучше демонстрировал отношение фон Рейтенау, отпрыска старой прусской фамилии, к выскочке и плебею Миниху. Фон Рейтенау как бы подчеркивал: он и не ждал от Миниха ничего хорошего. Разве хам перестает быть хамом оттого, что получил офицерский чин? Разве он когда-нибудь научится выполнять приказы? Майору Вольфу фон Рейтенау нравился. Конечно, он был не чета Миниху. Но у майора были основания предполагать, что его адъютант связан с гестапо, и майор многое спускал Миниху. Следовательно, невысказанный упрек дежурного офицера косвенным образом относился к самому Вольфу. — Хорошо, идите, — недружелюбно сказал Вольф. — Впрочем, постойте!.. Соедините меня с командиром зондеркоманды. — Осмелюсь напомнить, доктор Раббе высказал желание видеть вас, вы дали согласие, и он сейчас приедет… — Да, — сказал Вольф. — Хорошо. Идите. Начальник разведотдела остался один. Он хмурился. Очевидно, посещение Раббе связано с отсутствием Миниха. Нетрудно догадаться, в чем дело. Миних запьянствовал где-то с гестаповскими дружками, а Раббе, видимо, выступит в роли ходатая за своего агента. «Ничего не выйдет! — зло подумал Вольф. — На этот раз Миних получит по заслугам… Мальчишка, наглый щенок!.. Шнапс и девки у него на первом плане… Да черт с ним, с девками! Катился бы к ним после того, как отрапортует… А пленного он куда дел? С собой потащил? Или сунул его головорезам из эйнзатцкоманды и успокоился?! Безответственный щенок!» Вольф попытался работать, кое-как докончил утреннюю сводку для штаба фронта и начал завязывать папки. Аккуратно уложил папки в сейф. В ожидании штурмбаннфюрера достал из шкафчика бутылку рома, бутерброды. Послышался шум подъехавшей машины. «Может быть, все-таки Миних?» — подумал Вольф. Он холодно смотрел на дверь. — Штурмбаннфюрер доктор Раббе, — доложил фон Рейтенау. Раббе устало ввалился в кабинет, бросил в кресло плащ и фуражку и остановился против Вольфа. — Ну? — спросил Раббе вместо приветствия. — Как вам это понравится? — В чем дело? — Где ваш адъютант? — Я полагал, вы лучше информированы об этом, — холодно сказал Вольф. — Ах, вот как! — саркастически ухмыльнулся Раббе. — Оказывается, это я должен знать, где находятся ваши сотрудники! Он уселся в свободное кресло, сам налил ром в рюмки. — Короче говоря… — сказал он. — Короче говоря, сучьи дети уехали развлекаться. В полном составе отбыли в Мишкольц или еще куда-то, черт бы их побрал! — В Мишкольц?.. — майор Вольф постарался вместить ни с чем несообразную новость. — Значит, и ваши не вернулись?.. Но почему в Мишкольц?! — Черт их знает почему! — выбирая бутерброд с ветчиной попостнее, сказал Раббе. — Богатая фантазия, очевидно! Он ел жадно, быстро и чавкал. Кусочек ветчины упал. Раббе подхватил ветчину и забросил в рот. — На контрольно-пропускном пункте под Тишальоком видели наш фургон, — проговорил он в перерыве между двумя глотками. Майор Вольф пригубил рюмку. — Фургон? А нашу машину? — Черт их знает! — невнятно пробурчал Раббе. — Наверное, и ваша там была! Разве у этих идиотов добьешься толку?.. Говорят, видели фургон, свернувший по проселку на Мишкольц… Через контрольно-пропускной пункт остереглись ехать, черти! — Ну, знаете! — Вольф поставил рюмку и прошелся по кабинету. — Это уже выходит за рамки всяких приличий!.. — Гинцлер у меня получит! — сказал Раббе. — Он у меня получит, свиное отродье! Ему пора за других приниматься, а он, видите ли, устал! Отдохнуть захотелось! — Не понимаю! Ехать пьянствовать, не доложив о себе, ехать вместе с пленным! — сказал Вольф. — Я этого так не оставлю! Раббе поперхнулся ромом, забрызгал мундир, ладонью стряхнул брызги. — Ах, да! — сказал Раббе. — Верно! Ведь с ними ваш летчик. Верите ли, я совершенно забыл о летчике!.. Вот мерзавцы!.. Послушайте, надо связаться с Мишкольцем. Прикажите дежурному вызвать Мишкольц. Надо найти свиней и вернуть обратно! — Мне перестает нравиться дружба Миниха с Гинцлером! — сказал Вольф и позвонил. — Пьянка за пьянкой! Фон Рейтенау вытянулся у двери. — Вызовите комендатуру Мишкольца! — приказал Вольф. — Говорить буду я. Раббе подождал, пока за фон Рейтенау закроется дверь. — По-вашему, во всем виноват Гинцлер? — Оба они хороши, но Гинцлер явно влияет на Миниха. — А по-моему, это Миних влияет!.. И в конце концов Гинцлер свое дело сделал, расстрелял эту сволочь, и не его печаль заботиться о вашем летчике! Это Миних должен был думать! — Я больше чем уверен, что они держали совместный совет! На столе замигала красная лампочка. — Не сваливайте вину Миниха на Гинцлера! — упрямо повторил Раббе, выбирая новый бутерброд. Вольф поднял трубку телефона: — Алло!Комендатура? Он тут же снизил тон: — Простите, господин полковник… Да. Штурмбаннфюрер Раббе у меня. Передаю, господин полковник. — Прикрыв трубку ладонью, он протянул ее Раббе. — Полковник Шредер! Раббе торопливо проглотил кусок. Полковник Шредер, помощник начальника штаба армии, был одним из влиятельных офицеров. Кто же не знал, что его отец, финансовый магнат Курт Шредер, находится в самых тесных приятельских отношениях с Гиммлером! Раббе из кожи вон лез, чтобы услужить полковнику. Молодой Шредер в случае нужды мог заступиться за него перед Хеттлем и другим начальством. — Слушаю вас, господин полковник! — почтительно сказал Раббе, вытерев жирные губы платком. Вольф заметил, как штурмбаннфюрер замигал глазками, раздул ноздри, сморщил лоб. — Понимаю, господин полковник… Да, понял… Да, немедленно, конечно… Слушаюсь, господин полковник! Подержав в руке умолкнувшую трубку, Раббе опустил ее на аппарат и, не замечая, что делает, вытер испачканным платком вспотевшую лысину. — Что случилось? — забеспокоился Вольф. Раббе устремил на него долгий, отсутствующий взгляд. — Что все-таки случилось? — повторил Вольф. Раббе что-то соображал. — Вы знали офицера связи капитана Фретера? — неожиданно спросил он. — Конечно… В чем дело? Раббе потер мясистое ухо. — Из Мишкольца прибыл обер-лейтенант Вейс, — сказал Раббе. — Он обнаружил разбитый мотоцикл Фретера. На мотоцикле кровь… Фретер и его водитель исчезли. — Вы шутите? — поразился Вольф. — Неужели партизаны?.. Раббе поморщился, поглядел исподлобья. — В каких отношениях был с Фретером ваш Миних? — Миних? — удивился Вольф. — При чем тут Миних?.. Что случилось, Гюнтер? — Боюсь, что случилась большая неприятность, — сказал Раббе и поглядел на бутылку, но наливать не стал. — Дело в том, что возле мотоцикла капитана Фретера обер-лейтенант Вейс обнаружил бумажник Миниха… И учтите: я вам ничего не сообщал. Вольф не успел обрести дара речи, как лампочка на столе замигала снова. Майор механически поднял трубку. Отвечала комендатура Мишкольца. Комендант города ничего не слышал об офицерах и солдатах СС из Наддетьхаза. Он обещал позвонить, когда опросит контрольно-пропускные пункты. — Послушайте, Вольф, — сказал Раббе. — Вы знаете, где обычно бывал Миних? Ну, в каких злачных местах его можно найти? — Понятия не имею. — Узнайте у ваших сотрудников. Дело скверное. — Неужели вы допускаете мысль?.. — По роду службы, — сказал Раббе. — Только по роду службы… Конечно, не исключена возможность несчастного случая… Но все равно дело скверное… Сбили Фретера и не вернулись. Заметают следы! А Фретер — племянник генерала Фретера. Понимаете? — Пьяница он и бабник! — сердито сказал Вольф. — В данном случае имеет значение только то, что он племянник генерала, а не то, что он пьяница. — Но, может быть, он сам виноват?.. — Бросьте, Вольф! Зачем бы тогда Миниху куда-то смываться? Я вам повторяю: дело очень скверное! И мои хороши! Помогают Миниху! Раббе тоже поднялся. — Свиные свиньи! Даже концов спрятать не умеют! Кретины! — Что вы намерены делать? — спросил Вольф. — А что, по-вашему, я должен делать? Сложить руки и умиляться бандитизму?.. Я вынужден отдать приказ о задержании всей этой компании и об аресте Миниха. Раббе уже натягивал плащ. — Опросите своих сотрудников, узнайте, где обычно бывает Миних. Его необходимо задержать в первую очередь. Пока больших глупостей не натворил! Может быть, он все-таки вернулся в город? — Сейчас же все выясню, — нервно сказал Вольф. — Сейчас же. Раббе надел фуражку. — Я отдам распоряжение военной полиции доставить Миниха прямо к себе… Господи, какие кретины! Хайль Гитлер! — Хайль Гитлер! Заложив руки за спину, Вольф прошелся по кабинету. Остановился. Если Миних совершил преступление… Какой позор! Какое несчастье и какой позор! Майор позвонил фон Рейтенау. — Немедленно разбудить всех сотрудников отдела. Узнать, где обычно бывает лейтенант Миних… Вы, конечно, этого не знаете? — Не имею чести поддерживать с лейтенантом Минихом хороших отношений, — сдержанно сказал фон Рейтенау. — Да?.. Что ж, кажется ваше счастье… Подождите!.. Позвоните на все городские КПП. Узнайте, не проходила ли наша машина. — Слушаюсь, — сказал фон Рейтенау. Через полчаса майор Вольф получил несколько адресов приватных квартир, где любил бывать Миних, и тотчас откомандировал по этим адресам одного офицера с фельдфебелем. А еще через пять-десять минут фон Рейтенау известил его, что контрольно-пропускной пункт номер двенадцать заметил машину, похожую на машину разведотдела армии, проехавшую в направлении на Кисварда. — Номер машины замазан грязью. Часовые его не заметили. — Сукины дети! — вспылил Вольф. — Сообщите в комендатуру, что их солдаты не знают своих обязанностей! И немедленно вызовите Кисварда! Военную полицию! — Часовые сообщили, — невозмутимо добавил фон Рейтенау, — что у машины, проследовавшей на Кисварда, разбита левая фара и помято крыло. — Вызовите Кисварда! Срочно! Вольф ломал спички. Доставал их из коробочки и ломал. Сначала пополам. Потом надвое каждую половинку. Фон Рейтенау доложил, что полиция Кисварда ответила. — Говорит начальник разведотдела майор Вольф! — крикнул Вольф в шуршащую трубку. — Вы слышите меня? Слабый голос сказал, что слышит. — В направлении на Кисварда прошел вишневый «хорх» с разбитой левой фарой! — крикнул Вольф. — Известите все КПП и задержите эту машину! Вы поняли? — Поняли, — прошелестела трубка. — Номер машины, господин майор? — Номер запачкан, — крикнул Вольф. — Поняли? Какой бы там ни был номер, задержите машину и сообщите мне! — Слушаюсь… — прошелестела трубка. Прошел еще час, прежде чем вернулись посланные Вольфом на приватные квартиры офицер и фельдфебель. Они не обнаружили Миниха. Хозяйки квартир утверждали, что лейтенант нынешней ночью не появлялся. Вольф отпустил посланцев. «Ах, подлец! — думал он о Минихе. — Ах, мерзавец! Ах, пьяная каналья! Неужели сбил Фретера, перетрусил и пытается спрятаться? Куда он может спрятаться, пьяная скотина?! И почему его понесло в Кисварда?!» Вольф поглядел на карту армейского участка фронта. Кружок Кисварда темнел в нескольких миллиметрах от красной линии передовых позиций. Мысль, пришедшая Вольфу в голову, была так чудовищна, что майора словно током ударило: «А вдруг Миних спьяну и по трусости решил перейти фронт? И в качестве пропуска повез русского летчика?» «Нет! — попытался успокоить себя Вольф. — Нет! Это невероятно!» Но он понимал, что пьяный Миних, совершив преступление, мог пойти на что угодно. Тот факт, что майору Вольфу в случае предательства Миниха придет конец, не вызывал ни малейшего сомнения. Вольф вызвал фон Рейтенау. — Я отправляюсь в оперативный отдел, к полковнику Шредеру. Если будут сообщения о Минихе или хотя бы о нашей машине, сейчас же звоните! Фон Рейтенау оставался невозмутим. Уже надев шинель и фуражку, майор вспомнил, что ему не на чем ехать в оперативный отдел. — Вызовите мне штабную машину, — устало опускаясь на стул возле дежурного, попросил Вольф.
«Придется просить полковника дать указания командирам частей задержать Миниха», — уныло думал Вольф, слушая бесстрастный голос фон Рейтенау, выполнявшего поручение. Прибыв к себе, штурмбаннфюрер Раббе сразу же осведомился, не прибыла ли группа Гинцлера. О группе обершарфюрера известий не было. Раббе тотчас вызвал гестапо, военную полицию, комендатуру и отдал приказание приступить к поискам лейтенанта Миниха с целью ареста. Потом позвонил полковнику Шредеру. — Прошу прощения, господин полковник! Не объявился ли капитан Фретер? Полковник Шредер ответил, что Фретера нигде нет и что он вынужден доложить о происшествии командующему армией. — Господин полковник, вряд ли стоит беспокоить командующего! — сказал Раббе. — Мною приняты все необходимые меры. Я прошу вас подождать до утра. — У капитана Фретера были с собой секретные документы! — сказал Шредер. — Я понимаю, господин полковник… Уверяю вас, что через час — другой я выясню, что произошло, и дам знать… Я предполагаю несчастный случай. — Вы нашли лейтенанта Миниха? — спросил Шредер. — Его арестуют в ближайшее время, господин полковник. — Где же вы намерены его искать? — Он где-нибудь в городе, господин полковник. — Вы полагаете? — с непонятной иронией спросил Шредер. — Господин полковник, я немного знаю лейтенанта Миниха… Вы меня понимаете, конечно. — О да! — сказал Шредер. — Я понимаю… У меня находится майор Вольф. Он только что просил дать указание командирам действующих частей о задержании лейтенанта. Майор Вольф располагает сведениями о том, что машина Миниха прошла на Кисварда. — Что? — Раббе побагровел. — На Кисварда? Почему же майор не сообщил об этом мне?! — Вас не было на месте. Майор только что приехал. — Шредер не удержался от издевки: — На нашем мотоцикле, разумеется. Раббе мысленно обозвал Вольфа скотиной. — Сведения майора Вольфа многое меняют… — пробормотал он. — Разумеется, — сказал Шредер. — Так что, с вашего разрешения, я все же обеспокою командующего. — Господин полковник, хочу заверить вас, что с моей стороны приняты все меры. — Не сомневаюсь. Желаю успеха, — сказал Шредер и бросил трубку. — Свиньи! — выругался Раббе, имея в виду Шредера и Вольфа. — Свиные свиньи! Он расстегнул мундир, прошел в столовую, выпил коньяку и вернулся к телефону. Через пятнадцать минут он получил те же сведения, какие немного раньше получил майор Вольф. Позвонил в Кисварда, но оказалось, что Вольф и здесь опередил его. Правда, «хорха» с разбитой фарой там не видели. Раббе уставился на телефонный аппарат. Дело скверно И всего сквернее то, что майор Вольф подкладывает ему грандиозную свинью. Раскормленную, розовенькую свинью! Помчался в штаб, видите ли! Не мог приехать сюда, а помчался в штаб, к Шредеру! Он, Раббе, никуда не поехал, узнав о фургоне, а честно поделился с майором. Вольфу же в штаб понадобилось! Поставил Раббе в дурацкое положение! Показал, что не надеется на гестапо и полицию! «Ну хорошо же! — подумал Раббе. — Хорошо же! Я это припомню!» Тяжело ступая, он поплелся к буфету. Все, что можно было сделать, сделано. Все КПП, все органы гестапо и военная полиция в полосе армии поставлены на ноги. Теперь мышь не прошуршит незамеченной! Остается ждать. Это нелегкое занятие, но надо уметь ждать. Через полчаса Раббе подумал, что, может быть, следует известить о чрезвычайном происшествии Будапешт. Но тут же отмахнулся от этой мысли. Не столь страшно случившееся. Конечно, Миних сукин сын и пощады может не ждать. Гинцлер тоже получит свое. И еще как получит! Но ничего страшного нет. Утром все выяснится. Пьяницы проспятся, и все выяснится. Раббе чувствовал себя невероятно усталым. Целый день возиться с арестованными, самому допрашивать, а под вечер получить сюрприз с Минихом — кто хочешь устанет! Он зевнул и налил последнюю рюмку. — Хайль Гитлер! — сказал он расплывающейся перед глазами бутылке. «Ничего страшного! Без паники! Мы на посту!» Через несколько минут денщик услышал из столовой подобие пения. Он насторожился и разобрал слова:
Глава шестая
1
Бунцев открыл глаза, сел, потер ладонями лицо, зевнул, огляделся. Рядом, натянув на голову немецкую шинель, спала Кротова. Мате, присев на корточки, вскрывал консервную банку. Возле него стоял незнакомый длинноногий солдат с бритой головой, смотрел на руки Мате. Солдат оглянулся, заметил капитана. Глаза на усталом, в кровоподтеках лице солдата сияли синим-синим. — Проснулись? — застенчиво спросил солдат. — Проснулся, — сказал Бунцев и осторожно, чтобы не потревожить спящую радистку, отодвинулся от нее, встал. — А вы чего не спите? Мате, улыбаясь, поднял вскрытую банку, показал Бунцеву. — Пей! — Мы выспались, — сказал солдат. — Ваш товарищ там, в карауле. Бунцев торопливо отвел глаза. Куртка и брюки были тесны солдату, туго обтягивали крепкую девичью фигуру. Бунцев посмотрел на кусты, росшие по верху оврага, где должен был находиться Телкин, потом на свои часы. Часы показывали четырнадцать тридцать. «Какая деваха! — растерянно подумал Бунцев. — А ведь после лагеря… Ах, черт! Покраснела! Значит…» Он снова искоса поглядел на Нину. Держа консервную банку обеими руками, вытянув шею, девушка пила, стараясь не пролить влагу на куртку. «Опоздай мы на минуту — и все… И все бы!» — повторил он себе, замирая от жуткого сознания, что неминуемое не произошло только случайно, и чувствуя себя неимоверно счастливым оттого, что неминуемое все-таки не произошло. Нина оторвалась от банки. — Ох, — сказала она, облизнув губы, прикрывая ладошкой мокрый подбородок, — вы, наверное, тоже пить хотите, товарищ капитан? Пейте! Это виноградный сок… — Пей, пей! — хрипловато сказал Бунцев. — Меня, кстати, Сашей зовут… Пей! — А вы? — Я потом, — сказал Бунцев. — Я лучше вина… Вроде еще оставалось. — Под мешком бутылки, — сказала Нина. Бунцев улыбнулся Мате, приподнял запачканный мукой мешок, достал длинногорлую бутылку. — Ну вот, — сказал он. — Это нашему брату больше подходит… Вы ели уже? — Нет, — сказала Нина. — Я жду, когда все проснутся. — Ну, ждать незачем, — сказал Бунцев, — не в санатории. Давай хозяйничай. Я тоже проголодался. Он говорил грубовато, сам понимая, что такая самооборона шита белыми нитками, пугаясь вдобавок, что обижает девушку, и, рассердись на себя, неловко ударил по донышку бутылки, не выбил пробку, а только ушибся. — А черт! — выругался Бунцев и вторым ударом вышиб пробку. — То-то! Он пил прямо из горлышка: кружек они в доме ксендза взять не догадались. Кислое, шипучее вино освежило рот, промыло пересохшее со сна горло. Он передал бутылку Мате: — Пей, товарищ! Венгр улыбнулся, кивнул, отпил. Бунцев подумал, что надо бы подняться к Телкину, посмотреть, как он там, но двигаться не хотелось. Было невыразимо приятно сидеть, обхватив колени, и смотреть, как Нина режет хлеб, по-деревенски прижимая поджаристый круг к высокой груди и складывая толстые ломти на подстеленный плащ радистки. Девушка вскинула темные ресницы на Бунцева, снова полыхнуло синим, но ресницы опустились, и свет погас. Румянец отливал от щек Нины, губы сжались, и тонкие, как бритвой прорезанные, горестные морщинки опустились от уголков рта. Бунцев ничего не заметил. Его переполняло чувство никогда не испытанной нежности и тревоги. Он с трудом подавил желание коснуться руки девушки, ощутить прохладное тепло ее кожи. Почему-то ему казалось, что руки у Нины такие — прохладные и теплые. «В лирику ударился! — оборвал себя Бунцев. — Нашел фею… Ее же немцы там, в лагерях… Факт!.. Что, у них глаз нет?!» Он нарочно называл самыми циничными словами, не хотел щадить ни себя, ни девушки, нарочно причинял себе боль, но эта боль не могла убить чувства нежности и тревоги, владевшего Бунцевым. Не могла, и все тут! Венгр спросил о чем-то по-немецки. Нина, взглянув на Мате, перевела: — Он спрашивает, скоро ли начнется наступление. На Бунцева она не глядела. — Я не генеральный штаб, — сказал Бунцев. — Начаться оно начнется, понятно. А когда — не знаю. Мате, выслушав ответ, заволновался. — Он говорит, что, может быть, тогда лучше пойти на север, в горы. Там должны быть партизанские отряды. — Нет, — сказал Бунцев. — Мы пойдем к своим. У нас тут план есть. Вот погоди, разберусь по карте, что к чему, и объясню. Кстати, где сумка этого фрица? — У вашей радистки, — сказала девушка, по-прежнему глядя в землю. Хлеб она нарезала, теперь резала сало. Проперченное, с красной корочкой. — Послушай, — сказал Бунцев. — Я, может, тебя чем обидел? Нина быстро подняла голову. Губы ее задрожали. — Вы?.. Да что ж… Меня трудно обидеть, товарищ капитан… Нет, чем вы меня обидели? Она так нажала на нож, что тот едва не прорезал плащ. — Осторожней! — сказал Бунцев. — Ничего, — сказала Нина. — Только вот… — Она опять мучительно покраснела, но договорила начатую фразу: — Вот только пить за мной зря побрезговали. Разве бы я предложила, если бы что?.. Не сомневайтесь, я здорова, товарищ капитан. Нас потому и из лагеря отправили, что все здоровы были… Нас же для опытов везли. Она смотрела на Бунцева грустно, не осуждая. — Да ты что? — не узнавая собственного голоса, спросил Бунцев. — Ты, значит, вот как поняла?.. Но я же не думал… Я просто вина хотел… Он и в самом деле хотел вина, в самом деле не задумывался над тем, больна или не больна Нина, и все-таки он лгал. О том, что она больна, не думал, но о том, что делали с ней в лагерях, думал. И, признаваясь в этом, протянул руку, коснулся прохладно-теплой руки Нины: — Мне все равно! Слышишь? Все равно! По его глазам, по напряженному звону его голоса Нина поняла, о чем говорит капитан, и робкая надежда, радость расширили девичьи зрачки, но, вырвав руку, она вдруг отшатнулась от Бунцева, вскочила и, отбежав, бросилась ничком на каменистое дно овражка, забилась в неутешном, безмолвном плаче. «Эх, дур-рак! — по-своему поняв порыв Нины, махнул рукой Бунцев. — Высказался!» Он неуверенно поднялся, неуверенно приблизился к Нине, присел на корточки, боязливо коснулся ее плеча. — Не надо!.. Я не то хотел сказать!.. Ну, плюнь! Лопатки девушки под тесной курткой вздрагивали, будто ее жгли железом. — Ну, не обращай внимания! — тоскливо сказал Бунцев. — Нин… Ты пойми, девочка… Родная… — Нет! — вырвалось у Нины. — Нет! Бунцев умолк, ошеломленный страстностью протеста. — Уйдите! — проговорила Нина. — Ну?.. Прошу ж!.. Бунцев снял руку со вздрагивающего плеча, устало поглядел на свои заскорузлые, грязные пальцы, сжал их, разогнул, снова сжал. — Как хочешь, — глухо сказал он. — Как хочешь. Нина не отозвалась. Бунцев вернулся к Мате. Венгр успокоительно похлопал капитана по рукаву, показал глазами на плачущую девушку и приложил палец к губам. — Эх, отец! — сказал Бунцев. — Все я понимаю! Только не легче мне от этого’… Ты кушай, кушай! Он подвинул Мате сало и круг колбасы, подал ему вино. Венгр покачал головой, отставил бутылку. — Сыт, что ли? — спросил Бунцев. — Ну, как знаешь… Он взял бутылку и выпил. Отер губы обшлагом черного мундира, натянутого на комбинезон, да так до сих пор и не снятого. «Утешитель! — зло подумал про себя Бунцев. — Человеку, может, свет не мил. Может, жених был у ней. А ты полез… Иначе не умеешь, как за пазухой душу искать… Эх!» Нина все лежала. Бунцев поднялся с куртки, на которой сидел, встретился глазами с Мате. — Я — туда! — показал капитан на верх оврага. — Ты сиди, сиди, отдыхай. Сквозь низкие, быстро несущиеся на восток облака внезапно проглянуло солнце, пробилось в овраг, рассыпало по жухлой траве и камешкам новенькие пятаки. Бунцев тайком глянул на Нину, сморщился и стал карабкаться по крутому откосу. Телкин лежал на том самом месте, где утром лежал Бунцев, взявшийся караулить первые, самые трудные после ночных событий часы. Раскинув ноги в коротких немецких сапогах, уткнувшись в скрещенные руки, штурман глядел на степь, где стремительно скользили тени облаков, и трава непрерывно меняла краски: желтая и бурая под солнцем, в тени облаков она густо зеленела, а в овражках и впадинах наливалась синевой. Вдали полз паровозишко, тянул за собой длинный состав. Темные жгуты дыма висели над составом, ветер рвал их и расшвыривал над степью, смешивал с облаками. Справа, не дальше, чем за километр, за канавами, обросшими боярышником, торчал серый, угрожающий перст кирки или костела и виднелись крыши села, спрятанного в неглубокой долине. Слева за речушкой жирно поблескивала пахота и тоже желтели и синели травы. Телкин заслышал шорох, повернул к Бунцеву строгое лицо и засиял. — Вы, Александр Петрович?.. — тихо сказал он. — Отоспались? Бунцев лег рядом, легонько толкнув Телкина, прижавшись к его плечу. — Ну, Толя, как тут? Все тихо? — спросил Бунцев. — Тихо, — сказал Телкин. — В селе звонили в двенадцать ноль-ноль. А в одиннадцать две телеги проехали вон там. Спустились в лощину и больше не появлялись. — Ни машин, ничего? — Ничего, Александр Петрович. — А с той стороны? — И с той тихо… Бунцев почесал бровь. — А ведь нас давно искать должны, — сказал он. — Значит, растерялись. Не знают, куда кинуться. — Александр Петрович! — сказал Телкин. — Как вам в голову пришло такое?.. Я, честно сказать, в живых вас не считал… Думал, вместе с самолетом… А вы не только живы-здоровы, вы еще нападаете… — Не моя заслуга, — сказал Бунцев. — Я ж говорил, Ольгу благодари. Не она — сам знаешь, что было бы. — Как вы на нас наскочили? — А это случайность… Сами от фрицевской машины драпанули. Так что героизма тут нема. Как Ванька Добряков говорит, помнишь: «Нужда научит калачики есть!» — Александр Петрович! — сказал Телкин. — Я же вам жизнью обязан! Не надо так. — Не мне ты обязан. Ольге. Я, брат, раком ползать собирался. В том самом лесу отсидеться. Тишком к линии фронта передвигаться, и главным образом на брюхе… Это Ольга, понял? — Я знаю, она партизанила… — Ни хрена ты, милый друг Толя, еще не знаешь. Оказывается, партизаны совсем не то, что мы думали… И вообще… — Что? — спросил Телкин. — Так, — сказал Бунцев. — Похоже, многое не так, как мы думали… Ты лучше скажи, не сменить тебя? Чувствуешь себя как? — У меня полный порядок, — сказал Телкин. — Все хорошо. — А голова? — Пустяки. Разве это боль?.. Больно мне там было. Там. У фрицев. — Ладно. Ничего, — сказал Бунцев. — Ты здесь, и ладно. Телкин повернулся на бок. Бунцев только сейчас заметил, какие мешки набрякли под глазами у штурмана, какая серая у него на лице кожа. А может, это только казалось, что серая. Может, щетина обманывала. — Нет, не «ладно», Александр Петрович, — сказал Телкин. — Я ж всего еще не успел рассказать… Голова — это мне солдаты двинули, когда дрался… А майор, который допрашивал, он не бил… Он меня пальцем не тронул!.. Он, знаете, что первым делом приказал? Вещи мне вернуть, врача позвать, накормить меня! Вот что он приказал, гад! — Ты спокойней, — сказал Бунцев. — Спокойней. — Вы не были там, — сказал Телкин. — Вы там не были… Он, гад, внушал, что заботится, что никаких военных тайн ему не надо. Только скажи, мол, кто еще прыгал? Летчиков они обязаны найти, дескать, чтобы их за диверсантов не приняли. Одно, мол, дело — сбитые летчики, военнопленные, а другое — диверсанты. На диверсантов-де законы не распространяются. Диверсантов без суда расстреливают… Чуешь? — Ловко, — сказал Бунцев. — Я ему сначала ничего не говорил. Молчал. Тогда-то он и отправил меня лечиться да завтракать. — Сначала? — спросил Бунцев. — Погоди. Что значит сначала? — Вы не были там, Александр Петрович, — повторил Телкин. — Не бойтесь! Я этому майору баки залил доверху. Я же не совсем чокнутый, понимаете! Думаете, я не сработал, почему он такой ласковый, этот майор? Я сработал! Я сразу сработал, что он мне особую пакость готовит… И подумал: мне отсюда ходу нет, так я, гады, сделаю вид, что раскис. Я вам, гадам, таких песен напою, что вы почешетесь! Вы у меня такие аэродромы полетите бомбить, что не рады будете! А тогда уж бейте, пытайте, стреляйте, все равно! Все-таки я, безоружный, пленный, баки вам залил и урон нанес! И никакими пытками вы этот урон не восполните! — Досталось тебе… — сказал Бунцев. — Я одного боялся, — сказал Телкин. — Я боялся, что не получится у меня. Понимаете? Боялся, сорвусь. Ведь в шкуру предателя лезть надо! А как в нее лезть, если каждую секунду по рылу этому майору въехать хочется? — Влез же… — усмехнулся Бунцев. — Показал им МХАТ! — Влез, — сказал Телкин. — А знаете, что мне помогло? Вернее, кто помог? Бунцев молчал. — Сам немец мне и помог, — с горечью сказал Телкин. — Он, гад, страшную вещь сказал. Сказал, что теперь, после плена, мне обратного ходу нет… Вот тут я на самом деле растерялся. А фриц решил, что я окончательно скис. И тут уж его обмануть нетрудно было. — Да-а… — протянул Бунцев. — Я ему отличные ложные аэродромы показал, — нервно рассмеялся Телкин. — И биографию себе сочинил — лучше не выдумаешь. А вместо собственного адреса — адрес нашего соседа, милицейского опера подкинул. Так что, если адресочком воспользоваться вздумают, как раз куда надо попадут… А вы знаете, зачем они меня на расстрел везли? — Знаю, — сказал Бунцев. — Ты говорил. Знаю. — Меня что тревожит? — спросил Телкин. — Меня тревожит, что Миних, или как его там, успел какие-нибудь снимки сделать, а фотоаппарат мы забыли взять… Надо было взять аппарат, Александр Петрович! А мы забыли. — Есть из-за чего волноваться! — сказал Бунцев. — Снимки. А мы на что? Мы же все видели… Да если бы ты этого эсэсовца не свалил, он бы стрелять начал. — У меня руки свободны были! — сказал Телкин. — И нож мне уже дали. Чудно было бы не свалить!.. А ведь они так ничего и не успели толком сообразить, Александр Петрович! Ей-богу, не успели! Наверное, думали, кто-то из своих прикатил. Стояли, как телки! — А ты что подумал? — Я подумал, десант, партизаны или наши просочились, разведка… Только на вас не подумал. — Да, — сказал Бунцев. — В том и сила… В том и сила, что никто тебя не ждет, а ты — вот он!.. Я представляю, что у них в штабах сейчас делается!.. А мы им, гадам, еще сюрпризиков подкинемПодкинем, Толя! Я тебе говорю! Тем более — нас же целый отряд. Пять человек! И венгр с нами. А он эти края знает! — К своим побыстрей надо, Александр Петрович! — Это само собой. Только здесь, в тылу, дороги особые, Толя. Я уже убедился. Чем шумней и дольше по ним идешь, тем они безопасней и короче… Ничего! Тебе это тоже усвоить предстоит. Так что готовься заранее. — Да, — сказал Телкин. — Верите, там, у ямы, я никак на вас не подумал. — А я тебя встретить не думал, — сказал Бунцев. — Так что считай, квиты мы. И хватит на эту тему. Давай о чем-нибудь другом… Письма-то твои целы, говоришь? — Целы! — сказал Телкин и улыбнулся. — Письма целы… Может, пока нас не было, новые пришли… Лишь бы их обратно не отправили. Ведь нас погибшими числят. — Да, числят, — сказал Бунцев. — Мы, брат, потерянный экипаж. Но ты еще напишешь своей Катеньке… Смотри, на свадьбу не забудь пригласить! — Лишь бы выйти! — сказал Телкин. — А вы пригласите, Александр Петрович? — Невесты нет, — сказал Бунцев. — Ну да! — сказал Телкин. — По вас сколько сохнет! — Не на тех женятся, кто по тебе сохнет, милый друг, — сказал Бунцев. — Женятся на тех, по кому сами сохнут. — Чудно! — сказал Телкин. — Что чудно? — Чудно, что вам никто не нравится. — Мне самому чудно, — сказал Бунцев. — Знаешь, как чудно? Ты даже не знаешь! — Все равно какая-нибудь найдется, Александр Петрович, — сказал Телкин. — Так не бывает, чтоб не нашлась. — Да, — помедлив, сказал Бунцев. — Так не бывает. Совершенно верно. Не бывает. Телкин удивленно посмотрел на Бунцева. — Что с вами? — Что? — переспросил Бунцев. — Ничего… Просто размышляю. Стих, понимаешь, такой нашел… Вот, кстати, как по-твоему, куда эта «железка» ведет? — Железная дорога?.. Откуда ж мне знать! — А знать нам это необходимо, Толя, милый друг. Так что бери ноги в руки и катись за картой. Она в планшете у Кротовой. Тащи весь планшет… Стой! Погляди там заодно, штурман, как новое пополнение. Похоже, я чем-то здорово обидел ее… гм… Нину то есть. — А пополнение — будь здоров! — усмехаясь, начал Телкин. — Ты забыл, что я не люблю дважды приказывать? — спросил Бунцев. — Есть! — сказал Телкин. — Есть принести карту!2
В этот день штурмбаннфюрер Раббе проснулся поздно с тем чувством неуверенности и подавленности, какое всегда приходило после излишних возлияний. Полное тело покрывала липкая испарина. Голову поламывало. Сердце щемило, и левая рука казалась чужой. Хотелось пить. Раббе пошарил по ночной тумбочке. Стакан с водой и таблетки были на месте. Он принял пирамидон, поморщился от горечи раздавленной зубами таблетки и минут пятнадцать лежал неподвижно, плотно смежив веки. Он знал — в таком состоянии ничего предпринимать нельзя. Надо будет выпить рюмку коньяку, принять горячий душ, побриться, и только тогда можно думать о делах. Иначе все станет валиться из рук… И действительно, после вина, ванны и тщательного бритья Раббе посвежел, голова стала ясной, мысль, наконец, заработала. Штурмбаннфюрер вызвал дежурного по зондеркоманде: — Вернулся обершарфюрер Гинцлер?
— Никак нет, — ответил дежурный. — Разрешите доложить, господин штурмбаннфюрер… — Да. Докладывайте. — Обершарфюрер Гинцлер и посланные с ним люди исчезли. Десять минут назад из Рацкове сообщили, что в поле обнаружен фургон с нашим номером. Машина завязла в ручье… В ней находятся два трупа в гражданской одежде. — Ничего не трогать! — крикнул Раббе. — Вы слышите? — Так точно. Я приказал выставить около фургона охрану. Дежурный медлил. Раббе чувствовал, что он сказал не все. — Что еще? — Арестован пастух из Кецеля, господин штурмбаннфюрер. Находится у нас. Пастух вчера болтал в селе, будто накануне видел поблизости от Кецеля двух неизвестных. — Вы его допросили? — Так точно. Старый болван твердит, что там были мужчина и женщина. Они вышли из леса, торговали у него овец. Спрашивали дорогу на Будапешт. По описанию пастуха неизвестные похожи на парашютистов. — Вооружены? — Пистолетами, господин штурмбаннфюрер… Пастух предполагает, что в лесу были другие люди. Неизвестные настойчиво просили продать несколько овец. — Так, — сказал Раббе. — Пастух у нас? — Да, господин штурмбаннфюрер. — Я сейчас буду, — сказал Раббе. — Еще что? — Пропали два солдата из взвода связи, находящегося в Сонте. Выехали вчера около двадцати одного часа для исправления телефонной линии и не вернулись. Пропали вместе с мотоциклом. В районе Мишкольца подорвались на минах три грузовика. Взорван путь у Кисварда. Раббе взглянул на часы. Десять пятнадцать! — У вас все? — спросил он. — Никак нет, господин штурмбаннфюрер… Лейтенант Миних и «хорх» разведотдела не обнаружены. На шоссе найдена только брошенная «ханза» без номера. Устанавливаем, кому она могла принадлежать. — Сейчас я буду, — сказал Раббе. — До моего приезда ничего не предпринимать. — Слушаюсь! — сказал дежурный. Раббе с минуту стоял, не выпуская из вспотевшей руки телефонную трубку. «Это десант! — подумал он. — Это десант! Мы проморгали десант!» Обжигаясь, он выпил кружку кофе. Машина ждала. Штурмбаннфюрер приказал шоферу гнать. Прибыв в штаб зондеркоманды, он первым делом допросил пастуха из Кецеля. Избитый, еле державшийся на ногах старик испуганно твердил одно и то же. Он не прибавил ничего нового к тому, что уже знал Раббе. — Ты знал, мерзавец, что надо сразу сообщить властям о всех подозрительных лицах? — заорал Раббе. — Знал, я спрашиваю? — Так кто думал?.. Может, это ваши… — бормотал старик. — Выпороть старого пса! — распорядился Раббе. — Выпороть так, чтобы на смертном одре помнил!.. А лес прочесать! Послать туда взвод! Немедленно! Он позвонил коменданту города. — Срочно пошлите тягач с командой солдат в район Рацкове. Надо вытащить нашу машину. Я сам там буду и скажу вашим людям, что делать. Вошел солдат, вытянулся у порога, переводя взгляд с дежурного на Раббе. — Ну, что? — спросил штурмбаннфюрер. — Что у вас? Солдат отрапортовал, что найдены трупы пропавших связистов. Лежали в водоотводной трубе. Оба убиты холодным оружием, Следов убийц обнаружить пока не удалось. — Дайте карту! — потребовал Раббе. Перед ним разостлали потертую на сгибах двухкилометровку. Красным карандашом Раббе поставил на карте несколько крестиков: место убийства связистов, лес, где пастух видел двух парашютистов, участок шоссе, где нашли брошенную «ханзу», место, где подорвались грузовики, взорванный путь близ Кисварда, село, вблизи которого увяз фургон. Соединил крестики ломаной линией. Получилась причудливая трапеция. «Это десант, — твердо сказал себе Раббе. — Хотя еще ничего не известно о „хорхе“. Тот прошел на Кисварда на восток». — Трех автоматчиков со мной! — приказал Раббе. — Пока ничего не сообщать. Я съезжу к фургону и вернусь. Он еще не расстался с надеждой, что все не так страшно, как кажется. Во всяком случае, прежде чем сообщать командованию армией и в Будапешт о появлении диверсантов, следовало осмотреть фургон, дождаться результатов прочесывания леса, постараться собрать какие-то бесспорные данные. Раббе приехал в Рацкове до прибытия тягача. Здесь пришлось оставить машину и добираться до ручья, в котором увяз фургон, пешком. Еще издали штурмбаннфюрер узнал свой грузовик. Возле грузовика болтались солдаты охраны, не подпускавшие любопытных. Завидев штурмбаннфюрера, солдаты вытянулись. Раббе подошел к фургону. Тот сполз с глинистого берега, ткнулся радиатором в воду, погрузившись в ручей почти до половины крыльев. Кабина грузовика была пуста. Забраться в фургон через заднюю, высоко задранную дверь, не запачкавшись, не представлялось возможным. Но пачкаться не имело смысла: посланный комендантом города тягач уже подходил. Сорвав зло на молодом лейтенанте, подбежавшем к нему с рапортом, Раббе приказал вытаскивать грузовик. Стоя в стороне, чтобы не хлестнуло тросом, штурмбаннфюрер мрачно следил, как солдаты пытаются выполнить его приказ. Тягач натужно выл, окутался вонючим синим дымом, дрожал. Трос звенел, как струна. Водитель попробовал рвануть. Первый раз обошлось. На второй трос лопнул, как выстрелил. Никого не задело, но, пока трос связывали, прошло еще минут пятнадцать. Раббе терял терпение. — У вас что, запасного троса нет? — напустился он на лейтенанта. — Есть? Так какого черта вы возитесь? Крепите двумя тросами! Накинули на крюк грузовика два троса. Тягач опять завыл, завонял, задрожал, но теперь грузовик, похоже, подался. — Не бойтесь запачкать сапоги! — заорал Раббе. — Беритесь за машину! Лезьте в ручей! Да, да! В ручей! Ничего, не простудитесь! Живо! Вы тоже, лейтенант! Нечего стоять! Солдаты во главе с лейтенантом полезли в ручей, к ним присоединились автоматчики и шофер Раббе, и грузовик медленно, нехотя пополз из глины. Его оттащили метров на пять от ручья. Красные от натуги, мокрые солдаты старательно подпихивали фургон. Лейтенант, напирая на крыло, бешено ругал подчиненных. — Довольно! — сказал Раббе. Солдаты отступили, лейтенант беспомощно поглядел на штурмбаннфюрера, уселся на траву и стал стаскивать мокрые сапоги. Раббе промолчал. Он подошел к задней двери фургона и потянул за ручку. Дверь была открыта. Раббе откинул подвесную лесенку, поднялся в кузов фургона. Он передвинул кнопку карманного фонарика. Бледное пятно света прыгнуло по фанерному верху фургона, сползло на пол. Раббе сделал шаг вперед, присел. Закусил губу, поднялся, погасил фонарь. Один из убитых был ему не знаком. Зато во втором штурмбаннфюрер узнал офицера связи штаба армии капитана Леопольда Фретера. Племянника генерала Фретера… «Гинцлер не мог бросить фургон, — лихорадочно соображал штурмбаннфюрер. — Он не мог уехать с Минихом… Да какое там „уехать“! Миних, видимо, тоже никуда не уезжал». Он распорядился доставить фургон с трупами во двор штаба зондеркоманды, приказал лейтенанту возвращаться в город и пошел к своей машине. Штурмбаннфюрер спешил. От быстрой ходьбы заходилось сердце, опять появилась испарина, но он не замедлял шагов. Из деревни удалось связаться по телефону с городом. Дежурный не знал, чем закончилось прочесывание леса. — Я вернусь через час, — сказал Раббе. — Примите фургон. Никого ни о чем не извещайте. Ждите меня. Я вернусь, через час. — Выезжай на Мишкольцское шоссе! — приказал Раббе шоферу. — На восемнадцатый километр. Ясно? Шофер молча наклонил голову. Он знал, что такое «восемнадцатый километр». «Мерседес» Раббе рвал воздух. На заднем сиденье качались вымокшие автоматчики. В зеркальце Раббе видел их лица: каменные, злые. Казалось, дорожные знаки проносятся за окошечками машины с тонким свистом. Стрелка спидометра исступленно дрожала на ста двадцати. «Лишь бы там все было в порядке, — думал Раббе. — Лишь бы в порядке!» Больше он ни о чем не позволял себе думать. Сейчас он увидит собственными глазами это место. Там что-нибудь прояснится. Тогда можно делать выводы. А пока — не надо! Не надо! Шофер сбросил газ, переключил скорость. По привычке оглянулся, не идет ли кто следом, и повернул налево, на бегущую под уклон полевую дорогу… Раббе выпрыгнул из машины, огляделся. Справа, возле кустов, валялся мотоцикл с проколотыми баллонами. Впереди темнел холмик свеженабросанной земли. Сняв фуражку, на ходу вытирая потный лоб, штурмбаннфюрер почти бегом направился к холмику. Он сразу заметил брошенную поодаль лопату. На лотке лопаты что-то бурело. Это «что-то» походило на запекшуюся кровь. Натянув фуражку, Раббе тупо уставился на лопату. — Господин штурмбаннфюрер! Один из автоматчиков приближался, держа в руке раскрытый «кодак». — Аппарат валялся вон там, господин штурмбаннфюрер! Раббе выхватил фотоаппарат из рук автоматчика, повертел его, снова огляделся, снова уставился на лопату со следами крови. — Разрыть могилу! — выдавил он из себя непослушные, пугающие его самого слова. И, уже готовый ко всему худшему, закричал: — Разрыть! Шофер притащил лопату. Автоматчики принялись раскидывать землю. — Быстрей! — торопил Раббе. — Быстрей!.. Осторожней, черт вас возьми! Холмик, накиданный наспех, был невысок. Вскоре лопата задела за что-то мягкое. Показалась белая ткань. — Осторожней! — крикнул Раббе. — Руками! Тела, брошенные в яму кое-как, одно на другое, уже закоченели. — Вынуть! — отступив на шаг, приказал штурмбаннфюрер. — Кладите лицами вверх!.. Уже по тому, что тел оказалось много, Раббе догадался, что он увидит. Но ему еще хотелось чуда! Первым вытащили обершарфюрера Гинцлера. Потом — Миниха. На остальных Раббе смотреть не стал. Он кое-как дошел до машины. На дверце машины оказались две ручки, и нельзя было понять, за какую хвататься. Мир стремительно погружался в темноту… Шофер успел подхватить штурмбаннфюрера. Автоматчики помогли уложить Раббе на заднее сиденье, расстегнуть мундир, влить ему в рот коньяку из фляжки, заботливо припасенной шофером, знающим о болезни шефа. Через десять минут Раббе смог проговорить: — В город… За телами прислать…
— Читайте! — процедил командующий армией генерал Фитингоф. Он кинул майору Вольфу расшифрованное сообщение из штаба фронта. Генерал Фитингоф был не молод. Точнее, генерал был стар. Высокий воротник мундира скрывал дряблую, коричневую шею. Генерал старался держаться прямо, но все выдавало в нем старика. И высохшие, желтые пальцы, и привычка беззвучно шевелить губами, и бесчисленная сеть склеротических жилочек на хрящеватом, когда-то орлином, а теперь просто крючковатом носу, и бесцветные глаза. Седой бобрик генерала отливал серебром, но из ушей уныло лезли грязно-желтые кустики невыстриженных волос. Все знали, что генерал моет голову, добавляя в воду синьку. Эта маленькая генеральская слабость давала повод недовольным офицерам проезжаться на счет командующего. За Фитингофом всюду тащилась обидная кличка: «Молодящаяся дама». Генерал знал о своем прозвище и в тайне глубоко переживал обиду. Молодежь могла бы относиться к нему почтительнее. Тем более что эта самая молодежь, самонадеянная и наглая, не считающаяся с опытом и мнением старших, привела Германию к катастрофе. Да! Молодежь привела Германию к катастрофе! Ее коричневый фюрер клялся, что обеспечит действия вермахта дипломатией, что большевики ненавидимы русским народом… Это был обман. Обман авантюриста, обман калифа на час, уверовавшего в собственный гений и прозорливость. Ему нельзя было верить, нельзя! И нельзя было слепо выполнять его безумные приказы, распылять силы, наступать, когда требовалось разумное сокращение линии фронта… У генерала Фитингофа был большой счет к Адольфу Гитлеру. Генерал Фитингоф находил, что именно Гитлер и его окружение привели Германию к катастрофе. Если бы Гитлера вовремя убрали со сцены, события могли бы, по мнению генерала, принять совершенно иной характер. Но молодежь плевала на опыт и мнения старшего поколения! Она хотела играть первую роль. Что ж! Вот и доигралась!.. А теперь от Фитингофа требуют спасти Германию. Не поздновато ли вы спохватились, господа?.. Генерал не питал иллюзий относительно исхода войны. Печальный конец был неизбежен и близок. Но его можно было бы оттянуть и спасти страну, немедленно перебросив все войска на восточный фронт, против русских, открыв путь армиям англичан и американцев к Берлину. Пусть входят! В конце концов это не большевики, их союз с русскими — трагическая ошибка, с ними можно найти общий язык. Вот с русскими общего языка не найдешь. Русских пускать в Германию нельзя! Все войска надо немедленно перебросить на восточный фронт!.. Однако попробуй заикнуться об этом! Коричневый фюрер все видит и знает сам. Он поощряет зеленую молодежь, а старым офицерам не верит. И что же в результате? Четырнадцать резервных дивизий против всех русских полчищ? Четырнадцать дивизий, раскинутых по всему фронту, от Прибалтики до Италии?.. Смешно и глупо. Глупо и трагично. Конец предрешен. Генерал Фитингоф хрустнул пальцами. — Ну-с? Прочли? Он испытывал удовлетворение от побитого вида своего начальника разведки. Тоже из молодых! Что ж удивительного в том, что не умеет обрабатывать пленных?Донес в штаб фронта о русских аэродромах, названных каким-то сбитым летчиком, командование авиацией послало бомбардировщики, а аэродромы оказались ложными. — Господин генерал, вероятность ошибки в подобных случаях… — Войну выигрывают не ошибками, — сказал генерал Фитингоф. — Ее выигрывают только при отсутствии ошибок. — Господин генерал! — глухо сказал начальник разведотдела и выпрямился. — Молчать! — сказал Фитингоф. — Говорить будете, когда я разрешу! Он вытер забрызганный слюной подбородок. — Недопустимое легкомыслие! — продребезжал он. — Мальчишество! Хвастовство! Умней всех хотите быть! Ввели в заблуждение командование и смеете обижаться! Чем вы можете оправдаться? Чем, я спрашиваю? — Господин генерал… — начал майор Вольф. — Молчать! — сказал генерал Фитингоф. — Чему вас учили? Кто вас учил? О чем вы думали, когда посылали эти данные? О чем?.. Начальник разведотдела глядел на генерала, не произнося ни звука. Смотрел с откровенным бешенством. — Говорите, черт возьми! — брызнул слюной Фитингоф. — Пленный прошел проверку, — сказал майор Вольф. — Он не вызывал подозрений. Я его проверил при помощи людей штурмбаннфюрера Раббе. Фитингоф жевал сморщенными губами. Вольф, прекрасно осведомленный о панической боязни, испытываемой генералом при одном упоминании о контрразведке и гестапо, злорадно молчал. — Но сведения оказались ложными! — нашелся, наконец, командующий. — Ложными! — В штабе группы были обязаны сопоставить наши сведения с другими данными, — сказал Вольф. — Мы не отвечаем за действия штаба группы. — Оставьте в покое штаб группы! — крикнул Фитингоф. — Речь идет о нас с вами, о нас! Это мы представили неверные данные! Понимаете, мы! Вольф понимал скрытые причины генеральского расстройства. «Молодящаяся дама» мнит себя непогрешимым стратегом, и шпилька из штаба группы вошла очень глубоко. Конечно, неприятно чувствовать себя дураком. Тем более что сведения о ложных аэродромах действительно пришли от них. Штурман солгал, идиот Кандыба его не раскусил, и вот результат… — Где этот ваш летчик? — задребезжал Фитингоф. — Сейчас же допросите его еще раз. Сейчас же! И чтобы к вечеру я имел полные данные. Вы слышите? Почему вы молчите, майор?! Вольфу потребовалось призвать все свое мужество, чтобы сказать правду. — Господин генерал, пленный штурман был отправлен вчера для расстрела арестованных… Профилактическая акция… Его сопровождал лейтенант Миних. Группу возглавлял обершарфюрер Гинцлер… Но они до сих пор не вернулись. — Как так не вернулись? — спросил Фитингоф. — Что значит не вернулись? Как это они могли не вернуться? Где же они? «Старый идиот!» — с отчаянием подумал Вольф. Вслух он сказал другое: — Приняты меры к розыску пропавших, господин генерал. — Пропавших?! — пустил петуха генерал. — Что значит пропавших? Как прикажете понимать ваши выражения? Немецкие офицеры и солдаты не дамская булавка и не запонки, майор! Они не могут «пропадать»! И здесь в конце концов не передовая! Какие меры вы приняли? Но майору Вольфу не пришлось докладывать о принятых мерах, так как адъютант генерала сообщил о приходе штурмбаннфюрера Раббе. — У доктора Раббе чрезвычайное сообщение, — отчеканил адъютант. Генерал пошлепал губами, смерил Вольфа уничтожающим взглядом и попросил пригласить штурмбаннфюрера. Лицо штурмбаннфюрера Раббе было серым, как солдатское сукно. Он ступал осторожно. Вяло поднял руку, приветствуя генерала. Лишь при виде майора Вольфа в его тусклых глазах появилась какая-то тень, но Раббе тотчас отвел глаза. Он глядел только на генерала. — Вы нездоровы? — осведомился генерал. — Садитесь, доктор. Приглашение несколько запоздало: Раббе и так уже опустился в кресло. — Генерал, — сказал Раббе, — в полосе армии русскими выброшен новый десант. Штурмбаннфюрер, морщась, то и дело прикладывая руку к сердцу, довел до сведения командующего собранные им данные. — Десант выброшен два дня тому назад, в ночь совершения диверсии на железнодорожном узле, — заключил Раббе. — Выброшен в непосредственной близости от города. Видимо, мы имеем дело со значительной группой парашютистов. Часть группы направилась к Будапешту, а вторая часть — в район Кисварда, используя захваченную машину разведотдела. — Два дня назад! — возмутился генерал. — Десант выброшен два дня назад, а вы докладываете только сегодня, когда парашютисты уже начали действовать! — Мы могли бы узнать о десанте раньше, если бы допрос пленного летчика велся так, как полагается, — сказал Раббе. — Летчик, несомненно, знал о выброске десанта. И мне представляется чрезвычайно странным то обстоятельство, что одной из первых же операций парашютистов было освобождение пленного. Два дня они не действовали, а в ночь расстрела оказались именно там, где оказался пленный. Фитингоф переводил взгляд с майора на штурмбаннфюрера. — Я просил бы господина штурмбаннфюрера уточнить свою мысль, если вы разрешите, — сказал майор Вольф, подбираясь и вызывающе глядя на Раббе. — Если бы я мог уточнить свою мысль, — ровно и зловеще сказал тот, — если бы я мог уточнить свою мысль, то, возможно, мы вели бы разговор с майором Вольфом в другой обстановке, генерал. — Меня обвиняют в пособничестве врагу? — повысил голос Вольф. — Я правильно вас понял, господин штурмбаннфюрер? — Пока я обвиняю вас только в пренебрежении своими обязанностями! — повысил голос и Раббе, впервые поглядев на Вольфа с откровенной ненавистью. — Вы были предупреждены мною о недопустимости затягивания допроса и необходимости жесткого подхода к русскому пленному! — Генерал, я позволю себе напомнить, что проверка пленного производилась с помощью сотрудника, рекомендованного штурмбаннфюрером Раббе, — сказал Вольф. — Меня возмущают высказанные в мой адрес обвинения. Я офицер немецкой армии и член партии… — Без году неделя вы член партии! — взорвался Раббе. — Не пытайтесь свалить свою вину на других!.. Вы… Вы… Он побагровел. — Господа! — задребезжал генерал. — Прошу прекратить эту сцену! Я не допущу в своем присутствии подобных… э… э… Прошу прекратить, господа! — Он хлопнул по столу ладонью. Майор Вольф демонстративно отвернулся от гестаповца, уставился на генеральский погон. Раббе судорожно копошился в карманах, отыскивая нитроглицерин. «Молодящаяся дама» встал, на негнущихся ногах проследовал к окну, вернулся обратно. — Господа! — сказал генерал. — Мне чрезвычайно прискорбно видеть столь болезненную реакцию… Обстановка требует объединения усилий, а не распыления их… Э-э… Господин майор, вы допустили явную ошибку с русским летчиком! Да-с! Не возражайте!.. Это промах, и чрезвычайно дорого стоящий!.. Доктор Раббе прав. Пленный мог знать о десанте. И вы были обязаны добиться от летчика нужных показаний… Не возражайте!.. Однако, господин штурмбаннфюрер, майор утверждает, что пользовался вашей помощью для проверки летчика!.. Да!.. Я прошу вас успокоиться, господа. Успокоиться и трезво обсудить положение! Вольф криво усмехнулся. Раббе сопел, сосал кусочек сахара с лекарством. — Вы предполагаете, что десант значителен? — спросил генерал у гестаповца. — Сейчас трудно судить о численности десанта, — сказал Раббе. — Их может быть десяти человек, может быть и значительно больше. Мы знаем, возможно, о действиях только двух групп. Остальные могли уйти в глубокий тыл… В ночь выброски десанта, генерал, вблизи города прошел полк русской авиации! — Господа, парашютисты должны быть ликвидированы без промедления! — забеспокоился «молодящаяся дама». — Концентрация русских войск заставляет предполагать подготовку противника к наступлению. Десант явно выброшен с целью нарушить работу тыла во время этого наступления. Мы не можем медлить, господа!.. Могли русские выбросить батальон? Ваше мнение, господин штурмбаннфюрер? — Могли, — сказал Раббе. — Но если даже не батальон, если только роту, это чрезвычайно опасно. Судя по всему, выброшены опытные диверсанты. А рота диверсантов может сильно нарушить железнодорожное движение, заминировать наши шоссе, вывести из строя важные объекты. — Это недопустимо, господа! — сказал генерал. — Какие меры следует принять, господа? В первую очередь, господа… Вы же были на русском фронте, господин штурмбаннфюрер! У вас имеется опыт. Прошу вас! — Известить все войска и все тыловые подразделения о появлении в полосе армии парашютистов противника, — сказал Раббе. — Усилить охрану дорог. Держать в боевой готовности не менее батальона, чтобы иметь возможность сразу же перебросить его в район обнаружения парашютистов. Объявить, что население несет ответственность за укрывательство. Мера наказания — расстрел на месте. — Да! — сказал генерал. — Но что вы подразумеваете под «усилением охраны» дорог? Создание дополнительных контрольно-пропускных пунктов? — Это ничего не даст, — сказал Раббе. — Железные дороги необходимо патрулировать, генерал. — У нас слишком много железных дорог! — возразил командующий. — И все-таки их надо патрулировать. — Как? На каких участках? — Необходимо сплошное патрулирование. Минимум один патруль в составе отделения на километр дороги. Отделение — на каждый пост… «Молодящаяся дама» беспомощно жевал губами, потом на щеки генерала пробился желтоватый румянец. — Господин штурмбаннфюрер, вы предлагаете неосуществимое. В полосе армии около трехсот километров железнодорожного пути. Следовательно, только на охрану пути мы должны поставить… Генерал прикинул: круглосуточные патрули, по три часа каждый… — …Поставить на охрану пути дополнительно почти пять тысяч солдат!.. Два полка!.. Может быть, вы заодно подскажете, где мне взять эти два полка, господин штурмбаннфюрер?! — В России мы их находили, генерал, — сказал Раббе. — Но здесь не Россия, здесь уже Венгрия! — рассердился командующий. — Я не располагаю такими резервами, господин штурмбаннфюрер! И насколько я помню, в России такая охрана не давала нужного эффекта! Да-с! Ваше предложение нереально! Ищите что-нибудь другое! — Другого не найти! — хмуро возразил Раббе. — Господин генерал, железные дороги требуют усиленной охраны. Хотя бы на важнейших участках. Командующий шевелил губами, гладил подсиненный бобрик. — А ваше мнение, майор? — спросил он у молчащего Вольфа. Начальник разведотдела еле заметно пожал плечами. — Мне кажется, опасения штурмбаннфюрера преувеличены. Паника — плохой советчик, господин генерала Очевидно, господин штурмбаннфюрер не может забыть печального опыта в России. Но здесь не Россия. Диверсанты не могут пользоваться здесь поддержкой населения и прятаться среди местных жителей. Это затруднит их действия, позволит обнаружить их в ближайшее время, господин генерал. — Судите по опыту ваших людей? — ядовито спросил Раббе. — Это ваши не умеют прятаться! Русские умеют! — Прошу вас, господа, — предупредительно поднял желтую ладонь генерал. — В рассуждениях майора есть доля истины… Но что вы предлагаете, майор? — Повысить бдительность, господин генерал. Увеличить число контрольно-пропускных пунктов на шоссе и поставить патрули в железнодорожных будках. Большого количества солдат это не потребует, а предохранить от диверсий на железных дорогах может. — Чушь! — сказал Раббе. — Вы говорите о вещах, о которых не имеете ни малейшего представления! Чушь! — Но это реально! — возразил генерал. — Зато это реально!.. Господа, я попрошу вас задержаться. Я вынужден вызвать начальника штаба. Приказ будет отдан сейчас же. — План майора Вольфа неудовлетворителен, господин генерал! — предупредил Раббе. — Я с ним не согласен. — Тогда дайте мне два полка! — вскипел «молодящаяся дама». — Дайте мне два полка, господин штурмбаннфюрер!
Глава седьмая
Если бы ксендз Алоиз Торма мог предвидеть, к чему приведут причитания и вопли экономки, он бы предпочел, чтобы его сварливая домоправительница лишилась языка. Вздорная баба разнесла-таки по деревне, что прошлой ночью немецкие офицеры ограбили служителя божьего. Ей никак не давали покоя двенадцать мешков муки, вино и прочие припасы, пропавшие из кладовых. А над восемью сгинувшими овцами чертова экономка выла, как над умершим родственником. Естественно, что слухи дошли сначала до местных властей, а через местные власти — до немцев. И уже около полудня возле дома ксендза остановился грузовик с тремя венгерскими охранниками и двумя немцами в мундирах полиции. Охранники вели себя вежливо. Поздоровались, долго вытирали ноги, перед тем как войти. Немцы этого не сделали. Старший из них, с погонами унтер-офицера, смерил ксендза враждебным взглядом и первым прошел в гостиную, оставляя на выскобленном полу серые, мокрые пятна и лепешки отставшей грязи. Экономка и тут не сдержалась. Швырнула унтеру под ноги тряпку: — Бесстыжие! Вытирай, вытирай ноги! Не испугалась твоих буркал! Есть бог! Он все видит! Немцу перевели слова экономки. Унтер медленно подошел к полнолицей, дебелой женщине, коротким, сильным тычком ударил ее, и экономка захлебнулась словами, попятилась, растерянно поднося растопыренные пальцы к окровавленным губам. — Эта разносила сплетни? — холодно спросил унтер у охранников. Те испуганно таращились на экономку. Один кивнул. — Взять! — приказал унтер. Вопящую экономку схватили, второй немец ловко защелкнул на женщине наручники, ударил ее по голове, и она захрипела, обмякла. — Господа… — еле слышно пробормотал Алоиз Торма, растопыривая дрожащие руки. — Господа… Так нельзя… Немецкая армия… Унтер повернулся к нему: — Эта женщина служит у вас? — Д-да… — Она распространяла злостный слух. Утверждала, что вы ограблены немецкими офицерами. — Д-дело в том… — запинался ксендз. — Это недоразумение… Я понимаю. Но прошедшей ночью, действительно… Он замялся. Происходило нечто дикое, невероятное. Он стоял посреди собственной гостиной, не решаясь присесть, и его допрашивали, как какого-то преступника! Его, пострадавшего, допрашивали, как преступника. Ксендз покраснел. В нем закипало возмущение. — Я протестую! — визгливым, срывающимся голосом выпалил ксендз. — Да! Я протестую, господа!
На вытянутом лице унтера не отразилось ничего. Казалось, это гипсовая маска, а не лицо. — Так что случилось ночью? — спросил унтер. Ксендз никак не мог совладеть с дрожью, сотрясавшей все его тело. Это было унизительно. Всю жизнь Алоиз Торма видел со стороны людей только почет и уважение. Сейчас ему отказывали в уважении. На него смотрели совсем так, как на тряпку, брошенную экономкой и все еще валявшуюся на заслеженном полу. — Я требую уважения к сану! — выговорил, наконец, ксендз. Неожиданно прямой рот унтера покривился. — Ясно. Прошу вас собраться. Поедете со мной. Ксендз выпрямился и отшатнулся, как от пощечины. Алоиз Торма не успел опомниться, как экономку вывели из дому. Набежавшие бабы заголосили. Унтер расстегнул кобуру, вытащил пистолет. — В машину, быстро! Алоиза подсадили в кабину грузовика. Грузовик рванулся с места… Ксендз, стиснув зубы, воззвал к господу, призывая покарать насильников. Из глаз текли слезы гнева и обиды… В местном полицейском управлении Алоиза Торму держали недолго. Унтер позвонил, доложил о задержании, и через несколько минут грузовик опять повез ксендза куда-то. Только на этот раз в сопровождении одних немцев. Через час, покидая по команде грузовик, Алоиз Торма узнал улицу святого Стефана в Наддетьхаза. Но на улице Алоиз не задержался. Подталкиваемый солдатом, он рысцой проследовал сначала в калитку какого-то дома, затем в подъезд и очутился в темноватой комнате с перегородкой. За перегородкой сидел немец в черном мундире, похожем на мундиры ночных гостей Алоиза. Солдат доложил черному немцу о прибытии, тот мельком глянул на ксендза, вышел и вскоре вернулся. — Пройдите сюда, — равнодушно предложил немец из-за перегородки, открывая дверцу. Затем ксендза ввели в другую дверь, провели по затхлому коридору, освещенному тусклой лампочкой без абажура, и отворили перед ним третью дверь. В небольшой, без окон, подвальной комнатушке сидел немолодой офицер, опять-таки в черном. — Садитесь! — приказал офицер. — Я протестую против насилия! — сказал Алоиз Торма. Офицер пристально разглядывал ксендза, словно не слышал протеста. — Садитесь! — повторил он без всякого выражения. Создавалось впечатление, что говоришь со стеной. Ксендз обессиленно опустился на скамью. — Алоиз Торма? — Да… — Служитель культа? — Да… — Вы продолжаете утверждать, что ограблены немецкими офицерами? Ксендз молчал. Его душили рыдания. Он стыдился слез, и от этого рыдания становились еще судорожней. Офицер потрогал мизинцем уголок рта, поглядел на кончик пальца, поморщился. — Ваши действия нельзя расценить иначе, как враждебную немецкой армии пропаганду, — сказал офицер. — Я… ничего… не заявлял… — выговорил Алоиз Торма. — Успокойтесь, ваше преподобие… Когда вас ограбили? Час? — Я никому… не жаловался… Я понимаю… — Что вы понимаете? — Распространение злостных слухов… — пробормотал ксендз. — Подрыв… Офицер смотрел не мигая. — Значит, вы полагаете, что немецкая армия грабит местное население? — спросил офицер. Алоиз Торма окончательно смешался. — Я никому не жаловался… Челюсть офицера стала квадратной. — Подобные мысли не делают вам чести. Вы рассуждаете, как эта баба, ваша экономка!.. Из чего вы заключили, что вас ограбили немецкие офицеры? — Я ничего не говорил… — Отвечайте на вопросы! Ксендз ворочал шеей, избегая пронзительного взгляда. — Я. На этих людей… Это были… — На этих людях была немецкая форма? Алоиз Торма кивнул. — Обычная армейская? — Н-нет… — Какая же? Ксендз не решался открыть рта. Офицер раздраженно постучал ногтями по голой столешнице: — Я вам помогу. На этих людях была форма войск СС. Так? — Я никому не жаловался! — возопил ксендз. — Нет! Никому! — Замолчите! — сказал офицер. — Мне нужны не истерики, а показания! — Никому… — упавшим голосом пробормотал Алоиз Торма. — Вы не заметили ничего необычного в облике этих людей? — продолжал офицер. — Они говорили по-немецки без акцента? Ксендз поднял голову. В его глазах затеплилась мысль. — Акцент?.. Да… Но не только акцент… — Что еще? — оживился офицер. Ксендз заторопился: — Они были… как бы сказать… небриты. Очень небриты… У одного завязана голова. А один с большими усами… — Небриты? Прекрасно! И это вас не смутило? Вас не смутило, что к вам ночью ни с того ни с сего врываются небритые люди? Вас не смутило, что немецкий офицер небрит? — Я… — забормотал ксендз. — Все произошло столь внезапно… На меня направили оружие… Такое потрясение… — Сколько человек ворвалось в ваш дом? — Т… т… трое. — Вы не ошибаетесь? — Нет, нет! Трое. — Мужчины? — Конечно, господин офицер… — Все в форме? — Да… На улице еще были люди… — Из чего вы заключаете это? — Голоса… Я слышал голоса… — сказал ксендз. — Тех что остались около машины… — Машину вы не видели? — Нет… Я же был связан… — Значит, грабители приехали на машине, их было наверняка больше трех человек, и они вас ограбили? — Но я никому… — сказал ксендз. — Я ничего… — Вы обязаны были немедленно сообщить о случившемся в полицию! — заметил офицер. — На вас напали диверсанты! Партизаны! — Па…партизаны? — сумел выговорить Алоиз Торма. — Вы посмели заподозрить в нападении немецких солдат! — вздохнул офицер. — Именно поэтому вы ничего не сообщали! Алоиз Торма энергично затряс головой. — Вы рассуждали, как коммунист! — сказал офицер. — Если бы нам не было известно ваше прошлое, мы бы церемониться не стали… Как вы могли опуститься до столь подлых мыслей о немецкой армии?! — Я… полагал… недоразумение… — Вы полагали! — сказал офицер. — Вы вели себя, как ребенок. Помогли диверсантам скрыться, уйти. — Если бы я знал! — вырвалось у ксендза. — Господин офицер! Если бы я знал! О боже! Я понимаю, понимаю… Офицер покачал головой. — Что у вас взяли? — спросил он. — Но… — замялся ксендз. Офицер поднял тяжелый взгляд. — Восемь овец, двенадцать мешков муки, вино, колбасы, сыр, хлеб… — зачастил ксендз. — Не так быстро, — остановил офицер. — Еще раз. Итак, восемь овец?.. Через полчаса офицер закончил протокол допроса. Заискивающе улыбаясь, Алоиз Торма рискнул заикнуться: — Я могу быть свободен?.. Офицер промокнул протокол. — Вам придется немного подождать. Алоиз Торма просидел в приемной два с половиной часа. Он изнывал от страха. Немного утешало, что немцы знали о его помощи властям в обнаружении недовольных режимом. Но ведь они могли и не посчитаться с этим! Ведь он заподозрил в грабеже эсэсовцев! Ксендз молился, затихал, опять молился… Наконец его привели к тому самому офицеру, что вел допрос. — Вас мы освобождаем, — холодно сказал офицер. — Вернитесь в деревню и объясните прихожанам, что вы ограблены партизанами. — Да, да! Конечно! — обрадовался ксендз. — Конечно! А… — Он запнулся. — А моя экономка? Офицер улыбнулся. — Вы близки с этой женщиной? Экономка Мария делила с Алоизом Тормой хлеб и постель уже пятнадцать лет. Ксендз густо покраснел. — Мой сан… — сказал он. — Полагаю, вам известно, что мы даем обет безбрачия… — Вот именно, — сказал офицер. — Значит, у вас нет причин волноваться… Ваша экономка останется здесь. Она вела враждебную пропаганду. …На углу улицы святого Стефана ксендз Алоиз Торма очнулся. К удивлению прохожих, он внезапно остановился, замер как вкопанный, кинулся было бежать обратно, но не пробежал и трех шагов. Лицо его сжалось, голова ушла в плечи, и, спотыкаясь, он побрел прочь…
Офицер-шифровальщик, сидевший в полном одиночестве в крохотной комнатушке с зарешеченным окном, утопал в табачном дыме. Поминутно сверяясь с кодом, он медленно разгадывал экстренную телеграмму из Будапешта, полученную в ответ на донесение Раббе. На бумагу одно за другим, каллиграфически выписанные, ложились слова: «Довожу до сведения командиров зондеркоманд возникшую опасность диверсионных партизанских действий противника тчк Два последних дня районах Балашшадьямарт, Риманска Собота, Фелед, Мишкольц, Наддетьхаза, Кисварда отмечены случаи нападения партизан важные объекты, дороги, отдельные подразделения наших войск тчк Вероятна возможность просачивания партизанских отрядов и групп территории Словакии района Банска-Бистрица тчк Установлена выброска противником парашютных десантов, действующих направлении Наддетьхаза — Мишкольц — Эгер — Будапешт тчк Требую принятия экстренных мер ликвидации партизанских банд всеми средствами тчк Каждый диверсионный акт немедленно доносится мне тчк Линии войскового командования отдается приказ усиления охраны тыловых коммуникаций тчк Требую обеспечить командование подразделений необходимыми инструкциями тчк Подпись две точки штурмбаннфюрер Вильгельм Хеттль». Офицер аккуратно притиснул бумагу желтым канцелярским пресс-папье, аккуратно закрыл книгу кодов, аккуратно запер ее в сейф и, положив приказ в папку для докладов, аккуратно завязал синие тесемочки. Он всю войну прослужил в шифровальных отделах штабов, принял и отправил тысячи шифровок, и слова, которые он выписывал, переведя текст с языка кода на обычный немецкий язык, давно перестали волновать офицера. Привычность формулировок не вызывала ничего, кроме уныния. Офицер подумал, что срок его дежурства закончится через час. Если не произойдет ничего чрезвычайного, то через час можно пойти в тот венгерский ресторанчик, где так славно играет цыганский оркестр и подают настоящий ром. Там, кстати, бывают женщины. Офицер был аккуратен. Раз в неделю он считал необходимым немного выпить и побывать у женщины. Сегодня как раз прошел недельный срок. Офицер одернул китель, взял папку и пошел к двери.
В ту самую минуту, когда ксендз Алоиз Торма рассказывал следователю о том, что у него взяли, крестьянин из Пилиша Ловас Теглаш, воротясь домой с мельницы, вызвал во двор свою старуху. — Что случилось? — спросила жена, обеспокоенная взволнованным видом Ловаса. — Слышь… — сказал Ловас. — Возле того обрыва, где дубки… — Тсс… — сказала жена. — Что возле обрыва? — Кто-то мешки с мукой в воду бросил, — шепотом сказал Ловас. — Я низом брел, так заметно… — Мешки? С мукой? — Мешков десять! — сказал Ловас. — И еще чего-то… — Господи! — сказала жена. — Зачем? — А я знаю? — рассердился Ловас. — Бросили, и все! Лежат в воде. — Господи! — сказала жена. — Ты в это дело не ввязывайся, Ловас! — И не подумаю! — сказал Ловас. — Только мешки надо бы достать. Нынче же ночью. — Господи! Не надо, Ловас! Мало ли что? — Заткнись! — сказал Ловас. — Дура! Я же никому не скажу! Ты что, хочешь, чтобы добро пропадало? — Господи! А вдруг что-нибудь? — Молчи, ничего и не будет! — сказал Ловас. — Ведь десять мешков! — Господи! А если узнают?.. Так просто никто не бросит!.. — Раз бросили — значит, не нужно им, — рассудительно заметил Ловас. — А узнать — никто не узнает. Никому не скажем. Только скажи — по судам затаскают, известно… Нет уж! А муку нынче же привезем. — Господи! — сказала жена. — Мешков десять, говоришь? — Ага. Не меньше, — сказал Ловас. — Только ты ни гугу! — Господи! — тихонько воскликнула жена. — Разве я дура?.. И, оглянувшись, они ушли в дом…
На исходе того же дня Петро Кандыба, работавший с утра по сортировке одежды ликвидированных жителей Наддетьхаза, вернулся в казарму и, собираясь отужинать, заметил двух эсэсовцев, появившихся возле дневального. Появление эсэсовцев никогда не предвещало ничего хорошего. Кандыба сразу подумал, что кто-то нашкодил. «Интересно — кто?» — подумал Кандыба. Эсэсовцы, сопровождаемые встревоженным дневальным, двигались по узкому проходу между двухъярусными нарами. Казарма притихла. Эсэсовцы остановились возле Кандыбы. Дневальный со страхом смотрел на Кандыбу. — Хе-хе… — неуверенно сказал Кандыба. — Хе-хе… — Вот, — сказал дневальный. — Хе-хе… — сказал Кандыба, дергая губами. — Хе… — Встать, — приказал эсэсовец с погонами штурмманна. — Мене? — спросил Кандыба, не в силах двинуться. Штурмманн протянул руку, схватил Кандыбу за чуб и рванул на себя. — Мене? — взвизгнул Кандыба. Второй эсэсовец привычно провел руками по телу Кандыбы, проверил его карманы, вытащил из них нож, грязный носовой платок, полупустую пачку сигарет, пачку стянутых резинкой кредиток. — Я ничего не брал! — торопливо сказал Кандыба. — Не надо мене!.. Щелкнули наручники. — Марш! — приказал штурмманн. Кандыба знал, что противиться эсэсовцам не следует. Покорно согнув голову, он засеменил по проходу, исподлобья поглядывая по сторонам и пытаясь улыбаться. — Это не мене! — бессмысленно говорил он. — Не! Не мене! — Молчать! — сказал штурмманн, и Кандыба с готовностью умолк. Дверь казармы захлопнулась. Кандыбу впихнули в малолитражный автомобиль. Штурмманн сел рядом с шофером. Второй эсэсовец — возле Кандыбы. Машина пошла к центру города. Кандыба шевелил губами, жалко улыбался. — Не мене! — беззвучно, упорно повторял он привязавшуюся фразу. — Не мене! Он не знал за собой никакой вины. Ничего не крал в эти дни, все приказы выполнял… — Не мене!.. Кандыбе и на ум не приходило, что арест может быть связан с допросом советского летчика. Уж с летчиком-то все было в порядке! Тут Кандыба считал себя совершенно чистым. За летчика он не беспокоился… Вот разве пронюхали, что он две недели назад золотую челюсть припрятал? Когда евреев стреляли… А больше не за что… Но он вернет челюсть! Хрен с ней, вернет! — Не мене!.. Кандыбу вытолкали из машины возле здания гестапо. Уж это-то здание он хорошо знал! «Челюсть!» — подумал Кандыба. Его провели коридором, ввели в подвальную камеру с грубым, покрытым бурыми пятнами топчаном, со свисающими с потолка веревками. Кандыбу поставили лицом к стене. Кто-то вошел. — Повернись! Кандыба торопливо повернулся. В дверях стоял унтершарфюрер с большими залысинами. Засунув за ремень большие пальцы, унтершарфюрер смотрел на Кандыбу. — Раздеть! — приказал унтершарфюрер солдатам. С Кандыбы сорвали сапоги, платье, белье. Он неуверенно переступил босыми пятками по холодному полу. — Если насчет челюсти… — забормотал Кандыба. — Молчать! — сказал унтершарфюрер. — Скажешь все добровольно — останешься жив. Не скажешь — убью. — Все скажу! — поспешил заверить эсэсовца Кандыба. — Да боже ж мой! — Молчать! — сказал унтершарфюрер. — Тебя вызывали в разведотдел? К советскому летчику сажали? Кандыба вытаращил глаза. — Говори! Кандыба торопливо отвечал на вопросы. Все рассказывал. Все. Но, видимо, он рассказывал не то, что хотел услышать унтершарфюрер, потому что тот дал знак солдатам, и они приблизились к предателю… Вой Кандыбы проник сквозь толстую дверь, просочился сквозь стены. — Изоляция паршивая, — сказал дежурный эсэсовец, услышав этот вой. — Разве это изоляция? — Да уж… — согласился другой, позевывая. — А чего ты хочешь? Обычный подвал… Через час Кандыба сказал, что он предупреждал начальника разведки о подозрительном поведении пленного русского летчика, но получил приказ замолчать и никому не сообщил об этом приказе, боясь расправы. После этого Кандыбу бросили в камеру, и несколько часов он провел взаперти, на холоде, боясь пошевелиться, чтобы не потревожить изуродованное тело. Изредка он взвизгивал и подвывал. Но визг был слабым… В семь часов вечера за Кандыбой пришли. Его заставили надеть какое-то подобие халата. Связали ему руки. Вывели во двор. Тут, во дворе, Кандыба увидел кучку немецких офицеров в черных мундирах. Одного Кандыба знал. Это был сам штурмбаннфюрер Раббе. Потом Кандыба заметил виселицу. И сообразил, что его ведут к виселице. Ноги у Кандыбы подвернулись. Он упал бы, но солдаты ловко подхватили Кандыбу под руки, быстро поволокли через двор.

— У-у-у-у… — тихонько выл Кандыба. Солдаты остановились. — Что такое? — услышал Кандыба голос одного из офицеров. — Воняет он, господин штурмбаннфюрер! — злобно откликнулся солдат. — Кончайте! — Слушаюсь!.. Кандыбу приволокли к виселице. — Не мене! — тонко завыл Кандыба, почувствовав, как охватывает шею шершавая петля. — Я скажу! — Хорек обгаженный! — сквозь зубы процедил солдат. Кандыба на миг умолк, судорожно соображая, кого еще он может предать, что еще сказать, чтобы избежать гибели. В этот миг солдаты отступили. Один вышиб из-под ног Кандыбы табурет, второй обхватил туловище предателя, повис на нем и выпустил дергающееся тело лишь после того, как услышал хруст позвонков. Офицеры приблизились к трупу. Раббе привстал на цыпочки, завернул веко повешенного, опустился, отряхнул перчатку, кивнул. Итак, один из виновных в гибели группы Гинцлера наказан. По крайней мере есть о чем сообщить в Будапешт. А майор Вольф пожалеет, что не хотел слушать советов и пытался опорочить службу безопасности. Конечно, показания такой личности, как Кандыба, доверия руководству не внушат. Но только в том случае, если останутся единственными… «Самоуверенный болван! — раздраженно подумал Раббе о начальнике разведки. — Выпустил из рук такого пленного! Прозевали по его милости такой десант!» Штурмбаннфюрер, ознакомившись с показаниями ксендза Алоиза Тормы, был убежден, что русские забросили в тыл армии не меньше роты парашютистов. Количество взятого у ксендза продовольствия ясно говорило о составе десанта. И вот теперь по милости самоуверенного болвана Вольфа попробуй ликвидировать банду, успевшую уйти из района приземления!.. — Зарыть, — махнул Раббе в сторону виселицы. Он заметил подбегающего дежурного. — Адъютант командующего просит вас срочно прибыть в штаб! — отрапортовал дежурный. И, помедлив, тихо добавил: — Сообщают, что русские начали наступление на стыке армий…
Серые сумерки разгладили землю, стерли пологие выпуклости холмов, затушевали ложбины, неприметно вобрали в себя далекую железнодорожную насыпь, угрожающий перст кирки, крыши селения, кусты, тропы. Наступал вечер. Бунцев снял караул. Скоро выступать, надо подкрепиться на дорогу. Они сидели кружком вокруг плаща с припасами, ели, переговаривались. Когда все решено, о том, что надо будет делать, не толкуют. Незачем. В такие минуты лучше говорить о другом. Телкин неожиданно для всех прыснул, зажал рот рукой, перегнулся пополам, давясь стонущим смехом. — Ты чего? — улыбаясь, спросил Бунцев. — Перестань, — сказала Кротова. Мате поглаживал усы, не зная, смеяться ему или сохранять серьезность. — Не мо… гу! — простонал Телкин. — Ей-бо… Ну, не могу! — Уймись, — сказал Бунцев. — С ума сошел! Телкин махал рукой, вытирал слезы: — По… по… погоди!.. Сейчас… Рас… расскажу! Бунцев подвинул Нине круг сыра, глазами приказал: — Не сиди, как на похоронах! Ешь! Девушка подняла и опустила голову. Она не плакала больше, но была молчалива, подавлена, и капитану казалось: Нина сторонится его. А он не хотел, чтобы Нина сторонилась.

Бунцев поймал взгляд Кротовой, но, жалея ее, снова чувствуя себя без вины виноватым, выдержал этот взгляд. «Не суди! — говорили глаза Бунцева. — Все понимаю! Все! Но „это“ не в моей воле и власти. Не знаю, как „это“ случилось. Я не предаю тебя! Ты мне друг навсегда! Просто, сейчас „это“ не в моей воле и власти». Радистка отвела взгляд, потянулась за ножом. Капитан догадался, что его признание излишне. Она и так все почувствовала и не судит его, а только горько ей, неимоверно больно и горько, и не надо трогать ее, потому что нельзя в таких случаях помочь и не надо помогать человеку. Он должен справиться сам. — Передай хлеб, — тихо попросила радистка у Нины, и та вздрогнула и торопливо передала хлеб, все так же не поднимая головы. Капитан видел, как Нина сжала губы. От нее веяло тревогой. Горем. Бедой. Бунцев с досадой прикрикнул на штурмана: — Хватит! Телкин махал рукой. — По-го-ди!.. Сейчас!.. Помрете!.. Он по-детски втянул и проглотил слюну, вытер глаза и щеки, опять махнул рукой. — Я сейчас вспомнил, как из училища на фронт ехали!.. О-о-о, черти полосатые!.. О-о-о! Смеющаяся физиономия штурмана обезоруживала. — Ты лучше выскажись и уймись наконец, — посоветовал Бунцев. — Погоди-и-и!.. Ольга про подрывников говорила, вот я и вспомнил… Понимаешь, с нами в вагоне один солдат ехал… Сапер… О-о-о, матушки родные! Смех штурмана заразил Мате. Даже не понимая слов, венгр смеялся. Смеялся человеческому веселью. Кротова тоже улыбнулась. — Дурной, — сказала она. — Ты погоди! — простонал Телкин. — Оля, погоди!.. Ты только представь: тащимся на сухом пайке, а на станциях бабы молоко продают, лепешки, масло… Стоят, понимаешь, с корчагами… Хоть не выходи! Ведь цены-то какие?!. Спекуляция же!.. — Ну и что? — спросил Бунцев. — Что в этом смешного? — Погоди!.. Мы, конечно, нашу лейтенантскую зарплату в первый день просадили. Ну, а потом на мыло перешли. Понимаешь, бабы за мылом охотились. И расчет такой — кусок мыла на кувшин масла или на два кувшина молока и пять лепешек… О-о-о, дьяволы! — Повело! — не выдержав, рассмеялся Бунцев. — Командир! — воззвал штурман. — Погоди!.. Сейчас!.. Ну, иссякло наше мыло… А солдат этот, сапер, сам понимаешь, из госпиталя, и офицерских денег у него нет. Но мужик самостоятельный. Мы его угощали, а он отнекивается, ничего не берет… Только вдруг смотрим, повеселел, после одной станции угощение принял, а потом забился на верхнюю полку и долго там скребся. Затих… Думаем, спит. Ладно… На следующей станции соскакивает наш сапер с верхотуры и подается на перрон, чего раньше не делал… Где он там болтался, я не видел. Только вскочил он уже, когда поезд тронулся. На ходу. И — кувшин с маслом у него!.. Мы, конечно, удивляемся: откуда, мол? Ведь денег у человека нет, да и мыла-то оставался только обмылочек. С детскую ладошку толщиной… — Телкин покрутил головой. — Сапер смеется, понимаете! «Это, — говорит, — солдатская смекалка! Ведь бабы спекулируют, ну, значит, церемониться с ними нечего! Видели, — говорит, — у меня брусочки кирпичные? Макеты толовых шашек? Вот я одну такую шашечку мылом обмазал, чтоб, значит, натурально смотрелась, да в последнюю минуту тетке, какая потолще, и толкни! Она мыло — хвать, а я кувшин — цоп, и — не горюй, родная! Я, — говорит, — этой тетке с подножки крикнул еще: „Мойся, тетенька! Чистота — залог здоровья!“» — Бродяга твой сапер, — усмехаясь, сказал Бунцев. — И ты бродяга. — Александр Петрович! — замахал Телкин обеими руками, снова давясь смехом. — Погодите!.. Он, значит, кувшин на столик — угощайтесь! Колупнул масло сверху-то, а масла там — на спичку толщины. Под маслом-то полный кувшин ка-а-ртофеля-я-я! Даже хмурая Нина усмехнулась телкинской истории. Остальные хохотали вместе со штурманом. — Командир! — пискнул Телкин, трясясь. — Ты бы слышал, что этот сапер орал!!! «Сволочь, — орал, — обманщица!..» О-о-о! Штурман успокоился позже всех. Наверное, слишком живо представлял себе и толстую тетку с фальшивым мылом и возмущенного сапера. Мате попросил перевести ему рассказ. — Переведи! — сказал Бунцев Нине. — Ты же немецкий лучше всех знаешь… Нина перевела. Мате смеялся, как ребенок, тоненько, ото всей души. А Нина, досказав, съежилась, притихла, неподвижно уставилась в одну точку. Кротова окликнула ее: — Что с тобой? — Подругу забыть не можешь? — участливо спросил Бунцев. — Так ведь война, Нина! Крепись! Заплатят дорого нам немцы за смерть Шуры. Нина рывком подняла голову, обвела всех взглядом. — Я… товарищи… — сказала она. Мате еще смеялся. Нина сцепила руки. Бунцев, ничего не видя, шарил по плащу. — Я должна рассказать о себе… — услышал он голос Нины. — Вы должны знать. Стало очень тихо. — Рассказывай, — сказала Кротова. — Если должна — расскажи. Бунцев заметил, как осторожно положил Телкин на куртку кусок хлеба.
Нина уронила руки на колени. — Я с Макеевки родом… — услышал капитан. Сумерки подползали все ближе. Они неслышно подкрадывались вплотную к людям, словно опасаясь нарушить горькую повесть о захваченной врасплох человеческой душе. И, глядя, как сгущаются сумерки, капитан Бунцев видел погасшие звезды над терриконами Донбасса, рухнувшие в реки мосты, последние эшелоны с беженцами и на забитом людьми, машинами, повозками шляхе — одинокую женщину с шестнадцатилетней дочкой и трехлетним сынишкой. Сынишку приходилось тащить на руках. Дочь несла узел с пожитками и жалким запасом еды. Пропыленные, немытые, они шли и шли к Ростову. Падали в кюветы при налете «юнкерсов». Ночевали то в чужой хате, то в первой попавшейся балочке. С тоской оглядывались назад, туда, где на горизонте пылали пожары, туда, где остался родной дом, где стремительно наступал страшный, беспощадный, уверенный в своих силах, торжествующий враг. По ночам мать рыдала: пропало ее гнездо, исчез где-то мобилизованный в первый же день войны муж, впереди ждали голод, нужда, может быть, гибель. Дочь просыпалась, гладила мать по лицу, по таким же густым, пепельным, как у нее самой, косам: — Мамочка! Не надо! Вот увидишь — их остановят!.. Они же не могут победить!.. Вот дойдем до Ростова — и переждем. В Ростов их не пустят!.. Она не помнила и не хотела помнить, что так же твердо верила: немцев не пустят в Донбасс. Мать привела детей в Ростов в самый разгар эвакуации. Здесь матери повезло: на станции она встретила товарища мужа, и он помог втиснуться в эшелон, отходивший в Краснокубанск. Нина уже не утешала мать. Стиснутая чужими людьми на верхних нарах товарного вагона, вдыхая запах грязных тел, пеленок, слушая детский плач, мучаясь от жажды, она неотрывно смотрела в темный, нависший над головой потолок и твердила себе: «В армию! В армию!» Ей было жалко маму и маленького братишку, но ее путь лежал только в армию. Так же, как путь замученной немцами под Москвой партизанки Тани, как других девчонок-комсомолок. В армию! Эшелон полз несколько дней. Однажды ночью Нина проснулась от тяжести и удушья. Ей зажимали рот. Кто-то рвал платье. Она кусалась, билась. — Для немца бережешь? — прохрипел в ухо чей-то голос. Ей удалось вырваться, закричать. Насильник исчез. — Что с тобой? Что с тобой? — спрашивала мать. — Сон… — выдавила Нина. — Спи, сон… Она не хотела, чтобы мать узнала правду. Мать могла заголосить, а Нина боялась позора. Но если бы она знала, кто был около, она бы убила этого человека. В Краснокубанске мать приютилась с детьми на кухоньке частного дома. Дом принадлежал двум чистеньким старичкам, оставшимся с тремя внуками: сын и невестка старичков, оба врачи, служили в армии. Казалось, тут будет хорошо. Но именно тут, в Краснокубанске, и захлестнула семью Нины, как тысячи других семей, мутная волна фашистского нашествия. Советские войска оставили город внезапно. Казалось, бои еще далеко, они только приближаются, а оказалось, немцы обошли Краснокубанск, и войска, отрываясь от противника, вынуждены были сдать город почти без выстрелов… Стремясь продвинуться как можно дальше, фашистские полчища не задержались в Краснокубанске, оставили в нем только небольшой гарнизон, но город сразу же словно вымер. Даже лишенный воды, он затворился в домах, в квартирах и притих, затаился….. Три дня не выходили на улицу обитатели маленького домика на Советской улице. Но на третий день кончился запас воды, и мать,взяв с собой Нину, отправилась с ведрами на Кубань. До реки они дошли благополучно, никем не замеченные. Но на обратном пути, заворачивая за угол, столкнулись с немецким офицером… Нет, это был не тот плакатный немец, что, оскалив зубы и вытаращив пьяные глаза, закатав рукава, на обагренных кровью руках, строчил из автомата. Это был другой. Чистый, подтянутый, выбритый, с немного недоумевающим, как у всех близоруких, но не носящих очков людей, интеллигентным лицом. Он не набросился на мать и Нину с бешеным криком, не стал бить их и угрожать. Он торопливо уступил женщинам дорогу, поднес к козырьку фуражки затянутую в перчатку руку и, казалось, удивился тому, что они сами таскают воду. — Гнедике фрау! Фрейлейн! — сказал офицер. — Но ведь вам тяжело!.. Ганс, помогите! Сопровождавший офицера денщик протянул руки к ведрам, которые несла мать. Денщик улыбался. Мать пыталась отказаться от помощи, но офицер укоризненно покачал головой и повторил свое приказание: — Помогите, Ганс! Растерянная мать уступила. — К сожалению, я не могу оказать услугу фрейлейн, — улыбаясь, сказал немец. — Офицеру не позволительно носить ведра. Но я надеюсь, что впредь вам не придется ходить на реку, гнедике фрау. Мы восстанавливаем водопровод… Куда прикажете проводить вас? Мать, взволнованная, растерянная, молча пошла вперед. Офицер шагал рядом с Ниной. — Вам стыдно идти рядом с немецким офицером? — внезапно спросил он. — Можете не отвечать, я вижу, что стыдно… О, фрейлейн! Поверьте, мы воюем не с вами и не с вашей матушкой! Мы воюем не с русским народом! О нет! Мы воюем с Кремлем. С большевиками. С теми, кто столько лет угнетал вас, лишил вас самых обычных человеческих прав. Мы не насильники, фрейлейн! Мы носители свободы и культуры. И вам не нужно стыдиться. Нина молчала. «Только бы никто не увидел нас! — думала она. — Какой ужас! Идти как ни в чем не бывало рядом с фашистом, слушать его… Какой ужас!» — Русский народ принадлежит к нордической расе, — продолжал офицер. — Он близок нам по крови. Возможно, фрейлейн не знает, но многие русские цари были связаны узами родства с немецкими князьями… О, русских ждет большое будущее. Теперь, когда с коммунистами покончено, когда Германия берет на себя заботу о благе населения, русский народ узнает, что такое настоящая жизнь, настоящая свобода!.. Вам тяжело, фрейлейн? Отдохните!.. Ганс! Подождите! Фрейлейн устала! — Я не устала! — резко ответила Нина, чувствуя, как онемели руки, как ломит поясницу, но не желая воспользоваться любезностью фашиста. Мать подхватила ее ведра. Кое-как они дошли до дому. Денщик, улыбаясь, поставил ведра на крыльцо. — Благодарю вас… — сдавленно произнесла мать. — О, не за что, — коснулся козырька офицер. — Я желаю вам счастья, гнедике фрау, и вам, фрейлейн! Они с денщиком подождали, пока женщины войдут в дом. На пороге Нина оглянулась. Офицер снова притронулся к козырьку и ободряюще кивнул ей… На следующий день Нину вызвали на биржу труда. Возле здания бывшего горисполкома стояли другие юноши и девушки с повестками. Нина никого не знала. Молодежь косилась на нее, но не заговаривала. Наконец соседка по очереди, принаряженная, подкрашенная, взглянула на девушку: — Ты здешняя? — Нет… — И я нездешняя. Никого не знаю. Я из Ростова. А ты? — Из Макеевки. — Давай познакомимся… Валя. — Нина… — Как думаешь, нас куда-нибудь пошлют? — спросила Валя. — Откуда мне знать? — Если пошлют — плохо, — сказала Валя. — Надо здесь устраиваться… Ты немецкий знаешь? — Знаю. — В объеме школы, да? — Нет… Я занималась с преподавателем… Готовилась в институт… — Ты счастливая! — убежденно сказала Валя. — Тебя никуда не отправят. Немцам нужны со знанием языка!.. Ох, а я плохо язык знаю! Не учила, дура! Стоявший позади Нины парень в сером пиджаке зло спросил: — Жалеешь, что не предвидела? Валя вспыхнула, густо покраснела, но тут же с вызовом заявила: — Да, жалею! А тебе что, кажется — на вражеской территории воюешь? Пока что не ты в Берлине оказался, а немцы здесь! — Верно. Пока что, — сказал парень. — Герой! — сказала Валя. — Вещий Олег! А сам как миленький сюда приперся с повесточкой! Стой уж и не фурыкай! — Не надо, — попросила Нина. Парень молчал, стиснув зубы, бледный от гнева. А Валя торжествовала: — Учат еще, сопляки! Идейный какой! Чего же ты сюда приперся, если ты идейный? Уходи! Догоняй свою драп-армию, в подполье беги! Подошел незнакомый юноша, русые волосы зачесаны назад, нос с курносинкой, на подбородке пушок, встал рядом, тихо приказал: — Замолчи. — Что? — взвизгнула Валя. — Грозишь?! Грозишь, да?! Юноша не отвечал, стоял рядом, с прищуром глядя куда-то вдоль очереди, и губы у него были твердые, железные. Беспощадные губы. Выглянул немецкий солдат. — Тишина! Кто нарушаль порядок, будет под арест! Валя умолкла. Юноша постоял еще с минуту и отошел, затерялся в толпе. Нина оглянулась — парня в сером пиджаке тоже не стало. Исчез. — Ты не смеешь так… — сказала Нина соседке. — Это… — Смею! — задыхаясь, ответила та. — Хватит с этих доморощенных комиссаров! Накомандовались! Теперь не их время!.. Валю вызвали в канцелярию биржи первой. Она о чем-то долго трещала за дверью, потом раздались шаги, молодой унтер-офицер приоткрыл дверь, с усмешкой оглядел Нину и пригласил ее: — Битте, фрейлейн! Предчувствуя нехорошее, Нина вошла. — Вот она!.. — воскликнула Валя. — Господин лейтенант, она прекрасно знает язык!.. — Что ты сделала? Кто тебя просил? — спросила Нина на улице новую знакомую, выпорхнувшую следом. — Нечего теряться! — уверенно заявила Валя. — Дура! Ты спасибо скажи! Будешь теперь на этой самой бирже переводчицей. И я благодаря тебе пристроилась. Меня нарядчицей ставят… Ничего! Проживем и без комиссаров! Два дня Нина не выходила на работу. Прислали за ней ту же Валю. — Здрасьте! — переступила порог Валя. — Ты больна? — Нездоровится… — солгала Нина. — Вы извините! — слащаво улыбаясь, сказала Валя матери. — Нам надо поговорить с глазу на глаз. — У моей дочери нет секретов, — сказала мать. — Ах, так?!. Тогда что ж? Тогда я скажу при вас… Нине надо выйти на работу немедленно. Иначе ее отправят в Германию. Я знаю… А кроме того, господину лейтенанту известен состав вашей семьи… — Что это значит? — глухо спросила мать. — То самое и значит, — дерзко ответила Валя. — Я вам удивляюсь! Вы взрослая женщина, а простых вещей не понимаете. Вы думаете, оккупационные власти могут мириться с саботажем? Они хорошо относятся только к тем, кто к ним хорошо относится… Мать выпрямилась, держась за горло. Нина хорошо знала этот жест и знала, что за ним последует. — Мамочка! Не надо! — крикнула она. — Нельзя!.. Уйди… Я сама… Мать поняла предостерегающие интонации в голосе дочери, вышла, хлопнув дверью. — Скажите, какие тонкости! — пробормотала Валя. — Иди, скажи, я завтра приступлю… — сказала Нина. — Иди… И она начала работать на бирже переводчицей. Ради матери и маленького братишки. Чтобы сохранить им жизнь. По ночам плакала: хотела стать такой, как партизанка Таня, а стала немецкой пособницей! И думала: может быть, удастся найти каких-нибудь ребят, таких, как юноша с русыми волосами или парень в сером пиджаке? Должно же быть в городе подполье! Ведь всюду шепотком говорят о партизанах! Так неужели нельзя найти кого-нибудь, кто бы указал, что делать, как бороться? На ее горе, в дом повадился ходить тот офицер, что приказывал денщику поднести ведра. Офицер жаловался на скуку и одиночество, приносил шоколад, хлеб и мясо и подолгу засиживался в гостях, словно не понимал, что его не могут выгнать… Ни в чем другом упрекнуть офицера нельзя было. Он держался чрезвычайно корректно, читал Нине вслух стихи Гёте, призывая вместе с ним восхищаться глубиной мыслей веймарского олимпийца и часто рассказывал о своем доме в Майнце, о своей матери, очень хорошей и доброй, но недовольной сыном: он до сих пор не женат, а матери хочется иметь дочь и нянчить внуков… — Мы высоко чтим семью! — вздыхал офицер и глядел на Нину страдающими глазами. Вскоре на кухоньку, где жила семья Нины, зачастили соседки, а то и вовсе незнакомые люди с просьбами. Один просил устроить сына на работу в городе, другая — походатайствовать за больную дочку, которую направляют на рытье окопов. — Но почему вы обращаетесь к нам? — удивилась мать, услыхав первую просьбу. — Ну так как же? — теребя пальцами подол, смущенно сказала просительница. — Ведь дочка-то ваша… Мы же знаем… — Что вы знаете? — испуганно воскликнула мать. — Что?.. — Да уж… — сказала просительница. — Ой, я не сужу! Не сужу!.. Но уж помогла бы своим-то! — Уходите! — сказала мать. — Моя девочка ни в чем не виновата! Слышите? Ни в чем! Если ее оклеветали… — Ведь я ничего, — сказала просительница. — Голубушка! Я ж понимаю!.. Милая! Я ж не сужу!.. Да ведь чего ей стоит-то? Одно словечко скажет, и все! Небось не откажет ей… — Уходите! — крикнула мать. Просительница поджала тощие губы. — Гоните? Та-а-ак… Ну, благодарствую… Очень, значит, хорошо! Она ушла и, наверное, со злости наплела три короба сверх того, что слышала от таких же сплетниц, как она сама. Но поток просителей не иссякал. Только теперь начали приходить с подарками. В маленьком домике подарков не принимали. Нина пыталась помогать людям и без подарков. Но когда ей удалось несколько раз помочь, молва окончательно утвердила за ней славу немецкой девки. — Брось! Даром бы они ничего делать не стали! — услышала однажды Нина пересуды ожидавших ее просительниц. — А лейтенант энтот, видно, на баб слабоват, вот и не может хахальнице отказать… — Уж это как бог свят! — поддержали бабьи голоса. Каждый день на бирже Нина видела Валю. Та ничего не скрывала, прямо говорила, что живет с немецким комендантом. У нее появились модные туфельки, платья, духи. Но Валя завидовала Нине: — Мой дурак женат. А тебе опять счастье! Уедешь к своему Генриху в Майнц, королевой заживешь! — Я не собираюсь замуж! — отрезала Нина. — Рассказывай! — похохатывала Валя, заводя глаза. — Ох, и хитрая же ты! Правильно, Нинка, води его подольше за нос! Накаляй! Мужики, когда накалятся, любую глупость сделают! Откровенничать с Валей, открывать ей свои настоящие желания было бы непростительно. Нина молчала. Но мечта найти в городе настоящих ребят не оставляла ее. И однажды счастье, казалось, улыбнулось Нине. Торопясь с работы домой, она приметила вечером в переулке знакомую мужскую фигурку. Тот самый парень в сером пиджаке… Парень оглянулся, убыстрил шаги. — Постойте! — крикнула Нина, понимая, что нельзя упускать случая. — Постойте! Парень остановился. Нина подбежала к нему, остановилась, не к месту улыбнулась: — Не узнаете?.. А я вас сразу узнала!.. Помните, в очереди?.. Парень смерил ее презрительным взглядом, но сказал равнодушно: — Обознались, девушка. — Ну как же! — покраснела, заволновалась Нина. — Вы еще соседку мою упрекнули… А она на вас набросилась… И еще один мальчик подходил… Русый такой… Помните? Я вас помню, помню! Парень оглянулся — вокруг никого не было. Он приблизил к Нине искаженное ненавистью лицо. — Запомнила, сука? Так забудь! Забудь! А то худо будет! Она отшатнулась, униженная, растоптанная, оскорбленная, а когда опомнилась, парень уже удалялся, все убыстряя и убыстряя шаги… В городе шли облавы, обыски, расстрелы: немцы искали евреев, коммунистов, партизан. Нет-нет да и гремел выстрел народных мстителей. Взрывалась граната, уничтожавшая немецких солдат и офицеров. Загорался немецкий склад. Сходил с рельсов фашистский эшелон. Немцы тех, кого подозревали в связи с подпольщиками, расстреливали, а то вешали прямо на улицах… Значит, народ не складывал оружия! Народ сражался! Но Нина уже решила, что путь к подпольщикам ей отрезан. О ней идет такая слава, что лучше не пытаться искать… Между тем время шло. Красная Армия, ведя наступательные бои, освобождала территорию родной страны от фашистской нечисти. Она занимала город за городом. Приближалась к Краснокубанску. Однажды Валя притащила с собой кипу советских газет, сунула Нине: — Читала? — Откуда у тебя это? — А ты прочти, прочти! Наманикюренный пальчик ткнул в статью: «Суд над предателями народа». — Видала, что делается? — слышала Нина тихий, словно из-за глухой стены, истерический голос комендантской любовницы. — Видала? Газета дрожала в руках Нины. Перед глазами расплывались фамилии жителей освобожденных городов, осужденных за пособничество врагу. «Меня тоже сочтут пособницей… — упало сердце у Нины. — Я и есть пособница… Чем я докажу, что невиновна? Чем?.. Меня же считают такой, как Валька… Тот парень… Он смотрел с такой ненавистью…» — Надо уезжать! — почти кричала Валька. — Я сегодня же скажу своему — пусть увозит! Пусть увозит!.. Вечером к Нине пришел Генрих Грубер. — Я имею честь просить руки вашей дочери, — церемонно сказал он матери. Мать растерялась. — У нас девушки выбирают мужей сами… — Нет! — сказала Нина. — Нет! Генрих Грубер не ждал отказа. Он был удивлен и расстроен. — Фрейлейн Нина! — сказал Генрих Грубер. — Разве у вас есть причины ненавидеть меня? Мне казалось, мы можем понять друг друга. Мои намерения с самого начала были честны… Как могла Нина объяснить этому человеку, что его вежливость не в силах искупить злодеяний его армии?! Что он для нее — воплощение всех бед и несчастий, обрушившихся на русскую землю?! — Нет! — повторила Нина. — Никогда! Офицер нервничал. — Хорошо! — выдавил он наконец. — Вы вынуждаете меня сказать то, что я не имею права говорить… В ближайшее время наши войска с целью сокращения линии фронта будут вынуждены временно отступить… Сюда придут большевики… Вы понимаете, Нина? — Она ничего не сделала! — возразила мать. — Фрейлейн служила на бирже, — сказал Генрих Грубер. — Фрейлейн, как выражаются большевики, сотрудничала с оккупантами. Ей нельзя оставаться в городе. Ей грозит казнь… Поймите, я люблю фрейлейн Нину и желаю ей счастья. Она должна уехать… Грубер сам предложил способ спасения, и испуганные, смятенные женщины приняли его. Наутро мать с братишкой сели в поезд и уехали в родной город. А Нину Грубер оформил через вербовочный пункт как выезжающую на работу в Германию. Теперь Нине оставалось добраться до Донбасса. Там она хотела скрыться от Грубера. Но в предэвакуационной суматохе Грубер где-то потерялся, Нину сунули в общий вагон с другими парнями и девушками, приставили к вагону часовых, и эшелон увез ее в Германию… Там, в Германии, она поняла, что окончательно погибла. Теперь ей уже никто не поверит. Будут считать, что сотрудничала с фашистами и бежала, боясь справедливой кары… Сначала Нина хотела повеситься. «Все равно теперь ты не человек! Да и была ли человеком-то? Не сумела попасть в армию, не сумела связаться с партизанами, ничего не сумела! Только хотела, видите ли! А сплетен каких-то испугалась и суда народа испугалась! Тля! Незачем жить тле!» Но разум подсказывал: еще не поздно. Если хочешь вернуть собственное уважение и уважение людей — борись! Мсти за свою землю. Мсти за свою искалеченную судьбу. За судьбу многих ровесниц… Она работала у немецкого кулака. Через неделю бежала, рассчитывая добраться до партизан. Ее поймали. Она говорила, что забыла, откуда бежит. Нину били, жестоко, беспощадно, а потом с партией других проштрафившихся рабочих увезли в Румынию, на демонтаж военных заводов. Здесь Нина стала подговаривать подруг бежать. Ее арестовало гестапо. Били, пытали током и, ничего не добившись, отправили в лагерь «Дора». Про лагерь шла недобрая слава. Заключенные знали: отсюда только два пути: один — в крематорий, другой — в лаборатории какой-то химической фирмы, где ставили опыты на людях. Нина не успела полностью одряхлеть и износиться на каторжных работах. Ее осмотрела врачебная комиссия, признала годной, и 24 октября вместе с тридцатью девятью другими девушками и женщинами Нина попала в эшелон «опытников».
Стало совсем темно. Ветер шуршал невидимыми в темноте кустами на верху оврага. — В Наддетьхаза мы бежали, — закончила Нина. — Остальное вы знаете. Я не боюсь. Я знаю, что виновата перед людьми, но я отвечу… Только… Возьмите меня! — Да ты что? — спросил Бунцев. — Да разве мы… Успокойся, Нина! Ты чиста теперь! Так я говорю? Он обвел взглядом смутно белевшие лица товарищей. — Так, — тихо сказал Телкин. — Ты, Нина, все искупила. Кротова не ответила. — Ольга! — окликнул ее капитан. — А ты что же? — Бросить человека мы не имеем права, — сказала радистка. — Ольга! — сказал Бунцев. — Слушаю вас, товарищ капитан! — Ладно, — сказал Бунцев. — Вопрос ясен. Нина Малькова зачисляется в отряд. Все поняли? — Все, — сказал Телкин. Бунцев поднялся. — Собирайтесь. Пора. Двадцать часов.
Глава восьмая
1
Ночь густела. Ни луны, ни звезд. Только слабый шум скребущихся где-то в черной высоте, далеко от тебя, ночных бомбардировщиков, слабые огоньки плывущих по невидимым дорогам машин, внезапные искры из труб паровоза. Бунцев вел маленький отряд к той железной дороге, что они заметили днем из оврага. По карте они установили, что дорога ведет к фронту, а Мате подтвердил: дорога используется немцами для подвоза войск и грузов. Капитан и радистка шли впереди. За ними — Мате и Нина Малькова с мотком колючей проволоки. Сзади, замыкая группу, — штурман Телкин. Проволоку они обнаружили случайно: наткнулись на изгородь, опутанную колючкой, и капитан, не желая упускать случая, приказал срубить и взять ее. — Зачем? — спросил Телкин. — Потом увидишь, — сказал Бунцев. — Руби! В ход пошли ножи и прихваченные эсэсовские лопаты. Намотали килограммов пять. Теперь Мате и Нина тащили проволоку, а Телкин изредка подменял Нину, и тогда замыкающей шла она. Все в маленьком отряде понимали: случившееся прошлой ночью должно было взбудоражить фашистов. Где-то нервничают, направляя автоматы в сторону каждого шороха, часовые и патрульные. Где-то у телефонов ждут первого сигнала дежурные тыловых подразделений, чтобы тотчас поднять по тревоге целые гарнизоны. Где-то в штабах планируют операции по немедленному уничтожению появившихся диверсионных групп. Ни Бунцев, ни Кротова, ни другие даже не предполагали, что Раббе после получения шифровки Хеттля все же настоял на выделении двух батальонов резервного полка для охраны железных дорог, что в Наддетьхаза стоит в полной боевой готовности третий батальон полка, готовый ринуться на автомобилях для ликвидации роты парашютистов, если та нападет на какой-нибудь объект, что количество контрольно-пропускных пунктов на дорогах за минувшие сутки увеличено в полтора раза, а войска предупреждены о нежелательности поездок одиночных машин. Этого в маленьком отряде и не могли знать, но то, что немцы всполошены, понимали, и сейчас двигались осторожно, далеко обходя населенные пункты, замирая при малейшем подозрительном звуке. Около десяти часов Бунцев остановил людей перед шоссейной дорогой. Залегли. Кротова поползла вперед, пропадала минут пятнадцать и вернулась с сообщением, что патрулей поблизости не слышно. Однако отряду пришлось ждать, пока пройдет автомобильная колонна. Полтора десятка грузовиков медленно шли на запад. Лежащим на земле людям видно было, как дыбится брезент над тяжелым грузом. — Не на фронт, а от фронта, — шепнул Бунцев. — Наверняка наши наступают, — шепотом же ответила радистка. — А это «заблаговременный отход»… Бунцев не забыл, как отнеслась Кротова к Нине Мальковой. Хорошо помнил. Только не время было думать и говорить об этом. И он был благодарен радистке уже за то, что она владеет собой. Машины прошли. — По одному, бегом! — скомандовал Бунцев. — Толя, подмени Малькову! Первой перебежала шоссе Кротова. За ней — Нина. Потом — Мате и штурман с мотком проволоки. Бунцев поднялся для перебежки последним. Прыгнул через кювет. Сапоги оглушительно застучали по асфальту. Обочина. Еще прыжок и — поле, трава… — Сюда! — тихо позвал Телкин. Бунцев подошел к отряду. — Все тут? — Все. — Вперед! Они медленно удалялись от шоссе, никем опять не замеченные, словно незримые. — Все дороги не перекроешь, — отвечая на мысли Бунцева, сказала радистка. — Если все дороги перекрывать — воевать будет некому… Еще через полчаса отряд добрался, наконец, до железной дороги. Здесь тоже не видно было ни часовых, ни патрульных. Тишина. Темень и тишина… — Десять минут отдыхаем, — приказал Бунцев. — Не курить. Сели под насыпью, на глинистом откосе придорожной канавы. — Ну, жива, беглянка? — спросил Бунцев у Нины. — Жива, — благодарно отозвалась девушка. — Не устала? — Нет, ничего… Капитану было приятно слышать ее голос, он улыбнулся, радуясь, что никто в темноте не видит этой улыбки. — Попить бы! — сказал Телкин. — Пейте, — разрешил Бунцев и повернулся к радистке: — Если наши наступают — поторапливаться надо! — Да, — согласилась Кротова. — Восемьдесят пять километров, — сказал Бунцев. — Пустяк! На нашем «ишачке» за четверть часа бы среди своих оказались! — Где тот «ишачок»? — откликнулся Телкин. — Нет у нас больше «ишачка»! Самим ишачить придется. — Ну, ну! — усмехнулся Бунцев. — Ты кто теперь? Ты теперь партизан. Хочешь не хочешь, а показывай образцы доблести и геройства. Понял? — А кто начал? — спросил Телкин. — Я начал, — миролюбиво признал Бунцев. — А ты не радуйся, не пользуйся слабостью начальства. — Ага! — сказал Телкин. — Начальству, значит, можно по машине тосковать, а экипажу — нет? — Угнетаю я тебя, ага? — Факт. Всю жизнь, — сказал штурман. — Диктатор вы. Вернемся — сразу рапорт подам, чтоб в другой экипаж… Швыряют тебя, понимаешь, в чужой город, спать по ночам не дают, какую-то проволоку таскать заставляют, и ко всему этому не тоскуй!.. Не согласен! Бунцев тихо смеялся. Любил он своего штурмана, Тольку Телкина. Любил этого трепача! Запихали бутылки с вином в мешки. — Мате и Нина остаются на месте, — приказал Бунцев. — Толя и ты, Ольга, пойдете направо. Я — налево. Если ничего не обнаружим за четверть часа — собираемся тут. Они разошлись в разные стороны. Бунцев долго шел по шпалам, но, сколько ни вглядывался в темноту, нужного не нашел. Он решил вернуться, дойдя до поворота дороги, откуда заметил красную точку — фонарь железнодорожного переезда. Мате и Нина ждали его. Вскоре, вернулись штурман и радистка. Они тоже ничего не нашли. — Может, поближе к переезду подойти? — вслух подумал Бунцев. — Это самое верное, товарищ капитан, — сказала Кротова. И они пошли к переезду. Ночью дорожный гравий скрипит под ногами особенно громко. Но, дорожа временем, капитан Бунцев продолжал вести отряд по насыпи. Так они выиграли не менее двадцати минут. — Смотрите! — сказала радистка. Переезд был уже близко. К нему приближались машины. Подъехали, остановились. Замигал ручной фонарик. — Тут пост! — сказала Кротова. — Проверяют документы! — Отойдем? — прошептал штурман. — Погоди! — оборвал Бунцев. — Может, под шумок еще лучше… Сойти с насыпи! Отряд спустился к полю. — Я пойду вперед, — сказал Бунцев. — Мате и Толя — со мной. Оставив Кротову и Нину Малькову возле мотка с проволокой, капитан с товарищами тихо двинулись к переезду. Шагов через тридцать Бунцев неожиданно споткнулся о что-то, едва не упал. Все трое застыли на месте. Не услышали ли там, на посту? Но на посту не услышали. Там занимались своими делами, проверяли машины и сопровождающих. Бунцев нагнулся, пошарил по земле и натолкнулся на кусок рельса. Попробовал поднять — одному не удалось. Тихо-тихо позвал спутников Втроем они подняли длинный рельс, понесли назад, к своим. Теперь оставалось найти камень. И штурман, побродив в темноте, подходящий камень нашел. В нем было не меньше пуда весу. Телкин с трудом доволок находку до насыпи. — Колонну пропускают! — предупредила Кротова. — Подождем следующей, — решил Бунцев. Отряд затаился в канаве, наблюдая за шоссе. Долго не везло. Большие колонны не появлялись, а начинать работу, заведомо зная, что постовые могут услышать лязг железа, не имело смысла. Послышался гул поезда. Запели рельсы. — Эх, обидно! — сказала Кротова. — Не последний, — сдержанно ответил Бунцев. Эшелон, прогромыхал мимо — десять вагонов и одиннадцать платформ с танками и орудиями, стоявшими открыто. Больших автоколонн все не было. На часах Бунцева стрелки стояли под прямым углом — четверть двенадцатого. Со стороны переезда донеслись голоса. Потом раздались шаги. Вскоре по насыпи прошли два солдата. Через десять минут солдаты вернулись. В нескольких шагах от места, где прятался отряд, один из солдат остановился и, сунув автомат под мышку, стал мочиться. — Тебе бы в пожарной команде служить! — сказал второй солдат. — Меня обязаны были демобилизовать! — мрачно ответил первый. — Я болен. — Вот демобилизуют — и ступай в пожарную команду, — уныло острил первый. — Не пропадешь. Второй пробормотал что-то неразборчивое, и солдаты вернулись на переезд. А без двадцати пяти двенадцать, наконец, показалась большая автоколонна. Едва первый грузовик притормозил возле поста и там захлопали дверцы, зазвучали голоса, Бунцев поднялся. — Быстро! Рельс несколько раз звякнул о камень, о другой рельс, но на посту не услышали. Отирая пот, Бунцев соскользнул в канаву: — Всё! Отходим! На посту все еще переругивались, перекликались, размахивали фонариками. — Вязко, черт… — шепотом выругался Телкин. — Подожди, выйдем на шоссе, — бросил шепотом Бунцев. — Иди! Теперь он шагал последним, то и дело оглядываясь, наблюдая за переездом. Колонна тронулась с места. Машина за машиной переваливали через железную дорогу, скрывались за насыпью. Рокотали моторы. — Передай Кротовой, пусть сворачивает к шоссе! — приказал Бунцев шагающему впереди штурману. Радистка выполнила приказ. Через несколько минут отряд подобрался вплотную к шоссе, по которому недавно проследовала автомобильная колонна. — Идти по обочине! — приказал Бунцев. — При появлении машин — в поле! Идти обочиной стало гораздо легче. Отряду удалось удалиться от переезда на полкилометра, прежде чем впереди опять замелькали огоньки автомобильной колонны. Не дожидаясь команды, люди свернули с дороги… Лежа на мокрой ночной траве, Бунцев следил за машинами, считал их. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая… Колонна ползла и ползла. Капитан насчитал двадцать восемь машин. На такую махину не нападешь!.. — Вот что, — сказал Бунцев, пропустив колонну. — Надо все же проволоку рубить. Пора. Заодно подождем, может, увидим, как там, на железной дороге, будет… Толя, бери лопату. Но разрубить весь моток до того, как на переезде пропустили колонну, не удалось. — Ольга, посмотри! — позвал Бунцев. — Может быть, хватит? Радистка приглядывалась к куче разрубленной проволоки. — Пожалуй, хватит, товарищ капитан. — Освободите один мешок, — приказал Бунцев. — А снедь куда? — спросил штурман. — Выбросить! Клади колючку! Телкин вытряхнул на землю колбасу, консервы, сыр. Со звоном упала бутылка. Бунцев молча погрозил штурману кулаком. Запихали колючку, ободрав руки до крови, в опорожненный мешок. — Сам понесу, — сказал Бунцев. — Вперед! Им удалось пройти по обочине еще двести — триста метров. Очередная колонна опять заставила вернуться в поле. Бунцев с облегчением опустил проклятый мешок, дерущий спину. — Давайте я вас сменю, — предложила Нина. — Что ты! — сказал Бунцев. — Не тяжело!.. — Поезд! — сказал Телкин. — Поезд! Слушайте! Действительно, шел поезд. Еще далекий, еле слышный. И снова — к фронту. — Вот и дождались! — сказал Бунцев. Выпрямившись, стоял он на вязкой земле и, подняв голову, вслушивался в приближающийся гул. Мелькнули вдалеке искры из паровозной трубы. Огней не было. Значит, товарняк. Никто не произносил ни слова. Все слушали. Смотрели и слушали… Все четче проступает сквозь ровный гул перестук колес. Появились огни локомотива. Пятнышко света набегает слева на переезд. Все ближе, ближе, ближе… Сначала Бунцев увидел, как пятнышко света неуклюже подпрыгнуло вверх. Потом до его слуха донесся удар и протяжный треск. Пятнышко света погасло. И тотчас на переезде, а потом вдоль полотна железной дороги застрекотали автоматы. Взвилась одна белая ракета, другая. Бунцев строго смотрел туда, где гремела стрельба. — Все, товарищ капитан, — сказала радистка. Бунцев осторожно поднял мешок. — Пошли. За мной. И, уже не оглядываясь, повел отряд дальше.
На шоссе, ведущем к переезду, возникла пробка. Все больше машин останавливалось тут, растягиваясь по магистрали, сигналя, пытаясь объехать впереди стоящие машины и еще сильней, безнадежней забивая дорогу. — Тут нам делать нечего, — сказал Бунцев людям. — Мате! Подойди-ка! Есть поблизости другое шоссе? Нина перевела вопрос Бунцева венгру. Тот не задумался: — Километрах в четырех отсюда. — И показал направо. — Веди! — сказал Бунцев. — Ольга, пойдешь с ним. Сам он, пропустив Мате, зашагал рядом с Ниной. — Дайте же мешок, — попросила девушка. — Ладно, ладно, — сказал Бунцев. — Не велика тяжесть. — Да не тяжесть… Больно же… — Ничего. Донесу… — Я не неженка, — сказала Нина. — Давайте же! — Иди, иди, Ниночка, — тихо сказал Бунцев. — Иди. Смущенная нежностью бунцевского голоса, Нина умолкла. Ноги вязли в земле, проклятый мешок колол, и каждую минуту могло случиться что-нибудь, что помешало бы маленькому отряду добрести до шоссе, указанного Мате, что навсегда бы оставило их всех — и Кротову, и Мате, и Телкина, и Нину, и самого Бунцева — посреди этого чужого, незнакомого поля, но капитан испытывал ту странную пьянящую радость, какая, бывало, овладевала им за штурвалом бомбардировщика, когда, пробивая заградительный огонь, Бунцев упорно, наперекор всему выводил самолет на цель. Это была радость вызова, бросаемого врагу. И если там, в кабине бомбардировщика, он цедил сквозь крепко сцепленные зубы: «Давай! Давай!» — потому, что страха уже не существовало, а существовало только желание заставить врага неистовствовать, обрушивать на тебя шквал огня — ведь ты был все равно неуязвим и бессмертен! — так и теперь капитан Бунцев цедил сквозь зубы свое неслышное другим: «Давай! Давай!» — и ему хотелось даже, чтобы земля налипала на сапоги, чтобы мешок рвал спину, а ремень автомата тер потную шею: он знал, что выдержит и не такое, опять верил, что он неуязвим и бессмертен. Переезд, где еще взлетали ракеты, и шоссе с остановившимся транспортом были уже позади. Каждый шаг уводил маленький отряд все дальше и дальше от опасного места.
В час сорок отряд подошел к шоссе, указанному Мате. Выползший на разведку Телкин сообщил, что контрольного пункта, по-видимому, вблизи нет, а дорога щебенчатая и по обочине растут кусты. — Понаблюдаем, — решил Бунцев. Они проследили несколько машин. Ни одна не замедлила хода. Значит, контрольно-пропускного пункта действительно рядом не существовало. — Ольга, Анатолий! — позвал Бунцев. — Со мной. Втроем они выбрались на дорогу, разбросали по ней колючую проволоку. — Хорошо, — сказала Кротова. — Хватит. — Дирекция не жалеет затрат… — хрипловатым от волнения голосом откликнулся Телкин. — Давайте назад, братцы! — Не спеши, — сказал Бунцев. и Кротова посмотрела на капитана: вот так однажды она станет окончательно не нужна ему. — На любую нападаем? — спросил Бунцев у радистки. — На любую, какая подойдет, — сказала Кротова. — Пошли! — позвал Телкин. — Идем, идем, — сказал Бунцев. — Держи хвост пистолетом, Толя! — Хвост — он тоже отдыха требует, — сказал Телкин. Они вернулись к Мате и Нине. Кусты надежно скрыли людей. — Когда машина остановится, не бросаться, — сказал Бунцев. — Поглядим, кто едет. Если один шофер, я сам выйду. Если двое или трое — со мной пойдут Мате и Анатолий. Ясно? — А мы? — спросила Нина. — В случае чего — прикроете огнем. — Товарищ капитан, разуться придется, — сказала Кротова. — В сапогах нашумите. А если без выстрелов кончать — шуметь нельзя. — Постараемся без выстрелов, — сказал Бунцев. — Снимите сапоги, товарищи. Он подал пример, первым стянув лаковые сапоги Гинц-лера. Портянки запихал в голенища. Распаренным ногам стало легко и прохладно. — Духи «Темная ночь»! — пробормотал Телкин. Он не мог без шуточек. Ему вообще трудно было молчать. — Товарищ заместитель по диверсиям, — шепотом позвал он Кротову. — А, товарищ заместитель!.. — Что? — Слушай, неужели мы весь этот эшелон гробанули? — Ну, не весь… — сказала Кротова. — Паровоз и несколько вагонов упали, наверное, а остальное так… Столкнулись… Ну, два — три разбились… Главное — движение на несколько часов остановится, понимаешь? — Не знает наше командование! — вздохнул Телкин. — Льет по нас горючие слезы, вместо того чтоб к орденам представлять!.. — Помолчи, — сказал Бунцев. — Боитесь, когда при вас начальство критикуют? — спросил Телкин. — Ага, боюсь, — сказал Бунцев. — Помолчи. — Молчу, — сказал Телкин. — Раз такое отношение к критике — я молчу. Все, все! Умолк! …Огни машины показались внезапно. Очевидно, она выскочила из-за поворота. — Приготовьсь! — сказал Бунцев. Автомобиль приближался к засаде. — Легковая… — вздохнула Кротова. — Вижу… Машина пронеслась мимо кустов. — Эх!.. — вырвалось у Телкина. Красный стоп-сигнал покачивался, словно дразнил. Потом завизжали тормоза, и стоп-сигнал медленно передвинулся к обочине… Мотор смолк. — Чисто, — еле выговорил штурман. Бунцев прикидывал расстояние до машины. В темноте определить его было трудно. — Метров двести, — быстро подсказала Кротова. — Останешься с Ниной, — бросил Бунцев. — Остальные со мной. Три тени заскользили по-за кустами, то стремительные, то замирающие, но неотвратимо приближающиеся к беспомощному автомобилю. Бунцев боялся громко дышать, и от этого не хватало воздуха и сердце грохотало, как огромный бубен. Под ногой нет-нет да потрескивало, чуть чавкало. Он присел, переводя дух, приглядываясь, прислушиваясь. Водитель постучал сапогом по спущенному баллону, с досадой присвистнул. Выпрямился, хорошо видимый в свете подфарников, потер щеку, исчез в темноте, и несколько секунд спустя что-то стукнуло, заскрипело… «Открывает багажник», — догадался Бунцев и сделал перебежку. Хлопнула дверца. Из машины вышел второй немец. — Шина? — Так точно, господин полковник. Вероятно, попал гвоздь. Я ставил новые. — Побыстрей. До автомобиля оставалось метров пятьдесят. Водитель орудовал домкратом, поднимая передний мост. Взз, взз, взз — равномерно поскрипывал домкрат… Сорок метров… Немецкий полковник потянулся, зевнул, щелкнул портсигаром. Вспыхнула зажигалка. Прикрытый ладонями огонек на мгновенье выхватил из мрака острый нос, блестящий козырек фуражки, шитье воротника… Двадцать метров… Полковник подошел к радиатору, покуривая, смотрел за работой водителя. — Ездить надо без аварий! — сказал полковник. — Я не люблю шоферов, которые попадают в аварии. Взз, взз, взз — ответил домкрат. Десять метров….. Мате щелкнул предохранителем автомата. Полковник поднял голову, всмотрелся в кусты. У капитана Бунцева сводило челюсти. Он осторожно поводил рукой за спиной, предупреждая, чтобы без его команды не стреляли. «Живьем возьму! — подумал Бунцев. — Врешь! Возьму!» — Побыстрее! — сказал полковник. Он медленно отошел от водителя, бросил сигарету, придавил ее сапогом, стоял в тени автомобиля и, видимо, прислушивался. Бунцев не шевелился. Ему казалось, что Мате и штурман дышат слишком громко. Донесся шум мотора. Еще какая-то машина шла по шоссе. Полковник повернулся в сторону приближающейся машины. Подъехав, она осветила его: рослого, плечистого, в серебристой шинели. — Что случилось? — высунулся из кабины шофер подъехавшего грузовика. — Виноват, господин полковник!.. Нужна помощь? — Нет, — сказал полковник. — Можете ехать. — Виноват, господин полковник… Шофер грузовика включил скорость, прибавил газ, и вскоре грохот грузовика стал еле слышен. Метра три. Шагов шесть… Бунцев приготовился к броску. Он подождал, пока водитель сходит за новым баллоном, присядет над шиной. Выждал, пока полковник опять вернется к радиатору… Он кинулся к немецкому офицеру из темноты, когда тот повернулся, чтобы вновь прогуляться вдоль автомобиля. Бунцев ударил немца в челюсть, разбив костяшки пальцев. Тот не успел крикнуть, откинулся назад, вяло осел на землю. Штурман и Мате опрокинули водителя. — Я сдаюсь! — крикнул водитель. Бунцев свистнул. Вынимая из кобуры гитлеровца пистолет, он услышал топот радистки и Нины. — Убит? — окликнула Кротова. — Жив! Займись водителем! Офицер пошевелился, открыл глаза, рванулся, чтобы сбросить Бунцева. — Врешь, гад! — процедил Бунцев. — Врешь! Они боролись на земле, стукаясь о подножку автомобиля. Вдруг немец вскрикнул и обмяк. Бунцев крепко притиснул гитлеровца к земле. — Врешь, гад! — Товарищ капитан… — раздался возле него звонкий голос Нины. — Он не встанет… Бунцев покосился на голос. В руке Нины сверкнула тоненькая полоска ножа. Капитан отпустил полковника: — Зря… Я бы его так скрутил. — Он же с финкой! Бунцев опустил глаза, и только теперь заметил в откинутой руке скорчившегося гитлеровца неизвестно как очутившийся там нож. — Ах, гад! — сказал Бунцев. — Вот ты как, гад! Появилась Кротова. — Водителя связали. Ликвидировать? — Постой, — сказал Бунцев. — Давай этого в кювет. — А водителя? — Сунь в машину! Пусть Толька качает баллон! — Есть! Полковника сволокли в кювет. Капитан быстро обыскал офицера, потом с помощью Нины стянул с того шинель, китель, сапоги. Полковник стонал. — Не буду рук марать, — сказал Бунцев. — Пошли! Штурман яростно накачивал баллон. — Все в машину, — приказал Бунцев, заметив огоньки. — Мате и Толя останутся… Нина, переведи Мате: пусть отказывается от помощи, если окликнут! Трое забились в лимузин, приготовили оружие. Под ногами ворочался водитель. — Скажешь слово — застрелю, — нагнувшись к немцу, пообещала радистка. Встречная притормозила в трех шагах от Телкина, деловито возившегося с шиной. Солдатская шинель штурмана не внушала подозрений. — Прокол? — окликнули из машины. Нельзя было различить, кто сидит в этом «опель-капитане». — Прокол, — спокойно ответил Мате из-за лимузина. — Помощь нужна? — Нет. Можете ехать. — Счастливо добраться!.. «Опель-капитан» с места взял третью скорость. — Я помогу Тольке! — сказал Бунцев. — Надо быстрей! Он выскочил из лимузина, на ходу обнял Мате, подбежал к штурману. — Что возишься? Быстрей! — Сейчас поставлю! — сказал штурман. — Ордена по нас плачут, Саша! — Трепло! Дай помогу! Вдвоем они сменили баллон, поставили колесо на место. Штурман натуго завинтил гайки. — Дадите повести? — спросил он. — Садись! Живо! Из кювета донесся стон. — Мест нету, — сказал Телкин в сторону кювета. — Спешим. — Давай! — сказал Бунцев. Мате забрался на заднее сиденье к девушкам, пилот и штурман уселись впереди. — С ветерком? — спросил Телкин. — Разворачивайся и езжай за «опель-капитаном», — приказал Бунцев. — Долбануть? — деловито осведомился штурман, лихо разворачивая лимузин. — Я тебе долбану!.. Догони и поезжай не торопясь следом. — Есть ехать следом! — сказал Телкин. Он осторожно проехал место, где могла быть колючка, и бросил лимузин вперед. Он любил быструю езду. Ему нравилось выжимать из машины все, что она могла дать. В душе штурман полагал, что его место в истребительной авиации…
«Опель-капитана» они не догнали, зато уже через семь минут повстречались с колонной грузовиков. Грузовики шли медленно. На них везли разбитую технику. Из кузовов торчали куски листового железа, стволы поврежденных легких орудий и минометов. Неожиданно Телкин сбросил скорость, а разминувшись с колонной, окончательно притормозил машину. Лимузин стоял перед железобетонным мостиком через ручей. — Ты что? — спросил Бунцев. — Подмени… Не могу… — выговорил Телкин, снимая руки с руля. — Плохо что-то… Голос его звучал глухо. Разбираться в самочувствии штурмана было некогда. Бунцев обежал автомобиль, оттиснул Телкина с водительского места, но, поставив ноги на педали, готовясь передвинуть рычаг скоростей, вдруг раздумал ехать. На него самого внезапно навалилась такая усталость, что, казалось, вышел бы сейчас из машины, рухнул прямо на обочине и лежал бы, не двигаясь, не произнося ни слова… «Утопить машину к чертовой матери в этом ручье, и точка, — бессильно подумал капитан. — И точка!» Рядом, прижавшись лбом к ветровому стеклу, скорчился штурман. Сзади молча ждали Кротова, Мате и Нина. — Посмотрите, что там в планшете, — сказал Бунцев. Он выкраивал у бешено бегущего времени минуту отдыха. Он хотел обмануть время. Хотел обмануть усталость. Кротова зашуршала планшетом. — Карта, — сказала Кротова. — Расположение частей… Бунцев услышал, как она спрашивает о чем-то пленного. Тот ответил сразу же. Испуганно, потерянно. — Полковник Хаузер был офицером войск связи, — сказала Кротова. — На карте, очевидно, нанесена схема связи частей армии. Вот это трофей, товарищ капитан! — Да, — вяло сказал Бунцев. Все сейчас зависело от него. Жизнь четырех товарищей. Судьба этой важной карты. А он хотел обмануть… Что? Время? Усталость? Себя самого хотел обмануть! «Сволочьты! — сказал себе Бунцев. — Сволочь!» Но он не хотел быть сволочью, не хотел уступить тому маленькому, думающему только о себе человечку, что внезапно ожил в Бунцеве и скулил об опасности. И с ненавистью к этому маленькому человечку к капитану вернулись иссякшие силы. Мотор зарокотал, рычаг скоростей послушно встал на свое место, педаль газа плавно пошла вниз, и лимузин пошел вперед. Через мостик. Мимо побеленных столбиков ограждения. Мимо кустов. Вперед.
Встречные огоньки то замирали и гасли, то загорались и снова приходили в движение. — КПП, — сказала с заднего сиденья Кротова. — Поворот на сто восемьдесят градусов. Бунцев затормозил, вгляделся. Да, мерцание огоньков было слишком подозрительно. Он развернул лимузин. Столбы, кусты — все замелькало в обратном порядке. — Веришь, не мог баранку удержать… — тихо признался Телкин. — Знаю, — сказал Бунцев. — Сам еле удержал… Он присматривал подходящий съезд с шоссе и не мог присмотреть. Лишь неподалеку от того мостика, где спрашивал о карте, он увидел справа проселочную дорогу, и осторожно свел лимузин с асфальта, проехал метров сто, заглушил мотор и выключил фары. Открыв дверцу, он смотрел на шоссе, думая о том, что лимузин не мотоцикл и спрятаться с ним не так-то просто. — Приготовить оружие! — приказал Бунцев. Колонна, встреченная отрядом, неторопливо приближалась. Передовой грузовик миновал мостик. За ним остальные. Похоже, в грузовиках везли солдат. «Перебрасывают войска», — подумал капитан. Колонна так же неспешно продолжала катиться по шоссе. Прошла… Бунцев посмотрел на часы. Три часа сорок восемь минут. До восхода солнца не больше трех часов. Надо расставаться с машиной, уходить подальше от дороги, искать место для дневки. — Как поступим, Ольга? — спросил Бунцев. — Что вы с машинами делали? — Разбивали о первый попавшийся столб, — сказала Кротова. Бунцев подумал. Можно, конечно, было разбить лимузин. Но ведь разбитая машина вмиг наведет противника на след! А тут ни лесочка. Степь… — Нет, — сказал Бунцев. — Попробуем лучше отъехать проселком подальше. В крайнем случае в степи разобьем где-нибудь. — Слушай, я уже могу вести, — сказал Телкин. — Ладно, отдыхай, — сказал Бунцев. — Я не устал.
Сначала Бунцев подумал, что подъезжает к лесу, но вскоре убедился — это не лес, а стоящая на холме деревня. Капитан остановил машину. Взял карту полковника Хаузера. Посвечивая фонариком, с помощью Мате и пленного водителя кое-как разобрались, где находятся. Судя по карте, возле деревни имелся большой пруд. — Можно утопить лимузин, — сообразил Бунцев. Он медленно повел машину к деревне и вскоре выехал на дамбу. Снова остановился. Вышел из лимузина. Тянуло сыростью. Внизу, слева от дамбы, шевелилась, вздыхала вода. В деревне орали петухи. — Ну, что? — спросил Телкин. — Здесь не утопишь, — сказал Бунцев. — Натыкали столбов. Он указал штурману на ограждающие дамбу каменные столбики. — А если с той стороны попробовать? — спросил Телкин. — Попробуем… Миновав дамбу, Бунцев свернул налево и остановился, чтобы поискать спуск покруче. — Выносите вещи, — приказал он. Лимузин разгрузили быстро, но подходящий спуск Бунцев обнаружил лишь в сотне шагов от остановки. Вернувшись, он усадил в машину штурмана и Мате и уже тронулся с места, когда с холма их окликнули. Какой-то человек бежал от деревни к лимузину, крича по-венгерски, чтобы его подождали. — Этого еще не хватало! — вырвалось у Бунцева. Капитан вышел из машины, весь отряд сбился возле него, ожидая, как развернутся события. Подбежавший к лимузину человек тяжело дышал. Он был одет в полувоенную форму и в левой руке держал старую австрийскую винтовку. — Еле успел! — на плохом немецком языке, но очень, видимо, довольный собой выговорил человек. — Туда нельзя ехать! Там нет дороги! — Гут, — сказал Бунцев. Он шагнул к человеку, ребром ладони ударил его по горлу. Тот не ойкнул. Выронил винтовку, опустился на колени. — Обработай, — приказал Бунцев Кротовой. — Принесло идиота… — Это охранник, салашист, — хмуро сказал Мате. — Тем хуже для него, — сказал Бунцев и потряс рукой. — С ним нечего возиться, — еще угрюмей сказал Мате. — Это бандит. Насильник. — Может, верно, товарищ капитан?.. — спросила Кротова, обрезая пуговицы на куртке и галифе охранника. — Погоди, — сказал Бунцев. — Допросим, тогда решим. Охранник пришел в себя, когда радистка выдергивала его брючный ремень. — Господа… — прохрипел он. — Я свой… Я хотел предупредить… Он еще ничего не понимал. — Молчать! — по-немецки приказала Кротова, и охранник умолк, покорно позволил себе связать руки. — Покараульте, — сказал Бунцев. — Время теряем. Он отвел лимузин к спуску, вместе с Мате и штурманом они подтолкнули «мерседес», тот пополз по скользкому берегу и с сильным плеском рухнул в воду. Охранник, с ужасом наблюдавший за действием немецких солдат и офицеров, вдруг завопил. Но его вопль оборвался так же мгновенно, как вырвался. Радистка была начеку… — Дошло до подлеца! — сказал Бунцев. Он оглядел сгруженное на берегу имущество: мешок со снедью, чемодан полковника Хаузера, лишнее оружие. Нести все это… — Пленные донесут, — сказала Кротова, поняв колебания капитана. — Ничего, пусть потрудятся. Связать только их надо. — Побыстрей, — приказал Бунцев. — Крик могли услышать. Через несколько минут связанные между собой остатками телефонного провода, припрятанного Кротовой, нагруженные трофеями отряда, пленные поплелись за капитаном. Телкин подталкивал пленных автоматом. Мате, радистка и Нина составляли арьергард.
Поросшая густым кустарником ложбина возникла из утреннего тумана, как бездонная пропасть. Бунцев подал знак остановиться. Пленные хрипло дышали у него за спиной. — Толя, сходи посмотри, — приказал капитан. Штурман обошел его, потоптался перед кустами, пошел вглубь, раздвигая руками мокрые ветви. — Туман, — с тревогой сказала радистка. — Вдруг деревня рядом? — Петухов не слышно, — возразил Бунцев. — Спросите у Мате, где мы можем находиться. Мате пожал плечами. В тумане он потерял ориентировку. — Значит, так и так нам отсиживаться здесь, — сказал Бунцев. Вернулся Телкин. — Всей ложбинки на сотню шагов, — сказал он. — Там, дальше, опять поле. А кусты густые. И яма с водой есть. — Пошли к воде, — приказал Бунцев. — Да не напрямки. Обойдем. Отряд запутал след и лишь через полчаса, когда туман уже разрывался на клочья и полз над степью, оказался в кустах возле примеченной Телкиным ямы. — Всё, привал, — сказал Бунцев. Пленным разрешили сложить груз. Охранник сразу сел на землю, низко опустив голову. Немцу-водителю пришлось присесть. Поймав взгляд Бунцева, водитель вымученно улыбнулся. Страх и надежда жили в его улыбке. — Ну, давай говори: Гитлер капут! — сказал пленному штурман. Водитель быстро взглянул на штурмана и опять вымученно улыбнулся Бунцеву. Теперь он не спускал с капитана глаз. — Мой имя — Карл, — хрипло сказал пленный. — Карл Оттен. Я сдался. Я не оказал защиты. — По-русски толкует, — сказала Кротова. — Наверное, у нас побывал! — Нет, нет! Нихт Россия! — забеспокоился пленный. — Нихт! Италия! Франкрейх — зо! Россия — нихт! Он переводил взгляд с одного на другого, пытаясь угадать свою судьбу, и, не угадав ее, поник. — Откуда русский знаешь? — спросил Бунцев. Солдат потянулся к нему. — Мой отец был пленный прошлый война. Он учил… О! Отец уважал русский народ! Царь долой, капитал долой, социализм — хорошо!.. Отец — шуцбунд, понимайт? Его бил расстрелять… Мы — рабочий… Он торопился, от волнения путался в словах. — Ладно, — сказал Бунцев. — Разберемся. — Я не есть фашист! — торопился солдат. — Нейн! Я — Вена! Понимайт? Остеррейх! Вена! — Не хочется помирать-то, — сказал Телкин. Бунцев искоса глянул на штурмана, но тот не заметил бунцевского взгляда. — Остеррейх! — твердил солдат. — Нихт фашист! Рабочий! Мобилизация… Понимайт? В ложбине тянуло холодком, но лоб солдата взмок. — Рабочий! — тоскливо повторил солдат. — Переведи, что его никто не собирается расстреливать, — приказал капитан Нине. — Если даст показания, правду скажет, мы его не расстреляем. Солдат напряженно выслушал перевод, закивал, быстро-быстро заговорил, что-то объясняя Нине. — Уверяет, все скажет, что нас интересует, — перевела Нина. — Говорит, что не хотел воевать, но у него жена, двое детей, побоялся скрываться от мобилизации… Просит сохранить жизнь. Обещает помогать. — Вояка! — сказал штурман. Бунцев нахмурился. — А ты бы хотел, чтоб он до конца Гитлеру верным оставался? Думать надо, Толя! Это же все-таки не Крупп какой-нибудь. — Да ладно! — сказал штурман. — Как в плен попадут — сразу они все рабочими становятся! — Глупо. Посмотри на него. Факт, рабочий. — Ну, пусть рабочий. А не попал бы к нам — завтра в нас стрелял бы. — Верно, — сказал Бунцев. — Но он попал. Уловил разницу или доходчивей объяснить? — Я улавливаю, — сказал Телкин. — Ты зачем воюешь? — резко спросил Бунцев. Штурман оторопело уставился на командира. — Я спрашиваю, зачем ты воюешь? — повторил Бунцев. — Ты можешь мне ответить? — Странный вопрос, — темнея от обиды, сказал штурман. — Ну, тогда я скажу тебе, зачем я воюю, — сказал Бунцев. — Тебе трудно, видать, а я скажу… Я воюю за свою Родину, за свободу своего народа. А это значит, что и за свободу немецкого народа! И я не уничтожать немцев собрался, а от фашизма их спасти. — Элементарно, — обиженно сказал Телкин. — Вот и усвой эту элементарную истину, — посоветовал Бунцев. Пленный напряженно вслушивался в разговор.
2
Торжественные похороны жертв русских парашютистов были назначены в Наддетьхаза на десять часов тридцать минут утра. Здание ратуши, где установили гробы с телами эсэсовцев, Миниха, Аурела Хараи, капитана Фретера и его водителя, с рассветом украсили траурными флагами и государственными флагами Германии и Венгрии. В десять в ратушу прибыл оркестр городского гарнизона, и в зале ратуши зазвучали траурные марши. На похороны явились чины СС, работники разведотдела армии, офицеры армейского штаба, верхушка салашистской организации Наддетьхаза. Ровно в десять тридцать состоялась церемония прощания с погибшими. Она не затянулась. События на фронте развивались слишком неблагоприятно, чтобы старшие офицеры могли оставаться в ратуше более получаса. Их ждали неотложные дела. Тем не менее похоронный кортеж растянулся почти на полверсты: офицеры, которые не могли лично проследовать на кладбище, оставили для участия в процессии свои автомобили, а взвод немецких солдат и около роты охранников из «Скрещенных стрел», не считая оркестра, составили вполне внушительное сопровождение. За гробами, установленными на пушечных лафетах и усыпанными хризантемами, истово дуя в трубы, ударяя в тарелки и барабаны, первыми шествовали музыканты. За музыкантами медленно, по-черепашьи ползли автомобили. За автомобилями шли солдаты… Штурмбаннфюрер Раббе считал для себя обязательным отдать последний долг Гинцлеру и его подручным. Машина гестаповца шла сразу же за автомобилем, принадлежащим генералу Фитингофу, и машинами заместителей командующего. Раббе с каменным лицом сидел возле своего шофера. Событие требовало сосредоточиться на возвышенных мыслях, требовало отрешения от всех преходящих забот, и штурмбаннфюреру удавалось сохранять на лице выражение возвышенности и отрешенности. Но мысли Раббе были далеки от узких улочек, по которым шествовал кортеж и от самих погибших. В конце концов воскресить их Раббе не мог. Наиболее достойным ответом на смерть солдат и офицеров были бы не эти заунывные вопли труб, не эта жалкая мишура обряда, а поимка русских парашютистов, виновных в случившемся. Но как раз с поимкой и уничтожением парашютистов дело обстояло донельзя плохо. Вернее, их просто до сих пор не обнаружили… Истекшая ночь принесла новые сюрпризы. Из передовых частей дезертировали восемнадцать солдат и один унтер-офицер. Унтер-офицера и четырнадцать солдат схватили, но остальные где-то скрывались. Кроме того, армейские КПП задержали около тридцати машин, не имеющих документов, оформленных должным образом. Только к утру удалось установить, что ни одна из задержанных машин не имеет никакого отношения к парашютистам. Зато явное отношение к ним имело крушение поезда на участке Хайдунаш — Хайдубесермень. При крушении разбились паровоз и четыре вагона с маршевиками, погибли двенадцать и оказались тяжелоранеными тридцать человек. Кроме того, при столкновении вагонов еще шесть из них пришли в полную негодность, а с платформы скатились четыре танка и две автомашины. Движение на участке до сих пор не восстановлено, и вряд ли его восстановят до полудня. И самое неприятное — крушение произошло в непосредственной близости от переезда, рядом с постом охраны. Как прозевала охрана диверсантов — непонятно! Утверждают, что непрерывно патрулировали полотно и что за четверть часа до крушения линия была цела! Врут, подлецы! Будут отвечать перед военным судом, мерзавцы! Явно не обошлось без партизан или диверсантов на дороге Домбрад — Тарцаль, где выстрелами из засады убиты мотоциклист и сопровождающий его солдат. Не исключено, что партизаны приложили руку и к пожару на складах с боеприпасами в Мишкольце. Что разбившиеся при загадочных обстоятельствах в минувшую ночь два грузовика тоже пострадали из-за парашютистов. Но где же, где искать этот дерзкий отряд или, вернее, эти дерзкие отряды? Раббе немало времени просидел с утра над картой, пытаясь решить, какой участок местности прочесать в первую очередь. От участка крушения поезда до участка, где убили мотоциклистов, было не меньше тридцати пяти километров. От места убий-ства мотоциклистов до места гибели грузовиков — восемнадцать. Мишкольц вообще оставался далеко в стороне… Что прочесывать? Где искать диверсантов? Начиналось, кажется, то же самое, что было в России. Штурмбаннфюрер чувствовал, что имеет дело с опытным, ловким противником. Он ни минуты не сомневался в том, что парашютисты за минувшую ночь совершили не только те нападения, о каких уже известно, но еще и другие, о которых сообщат, как всегда, с запозданием, потому что всегда проходит какое-то время, пока узнают о диверсии, уточняют данные и доносят эти данные по инстанции. «Наверняка они наставили мин, — думал Раббе. — У русских отличные мины замедленного действия. И неизвестно, когда они сработают. А времени, чтобы наставить мин, было у них вполне достаточно… Кроме того, негодяи используют захваченные машины. Мечутся из района в район… Как им это удается? Как? Или на КПП сидят болваны?..» Он еще не отдал приказа о прочесывании подозрительных участков. Полагал, что надо выждать. Может быть, когда окончатся похороны, в штаб поступят новые, наводящие на след донесения. Может быть… Раббе сидел с каменным лицом, но глаза гестаповца оставались беспокойными, подозрительными. И штурмбаннфюрер сразу обратил внимание на «хорх», что замер на выезде из одной улочки, пропуская процессию. Правда, «хорх» был не вишневым, а синим, темно-синим, но на левом крыле автомобиля явственно виднелась плохо зашпаклеванная вмятина, а стекло на левой фаре было явно новеньким. Рисунок стекла был иным, чем рисунок на правой фаре. В первое мгновение Раббе остолбенел, а в следующее мгновение голова штурмбаннфюрера yuuia в поднятые плечи, и весь он сжался. Он ждал грохота и выстрелов. Уж если диверсанты столь нагло ворвались в город, то ждать можно чего угодно! Шофер с недоумением косился на своего хозяина. — Выезжайте из процессии, — приходя в себя, отрывисто бросил Раббе. — Встаньте сразу же у тротуара. Он воровато оглянулся. Синий «хорх» по-прежнему выжидал. «Надо остановить шествие! — сообразил штурмбаннфюрер. — Пока улица занята, они никуда не денутся!» Раббе буквально выпихнул недоумевающего шофера из кабины. — Бегом к передней машине! Передайте мой приказ остановиться! Он и сам выскочил на улицу, озирался, пытаясь найти кого-нибудь, кому можно было дать распоряжение послать людей в тыл «хорху». Он не видел никого, кроме редких прохожих, наблюдавших за похоронами. «Может произойти скандал! — лихорадочно думал Раббе. — Они могут просто-напросто расстрелять шествие…» Музыканты все играли, машины ползли, синий «хорх» выжидал. «Идиотство! — мысленно бранился Раббе. — Идиотство!» Видимо, шоферу все же удалось догнать переднюю машину, потому что процессия внезапно замерла. Только музыканты все еще старались. Раббе ринулся к ближайшему автомобилю, рванул дверцу. Сидевший рядом с шофером капитан инженерных войск вопросительно поднял брови. — В городе диверсанты, — бросил Раббе. — Ваш шофер должен немедленно сообщить замыкающему взводу мою команду! Капитан хлопал глазами. Его щеки медленно белели. — По… по… пожалуйста, господин штурмбаннфюрер! С неожиданной прытью он выскочил наружу, всполошенно завертел головой. Прохожие отодвинулись от машин. Переглядывались. Видимо, услышали слова Раббе, передавали их друг другу. Кто-то побежал. — Немедленно оцепить район! — втолковывал Раббе шоферу капитана. — Зайти с тыла вон в ту улицу… Он умолк на полуслове: синий «хорх» медленно разворачивался, готовясь уехать. — Бегом! — заревел Раббе. — Перекрыть улицы! Догнать эту машину! Слышите? Немедленно! Он не видел, как рядом очутился майор Вольф. — Мой «хорх»! — сказал майор. — Это мой «хорх»! Он перекрашен! — Посылайте людей! — заревел Раббе и на майора. — Что вы стоите?! Посылайте людей! Музыка умолкла. Офицеры покидали машины, торопились узнать, в чем дело. Синий «хорх» развернулся и пропал из глаз. Раббе услышал голос своего шофера: — Ваше приказание… — В машину! — крикнул Раббе, на ходу расстегивая кобуру. — Майор Вольф, следуйте за мной! Он плюхнулся на сиденье: — Разворачивай — и в ту улицу! Развернуться, не смешав ряды процессии, было невозможно. — Наплевать! — крикнул Раббе. — Разворачивайся! Непрерывно сигналя, шофер Раббе кое-как развернул машину, повел к боковой улочке. — Быстрей! — Люди, господин штурмбаннфюрер… — Плевать я хотел на людей! Догоняй «хорх»! На боковой улочке «хорха» не оказалось. Шоферу подсказали — свернул налево. — Живо! — приказал Раббе. Багровый от возбуждения, с пузырящейся на фиолетовых губах пеной, он спустил предохранитель тяжелого «вальтера». И, заметив, наконец, перекрашенный автомобиль, несущийся впереди по безлюдной улице, стал спускать боковое стекло. Высунув наружу согнутую руку, Раббе выстрелил в воздух. Выстрелил второй раз. Пассажиры «хорха» оглянулись. Синяя машина сбросила скорость, встала у тротуара. Автомобиль штурмбаннфюрера проскочил «хорх», резко затормозил, загородил проезд. Раббе вынесло наружу. Пассажиры «хорха» тоже выскочили — низенький, брюхастый офицер в форме интендантской службы и пожилой, долговязый шофер-солдат. — Ни с места! Руки вверх! — по-русски крикнул Раббе, уже чувствуя какой-то подвох, но еще разгоряченный преследованием. Брюхастый офицер и солдат топтались возле «хорха», с недоумением кося по сторонам испуганными глазами: к ним подбегали, держа на изготовку автоматы, прихваченные Вольфом эсэсовцы. — Руки вверх! — на всякий случай не опуская «вальтер», повторил Раббе уже по-немецки. Офицер и солдат с готовностью вскинули руки. — Что происходит? — нервно крикнул офицер. — Господа! Какое-то недоразумение! Его уже обезоруживали. Эсэсовцы крутили руки долговязому шоферу. — Обыскать! Осмотреть машину! — приказал Раббе. Он все еще не рисковал приблизиться к синему автомобилю, хотя пузатый, перепуганный интендант никак не походил на диверсанта. Такому трех парашютов мало было бы… В «хорхе» никого не оказалось. Раббе подошел вплотную к задержанным. Ему подали документы интенданта. «Майор Густав Лок. Начальник службы снабжения восьмой танковой дивизии», — прочитал штурмбаннфюрер в удостоверении. — Господин штурмбаннфюрер! — приходя в себя, заговорил майор. — Я не понимаю… На каком основании?.. Раббе догадывался, что по милости этого пузатого он выглядит круглым дураком. — Это ваша машина? — вымещая на майоре яростную досаду, оборвал офицера Раббе. — Собственно… — начал интендант и запнулся. — Что значит «собственно»? Ваша или не ваша? Майор Вольф, успевший заглянуть в «хорх», поднял капот автомобиля, поглядел на номер мотора. — Что? — крикнул ему Раббе. — Мой! — откликнулся Вольф и, вытирая руки, с подозрением уставился на интенданта. — Откуда у вас эта машина? — заорал Раббе. — Потрудитесь отвечать! Интендант беспомощно взглянул на шофера, на штурмбаннфюрера, приложил к вспотевшему лицу платок. — Собственно… Мой шофер нашел эту машину на Мишкольцском шоссе… Он подыскивал подходящие к случаю выражения. Долговязый шофер воспользовался паузой: — Машина была брошена. Господин майор приказал ее оприходовать… Ситуация становилась комически-неприличной. — Разойтись! — бросил Раббе солдатам. — Возвращайтесь к своим обязанностям!.. — Мои документы… — рискнул заикнуться майор Лок. Раббе тяжело посмотрел на интенданта и спрятал его удостоверение в нагрудный карман. Густав Лок следил за движениями гестаповца как загипнотизированный. — Заберите машину, — сказал штурмбаннфюрер Вольфу. И лишь после этого прошипел интенданту: — А вы поедете со мной… Вор! Внезапная заминка, слух о проникших в город парашютистах, прогремевшие неподалеку выстрелы разогнали гарнизонный оркестр. Почетный эскорт рассыпался по улицам, выполняя приказ оцепить район. Шоферы грузовиков и часть офицеров попрятались в подъездах. Пока восстановили порядок, прошло около часа. Все это время гробы стояли без присмотра. И когда к ним приблизились, обнаружили, что вокруг лафетов и даже на самих гробах валяются листовки с крупными надписями «Смерть палачам!». Пришлось собирать листовки. Лишь после этого похоронная процессия двинулась в путь. Наверстывая упущенное время, распорядители церемонии решили махнуть рукой на этикет: автомобили устремились к кладбищу со стремительностью танковой колонны, вводимой в прорыв азартным командующим. Около тринадцати часов по местному времени Раббе вернулся в штаб эйнзатцкоманды. Как и предполагал штурмбаннфюрер, ночные сюрпризы приумножились. В штабе имелось несколько новых донесений. Первое: о тяжелом ранении заместителя начальника связи армии полковника Хаузера, подвергшегося нападению диверсантов. Второе: об исчезновении члена организации «Скрещенные стрелы» охранника Нилаша. Третье: о появлении вблизи деревни Каба подозрительных людей в немецкой форме, скрывшихся, как только их заметили, в кустах возле кабского озера. Штурмбаннфюрер кинулся к карте. От участка, где было совершено нападение на Хаузера, до деревни Каба по прямой выходило сорок километров Но ведь у диверсантов имелся лимузин полковника, и они, бесспорно, не остались в том районе, где действовали! Они должны были уйти из этого района! Раббе немедленно вызвал командира моторизованного батальона, выделенного для борьбы с парашютистами и партизанами. Уже через пять минут поднятый по тревоге батальон мчался из Наддетьхаза к деревне Каба. Через два часа батальон оцепил озеро, где скрывались подозрительные личности. А еще через пятнадцать минут обнаружил пять человек в немецкой форме, оказавших яростное сопротивление. В штаб эйнзатцкоманды пленных доставили около шестнадцати часов. Задержанные признались, что они дезертировали из армии. Для опознания личностей дезертиров Раббе вызвал в Наддетьхаза командира роты, названной схваченными солдатами. Командир роты прибыл в город лишь в двадцать часов с минутами. Он подтвердил, что мерзавцы служили в его подразделении. Он просил дать ему возможность лично расстрелять дезертиров. — Расстреливать надо командиров, не умеющих внушить своим солдатам чувство долга перед великой Германией! — сказал Раббе, но все же удовлетворил просьбу униженного и злого капитана. Предпринимать что-либо, кроме расстрела дезертиров, в этот вечер было поздно.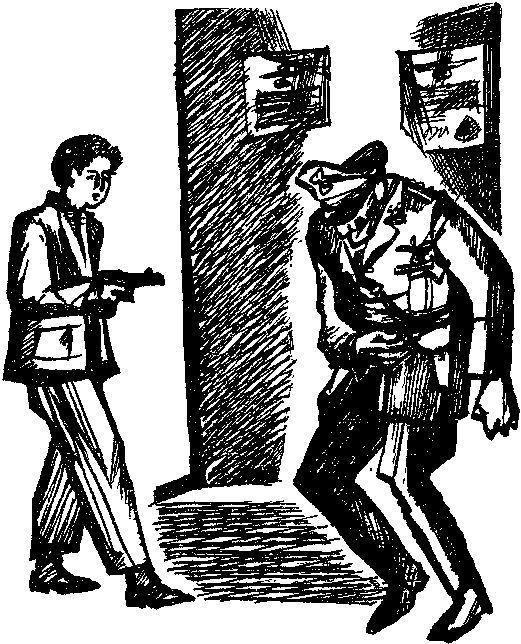
Раббе ограничился тем, что еще раз лично проинструктировал по телефону командиров частей и отдельных подразделений о необходимости проявлять бдительность и задерживать всех лиц, внушающих малейшее подозрение. Ему снова осталось одно: ждать, ждать, ждать… Уже собираясь покинуть штаб, он вспомнил о майоре Локе. «Ну, этот никуда не денется, — подумал Раббе. — И все равно пойдет под суд за воровство. Так что пускай посидит!» Штурмбаннфюреру хотелось спать. Ночь могла оказаться беспокойной: русские потеснили войска армии, назревала угроза прорыва противника, реальной оставалась угроза выброски новых десантов, и, пока из штаба армии не вызывали, Раббе хотел выкроить часок-другой для сна. Он вышел из здания штаба вялой походкой обремененного непосильными делами человека. Часовые приветствовали своего шефа. Раббе ответил на приветствие, не обратив внимания на открыто идущего по тротуару человека: час был комендантский, жителям полагалось находиться в домах. Два выстрела в живот свалили Раббе на тротуар. Он забился и закричал, призывая на помощь. Часовые бросились к штурмбаннфюреру. Стрелявший мог бежать. Но он стоял и смотрел… Спохватившись, один из часовых бросился на стрелявшего. Тот не сопротивлялся. Это был еврейский юноша, почти мальчик. Позднее, на допросе, он сказал, что мстил за семью, уничтоженную третьего дня. Но как ему удалось скрыться от облавы, где он взял оружие, мальчик не сказал и умер под пыткой, не выдав ни одного человека…
3
— Ну, так как жить будем? — спросил Бунцев, опускаясь на землю возле Ольги Кротовой и глядя в степь, туда же, куда смотрела радистка, назначенная им в первый караул. После завтрака Бунцев допросил пленных, потом они со штурманом побрились найденной в чемодане полковника бритвой, а девушки, отойдя за кусты, переоделись в отутюженное, пахнущее лавандой полковничье белье. Теперь Телкин и Нина спали, Мате наблюдал за пленными, а Бунцев, пользуясь случаем, пришел к радистке. — Так как будем жить? — повторил Бунцев. Он тоже устал, ему тоже хотелось отдохнуть, но другого случая могло не представиться, надо было пользоваться этим. Радистка упорно смотрела в степь. — Да как, товарищ капитан? — спросила она. — Как жили, так и будем. Теперь недолго… Карл подтвердил же, что до линии фронта тридцать километров! Значит, завтра-послезавтра к своим выйдем. — Я про это и говорю, — сказал Бунцев. — Самое опасное — линию фронта переходить, — сказала радистка, словно не догадываясь, к чему клонит Бунцев. — Артиллерия своя бьет, пулеметы… Но я верю, все обойдется. — Ольга! — сказал Бунцев. — Хотя всякое случается, — быстро, не слушая, продолжала радистка, и, наблюдая за ней краешком глаза, капитан заметил на щеках Кротовой лихорадочный румянец. — Я не рассказывала вам, товарищ капитан, как мы однажды на Северном Кавказе к своим вышли? — Не о Северном Кавказе речь, — тихо сказал Бунцев. — Да нет! Вы послушайте! — упорствовала Кротова. Вырвав пучок травы, она перетирала траву в пальцах. — Вы послушайте! — повторила Кротова. — Это интересно, товарищ капитан! — Ну что ж… Расскажи, — согласился Бунцев, догадываясь, что радистка ждала разговора и про Северный Кавказ вспомнила неспроста. — Расскажи. — Мы были заброшены в немецкий тыл на парашютах, — сказала Кротова. — Я и восемнадцать русских и испанских товарищей. Между прочим, некоторые испанцы были соратниками полковника Григорьева по испанской войне… — Ну? — Подробности не важны. Задание мы выполнили, потеряв только одного товарища убитым. На танковой мине подорвался… И вышли к своим. Вполне благополучно, между прочим. На стыке двух немецких батальонов прошли, и нас ждали: я по рации предупредила о выходе… — Так, — сказал Бунцев. — Продолжай, что же ты? — Ну, вышли. Зима, мороз… Нас сразу к командиру дивизии. В блиндаж. Мы первым делом, даже не отогревшись, сведения свои выложили. Конечно, радость и все такое. Комдив приказывает нам отдыхать, распоряжается накормить самым лучшим и даже водки выдать велит сверх фронтовых положенных ста граммов… — Неплохо! — сказал Бунцев. — Неплохо, — кивнула Кротова. — Только пообедать нам не удалось. Едва уселись за трапезу — приходят из особого отдела. Нашелся там какой-то сверхбдительный товарищ. Смутило его, понимаете ли, что документов при нас нет… А какие же у нас могли быть документы?! Ведь прежде, чем в тыл к немцам идти, все документы сдаешь!.. Мы пытались объяснить, что к чему, только нас не послушали. Приказывают: «Сдать оружие!» Ну, мы сдали. А как только сдали, нас от обеда оторвали, под конвой и пешим порядком за двадцать километров в штаб армии. — Нелепость! — глухо сказал Бунцев. — Конечно, — согласилась Кротова. — Но двадцать километров по морозу под конвоем, как враги какие-нибудь, мы все-таки протопали. И несколько испанцев обморозились. Да и в штабе армии три часа в одном сарае со всякой сволочью — с полицаями, с дезертирами — нас продержали, пока командующий армией не узнал и не вмешался… Вот ведь как случается под горячую руку! А мы… Радистка запнулась. — Договаривай, — приказал Бунцев. Кротова гладила ствол автомата. — Договаривай! — Что ж договаривать? — тряхнув белесой челкой и щурясь, спросила радистка. — Мы подозрений не должны были вызвать, о нас знали, и все-таки задержали, и не сразу разобрались… — Так, — сказал Бунцев. — Все ясно. Радистка посмотрела на него и отвела взгляд. Короткие реснички ее дрожали. Губы сжались. — Почему ты не веришь Мальковой? — спросил Бунцев. Радистка глядела в степь. Чуть приметно пожала плечами: — А при чем тут я? В биографии Мальковой и без меня разберутся… — Может, и без меня? — Может, и без вас. — Ну, этого не будет, — сказал Бунцев. — Без меня не будет. — Уверены, товарищ капитан? — Уверен, — сказал Бунцев. — Человек нам душу открыл. Я верю, что Нина и Шура цистерны взорвали. Мы с тобой их из-под расстрела вырвали. Нынче Малькова меня выручила, прикончила этого гада с ножом… Как же без меня? Кто же лучше нас разберется? — Найдется кто… — сказала радистка. — Мы Малькову два дня знаем. А она не два дня на свете живет. На скулах Бунцева катались желваки. — Значит, так, — сказал он. — Значит, и сама ей не веришь и мне верить не советуешь? — Да вы поймите меня, товарищ капитан! — тоскливо воскликнула радистка. — Почему вы не хотите понять?! В маленьких серых глазах ее бились мольба и тревога. — Я понимаю, — сказал Бунцев. — Я, Ольга, не чурбан… И, помедлив, напрямик спросил: — За последствия боишься?.. Ладно. Нечего в прятки играть. Люди взрослые. Кротова побледнела. Их глаза встретились. — Да, боюсь, — сказала Кротова, не отводя взгляда. — Да. Бунцев, сдвинув темные брови, долго разглядывал пожухший стебелек какого-то полевого цветка. Уже не узнать какого. — Ну что ж… — сказал он. — Значит, ты должна понять, как я за Нину переживаю… И не надо, Оля, мою душу спасать. Слышишь? Не спасешь. Не нуждается она в спасении. Вот если б я товарища предал, если бы мог ему помочь, а не помог, тогда — да, тогда спасала бы. Только я ее не предам. — Разве я… — Нет, ты просто встревожилась. Но встревожилась зря. Любая на месте Нины окажись, я бы точно так же ей поверил и точно так же считал бы, что нет на ней больше вины… Вот это я и хотел тебе сказать. Радистка не ответила. Степь перед ее глазами туманилась и текла огромной желтой рекой без берегов. Бунцев поднялся. — И еще одно. Нам вместе воевать, а может, и погибать всем вместе. Так у меня в отряде чистых и нечистых быть не должно. Держись с Мальковой ровнее. — Эту просьбу… эту просьбу мне трудно выполнить, — сказала радистка. — А это не просьба. Это приказ, — сказал Бунцев.— Предатель! — просипел охранник. — Грязная собака, предатель! Мате молча взглянул на него и снова наклонился над сапогом. В сапоге вылез гвоздик, его следовало забить. — Красная сволочь! Продал свой народ! — просипел охранник. — Продал! Сколько тебе заплатили, ты, собака? «Надо поискать камень… А то можно и прикладом», — раздумывал Мате. Он засунул в головку сапога нож, на ощупь накрыл вылезший гвоздик лезвием и несколько раз с силой ударил прикладом автомата по тому месту, где торчал гвоздик. — Проклятая собака! — сказал охранник. — Подлец! Выродок! Погоди! Тебя еще повесят, собака! Мате попробовал пальцами, как там гвоздик. Гвоздик еще царапался. Мате опять засунул в головку сапога нож. Опять ударил прикладом. — Где твоя совесть? — спросил охранник. — Где твоя совесть, собака? Какой же ты венгр, если продаешь своих? Русского командира не было, одна из русских стояла в карауле, другая спала, второй русский тоже спал, а немец не понимал по-венгерски, и охранник не выбирал выражений. Страх и ненависть переполняли его. Так внезапно, так круто повернулась судьба! Побежал предупредить немцев, а нарвался на разведчиков или партизан, черт знает, кто они такие! Марта, наверное, к завтраку ждала. Неужели не спохватилась? Должна спохватиться! Не такая баба, чтобы долго отсутствие мужа терпеть. Из одной ревности всю деревню должна обегать!.. Неужели не найдут их? Неужели не сообразят, где искать?.. — Собака! — сказал охранник. — Негодяй! Христопродавец! Он не сомневался, что русские расстреляют его. Известно, что русские — звери. Никого не щадят. Они и войну с Венгрией начали. Хотели землю отнять. Хотели заставить на себя работать. И сейчас лезут. И уж если пришли — расстреляют. А этот — коммунист, наверное. Пособник. Привел их сюда, подлец. Мало их вешали, мерзавцев! Мало! — Все равно тебя повесят! — сказал охранник. — Слышишь ты, собака? И земли моей ты не получишь! Слышишь? Подавишься моей землей! Мате попробовал пальцем, как там гвоздик. За пальцы ничего не цеплялось. Он отложил автомат, стряхнул ладонью песок с носка и натянул сапог. Встал, переступил с носка на пятку. Прекрасно! Подошву чуть-чуть жжет, но это из-за потертости. Ничего, пройдет. Неожиданно охранник всхлипнул. Стоило только начать, и он уже не мог удержаться. Он корчился от рыданий, которые пытался подавить. Мате с брезгливой жалостью смотрел на этого плечистого, сытого, здорового мужчину. Немец, Карл Оттен, отвернулся от плачущего соседа. Немцу, видно, тоже было не по себе. Страх заразителен. Мате вспомнил замученного Лантоша. Тот не плакал. — Замолчи, щенок! — сказал Мате. — Ты же венгр! — тихо взвыл охранник. — Ты же венгр!.. И я венгр! Что тебе русские?.. Побойся бога! Мате подобрал автомат. — Замолчи! — сказал Мате. — Замолчи, или я тебя пристрелю… Русские тебя пощадили. Они не знают, что такие, как ты, творили. А я знаю. И если ты еще заикнешься, что ты венгр, я тебя пристрелю! Охранник скорчился в три погибели, ткнулся лицом в колени, вздрагивал. Мате сел на прежнее место, держа автомат под рукой. Он хмуро смотрел на пленных. Ему поручили охранять их, а Мате привык выполнять поручения на совесть…
Нине снилось, что лежит она в своей девичьей кровати, а мать осторожно будит в школу. Надо просыпаться, но так хочется еще минуточку понежиться в тепле, продлить полудрему, так не хочется открывать глаза!.. Постель была почему-то жесткой, и в спину поддувало, но это не имело значения: мама осторожно поглаживала плечо — значит, в самом деле, ты лежишь под стеганым атласным одеялом, на кухне успокоительно постукивают ходики, на столе уже пускает пар коричневый, с пятнышком на левом боку старый чайник и пора вставать. Пора! Однако Нина знала, как продлить наслаждение сна. Надо лишь быстро протянуть руку, найти пальцы мамы и спрятать их у себя под подбородком. Против такой ласки мама никогда не могла устоять, и всегда у Нины появлялась та самая драгоценная минуточка, какую она хотела получить у неумолимого времени. Нина быстро протянула руку, нашла пальцы мамы, спрятала их у себя на шее, и мамины пальцы, как всегда, дрогнули, замерли, перестали беспокоить. Они были непривычно жесткими, шершавыми, и даже сквозь сон Нина почувствовала вместо привычной снисходительной нежности трепетавшую в этих пальцах горячую радость и удивление, но… Нина оттолкнула незнакомую руку, отпрянула, широко открыла глаза: — Ох!.. Бунцев растерянно смотрел на свою руку. — Я тебя бужу, а ты… — сказал он Нине. — Твоя очередь в караул… — Простите… — шепнула Нина. — Сейчас… — За что прощать? — тихо спросил Бунцев. — Мне приснилось… Мама… — Понимаю. — Вы не обижайтесь, что я так. Они встретились взглядами, и оба покраснели. — Ничего, — сказал Бунцев. — Вставай… А мне еще Тольку расталкивать. Спит, как медведь! — Он принялся тормошить Телкина: — Эй, друг! Довольно храпеть! Телкин сопротивлялся, натягивая на голову куртку. — Ах, так? — сказал Бунцев. Радость переполняла его. Гулкая, клокочущая. Капитан сгреб штурмана в охапку, поднял на руках, встряхнул, сонного поставил на ноги. Телкин покачивался, норовил сунуть под щеку сложенные горсточкой ладони. Очнулся. Открыл глаза, смежил, снова открыл. — Чего? — свирепо спросил он. — Чего спать не даешь? Бунцев беззвучно хохотал. — Нам с вами караулить, — с улыбкой сказала Нина. Телкин хмуро глянул на нее, потом на Бунцева, помотал головой, встряхнулся, как вымокшая собака, и махнул рукой. — Никогда поспать не даст! Точно, Ниночка! Всегда раньше срока будил! Он перевел взгляд с Нины на Бунцева, хотел сострить, но не сострил, лишь недоверчиво мигнул, опять поглядел на зардевшуюся Нину и опять на Бунцева. — Значит, в караул? — с растяжкой спросил он. — В караул, — смеясь, подтвердил Бунцев. Штурман обескураженно смотрел на командира. Пожал плечами. Нагнулся, поднял бутылку с остатками вина, взболтнул. — Дела… — сказал он. — Просыпайся, просыпайся, — сказал Бунцев. — Сменишь Мате. Да не пей все. Вина в обрез. Штурман пожал плечами. — Я думал, еще сплю, — сказал он, глядя на бутылку. Бунцев перестал смеяться. — А ты представь, что не спишь. Что все наяву, — сказал Бунцев. Штурман поглядел на него. — Чудно. — Нет, не чудно, — сказал Бунцев. — Сменяй Мате. — И повернулся к Нине: — Готова? Пойдем, я провожу тебя. Телкин смотрел им вслед, так и не прикоснувшись к вину.
— Разбуди меня через три часа, — попросила Кротова у штурмана. — Спи! — сказал Телкин. — Положено четыре, вот и спи четыре. — Я прошу — через три, — сказала Кротова. Она знала — самое опасное наступает сейчас. Люди поверили в свою удачливость, в безнаказанность хождений по тылу врага, и уже видно — теряют осторожность. Сколько партизан поплатились жизнью за такую беспечность! Сколько замечательных, отважных ребят! Она хотела сказать об этом Бунцеву, но после разговора в кустах, после всего, что увидела, не решилась. Боялась, что не так поймет ее Бунцев. Подумает, что опять осуждают его самого… Боль, причиненная капитаном, не проходила. Но Кротова знала, что эту боль рано или поздно испытать и перенести придется, и мирилась с ней. Не могла она примириться с другим. С безрассудством Бунцева. Иначе назвать поведение капитана радистка не умела. Потому что Малькова не та, кого бы ему стоило полюбить. Не та! Кротова и раньше ревновала Бунцева к той неведомой девушке или женщине, какую он полюбит. И раньше казалось ей, что та неизвестная избранница капитана не будет достойна его. Но Малькова… Закрыв глаза, укрывшись немецкой шинелью, радистка свернулась калачиком, спрятала руки в рукава куртки. — Красивая! — недобро думала она. — Конечно, красивая… И думает, что по этой причине лучше других. Только о своем счастье мечтает… Усталость сковывала тело. Сердце ныло и ныло. — Что ж, я буду держаться с Мальковой ровнее, — шепнула радистка. — Я выполню твой приказ, Саша… Только счастья-то она тебе не принесет.
Дул сильный северный ветер, заметно холодало. Накинув поверх шинели меховую куртку, лейтенант Телкин перебрался под защиту кустов, нагреб опавшую листву и устроился на ней, изредка поглядывая на пленных. Холод делал то, чего не мог сделать короткий сон: рассасывал ночную усталость, освежал голову. На Владимирщине наверняка были первые заморозки, может, и первый нестойкий снежок выпадал, а уж на Урале, факт, намело. Катя писала — на ноябрьскую на лыжах давно ходят… Он вспомнил о доме, о Кате, и сразу вернулась горькая, угнетающая мысль о том, как теперь, после плена, сложится его судьба. Впервые эта мысль подползла к Телкину во время Нининой исповеди. Змеей подползла и змеей ужалила. Ведь никуда не денешься, твоя судьба похуже судьбы Нины: был в плену, тебя допрашивали, сняли, и где-то в гитлеровском архиве лежит твоя фотокарточка, да и не расстреляли тебя. Наоборот, поверили тебе и даже повезли других пленных расстреливать! Ведь и это факт! Бунцев и Кротова видели же, что ты не на краю могилы стоял, а рядом с эсэсовцами, с врагами! Ну, Бунцев и Кротова поняли тебя, поверили тебе. Ты у них на глазах Миниха уложил. А другие поверят? Тем, кому по штату положено этими делами заниматься, поверят? Черта с два они тебе поверят. Ты и сам, на их месте окажись, не больно поверил бы. Во-первых, мало ли сволочей находилось, тех, что, шкуру спасая, своих предавали? А во-вторых, слишком уж скользко все… Ну, а не напади Бунцев с Кротовой на эсэсовцев, не выскочи они внезапно на своем мотоцикле, где гарантия, что ты на Миниха набросился бы, а не выполнил бы приказ палачей? Словам твоим красивым поверить должны? Возмущению твоему благородному? «Но ведь я не виноват! — смятенно думал Телкин. — Насамом-то деле я не виноват! Я ничего не выдал! Я так и так на фрицев кинулся бы! Значит, что же? Значит, можно и без вины виноватым быть? И это правильно? С этим надо смириться? Нужно покорно принять наказание, даже если ты не виноват? Принять только потому, что кто-то сочтет, будто ты „мог“ изменить?» Все восставало в Телкине против таких выводов. Но он не мог примирить свое возмущение с той «непреложной истиной», что каждый сдавшийся в плен офицер, при каких бы обстоятельствах он ни сдался, — враг, предатель и пособник врага. Майор Вольф знал, куда ударить, напоминая Телкину об этой «истине». Он хорошо знал! «Но ведь, значит, эта „истина“ на руку врагу! — внезапно догадался штурман. — Если майор Вольф напомнил о ней, хотел ею воспользоваться, значит, она на руку врагу, а не нам! Не нам!» Штурмана Телкина обучали многим полезным и необходимым для солдата вещам. Его учили правильно обращаться со сложными приборами, учили ненавидеть врага и любить Родину, но одному его не научили: критически оценивать виденное. На всякий случай жизни ему предлагали готовый ответ и требовали, чтобы он безоговорочно верил этому ответу. Что ж? Это было даже удобно. Это избавляло от возникавших порою сомнений в разумности и справедливости иных жизненных явлений. Но так было раньше. А теперь ничто не могло избавить штурмана от сомнений в разумности этого взгляда на жизнь. Телкин сидел, понурив голову, сжимая руками виски, глядя в одну точку. Прежде мир был прост и ясен. Границы между добром и злом, между разумным и неразумным, между светлым и темным считались раз навсегда данными и бесспорными. Окончательным рубежом между миром добра и зла была для Телкина только линия фронта. Все, что находилось за ней, «там», было злом, все, что находилось на нашей стороне, у нас, было добром. Но сейчас он чувствовал: мир зла не так легко уязвим. Он ведет борьбу не только на линии фронта, где терпит поражение за поражением и рушится под напором советских войск. Этот проклятый мир зла многообразен. Этот мир зла проникает и в светлый, добрый советский мир, отравляя его подозрительностью, равнодушием к судьбам других, боязнью думать к высказывать свои мысли, если до тебя их не высказали другие… Телкин чувствовал: мир зла страшен. Но этот мир еще жил и в нем самом, и штурман мучился пришедшими к нему мыслями, пугался их неприкрытой наготы. Он еще ниже опустил голову и закрыл глаза. — Да что же это со мной? — с тревожной тоской думал Телкин. — Да что же это?..
Карл Оттен проснулся от тихого подергивания. Его дергали за руки. Он пошевелился и тотчас услышал тихий, еле различимый, прерывистый шепот охранника венгра: — Руих… Руих… Вечерело. Небо опустилось на кусты, на ложбину, и Карл сразу заметил, что охраняющий их русский офицер сидит, погруженный в раздумья, и настолько занят ими, что позабыл о пленных. Остальные русские спали. — Делайте вид, что спите, — шепнул охранник. — Сейчас я перетру ремни… Вот почему Карлу померещилось, будто его дергают за руки! Венгр хотел освободиться! На миг в душе Карла Оттена вспыхнула надежда. Снять ремни, схватить оружие, открыть огонь… Он тяжело задышал. «А что сказать командованию?» — спросил осторожный Карл Оттен. «Скажу, что был захвачен врасплох, оглушен, — тут же ответил другой, готовый на все Карл Оттен. — И вырвался при первой возможности!..» «Но ты отвечал на вопросы русских, рассказывал правду!» — сказал осторожный Карл Оттен. «Никто этого не узнает! — быстро возразил второй Карл. — Никогда! Да! Да!» Он мог освободиться, мог перебить русских и вернуться в свою часть, к своим… К своим? К кому — к «своим»? Полковник Хаузер был ему «свой»? Нацисты были «своими»? Вся эта бандитская шайка, захватившая Австрию, втравившая немецкий народ в губительную войну, была ему «своей»? К чему, собственно, он должен вернуться? К убийствам? К безнадежной бойне? К домовладельцу, выгнавшему их с Хильдой за невзнос квартирной платы, когда Хильда ходила на восьмом месяце беременности? К начальнику цеха на обувной фабрике, к этой толстой свинье, совращавшей молоденьких девчонок, которых пугал тем, что сообщит об их неблагонадежности? К соседу Шницлеру, этой фаршированной глисте, вступившей в национал-социалистическую партию, чтобы не попасть на фронт и обеспечить тепленькое местечко в тылу? К вечному страху, что на тебя донесут? К привычке вечно отмалчиваться? К рабской покорности, с какой тебя приучили отдавать ненавистное фашистское приветствие?.. Русским ничего не стоило прикончить тебя, как они прикончили Хаузера. Но они тебя не прикончили. Они пожалели в тебе человека. Они верили, что ты человек, а ты хочешь вернуться туда, где в тебе вытравили человека. — Нет, — тихо сказал Карл Оттен охраннику. — Нет! Тот не слышал. Перетирал ремни и следил за русским офицером. Следил, не отрывая глаз. И Карл Оттен ощутил, как ремни лопнули. Казалось, звук лопнувших ремней мог бы разбудить мертвого, но русский не шелохнулся. Карл двинул кистями рук. Ремни спали. Он пошевелил пальцами. Они затекли, подчинялись плохо. — Хватайте автомат… — одним дыханием сказал охранник. — Автомат! Он подбирал колени, готовясь к прыжку. — Стой! — хрипло сказал Карл. Охранник уже не слышал ничего. Он вскочил и бросился на спину караулившему их офицеру. Карл вскочил следом. Дотянуться до автомата было парой пустяков. Но, боясь стрелять, он схватил автомат за ствол. Охранник осел и повалился на спину. На приглушенный крик офицера первой вскочила маленькая русская женщина. Проснулись русский капитан и старый венгр. Капитан направил на Карла пистолет. — Вот… — сказал Карл Оттен. — Я, кажется, ударил слишком сильно… Русский капитан опустил пистолет. Маленькая женщина подошла к охраннику, заглянула ему в лицо и выпрямилась. — Не понимаю как… я не спал… — сказал офицер, чуть не упустивший пленных. Он стоял, уронив руки, повесив голову. Русский капитан не смотрел на виновного. Он приблизился к Карлу и протянул ему руку.
В седьмом часу заморосил мелкий, холодный дождь. Отряд готовился к выступлению. Карл уверял, что знает все контрольно-пропускные пункты и все деревни, где есть гарнизоны. Он обещал провести товарищей мимо опасных мест. Посоветовавшись с Кротовой, Бунцев приказал ему: — Переоденься. И указал на мундир полковника Хаузера. Карл смутился. — Вы еще не верите мне? — Верю, — сказал Бунцев. — Только мне нужно, чтобы ты полковником стал. Нина растолковала Оттену, что задумано русским капитаном, и бывший шофер Хаузера, помявшись, натянул на себя мундир. Мундир сидел мешковато. — Ночью сойдет, — решил Бунцев, осмотрев Оттена. — Ничего, не смущайся. Он глянул на Кротову. — Ну, а что с этим делать? — и кивнул в сторону неподвижно лежащего охранника. — Уже неопасен. Можно идти. — Ты уверена? — спросил Бунцев. Мгновение Кротова медлила. — Можно идти, — твердо сказала она. Бунцев подал команду, и отряд потянулся к выходу из ложбинки. Миновали кусты, вышли на открытое. — Не отставай, — сказал Бунцев радистке. — Не отстану. Капитан сделал несколько шагов и вдруг остановился. — Ольга! А где винтовка этого?.. Забыла?! Радистка не отвечала. Послышался треск кустов. Оба обернулись. Бунцев схватил автомат, но радистка быстро отвела его руку. И в тот же момент из кустов показался охранник. Он вскрикнул, поднял оружие, и капитан не успел ни присесть, ни отшатнуться, как сумрак разорвала вспышка, раздался грохот и отчаянный вопль метнулся над степью и оборвался… — Что? — не понимая, спросил Бунцев. — Теперь уже все, — сказала радистка, всматриваясь в скрючившееся возле кустов тело. — Что «все»? — Все. Я ствол винтовки землей забила, — сказала Кротова. — Сам себя казнил, подлец. Сбежавшиеся к командиру люди молчали. — Надо быстрей уходить, — сказала радистка. — Взрыв могли услышать. — Да, — сказал Бунцев. — Пошли, товарищи. Ободок эсэсовской фуражки был противно мокрым и скользким. Бунцев снял фуражку и обтер ободок рукавом.
Глава девятая
1
Дождь шлепал по равнине, как усталый, сбившийся с дороги путник. Побредет в один конец, ничего не найдет, потопчется на месте и бредет налево. Но и там ни зги, и там одно поле, вязкое, черное, только ветер тянет куда-то, бог его знает куда, и тащится заблудившийся бедняга опять вправо… Дождь и ветер. Ветер и дождь. В степи и в садах, в хуторах и селах, в городах и городишках, на проселках и на шоссе, вдали от фронта и на самой линии огня, в оползших окопах и траншеях, над разбитыми артиллерией блиндажами, над вздыбленной взрывами землей, над исходными позициями танковых рот, над ползущими в кромешной мгле к невидимым вражеским минным полям саперами, над солдатами, ждущими в грязи условной ракеты… Дождь и ветер. Ветер и дождь… Тяжелые капли прозрачной влаги на узорчатых виноградных листьях и тусклой стальной броне, на теплых губах живых и на оскаленных зубах мертвых, на замках орудий и на курящихся трубах крематориев, где торопливо сжигаются последние жертвы нацизма, на карнизах спящих домиков, и на целлулоиде раскрытых планшетов, и на согнутых плечах бредущих по ночной равнине шести человек, знающих только одно: надо скорее выйти к наступающим советским войскам. Надо скорее выйти и передать наступающим карту полковника Хаузера, сообщить раздобытые данные о противнике. Выйти. Скорее. Как можно скорее… — Пора! — сказал Бунцев. Карл Оттен, сидевший на корточках рядом с капитаном, сжал карманный фонарик, поднялся и зашагал к шоссе. Ноги слушались плохо. В животе возникла холодная пустота, словно ты стремительно спускался в лифте. Карл вышел на обочину, поднял фонарик и, судорожно вздохнув, нажал на кнопку. Фонарик вспыхнул и погас. Надвигавшаяся на Карла машина убавила скорость. Теперь поздно было раздумывать. Карл нажал и отпустил кнопку. Нажал и отпустил еще раз. Еще раз. Еще… Машина, тормозя, замерла возле Оттена. Карл шагнул к правой передней дверце. В машине вспыхнул свет. Стали видны лица четырех пассажиров и шофера, но Карл не различал их. Дверца распахнулась. — В чем дело? — резко спросил высунувшийся наружу обер-лейтенант. Это был хорошо знакомый Карлу голос господина и повелителя, голос, которому Карла годами учили подчиняться без рассуждений и без промедления, голос уверенный, властный, подавляющий волю. Карл забыл, что на нем мундир полковника. — Проверка документов, — с невольной ноткой подобострастия, потрясшей его самого, хрипло сказал Карл. К счастью, из освещенной машины обер-лейтенант не мог видеть, кто спрашивает у него документы. Кожаная рука ткнула Карлу документы. Бывший шофер полковника Хаузера машинально посветил на бумаги фонариком, вернул их и так же машинально взял под козырек: — Все в порядке, господин обер-лейтенант. Можете ехать. Он слышал, как офицер, захлопывая дверцу, с досадой проворчал: — Наставили на каждом шагу болванов!.. Машина тронулась. Свет в ней погас. Карл стоял, уронив руки. — Назад! — приказал женский голос. Карл вернулся к отряду. Русский капитан что-то сказал. Голос у него был резкий. — Почему не приказал им выйти? — спросила Нина. — Испугался? Капитан спрашивает — почему? — Я не испугался… — сказал Карл. Было очень трудно объяснить, что он почувствовал там, возле машины, услышав голос обер-лейтенанта. Очень трудно. Русские о чем-то заговорили. — Я остановлю следующую машину, — наклоняя голову, упрямо сказал Карл. — Пусть господин капитан разрешит. Теперь я остановлю. Попадись ему сейчас этот обер-лейтенант, он бы выстрелил в него, не раздумывая, в эту самоуверенную, наглую, привыкшую повелевать скотину! Русские умолкли. Нина перевела просьбу Карла. Молчание затягивалось. Что-то буркнул младший русский офицер. Потом Нина перевела слова капитана: — Пойдешь снова. Но не медли и не теряйся. Мы рядом, поддержим тебя. Ты помнишь, как надо поступать, если в машине несколько человек? — Да, — сказал Карл. — Я должен сразу отойти. — Правильно, — сказала Нина. — Ты отходишь, а мы уничтожаем их огнем. Повтори! Карл повторил приказ. — Будем ждать, — сказала Нина. — Пойдешь, как появятся огни. Помни, ты не рядовой. Ты — полковник. — Помню, — сказал Карл. — Я остановлю. Он все еще думал об обер-лейтенанте. Застрелить бы скотину! — Капитан приказывает быть хладнокровным, — сказала Нина. — Если в машине несколько человек — отойди, и все. — Да, — сказал Карл. Отряду пришлось пропустить колонну грузовиков, прежде чем на шоссе не замелькали опять огоньки одиночного автомобиля. Капитан положил руку на плечо Карла, легонько подтолкнул. Карл снова вышел на обочину. Фонарик требовательно замигал, и автомобиль покорно остановился. Все происходило, как полчаса назад. Заскрипела дверца, зажегся свет. В машине снова ехали четверо. Только вместо немецкого обер-лейтенанта рядом с шофером сидел венгерский капитан-сапер. — В чем дело? — Проверка документов! — Пожалуйста… Карл вертел в руках документы. Ему пора было отойти. Но Карл подумал, что выстрелы могут быть услышаны шоферами грузовой колонны. Слишком недавно она прошла… А Карл был не рядовым, он был полковником и имел дело с венгерским офицером! — Прошу вас с водителем зайти на КПП! — сказал Карл капитану-саперу. — Что-нибудь не в порядке? — забеспокоился капитан. — Выходите из машины и следуйте на КПП! — приказал Карл. — Все выходите. Солдаты останутся возле автомобиля. Венгерский капитан послушно скомандовал ехавшим с ним солдатам покинуть машину и, пригнувшись, вылез первым. Водитель заглушил мотор. — Быстро! — приказал Карл. Водитель торопливо обежал автомобиль, встал рядом с капитаном. — Хенде хох! — сказал Бунцев, выходя из темноты в сопровождении товарищей. — Но я командир роты… — Хенде хох! Капитан растерянно оглянулся. Немецкий полковник держал его под прицелом. Эсэсовский офицер с какими-то солдатами подняли автоматы. — Пожалуйста! — забормотал капитан. Солдаты подняли руки раньше своего командира. Знали, с немцами лучше не связываться. Мало ли что! Эсэсовец вырвал пистолет из кобуры капитана. Немецкие солдаты подбирали брошенные венграми винтовки. — Но я очень спешу… — заикнулся капитан. — Снять шинели и кители! — приказала какая-то женщина, стоявшая рядом с эсэсовским офицером. — Господа! — взмолился капитан. — Молчать! — Мы ни в чем не виноваты! — робко сказал один из солдат. — За что? — Господи! — сказал другой. — Господи! — Вас никто не расстреливает, — сказала женщина. — Снять шинели и кители! Не бойтесь! — Да мы что… — сказал первый солдат. — Раз надо… Он уже стаскивал шинель. Глядя на него, заторопились и остальные. Немцы о чем-то шептались. — Братья, — сказал один из немецких солдат, подходя к венграм. — Я такой же венгр, как вы. Мы вам зла не желаем. Это не немцы со мной. Это русские. Слышите? Солдаты застыли, не веря. — Глядите, — сказал солдат. Он протянул к венграм руку с пилоткой, на которой засветилась красная звездочка. — Видите? Раздетые солдаты смотрели на звездочку как завороженные. Капитан, вскрикнув, бросился в сторону. Телкин был начеку на этот раз… Тогда солдаты поверили. — Русские! — проговорил один. — Советы! Товарищи! — Расходитесь по домам! — сказал солдатам Мате. — Не возвращайтесь в свою часть. Уходите! — Да теперь и не вернешься, — бросил один из солдат. Он глядел на Кротову, обрезавшую рукава у кителей и шинелей и спарывавшую погоны. — Как вернешься? — Возьмите нас с собой, — сказал другой солдат. — Лучше возьмите нас с собой. — Не можем, — сказал Мате. — Расходитесь. И знайте: Гитлеру и Салаши капут. Красная Армия скоро освободит страну. Война кончилась. — Пусть спросит, есть ли впереди КПП! — попросил Бунцев у Нины. — Побыстрей! Лучше всех был информирован водитель. Он заявил, что ближайший КПП в четырех километрах, а если ехать в обратную сторону, там КПП вообще за одиннадцать километров. Только на третьем километре ремонтируют мост. — Кто ремонтирует? — Солдаты нашего батальона и местное население. — Немцев нет? — Нет. Бунцев принял решение, не колеблясь. — Возьмите нас с собой! — опять попросил солдат-венгр. — Уходите! — сказал Мате. — Вы же видите, все в машину не уместятся. Уходите! — Куда же мы в таком виде?! — Прячьтесь у крестьян! Уходите! — О чем они? — спросил Бунцев. — Вот этот очень просит взять его с собой, — сказал Мате. — Некуда! — сказал Бунцев, но вдруг отпустил ручку дверцы. — Хотя… Как его зовут? — Ласло Киш, — сказал Мате, узнав имя солдата. — Пусть садится, — сказал Бунцев. Они кое-как забрались в машину: трое впереди, четверо сзади. — Давай! — приказал Бунцев Карлу, севшему за шофера… Местами разбитая и наскоро отремонтированная дорога была перекрыта шлагбаумом с красным фонарем. — Здесь только один солдат, — пояснил Ласло. — Он указывает объезд. — А впереди? — Впереди разбитый мост. Там идут работы. — На объезде не застрянем? — Наш капитан боялся застрять… — Поехали прямо! — решил Бунцев. — Карл, потребуешь у часового открыть шлагбаум! Шлагбаум им открыли. Часовой не рискнул возражать немецкому полковнику. — Ну, теперь — господи помилуй! — сказал Бунцев. Машина медленно шла по шоссе, объезжая наспех заделанные воронки. Под откосами валялись искореженные, сгоревшие грузовики. — Наши поработали! — сказал Бунцев. — Лихо! Показалась речушка с разбитым мостиком. Возле мостика копошились люди. Один замахал фонарем, указывая вниз по течению речушки. — Там наплавной мост, — объяснил взволнованный Ласло. — Надо туда… Наплавной мостик был еле заметен на черной, взбухшей после дождей реке. Машина сползла к мостику, он заходил под колесами… — Кто здесь работает? Сколько солдат? — спросил Бунцев. — Двадцать солдат под командой лейтенанта Ференца и мобилизованное население, — сказал Ласло. — На той стороне есть шлагбаум? — Да, конечно. — Там тоже один солдат? — Да. — А лейтенант? — Хм! — сказал Ласло. — Если он здесь, то сидит в палатке, а скорей всего ушел в деревню, к бабам. — Остановитесь у шлагбаума, — приказал Бунцев Карлу. Они благополучно перебрались через реку, благополучно въехали на шоссе, добрались до шлагбаума. Обезоружить часового ничего не стоило. Он узнал Ласло, вытянулся перед немецким полковником и уже через минуту стоял без винтовки, онемевший и беспомощный. — Скажи людям, что работы прекращаются, — приказал Бунцев Ласло. — А солдатам скажи, что Венгрия вышла из войны и они могут расходиться. — Но… они могут не поверить… — замешкался венгр. — Поверят. Ты прикажи людям подойти к машине без оружия. С ними наш полковник поговорит. — Я пойду с тобой, — сказал Мате. — Идем… Окликнутые Мате и Ласло венгерские солдаты с явным удовольствием разогнули спины. Вскоре пятнадцать солдат без винтовок приблизились к автомобилю. Карл объявил, что Венгрия вышла из войны и что солдаты могут идти домой. Венгры заволновались. Сбегались мобилизованные жители. — Э, черт! — сказал Бунцев и вышел из машины. Радость венгров как рукой смыло. Солдаты отступали от рослого эсэсовца. — Не бойтесь! — крикнул Ласло. — Ребята! Не бойтесь! Это русские разведчики! Они кокнули капитана Сексарди! Русские уже здесь! Можно расходиться! — Райта! — заревел какой-то солдат. — Райта! Капут война! Кротова тронула Бунцева за рукав. — Это саперы… Нет ли у них взрывчатки? Ласло тут же сказал, что взрывчатка есть. Только она в палатке у лейтенанта. — Надо взять, — заволновалась Кротова. — Взять все, что можно. Запалы, бикфордов шнур… Мате! Мате потолковал с Ласло, тот подозвал трех приятелей. Поговорили, бегом припустили в темноту. Солдаты еще толпились вокруг машины, разглядывая русских, одетых в немецкую форму, и некоторые, недавно подошедшие, еще ничего не могли понять. — Держите оружие наготове, — сказала Кротова Телкину и Нине. — Рискованно поступаем… Нельзя так… Однако солдаты не проявляли враждебных чувств. Видно, досыта нахлебались войны. А местные жители — те уже расходились. Ласло с приятелями притащили два ящика тола, запалы, круг маслянисто блестевшего бикфордова шнура, гранаты. — Лейтенанта нет, — задыхаясь, сказал Ласло. — Конечно, поперся в деревню. — Он может явиться, узнав о русских, — сказала Кротова. — Поехали, товарищ капитан. — Скажите им что-нибудь! — попросил Ласло, указывая на солдат. Мате подсказал Бунцеву, что говорить. Капитан снял фуражку, помахал ею: — Да здравствует свободная Венгрия! Нина перевела его слова Мате, Мате — солдатам. — Райта! — неуверенно откликнулись солдаты. Но через мгновенье подхватили дружно, громогласно: — Райта! Райта! Райта! …Машина вновь мчалась по блестевшему от дождя шоссе. Ласло что-то быстро говорил Мате. Мате перевел его слова Нине, та остальным. — Никто не хочет воевать! К черту войну! А капитана весь батальон ненавидел. Барон, белоручка, хам, сукин сын!.. Лейтенант — тот безобидный. Мальчишка, бабник. Но капитан Сексарди — негодяй, подлец, туда ему и дорога! — Больше так рисковать нельзя, — сказала Кротова. — Разве мы рисковали? — спросил Бунцев. — Не узнаю тебя, партизанка. — Вам нельзя было выходить из машины, — упорно повторила Кротова. — А вдруг открыли бы огонь? — Ты бы их опередила, — спокойно сказал Бунцев. — Я же знаю, ты опередила бы! Разве не так? Он обернулся к заднему сиденью. — Могла и не успеть, — сухо сказала Кротова. — Успела бы! — сказал Бунцев.Через пять километров свернули по совету Ласло на север. Венгр уверял, что попавшаяся дорога безопасна, а местность там холмистая, удобная для отряда, если придется бросить автомобиль и пробираться пешком. Однако, проехав несколько километров по незнакомой дороге, радистка заволновалась. Ее беспокоило отсутствие встречных машин. Там, где нет движения, одиночная машина особенно заметна. Вдобавок можно неожиданно наскочить на КПП, придется отстреливаться, и неизвестно, обойдется ли перестрелка благополучно. — Вглядывайтесь в дорогу, товарищ капитан! — твердила Кротова. — Вглядывайтесь! Бунцев и так напрягал зрение. — Не гоните машину! — потребовала радистка. Карл убавил скорость. — Скоро будет перекресток, — предупредил Ласло. — Там большая дорога. — Где фронт? Направо ехать? — Да. Направо. По большой дороге направо. — Задержитесь у перекрестка, — сказала Кротова. — Знаю, — сказал Бунцев. Но им и так пришлось задержаться, потому что по шоссе, ведущему к фронту, двигалась, выдерживая уставные интервалы, длинная колонна. Ползли грузовики с боеприпасами, ползли зенитные орудия, противотанковые пушки… Карл стоял с погашенными фонарями. — Не эти ли нас сбили? — сквозь зубы спросил Бунцев. — Может, эти самые… — сказал Телкин. — Можно и их разбомбить, — сказала Кротова. — Взрывчатка есть. — Мины? — спросил Бунцев. — Ага. — А не опоздали? — Если обогнать… — Готовь заряды, — сказал Бунцев. — Быстро! — Тесно. — Всем выйти! — приказал Бунцев. Колонна с грохотом, лязгом, воняя бензином, ползла и ползла по шоссе. Люди сбились около автомобиля. Кротова возилась на заднем сиденье. — Дайте спичечные коробки! — попросила она. — И батарейку от фонаря. Бунцев протянул свой коробок, отдал спички и Телкин. — Это что? — спросил Бунцев, следя, как радистка обматывает спичечные коробки проволокой. — Партизанский замыкатель, — сказала радистка. — Я сейчас, товарищ капитан. — Проходят… — Ничего, обгоним… Через пять минут радистка приготовила заряды и замыкатели. — Можно ехать! — сказала она. Колонна уже миновала перекресток. — Скажи Карлу, чтобы гнал! — попросил Бунцев у Нины. Карл Оттен все понял. Машина выскочила на шоссе и, вызывающе сигналя, помчалась вдоль медленно ползущей колонны. — Эх, если встречная попадется! — сказал Телкин. — Не сворачивай! Тесни ее! — приказал Бунцев. — И гони! Шоферы фашистских грузовиков, расчеты зенитных батарей и противотанковых орудий хмуро смотрели на обгонявший их «опель-адмирал». Какому-то начальству не терпелось оказаться на фронте. Что ж, пусть спешат. Начальству полезно иногда на своей шкуре русский огонек испытать. Узнают, как солдату приходится… Хотя, конечно, начальство в самое пекло не полезет… Для обгона колонны Карлу потребовалось всего семь с половиной минут. Бунцев проверил это по часам. — Где остановиться? — спросил Карл. — Я скажу, — отозвался Бунцев. Он хотел отъехать подальше. Остановил машину лишь через километр. — Давай! — сказал Бунцев радистке. Люди высыпали из «опель-адмирала», потащили взрывчатку. Потом на дороге осталась одна радистка. Она подбежала к своим, когда до колонны оставалось еще около четырехсот метров. — Поехали!.. Все, кроме Карла, ведущего автомобиль, смотрели назад. Казалось, ожиданию не будет конца. Пламя, и сильный звук взрыва, и тишина, и всполошенный треск автоматов… — Вот так! — сказал Бунцев. — Давай, Карлуша, давай, милый! Теперь на всю катушку давай!..
— Надо бросать машину! — сказала Кротова. — Пора, товарищ капитан! Один раз пронесло, второй не пронесет! — Останови! — приказал Бунцев. Они вышли на шоссе. — Постойте! — сказал Бунцев. — Слушайте! Все замерли. Откуда-то издалека доносился неровный гул. — Авиация? — спросил Бунцев. — Непохоже… — Фронт, — сказала Кротова. — Это фронт, товарищи! — Всё, — сказал Бунцев. — Бросаем машину. Тут километров пятнадцать. — Да, — подтвердила радистка, — да. — А куда машину? — спросил Телкин. — Сейчас, — сказал Бунцев. — Забирайте вещи! — окликнул он товарищей. — Скорей! Он один сел в «опель-адмирал», разогнал его и с ходу врезался в размокшее поле.
2
Сухая пыль щекотала ноздри, пахла свежеиспеченным хлебом. Нина и Мате подавали Бунцеву кирпичи, и капитан подгонял один кирпич к другому, тщательно заделывая проход в камеру для обжига, где сбился отряд. Они натолкнулись на этот заброшенный кирпичный завод после четырехчасового блуждания по полям. Люди вымокли, обессилели. Приходилось обходить деревушки, перебираться через взбухшие ручьи, карабкаться по холмам. Канонада то приближалась, то отдалялась. Но выходить на дорогу здесь, уже вблизи от линии фронта, Бунцев не рискнул. Так они приблизились к какому-то городу. Незадолго до этого отряд слышал характерные разрывы авиационных бомб, а теперь видел, что там, где рвались бомбы, полыхает пожар и на высветленном огнем небе рисуются контуры зданий. Обходя город, они и натолкнулись на кирпичный завод: снесенная до половины толстая труба, штабеля кирпича, брошенные на рельсах узкоколейки опрокинутые вагонетки… Камеру для обжига обнаружил штурман. — Лучше всякого блиндажа! — уверял Телкин. Камера действительно оказалась удобной, хоть и тесноватой. Правда, в стене ее, выводившей к узкоколейке, зияла узкая пробоина, но Бунцеву и пробоина понравилась: через нее можно было наблюдать за территорией завода. Заложить за собой проход в камеру предложила Кротова. Совет был дельный, и теперь Бунцев с помощью Мате и Нины заканчивал работу. Остальные меж тем раздевались, выжимали промокшие куртки, сбрасывали сапоги. — Всё! — сказал Бунцев, протиснув последний кирпич. — Замуровались. Черт нас теперь найдет… Как устроились? — Нормочка! — сказал штурман. — Потише, — предупредил капитан. В жидком свете выдохшегося карманного фонарика, положенного на кирпич в углу камеры, метались, ломаясь на низком своде, причудливые тени. Канонада еле доносилась сюда. О ней скорей можно было догадаться, чем услышать ее. Бунцев присел возле Нины. — Туалетом пора заняться, — сказал он. — Отдохните и спарывайте к лешему знаки различия. Еще свои перестреляют… Ольга! Остались у нас припасы? Еды оставалось мало. Вина — в одной бутылке. Да во фляге Ласло была вода. — Ничего, продержимся, — сказал Бунцев. — Дели, Ольга! От мокрых шинелей и потных, разгоряченных тел поднимался тяжелый дух. Но он никого не смущал. Ели и пили жадно, быстро. Потом Бунцев разобрался в карте. Получалось, что до линии фронта не больше десяти-двенадцати километров. Никак не больше. — Если наши прорвутся до рассвета, нынче же у своих окажемся! — сказал Телкин. — Елки точеные! Понимаете, нынче! — Все может быть, — сказал Бунцев. — Ложитесь спать. Я покараулю первый… Штурман виновато ссутулился. Нет, Бунцев еще не простил ему охранника. — Что сказал капитан? — спросил у Нины Карл. — Капитан приказал спать, — сказала Нина.Сидя возле пробоины, за которой все так же уныло капало, но уже серел осенний рассвет, Бунцев нет-нет да и вскинет голову, заслышав среди однообразных звуков какой-нибудь новый, непривычный. Но все оставалось спокойным, ничто не угрожало отряду. Из пробоины несло сыростью, и сначала это было неприятно, но потом Бунцев стал радоваться проникающему в камеру холодку: он мешал заснуть. Усталость далеко отодвинула события минувшей ночи, и они уже казались такими же странно неправдоподобными, как события первых дней скитаний по немецкому тылу. Словно это не ты, а кто-то другой захватывал пленных и машины, расстреливал эсэсовцев, распускал венгерских саперов. Кто-то другой, везучий и отчаянный, кому так же легко было бы перенести и нынешнюю усталость, кому так же легко было бы выйти к своим. А Бунцеву было трудно, и он опасался предстоящего броска к линии фронта. Местность наверняка кишела немецкими частями. Немцы могли прийти сюда, на кирпичный завод, занять здесь оборону, если советские войска прорвутся и погонят их. Что делать тогда? Выждать, пока начнется атака, и ударить по фашистам с тыла? Вероятно, так. Но прежде чем ударишь, завод десять раз может разнести по кирпичику собственная артиллерия! Набросают «чемоданов» — и привет! А ведь и «катюша» сыграть может в довершение концерта… Бунцев вскинул голову, насторожился… Нет, тихо… Он почесал грудь и слабо усмехнулся. Вспомнилось, как первый раз его «прокатили» на «У-2». «Катал» знакомый отца, Вася Макаров. Упросил командование, и посадили четырнадцатилетнего Сашку в машину. А в воздухе созорничал: сделал «мертвую петлю». После этого Сашка целый день проклинал его и заявил отцу, что никогда больше не полетит. Его потянуло в небо уже на второй день. С аэродрома гнали. В авиационный кружок при клубе Осоавиахима не приняли: где в начале года был? Но сжалились и посоветовали записаться в кружок парашютистов. Сашка обрадовался: «Пусть хоть парашютистом буду!..» А когда пришлось прыгать первый раз, с трудом принудил себя встать по команде инструктора со скамьи и подойти к люку самолета… «Вернемся — буду жалеть, что мало в тылу немецком нашуровал, — подумал Бунцев. — Уж это как пить дать…» Среди спящих вповалку партизан кто-то пошевелился. Заливистый храп Мате на минуту прервался. Потом Мате захрапел по-прежнему. Человек поднялся, переступил через соседа… — Нина? — еле слышно спросил Бунцев. — Я… — так же тихо ответили ему. — Почему не спишь? — Не могу… — Надо спать. — Успею… — Можешь не успеть. — Успею… Помешала? — Нет, нет… Нет! Нина опустилась на пол возле Бунцева. — Дует тут. — Я-то привык, — сказал Бунцев. Они молчали. Капитан взволнованно смотрел на девушку, приникшую к пробоине, на ее беспомощный, с ямочкой, детский, стриженый затылок, не прикрытый немецкой пилоткой. — Ну, что? — спросил он. — Скоро расстанемся… Вспоминать-то будешь? Нина приникла к щели, но Бунцев почему-то знал: сейчас она ничего не видит на заводском дворе. — Вам моя память ни к чему, — сказала Нина. — Нет, к чему, — сказал Бунцев. — Слышишь? К чему! — Оставьте, — сказала Нина. — Что я вам, такая? — Какая? — спросил Бунцев. — Ты это брось! Ты не думай об этом! Мы все расскажем… Мало ли как бывает!.. Люди не звери. Ну! — Не надо, — попросила Нина, отстраняя плечо от бунцевской руки. И, торопливо подняв воротник шинели, тихо, быстро добавила: — Не пара я тебе… Бунцев не слышал слов, потрясенный этим коротеньким «тебе», прозвучавшим, как признание. — Нина! — сказал он. — Нинка моя! Он не позволил ей отстраниться, притягивал и притягивал к себе, и девушка бессильно, покорно легла в бунцевские объятия. Бунцев попытался найти ее губы. Но девушка отвернула лицо. — Не надо! — быстро сказала она. — Не надо! Я не все рассказала. — Молчи! — сказал Бунцев. — Погляди на меня, ну! — Нет! — сказала Нина. — Я видела, как ты глядишь… Побоялась… — Молчи! — просил Бунцев. — Молчи! — С тем офицером… С Генрихом… — торопливо сказала Нина. — Нам есть было нечего… — Врешь! — сказал Бунцев, но руки его стали каменными — тяжелыми и холодными. — Нет, — сказала Нина. — Братишка заболел… А он лекарства обещал… — Врешь! — Не вру я… — Девушка пошевелилась. — А теперь пустите… Я же сказала: не нужна я вам… — Голос ее звучал враждебно и отчужденно. — Ну? — потребовала Нина. — Пустите! Бунцев расслабил руки. Упираясь ему в грудь, девушка отодвинулась, все так же не поднимая головы. Он рывком притянул Нину, властно запрокинул ее покрасневшее лицо и увидел испуганные, по-детски незащищенные, умоляющие глаза. — Так я тебе и поверил! — сказал Бунцев. — Так я тебе и поверил, дура! Девушка быстро опустила веки. Но обмануть Бунцева она уже не могла. — Братишка заболел! — сказал Бунцев. — А еще что? Больше ничего не выдумала? Ах ты, дура! Ах ты, дура безжалостная! Тогда Нина забросила руки на шею Бунцеву, прижалась к нему и заплакала. Бунцев нежно, осторожно гладил колючий, стриженый затылок. — Не бойся! — отрывисто говорил он. — Я же с тобой! Ну и порядок. И все! И не думай ни о чем! Я тебя никогда не оставлю… Ах ты, дура моя! Что выдумала, а? Что выдумала только!
Им столько хотелось сказать друг другу и так хотелось смотреть и смотреть друг на друга, касаться руки, плеча, щеки найденного любимого человека, которого война в любую минуту могла отнять, отнять навсегда, что ни Бунцев, ни Нина не знали, сколько прошло времени — пять минут или пять часов, когда оба одновременно услышали нарастающий треск мотоциклов. Еще не выпуская Нину из объятий, капитан поднял голову. Девушка замерла, прижимая ладонь Бунцева к груди. — Сюда, — через мгновенье сказал Бунцев. — Буди наших! Она отпрянула, ползком добираясь до спящих, а Бунцев, нашарив автомат, прильнул к щели. Он слышал, как все отчетливей рокочут моторы и как за его спиной невнятно, спросонок растерянно, отрывисто переговариваются товарищи.

Подползла Кротова. — Немцы? — Да! Встань у кладки. — Есть! Рядом оказались Телкин и Нина. — Видишь? — спросил штурман. — Еще нет… Вот они! Бунцев невольно сказал последние слова очень громко и пожалел об этом, словно немцы могли услышать его голос. Немцев было человек двенадцать. Бунцев считал их, пока мотоциклы въезжали во двор. Потом машины исчезли из поля зрения капитана. — Пройти внутрь! — крикнули снаружи. — Осмотреть помещение. В ту же минуту хлестнула короткая автоматная очередь, еще одна, еще… Бунцев не понимал, что происходит. Ясно было одно — немцы вели огонь не по отряду. По кому-то еще. Но по кому? Внезапно послышался взрыв, автоматы застрекотали с удвоенной яростью, и все стихло. — Может, наши? — шепнула Нина. — Тихо! — сказал Бунцев. Все в камере напряженно ждали. И, наконец, различили голоса немцев. Возбужденные, злые. — О чем они? — шепнул Бунцев. — Сейчас… Говорят: «Вот они. Двое… И рация с ними…» — отрывисто пересказывала Нина. — Говорят: «Надо еще искать…» — Приготовить оружие! — приказал Бунцев, проверяя, на месте ли диск автомата. Кто-то прошел вплотную к пробоине, и тень на миг заслонила от капитана двор. Потом послышались близкие шаги внутри завода. Кто-то слезал вниз. Загремели кирпичи. Сквозь неплотную кладку проник свет фонаря. Потянулись мучительные секунды. — Здесь никого! — крикнул спустившийся в полуподвал немец. — И второго выхода нет! — Тогда вылезай! — приказали со двора. Опять посыпались кирпичи. Немец выругался. Полез наружу. «За кем же они охотились? — соображал Бунцев. — Рация? У кого могла быть рация? У партизан? Или у разведчиков?..» Он страдал оттого, что не смог помочь. Но что могли сделать захваченные врасплох, замурованные в камере люди? Открыть огонь из пробоины? Не по кому было. Противника они не видели. Да и немцы легко блокировали бы камеру, зашвыряли бы отряд гранатами… Попытаться разобрать кирпичную кладку и выскочить, напасть на фашистов, захватить врасплох? Но пока разберешь кладку, отряд обнаружат и перестреляют всех, как цыплят… Бунцев знал — люди ждут его сигнала, команды. Они не оробеют. Но он не давал команды. Он молчал. В его планшете была карта полковника Хаузера. В отряде были Карл Оттен и Ласло Киш, отлично осведомленные о частях противника… Немцы шарили по заводу еще с четверть часа. Не найдя никого, кроме тех двух неизвестных, уже убитых ими, фашисты вернулись к мотоциклам. — Может… — прошептал над ухом Бунцева штурман. Бунцев не ответил. «Не последний день… — думал он. — Еще встретимся…»
Перед тем как лечь спать, Бунцев запретил покидать камеру и, велев разбудить его, если что, устроился в дальнем от пробоины углу. Нина не решилась лечь рядом с ним. Устроилась под боком у Мате. Последнее, что ясно видел капитан, силуэт штурмана у пробоины… Проснулся Бунцев поздно, около пяти часов дня. В камере было темно, только в углу слышался чей-то шепот да у пробоины по-прежнему сидел кто-то, наблюдая за территорией завода. — Телкин! — позвал Бунцев. — Спит, — ответила за штурмана радистка. — Ну, что? — спросил Бунцев. — Без происшествий? — Почти, — сказала Кротова. Бунцев подобрался к пробоине. — Что значит «почти»? — Прислушайтесь, товарищ капитан… В голосе радистки звенела радость. Бунцев прислушался. Сначала он не сообразил, чему радуется Кротова. Но вскоре смутная догадка затеплилась в сознании: гул орудий не только приближался, теперь гудело с двух сторон — справа, на линии фронта, и слева — где-то за заводом. — Немецкая артиллерия? — еще неуверенно, боясь ошибиться, спросил Бунцев, кивая в левую сторону. — Она? — Она! — сказала радистка. — Там тяжелые немецкие батареи! Мы уже впереди них, товарищ капитан! Наши наступают! Бунцев с торжеством вслушивался в грохот орудий. — Разбирай кладку, — приказал он. — Довольно. Оглядеться пора.
Едва люди выбрались на волю, грозный гул артиллерийской канонады, доносившийся с востока, как бы надвинулся на них. Тяжелые батареи немцев стояли где-то неподалеку. Не больше, чем в двух километрах от завода. Залпы немецких орудий звучали резко, в них слышался тот звон, какой выдает близость огневых позиций. Свиста снарядов никто не различал. Бунцев послал штурмана, Мате и Ласло осмотреть территорию завода. Те не обнаружили ни поста, ни наблюдательного пункта противника, но возле полуразрушенной трубы наткнулись на трупы двух людей в форме советских артиллеристов. Карманы убитых оказались вывороченными. — Артразведка, — сказала Кротова. — Надо захоронить, товарищ капитан. — У нас же ни заступа, ни лопатки пехотной, — сказал Бунцев. — Нет. Положим ребят в нашей камере. А встретимся со своими — скажем… Он сам пошел за телами разведчиков. Разведчики лежали рядышком на красноватой, размокшей земле. Смерть уже свела вечной судорогой их руки и ноги, выбелила молодые лица, заморозила широко открытые глаза. Глаза казались странно большими. Приглядевшись, Бунцев понял — в глазных впадинах стоит дождевая вода. Капитан снял фуражку. Эти смельчаки пробрались сюда, далеко за позиции фашистов, чтобы корректировать огонь. И наверное, успели связаться со своим штабом… Эго были герои. Настоящие. И они дрались до последнего. А он, Бунцев, не помог им. Бунцев и не мог им помочь, но знал: теперь до последнего дня своего будет вспоминать об этих ребятах и мучиться, что не выручил их. Бунцев опустился на колено и ладонью осторожно смахнул дождевую воду.
Отряд с трудом дождался наступления темноты. Погоны и знаки различия с немецких шинелей и мундиров были спороты. В последнюю минуту Бунцев снял и швырнул в кирпичи эсэсовскую фуражку. — Задача — выйти к своим, — сказал он. — У меня в планшете — карта Хаузера. Если меня убьют — прежде всего возьмите карту… Приказ ясен? — Ясен, — за всех ответила Кротова.
3
…Вминая тело в застывшую на морозе грязь, Бунцев лежал, с трудом глотая воздух, чувствуя, что еще минута — и сердце не выдержало бы, разорвалось. Сил, чтобы оглянуться, окликнуть своих, не было. Он не знал, все ли уцелели в этом последнем броске, все ли вышли из-под огня, но сил, чтобы оглянуться, не было. Сил оставалось ровно столько, чтобы дышать, чтобы вдавливать непослушное тело в грязь и принуждать его не двигаться… «Вот что достается пехоте! — думал потрясенный Бунцев. — Вот что!» Земля дрожала. Эту дрожь он ощутил давно, уже с час назад, уже около шоссе, где отряд залег перед перебежкой. Но тогда это было только слабое подрагивание, еле ощутимые толчки особенно близких разрывов. Эпицентр стихии оставался вдали. Только текла и текла по шоссе исторгнутая невидимым вулканом, выброшенная, казалось, самой разгневанной землей грязная лава войны — тягачи с орудиями, грузовики с армейским имуществом и снарядами, танки, бронетранспортеры и опять тягачи, грузовики, танки… Без огней, ухая на выбоинах, завывая на скользких подъемах, в отчаяниискрежеща гусеницами, стремилась эта лава прочь от настигающего возмездия. «Драпают, гады! — думал Бунцев, вслушиваясь в грозный рев незримого вулкана. — Драпают! Дали им!» С тех пор как отряд переметнулся через шоссе, прошел час. Бунцев по-прежнему упорно вел людей на восток, навстречу грозному реву, и сам грозный рев постепенно перемещался все ближе и ближе, и вот первый шквал накрыл ближние холмы, вздыбил их, окутал огнем, засвистел осколками, и земля заколебалась, уходя из-под ног, и древний, темный инстинкт швырнул людей на нее, подавляя волю и все желания, кроме одного — распластаться, слиться с землей, уйти в нее, спасаясь от гибели. Не было ничего более унизительного и страшного, как подчинение инстинкту. Он обманывал, суля спасение. Он обрекал на смерть. И капитан Бунцев понял это, и криком поднял отряд, и вывел из-под огня. Но теперь сил не оставалось. Теперь он лежал, дышал, ждал, пока сможет пошевелиться, и думал одно: «Вот что достается пехоте! Вот что!» …Новый артиллерийский налет закачал землю. — Вперед! — не слыша себя, закричал Бунцев. Он не оглядывался. Он верил, что люди не отстанут. И когда с разбегу споткнулся на чем-то, ощутив, будто по левой ноге, по голени беспощадно хлестнули железной палкой, когда падал, досадливо кривя рот, он подумал, что такой глупый случай может обойтись дорого: лежать нельзя, надо вскочить и перебежать дальше. Он использовал миг падения, чтобы глотнуть воздуху, и, едва коснувшись земли, едва почувствовав, что может оттолкнуться от нее, оттолкнулся, и, все крича яростное: «Вперед!» — хотел встать, но рванувшая ногу боль пронизала и все тело, сжала сердце, и капитан распластался на земле, царапая ее ногтями. …Шквал переместился налево, туда, откуда в черное небо вырывались огненные языки огрызающихся немецких батарей. Но впереди бушевал другой шквал. Шквал бушевал и за спиной отряда и где-то справа. Само небо рушилось на трясущуюся, опаляемую вспышками и заревами землю. Наступала советская пехота. — Что с тобой? Что с тобой? — услышал Бунцев. Нина лежала рядом, трепетными руками ощупывая его лицо и голову. — Нога… — сказал Бунцев. — Левая… Он напряг все силы, застонал, но ему удалось сесть. — Ляг! — требовала Нина. — Ляг! — Сапог… разрежь… — попросил Бунцев. Нина нагнулась над его ногой. Бунцеву чудилось, что огромная онемевшая нога умерла. Но ему пришлось стиснуть зубы, когда лезвие ножа коснулось голенища. — Что? — спросила подбежавшая радистка. — Александр Петрович!.. Саша!.. Ранило? — говорил штурман. — Ранило? Да?.. — Не сбивайтесь, — процедил Бунцев. — Хотите, чтоб всех?.. Лечь! Нина сняла разрезанный сапог. — Осколок… — сказала Кротова. — Надо жгут. — Возьми мой ремень, — процедил Бунцев. — Лежите! Радистка сбросила вещевой мешок, повозилась над ним, и капитан почувствовал, что ногу выше колена туго стягивает. — Перевязать нечем… — сказала радистка. — Чью-нибудь рубашку… — Мою, — сказал штурман. — Сейчас. — У меня чистая, — сказала Нина. — Мою. Она сбросила шинель, торопливо расстегивала немецкий китель. — Брось! — крикнул Бунцев. Нина стянула через голову рубашку Хаузера. Бунцев закрыл глаза. — Оденься… Простынешь… — услышал он дрогнувший голос Кротовой. Руки радистки ловко бинтовали его ногу.Бунцева несли по двое на скрещенных руках, часто меняясь. На первой остановке он попытался опять встать на левую ногу и чуть не упал. — Ищи укрытие! — сказал он Кротовой. — Оставите меня. Радистка промолчала. Так отряд добрался до берега ручья, преграждавшего путь на восток. Бунцева опустили на землю. Нина спустилась к воде, принесла в пилотке воды, и капитан жадно выпил холодную, отдававшую тиной воду. Горящий город, шоссе остались позади, справа. Артиллерия продолжала бить по городу, по шоссе, по ближним к шоссе холмам, а тут, на берегу ручья, было почти спокойно. — Больно, родной? — спросила Нина, гладя голову Бунцева. — Терплю, — сказал он, поймал ее руку и сжал в ладони. — Ольга! Сколько до наших? — Километра четыре, — сказала радистка. — Я думаю, четыре. Она сидела рядом, глядя на судорожные артиллерийские зарницы, опаляющие небо на востоке. — Надо идти! — сказал Бунцев. — Отдохнете — и пойдете. Люди молчали. — Ты слышала? — повысил голос Бунцев. — Все выйдем, — сказала Кротова. — Близко… Разрешите разведать ручей, товарищ капитан? Может, он к нашим заворачивает? Нас берег прикрыл бы… — Разведай, — нехотя согласился Бунцев. — Только быстро. — Слушаюсь, товарищ капитан. Радистка встала, сбросила шинель. — Карл! — позвала она. — За мной! Оставшиеся сбились около капитана. Лежали. Слушали гул артиллерии, смотрели на восток. Радистка и шофер полковника Хаузера возвратились через тридцать пять минут. Ручей, как и предполагал Бунцев, к линии фронта не заворачивал. — Но там мост, товарищ капитан! — быстро сказала Кротова, опережая приказ Бунцева. — Двухпролетный. И по нему техника идет. — Далеко? — Метров триста отсюда… За поворотом… Немцы его минировали, взрывать будут. — Мост… — сказал Бунцев. — А охрана? — Только на въезде и около съезда. Четверо часовых. — «Только»! — сказал Бунцев. — Подойти к мосту можно, — сказала Кротова. — Подползем по берегу. В темноте сверху не увидят. И услышать нельзя. Огонь же! И машины грохочут… Бунцев молчал, не принимая решения. — Немцы увозят артиллерию, — сказала Кротова. — Боеприпасы везут. Это же все на наших обрушится… И танки отойдут… — Чем взрывать? — спросил Бунцев. — Взрыватели от гранат есть. Вынуть из зарядов запалы, вставить взрыватели. — А нашим мост не понадобится? — Его же взорвут. — Да. А если провода перерезать? — Не дураки. Обнаружат. Бунцев молчал, вглядываясь в темень, скрывавшую неизвестный мост. — Разрешите, товарищ капитан? — спросила Кротова. — А проволока у нас осталась? — спросил Бунцев. — Метров пятьдесят есть. Достаточно. — Ни черта не достаточно, — сказал Бунцев. — Достаточно, товарищ капитан. За глаза хватит. — Технику же увозят, — сказал Телкин. — Позвольте мне, Александр Петрович. У меня особый счет. — Мне проще, товарищ капитан, — сказала радистка. Бунцев задумался. Телкин стоял над командиром, и Бунцев, не видя, знал, какое у штурмана сейчас лицо. — Лейтенант Телкин пойдет, — сказал Бунцев, и Телкин шевельнулся, тотчас стал снимать шинель. — Дайте ему запалы и проволоку. — Может, вместе тогда… — тихо сказала радистка. — У кого взрыватели? — спросил Бунцев. — У тебя? — У меня, — сказала радистка. — Александр Петрович… Вот… На всякий случай… — сказал Телкин. — Что? — Письма… Бунцев взял из руки штурмана тоненькую пачку писем. — Мы ждем здесь, — сказал Бунцев. — Взорвешь и сразу возвращайся. Ясно? — Ясно, — сказал Телкин. Бунцев запихал письма в планшет. — Кротова и Мате тебя проводят, — сказал он. — К мосту им не подходить. Ты — старший в группе. С тебя спрос. — Ясно, — сказал Телкин. — Все будет в ажуре… Можно идти? Бунцев помедлил: — Иди! Ждем!
— Стоп! — сказал Телкин ползущим за ним Кротовой и Мате. — Останетесь тут. До моста оставалось не больше сотни шагов. Снизу, от воды, на фоне зарниц мост рисовался с удивительной четкостью. По нему медленно полз тягач с орудием. Телкин протянул руку, и радистка подала ему моток проволоки с привязанными за чеки взрывателями. — Осторожней, Толя… — шепнула она. — Знаю, — буркнул Телкин, не отрывая глаз от моста, от тягача и орудия, уже сползавших на западный берег. Он немного полежал, отдыхая. — Часовые не увидят, — напомнила радистка. — Сверху не видно. — Ладно. Мундир промок, и сырость, поначалу приятная разгоряченному телу, теперь мешала, вызывала озноб. — Пошел, — сказал Телкин. Он медленно полз по берегу ручья, по вязкой, грязной пойме, осторожно передвигая руку с мотком проволоки и взрывателями, и неотрывно глядел на мост. Орудийный грохот заглушал все звуки, даже шум моторов на дороге, ведущей к мосту, и машины с орудиями въезжали на мост и съезжали с него беззвучно, как в немом кино. — Не слышно шума городского… — сказал себе штурман словами внезапно пришедшего на ум романса, который любил певать отец. — Едут, сволочи!.. Он опять полежал, отдыхая, и опять пополз, метр за метром одолевая расстояние, отделявшее его от моста. Орудия гремели так, как они гремят только перед рассветом, перед решительным штурмом. Тягачи с орудиями все въезжали на мост и скатывались, въезжали и скатывались. Телкин полз. Гладко выбритая, припудренная рожа майора Вольфа припомнилась штурману. Припомнились насмешливый прищур и издевочка: «Да куда вы от меня пойдете, лейтенант?..» — Вот, иду, гад! — сказал Телкин вслух. — Видишь? Иду! И ты меня не остановишь. Он прополз еще с десяток метров и замер, увидев прямо перед своим лицом тусклую воду отходящей от ручья канавы. Неширокая, метра на полтора, канава дышала холодом. Прижимаясь щекой к мокрой земле, штурман с отчаянием смотрел на тусклую, равнодушную воду. До моста оставалось рукой подать, он был у цели, а тут — канава. Ее надо переходить. Но как ее перейдешь? Телкин чуть-чуть приподнял голову. По мосту шел очередной тягач. По обеим сторонам моста маячили черные фигуры в касках. Четыре черные фигуры в касках. Кротова с Карлом разведали точно. «Нашумлю! — с отчаянием думал Телкин. — Нашумлю, и конец…» Он опустил голову, опять прижался щекой к мокрой земле. Он понимал, что пытаться перейти канаву бессмысленно и невозможно. Медленно, сантиметр за сантиметром, подтянулся штурман к самому краю канавы. Медленно, боком сполз в нее. Ледяная вода обожгла и сковала тело. Телкин всю волю напряг, чтобы не рвануться и не всплеснуть. Сползал, пока не нащупал ногами вязкое дно и не утвердился на нем. Перехватывало дыхание. Вода стояла возле губ. Телкин переставил ногу, держа моток проволоки с взрывателями над головой, нащупал дно, переставил другую ногу. Он не смотрел на часовых. Увидят так увидят. Ничего не поделаешь. Надо идти… Он с трудом выбрался из канавы: руки и ноги закоченели, не хотели повиноваться. Но отдыхать было нельзя. Приляг, уступи боли — и уже не сможешь пошевелиться. Телкин пополз к мосту. Он не дрожал. Просто тело оледенело, еле волоклось по земле. — Что? — шепнул Телкин, плача от боли. — Что, господин майор?.. Он сидел под мостом, прижавшись спиной к свае, и, засунув в рот негнущиеся пальцы, пытался согреть их, часто дыша. Пальцы не отогревались. Телкин покусал их, снова задышал часто и сильно, снова покусал. По грязному липу лейтенанта еще текли слезы. — Врешь! — сказал он пальцам. — Врешь! Над головой гремел настил. Свая дрожала. — Врешь! — сказал Телкин. Он не смотрел на часы и не знал, сколько минут прошло, пока он смог, наконец, пошевелить пальцами. А потом он смог сжать кулаки. Разжал. Сжал. Разжал. Сжал… Он смотрел на руки и улыбался сквозь слезы. — Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, — хрипло сказал Телкин. — Порядочек. Порядочек, Толя! Полный! Он нашел немецкий провод и по проводу кое-как добрался до первого заряда, укрепленного на свае. Потом нашел второй заряд. Настил грохотал, сваи дрожали. Вынимать немецкие электродетонаторы было нетрудно. Труднее было вставлять в гнезда электродетонаторов взрыватели от гранат. Проволока мешала. Плохо сгибалась. Натяни ее чуть-чуть — и все. Чеку выдернешь. Но Телкин справился со взрывателями… Волосы под пилоткой намокли, на глаза натекал пот, губы стали солеными. Только ноги не согрелись. Ноги, пока он стоял и возился со взрывателями, совсем одеревенели. Телкин хотел присесть, чтобы снять сапоги, вылить воду, и едва не упал. Удержался за сваю. Хотел шагнуть — и не смог. Не смог. Ноги не подчинялись. Он стоял под мостом, возле мерцающего ручья, на чужих, неподвижных ногах и растерянно смотрел на эти чужие, неподвижные ноги. Пора было уходить, взрывать мост, а он не мог уйти. Он не мог сделать ни шагу. Он был беспомощен. Жалко, глупо беспомощен. Он даже нагнуться не мог, скованный холодом. Он слышал, как на мост с лязгом взбирается танк. Он слушал этот тяжелый лязг, а снизу, от лодыжек, от коленей. поднималась невыносимая, цепенящая боль и заглушала лязг танка. Все заглушала. «Воду! — тоскливо подумал Телкин. — Не вылил сразу воду из сапог…» Боясь упасть, он держался за дрожащую сваю. Моток проволоки лежал возле ног. Можно было сколько угодно бранить себя — это ничего не меняло. Если и удастся отползти — уйдут танки… На мост взбирался новый танк. Свая вибрировала. Казалось, она хочет вырваться из рук. Телкин приник к шершавому столбу. «Удержаться!» — думал Телкин. Бунцев ждал его. Катя ждала. Мама ждала. «Удержаться!» Боль подступила к груди. Она ломала штурмана, пыталась оторвать от сваи сведенные судорогой руки, мешала дышать. Танк миновал мост. На смену ему въезжал на мост третий. Телкин различал, как рвут дерево стальные гусеницы. Запрокинув голову, штурман сквозь слезы смотрел на черный настил. Пройдет этот танк, пройдет еще один, все пройдут, а он ничего не сможет. Ничего! Кончился твой «особый счет». И ты кончился. Как это говорил майор Вольф? «Зачем вы тут дурака валяете, лейтенант?» Телкин смотрел на настил. — Сука! — с ненавистью сказал Телкин. — Ах ты, гадина! Сука! Он сказал это не майору Вольфу. Он сказал это всему миру, где существовали вольфы. Воплощением этого проклятого мира был сейчас мост. И танк, идущий по мосту. И другие танки, ждущие своей очереди. Они торопились пройти. Они хотели уцелеть. Танк достиг середины моста. Штурман не мог нагнуться и дотянуться до мотка проволоки. Но дотянуться до заряда он мог. Взрыватель плохо сидел в гнезде. С трудом удерживаясь на ногах, Телкин левой рукой сильно прижал взрыватель к заряду, зажмурился, отвернул лицо и выдернул железный стерженек. Он успел удивиться тому, как легко подалась чека первому же усилию…
Командир стрелковой роты, наступавшей на взорванный мост, увидел тех, кто вел огонь по отступавшему противнику со стороны безымянного ручья. Навстречу командиру роты, размахивая пилоткой, поднялась рослая, коротко стриженная дивчина с автоматом. За дивчиной встали с земли трое мужчин. На самом берегу, силясь приподняться, возился четвертый. Рядом с ним неподвижно лежала маленькая фигурка в серо-голубой немецкой шинели. Схватив рослую дивчину в объятия, командир роты крепко поцеловал ее. Смеясь и плача, дивчина тоже поцеловала ротного. — Партизаны? — спросил командир роты. — Да! — сказала дивчина. — Партизаны! У нас раненые… Скорей! — Не боись! — сказал командир роты. — Теперь не боись! К своим пришла!
Михаил Прудников Особое задание
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1. За час до восхода солнца
Шла семнадцатая ночь войны. Над клочком земли, который еще совсем недавно был нашим, а теперь в военных документах именовался «ничейной полосой», изредка вспыхивали ракеты. Повисая над предрассветной пеленой тумана, ракеты освещали истерзанную, покалеченную землю. В их лишенном жизни голубоватом мерцании все казалось призрачным. Там, где только вчера покачивались созревающие колосья ржи, лежало голое, израненное траншеями поле. Темными буграми застыли на нем разбитые танки и пушки. Выбив из села отряд боевого охранения, немцы подожгли село. Оно горело весь вечер и всю ночь: огонь перекидывался с крыши на крышу. Оранжевые языки пламени вырывались из окон и дверей, отплясывали бешеный танец. А когда рушились балки и стропила, фонтаном взлетали и рассыпались вокруг искры… Еще вчера у перекрестка двух проселочных дорог стоял вековой дуб. Он крепко держался за землю могучими корнями, бросая вокруг щедрую тень. Местные жители всегда помнили его таким — крепким и спокойным. Казалось, он бессмертен, как небо над ним, как плывущие облака, как блеск звезд. Сейчас, под утро, в зловещих отблесках затихавшего пожарища, могучее дерево возвышалось огромным черным силуэтом. Как бы взывая о помощи, дуб простирал вверх свои обуглившиеся, помертвевшие сучья. В его дымившееся тело впились осколки снарядов, как раз там, где чей-то нож вырезал в коре сердце, пронзенное стрелой… Казалось, вокруг нет ни единой живой души, все разбито, уничтожено, стерто огненным смерчем войны. Но на самом деле в траншеях, блиндажах, укрытиях шла напряженная жизнь. Поеживаясь от предутреннего холодка, люди в окопах всматривались в даль воспаленными от бессонницы глазами, у телефонных аппаратов замерли связные, дежурили радисты с наушниками. В ту ночь немецкие радисты прифронтовой полосы уловили в привычной многоголосой симфонии эфира позывные неизвестной рации. Заглушая треск, шорохи, гудение, эти сигналы врывались в наушники неожиданно и властно. «Ти-ти-та-та, ти-та-та-ти!» — кричал кто-то далекий и неведомый. Позывные звучали во многих наушниках. То пропадая среди помех, то возникая вновь, они как бы чего-то требовали. Призыв был закодирован, и лишь одно слово — оно повторялось периодически — шло открытым текстом: «Ураган», «Ураган». За час до восхода солнца рация замолчала. На рассвете два грузовика с немецкими автоматчиками подъехали к опушке леса. Солдаты окружили район, где, по данным радиопеленгатора, находилась неизвестная рация. Гитлеровцы действовали молча, постепенно сужая кольцо. Операцией руководил молодой высокий узколицый офицер в черном мундире. Бесшумно ступая по густой траве, он осторожно раздвигал мокрые ветки. В лесу было сумеречно, лишь на верхушках деревьев, уже освещенных лучами солнца, весело щебетали птицы. Клочья молочно-сизого тумана цеплялись за кусты, сползали через вороха свежей глины в воронки. Движения офицера становились все осторожнее. Вдруг шедший сзади него солдат споткнулся, и офицер, резко обернувшись, сунул кулак ему под нос. — Тише ты, мерзавец! — выругался он свистящим шепотом. Сузив глаза, офицер внимательно всматривался в предутренний сумрак. И вдруг остановился: впереди послышался шорох. Гестаповец прижался к дереву, судорожно сжав в руке парабеллум. Из кустов выскочил солдат и, поправляя на ходу пилотку, крикнул: — Здесь, господин офицер! Здесь! Они выбрались на узкую полянку, где полукругом стояло человек шесть солдат. Серо-зеленые мундиры почтительно расступились, и офицер увидел под низко склонившимися ветками орешника лежащего ничком человека. Его правая рука, вытянутая вперед, лежала на краю серого ящика, похожего на дешевенький чемодан. Пальцы, лиловатые у ногтей, стискивали головку телеграфного ключа. Грязь забрызгала серую рубашку и мокрые от росы брюки, комочки глины застряли в светлых спутавшихся волосах. Под левым боком маслянисто краснела трава. Минуту все стояли молча. Зрелище было неожиданным. Казалось, потерявший сознание, истекающий кровью радист все еще посылал в эфир сигналы. Звал ли он в последние минуты на помощь, или рука привычно, механически выстукивала знакомые точки и тире? — Отнесите в грузовик, — кивнув на радиста, приказал гестаповец. Он был явно разочарован — надеялся вернуться из лесу с толпой русских штабных офицеров, понуро бредущих под конвоем его солдат! А вместо такого триумфа, сулящего награду, — единственный трофей — полуживой радист, по-видимому, переодетый красноармеец. Солдаты почему-то долго возились около русского. Офицер нетерпеливо дернул плечом. — Что случилось? Оказалось, что окостеневшие пальцы радиста невозможно было оторвать от ключа. Тяжело дышавший рыжий ефрейтор выругался. Он разогнулся и рукавом вытер вспотевший лоб. Теперь радист лежал на спине. Офицер увидел совсем еще молодое лицо с белесыми бровями, в морщинке у переносья застыла боль. Взгляд полуоткрытых глаз был неподвижен. По животу расплылось коричневое пятно. Раненого положили на брезент. Офицер подозвал фельдфебеля и приказал прочесать вокруг лес, а также тщательно осмотреть траву и воронки вокруг рации. Когда офицер вышел на опушку, над огромным полем сожженной ржи вставало солнце. К машине радиста принесли уже мертвым.2. Шофер из Москвы
В глубокой тьме Алексей Попов бежал по шоссе. Спотыкался, падал, вскакивал и снова бежал. Что-то очень тяжелое давило ему на плечи и мешало. Сбросить этот груз он не мог. Алексей знал: во что бы то ни стало должен освободиться от этой помехи, но не было сил. Грохот настигал его. «Та-та-та», — отдавалось в ушах, будто огромный телеграфный ключ. Алексей пригибался, обхватывал голову руками, затыкал уши, но устрашающий звук настигал его, становился все громче и громче. «Надо бы свернуть», — думал Алексей. Но дорога шла по гребню насыпи с крутыми скатами. Почему-то канавы казались ему ущельями. В мозгу лихорадочно билась мысль: «Вперед, только вперед!» Из-под башмаков вылетал гравий и, подпрыгивая, скатывался вниз, в темную, пугающую бесконечность. Огромное и страшное, что грохотало у Алексея за спиной, должно было вот-вот настигнуть его, но чем быстрее он пытался бежать, тем тяжелее и непослушнее становились ноги. Колени подгибались, и держаться прямо стоило ему больших усилий. Алексею хотелось оглянуться, но он почему-то долго не решался. И когда все-таки оглянулся, грохочущий преследователь оказался танком. Броня тускло светилась серебристой щучьей чешуей. Пушки были длинные, неестественно длинные и шевелились, словно щупальца осьминога. И тут он заметил гусеницы танка: крохотные, как бы игрушечные. Они беспомощно крутились над пропастью, не в силах сдвинуть с места грузную тушу, а она фыркала, плевалась дымом и свирепо рычала. Алексей остановился и облегченно рассмеялся. И в то же мгновение танк выбросил сильный ослепительный луч. Рука метнулась к глазам, Алексей зажмурился. Когда он открыл глаза, то увидел ветку, склонившую над ним широкие листья. Они слезились росой. Ярко светило солнце. Он сощурился и часто заморгал. Сквозь верхушки деревьев синело небо — глубокое, бездонное, без единого облачка, такое беспокойное и чистое, каким оно бывает летним утром. Алексею казалось, что звук огромного телеграфного ключа, что преследовал его, раздается и сейчас. Стучало прямо над головой, и, подняв глаза, Алексей увидел дятла, сидевшего на березе. Птица долбила кору с торопливой деловитостью, изредка пугливо косясь на лежавшего внизу человека. Но человек лежал не шевелясь и, видимо, не замышлял ничего дурного. От мирной чистоты неба, от теплых солнечных пятен па дымной росистой траве, от монотонного постукивания дятла в сердце Алексея шевельнулась радость. Это была радость жизни, ощущение от пережитой и ушедшей опасности, которая, если не совсем миновала, то по крайней мере временно отодвинулась. Хотелось пить. Алексей с трудом расклеил спекшиеся сухие губы, проведя по вспотевшему лбу тыльной стороной ладони, и сразу же вернулся к реальности: рука была горячей, влажной. Алексей поспешно сел. Правая ступня — тугой окровавленный моток грязных тряпок. Он попробовал пошевелить пальцами: все тело обожгла короткая резкая боль. …Солнце поднялось уже совсем высоко, когда Алексей дополз до оврага, заросшего орешником, и ткнулся пылающим лицом в ручей. Напившись, с трудом добрался до тени и снова впал в забытье… Очнулся Алексей от ощущения, что на него кто-то смотрит. Чуть-чуть приоткрыв веки, увидел босые загорелые ноги. «Почему босые? Почему не в сапогах? И почему на них нет свастики? Да, ведь на сапогах не бывает свастики. Она — на рукаве… Сейчас я подниму глаза и увижу… Там обязательно должна быть свастика». Он резко вскинул голову. Но рукава не увидел. Свастики тоже не было. Тонкие загорелые руки обхватывали худые коленки девушки, почти подростка; в коротеньком выцветшем сарафане она с бесцеремонным любопытством рассматривала Алексея, покусывая стебелек травы. Алексей долго в упор смотрел на незнакомку, но она и не думала отводить круглых синих глаз. Он ждал расспросов, но девушка молчала. Алексей сел, тряхнул тяжелой головой. — Ты умеешь говорить? — улыбнувшись, с трудом спросил он. Она кивнула головой. — Тогда скажи: что это за лес и далеко ли до деревни? — Да нет. Нужно только поле перейти… Рядом… — Ну а называется-то она как? — Юшково, — и, помолчав, девушка заговорщически прошептала: — А я знаю, кто вы. — Еще бы! Это сразу видно… — в тон ей ответил он. — Я немецкий шпион. Только никому об этом не рассказывай. Уговорились? — Ладно, ладно, смейтесь. А я все равно знаю… — Ну, так кто же я такой? — Вы? — Она оглянулась по сторонам и прошептала: — Вы командир. Наш, советский. Вы ранены и скрываетесь от фашистов. Алексей снова раздвинул спекшиеся, потрескавшиеся губы в улыбку. — С чего ты это взяла? Девушка махнула рукой. — Так я в соседнем селе объявление видела. На телеграфном столбе висит. Напротив сельсовета. — Какое объявление? — Да они вывесили! — Ну и что же там написано? — А в лесах будто скрывается много наших. Я это объявление наизусть знаю. «Кому станет известно о местопребывании командиров, комиссаров, продекламировала она торжественно, — надлежит немедленно сообщить немецким властям…» — И шепотом спросила: — А вы переоделись, да? Он усмехнулся. — Нет, никакой я не командир. И даже не военный. Я обыкновенный шофер. Понимаешь, шофер. Гражданский. Она, казалось, была разочарована. Затем скосила глаза на его забинтованную ногу. Он перехватил этот взгляд. — Ах да… — Алексей уставился на грязный комок бинтов, снова попробовал пошевелить чужой, непослушной ногой и, поморщившись, объяснил: — Под обстрел, понимаешь, попал. Грузовик мой в щепки. А меня осколком клюнуло. А ты как здесь очутилась? — Мы с мамой назад возвращаемся к бате. Он с нами не мог пойти. Он у нас инвалид. А мы хотели эвакуироваться, да не успели. Они как начали дорогу бомбить, а потом танки ихние впереди появились. Мы в лес — и врассыпную. А сейчас до дому добираемся. Я по воду пошла… — И много вас там? — Было много. Да все разбрелись. Прислушиваясь к приглушенному стуку колес и храпу лошадей, Алексей лихорадочно соображал: «Может быть, выйти сейчас вместе с девчушкой на дорогу, смешаться с беженцами? Но ведь девочка говорит, все разбрелись… Так легко на глаза попасться. Обнаружат. Начнутся расспросы, кто да что…» — Пойдемте с нами. Я вам помогу. Мы ведь живем в Юшкове. Алексей не знал, что сказать. Словно отдаленные раскаты грома, доносился гул канонады. Прикинул в уме: «Совсем недавно был со своими, километров двадцать пять, а теперь вот отделен от них широкой полосой фронта. Человек на льдине, куда-то меня прибьет?» — Ну вот что, — сказал Алексей. — Сейчас возвращайся вместе со всеми домой. А как стемнеет, приходи к дубу, к тому, что на развилке дорог. Знаешь? — Еще бы! — Так вот. Там я буду тебя ждать. Придешь? — Приду. — Матери и отцу не говори. Да и соседям тоже. Она понимающе кивнула головой. Брови ее озабоченно сдвинулись. — Как тебя зовут? — Аня. — А меня Алексей. Алексей… Аня решительно встала и скрылась в кустарнике. Еще засветло Алексей изготовил из сухой ветки ольхи костыль, а когда начало смеркаться, царапая руки и лицо о кустарник, дополз до опушки. К дубу на перекрестке надо было добираться через поле выжженной ржи. Алексей постоял, прислушиваясь. Справа по шоссе, километрах в двух от леса, гудели машины. Алексей уловил треск мотоциклов, обрывки веселой песни. Вскоре показались контуры массивных крытых грузовиков. Какая-то, видимо тыловая, немецкая часть двигалась по шоссе в город. Колонна текла ревущим потоком. Вот он, враг. Движется по нашей земле, деловито, неторопливо, властно. Грохочет сотней моторов и распевает беззаботные песни. А он, Алексей, должен ползать, скрываться, стать незаметным. При свете гаснущей зари Алексей различил темные зигзаги траншей. Он опустился в пыльную пахнущую траву и снова пополз… Алексей ворочался всю ночь. На сеновале было душно. Казалось, собиралась гроза, хотя сквозь щели крыши виднелась ясная звездная ночь. Но он не мог отделаться от ощущения, что над деревней низко нависли лохмотья грозовых туч. На стеклах соседнего дома играли отсветы далекого пожарища. Время от времени содрогалась земля и дребезжали рамы. Спал он в эту ночь или нет? Скорее всего лежал в тревожном забытьи. Алексей хорошо помнил, как они с Аней встретились вечером у сожженного дуба, как крались по полю, темневшему воронками; потом ползли по дну противотанкового рва, и каждый раз, когда он останавливался, Аня торопливо шептала: «Сейчас, сейчас придем. Теперь уж близко». Когда он наконец переступил порог избы и на него пахнуло теплом человеческого жилья, Алексей торопливо задвинул деревянный засов на двери — это было его последним сознательным движением. Все дальнейшее происходило как бы не с ним, а с каким-то другим, посторонним человеком, за которым он наблюдал со стороны. Откуда-то издалека доносились обрывки фраз: — Господи, как же он дошел! — Налей воды, да потеплей! — Нога-то совсем разбита… Когда женщины перевязывали ему ногу, он мучительно раздумывал, почему в избе такой беспорядок, почему вокруг разбросаны какие-то узлы, корзины, мешки, почему так голы бревенчатые стены. И только позже, уже лежа на сеновале, куда проводила его Аня, Алексей вспомнил: он в доме возвратившихся беженцев. Аня появилась на сеновале рано утром с миской дымящейся картошки и кружкой молока, на которой лежал ломоть хлеба. Наконец Алексей мог рассмотреть девушку. Влажные на висках светлые волосы (видно, только что умылась) были перехвачены сзади лентой, загорелые, покрытые светлым пухом руки аккуратно расставили еду на табуретке. Густые брови на мгновение озабоченно сдвинулись: не забыла ли чего? И казалось, что вся она, по-утреннему свежая, умытая, пришла из того спокойного, уютного мира, о существовании которого он забыл в последние дни. Но это ощущение было мимолетным. Рассказы Анн снова возвращали к реальной действительности. На вторые сутки он знал все деревенские новости. Обычно, когда Алексей ел, Аня присаживалась рядом и торопливо, сбивчиво принималась говорить о том, что происходит в округе. Из ее рассказов он знал: гитлеровцев в селе нет, изредка проезжают машины с солдатами, останавливаются ненадолго. Даже если Аня исчезала из дома только на полчаса, то потом, слушая ее, можно было подумать, что в маленькой деревушке в семнадцать дворов, случалось столько бурных и необыкновенных событий, что Юшкову мог бы позавидовать большой город. У соседки пропала коза, мальчишки принесли с поля гранату и хотели сдернуть с нее кольцо, и неизвестно, что произошло бы, если б не дед Егор, отобравший эту гранату. А тихого богомольного старичка Игнатыча, известного на селе под кличкой Коряга (до войны работал вместе с отцом), фашисты назначили старостой, и он заставляет всех величать себя «господином». — Правда, смешно — господин? Какой из него господин, когда он кривой и совсем маленького роста. Алексей недолго пробыл на сеновале: хозяева перевели его к себе в маленькую каморку за перегородкой. В избе, на бревенчатой стене, висела фотография лысоватого человека в полувоенной одежде. Деревенский фотограф придал его физиономии тупую, бессмысленную улыбку. Тут же висела карточка Аниной матери, Лидии Григорьевны. Объектив застал ее как бы врасплох — в испуге и недоумении, но на лице ее сохранилось выражение доброты и мягкости. И хотя портреты висели рядом, казалось, что соседство этих очень разных людей — случайное. — Отец? — спросил Попов, коснувшись взглядом человека во френче. Аня молча кивнула. Алексей хотел расспросить ее об отце подробней, но вдруг Аня выпрямилась прислушиваясь. Раненый привстал, опираясь на локоть: где-то совсем рядом, быстро приближаясь и нарастая, гудели моторы. Их было много. Аня бросилась к окну. Потом, побледнев, повернулась к Алексею. В глазах ее метнулся ужас. — Они! И сразу стало ясно: тишина и покой нескольких дней, прожитых в этом доме, — обманчивые иллюзии, а реальность — испуг в глазах Ани и пронизывающий Алексея внутренний холод. Реальными были его туго забинтованная ступня, погибшие товарищи и он сам, отрезанный от своих линией фронта, и этот рев моторов. Прежде чем Алексей успел сказать что-либо Ане, девушка выскользнула из комнаты, хлопнув наружной дверью. Он услышал, как грузовики остановились неподалеку от дома. Где-то долго гремели колодезной цепью и ведром, плескались водой, фыркали, смеялись. И голоса выкрикивали по-немецки: — Лей, Курт, лей! — О черт! Вода как лед! — Эй, Вальтер, фляжку, дай фляжку!.. Алексей вслушивался в голоса, чувствуя, как под одеялом потеет ладонь, сжимающая рукоятку пистолета. Вот сейчас хлопнет калитка, скрипнут доски крыльца, и… Но в избе стояла тишина до звона в ушах. За окном взревели моторы, скрипнула дверь — послышались легкие шаги Ани. Она вбежала в комнату, покрасневшая, возбужденная, с блестевшими глазами. — Ух, сколько их! Поспрыгивали с машин, кинулись к колодцу… Один здоровенный, с нашивками, а сапоги короткие… Растопырив руки и округлив глаза, она показывала ему, как здоровенный немец пил из ведра. И было трудно понять, испугана она или возмущена. Уже в сотый раз перебирал он в уме события последней недели. Там, в Москве, когда готовилась боевая операция в тылу врага, казалось, что все предусмотрено и всякая случайность исключена. Тщательно подобрали подходящих людей, каждому разработали легенду, подолгу обсуждали различные варианты действий. Но случайность все-таки вкралась. Погибли товарищи, брошен грузовик, за шофера которого Алексей должен был себя выдавать… Пропала рация, оружие, взрывчатка… Ничего он не знает о радисте, видел только, как побежал Ваня Барашов к лесу, да и сам Алексей с раздробленной, распухшей ступней вряд ли теперь чего-нибудь стоит. И представлялось ему, что он сидит за шахматной доской, долго сидит, обхватив голову руками, тщательно изучает все возможные ходы, и чем больше раздумывает, тем виднее ему, что, в сущности, нет такого хода, который мог бы изменить создавшееся положение. Что же делать? Ждать, ждать, ждать… Итак, он шофер, из Москвы приехал в командировку, в суматохе не успел выбраться из Могилева… Ждать. Но чего надеяться на ошибку тех, кто играет черными… Больше ничего не остается! Ночью раздался стук в дверь, короткий и по-хозяйски властный. Рука Алексея метнулась под подушку, где лежал пистолет. За перегородкой скрипнула кровать, и мать Ани тяжело прошлепала по полу босыми ногами. Вошедший хлопнул дверью, заговорил громко, не стесняясь, словом, вел себя как хозяин, возвратившийся домой. Но вдруг притих: видимо, его предупредили, что в доме посторонний; за перегородкой перешептывались. Алексей отодвинул занавеску, заменявшую дверь, и увидел знакомую по фотографии лысоватую голову, только вместо полувоенной одежды хозяин был в помятом, сильно потертом бостоновом пиджаке. Алексей невольно усмехнулся: самодовольство и уверенность отец Ани, видно, оставил где-то вместе со щеголеватым диагоналевым френчем. — Ну, давайте знакомиться! — сказал хозяин, войдя наутро за занавеску и усевшись на табуретку. — Афанасий Кузьмич. Можно сказать, ваш коллега. В гражданскую самого Путятина возил… Ну конечно, какие тогда машины были… Теперь другое дело… Отец Ани говорил свойским, простецким тоном человека, много ездившего, бывшего всегда на людях, но с какой-то неприятной торопливостью, будто боялся, что его могут перебить. — Мне Анька говорила: в ногу вас, стало быть… Ай-ай-ай… — Хозяин с сожалением покрутил лысой головой. — Ну да ничего, нога — дело десятое. Главное, чтоб руки были целы, руки — это первое дело, с руками всегда прокормиться можно… ежели, конечно, голова есть на плечах… Он умолк на минуту, как бы желая лучше рассмотреть собеседника, потом скользнул взглядом по рукам случайного постояльца, лежавшим поверх лоскутного одеяла, и вдруг спросил: — А вы на грузовых или на легковых больше ездили?.. Начальство возили? А? Неужели этот простоватый с виду человек почувствовал, что его гость не весь век крутил баранку? Алексей ответил как можно равнодушнее, хотя вопрос его насторожил: — Да на разных приходилось. — Так, так… — Афанасий Кузьмич постучал пальцами по коленям, глядя куда-то в сторону. — Я вот тоже на каких только не ездил. Да… Можно сказать, вся жизнь на колесах. — Внезапно он наклонился к Алексею и доверительно прошептал: — А вы, часом, не красноармеец будете? Он посмотрел прямо в лицо раненому. Тот выдержал этот колючий взгляд и усмехнулся: — Нет, не угадали. Я гражданский человек. Всего только шофер. Так что не волнуйтесь. Но ответ Алексея, видимо, не успокоил хозяина. — Оно, конечно, я не волнуюсь, — поторопился уверить Афанасий Кузьмич. — Мне что? Но все-таки время-то какое! Беспокойное время. Я, конечно, не откажусь помочь. Всегда готов. Сам в гражданскую воевал. Да! И ранение имеется. Так что я не против… Да и наши, думаю, скоро вернутся… Как вы думаете, вернутся? Алексей промолчал. Афанасий Кузьмич продолжал пытливо всматриваться в лицо собеседника. — Россию, ее одолеть трудно, — бормотал он. — Она вон какая! Так что я не против, конечно, переждем… Афанасий Кузьмич вышел от Алексея в полнейшем недоумении. Ночью он уже отчитал своих баб, что они «впутались в это дело», но как выпутаться, подсказать не мог. Хозяин остался в твердой уверенности, что в его доме скрывается не простой человек — уж очень не походили руки гостя на шоферские — белые, мягкие, без мозолей. «Ежели, конечно, вернутся большевики, — рассуждал он про себя, — то, глядишь, отблагодарят. Ну а если не вернутся?» — Афанасий Кузьмич не знал, что придумать, ругал про себя Аньку («всегда была с придурью») и озабоченно сопел. При Советской власти Афанасий Кузьмич зарабатывал немало, а что ему сулят перемены, определить еще не мог. Может, при немцах удастся открыть лавочку или мастерскую. Говорят, они поощряют частников. …Вошла Аня, присела на край кровати, стараясь прочитать на лице Алексея впечатление, произведенное ее отцом. — Симпатичный у вас папаша, — сказал он, — общительный… Она промолчала. — А почему он не на фронте? — спросил он. Она пожала плечами, потом вдруг быстро заговорила: — Я же вам говорила. Он хороший. Больной ведь отец. Инвалид. Вы его не бойтесь… Он не такой, никуда не пойдет. Отец-то раньше в райисполкоме работал. Просто боится за себя. Ведь сколько дней домой не приходил! В другой деревне прятался. Алексей слушал молча, но про себя решил, что в самое ближайшее время попросит ее подыскать для него другое убежище. Но «съехать с квартиры» ему пришлось совсем по иной причине…3. Хирург
Главный хирург городской Первомайской больницы (жители называли ее Субботинской по имени богатого купца и промышленника, построившего в начале века на свои деньги) Адам Григорьевич Лещевский стоял перед зеркалом в операционной. Он стаскивал с пальцев скользкие, хрустящие перчатки. Скомкав их, швырнул в раковину и поискал глазами флакон с нашатырным спиртом, которым протирал руки после операции, — флакона на обычном месте не было. «Куда он запропастился?» — подумал Лещевский и тут же вспомнил: нашатырный спирт кончился. Запасы медикаментов в больнице таяли с каждым днем. И пополнить их было почти невозможно. По утрам старшая сестра с виноватым видом сообщала: кончается эфир, йод, на исходе красный стрептоцид и даже аспирин. Последние три дня старшая сестра уже ничего не говорила, а только тяжело вздыхала. Адам Григорьевич знал: в кладовой больницы осталось лишь немного манной крупы и пшена. Лещевский всегда гордился своей выдержкой. Двадцать четыре года за операционным столом закалили его нервы. И вот теперь ему, столько повидавшему на своем веку, первый раз в жизни было страшно. Он боялся ежедневных визитов немцев, боялся заходить в палаты, с ужасом ловил на себе вопрошающие, тревожные взгляды больных и раненых, видел, как люди, которых он совсем недавно спас на операционном столе, погибали от голода, из-за отсутствия необходимого лекарства. И он был не в состоянии обеспечить им надлежащий послеоперационный уход. Особенно было страшно за тяжело раненных красноармейцев, которых не успели эвакуировать. Все, кто мог передвигаться, ушли из больницы еще в те дни, когда окруженный город обороняли советские войска. Городская больница, в первые же дни войны превращенная в госпиталь, теперь работала под контролем не только фашистских врачей, но и полиции. Гестапо тоже наведывалось. Все молодые врачи давно были на фронте, в городе оставались только пожилые люди, подобные Лещевскому. Тем больше ответственности ложилось на его плечи. Мысли Адама Григорьевича прервал стук в дверь. В операционную вошла девушка, незнакомая хирургу. Она была взволнована, белокурые волосы небрежно выбились из-под пестрой косыночки. Он бегло взглянул на посетительницу и снова нагнулся над раковиной. Адам Григорьевич сразу определил, что девушка из села и, видимо, большую часть пути бежала бегом. — У вас заболела мама? — спросил хирург, не оборачиваясь. — Нет… — начала было она, но Лещевский перебил: — Тогда, может быть, бабушка? — Понимаете… — Так кто же тогда? Тетя? — Нет, Адам Григорьевич, дядя, — сказала она серьезным тоном, в котором можно было уловить: «Да, я понимаю, вы можете разговаривать со мной как с маленькой, но дело слишком важное, чтобы я обращала внимание на такие пустяки, как ваш тон». Хирург покосился на девушку. Она поспешно спрятала волосы под косынку и улыбнулась. — Ну так что же произошло с вашим дядей? — спросил он, внимательно рассматривая свои ладони. — Вывихнул руку? — Ногу, доктор, понимаете, ногу. — Посетительницапроизнесла это негромко, но твердо. Лещевский подошел к ней, стряхивая на ходу воду с пальцев, и спросил почти грубо: — Ну и что? Что я могу сделать? — Ну а как же? — растерянно проговорила девушка. — Кто же другой может помочь? Врач быстро опустил глаза и отвернулся. Он стащил с плеч халат и, повесив его на вешалку, подошел к открытому окну. В сквере перед больницей не было ни души. Истомленные за день солнцем чахлые липы бросали на желтую, выгоревшую траву жиденькую тень. В кирпичном заборе, отгораживающем больницу от улицы, зияла дыра. Мелькали прохожие, чаще всего немецкие солдаты, обутые в пыльные сапоги. Незнакомка подошла к хирургу. — Доктор, у него что-то с ногой… не знаю что… Вся ступня разбита. Вся… Она думала, что врач обернется и станет расспрашивать, но Адам Григорьевич продолжал молча смотреть в окно. Она видела только его затылок, наверное, давно не стриженный, темные волосы густо переплелись и спускались за воротник по желобку на шее мягкой косичкой. И почудилось ей в этом затылке что-то неуловимое, детское и, пожалуй, беззащитное, как у маленького веснушчатого Витьки, двоюродного брата, приезжавшего на лето в гости из Минска. И было удивительно, что этот беззащитный затылок принадлежит такому высокому широкоплечему мужчине с огромными, тяжелыми руками. — Как вас зовут? — спросил он, внезапно обернувшись. — Аня. — Так вот, Аня. Я не могу… Нет лекарств, ничего нет. Да и какой смысл? Умирают тысячи… — Но, Адам Григорьевич?.. — Она хотела сказать, что врач не может, не имеет права говорить так, что какой же он доктор, если отказывается помочь раненому. — Извините, Аня, мне надо идти. Не глядя на ошеломленную девушку, Лещевский вышел из комнаты. В растерянности постояв посреди операционной, Аня бросилась на улицу. — Шкура, сволочь! — бормотала она, чувствуя, что вот-вот заплачет. Трус несчастный, шкура!.. Девушка хотела было вспомнить еще какое-нибудь ругательство, но ничего не приходило в голову. Пробежав несколько кварталов, она остановилась, чувствуя, что не имеет права вернуться домой без врача. «Что я отвечу? Что? Нет-нет, надо что-то придумать. Не могу я рассказать ему это», думала она, вспоминая лицо Алексея, страшные почерневшие пальцы на ступне. И голос, когда он определил: «Газовая гангрена». Ей запомнился больше всего голос. И безнадежность. Даже бледное лицо Алексея и страшная, потемневшая нога не пугали ее так, как этот слабый, лишенный жизни шепот. И еще ее преследовала беспомощная улыбка, скорее усмешка. Алексей будто просил прощения, что все так получилось, и старался приободрить свою спасительницу. Добирались они до города с попутной подводой, думала, что расскажет доктору об этом угасающем голосе, о страшной усмешке, и этого будет достаточно, чтобы он согласился помочь, потому что нельзя не пожалеть человека, если он говорит вот таким тоном и так улыбается. Но теперь, вспоминая свои разговор с Лещевским, Аня поняла, что толком не сумела ему ничего объяснить. Соображение это показалось ей убедительным: чем больше она раздумывала над своим поведением, тем больше убеждалась, что в отказе доктора виновата сама. «Надо попытаться еще раз, — решила Аня. — Буду просить, умолять, все растолкую! Не может он не согласиться. Не имеет права отказывать!» Девушка побежала обратно на улицу Рылеева, где была расположена больница. Аня решила стоять у двери и во что бы то ни стало дождаться, когда врач выйдет. Спрятавшись в ближайшее парадное, она не отрываясь глядела на больничные ворота. «Пусть только теперь откажет, пусть попробует! Тогда он узнает, кто он такой. Я исцарапаю его морду, плюну ему в глаза», — твердила она, больше всего опасаясь, что придется выполнить хотя бы одну из своих угроз. Только теперь, когда ушла странная просительница и Лещевский закурил, помимо его воли вспоминался весь разговор с девушкой. Хирург увидел себя и ее как бы со стороны, взглядом другого человека, очень трезвого, спокойного и объективного. И этот другой, посторонний, явно был недоволен поведением Адама Григорьевича, но хирург старался не замечать этого недовольства и, как могло показаться, спокойно курил немецкую сигарету. Сигареты были неважные, очень слабые, с каким-то аптечным привкусом, и врач старался сосредоточиться на этом привкусе и думать о том, как хорошо бы теперь раздобыть хотя бы одну пачку «Казбека», который курил до войны. Потом он заставил себя вспоминать, как, бывало, по утрам, направляясь в больницу, заходил в табачный киоск, что приткнулся на перекрестке Первомайской и Гражданской, неподалеку от гастронома. Он представил себе этот довоенный гастроном. Это беспокоился не сегодняшний Лещевский, затравленный, испуганный, озлобленный, безмерно уставший от сознания своего бессилия и бесправия, а другой — довоенный человек, известный и уважаемый в городе, заведующий хирургическим отделением большой городской больницы, привыкший немедленно откликаться на чужую беду, умевший в экстренных случаях вставать с проворством бывалого солдата даже среди ночи. И этот прежний Лещевский не находил себе места, не мог спокойно стоять, равнодушно покуривая сигарету… «Почему ты решил, что все кончено? — рассуждал он сам с собой. — Почему ты опустил руки? Потому что ты тряпка… Да, тряпка». Лещевский с удивлением обнаружил, что беспокоится об участи этого незнакомого человека. «А почему я волнуюсь? А! Лучше забыть!» — убеждал он себя, спускаясь по лестнице к выходу и понимая, что не забудет. Аня догнала его на углу и, задыхаясь, со слезами заговорила: — Доктор… Я… Губы ее дрожали. Но, прежде чем она успела окончательно расплакаться, хирург быстро спросил: — Что с ним? — Газовая гангрена, — прошептала Аня. — Газовая гангрена?! — Да… — Чего же ты сразу не сказала? Надо немедленно его осмотреть! Слышишь? Идем скорее!4. Этот день наступил
То, что этот день рано или поздно наступит, стало ясно еще тогда, когда город М. оказался в клещах танковой армии Гудериана. Советские войска оборонялись с беззаветным мужеством, но силы были неравны. Становилось ясно, что рано или поздно фашисты войдут в город. И все-таки Борис Крюков, как, наверное, и многие горожане М., надеялся, что какая-то сила предотвратит страшное событие. Но все-таки день этот наступил. Немецкие части растекались по настороженно замершим улицам. Борис стоял у калитки своего дома и, вцепившись в штакетник, слушал, как рычали грузовики, скрежеща гусеницами по булыжной мостовой, грохотали танки. Он видел колыхавшиеся ряды вражеской пехоты и мелькавшие в облаках рыжей пыли каски. Борис пытался рассмотреть высокомерные загорелые лица офицеров, ехавших в открытых машинах, и чувствовал, что ноги его подкашиваются. Крюкову почему-то казалось, что вот сейчас какая-нибудь из машин свернет к дому и люди в фуражках с высокой тульей распахнут калитку и схватят его. И хотя он понимал, что немцы не могут знать, кто он такой и с какой целью оставлен в городе, Борис был не в силах преодолеть в себе тошнотворного сосущего страха. — Смотри-ка, какая силища прет! — послышался голос соседа, тихого, пожилого, неразговорчивого бухгалтера из строительной конторы. — Сила! — с нервным восхищением воскликнул бухгалтер. Прежде Борис никогда не был в приятельских отношениях с этим замкнутым человеком и даже в глубине души его недолюбливал, но сейчас он обрадовался знакомому лицу. — Да, да, — поспешно согласился он. — Вот именно силища! Это вы правильно сказали, Евграф Иванович! — Стройно идут, не то что наши. А техники-то сколько! Впрочем, чего же здесь удивительного: на них вся Европа работает. Н-н-да… Пропала, видать, Россия. Крюков не был согласен с соседом, но, охваченный страхом, поглощенный своими мыслями, не нашел, что ответить, да и не смел возражать, только невнятно пробормотал что-то вроде: «Поживем — увидим». — Чего уж там! Прошляпили большевички матушку Русь! — со злобной убежденностью проговорил бухгалтер. Крюков покосился на соседа: розовое, чисто выбритое, невозмутимое лицо. То, что в такой день бухгалтер не забыл побриться и аккуратно расчесать свои седые редеющие волосы, покоробило Крюкова. «Будто в гости собрался», — подумал он. Хотя Евграф Иванович не проявлял никакого интереса к своему молодому соседу, Борису казалось, что бухгалтер догадывается, зачем он остался в городе. Впрочем, Крюков задержался в городе не по своей воле. Он собрался было эвакуироваться вместе с гаражом, которым заведовал, и уже отправил в Пензу к родственникам жену и ребенка, как вдруг поздно вечером его вызвали в горком партии и провели прямо в кабинет к первому секретарю. Секретарь, усталый, невыспавшийся человек, долго не мог начать разговора с Крюковым, — поминутно на столе содрогался от звонков телефон, и секретарь усталым, осипшим голосом то отдавал короткие распоряжения, то кого-то сердито распекал. Когда между звонками выдалась наконец пауза, он торопливо изложил суть дела: предложил Крюкову остаться в городе для подпольной работы. — Но ведь я же член партии, и все об этом знают, — попытался возразить Крюков. — Ну и что же? — пожал плечами секретарь. — В партию вы вступили каких-нибудь два месяца назад. Кто об этом знает? Ваши товарищи по работе? Но они почти все эвакуировались или на фронте. Вы хоть и недавно в партии, но работали хорошо, человек инициативный, знающий. Мы вам верим! Справитесь! Вами будут руководить… Бориса прошиб пот. Ему хотелось сказать, что он вовсе не подходит для такой работы и попросту боится. Но признаться в этом у него не поворачивался язык. А секретарь продолжал: — В вашей анкете написано, что когда-то вы работали парикмахером. Ведь так? Борис кивнул головой. — Это, понимаете, очень нас устраивает. С завтрашнего же дня оформляйтесь на работу в парикмахерскую, что возле рынка. Там есть свободное место. — А что я должен буду делать потом?.. — Голос Бориса дрогнул. — Будете готовить склад продовольствия и оружие для подпольщиков. К вам придут товарищи. Они сами найдут вас. О местонахождении будущего склада вас поставят в известность, посвятят в подробности операции. — Не знаю, справлюсь ли? — залепетал Борис. — То есть что значит — справлюсь ли? Вы большевик и обязаны выполнять любое поручение партии. Вас никто не неволит, если боитесь, говорите прямо. Борис молчал. Признаться в своих сомнениях перед секретарем он постыдился. А у секретаря мелькнуло смутное чувство тревоги, но документы Крюкова были в порядке, характеристика прекрасная, а проверять все времени уже не было. Опять затрещал телефон, голос в трубке заговорил тревожно и взволнованно. Надо было немедленно выезжать в пригородное село, где формировался большой подпольный отряд. Борис не спал после этого разговора несколько ночей, а затем успокоился. «Кто знает, — рассуждал он, — может, немцы продержатся в городе недолго, зато после мне все это зачтется». Теперь же, стоя у забора и глядя на улицу, по которой ехали вражеские грузовики, Борис с особой остротой чувствовал полную безысходность своего положения.5. Пассажиры черного «Вандерера»
Хотя Лотар Штроп прибыл в Минск из Польши, а штурмбаннфюрер Курт Венцель — из Парижа, конечным пунктом их путешествия оказался один и тот же русский город, куда они оба получили назначение. Это обстоятельство выяснилось на вечеринке у коменданта Минска, и офицеры договорились ехать вместе в одной машине. Венцелю предстояло занять пост начальника полиции, а Штропу — главного следователя гестапо. Черный «вандерер» с открытым верхом мчал их по шоссе. Мимо проносились городишки и села со следами разрушений, бескрайние поля ржи стеной вставали у дороги леса. Штроп — прямой, сухопарый, горбоносый, с худым желтоватым лицом — он страдал болезнью печени, — щурясь от солнца, с интересом разглядывал страну, в которой ему предстояло навести такой же твердый порядок, как в Польше, где Штроп показал себя с самой лучшей стороны: весьма расторопным и активным при расправах с местным населением. Там он был повышен и в звании и в должности. Сейчас Штроп вспоминал о своей работе в Польше. — Вы представляете, Венцель, — говорил он. — В Варшаве мои ребята загоняли в гетто по нескольку тысяч этого сброда. Зрелище, скажу я вам, библейское. Для полного сходства с переселением в обетованную землю не хватало только пророка Моисея. Впрочем, — ухмыльнулся он уголком тонких губ, — был и Моисей, даже не один. Целый взвод Моисеев с автоматами. Венцель рассмеялся. — Здесь, в России, требуется как можно больше людей с вашим опытом, сказал он, желая расположить к себе заслуженного гестаповца. — Ничего, опыт приходит с практикой. Венцель с трудом заставлял себя поддерживать разговор. Ему смертельно хотелось спать. Вчера на вечеринке он явно выпил лишнего, и сейчас у него ломило в висках, к горлу время от времени подкатывалась тошнота. Венцель завидовал Штропу: тот сидел гладко выбритый, свежий и был в превосходном настроении. На вечеринке не прикасался даже к сухому вину, сославшись на печень. Венцель не любил непьющих, считал их людьми скрытными и расчетливыми. Не верил он и в больную печень Штропа. «Скорее всего подражает аскетизму фюрера, да и за нами шпионит», — думал Венцель и все-таки теперь жалел, что вчера перебрал. Не в очень-то выгодном свете предстал, наверное, перед своим сослуживцем. А ему так хотелось завоевать расположение Штропа: в Минске Венцелю говорили, что в гестапо у этого человека блестящая репутация и солидные связи. Венцеля не очень радовало новое назначение, хотя в Россию его и направили с повышением. То ли дело Париж! Это было золотое время. Из Франции Венцель вывез приятные воспоминания и несколько ящиков отличного вина «Дюбоне». Венцель не принадлежал к числу тех, кто без конца философствовал о будущем Германии, о прозорливости Гитлера и о походе на Восток, хотя не меньше других был предан и фюреру, и его идеям. Курт знал твердо лишь одно: претворение этих идей в жизнь принесет ему возможность бывать в разных странах, коллекционировать дорогие вина, развлекаться с красивыми женщинами. Венцель любил музыку и в детстве даже учился играть на рояле. Правда, хороших вин в этой части России, как он слыхал, маловато, но зато женщины… Впрочем, где нет хорошеньких женщин! Он утешал себя также тем, что пополнит коллекцию пластинок русскими песнями. И все-таки Венцель не испытывал ни волнения при виде новых мест, ни интереса к ним. На середине пути его так разморило от жары, что он задремал. Проснулся Венцель от того, что скрипнули тормоза «вандерера». — Что? Что такое, а? — спросил он сонно, сдвигая к затылку сползшую фуражку. — Кажется, пробка, — ответил Штроп. — А, черт! — пробормотал, зевая, Венцель. — Доберемся мы когда-нибудь до этого проклятого города? Впереди возвышались пыльные борта грузовиков. — Надоело сидеть! Пойду посмотрю, что там случилось, — сказал Штроп, берясь за ручку дверцы. Разминая замлевшие ноги, Венцель поплелся за Штропом. Небольшая группа солдат-шоферов устроилась в тени машины. Слышался смех, звуки губной гармошки, звяканье котелков. При появлении Штропа и Венцеля смех оборвался. Солдаты вскочили на ноги, приветствуя офицеров. Лица их одеревенели. Причина пробки стала им ясна сразу, как только Штроп и Венцель дошли до головы колонны. Они увидели, что дорога обрывалась у оврага, по дну которого протекала речушка. Мост через овраг был взорван. Какая-то саперная часть спешно его восстанавливала. Стучали топоры, визжали пилы. Опоры из свежих сосновых бревен уже возвышались над водой. Объездную проселочную дорогу, изучив карту, предложил Венцель, когда, отъехав с полсотни километров от Минска, их машины попали в густой поток войск и обозов на основной магистрали. Этим путем штурмбаннфюрер рассчитывал добраться быстрей. — Может быть, вернемся назад? — предложил Венцель. — На шоссе. Тут, видно, работы на полдня. Но Штроп не обратил на слова своего спутника никакого внимания. — Кто тут старший по чину? — крикнул он. К нему тут же подбежали несколько офицеров, и среди них — загорелый майор саперной службы. На пыльном кителе под мышками расплылись темные пятна пота. — Когда рассчитываете закончить мост? — спросил Штроп. — Полагаю, часа через три, — торопливо оправляя китель, ответил майор. — А раньше? — Совершенно невозможно. Мало людей. Я уже радировал командованию просил помощи. Несколько мгновений Штроп с холодным интересом рассматривал лицо майора. — Людей, говорите? Сколько же вам надо человек? — Ну… — замялся сапер. — Сорок или пятьдесят. Штроп обернулся к вытянувшимся перед ним офицерам, и взгляд его остановился на обер-лейтенанте, стоявшем тут же. Кивнув головой в сторону видневшегося невдалеке села, Штроп приказал: — Слушайте меня, обер-лейтенант. Соберите своих солдат и отправляйтесь в это село. Вытряхните из домов всех, кто способен держаться на ногах, и гоните сюда. Вскоре солдаты привели к мосту группу местных жителей — женщин, стариков. Они испуганно жались друг к другу. Крестьян заставили таскать сырые сосновые бревна для настила. Денщики, ехавшие в другой машине, расстелили для Штропа и Венцеля брезент под кустом. Те, удобно расположившись, наблюдали за работой. Шофер «вандерера» принес бутылку вина и закуску, расставил на скатерти дорожную посуду. — Этот майор — болван, — говорил Штроп, поднося ко рту бутерброд с ветчиной. — Жалуется на недостаток рабочей силы, когда она у него под боком. Впрочем, таких типов я встречал не раз. Их главная беда в том, что они еще не почувствовали себя хозяевами на завоеванных землях. Ведут себя как гости. А мы здесь хозяева, штурмбаннфюрер. — И, описав вокруг себя рукой полукруг, добавил торжественно: — И это все наше, на вечные времена. Настроение у Штропа по-прежнему было отличное: он на этот раз даже позволил себе выпить глоток вина. Часа через полтора мост был готов. Черный «вандерер» пропустили на ту сторону реки первым.6. Где-то скрывается генерал
К приезду Штропа и Венцеля комендант города майор Патценгауэр позаботился о помещении для полиции и гестапо. Это был двухэтажный особняк, отгороженный от улицы палисадником с зарослями сирени и акаций. Венцель и Штроп осматривали помещение, пока солдаты из строительного батальона расставляли мебель. Штроп остался доволен своим кабинетом. Это была продолговатая большая комната с лепным потолком и дорогой люстрой, которая вызвала живейший интерес и у Венцеля. Кабинет Венцеля был обставлен менее роскошно — и стол поменьше, и люстра поскромнее. Это не очень существенное обстоятельство все же укололо самолюбие начальника полиции. — Обратите внимание: подвески из чистого хрусталя, а украшение на ободе — настоящее барокко. Штроп усмехнулся краешком тонкого рта. — Эта люстра теперь собственность германского государства, и вы, Венцель, напрасно бросаете на нее жадные взгляды аукционера. …Через несколько дней секретная служба донесла о том, что где-то в окрестностях города или в самом городе скрывается раненый командир русской пехотной дивизии — генерал. Этот факт очень заинтересовал и Венцеля. Он немедленно вместе с доложившим ему о скрывающемся русском командире сотрудником пошел в кабинет Штропа. — Генерал? — переспросил Штроп. — Да, генерал-майор, — ответил Венцель. — Его фамилия Попов. Все несколько мгновений молчали. Первым заговорил главный следователь: — Нужно произвести немедленную перерегистрацию жителей. — Она уже давно началась независимо от этого, — сказал Венцель. — Вам известны приметы этого генерала? — осведомился Штроп у полицейского. — Весьма приблизительно. Возраст около сорока, волосы русые, глаза светлые, рост выше среднего. — Так, — Штроп задумался. — Немедленно прочешите весь город и ближайшие деревни. А также проверьте раненых, что лежат в больницах. Надо направить в больницы свою агентуру. Желательно из числа проверенных пленных или медицинского персонала. Если этот генерал прячется в городе, то наверняка по подложным документам. Вам, Венцель, придется взять на себя хлопоты по агентуре. Эта мера поможет нам выявить не только одного генерала Попова, но и еще кого-нибудь. Когда начальник полиции и главный следователь остались одни, Штроп сказал: — А недурно бы утереть нос молодчикам из абвера. Покажем им, как надо работать. — Я думаю, что с вашим опытом… — начал было Венцель, но Штроп оборвал его: — Пора приступать к делу. В тот же день, изучая личные дела персонала Субботинской больницы, Венцель натолкнулся на фамилию медицинской сестры Маргариты Ивашевой. Из документов этой сестры явствовало, что ее мать из бывших дворян и в настоящее время нигде не работает. Венцель попросил своих сотрудников под каким-нибудь благовидным предлогом побывать на квартире Ивашевых. Когда ему доложили, что молодая Ивашева очень недурна собой, он переоделся в штатское платье и отправился на Большую Гражданскую, где жила Маргарита вместе с матерью Софьей Львовной. На лестничной площадке, напротив двери с № 27, Венцель постоял прислушиваясь. Из квартиры доносились звуки рояля. Играли вальс Шопена.7. Палата № 3
Алексея перевезли в Субботинскую больницу ночью. Подводу Аниному отцу, заметно обрадованному отъездом опасного постояльца, дали соседи — хитрый мужик сказал, что везет в город картофель на продажу. Лещевский понимал опасность того, что он на свой страх и риск берет в больницу неизвестного человека, раненного при несомненно таинственных обстоятельствах. Но иного выхода не было. Без операции, произведенной в больничных условиях, Алексей бы не выжил. Полдюжины темно-красных кирпичных корпусов выстроилось тремя шеренгами среди старинного парка, отгороженного от улицы высоким забором. Больница почти не пострадала во время артиллерийского обстрела и бомбежек, лишь в небольшой двухэтажный флигель, недавно построенный и стоявший на отшибе, угодил снаряд. Он пробил крышу и разорвался прямо в операционной, которую пришлось перенести в другое здание. Больница была переполнена. Койки в палатах стояли впритык. Некоторые больные и раненые лежали на полу, в коридорах, на лестничных площадках. В тесной перевязочной Лещевский с помощью единственного хирурга, из-за престарелого возраста не мобилизованного в армию, оперировал. Когда очередь дошла до Алексея, Адам Григорьевич, усталый, с блестевшим от пота лицом, предупредил, что будет вынимать осколки без наркоза. Спасти ступню, возможно, и удастся, но, видимо, несколько пальцев придется ампутировать. Через час Алексея унесли из перевязочной без сознания. Когда он пришел в себя, то не мог определить, сколько времени прошло после операции. Час? Два? Может быть, день?.. Хлопали двери, кто-то стонал, кто-то кричал, но все это было где-то очень далеко, словно за стеной. В голове мутилось, и Алексей никак не мог понять, что происходит. И только позже от сестер узнал, что пролежал в забытьи трое суток. Вскоре в больницу пришла Аня. Санитарки пропустили ее к Алексею. Старенькое пальтишко на ней промокло от дождя, стоптанные ботинки, видимо, уже давно плохо выдерживали единоборство с лужами, но девушка, как всегда, не унывала. Раненые зашевелились, заулыбались. Аня весело поздоровалась с ними, как со старыми добрыми знакомыми, и, усевшись у кровати Алексея, начала вытаскивать из хозяйственной сумки свертки. В них были картофельные оладьи, кусок свиного сала, банка с солеными огурцами. Алексей принял гостинцы с тягостным чувством вины перед Аней и перед ее матерью. Он знал, что им приходится самим несладко. Но Алексей знал и другое: не будь этих передач, ему не подняться с больничной койки… Шли дни, и в палатах становилось просторней. Почти каждый день кто-нибудь из раненых отправлялся на носилках в свой последний путь. Умирали от голода. Умирали от ран. Смерть появлялась и в образе гестаповцев — они уносили «пациента» на допрос, после которого тот обычно уже не возвращался. Выздоравливал Алексей медленно, хотя Лещевский делал все возможное, чтобы выходить своего молчаливого пациента. Сказывались потеря крови, недоедание, но молодость брала свое. Алексей часто возвращался мыслью к прошлому. Свободного для размышлений времени было хоть отбавляй. …Группа «Ураган» покинула Москву ранним июльским утром. Старенькая полуторка, прогрохотав по пустынным, спящим улицам столицы, выехала на Минское шоссе. Машину вел сам Алексей Столяров (по легенде Алексей Попов). Их было семеро. Все опытные чекисты, за исключением радиста Ивана Балашова, двадцатилетнего комсомольца, студента института связи. В кузове под брезентом спрятаны рация, взрывчатка, запасы продовольствия. Алексей гнал машину по шоссе. Времени оставалось мало. Гитлеровцы уже подходили к городу. Нужно еще было успеть подыскать удобные надежные квартиры, отметить командировки, словом, сделать то, что на языке разведчиков называется «легализоваться». По документам Алексей Попов шофер Наркомата лесного хозяйства — находился в командировке с начала войны и не успел эвакуироваться. Другой документ, зашитый за подкладкой пиджака, отпечатан на квадрате тонкого шелка. В нем говорилось, что Алексеи Столяров — командир разведывательно-диверсионной группы направляется со специальным заданием в тыл врага. Вначале грузовик проворно глотал километры, но затем шоссе запрудили потоки военных частей, толпы беженцев. Посоветовавшись с товарищами, Алексей повел машину в обход — по более свободным проселочным дорогам. Положение на фронте менялось с такой же быстротой, как и ландшафт за окном полуторки. Когда грузовик с чекистами отделяло от конечного пункта назначения каких-нибудь полсотни километров, они узнали, что вражеские танковые части взяли город в кольцо. Все пути оказались перерезанными. Алексей и его друзья остановились в районном центре, который только что подвергся налету «юнкерсов». Дым пожарищ стлался по земле вдоль улиц. Связались по рации с Москвой. Оттуда поступил приказ: любыми средствами прорваться в город. Решили ночью перейти линию фронта. Грузовик пришлось бросить. Рацию и взрывчатку, оружие понесли на себе. На рассвете, когда они переходили дорогу в лесу, внезапно появились немецкие мотоциклы и танки. Алексей услышал треск моторов, выстрелы. Первым упал заместитель Алексея Григорий Козлов. Алексей скатился в овраг и тут же увидел, как совсем близко от него взметнулся фонтан земли. …Когда он очнулся, в лесу было тихо. Левая ступня при малейшем движении нестерпимо болела. Из разодранного ботинка сочилась кровь. Алексей как мог перевязал ногу и выполз из оврага. В сосняке он нашел тела трех своих товарищей. Что сталось с остальными? Удалось ли им спастись? Алексей так никогда и не узнал об их участи. Он зарыл документы убитых в землю и пополз… Как-то во время обхода, осматривая ступню Алексея, Лещевский шепнул: — Тут раненых немцы задумали стричь наголо. А вы не давайтесь… Вы ведь не военнопленный, штатский. Предъявите удостоверение, то, что мне показывали. Сочтут военнопленным — отправят в лагерь. А вы лицо гражданское. — И уже громко, на всю палату произнес: — Ну что ж, кажется, обойдется без рецидива, — и пошел к другой койке. Алексей посмотрел на его широкую спину, покусывая губы. Прячась в лесу, он в отчаянии думал, что остался один, без помощи, среди врагов. Но у него оказались друзья, не сломленные страхом перед оккупантами. И вот один из них. Внешне суровый, необщительный, молчаливый. Он уже спас Алексею жизнь и — кто знает — может оказаться полезным не только как врач… Соседом Алексея по койке был курносый сержант с простецким, добродушным лицом. Нога у него была перевязана, и передвигался он на костылях. Сержант словоохотлив до навязчивости. Алексей уже знал, что до войны его сосед работал продавцом в сельпо под Краснодаром, в армию его взяли за неделю до женитьбы и он собирается податься к своим. — Только вот надо найти здесь надежных людей. Потом сержант долго выпытывал у Алексея: кто он, как сюда попал, кем работал до войны. И, узнав, что шофером, поинтересовался, на каких машинах Алексей ездил, где приходилось бывать. Эта назойливость не нравилась Алексею, и он старался держаться с сержантом как можно суше. Внимание Алексея привлек другой раненый, все тело которого было забинтовано. Темноволосый человек с мертвенно-бледным лицом и впалыми щеками лежал замкнутый, отрешенный, задрав кверху острый раздвоенный щетинистый подбородок. Он часто и надсадно кашлял и, морщась от отвращения, подносил к губам кусочек старого бинта, куда сплевывал кровь. К вечеру у раненого поднималась температура, он впадал в забытье, метался в бреду и что-то невнятно бормотал. От сильного жара мертвенная бледность сменялась красноватым оттенком меди. Когда сознание возвращалось к нему, раненый лежал молча, уставив в одну точку печальный взгляд больших серых глаз. Это, пожалуй, был самый молчаливый обитатель палаты. К Алексею подошла Рита — медицинская сестра, сопровождавшая Лещевского, высокая, стройная девица лет двадцати четырех, довольно миловидная, приветливая. Рита улыбнулась. — Как себя чувствуете? — спросила она низким, грудным голосом. — Спасибо, лучше. К Алексею Рита была особенно внимательна: во время дежурства по нескольку раз в день подходила к его койке. Другие раненые не отрывали от красотки сестры глаз и неуклюже пытались обратить на себя ее внимание. — Ну, Попов, и везет же тебе: бабы к тебе так и липнут. То одна, то другая, — шутливо сказал сержант, когда Рита отошла, заботливо поправив одеяло Алексею. — Сестричка, поправь и у меня одеяло, — попросил кто-то. Сержант захохотал. Рита слегка порозовела, небрежно усмехнулась, как бы говоря: «Не обращайте на них внимания. Что с ними поделаешь?» Алексей смотрел вслед уходящей девушке. В ней было что-то очень привлекательное: густые пряди каштановых волос, большие, всегда тревожно расширенные глаза с влажным блеском. Через несколько минут Рита снова пришла в палату. Она протянула Алексею сверток в промасленной бумаге. — Это вам от мамы. Алексей развернул обертку и обнаружил несколько пирожков. Алексей смутился, невнятно пробормотав благодарность, и положил сверток на тумбочку. Он давно недоумевал — почему изящная, красивая Рита выделяла его среди других. Почему? Сам он испытывал неловкость от этих знаков внимания. Неужели он, больной, измученный, может еще нравиться женщинам? Отношения с Аней были гораздо проще — совсем еще юная, полуребенок, простая и непосредственная, она была хорошим товарищем. — Мама пекла эти пирожки специально для вас, — между тем щебетала Рита. — Она у меня очень добрая… Глаза Риты вдруг подернулись сонной поволокой. Она неожиданно зевнула, изящно прикрыв рот пальчиками. — Не выспались? — опросил Алексей. — Да, вчера пришла поздно, — улыбнувшись, ответила Рита. — Поздно? Не боитесь немецких патрулей? Рита опустила ресницы. — Ну… пробиралась дворами. Конечно, это опасно, но что же делать? — вздохнула она. — Такое время. В поведении Риты Алексей уловил что-то наигранное. Почему она бродит ночью? Возможно, у нее есть пропуск? И вдруг у него возникло подозрение, что кокетка крутится около него неспроста. Может быть, ей поручили что-нибудь у него выведать? Но почему тогда они подослали эту явно неискушенную в таких делах девицу, а не опытного агента? А впрочем, он просто болезненно-мнителен. Алексей спросил: — А мама, наверное, волнуется, когда вы задерживаетесь? Он посмотрел ей прямо в глаза. Рита, слегка смутившись, поспешно отвела взгляд, но тут же справилась с собой. Действительно. Ведь каждую ночь она проводит с Куртом Венцелем и его приятелями: то в офицерском казино, то у нее дома. — Ну, конечно, мама волнуется. — Рита вспомнила укоры матери, не одобрявшей легкомысленных знакомств дочки, и поспешно добавила: — Просто места себе не находит. Она такая больная и неприспособленная. А где ваша семья? — В Москве. — Наверное, они считают, что вы погибли. Да, все это ужасно, просто ужасно. — Рита вздохнула. — Представляю, как ваши домашние ждут от вас вестей и вздрагивают от каждого стука в дверь. Алексей удивленно посмотрел на девушку: зачем ей нужно его разжалобить? Недоверие к девушке, которая явно хотела понравиться, все возрастало. А Рита была разочарована. По тому неизменному упорству, с которым Попов обычно отмалчивался или отделывался шуткой, Рита понимала: этот человек не так прост. Пирожки, рассчитанные на то, чтобы расположить к себе раненого, за которым просил присматривать Курт, явно не помогли. — Ну, выздоравливайте, — голос ее потерял прежнюю ласковость, — мне еще надо навестить других больных… — Она быстро прошла по узкому проходу к двери. Сержант вздохнул ей вслед. — Эх, хороша… — И, повернувшись к Алексею, сказал: — Я бы на твоем месте был с ней полюбезней. — И, заметив улыбку соседа, добавил: — А что? Вот выйдешь отсюда — и прямо к ней. Мужчины нынче в цене. Будет рада-радехонька. Так что, браток, не теряйся. Алексей поморщился. Не ко времени эти непристойные шуточки, да и уж очень-то развязен рыжий навязчивый сержант!8. Допрос
В дверях палаты появился приземистый немец-ефрейтор и выкрикнул: — По-по-фф! Выходи! За Алексеем пришли впервые. Он поднялся, нащупал рукой костыли, но когда, оттолкнувшись одной ногой от пола, выпрямился, перед глазами поплыли оранжевые круги. Нога подкашивалась. Он подался вперед, вцепившись рукой в спинку кровати. — Быстро! Скорее! — подстегнул раздраженный голос. Алексей шагнул. Пол то вставал на дыбы, то проваливался. «Только бы не упасть, только бы не упасть!» — билось в мозгу. Это был, собственно, второй «выход в свет», — так шутливо Алексей называл свою попытку передвигаться на костылях. Глядя прямо перед собой, он несколько раз глубоко вздохнул и, упираясь взмокшими, судорожно сжатыми ладонями в перемычки костылей, медленно заковылял к выходу. Сопровождаемый ефрейтором, он с трудом добрался до двери. Рубашка прилипала к спине. Стекавший со лба пот щипал глаза. После мучительного перехода по длинным коридорам больницы Алексея втолкнули в крытую машину. Автомобиль остановился у двухэтажного особняка. Солдаты провели Алексея на второй этаж. Алексей очутился в большой продолговатой комнате. Почему-то внимание его привлекли лепные потолки и роскошная старинная люстра. За столом сидел немецкий офицер в черном мундире, справа от него какой-то субъект с редкими волосами, сквозь которые просвечивала плешь. Когда Алексей вошел в комнату, офицер даже не поднял глаз, продолжая просматривать какие-то бумаги на столе. Попов опустился на стул, на который ему молча, кивком головы, указал лысоватый переводчик, и, положив костыли на колени, принялся украдкой рассматривать офицера. Белесые, аккуратно зачесанные назад волосы, тонкий нос с горбинкой, постепенно расширявшийся к подрагивающим хищным ноздрям. От них ко рту резко прочерчены две складки, придающие тонкогубому рту выражение брезгливости. По-прежнему не глядя на вошедшего, Штроп, а это был он, равнодушно осведомился через переводчика насчет фамилии, имени, места жительства, рода занятий. Алексей свободно говорил по-немецки. В середине тридцатых годов он несколько лет работал в советском посольстве в Берлине. В другое время знание языка ему пригодилось бы. Но сейчас он не мог показать, что понимает следователя. Стоило на минуту забыть о переводчике, поторопиться — и загубишь все. Простой шофер, знающий немецкий, — это подозрительно… Поэтому Алексей старался смотреть все время на штатского и отводил взгляд от офицера. — Шофер? — переспросил офицер. Штатский быстро перевел. — Да, шофер, — ответил Алексей. — Документы? Алексей протянул офицеру командировочное удостоверение. Тот долго изучал его и вдруг, вскочив, почти закричал: — Руки! Руки! Алексей с недоумением посмотрел на него. Штатский угодливо перевел приказ Штропа. Обойдя стол, гестаповец подошел вплотную к Попову и, дернув его за правую кисть, брезгливо поднес ее почти к самому своему носу. Сцена напоминала гаданье но линиям ладони. Перед отъездом из Москвы чекист Столяров каждый день упражнялся в вождении машины. Темные, с въевшимися в поры частицами масла, его руки тогда действительно напоминали шоферские. Но с тех пор прошло три недели, масло отмылось, кожа стала мягкой и белой. Штроп вернулся на место. — Ну что ж, — иронически сказал он, — теперь я вам верю. Вы действительно водили машину. Служебную, конечно. В те дни, когда болел ваш личный шофер. — Алексей внимательно выслушал перевод и сделал вид, что не уловил насмешки гестаповца. Брезгливо сморщившись, Штроп за самый уголок взял смятое, потертое на сгибах командировочное удостоверение Алексея и швырнул его через стол на пол. С трудом нагнувшись, Алексей поднял удостоверение и бережно спрятал в карман. Наступила тяжелая пауза. Гестаповец вынул серебряный портсигар, закурил, не сводя с Алексея пристального взгляда. Хотя Штроп постарался выразить на лице удовлетворение, в глубине души он вовсе не был уверен, что документы Попова поддельные. Он не мог утверждать также, что перед ним не шофер-профессионал. Ведь в конце концов руки, давно не державшие руль машины, могут со временем стать белыми, без мозолей. И хотя Попов ничем не обнаружил растерянности и волнения, фашист был уверен сейчас твердо: он внес смятение в душу противника, сорвал и отшвырнул в сторону защитную броню версии. Теперь, не теряя времени, надо стремительно ринуться на беззащитного противника, и тот запросит пощады. Вопросы главного следователя посыпались один за другим. Переводчик едва успевал за ним. — Итак, вы ехали из Москвы… Покажите, каким маршрутом? — Через Струково, Калмыково, Бариново. — Вы говорите, Бариново… Расскажите подробней, как выглядит этот населенный пункт? Гитлеровец пристально смотрел на Алексея. В глазах — внимание. Штроп следил за малейшими оттенками выражения лица русского. Но уж очень он спокоен! Еще бы! Алексеи понимал: от каждого сказанного им слова зависит его жизнь. Стоит ему запнуться на какой-нибудь мелочи, спутать подробности, и тогда подозрение гестаповца вырастет в уверенность. — На центральной площади церковь, а рядом двухэтажный белый дом… Офицер усмехнулся: — У вас хорошая память. А в Смоленске вы останавливались? Теперь Алексей оценил мудрую предусмотрительность Фатеева, готовившего группу Столярова к заданию. В паспорте, где он значился Поповым Алексеем Петровичем, стоял штамп прописки в Смоленской гостинице. Фатеев послал сотрудника, который договорился, чтобы в книгу приезжающих была внесена запись, будто бы шофер Попов проживал в номере двадцать семь. Сотрудник подробно осмотрел комнату, и Фатеев заставил Алексея с его слов перед самым отъездом выучить наизусть описание этого номера. Тогда это показалось Алексею ненужным педантизмом, и он сердито буркнул: «Ну, Петр Федорович, это уж слишком…» Но вот, оказывается, и описание номера пригодилось. Штроп между тем продолжал: — В какой гостинице останавливались? А вы не помните номер, в котором жили? Назовите какие-нибудь его приметы… Алексей уверенно ответил: — Кровать у окна, раковина слева у входа, стол письменный под зеленым сукном. — Он старательно морщил лоб, делая вид, что припоминает все с трудом. Штроп откинулся на спинку стула. Возможно, этот человек говорил правду. Похоже, он действительно шофер, а не генерал Попов, о котором несколько дней назад донесла секретная служба. …Допросы длились три недели. Алексея вызывали почти каждый день. Иногда дважды — утром и вечером. Но чаще всего по вечерам. Допрашивал не один Штроп, следователи менялись. Однажды Алексею даже устроили экзамен. Его посадили в старенькую полуторку, неизвестно как очутившуюся во дворе больницы, и заставили проехать несколько раз по близлежащим улицам. Алексей уверенно взял с места. Сидевший рядом с ним немец, по-видимому шофер, внимательно наблюдал, как русский управляет грузовиком. Алексей даже взмок от напряжения — очень мешала рана на ноге. Когда он остановил машину напротив стоявшей па углу «комиссии» — молодого следователя, переводчика и двух солдат, — ему показалось, что он заметил на их лицах разочарование. Алексея заставляли помногу раз отвечать на одни и те же вопросы. Старый, известный прием! Потом стоит сличить протоколы, и если арестованный что-то спутает, то его таким образом легко уличить во лжи. Сразу всплывают неувязки и просчеты. Тот, кто ведет допрос, вооружается ими и загоняет противника в угол. И тогда запирательство бесполезно. Лучше всего признаться. Но Алексей твердо повторял намертво заученные детали версии. Спасибо Фатееву, не давал ему передышки: «Ты должен забыть, кто ты. Вживайся в новую роль. Посмотри, как ходят шоферы. У них своя, отличная от других, походка. Чаще води машину…» Это была тщательная репетиция, как перед выходом на сцену. Теперь Алексей, кажется, хорошо играл свою роль. Но и в слишком тщательной игре есть своя опасность. Об этом его тоже предупреждал Фатеев: «Знаешь, чем отличаются поддельные подписи на документах от настоящих? Они слишком скрупулезно воспроизводят оригинал. Между тем человек никогда дважды в точности не повторяет свою подпись». Алексей чувствовал, что не дал своему противнику ни одного козыря. Но почему тогда его не оставят в покое? После каждого допроса он лежал опустошенный, не в силах пошевелиться. Но мозг работал до «изнурения. Чекист пытался разгадать замысел своего врага. В больнице Алексей заставлял себя думать о другом. Нервам нужна была передышка. …И вот он снова вкабинете главного следователя. Сегодня на допросе присутствует начальник полиции Курт Венцель, которого Алексей видел уже не первый раз… Знакомые вопросы ставятся один за другим. Снова пристальный, щупающий взгляд Штропа. Снова мокрые ладони и жутковатое ощущение, что идешь по тонкому канату на огромной высоте. Одно неосторожное движение — и… В тонких, покрытых светлым пушком пальцах штурмбаннфюрера дымилась сигарета. Он откинулся на спинку стула. Интеллигентное лицо безразлично, только нервно вздрагивают ноздри. Светлые, гладко зачесанные назад волосы, чисто выбритые щеки, маникюр. Штроп вполголоса беседует с сидящим рядом Куртом, пока другой следователь ведет допрос. Алексей опустил голову. Он должен был внимательно слушать переводчика, но ухо невольно ловило разговор начальника полиции и Штропа. Сначала они болтали о пустяках: о вчерашней вечеринке в клубе, о каких-то общих знакомых, о письме, полученном молодым офицером из дому. Краем глаза Алексей видел, как пальцы начальника полиции ткнули в пепельницу сигарету, послышался грохот отодвигаемого стула, затем длинный зевок и наконец: — Знаете, Штроп, мне надоел этот русский тип… — Признаться, мне тоже… — Что будем делать? — Не знаю. Я бы избавился от него. — Расстрелять? — Зачем так банально? Есть и другие способы… Например, что-нибудь… подсыпать в тарелку с супом. А? Как вам нравится? Гитлеровцы захохотали. Алексей похолодел. Первым его желанием было поднять голову и посмотреть на противников. Но он не шелохнулся. Сдержался, осененный внезапной догадкой: это проверка, проверка знания языка. И весь только что услышанный диалог с зевком и с небрежным тоном спланирован заранее. Всем своим существом Алексей чувствовал на себе пристальные взгляды обоих фашистов, жадные, ищущие, напряженные, как бы приказывающие ему взгляды: „Ну вздрогни, пошевелись, подними голову! Ну что же ты!“ „Нет, господа следователи, не выйдет! Старый, изношенный приемчик! Я не подниму головы, краем уха не поведу. Буду рассматривать руки, а вы можете сколько угодно гипнотизировать меня“. В кабинете стало тихо. На ком-то скрипнули ремни. Видно, потянулся. Алексей поднял наконец голову. Главный следователь рассматривал на столе какие-то бумаги, затем нажал кнопку звонка и сказал вошедшему солдату: — Уведите. — Ну, каков? — спросил Венцель. — А может быть, агенты ошиблись. И нет здесь генерала Попова, или он давно уже отправился к праотцам. — Не исключено, что староста, который первый сообщил, что среди раненых есть русский генерал-майор, спутал фамилии. Штроп раздраженно махнул рукой. — Да, эти проклятые русские, польские имена. И не выговоришь и не запомнишь. …На следующий день хромой военнопленный принес в час обеда бак с похлебкой. Он разлил жиденький суп с крохотными прядями разваренной трески. Алексей заметил, что в его миску он налил из особой кастрюли. Достав из тумбочки алюминиевую ложку и нагнувшись над миской, Алексей встретился взглядом с сержантом. Тот весело двигал челюстью. Алексей неторопливо протер ложку краем полотенца. „Старый, потрепанный приемчик. Дешевый приемчик, господа следователи! Не вам, собаки, провести чекиста!“ — говорил себе Алексей. Тем не менее у него не было желания прикасаться к миске с супом. Он понимал, что пока еще нужен врагам живой больше, чем мертвый, иначе зачем они стали бы с ним так долго возиться. Но, может быть, он им уже не нужен, и тогда… Алексей заметил, что сержант пристально наблюдает за ним. Однако, натолкнувшись на взгляд Алексея, поспешно, слишком поспешно опустил глаза. „Неужели эта курносая сволочь приставлена, чтобы вынюхивать неблагонадежных? Недаром он сразу был мне так противен!“ Обитатели палаты, переговариваясь, гремели ложками. В окна пыльным столбом било солнце. А что, если действительно фашисты решили избавиться от него? Алексей посмотрел на дымящийся суп. Обычная водица с треской. Но раздумывать некогда. Некогда раздумывать… Алексей зачерпнул ложку супа и медленно поднес ее ко рту. …Хотя Алексей убеждал себя, что вся эта история с отравлением всего-навсего проверка, он не мог подавить в себе беспокойства. Целые сутки напряженно прислушивался к себе, но никаких симптомов отравления не появилось. Значит, это была действительно проверка. До сих пор он не мог понять, в чем его подозревают немцы. Но теперь думал: если так, то фашисты еще не уверились, что перед ними разведчик или комиссар. Иначе зачем бы им проверять знание языка?. Но почему у них возникло подозрение? Почему? Может быть, он что-то сболтнул в бреду? И сержант донес… Теперь ему обязательно нужно убедиться, что его сосед — провокатор, агент, высматривающий в этом крошечном больничном пруду рыбку покрупнее: комиссаров, командиров… Как же, черт побери, его проверить? И Алексей решил обыскать койку рыжего весельчака, может быть, какая-нибудь мелочь поможет узнать правду… В сумерках, когда сержант вышел, прихрамывая, по нужде, Алексей сунул руку под матрац. Скользя по металлической сетке, пальцы вдруг наткнулись на холодную рукоять пистолета. Алексей ощупал находку: выступ у курка тонкий, ствол без кожуха. „Немецкий, — догадался Алексей. — Ого, они уже стали вооружать своих русских агентов!“ Да, несомненно, это провокатор, и не мелкий. Ищут кого-то важного.9. ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ
В ту же ночь в палату пришел Лещевский в сопровождении Риты. Палата зашевелилась. Все следили за хирургом, который медленно закатывал рукава халата. И только человек в бинтах, у постели которого они остановились, оставался безучастным ко всему, как всегда что-то невнятно и беспомощно приговаривая. Из-под грязного серого одеяла выглядывала его туго стянутая бинтами грудь. Этой ночью, он особенно громко стонал, стаскивал с себя одеяло. Один раз даже привстал на локте и, задыхаясь, крикнул: — К черту, к черту, надо взорвать… Доложите в штаб… Приказываю, доложите… Все, что произошло дальше, поразило Алексея своей неожиданностью. Врач вставил иголку в шприц, а Рита начала разматывать грязный, в запекшихся пятнах крови бинт на руке. Она отшвырнула его, затем расстегнула на раненом гимнастерку. Раненый забился. Алексей услышал, как что-то мягко шлепнулось об пол. Лещевский нагнулся, и Алексей увидел при слабом свете лампочки, которую держала санитарка, в руках у хирурга красную книжечку. Это был партбилет. Наверное, партбилет был зашит в гимнастерку, а теперь нитки истлели и книжечка выпала. Алексей тотчас же перехватил внимательный и даже как бы торжествующий взгляд сержанта. „Донесет, шкура!“ Шприц, из которого прыснул тоненький фонтанчик, на мгновение застыл на весу. Лещевский суетливо сунул партбилет под подушку раненого. Наверное, впервые с той минуты, когда к Алексею после операции окончательно вернулось сознание и способность ясно и трезво мыслить, он с невероятной остротой понял всю сложность ситуации. Всю свою сознательную жизнь чекист Столяров прожил с постоянным ощущением того, что любые обстоятельства можно подчинить своей воле. В самых тяжелых критических моментах его не покидала уверенность в своих силах. А тут вдруг он перестал быть хозяином обстоятельств. На его глазах погибает коммунист, советский человек, а он не может помочь, не может вмешаться. Единственное, что ему остается, — это сжать изо всех сил железный прут на спинке кровати, не выдать себя ни звуком, ни взглядом. Завтра придут за этим несчастным, а потом и за ним, и никто не в силах будет спасти его, как и он сейчас… Потому что он в тылу врага с особым заданием. Предчувствия не обманули. Алексея: Лещевский, неприветливый, неразговорчивый, был не только хорошим врачом, он оставался советским патриотом. Не будь этого, упавший на пол партбилет он положил бы в карман халата, чтобы передать полиции. Когда Лещевский и Рита ушли, в палате наступила такая тишина, что Алексей слышал, как пульсировала в ушах кровь. Даже сержант не сказал ни слова. Тишина напоминала ту, которая царит в комнате, где лежит покойник. Да и после укола не пришедший в себя раненый походил на мертвеца. В глазницах и на скулах лежали резкие тени, отчего лицо его казалось словно вырезанным из дерева и потому хранившим неживую, пугающую бесстрастность. Он один только не знал, что произошло. Алексей, как и все остальные, прислушивался к пугающей тишине, ожидая, что вот сейчас послышится лязг оружия и топот солдатских сапог по коридору. Прошло полчаса, но никто не приходил. В углу у окна, вздыхая, ворочался пожилой рябоватый человек. Пружинная кровать под ним скрипела. Рыжий сержант резке приподнялся на локте и, осатанело вращая глазами, рявкнул: — Какого черта! Прекратишь ты или нет свою возню!.. Остальные молчали. Сержант улегся, но тут же снова поднял голову и недовольно пробормотал: — Душно у нас… Окно, что ль, открыть… Алексей не мог уснуть. А когда ему показалось, что он задремал, его разбудил шорох. Алексей открыл глаза и с трудом различил в темноте рыжего сержанта, натягивающего гимнастерку. Затем тот сунул ноги в сапоги и осторожно, на цыпочках пошел к двери…10. Признание
Первые дни оккупации Борис отсиживался дома. Но когда появился приказ комендатуры, обязывающий всех жителей города возобновить работу, он пришел в парикмахерскую. Его коллега — лысенький старичок был уже там. Борис твердил себе, что нужно взять себя в руки, успокоиться, что в конце концов вряд ли гитлеровцы обратят внимание на какого-то брадобрея из захудалой мастерской и вряд ли их заинтересует его прошлое. Он убеждал себя в том, что в городе уже не осталось людей, которые знали его прошлое, и только это его утешало. Он брил редких посетителей, по большей части немецких солдат. Сначала побаивался их, а потом попривык и старался держаться со своими клиентами приветливо, услужливо, но сдержанно. Домой возвращался глухими переулками, избегая случайных встреч со знакомыми. Но все-таки неизбежное произошло. В тот вечер он спокойно закрыл парикмахерскую и направился к дому обычным путем по малолюдной Сенной улице. Не успел Борис пройти и квартала, как около него скрипнул тормозами крытый грузовик. — Крюков! — окликнули его. — Да, — еле слышно выдавил Борис. И, прежде чем он успел что-либо понять и рассмотреть окруживших его людей в немецкой форме, Крюкова швырнули в кузов машины. Когда четверть часа спустя его ввели в кабинет главного следователя, он увидел за столом сухопарого немолодого немца в черном мундире. Крюков не знал точно, кто этот насмешливо улыбающийся офицер с белесыми волосами и узким переносьем. Он лишь догадывался: перед ним важный начальник. — Ваша профессия? — через переводчика спросил Штроп. — Парикмахер, — еле слышно ответил Крюков. — А другая? — Другая? — Да, та, ради которой вас оставило в городе ваше партийное начальство? „Неужели он все знает? — пронеслось в голове у Крюкова. — Но откуда?“ — Меня никто не оставлял… Я сам… — Это правда? — Штроп впился взглядом в бледное лицо Крюкова. — Да, абсолютная правда. Честное слово, — произнес Борис, как показалось ему, вполне искренне. Офицер нажал кнопку звонка и сделал какой-то знак вошедшему адъютанту. Кто еще вошел в кабинет, Крюков не видел, поскольку сидел спиной к двери, а оглянуться не решался. Вдруг сильный удар в ухо свалил его вместе со стулом. Потом его били чем-то гибким и твердым. Он закрывал голову руками до тех пор, пока не потерял сознание. Когда Крюков пришел в себя, лицо его, рубашка были мокрыми. Струйки холодной воды стекали за спину. Бориса начал трясти озноб. Чьи-то руки подхватили его и снова усадили на стул. Он увидел слева от себя кусок шланга, который стискивала огромная волосатая рука с пудовым кулаком. При виде этой руки и сапог громадного размера Борис начал лязгать зубами. — Вот что, Крюков, — словно откуда-то издалека донесся до него голос переводчика, — мы знаем о вас все. Слышите? Все! Это было не совсем так. Штроп не знал о Крюкове ничего, кроме того, что он коммунист. Отдавая приказ об аресте, Штроп не очень-то надеялся на успех допроса. Но едва главный следователь увидел, как перепуган арестованный, сразу понял, что перед ним „нестойкий человеческий материал“, И вызвал своего сотрудника по кличке Клещ — громадного эсэсовца с огромными кулачищами, один вид которого действовал на подследственных устрашающе. Штроп считал себя недурным психологом. Крюков молчал, по-прежнему лязгая зубами. — Ну? Будете говорить? Крюков молчал. Штроп усмехнулся. — Понятно. Хотите разыграть из себя жертву? Зря, зря стараетесь, Крюков. Никому не нужна ваша жертва. Вас ждет виселица, Крюков… Если вы, конечно, будете упорствовать. Подумайте хорошенько, у вас есть еще время спасти свою жизнь. Для этого вам нужно только честно во всем признаться. „Как поступить? — лихорадочно думал Крюков. — Надо было в горкоме сразу настойчиво отказаться. Ведь я не гожусь в подпольщики“. — Итак, я жду, — резко проговорил Штроп и, видя, что Крюков молчит, снова дал знак Клещу. Борис вскочил со стула. — Нет, нет, не надо! — закричал он, закрывая лицо. — Это почему же? — с издевкой полюбопытствовал Штроп. — Может, вы образумились?.. „Все это бесполезно, — проносилось в голове у Крюкова, — все бессмысленно. Они же все знают, а сила за ними“. — И вслух произнес: — Да, да… Я скажу. Я все скажу, как есть. — Очень хорошо. — Штроп удовлетворенно откинулся на спинку стула. — Так с какой целью вас оставили в городе? — Ко мне должен прийти кто-то из подполья. Кто — не знаю. Подпольщики готовят склад продовольствия и оружия. — Склад оружия? И вы знаете, где этот склад? — Еще нет. Этот человек мне и скажет. Штроп переглянулся с Клещом. — Кого вы знаете еще из оставленных в городе? — Никого. Я никого не знаю… — Лжете, Крюков! Вы должны назвать… — Я не… Штроп сделал знак Клещу. Избитого Крюкова отнесли в камеру. Крюков лгал. Он знал имена трех подпольщиков, которые готовили склад в лесу. Их он встречал в городе еще до оккупации, как только поступил на работу в парикмахерскую. Он знал даже адрес одного из них — завхоза горисполкома. Однако при немцах Крюков не встречал никого из них и с ужасом ждал, что кто-нибудь из них наведается к нему и поручит ему какое-нибудь дело. На первом допросе Борис не решился назвать знакомые имена, понимая, что если он проговорится, то подпольщиков ждет смерть. На втором допросе после очередного избиения Крюков был сломлен. После того как он назвал завхоза и подробно описал внешность остальных, его отпустили. Но предварительно Штроп взял с него расписку, что он, Борис Крюков, тысяча девятьсот пятнадцатого года рождения, бывший член большевистской партии, обязуется сотрудничать со службой СД. В доме напротив парикмахерской немцами был установлен пункт наблюдения. В случае если кто-нибудь из подпольщиков явится к Крюкову, он обязан был подать условный сигнал: передвинуть горшок с цветами с правой стороны подоконника на левую.11. „Не забуду мать родную!“
Полицейские под командой эсэсовца пришли в палату на следующее утро. Суженные, рыскающие глаза. На руках — повязки. Вошедшие на мгновение задержались у дверей, затем решительно направились к койке, около которой разыгрались события накануне вечером. По палате пронесся тревожный шорох. Все следили за каждым движением фашистов. И только тот, за которым пришли, оставался по-прежнему безучастным, его черные, сухо блестевшие глаза невидяще смотрели в потолок. Стиснув зубы, Алексей наблюдал, как гитлеровец с жирными складками на затылке принялся шарить под подушкой раненого. Откуда-то из самых дальних закоулков памяти у Алексея поднималась уверенность, что где-то он уже видел эти жирные складки на затылке, широкий, приплюснутый, как у боксера, нос, щеки. Поймав на себе взгляд, полицейский с черной повязкой обернулся к Алексею и близоруко прищурился. Они встретились глазами, и чекист понял в эту минуту, что встречал этого человека. Больше того, он почувствовал, что вошедший тоже вспомнил его лицо. А может быть, не только лицо? Алексей ощутил на лбу холодные капельки пота. Меньше всего он ждал, что здесь, в этой душной, темной комнате, появится кто-то из прошлого. Интуиция подсказывала: они сталкивались где-то не как друзья. Но где? Когда? Чекист знал это ощущение, когда нужно обязательно вспомнить и одна какая-то незначительная деталь восстановит все по порядку. Пока деталь ускользала, расплывалась. Но как было нужно ее поймать! От того, как быстро он вспомнит, что это за человек, зависели его судьба, жизнь, успех дела. Не глядя туда, где стояли сейчас двое, Столяров чувствовал, что жирный полицай не сводит с него глаз. В Москве как будто предусмотрели все варианты и возможные неожиданности. Но сегодняшней встречи не мог предвидеть даже Фатеев. От нервного напряжения, от досады на собственную забывчивость, а скорее от слабости и голода у Алексея подступила к горлу тошнота. Он закрыл глаза, и тогда все вокруг вдруг закачалось, кровать поплыла под ним. Преодолев минутную слабость, он разлепил веки. Взгляд его остановился на окне. На водосточной трубе сидел воробей и крутил маленькой темно-коричневой головкой… Когда он снова посмотрел на постель соседа, предметы вокруг встали на свои места. Кровать больше не качалась. Полицейские положили раненого на носилки. Рука бессильно повисла, коснувшись пола желтоватыми негнущимися пальцами. Глаза были по-прежнему безучастны. А когда раненый смежил ресницы, лицо его утратило последние признаки жизни. Собственно, эти мерзавцы с повязками зря старались. Напрасно ждут гестаповский офицер, переводчик и стенографистка. В кабинете следователя умирающий уже не сможет сказать ни слова. В дверях полицейский с жирными складками на шее резко обернулся и в упор посмотрел на Столярова. В ту же минуту Алексей увидел татуировку на толстой волосатой кисти полицая: „Не забуду мать родную!“ На некотором расстоянии от последней буквы красовался жирный восклицательный знак. Ну конечно. Этот восклицательный знак, эту надпись и жирные складки на затылке Алексей видел в 1935 году на допросе убийц главного инженера артемовской шахты. Парень тогда сквозь зубы отвечал: — Не помню, забыл. — Ну а мать родную ты тоже забыл? — спросил тогда Столяров, кивнув на татуировку. — Матери моей вы не касайтесь. И впервые за последние дни Столяров с ужасающей ясностью понял: оставаться в госпитале больше нельзя. Бежать, бежать… Как можно скорее. Только один человек в городе мог ему помочь. Шерстнев! Тот, к которому дал ему явку Фатеев. Шерстнев… Могила прасола Москалева. Букетик цветов. Только в крайнем случае можно было прибегнуть к этому сигналу. Но кто положит букет на могилу. Лещевский? Аня? Ну что ж, другого выхода нет. Алексей оглядел притихшую палату. Сержант сворачивал самокрутку. — Денек-то, кажется, разгуливается, — сказал он. После утреннего обхода врачей Алексей дождался Лещевского в коридоре. Странная просьба Попова — положить цветы на могилу давно умершего богача Москалева — удивила хирурга. Лещевский хорошо помнил пышный и безвкусный беломраморный памятник в центре городского кладбища, однако никак не мог уловить связь между богатым купцом и простым шофером. Но когда Алексей увидел замешательство Лещевского и стал снова упрашивать хирурга поехать на кладбище, Лещевский понял, что за этим скрывается нечто более важное, чем выражение запоздалых родственных чувств. И почему-то неожиданно для себя он согласился сегодня же купить цветы и отвезти на кладбище. Алексей был уверен, что врач не обманет его.12. Цветы на могиле
Полупустой дребезжащий трамваи довез Адама Григорьевича до городской заставы. В центре сновали крытые грузовики, шоколадные "опели", а иногда откуда-нибудь из-за угла солидно выкатывался черный приземистый "хорх" в сопровождении двух-трех мотоциклистов. Здесь же, на окраине, среди длинных кирпичных заборов, мрачно молчавших заводских корпусов и волнистой булыжной мостовой, было совсем тихо. Кладбище находилось сразу же за этими корпусами. Когда-то оно лежало совсем на отшибе, но разросшийся город прижался к его ограде из металлических прутьев почти вплотную, так что Лещевский по узкой пустынной улице дошел прямо до кладбищенских ворот. Было, наверное, часов около двенадцати дня. На пожухлой, поникшей траве блестела паутина. Солнце дремотно застыло над верхушками деревьев, и дремотность эта, казалось, передавалась деревьям и самому воздуху, пропитанному запахом лесной сырости и прелых листьев. У ворот кладбища стояла подвода. Лошадь, привязанная к столбу ограды, лениво отбивалась хвостом от мух. Между деревьев виднелось несколько человеческих фигур. Лещевский не любил похорон, но эти почему-то привлекли его внимание. У открытой могилы стояла горстка стариков и старух. Двое пожилых мужчин в замусоленных куртках, с красными от натуги лицами, кряхтя, подняли на веревках кое-как обструганный гроб. Ни венков, ни слез, ни взволнованных слов, ни единой детали из привычного похоронного обряда, которые всегда казались Лещевскому и тягостными и ненужными. Эти грязные доски, и бесстрастные морщинистые лица женщин, и торопливая деловитость мужчин все это было настолько буднично, что даже Лещевский оскорбился за человека, которого опускали сейчас в землю. Так просто! Впрочем, теперь все стало проще и страшней… А когда-то была другая жизнь. Когда-то к его дому подъезжала машина из больницы, шарила своими фарами по стене дома, отыскивая его окно. Лещевский сбегал по ступенькам лестницы, стараясь не шуметь. Почему-то в эти ночные минуты он испытывал удивительную нежность к безмятежно спящим людям, не подозревающим, что у кого-то стряслась беда. Он ощущал себя особенно необходимым во время этих ночных вызовов… За последние годы произошло много событий, все спутавших и перемешавших в его жизни, и теперь, вспоминая эти события, он пытался разобраться, которое из них было главным, положившим начало другим. И всякий раз приходил к выводу, что главным надо считать то, что случилось незадолго до начала войны. Это была обычная операция. Одна из тех, что в больнице называют плановой. Ему предстояло оперировать больную Морозову, двадцативосьмилетнюю женщину, поступившую пять дней назад с язвой желудка. В девять утра он зашел в палату навестить свою пациентку. Он задал несколько обычных, принятых в таких случаях вопросов. Да, спала она хорошо, температура нормальная, настроение тоже. — Ну и отлично, — сказал он, — значит, все в порядке. В девять пятнадцать, как обычно, началась пятиминутка, потом обход, осмотр тяжелобольных в послеоперационной палате — словом, начались все те заботы и хлопоты, которыми был заполнен каждый его день, день заведующего хирургическим отделением больницы. Без четверти двенадцать Лещевского вызвали в приемный покой, где его дожидался муж Морозовой — больной, с которой он разговаривал сегодня утром. От этого узкоплечего парня в вылинявшем коверкотовом пиджаке и в кепке с длинным козырьком (он поспешно сдернул ее при виде приближавшегося хирурга) попахивало водкой. — Извините, доктор, — начал он разговор, — выпил по дороге. Сами понимаете мое положение… А потом Лещевский поднимался на второй этаж в большую операционную. Это были торжественные минуты, и сколько бы раз они ни повторялись, они не становились для него обыденными. Он любил их, эти минуты, и испытывал такое волнение, как будто переступал порог операционной в первый раз. С годами приходил опыт, руки обретали уверенность, движения — точность, но волнение оставалось всегда, незаметное даже для очень близких людей. Со стороны казалось: по коридору идет спокойный, уверенный в себе человек, при появлении которого в больнице наступала тишина, напряженная и уважительная. Даже горластые санитарки, которые до этого истошными голосами считали простыни и полотенца, и те умолкали. Когда Адам Григорьевич был студентом и ему впервые пришлось присутствовать на операции профессора — знаменитого хирурга, он был потрясен и навсегда зачарован обстановкой, царившей в операционной. И больше всего появлением профессора. Профессор шагнул в дверь, как актер на сцену. Он вытянул вперед руки с красивыми длинными пальцами, и сестра бережно натянула на эти руки перчатки. Перестал существовать тот хорошо знакомый студентам человек со смешной привычкой поминутно нюхать табак, и появился другой — блестящий, собранный, элегантный, несмотря на свои шестьдесят пять лет, — человек, воле и искусству которого было подчинено сейчас все… Лещевский и не подозревал, что эта заурядная операция перевернет всю его жизнь… На вторые сутки у Морозовой резко подскочила температура. Лещевский не выходил из больницы сорок восемь часов. Все, что можно было сделать, он сделал. Но состояние больной ухудшалось с каждым часом. На консилиуме все пришли к общему мнению — перитонит, нужна повторная операция. Морозова умерла у него под ножом… Ее доставили не в карете "Скорой помощи" и не на носилках. Больная пришла в больницу сама с чемоданчиком, в котором были аккуратно уложены вещи. И должна была уйти сама. Если бы не эта нелепая случайность. Лещевский сидел на патологоанатомической конференции, уронив голову на руки. Как сквозь толстое стекло, приглушенные, плохо различимые, доносились до него слова: "Несовместимо со званием…", "Безответственность…", "Пятно на весь коллектив", "Пусть следователь разберется…" Дело передали в прокуратуру. Теперь, когда Лещевский появлялся в больнице, вокруг него наступала тишина. Но это была уже другая тишина, не прежняя, уважительная, а холодная и настороженная. Лещевский слышал за спиной перешептывания, ловил на себе сочувственные взгляды друзей и насмешливые — недругов. Постепенно он стал замечать, что теряет уверенность в себе, ту самую уверенность, которая так помогала ему за операционным столом. Судебное заседание по обвинению хирурга Лещевского в служебной халатности было назначено на двадцать девятое июня. Но заседание так и не состоялось. Началась война. В сутолоке о Лещевском все забыли: и органы юстиции, и органы здравоохранения, хотя он напомнил о себе заявлением, в котором просил послать его рядовым врачом куда-нибудь в передовую часть. И пока хирург ждал решения своей участи, в город, грохоча, ворвались немецкие танки… Он соскучился по запаху хлороформа и операционному столу. Ему хотелось работать. Иначе можно было сойти с ума. Но думать пришлось не только об операциях. Вчера полицейские утащили умиравшего комиссара из третьей палаты, как мешок с картошкой. Лещевский почти застонал от душевной боли. Когда-то он сутками не отходил от таких вот тяжелобольных, страшась от мысли, что погаснет слабый огонек жизни. И вот теперь на его глазах этот огонек насильно гасили. Сейчас, блуждая между потрескавшимися памятниками и машинально читая каждую надпись, Лещевский думал об Алексее Попове. Могилу Лещевский нашел в самом конце аллеи. И рядом с роскошным мраморным надгробием-коленопреклоненным ангелом в нише из черного мрамора на куске вертикально поставленного темно-серого гранита — поблескивали золоченые буквы:"Здесь покоится Иван Васильевич Москалев. Родился в 1866 году, умер в 1916 году, января 19 числа. Господи, прими дух его с миром".Лещевский оглянулся, на дорожке никого не было. Он положил к основанию памятника букетик цветов. Возвращаясь, он снова ломал голову: какая же все-таки связь между этим шофером из Москвы, как он называет себя, и купцом Москалевым? Прасол лежит себе и не подозревает, что в то время, когда другие могилы запущены, заросли, обвалились, к его памятнику кладут свежие цветы. Нет, что-то здесь не так! Какая-то тайна, черт побери. И все-таки врач не жалел, что позволил себя уговорить. Он шел, ступая по листьям, густо усыпавшим давно не метенную дорожку кладбища, шагал не торопясь, погруженный в свои мысли. …У больницы стоял черный "вандерер". Едва хирург поравнялся с автомобилем, оттуда вышли два немецких офицера. — Вы доктор Лещевский? Он кивнул головой. — Садитесь, — приказал один из офицеров. И, заметив, что врач колеблется, раздраженно бросил: — Да поживей, черт побери!
13. Неизвестность
Лещевский обещал вернуться в больницу сразу же после поездки на кладбище, но вот окна уже задергивали мутно-серой завесой сумерки, а хирурга все не было. Алексей то и дело посматривал на дверь, прислушивался к — звукам в коридоре, не раздадутся ли хорошо знакомые тяжелые шаги. Решившись обратиться к Лещевскому с просьбой, Алексей почти не сомневался, что она покажется Адаму Григорьевичу дикой и скорее всего он просто отмахнется или в недоумении пожмет плечами. Но, выслушав Алексея, врач не выразил ни особого удивления, ни крайнего любопытства. Поколебавшись немного, он в конце концов молча кивнул головой, как будто речь шла о самом обычном, пустяковом поручении. Но сейчас на душе у Алексея было неспокойно. Почему нет Лещевского? Что с ним могло случиться? Не захотел впутываться в малопонятную историю? Пообещал, лишь бы отвязаться? Не похоже на него. Задержали? За что? Ведь смысла условного сигнала не знал никто, кроме Столярова, Фатеева и Шерстнева. Расшифровать его — могли только они. Только трое людей знали, что цветы — это просьба о встрече, о помощи, сигнал бедствия. И только они знали, что кладбищенский сторож, коренастый цыгановатый мужчина с окладистой бородой на самом деле подпольщик Тимофей Шерстнев. Заметив цветы на могиле Москалева, он должен был прийти на помощь. Бывшего сторожа по договоренности с местными чекистами эвакуировали в глубь страны, а рабочий с механического завода Тимофей Шерстнев, отпустивший бороду и длинные усы, одетый в драный брезентовый плащ, за неделю до прихода гитлеровцев поселился в покосившейся сторожке. Скрытая кустами бузины и рябины, она могла стать удобной явочной квартирой. Шерстнев и должен был помочь группе "Ураган" связаться с партийным подпольем. Букет на могиле придумал Фатеев на тот случай, если связываться придется через недостаточно проверенного человека. Перед отъездом группы из Москвы Фатеев показал Алексею фотографию Шерстнева. Теперь Столяров послал цветы. Получив этот сигнал, Шерстнев должен был прийти в тот же день на угол бульвара Декабристов и улицы Советской в три часа дня. Но кого послать вместо себя навстречу с Шерстневым? В госпитале не было никого подходящего для выполнения этой миссии. На счастье Алексея, в этот день должна была из своего Юшкова прийти Аня с традиционными оладьями. Она приходила раз в неделю и оставляла сверток у старой санитарки тети Маши. Алексей запретил девушке ходить к нему в палату, боясь навлечь на нее подозрение полиции. Сегодня он сам встретил Аню у входных дверей и попросил ее пойти к трем часам в условленное для встречи с Тимофеем место. Описав подробно, внешность Шерстнева, он просил Аню передать ему только одно — Попова надо немедля вызволять из больницы. Конечно, проще было бы послать Лещевского или Аню прямо в кладбищенский домик, но Алексей боялся, что в сторожке могла ждать засада, если Шерстнева за это время обнаружило гестапо. Была у Столярова и еще одна явка — парикмахерская у колхозного рынка. Но это на тот случай, если не удастся связаться с Шерстневым… Аня вернулась к Алексею в половине пятого. Он прохаживался по саду и еще издали по ее лицу понял, что она принесла ему недобрые вести. — Он не пришел. Я ждала его полтора часа, — сказала Аня. Алексей молча смотрел на нее. — Ты ничего не перепутала? — Нет, как вы сказали, угол бульвара Декабристов и Советской. — Ты никуда не уходила? — Нет. Я все время сидела на скамейке. — Может быть, ты просто не заметила? Пожилой человек в брезентовом плаще, в руках толстая сучковатая палка. — Говорю вам, его не было. Он не пришел… Косынка у Ани сползла на затылок. Она раскраснелась и никак не могла отдышаться. До больницы она бежала бегом и боялась, что до наступления комендантского часа не успеет выбраться из города. Она спросила: — Это очень плохо, что этот человек не пришел? Алексей горько усмехнулся. Аня на минуту задумалась. — А если он не смог? Ну просто не смог — и все. Знаете, ведь всякое бывает… Алексей, думая о чем-то своем, согласился: — Да, наверное, не смог. Иначе пришел бы… — Я схожу туда завтра, может, он завтра придет. — Нет, не надо. Наступила пауза. Затем Аня вдруг вскинула глаза. — Да, чуть не забыла. Знаете, кого я видела? Лещевского. Когда первый раз к вам приходила, забыла сказать. В машине с двумя немецкими офицерами… — Что, что? Лещевский? Столяров прислонился к забору, закрыл глаза. — Вам плохо? — встревоженно спросила Аня. — Нет, нет, сейчас пройдет, — прошептал он. То была тревожная ночь. И оттого, что он, ворочаясь с боку на бок, торопил время, часы казались бесконечными. Еще утром он надеялся, что с помощью Шерстнева и Лещевского ему все-таки удастся вырваться из этой ненавистной палаты. Теперь какая-то случайность отнимала у него эту надежду. Почему не пришел Лещевский? Каким образом он очутился с немцами в машине? Где Тимофей Шерстнев? Получил ли он сигнал? И хотя Столяров твердил себе, что на следующий день все выяснится и обойдется, страх холодными волнами окатывал сердце. Утром он достал из-под матраца безопасную бритву, которую добыла где-то Рита. Единственное лезвие окончательно затупилось, и он долго правил его на поясном ремне. Он старательно выбрился, а затем, приставив костыли к раковине и неловко топчась на одной ноге, вымылся по пояс. Что на уме у немцев? Они, конечно, вряд ли отступятся от Алексея. Видимо, следователи еще изучают его прошлое, анализируют каждое оброненное им слово, вооружаются уликами, чтобы заставить упрямого русского выкинуть белый флаг. Алексей не сомневался, что не сегодня завтра в дверях палаты снова появится какой-нибудь ефрейтор и поведет его к высокомерному гестаповцу, убежденному, что никаких чувств, кроме презрения, не заслуживает этот хромой большевик, прикидывающийся шофером, ускользающий от разоблачения, сопротивляющийся бесполезно, с фанатичным бессмысленным упрямством. Алексей хотел предстать перед следователем не щетинистым, опустившимся оборванцем, а свежим, тщательно выбритым, спокойным, собранным. В прежнее время небрежность в одежде или беспорядок на рабочем столе всегда мешали ему сосредоточиться. Друзья даже иногда добродушно подтрунивали над аккуратностью Столярова, точностью, пунктуальностью, доведенными до педантизма. Все последнее время мысль Алексея билась в поисках выхода. Он призывал на помощь свой опыт, вспоминал рассказы товарищей по работе. Ведь есть же, черт побери, какая-то лазейка! Просто надо суметь ее найти. Но сейчас Алексей не знал, как уйти от пристальной слежки сержанта, от очередной встречи с татуированным полицейским, от мучительного состояния бездеятельности и выжидания. А уйти надо. Он чувствовал это всем своим существом. Ждать просто бессмысленно, когда главный следователь, выведенный из себя его упорством, применит к нему "третью степень" или при очередной встрече убийца инженера, пораскинув мозгами, наконец, восстановит в памяти историю их знакомства. Как же, наверное, подлец обрадуется! Лещевский появился в госпитале часов в девять утра. Тщетно Алексей вглядывался в его лицо, пытаясь отыскать следы скрытой тревоги. Хирург казался спокойным. Он двигался по проходу между коек, как всегда, неторопливо, высокий, немного сутуловатый, с руками, опущенными в карманы халата. Встретив вопросительный взгляд Алексея, он еле заметно кивнул, как бы говоря: не волнуйтесь, все в порядке. Алексей вышел в коридор, надеясь, что, как только Лещевский закончит обход, им удастся поговорить. Хирург и в самом деле скоро появился. — Пройдемте ко мне, — сказал он громко. — Хочу еще раз посмотреть вашу ногу. Закрыв дверь кабинета, Лещевский закурил и принялся расхаживать из угла в угол. — Просьбу я вашу выполнил. Хотя, черт знает, зачем я это сделал. Глупость какая-то! Ну да ладно. Видите, в чем дело. Вчера меня вызывал майор, как я понял, начальник объединенного немецкого госпиталя, которому подчинена и наша больница. Предлагает работать у них… хирургом. Н-н-да… Отказался я — своих больных не могу покинуть. Да и как людям смотреть в глаза буду… Н-н-да. Впрочем, с какой стати я вам это говорю? — оборвал он вдруг себя. — А да неважно! Голова раскалывается, а посоветоваться не с кем. Решил — с вами. Почему — не знаю. Ну да это тоже неважно. Как вы считаете, а? Алексей обрадовался. Он давно искал случая откровенно поговорить с этим человеком. И вот тот пошел ему навстречу сам. — Соглашайтесь, доктор, — твердо сказал Алексей… — Соглашаться? — удивился Лещевский. — Это из каких же соображений? — Из самых деловых, доктор. Здесь вы помогаете нескольким десяткам людей, а там вы сможете помочь тысячам. Тысячам наших людей. За стенами госпиталя. Там вы будете бойцом. — Э, батенька, загадками вы говорите… — Нет, я говорю ясно. Разве вы не понимаете? — Не понимаю, признаться. — Ну ничего, я вам объясню. А пока мне самому нужно посоветоваться с вами… — Ну что ж, слушаю. — И Лещевский опустился на стул.14. С последним ударом часов…
После разговора с Лещевским Алексей уже не ощущал себя таким одиноким. Шерстнев не пришел, и напрасно было ждать от него помощи. А медлить было нельзя. Толстый полицай с татуировкой или рыжий сосед, выдавший комиссара, каждую минуту могли привести гестаповцев. Единственная надежда Лещевский. Врач доверился Алексею, и хотя Столяров не раскрыл хирургу всех своих карт, но, очевидно, верить старому врачу можно. Алексей весь день и вечер обдумывал план побега, и в этом плане Лещевскому отводилась немалая роль. Ну а если Лещевский испугается или окажется не тем, за кого Алексей принимает его? Выхода все равно не было. Либо хирург поможет, либо Алексей погибнет в стенах больницы, ставшей ловушкой. После отбоя Алексей не спал. Сосед, рыжий сержант, лежал на боку, спиной к Столярову, и, очевидно, тоже только дремал… В темноте белела его рубашка. И вдруг сержант беспокойно зашевелился, затем сел на кровати, оглянулся по сторонам, зевнул и спустил босые ноги на пол. Почесав грудь, он натянул брюки и сапоги. Все повторялось так же, как в ту ночь, когда рыжий предатель донес на комиссара. Как только за ним закрылась дверь, Алексей посмотрел вокруг. Раненые спали, кто лежа ничком, кто на спине. Слышались тяжелые вздохи, легкий храп. Осторожно, так, чтобы не скрипнули пружины, Алексей потянулся к кровати сержанта, сунул обмотанную носовым платком руку под матрац. Пистолет, обнаруженный им несколько дней назад, был на месте. Холод металла чувствовался сквозь ткань платка. Алексей вытащил пистолет, спрятал под свое одеяло, спустил предохранитель и, еще раз оглядев палату, положил оружие в постель соседа дулом к двери и зацепил спусковой крючок за одно из колец сетки матраца. Проделал он все это с тем расчетливым хладнокровием, которое появилось у чекиста Столярова в момент опасности. Стараясь не скрипнуть кроватью, он лег на спину, натянул одеяло до подбородка и заложил руки за голову. Вскоре вернулся сержант. Алексей краем глаза следил за каждым его движением. А что, если он вздумает поправлять постель? Но нет, провокатор подошел к окну, зевнул. Молчание в палате, видимо, тяготило его. Он вдруг громко сказал: — Эх, братцы, до чего же я уважаю печенку с жареной картошкой… На него прикрикнули проснувшиеся соседи по палате. Но сержант, пропустив все это мимо ушей, продолжал: — Я у себя в деревне считался мастером колоть свиней. Как осень начиналась-у меня житуха. Свадьбы! Гармониста — играть, а меня — поросенка резать. Ну, а потом, как водится, к столу. А на столе печенка в сале дымится. И само собой, бутылка с погреба сверкает! Сержант причмокнул губами. В ответ по палате покатился смешок. "На обаяние берет, сволочь! — подумал Алексей. — Скуластая простецкая морда, улыбка до ушей. С таким каждый не прочь поговорить по душам. Ничего не скажешь: гестаповцы подбирать мерзавцев умеют! Скольких же еще продаст эта мразь? — думал Алексей. — И, видно, уже не одного продал". С той минуты, как у Алексея родился план собственного освобождения, он решил твердо: эту гестаповскую ищейку нужно убрать. На свободе сержант-провокатор мог оказаться серьезной помехой. С лестничной площадки донесся бой часов. Девять медленных ударов нарушили тишину. Сержант постоял у окна, подошел к своей койке и тяжело плюхнулся на матрац. Оглушительный выстрел взорвал тишину палаты. Сержанта словно подбросило. Он вскочил и, забыв, что изображает хромого, кинулся зачем-то к дверям, потом метнулся обратно к койке, откинул матрац, схватил пистолет, повертел его в руках, сунул в карман и снова бросился к дверям. А где-то в конце коридора уже раздавались голоса, хлопали двери, слышался топот сапог. Алексей устало прикрыл глаза. Когда Курту Венцелю доложили о выстреле в третьей палате, тот сначала ничего не понял. Несколько секунд вытаращенными, немигающими глазами он смотрел на пришедшего с докладом сотрудника и вдруг заорал: — Что?! Какой выстрел? Сотрудник сбивчиво и путано повторил свое сообщение. И только тут Венцель окончательно понял, что речь идет об агенте из числа военнопленных, которого поместили в третью палату больницы. Теперь агент провалился. Но это еще полбеды. Самое неприятное, если об этом происшествии узнает Штроп. Тогда неудача Венцеля будет известна и гестаповскому начальству в Минске. Штурмбаннфюрер попытался овладеть собой. Онрассеянно расспрашивал о подробностях случившегося. Его занимали другие, более важные и неотложные дела. Венцель был достаточно опытным человеком. За годы службы в гестапо он усвоил простое правило. Оно гласило: нужно быть предельно объективным в докладах и донесениях начальству, но не настолько, чтобы это повредило твоей репутации, твоей карьере. А сейчас он столкнулся с таким случаем, который мог повредить ему в глазах вышестоящих лиц. И все из-за какого-то паршивого русского, не умеющего обращаться с оружием! Штроп, конечно, не удержится от язвительных замечаний. И будет прав. Ибо штурмбаннфюрер не только допустил служебную оплошность, но, что гораздо серьезнее, отступил от инструкции. А инструкция запрещала выдавать оружие агентам такого сорта, каким был военнопленный сержант. Но этот трус трепетал от страха, и не напрасно. Он хорошо знал о том, как раненые русские, обнаружив провокатора в одной из больниц, ночью задушили его подушками. Поэтому-то он и попросил у Венцеля пистолет. И Венцель разрешил, рассудив, что большой беды не будет, если один русский пристрелит десяток других. Но дело обернулось иначе. Этот болван провалился. Венцель спросил сотрудника: — Кому вы еще докладывали об этом? — Никому. Только вам, герр штурмбаннфюрер! — Прекрасно! — одобрил Венцель. Он подошел вплотную к собеседнику и, придав голосу оттенок значительности, сказал: — Об этом никто не должен знать. Иначе… Иначе это может повредить расследованию. Взглянув в лицо начальнику, помощник Венцеля прочел на нем нечто более важное, чем было вложено в эти слова. Было понятно: это приказ, суровый приказ, за нарушение которого ему, рядовому чиновнику, несдобровать. — Слушаюсь, — сказал он. — Идите! Как только полицейский вышел, Венцель отправился к Штропу. Главный следователь действительно ничего не знал о происшествии во флигеле. Штурмбаннфюрер вздохнул облегченно.15. "Тиф"
Ртутный столбик уперся в черту напротив цифры "сорок". Рита, словно не веря своим глазам, снова поднесла градусник к лицу. Сорок! Она протянула градусник Лещевскому. — Адам Григорьевич, посмотрите. Врач мельком взглянул на термометр, и в его больших темных глазах, доселе равнодушных, появилось выражение встревоженной озабоченности. Лещевский подошел к Алексею. Тот тяжело дышал. От покрасневшего лица веяло жаром. Потрескавшиеся губы силились улыбнуться. — Это какой-то воспалительный процесс, — безапелляционным тоном поставила Рита диагноз. Лещевский приказал Рите еще раз смерить температуру у Алексея. Ртутный столбик снова остановился у цифры сорок. Лещевский поднял рубашку: по телу раненого расползалась бледно-малиновая сыпь. Весь вечер и всю ночь больной метался в бреду. — Как вы думаете, что это такое? — спрашивала Рита у Лещевского тем боязливо-почтительным тоном, которым она обычно разговаривала с хирургом. Но Лещевский не торопился с диагнозом. Он в этот день несколько раз появлялся у кровати Алексея. Высокий выпуклый лоб хирурга бороздили морщины озабоченности. Казалось, он все тщательно взвешивал и обдумывал, прежде чем прийти к окончательному выводу. Наконец после очередного осмотра, когда они вышли из палаты, Адам Григорьевич сказал Рите: — Это тиф. Сыпняк. — Тиф? — Да, тиф. Будьте осторожны. В другое время она обязательно спросила бы, как называется эта болезнь по-по-латынино сейчас так испугалась, что лишь прошептала: — Что же теперь делать? — Надо изолировать больного. И как можно скорее. — Лещевский остался доволен произведенным эффектом. Эта дуреха струхнула, и не на шутку. Он давно уже подозревал, что "сестра", квалификации которой хватало ровно настолько, чтобы не спутать клистир с касторкой, здесь не только для того, чтобы измерять температуру и делать перевязки. Разговор их сразу же станет известен гестаповцам. До Лещевского давно доходили слухи, что Рита путается с немецким офицером и по ночам проводит время с Венцелем. Согласившись помочь Алексею симулировать тиф, Лещевский понимал, что он рискует. Но отказать этому человеку он не мог. Поверят ли ему немцы? Не назначат ли медицинскую комиссию из своих врачей? Должны поверить. Ведь они уверены в его квалификации, сами приглашали его работать в госпиталь для немецких раненых. К тому времени, пока Штропу доложили о том, что Алексей Попов заболел тифом, главный следователь СД потерял к подозреваемому шоферу всякий интерес. Решив заполучить в собственные руки советского генерала Попова и заодно утереть нос абверовцам, Штроп старался вовсю. Он подверг Алексея тщательной и всесторонней проверке. И совершенно неожиданно выяснилось, что все время Штроп старался напрасно. Дня за два до того, как Алексей решил сыграть роль тифозного, полиция арестовала старика из отдаленной деревушки за то, что тот провел к партизанам глухими лесными тропами советского генерала, чьи приметы полностью совпадали с приметами командира дивизии Попова. Кто-то из местных жителей донес на проводника, и он попал в тюрьму. Алексей, естественно, и не знал, что случайное совпадение выбранного им себе псевдонима с подлинным именем генерала Попова было причиной особого внимания к нему гестаповцев. Хотя, как известно, он подозревал, что его принимают за кого-то другого, высокого по званию человека. Может быть, именно этим и объяснялось то, что Алексея не били… Больница спит… Дремлет дежурная сестра в коридоре, облокотившись рукой о тумбочку. Тусклая лампочка под потолком бросает на лицо женщины неровные пятна света. Сестра испуганно вскакивает, озирается и, зябко поеживаясь, усаживается поудобней, когда голова ее опускается слишком низко. Спят раненые в третьей палате. Сон их беспокоен, тревожен, отовсюду здесь слышатся невнятное бормотанье, короткие вскрики — отголоски кошмаров, незримо витающих над койками. Впрочем, Алексей не слышит всего этого. После обеда, как только Лещевский поставил диагноз "тиф", его немедленно перевели в инфекционное отделение — корпус, стоявший в углу сада. Алексей лежит, закинув руки за голову. От волнений последних дней ампутированные пальцы напоминают о себе болезненной пульсацией. Он старается успокоиться, приказывает себе успокоиться. Но мысли не слушаются. С улицы доносится какой-то звук, сначала еле различимый, затем нарастающий. Да это грузовик. Он подъезжает к госпиталю. На мгновенье фары освещают окна, как всполох молнии. Спокойно, только спокойно. Каждая клеточка застыла, напряглась в ожидании. С той минуты, когда стукнула дверца машины, до того момента, как глухо хлопнула входная дверь и в коридоре послышались шаги, прошло много времени, хотя грузовик остановился недалеко — у боковых ворот, находившихся рядом с изолятором. Алексей нервно поежился. Вот шаги у самой двери. Пол прочертила косая полоса света. Алексей увидел темные силуэты людей в дверном проеме. Свет шел откуда-то снизу: длинные и узкие тени на полу и стенах казались созданием больной фантазии. Алексею казалось, что все происходит необыкновенно медленно. На дверную ручку легла рука. Кто-то из глубины коридора крикнул, и стоявший рядом с дверью заговорил по-русски, но шепотом, и слов разобрать было невозможно. Конечно, у дверей мог стоять и Лещевский, если фашисты поверили в тиф. Но еще более вероятно, что это обладатель татуировки, вспомнив обстоятельства из прежнего знакомства, привел полицию. Какая удача для подонка! В мелком болоте, где плавал этот тип, такая крупная рыба, как чекист Столяров, попадалась не каждый день. Как этот полицай будет рад рассчитаться с "гражданином следователем"! Да, новая встреча с таким типом-верный конец. Дверь наконец отворилась, но Алексей не сразу смог заставить себя открыть глаза. И все-таки сквозь прикрытые веки в дверном проеме Алексей узнал Лещевского и понял, что, кажется, на этот раз спасен. Алексей не знал, что весь день больные испуганно переговаривались, время от времени произнося страшное слово "тиф". Это слово как бы построило вокруг Алексея незримый барьер. За последние сутки даже хромой надзиратель не заглядывал в палату № 3, откуда убрали тифозного. В инфекционном отделении дежурила одна старая санитарка… Алексей почти не верил тому, что с ним происходит. Все было слишком неожиданным и почти нереальным. То ли от легкого с морозцем воздуха и сверкающих звезд над головой, то ли от необычности всего происходящего у него на мгновение закружилась голова, фигуры выносящих его санитаров расплылись и как бы отдалились. Голос Лещевского, разговаривавшего у машины, видимо, с шофером, стал более приглушенным и отдаленным, и когда Столяров пришел в себя, он уже лежал в темноте крытого кузова, пропахшего бензином и карболкой. Присмотревшись, он различил смутно белевшие халаты санитаров, очертания гроба рядом. Алексеи даже решил, что это ему померещилось, но в кузов взобрался Лещевский. — Не волнуйтесь, Попов, — услышал Алексей приглушенный хрипловатый голос. — На днях в изоляторе умер от тифа мужчина примерно вашего возраста. Нам удалось заменить документы. Сегодня мы хороним Алексея Попова, вы будете жить под другой фамилией. Не волнуйтесь, вокруг русские — наши друзья. Ваш план, как видите, вполне удался. Человек, под чьим именем вы будете жить, нездешний. Вам нечего опасаться…ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1. Мать и дочь
Работа в больнице не нравилась Рите. Ее отталкивал вид окровавленных бинтов, пугали стоны раненых. А когда из палат выносили мертвых, она отворачивалась. Но Рита любила звучные латинские названия, с удовольствием носила белый халат, который ей очень шел. Дома она рассказывала матери о Лещевском, о раненых, щеголяя при этом медицинскими терминами. — Сегодня поступил раненый. Адам Григорьевич говорит, что у него образовался инфильтрат. — Что, что? — переспрашивала Софья Львовна. — Инфильтрат, ну, это когда после укола… опухоль… Мало знавшим ее людям Рита говорила, что окончила медицинский техникум. На самом деле это было не так. Она не кончала ни медицинского, ни педагогического, никакого другого техникума или училища, а только посещала краткосрочные курсы медицинских сестер. Рита еще училась в школе, когда от отца, уехавшего в командировку на Дальний Восток, Софья Львовна получила телеграмму. Телеграмма состояла всего из четырех слов: "Больше не вернусь, прощай". Рита не могла понять, как отец мог бросить жену: ведь мама такая еще молодая, красивая, образованная, свободно говорит по-французски и по-немецки, так хорошо играет на рояле. И ее, Риту, свою хорошенькую, умненькую дочку, он, видно, тоже не любил… С этим пятнадцатилетняя девочка никак не могла примириться. Женился ли он на ком-нибудь другом или покинул семью, опасаясь дворянского происхождения жены, как утверждали соседи, так и осталось неизвестным. Потом Рита узнала, что отец получил очень крупный пост, но денег брошенной семье почему-то не посылал. Гордая Софья Львовна в суд на мужа не подавала. Но школьнице было ясно, что в семье случилось что-то непоправимое, и, стыдясь того, что отец их оставил, девочка объясняла подругам: — Мой папа погиб. Он поехал в Арктическую экспедицию и не вернулся. Это была ее первая ложь. С годами рассказ о романтической смерти отца, обрастая все новыми и новыми живописными подробностями, стал для Риты реальным фактом, который, словно предохранительный футляр, оберегал ее самолюбие от сочувствия и любопытства посторонних. Исчезновение отца пробило крупную брешь в бюджете семьи. Рита штопала жизненные прорехи пестрыми нитками вымысла. И чем труднее становилось им с матерью, тем больше требовалось этих нитей. Приближался выпускной вечер в школе. Заработков матери, перебивавшейся случайными уроками, на жизнь не хватало, и некогда богатый гардероб Софьи Львовны неотвратимо превращался в сахар, мыло и муку. Рите, привыкшей к дорогим платьям, кружевным воротничкам, уже давно пришлось проявлять чудеса изобретательности, чтобы переделать бывшую мамину ночную сорочку в нарядную блузку. А теперь уже не осталось ничего, что можно было бы перешить в платье для выпускного вечера. Тогда она призвала на помощь свою фантазию. — Понимаете, — рассказывала она в школе, — это настоящий японский шелк с вышитыми золотыми звездами. Мама говорит, что к нему очень пойдет черная лента в волосах. А на выпускном вечере она появилась в обыкновенной черной юбке и пожелтевшей блузке — той самой, что была перешита из маминой сорочки. — Ужасно смешная история, — объясняла Рита подругам. — В последнюю минуту мама решила разгладить складки на платье. А тут как раз принесли телеграмму, и мама оставила утюг, а когда вернулась — на самом видном месте красовалась дыра. Мама так плакала. По окончании школы Рита поехала в Минск, но в институт, куда она пыталась поступить, ее не приняли. Потянулась скучная жизнь мелкой служащей — она работала делопроизводителем в небольшой заготовительной конторе. Перед самой войной окончила вечерние курсы медицинских сестер. Рита пошла работать в городскую больницу, когда туда уже начали прибывать раненые с фронта. Да и сам фронт стремительно приближался к городу. Одна мысль об эвакуации, о вагонах, кузовах грузовиков, чемоданах приводила Софью Львовну в ужас. Родственников и знакомых на востоке у нее не было. Бывший муж не подавал о себе вестей. И Софья Львовна решила: будь что будет, она никуда не поедет из своего обжитого угла. Когда по бульвару мимо их окон пронеслись первые мотоциклисты в касках, надвинутых на глаза, Софья Львовна обняла Риту, тяжело вздохнула и утешила: — Да, да, это ужасно, девочка. Но другого выхода у нас нет. Мы люди незаметные. Как-нибудь проживем. И вот теперь Рита ругала себя: "Какая же я дура, что послушала маму. Надо было уехать, все равно куда, но уехать". Рита боялась Венцеля, его настойчивых расспросов о раненых и не менее настойчивого ухаживания. Как вести себя с ним, она не знала. Не ладилось у нее и с Лещевским. Ее угнетали и замкнутость хирурга, и его короткие насмешливые реплики. — Девочка, это не губная помада, это шприц! К тому же Рите казалось, что он догадывается о ее связи с начальником полиции. Штурмбаннфюрер Венцель стал часто бывать в квартире Ивашевых. Опускался в старое, продранное кресло и просил Софью Львовну что-нибудь сыграть. И Софья Львовна садилась за рояль. Венцель слушал молча, скрестив всегда до блеска начищенные сапоги и подперев подбородок рукой. Его щеки бледнели еще больше, веки вздрагивали. Казалось, в такие минуты он был весь во власти звуков, вырывавшихся из-под длинных, проворных пальцев Софьи Львовны. Софья Львовна, сидя за роялем, забывала и о присутствии немецкого офицера, и о неотвратимо приближающейся старости, и о холоде в квартире, и о том, что творилось за стенами дома. Но когда она краем глаза ловила блеск лоснящихся сапог Венцеля, женщина возвращалась в реальный мир. Хотя она убеждала себя, что не все немцы одинаковы и что слухи о расправах преувеличены, Софья Львовна не могла в присутствии Венцеля отделаться от ощущения душевной неуютности и страха. Правда, она старалась вспоминать о том, как добр Венцель к ней, к Рите. И потом он, кажется, по-настоящему ценит музыку. Но эти мысли не приносили ей облегчения, не снимали постоянного беспокойства и тревоги. Она не могла понять, что влечет в ее квартиру этого человека. Вальсы Шопена? Или все-таки ее дочь, с которой, как заметила она, Венцель охотно и подолгу болтал. Может быть, оттого у нее и тревожно на душе, что ей страшно за дочь? Правда, Венцель был всегда вежлив, снисходительно-дружелюбен и к Рите и к ней, Софье Львовне, и даже помог ей, старшей Ивашевой, устроиться па работу секретарем-переводчицей в городской управе. Софья Львовна знала, какую должность занимал Венцель. И именно поэтому все то ужасное, что приходилось ей слышать о фашистах, она связывала с Венцелем. Ежедневно она перепечатывала сводки о сдаче хлеба крестьянами, об угоне молодежи в Германию. Ежедневно доводилось слышать о расстрелах и арестах. И если раньше все это проходило где-то мимо нее, стороной, то теперь она словно оказалась в эпицентре гигантского землетрясения. "Боже мой, какой ужас, какой ужас!" — думала она. А Софье Львовне все чаще вечером приходилось оставаться одной. Теперь Рита постоянно возвращалась домой после комендантского часа. Она бесшумно выпивала на кухне чай и укладывалась спать. И только изредка Софья Львовна слышала жалобы дочери: — Не могу, мама! Как это страшно! Грязь, кровь, стоны, немцы пристают на каждом шагу. — Что делать, дочка? Что делать? По крайней мере паек! Бывает хуже. Вон у Новиковых обеих дочерей отправили в Германию. Кому теперь хорошо? Однажды Рита вернулась особенно поздно. Пришла повеселевшая, румяная, возбужденная, в состоянии какой-то отчаянной беззаботности. Софья Львовна хотела разогреть ей ужин или вскипятить чайник, но Рита отрицательно покачала головой. — Не хочу! Софья Львовна пристально посмотрела на дочь. Большие черные глаза Риты блестели, подкрашенные губы вздрагивали. — Опять ужинала с Куртом? — спросила мать. Рита вызывающе кивнула. Софья Львовна промолчала и только укоризненно посмотрела на дочь. Рита бросилась в кресло и, откинув голову на спинку, нервно засмеялась. — Ты что? — тревожно спросила мать. — Ничего. Все хорошо. Ах, как весело было! Свет, музыка, танцы. Ты знаешь, мама, я ведь после выпускного вечера ни разу не танцевала. Видела бы ты, как меня без конца приглашали. У нашего столика собралась уйма офицеров. Со всех сторон только и слышно было: "Курт, где нашел такую? Будь другом, уступи на вечерок". Они ведь и не подозревали, что я знаю немецкий. Так что говорили не стесняясь. — Ты бы поосторожней, — посоветовала мать с тревогой в голосе. — А то… — А! — Рита махнула рукой. — По крайней мере, мне сегодня было весело. И потом я досыта поела. Знаешь, что подавали? Сосиски, настоящие сосиски! Софья Львовна села рядом с дочерью на подлокотник кресла и погладила ее по густым темным волосам. Рита смотрела на нее снизу вверх. Софья Львовна вдруг уловила запах спиртного. И сразу от дочери повеяло чем-то чужим и враждебным. Стараясь придать голосу как можно больше мягкости, Софья Львовна сказала: — Понимаешь… как-то нехорошо это, — и, заметив, что Рита сделала нетерпеливое движение рукой, настойчивей и торопливей продолжала:-Нет, послушай… Все-таки они враги. Они убивают наших людей. И ты не имеешь права… Ты не знаешь всего, что они делают. А мне приходится сталкиваться с этим каждый день. За городом каждый день расстрелы. И может быть, сегодня ты чокалась и кокетничала с одним из тех, который, не дрогнув, стреляет в детей. Ведь это ужасно! Рита вскочила с кресла и забегала по комнате. Остановившись перед матерью, яростно закричала: — Да, ужасно! А при чем здесь я? Скажи, я-то при чем? — Постой… — снова заговорила мать, но Рита закричала еще громче: — Я-то при чем, что они расстреливают? Разве я виновата, что они сюда пришли? Мне надоело быть всегда голодной, надоело видеть раны, грязь, кровь. Я хочу хоть немного забыть об этом. Меня еще никто в жизни, не приглашал в ресторан, не дарил цветов. А я хочу этого, хочу… Я хочу жить. Мне уже двадцать четыре. Не успеешь оглянуться — и старость… Это ужасно!.. Рита бросилась в кресло и, уронив голову на руки, зарыдала. Софья Львовна почувствовала острую жалость к дочери. Она кинулась к Рите, гладила ее по вздрагивающим плечам, раздела, уложила в постель, укутала одеялом, набросив поверх старое пальто. И только когда Рита успокоилась и заснула, Софья Львовна, поглядев еще раз на мокрые ресницы дочери, пошла в свою комнату. На душе у неё" было тяжело. "Пусть живет как знает, — решила она, — ведь дочь уже взрослый человек… В конце концов, такое страшное время…" После этого разговора Рита стала пропадать по ночам еще чаще, возвращаться еще позднее и всегда приносила с собой едва уловимый запах духов, вина и табачного дыма. Больше Софья Львовна ни о чем дочь не расспрашивала. Вьюжная февральская ночь навсегда запомнилась Софье Львовне. В квартире было холодно. Укрывшись одеялом и двумя старыми пальто, Софья Львовна пригрелась и задремала. Проснулась она будто от внезапного толчка. Сердце болело, билось с перебоями. Приступ необъяснимой тоски заставил женщину встать. Она чиркнула спичкой, будильник на стуле показывал половину четвертого. Неужели она не слышала, как пришла Рита? Дрожа от озноба, Софья Львовна открыла дверь в соседнюю комнату. Постель Риты была пуста. Так поздно она еще не задерживалась. Не в силах больше заснуть, Софья Львовна напряженно прислушивалась. Она ждала, что вот-вот послышатся шаги на лестничной площадке, в замочной скважине звякнет ключ. Но кругом стояла пугающая до звона в ушах тишина. Так она пролежала до рассвета с открытыми глазами. Рита не вернулась и утром. Рабочий день в городской управе начинался в девять. Софья Львовна пришла на час раньше, когда в холодных коридорах трехэтажного здания еще никого не было и все двери кабинетов были заперты. По дороге на службу она забежала в больницу: девушка на работу не пришла. Софья Львовна звонила по всем телефонам знакомым ей служащим управы и полиции. О Рите никто ничего не знал. Она упросила своего начальника — бургомистра Ивана Ферапонтовича Базылева, — чтобы он навел справки, но и в полиции и в гестапо бургомистру отвечали одно и то же — среди арестованных Маргариты Ивашевой не значилось. Совсем потеряв голову, Софья Львовна побежала к Венцелю. Он уверил Софью Львовну, что видел Риту только накануне, а вечером заезжал за ней в госпиталь, но там ему сообщили, что Ивашева уже ушла. Начальник полиции был, как всегда, очень любезен и обещал выяснить все в ближайшее время. — Я вам очень сочувствую, и я приму все меры… Дни шли. О Рите ничего не было слышно. Софья Львовна не находила себе места. Особенно по вечерам. Большая трехкомнатная квартира пугала ее тишиной. Софья Львовна не теряла надежды. Ей казалось, что вот-вот дочь даст о себе знать. И вот один служащий полиции, который брал у Софьи Львовны уроки немецкого языка, признался ей, что сам видел Риту в ту ночь, когда девушка не вернулась домой. Она вместе с другими арестованными стояла в кузове грузовика, который ехал за город. У Софьи Львовны потемнело в глазах. — Куда повезли? — вскрикнула она. — На Дронинский карьер. Ищите ее там. Софья Львовна на миг потеряла всякое ощущение реальности. "Это сон", мелькнуло в сознании. Но вполне реальный перед ней стоял страшный вестник беды. Как и каждый житель города, она знала: Дронинский карьер — место массовых казней.2. Памятный день
После мнимых похорон Алексея отвезли в пригородный поселок Краснополье, в трех километрах от города, и поместили у шестидесятилетней старушки Пелагеи Ивановны. Муж ее давно умер, оба сына воевали в Красной Армии, жила она совершенно одна и была несказанно рада, что в доме появился мужчина — все-таки в хозяйстве подмога. Пока совсем не зажила оперированная нога, Алексей отсиживался дома, а потом стал потихоньку выходить на улицу. Вскоре к Пелагее Ивановне наведался староста поселка Иван Архипыч Барабаш, хромой толстоносый мужчина лет пятидесяти в старомодных очках. — Ну, как твой жилец? — осведомился он у старухи. Посмотрев документы Алексея и не найдя в них ничего подозрительного, староста погрозил пальцем постояльцу. — Только смотри у меня, веди себя как положено. Не забывай: я за тебя в ответе. — И со вздохом, допивая предложенную ему самогонку, добавил: — О-ох, свалился ты на мою голову. И ушел не попрощавшись, тяжело опираясь на палку. — Ишь, сволочуга! — проворчала ему вслед Пелагея Ивановна. — До войны тихоня был, счетоводом в совхозе работал. А как власть ему дали, злее кобеля цепного стал! Алексей не знал, следит ли кто за ним, кроме старосты, но на всякий случай решил пока не предпринимать никаких шагов, могущих навлечь на него подозрение. Жить ему было не на что, и он, немного знакомый с сапожным ремеслом, занялся подшивкой валенок и починкой сапог, что окончательно расположило к нему Пелагею Ивановну. Она уважала мастеровых людей. Староста пока не придирался, получая от заработков Алексея некоторые "отчисления". Длинные вечера в Краснополье были для Алексея томительны. Беспокоила мысль о жене. Наверное, каждый день звонит в управление и каждый день слышит одно и то же: "Нет, пока ничего нового… Если узнаем, сообщим…" А что, если действительно, как твердят немцы, Москва в руках врага и жена с сыном бродят где-нибудь в толпе беженцев по России? Но такое предположение Алексей тут же отбрасывал: "Нет, этого не может быть". Что гитлеровская армия споткнулась у Москвы, Алексей догадался, прежде чем об этом стали говорить в городе. Среди соседей Алексея в поселке жила семья Грызловых — беженцев из-под Полоцка. Со Степаном Грызловым Алексею помогла сблизиться новая профессия сапожника. Детишкам Грызлова — а их было трое — Алексей бесплатно чинил ботинки и валенки, после чего-его растроганный отец пригласил сапожника зайти поужинать. Они разговорились. Степан рассказывал о том, как шел он с женой и детьми по пыльным дорогам, о непрерывных бомбежках… И, теребя Алексея за рукав, говорил: — Как-то оно обидно, понимаешь… Он ведь, гад, уже к самой Москве припер… — И затем, размахивая беспалой рукой — пальцы оторвало ему на паровой мельнице, — упрямо твердил: — Нет, брат, Россию ему все равно не одолеть. Как-то Степан шепотом рассказал Алексею, что кое-что припрятал. Жена Степана обозвала мужа пустомелей и просила подумать о детях. Но Грызлов оборвал ее: — Да будет тебе. Не видишь, что ли, свой человек. Еще точно не зная, как отнестись к Степану, Алексей посоветовал ему устроиться на железнодорожную станцию. Грызлова приняли смазчиком. И когда Столяров осторожно стал расспрашивать его, какие грузы и в каком направлении проходят через станцию, Степан сообщил, что в последние дни с запада прибывают вагоны с теплым обмундированием. — Ты понимаешь, Степан, что это значит? — осторожно спросил Алексей соседа, желая выяснить окончательно настроение Степана. — А что тут понимать, — ответил тот. — И дураку ясно. Стало быть, брешут они насчет конца войны. Видать, она только начинается, раз им валенки и шубы потребовались. — Верно, брат, — весело согласился Алексей. — Война только начинается… — И после паузы добавил: — Ты говорил, у тебя, кажется, что-то припрятано? — Кое-что имеется, — неопределенно ответил Степан и повел Алексея в сарай. Там Грызлов сдвинул в сторону кучу хвороста и приоткрыл припорошенную землей крышку погреба. На дне его, завернутые в тряпки, лежали несколько винтовок, пистолетов и десятка два толовых шашек. — Э-э, брат, да у тебя тут целое богатство, — пробормотал Алексей. — А никто из соседей не видел? Степан отрицательно замотал головой. Несмотря на гибель товарищей, Алексей все-таки надеялся установить связь с местными подпольщиками и начать разведывательную работу. Но бездействие мучило его, и он не мог удержаться от соблазна устроить с помощью Степана несколько диверсий на железной дороге. Степана уговаривать не пришлось. И вот Грызлов стал брать с собой на работу толовые шашки. Он окунал их в мазут, обваливал в угольной крошке и, когда шашка принимала форму куска угля, подбрасывал ее в тендер паровоза. Скоро в городе заговорили о взрывах на железной дороге. Но какой ущерб причиняли эти диверсии немцам, проверить не удавалось. Эти мелкие диверсии не удовлетворяли Алексея, да, кроме того, разведчик понимал, что, участвуя в этом деле, он мог легко себя выдать. Алексей стал упорно искать связи с подпольем. Все чаще он ходил на рынок за дратвой, за кожей и внимательно выяснял обстановку. Каждый раз город поражал его своей пустынностью. Казалось, люди старались по возможности не выходить из дома. Прохожих было мало. Колючий декабрьский ветер шелестел расклеенными на заборах фашистскими приказами. Изредка проносились крытые грузовики с нарядом полиции, черные офицерские лакированные "вандереры" и серо-зеленые "опели", проходили, громко переговариваясь, солдаты. Оживленно было только па городской толкучке. Пестрая, разношерстная толпа бурлила у низкого деревянного забора. Гитлеровские солдаты, отчаянно торгуясь, покупали куриные яйца, сало, молоко. Какой-то тип в фуражке без козырька совал прохожим диагоналевые бриджи. Безрукий инвалид предлагал немецкий хронометр с серебряной цепочкой. Однажды выйдя на городскую площадь, Алексей замер. Прямо напротив черного остова сгоревшего здания госбанка возвышалась виселица. Ветер раскачивал два трупа. Веревка терлась о перекладину и скрипела. Алексей долго стоял молча, стискивая палку. К горлу подкатывал тугой комок. Кто эти люди? Хоть бы что-нибудь узнать о них… Однажды Алексей решился пойти на кладбище поискать Шерстнева. Сторожка пустовала: окна были забиты наглухо. Что сталось с Тимофеем? Почему он скрылся? Может быть, провалилась явка? Опасаясь, что за сторожкой следят, Алексей поторопился уйти. Алексей решил отправиться по другому адресу. Неподалеку от рыночной площади он нашел бревенчатый домик с надписью: "Парикмахерская". Посетителей не было. Худой, темноволосый, еще совсем молодой человек в белом халате читал газету и хлебал щи из солдатского котелка. Алексей поздоровался с ним и сел в кресло перед треснувшим тусклым зеркалом. — Что угодно? — спросил парикмахер, откладывая газету. — Побрейте и подровняйте волосы-длинны стали, Пока мастер взбивал пену в никелированной чашечке, Алексей рассматривал в зеркале его лицо. Было в этом человеке что-то странное, какая-то нервозность движений, пришибленность… И это насторожило разведчика. Парикмахер, избегая встречаться с клиентом взглядом, молча орудовал бритвой. — Как работается? Посетителей много? — спросил Алексей. — Э-э… какие теперь клиенты! — вздохнул парикмахер. — Место у вас неподходящее. — Почему же? Рядом рынок… — И виселица… Не знаете, кто такие и за что их? Вопрос этот, как показалось Алексею, не понравился парикмахеру. Он отвернулся и стал суетливо править бритву на оселке. — Не знаю, — наконец ответил он с раздражением. — Откуда мне знать. Это вы у немцев спросите. Окончание процедуры прошло в молчании. А в это время из окна дома напротив агент полиции не отрывал глаз от окна. Так и не решившись снова заговорить с внушившим подозрение мастером, Алексей расплатился и ушел. Вероятно, произошла ошибка. И брадобрей совсем не тот человек, который нужен Алексею. Он украдкой осмотрел улицу. Несколько прохожих спешили по тротуару. Алексей свернул в ближайший переулок, нырнул в парадное, закурил, постоял с минуту и, убедившись, что в переулке никого нет, неторопливо, опираясь на палку, зашагал по дороге к своему поселку. Дома его ждали неожиданные гости — Аня с отцом. Алексей узнал его с трудом. Афанасий Кузьмич ссутулился, постарел. На щеках и подбородке топорщилась серебристая щетина. Алексей был несколько удивлен приходом этого человека. Но, Афанасий Кузьмич, помявшись, пожаловавшись на тяжелые времена, развеял недоумение Столярова. — Задумал я одно дело, да Анька настояла, чтобы я с вами посоветовался. Приход Ани не удивил Алексея. Он встретил ее как-то на толкучке, куда девушка приносила на продажу десяток яиц. Алексей заговорил с ней сам, — в новом обличье, заросший бородой, в рваном пальто с чужого плеча — подарок доктора Лещевского, с палкой и мешком — он был неузнаваем. Алексей решил открыться девушке, зная, что она его не выдаст и может быть полезной — и к Лещевскому сбегает, и в любое место, куда он пошлет. Кроме того, дружеское расположение Ани, ее доброта и сердечность были ему просто необходимы. Он чувствовал себя одиноким и отрезанным от всего мира. Зачем явился ее папаша, Алексей определить сразу не мог. Оказалось, что, Афанасии Кузьмин решил открыть собственную пошивочную мастерскую в городе. — Отец мой был портным и меня научил работать, да только я не хотел шитьем заниматься. Не мужское это, на мой взгляд, дело. Шофером стал. А теперь надо как-то семью кормить. — А я против, — горячо заговорила Аня. — Кто теперь будет шить костюмы? Разве что фашисты? Вот вернутся наши, как ты им в глаза смотреть будешь? Ты… — Подожди, Анька, — перебил ее отец, — дай мне с человеком переговорить… Шить новое мало кто будет, я больше на починку надеюсь… Перелицевать там, покрасить, почистить. Это я все сумею. Да и Анька поможет. Афанасий Кузьмич признался затем, что-он и сам колеблется: конечно, кто знает, как дела обернутся. Придут наши, может, и осудят частника. Но кормиться-то надо. Вот он и пришел посоветоваться… Алексей еще раньше присматривался к Аниному отцу, и теперь разговор этот заинтересовал чекиста. Осторожный, деловитый, расчетливый, Афанасий Кузьмич мог пригодиться. В его мастерской будет удобно встречаться со своими людьми, не посвящая хозяина во все тонкости дела. — Ну что ж, Афанасий Кузьмич, — проговорил Алексей. — Мысль хорошая. Заводите дело, если получится. — Алексей Петрович… как же так?! — воскликнула Аня. — Ничего, ничего, Аня. Все будет хорошо. Не бойся. Прощался Афанасий Кузьмич повеселевший, мял в руках шапку, долго извинялся за беспокойство и благодарил за совет. Через несколько дней Алексей еще раз зашел в парикмахерскую. На сей раз мастер брил пожилого немецкого солдата. Когда тот вышел из мастерской, Алексей наконец решился произнести пароль. Кисточка в руках парикмахера вздрогнула и застыла в воздухе. Лицо его побледнело. — Уходите, — наконец выдавил он из себя, — уходите скорей. Закусив губу, Алексей не сводил с парикмахера взгляда. — В чем дело? — спросил он. — Уходите, за мастерской наблюдают… Алексей хотел было подняться, но вспомнил, что он недобрит. Это сразу бросится в глаза. — Спокойней, — прошептал он. — Кончайте работу… Бритва в руках парикмахера дрожала. — Меня кто-то выдал, — шепнул он. — Выдал? — переспросил Алексей. — Да. Арестовали. В гестапо уже известно, кто я и зачем оставлен в городе. Раненую ногу Алексея начало болезненно подергивать. Но он решил выяснить все до конца. — Почему вас отпустили? — С меня взяли расписку, что я дам знать, если здесь появится кто-нибудь из подпольщиков. Сейчас я должен на окне переставить этот горшок с цветами. Алексей заставил себя выйти из мастерской спокойно. Не торопясь свернул самокрутку и закурил. И, только оказавшись в безлюдном переулке, он свернул в подворотню, прислонился к стенке и вытер со лба пот. Итак, еще одна явка провалилась, и пропала всякая надежда связаться с подпольщиками. А они действовали где-то рядом с ним. Грызлов рассказывал, что перед Октябрьскими праздниками в городе появились советские листовки. На одной из улиц подожгли грузовик с продуктами. Словом, кто-то действует, а он, чекист, отсиживается в тылу. От этих мыслей Алексею становилось не по себе. По ночам он подолгу лежал с открытыми глазами… Алексей хорошо запомнил двадцать первое декабря. В тот день он отправился в город на толкучку. Купив суровых ниток и вару для дратвы, он возвращался домой. Серое бесцветное небо низко нависло над крышами домов, припорошенных снежком. Старенькое демисезонное пальто продувало насквозь. И вдруг из-за угла вышел человек в добротном дубленом полушубке, с полицейской повязкой на рукаве, за плечами висел карабин. Алексей замедлил шаг. Смуглое лицо этого человека с курчавой цыганской бородой показалось знакомым. Где он его видел? Ведь где-то видел! Где же? Алексей невольно замер: лицо полицейского напоминало фотографию, которую показывал Фатеев перед отъездом из Москвы. Неужели это Шерстнев? Но при чем здесь полицейская повязка и этот карабин? Не ошибся ли он? Но нет, та же борода, антрацитовый блеск в узкой, косоватой прорези глаз. Алексей стоял в нерешительности. Шерстнев — полицейский! Это было ошеломляюще невероятно! Ведь Фатеев характеризовал его как абсолютно надежного. С какой-то обостренной ясностью мозг Алексея запечатлевал все, что происходило вокруг. Старик, согнувшись, тащит салазки. На них, перехваченные веревками, громоздятся узлы. Ветер рвет полы красноармейской шинели, обтягивает линялые штаны вокруг острых коленок. И Алексей почему-то подумал, что коленки у старика, наверное, замерзли. Откуда-то из подворотни выскочила, озираясь, тощая рыжая собака. Алексей успел заметить, что свалявшаяся шерсть на ней стояла торчком, хвост был поджат. И вдруг худое, отощавшее животное, завиляв хвостом, подошло к Шерстневу. Полицейский нагнулся, погладил ее и негромко произнес: — Эх, бедняга! И тебе невесело живется. В этих словах Алексею послышалось что-то добродушное. И странно возникшее было волнение сразу сменилось спокойствием. Из глубин памяти всплыл случаи десятилетней давности. Столяров, тогда еще совсем молодой чекист, с двумя товарищами переправился за кордон с заданием поймать главаря басмачей. Силач, отличный наездник (с громким по тем временам именем), бандит бесшумно переходил со своим "летучим отрядом" границу, грабил аулы, угонял скот и исчезал так же стремительно, как и появлялся. Росла, обрастая живописными подробностями, легенда о его необычайных приключениях и неуловимости. Алексей Столяров взял его средь бела дня в чайхане, в небольшом закордонном городке. Связанного бандита перевезли на арбе через границу и сдали в ЧК. А Столяров снова отправился за рубеж на поиски других басмачей из этой банды. И вдруг на улице того же городка Алексей увидел одного из них, шагавшего прямо навстречу. Этот бандит уже однажды побывал в руках Алексея и знал его в лицо. Бежать было бесполезно. И вот, когда Алексей уже решил, что провал неизбежен, его "знакомый", отвернувшись, прошел мимо. Это было невероятно! Ведь бандит не мог не заметить чекиста. Позже Алексей узнал, что басмач, поняв всю тщету своей борьбы с Советской властью, стал сам помогать нашим. Эта давняя история была похожа на то, что с ним случилось сейчас, только в одном: неожиданной встречей на улице… Очень знакомое ощущение внезапной опасности, совсем как тогда, заставило Алексея напрячь все свои душевные силы. "Работа разведчика — это езда с крутыми поворотами!" — сказал он себе и шагнул навстречу полицейскому. — Простите, — спросил Алексей, — не скажете, где здесь кладбище? Полицейский остановился, с недоумением глядя на Алексея. — Кладбище? Зачем вам оно? — Там могила моего родственника Москалева… Веки полицейского дрогнули. Он заорал: — Чего стал! Делать, что ли, нечего! А ну-ка за мной! Иди и не останавливайся! Слушай меня внимательно, — говорил он шепотом. — И снова заорал: — Ну, ну, пошевеливайся! — Затем снова перешел на шепот: Свалился как снег на голову. Откуда ты? Что с тобой? Где твои люди? Я был на могиле. Видел цветы. Но они уже завяли. Как будто камень свалился с души разведчика, но все же он был настороже. — Почему ты ушел из сторожки? — спросил Алексей. — Кто-то сыпанул двоих наших. Видел их на площади? След мог привести ко мне. — А это что за маскарад? — Сложная история. Об этом потом. Но ты не волнуйся. Документы у тебя есть? — Есть. Только уж не на Попова… — А ну иди, не разговаривай! — закричал Шерстнев. — В полиции разберемся, чей ты родственник. Алексей спросил: — Кто сыпанул? — Не знаю. Кто-то из своих. Они шли какими-то переулками. Проехала крытая машина с нарядом полицейских. Шерстнев торопливо шептал: — Сейчас придем в участок. Слушай меня: встретимся завтра. На бульваре Декабристов. Сядешь на крайней скамейке к улице Рылеева… В участке Алексей предъявил справку, выданную старостой, и документ, разрешающий ему заниматься сапожным мастерством. Шерстнев на виду у других полицейских всячески изругал Алексея и вытолкал за дверь.3. Поляна в лесу
На бульваре Декабристов Шерстнев сказал Алексею адрес явки и пароль. И вот Алексей шел, чтобы встретиться с секретарем подпольного обкома партии Павлом Васильевичем Карновичем… В низкой бревенчатой избе, скупо освещенной керосиновой лампой, он увидел приземистого человека в валенках и стеганой телогрейке. И эти валенки и телогрейка придавали Карновичу что-то сугубо гражданское и даже домашнее. Секретарь обкома был уже далеко не молод: видимо, ему перевалило за пятый десяток. Тихий голос и неторопливые жесты указывали на спокойный характер и Деловитость человека, привыкшего за многие годы к серьезной, не терпящей суеты работе. Обменявшись приветствиями, они заговорили о деле. Тут Алексей сразу почувствовал, что Карнович был прекрасно осведомлен и хорошо разбирался в сложившейся обстановке. Казалось, он знал в округе всех и все. Он легко припоминал фамилии местных жителей, названия сел, приметы местности. Алексей задал ему вопрос о Шерстневе. — Шерстнев работает в полиции по нашему заданию, — спокойно разъяснил Павел Васильевич. Корень (партизанская кличка Карновича) подтвердил все, что говорил Алексею Шерстнев. Да, совсем недавно гестапо арестовало двоих подпольщиков, один из которых бывал в кладбищенской сторожке у Тимофея. Поэтому Шерстневу пришлось тотчас же оставить службу на кладбище. А в сторожку действительно потом пришли днем гестаповцы. Подпольщики достали Шерстневу документы на имя некоего Аркадия Амосова, рецидивиста, вернувшегося в город перед самым началом войны. Гестаповцы охотно набирали в полицию уголовников, и Шерстнев-Амосов без особого труда поступил туда. Столяров рассказал о себе Карновичу. — Ну, видно, крепкий ты парень, если все это выдюжил, — улыбнулся Павел Васильевич, выслушав Алексея. — Мы ведь, признаться, и ждать тебя перестали… И доктор молодец, чистыми документами тебя снабдил. — И не дождались бы,если б не он. В общем помогла еще одна девчонка. Ей я тоже обязан, что сижу теперь перед вами. — Так оно и должно быть, — сказал секретарь обкома. — Ведь мы на своей земле, вокруг нас свои люди… — Но теперь трудно сразу отличить своего от чужого, сначала приходится приглядываться, — заметил Алексей. — Мне вот дали в Москве адресок одного человека, пошел к нему, чуть было в ловушку не угодил. — Какой адресок? — Парикмахерская у рынка. Фамилии его не знаю. Черный такой, худой. — Крюков, Борис! — почти выкрикнул Корень. Карнович рассказал, что в первые же дни оккупации начало твориться что-то непонятное. Во-первых, присланные для подпольщиков два вагона с оружием и продовольствием исчезли бесследно. Тогда решили проверить, цел ли склад в лесу Но люди, посланные в лес, были схвачены немцами. Подозрение пало на Крюкова, но пока еще не установлено, его ли это рук дело. — И ты обращался к нему? — спросил Корень. — Да. Просил свести с кем-нибудь из подполья… — Ну? — Сказал, чтобы я быстрее уходил. За парикмахерской установлено наблюдение. А Крюкова вызывали в гестапо. — М-м. Странно… — Секретарь обкома задумался. — Странно, очень странно, почему он тебя спас. Виселицу видел? Те двое скорее всего на совести этого предателя. Должно быть, он назвал их имена, когда был в гестапо. Но почему же он не выдал тебя? Почему? — Не знаю. Может быть, совесть проснулась? — Совесть? — с раздражением переспросил Корень. — Где она у него была, когда он выдал тех двоих товарищей… Но почему он все-таки не выдал тебя? — И все-таки в нем заговорила совесть, — настаивал Алексей. — Когда я произнес пароль, он страшно перепугался и потребовал, чтобы я скорее уходил. — Да, задал ты мне задачу. А мы уж думали убрать этого мерзавца. — Нет, — решительно запротестовал Столяров. — С этим успеется. Парень еще может нам пригодиться. Он-то кого-нибудь еще знает?. — Нет. К счастью, никого. А в Москву мы уже сообщали, что эта явка подозрительна. Ну что ж, может быть, ты и прав. Подождем. Корень и Алексей помолчали. Наконец Павел Васильевич спросил, видимо, чтобы сменить тему: — Как твоя нога? — Получше, — медленно ответил Столяров. — В первый раз я забыл о своей ноге. Хромота-то, видно, останется на всю жизнь. Алексей прошелся по комнате. — Крюков, Крюков, — повторял он, размышляя на ходу. — А в ком вы еще не уверены? Корень ответил не сразу. — Есть еще один: некто Ландович. Личность темная. — Чем он занимается? — Толкается на базаре, меняет соль на керосин. Но дело не в этом — сейчас всем приходится маскироваться. Однажды Ландович где-то выведал, что по глухой дороге пойдет колонна машин. Ну, мы организовали засаду. Действительно, колонна появилась в назначенный день и час. Но за два километра до засады внезапно повернула обратно. И есть подозрение, что именно Ландович и предупредил фашистов. Словом, загадочная история. Но он настойчиво напрашивается на задания. Даже предлагает достать оружие. — Ну что ж, — задумчиво проговорил Алексей. — Тогда познакомьте меня с этим Ландовичем. И кстати, дайте мне надежного помощника. У меня появился план… — Что ж, есть у меня такой человек. Сам просится на дело. Зовут его Валентин Готвальд. — Немец? — удивился Алексей. — Да. "Фольксдойч". Родился в России, но его отец и мать выходцы из Германии. До войны был шофером в облисполкоме, а теперь возит кого-то из комендатуры. Вы знаете, как немцы носятся со своей арийской кровью. В комендатуре он вне подозрений. И шофер первоклассный. — А как себя ведет? — Проверен в деле. — Сколько ему лет? — Молодой, лет двадцати пяти. Говорит по-немецки как по-русски. — Ну что ж, кандидатура интересная. — С чего ты собираешься начать? — спросил секретарь. Алексей улыбнулся. — Будь другое время, с чего бы мы с тобой начали? Собрали бы совещание, пришел бы я к вам с планом. — Нет, — засмеялся Карнович. — Придется покороче. Какие у тебя соображения? — Вот какие. Ты говоришь — этот Ландович напрашивается на задание? Корень кивнул головой. — Прекрасно. Нужно дать ему задание… — Пока не понял, — сознался Карнович. — А вот послушай. Коли дашь "добро", начнем действовать. У Ландовича узкое, худое лицо, туго обтянутое желтоватой кожей, прямые редкие волосы, зачесанные назад. Большие глаза цвета крепко заваренного чая хоть и полуоткрыты, но настороженно прощупывают собеседника. Нога закинута за ногу, локоть уперт в колено, между длинных пальцев с обкуренными ногтями тлеет сигарета. На Ландовиче клетчатый пиджак, а зеленый шарф обвивает жилистую шею с острым кадыком. И в его позе и в одежде, как и в манере говорить туманно и интригующе, есть что-то картинно-театральное. "Похож на провинциального актера, выгнанного со сцены за пьянку", решил Алексей. Он почти не ошибся: как выяснилось, до войны Ландович работал театральным администратором. Но ломался он, как плохой актер, важничал, говорил с недомолвками, многозначительно. У Алексея крепло убеждение, что перед ним ничтожный, но с неудовлетворенным честолюбием человек, авантюрист, мечтавший о крупной роли в жизненной игре, но так никогда ее и не получивший и теперь с приходом гитлеровцев решивший взять реванш за прошлое. Алексей понял, что Ландовичу польстит, что с ним разговаривает не рядовой партизан, а некто повыше. Поэтому он отрекомендовался уполномоченным обкома партии и заметил, что на Ландовича это произвело впечатление. — Вы хотите с нами сотрудничать? — задал вопрос Алексей. Ландович подтвердил, что он не намерен в такое время сидеть сложа руки и готов выполнить любое задание. — Задание есть. Нужно проверить склад с оружием. Согласны? Ландович кивнул головой. — Тогда слушайте меня внимательно, — продолжал Столяров. — Пойдете по шоссе в сторону Кричева. На седьмом километре, у телеграфного столба номер шестьдесят пять дробь сто один свернете вправо на запад, войдете в лес, через пятьсот метров увидите поляну, на ней четыре сосны. Они сразу заметны, вокруг вырублены деревья. Вот на этой поляне зарыто оружие: несколько ящиков с винтовками, два — с ручными пулеметами и еще два с боеприпасами. Запомнили? По просьбе Ландовича Алексей еще раз повторил ориентиры. — Хорошо. Запомнил, — заверил Ландович. — Какова же моя миссия? — Сначала проверьте, на месте ли оружие, и, если на месте, мы дадим вам людей и подводы. Вывезете все по адресу, который позднее получите. — Будет сделано, — весело сказал Ландович. Договорились, что Ландович проверит склад с оружием двадцать седьмого между двумя и пятью часами дня. Время это выбрали потому, что Валентин Готвальд в эти часы был свободен от дежурства в комендатуре. Дня за два до назначенной даты Алексею удалось познакомиться с шофером коменданта. Это был высокий молодой человек с приятными серыми глазами и светлыми русыми волосами. Застенчивая улыбка придавала его лицу что-то детское. Сначала он держался скованно и даже настороженно, но потом разговорился. Свел их Шерстнев на толкучке, где Готвальд старался сменять немецкие сигареты на сметану, а Алексей, как обычно, пришел за дратвой. Шерстнев скоро ушел, а Готвальд с Алексеем пошли в пивную. Готвальд рассказал Алексею, что его отец, немецкий колонист, некогда работал на Минском машиностроительном заводе. Но отца своего, как, впрочем, и мать, Валентин помнил смутно: они умерли, когда он был еще совсем ребенком. Некоторое время Готвальд воспитывался у родственников матери, но они оказались людьми скупыми, расчетливыми, непрестанно попрекали парнишку куском хлеба, и в конце концов Валентин "ударился в бега". Его подобрали и отправили в детскую колонию. Там-то он и нашел свой настоящий дом и свою семью. Там же вступил в комсомол и получил специальность шофера. До войны Готвальд работал в гараже облисполкома: возил одного из заместителей председателя, и тот, по словам Валентина, относился к нему как к родному сыну. Валентин познакомился со студенткой пединститута, на которой и женился незадолго до начала войны. Эвакуироваться ему не удалось, а дом неподалеку от облисполкома, в котором они жили, сильно пострадал во время налетов фашистских бомбардировщиков. Пришлось перебраться в село, к родственникам жены. Как он относится к фашистам? Как и все советские люди: ненавидит. Однако "немцев не надо валить всех в одну кучу". Есть такие, которым "понабивали в голову дряни", но многие, как он убедился, только подчиняются приказу — иначе нельзя. Алексей рассказал Готвальду о задании. Двадцать седьмого декабря с двух до пяти вечера ему следует находиться в селе Осиновка, что стоит на шоссе в сторону Кричева, и незаметно наблюдать за дорогой. Со стороны города должен появиться человек… Алексей описал его внешность. — Ландович? — вырвалось у Готвальда. — А ты его знаешь? — Еще бы! Кто его не знает… — Тогда тем лучше. Так вот, с двух до пяти он должен быть в селе Осиновка, затем свернуть в лес. Ты пойдешь за ним, но так, чтобы ни он, ни кто другой тебя не заметили. Понял? Готвальд кивнул головой и спросил: — А дальше? Дальше Готвальд должен был проследить за поведением Ландовича, а в случае, если тот не появится в Осиновке, разыскать поляну с четырьмя соснами и наблюдать за ней. Валентин не скрывал своего разочарования: задание показалось ему малоинтересным. — Нельзя ли чего посерьезней? — попросил он. Но Алексей заверил его, что это дело рискованное, и просил действовать осторожно. Алексею и самому не хотелось посылать Готвальда на это рискованное задание, которое мог выполнить и другой, не обладавший данными Готвальда. Валентин — служащий комендатуры, свободно общающийся с фашистами и знающий немецкий язык, конечно, мог быть очень полезным именно в разведывательных операциях. Но другого помощника у Алексея не было, да, кроме того, если на Готвальда наткнутся гестаповцы, он не вызовет подозрений и сумеет вывернуться, рассказав, что ходил в деревню покупать продукты. Алексей ждал Ландовича в условленном месте на шоссе. Он еще издали заметил, что Ландович не торопясь идет по обочине дороги. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что поблизости никого нет, он вышел из кустов и дал знак Ландовичу следовать за ним. Ландович следом за Алексеем свернул с дороги и нырнул в лес. Лицо его светилось самодовольством. Зеленый шарф был обмотан вокруг шеи как-то особенно лихо. — Задание выполнено, — по-военному доложил он. — Ящики с оружием найдены… Алексей поинтересовался, каким образом Ландовичу удалось их обнаружить. — А шомполом, — живо ответил тот. — Воткнул в землю в одном месте ничего, воткнул в другом — чувствую, что-то твердое. Так что давайте людей — ночью вывезем… Алексей пообещал, что люди и подводы будут, однако в котором часу — не уточнил. Между тем он думал о донесении Готвальда. Валентин сообщал, что, как ему и было приказано, двадцать седьмого декабря он с двух до пяти дня находился в селе Осиновка, но Ландовича не видел. Тогда он пошел к четырем соснам и увидел, что на поляне то и дело вспыхивают огоньки карманных фонарей. Он тихонько вернулся в Осиновку. Это не совсем противоречило донесению Ландовича. После пяти в лесу уже темно, и, возможно, именно Ландович и светил фонариком. Тем более что последний утверждал, будто бы искал оружие до вечера. Но почему тогда его не видел Готвальд в Осиновке: ведь шоссе около Осиновки Ландович миновать не мог по дороге в лес. — Нет ли у вас карманного фонарика? — спросил Алексей. Ландович сказал, что нет, но, если нужно, он достанет. Этот ответ укрепил подозрения Алексея: Ландович лжет. Встречи с Корнем были очень затруднительны. Штаб-квартира подпольного обкома была строго законспирирована и находилась в районе действий местного партизанского отряда. Но Алексею все-таки удалось повидаться и с Корнем. Тот предложил прекратить связь с Ландовичем до выяснения всех обстоятельств. Но ждать пришлось недолго. Через день после встречи Алексея с Ландовичем Корень получил от связного зашифрованную записку. Шерстнев просил свидания четвертого числа по варианту номер один, что означало конспиративную квартиру в селе Глинцы. Встречи с Шерстневым Алексей и Павел Васильевич ждали с нетерпением. Ведь в тот же день, когда Ландовичу и Готвальду поручалось проверить склад в лесу, Тимофею было приказано, соблюдая осторожность, навести справки о Ландовиче в полиции. Едва переступив порог избы в селе Глинцы, где их ожидал Шерстнев, секретарь подпольного обкома тут же задал ему вопрос о Ландовиче. То, что рассказал Шерстнев, подтвердило худшие опасения. Оказалось, что, как только Ландович получил задание от Алексея, он сразу пошел к начальнику полиции Венцелю. Обычно сотрудники гестапо, переодетые в штатское, принимали агентуру на особых квартирах, но на этот раз Ландовича почему-то провели прямо в здание полиции черным ходом. О чем говорил Венцель с Ландовичем — неизвестно, но само пребывание Ландовича в кабинете начальника полиции доказывало, что бывший театральный деятель — провокатор. На следующий день после этого разговора, закончил свое сообщение Шерстнев, грузовик с солдатами отправился по шоссе в сторону Кричева. Карнович и Столяров молчали. Шерстнев, не знавший всех подробностей проверки, увидел их нахмуренные лица и спросил с тревогой: — Что-нибудь случилось? — Пока еще ничего, — заверил его Алексей, — но может случиться, добавил он задумчиво. И вдруг лицо его прояснилось, видимо, от какой-то неожиданно пришедшей мысли. — Ну выкладывай, что ты надумал? — потребовал Корень. Алексей не заставил себя уговаривать. — А вот что, — начал он. — Откуда взялись фонарики в лесу, теперь, я думаю, ясно. В тот вечер гитлеровцы проверили еще раз, не осталось ли там еще оружия, которое они не нашли при первом обыске, и намерены устроить около этого места засаду. Ландович их заверил, что мы не знаем о разгроме немцами склада и непременно явимся за оружием большой группой. И там-то на поляне они и собираются нас накрыть. Но мы им не доставим такого удовольствия. — Что же ты предлагаешь? — спросил Корень. — Заминировать поляну… — Легко сказать, — усмехнулся Шерстнев. — Она наверняка охраняется. — Ну и что ж! — возразил Алексей. — Это должен сделать один человек ночью, незаметно. — Кто, по-твоему? — По тону, каким был задан вопрос Корнем, Алексей понял, что предложение его принято… Ландовича снова вызвал сам начальник полиции штурмбаннфюрер Курт Венцель. Не без опаски Ландович переступил порог кабинета, осторожно прикрыв за собой дверь. В комнате было тепло, уютно, потрескивал камин. Венцель сидел за своим столом. Ландович был в курсе последних событий. Шли день за днем, а на поляну никто из подпольщиков не являлся, и начальник полиции заподозрил что-то неладное. Возможно, Ландович его просто водит за нос. А может быть, подпольщики были на поляне и агенты просто проморгали… Направляясь к Венцелю, Ландович не знал, что сейчас шеф готовит ему смертный приговор. Правда, в бумаге, лежавшей перед Венцелем, ни слова не говорилось о Ландовиче. Там упоминались пять полицейских, вчера вечером подорвавшихся на минах в лесу. Они были посланы Венцелем на поляну под соснами для проверки работы агентов. Начальник полиции поднял голову и рассматривал Ландовича, будто видел его впервые. Венцель не мог понять — столкнулся ли Ландович с партизанами или случайно провалил задание. Было ясно — в качестве агента использовать его больше было нельзя. — Послушайте, — сказал Венцель наконец, — у меня к вам личная просьба. — Я к вашим услугам, герр штурмбаннфюрер, — отозвался Ландович, вытягиваясь и засовывая за борт пиджака выбившийся конец шарфа. — Принесите мне дров. — Дров? — Да, дров. Ландович часто заморгал глазами и не двигался с места. — Ах, дров? — нервно засмеялся он. — Ну да, дров для печки… Из… как это по-русски… да, из сарая. — Слушаюсь, герр штурмбаннфюрер. Ландович исчез за дверью. Венцель нашел кнопку звонка и углубился в бумаги. Когда в кабинет вошел сотрудник, Венцель, не отрывая взгляда от документов, приказал: — Уберите… Он во дворе. "Конечно, может быть, нужно было допросить этого негодяя, — размышлял начальник полиции. — Да стоит ли? Вряд ли этот мелкий провокатор знает что-либо существенное. Лучше отделаться сразу и без шума". Венцель встал и открыл форточку. В лицо ему ударило облако морозного воздуха. Вскоре у сарая появилась длинная фигура Ландовича. Затем щелкнул выстрел. Ландович нехотя, будто раздумывая, повалился в сугроб. Длинные, темные пальцы его судорожно хватали снег.* * *
В тот вечер к Алексею пришла Аня. Он обрадовался ей, помог снять пальто, усадил за стол. Пелагея Ивановна как раз топила печь на своей половине, и жилец попросил ее вскипятить чайник. Аня не раз приглашала Алексея к себе, но тот отказывался, ссылаясь на разные неотложные дела. Он не хотел появляться в Юшкове. Аня, возбужденная, разрумянившаяся, в больших не по размеру валенках, с которых натекли лужицы, пила чай и, как всегда, рассказывала последние деревенские новости. В селе у них новый староста (тот, который приказал себя величать "господин", в одночасье — говорят, тут партизаны руку приложили — умер), двух ее подруг угнали в Германию, мать постоянно хворает, а отцу удалось открыть в городе портняжную мастерскую. Мастерская была в бывшей лавчонке. Помещалась в одной комнате с кухней, из которой был выход во двор. — Где? На какой улице? — спросил Алексей. — На бывшей Сенной. Недалеко от школы. "Можно ли положиться на ее отца? Мастерская — отличная явочная квартира! А почему нельзя? Пожалуй, стоило бы с ним поговорить. Помещение очень удобное — два выхода". Аня напилась чаю и убрала со стола. Попросила у Пелагеи Ивановны горячей воды и, несмотря на протесты Алексея, вымыла пол. Алексею ничего не оставалось делать, как только любоваться ее проворными красивыми движениями. Ее тонкую девичью фигуру не могла испортить даже старенькая вязаная кофта и далеко нс новое серое платье. Когда она снова надела валенки и села рядом с ним, Алексей спросил: — Ну а ты чем занимаешься? — Да вот не знаю, куда бы устроиться… Ему вдруг стало страшно, что ее могут угнать в Германию. — А пока, — продолжала Аня, — полиция заставляет нас расчищать пустырь. — Какой пустырь? — Да тот, что на Мотовилихе. Знаете, за кирпичным заводом… Пустырь этот Алексей знал. Это было поле в ворохах мусора между кладбищем и песчаным карьером у реки. — Там что-нибудь будут строить? — Да кто ж их знает, — ответила Аня певуче. Алексей посмотрел в ее большие, немного наивные глаза. — А ты порасспроси кого-нибудь. Только поосторожней. Он почувствовал, что у девушки готов сорваться вопрос, но Аня, видимо, пересилила себя. — Попробую. Алексей вышел ее проводить. Морозная ночь пугала тишиной. Где-то на другом конце Краснополья надрывалась от лая собака. Крупные звезды переливались и мерцали. У калитки Аня посмотрела на Алексея темными, расширенными глазами. — Не боишься? — спросил он. Она покачала головой. Наступила неловкая пауза, которую Аня оборвала вопросом: — Можно, я буду приходить к вам почаще? А то так тоскливо. Раньше я читала книги, а теперь у меня нет даже книг. Нежность и жалость вдруг охватили его. Он осторожно коснулся пальцами ее холодной щеки. Аня на мгновенье прижалась к его груди лицом и, не оглядываясь, побежала по улице.4. События на Мотовилихе
Как-то хозяйка Алексея — Пелагея Ивановна — принесла завернутые в газету валенки. — Вот вам заказ, — сказала она. — Чьи это? — полюбопытствовал Алексей. — Из города, дамочки одной… — Какой дамочки? — А которая в управе служит, — ответила Пелагея Ивановна. Расспросив хозяйку, Алексей узнал, что валенки принадлежат переводчице бургомистра. Принесла их старушка, которая "живет при этой дамочке". Эта же старушка рассказала Пелагее Ивановне о несчастье Ивашевой: Софья Львовна совсем помешалась от горя — она нашла свою дочку мертвой на Доронинском карьере. — А за что, про что — одному богу известно, — вздохнула Пелагея Ивановна, которая, как заметил Алексей, принимала чужие беды близко к сердцу. И тут до него дошло, что дочь Ивашевой — Рита — эта медсестра, та самая кокетливая, изящная девушка Рита, которая так внимательна была к нему одно время, Угощала принесенными из дома пирожками с картошкой. Еще тогда заигрывания девушки показались ему подозрительными. "Доигралась со своими гестаповцами", — подумал он невольно. Но тут ему пришла в голову и другая мысль: эта женщина, у которой немцы убили дочь, может оказаться полезной. Вечером Алексей подшил валенки, а на следующий день, расспросив у хозяйки, где живет "дамочка", отправился в город. Алексей нажал кнопку звонка квартиры номер двадцать семь. Ему открыла маленькая седенькая старушка. — К тебе, Софушка! — крикнула она в глубину квартиры, выслушав Алексея. В прихожей появилась высокая, уже немолодая женщина с изможденным печальным лицом. Она внимательно посмотрела на Столярова. Алексей сказал, что он принес ее валенки. — Шел в город и решил сам занести заказ, — объяснил он. Софья Львовна предложила ему в качестве платы буханку хлеба — он взял половину. Сказал, что замерз, и попросил разрешения посидеть погреться. Софья Львовна пододвинула ему стул, а старушка тем временем принесла из кухни стакан чая. Алексей рассказал о себе: сам москвич, во время войны случайно оказался здесь, да так и застрял в городе. Он рассказывал свою новую легенду, сочиненную по документам, которые ему дал Лещевский. — Из Москвы? — заинтересовалась Софья Львовна. — Бог мой! Я так давно не была в Москве. У меня там уйма родственников! Немцы твердят, что Москва взята, но мне что-то не верится… Ивашева с любопытством рассматривала гостя. От его плотной, широкоплечей фигуры исходило спокойствие, не то, которое достигается хорошим воспитанием и постоянной тренировкой, а то, которым дает о себе знать врожденная внутренняя сила. У нее закралось подозрение, что сапожник знавал лучшие времена и был, видимо, более интеллигентным, чем казалось по его профессии. Алексей, в свою очередь, приглядывался к хозяйке. Можно ли довериться этой женщине? Он заметил седые пряди в висках, боль, застывшую в огромных, сухо блестевших глазах, икону в углу. "Не может быть, чтобы эта женщина была на стороне тех, кто отнял у нее самое дорогое". Впервые со дня смерти дочери Софья Львовна оттаяла душой. И ее совсем не удивил вопрос сапожника. — Вы разрешите заходить иногда к вам? — Да, да, буду рада. С тех пор Алексей стал время от времени заходить в квартиру номер двадцать семь. Бывало это обычно по воскресеньям. Однажды Софья Львовна заговорила с Алексеем о своей дочери. — А я ее знал, — как всегда, спокойно и немного задумчиво сказал гость. — Я лежал в этой больнице. — Я пришла на Доронинский карьер под вечер, — продолжала Софья Львовна. — Слышала раньше, что на этом месте расстреливают евреев и коммунистов. Но не увидела сначала никаких трупов. Вокруг возвышались снежные бугры, и я не сразу поняла, что эти бугры, слегка присыпанные землей и снегом, человеческие тела. И хоть я пришла искать сюда дочь, я страшилась самой мысли, что найду ее здесь. Меня вдруг начал бить озноб, перед глазами все поплыло. На мгновение мне показалось, что все это кошмарный сон: бугристая низина, морозная дымка, низкое солнце. Мне хотелось бежать, но я не могла сдвинуться с места. Софья Львовна судорожно сглотнула, нервным движением поправила платок, в который куталась. — Я словно окаменела. Не знаю, сколько так простояла, а потом стала руками разгребать снег. Софья Львовна на минуту умолкла и уже вполголоса добавила: — Девочку свою я нашла на следующий день… там… на этом кладбище… Это был страшный рассказ. Алексей сидел не шелохнувшись, глядя на преждевременно поседевшую женщину. "Нет, — твердил он себе, — она не может помогать тем, кто заставил ее пережить все это". — Бог мой! А я считала, что хорошо знаю немцев. Я когда-то жила некоторое время с мужем в Мюнхене. Чистый город, вежливые, приветливые люди. Но что случилось с немцами? Там, на Доронинском карьере, я увидела дикость и озверение. Боже мой, какой же я дурой была! Вы знаете, за моей дочерью ухаживал немецкий офицер, он бывал у нас дома. Я играла ему Шопена. А он уходил от нас и отдавал приказы о расстрелах! Как я могла… Не понимаю… Но все равно не могу себе этого простить! — Помолчав, Софья Львовна добавила потухшим голосом: — Кругом столько несчастий, столько бед, что не знаю, как все это можно перенести. Алексей, кивнув на икону, сказал: — И вы возложили все надежды па пресвятую богородицу? Софья Львовна задумчиво проговорила: — На кого же мне надеяться?.. — На людей. И ни на кого больше. Софья Львовна подняла голову. — На людей:? — как бы с удивлением переспросила она. — На каких людей? Где они? Каждый теперь думает только о себе. Каждый стремится только выжить, выжить, выжить любой ценой. — Неправда. Люди есть разные. Софья Львовна молча смотрела перед собой. Алексей взял старый иллюстрированный немецкий журнал. С его страниц смотрел Гитлер. Вот он принимает парад, вот поднимает рюмку на дипломатическом приеме, вот, сцепив руки на животе, позирует в обществе каких-то блондинок с ослепительными зубами. — Это откуда-то принесла дочь, — сказала Софья Львовна, глядя через плечо Алексея на улыбающихся киноактрис. — Странно, что кто-то сейчас может веселиться, смеяться и надевать бальные платья… Она вдруг ткнула пальцем в фотографию Гитлера и почти закричала: — Неужели ему все это сойдет? Вы только посмотрите, что они вокруг натворили. Я потеряла только дочь. Но вокруг погибли целые семьи, уничтожены тысячи людей. Ведь должен же кто-то отомстить! — Почему кто-то? Почему не вы? Хотя бы за свою дочь, — вполголоса проговорил Алексей. Софья Львовна удивленно посмотрела на него: губы ее скривились в усмешке. — Я? Вы шутите? Что я могу сделать? — Можете. — Алексей отшвырнул в сторону журнал, взял Софью Львовну за руки и усадил ее в кресло. Сам сел напротив. — Послушайте меня. Вот вы работаете в управе, через ваши руки проходят десятки документов… Согласны ли вы помочь тем, кто мстит и будет мстить за вас, за ваше горе и за горе других людей? И не только мстить, но бороться за счастье тех, кто остался жить. Софья Львовна молчала. — Подумайте, — продолжал Алексей. — А чем вам. это грозит, вы знаете. — Что мне терять? Самое дорогое я уже потеряла… Губы ее дрогнули. Алексей отошел к окну, давая Ивашевой время прийти в себя. Он еще не знал, сумеет, ли эта женщина стать членом его группы, но в одном не сомневался: перед ним человек, который ненавидит врага. Когда Софья Львовна успокоилась и он снова подошел к ней, она спросила: — Но кто вы? — Сапожник, — отшутился он. — Хорошо, не говорите. Так, пожалуй, будет лучше. Но чем я-то могу быть полезна? — Для начала узнайте, что затевают на Мотовилихинском пустыре. — Попытаюсь. — Заходить к вам сюда я уже не смогу. Если где-нибудь столкнемся на улице, делайте вид, что мы незнакомы. Софья Львовна согласно кивнула головой. …Алексей договорился встретиться с Софьей Львовной через несколько дней на бульваре Декабристов. Она должна была ждать его там. Подходя к условленному месту, он заметил Ивашеву у входа на бульвар перед стендом с объявлениями. Он подошел к стенду, остановился у Софьи Львовны за спиной. Скользя взглядом по объявлениям, шепотом поздоровался, спросил: — Что нового? — На Мотовилихе строят склад боеприпасов, — так же шепотом, не оборачиваясь, ответила Софья Львовна. — Это точно? — Да. Видела по нарядам комендатуры. Алексей тихо прошептал: — О следующем свидании вам сообщат. В тот же день Алексей отправился к месту строительства склада на Мотовилихе. Вышел к нему окраинными улочками, прошелся по тротуару, как будто разглядывая номера на домах, на самом деле тщательно изучая местность. Бывший пустырь теперь был огорожен высоким забором. То и дело подъезжали грузовики, крытые брезентом. Охранники проверяли у шоферов документы и распахивали высокие ворота. Останавливались грузовики у платформы с подъемным краном, стрела которого виднелась поверх забора. Алексей не мог простить себе, что узнал о строительстве склада так поздно. Если бы расчистка пустыря еще велась, то можно было бы незаметно пронести на его территорию противотанковые мины и зарыть их где-нибудь в центре. Хоть одна, может быть, взорвалась бы, и склад взлетел бы на воздух. Великолепная операция, почти не связанная с каким-либо риском! Теперь пронести что-нибудь в строго охраняемый склад было невозможно. Ночами Алексей не мог уснуть, обдумывая всевозможные варианты диверсии. И вот, как-то "прогуливаясь" неподалеку от склада, Алексей увидел санитарную машину с красным крестом на дверце. Она пронеслась мимо, по дороге к воротам. Сквозь ветровое стекло мелькнуло знакомое лицо с нахмуренными мохнатыми бровями. Лещевский! С тех пор как Алексей вышел из госпиталя, он с хирургом не встречался. Спросил как-то Аню, где живет Лещевский, но адрес и ей был неизвестен. Пришлось прибегнуть к помощи Шерстнева. Тот через полицию быстро выяснил, что Лещевский живет почти в центре города на бывшей Красногвардейской улице. Боясь не застать Лещевского дома днем, Алексей отправился к нему вечером после комендантского часа. В кармане у Алексея лежал пропуск негласного сотрудника полиции, добытый Шерстневым. Лещевский открыл дверь только после того, как Алексеи сказал, что он из госпиталя и ему срочно нужен врач. Адам Григорьевич встретил его в большой комнате, заставленной шкафами с книгами. Потрескивала большая, выложенная изразцами голландская печь, у дверцы валялись мокрые от снега поленья. Лепные карнизы потолка терялись во мраке. При виде Алексея брови Лещевского полезли вверх, на лоб набежали морщины. — Попов? — вскрикнул он. В следующую секунду он уже тряс руку Алексея, расспрашивал о раненой ступне, тут же приказал снять валенок и внимательно осмотрел ногу. — Теперь я вам могу признаться, — сказал он, — я полагал, что в конце концов вам грозит ампутация. Да, собственно, надо было сразу отнять ступню, но стало жалко, здоровый, молодой мужчина. Решил рискнуть. Ну, как себя чувствуете? Этот человек, казавшийся Алексею в госпитале сдержанным и холодноватым, сейчас был искренне рад своему гостю. Лещевский поставил на стол початую бутылку шнапса, рюмки, тарелки, коробку консервов… Свою рюмку хирург выпил залпом. — Раньше, до войны, я избегал пить крепкие напитки, — сказал он, положив себе в тарелку немного содержимого консервной банки. — Боялся, будут дрожать руки. — А теперь не боитесь? — спросил Алексей. — Нет. Лещевский был возбужден от спиртного или от встречи с Алексеем неясно. Хирург то вставал и подбрасывал в печь дрова, то снова садился за стол и подливал себе шнапса, то принимался расхаживать по комнате. И курил. Большие, сильные пальцы его то и дело шарили по карманам в поисках спичек. Алексею не верилось, что этот неврастеник и тот массивный, хладнокровный человек, который сутками не отходил от операционного стола, — одно и то же лицо. И невольно приходила мысль: Лещевский частенько прикладывался по вечерам к рюмке. Топит в вине внутреннюю неугасимую боль души. А хирург тем временем рассказывал о неудачной операции перед войной, за которую его отдали под суд. Вот почему его не пустили на фронт, как он ни просился. — А семья? — спросил Алексей. — У вас есть семья? — Есть. Жена и ребенок. Их я успел отправить к родителям в Куйбышев. А сам, дожидаясь все-таки повестки из военкомата, застрял здесь. Лещевский присел у печки, достал совком уголек, прикурил погасшую сигарету. — Помните, как меня вызвали немцы и предложили, вернее, приказали работать в их госпитале, в глубине души я знал: у меня только один выход согласиться. Но все думаю, наши-то с меня спросят, когда вернутся… Врагам служу. Но ведь вы мне посоветовали идти в этот госпиталь. Да и нашу больницу не бросил — стараюсь помочь своим. — Мне-то вы помогли, спасибо вам. Знаю, на какой риск шли. Если б тогда нас поймали с документами того, умершего… вам бы несдобровать. Алексей видел: человек мучается и сейчас пытается разобраться в том, что с ним произошло. Некоторое время они молчали. — Да, я хорошо помню наш разговор, — нарушил затянувшуюся паузу Алексей, — я действительно посоветовал вам пойти работать в немецкий госпиталь. Алексей раздавил в пепельнице сигарету. — Вы слышали о расклеенных листовках, о взрыве на станции Бережная? — спросил он, посмотрев на Лещевского. — Да. — Так вот, фронт не только под Москвой. Он и здесь. Вы могли бы помогать нашим и дальше. Особенно теперь, когда работаете в немецком учреждении. Лещевский опустил голову, вертя в руках пустую рюмку. — Чем? — спросил он еле слышно. Алексей положил свою руку на кисть хирурга. — На днях я видел, как вы на санитарной машине въезжали в склад на Мотовилихе. Так вот, слушайте меня внимательно. Лещевский уже не один раз по срочным вызовам бывал на складе. Видимо, немцы торопились со строительством — травм и аварий было довольно много. Алексей предложил Лещевскому такой план действий. Перед очередной поездкой Лещевский постарается дать знать Шерстневу, чтобы тот был начеку. И когда хирург будет садиться в санитарную машину, "полицейский" попросит у врача прикурить и незаметно передаст мину с часовым механизмом, которую врач спрячет в чемоданчик с инструментами. (Этот план Алексей предварительно разработал вместе с Корнем, а мину Шерстневу доставили партизаны.) На Мотовилихе Лещевский остановит свою машину рядом с грузовиком, пошлет шофера (а это русский военнопленный, которому Лещевский делал в свое время операцию) разыскать пациента, а сам тем временем постарается сунуть магнитную мину в ящик со снарядами. Лещевский не без колебаний согласился реализовать этот план. Повеселев, он сказал Алексею: — Не умею говорить о своих чувствах. Но спасибо, что поддержали дух. Все, что надо, сделаю. Случай вскорости представился… Когда через два дня после встречи с Алексеем Адам Григорьевич выехал на санитарной машине к артиллерийскому складу, то чувствовал он себя скверно. Ему казалось, что все: и шофер, и часовой на контрольно пропускном пункте, и полицейские — подозрительно косятся на его чемоданчик. Больших усилий Лещевскому стоило держаться спокойно. Он начал было шутить с шофером, но потом, решив, что излишняя общительность тоже может вызвать подозрение, замолчал. Когда санитарная машина подъехала к воротам склада, Лещевский с ужасом увидел, что грузовиков со снарядами около склада не было. И мысль, что все может сорваться, на время заглушила беспокойство и страх. Однако врач все-таки решил не отступать от задуманного плана. Он приказал шоферу остановить машину метрах в десяти от ворот склада и попросил его разыскать раненого фельдфебеля и узнать, может ли пострадавший сам выйти к машине или она должна въехать в ворота. Шофер ушел. Лешевский спрятал чемоданчик под сиденье, вышел из машины, походил вокруг, как бы разминаясь, подошел к пожилому полицейскому с карабином, попросил прикурить. Сновавшие вокруг солдаты и охрана не обращали на человека в белом халате особого внимания. Некоторые знали его в лицо и здоровались. Шофера не было. Лещевский вернулся к своей машине, и вдруг до слуха его донесся рев мотора. Он оглянулся: по дороге тяжело брали подъем два серо-зеленых крытых грузовика. "Снаряды! — пронеслось в голове Лещевского. — Сейчас не упустить момент". Хирург, стараясь унять дрожь в руках, достал чемоданчик. "Только бы не вернулся шофер, только бы не вернулся шофер", — повторял он про себя. Через несколько минут грузовики подъехали к складу и поравнялись с санитарной машиной, чихая густым черно-сизым дымом. Автомобиль Лещевского стоял справа на обочине, и теперь огромные грузовики закрывали его и от будки часового и от бараков, в которых жили охрана и солдаты, обслуживающие склад. Лещевский осторожно переложил мину из чемодана в карман халата. Шофер первого грузовика, хлопнув дверцей, побежал к будке. Шофер второго грузовика остался в кабине. Лещевский обошел этот грузовик и, держась одной рукой за борт, встал на запасной баллон. Оглянулся. Все было безлюдно. Сзади темной лентой через поле вилась пустынная дорога в город. Лещевский осторожно отогнул брезент грузовика. Сквозь неплотно пригнанные доски ящиков поблескивали снаряды. Лещевский проворно сунул мину в один из ящиков, снова, осторожно озираясь, застегнул брезент и спрыгнул на асфальт — и как раз вовремя. Вернулся шофер первого грузовика, и машины тронулись. Когда ворота склада закрылись за ними, Лещевский достал носовой платок и вытер мокрые, несмотря на легкий мороз, ладони… В тот же день Лещевский, проходя мимо дежурившего около комендатуры Шерстнева, подал ему условный знак, что задание выполнено. Казалось, все обошлось благополучно. Однако жизнь приготовила Лещевскому еще одно неожиданное испытание. Часовой завод мины должен был сработать через трое суток, ровно в двенадцать часов дня. В загруженный только на три четверти склад немцы срочно завозили боеприпасы, и подпольщики рассчитывали, что к моменту взрыва он будет целиком заполнен. Именно в день взрыва Лещевского вызвал к себе дежурный врач. — На объекте В-одиннадцать опять неприятность, — сказал он. — Так что, герр доктор, выезжайте немедленно. Объект В-одиннадцать было зашифрованное название артиллерийского склада на Мотовилихе. Адам Григорьевич машинально взглянул на часы. До взрыва оставалось сорок минут. Хирург похолодел. — Но у меня консультация, — возразил он дежурному врачу, стараясь говорить спокойно. — Придется отложить. Травма серьезная. Пострадал офицер… Больше послать некого. Лещевский вышел в коридор госпиталя, чувствуя, как гулко, до боли колотится сердце. Задержаться с выездом? Но это сразу навлечет подозрение. Выехать со склада до взрыва он тоже не успеет. Отбирая необходимый инструмент в чемоданчик, Адам Григорьевич то и дело бросал взгляд на часы и лихорадочно подсчитывал секунды. Пока он сядет в машину, пройдет минут пять, двадцать уйдет на дорогу. Значит, на складе он будет без десяти двенадцать? Что делать? Как поступить? Где бы задержаться по дороге? Во дворе госпиталя ждала санитарная машина. Шофер, скуластый парень, щурясь от солнца, светившего по-по-весеннемуярко, спокойно курил самокрутку. На снегу лежали голубоватые тени. Оглянувшись, Лещевский выронил чемоданчик. Инструменты рассыпались около заднего колеса. Адам Григорьевич поспешно присел на корточки и, собирая ножницы и хирургические щипцы, вонзил ланцет в резиновую покрышку. Усевшись в машину, приказал шоферу: — К Мотовилихе! Инструменты придется прокипятить на месте!* * *
Алексей зашел в портняжную мастерскую Аниного отца. Ателье находилось на Сенной улице в центре города. Алексей и Шерстнев последнее время встречались там под видом заказчиков. У Афанасия Кузьмича насчитывалось много клиентов, дверь хлопала часто, и это было довольно удобное место явки. Когда Алексей пришел, Афанасий Кузьмич снимал мерку с заказчика, грузного усатого человека в хромовых сапогах и брюках галифе. Завидев Алексея, отец Ани глазами указал ему на дверь в другую половину мастерской. — Подождите там. Примерка еще не готова, — сказал Афанасий Кузьмич. В маленькой комнатке, у стола с лоскутами, сидел Шерстнев. Они поздоровались. Не отрывая от Алексея взгляда косоватых улыбающихся глаз, полицейский прошептал: — Здорово, здорово, именинник. — Именинник? — удивился вошедший. — Конечно. Сегодня же день Алексея, божьего человека. — Не устроить ли нам по этому поводу маленькое торжество? — А что, пожалуй. Тимофей хитровато улыбался. Чувствовалось, что он жаждет сообщить какую-то приятную новость. — Ладно. Выкладывай, — засмеялся Алексей. — Задерживаться тут особенно не стоит. — Эх! — вздохнул Шерстнев. — Надо бы заставить тебя потанцевать, да место неподходящее. Так и быть — смотри. Тимофей снял шапку, достал откуда-то из-под подкладки крохотный листок бумаги и протянул Алексею. На листочке карандашом была выведена цифра: 0 017 951 — номер партийного билета чекиста Алексея Столярова. Дело в том, что давным-давно Алексей просил Карновича связаться с Центром и передать несколько слов: "Коршун" жив. Ждет указаний. У местных подпольщиков рации не было: немцам удалось запеленговать ее, и она попала в руки гестапо. Поэтому подпольщики держали связь с Москвой через партизанский отряд Кузьмича, действовавший в лесах за Днепром. Партизанский связной принес в подкладке пальто зашифрованное послание, представлявшее собой небольшую колонку цифр. С Фатеевым еще в Москве было условлено, что Центр подтвердит получение первых сведений от группы "Ураган" номером партийного билета Столярова. И вот теперь Алексей вертел в руках крохотный листок бумаги с долгожданным ответом и всматривался в знакомые, дорогие цифры. Он чувствовал на себе пристальный взгляд Шерстнева: тот наслаждался произведенным эффектом. Столяров не мог произнести ни слова. Горло тугой невидимой петлей сдавили спазмы. Алексей отвернулся к стене: не хотелось, чтобы Тимофей видел его заблестевшие глаза. Успокоившись, выдавил: — Ты даже представить не можешь, какая это для меня радость. Да, это был праздник. Пришел конец одиночеству, неизвестности. Те, кто посылал его сюда, снова с ним! Они помогут, посоветуют, направят… Интересно, дали ли знать домой, что он жив? Да иначе быть не может. Жена, наверное, даже всплакнула от радости. — Но это еще не все, — проговорил Шерстнев. — Я не сказал еще самого главного… Полицейский подошел к двери, проверил, плотно ли она закрыта. — Карнович получил новое задание из Центра, — прошептал он. — Из Центра? — Да. Москва рассчитывает на тебя. И на нас, разумеется, тоже. Алексей пододвинул табурет поближе к Шерстневу. За дверью слышались приглушенные, невнятные голоса. С шумом пронеслась мимо дома машина. — Так вот, — продолжал Тимофей, выталкивая изо рта облачко табачного дыма. — Корень просил передать тебе, что Центр интересуют все планы гитлеровцев на нашем участке. Информация по всему району представляет большую ценность. Передислокация войск, переброска вооружения, расположение аэродромов и так далее… Я думаю, не мы одни будем этим с тобой заниматься. Но на нас возлагают особую задачу: в сорока километрах от города находится Дретуньский аэродром. Это какой-то сверхсекретный аэродром. Нужно разведать все, что там происходит. Я случайно слышал разговор жандармов, что из района этого аэродрома выселили всех гражданских на десять километров вокруг. И еще: судя по всему, где-то на востоке от города у Новых Выселок расположен какой-то штаб. Об этом Готвальд сообщил Корню через меня. — Готвальд? — Да. — Вот что, — сказал Алексей. — Надо мне с ним, снова повидаться. Предупреди его. — Постараюсь. Столяров взглянул на ходики, мирно тикавшие на стене. Они показывали без четверти одиннадцать. Пора было расходиться. После взрыва наверняка устроят облаву, и надо заблаговременно выбраться за городскую черту. Первым из мастерской вышел Шерстнев. Толстый заказчик уже удалился. И Алексей, помедлив несколько минут, тоже вышел из мастерской.* * *
…До взрыва оставалось двадцать три минуты, когда санитарная машина выехала на Витебскую улицу. Мелькали низенькие окраинные домишки. На карнизах трепетали отсветы капели. Воробьи стайками вылетали прямо из-под колес автомобиля. "Еду на собственные похороны", — думал Лещевский. Он ждал, когда же наконец спустит камера заднего колеса, но машина шла полным ходом. Хирург откинулся на спинку сиденья, щурясь от бликов солнца, бивших ему в глаза. В зеркальце над ветровым стеклом увидел свое бледное, напряженное лицо и испуганно метнул взгляд в сторону шофера. Тот не обращал на своего пассажира никакого внимания. К губам его прилип окурок самокрутки. Лещевский думал о покрышке. Достал ли ланцетом до камеры? А вдруг она осталась цела? Вот кончилась улица, и машина выскочила в поле. Впереди чернели забор и низкие крыши артсклада. Вокруг муравьями суетились темные фигурки людей. Было без семнадцати минут двенадцать… Вдруг машина сбавила ход. — Что случилось? — спросил Лещевский. — Баллон сел, — равнодушно ответил шофер. До слуха Лещевского донеслось злое гусиное шипенье. Шофер чертыхнулся и остановил автомобиль. Пока он неторопливо ходил вокруг "опеля", что-то бормоча и вздыхая, затем доставал из-под сиденья домкрат и ползал под машиной, Лещевский сидел не шевелясь, вглядываясь в темную полосу колючего забора. Время тянулось мучительно медленно. Лещевский то и дело посматривал на часы. Нервы его напряглись до предела, по лицу струился пот… "Только бы шофер не успел заменить баллон…" Но вот шофер полез в машину, вытирая на ходу руки о грязное тряпье. Сел за руль, включил зажигание… Мягко заурчал мотор. Однако двинуться с места они не успели. Прежде чем Лещевский услышал звук взрыва, он увидел, как над забором косо брызнула струя сизого дыма. В следующее мгновение склад обволокло черное огромное облако… Страшный, оглушающий грохот, казалось, придавил их к конвульсивно вздрагивающей земле. В наступившей вдруг темноте Лещевский рассмотрел безумно выкаченные глаза шофера, его рот, распяленный в крике. Шофер зачем-то пытался открыть дверцу, Но Лещевский схватил его за рукав ватника. Трясущаяся рука шофера лежала на баранке руля. Взрыв на Мотовилихе вызвал переполох в гестапо и среди сотрудников абвера. Это была первая крупная диверсия в городе. Взрыв произошел днем, на глазах у всех. Партизаны действовали откровенно и дерзко. Провели за нос и охрану и полицию… Горожане перешептывались. Некоторые уверяли, что склад разбомбила группа советских бомбардировщиков, и нашлись даже очевидцы, своими глазами видевшие якобы самолеты с красными звездочками на крыльях. Другие рассказывали, что какой-то смельчак бросил на территорию склада связку гранат… Этого смельчака поймали, но будто бы он ни в чем не сознался… Расследовать причины диверсии из Минска прибыл ответственный чиновник абвера фон Никиш, седой, респектабельный человек лет пятидесяти. Собрав эсэсовцев, он заявил: — Должен, господа, со всей откровенностью сказать, что последняя диверсия русских в чрезвычайно невыгодном свете показывает вашу работу. В Берлине вами недовольны. И согласитесь, господа, что на это есть основания. Совсем недавно в результате взрыва на железной дороге погибла группа штабных офицеров корпуса. И вот теперь еще один совершенно возмутительный инцидент. Создается впечатление, что некоторые наши сотрудники не справляются со своими обязанностями. Фон Никиш создал комиссию для расследования причин взрыва на Мотовилихе. Со словом "расследование" у Венцеля были связаны весьма неприятные воспоминания. После того как полетел под откос поезд с группой штабных офицеров и двумя батальонами пехоты, в город приехал представитель СД, которого интересовал вопрос: откуда просочилась информация о передислокации дивизии к партизанам? Он назначил проверку, а Венцель изрядно перенервничал. Тогда, зимой, дня за три до диверсии на железной дороге, он встретился с Ритой у себя на квартире. До этого всю педелю Венцель был очень занят. Его откомандировали на железнодорожную станцию Свольна в помощь абверовцам, которые принимали меры, чтобы обеспечить тайну переброски нескольких дивизий в направлении Воронежа. Когда Рита пришла, Венцель был уже пьян. Он попытался обнять Риту, она мягко отстранилась. — Ты изменился ко мне, Курт, — сказала с упреком девушка. — Исчез на целую неделю… Венцель заверил Риту, что, если б не служба, он проводил бы с ней каждый вечер. — Вот подожди, — бормотал он, — через два дня пройдут эти чертовы дивизии через Свольну, и я — к твоим услугам. Курт забыл об этом разговоре, но вдруг вспомнил о нем, когда состав со штабом подорвался на мине и началось расследование. Представитель СД искал щель, через которую утекли секретные сведения. И тогда-то Венцеля охватила паника. Арестовать и допросить Риту? Так или иначе комиссия дознается, что он проболтался, все выплывет наружу. И тогда прощай карьера! Загремит Венцель вниз по ступенькам, ломая ребра. Чего доброго, лишат звания и отправят на фронт в штрафной батальон. Нет, он, Венцель, не намерен слетать из-за какой-то русской девицы с высокого поста, на который он взбирался сам, без помощи влиятельных друзей и родственников. Больше всего Венцель боялся, что Риту станут допрашивать. Ведь Венцеля не раз видели с девушкой в офицерском ресторане. Может быть, предупредить ее, чтобы она не проболталась о том ночном разговоре? Бесполезно, он слишком хорошо знал, как умеют допрашивать в гестапо! Рита и в самом деле ему нравилась: у нее были такие великолепные глаза. А фигура! Когда он появлялся с ней в офицерском ресторане, все поворачивали головы в их сторону. …Целый день Венцель не находил себе места. Он все время ловил на себе подозревающие взгляды сослуживцев, каждый пустяковый вопрос казался ему провокационным. А когда кто-то из обычных его собутыльников сказал какой-то комплимент в адрес подружки Венцеля, гестаповец совершенно потерялся от страха. К вечеру позвонил, вызвал к себе сотрудника. Тот записал домашний адрес Риты и место работы. Младшую Ивашеву схватили в тот же вечер у ворот госпиталя и, даже не приводя в тюрьму, втолкнули в машину, в которой находилась группа евреев. Всех расстреляли в ту же ночь на Доронинском карьере… Теперь Венцелю нечего было бояться опасных показаний Риты. Тайна была похоронена вместе с участницей опасного разговора. При взрыве на Мотовилихе погиб почти весь взвод гитлеровских солдат, обслуживающих склад, а также полицейская охрана. Случайно уцелели лишь несколько солдат и начальник подсобной полицейской команды Альберт Обухович. Последнего еще утром вызвали в комендатуру, и это спасло ему жизнь. Взбешенный Штроп приказал за недосмотр при охране важного объекта отдать Обуховича под суд. Но так как он был русским, обвинение в небрежности могло превратиться в более серьезное — с русскими перебежчиками обычно не церемонились — и Обухович мог ждать казни. Но когда, выполнив свою миссию, улетел в Минск оберет фон Никиш и кресло Штропа обрело прежнюю устойчивость, а сам он немного пришел в себя, намерения тайной полиции относительно проштрафившегося полицейского изменились. Ему вдруг пришло в голову, что Альберт Обухович может стать ценнейшим и старательнейшим сотрудником гестапо. Обухович сидел в тюрьме за уголовное преступление, вышел оттуда перед самой войной и в городе появился совсем недавно. Он не был местным жителем, а слежка подтвердила, что его почти никто и в лицо не знал. Это важное обстоятельство помогло замыслам Штропа. Теперь оставалось только припугнуть Обуховича. В один из ярких весенних дней была разыграна мелодраматическая сцена, будто взятая из авантюрного романа. Обуховича вывели из камеры во двор тюрьмы, где с перекладины виселицы, покачиваясь, свисала петля. Вокруг, поблескивая бляхами на ремнях, замер наряд полицейских с карабинами. Венцель, командовавший церемонией казни, прочел приговор: смертная казнь через повешение. Обухович затравленно озирался и все шарил глазами по рядам полицейских. Но они смотрели себе под ноги. Когда осужденному накинули на шею петлю, во двор тюрьмы ворвался запыхавшийся фельдфебель и протянул Венцелю какую-то бумажку. Это был приказ коменданта об отмене смертной казни осужденному. На следующий день Обухович, еще не совсем пришедший в себя после всего пережитого, сидел в кабинете Штропа: — Послушайте, — начал Штроп, — как вас… Обухович, вы тяжко, непоправимо виноваты перед германским командованием, которое доверило вам охрану важнейшего объекта. И как вы оправдали доверие? Прямо у вас под носом диверсанты взорвали этот объект. А может быть, вы служите русским, предаете рейх. Я сильно подозреваю именно это. Что? Молчите? Вы должны понять, что работаете для Германии, а не для комиссаров. Мы не потерпим расхлябанности и предательства. Мы научим вас уважать порядок и аккуратность! Нам все известно! Все наши связи с партизанами! Обухович сидел, опустив голову. — Вы заслуживаете самой суровой кары, — возвысил голос Штроп. — Но мы решили дать вам возможность искупить свою вину. Штроп взглянул на Обуховича, но тот даже не пошевельнулся. — Слышите? — А? Что? — встрепенулся Обухович. — Вы должны доказать, что не пожалеете жизни для победы германского оружия. На сей раз Обухович понял. На лице его появилась жалкая улыбка, и у Штропа мелькнуло опасение, уж не рехнулся ли полицейский от страха. Но вдруг Обухович грохнулся на пол и пополз на коленях к Штропу. — Господин офицер… Я… я… клянусь богом, я верой и правдой… разрешите. И Обухович потянулся губами к руке Штропа. Но тот брезгливо сморщился. — Э… встаньте, встаньте, я вам говорю. Хорошо, я вижу, вы все поняли. Вы раскаялись. Теперь вы должны доказать свою верность фюреру. Штроп вытер носовым платком тыльную сторону ладони, к которой все-таки прикоснулся губами полицай, и сел в кресло. Затем он дал совершенно растерявшемуся Обуховичу задание проникнуть в среду подпольщиков, войти в доверие, узнать фамилии, адреса, места явок, средства связи с партизанами. После выполнения этой задачи Штроп гарантировал Обуховичу не только полнейшую реабилитацию, но и крупную денежную награду. Полицейский поклялся, что он не пощадит живота своего, чтобы вернуть утраченное доверие начальства. Отпуская Обуховича, Штроп спросил его: — Вы, кажется, только что женились? Да ведь и мать у вас не так далеко от города: что для гестапо какие-то двести километров? — Совершенно верно, — потерявшись, пробормотал Обухович. — Вы ведь не хотите, чтобы с молодой женой и престарелой матерью случилось несчастье? Впервые за весь разговор Обухович посмотрел прямо в лицо своему начальству. — Я все понимаю, — тихо сказал он. — Великолепно! — удовлетворенно воскликнул Штроп и, коротко хохотнув, похлопал полицейского по плечу. — Вы сообразительный парень. Через два дня избитого Обуховича втолкнули в тюремную камеру, где томилось несколько человек, захваченных во время облавы после взрыва склада. Ранним утром четырех арестованных, в том числе и Обуховича, в крытом грузовике повезли по Витебскому шоссе к Доронинскому карьеру. Когда их привели на поляну, из леса выскочило человек тридцать полицейских, переодетых партизанами и вооруженных автоматами с холостыми патронами. Между охраной и партизанами завязался "бой". Арестованные бросились на землю и, воспользовавшись суматохой и шумом, видя, что про них забыли, кинулись в лес. Вскоре стрельба прекратилась. Беглецов никто не преследовал. В тот же день Штропу донесли, что спектакль удался. Однако Штроп приказал взять на всякий случай беременную жену Обуховича под стражу. Он не любил рисковать.5. Операция "Фредерикус"
Теперь для Алексея началась новая жизнь, та, ради которой примчался он сюда из Москвы на запыленной старенькой полуторке. Наконец-то он принял участие в войне, где дело решает не количество дивизий, танков или стволов орудий, а ум, осторожность, отвага. Тогда, в июле, он начал свою работу неудачно. В спешке, в обстановке напряжения и нервозности не все было учтено и предусмотрено… Он потерял бойцов своей группы "Ураган". Но теперь на их место становились другие. Эти новые бойцы не учились сложному искусству разведчика, ими двигала только ненависть к врагу. Алексею предстояло ознакомить их хотя бы с элементарными правилами этой незримой войны, направлять каждый их шаг, чтобы уберечь от провала. И Столяров размышлял. Днем, набивая каблуки на чужие стоптанные ботинки или добираясь на попутной подводе в город, ночью, ворочаясь на жесткой кровати. Мозг его разрабатывал искусные комбинации и варианты для предстоящих операций. И вот приближалось выполнение сложного и ответственного задания. Как-то при очередной встрече Софья Львовна упомянула о коменданте города майоре Патценгауэре. По описаниям Ивашевой, это был человек лет пятидесяти, веселый и общительный. Он брал у Софьи Львовны уроки русского языка, а после занятий подолгу и охотно болтал с ней на разные темы и, как утверждала Ивашева, относился к ней со снисходительной доброжелательностью. — Как-то я рассказала ему, что два года жила в Мюнхене. А он сам как раз из Мюнхена. Полковник пришёл в восторг. Целый вечер мы проболтали с ним о Мюнхене, перебирали в памяти улицы, кафе, памятники… — А каковы склонности у этого вашего Патценгауэра? — поинтересовался Алексей. Софья Львовна пожала плечами. — По утрам любит кофе со сливками, два раза в неделю пишет жене. Как-то показывал мне ее фотографию. Стареющая блондинка с собачкой. Бездетный. У себя дома выращивает тюльпаны… — Побольше говорите с ним о тюльпанах. И попросите, чтобы он перевел вас из городской управы непосредственно к себе. Предлог найдем. Ну, скажем, вы хотите служить рейху… Или мечтаете о переходе в германское подданство, о переезде в Мюнхен навсегда. Вскоре после этого разговора сосед Алексея Степан Грызлов сообщил ему, что на станцию пришли вагоны с тюками прессованного сена. — Понимаешь, — шептал Степан. — Смекнул я сразу, что-то тут не то. Зачем им это сено охранять? А вокруг платформы часовых — пропасть. Интересное дело, думаю. Как это, значит, часовой отворотился, сунул я руку в тюк. Чувствую, какие-то твердые зубья. Мать моя! Гусеницы танка! Вот тебе и сено! "Возможно, гитлеровцы перебрасывают через город воинскую часть", сначала решил Алексей. Но ему пришлось отказаться от этого предположения. На следующее утро Степан сообщил, что платформы, на которых лежали "тюки с сеном", опустели; очевидно, эти тюки выгрузили и увезли куда-то на автомобилях. Незадолго до сообщения Степана Корень через Шерстнева передал Алексею, что местные власти получили из Берлина предписание "навести порядок" в лесах за Днепром, а в этом районе настоящими хозяевами были партизаны, гитлеровцы туда и сунуться боялись. Кое-где работали здесь даже местные Советы и колхозы. Судя по тому, что теперь фашистам понадобились танки, затевалась большая карательная экспедиция в партизанский край. Предположение Алексея подтвердил и Шерстнев. Он сообщал, что в городе среди оккупантов необычное оживление, появилось много незнакомых офицеров. Сроки и маршруты карательных экспедиций гитлеровцы скрывали с особой тщательностью. Среди полицейских ходил слух, что даже командиры частей участники таких операций, узнают о том, куда части отправляются, за несколько часов до начала наступления. Предотвратить беду можно было, только узнав, на какой день назначается выход карательной экспедиции. И Корень поручил разведать все Алексею, а тот решил, что, может быть, удастся как-нибудь использовать знакомство Софьи Львовны с комендантом города… Медлить было нельзя. И вот Алексей, нарушив правило не встречаться с Ивашевой у нее на квартире, пришел к ней как-то вечером и заговорил напрямик, что она должна помочь. — Боитесь? — спросил он, рассказывая ей о своих планах. Она ответила не сразу. — Боюсь… Ведь я две ночи после нашего первого разговора не спала… Нервы — никуда. Вы же все понимаете сами… Да и возраст. Мне ведь уже сорок пять… Но ничего, — поспешила она добавить. — Я привыкну, постараюсь перебороть страх. — К страху нельзя привыкнуть. Опасность всегда так или иначе волнует. С этим надо бороться. Только не нужно, чтоб страх затемнял рассудок… Они сидели в ее большой темной квартире. Стояла глубокая тишина, и каждый звук: скрип паркета, шорох ее платья, даже голос — казался пугающе громким. И оттого, наверное, они говорили шепотом. — Понимаю, — продолжала Софья Львовна, — но не могу отделаться от ощущения, что все догадываются о моих намерениях… В каждом взгляде мерещится подозрение… — Это пройдет. Обязательно пройдет, — заверил ее Алексей. — Так расскажите все по порядку: как вы устроились к Патценгауэру? — Сказала ему, как вы учили: собираюсь сменить работу, куда-нибудь уехать. Он это встретил в штыки: "Уехать? И вы думаете, я вас отпущу? А я? Останусь без учительницы?" "Ну, — говорю, — найдете другую". — "Э, нет, другую не хочу. Вы меня вполне устраиваете". Он засмеялся. Я сначала заговорила о смерти дочери, о том, что мне нужно сменить обстановку. Тогда он стал серьезным. Долго думал и наконец спрашивает: "Хотите — в Берлин?" Я пожала плечами. "Это будет для вас прекрасный отдых. Да и наши занятия не прервутся! Только чтобы я вас мог взять в Берлин, вы должны стать моей сотрудницей. Согласны?" Ну, как вы догадываетесь, я не заставила себя уговаривать. Дело сложилось как нельзя лучше. — Какую, же работу вам предложил господин майор? — Секретарскую, в административный отдел. Я хорошо пишу на машинке, знаю стенографию. И вот уже несколько дней служу. Но те сведения, которые вам нужны, через мои руки не проходили. Алексеи зашагал по комнате. Звонко похрустывал паркет. — А другая машинистка в отделе есть? — Есть. Эльга. — Немка? — Да. Она сидит в отдельной комнате. Вход посторонним туда воспрещен. — Значит, там! — воскликнул Алексей. — Наверняка там. А вы знакомы с этой Эльгой? — Только здороваемся при встрече. — Как она к вам относится? Свысока? — Пожалуй, нет. Ведь она знает, что майор берет у меня уроки. Для нее я — лицо приближенное к начальству. — Это хорошо, — обрадовался Алексей и заходил по комнате еще быстрее. Подружитесь с Эльгой, окажите ей какую-нибудь услугу… — Попытаюсь, — обещала Софья Львовна. Эльге было лет тридцать пять. Тонкая, высокая, узкогубая, с серовато-пепельным цветом лица, она, видимо, и сама сознавала свою непривлекательность и при разговоре с мужчинами часто и без всякого повода краснела. Эльга была серьезна, аккуратна, замкнута, и что особенно нравилось майору Патценгауэру в Эльге — ее репутация "непорочной девы", исключавшая легкомысленные знакомства. И комендант считал, что одинокая некрасивая девушка незаменима для работы в секретном отделе. Ивашевой не потребовалось прилагать особых усилий к тому, чтобы сблизиться с Эльгой. Как-то машинистка-секретного отдела сама подошла к Софье Львовне и, приветливо улыбаясь, шепнула; "У меня к вам дело!" Они вышли в коридор. Эльга вытащила из кармана френча пачку "Тюркиш". — Курите? Софья Львовна, до сих пор никогда не курившая, тем не менее взяла сигарету и неловко склонилась над огоньком зажигалки. Эльга долго мялась и краснела и наконец осторожно начала: — Вы меня простите… Я понимаю, это нескромно с моей стороны, но… говорят, вы едете с майором в Берлин? Глядя на поблекшее лицо Эльги, Софья Львовна подумала, как точен был расчет Алексея. Стоило Софье Львовне однажды "обмолвиться" в комендатуре о предстоящей поездке с Патценгауэром, и это стало известно всем. — Возможно, — ответила она, догадываясь, какая просьба последует за этим вопросом, ибо уже несколько сослуживцев интересовались ее путешествием в Берлин. — Возможно, хотя точно пока неизвестно. А вам что-нибудь передать родственникам? — Да, — Эльга покраснела. — Если вас не затруднит… — О, с удовольствием! — воскликнула Софья Львовна. — Видите ли, у меня должен быть отпуск, но майор не отпускает и не отпустит, пока не подыщет мне замены. Софья Львовна заверила Эльгу, что непременно выполнит ее поручение. С тех пор, встречаясь в коридоре комендатуры, они останавливались, чтобы обменяться новостями. Машинистка, видимо, томилась своим затворничеством и была рада неожиданному знакомству. Иногда Эльга забывала, что перед ней русская: у Софьи Львовны было прекрасное берлинское произношение. Эльга была мягка, — предупредительна, и скоро случилось так, что Софья Львовна стала заходить в комнату с предостерегающей надписью: "Вход посторонним воспрещен", Эльга нарушала инструкцию. Но стоило ли опасаться этой симпатичной, уже немолодой женщины, когда сам комендант, видимо, доверяет ей. И даже берет с собой в Берлин. Получая канцелярские принадлежности, Софья Львовна увидела, что забыли привезти копировальную бумагу. Она решила воспользоваться этим обстоятельством. Софья Львовна сказала Эльге, что у нее кончилась копировальная бумага, и, скомкав несколько пробитых до дыр листиков, швырнула их в мусорную корзинку Эльги. Софья Львовна заметила там на дне смятые листы копировальной бумаги. Но Эльга посоветовала своей приятельнице пользоваться пока старой. — Она никуда не годится! — возразила Ивашева. — Ничего не поделаешь! Забери обратно — неизвестно, когда привезут новую! — рассудительно заметила Эльга. Софья Львовна нагнулась над корзиной и достала смятые листы копирки. Листы, которыми пользовалась Эльга. После работы Софья Львовна захватила их с собой. Они много добавляли к тому, что Ивашевой удалось подсмотреть на машинке Эльги, во время их недолгих встреч. Получение копирок было фантастической удачей. Трудно было даже предположить, что боязливая и нервная женщина могла так смело и хладнокровно одурачить сверхбдительных врагов. Как бы там ни было, перед Алексеем лежала какая-то частичка плана карательной операции "Фредерикус". Опытный разведчик теперь пытался представить себе полную картину. В этой "картине" оставалось много "белых пятен", но стали известны названия некоторых карательных отрядов и их численность, а главное — примерный район боевых действий. На одном из листков копирки Алексей разобрал две подписи: группенфюрера СС генерал-лейтенанта полиции Готтберга и штаб-офицера корпуса майора жандармерии Вебера. Столярова охватило радостное возбуждение. Он держал в руках не просто два синих листочка бумаги, а сотни спасенных человеческих жизней. Только бы документ благополучно попал к партизанскому командованию! Только бы что-нибудь этому не помешало! Судя по отрывочным сведениям, добытым Ивашевой, до начала операции "Фредерикус" оставалось три дня. Срок ничтожно малый. Не меньше суток требовалось только для того, чтобы переправить известия партизанскому командованию, а ведь вывести людей из опасной зоны дело непростое: на это тоже нужно было время. Алексей понимал; надо спешить, иначе план операции, добытый с таким трудом и риском, окажется бесполезной бумажкой. Но, как нарочно, он не знал, где искать в данный момент Тимофея, через которого поддерживал связь с Корнем. Село Пашково, где жил другой партизанский связной, Захар Ильич Кругов, находилось от города в двадцати километрах. Можно было бы пойти туда, но он плохо знал дорогу и рисковал потерять много времени. Алексей отправился в ателье Афанасия Кузьмича. Аня бывала теперь там часто — помогала отцу. Алексей рассчитывал там ее увидеть. Аня была одна. Отец куда-то понес заказ. Увидев Алексея, она кинулась наводить в комнате порядок. Алексей хотел было остановить ее, но она вырвала руку, избегая его взгляда. — В чем дело, Аня? Девушка остановилась, но не повернулась к Алексею. Он видел по ее опущенной голове, по согнутым плечам, что она ждет чего-то большего, чем простое дружеское приветствие. Но Алексей молчал. Аня выпрямилась и медленно, не оборачиваясь, пошла на кухню. У дверей она нарочито небрежно бросила: — Намусорено здесь… Прибрать нужно… И тут Алексею вспомнилось, как однажды она доверчиво положила голову на его плечо. Так вот оно что! Он-то совсем забыл об этом. Но она помнила, для нее это было нечто вроде молчаливого признания, и сейчас она хотела прочитать ответ хотя бы в его случайном жесте, интонации. А он встретил ее, как будто ничего не случилось. Неожиданное открытие обескуражило Алексея. Он опустился на лавку. Что делать? Поговорить с ней. О чем? Что он может сказать? Что? Он не смеет, не должен говорить ей то, чего она ждет. А говорить другое… стоит ли? Вернулась Аня. Рукава старенькой кофточки засучены, в руках мокрая тряпка. Светлые волосы сбились на лоб. Она принялась протирать старенький деревянный стол. — Аня, понимаешь… Она резко обернулась. Лицо ее покраснело. — Не надо, Алексей Петрович, не надо! — почти вскрикнула она. — Я знаю, что вы хотите сказать… — Хорошо, не буду, — согласился Алексей. Он был рад, что ему не нужно объяснять того, в чем он и сам не разобрался. Аня вызывала в нем большую нежность. Возможно, это была и не нежность, а просто благодарность. Но что бы ни было, он не мог дать волю чувствам… Семейный человек… Разведчик… Человек, у которого здесь нет даже своего имени. В тот вечер, как никогда, ему хотелось оградить Аню от беды. И как раз сегодня он должен был послать ее в холод и тьму, навстречу опасности. — Дорогу в Пашкове знаешь? — Пашкове? У Выпи? — Да. Ночью не заблудишься? — Да что вы! Сколько раз там была… Она разговаривала теперь с ним подчеркнуто деловитым тоном. И Алексей понял, что ее самолюбие задето. Она ведь не могла знать всех сложностей переживаний Алексея, его размышлений. Он старался показать, что ничего не замечает. — Нужно пойти сейчас в Пашкове… — Сейчас? — Рот ее слегка приоткрылся от удивления. — Да, сейчас. Как можно скорее… Он был уверен: не откажется. И не ошибся. Она начала одеваться. Пока Аня торопливо натягивала старенькую ушанку и пальто, он говорил ей: — Четвертый дом у леса, по правой стороне, если идти от города. Спросишь Захара Ильича. Два небольших, мелко исписанных, листочка, сложенных вчетверо, она, отвернувшись, сунула за лифчик. — Когда вернешься, зайди, расскажешь, что и как… Если ты успеешь вовремя доставить эти сведения, спасешь сотни, может быть, тысячи людей. Она стояла у порога, опустив голову, мяла в руке варежки. — Так я пойду? — Будь осторожна, обходи деревни стороной… — Ладно… — Валенки крепкие? — Отца предупредите… Хотелось ей что-то сказать, но он не мог найти слов. Алексей был восхищен мужеством этой девочки, которая с такой неженской смелостью пошла, ни о чем не спрашивая, навстречу неизвестности. Воспользовавшись короткой паузой, Аня кивнула головой и исчезла за дверью. Он слышал, как заскрипели деревянные ступеньки. Совсем стемнело. Отец Ани все не приходил. Алексея грызла тревога. Вставало перед глазами залитое лунным светом снежное поле, еле приметно темнеющая узкая, перехваченная поземкой дорога — и одинокая, удаляющаяся фигурка Ани. Что с ней будет? Что с донесением? Попадет ли оно по назначению? …Аня вернулась через два дня. Алексей за это время несколько раз заходил к Афанасию Кузьмичу. Когда усталая девушка вошла к нему в комнату и без сил опустилась на стул, Алексей набросился на нее с расспросами. У него сразу отлегло от сердца, когда он увидел ее живой и здоровой. План карательной операции ей удалось благополучно передать партизанскому связному. — Ты прямо из Пашкова? — спросил Алексей. — Да. Устала — жуть, ноги прямо отваливаются… — Почему задержалась? — Так… приключение одно на обратном пути, — небрежно ответила она. — Какое приключение? — Да полицейские прицепились… И хоть говорила Аня небрежно, Алексей видел, что дорожное происшествие было отнюдь не пустячным. — Рассказывай, — приказал он, растирая ее замерзшие руки. — Да мину я принесла… — Какую еще мину? — насторожился Алексей. — Которая с часами. Просили передать через вас одному человеку. Алексей действительно просил прислать мину с часовым механизмом для Готвальда. Но он никак не мог думать, что именно Ане придется ее нести. — Ну так возвращалась-то я днем, — между тем рассказывала девушка. — В Дуплянове остановили меня двое полицаев. "Документы!" Показала я им свой паспорт. Стали расспрашивать, как сюда попала, зачем. К тетке, говорю, в Пашкове ходила. Не знаю, может, я им плохо врала, только повели меня в участок. Иду, а сама дрожу, вдруг обыскивать начнут… — А где же ты спрятала мину? — В корзинку под картошку положила. В платке. — Так. Дальше. — Повели меня в участок. Снова: "Почему попала в Дупляново, зачем пришла?.." А у меня все мина из головы не идет. И вдруг полицая куда-то позвали, я в комнате одна осталась. Скорее достала мину, завела часовой механизм. — Разве ты умеешь обращаться с миной? — удивился Алексей. — Да, мне ребята в Пашкове на всякий случай объяснили. — Так, что же дальше… — Ну и сунула мину под стол. А когда полицай вернулся и снова стал допрашивать, я заплакала, говорю: "Дяденька, отпустите, у вас небось у самого дочка есть…" Он нахмурился, долго крутил усы, потом швырнул мне паспорт и как закричит: "Вон! Чтобы духу твоего тут не было! Еще раз увижу — узнаешь у меня, как шляться!" Я пулей выскочила за дверь и — бегом. А мину им на память оставила… Аня рассмеялась. Но Алексей даже не улыбнулся. — Вот что, — сказал он серьезно, — больше никаких мин… Это ведь не игрушки. Будешь делать только то, что я прикажу… Не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Не желаю. Поняла? И что за бессовестные ребята в этом Пашкове?! Аня остановила на нем удивленный, пристальный взгляд, но промолчала. Через два дня Алексей узнал от Шерстнева, что в Дупляновском участке произошел взрыв. Никто серьезно не пострадал. Гестаповцы почему-то заподозрили в диверсии самих полицейских, нагрянули целой комиссией, арестовали одного, а начальника Дуплянской полиции выгнали с работы. И Алексей долго подшучивал над Аней, как она "ликвидировала" фашистского служаку. — Спасибо тебе, дружище! — Секретарь подпольного обкома обнял Алексея и троекратно расцеловался с ним. — От всех наших спасибо! — Так это не я, — смутился Столяров. — Софью надо благодарить, ее рук дело. — И Софье передай мое спасибо! Я ведь, грешным делом, когда ты первый раз мне рассказал о ней, не очень-то в нее верил. А вот смотри ж… Какой женщиной оказалась… Ты ее береги… Этот разговор происходил ночью на конспиративной квартире в хуторе Белом. Карнович рассказал Алексею о провале карательной гитлеровской экспедиции "Фредерикус", в которой принимали участие не только танки, но штурмовая и бомбардировочная авиация. Целых десять дней гитлеровские войска зажимали в клещи огромные лесные массивы, обстреливали, бомбили и прочесывали предполагаемые опасные районы. Но в "опасных" районах они наталкивались лишь на изуродованные, обожженные деревья, вороха выброшенной взрывами мерзлой земли. Кое-где, правда, встречались покинутые землянки и шалаши, следы недавних костров. Партизаны в руки врагам не попадались. Их костры дымили за многие десятки километров от тех мест, где громыхали, врубаясь в мерзлую чащу, танки и крались тропами цепочки эсэсовцев и жандармов. Взволнованный рассказом Карловича, Алексей возвращался к себе, в Краснополье. Он еще не знал, что над головой одного из разведчиков его маленькой группы сгущались тучи. В тот же день взбешенный Штроп расхаживал по кабинету коменданта города Патценгауэра. — Я вас спрашиваю, господин майор, — кричал он, — откуда могла просочиться информация?! — Это я вас должен спросить, — сердито шевеля бровями, басил комендант. — Охрана военной тайны — ваша обязанность. — Прошу не напоминать мне о моих обязанностях, — ледяным тоном отрезал Штроп. — Я ни на минуту не забываю о них, не в пример некоторым. — На что вы намекаете? — сощурился майор. — Не догадываетесь? — с издевкой переспросил Штроп. — Ах, вы не догадываетесь! Или, может быть, не хотите? У вас под носом орудуют изменники, русские шпионы, а вы хлопаете глазами… Комендант не спускал со следователя настороженного взгляда. — Где перепечатывался план карательной операции? — закричал Штроп. — Здесь, в секретном отделе… — И это вы называете секретным отделом? — Но почему вы считаете, что партизанам стало известно об операции именно из комендатуры? — Я-ничего не считаю, господин майор. Если бы я считал, я б не разговаривал с вами здесь, а принимал бы меры… Я лишь предполагаю… Эта машинистка, Эльга, она вполне лояльна? Майор дернул плечами. — До сих пор у меня не было оснований… Она из почтенной семьи. Ее отец известный инженер, много лет работает у господина Круппа… — Мгм, — промычал Штроп. Этот довод несколько остудил его горячность. Но, может быть, туда кто-нибудь заглядывал, в этот ваш секретный отдел? — Но это запрещено. На двери висит табличка. Штроп остановился, покусывая нижнюю губу. — Я все-таки хотел бы поговорить с этой Эльгой, — проговорил он после некоторого молчания. — Табличка не солдат с ружьем. Через пять минут Штроп беседовал с Эльгой, а через четверть часа он вызвал к себе Софью Львовну. Он смерил Ивашеву долгим, подозрительным взглядом. — Вы, кажется, дружите с Эльгой? Приятное знакомство, не так ли? Внутри у Софьи Львовны все оборвалось. Тревожно, до темноты в глазах забилось сердце. Но она старалась овладеть собой и даже заставила себя улыбнуться. — Да, конечно, — ответила Софья Львовна. — Мы с Эльгой одиноки. Это нас сблизило… — Даже одиноким не полагается входить туда, куда не положено. — Господин офицер, я пожилая женщина, но я помогаю великой Германии в меру моих сил. Я дворянка, большевики отняли у меня все… даже единственную дочь — Ивашева лихорадочно собралась с мыслями. Какие доводы приводить в оправдание, чтобы отвести от себя подозрение следователя… Рита… Ведь никто не знал, что она нашла ее в карьере. Все думали, что ее убили на улице — так Ивашева говорила по совету Алексея. — Зачем вы входили в секретный отдел? — Я подружилась с машинисткой Эльгой — она вам говорила… — Вы когда-нибудь брали у нее что-нибудь? Уносили из комнаты? Софья Львовна поняла, что Штроп напал на верный след. Должно быть, нужно говорить правду, но так, чтобы эта правда маскировала истинное положение вещей. — Помнится, я несколько раз брала у нее копирку. Мы всегда занимаем ее друг у друга, когда бумага кончается, а работа срочная… — А на днях вы брали копировальную бумагу? — Да… Всего три листочка. — Где эти листочки? — живо спросил Штроп. — У меня в столе, — ответила Софья Львовна, мысленно благодаря Алексея, который настоял, чтобы она не только обязательно сохранила копировальную бумагу, взятую у Эльги, но и забила ее до дыр. Через несколько минут Софья Львовна принесла синюю копирку Эльги. Она была настолько стара, настолько изрешечена крохотными дырочками, что это обстоятельство несколько поколебало Штропа. Когда Штроп поделился своими подозрениями насчет Ивашевой с комендантом, тот горячо запротестовал. — Этого не может быть! Ивашева настроена против большевиков! Она религиозна, потеряла дочь… Ее высказывания… — Высказывания — это чепуха, господин майор. Не будьте так наивны! — Но я хорошо знаю Ивашеву. Мы долго к ней пристально приглядывались, изучали. Нет, этого не может быть. — Не слишком ли вы много на себя берете, господин майор? — язвительно спросил Штроп. — Я говорю то, в чем уверен. А вы высказываете только лишь предположение. В конце концов, что могли сказать ей копирки? И почему именно эти бумажки служили Эльге для перепечатки плана? Я сам подбираю сотрудников и подвергаю их тщательной проверке. А вы считаете, что мы должны всю исписанную копирку выискивать по мусорным ящикам? — Вы защищаете Ивашеву с упорством адвоката, — саркастически усмехнулся Штроп. — С чего бы это а? Уж не пленила ли зрелая красотка ваше сердце, господин комендант? Она еще весьма аппетитна… — Нет, — сухо отрезал Патценгауэр. — У меня с Ивашевой только служебные отношения. Но я ценю ее за исполнительность, аккуратность и хорошее знание языка. — Мгм…. черт побери! — раздраженно бросил Штроп. — Тогда внушите этой непорочной деве, а также всем сотрудникам, что, если на двери висит табличка "Вход воспрещен", значит, никто, кроме тех, кому положено, не смеет туда совать носа… — Да, да, — пробормотал Патценгауэр. — Я приму строгие меры… Штроп больше не настаивал. Когда он обсуждал дело о копирках с Венцелем, тот также положительно отозвался об Ивашевой. Откуда было знать Штропу, что Венцель дрожит за свою шкуру: допрос с пристрастием Софьи Львовны мог открыть тайну исчезновения Риты и того проклятого вечернего разговора, когда он проболтался ей о переброске штаба.6. Ретунь — место секретное
Теперь все свое внимание Алексей сосредоточил на секретном аэродроме. Сведения об этом аэродроме у подпольщиков были очень неопределенные. Шла неделя за неделей, а у Алексея не было еще и приблизительного плана действий. Между тем из Центра еще раз напомнили о задании и подчеркнули его исключительную важность. Разведчика охватило беспокойство. Он бился над почти неразрешимой задачей: как собрать хотя бы отрывочные сведения об охране аэродрома, системе пропусков, движении самолетов и т. д. Единственный человек, который иногда попадал за колючую изгородь аэродрома, был Готвальд, но он, как сообщал Шерстнев, повез какого-то офицера из комендатуры в Витебск и должен вернуться через две недели. Алексею ничего не оставалось делать, как только ждать. Наконец Тимофей назначил ему встречу в портновской мастерской. Но, едва переступив порог знакомой комнаты, Алексей заметил, что антрацитовые глаза Шерстнева блестят как-то чересчур ярко. — Что это? — спросил Столяров, втягивая ноздрями воздух. — Не догадываешься? — усмехнулся Тимофей. — Спиритус вини, а проще говоря, обыкновенная самогонка из обыкновенных картофельных клубней, называемых в науке… — Что с тобой, я спрашиваю? — Ты спрашиваешь? Хорошо, я отвечаю: алкоголь, проникая в кровь, вызывает… — Хватит ломаться, — жестко обрезал его Алексей. Он схватил Шерстнева за ворот рубахи и зло прошептал: — Почему ты пьян? Тимофей скосил глаза на стиснутый кулак Алексея и, бросив устало: "Убери руку", — опустился на стул. Алексей стоял рядом, тяжело дыша от охватившей его ярости. Несколько минут молчали. Потом Тимофей остановил на Алексее воспаленный взгляд. — Так тебя интересует, что со мной? Пожалуйста, могу объяснить. Со мной ничего. Просто у меня есть, например, физиологическое излишество — нервы. Это такие белые ниточки, они пронизывают все мышцы, каждую клеточку кожи. Так вот эти самые ниточки имеют скверную привычку сдавать… Иногда они попросту объявляют всеобщую забастовку… Так вот сегодня такой случай… Забастовка! — По какому поводу? — рассвирепел Алексей. — По какому поводу? Побывал бы ты в моей шкуре, поносил бы черную повязку на рукаве, тогда узнал бы: поводов предостаточно! Ты когда-нибудь видел, как загоняют людей в вагоны для отправки в Германию? Ты когда-нибудь слышал, как ревут бабы, какой выворачивающий душу стоит вой?! А ты задумывался над тем, что в такие минуты должен чувствовать я? А ведь у меня, черт побери, есть все-таки душа, — и с этим ничего не поделаешь! Тимофей вскочил и заметался из угла в угол. — Но на этот раз я видел кое-что пострашнее. Я видел, как людей сажали в машины и отправляли на Доронинский карьер. А я стоял на посту и знал, куда их везут, знал, но ничего не мог поделать. Тимофей на минутуумолк и добавил потухшим голосом: — Просто так, для общей справки, хочу сообщить: до войны я не мог равнодушно видеть, как режут курицу… Но это еще не все. — Он снова повысил голос. — Вчера я возвращался из одного села и услышал за своей спиной: "У-у, паскуда, ишь нажрал харю-то на немецких харчах". Это сказала старуха. Сказала и плюнула мне вслед. После паузы Шерстнев добавил: — Ну, сегодня я свободен от дежурства, устроил небольшой сабантуй. Пел, играл на гитаре. Люблю петь под гитару — это моя слабость. А ты любишь гитару, а? Алексей обескураженно молчал. — Понятно, презираешь. Ну, ну! Презирай! — продолжал Шерстнев тусклым голосом. — Вот что я тебе скажу. Зря я согласился надеть на себя эту маску. Она не для меня. Тут, наверное, нужен человек покрепче… — Ты просто устал, — сказал Алексей. Он уже жалел, что взял слишком резкий тон. — А что касается белых ниточек, то у них есть еще одно свойство: при алкоголе терять ощущение опасности. Прошу тебя, не забывай об этом. — Хорошо! — обещал Тимофей. Наступила пауза. В тишине комнаты слышно было, как под тяжелыми шагами Шерстнева трещат половицы. — Как Готвальд? — спросил Алексей. — Вернулся, — пробурчал Шерстнев. Валентин Готвальд жил с семьей в поселке Кровны, что в десяти километрах от города. Встречаться у него на квартире было опасно: незнакомый человек в такой крохотной деревушке сразу привлекал внимание. Мастерская Афанасия Кузьмича была на людной улице: там было удобно встречаться, но последнее время гитлеровские агенты так наводнили город, что Алексей больше не считал возможным часто наведываться в ателье. Да и появление там Готвальда, немецкого военнослужащего, могло привлечь любопытство соседей и внимание шпиков. Решили поступить иначе. Как только Готвальд поедет по Витебскому шоссе одни, без пассажиров, он остановится на третьем километре от города, около разбитой гипсовой статуи пионерки. Там лес подступает к самой дороге. Спустив баллон и разложив инструменты у машины, Валентин отойдет за деревья, где его и будет ждать Алексей. Уговорились, что за несколько дней до поездки Готвальда тот предупредит Шерстнева, а последний передаст через Афанасия Кузьмича условную фразу: "Блондинка ждет во столько-то". Дня через три после разговора с Шерстневым Аня пришла к Алексею домой ее послал отец. Свидание Валентин назначил на три часа дня. Ровно в три Алексей был в условленном месте. В лесу было сыро и прохладно. Вверху сдержанно гудели сосны — день выдался ветреный. По молодой, трогательно зеленой травке, перебегали солнечные блики. Алексей нес веревку в руках, — пришел, мол, человек за сухим хворостом. Скоро Алексей остановился: справа от города донесся рокот мотора. Между деревьями, блестя никелем облицовки, мелькнул черный "вандерер". У статуи пионерки (от нее остался только постамент и торчащие во все стороны прутья каркаса) машина остановилась. Хлопнула дверца. Шофер в серо-зеленой куртке и пилотке обошел "вандерер", пнул ногой заднее колесо, затем присел около него на корточки, оглянулся. "Вандерер", зло зашипев, плавно осел на левый бок. Готвальд строго следовал инструкции, которую Алексей передал ему через Шерстнева. Шофер снял колесо, вынул домкрат из багажника и принялся было накачивать камеру. Потом, перескочив через придорожную канавку, не спеша пошел к лесу. Вскоре его светло-русая голова показалась из-за кустов. Алексей вышел навстречу шоферу. Серые глаза Готвальда щурились от солнца. Поздоровались, кивнув друг другу. Алексею всегда нравилось красивое лицо Валентина, его сдержанность, тяжеловатая, с ленцой походка, обстоятельность, с какой тот отвечал на вопросы. Они присели неподалеку от машины за кустами. — Сумеете устроиться на аэродром? — спросил Алексей. — Не знаю. — Это необходимо. — Но как? Если я буду очень настойчив, это сразу вызовет подозрение. — Нужно сделать так, чтобы тебя самого пригласили. А ты должен будешь еще поломаться. Готвальд засмеялся. — Ну, вряд ли меня пригласят. — Почему же. Давайте-ка вместе покумекаем, как бы лучше выслужиться перед вашим начальством… По утрам без пяти минут восемь Готвальд подавал машину к подъезду кирпичного двухэтажного особняка, где жил комендант. Ровно в восемь часовой распахивал дверь парадного, и на пороге появлялся майор Патценгауэр, гладковыбритый, розовый после ванны. Натягивая на ходу перчатки, он, кряхтя, влезал в машину и доброжелательно кивал Валентину в знак приветствия. Но последнюю неделю дважды случилось так, что Готвальд подъезжал к крыльцу, когда майор уже стоял на ступеньках и нетерпеливо посматривал по сторонам. В первый раз Патценгауэр ограничился лишь недовольным взглядом. Во второй раз он назидательно изрек: — Точность и аккуратность — главная черта истинного германца! Впрочем, вы столько лет прожили среди русских, что поневоле усвоили их дикарскую манеру везде и всюду опаздывать. Готвальд виновато пробормотал извинение. По дороге в комендатуру он пожаловался майору, как якобы плохо людям немецкой национальности было жить в России при Советской власти. — У меня даже не было квартиры в городе, господин майор, — говорил Валентин, — и сейчас мне приходится ездить на работу за десять километров… Еще после двух-трех опозданий майор уже вознегодовал. Он пригрозил Готвальду увольнением, если машина будет подана хотя бы на пятнадцать секунд после восьми утра. Готвальд ссылался на то, как трудно ему добираться от Кровны до города, и однажды обратился к майору с просьбой — перевести его на другую работу, поближе к дому. Патценгауэр — человек не злой по природе — хорошо относился к Готвальду, хотя и сердился на его неаккуратность. Дорожил майор и тем, что Готвальд был немцем. Комендант не сразу отпустил Готвальда, предлагал ему подумать — работа в комендатуре хорошо оплачивалась. После очередного опоздания Патценгауэр сдался и стал подыскивать себе нового шофера, а Готвальду подходящую работу. Обращаясь с просьбой о переводе к коменданту, Валентин твердо знал: у его начальника выбор ограничен. Единственный объект, расположенный поблизости от поселка Кровны, — это аэродром. Расчет Готвальда оправдался: вскоре шоферу было приказано явиться на аэродром. Пропуск Готвальду был уже готов. Сухощавый офицер долго и придирчиво изучал его документы и наконец, позвонив по внутреннему телефону, приказал солдату открыть шлагбаум. В небольшом сборном домике, на который указал ему сухощавый офицер, Валентина ждал старший лейтенант с гладко прилизанными волосами и холодными, внимательными глазами, поблескивавшими за стеклами очков. По первым фразам разговора Валентин понял, что комендант все устроил. — Будете работать у нас шофером, — объявил старший лейтенант. Готвальд замялся. — Не знаю, справлюсь ли? — проговорил он неуверенно. — Майор Патценгауэр положительно отзывается о вашей деловой квалификации. Валентин, как учил его Алексей, долго расспрашивал о заработке, жилье и порядком надоел офицеру. И вот, когда главная цель была достигнута, неожиданно возникло серьезное препятствие. Старший лейтенант предупредил Готвальда, что тот обязан переселиться с семьей в деревню Клирос в двух километрах от аэродрома по шоссе, ведущему в город. Готвальд, придя домой, рассказал жене о переходе на новую работу и об условии, с этим связанном. — Не поеду, — твердо заявила жена Готвальда Евгения. — Мне и здесь хорошо. Другие в город стремятся, а ты — подальше в глушь. Да и мало ли людей всяких шатается теперь по дорогам. — Евгения протестовала, потому что из деревень вокруг аэродрома были выселены все жители, и фашистские власти туда водворяли только своих приспешников, проверенных в гестапо. О ребенке подумай, — продолжала причитать Евгения. — Да ведь и фельдшера там не найдешь. Всех угнали… Одни полицаи. До войны она преподавала математику в средней школе в Кровнах. Это была миловидная, невысокая, худенькая женщина с гладко зачесанными волосами, собранными на затылке в пучок. Валентин любил жену, но не мог ей сказать об истинных целях своей новой работы. Евгения тяжело воспринимала происходящее вокруг. Ее угнетало, что муж работает у немцев, она уже не раз думала, не покинуть ли гитлеровского прислужника. Только двухлетний Игорек удерживал ее. Переселение в деревню, где оставались жить только сверхпроверенные арийцы, пугало молодую женщину. Там бы она чувствовала себя совсем отверженной и оторванной от всех близких и знакомых. И без того уж последнее время соседи с ней не здоровались. — Но я уже согласился, — продолжал настаивать на своем Валентин. — Надо было сначала посоветоваться со мной. "Никогда не подозревал, что Евгения так упряма", — думал Готвальд. — Пойми, я ничего не могу поделать. Меня переводят на новую работу. Если я откажусь, мы останемся без куска хлеба, да и могут загнать в штрафной батальон или посадят в тюрьму за сопротивление приказу. Нельзя раздражать начальство. Мне потом отомстят… Погибнем все. Игорька жалко… На аэродроме и паек и зарплата приличная. В конце концов Евгения согласилась. Готвальды перебрались в деревню Клирос. Им отвели избу, из которой недавно выгнали хозяев. Треснувшая печь и выбитые стекла придавали помещению неуютный, нежилой вид. В темных, густо проконопаченных углах, казалось, остался призрак чужого несчастья. Переступив порог нового жилища, Евгения сердито посмотрела на мужа. Он поспешил улыбнуться… — Ничего, ничего, — проговорил Валентин. — Потерпи… Мы сейчас все приведем в порядок. В гараже аэродрома Готвальд получил в свое ведение новенький черный "опель-капитан". Валентин обрадовался: это была машина высшего класса, на таких разъезжали только большие чины. Значит, он будет возить начальников. О том, что Готвальд благополучно устроился на аэродром, Алексей узнал от Шерстнева. Тимофей видел, как Валентин проезжал на своем "опеле" мимо здания полиции. Готвальд приветственно помахал полицаю рукой, и Шерстнев понял, что все в порядке. Дня через два им удалось поговорить. Готвальд ждал у полиции приехавшего с ним одного из аэродромных начальников. Передал Шерстневу, что в город будет заезжать редко, а заранее предупреждать о своем маршруте не может: за обслуживающим персоналом секретного аэродрома велась постоянная слежка, и для каждой поездки в город нужен был хорошо мотивированный предлог. Да и в городе шпики ходили по пятам. Поговорив с Шерстневым, Алексей снова вспомнил о Лещевском. Единственный способ контакта с Готвальдом — встреча шофера с хирургом, к которому тот мог прийти под видом пациента. Нужно было придумать такую болезнь, которая требовала бы систематического посещения госпиталя, но не была бы заразной. Немцы панически боялись инфекции и при малейшем подозрении убрали бы Готвальда с аэродрома. На память Алексею пришла история, услышанная им от одного старого, опытного разведчика. Во время первой мировой войны этот человек работал писарем в штабе немецкого полка, одновременно будучи русским агентом. Дивизия стояла в сельской местности, а полученные сведения нужно было передавать связному в соседнем городе. Увольнительных не давали. Тогда разведчик заявил полковому врачу, что он уже несколько лет страдает от "трещины пищевода". Врач направил больного в городской госпиталь, где разведчика подвергли исследованию и предписали раз в десять дней являться в госпиталь на осмотр. Алексей решил, что версия о застарелой язве двенадцатиперстной кишки подходящий повод для того, чтобы Валентин пришел к Лещевскому. Через Аню он предупредил Лещевского о возможном появлении в госпитале пациента с "трещиной пищевода". Дней через десять молодой человек в солдатской куртке без погон пришел к Лещевскому в госпиталь. — Что у вас? — холодно спросил врач. — Старая болячка. Трещина пищевода. Лещевский пожал плечами. — Разденьтесь, — приказал он и, не глядя на пациента, принялся заполнять формуляр. …В трех километрах от аэродрома на обочине шоссе торчал полосатый столб. С прибитого к нему белого фанерного щита черные буквы предупреждали: "Запретная зона". Рядом стояла охрана. Двое автоматчиков подолгу придирчиво проверяли документы всех проезжавших по дороге. И только удостоверившись в полном сходстве фотографии с оригиналом, поднимали шлагбаум. И хотя документы Готвальда были в полном порядке, всякий раз, останавливаясь у полосатого столба и чувствуя на себе подозрительные взгляды охранников, Валентин нервничал. Через два километра у поворота к летному полю дорога подходила к колючей изгороди. Здесь документы проверялись еще раз, и после этого автомобиль пропускали в ворота аэродрома. Последний контрольно-пропускной пункт был уже внутри огороженного этой колючей проволокой пространства у группы небольших щитовых домиков, где располагались различные службы: диспетчерская, гаражи, столовая для офицеров. Назначение нескольких строений Валентину не было известно. Глубже в лес, на обширной поляне, темнели окна длинного низкого флигеля, у которого постоянно дежурило несколько легковых машин. Подъезд охранял часовой. Аэродром был расположен в лесу, и от сосен была расчищена одна только взлетная площадка. По асфальтированным дорожкам сновали офицеры, в большинстве своем старшие. Изредка здесь можно было увидеть и генералов. "Пожалуй, лучшего места для секретного аэродрома и не выберешь", размышлял Готвальд. Несколько раз, когда, видимо, прилетали особо высокие чины, Валентину приказывали подать машину прямо к самолету. Тяжелые оливкового цвета Ю-52 выныривали из-за зубчатой кромки леса, бежали по дорожке, затем, приглушенно урча моторами, подруливали к краю поля. Едва пассажиры выходили, самолет тут же отводили под туго натянутые маскировочные тенты. В машине Готвальда места пассажиров были отгорожены от кабины шофера толстым плексигласом — так что голоса сидевших за его спиной офицеров сливались в монотонное бормотанье. Невозможно было понять, о чем приехавшие разговаривают. С Готвальдом вообще никто не вступал в беседы. Садившиеся в машину офицеры бросали, не глядя на него, одно-два слова: — В город! — В отель! Или просто кивком головы указывали нужное им здание. Иногда Готвальду приказывали ехать в какой-нибудь населенный пункт. Тогда его "опель" шел обычно в длинной веренице машин. Однажды, когда прилетел седой, почтенных лет полковник, Готвальд нес его чемодан и небольшой сверток, завернутый в газету. Готвальд успел рассмотреть, что газета была датирована вчерашним числом и выходила в Берлине. Значит, эти "юнкерсы" прилетают прямо из столицы фашистской Германии! Так вот откуда эти чисто выбритые, лощеные представительные майоры, полковники и генералы! Валентин отпросился в город у начальника гаража, толстенького лысоватого обер-лейтенанта, сославшись на боль в желудке. Толстяк посоветовал Готвальду обратиться к врачу на аэродроме. Но Готвальд настоял, чтобы ему разрешили посетить госпиталь: он хотел бы показаться врачу, который лечил его раньше. Может быть, понадобится рентген. Толстяк отпустил Готвальда на три часа. Как-то Валентин вез на аэродром из города молодого надменного майора. Неподалеку от первого контрольно-пропускного пункта мотор "опеля" зачихал, несколько раз конвульсивно дернулся и замер. Кое-как переведя машину на обочину, Готвальд открыл капот. Оказалось, что засорился бензопровод. Пока Валентин ковырялся в моторе, мимо со свистом пронеслось несколько автомобилей. Один из них сопровождал эскорт мотоциклистов. — Скорей же, черт побери! — открыв дверцу, крикнул майор Валентину. Когда машина была налажена и "опель" на скорости восемьдесят километров мчался к аэродрому, Готвальд заметил, что майор то и дело нетерпеливо посматривает на часы. "Видно, торопится на какое-то совещание, — догадался Валентин. — Нет, не к самолету мои сегодняшний пассажир спешит". Шоферам было запрещено останавливаться ближе чем в двадцати пяти метрах от таинственного длинного здания. Майор же так торопился, что пришлось подъехать прямо к парадному входу. Он на ходу сам распахнул дверцу, спрыгнул на землю прежде, чем Валентин успел окончательно притормозить, и скрылся в темном прямоугольнике двери. Быстрый взгляд, брошенный Валентином на окна, запечатлел ряд затылков по ту сторону стекла, туго обтянутые мундирами спины, серебряные и золотые канты. Действительно — собралось какое-то очень важное совещание. Предположение подтверждали и шеренги роскошных машин, стоявших поодаль от флигеля. Помня наставления Алексея, Валентин жадно впитывал в себя каждую мелочь, каждую деталь. И пока Лещевский осматривал его, Готвальд торопливым шепотом рассказывал ему о своих наблюдениях. Рассказывая, Валентин вспомнил, как на днях встретил на шоссе, ведущему к аэродрому, подводу. На телеге, слегка прикрытые соломой, лежали три трупа. Лиц Готвальд рассмотреть не мог, но, судя по юбке, видневшейся из-под соломы, среди убитых была женщина. Двое других оказались детьми. Лошадью правил сморщенный старик в поддевке и выгоревшем картузе. Рядом с возницей, опустив ноги в пыльных сапогах, равнодушно покуривал сигарету молодой полицай. Готвальд притормозил машину. Махнул рукой полицейскому. Вожжи натянулись. Лошадь остановилась. Прикурив у парня с полицейской повязкой, Готвальд кивнул на трупы и спросил: — Кто это? — Да так… — нехотя заговорил парень. — По собственной глупости смерть приняли… — Ох, толковал же я им, — вмешался в разговор старик. — Не ходите туда, нет, не послушались… Выяснилось, что убитые — дальние родственники старика — старосты деревни. Вчера, собирая ягоды в лесу, они зашли в запретную зону. — Кто же это их? — спросил Готвальд. — Известно кто! Охрана! Которая самолеты стережет… — пробурчал старик. Он хотел добавить еще что-то, но полицай прикрикнул на него: — Ладно болтать-то! Лошадь тронулась. Валентин поспешил к машине. Перед глазами стояли немытые детские ноги, над которыми вились мухи. Готвальд жадно глотал табачный дым. На душе у него было тяжело. Но все-таки заговорил с полицаем он не зря: узнал еще одну подробность. Значит, аэродром охраняют еще и посты жандармерии. Что ж, об этом стоит сообщить в город…7. Майор Франц Деммель
В десять часов вечера 12 июня к Алексею пришла Аня. Проводив ее на свою половину, где везде были разбросаны колодки, обрезки кожи, старые подметки, Алексей прибавил огонь в лампе. Обычно Аня, едва переступив порог комнаты, кидалась наводить порядок: мыла полы, посуду, бралась за стирку. Но сейчас она устало опустилась на лавку и некоторое время молчала. — Что-нибудь случилось? — Да, — тихо ответила она. — Что же? — Меня отправляют в Германию… Произошло то, чего Алексей так боялся. Он сел на лавку рядом с девушкой. Не глядя на нее, спросил: — Откуда ты узнала? — Меня предупредил Шерстнев. А ему сказала Софья Львовна. Она видела мою фамилию в списках. У Алексея на скулах заходили желваки. — А, черт! — Он кинул взгляд на Аню. — Тебя надо переправить в лес. — Я не хочу в лес. Я хочу быть с тобой. Она говорила об этом как о чем-то твердо решенном. — Здесь опасно. За мной могут следить. — Пусть. — Но полиция тебя здесь разыщет и все равно отправит в Германию. Аня подавленно молчала. Алексей сказал как можно ласковее: — Хватит дурить. Ты ведь сама знаешь, что здесь тебе нельзя оставаться. Аня вдруг закрыла лицо руками и горько заплакала. — Я боюсь… боюсь за тебя, — вырывалось у нее сквозь судорожные всхлипывания. Алексей на мгновение растерялся. Снова она, сама не ведая того, говорит ему о своей любви. Она ждет от него решения, помощи, ответа на свои чувства. Но что он мог ответить ей? Каждый раз, когда она уходила во тьму, навстречу опасности, ему хотелось броситься к ней, догнать ее, оградить от беды. Но всегда он чувствовал себя бессильным… — Аня, — начал, запинаясь, Алексей, — ты очень славная… Ты… для меня столько сделала. Аня нетерпеливо дернула плечом. — Нет, послушай. Ты мой настоящий друг, а кроме того — ты всегда должна помнить это, — и солдат маленького отряда. Ведь мы все сейчас солдаты. Понимаешь это? Мы должны поступать так, как требует дело. Мы выполняем приказ. И ты должна его выполнить. Вытри слезы — солдаты не плачут…. Постепенно Аня успокоилась. Через полчаса, стыдясь этого, видимо, неожиданного даже для нее самой взрыва чувств, она согласилась с предложением Алексея. Они уговорились: до прихода связного из леса она поживет у Алексея, не показываясь на улице, а потом переберется к партизанам. Спохватившись, Аня достала из косы тонкий обрывок папиросной бумаги, хитро заплетенный в волосах. Алексей прочитал записку, и лицо его приняло то выражение сосредоточенности, которое, как успела заметить Аня, появлялось всякий раз, когда девушка приносила важное сообщение.* * *
Старинный костел стоял на булыжной хребтине Сенной площади. На стенах костела, сложенных из серого камня, осколки и пули оставили свои отметины. В нише над входом — статуя апостола Петра. Нос святого ключника был отбит осколком, и Алексею показалось, что в слепом, неподвижном взгляде апостола, устремленном к небесам, застыла немая жалоба на людское бессердечие. "Война не обошла и святых. Даже апостол Петр попал в инвалиды третьей группы", — Алексей усмехнулся и, поднимаясь по каменным ступенькам, прихрамывал заметнее обычного. Нищие, осаждавшие всех входивших в костел, не обратили особого внимания на плохо одетого инвалида. Алексей беспрепятственно вошел внутрь. Там было темно и прохладно. После яркого солнечного света он долго не мог ничего рассмотреть. В ноздри ему ударил горьковато-кислый запах сырой штукатурки — костел, видимо, недавно побелили. Гулко разносилось нестройное, разноголосое пение прихожан, бормотанье ксендза. Лицо его как бы растворилось в сумраке — белел только широкий воротник. Алексей встал у входа, принял позу молящегося и стал украдкой осматривать, скользя взглядом по затылкам и спинам. Перед ним розовела лысина немецкого офицера. Когда офицер склонялся в поклоне, поскрипывала портупея. Рядом с Алексеем вздыхала и вытирала слезы высокая старушка в черном;. Приглядевшись в темноте к сидевшим на скамейках, разведчик увидел слева знакомый четкий профиль. Готвальд, видимо, почувствовал на себе пристальный взгляд Алексея, обернулся. Глаза их встретились. Валентин еле заметно двинул подбородком: подходи, мол, поближе. В левом приделе, перед статуей богородицы с младенцем, горело с полдюжины свечей. От одной из них Алексей зажег свою, приклеил ее у основания статуи и, подняв глаза на каменное, бесстрастное лицо богородицы, неловко осенил себя католическим знаменьем. "Должно быть, я выгляжу со стороны вполне лояльным гражданином, посещая храм, ставлю свечки святой деве", — вновь усмехнулся Алексей. Между тем хор смолк. Ксендз скрылся за занавесом. Толпа стала редеть. На каменных плитах застыли в земном поклоне несколько старческих фигур. Готвальд прошел мимо Алексея, не поворачивая головы, шепнул: — Иди за мной. У опустевшего клироса он скрылся за какой-то низенькой дверью. Алексей оглянулся — в костеле осталось с полдюжины молящихся — и двинулся по направлению к дверце. В маленькой комнатке с низким сводчатым потолком Готвальд был один. — Нечего сказать, нашел подходящее место, — Алексеи пожал Готвальду руку. — Вполне подходящее. Мой начальник очень набожный, требует, чтобы мы посещали церковь Я назвался католиком и теперь по воскресеньям смогу приходить сюда. — Ты думаешь, здесь безопасно? — Вполне. Ксендз мой дальний родственник — мать у меня наполовину полька. К тому же ты пришел, чтобы загнать мне крупную партию табака. Ты спекулянт, человек солидный и, если кто войдет, держи себя соответственно. Правда, глядя на тебя, — смеясь, добавил Валентин, — не скажешь, что дела у тебя идут блестяще. — Я только начинающий, — в тон ему сказал Алексеи, — подожди, у меня будет котелок на голове, манишка, сигара во рту и… что там еще полагается иметь солидному предпринимателю? Валентин машинально достал пачку сигарет. — Ты что, — остановил его Алексей. — Здесь же храм! — Ах да! Готвальд хотел было спрятать пачку в карман, но Алексеи попросил: — Поделись, брат, со мной. Ведь я не на довольствии… Валентин отдал ему всю пачку. — Мне нужно сообщить тебе кое-что важное — Он перешел на серьезный топ. — Догадываюсь, что не зря мы встретились. — Я познакомился с одним немцем — Вилли Малькайтом. Он обслуживает офицеров связи, прилетающих из Берлина. Оказалось, что он, как и мой отец, из Дрездена. Несколько раз я его подбрасывал в город, тут у него живет какая-то зазноба. За это он снабжает меня сигаретами… Он приставлен к двум оберстам, которые по очереди раз в неделю прилетают в Ретунь. Фамилия одного Фукс, другого — Ланге. Запомни: Фукс и Ланге. Алексей кивнул головой. — Так вот… Через своего нового приятеля я узнал, что "юнкерс" с Фуксом или Ланге прилетает, как правило, в час дня. Я подаю машину прямо к самолету и везу к гостинице. Ты ведь знаешь, как у немцев все по строгому расписанию. Распорядок тут такой. В час дня прилетает самолет. Я жду на летном поле и везу в домик для приезжающих. Затем душ — двадцать минут, обед — пятнадцать минут, отдых — час. — А после? — спросил Алексей, испытывая неожиданный прилив нежности к этому аккуратному, толковому человеку. — Иногда я еду на Новые Выселки, знаешь? Это километрах в ста отсюда. Там, видимо, какой-то важный штаб. Какой, пока еще не знаю. Но чаще всего офицеры собираются в большом здании на самом аэродроме… — Кто они, эти Фукс и Ланге? — Точно не могу сказать. У каждого всегда при себе большой желтый портфель… Скорее всего офицеры связи из крупных штабов. — Вот оно что! — Думаю, что именно так. Судя по тому, с какой почтительностью к Фуксу и Ланге относятся даже генералы… Алексей пристально посмотрел на Готвальда и медленно проговорил: — Ты принес очень важные сведения, Валентин. Ты даже сам не подозреваешь, как они важны…* * *
В знойный июньский полдень к шоссе, ведущему на аэродром, в трех километрах от контрольно-пропускного пункта, вышел немецкий офицер в новом, видимо, только сшитом мундире со знаками отличия майора. Сосновый бор начинался прямо от обочины дороги. Подтянутый, чисто выбритый и даже благоухающий духами, офицер посмотрел в обе стороны пустынного шоссе, затем нырнул в кусты, нагнулся и, достав из кармана кусок сукна, старательно, до блеска начистил запылившиеся сапоги. Солнце палило. Дышать было трудно. От сосен тек горьковато-терпкий смолистый запах. В покойную полуденную тишину тревожной нотой вплетался далекий, еле слышный рокот самолетов. Офицер вытер носовым платком блестевшее от пота лицо и еще раз оглядел шоссе. Над раскаленным асфальтом дрожало марево. Ю-52 приземлился в 13.03 и подрулил к краю летного поля. По трапу неторопливо сошел полковник Фукс, седой краснолицый офицер в блестевших на солнце очках. Фукс выкинул руку, приветствуя военных, столпившихся у трапа, и направился к черному "опель-капитану". Валентин почтительно открыл перед ним дверцу. Фукс кивнул ему как старому знакомому. Десять минут спустя "опель" остановился у домика для приезжающих. Готвальд снова услужливо распахнул дверцу машины и на отличном немецком языке пожелал оберсту хорошего отдыха после утомительного полета. Однако Готвальд не повел машину в гараж. Он поднял капот и принялся возиться в металлических внутренностях автомобиля, дышавших жаром. Руки слегка дрожали, нервы были напряжены; когда рядом послышался шорох шагов, он обернулся слишком резко. К счастью, проходивший мимо обер-лейтенант не обратил на незадачливого шофера внимания. Валентин закончил осмотр машины, закурил и пошел в гостиницу. В вестибюле, застланном коврами, было прохладно и тихо. Журчал, приемник в углу: скрипка плела капризное кружево мелодии… В коридоре Валентин столкнулся с добродушным румяным Вилли. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что Малькайт — любитель пива, карт и девочек. Осторожно ступая, он нес перед собой поднос с кофейником, маленькую чашку, какие-то тарелки, прикрытые накрахмаленной салфеткой. Упитанные щеки Вилли раздвинулись в улыбке. — Скучаешь? — подмигнул он Готвальду. — Что делать? — пожал плечами тот. — Хоть бы переброситься с кем в картишки… Лицо Вилли приняло озабоченное выражение. — Сейчас не могу, сам видишь, — он показал глазами на поднос. — Понимаю, — Валентин сочувственно вздохнул. — Такая жарища, в горле пересохло. Совсем сморило! Эх, неплохо кофейку выпить, а то заснешь еще в машине. — Пожалуйста, — Вилли не растерялся. Поставив поднос на маленький столик, денщик достал из кармана складной металлический стаканчик, снял крышку с кофейника. Из него вырвалось облачко горячего пара. Валентин с наслаждением втянул запах, зажмурил глаза. — Какой аромат! — Настоящий мокко, только что помолотый, — пояснил Вилли, наливая кофе в стаканчик и передавая кофейник Валентину. И вдруг крышка кофейника выскользнула из рук Готвальда и, гремя, покатилась под диван. Валентин извинился за свою неловкость и продолжал мелкими глоточками отхлебывать кофе. — Подержи-ка! — Малькайт нагнулся, чтобы поднять крышку. — Эх, черт, далеко закатилась! — И полез под диван. Готвальд неотрывно глядел на Вилли, а тот все никак не мог дотянуться до упавшей крышки. Валентин проворно сунул руку в карман. В ладони у него оказались таблетки, которые он торопливо бросил в дышащий паром кофейник. Отдуваясь, Вилли вылез из-под дивана. Водворив крышку на место, он заторопился. — Побегу, — бросил он приятелю и, еще на мгновение задержавшись, спросил: — В субботу подбросишь к девчонкам, а? — Обязательно! — заверил его Валентин. — А ты не знаешь, когда сегодня потребуется машина твоему начальству? — Думаю, через час с четвертью. Полковник собирается отдыхать. А что? — Да что-то капризничает карбюратор. Хочу заехать в гараж. — Валяй, дружище! Да смотри не опоздай. Как только Малькайт скрылся за дверью второй справа комнаты, Валентин выскочил на улицу, сел в свой "опель" и рывком взял с места.* * *
Гостиница для приезжающих находилась метрах в пятистах от контрольно-пропускного пункта. Готвальд до конца утопил педаль газа. "Опель", разрывая в куски свистящий ветер, торопливо глотал серую ленту шоссе. Мелькали красноватые стволы сосен. Охрана хорошо знала Валентина в лицо, тем не менее при выезде за ворота у него тщательно проверили пропуск. На третьем километре у телеграфного столба с подпоркой Валентин взглянул в зеркальце над ветровым стеклом. Убедившись, что сзади никого нет, он притормозил, круто развернул машину на сто восемьдесят градусов и остановился на обочине. В ту же секунду из кустов орешника вышел немецкий офицер. Он сам распахнул дверцу и сел рядом с Готвальдом. Валентин с трудом узнал Алексея: твердо сжатые губы, суженные, холодно поблескивающие глаза под лакированным козырьком, фуражка со свастикой. — А где достали форму? Сидит как влитая, — спросил восхищенный Готвальд. — Корень прислал. У них всякие есть из трофейных. А Афанасий Кузьмич пригнал по фигуре! Голос Алексея звучал глухо. Валентин кинул взгляд украдкой на кисти рук Алексея — они спокойно лежали на коленях. — Тише. Не гони машину, — скомандовал разведчик. Голос его звучал с незнакомыми холодно-повелительными интонациями. — Следи за лицом. Оно у тебя слишком напряжено. Постарайся придать ему скучающее, равнодушное выражение. Как обстановка? Валентин посмотрел на часы. — Фукс уже лег спать… — Снотворное? — В кофе. Готвальд рассказал Алексею все как было. — Дверь заперта? — спросил Столяров. — Обычно не запирают. Будем и теперь надеяться на счастливый случай. Приближался контрольно-пропускной пункт. Оба молчали. Алексей был внешне спокоен. На самом деле с той минуты, как он сел в "опель", им овладело нервное возбуждение. Это была хорошо знакомая "реакция на опасность". В такие минуты все чувства его обострялись, мысль работала с удвоенной быстротой, все силы были собраны воедино и приведены в боевую готовность. Страха не было, и Алексей даже любил эти минуты наивысшего напряжения, чем-то близкого творческому вдохновению. В нагрудном кармане лежало удостоверение личности на имя майора Франца Деммеля. Документ был подлинный. Столяров не решился бы довериться подделке, зная, что у такого ответственного объекта дежурят люди с опытным, наметанным взглядом. Достать документ удалось с помощью Лещевского. В немецкий госпиталь привезли тяжело раненного офицера майора Деммеля. Осколок застрял в брюшной полости, и извлекал его сам Лещевский, дежуривший в этот вечер. Столяров уже давно просил Адама Григорьевича достать офицерское удостоверение. И хирург искал возможность выполнить эту просьбу, но документы прибывающих оставались обычно в приемном покое госпиталя. На этот раз Лещевский был первым, кто подошел к раненому. Во время осмотра хирург осторожно вынул у Деммеля из кармана френча удостоверение и сунул его себе в халат. После этого он приказал санитарам срочно нести офицера в операционную. Когда санитары сняли с немца залитое кровью обмундирование, Лещевский приказал осмотреть — нет ли в карманах документов. Были найдены только фотографии, но удостоверения личности не оказалось. Раненый был зарегистрирован по фамилии, написанной на одном из конвертов. Документ на имя майора Деммеля врач передал Алексею через Шерстнева. Столяров осторожно над паром отклеил фотографию майора и приклеил свою. Недостающий сектор круглой фиолетовой печати оттиснул на фотографии сам. Алексей придирчиво изучал свою работу, изъяна отыскать не мог. Но все-таки он беспокоился. А вдруг этот изъян обнаружат те, что стоят у шлагбаума? Расстояние от первого КП до гостиницы для приезжих показалось Алексею бесконечной дорогой в неизвестность. Долго потом он вспоминал эту дорогу, колючий холодок в пальцах, звон в ушах, руки унтер-офицеров, долго, невыносимо долго вертящие удостоверение майора Франца Деммеля, липкие взгляды, перебегавшие с его лица на фотографию. Стараясь сохранить равнодушное, холодно-надменное выражение лица, он глядел прямо перед собой на полосатый шлагбаум и краем глаза четко запечатлевал каждое мельчайшее движение охранников. Левая рука его при малейшей опасности готова была ринуться в карман френча за лимонкой, правая — дернуть ручку дверцы. И в то же время где-то в далеких уголках сознания созревала мысль: "Уйти невозможно, почти невозможно… Даже, если удастся швырнуть лимонку и скрыться в лесу. Вокруг охрана, секреты, полицейские пункты. Нет, не уйти!" Толстый унтер вернул ему книжечку. Такая же процедура повторилась у ворот в заборе из колючей проволоки. "Опель" плавно покатил по узкой асфальтированной дороге. По бокам стояла золотисто-охристая колонна сосен, между которой мелькали сборные домики защитного цвета. К ним вели дорожки, аккуратно присыпанные песком. "Будто санаторий", — подумал Алексей. Правда, сновавшие вокруг люди в комбинезонах и кожаных куртках мало походили на отдыхающих. У отеля "опель" остановился. Алексей небрежно ответил на приветствие часового и через вестибюль прошел к прохладному коридору. Странно, но почему-то в глаза ему бросился желтый листок липучки на столике. На нем, увязнув тонкими ножками, отчаянно билась оса. "Должно быть, тот самый столик, где Готвальд подсыпал в кофе снотворное!" Из-за какой-то двери вынырнул пухлощекий ординарец. Губы его сально блестели. Вытянув руки по швам, он вопросительно смотрел на Столярова. Алексей догадался, что перед ним приятель Готвальда Вилли Малькайт. Алексей помнил, что Фукс остановился во второй комнате справа. Ничего не сказав денщику, с непроницаемым лицом, разведчик прошел мимо Вилли. — Герр полковник сейчас отдыхает, — сказал Малькайт, видя, что незнакомый ему офицер направляется к комнате Фукса. — Отдыхает? — удивился Алексей. — Но мне приказано явиться. — Так пойти доложить? — Нет, благодарю. Я подожду, когда полковник проснется. Столяров опустился в кресло. Вилли стоял в нерешительности. — Вы свободны, — распорядился Столяров. Едва денщик исчез, Алексеи встал и направился к двери, за которой отдыхал полковник Фукс. Оглянулся — коридор был пуст. А что, если полковник не спит? Что ж, тогда он извинится и скажет, что ошибся дверью. Полковник спал, тихонько всхрапывая. Рот его был слегка приоткрыт. Из-под одеяла торчала синеватая, в старческих узловатых венах ступня. Рядом на стуле стоял большой желтый портфель. Ключ торчал в дверях, но Алексей решил не запираться — так легче будет объяснить свое присутствие здесь. Алексей вынул из кармана чистый лист бумаги, карандаш, положил все на столик, сел на стул. Да! Если войдет дежурный офицер, Алексей скажет, что пишет записку полковнику. Ни на секунду не выпуская из поля зрения лицо Фукса, он взял желтый портфель. Заглянув внутрь, Алексей похолодел: в портфеле не было ничего, кроме старых газет и бритвенного несессера. "Скорей из этой комнаты, пока кто-нибудь не вошел! Но не побриться же и прочитать старые газеты прилетел сюда полковник из Берлина? Может быть, карты и документы спрятаны где-нибудь в сейфе? Мгновение Алексей стоял посредине комнаты в нерешительности. Затем, неслышно ступая, подошел к кровати, на которой спал Фукс, и осторожно сунул руку под подушку. Пальцы нащупали жесткие края папки. "Осторожный, черт! Даже спит на своих бумагах". Рассчитанным движением Алексей вынул из кармана миниатюрный фотоаппарат… Через несколько минут по коридору медленно, прихрамывая, прошел к выходу выхоленный офицер. На крыльце стоял Вилли и весело переговаривался с Готвальдом, выглядывающим из машины. — Я не дождусь полковника, — процедил сквозь зубы Алексей. — К дежурному по аэродрому! — распорядился он, когда Готвальд почтительно распахивал перед ним дверцу "опель-капитана".* * *
Через два дня после того, как Алексей сфотографировал содержимое портфеля полковника, он сидел вместе с секретарем подпольного обкома на конспиративной квартире. Пленки были уже проявлены, с них сделаны отпечатки. Фотоаппарат возвращен Карновичу. Алексей держал в руках фотографии. Мелкие машинописные буквы, чуть расплылись (второпях Алексей, видимо, неточно установил диафрагму), но, однако, читались без особого труда. Скользнув глазами по первым строкам, Столяров обнаружил, что документы обозначены грифом "Совершенно секретно". Это были приказы и планы переброски войсковых соединений из-под Могилева, Витебска и Смоленска в район Курска — Воронежа. Алексей понял, что сведения, которые он добыл, чрезвычайно существенны. Понял это и Карнович. Когда они снова внимательно все перечитали, Карнович похлопал Алексея по плечу. — Ты знаешь, что это такое? — спросил он Столярова. — Ты понял, что ты сотворил? — Догадываюсь. — Ведь переброска войск в таком количестве… Это… не так просто… — Документы указывают на то, — твердо сказал Алексей, — что немцы собираются вести решительное наступление на Южном фронте… — Но, возможно, наше Главное командование уже информировано о направлении удара, — возразил Карнович. — Не знаю. Во всяком случае, надо как можно скорее передать эти документы в Москву. Они ведь ждут…8. Агент А-39
Альберт Обухович, он же Михаил, он же агент А-39, еле поспевал за беглецами. Судя по тому, какой темп задали беглецы, они поверили, что их действительно спасли от расстрела партизаны. "А ведь неплохо подстроено, — думал Обухович. — Эти остолопы приняли все за чистую монету. Так мчатся, что у меня вот-вот лопнет сердце…" Ободранные, исцарапанные в кровь, беглецы распластались в зарослях. Жадно, как выброшенные из воды рыбы, хватали ртом воздух. У Обуховича дрожали руки и ноги, отчаянно, до звона в ушах колотилось сердце. Потом у него началась рвота. До войны Обухович заведовал промтоварной базой, проворовался и угодил в тюрьму. С приходом немцев он намеревался взять реванш за напрасно потерянные годы, сразу же поступил в полицию. Но торжествовать долго ему не пришлось. Советские люди, которым он мечтал отомстить за арест, снова взяли верх над ним, взорвав артсклад, куда его только что приняли в охрану. И вот теперь он должен был улыбаться своим врагам, заискивать перед ними, искать их расположения, каждую минуту опасаясь, что его раскусят. …Дымчатые столбы солнечного света падали почти отвесно, когда все четверо, отдышавшись, спустились в кочковатую низину. Между березами блеснула узенькая речушка. В ее ртутной глади отражались громоздкие кучевые облака. Спутники Обуховича стали поспешно раздеваться. Тайный эмиссар Штропа тоже было стянул мокрые от росы сапоги, но, взглянув на грязное, полуистлевшее белье беглецов, остановился. Черт побери, разве мог он думать, что ему придется раздеваться у всех на виду! Он облачился в старенькую красноармейскую гимнастерку, а исподнее надел немецкое. Сейчас Обухович с завистью смотрел, как его новые знакомые плескались в воде, ныряли, фыркали, возбужденно переговаривались, обсуждая свое неожиданное освобождение. Обухович разулся, закрутил штаны до колен и, войдя в реку, принялся умываться. — Эй, браток! Ты что — вроде как воды боишься? — спросил его один из беглецов, которого товарищи называли Федором. Это был коренастый здоровяк, широколицый, с неправдоподобно светлыми глазами. Обухович раздвинул рот в улыбке, блеснув сталью искусственных зубов. — Не остыл еще! Как бы не застудиться… Ревматизм у меня. — Да, ая-то думал, утонуть боишься… Товарищи Федора засмеялись. "Издевается, сука… Неужели догадался? — холодея от страха, подумал Обухович. — Надо держать ухо востро!" После купания собрались на поляне, чтобы посоветоваться, что делать дальше. Федор предлагал идти в лес к тому месту, где можно было встретить кого-нибудь из партизанских связных. Двое других поддержали Федора. Подпольщик с лицом в кровоподтеках уставился на на Обуховича единственным глазом (другой застилал фиолетовый наплыв) и спросил о его планах. Хотя Штроп приказал следовать за этими людьми повсюду, Обухович не мог преодолеть своего страха перед лесом. К партизанам ему идти не хотелось. По многочисленным рассказам он хорошо знал, какую строгую проверку проходит каждый новый человек в отряде у партизан, и очень редко кому из агентов удавалось войти к ним в доверие. Как правило, большинство негласных сотрудников полиции, проваливались-партизаны их разоблачали. Он предложил своим новым знакомым вернуться в город, к "надежным людям" — двум военнопленным, которые работают у немцев. — Один — электриком, а другой — плотником, и квартиры их вне подозрений! — уверял Обухович своих спутников. — У них кое-что из оружия припрятано, — говорил он все убежденнее, — переночуем, отдохнем, прихватим с собой хозяев — и в лес. На самом деле никаких "надежных людей" у него в городе не было. Да и весь этот план с конспиративными квартирами родился у него только что. Целью его было заставить этих людей навести его на след городского подполья: его участников Обухович боялся меньше, чем партизан. Однако Федор, который, видимо, пользовался среди своих товарищей авторитетом, возразил, что лезть еще раз в пасть гестапо они не желают, а будут искать партизан в лесу. В конце концов договорились, что Михаил, как назвал себя Обухович, вернется в город к своим знакомым. Федор же с товарищами пойдет к партизанам, дня через три пришлет к лесной сторожке, неподалеку от села Выпь, верного человека, который и проведет Михаила и его друзей электромонтера и плотника — в лесной отряд. Прощаясь, Обухович на всякий случай дал Федору адрес квартиры, где жил его знакомый — негласный сотрудник полиции. На следующий день Обухович был в городе. Штроп, выслушав доклад агента, одобрил его план действий. На квартиру к негласному сотруднику полиции подселили еще одного, и Обухович отправился на условленное место — к лесной сторожке у села Выпь.9. Штроп идет по следу…
Негативы переснятых приказов уже находились на пути в партизанский лагерь, откуда их должны были отправить с первым самолетом в Центр, а между тем на аэродроме полковник Фукс забеспокоился… После визита Алексея Вилли с большим трудом поднял своего начальника. Фукс, не понимая, что с ним происходит, никак не мог оторвать голову от подушки и, поднявшись, долго ходил по комнате, словно с похмелья. Когда наконец полковник пришел в себя, Вилли доложил шефу, что его ждал какой-то майор, но так и ушел, не дождавшись. — Какой майор? — проворчал Фукс. — Вы его вызывали. Так он сказал, господин полковник… — Вилли был растерян. — Я никого не вызывал, — снова буркнул Фукс. Вилли страшно испугался. А полковник все настойчивее требовал, чтобы Вилли объяснил, кто же все-таки приходил и почему денщик не удосужился даже спросить фамилию майора. Какое-то смутное беспокойство охватило Фукса. Он отбросил подушку, папка лежала на месте, документы были все целы. Но полковнику показалось, что шнурки на ней завязаны несколько иначе, чем это привык делать он. Фукс накинулся на Вилли с бранью, а тот, совершенно ошалев от страха и понимая, что в чем-то провинился, лепетал бессвязные слова оправдания. Фукс не мог отделаться от тревожного чувства. Что это за странный визит? И почему так невыносимо болит голова? Уж не заболел ли он? А Вилли все лепетал, что он не мог расспрашивать господина майора, он простой солдат, только выполняет приказ. Перед денщиком маячила угроза штрафной роты, а может быть, и чего-то похуже… Фукс, уходя на совещание, пригрозил Вилли, что все равно дознается, что за странный посетитель был у него, но в то же время приказал денщику пока молчать и никому о происшествии не рассказывать. В тот же день Фукс проводил совещание командиров частей, дислоцировавшихся в районе города и предназначенных в ближайшее время для отправки на юго-восток. Полковник рассчитывал, что загадочный майор еще явится к нему и все объяснит. Но тот все не приходил. Своими опасениями Фукс решил поделиться со Штропом, которого хорошо знал еще до войны. И полковник отправился в гестапо. Они встретились как старые друзья. Штроп предложил полковнику рюмочку коньяку, но тот наотрез отказался. — Вы понимаете, — говорил Фукс. — У меня до сих пор смертельно болит голова. Такое чувство, что кто-то был в моей комнате в то время, когда я спал. И это не бред. Штроп попросил рассказать все подробности. В тот же день по распоряжению Штропа в гестапо допросили денщика Фукса — Вилли Малькайта. Перепуганный насмерть, он довольно путано обрисовал внешность майора, но показал, что незнакомца привез шофер Готвальд. Вызвали Готвальда. Тот подтвердил, что действительно привозил на аэродром неизвестного ему до сих пор офицера. Однако, кто этот офицер, он, Готвальд, до сих пор не знает. — Где вы его встретили? — спросил гестаповец, допрашивавший Валентина. — А на шоссе. У него сломалась машина. Он задержал меня и приказал как можно скорее доставить его на аэродром. Дальше Валентин пояснил, что неизвестный офицер, пробыв пять-десять минут в гостинице, вышел на улицу. Он потребовал, чтобы Готвальд, который со своей машиной, как всегда, ожидал Фукса, доставил его к дежурному офицеру, но по дороге передумал и приказал доставить его опять на шоссе к неисправной машине. Готвальд, хотя и боялся опоздать к тому времени, когда понадобится Фуксу, вынужден был исполнить приказ старшего офицера. Видимо, машина господина майора уже была исправна, во всяком случае, Готвальд успел заметить, как неизвестный офицер сел в машину и уехал в направлении города. Сам же Готвальд поспешно вернулся к гостинице. Шофер держался в гестапо спокойно, на вопросы отвечал уверенно. Его показания совпадали с тем, что говорил денщик. Первым желанием Штропа, когда он узнал о результатах допроса шофера, было тут же, немедленно арестовать Готвальда. Но, поразмыслив, он решил, что эта мера преждевременна. Гораздо важнее установить за ним слежку. Дня через два после разговора с полковником шпик, приставленный к Готвальду, донес, что последний заходил в кабинет хирурга военного госпиталя — Лещевского и пробыл там четверть часа. Подслушать их разговор не удалось, однако, как установил агент, последние два месяца шофер посещал врача примерно раз в десять дней. Агент смотрел карточки больных, обнаружил, что у Готвальда зарегистрирована застарелая язва желудка, которая последнее время его беспокоит. Все посещения больным госпиталя были тщательно записаны, так же как и лекарства, которые ему прописывались. Но что-то Штропу показалось подозрительным. Тонкие ноздри его нервно затрепетали. Он поспешно достал сигарету и жадно закурил. — Продолжайте наблюдение, — распорядился он, — и обо всем сразу же докладывайте мне. В тот же день санитарная часть аэродрома вывесила объявление, в котором обязывала — обслуживающий персонал в течение двух дней пройти медицинскую проверку. По приказу Штропа один из опытных немецких госпитальных врачей выехал на аэродром. Врач, поблескивая стеклами маленьких старомодных очков в золотой оправе, участливо расспрашивал Готвальда о его здоровье. — Так, так… язва желудка, говорите? Ай-аи-ай. Нехорошо. Такой еще молодой человек, такое сильное тело. Настоящий ландскнехт! Порекомендовав шоферу не поднимать тяжестей, не курить и не есть ничего острого, врач закончил осмотр и, едва Готвальд вышел за дверь, позвонил Штропу. — Абсолютно здоров, господин полковник. Да, да, уверен. У меня нет ни малейших подозрений. Здоров как бык. Готвальд понял: пришла беда. Правда, его отпустили после допроса, но он знал, что не отвел от себя подозрений. Ведь он действительно был абсолютно здоров, а врач, осматривавший его, был старый и опытный. Дома он изо всех сил пытался скрыть свое состояние, но это ему не удалось. Жена донимала его расспросами. Валентин уверял ее, что он просто устал. — Разве я не вижу! — воскликнула Евгения. — Последнее время ты стал совсем другим, что-то скрываешь. Нет, нет, не спорь — я все вижу. Это началось, как только мы переехали сюда, в эту проклятую дыру. Валентин едва слушал жену. Мысли его были заняты одним: надо бежать. Но нужно сначала предупредить своих и переправить к партизанам семью. Он знал, что в его распоряжении считанные часы, и, с трудом дождавшись вечера, отправился к Лещевскому на квартиру. Другого выхода он не видел. В этом и была его ошибка. Он, отправляясь к Лещевскому, не заметил, что — за ним увязался "хвост". Выслушав Валентина, Адам Григорьевич забеспокоился: надо предупредить Алексея. На следующий день он забеспокоился еще больше: из регистрационного ящика исчезла карточка Готвальда. Сначала он подумал, что положил карточку в ящик своего стола, но ее не оказалось и там. Ах, как сейчас не хватало рядом Алексея, его мудрого совета и поддержки! До недавнего времени связной у них была Аня, и теперь, когда ее переправили в лес, к партизанам, Алексей предложил другой способ общения. — Будете ставить меня в курс дел обо всем письменно, — сказал Алексей. — Знаете, где находится Крестьянская улица? Лещевский утвердительно кивнул головой. — Еще бы! Я ведь здешний старожил! — Так что, — продолжал Алексей, — там на правой стороне улицы, в последнем телеграфном столбе, устроен у самой земли тайник. В небольшую эту щелочку вы вложите записку. Чтобы ее не заметили, бумагу на сгибе замажьте простым карандашом. Письмецо старайтесь класть в сумерках, сперва убедитесь, что вокруг никого нет. Этим способом связи Лещевский и решил воспользоваться. Вечером, возвращаясь из госпиталя, приказал шоферу остановиться неподалеку от Крестьянской улицы и сказал, что хочет пройти пешком. Шофер уехал, а Лещевский медленно, размеренно шагал, поравнявшись с последним столбом на правой стороне улицы, сунул записку в щель. При этом он сделал вид, что, закуривая, уронил спички. …На следующий день озадаченный Адам Григорьевич нашел карточку Готвальда на месте, в регистрационном ящике. Вертя ее в руках, Лещевский понял, что совершил недопустимую оплошность, не уйдя из города немедленно, как только узнал о допросе Готвальда. Лещевский не знал, что карточка появилась на месте после того, как Штроп отчитал врача, исследовавшего Готвальда, за то, что тот не догадался поставить ее на место немедленно. С этой минуты Лещевский потерял спокойствие. Он понял, что гестапо напало на след, каждый шаг его отмечен шпиками, и особенно его волновало: вдруг кто-нибудь из агентов видел, как он всовывал записку в тайник. Лещевский боялся, что он навел ищеек на след Алексея. Прощаясь на шоссе с Готвальдом после посещения комнаты Фукса, Алексей сказал шоферу: — Сегодня же уходи. Это приказ Корня. — Но, может, все обойдется. Я ведь здесь на хорошем счету. Смогу еще быть полезным для общего дела. — Нет. Уходи. — А как же семья? — Временно остановишься в Криницах. Знаешь, где это? Готвальд утвердительно кивнул. — Так вот, разыщешь там Захара Кивига. Человек он проверенный. Село глухое. Немцы и полиция заглядывают туда редко. Кивиг живет во втором дворе с краю дороги. Он предупрежден людьми Корня. Готвальд обещал, что сегодня же уедет, а сейчас, чтобы не вызвать слишком ранней тревоги, отвезет Фукса на совещание. Получив записку от хирурга, Алексей понял, что Валентин не только не выполнил приказа, но своим визитом навел сыщика на след Лещевского. Алексей с трудом заставил себя остаться спокойным. Он еще не терял надежды, что Готвальду и Лещевскому удастся скрыться. Но, едва переступив порог мастерской Афанасия Кузьмича, где его ждал Шерстнев, понял, что Тимофей принес дурные новости. — Обоих? — нетерпеливо спросил Алексей. — Нет, только Лещевского. — А Готвальд? — Бежал. — Сведения точные? — Да. Лещевского видел сам… в тюрьме. А о Готвальде сообщили наши. Алексей помрачнел. На скулах его заходили желваки. — Кого знал врач? — спросил Шерстнев. — Кроме меня, никого. Еще Аню, но она в лесу. — Тебе надо бежать. — Нет, подожди! — Он может выдать. Надо скрыться, пока не поздно. — Выдать? Лещевский? Ты его плохо знаешь! — Зато я хорошо знаю тех, в гестапо, — взорвался Шерстнев. — У них заговорят даже булыжники. Уходи, и как можно скорей! Алексей подошел к Тимофею вплотную. — Спокойно. Не поднимай панику. Лещевского не так-то просто сломить. Ничего. — Алексей прошелся по комнате, покусывая губы. — Нет, мы не можем, не имеем права уходить сейчас, когда группа только начала работу. Сейчас, когда гитлеровцы рвутся к Сталинграду, когда они без конца трезвонят о скорой победе, мы должны показать населению, что, пока жив хоть один советский человек, врагам не спать спокойно на нашей земле. А ты напрасно так волнуешься. Лещевскому о деле не так уж много известно. Он нам помогал — вызволил меня из госпиталя, кое-что сообщал. Но о нашей работе; он ничего не знает, не знает и людей. А кроме того, поверь мне: он не выдаст. Это не человек — кремень. И вдруг Алексей схватил Шерстнева за руку. — Послушай. Ты помнишь этого парня — парикмахера у рынка? — Провокатора? Который предал наших? — Ну да. Я много думал, почему он не донес на меня. Ведь ему стоило только переставить цветок на окне — и меня бы схватили. Тимофей пожал плечами. — Не знаю. Да и при чем здесь этот тип? — А вот при чем. Его надо использовать. Я согласен. Мы уйдем из города, но так, что фашисты нас будут помнить долго. Тимофей с интересом смотрел на Алексея. — Ты должен помочь мне. — Как? — Пойдешь в парикмахерскую… Проходил месяц за месяцем, а к Борису Крюкову никто из подпольщиков не приходил. Несколько раз его вызывали в полицию, где били так сильно, что на следующий день он не мог работать. Штроп пригрозил ему: — Если узнаем, что укрываешь кого-нибудь, смотри… На Крюкова уже никакие угрозы не действовали. Он решил, что, как только представится возможность, убежит куда глаза глядят. Правда, бежать было трудно. Он не раз замечал, что за ним следят. Да и куда бежать? Партизаны и подпольщики его не пощадят… Ведь он убийца, предатель. Перейти через линию фронта! Это совершенно невозможно. А где-то в глубине души отчетливее звучал голос, обвинявший его. И этот голос был громче угрожающего крика Штропа. Почему он не выдал тогда этого хромого парня? По велению все того же голоса совести. Борис решил твердо, что второй раз он не смалодушничает. Что бы ни случилось, второй виселицы на площади по его слабости не будет. Между тем Штроп, так и не дождавшись сообщений от агента, снял наблюдение за парикмахерской. По-видимому, подпольщики что-то знали или догадывались о предательстве Крюкова и обходили парикмахерскую стороной. Как-то утром, когда Борис только что открыл дверь, дожидаясь клиентов, к нему пожаловал чернобородый полицай. Он уселся в кресло напротив зеркала и попросил подровнять ему бороду. Клиент внимательно следил за каждым движением Бориса. Наконец спросил: — Не знаете, где купить хорошую бритву? Взгляды их в зеркале встретились. Как долго Борис ждал условную фразу! Как давно хотелось ему встретить кого-нибудь из своих! Он медленно проговорил: — Бритву достать можно, только хозяин запрашивает высокую цену. Бородач сузил смоляные глаза. — Мы все знаем. Это ты выдал тех, двоих… Ну, чего же ты, иди, ставь цветы. Борис молчал. — Ну! Боишься? — Подожди, я все объясню. — Не надо. Слушай меня внимательно. Ты можешь искупить свою вину. — Что? Что я должен сделать? — Сегодня же пойдешь в полицию. Скажешь, что у тебя был человек от подпольщиков… — В полицию? Зачем? Я не пойду. — Не перебивай. Пойдешь. И скажешь: на тридцатое число тебя пригласили для встречи с представителем подпольного обкома. Место встречи — поселок Краснополье, в доме Пелагеи Ивановны. Ничего не понимая, Крюков пытался возразить, но гость снова резко перебил: — Это приказ. А приказ, как тебе известно, не обсуждается. Это тебе задание. Выполнишь — уйдешь в лес, к нашим. Подведешь — достанем из-под земли. Когда Шерстнев ушел, Крюков вытер полотенцем взмокший лоб. Что-то было в этом полицейском такое, что заставило Крюкова поверить: это не провокация, действительно ему дано задание. Подпольщики вспомнили о нем и протянули руку спасения. И теперь все зависит от его мужества. Но как пойдешь в полицию? А все-таки вдруг этого черномазого полицая подослало гестапо?10. У партизан
— Ну а где же твои приятели? — спросил Федор, протягивая Обуховичу руку. — Опасаются, — ответил тот, озабоченно сдвигая брови. — Ты, говорят, ступай сначала сам, разведай, что и как, а уж мы потом… — Мгм, — промычал Федор. — Осторожные люди. Ну и что ж, это хорошо. Нам такие нужны… Разговор Обуховича с Федором происходил на поляне, возле сторожки лесника. Партизан пришел не один: с ним были еще двое бородатых людей, обвешанных гранатами, с немецкими автоматами на груди. — Ты передай своим друзьям, — сказал один из спутников Федора, невысокого роста человек с короткой, окладистой бородой, — передай им, что если хотят бить врага, то пусть идут к нам без опаски. У нас всем дело найдется. "Должно быть, этот из начальства", — подумал Обухович. Он обещал в следующий раз обязательно привести двоих знакомых, старательно нажимая на то, что у "военнопленных кое-что при себе имеется, не с пустыми руками придут"… Уговорились встретиться на том-же месте через два дня. …Штроп узнал от Обуховича о его разговоре с партизанами и распорядился, чтобы все сведения, добытые у партизан, тот передавал старушке, жившей в деревне Большая Выгода километрах в пятнадцати от Витебского шоссе на пути к месту расположения отряда народных мстителей. К этой старушке раз в пять дней должен был приходить агент полиции. Эта старушка лечила своих земляков травами, и поэтому посещение ее избы не могло вызвать особого внимания. В назначенный для встречи с партизанами день Обухович долго молился. Долго стоял на коленях, выпрашивая у божьей матери защиту для раба божьего Альберта. Связной встретил Обуховича и еще двух агентов полиции, назвавших себя военнопленными, и провел в партизанский лагерь. Новичков долго и придирчиво расспрашивали и, видимо, ничего не заподозрив дурного, оставили в отряде. "Плотнику" поручили чинить телеги, Обуховичу и "электротехнику" — рыть землянки. Обухович внимательно присматривался к тому, что делают партизаны, и старался все запоминать. Иногда провокатор примечал, что какие-то люди исчезали из лагеря и снова возвращались. "На задания ходили", догадывался Обухович. Новых партизан никуда не посылали: проверяли. Обухович ночами спал плохо. Все боялся, что дознаются о его предательстве и поставят к сосне… Молитвы его перед богоматерью стали жарче прежнего. Вскоре он убедился, что дела его не так уж плохи. Как-то вечером к нему подсел Федор, расспросил, как ему живется, привык ли в лесу, и, хитровато морща свои светлые глаза, сказал: — А ты мужик вроде ничего… старательный. Признаться, сразу ты мне не очень понравился. А теперь я вижу — все в порядке. У Обуховича против его воли вырвался деревянный смешок… С тех пор Федор стал относиться к Обуховичу теплее, как-то показал фотографию жены и двух испуганно глядящих с глянцевитой бумаги девочек лет по семидевяти. Обухович решил отплатить откровенностью за откровенность. — А у меня жену и сына того… гитлеровцы расстреляли, — вздохнул он, отворачиваясь. — Жена-то еврейка была… Ну а меня в тюрьму посадили — за укрытие — Федор прикусил нижнюю губу, сузил глаза. — Ничего, ничего, брат, теперь ты расквитаешься за них. — Он вдруг схватил Обуховича за плечо. — Послушай, ты поселок Краснополье знаешь? Ну, под городом? — Приходилось бывать… — Так вот… Я решил взять тебя в свою группу… — Федор перешел на шепот: — Дней через пять пойдем на задание. Устроим засаду в поселке. Там собираются схватить одного нашего человека… Обухович почувствовал, как по спине у него поползли мурашки. — Только… ты никому ни звука, — предупредил его Федор. — Понял? — Да нешто я… — Смотри! Чтоб ни одна живая душа! — угрожающе поднял палец Федор. Всю ночь Обухович ломал голову: как пробраться в село Большая Выгода и предупредить гестапо. Тайком смыться? Могут поймать, да и операцию отложат. К тому же и Штроп за бегство из отряда не погладит по головке: ведь столько трудов стоило внедриться… Нет, этот вариант не пройдет. Нужно найти какой-то повод. Провокатор снова не спал всю ночь, все искал, под каким бы предлогом выпросить разрешения на отлучку. И наконец придумал. Наутро он явился к комиссару отряда, тому самому невысокому человеку с окладистой бородой, которого он впервые встретил на месте партизанской явки. Шпион Штропа предложил послать несколько партизан, чтобы помочь местным жителям убрать урожай. — Время теперь горячее, пшеница поспела, — с жаром доказывал он комиссару, — а в селе одни бабы, мужские руки сгодились бы… Комиссар сгреб в ладонь свою бороду и задумался. Конечно, уборка урожая — дело существенное, у партизан есть задачи поважнее. Готовится ответственная операция. Однако он не отказал наотрез: — Хорошо. Посоветуюсь с командиром. Однако командир отряда, Петр Кузьмич Скобцев, узнав о предложении Обуховича, почему-то насторожился. — Здесь что-то не так просто. Вам не кажется, Матвей Иванович, человек без году неделя в отряде, еще ничем себя не проявил, а приходит с такими идеями? — Ну что же здесь подозрительного, — возразил комиссар, — возможно, хозяйственный мужик. Душа болит за урожай. Не вижу в этом ничего странного… В первые дни войны Скобцев, или Кузьмич, как его звали в отряде, был штабным офицером. Когда часть попала в окружение и потеряла в боях почти весь командный состав, Кузьмич возглавил горстку оставшихся людей и увел их в глухие леса. Постепенно отряд стал пополняться бежавшими из окрестных городов и деревень жителями и сильно вырос. Теперь на счету партизан Скобцева уже числилось немало взорванных поездов, разгромленных полицейских пунктов, наказанных предателей. Но был штабист по старой привычке осторожен, хорошо наладил разведку, и это помогло ему, как говорили тогда, вести войну "малой кровью". Осторожность помогла Скобцеву и теперь. В тот же день он действительно назначил на уборку урожая двадцать человек, но Михаила Терентьева (под таким именем знали Обуховича в отряде) в списке не оказалось. — Как же так! — возмущался Обухович в землянке командира. — Я подал это предложение, а меня отшили! Несправедливо, товарищ командир! У меня, может, руки стосковались по работе. Скобцев не стал спорить. Тут же приказал включить Терентьева в список. Группа партизан отправилась на работу в ближайшие села — Мокрое и Малый Пилец. Большая Выгода отстояла от Мокрого километрах в трех, и Обухович решил, что найти повод сбегать к старухе и передать ей сведения будет нетрудно. Помогали косить пшеницу в первую очередь старикам, у которых дети служили в Красной Армии или ушли в партизаны. Обухович старался за двоих. — Эх, — повторял он, — руки стосковались по работе… Ему приходилось нелегко — бывший завскладом к крестьянской работе не привык. Он очень боялся обнаружить свою неловкость, да и уставал. Вечером, когда партизаны собрались в избах, где хозяева угощали их молоком и молодой картошкой, Обухович, охнув, вылез из-за стола. — Что с тобой? — спросили его. — Да вот живот что-то скрутило. С полчаса он пролежал на сеновале, затем разыскал старшего группы и попросил у него разрешения пойти поискать в селе помощи. — Что-то хужеет. Может, бабка травки даст или отпоит чем. Тут, говорят, есть одна в округе. Вернулся Обухович поздно, когда все остальные уже спали на сеновале. Он неслышно прокрался в сарай и повалился на пахучее сено. Отовсюду доносился храп. Сквозь щели сарая видно было, как мерк над лесом долгий летний закат. Михаил уснул, довольный, что удачно разыграл это представление с болезнью и посещением знахарки. Наутро Обуховича отвел в сторону старший группы, веснушчатый, курносый парень в красноармейской пилотке, и спросил: — Как живот? — Да вроде бы прошел, — ответил Обухович. — Лекарство нашел? — Да, получил от старухи зелье. Пользительное, видать. — Ну хорошо, больше не болей, а то нам недосуг. Разговор этот насторожил Обуховича. "Неужели догадались, сволочи? — подумал он, чувствуя, как его окатывает холодная волна страха. — Да не может того быть, ведь я же оглядывался никого следом не было". Больше Обуховича ни о чем не расспрашивали, и он успокоился. Но напрасно. Он и не подозревал, что в ту самую ночь, когда он побывал у старухи, за ним неотступно следовали трое. Они примечали каждый его шаг и запомнили избу, в которую он заходил. У избы менялись дежурные, и, когда на другой день там появился агент гестапо, партизанам все стало ясно. Когда агент шел от знахарки, его перехватили, и он под страхом смерти выдал старуху и Обуховича. Предатель был немедленно изолирован и переправлен в далекий партизанский край для выяснения обстоятельств. Обуховича много раз допрашивали, он не стал запираться. Теперь он томился, ожидая решения своей участи.11. Засада
Алексей понимал, что оставаться в поселке Краснополье ему больше нельзя. Штроп шел по его следу. О Готвальде ничего не было слышно. Удалось ли ему спрятаться? Во всяком случае, как сообщил Корень Алексею, партизаны ночью побывали дома у Готвальда и никого там не нашли. Изба пустовала. Может быть, Готвальду удалось спастись? А вдруг его арестовали? Куда делись жена и сын шофера? Может быть, их схватили… А как будет вести себя Лещевский? Вынесет ли он пытки и не заставят ли молодчики из гестапо его заговорить? Надо было что-то предпринимать… Алексей решил уйти в лес. Но уйти, оставив по себе память. Вместе с Корнем и Шерстневым он решил через Крюкова сообщить в гестапо, что в поселке Краснополье скрывается секретарь подпольного обкома. Для поимки такого важного лица наверняка пригонят большой отряд, да еще под командой гестаповских офицеров. А тем временем партизаны устроят засаду. Скобцев охотно согласился на эту операцию и обещал прислать не меньше тридцати, а может быть, и пятьдесят человек. Вечером к Алексею пришел партизан, они уточнили детали совместных действий и нашли место, подходящее для засады. Потекли часы напряженного ожидания. Снова наступил вечер. Алексей был один в своей каморке. За дверью громыхала ведрами хозяйка. В окно было видно, как улицу пересекли длинные вечерние тени от домов. В окнах напротив отражался золотистый закат. Над тесовой крышей в небе застыло малиновое облако. Поселок утих, будто жители чувствовали приближение грозовых событий и попрятались по домам. Разведчик прекрасно понимал, что ему угрожала очень серьезная опасность. Стоило фашистам появиться на полчаса раньше срока, назначенного Крюковым, — Алексей окажется в ловушке, которую подготовил себе собственными руками. А если запоздают партизаны — он погубит не только себя, но и других. "Ну что ж, — рассуждал он, — войны без риска не бывает. Как, впрочем, и без крови". Вот уже много времени он вел тайную войну. Вел в госпитале, вел, выйдя из него… Он понимал, что враг и силен и коварен, и все-таки Алексей верил в свои силы, в свое умение разгадывать вражеские хитрости, предупреждать опасность. Ему вспомнилось, как когда-то он изучал опыт разведчиков, действовавших в интересах буржуазных правительств. Многим агентам нельзя было отказать ни в уме, ни в изобретательности, ни в ловкости. Порой это были удивительно мужественные люди. Но как бы ни был разнообразен их "почерк" и "стиль", как бы ни обновляли они приемы своей работы, приемы эти всегда строились на низменных чувствах человека: корыстолюбии, обмане, страхе, шантаже, стремлении к власти. Ему же не приходилось прибегать ни к подкупам, ни к обманам, ни к шантажу. Он апеллировал к самым высоким чувствам людей — любви их к Родине. И люди откликались, шли за ним, хотя знали, что рискуют жизнью, что в гестаповских камерах в случае провала их ждет нечто более страшное, чем смерть. Алексей не мог без улыбки сочувствия вспомнить Софью Львовну. Эта, казалось, робкая и беспомощная интеллигентка могла бы преподать урок смелости иному мужчине. Все последние три месяца она спокойно смотрела прямо в лицо опасности. Где она теперь? Ей было передано распоряжение уходить из города. Она должна была добраться до бывшего совхоза "Коминтерн", где ее ждал человек из партизанского отряда. Удалось ли этой мужественной женщине уйти? А Шерстнев — он ходит в одежде полицая. Разве не рискует этот русский человек своею жизнью ежеминутно? Шерстневу угрожает смерть в застенке гестапо, его презирают свои, брезгливо сторонясь при встрече, боясь даже прикосновения к его полицейскому мундиру. И даже Борис Крюков, такой слабый сначала, преодолел страх и выполняет ответственное дело честно и преданно. Скобцев был очень пунктуален. Его люди в точно указанное время, выйдя из лесу, затаились в овраге, неподалеку от дома на окраине поселка Краснополье, где жил Алексей. Овраг затопил густой туман: будто дымовая завеса, он скрывал партизан. Повезло с погодой. Бойцы лежали молча в зарослях орешника, а когда совсем стемнело, пригибаясь, бесшумно пробрались задворками к третьей с краю поселка избе, где жил Столяров. В начале двенадцатого в дверь легонько постучали. Алексей вышел открыть сам — на пороге стояли трое вооруженных людей. — Федор, — назвался рослый человек с худым загорелым лицом. Алексей крепко стиснул ему руку. — Один? — спросил Федор, быстро проходя на половину Алексея и оглядывая избу. — Нет, еще хозяйка. — Где она? — В город поплелась, к знакомой… — Хорошо, — кивнул головой Федор. — Эй, Петро! — позвал он стоявшего у дверей партизана с ручным пулеметом. — Живо на чердак! Когда пулеметчик исчез в темноте сеней, Алексей спросил Федора: — Как остальные? — В порядке, — отозвался Федор, — на местах. У ворот, за забором… Слушай, дай-ка водички. Алексей принес ему из кухни кружку воды, Федор жадно выпил и, вытерев рукавом ватника губы, поинтересовался: — У тебя какое оружие? — Парабеллум, три гранаты. — Слабовато… А зачем ты-то остался? Без тебя справимся. Может, пойдешь сейчас в лес? Алексей возмутился: — Вас подставлю под пули, а сам спрячусь? Нет, нет, не пойдет! Федор кивнул человеку в потертом офицерском кителе, тот исчез куда-то на минуту и принес Алексею автомат. — Ну а теперь по местам! — приказал Федор и сам, став на одно колено, пристроился у окна. Алексей затаился у другого окна, там же, приоткрыв его. В избе установилась сумеречная, осторожная тишина. Верещание сверчка казалось неестественно звонким. Алексей покосился на Федора. В темноте, едва различимый, белел горбоносый профиль партизана. Алексей тихонько спросил: — Который час? Федор бросил взгляд на трофейные ручные часы со светящимся циферблатом. Минутная стрелка накрыла цифру шесть. — Полчаса двенадцатого! — тихо сказал Федор. Встревоженной стайкой метались мысли Алексея: "А что, если полиция разгадала его уловку? А что, если она двинет сюда большие силы и он зазря погубит этих ребят? Или фашисты вообще не появятся? Нет, этого не может быть, — возражал Алексей себе. — Разве они упустят такой случай?" До сих пор он ускользал из их рук, прикидывался шофером, инвалидом, и вот теперь настала минута, когда он выходил к своему противнику на открытый бой. Алексей вслушивался в тягостную тишину. Ему казалось, что ухо его не пропустит звуков приближающейся опасности, и все-таки первым подал сигнал тревоги Федор. Алексей вдруг услышал его торопливый шепот: — Едут! И действительно, с другого конца поселка донеслось сначала слабое, затем с каждым мгновением усиливающееся гудение моторов. Звук ширился, становился уверенней, набирая угрожающие ноты. И казалось, что это грозно ревет сам воздух. Все дальнейшее свершилось очень быстро. Несколько грузовиков вынырнули откуда-то из темноты и остановились напротив дома. Из машин одна за другой посыпались неясные, расплывающиеся в тумане фигуры… И вдруг у переднего грузовика плеснуло, брызнув вверх и в стороны, пламя — и грохнул взрыв. На мгновение Алексей увидел четкие силуэты солдат и нажал спуск автомата. У грузовика еще несколько раз грохнуло. И тут же все заглушил дробный сплошной треск автоматов, сквозь который иногда прорывался размеренный стук пулемета. Казалось, будто какой-то великан сыпал на крышу дома тяжелые чугунные шары. Улица вдруг ярко осветилась, и в окнах домов заплясали отблески пламени-это взорвалась передняя машина и загорелся вылившийся из баков бензин. Было видно, как на освещенной части улицы выныривали из тьмы и исчезали какие-то люди и их нелепо длинные тени метались по траве. Алексей непрерывно стрелял из автомата. — Пора уходить! — донесся до него голос Федора. Они выскочили из дома. Шум боя затихал. Фьюить, фьюить, фьюить — просвистело над головой несколько пуль. Видимо, уцелевшие гитлеровцы где-то залегли и отстреливались. Да, нужно было скорей уходить, пока из города фашисты не подбросили подкреплений. Около Федора появился человек, крикнул ему что-то, чего Алексей: не мог разобрать. Вдруг в воздухе с треском, рассыпаясь искрами, взвилась, буравя темноту, ракета. Алексей и Федор молча бежали к оврагу. — Быстрей! — крикнул Федор, и Алексей, спотыкаясь о что-то во тьме, ринулся за ним, но поспевал с трудом — мешала искалеченная нога. — Их что-то много оказалось! — снова крикнул Федор, оглянувшись на отстающего Алексея. — Нажми, приятель! Позади вдруг грохнуло два взрыва, что-то сильно и резко толкнуло Алексея в спину, и он упал. Солнце еще только поднялось, а староста поселка Краспополье Иван Архипыч Барабаш, толстоносый мужик лет пятидесяти, был уже в пути. С вечера Барабаш гулял в гостях у своего знакомого — старосты соседнего села. Хозяин выставил на стол бутыль отличного самогона, так что через час после прихода в гости Барабаш уже еле ворочал языком и, порываясь пуститься в пляс, требовал музыки погромче. Домой Ивана Архипыча пришлось отправить на подводе — передвигаться самостоятельно он был не в силах. Когда Барабаш подъезжал к Краснополью, до его затуманенного сознания дошло, что где-то стреляют. Хмель будто рукой сняло: он проворно соскочил с подводы, возницу отправил назад в село, а сам спрятался в кустах, где и пролежал до рассвета. Вернувшись в поселок, он увидел черные остовы сгоревших грузовиков, трупы немецких солдат и полицейских. Среди них было и несколько без всяких знаков отличия на одежде. Теперь только старосте стало понятно значение перестрелки: это был ночной налет партизан. Барабаш много раз слышал о партизанах, но до сих пор в Краснополье они не появлялись. В ответ на рассказы напуганных народными мстителями полицаев Барабаш самодовольно ухмылялся: — Ну, у нас-то, слава богу, спокойно. К нам они носа не сунут! И вот, оказывается, добрались. — Господи, — бормотал Иван Архипыч, — что будет, что будет? Первач и бессонная ночь, проведенная в страхе, не прошли для старосты даром. Его мутило, ноги подкашивались, а на душе, в предвидении грядущих бед, было плохо. "Понаедет начальство, — размышлял он, — начнут пытать, что да как. Чего доброго, дадут и мне по шапке. Не углядел, не донес вовремя… А откуда я мог знать…" Чтобы хоть как-то застраховать себя, Барабаш решил проявить служебное рвение. Он наскоро умылся, опохмелился и отправился по поселку будить жителей: надо было убрать трупы. Староста стучал в окна и сердито кричал: — Эй, хозяин, выходи! В избах шлепали босые ноги, скрипели двери… Притаившиеся жители неохотно их открывали. Да и то за ворота выходили одни старухи. Мужиков и молодых женщин как ветром сдуло. Видно, еще ночью убежали в лес, не дожидаясь неизбежной расправы гитлеровцев. В проулке Барабашу встретился Степан Грызлов. Обычно молчаливый и угрюмоватый Степан, завидев старосту, безмолвно кивал головой и проходил мимо:. Грызлов работал у немцев и держался с Иваном Архипычем независимо. Но сейчас он сам направился к Барабашу и, поздоровавшись, протянул старосте сложенную вчетверо, потертую на сгибах бумажку. — Что это? — спросил Барабаш, разворачивая ее и подозрительно косясь на Степана. — А вот прочти — узнаешь… Староста достал очки и, водрузив их на толстый, в синеватых прожилках нос, зашевелил губами. "Справка. Настоящая выдана Попову Алексею Петровичу в том, что он действительно является шофером Наркомата лесного хозяйства и командируется в город Могилев сроком на двадцать пять дней". Кончив читать, Барабаш поднял на Степана мутный взгляд маленьких серых глаз. — Где нашел? — сурово спросил он. — А вон там, в кармане убитого, — ответил Степан. — Что это еще за Попов? — Да мой сосед, сапожник. — Так ведь его не Поповым зовут. Я сам видел его паспорт. Степан молча подвел старосту к одному из трупов, валявшихся как раз под окнами дома, где жил Алексей. Убитый лежал на спине, широко раскинув руки. На его обезображенном, видимо, взрывом гранаты лице запеклась кровь. Гимнастерка тоже темнела пятнами крови. Староста стащил одной рукой кепку, другой осенил себя крестным знамением. — Царствие небесное! — проговорил он со вздохом. — Ничего не понимаю. Почему он Попов и зачем под пули полез? — Вот в этом-то и дело — не простая птица был твой сапожник. Это давно подозревал и сам староста. Недаром прихрамывающий сапожник почему-то интересовал полицию, и оттуда часто поступали запросы относительно его поведения, а также наказы в случае, если поведение Степанова соседа покажется подозрительным, немедленно сообщить начальнику полиции. Заметить что-либо подозрительное в поведении сапожника — тихого, непьющего человека — староста не мог, о чем неоднократно и докладывал своему начальству. Тем не менее сейчас Барабаш вздохнул облегченно: одной заботой меньше… В кармане убитого он нашел синенькую книжечку — вид на жительство, выданный сапожнику Пичугину полицейским управлением. — Так кто же он — Пичугин или Попов? — то и дело бормотал староста. — Да кто его знает, — мрачно сказал Грызлов, — Как же ты это проморгал, староста? — А ты что смотрел? По соседству живешь. Давно шепнул бы. — Я на железной дороге сутками дежурю и видел его не часто. Да и не мое это дело… Ну ладно. Прощевай. Разбирайтесь тут сами. Мне на дежурство пора. Пелагея Ивановна, хозяйка сапожника, показала, что дома она не ночевала, задержалась у знакомых и, услышав стрельбу, побоялась выйти на улицу. Утром пришла домой, видит — стекла побиты, а жильца нет. Когда ей сообщили, что он лежит убитый напротив ее дома, она тяжело опустилась на лавку, запричитала. Потом кинулась к своему жильцу, и ее с трудом удалось оттащить. — Ну, ну! — прикрикнул на нее староста. — Будет тебе выть-то! Кто он тебе? Сын, что ль? Но Пелагея Ивановна не ответила. Разве могла она объяснить старосте, что за эти месяцы привязалась к своему жильцу как к сыну? Да и в доме такой мужик был дорог: и воды принесет, и дров наколет… — За что же его порешили-то? — спросила она, поднимая на Ивана Архипыча мокрые глаза. — А кто его знает? Пойди разберись. После ночного налета из Краснополья вернулись только семеро солдат, из них — трое раненых. А: посылал Штроп шестьдесят. Оставшиеся в живых рассказывали, что партизан было по крайней мере целый полк. Когда один из уцелевших жандармских унтеров позвонил ночью Штропу и рассказал ему о разгроме наряда в Краснополье, тот похолодел. Попался! Он, опытный руководитель секретной службы, прошедший такую большую школу, попался как глупый, зеленый мальчишка. Попался на ловко подкинутую приманку. Позор! Какой позор! В трубке, которую он держал в руке, гудел взволнованный, прерывистый голос жандарма. Но Штроп не мог вымолвить ни слова! Наконец до его сознания дошло, что унтер о чем-то настойчиво его спрашивает. — Да, да, слушаю! — сказал главный следователь. — Какие будут приказания, герр оберштурмбаннфюрер? — Приказания? — переспросил Штроп, с трудом овладевая собой. Он бросил взгляд на листок бумаги, лежавший на столе, и жестко приказал: — Возьмите людей, машину и как можно скорей на Авиамоторную улицу. (Это был адрес Крюкова.) Повторяю: как можно скорей. Дом семнадцать. Заберите всех, кто там окажется! Всех! — Слушаюсь! Отдавая это распоряжение, Штроп почти не сомневался в его бесцельности. Конечно, если этот парикмахер подослан к нему подпольщиками или каким-нибудь большевистским разведчиком, то вряд ли он дожидается дома сотрудников гестапо. Так и оказалось. Минут через сорок унтер снова позвонил Штропу и доложил, что дом номер семнадцать оказался запертым. Когда дверь взломали, то выяснилось, что квартира пуста! Анализируя причины своей неудачи, Штроп пришел к выводу, что он допустил крупную ошибку, попытавшись единым махом покончить с подпольем, захватив его главаря. Напрасно он вознамерился подобраться к самому сердцу тайной организации большевиков и остановить его биение! Старого волка провели, и как провели! Штропу становилось не по себе при мысли опредстоящих объяснениях с начальством. Но самый большой сюрприз ожидал его днем, когда к нему в кабинет вошел Венцель и сообщил, что среди убитых обнаружен некто Попов. — Попов? — задумчиво переспросил Штроп. — Да, тот самый шофер из Москвы… Помните, раненный в ногу? Староста прислал его документы. Вот они! — Так ведь он же умер от тифа… тот, раненный в ногу, которого мы принимали за генерала Попова. Чертовщина какая-то. Венцель, следя за выражением лица Штропа, положил на стол синие картонные карточки — вид на жительство на имя Пичугина. Едва взглянув на фотографию, Штроп сразу же все вспомнил. Некоторое время, потрясенный, он сидел неподвижно, покусывая губы. — Где найдены эти документы? — хрипло спросил. — В кармане убитого. Напротив дома, в котором собрались бандиты… — Но как он там оказался? Значит, он выбрался из госпиталя живым? — Он жил под чужой фамилией, — бесстрастно объяснил Венцель. — Значит… — начал Штроп, вопросительно глядя на своего собеседника. Значит, ему не только помогли бежать, но еще и снабдили фальшивыми документами. Генерал — не генерал, но, видно, не простои человек. — Это был именно тот, кого мы искали, — закончил Штроп забарабанил пальцами по столу, посматривая на начальника полиции. Тот, глядя перед собой, курил сигарету. Несколько минут они молчали. — Плохо, штурмбаннфюрер, очень плохо, — проговорил наконец Штроп. — Почему же плохо? Шеф гестапо метнул на своего заместителя раздраженный взгляд. — Почему? Ты хочешь, чтобы я объяснил тебе почему! Надо быть круглым идиотом, чтобы не сообразить что у нас в руках был опытный большевистский разведчик. Недаром он был в компании с тем самым секретарем обкома, о котором донес Борис Крюков. А может, это и есть тот самый секретарь? Парикмахер как доносил: секретарь живет в этом доме или должен туда явиться? Венцель молчал. За месяцы совместной работы со Штропом он пришел к выводу, что его начальник слишком старомодный и недостаточно гибкий работник. Венцель просто удивлялся, как еще он держится на своем посту. Слишком уж прямолинеен. — Почему вы говорите "был"? — сказал Венцель. — Он есть. Он жив. Просто взять теперь его еще не удалось. Лотар Штроп испытующе смотрел на штурмбаннфюрера. — А кто же убит? — Я не вижу причин для волнения, — продолжал Венцель. — На вашем месте я нашел бы, что сообщить в Берлин. Необязательно рассказывать правду. Тем более что мы еще не знаем правды. Напишите, что гестапо нанесло подполью существенный удар — выследило важного, руководителя красных и захватило его… Но он при попытке к бегству был убит… Неплохо звучит, а? Что вы, не знаете, как составляются эти донесения? Тонкие губы Штропа дрогнули в усмешке. — Раньше мне никогда не приходилось вводить в заблуждение вышестоящее начальство. — То раньше, — пожал плечами Венцель. — А теперь мы в России. Специфическая страна. Специфические условия. Надо приспосабливаться… Мы не можем сообщать в Берлин абсолютную правду. Боюсь, что нас не поймут. Им ведь там все кажется проще. — Да, пожалуй, — вздохнул Штроп. — Кажется, в твоем предложении что-то есть. Подготовь-ка проект донесения. У тебя это хорошо получается… Но почему ты считаешь, что этот Попов-Пичугин или как его там — жив? Ведь тело найдено, его опознали соседи, хозяйка. Вот протокол допроса. — А мы установили, — усмехаясь, сказал Венцель, — что на ногах убитого нет следов ранения. А тот ведь был хром… Еле передвигался на костылях, когда вызывали мы его на допросы. Тело сапожника Пичугина выдали для похорон только через три дня после налета партизан. Все заботы по похоронам взял на себя Грызлов. Он объяснил это тем, что хоть и редко встречался с покойным, но тот при жизни помогал многодетному Степану: чинил обувь его детям, занимался с ними. Соседи сочли естественным, что именно Грызлов выпросил у старосты подводу, заказал гроб вырыл могилу с помощью своего старшего сына. И хоть смерть за последний год стала привычной гостьей в Краснополье (да и только ли в поселке!), но все-таки смерть сапожника больно ударила по сердцам многих. Кроме того, она привлекла внимание своей необычностью и даже загадочностью. Никто ничего не знал о второй, тайной жизни этого широкоплечего, неизменно приветливого человека, поэтому гибель его казалась нелепой. Одни предполагали, что Пичугин был связан с партизанами, другие объясняли его смерть простои случайностью. Тощий маштак потащил гроб на кладбище, а сзади шли Грызлов со своим многочисленным семейством и Пелагея Ивановна. К ним пристроились несколько человек. Когда гроб был опущен в могилу и над ней вырос рыжий глиняный холм, Степан водрузил в изголовье деревянный крест, на котором суриком было выведено. "Иван Степанович Пичугин". — Может, родственники объявятся, — пояснил он собравшимся, приминая лопатой вокруг креста землю. Потом вскинул на плечи перепачканный глиной заступ, оглянулся на могилу и молча зашагал к поселку, да ним двинулись остальные. Над полями уже синели сумерки. За действиями Грызлова целый день неотступно наблюдал Барабаш. Староста и железнодорожник сговорились помалкивать в поселке о тайне Попова-Пичугина, но по разным мотивам. Иван Архипыч был рад поскорее замести все следы этой подозрительной истории, из-за которой его все эти дни таскали в гестапо. А Грызлов действовал согласно указаниям подпольщиков.ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1. В тюрьме
Лещевского арестовали прямо в госпитале. В низком, темном полуподвале, куда впихнули Адама Григорьевича, было тесно. Арестованные сидели на ящиках, мешках с песком, лежали прямо на полу. Лещевский был так ошарашен всем случившимся, что только теперь в камере по-настоящему понял, какое страшное несчастье навалилось на него. До сих пор он не верил в возможность ареста, надеялся, что с ним этого не произойдет, и вот за его спиной с лязгом захлопнулась тяжелая железная дверь. Как бы ему хотелось, чтобы такая же участь не постигла его друзей Готвальда и Алексея!.. Но на первых же допросах Лещевский убедился, что Готвальду удалось скрыться — хирургу не устраивали очной ставки с Валентином. Правда, как-то Штроп показал врачу. несколько мелко исписанных страниц, уверяя, что это показания Готвальда. В этих показаниях утверждалось, что он, Лещевский, был связным между Готвальдом и большевистскими подпольщиками. Однако, несмотря на всю свою неопытность в подобных делах, Адам Григорьевич понял: следователь расставляет ему грубо сработанную ловушку. Если бы Валентин был арестован, он давно бы встретил его в этом кабинете. Следователь не знает правды, а ловит его. Сначала Штроп пытался разговаривать с Лещевским мягко, "по душам". Он убеждал врача, что тот упрямится напрасно. Россия все равно в безнадежном положении, фашистская Германия очень скоро разгромит большевиков. — Ну поймите, — увещевал Штроп, — зачем вам, интеллигентному человеку, приносить себя в жертву безнадежному делу. Расскажите все чистосердечно, и мы гарантируем вам жизнь. Мы понимаем, вы заблуждались, ошибались… Но когда Лещевский снова и снова повторял, что шофер ходил в кабинет врача только как пациент, Лотар Штроп резко переменил тактику допроса. Хирурга стали бить, и очень жестоко. В камеру его уносили в бессознательном состоянии. Когда Адам Григорьевич приходил в себя, он со страхом вспоминал: не проговорился ли в полубреду. И в ожидании следующего вызова в кабинет Штропа он мысленно твердил: только бы выдержать, только бы выдержать, только бы никого не выдать! Потом Лещевского перевели в городскую тюрьму. Его соседом по камере оказался паренек лет двадцати с лишним. Одежда на нем была порвана. Лицо в синяках и кровоподтеках. Адам Григорьевич с трудом узнал в нем секретаря комсомольской организации школы номер пять Сергея Соболевского, — хирург когда-то вправлял ему вывихнутую ногу. Соболевского тоже водили на допрос каждый день, и каждый день его вносили в камеру на носилках. И Лещевский часто задавал себе вопрос: откуда у этого мальчика такое мужество, откуда такая сила? — Лещевский! — выкрикивал надзиратель, и Адам Григорьевич заставлял себя подняться на ноги.2. По ту сторону огненной линии
В тот день, когда отряд жандармерии попал в засаду в поселке Краснополье, Шерстнев, которого тем временем повысили в чине, был послан в Грушевскую волость проверять работу местной полиции. Вернувшись через неделю, он прежде всего зашел в комендатуру, но Софьи Львовны там не оказалось. Шерстнев узнал, что она вместе с комендантом Патценгауэром уехала в Германию. Его мучила тревога. Что с Алексеем? Удалось ли ему уйти в лес к партизанам? Это можно было бы узнать только у Корня, но и он пока не давал о себе знать. Чем кончилась операция в Краснополье? Ехать на бывшую квартиру Алексея Тимофей не решался. Об аресте Лещевского Шерстнев знал уже давно и больше всего боялся, что хирург не выдержал пыток и выдал подпольщиков. Осторожными вопросами Шерстнев попытался навести обо всем его интересующем справки в полиции, но чего-либо определенного выведать ему не удалось. Никто этого разговора не поддерживал. Вечером в кабачке один из его сослуживцев оказался более откровенным. — Ну, что нового? — спросил Тимофей. — Мало веселого! — ответил подвыпивший полицай. — А что такое? — насторожился Шерстнев, чувствуя, что за этой фразой кроется что-то очень важное. — Ты что, не знаешь? — удивился сослуживец. И полицейский рассказал о гибели целого отряда жандармерии и сотрудников гестапо в Краснополье. — Вот черт! — воскликнул Шерстнев. — Совсем распоясались эти бандиты. Кого-нибудь задержали? Полицейский махнул рукой. — Какое там! Правда, ихнему главарю уйти не удалось. — Какому главарю? — настороженно спросил Шерстнев. — Да какому-то сапожнику. Он, говорят, все это дело и подстроил. Его застрелили на месте. Полицай что-то говорил еще, но Шерстнев дальше не слушал. Ему изменила его постоянная выдержка — он на несколько секунд потерял контроль над собой. Убит Алексей! Это было ошарашивающее известие, с которым Тимофей не мог примириться. Погиб такой опытный разведчик! Это невероятно, неправдоподобно. Алексей так осторожен, взвешивает каждый шаг. Нет, здесь что-то не так, думалось Тимофею. Ему хотелось сейчас же поехать в Краснополье, чтобы расспросить о подробностях гибели друга. Но ехать было нельзя: слишком заметна будет эта поездка. Что там делать полицейскому, какое у него может быть задание: ведь в этой операции принимали участие другие. Попасть в Краснополье Шерстневу не удалось и на следующий день: с нарядом полиции его послали в село Пашково, где, по агентурным данным, ночью должны были появиться партизанские связные. В Пашкове Шерстнев зашел к своему знакомому — Захару Ильичу Крутову. Это был высокий, еще довольно крепкий человек лет шестидесяти, с глубоко запавшими глазами, напрочь закрытыми лохматыми седыми бровями. Тимофей предупредил старика, что намерен у него переночевать. Обычно Захар Ильич отвечал лишь одной фразой: "Хорошему человеку крыши не жалко". Но на этот раз Тимофею показалось, что старику его просьба пришлась не по душе. Он мялся, дергал себя за бороду, глаза его бегали по сторонам. Шерстнев делал вид, что не замечает уловок старика, и настаивал. Захар Ильич наконец уступил. Шерстнев "проговорился", что ночью на село нагрянут полицейские, — он знал, что старик предупредит кого надо. Захар Ильич догадывался, что Шерстнев необычный полицейский. Подкупала Крутова вежливость этого человека. Переступив порог, Шерстнев обычно стаскивал и головы фуражку и почтительно здоровался со стариком. Никогда не видел Захар Ильич, чтобы этот полицейский на кого-нибудь кричал или кого-нибудь избивал. "Чудной какой-то", — заключил старик, поближе познакомившись с Тимофеем. А к тому же Тимофеи, уже не первый раз "проговаривался" о планах полиции, и Крутов подумывал, что это неспроста. Обычно Крутов был рад приходу своего знакомого и всегда уговаривал его остаться ночевать. Но на сей раз он не знал, как ему поступить. Хоть он и отнес Шерстнева к разряду "чудных" полицейских, но не мог же сказать, что на чердаке у него скрывается партизан. Присутствие полицейского смущало Крутова — вот-вот нагрянут жандармы, а как незаметно свести партизана с чердака? Ведь в избе слышен всякий шорох! Партизаном этим был Валентин Готвальд. После того как Алексей сфотографировал документы, он распорядился, чтобы Готвальд немедленно ушел с семьей к партизанам. Но когда Валентин, заехав домой, заикнулся об этом, жена заупрямилась. — Не пойду! — решительно заявила она. — Что я там буду делать с ребенком? Жена ударилась в слезы. Валентин растерялся. Признаться, он и сам боялся за маленького сынишку. Но выхода не было. Валентин уговаривал жену как мог, но она стояла на своем: лучше умрет здесь, но с крохотным ребенком в лес не пойдет! Ситуация сложилась безвыходная. Не зная, какому поступить, Валентин решил сказать жене напрямик: если он сегодня же не уйдет в лес, его арестуют. Жена побледнела. Она и испугалась и обрадовалась. Значит, ее опасения, что муж продался немцам, напрасны. Как она сама не могла догадаться об этом! Как она только смела предположить, что ее муж, друг, человек, которого она любила, мог оказаться предателем! Евгения больше не колебалась: захватив самое необходимое, семья Готвальдов быстро покинула дом. В село Пашкове Готвальд пришел ночью. Жену и ребенка он оставил пока у знакомых в селе Криницы, а сам отправился к Захару Ильичу. Старик предложил Готвальду переждать некоторое время на чердаке. Валентину нравился этот суровый с виду человек. На следующий день после прихода Готвальда в село нагрянули жандармы. Один из них забежал в избу к Захару Ильичу. Это, видимо, был еще не наторевший на облавах гитлеровец. Ворвавшись в избу, он ринулся прямо к печке. Видимо, над ним подшутили, что именно в этом месте крестьяне часто прячут партизан. — Эй, матка, матка! — крикнул он Матрене Максимовне, жене Крутова, показывая знаками, чтобы та открыла заслонку. — Никс, никс! — покачала головой Матрена Максимовна, вытаскивая из печи ухватом чугун со щами. Убедившись, что в печке действительно никого нет, солдат сосредоточил все свое внимание на щах. Подняв крышку, он пошевелил ноздрями, вдыхая ароматный запах, вынул из-за голенища сапога ложку. Похлебав щей, он быстро выбежал на улицу, предварительно заглянув под кровать. Всего этого Валентин не видел. Он лежал в ворохе сена на чердаке, сжимая в руках противотанковую гранату. Вскоре Захар Ильич поднялся к нему и сказал, что немцы ушли. И вот теперь еще одна неприятность: вечером в избу Крутова пришел на ночлег полицейский, да еще и предупредил, что будет облава. Захар Ильич сказал Готвальду, что этого полицейского он хорошо знает и вряд ли его стоит опасаться. Однако и Готвальд и хозяин не спали всю ночь: Валентину ночью надо было уходить! Шерстнева разбудил стук в окно. Накинув полушубок и сунув ноги в разбитые валенки, Захар Ильич, что-то недовольно бормоча себе под нос, вышел открывать дверь. Тимофей на всякий случай поставил пистолет на боевой взвод. Старик долго не возвращался. Шерстнев лежал в маленькой комнатке, отделенной от избы тесовой переборкой, напряженно прислушиваясь к тому, что происходило в сенях. Оттуда доносились приглушенные голоса, скрипели половицы. "Кто бы это мог быть?" — раздумывал Шерстнев. А может быть, односельчане Пашкова решили расправиться с предателем, за которого его, Тимофея, принимают? Он поспешно оделся и на цыпочках направился к порогу. Еще раз прислушался: за дверью о чем-то шептались. Шерстнев осторожно приоткрыл дверь. Захар Ильич держал в руках "летучую мышь". Тусклый свет фонаря вырывал из темноты еще две фигуры. Лица ночных гостей были освещены снизу, и Тимофей не сразу узнал, что перед ним Алексей и Готвальд. Несколько мгновений полицейский стоял, не в силах произнести ни слова. Потом настежь распахнул дверь. — Алексей! — вскрикнул он наконец и прислонился к дверному косяку. Откуда? Ты ведь?.. Ты же… — Покойник? — засмеялся Алексеи, обнимая Шерстнева. — Как видишь, нет! — Ничего не понимаю! — пробормотал Тимофей. — Да что это последнее время происходит?! Захар Ильич, видимо, тоже ничего не понимал. Он приготовился услышать выстрелы, возню и сейчас переводил недоуменный взгляд с Алексея на Шерстнева. — Это как же получается? — спросил он. — Выходит, свои, что ль, встретились? — Свои, свои, — весело подтвердил Алексей, хлопая Шерстнева по плечу. Тимофей обнялся с Готвальдом, и все трое долго шутили над Захаром Ильичом, который не хотел пускать в избу Алексея, потому как у него ночует полицейский. Шерстнев возмущался, что Алексей не предупредил его о том, что остался жив. — Ведь я мысленно похоронил тебя, брат… Как же ты мог не сказать мне? — Но как? — спросил Алексей. — Ведь ты был в отъезде, а доверять малознакомому человеку… сам понимаешь. — Но зачем тебе вся эта комедия? — не унимался Шерстнев. — Ушел бы просто в лес, и все… — Чтобы доставить удовольствие гестапо. Не хотелось их как-то огорчать, — улыбнулся Алексей. — Боялся, что с начальником гестапо будет плохо. Все-таки обидно, я ведь был у него в руках. — Алексей помолчал, потом добавил: — А если говорить серьезно, то мне выгоднее числиться в покойниках, чем в живых… Поэтому я попросил Степана Грызлова переодеть один из обезображенных трупов в мой пиджак и сунуть командировочное удостоверение в карман. Я рассчитал, что в спешке они не станут проверять — есть ли у меня на ногах ранения… В избу вошли еще двое партизан и напомнили Алексею, что пора уходить. Был второй час ночи. — Ну что ж, двинемся! — Алексей поднялся. Он обнял Шерстнева, они уговорились о новых явках — все старые связи были потеряны. Тимофей пожал руку Готвальду и двум проводникам. На прощание предупредил: — Имейте в виду, километрах в десяти отсюда человек десять полиции. Осторожней. — И шепнул Алексею: — Завидую… Хотелось бы быть с вами. Алексей махнул рукой. Потерпи. До встречи… Готвальд, Алексей и двое проводников вышли на улицу. Стояла темная ночь. Проводники, хорошо знавшие дорогу, уверенно шли по лесу. Сразу после ухода из Красновидова Алексей в партизанском отряде спросил об Ане. С тех пор как подпольщики помогли переправиться девушке в лес, он ни разу ее не видел. Только слышал, что ее назначили разведчицей-наблюдателем. Командир отряда огорошил Алексея неприятной новостью: оказалось, что вот уже две недели Аня тяжело больна, партизанский врач установил воспаление легких. Девушку отправил в деревню — отлежаться. — Куда же? — стараясь скрыть охватившее его волнение, спросил Алексей. — Она в селе Мыздра, у своей тетки, — ответили ему. — Мыздра? Где это? Далеко? — Километров девяносто отсюда. Заметив озабоченно сдвинутые брови Алексея, командир отряда осведомился: — Она что, родственница вам? Алексей проговорил после паузы: — Нет, больше чем родственница: она спасла мне жизнь. — Мгм… Вот оно что… Скобцев задумался. — Вы не волнуйтесь, она там в безопасности, — добавил он, помолчав. Село глухое. Немцев и полиции поблизости нет. Тетка ухаживает за ней преданно. А ей нужна забота. Воспаление легких — не шутка. Мы стараемся, чтобы они не нуждались. Отправляем им продукты, трофейные медикаменты. Наши ребята у немцев всем разживаются: и консервами, и лекарствами, и шнапс достают. Алексей улыбнулся и присел за стол, сколоченный из неструганых досок, взъерошил волосы. — Да, твои ребята не промах! Немецкие склады трещат. — Он тоже помолчал. — Хотелось бы мне по)видать Аню. Скобцев прищурил свои и без того узкие, глубоко посаженные глаза. — Повидать? Поправится — повидаешь. И идти в Мыздру далеко. Дорог по болотам ты не знаешь. Одному не добраться, а провожатых дать тебе не могу. Каждый человек у меня на счету. — Говоришь ты верно. Возразить тебе трудно. Но… как бы тебе это объяснить. В общем, тут особый случай. — Догадываюсь. Девчонка она ничего. Хорошенькая. Да и ты мужик видный. Дело естественное. Алексей не поддержал шутки. — Нет, прозорливец, я вижу, ты неважный. Не угадал, я говорю же: эта девчонка спасла мне жизнь. Не будь ее, не сидел бы я сейчас здесь. Аня для меня словно родная дочь. А что касается риска, то когда она меня прятала у себя дома, и везла в больницу, и навещала там, то гораздо больше рисковала. В городе шпиков больше, чем в Мыздре. Теперь, когда она хворает, я должен ей помочь, а если ей ничего не нужно — просто повидать. Скобцев поскреб гладко выбритый подбородок и засмеялся. — Ну ладно уж, ты мне не рассказывай. Я сам человек. Наверное, уж забрала за сердце. Греха тут нет… — Тут не о грехе идет речь, — перебил его Столяров, — а о человеке. Да еще каком человеке! Скобцев стал серьезным. Боец она настоящий. Хоть и недолго пробыла в отряде, но ее все полюбили. Смелая она, всем на удивление, и очень исполнительная. Ведь простудилась она, выполняя задание… Тут кругом болота. Да и речки пришлось вброд сколько раз переходить. Несколько часов в мокрой одежде — что ж удивительного, что воспаление легких… Скобцев помолчал, думая о чем-то своем. — Ну так что ж? — прервал затянувшуюся паузу Алексей. — Лошадей и двух ребят-проводников дашь? Командир засмеялся. — Что мне с тобой делать? Ладно! Бери лошадей. Ишь какой упрямый. Заладил свое — тебя не переспоришь… Кстати, захватите продукты да спирту для компрессов. От всех привет передашь. Скажи — мы ее ждем обратно. И Марфе Семеновне — ее тетке — поклонись. Она немало нам помогает. Достойная женщина. До Мыздры Алексей и его проводники добрались без всяких происшествий. В лесу никого не встретили, и на дорогах будто все вымерло. Ночь видалась светлая, и сквозь деревья косо сквозили голубоватые лучи месяца. Село стояло у опушки леса. Партизаны помогли Алексею отыскать избу Аниной тетки. Сдерживая волнение, Алексей постучал в окно. Послышалось шлепанье босых ног по полу. Скрипнула дверь, и женский голос спросил тревожно: — Кто там? — Свои, — ответил один из проводников. — Привет от Кузьмича. Загремела щеколда, дверь распахнулась, и в темном проеме Алексей увидел невысокую женщину в телогрейке и торопливо наброшенном на голову белом платке. — Марфа Семеновна? — спросил Алексей. Женщина кивнула головой. Казалось, что ее нисколько не испугал этот стук в окно. Видимо, ночные гости из леса наведывались часто. — Мы к Ане. Как ее здоровье? — шепотом сказал Алексей. — Мы пришли ее проведать и кое-что привезли. Хозяйка провела Алексея в избу. Его спутники остались с лошадьми. — Что Аня? Как она? — продолжал расспрашивать Алексей Марфу Семеновну. Они вошли в комнату, хозяйка зажгла коптилку. И прежде чем Марфа Семеновна успела ответить, Алексей услышал из-за перегородки Анин голос: — Тетя, кто там? — К тебе гости, Аннушка! Алексей отбросил ситцевые занавески. Он не мог в темноте рассмотреть лица Ани, видел только, что она приподнялась на локте. Глаза ее лихорадочно блестели. — Кто вы? — Аня! Ты не узнала меня? — Алексей в растерянности стоял, не зная, подойти поближе или остаться на месте. — Нет, не может быть! — чуть не вскрикнула Аня. — Алексей Петрович? Вы? Просто не верится, как вы здесь оказались! — Она потянулась к нему, удивленная и счастливая. — Не могу поверить… — Аня! — Алексей Петрович! — снова вскрикнула она и засмеялась. — Чего же вы стоите, проходите! Нет, подождите, я хоть причешусь… Да где же гребенка? Ну да неважно. Проходите. Тетя Марфуша, дайте сюда коптилку! Мерцающий огонек осветил немолодое лицо Марфы Семеновны — доброе, усталое, чуточку удивленное. Алексей подошел к Ане, она смущенно поцеловала его в щеку и откинулась на подушку. Она глядела на него и без конца повторяла его имя, смеялась, смеялась, счастливая, и он улыбался, смотрел на ее раскрасневшееся, радостное лицо. Марфа Семеновна поставила коптилку на табуретку. Алексей принес со двора и разложил на столе свертки с сахаром и банки с консервами, пакет с разными лекарствами, бутылку спирта. — Что вы, что вы! — запротестовала Аня. — Нам ничего не надо. Я все боюсь, что вы мне приснились. Вот проснусь — и вас нет. — Как ты себя чувствуешь? — уже в который раз спрашивал Алексей, и Аня все не отвечала на вопрос, а только завороженно смотрела на него. …Сколько они проговорили, Алексей не помнил. Марфа Семеновна хлопотала на кухне, несколько раз приглашала Алексея "покушать на дорожку", но Алексей все отмахивался, торопясь в подробностях рассказать Ане, что с ним произошло за время их разлуки. О Лещевском он умолчал, чтобы не расстраивать больную. Наконец Марфа Семеновна собрала гостей вокруг стола. За полчаса до рассвета Алексей, поднявшись, сказал: — Ну, нам пора. Скоро утро. Выздоравливай. На прощание он поцеловал девушку в лоб, стараясь не видеть, как дрожат се губы… — Ну, Аня, не надо. Ты же солдат. — Не буду, не буду, — прошептала она, сдерживая всхлипывания. Такой она ему и запомнилась: в простенькой ночной рубашке, со спутанными светлыми волосами, с глазами, полными слез, с обметанными, потрескавшимися губами, готовой вот-вот расплакаться.3. Задание центра
Шла осень 1942 года. Петр Кузьмич позвал Алексея в свою землянку и протянул ему листок бумаги. — Тебе, из Москвы… Алексей торопливо скользнул взглядом по строчкам. Это была радиограмма из Центра. "Рады сообщить вам, — читал Столяров с волнением, — что добытые вами сведения высоко оценены руководством и способствовали нанесению чувствительных ударов по оккупантам. Вы проявили в борьбе с врагом смелость, изобретательность и отвагу. Вы, несомненно, нуждаетесь в серьезном лечении. Несмотря на то, что враг еще силен и продолжает оставаться опасным для нашей Родины, считаем целесообразным предоставить вам отпуск для отдыха и лечения, чтобы в дальнейшем, используя все свои возможности, вы смогли с новыми силами включиться в боевую деятельность по разгрому и уничтожению гитлеровских захватчиков. Андрей". Алексей прочитал радиограмму несколько раз, затем слегка дрожащими пальцами сложил бумажку вчетверо и сунул в карман. После многих месяцев во вражеском тылу эти теплые слова благодарности возволновали его до слез. Нет, Столяров не ждал поощрений. Но было все-таки приятно, что он наконец принес какую-то пользу фронту. Не напрасно прошли его бессонные ночи, когда он обдумывал, как пробраться на секретный аэродром. Вознагражден был риск, когда Алексей средь бела дня фотографировал секретный приказ о наступлении. И теперь за время пребывания в отряде он участвовал в разработке нескольких секретных операций и наладил партизанскую разведку, которая добыла немало важных сведений. Он постарается сделать еще больше. Правда, Центр предлагает ему отдохнуть. Это, конечно, соблазнительно. Ранение, несколько месяцев, проведенных в больнице, постоянное напряжение, полуголодная жизнь — все это сказалось на его когда-то могучем здоровье разведчика. Мучительно хотелось повидать жену. Да, очутиться вдруг в Москве, среди своих — это казалось немыслимым счастьем. Но выбраться отсюда можно было только самолетом, перелет и посадка которого связаны с огромным риском для пилотов. Нет, рисковать чьей-то жизнью ради короткого счастья он не мог. Да и оставить своих товарищей теперь, когда настоящая работа только что началась, было бы безрассудно. Ответить Москве ему удалось лишь через две недели. В тот момент, когда он читал радиограмму, вернулись партизанские разведчики и сообщили, что к лагерю с трех сторон подступают большие силы гитлеровцев. Скобцев решил, оставив заградительные группы, увести отряд в безопасное место — силы были неравные. Холодным сентябрьским утром отряд двинулся в Ружские леса. Издалека доносился шум боя — это оставленные партизанами заслоны преграждали дорогу карателям. Алексей ехал верхом рядом с командиром отряда. Скобцев, как всегда отлично выбритый, в ладно сидящей шинели, бесстрастный, сдерживал испуганно вздрагивавшую при взрывах гнедую кобылу, зорко оглядывал ряды партизан. Отряд двигался быстро, но без излишней спешки и нервозности. Деловитое спокойствие, которое Алексей видел на лице командира, казалось, передавалось и бойцам. …Несколько дней отряд шел с боями, вырываясь из окружения. Раненых становилось все больше, да и убитыми отряд оставил немало людей. Каратели неотступно преследовали партизан, видимо, рассчитывая загнать их в непроходимые Сардомские болота, лежавшие на пути к Ружским лесам. Отряд подошел к Мыздре. Здесь Скобцев намеревался дать бойцам передышку и найти проводника, который провел бы отряд тайными тропами через болота. Алексей предложил Скобцеву остановиться в избе Аниной тетки. Девушка радостно встретила Алексея, почтительно поздоровалась с Кузьмичом и заявила, что уйдет с отрядом. — А как ты себя чувствуешь? — спросил Алексей. — Я совершенно здорова! — Да, тебе, пожалуй, будет лучше уйти с нами. Оставаться будет опасно — вот-вот сюда нагрянут немцы. Аня вся светилась от радости. Измученный переходами, Алексей, не дождавшись, пока Марфа Семеновна приготовит ужин, повалился на лавку и тут же заснул как убитый, Скобцев последовал его примеру. Проснулся Алексей оттого, что его кто-то тряс за плечо. С трудом открыв глаза, он увидел склонившегося над ним командира отряда. Тот был уже в шинели. — Немцы! — услышал Алексей. Он вскочил и, пошатываясь, огляделся. На столе дымился чугунок с картошкой, горела коптилка. По бревенчатым стенам, кривясь, скользили тени. В избе, кроме Ани, Марфы Семеновны и Скобцева, было несколько бойцов из отряда и чернобородый комиссар. Все были встревожены. — Некогда, некогда! Нам не до еды, — говорил Скобцев обеспокоенной хозяйке. — Может, и вы с нами пойдете — нагрянут фрицы, никого не пожалеют. Ну а ты, Аня, уж конечно, должна уходить! — Ясно, товарищ командир. Я дорогу хорошо знаю. В этих местах много раз бывала, более подходящего проводника вам не найти, в селе ведь остались только старики и старухи. И Алексей залюбовался этой светловолосой, большеглазой девушкой. — Ой, товарищ командир, — говорила Марфа Семеновна, покачивая головой, — не пойду я с вами. Здесь люди верные тоже нужны. Мало ли что. Провожу вот только вас немного… — Ну зачем? — сказала Аня, бросив на тетю укоризненный взгляд. — Если уж решаешь не идти — оставайся. Я дорогу сама не хуже тебя знаю. Марфа Семеновна вздохнула и поцеловала племянницу… — Ты смотри осторожней… — Голос Марфы Семеновны дрожал. — Лучше бы кто другой повел. Нет, все-таки пойду я с вами вместе через болото. Что-то в голосе Марфы Семеновны было такое, что заставило прекратить все дальнейшие разговоры по этому поводу. Это, наверное, понял и командир отряда. Женщины стали одеваться, собирать в дорогу еду. Марфа Семеновна, уходя, долго оглядывалась на незапертые двери своего родного дома. — Зачем запирать? — сказала она Ане. — Все равно немцы сломают замок и все разграбят… А может, и дом сожгут. Алексей, как и все, был обеспокоен судьбой отряда, судьбой этих измученных, валившихся с ног людей, над которыми нависла угроза гибели. Марфа Семеновна и Аня пошли впереди, рядом с комиссаром. Алексей и Скобцев замыкали цепочку. Переход по узкой, капризно петляющей через болото дорожке, чавкающая под ногами грязь, непрерывная стрельба, скрип повозок, стоны тяжелораненых — все это потом не раз вспоминал Алексей. Цепочка бойцов уже была где-то посередине болот, как пришла беда. На лес спускались вечерние сумерки, и думалось, что все страшное позади. Гитлеровцы отстали, не найдя дороги через топь, можно было вздохнуть спокойнее. Внезапно где-то справа разорвался артиллерийский снаряд. За ним второй и третий — в голове колонны. Бойцов засыпало осколками — раздались крики, стоны раненых. Произошло замешательство — колонна остановилась. Залечь в грязь или рассыпаться было невозможно. Каждый шаг в сторону от тропы грозил неминуемой гибелью. Конь, которого Алексей вел в поводу, взвился на дыбы и, храпя, тяжело осел на задние ноги. Алексея волной швырнуло на землю, но через мгновение он уже посылал во тьму короткие очереди из автомата, неслышные в поднявшемся вокруг него треске, грохоте и криках. Да и ненужные: было видно, что враги били наобум из пушек, подвезенных к лесу. Краем глаза Алексей видел лежавшего неподалеку Скобцева. Тот кричал что-то подползшим к нему бойцам. Через несколько минут обстрел прекратился так же внезапно, как и начался. Должно быть, гитлеровцы решили, что отряд разгромлен и стрелять далее бессмысленно. Стрельба стихла, но отряд не двигался. Что-то случилось впереди колонны. Когда Алексей и Скобцев пробрались к месту происшествия, с трудом обходя людей, стоявших на узкой части, они увидели в сумерках, что кого-то поднимают с земли… — Кто это? — спросил Алексей пожилого бойца.:. Тот молчал. Алексеи повторил вопрос. — Аня, — почему-то шепотом ответил солдат. — Ранена? Партизан посмотрел на Алексея так, будто тот проявил совершенно неуместное любопытство. Но этот взгляд был исчерпывающим ответом. Аню подняли и понесли. Отряд снова двинулся через болото. Марфа Семеновна по-прежнему указывала дорогу. Губы ее были скорбно сжаты, но она не плакала. Положение отряда оставалось настолько серьезным, что приходилось забыть о собственном горе. Алексей снова шагал рядом со Скобцевым. Оба подавленно молчали. — Может, еще придет в себя, — наконец проговорил Алексей. — Куда там! — махнул рукой Скобцев. — Если сейчас жива, то умрет по дороге. Здесь же не подашь настоящую помощь. К утру отряд вышел на твердую почву. Над партизанами спокойно шумел сосновый бор. Выстрелов не было слышно. Разведка донесла, что каратели, видимо, не стали углубляться в лес и повернули назад. Опасность, кажется, пока миновала, и можно было отдохнуть, но подавленность и тревога владели всеми. Алексей не мог справиться с горем. По лицу Скобцева и комиссара Алексей догадывался, что то же, что и он, испытывают и его друзья… Хоронили Аню в тот же день. У свежей могилы собрались все, кто был свободен от службы. Неярко светило сентябрьское солнце. В лесу стояла удивительная, по-осеннему прозрачная тишина, которую нарушал лишь шорох опавших листьев под ногами людей. Яркими флагами пламенели осинки над обнаженными головами бойцов. Комиссар оказал речь. Казалось, что он находил слова в самых потаенных уголках души. Он призывал бойцов отомстить за Аню. — Мы никогда не забудем смелую дочь нашего народа. Она заслуживала бы пушечного салюта, но мы здесь, в тылу врага, не можем почтить ее память даже ружейной стрельбой. И когда придет день Победы, мы все должны помнить, что наша Аня отдала жизнь во имя нашей Родины, нашей свободы… В лесу вырос маленький холмик. Партизаны положили на него большой камень, который нашли в лесу. Он поможет отыскать могилу отважной девушки. С Москвой Алексея удалось связать, когда отряд окончательно обосновался на новом месте. Алексей заявил Центру, что прерывать работу сейчас считает нецелесообразным, и просил разрешения остаться в тылу. Вскоре он получил ответную радиограмму. В ней говорилось: "Благодарим за мужественное решение. Андрей". Алексея предупредили, что из Москвы получен также "куэрикс". Этот термин Алексею был хорошо известен, он означал важность очередного радиосеанса. Алексей и Готвальд ждали радиста в избушке лесника. Вечер выдался теплый, безветренный и безлунный. Рядом с избушкой, — в самой гуще леса, жил-шумел целый партизанский городок из землянок и палаток. Командир отряда уговаривал Алексея отдохнуть, но как-то незаметно для себя Алексей продолжал работать: обсуждал с разведчиками планы операций, помогал им проверять новых людей. Отряд пополнялся — прослышав о новом партизанском центре, к нему стекались люди из окрестных сел. Перебралась сюда и жена Готвальда вместе с малолетним сынишкой. …Радист пришел в половине девятого. Это был низкорослый рыжеватый паренек. Улыбаясь, он протянул Алексею телефонограмму. По этой еле приметной, заговорщической улыбке Алексей догадался, что тот явился с приятной новостью. И не ошибся. Центр сообщал, что командир разведывательно-диверсионной группы "Коршун" Алексей Столяров за добытые сведения исключительной государственной и военной важности награжден орденом Красного Знамени с присвоением очередного воинского звания. Одновременно Центр извещал о награждении Валентина Францевича Готвальда орденом Красной Звезды, о назначении его заместителем командира группы и присвоении ему воинского звания "младший лейтенант". Первым порывом Алексея было обнять Готвальда, который выжидательно смотрел на него. Но, подумав, он сунул радиограмму в карман и прошелся по избушке. — Ну что там Центр? — не вытерпел Валентин. — Секрет, — подмигнул ему Алексей. Готвальд топтался на месте, поглядывая на Алексея. Чувствовалось, что ему очень хочется прочесть радиограмму, но попросить об этом он не решался. — Вот что, дружище, — сказал Алексей, хлопнув вновь назначенного заместителя по плечу, — разыщи-ка свою жену и пригласи ее сюда. Да и сына тоже. Валентин кинул на Алексея удивленный взгляд. — Жену? — Жену. Да поживей. Готвальд, пожав плечами, вышел из домика. Алексей тем временем отправился в палатку командира отряда. Он пробыл у него не больше десяти минут. Вскоре в избушке лесника жена Готвальда накрывала деревянный пошатывающийся стол белой простыней, на которой появились банки с консервами, три бутылки вина с красивыми иностранными этикетками, плитки шоколада. Дверь то и дело скрипела, и тесная избушка стала наполняться гостями. Пришли командир отряда, комиссар, начальник разведки, командиры подразделений. Низенькую комнату заполнил смех, гул голосов. — Откуда такое богатство? — спросил Готвальд, с удивлением оглядывая стол. Командир усмехнулся. — Известно откуда — трофеи… Когда все сели за стол, комиссар по просьбе Алексея прочитал вслух радиограмму и поздравил награжденных. Готвальд, счастливо улыбаясь, переглянулся с Алексеем. Загремели щедрые аплодисменты, звякнули кружки… И вдруг около Валентина оказался его сынишка, двухлетний Игорек, такой же светловолосый и голубоглазый, как его отец. Что-то лепеча, ребенок протягивал отцу небольшой сверток. Валентин неуверенно взял пакет и повертел его в руках. — Что это? — Ты посмотри, не бойся! — крикнул ему Алексей. Готвальд снял обертку. И все увидели у него в руках маленький трофейный "вальтер". — Какой красавец! — невольно вырвалось у Готвальда. — Это тебе от меня, — сказал Алексей. — Храни. Ты заслужил и более ценный подарок. Этот маленький пистолет удобен для разведчика. Легче спрятать и труднее найти. Все засмеялись, оценив шутку вновь испеченного майора. Веселье затянулось до глубокой ночи. Алексей вскоре получил еще одно сообщение из Центра: "В ближайшие дни ждите самолет с нашим человеком. Он познакомит вас с новым заданием. Учтите его чрезвычайную важность. Андрей". Столяров тряс руку вышедшему из самолета невысокому человеку в кожаной куртке. Это был старый знакомый Алексея Геннадий Колос. Он принадлежал к разряду тех людей, на примере которых природа как бы хотела доказать незыблемость известной истины — внешность обманчива. Приземистый, широкоплечий, с круглым невыразительным лицом, Колос производил впечатление человека простоватого и даже недалекого. И только в очень узком кругу чекистов знали, что за этой внешностью кроется тонкий изобретательный ум и редкостная выдержка, а Колос немало тренировался, чтобы выработать это постоянное выражение простоватости и ограниченности. Покатые, широкие плечи Геннадия таили в себе незаурядную физическую силу. За Колосом давно утвердилась репутация человека смелого, удачливого, но крайне осторожного. Посылали его на самые ответственные задания. О некоторых его подвигах Алексей был осведомлен. Но и он не знал, что уже во время войны Колос, сам того не желая, завоевал себе известность даже в стане противника. Листовки с его портретом мокли и желтели на телеграфных столбах Винницы. Немцы оценили голову неуловимого разведчика в пятьдесят тысяч марок. Как очутилась его фотография в гестапо, Колосу так и не удалось выяснить. Возможно, ее передал проникший в группу Колоса, много месяцев действовавшего на Украине, провокатор. Во всяком случае, Геннадию пришлось сменить адрес. Теперь он был послан в помощь Алексею. Той же ночью Столяров, Колос и Готвальд собрались в палатке командира отряда, и Алексей наконец услышал о новом задании Центра. — Недавно, — начал Геннадий своим глухим неторопливым тенорком, — наши контрразведчики задержали немецкого шпиона по кличке Гельмут. Так вот, этот самый Гельмут проходил курс обучения в гестаповской школе здесь у вас, неподалеку. — Что это за школа? — спросил Скобцев. — Мы о такой не знаем. — Не знаете, потому что она очень засекречена. Но теперь наши ее обнаружили. Колос достал небольшую карту и, положив на стол, разгладил ее короткопалой рукой. — Эта школа находится вот здесь, — Геннадий ткнул в синий кружочек на карте, — в пятнадцати километрах к юго-западу от города, в бывшем совхозе. Как показал Гельмут, в ней обучаются восемьдесят будущих диверсантов. Какую опасность представляет собой эта школа, думаю, вам объяснять не надо. Центр поручает нам с вами уничтожить это осиное гнездо…4. Услуга Гельмута
Теплым погожим октябрьским днем к гауптману — коменданту одного изнебольших гарнизонов в окрестностях города — привели неизвестного, задержанного поблизости. — Он заявил, что хочет говорить только с вами, — доложил часовой, сопровождавший незнакомца. — И только наедине, — добавил бродяга по-немецки. Гауптман взмахом руки выслал своих подчиненных, смерил арестованного долгим, пристальным взглядом маленьких светлых глаз. Неожиданный гость был одет в порыжелую красноармейскую гимнастерку и синие диагоналевые бриджи. Офицерская фуражка с лакированным козырьком почти скрывала его глаза. Широкоплечий, худощавый, с темным от загара лицом незнакомец спокойно потирал небритый подбородок, густо заросший щетиной. "Черт побери, что еще это за субъект?" — подумал комендант. Гауптмана раздражали вызывающая самоуверенность этого человека и его независимое поведение. Но "субъект" первой же фразой ответил на немой вопрос коменданта. Навалившись грудью на край стола, он торопливо зашептал: — Герр гауптман, в моем распоряжении две минуты. Передайте господину штурмбаннфюреру Курту Венцелю, что у вас был Гельмут. Гельмут, — повторил незнакомец. Говорил он на довольно правильном немецком языке. — Нахожусь в партизанском отряде. Передайте также: в отряде готовится какая-то операция. Какая — пока не знаю. Сообщу позже. Незнакомец встал, оправив гимнастерку, и еще глубже надвинул фуражку на глаза. — Если у вас нет документов, назовите пароль, — настаивал комендант. — Мое имя Гельмут и есть пароль. Разве вам не сообщили? Комендант ничего не знал, но проявить неосведомленность не захотел. Незнакомец сделал нетерпеливое движение. — А теперь отпустите меня. Я смог отлучиться из отряда лишь на три часа. Мне нужно вернуться как можно скорей. Распорядитесь, чтоб меня не задержали. Какого черта я пришел бы к вам по доброй воле. — И неожиданный гость направился к дверям. — Покажите ваши документы, — остановил его озадаченный комендант. — Я настаиваю на этом. — Гельмут обернулся и молча посмотрел на коменданта. — Документы? — удивился он. — Вы хотите, чтобы я непременно носил при себе документы? Для чего? Чтобы предъявить партизанам? Слушайте, герр гауптман, не валяйте дурака. Ведь гестапо не похвалит вас, если вы задержите его сотрудника. Комендант усмехнулся. — Вы отчаянный парень! А если я прикажу арестовать вас? Комендант не знал, что ему делать. Что, если этот нахал действительно сотрудник гестапо? А если нет? Потрескавшиеся губы Гельмута тронула улыбка. — Уверен, что вы этого не сделаете. Я ж предупреждаю: гестапо вас не похвалит. Повторяю: если вы арестуете меня, вы сорвете важное дело. Гауптман засмеялся. — Я думаю, что вы сумасшедший. Да и наглец к тому же. Хорошо. Можете быть свободным. Но все равно из виду мы вас не выпустим. Сведения проверим. Агент ли вы или только себя за него выдаете. Идите. — Он снял трубку полевого телефона и бросил в нее короткую фразу. Через минуту на пороге появился унтер-офицер. — Позаботьтесь о том, — сказал ему комендант, — чтобы этот человек без задержки миновал посты. Но и проследите, куда он пойдет. В тот же вечер комендант отправился в город и лично доложил штурмбаннфюреру Венцелю о странном посетителе. Начальник полиции подтвердил, что агент под кличкой Гельмут действительно был заслан в русский тыл. — Должно быть, он не пробрался через линию фронта и сейчас внедрился в какой-то партизанский отряд… А он, кстати, не сказал, к какому отряду ему удалось прибиться? — Нет, он ничего не сказал, а все ссылался на гестапо. Венцель решил не продолжать этого разговора, понимая, что от тупого служаки ничего больше не добьешься… Через некоторое время Гельмут снова напомнил о себе. В селе Воробьеве он забежал в избу полицейского и попросил его жену передать немцам, что партизанский отряд имени Чапаева собирается предпринять диверсию на железной дороге в районе Строгоновки. Начальник полиции не знал, как ему отнестись к этим сведениям, но на следующий день другой агент гестапо подтвердил данные Гельмута. Действительно, в районе Строгоновки около железной дороги шатались какие-то подозрительные личности. Штурмбаннфюрер приказал усилить охрану участка железнодорожного полотна в этом районе. И мера оказалась не напрасной. Действительно, в назначенную ночь партизаны подошли к железной дороге, прямо к тому месту, где для них гестаповцы приготовили засаду. Но когда партизаны подошли уже совсем близко, прозвучал одиночный, по-видимому, случайный выстрел. Трудно было определить даже, где стреляли. Часовые, охранявшие мост, открыли по партизанам пальбу из пулеметов, но отряд мгновенно рассыпался и скрылся в лесу. Вскоре Венцель, уже проникшись доверием к Гельмуту, через того же полицейского из села Воробьеве назначил встречу с таинственным агентом. Но тот не явился. И, как выяснилось позже, по вполне уважительным причинам: партизанский отряд перебазировался в это время в другой район. После неудавшейся диверсии на железной дороге Гельмут снова появился в доме знакомого уже ему полицейского и предупредил, что партизаны собираются взорвать мост через реку Линь в ночь с 20 на 21 октября. И снова это же сообщение подтвердил другой агент непосредственно в гестапо. Но разгромить диверсионную группу не удалось и на сей раз. За неуклюжее руководство операцией Венцель понизил в должности командира карательного отряда. Разъяренный неудачей, Венцель отправил несколько человек на передовую линию в штрафной батальон. — Получить такие данные и провалить операцию, упустить партизан! Штроп тоже был вне себя от злости, хотя в душе и радовался неудачам самонадеянного Венцеля. На некоторое время следы Гельмута затерялись. У Венцеля было превосходное настроение. Дело в том, что два дня назад он получил очередное звание. Это событие с помпой отметили в офицерском ресторане. Собрались друзья и сослуживцы. Штроп, знавший о страсти начальника полиции к хорошим винам, женщинам и антикварным вещам, преподнес Венцелю великолепный обеденный сервиз с золотой окантовкой, извлеченный из богатых недр Пакетаукциона,[30] и дюжину красного "Дюбоне". — Из того, что ты любишь, здесь нет только женщин, — заявил Штроп под общий смех собравшихся на вечеринку офицеров, — но этот товар ты достаешь успешней меня. Венцель подозревал, что главный следователь гестапо, кичившийся своими аскетическими привычками, его недолюбливал. И считал это вполне естественным: уж очень разные люди были они со Штропом. Казалось, главного следователя не интересовало ничего, что выходило за рамки его служебных обязанностей. Даже в офицерском ресторане его видели чрезвычайно редко. А молодой Венцель не упускал случая воспользоваться радостями жизни. И вот теперь этот лестный тост и подарок! Венцель был растроган не на шутку. В ответном слове он поблагодарил Штропа и подчеркнул, что ему чрезвычайно приятно работать бок о бок с таким опытным и беспредельно преданным делу фюрера офицером, как главный следователь гестапо. За столом было весело. Много пили и много говорили, главным образом об успешном наступлении под Воронежем и Сталинградом. Волки хвастались своими фронтовыми подвигами, не веря друг другу. Среди собравшихся не было никого, кто побывал бы на передовой. В самый разгар ужина, когда Венцель был изрядно навеселе, в зал ресторана неожиданно вошел сотрудник полиции. Он отыскал глазами своего шефа и, подойдя к нему, сказал вполголоса: — Вас хочет видеть один человек. — Какой еще человек? — недовольно поморщился Венцель. Полицейский пожал плечами. — Он заявил, что не желает говорить ни с кем, кроме начальника. — Так скажите ему, чтобы зашел завтра. — Он говорит, что завтра будет поздно, — виноватым тоном возразил полицейский. — Дело не терпит отлагательства. — Черт его побери! Кто все-таки он такой и что ему нужно? — Не знаю. Просил передать, что от Гельмута. — Гельмута? — Венцель поднялся из-за стола и, извинившись перед своими собутыльниками, направился к выходу. — Проведите его в мой кабинет, а я сейчас приеду, — сказал он семенящему за ним полицейскому. Незнакомец вошел в кабинет, подняв воротник пальто и надвинув кепку на самые глаза. Был он невысок ростом, широкоплечий, с каким-то неприметным, невыразительным лицом. — Ну? В чем дело? — спросил Венцель. — Я должен остаться с вами наедине, — сказал незнакомец по-немецки. — Хорошо. Подождите меня за дверью, — приказал Венцель дежурному. Когда они оказались вдвоем, незнакомец тихо, но многозначительно произнес: — Я от Гельмута. — Чем вы это докажете? — Триста двадцать семь тире "а". Это вам что-нибудь говорит? Это был номер, под которым, как Венцель уже знал, числился агент по кличке Гельмут. — Да, говорит, — кивнул головой Венцель. — Гельмут просил передать, — продолжал незнакомец невозмутимо и невыразительно, что завтра можно будет схватить Корня. На хуторе Обливном. Венцель не поверил своим ушам. Этот простоватый посетитель принес весть чрезвычайной важности. Гельмут отдавал в руки гестапо секретаря обкома, руководителя всего подполья! — Меня больше всего интересует Корень, — сказал Венцель. — Это будет именно он? — Да, — небрежно бросил неизвестный. — Когда? Где он будет? Повторите! — Завтра. На хуторе Обливном. В пять вечера. — Зачем он туда придет? — Чтобы встретиться со мной. Я послан к нему от партизан. — Кто будет еще? — Еще один человек из отряда. Надежный… Я с ним обо всем договорился. Ему надоело слоняться по лесам, и он готов искупить свою вину перед германским командованием… Венцель задумался. Все это выглядело слишком неправдоподобно. А что, если это партизанская провокация? Хитроумная ловушка? Он покосился на своего собеседника. Но на давно не бритом, бесцветном лице посетителя ничего не отражалось. — А что, разве Корень ходит без охраны? — Да, он будет один. — Удивительно! — Так вот, в пять вечера. Хутор Обливной, — повторил незнакомец. — Но учтите. У большевиков хорошо поставлена разведка. Если появится крупный отряд, мы спугнем их. Лучше, если от вас приедет не больше трех человек. Желательно в штатском. В общем, нужна хорошая маскировка… Перспектива захватить Корня показалась тщеславному Венцелю очень заманчивой. Если он сам захватит этого легендарного большевика, то Штроп, да и начальники повыше лопнут от зависти. А Венцеля переведут в Минск или даже в Берлин! — Как мы узнаем, кто из троих Корень? — Очень просто, — ответил спокойно неизвестный. — Надо подойти к воротам последней на правой стороне избы. Спросить: "Товар из Витебска прибыл?" Я отвечу: "Прибыл". — "Хозяин здесь?" — "Да, — отвечу я. — Вот он, познакомьтесь", — и укажу на Корня. В это время мы набросимся на него сзади, а ваши люди окажут нам помощь… Вот и все. Тут только не оплошать и действовать быстро. — Ну что ж. — Венцель, окрыленный будущими успехами; кивнул незнакомцу. Тот задержался в дверях. — Ваши полицейские бывают нерасторопны, — сказал он. — Уже дважды они упустили счастливый случай. Надо послать кого-то ловкого и смелого… Когда через пять минут Венцель вернулся в ресторан, вид у него был чрезвычайно деловой. За столом шел оживленный спор. Но Венцель плохо слушал своих приятелей. Он решил, что после ужина обязательно посоветуется со Штропом, который изредка вопросительно посматривал на него. Да, конечно, риск и соблазн были велики в равной мере, но упускать случай взять целехоньким и невредимым руководителя большевистского подполья не хотелось. Поймать Корня — значило нанести удар в самое сердце тайной организации русских. И кто знает, может быть, удастся вытрясти из него адреса и явки, тогда организация будет целиком разгромлена. Нет, нельзя отказываться от такой блестящей возможности. Кого из помощников послать на операцию? Эти ленивые дураки скорее всего проворонят Корня, а если и поймают, то все лавры достанутся не ему всецело, а тому офицеру, которого он пошлет. Тогда прощай награды и счастливая, спокойная жизнь в Берлине. Надо ли советоваться со Штропом? Нет. Старик еще ввяжется сам и вырвет у Венцеля этот лакомый кусочек. Решено — он, Венцель, не говоря никому ни слова, возьмет двух самых здоровенных охранников и поедет сам. Алексей рассчитал верно — недаром он так скрупулезно собирал сведения о Венцеле. И через Софью Львовну, и через Шерстнева. Да и сам еще на допросах он понял, что Венцель самонадеян и тщеславен. Поэтому Алексей и решил сыграть на давнишних и безуспешных попытках полиции обезглавить местное подполье. А личные качества Венцеля помогли составить именно этот, а не другой план. Алексей был уверен, что Венцель побоится отдать этот выгодный шанс в руки помощников и явится сам. Вырабатывать этот план они начали еще в тот вечер, когда в партизанский лагерь прилетел Геннадий Колос. Прежде чем думать о взрыве гестаповской школы, все трое-Столяров, Колос и Готвальд — сошлись на том, что нужно добыть хорошо осведомленного "языка", который обогатил бы их сведениями о вражеском осином гнезде. Таким "языком" мог быть только работник гестапо. Вот тогда-то у Алексея и родилась мысль заманить в ловушку самого Венцеля или кого-нибудь из его ближайших сотрудников, которые, конечно, обо всем были хорошо осведомлены. Роль Гельмута Алексей взял на себя. А к Венцелю вызвался пойти Колос. Операция готовилась в строжайшей тайне. Никого, кроме командира и комиссара, в нее не посвящали. Скобцев посылал своих людей и к железной дороге, и к оговоренному месту, этим самым подтверждая донесения Алексея-Гельмута в гестапо. Начальство Альберта Обуховича ничего не знало о разоблачении своего агента. Колос и Столяров попросили Скобцева отложить и исполнение приговора над Обуховичем. — Этот агент нам еще пригодится, — сказал Алексей. И он действительно пригодился. На допросе Обухович рассказал о системе связи со своими шефами. Она включала несколько тайников для передачи сведений в полицию. Через эти тайники Столяров и Колос отправляли донесения, которые полностью подтверждали сообщения Гельмута. Все сведения писал Обухович под диктовку Алексея, и в полиции эти сообщения считались бесспорными. Доверяла ли полиция Гельмуту? Этого Столяров еще не знал. Пока все шло по плану. Однако требовалась крайняя осторожность. Достаточно было Венцелю подготовить на хуторе засаду, и Алексей со своими людьми мог сам угодить в ловушку. Поэтому ночью, накануне встречи с Венцелем, командир отряда выслал на хутор разведчиков. В случае появления большой группы фашистов они должны были предупредить партизан. Но когда в половине пятого Алексей, Колос и Готвальд подошли к Обливному, у опушки их встретил один из разведчиков и доложил, что на хуторе все спокойно. — Где подводы? — опросил Алексей. — Укрыты в овраге, — ответили ему. — Там же и ребята. Кузьмич предусмотрительно прислал двадцать человек. Без десяти пять Столяров со своими товарищами вошли во двор крайней хаты. Окна были забиты досками. Алексей захлопнул скрипевшие на ветру ворота. В щели забора дорога хорошо просматривалась в оба конца. Тусклый октябрьский день клонился к вечеру. Ветер гнул у заборов заросли полынника, срывал с тополей последние листья. У колодца появилась женщина в ватнике, набрала воды и исчезла в избе напротив. И снова улица опустела. Хутор был невелик: всего восемь дворов, половина из которых осталась без хозяев. Старенькая, запыленная полуторка советского производства появилась на улице неожиданно. Шофер затормозил напротив крайней избы. Из кабины вышел Венцель. На нем было потертое латаное пальто и кирзовые сапоги. На голове — помятая кепка. Венцель шел к воротам неторопливо, засунув руки глубоко в карманы. Алексей видел, что начальник полиции весь напряжен, а его глаза беспокойно шарят по сторонам, стараясь заметить скрытую опасность. Столяров лихорадочно оценивал ситуацию. В кабине полуторки остался только шофер, по виду русский военнопленный, но скорее всего тоже переодетый гестаповец. Неужели этот тип все-таки решился приехать? Как же он все-таки пошел на это? Едва Колос распахнул ворота и вышел навстречу Венцелю, стараясь держаться как можно непринужденней, Алексей сразу же краем глаза заметил, что слева, метрах в ста от них, остановился серый "опель". В нем, кроме шофера, сидели два гитлеровца. Это уже было нарушение договора. "Опель", конечно, осложнял дело… Эти мысли пронеслись в голове Алексея в какую-то долю секунды. Дальше все произошло мгновенно. Прижавшись к забору, он слышал, как Венцель спросил Колоса по-русски с сильным акцентом. — Товар из Витебска прибыл? — Да, — ответил Геннадий. — Пойдемте. Колос пропустил "покупателя" вперед и захлопнул ворота. — А хозяин есть? — Есть, познакомьтесь, — ответил Колос и указал на Столярова. Венцель, деревянно улыбаясь, протянул Столярову руку, но ее перехватил Геннадий. Сильной короткопалой ладонью он сжал руку начальника полиции, и лицо Венцеля исказила гримаса боли. — Помогите! — прозвучал короткий, приглушенный крик, прежде чем Колос успел зажать рот гестаповцу. В следующую секунду Венцель лежал на земле. Готвальд сидел на нем верхом и пытался защелкнуть на вывернутых за спину руках "покупателя" новенькие наручники, захваченные при недавнем налете на полицию. До слуха Алексея донесся рев полуторки, и разведчик ринулся к воротам, на ходу вытаскивая пистолет. Услышав крик, шофер грузовика дал задний ход. Зато серый "опель" мгновенно оказался напротив ворот. Из него на ходу выскочили оба гестаповца. Алексей не успел прицелиться, как рядом с ним треснул выстрел и один из гитлеровцев упал возле невысокой ветлы. Геннадий и Готвальд связали Венцеля. Алексей стрелял по фашистам. Второй немец прижался к ветле и открыл оттуда стрельбу. Алексей спрятался за столб забора. Одна из пуль расщепила ворота, и щепка впилась Алексею в руку. Вдруг стрельба из-за ветлы прекратилась. "Кончилась обойма", — пронеслось в голове у Алексея. Он осторожно выглянул и убедился в своей правоте. Гитлеровец, согнувшись, полез в карман за новой обоймой, и его серо-зеленый китель показался из-за ствола дерева. Алексей, держась одной рукой за столб, тщательно прицелился. Раздался выстрел. Выронив парабеллум, фашист тяжело осел на траву. Ни полуторки, ни "опеля" на улице не было. Видимо, водители погнали машины за подкреплением. Надо было торопиться. Алексей оглянулся. Колос и Готвальд поставили на ноги гестаповца и тащили его за собой, угрожая упиравшемуся фашисту пистолетами. Венцель неохотно повиновался. В эту минуту, стуча колесами по корневищам ветел, на улицу выскочили две таратайки, и кучера осадили лошадей прямо у ворот. Венцеля уложили на переднюю подводу лицом вниз. Пристраиваясь рядом, Столяров видел пунцовую гладкую щеку и рубиновую мочку уха штурмбаннфюрера. Начальник полиции покосился на Алексея краем глаза, но хранил молчание. — А ну-ка, братцы, с ветерком! — крикнул возницам Колос. Щелкнул кнут. Лошади взяли с места галопом. В этот момент из-за поворота дороги показались три грузовика с гитлеровцами, которые начали с ходу стрелять. Им наперерез из оврага бежали партизаны. Звуки стрельбы еще долго слышались позади бешено мчавшихся таратаек.* * *
Венцеля допрашивали на следующее утро. Пережитое унижение ранило самолюбие гестаповца, и теперь он всем своим видом хотел показать, что никакие обстоятельства не заставят больше уронить его офицерское достоинство. Планируя поимку "языка", Столяров опасался столкнуться с человеком сухим, фанатичным — из таких обычно трудно что-либо выбить. Но Венцель, по его расчетам, не принадлежал к их числу, скорее наоборот: у него была жизнерадостная внешность — розовые щеки, короткий нос и большие, немного выпуклые глаза, наверное, веселые в обычное время, а сейчас смотревшие настороженно, с плохо скрытым испугом. — Догадываетесь, куда попали? — спросил Алексей по-немецки. Гитлеровец кивнул головой. Колос улыбнулся. — Сообразительный парень! Ночью, кляня себя за то, что так глупо попался в сети советской разведки, сплетенные, как уверял он себя, "всего лишь из наглости", Венцель принял твердое решение молчать. Этим он мог по крайней мере обеспечить покой и безопасность родителям и Железный крест посмертно себе лично. Еще прежде, чем гестаповец переступил порог палатки и Алексей увидел его побледневшее, замкнутое, несколько даже торжественное лицо, он догадался о том, что происходило в душе у пленного. — Конечно, — говорил часом раньше Алексей Готвальду и Колосу, — этот мерзавец не заслуживает ничего, кроме веревки, но его показания для нас важней, чем возмездие… И есть только один способ заставить его заговорить — гарантировать ему жизнь. Столяров не ошибся. Едва он выговорил слово "жизнь", как пленный судорожно сглотнул и облизал сухие губы. Он понял — жизнь ему обещают, ибо показания его необходимы этим русским. Для приличия он решил некоторое время молчать. Но колебался он недолго. Венцелю много приходилось слышать о том, как гордо умирают с именем фюрера на устах настоящие немецкие солдаты. Это было красиво. И Венцель раньше убеждал себя, что, доведись ему попасть в плен, он бы стойко принял смерть, презрительно улыбаясь в лицо врагам. Но это оказалось не таким простым делом. Курт Венцель любил своего фюрера, но еще больше он любил самого себя. К тому же он ожидал самого худшего, и неожиданно вспыхнувшая надежда на счастливый исход заставила его забыть о долге "истинного германца". — Яволь, — проговорил он после долгой паузы. — Я буду говорить… Хитрый фашист тут же решил, что выскажется не сразу, а будет "продавать товар" по частям, набивая себе цену.* * *
Все время после ухода из Краснополья Алексея не покидало беспокойство за Лещевского. Что с ним? Жив ли? Сумел ли выдержать пытки? Ответить на этот вопрос мог, пожалуй, Шерстнев, но, когда партизанский отряд вынужден был сменить базу, связь с Тимофеем прервалась. Алексей мог предполагать, что с Лещевским расправились немцы, но тревогу приглушала слабая надежда: у фашистов не было улик против хирурга. Единственное, что страшило, гитлеровцы знали о встречах Лещевского с Готвальдом. Нужно было попытаться спасти Лещевского. Но как? Не было возможности пробраться в тюрьму, узнать, что в ней делается… Мелькнувшую было мысль о налете партизан на тюрьму Алексей отбросил: такой проект сулил слишком большие и неоправданные потери. — Алексей, разреши, — просил Валентин. — Пойду в город, узнаю, что и как. — Ты с ума сошел! — прикрикнул на него разведчик. — Тебя схватят на первом же перекрестке. Теперь у каждого агента твоя фотография. — Я что-нибудь придумаю… — Брось об этом даже разговаривать. Готвальд хоть и мало знал хирурга, да и держался Лещевский, принимая его, замкнуто и отчужденно, чем-то Адам Григорьевич навсегда расположил к себе Валентина. Прибавлялось к этому и уважение: Лещевский был не просто хороший врач, а еще и подпольщик. И Готвальд так же строил всяческие планы, как спасти хирурга. В конце концов Алексей и Валентин решили, что прежде всего нужно отыскать Шерстнева: он-то уж наверняка знает, в какой тюрьме содержат фашисты Адама Григорьевича, если он еще жив. Но Шерстнев и сам не дремал и всячески пытался узнать что-либо об Алексее и партизанах. В одну из поездок по области он завернул в Пашкове к Захару Ильичу Крутову. Было решено встретиться у него в ночь на 17 октября. В Пашкове выехали втроем: Столяров, Готвальд и Колос. Скобцев предложил было им охрану, но они отказались. Выехали верхом, в сумерках, а часам к одиннадцати вечера были на месте. Захару Ильичу Столяров привез подарок: теплую красноармейскую ушанку и рукавицы. Обрадованный старик вынул начатую бутылку самогону, чтобы вспрыснуть обнову, новости, озабоченные своими делами, пить водку отказались. Шерстнев, давно уже дожидавшийся партизан (полицай, как всегда, открыто пришел к Крутову еще засветло), покосился на бутылку, но пить тоже не стал. Старик понял, что его гостям не до него, и ушел в каморку за печкой. Алексей сразу спросил Шерстнева: — Что случилось с Лещевским? Он жив? — Жив. — Где он? — В городской тюрьме. Видел, как арестованных выводили во двор. Сначала он сидел в подвале гестапо, и я только недавно узнал, что его перевели. — Его надо спасти, Тимофей, слышишь? Обязательно надо. Шерстнев усмехнулся. — Будто я сам не понимаю. Легко сказать… — Надо что-то придумать. — Сам об этом все время думаю. Думать мне вообще немало приходится сколько времени вас вот искал. Помолчали. Потом Тимофей, скребя бороду, медленно проговорил: — Я и с городскими подпольщиками советовался… Служит в тюрьме один человек… Некто Ворчук. — Ну, ну, ну! Что ж ты молчал до сих пор? Слова из тебя не вытянешь. — Поспешишь — людей насмешишь! — Так что этот Ворчук? Шерстнев почесал за ухом, помедлил. — Да как вам сказать? Неясный он человек. По специальности слесарь-водопроводчик. Из военнопленных. Был в немецком концлагере. Освободили его оттуда за примерное поведение. К нему уж наши искали подходы, да он что-то не идет на сближение. Однажды наша связная встретила его на улице, попросила передать записку одному арестованному. Но он не отвечал, прошел мимо. Боится, должно быть, может, совсем продался. — А что, если попробовать еще раз? Ведь он все-таки наш, русский. Может, осмелеет… Шерстнев опять помолчал и погладил бороду. — Рискованно. Согласится, а сам предупредит гестапо. Загубим людей. — А если не освободим Лещевского, преданного нашему делу человека загубим… Да, может, и еще кого-нибудь удалось бы вызволить. — Ну конечно, — согласился Тимофей. — Я ведь все понимаю. Дадим знать Корню. Если даст "добро", то попытаемся… Шерстнев рассказал Алексею городские новости. И главная из них — пропажа заместителя начальника гестапо Курта Венцеля. — Представляешь, человек как в воду канул, — весело говорил Тимофей. В гестапо паника! В полиции тоже! Куда он делся, делают вид, что не знают. Но все-таки слух идет, что он натолкнулся на какую-то засаду и его то ли убили, то ли похитил кто-то из наших. Корень что-то знает, но помалкивает, как всегда. Заметив на лице Алексея усмешку, Тимофей умолк, затем перевел взгляд на Готвальда. Тот тоже улыбнулся. — Чего ухмыляетесь? — подозрительно спросил Шерстнев. — А у вас в отряде ничего не слышно об этом? — Да поговаривают, — как бы нехотя буркнул Алексей и, уже будучи не в состоянии сдержаться, расхохотался. Осененный догадкой, Тимофей на мгновение оцепенел, а затем вскрикнул: — Ваших рук дело? — Да тише ты! — шикнул на него Колос. Но унять Тимофея было невозможно. — Ах, скромники! И молчат… А я-то им принес новость… Ну ладно, этого я вам не прощу. И он долго молчал, сменив гнев на милость, лишь когда ему рассказали все подробности. — Ну молодцы! Тут уж ничего не скажешь!5. Накануне рождества
Через неделю связной принес в отряд записку от Шерстнева. В ней говорилось о новом неожиданном обстоятельстве. Оказывается, из Берлина вернулась вместе с комендантом Патценгауэром Софья Львовна. С ее помощью нашли людей, которым и удалось уговорить Василия Ворчука помочь подпольщикам. Тот твердо обещал. "И, — писал Тимофей, — хотя мы полностью и не уверены в этом человеке, выбора у нас нет, да и времени тоже. На 31 декабря назначена казнь большой группы заключенных. Их должны расстрелять, как всегда, на Доронинском карьере. Узнать, включен ли в список Л., мне не удалось, но это не меняет дела…" Получив записку, Алексей и Колос стали готовиться к операции. В партизанском отряде Скобцева был старенький трофейный "мерседес". Готвальд починил перебитый пулей бензопровод, машину покрасили и сменили номер. А для солидности на ветровом стекле в углу вывели по трафарету треугольник в треугольнике. Это была, по словам Венцеля, эмблема Блестковской секретной школы: к машинам сотрудников этой школы патрули относились с боязливой почтительностью, и разведчики решили использовать ее знак. Когда автомобиль был готов, встал вопрос о шофере. Брать с собой Готвальда Алексей опасался: его многие знали в городе. Колос машину водить умел, но недостаточно хорошо для такой ответственной операции. Сначала Алексей намеревался было сесть за руль сам, но боялся, что за это время утерял квалификацию. Делать было нечего: Алексею пришлось скрепя сердце капитулировать перед настойчивыми просьбами Валентина. — Мы въедем в город в сумерках, так что никто меня не разглядит, успокаивал Алексея обрадованный Готвальд. — Ну а светить фонариком в кабину абверовцев вряд ли кто решится… Алексей молчал. На душе у него было тревожно, как обычно, когда он шел на операцию и чувствовал: что-то сделано не так, как нужно. Его, правда, утешала мысль, что Валентин был первоклассным шофером, а это как раз то, что требовалось на случай погони. Одновременно очень беспокоила мысль: Валентина легко могли узнать. Он долго работал и в комендатуре, и на аэродроме. Узнать его могли не только гестаповцы, но и городские жители. Дня за три до операции Колос, который появлялся в городе только раз, когда приходил от Гельмута к Венцелю, отправился к тюрьме, чтобы на месте ознакомиться с обстановкой, а заодно проверить дорогу, по которой должна будет ехать их машина. Нужно было узнать, где находятся часовые, патрули, контрольные пункты. Вернувшись, он начертил план местности и маршрут движения. Машину решили остановить в узком темном переулке, выходившем прямо к тюрьме. Он был плохо освещен, а прохожие избегали этого места. Готвальд хорошо знал план города и не выражал никаких опасений. Он был уверен, что ему удастся возвратиться в отряд самым коротким путем. Теперь, когда все было продумано, оставалось ждать знака от Ворчука, который и сообщил Шерстневу через друзей Софьи Львовны, что самое подходящее время для операции — сочельник, когда охрана, бесспорно, напьется, а офицеры будут встречать рождественский праздник в казино. Солдаты городского гарнизона и полиция также будут веселиться. Накануне "мерседес" перегнали в село Грабы за десять километров от города по Витебскому шоссе и спрятали в сарае у одного из жителей, помогавших подпольщикам. В это же село поодиночке перебрались Алексей, Колос и Готвальд. Немецкая одежда для них уже лежала в багажнике "мерседеса". Алексей надел форму капитана, Геннадий в своем наряде выглядел типичным обер-лейтенантом, а Валентину, как шоферу, досталась солдатская амуниция. Гранаты и пистолеты подпольщики рассовали по карманам. Запасное оружие лежало и в "мерседесе". Вечером 24 декабря машина благополучно миновала заставу и выехала на Большую Гражданскую. Город был затемнен. Медленно падал редкий колючий снежок. По Большой Гражданской, горланя, шли немецкие солдаты. Когда "мерседес" проезжал мимо офицерского ресторана, из которого доносились музыка и пьяные крики, Готвальд повернулся к сидевшему рядом с ним Алексею и шепнул: — Вот бы куда швырнуть подарочек… Алексей ничего не ответил. Показалась серая трехэтажная коробка центральной тюрьмы. Мрачно и как бы недоверчиво выглядывала она из-за высокой каменной стены угрюмыми глазницами окон. Готвальд свернул в переулок. Трое в машине молчали. Каждый, видимо, думал об одном и том же: кем окажется Василий Ворчук — патриотом или предателем? Когда к Василию Ворчуку подошла Софья Львовна и попросила передать записку заключенному Лещевскому, с губ его сорвалось "нет" прежде, чем он успел как следует все обдумать. Ворчук знал, что Ивашева работает в комендатуре, где он ее видел, когда заходил исправлять замки. Слишком свежи были в его памяти колючая проволока концлагеря, спертый, удушливый воздух бараков, мертвенно-серые, с запавшими глазами лица товарищей, короткие очереди в лесу — там расстреливали тех, кто уже не мог передвигаться. Если эта женщина — провокатор, не избежать ему возвращения в один из этих бараков, а могут и сразу прикончить. Еще в лагере Ворчук решил во что бы то ни стало выжить и вырваться на волю. Он прикинулся робким, исполнительным, безответным. И этому волевому и очень собранному и целеустремленному человеку удалось маской раболепия обмануть лагерное начальство. Выйдя на свободу, Ворчук контролировал каждое свое слово, каждый свой шаг, боялся случайных знакомств, избегал людей. Но имя заключенного и номер камеры, которые назвала эта красивая, хорошо одетая женщина, запомнились Ворчуку. Он считал Ивашеву продавшейся немцам, тем более что за последнее время с ней произошла разительная перемена. Она заменила ватник и серый платок на изящную одежду, привезенную из Берлина, выглядела самоуверенной и довольной, а между тем Ворчук знал, что немцы расправились с ее дочерью. Чем же могли убийцы приманить несчастную мать? Как она могла забыть о своей потере? Тут было что-то странное и необъяснимое. Софья Львовна, обращаясь с просьбой к Ворчуку, хорошо понимала, что он может немедленно выдать ее. Но дни шли… Все было без изменения. Чтобы убыстрить события, Софья Львовна через коменданта попросила прислать ей водопроводчика — проверить отопление в канцелярии, где она работала. Как всегда, прислали Ворчука, и Софья Львовна выбрав подходящую минуту, вновь заговорила с ним о Лещевском. Ворчук, энергично орудуя гаечным ключом, прошептал: — Помогу. …Проходя как-то по коридору тюрьмы, Ворчук заглянул в дверной глазок одной камеры. На грязном полу лежал парень в драной, окровавленной одежде. Хотя лицо избитого трудно было рассмотреть, Ворчук знал, что этому "важному преступнику" — так называло его тюремное начальство — всего лишь двадцать пять лет. Ворчуку стало стыдно. И на фронте и здесь, в тылу, его однолетки сражаются с фашистами, а он, здоровый и сильный человек, русский рабочий, боится каждого шороха, сидит затаившись и обслуживает врагов своей Родины. И что-то перевернулось в душе Василия. Исчез страх, на смену ему пришла решимость действовать! Вот почему он совсем иначе отнесся к вторичной просьбе Ивашевой. Софья Львовна, заметив перемену в настроении Ворчука, решила идти напролом — будь что будет! Она сказала, что долг Ворчука помочь заключенным бежать. Ивашева назвала номера камер, которые он должен был открыть. А на следующий день к нему на квартиру пришел его знакомый Петр Головин, работавший у фашистов в оружейных мастерских. Ворчук и раньше догадывался, что Петр связан с подпольщиками, и поэтому старательно его избегал. На этот раз он пустил Головина в свою комнату. А тот принес ему два браунинга и несколько магазинов к ним. Они заперлись, и Головин подробно объяснил Ворчуку, что последний должен был сделать… Вечером в сочельник Ворчук появился в тюрьме, как обычно, с маленьким фанерным чемоданчиком, в котором лежали молоток, набор гаечных ключей и плоскогубцы, — нехитрый набор инструментов, слесаря-водопроводчика. Только на этот раз под инструментами были спрятаны тщательно обернутые засаленной ветошью два пистолета. Из карманов пальто выглядывали две бутылки самогонки. — Ты куда? — остановил его у проходной полицейский. Стараясь держаться как можно спокойней, Ворчук объяснил: наверху лопнула труба, приказано починить. Однако, пока происходил этот разговор, слесарь заметил, что тюрьма сегодня охраняется менее тщательно: у ворот вместо сильного наряда полиции мерзло всего три человека. Все шло как по маслу: именно на это и рассчитывали подпольщики, выбрав для побега канун рождества… В узком, слабо освещенном тюремном коридоре ударил в ноздри отвратительный запах: воняло хлорной известью, крысами и парашей. Обитые жестью дубовые двери камер были крепко, как всегда, заперты на засовы. На мгновение у Ворчука мелькнула мысль, что задуманное освобождение арестованных неосуществимо и весь план обречен на неудачу: слишком крепки засовы, слишком высоки стены. Но Василий поспешил отогнать эту мысль и вошел в дежурку. За деревянным столом сидели трое охранников. Они уже были навеселе: распаренные лица, расстегнутые вороты мундиров, глаза выжидательно уставились на вошедшего. На столе бутылки, открытые банки консервов, на плите шипящая сковородка — жарится яичница. Собрав все свои познания в немецком языке — а он поднаторел в нем и в лагере, и на службе в комендатуре, — Ворчук поздравил тюремщиков с праздником и пожелал веселого рождества. Он спокойно раскрыл сундучок и проверил, все ли на месте: молоток, ключи, плоскогубцы, — и объяснил, что наверху лопнула труба. Захмелевшие фашисты не проявили к нему особого интереса — этого слесаря они здесь видели часто и привыкли к нему. Наверху, в комнате полицаев, тоже шла гулянка. Здесь Василия встретили более гостеприимно, поскольку оба полицейских были еще не настолько пьяны, чтобы не заметить торчавших у слесаря из карманов бутылок с самогоном. Ворчука усадили за стол. — Выпей с нами, парень! — предложил один из охранников. — Спасибо, — ответил Ворчук. — У меня у самого есть. Собираюсь вот, кончив работу, пойти к одной девочке… — К черту девочку — с нами веселей! — заорал один из полицейских. Давай сюда твою водку! Боясь вызвать подозрение, Ворчук пил почти наравне со всеми. Но он не хмелел, видимо, сказывалось нервное напряжение. Зато его собутыльники быстро опьянели. Вот один из них — рыжий, с бельмом на глазу — уронил голову на стол, другой принялся крутить шеей, будто стараясь отогнать от себя какое-то наваждение. Василий незаметно раскрыл под столом чемоданчик и вынул молоток. Когда и второй полицейский стал клевать носом, Ворчук вытащил из-под стола молоток и изо всех сил ударил по затылку сначала одного охранника, а потом другого. Через минуту он уже отодвигал засов камеры, где находился Лещевский. — Быстро выходите! — шепнул он в темноту. Высокий, сутуловатый человек, пошатываясь, вышел в коридор. Он никак не мог понять, почему какой-то неизвестный сует ему в руки пистолет. — Живее! — прикрикнул на него Ворчук. — За мной! — И, не оглядываясь, кинулся к другим камерам. Люди выходили в коридор неуверенно, щурясь от света и испуганно озираясь. Но теперь уже Ворчуну помогал худенький, избитый паренек, который был в одной камере с Лещевским. Отперев все замки, трое (Лещевский тоже пришел в себя) кинулись в комнату все еще лежавших на полу полицаев и забрали их оружие. Лещевский и его сосед остались на лестнице, а Ворчук спустился вниз в дежурку. Из-за закрытой двери доносилось пьяное, нестройное пение. Ворчук рванул дверь и захлопнул ее за собой. — Руки вверх! За столом сидели теперь только двое гестаповцев. Завидев слесаря с пистолетом, толстый охранник пригнув голову, метнулся к Ворчуку. Василий дважды нажал спуск. Зазвенели стекла. Гитлеровец, будто споткнувшись, растянулся на полу. Второй тоже рванулся с места, но две пули сделали свое дело. Василий снова взялся было за ручку двери, но задержался. Ведь охранников в первый раз было трое? Где же третий? И прежде чем слесарь успел что-либо сообразить, за дверью послышались нетвердые шаги. Видимо, тот, третий, за чем-то вышел и теперь возвращался, услышав выстрелы. Раздумывать было некогда. Спрятав пистолет за спиной, Василий выскочил в коридор, охранник, пошатываясь, шел ему навстречу, держа руку в оттопыренном кармане. Он что-то пытался сказать, но язык не повиновался ему. Василий не стал медлить и выстрелил прямо в красное, что-то бессмысленно орущее лицо. Тем временем заключенные вышли из камер и спустились вниз. Решено было, что они будут выходить из тюрьмы группами. В первой пойдут Ворчук, Лещевский и худенький паренек… В то время как в тюрьме происходили описанные выше события, Столяров, Колос и Готвальд сидели в "мерседесе", нетерпеливо посматривая на часы. Ворота тюрьмы должны были давным-давно распахнуться. Но время шло — тюрьма молчала. И вдруг произошло нечто, заставившее всех троих похолодеть. Первым забил тревогу Колос. — Смотрите! — шепнул он Столярову, указывая глазами в сторону. Мимо тюрьмы медленно двигалась колонна немецких солдат. Топот сотен сапог сотрясал землю, ревели моторы: позади колонны ехало несколько грузовиков. Готвальд судорожно сжал руку Столярова, как бы спрашивая: что делать, как поступить? Алексей и сам не знал. Если сейчас заключенные выбегут из ворот, они наскочат прямо на колонну. Предупредить их нет никакой возможности. Оставалось только одно — ждать, как дальше развернутся события. Неужели так тщательно подготовленная операция сорвется из-за какой-то случайности?.. В довершение ко всему один из грузовиков, объезжая строй, увяз в сугробе прямо напротив тюремных ворот и никак не мог сдвинуться с места. Его обступило с десяток немцев. Упираясь в задний борт, они с криками помогали машине выехать на мостовую. Время тянулось нестерпимо долго. Наконец последний грузовик проехал. Прошло еще четверть часа, но из ворот никто не выходил. Беспокойство разведчиков нарастало. — Неужели Ворчук изменил? — прошептал Готвальд. Ему никто не ответил… Каждый думал: случилось несчастье. Улицы, несмотря на темноту, не были пустынными. Поодиночке и группами проходили немецкие солдаты и офицеры. Порой до сидевших в "мерседесе" доносились пение, отрывки немецкой речи. Алексей и Колос не сговариваясь, подумали об одном и том же — так долго стоявший у тюрьмы "мерседес" мог привлечь внимание патрулей. Наконец в темном квадрате проходной появились трое. Один из них высокий, сутулый, был в шинели немецкого офицера — Алексей при свете синего фонаря, освещавшего ворота тюрьмы, сразу узнал Лещевского. Рядом с ним шли еще два немца в одних мундирах, несмотря на холод. Готвальд выскочил из машины и быстро подвел к "мерседесу"уже совершенно спокойного Лещевского. Увидев Алексея, хирург от удивления только заморгал глазами. Партизаны ждали Ворчука — его надо было обязательно забрать с собой в отряд, но он почему-то задержался. Между тем из тюрьмы поспешно выбегали заключенные — их фигуры будто растворялись во тьме декабрьской ночи. Колос настаивал на отъезде, но Алексей не мог покинуть Ворчука, оказавшего подпольщикам такую услугу. Наконец из дверей вышел Ворчук со своим неизменным чемоданчиком. Едва он успел перебежать широкую улицу, чтобы сесть в "мерседес", из-за угла вырвалась пронзительно гудящая полицейская машина с нарядом жандармерии. Она оказалась у ворот тюрьмы, когда из нее выбегала последняя группа заключенных. Жандармы открыли по ним пальбу. Несколько человек упало в снег, остальные добежали до переулка. За ними с криками и бранью погнались гитлеровцы. Уйти благополучно всем не удалось — в одной из камер вместе с подпольщиками сидел провокатор. Он, войдя в коридор, спрятался в темном углу, не замеченный в общей суматохе, пробрался к телефону и позвонил в гестапо. И все же в эту ночь из тюрьмы бежало семнадцать подпольщиков. Позднее большинство из них удалось переправить к партизанам, остальные были надежно спрятаны в городе и окрестных селах. Столярова и его друзей охватило то радостно-возбужденное состояние, когда все кажется посильным и возможным. Но Алексей знал по опыту, как опасно это настроение для разведчиков: оно порождает беспечность и, стало быть, неизбежные ошибки. А впереди подпольщиков ждала серьезнейшая задача: уничтожить шпионскую школу в Блесткове. Центр торопил Алексея. Получив сообщение, что подпольщикам удалось захватить начальника городской полиции, Центр приказал Столярову доставить Венцеля в Москву, конечно, лишь после того, как партизаны получат от него все нужные для них сведения. Венцель назвал на допросах имена и клички многих гестаповских агентов. В тот же день названные Венцелем имена Алексей сообщил через связного подпольщикам. Многие гестаповские ищейки были вскоре обезврежены. Тайная полиция получила очередной тяжелый удар. Обо всем этом написал Алексею Шерстаев в очередном донесении. Последний абзац этого письма особенно заинтересовал Алексея: "Лотар Штроп исчез, куда — точно никто не знает. Одни говорят, что отозван в Берлин, другие утверждают, что понижен в звании и отправлен на фронт. Во всяком случае, одним гестаповцем в городе стало меньше…" Это обстоятельство чрезвычайно обрадовало разведчиков. Хитрый, опасный, опытный и осторожный враг — не чета Венцелю — убран с их пути.6. На подступах к "гнезду"
Венцель не только бывал в Блестковской школе абвера, но постоянно поддерживал с ее руководством деловые контакты. Они выражались не только в том, что начальник полиции рекомендовал начальнику школы подходящих людей, он несколько раз сам ездил в Блестково читать лекции. Из показаний Венцеля у партизан черточка за черточкой складывалась картина деятельности этого центра обучения фашистских разведчиков. Школа находилась в пятнадцати километрах от города в бывшей помещичьей экономии, где при Советской власти размещалась центральная усадьба животноводческого совхоза. Усадьба эта была выбрана гитлеровцами, видимо, потому, что стояла в стороне от больших дорог, в неглубокой лощине, на берегу озера. Окружавшие усадьбу холмы надежно укрывали ее от любопытных глаз. К тому же здание было обнесено высокой кирпичной стеной, пострадавшей в нескольких местах от обстрела. Как только новое назначение усадьбы определилось, пробоины в стене были заделаны. На ремонте работали советские военнопленные. Но одной стены гитлеровцам показалось мало: они вокруг школы возвели еще забор из колючей проволоки в два метра высотой и оцепили спиралью, по которой проходил ток высокого напряжения. К этому сверхсекретному объекту местным жителям категорически запрещалось подходить, о чем недвусмысленно предупреждали щиты с надписями на русском и немецком языках. Нарушителей ждал расстрел. В главном одноэтажном здании разместились административные службы школы, кабинеты начальника — майора Фридриха Калау и его помощников. Здесь же в одной из комнат попискивала собственная радиостанция фашистского гнезда — антенна поднималась высоко вверх, замаскированная старыми липами, росшими вокруг дома. Деревянные корпуса были отведены под общежитие курсантов, преподавательского состава, гараж. Маленькая, полуразрушенная каменная церквушка использовалась в качестве склада оружия и боеприпасов. Почувствовав, что ему уже не угрожает расстрел, Венцель стал еще более покладистым и даже по приказанию Алексея нарисовал план-схему усадьбы, где размещалась школа. Алексея удивило только, что Венцель, вручая ему план, высказал весьма невысокое мнение о надежности кадров школы: они набирались из военнопленных. — Очень, очень ненадежный народ, — говорил Венцель. — Большинство пришло туда не драться с большевиками, а найти способ, выждав время, перебежать к своим. Наконец разведчики пришли к выводу, что все нужные сведения они уже получили, и Венцель был отправлен в другой район. Теперь, когда подпольщики располагали довольно подробными сведениями о школе, получили ее подробный план, Алексей, Колос и Готвальд целыми днями ломали голову над тем, как выполнить приказ Центра. Просто напасть на школу или подослать группу подрывников было невозможно: неподалеку от Блесткова квартировали значительные силы гитлеровцев — там насчитывалось до двух батальонов жандармерии. — Если даже и удастся подойти ночью к школе, — говорил Скобцев, — то вывести в целости людей будет невозможно. Вот смотрите, — тыкал он карандашом в план, нарисованный Венцелем. — Ближайший от усадьбы лес в десяти километрах. Немцы перережут дорогу к лесу и легко уничтожат отряд… Живым не уйдет ни один человек… С доводами Скобцева нельзя было не согласиться. Для разгрома школы требовалось много людей, которыми отряд не располагал. — Есть только один выход, — утверждал Колос, — найти в самой школе подходящего человека, который бы и подложил взрывчатку в административный корпус. Но Алексей напомнил, что Венцель рассказывал о том, как агенты следят за каждым шагом курсанта, получившего увольнительную в город. Стало быть, даже подойти к кому-либо из курсантов школы на улице или подсесть в кабачке было совершенно невозможно. От этого варианта пришлось отказаться еще и потому, что у подпольщиков и у партизан не нашлось в Блесткове ни одного знакомого. Из-за этого были признаны негодными многие планы, предлагавшиеся поочередно Колосом, Скобцевым, Алексеем и Готвальдом. И вот, когда Столяров уже начал отчаиваться, пришедший на явку Шерстнев вспомнил, что в городском госпитале лежит курсант школы, у которого во время учений в руках взорвалась толовая шашка. Попросили Шерстнева разузнать об этом случае поподробнее. Через несколько дней, встретившись с Шерстневым все в той же хате Захара Ильича, Алексей услышал то немногое, что полицаю удалось выспросить у знакомой санитарки госпиталя. — Взрывом курсанту изранило руки, — сказал немногословный Шерстнев. Обезобразило лицо до неузнаваемости. — До неузнаваемости, говоришь? — насторожился Столяров, услышав последнюю фразу Тимофея. — Да, — подтвердил тот. — Ему опалило волосы, брови, ресницы, на щеках и на лбу сильные ожоги. Он лежит неподвижно на спине с забинтованной головой и руками. И, говорят, чуть ли не при смерти. Столяров забегал по избе. Таким взволнованным Шерстнев его никогда не видел. Наконец, немного успокоившись, Алексей остановился напротив Тимофея. — Слушай, — сказал он, — нужно найти надежного человека из военнопленных врачей. Впрочем, тут может помочь Лещевский. Я сегодня же поговорю с ним: он ведь знает в госпитале всех. Шерстнев не стал расспрашивать Алексея ни о чем. Он уж и так догадывался, какой план родился в голове у его друга. Но затея эта показалась ему фантастической. Такого же мнения придерживались Колос и Готвальд. Особенно скептически был настроен Колос. Действительно, замысел Алексея подменить в последний момент умиравшего курсанта, как когда-то сделал с ним Лещевский, казался совершенно несбыточным. — Ведь человек должен быть очень похож на обожженного курсанта, сказал Скобцев. — Да он же будет с забинтованным лицом, — убеждал товарищей Алексей. — А голос? А манера говорить, двигаться? А наконец, отпечатки пальцев? — возражал Колос. — Но в том-то и дело, что даже руки опалены, стало быть, ни о каких отпечатках пальцев не может быть и речи, — защищал свою идею Столяров. — А что касается приблизительного сходства — такого человека можно найти. Первые два дня Колос всячески иронизировал над планом Алексея и выискивал в нем все новые и новые уязвимые места. Он так часто возвращался к обсуждению этой идеи, что "Алексей наконец стал смеяться. — Кажется, моя мыслишка не дает тебе покоя. А? Сознайся? А ведь она соблазнительна! — Конечно! — с виду неохотно согласился Геннадий. — Но уж чересчур сложна. — Предложи проще! Но Колосу ничего другого так и не удалось придумать. И уже теперь обсуждали план Столярова все втроем, горячась, увлекаясь и одергивая друг друга, если кто-нибудь залезал в дебри фантазии. В замысел посвятили Лещевского. После пыток в гестаповском застенке, после всех волнений, связанных с побегом, Адам Григорьевич еще не совсем оправился. Столяров попросил Скобцева, чтобы хирургу назначили усиленный паек: за два месяца тюремного заключения Лещевский исхудал до неузнаваемости. Но врач по-прежнему был полон решимости и мужества. — Что я буду делать в отряде? — спросил он Алексея в первый же день. — Отдыхать, — ответил тот. — Пока только отдыхать, дорогой доктор, а потом дела найдутся. — Но не могу же я быть нахлебником? — Не волнуйтесь. Вернете долг, когда встанете на ноги… А теперь дышите воздухом, отсыпайтесь. В землянке хоть и сыровато, но спать можно спокойно, фашисты сюда и носа не кажут. Однако вскоре после этого разговора Алексей узнал от комиссара отряда, что хирург уже оперировал в санитарной палатке раненого в ногу партизана. — Так он же сам еле на ногах держится! — удивился Столяров. — Я пытался его отговорить, — сказал комиссар, — но он замахал на меня руками и заявил, что работа для него — лучшее лекарство. И вот теперь Лещевский, смущенно улыбаясь, появился в землянке Столярова. Ссадины на лице хирурга уже заживали, но некоторые еще были заклеены пластырем. Алексей решил сделать вид, что он ничего не знает о подпольной практике своего друга, и приступил к делу. Поначалу он спросил врача, есть ли в немецком госпитале человек, заслуживающий доверия. — Я имею в виду русских, конечно. Там ведь есть врачи из военнопленных, вольнонаемные сестры и санитарки. Вы ведь всех знаете? Лещевский ответил, почти не задумываясь. — Самый порядочный там, на мой взгляд, Солдатенков. Михаил Иванович Солдатенков. — Кто он? — поинтересовался Алексей. — Терапевт. Капитан медицинской службы. Попал в плен под Могилевом. — Адам Григорьевич, здесь дело очень серьезное. Вы за Солдатенкова можете поручиться? — Как за себя! — твердо ответил врач. — Мы были откровенны друг с другом. Он так же, как и я, очень мучился, что ему приходится работать на немцев. Собирался бежать к партизанам, но не знаю, удалось ли ему… Если он еще в госпитале, я могу сам пойти к нему и обо всем, что вам нужно, уговориться… — Нет, — возразил Алексей. — Вам в город идти нельзя. Мы найдем другой способ связаться с Солдатенковым. Когда Лещевский уже был у выхода из землянки, Алексей все же не удержался и, улыбнувшись, спросил: — Ну, как прошла операция? Руки не дрожат? Лещевский с трудом раздвинул в улыбке разбитые губы. — Уже донесли? Ну да ладно, от вас все равно ничего не утаишь… Так вот, прошла успешно… И руки не дрожат! Поговорить с Солдатенковым поручили Шерстневу. Когда Тимофей сообщил, что врач обещал свое содействие, Алексей передал "полицаю" еще одно задание: во что бы то ни стало добыть фотографию лежавшего в госпитале курсанта. Но, естественно, сделанную еще до несчастного случая, изуродовавшего его. Задача была чрезвычайно сложная. Шерстнев ничего не обещал, в госпитале скорее всего документов обгоревшего не было. Его фотография могла быть только в секретной картотеке гестапо или абвера. Впрочем… …Связного из города ожидали с нетерпением. Он появился в лагере морозной зимней ночью и откуда-то из-под подкладки пальто достал аккуратно завернутую в бумагу фотографию, наспех сделанную копию. Алексей, Геннадий и Валентин склонились над снимком. С него смотрел на них человек лет тридцати, светлоглазый, русоволосый, с довольно красивым, правильным лицом. На обороте был отмечен рост, указан возраст… После разговора в землянке со Столяровым хирург замкнулся, стал избегать товарищей. Геннадий Колос как-то вечером заглянул к Лещевскому потолковать о медицине, но тот встретил его сдержанно, даже сухо и на все вопросы отвечал односложно, так что через четверть часа Колос выскочил от врача в полнейшем недоумении. — Что с нашим лекарем творится, не пойму, — сказал Геннадий Алексею. — О чем ты? — Да какой-то он чудаковатый стал. Хмурится, глаза в сторону отводит. Устал, что ли… Алексей задумался. — А ведь, кажется, я промашку дал, — проговорил он наконец. — Мы с тобой кое-что не учли, Геннадий. — Что именно? — Того, что Лещевский — человек тонкий, чрезвычайно восприимчивый и легкоранимый. — Он обиделся на что-нибудь? — Думаю, так. И, пожалуй, он по-своему прав. — В чем же прав-то? — Как ты думаешь? — Ну, сдали нервы, переутомление… — Может быть, но не только. — Что ж тогда? — А ты вспомни. Мы у него насчет Солдатенкова все узнали? Узнали. Зачем? Ясно, что нс для врачебной консультации. К тому же просили Адама Григорьевича послать этому врачу с нашим человеком письмецо. Нетрудно догадаться, что мы что-то затеваем… А ему — ни слова… — Он решил, что мы ему не доверяем? — Вот именно. Ты его пойми: ведь он работал у немцев, а в отряде недавно. Готовится какая-то операция, ее держат от него в тайне. — А ведь, черт побери, ты, наверное, прав, — засмеялся Геннадий. Давай проверим. Они пошли в землянку к Лещевскому. Тот хмуро сидел на койке, холодно ответил на приветствие. Алексей поинтересовался, как врач себя чувствует. Адам Григорьевич пожал плечами. — Что мне делается, старику? — Исподлобья оглядывая своих собеседников, догадывался, что зашли они не за тем только, чтобы осведомиться о здоровье. — Вот что, Адам Григорьевич, — сказал Алексей после неловкой паузы, мы решили поговорить с вами откровенно. Не возражаете? — Только этого и жду, — буркнул тот. — Прекрасно. Вы вроде бы чем-то недовольны, ходите расстроенный… Я не ошибся? Лещевский пристально посмотрел на Столярова. — Вы догадливы… — Тогда выкладывайте, в чем дело. Адам Григорьевич на мгновение замялся, а потом заговорил тихо, низко опустив голову: — Не знаю, как вам сказать. Ну да ладно… Хирург помолчал, поглядел куда-то вбок, потом заговорил снова: — Все это время я взвешивал наши отношения… ну, дружбу, что ли… С того дня, как мы встретились с вами в госпитале… Перебирал день за днем. Думаю, может, я поступил как-то не так, где-то в чем-то промахнулся… И ничего не нашел такого, что дало бы повод меня… ну, скажем, подозревать, отстранять… Алексей ответил: — И правильно! Вы и не могли найти такого повода! Лещевский поднял голову. — Тогда я не понимаю… К чему эти тайны? — Какие тайны? — Вы же знаете, о чем я говорю. Зачем вам врач, этот Солдатенков? Я что — уже ни на что не гожусь? Лечить разучился? Такой поворот дела не приходил в голову Алексею. Разведчик подошел к Лещевскому и положил ему руку на плечо, но тот не обратил внимания на этот дружеский жест, продолжал с плохо скрываемым раздражением: — Разве я не вижу по вашим лицам, что вы интересовались этим врачом неспроста? Зачем? Не хотите говорить? Не доверяете? — Подождите, Адам Григорьевич! — остановил его Алексей. — Подождите, повторил он уже тверже, видя, что Лещевский собирается его перебить, — у нас, чекистов, — а чекистом мы считаем и вас — существует неписаный закон: если готовится операция, о ней должны знать только ее участники. Мы доверяем вам как самим себе. Но все же нарушать закон мы не имеем права. Он установлен не нами, он существует давно, его подсказал опыт… Лещевский, смотревший себе под ноги, повеселел и поднял голову. — Гм… Это называется урок, — забормотал он. — Вы, Алексей, хоть и оказали мне честь, назвав чекистом, но тут хватили лишку. Теперь я вижу, что ваше дело действительно посложней моего… Но вы, по-моему, догадались о моем настроении, прежде чем я раскрыл рот, а? Ведь затем и пришли, сознавайтесь. Алексей ответил, пряча улыбку: — Это не я… Это все Геннадии. Он у нас специалист по психологии.7. Человек в бинтах
Солдатенков охотно согласился помочь партизанам и даже провел Шерстнева в палату, где лежал курсант. Но рассмотреть лицо обожженного Тимофею не удалось: оно было сплошь в бинтах, странно неподвижно, и только три темных отверстия над ртом и глазами и непрерывные стоны свидетельствовали, что этот человек еще жив. — Без сознания, — сказал Солдатенков. — Много бредит. — Прислушайтесь, — Шерстнев блеснул глазами. — Может, что скажет о себе. Нам это очень поможет… Алексей, Валентин и Геннадий долго рассматривали снимок. Все трое молчали, им предстояло принять трудное решение, от которого зависело выполнение приказа. Кто же из подпольщиков хоть немного похож на изображенного на фотографии человека? Кому предстоит сыграть трудную роль, требующую не только внешнего сходства с курсантом, но и актерского таланта? Солдатенкову удалось узнать из бессвязных обрывков бреда: курсант прибыл в школу совсем недавно, и Алексей возлагал большие надежды на то, что к этому человеку администрация школы еще как следует не успела присмотреться. К тому же будущий актер должен был играть с забинтованным лицом. Но, кроме внешности, еще существовали десятки других моментов, из которых слагается представление о человеке. Любая ошибка двойника могла выдать подделку. На какое-то время и самому Алексею весь его замысел показался утопией. Но выхода не было: надо было действовать. И Алексей до боли в висках продолжал обдумывать подробности своего плана. Шерстнев, не любивший тратить лишних слов, так и не рассказал, откуда он добыл столь необходимый всем снимок. Это был его секрет. Если говорить точнее, секрет Софьи Львовны, которая в последнее время входила во все большее и большее доверие к своему начальнику. Если кому-нибудь и пришлось стать лицедейкой, так именно ей. Готвальд зашел в землянку Столярова, выбрав время, когда тот был один. Присел на краешек табуретки, молча разглядывая свою шапку. "Что с ним? — думал Столяров. — Что с ним?" А Готвальд молчал, мял в руках шапку, безмолвствовал. Это становилось странным. Алексей спросил: — Ты что? Болен? Валентин встрепенулся, посмотрел на Столярова и машинально водрузил шапку на голову. — Я? Нет, ничего… — Да ведь у вас у всех в последнее время настроение меняется, как у капризных дамочек, вижу. Говори, что случилось? Валентин скосил глаза в сторону, потом медленно заговорил: — А ведь у него волосы светлые… — Ты что, с ума спятил! О ком ты? — И глаза серые, — не слушая Алексея, продолжал Валентин. — А-а! Вот ты о ком. А что дальше скажешь? Действительно, волосы русые, а глаза серые. Тонко подметил. Алексей уже догадался, что будет дальше. Догадывался еще прежде, чем Валентин, заговорил снова: — И нос вроде бы похож на мой… — Вроде бы похож… Взгляды их столкнулись. Алексей быстро отвел глаза. Ждал. — А? — В голосе Готвальда звучали надежда и тревога. — Как вы думаете, Алексей Петрович? И ростом со мной он одинаков… Столяров, насупившись, барабанил по колену пальцами. — Кто же еще! Ну, кто? Больше ведь некому? Некому! — уже настойчивей продолжал Готвальд. Пальцы Алексея продолжали выбивать дробь. — Он ведь забинтован, все лицо забинтовано, — все твердил свое Готвальд. — Да, да, — механически повторял за другом Алексей — все лицо забинтовано… — Пока разберутся, что к чему… Я успею… Ведь по немецки я говорю не хуже, чем по-русски. А? Алексей молчал. Как только он увидел фотографию курсанта, он понял: идти должен Готвальд. У него действительно во внешности было много общего с курсантом. Такие же светлые волосы, прямой нос, большие серые глаза… И рост, главное, рост подходит. Все это верно. Да, верно. Так в чем же дело? Почему он, Алексей, медлит? Не дает согласия? Не советуется с другими? Ему стоит сказать только слово, и Готвальд пойдет. Как трудно сказать это слово! Одно слово, короткое слово "да". Почему? Когда Алексей разрабатывал план операции, он думал о двойнике как о некой отвлеченной человеческой единице. "Отвлеченной единицы" не было. Надо было решать все конкретно. Решил было идти сам… Но, кроме светлых волос, он ничем не походил на обожженного. А главное — тот был почти на голову выше. И есть Готвальд. Подходил только Готвальд. Рослый, широкоплечий, белокурый. Но у него — жена и ребенок. Ему только двадцать пять! Готвальд — близкий ему человек. Как больно ему рисковать жизнью друга! А Готвальд все смотрел на Алексея. Он ждал ответа, видимо догадываясь о том, что происходит в душе у Столярова. — Я успею… Пока разберутся, успею… Ничего страшного не произойдет! — Подожди, Валентин, не пори горячку. Подожди. Дай подумать. Надо хорошенько подумать… Посоветоваться с Корнем, со Скобцевым.8. Конец осиного гнезда
В деревне Выпь случился пожар. Сгорел дом старосты Охримовича. Сгорел так основательно, что, когда наутро к месту происшествия прибыло несколько полицейских, они увидели только закопченную печную трубу да груду обуглившихся бревен. Староста и его жена сидели на каких-то узлах и мешках и печально взирали на пепелище. На Охримовиче была шуба, накинутая прямо на нижнее белье. Ветер шевелил жалкие остатки его редких волос. Старостиха выла как по покойнику. Ничего вразумительного добиться от супругов не удалось. Изо рта Охримовича вырывались какие-то хриплые, нечленораздельные звуки. С трудом можно было догадаться, что он повторяет слово "партизаны". Полицаи подняли Охримовича, взяли его под руки и отвели в ближайший дом. Там старосте поднесли стакан самогону, и постепенно он пришел в себя. — Разбойники! — вопил Охримович, сразу опьянев. — Спалили хату! Куда я теперь денусь! Полицаи заверяли старосту, что немецкие власти не оставят самого исправного в волости служаку без крова. — Будет тебе, Трофим, жилье! Будет — не тужи! А виновных мы найдем. Но найти виновных оказалось не так просто. Большинство жителей утверждало, что пожар начался ночью по вине самого хозяина, ибо каждый знает, что Охримович тайно торговал керосином. По словам односельчан, староста хранил бидоны с керосином в чулане, куда ходил со свечой или со спичками, и, должно быть, нечаянно обронил огонь, — от этого и стряслась беда. Подозрительных людей никто вокруг деревни не встречал. И собаки в эту ночь не лаяли — завыли только, когда пламя охватило весь сруб. Словом, истинные причины ночного происшествия полицейским выяснить так и не удалось. Стало лишь известно, что никто из жителей не помогал Охримовичу тушить пожар, кроме какого-то парня, имени которого никто не знал. Парень этот разбил стекло в окне и, несмотря на бушующее пламя, храбро влез в избу и помог спасти жену старосты, а также кое-какие вещи. Очевидцы утверждали, что храбрец сам сильно обгорел и упал на снег без сознания. Кто-то из жителей догадался на подводе отвезти пострадавшего в город. Подвода еще не вернулась, но говорят, что парня забрали в больницу. Описать внешность незнакомца никто толком не мог. Вспоминали только, что ростом он "дюже высокий", а волосы у него цвета соломы. Полицейские уехали, так и не поняв, что же на самом деле произошло минувшей ночью в селе Выпь. Когда начальник госпиталя полковник Вернер узнал, что врач Солдатенков, дежуривший ночью, принял пострадавшего во время пожара, русского, он посинел от ярости. Какое-то время он не мог вымолвить ни слова, потом разразился бранью. Действительно, случай был беспрецедентный. — Что, что вы говорить? — орал он на Солдатенкова. — Какой русский, при чем здесь русский? Как вы смели без мой приказаний! — Но он весь обгорел, господин полковник… Ему нужна медицинская помощь, — осмелился возразить врач. — Что? Помощь? Какой помощь русскому? Вы с ума сошел! Здесь госпиталь для немецкий зольдат унд официр! — Но, господин полковник, этот человек старался для немецкого служащего, стало быть, для Германии, — оправдывался Солдатенков. — Он помог тушить пожар старосте. Говорят, вытащил из огня его супругу. — Э… бросьте! — сморщился Вернер. — Я не хочу слушать. — Уберите этот чельовек. Скоро! Даю вам пять минут. — Слушаюсь, господин полковник! — Выполняйте приказаний! И Солдатенков послушно вызвал машину, а когда она остановилась у подъезда, двое санитаров из русских военнопленных вошли в приемный покой. Санитары вынесли из палаты на носилках человека с забинтованным лицом и руками. Носилки втолкнули в кузов санитарного фургона. Солдатенков был спокоен — он выполнил приказ, от него больше ничего не требовалось. Шофер из русских военнопленных не понимал, зачем человека, которого только утром доставили в госпиталь, повезут в какое-то другое место. Но это его не касалось — он привык повиноваться без возражений. Его дело молчать. Щелкнула дверца кабины, и рядом с шофером оказался Солдатенков — доктор из госпиталя. — Поехали! — приказал он. Шофер включил зажигание, нажал на стартер. Но мотор не заводился. Врач метнул в сторону шофера рассерженный взгляд. — Быстрей! — приказал он. — Быстрей! Больного везем. Шофер заметил: Солдатенков волнуется. Он очень волнуется: часто затягивается сигаретой, и пальцы его дрожат. "Почему он нервничает? Куда так спешит?" — думал шофер. Он утопил головку стартера до отказа. Мотор фыркнул, кабина вздрогнула, и санитарная машина выехала за ворота госпиталя. И вдруг шофер услышал удивившие его слова. Солдатенков сквозь зубы ругался и сетовал. — Изверги эти немцы! — шептал он. — Не приняли раненого в госпиталь. Куда теперь его везти? Обратно в эту чертову Выпь велено. А там и больницы-то нет. Хоть в сугроб выбрасывать, а он совсем плох, еле дышит. Кто его там примет! Шофер побоялся что-нибудь сказать, но в душе был совершенно согласен с доктором. Еще в лагере военнопленных он узнал, как фашисты обращаются с советскими людьми. Столяров и Колос ждали санитарную машину на лесной проселочной дороге, ведущей к селу Выпь. Ночь давно сменилась утром, а известий из города не поступало. В напряженной тишине было слышно, как фыркают и звенят уздечками промерзшие, спрятанные в овраге неподалеку от дороги лошади. Геннадий, чтобы согреться, прыгал на одной ноге, бил рукавицей об рукавицу и то и дело осведомлялся у Алексея насчет времени. Наконец откуда-то со стороны дороги донеслось гудение мотора. — Они! — сказал вслух Колос, хватая Алексея за рукав. — Надо выводить лошадей! — Подожди! — остановил его Столяров. Если свернут сюда, тогда действительно они. А может быть, кто другой едет?! Еще с минуту они постояли, стараясь не шуметь. Скоро между деревьев замелькала машина. Она медленно переваливалась с сугроба на сугроб, а когда подошла поближе, разведчики увидели на ней красный крест. — Лошадей! — крикнул Столяров. Геннадий сорвался с места и бросился прямо по снежной целине в овраг. Алексей вышел из-за дерева и направился навстречу машине. Он бежал, увязая в снегу, и ветки кустарника царапали ему лицо. Уже на опушке Алексей остановился, тяжело дыша. "Стоп! Спокойней!" — приказал он себе и на всякий случай снял автомат с шеи, непослушными пальцами спустил предохранитель. Машина остановилась метрах в пятидесяти от леса. Хлопнула дверца — из кабины вышел невысокий человек в шапке-ушанке. "Наверное, Солдатенков", — подумал Алексей. Он не знал врача в лицо. Шерстнев описал Алексею только его приметы. Да передал пароль. Не спуская замерзшего пальца со спускового крючка, Алексей зашагал навстречу фигуре в белом халате, накинутом сверх пальто. Ступал осторожно, зорко следя за каждым движением незнакомца. "Все может быть, — думал Алексей, — и провокация тоже".. Но в руках у человека не было оружия. Да и выглядел он отнюдь не воинственно. Грузная фигура, круглое, добродушное лицо, толстые губы, небольшие немигающие глаза. — Больной прибыл? — спросил Алексей… — Прибыл, — ответил незнакомец в белом халате. — Температура высокая. Это была условная фраза. Услышав ее, Алексей опустил автомат. Они немного отошли от машины. — А шофер? Как быть с шофером? — спросил Алексей. — Боится партизан. Как вас увидели, я сказал, чтобы он тихо сидел, а я пойду, сам улажу дело… Но не спускайте с него глаз, а то как бы не угнал машину. Алексей направил автомат на машину, где виднелось позеленевшее от страха лицо шофера. Тот, видно, читал мысленно себе отходную. — Ну а что с Готвальдом? — вырвался у Столярова нетерпеливый вопрос. Солдатенков вполголоса рассказал, что все идет по плану. За день до пожара в селе Выпь он положил курсанта как безнадежного в изолятор. Туда же принесли по его приказу и привезенного с пожара Готвальда. А когда полковник Вернер приказал убрать русского, он выполнил его указание. Убрал. Но только не Готвальда, а курсанта. И вот теперь этот человек лежит в санитарной машине. — Завтра Готвальда переведем обратно в палату. Скажу, что стало лучше. — Осматривали его лицо? — Да. — Похоже на ожоги? — Вполне. Я бы сказал — мастерская имитация. Кто это делал? — Адам Григорьевич. Кстати, он передавал вам привет. Лицо Солдатенкова озарилось улыбкой, но он сразу помрачнел. — Да бедняга и сам подпекся изрядно на пожаре. Не жалел себя. Руками схватился за что-то горячее — кожа сошла. От волос и бровей ничего не осталось. Какие-то теплые слова рвались у Алексея из души. Валентин, такой молодой, красивый, лежал теперь в госпитале, среди врагов, да еще мучился от ожогов… А ведь говорили — не лезь! Достаточно и того, что сделал с твоим лицом Адам Григорьевич. Нет, не послушался. Какой героизм! А Солдатенков? Он уже не молод. Как пошел он на это трудное задание? Вот сейчас они идут, разговаривают, а на них смотрит шофер санитарной машины. Кто он — друг или враг? Ведь Солдатенкову надо вернуться в город, иначе немцы всполошатся. В госпитале начнется повальный обыск, и тогда все пропало. Надо сказать врачу что-то теплое, ободряющее. Но Столяров не успел. Послышался скрип полозьев и звяканье уздечек. Это подъезжал в санях Колос с другими партизанами. Странное чувство испытывал Алексей, когда он в партизанском лагере допрашивал выкраденного курсанта. Адам Григорьевич так хорошо организовал лечение обожженного курсанта, что тот через два дня пришел в себя, еще через несколько дней мог сидеть и говорить. Алексей знал по опыту, как важно во время допроса следить за выражением лица пленного. Оно как бы помогает понять ход мыслей, иногда убеждает в искренности показаний, иногда выявляет их лживость. Не только глаза — зеркало души. Зеркало — это все лицо. А теперь перед Столяровым сидел человек как бы без лица, вернее с лицом мертвым, безжизненным, скрытым бинтами. И оттого Алексея не покидало ощущение, что он беседует с маской. И Алексеи и Колос прекрасно понимали, что жизнь Готвальда и судьба всей операции зависят теперь от этого пленного. Пока Валентин не будет знать все или почти все о своем оригинале и его знакомых, друзьях, начальстве, он беспомощен и беззащитен. Его могут разоблачить в любую минуту. Успех допроса — успех всего задуманного дела. Курсант охотно назвал свое имя и фамилию — Зотов Сергей Иванович. Но когда Алексей попросил назвать место, откуда его привезли в госпиталь, тот опустил голову и промолчал. — Хорошо, — сказал Алексей, — тогда я подскажу вам: Блестковская школа абвера. Зотов снова промолчал. Колос и Столяров переглянулись. А что, если Шерстнев что-нибудь напутал? Или вдруг пленный откажется давать показания? На минуту Алексей ощутил под ложечкой неприятный холодок. Нет, надо заставить пленного говорить. Алексей встал и подошел к курсанту, положил ему на плечо руку. — Послушайте, Зотов, — начал он как можно спокойнее. — Послушайте и вникните в то, что я вам скажу. Нам известно: вы из школы немецкой разведки. Вы, русский, стали предателем Родины, пособником гестаповцев. Совершили тяжкое преступление перед своими людьми. Вы знаете, что вас ждет? Забинтованные руки пленного беспокойно зашевелились на колониях. — Знаю, — хрипло ответил он. — Ну вот! — продолжал Алексей. — Я буду с вами откровенен. Вы нам нужны. И мы сохраним вам жизнь, если вы все честно, без утайки расскажете о себе, школе, ее руководстве, слушателях… Подумайте как следует. Мы вам гарантируем жизнь. Алексей сел рядом с Колосом за стол и не отрываясь смотрел на Зотова. Тот согнулся на своей койке и молчал. — Ну? — спросил Столяров после паузы. — Что вы решили? Зотов ответил, с трудом подбирая слова: — Я рассказал бы вам все. Но есть одно "но", о котором я не могу говорить и которое, видать, унесу с собой в могилу. Что меня ждет — знаю и к этому подготовился… Пожалуй, даже не смысл слов курсанта, а его твердый голос и решительность заставили Алексея поверить, что этот человек не рисуется, не бравирует, и такого, пожалуй, не испугаешь угрозой расстрела. Алексей пристально всматривался в щели между бинтов, где холодно блестели серые глаза. Нет, не таким представлял себе Алексей будущего пленника — презренного подонка, служившего врагам. Разведчик ожидал, что курсант сразу же "расколется", будет ползать на коленях, молить о пощаде, о жизни. А этот ни о чем не просит и о смерти говорит как о деле простом и решенном. Поведение Зотова было так неожиданно, что какую-то секунду Столяров растерянно молчал, не зная, как продолжать допрос. И вот уже несколько часов продолжалась эта игра в кошки-мышки. Алексей уговаривал пленного, Зотов упорно молчал. — Эх, да что с ним церемониться! — взорвался Колос. — Поставить его к сосне — заговорит как миленький…. Геннадий вскочил, лицо его побагровело. На висках вздулись вены. Он сжал кулаки. — Сука! Сволочь гестаповская! Ишь, храбрец нашелся! — кипятился Колос. — Подожди! — Алексей дернул Геннадия за рукав, усадил на место и снова продолжал спокойно спрашивать: — Что вам мешает говорить? Ведь вы у русских. Вы видите, ваши сведения нам необходимы. Вы у своих, поймите это! — В том-то и дело, что "у своих", — ответил курсант, и Алексею показалось, что слово "свои" он произнес с ударением. — Загадки загадывает! — зло процедил Геннадий. — Другие воюют, матерей, отцов защищают, а он, видите ли, загадки загадывает. Эх ты, а еще русский называется! И какая тебя мать родила! Алексей кинул на Колоса укоризненный взгляд, и тот замолчал. Кивнув на прощанье Зотову, Алексей и Колос ушли из лазарета. Теперь пленным снова занялся Лещевский, который напоил его каким-то подбадривающим лекарством, потому что Зотов заметно ослабел за время допроса. — Подожди, Геннадий, не горячись, — говорил Столяров своему товарищу, изо рта которого сыпались проклятия по адресу упрямца. — Попробуем спокойно разобраться во всем. — Да чего тут разбираться! Холуй немецкий! Я бы его… И Колос снова сжал свои мощные кулаки. — Нет, ты не прав! — возразил Алексей. — Тут все не так просто, как тебе кажется. Почему он отказывается говорить? Как ты думаешь? Геннадий снова пожал плечами. — И думать не хочу! — А все-таки? Ведь он понимает, дать показания — значит спасти себе жизнь. Ему жить хочется? Хочется, как и каждому из нас. Поэтому-то он и молчит. — Я что-то не пойму, — хмуро пробормотал Колос. — Не поймешь? — переспросил Алексей, хитро щуря глаза. — Сейчас объясню. Ты заметил, что слово "своих" он произнес подчеркнуто, с каким-то скрытым значением. — Ну и что? — А вот что. Он не уверен, что мы свои… Колос вскинул брови. — То есть? — Он считает, что мы гестаповцы. А весь этот допрос — очередная проверка лояльности. Геннадий свистнул. — Вот оно что! — Да. Он же сам намекнул нам. Есть одно "но"… Вспомни-ка… Одно "но". — А ведь ты, пожалуй, прав! — воскликнул Геннадий. — А я-то сорвался, накричал зря. Последние слова звучали как извинение. Но Столяров не стал выяснять состояние духа своего товарища и продолжал: — Ты вспомни показания Венцеля. Он сам рассказывал о гестаповских проверках. Бывало даже, что сбрасывали на парашютах в советский тыл, а переодетые в нашу форму гестаповцы ловили диверсантов и устраивали им допросы. А ведь Венцель знает порядки в этих школах. В Блестковской сам преподавал. — Да, да, теперь понимаю! — оживленно заговорил Колос. — Зотова выкрадывают из госпиталя, везут сначала в санитарной машине, затем в санях. Куда? Зачем? И он решил, что это забавляются его учителя. — Ну что же, теперь остается проверить, прав я или нет, — сказал Столяров. — Он передохнул, пойдем снова к этому парню. Времени терять нельзя. — Где и когда вы кончили среднюю школу? — спросил Алексей пленного. — В Москве. Окончил сто тридцать первую школу в тридцать третьем году. — Отметки в аттестате помните? — Д-да, — удивился курсант столь неожиданному вопросу. — А зачем вам мои отметки? — А вот увидите, — загадочно улыбаясь, ответил Алексей. Разведчики снова вышли, оставив Зотова несколько сбитым с толку. Три дня к нему никто не приходил. И вот наконец перед ним снова предстал Алексей с каким-то листком бумаги в руках. — Это ваши отметки, Зотов, — сказал Алексей. — Называйте их мне, посмотрим… Зотов не мог, конечно, знать, что сведения из его аттестата об окончании средней школы получены по радио из Москвы. Неуверенно курсант стал называть свои оценки. Все совпадало. Тогда Алексей протянул Зотову листок бумаги со столбиками цифр. Несколько минут парень молчал. — Ваши? — спросил Алексей. — Да, да! Мои, — растерянно бормотал Зотов. — Но откуда вы их знаете? — Из Москвы. У нас связь хорошо налажена. И вдруг Зотов согнулся, словно под грузом невидимой тяжести, и закрыл лицо руками. Плечи его вздрогнули. Из горла вырвались какие-то хриплые, сдавленные звуки… Потом он выпрямился и срывающимся голосом, торопливо, словно боясь, что его перебьют, заговорил. Да, теперь он видит, что попал действительно к своим. И они не знают, какое это для него счастье… Ведь об этой минуте он мечтал целый год. Строил планы побега, надеялся перейти линию фронта, и вдруг… Этого не может быть. Это как сон… Свои! А он-то думал, что гитлеровцы устроили ему очередную проверку, переоделись в партизан… Неужели он действительно у своих? Алексей и Колос слушали курсанта не перебивая. Они понимали: Зотову необходимо дать выговориться. За короткий срок этот человек испытал два сильнейших потрясения: угрозу расстрела и радость неожиданного избавления. И вот теперь нервы его сдали… Только через полчаса его сбивчивый, путаный рассказ удалось направить по нужной колее. Для этого, правда, пришлось прибегнуть к помощи Лещевского, который отсчитал в кружку нужное число капель валерьянки. А потом в ход пошла и заветная фляга Колоса, из которой Зотов сделал изрядный глоток. Да, он действительно Сергей Васильевич Зотов, лейтенант, летчик-истребитель. В августе сорок первого его самолет сбили под Севастополем. Сам он выбросился с парашютом. Парашют раскрылся, но его отнесло ветром на территорию, занятую противником. Зотова обстреляли, когда он еще приземлялся, — одна пуля попала в плечо, другая в ногу. Сознание он потерял и очнулся уже у немцев. Его долго допрашивали, били и, наверное, расстреляли бы. Но каким-то образом абверовцам удалось узнать, что перед ними сын известного по обороне Севастополя крупного советского морского офицера. Побои прекратились. Зотова поместили в немецкий госпиталь, окружили врачами, а когда он выздоровел, предложили ему стать курсантом абверовской разведывательной школы. Зотов наотрез отказался. Тогда абверовец, ухмыляясь, веером рассыпал перед Зотовым небольшие снимки. Взглянув на них, лейтенант похолодел: на фотографии он увидел себя с немецким автоматом в руках (сзади толпились эсэсовцы), направленным на советских военнопленных. Фотография была смонтирована, но как это докажешь? — Подумайте, Зотов, — донеслись до него слова капитана, с акцентом говорившего по-русски. — Если вы не согласитесь, мы сумеем переслать эту фотографию вашему отцу. А копию поместим в листовках, которые сумеем также переправить через линию фронта. Уставившись в чисто выбритый подбородок абверовца и вслушиваясь в его ровный, бесстрастный голос, Зотов не знал, на что ему решиться. Немецкий капитан не торопил Зотова с ответом: по выражению лица пленного он догадывался, что летчик колеблется. — Соглашайтесь, и никто ничего не узнает, — тихо и монотонно продолжал гитлеровец. — А когда кончится война, все забудется. Столяров и Колос сначала узнали от Зотова сведения, необходимые в первую очередь для Готвальда: расположение различных служб в школе, клички курсантов, фамилии преподавателей. Зотов теперь рассказывал все — подробно и охотно. Результат показаний переслали через Шерстнева Солдатенкову. Столяров также просил Тимофея передать врачу, чтобы тот под любым благовидным предлогом задержал Валентина в больнице как можно дольше. Солдатенков тогда благополучно вернулся из Выпи. Шофер, напуганный до полусмерти угрозами партизан достать его хоть из-под земли, если он проболтается, молчал. Время от времени врач при встречах с шофером ловил на себе его взгляд, то ли настороженный, то ли восхищенный. Солдатенкову некогда было разбираться в настроении своего спутника по поездке в Выпь, но что-то подсказывало доктору — шофер не предаст. У Столярова тем временем появилась надежда, что удастся взорвать школу, прежде чем Готвальда выпишут из госпиталя. Надежда эта появилась неожиданно. Как-то Алексей спросил Зотова: — Скажите, есть ли в школе человек, на которого можно было бы положиться? Курсант долго молчал. Потом наконец проговорил. — По-моему, есть. Беглов. Евгений Беглов. — Кто он? Курсант? — Нет. Оружейный мастер. — Вы хорошо его знаете? — Да, мы знакомы довольно близко. Мы тут в городе ухаживали с ним за двумя родными сестрами. Когда я получал увольнительную, мы с ним встречались в доме этих сестер. Да и в школе тоже. Мы с Бегловым дружили. Если, конечно, можно с кем-нибудь дружить в таком гнусном месте. — Почему вы думаете, что Беглов человек надежный? — спросил Алексеи. — Это трудно подтвердить фактами. Мне всегда казалось, что он ненавидит немцев, хотя, разумеется, откровенно мы с ним на эту тему не говорили. — А почему вам это казалось? — Не знаю. А впрочем, подождите… Как-то совсем недавно до этого случая со мной мы с ним вечером стояли на берегу озера. Смотрим, прямо над школой появились самолеты. Наши! Мы их узнали еще по гулу. Посыпались бомбы. И все мимо, мимо, мимо. Так ни одна в школу и не попала. Все в озеро. Мой приятель даже выругался от злости. А потом говорит: "Эх, хоть бы нашелся человек, который навел бы эти самолеты на цель". — Мгм… — Столяров задумался. — Вы знаете, что случится, если вы наведете нас на провокатора? — Догадываюсь, — твердо ответил Зотов. — Беглов не провокатор, в этом я уверен. Не знаю только, согласится ли он с вами сотрудничать. Думаю, что это зависит только от вас. — Где можно встретиться с вашим приятелем? — В городе у наших подружек. Сенная, тридцать девять. Спросить Галю или Клаву. Он бывает у них часто, он не курсант, за ним не так строго следят. Когда ушли из лазарета, Алексей сказал Колосу: — Нужно срочно встретиться с Шерстневым. Поручаю это тебе. Пойдете вместе с Тимофеем к этим сестричкам, а лучше, если Тимофей один сходит. Передашь ему адрес. Субботним вечером Шерстнев постучал в дом номер тридцать девять на Сенной улице. Перед этим он внимательно осмотрел одноэтажное деревянное зданьице. Сквозь щели плотно закрытых ставен пробивался слабый свет. — Кто там? — спросил за дверью женский голос. — Полиция! Тимофей, потопав по крылечку, обил снег с валенок и вошел следом за девушкой лет двадцати пяти в просторную комнату с низким потолком и кроватью с огромной горой подушек. За столом сидели еще одна девушка и парень в куртке немецкого солдата, но без знаков различия. Густая копна волос падала ему на лоб. В руках у парня была гитара. — Прошу документы, — строго сказал Шерстнев. Первым протянул свое удостоверение парень. — Так, Евгений Сергеевич Беглов, тысяча девятьсот двадцать первого года рождения, — пробормотал Шерстнев, листая паспорт. — Прописан в поселке Струево. А здесь, в городе, как оказались? — Да, вот, к знакомым в гости пришел, — насмешливо сощурившись, ответил Беглов. Он не боялся полицейских обходов: сотрудников Блестковской школы не смели затрагивать местные власти. Не возвращая удостоверения парню, Шерстнев так же тщательно проверил документы у девушек и затем сказал Беглову: — А вам придется пройти со мной. — Это почему же? — удивился парень. — Документы у меня ведь в порядке. — Это мы проверим, — с угрозой в голосе пообещал Тимофей. — Пойдемте. Девушки тревожно переглянулись. — Господин полицейский, что же вы от нас кавалера единственного уводите? — кокетливо начала было одна из них, но, увидев неприступное выражение на лице Шерстнева, осеклась. — Может, сами бы посидели у нас, чайку попили, — залепетала другая, но тоже смолкла. Беглов протестовал бурно. Он совал Тимофею какие-то бумажки, пропуска. Но Шерстнев стоял на своем. В конце концов, ворча и огрызаясь, оружейный мастер накинул немецкую шинель без погон и вышел вместе с Тимофеем на крыльцо. Ночь была тихой и лунной. Шерстнев и Беглов шли по теневой стороне улицы, увязая в глубоких сугробах. Сильно подмораживало. Снег под ногами скрипел. — За каким чертом я вам понадобился? — снова взорвался Беглов. — Вы же прекрасно знаете, что под меня не подкопаешься. Я работаю в немецкой организации. Да еще в какой! Вы же прочитали удостоверение. Наша школа полиции не подчиняется. Что вы ко мне привязались?! — Идите за мной, там узнаете. Нечего болтать, — приказал Шерстнев и свернул в пустынный двор большого дома. Беглов удивился, но, поколебавшись, последовал за Тимофеем. Здесь, во дворе, было темнее, чем на улице. Высокие кирпичные стены стискивали его с трех сторон. Вдруг из тени вышел коренастый человек и направился к Беглову и Шерстневу. Беглов отшатнулся и хотел было бежать, но Тимофей схватил его за рукав шинели. Подойдя вплотную, неизвестный сказал почти неслышно: — Давайте знакомиться. Меня зовут Геннадий. Я к вам от партизанского командования.9. Радиограмма Центру от "Коршуна"
"Утром 2 марта сего года Блестковская гестаповская школа взорвана. По имеющимся у нас сведениям, в момент взрыва там находился почти весь офицерско-офицерско-преподавательский состав. Взрывом был убит заместитель начальника школы, штурмбаннфюрер Отто Кравец серьезно ранен. Полностью уничтожено административное здание вместе с радиостанцией, пострадали два жилых корпуса и гараж. С нашей стороны потерь не имеется. Успех операции в значительной степени обеспечил заместитель командира нашей группы младший лейтенант Валентин Францевич Готвальд. Проникнув в школу под видом возвратившегося по излечении из госпиталя курсанта школы Зотова, Готвальд не только не вызвал подозрения со стороны противника, но и сумел наладить связь с патриотически настроенной группой курсантов и оружейным мастером школы, военнопленным, бывшим старшиной Евгением Бегловым. Совместно с последним Готвальд в ночь с первого на второе марта положил в канцелярский шкаф несколько килограммов взрывчатки и три противотанковые мины, соединив шпагатом взрыватель с дверцей шкафа. Валентину Готвальду с группой патриотически настроенных курсантов удалось благополучно перебраться в партизанский отряд имени Чапаева. Учитывая исключительное мужество, проявленное заместителем командира группы "Коршун" во время этой операции, считаю целесообразным ходатайствовать перед командованием о награждении младшего лейтенанта Валентина Францевича Готвальда правительственной наградой. Командир группы "Коршун" майор государственной безопасности А. Столяров. 3 марта 1943 г."
ЭПИЛОГ
В партизанском лагере ждали самолет. На расчищенной посадочной площадке полыхали костры. Столяров и Готвальд стояли на опушке леса, время от времени кто-нибудь из них говорил: — Кажется, гудит… — Тише!.. Друзья замолкали, а потом слышался разочарованный голос: — Показалось… За деревьями то ли увядал закат, то ли уже светало. Вокруг стояла тишина, только слышно было, как на другом краю площадки переговаривались дежурившие на аэродроме люди. Самолет должен был взять обратным рейсом несколько больных и раненых, а также Алексея и Валентина. Столяров курил. Кажется, впервые за последние месяцы нервы у него сдали. Неужели всего только несколько часов отделяют его от того момента, когда он окажется в Москве? Невероятно. Просто невероятно. За эти несколько месяцев родные не получали от него известий и, должно быть, уже не раз его хоронили… И вот он жив, жив, жив… Наконец долгожданный самолет прилетел. Столяров и Готвальд расцеловались со Скобцевым и Карповичем, Колосом и комиссаром отряда, которые пришли проводить отъезжающих, и забрались в темный салон транспортного самолета, осторожно обходя носилки со стонущими ранеными. Хлопнула дверца люка. Летчики торопились до рассвета пересечь линию фронта. Взревели моторы, самолет, прыгая по кочкам, отделился от земли. Алексеи припал к иллюминатору. Внизу — кромешная тьма, впереди темно-вишневая полоса рассвета. Алексей жадно искал глазами костер, но никак не мог найти, и лишь, когда самолет развернулся, далекой звездочкой вспыхнул в темноте огонек. Он светился на том кусочке земли, к которому за эти трудные месяцы приросло сердце Алексея, где остались его боевые друзья, а среди них Лещевский, Софья Львовна, Шерстнев. В который раз Алексей мысленно пожелал им удачи. — Ну вот и все, — сказал Готвальд, и Алексей скорее догадался, чем увидел, что тот улыбается, — все позади, Алексей Петрович… — Думается, немало и впереди еще, Валентин. Готвальд хотел что-то сказать, но промолчал: он понял, о чем говорит Столяров. Впереди будут новые задания, новые опасности, новый риск и, возможно, новые удачи. Собственно, что происходит сейчас? Он, Алексей, солдат невидимого фронта, возвращается домой на побывку. Валентин будет гостем, но не просто гостем… Работа, трудная работа чекиста, разведчика требует навыков, тренировки, глубокого изучения того, что освоили и достигли другие. Вот этим они и займутся до нового задания.Прудников М.С. Пароль получен
От автора
Мысль написать книгу об отважных патриотах-интернационалистах, с которыми встречался в годы Великой Отечественной войны, родилась у меня давно. Вскоре после окончания войны собрались мы с боевыми товарищами, чтобы вспомнить минувшие дни борьбы с фашизмом. Помянули добрым словом тех, кто не смог быть в этот день с нами, кто отдал жизнь во имя общей победы. И посетовали на то, что жизнь и подвиги многих наших боевых товарищей остаются неизвестными людям. Что поделаешь: такова судьба солдат-интернационалистов, до поры до времени остающихся неизвестными. Вот тогда-то и возникла у меня мысль рассказать хотя бы о некоторых из них. Знавал я людей разных национальностей, покинувших родную землю из-за преследований реакции. Советский Союз стал для них второй родиной. Они связали грядущее счастье своих народов с победой Советской страны над фашизмом и отдавали все силы для этой великой цели, для этой великой победы. От замысла до книги немалый и нелегкий путь. Особенно если герои не вымышленные лица, а реальные люди, которым пришлось сражаться в условиях глубокой секретности, и об их борьбе мало что можно найти в официальных источниках. Память и личные записи сохранили многое, главное. А чтобы воссоздать в подробностях обстановку, в которой они работали, шаг за шагом проследить ход проведения боевых операций, нужны кропотливые поиски, нужны беседы и беседы с людьми, с которыми сталкивались герои повествования. Потому-то нет ничего удивительного, что прошло много лет, прежде чем мне удалось реализовать свой замысел. В силу понятных причин пришлось изменить некоторые имена, сместить во времени события и в отдельных случаях перенести и место действия. Я сумел рассказать далеко не о всех известных мне боевых товарищах. Многие имена мы сегодня еще не назвали. Жизнь этих людей, их подвиги достойны быть воспетыми. Это светлый пример для молодого поколения, пример верности и доблести в служении патриотическому и интернациональному долгу.ТОВАРИЩ КАРЛ
1. Шахтер из Рура
Передо мной стоял невысокий худощавый человек с густыми бровями и острым взглядом глубоко запавших глаз. Зачесанные назад волосы тронуты сединой, на лбу залегла глубокая складка. К тому времени я уже много знал о нем… Формируя соединение, которому предстояло выполнять задания особой важности, мы с большим вниманием относились к его комплектованию, подробно рассматривали каждую кандидатуру, взвешивая все «за» и «против». Учитывались черты характера, жизненный опыт, взаимоотношения с окружающими. Не скрою, ряд товарищей, которых я знал по прежней работе и за которых в других случаях вполне мог поручиться, мы все же отвели, потому что для данных совершенно исключительных обстоятельств они не обладали достаточной выдержкой, могли попасть во власть настроения, боевого азарта. Другие, будучи тоже отважными бойцами, недостаточно глубоко разбирались в обстановке, не всегда умели найти общий язык с теми, кто находился рядом, — были, что называется, трудными людьми в общежитии. У третьих подчас не ладилось с дисциплиной. Так что, повторяю, выбор был очень строгим — ведь нам предстояло вместе отправляться на выполнение боевого задания либо на фронт, либо в тыл немецко-фашистских войск… Карл Штайнер был немецким политэмигрантом. Он родился в 1902 году в Руре в шахтерской семье и унаследовал профессию деда и отца. С юных лет принимал участие в революционном движении, а в 1931 году стал членом Коммунистической партии Германии. Это было время, когда прогрессивные силы Германии боролись против наступления фашизма. В авангарде этой борьбы стояли коммунисты. Обличая нацистов, раскрывая массам истинное лицо фашизма, они стремились к сплочению всех антифашистских сил, созданию единого фронта, который мог бы противостоять натиску реакции. Нацисты умело прибегали к демагогии. Именно таким образом им удавалось воздействовать на психологию политически незрелых слоев населения, играть на националистических чувствах ремесленников, мелкой буржуазии, частных и государственных служащих, увлекая их миражами будущего «великой Германии». На руку нацистам было то, что страна в 1929—1932 годах переживала затяжной экономический кризис, тысячи людей разорялись, нищали. А фашизм сулил скорое избавление от кризиса, безработицы, чуть ли не райские кущи… Гитлеровцы захватили власть. В стране свирепствовал террор. Нацистами была устроена грандиозная провокация с поджогом рейхстага, послужившая поводом для жестоких репрессий против коммунистов, всех прогрессивных людей Германии. Тюрьмы были переполнены. Заточили в тюрьму Эрнста Тельмана. Для немецких коммунистов наступил тяжелый этап борьбы: они ушли в глубокое подполье. Карл Штайнер — один из тех, кто прошел школу подпольной работы: после разгрома фашистами партийной организации на шахте, где он работал, оставшиеся на свободе коммунисты не отказались от борьбы. Они раздобыли печатный станок, установили его в подвале дома одного из шахтеров и начали регулярно выпускать антифашистские листовки, призывавшие использовать все формы выступлений против нацистских властей — саботаж, забастовки и др. По ночам Карл вместе с другими подпольщиками расклеивал листовки на стенах домов и заборах в шахтерском поселке. Полиция, фашисты неистовствовали. Однажды отряд фашистских штурмовиков ворвался в этот шахтерский поселок. Они схватили около двадцати шахтеров, которые подозревались в антифашистской деятельности, и подвергли жестоким истязаниям. Среди попавших в лапы штурмовиков был и Карл Штайнер. При аресте он не успел избавиться от пачки антифашистских листовок. Так Штайнер оказался в нацистской тюрьме. Здесь он познал все: изнурительные допросы, издевательства, пытки. Но тюремщикам не удалось вырвать у него ни слова признания о товарищах, о деятельности коммунистов на шахтах Рура. Они так и не узнали, что Штайнер — член Коммунистической партии Германии. Больше года находился он под следствием. Потом бежал. Побег был исключительно дерзким. Вечером, когда Карла вели с очередного допроса, в темном закоулке тюремного двора он неожиданным ударом сбил с ног своего конвоира. Удар был так силен, что тюремщик несколько минут лежал без сознания: хорошую службу сослужило юношеское увлечение Карла боксом… Мгновенно обезоружил распростертого на земле конвоира. А когда тот очнулся, заставил его раздеться. Натянув на себя солдатский мундир и приказав насмерть перепуганному тюремщику не двигаться, Штайнер направился к тюремным воротам. Стоявший у выхода охранник, завидев человека в форме, отодвинул щеколду, а уж затем протянул руку за пропуском. Короткий удар рукояткой пистолета — и охранник рухнул наземь. Карл бросился в ворота. Он слышал шум в сторожевой будке, топот сапог, выкрики. Но пока охранники разобрались, в чем дело, он уже завернул за угол, нырнул в какой-то двор, перемахнул через забор и оказался на железнодорожных путях. Мимо проходил, набирая скорость, пассажирский поезд. Беглец успел схватиться за поручень последнего вагона, вскочить на ступеньку, еще не сознавая, что тюрьма позади, а впереди — свобода… Впоследствии, когда мне довелось участвовать в боевых операциях вместе с Карлом Штайнером, я всегда поражался его ловкости, силе, умению мгновенно реагировать на внезапно возникшую ситуацию, в считанные секунды принять нужное решение. Штайнер по решению своей партии был послан в Саарскую область, где коммунисты находились еще на легальном положении: партия решила спасти Штайнера от охотившихся за ним нацистов. Однако третий рейх тянул лапы и к Саарской области. В 1935 году Саар отошел к фашистской Германии. Вновь пришлось Штайнеру укрываться от нацистских ищеек. Товарищи помогли ему перебраться во Францию. Там он поступил работать на шахту. И сразу же включился в антифашистскую борьбу французского пролетариата. Фашисты разожгли мятеж в Испании. Трудящиеся Франции, движимые чувством солидарности со своими испанскими братьями, как и рабочие других стран, формировали отряды добровольцев для защиты республики. С одним из первых отрядов отправился в Испанию и Карл Штайнер. В Испании ему пришлось овладеть новой подпольной профессией. Он стал минером, а затем даже инструктором по подготовке специальных групп республиканской армии, которым предстояло взрывать железнодорожные мосты и эшелоны мятежников. Он и сам не раз возглавлял группы, которые отправлялись в тыл врага. Штайнер взрывал фашистские склады боеприпасов под Теруэлем и Уэской, устраивал завалы на коммуникациях мятежников в горах Басконии. Во время одной из операций, проводившейся республиканцами, оборонявшими Мадрид, Карл был тяжело ранен. Когда франкисты с помощью фашистских Германии и Италии потопили Испанскую республику в крови, Штайнер вместе с другими интернационалистами перешел границу Франции. Там он был интернирован, но бежал из лагеря и вскоре оказался в Антверпене, откуда бельгийские рабочие помогли ему уехать в Советский Союз. 4 марта 1939 года Карл Штайнер сошел с корабля, пришвартовавшегося у Мурманского причала. Впервые вступил этот человек на землю страны, которую много лет мечтал увидеть. Советские люди по-братски встретили немецкого коммуниста. Штайнер выразил пожелание работать на производстве, и ИК МОПР направил его в Челябинск на тракторный завод. Рабочие прославленного Челябинского тракторного радушно приняли его в свою трудовую семью. Карл быстро освоил опять-таки новую для себя, но на этот раз мирную специальность и стал одним из передовиков производства. Впервые в жизни Карл чувствовал себя хозяином своего станка, цеха, завода, всей страны. В свободное время Штайнер охотно выступал на заводе, на других предприятиях Челябинска: рассказывал об антифашистской борьбе немецких коммунистов, об Испании, об участии интернационалистов в сражениях с мятежниками. Он понимал, что впереди новые битвы с фашизмом, и страстно обличал гитлеризм, рассказывал правду о нем людям. Он знал, что такое фашистская диктатура не понаслышке, а испытав на себе ее ужасы. Июнь 1941 года… В первый же день войны Штайнер выехал в Москву. Он понимал, что только Страна Советов может одолеть фашизм, и поэтому заявил, что хочет сражаться в рядах Красной Армии. В моей памяти сохранились все детали первой встречи с ним. Поразило тогда то, что он очень чисто, совершенно без акцента говорил по-русски. Штайнер улыбнулся, когда я сказал ему об этом. — Это, наверное, природный дар… Французы удивлялись, когда я говорил по-французски, испанцы — когда я говорил по-испански… Я расспрашивал Штайнера еще и еще о различных эпизодах его жизни, стремясь составить наиболее полное впечатление о характере, наклонностях, темпераменте. Мне нравилось, что этот человек, который был способен на исключительный по дерзости и отваге шаг, по рассказам товарищей, во время боевых операций в Испании проявлял редкое хладнокровие и рассудительность. Беседа длилась долго. Говорили и о боевых делах, и о политике, и… о литературе. Командир все должен знать о своем подчиненном, с которым отправляется на ответственное задание. Карл много читал. Любил поэзию. Гёте и Гейне. Из прозаиков — таких разных писателей, как Диккенс, Чернышевский, Ремарк. Почему Ремарк? — Он научил меня ненавидеть войну. Любил Штайнер и музыку. — Могу часами слушать Бетховена! — вырвалось у него. Так по отдельным черточкам складывался в моем представлении довольно выразительный портрет Карла Штайнера. Свои выводы я снова и снова сопоставлял с имевшимися у меня данными и пришел к убеждению, что этот человек обладает необходимыми для бойца Бригады особого назначения качествами. Свое мнение я доложил командованию. И был рад, когда узнал, что Карл Штайнер зачислен в бригаду. И не ошиблись в нем. И тогда, когда проходили специальную подготовку для боевой работы в немецком тылу, и тогда, когда участвовали в боях под Москвой, я чувствовал рядом с собой боевого товарища, на которого всегда можно положиться. Он был из тех людей, с которыми можно смело идти на любое задание. В одном из боев Карл Штайнер был ранен в ногу осколком мины. Он ни словом не обмолвился об этом. И только когда бой кончился, с какой-то виноватой улыбкой произнес: — Меня, кажется, немного задело. Товарищи разрезали сапог. Рана оказалась глубокой. Карл потерял много крови. Он был бледен, стискивая зубы, превозмогал боль. И все-таки пытался улыбаться. Штайнера отправили в полевой госпиталь, где врачи сделали ему операцию. Уже через три недели, опираясь на палку, он появился в части. Мне было известно, что он сбежал из госпиталя, обманув бдительность врачей. Но я ничего не сказал ему: принял грех на свою душу. Я знал, как рвался он в бой. И просто не мог поступить иначе. В феврале 1942 года мы ненадолго расстались. Батальон особого назначения, которым я командовал, был отозван с фронта в Москву. В Наркомате внутренних дел мне поручили создать на базе батальона специальный отряд для боевой работы в глубоком тылу врага. Составляя список бойцов отряда, я включил в него и фамилию Штайнера. Но ее вычеркнули. — Товарищу Штайнеру предстоит иное задание, — сказал мне начальник управления. — Хотя, как знать, может быть, вы с ним вскоре и встретитесь… Мы, действительно, довольно скоро встретились — на партизанской базе бригады «Неуловимых», на белорусской земле. Весной 1942 года он был сброшен к нам на парашюте. Карл появился в моей землянке в потертом демисезонном пальто, в кроличьей шапке-ушанке и произнес первую фразу пароля: — Что вы читали в «Правде» на второй странице? Я отозвался, как было положено: — Там напечатано объявление о наборе кадров в школу подводников. — И крепко обнял фронтового товарища. Карла Штайнера готовили к выполнению очень ответственного задания. А пока не наступило время, учитывая его опыт минера, приобретенный еще в Испании, перебросили к нам в бригаду. Когда я поделился с ним своими планами взрыва Полоцкой нефтебазы, он просил послать именно его… Мысль о взрыве крупной фашистской нефтебазы на окраине Полоцка родилась не случайно. По мере того как ширилось, крепло партизанское движение на белорусской земле, фашисты усиливали карательные операции против партизан. Заодно они распространяли слухи о том, что партизаны-де повсюду разгромлены: надеялись тем самым дезориентировать местное население, внушить страх перед могуществом германского оружия. Вот тут-то и следовало показать, что партизанская борьба не только не затухает, а, наоборот, нарастает, несмотря на все ухищрения гитлеровцев… Мы провели тщательную разведку, установили, что на базе имеется семь огромных баков и несколько сот бочек с бензином и смазочными материалами. Разведка выяснила, что территория базы находится под строжайшей охраной, обнесена проволочными заграждениями, по углам установлены пулеметы, вдоль изгороди ходят автоматчики, однако можно использовать то недолгое время, когда они, патрулируя вокруг базы, удаляются от ворот. С Карлом Штайнером мы внимательно изучили обстановку, начертили план базы, до деталей продумывая ход предстоящей операции. Столкнулись мы с еще одной трудностью: у нас был очень короткий бикфордов шнур, всего один метр двадцать сантиметров. Для надежности было решено сделать две зажигательные трубки, чтобы поставить по обе стороны заряда. Если откажет одна — сработает другая. Но шнур длиной в шестьдесят сантиметров горит всего лишь минуту. За эту минуту подрывники должны были уйти как можно дальше, чтобы оказаться в безопасной зоне… Ночью тринадцатого мая все увидели, как над Полоцком занялось зарево гигантского пожара. Мы знали: это пылает нефтебаза. Но мысль о том, удалось ли уйти подрывникам, не давала покоя. Двое суток прошло в томительном ожидании… И вот по лагерю пронеслась радостная весть: — Идут!.. Это шли они, герои, осуществившие очень трудную боевую операцию. Одним из них был Карл Штайнер. …В бригаде «Неуловимых» Карл обучал партизан подрывному делу. Участвовал в смелых налетах, наносивших огромный урон врагу. Когда в сводках Советского информбюро люди читали о взлетевших на воздух в районе Полоцка фашистских эшелонах, о взорванных складах и базах, мы поздравляли друг друга, ибо для нас было праздником то, что страна отмечает нашу боевую работу. Помню, однажды, как обычно, поздравляя Карла, я услышал в ответ: — И все-таки мы делаем мало. Надо больше, гораздо больше!.. Он готовился к переброске в Германию. В августе 1943 года Карла Штайнера отозвали. В бригаде только он и я знали, что его ждет чрезвычайно ответственное задание. Партизаны тепло прощались с товарищем Карлом. Он был растроган. Было видно, что ему нелегко расставаться с ребятами, с которыми связала крепкая боевая дружба. Идя к самолету, он обнимал их, повторяя одни и те же слова: — Мы еще встретимся! Мы обязательно встретимся после победы!..2. Капитан Янг
Берлин начала 1944 года. На первый взгляд здесь все осталось прежним, если не считать новых руин и пустырей, то там, то тут появляющихся после очередных налетов авиации. Как и несколько лет назад, город заполнен военными, коротающими вечера в ресторанах и кафе, невзирая на бомбежки. Уличные репродукторы разносят бравурные мелодии военных маршей. А с огромных афиш дарит прохожим улыбки ослепительная Марика Рокк. И все-таки взгляд человека, приехавшего в Берлин после долгого отсутствия, не может не уловить происходящих здесь перемен. На городе лежит печать уныния, которое все больше проникает в сознание его жителей. Берлин, привыкший праздновать победы германского оружия, несмотря на все старания фашистской пропаганды поддержать «боевой дух» населения гитлеровской столицы, живет предчувствием надвигающейся катастрофы. Об этом стараются не думать. Добропорядочные немцы, связавшие свою судьбу с Гитлером, возлагают надежды на волю божью и гений фюрера, а больше всего — на чудо. Но каждый новый день все более отрезвляет их, заставляя задуматься над тем, что будет завтра. Слегка прихрамывающий человек в зеленой форме армейского капитана, вышедший из метро на станции «Лейпцигерплац», не был в Берлине давно. Когда-то видел он здесь помпезные парады, факельные шествия гитлеровских штурмовиков. Сейчас, вглядываясь в лица прохожих, он различал в потухших глазах лишь усталость, равнодушие ко всему и какую-то безысходность. Капитан прошел по Лейпцигерштрассе, свернул за угол у здания имперской канцелярии и направился по Кайзер-Вильгельмштрассе в сторону канала. Дойдя до пересечения улицы с Хедеманштрассе, опять свернул. И остановился прикурить сигарету. Он долго чиркал зажигалкой, не желавшей загораться на ветру, потом вошел в первый попавшийся подъезд, прикурил, вышел на улицу и направился дальше. Но, пройдя несколько шагов, словно что-то вспомнив, повернул обратно, пересек улицу и оказался в парадном высокого дома. Поднялся на второй этаж, отдышался. В подъезде было тихо. Он поднялся еще выше и нажал кнопку звонка на одной из дверей. Дверь открылась не сразу. Послышались шаркающие шаги, и в узкую щель высунулась седая мужская голова. — Могу ли я видеть господина Бакмана? — осведомился военный. — Да, я Бакман. — Мне хотелось бы переговорить с вами. Может быть, вы позволите зайти? Седой мужчина пропустил офицера и захлопнул дверь. — Простите, я один, а время такое неспокойное. — Я понимаю, — сказал гость. — Разрешите представиться: капитан Янг с Восточного фронта. Я писал вам, что сохранил личные вещи вашего погибшего сына. И вот, получив отпуск, я… — Он полез в карман, вытащил серебряный портсигар с монограммой и протянул хозяину. Тот взял портсигар и тихо спросил: — И это все? — Нет, есть еще перстень с печаткой. Капитан стянул с руки перчатку и показал массивный перстень на безымянном пальце правой руки. — Раздевайтесь, прошу вас… Хозяин помог гостю повесить шинель, провел его в комнату, находившуюся в конце длинного коридора, и, затворив дверь, протянул руку: — Ну, здравствуйте, капитан Янг. Давно поджидаю вас. Ваше имя, простите? — Рудольф. Капитан Рудольф Янг. — А я Хорст Бакман… Хотя вам обо мне, конечно, все известно. Янг кивнул головой. — Товарищ Бакман! Прежде всего я хочу передать вам привет от вашего сына, от Курта. Сами понимаете, я не мог взять от него письмо. Но могу сказать, что он молодчина, ведет большую работу в лагерях военнопленных, помогает людям узнать правду о фашизме. Он просил передать, что с нетерпением ждет встречи с вами в свободном Берлине, в свободной Германии. Бакман, положив руку на плечо Янга, сказал: — Спасибо. Вы принесли мне самую добрую весть. Пока он хозяйничал, собирал на стол, гость опустился в глубокое кресло. Впервые за много дней он мог позволить себе расслабиться, снять внутреннюю напряженность. У Бакмана он чувствовал себя спокойно. Это надежный товарищ, а его дом, по самым проверенным данным, — вне подозрений. Поэтому, направляя Карла Штайнера в Берлин с документами капитана Янга, остановились именно на кандидатуре Хорста Бакмана. Бакман — старый подпольщик. Он вел борьбу против рвавшихся к власти фашистов еще в конце двадцатых годов. Участвовал в стачечном движении на заводах Опеля. За несколько лет до начала второй мировой войны переехал в Берлин и поступил работать кассиром в почтовое ведомство. Он должен был войти в доверие к своему непосредственному начальству, завоевать репутацию добропорядочного немца, сочувствующего нацистам. Бакман жил один. Жена умерла еще до войны, а единственный сын, как сообщалось в полученном им извещении, погиб в сорок первом году под Смоленском. Бакман хранил у себя это извещение, хотя знал, что сын жив и невредим: попав на фронт, Курт сразу же перешел на сторону Красной Армии. Гитлеровцы не могли знать об этом. После ночного боя был обнаружен подле исковерканного орудия личный знак солдата Курта Бакмана. Этого было достаточно, чтобы солдата занесли в списки погибших. Правду о сыне старику сообщили товарищи во время единственной встречи с ним несколько лет назад. Бакман не должен был встречаться с подпольщиками. Ему сказали, чтобы он только ждал. И лишь в сентябре 1943 года его вызвали на конспиративную встречу в лес, неподалеку от расположенного под Берлином озера Мюггельзее. Там ему было передано, что явится гость, который передаст портсигар сына с монограммой «КБ» — Курт Бакман — и покажет перстень с печаткой «РЯ» — Рудольф Янг. Были приняты все меры предосторожности при заброске Карла Штайнера в Берлин. Он прибыл туда из Франции, имея на руках документы, свидетельствовавшие, что после ранения на Восточном фронте был признан годным к нестроевой службе, проходил ее в частях вермахта под Парижем, но, так как рана на ноге все время давала о себе знать, получил отпуск для квалифицированной медицинской консультации в Берлине. Нацистские патрули несколько раз проверяли документы капитана Янга, но бумаги эти не вызывали подозрений. Если бы нацисты могли знать, что рана «героя Восточного фронта» Рудольфа Янга получена им от осколка фашистской мины в боях под Москвой!.. Гитлеровцы, видя, как нарастает военно-политический кризис в стране, обрушили поток репрессий на тех, кто был хоть в какой-то степени заподозрен в нелояльном отношении к фашистскому режиму. Их бросали в концлагеря, пытали в застенках гестапо, безжалостно уничтожали. Как выяснилось уже после окончания войны, в Германии за период с середины 1943 года до середины 1944 года подверглось репрессиям несколько сот тысяч человек. Гитлеровцам удалось схватить ряд отважных подпольщиков. В условиях массового террора следовало соблюдать особую предосторожность, чтобы малейшая случайность не смогла привести к провалу операции. Было решено, что Штайнер выйдет на связь только с одним человеком — с Бакманом. Бакман же должен был оставлять сообщения в специальном тайнике в лесу близ озера Мюггельзее. На крайний случай Штайнер получил еще одну явку. Но это только на самый крайний случай… Старый Бакман пригласил гостя к столу, извинившись за то, что трапеза будет скромной. — В Берлине становится все труднее. Приходится выстаивать в очередях, чтобы получить свою порцию эрзац-продуктов, — посетовал он. — Любые трудности у нацистов должны нас радовать, — сказал Янг. — Это начало их конца. Гость интересовался подробностями жизни в Берлине, расспрашивал о, казалось бы, несущественных деталях: о репертуаре берлинских театров, о меню в офицерских ресторанах, о том, как проводят свободное время офицеры берлинского гарнизона. Бакман рассказывал о том, что знал. В свою очередь, улучив момент, он спросил: — А как там? — Там? — переспросил Янг. — Там готовятся праздновать победу. Нашу общую победу. Но нам с вами, дорогой Хорст, придется немало поработать, чтобы приблизить этот час. Они еще долго говорили в тот вечер. Жить в отелях или меблированных комнатах, постоянно находившихся под надзором тайной полиции, было рискованно. Договорились, что Янг остановится у Бакмана на правах фронтового друга его погибшего сына. Это будет вполне оправданным в глазах соседей, тем более что старый Бакман пользовался репутацией человека, сочувствовавшего нацистам. Ночью была бомбежка. Выли сирены. Били зенитки. Рвались бомбы. Но капитан Янг не слышал этого. Он спал крепким сном. Впервые за долгое время.3. Начало
— Браво, дружище Руди! Ты человек слова. Ты настоящий немец. Я знал, что ты не оставишь друга в беде. Майор фон Дейгель, толстый, краснощекий, шумный весельчак, хлопал Янга по плечу, дыша в лицо винным перегаром. — Черт возьми, я долго вспоминал, где мы назначили встречу. Ведь мы облазили вчера добрый десяток злачных мест… И все-таки вспомнил: в «Левенброе». А проснулся я, в карманах — пшик! Если бы не ты, погиб бы самой бесславной смертью!.. — Он расхохотался, усаживаясь за столик. Янг подозвал кельнера, попросил подать холодного мяса со спаржей, сыр «Рокфор» и сухое вино. Фон Дейгель поморщился: — Пфуй, Руди, я не употребляю этого пойла. Ты же знаешь. — Тогда коньяк, — сказал Янг кельнеру. — И не какой-нибудь «Вайнбранд», а коньяк. Вы меня поняли? — Но в меню… — Меня не интересует меню. Я плачу деньги. — Я вас понял… — К черту, Герд, — воскликнул Янг, улыбаясь фон Дейгелю. — Не для того я просидел семьсот дней в окопах, чтобы отказывать себе в своих желаниях. Два года как-никак я копил деньги, не зная, куда их девать. А сейчас — хочу дышать! Кто знает, что с нами будет завтра! — Ты умный человек, Руди, — буркнул фон Дейгель. — Все эти деньги не стоят собачьего дерьма. Дай мне вагон марок — я спущу их за день. Вот только починю голову… Надо жить тем, что живо сегодня! А что завтра — от бога! — Он налил бокал содовой, жадно выпил. Майор еще не пришел в себя после вчерашнего кутежа. Янг познакомился с фон Дейгелем в гарнизонном госпитале, куда приходил для врачебной консультации. На случай возможной проверки надо было, чтобы его фамилия значилась в регистратуре госпиталя. Осматривавший его военный врач дал направления на анализы. Янг просидел полтора часа, дожидаясь очереди в рентгеновский кабинет. Ему сделали снимок ноги, и на этом лечебная программа на неделю была прервана. В очереди у дверей рентгеновского кабинета он и познакомился с майором, который уже успел слегка заправиться горючим. Короткого разговора было достаточно, чтобы определить, что майор, жаловавшийся на рези в животе, попросту ищет удобного предлога, чтобы лишний день не являться на службу. Когда Янг пригласил его где-нибудь пообедать, майор просиял. Он больше и не вспоминал о своих болезнях. К концу дня майор напился уже изрядно, и Янгу пришлось, поймав какую-то машину, везти его домой. Жил майор в аристократическом районе Берлина. Когда Янг выразил удивление по этому поводу, фон Дейгель бессвязно пробормотал, что он отпрыск старинной прусской фамилии и пользуется особым почетом за какие-то заслуги, оказанные рейху его покойным папашей. Узнал Янг также, что служит майор в штабе противовоздушной обороны Берлина. Такое знакомство могло пригодиться. Кроме того, у фон Дейгеля конечно же было немало знакомых в офицерской среде. Это были те связи, которых искал Янг. Кельнер принес заказ, поставил на стол вино, а графинчик с коньяком — перед майором, многозначительно заметив: — Это «Мартель». Фон Дейгель торопливо налил себе. — К черту приличия, когда болит голова! Будем пить! — и, поморщившись, опрокинул коньяк в рот. Он быстро запьянел, стал уговаривать и Янга отведать коньяку. Тот отказался: — Я столько перепил крепких напитков, Герд, когда мотался по разным странам! Я пил настоящий «Наполеон» и стаканами пил русский самогон!.. Пил до одурения, чтобы забыться от всех кошмаров: от взрывов, от крови, от неизвестности… И всегда мечтал попасть в «Дроссел» или «Левенброй», выпить хорошего вина с настоящим сыром… Дай уж мне насладиться, Герд! А потом мы еще будем купаться в коньяке! — Я понимаю тебя, Руди!.. — заплетающимся языком промямлил фон Дейгель. — Я сам аристократ… Мы с тобой аристократы по крови!.. Ближе к вечеру ресторан стал заполняться посетителями. Большинство было военных, причем, как отмечал про себя Янг, высших чинов. Это фешенебельное заведение было далеко не всем по карману. Вспыхнул свет на эстраде. Заиграла музыка. Стройная блондинка с ниспадавшими на плечи волосами пела под оркестр бесхитростные песенки про любовь, про разлуку, про любимых, которые на фронте, и про близкие встречи. Здесь были нужны песенки со счастливым концом. В зале становилось шумно. Фон Дейгель, осушивший графинчик, потребовал повторения. Янг подал знак кельнеру. Неожиданно майор поднялся из-за стола и, пошатываясь, направился к дальнему столику, стоявшему почти у самой эстрады. За столиком в одиночестве сидел какой-то офицер. Янг увидел, что майор, взяв офицера под руку, двинулся обратно. — Милейший Руди, позволь представить тебе моего старинного друга, можно сказать однокашника, Пауля Ругге. Янг поднялся и пожал руку бледному худому человеку в форме обер-лейтенанта, жестом пригласил его к столу. Фон Дейгель попросил подошедшего кельнера перенести прибор обер-лейтенанта. Янг предложил новому знакомому коньяку, но тот отказался: крепких напитков не пьет. — Значит, капитан Янг, вам пришлось пройти все круги ада на русском фронте! — начал Ругге, поднимая бокал с вином. — О да, пожалуй, это те слова, в которых заключена вся моя жизнь на протяжении последних лет. — Я хочу выпить за вас. Я считаю тех, кто сражался в России, героями, перед которыми нация в долгу. Это было произнесено торжественно, как на официальном приеме. Ругге в упор смотрел на Янга, держа в руке свой бокал. У него было неестественно бледное лицо, тусклые, ничего не выражающие глаза, светлые, почти незаметные брови и, как показалось Янгу, чуть подкрашенные губы. «Наркоман», — мелькнула мысль у Рудольфа. Он бросил взгляд на белые, тонкие, слегка подрагивающие пальцы, обхватившие ножку бокала, и решил, что не ошибся. Ругге стал расспрашивать о России, о положении на русском фронте. Янг рассказывал, стремясь окрашивать все в радужные тона, как и подобает офицеру нацистской армии, воспитанному в духе верности фюреру, его великим планам. Надо сказать, его удивило, что во встречном взгляде Ругге он не различил при этом особого, хотя бы видимого энтузиазма. Ругге слушал равнодушно, не выражая никаких эмоций, всем своим видом показывая, что не очень-то верит Янгу. Однако он дослушал до конца, даже задал несколько малозначительных вопросов. Янг почувствовал, что расспросы о положении на Восточном фронте были данью приличию: его собеседникам хорошо было известно, что дела фашистской армии отнюдь не блестящи. Когда Янг кончил свой рассказ, Ругге быстро перевел разговор на другую тему. Оркестр на эстраде заиграл модную мелодию, и почти весь зал подхватил слова песни: «Руиг шпильт ди гайге, их танц мит дир унд швайге…» Запел и фонДейгель. Когда оркестр умолк, Ругге посмотрел на часы и стал прощаться. Он протянул Янгу визитную карточку и пригласил его и фон Дейгеля отужинать с ним завтра вечером в «Эрмитаже»: соберется небольшая компания друзей. Янг поблагодарил и обещал непременно быть. Ну что ж, все как будто складывалось более чем удачно. Завязаны первые знакомства в офицерской среде. Теперь следовало расширять круг этих знакомств. После ухода Ругге Янг и фон Дейгель остались в ресторане. Как и накануне, фон Дейгеля основательно развезло, он стал нести всякую околесицу и в конце концов Рудольф опять провожал его домой. Фон Дейгель на этот раз принялся зазывать его к себе. Янг не стал отказываться. Квартира у фон Дейгеля, как и предполагал Янг, была большая. Семь или восемь комнат. Мебель старинная. На всем лежала печать запустения. Детей и жену майор отправил в поместье ее родителей: там они переждут трудное время, ежедневные бомбежки. Ведь все это сугубо временно! — утешали себя берлинцы. Янг помог фон Дейгелю освободиться от шинели и мундира, стянул с него сапоги. Майор сразу свалился на диван и захрапел. Янг ушел. В Берлине была объявлена ставшая уже привычной воздушная тревога. Небо расчерчивали лучи прожекторов, где-то вдали гулко били зенитки. Янгу долго пришлось добираться к себе, то и дело рискуя наткнуться на патруль. Но все обошлось благополучно. Он подошел к своему дому, постоял в подворотне напротив. Потом прошел до угла и позвонил из телефонной будки. — Бакман слушает, — раздался в трубке голос Бакмана. Значит, все в порядке. Если бы в квартире была засада и Бакмана заставили поднять трубку, он должен был сказать: «Алло!» Янг поднялся по лестнице. Бакман собирался готовить ужин, но гость пожелал старику доброй ночи и отправился к себе в комнату. Завтра надо было передать первое сообщение: о том, что он благополучно добрался до Берлина, обосновался в столице третьего рейха по заранее составленному плану и начал работать. Он знал, с каким нетерпением ждут его сообщения, как волнуются, не имея никаких сведений о его судьбе. Пока ему удалось миновать все препятствия на пути в Берлин, в первые же дни познакомиться с человеком, который может оказаться полезен. Ведь главной целью задания Янга было добыть сведения о системе обороны Берлина. Хотя фронт находился еще далеко отсюда, было ясно, что именно битва за Берлин станет в войне решающей. Янг действовал очень расчетливо. Он не торопился предупреждать события, понимая, что любой непродуманный шаг может стать роковым. Наверняка он уже попал в поле зрения криминальной полиции: двукратное посещение ресторана «Левенброй» невесть откуда появившимся офицером не может остаться незамеченным для агентов, ведущих постоянное наблюдение за посетителями ресторана. Да и деньги, которые он тратил в ресторане, тоже привлекали к нему внимание. Однако его «легенда» снимала подозрения, а уж он постарался, чтобы ее услышали и кельнеры, и лица, сидевшие за соседними столиками и слишком нарочито подчеркивавшие, что их совсем не интересует, о чем беседуют сидящие рядом офицеры. В самом деле, фронтовик, изрядно поживившийся на оккупированных землях России, а затем и Франции, оставшийся один как перст (жена погибла в Гамбурге во время бомбежки), конечно, мог позволить себе многое. К тому же Янг, не скупившийся в ресторанах, в то же время на каждом шагу старался подчеркнуть свойственную немцу бережливость… Еще и еще Рудольф Янг подвергал скрупулезному анализу каждый свой шаг, сделанный за последние дни, припоминал все разговоры с окружающими, все встречи… Как будто не допустил он ошибок, которые могли бы привести к осложнениям… У Янга было очень немного времени. Он не должен был торопиться, чтобы не вызвать подозрений, но не мог и медлить: сведения, которые он должен добыть, нужны как можно скорее.4. Господа офицеры
Пирушка в «Эрмитаже» не состоялась. На этот раз Берлин бомбили необычно рано. Ругге так и не дождался своих друзей. В ресторан явился только Янг. Ругге предложил тогда собраться у него в квартире. Он повез Янга на своей машине, заехал по пути за маленьким лысым полковником, которого представил как своего друга Ганса. Как и фон Дейгель, Ругге жил один, семью отправил на запад, в поместье своих знакомых. Квартиру он занимал небольшую, но здесь было очень чисто, что свидетельствовало об аккуратности хозяина. Пока Ругге готовил стол, полковник и Янг рассматривали семейные альбомы — традиционное средство занять гостей. На ранних фотографиях Ругге был в студенческой форме, потом — в штатском костюме, за чертежным столом. По словам фон Дейгеля, Пауль был довольно талантливым архитектором, которому прочили завидное будущее. На нескольких фотографиях можно было видеть Ругге с женой и ребенком. На белоснежной скатерти появилась русская водка, несколько бутылок вина. Хозяин орудовал шейкером, взбивая коктейль. Тем временем подошли еще двое мужчин. Один, в штатском, отрекомендовался доктором Клюзе, другой, в форме капитана, представился как Глауберг. — Больше мы никого не ждем, — сказал Ругге, приглашая гостей к столу. Оказалось, хозяин отмечал в этот день именины жены. Выпили за ее здоровье. Ругге включил радиоприемник. Из динамика понеслись бодрые звуки джазовой музыки. А за зашторенным окном бухали зенитки, доносился грохот разрывов авиабомб. Хотя к налетам здесь уже привыкли, на душе у собравшихся было невесело. — Где-то мы будем, господа, через год в это время? — сказал Янг, разминая в руках сигарету. — Не стоит задаваться такими вопросами. — Маленький полковник махнул рукой. Он тянул рюмку за рюмкой и уже раскраснелся, глаза его блестели. — Разве задавали вы себе этот вопрос, сидя в окопах? Да, что было бы со всеми нами, если бы мы паниковали перед завтрашним днем!.. — Но не думать о будущем нельзя. Человек стремится к целям, которые ставит перед собой. — У нас одна цель, мой дорогой: соблюдать присягу, которую мы дали фюреру. — Перестаньте, господа, — вмешался в разговор Клюзе. — Сейчас время, не располагающее к спорам. Тем более что любезный хозяин угощает нас «Дорожным коктейлем», а все мы знаем и ценим его мастерство в приготовлении этого волшебного напитка. Раздался звонок в дверь. Ввалился, как обычно уже под изрядными парами, фон Дейгель. — Прошу прощения, господа, за задержку, но обстоятельства военного времени… — Раньше никакие обстоятельства не останавливали тебя, Герд, когда друзья назначали встречу! — заметил Ругге. — То было раньше. А теперь каждый день новости! Нас вздумали вывозить на рекогносцировку. Уже не хватает инженеров! Ничего! Скоро вы все окажетесь в плену этих обстоятельств! Все, все!.. — Не шуми, Герд, лучше выпей. Фон Дейгель опрокинул рюмку водки, откусил ломтик сыра и опять загудел: — Эти бараны проваливают все на свете! Они уже прикидывают, как строить на улице баррикады… А виновны во всем будем мы! — Но, но, — Глауберг погрозил пальцем, — не забывайте, что среди нас представитель криминальной полиции… Янг поймал его насмешливый взгляд, брошенный на Клюзе, и сказал: — Давайте, действительно, покончим с этими пустыми разговорами! Поговорим о том, что тешит сердце! Клюзе сразу подхватил его слова: — Расскажите нам лучше о Париже! Ведь вы недавно оттуда. — Ну, что сказать о Париже… Конечно, и его тронула печать войны… И все-таки там легче жить: меньше забот! Однако, господа, я не могу быть очень объективным. Не забывайте, что я оказался там после русского пекла. — А в Берлине вы долго не были? — О, последний раз — до войны. А во время войны — проездом. — Простите, Янг, где вы остановились? Янг в упор посмотрел на Клюзе. Улыбнулся. — Это допрос или дружеская беседа? Если… допрос, то ведь для этого есть иное время, и я готов дать вам все показания… — Полноте, полноте, господа! — перебил его Ругге. — В самом деле, Клюзе, в моем доме — все мои друзья, и ненужные подробности никого не интересуют. Никого! Клюзе положил руку на плечо Янга. — Прошу прощения за бестактность. Забудьте о ней! Я порой забываю, что в моих устах самый невинный вопрос может прозвучать обидно… Из дружеской пирушки так ничего и не получилось. Слишком уж ощутимо надвигался финал трагедии. Это будоражило, взвинчивало нервы. Гости разошлись, когда не было еще и десяти. Ругге предложил Янгу заночевать у него, не искушать судьбу во время воздушного налета. Рудольф согласился. Ругге навел в столовой порядок, потом долго плескался в ванной. Искупавшись, стал стелить Янгу постель. Гость, дожидаясь его в гостиной, листал последние номера нацистских журналов. Неожиданно в комнате, где хлопотал Ругге, раздался звон стекла. Янг вышел в прихожую и в щель неплотно прикрытой двери увидел Ругге, собиравшего осколки разбитого шприца. Янг, стараясь не шуметь, вернулся в гостиную и снова занялся журналами. Он не ошибся при первой встрече: Ругге — наркоман. Когда некоторое время спустя Ругге появился, он был сильно возбужден, на бледных щеках горели пятна румянца. По-видимому, ввел себе солидную дозу наркотика. Он опустился в кресло, обхватил пальцами деревянные ручки. — Все понимают, — заговорил он, — что мы на краю пропасти. Понимают и боятся говорить друг другу об этом. И вы понимаете, и я. И выхода нет. Да, Янг, выхода нет. Мы сейчас одни и можем говорить об этом. Янг молчал, не понимая, к чему клонит собеседник. А Ругге, глядя куда-то мимо него застывшим взглядом, продолжал: — Все идет прахом. Жизнь. Мечты. Будущее. Мы скоро ляжем в землю навеки, уйдем в бесконечность. И это неотвратимо. Какая нелепость! Мы жили все это время, как слепые котята. Боже мой, где был наш разум, когда эта чудовищная волна подхватила нас и понесла!.. Мы думали, она выбросит нас к садам Эдема, мечтали о райских яблоках и больше не задумывались всерьез ни о чем. А люди должны думать! Должны! Для того господь наделил их разумом… Чтобы думали… Задумывались… не только о встрече с прародителем Адамом и о его яблоках… о яблонях… Адамово яблоко… Это, знаете, что такое… Это на глотке… Можно и подавиться… Речь Ругге становилась бессвязной. Янг не перебивал его. Почему он стал изливать душу именно ему? Сразу припомнилось, как уговаривал он Янга остаться переночевать у него, провожал остальных гостей. Значит, заранее думал об этом разговоре… Но куда он клонит? Чего добивается? Ругге заметно напрягся и словно чуть протрезвел. — Вы, Янг, пережили все ужасы фронта и больше, чем кто-нибудь из нас, понимаете, что все кончено… Не бойтесь, мы одни! — Откровенно говоря, этот разговор мне не по душе, Пауль, — сказал Янг. — Я — немец, присягал фюреру и буду верен присяге до конца… А тогда к чему все эти речи? — Я тоже принимал присягу и тоже верен… Но есть же у нас мозги, черт возьми!.. — Ругге тер пальцами виски, лоб его беспомощно хмурился. — Я не могу собраться с мыслями, погодите, Янг… Янг курил, исподлобья поглядывая на него. — Ах, да, вот я о чем… Я тоже верен присяге! Да… Да! Я сын своего отечества. Невелика беда сложить голову под дулом вражеского автомата во имя фюрера!.. Но ведь надо думать о будущем. И вы, вы, Янг, первый сегодня заговорили об этом. Кто возродит славу поруганной Германии?.. Кто?.. Кто? Мы привыкли жить сегодняшним днем, отгоняя назойливые мысли от завтрашнего. А надо думать именно о завтрашнем. Вы сами не понимаете, насколько вы правы!.. Германия — это не фюрер и не третий рейх. Думали вы об этом? — Я солдат, — ответил Янг, — и привык думать только о своем долге. — Нет и тысячу раз нет! — театрально воскликнул Ругге. — Вы прежде всего немец, проливший кровь за Германию! И вы обязаны думать о ее будущем! Вы что, испугались этого Клюзе? Этой грязной свиньи?! — Не совсем понимаю, — сказал Янг. — Вы должны уцелеть в этой войне! Вы и я и другие верные патриоты! Не такие, как этот подонок Клюзе. Германия должна сохранить силы, которые возродят ее из пепелища… — Что же нам с вами надо делать? Что? — Я не бескорыстен, Янг… Такова человеческая натура! Все слабости наши от грешной природы… Я знаю: вы богаты… Янг натянуто улыбнулся, пожал плечами. — Не делайте невинной физиономии, капитан Янг! Не обязательно быть психологом, чтобы увидеть, состоятелен человек или нет… — Он перегнулся в кресле, приблизил свое лицо к лицу Янга и зашептал: — Я не спрашиваю, откуда ваш капитал, в золотых ли он коронках расстрелянных русских или в золотой утвари, похищенной из каких-нибудь церквей… Из России либо не возвращаются, либо возвращаются с добычей… И я не осуждаю!.. Вы платили за это кровью… Да и во Франции наши молодцы порезвились!.. Не спорьте, я все хорошо, очень хорошо знаю. Ругге «трезвел» все более. Мозг его работал обостренно. Янг опустил глаза, как бы раздумывая, что ответить. Ругге почувствовал себя победителем и откинулся на спинку кресла. — Мне нужны деньги, не буду скрывать. Я задыхаюсь без денег… Здесь, в Берлине, нет ни возможностей, ни времени для того, чтобы их делать. Вы можете помочь мне, а я — вам… Я могу помочь вам реализовать золото, камни, что там у вас есть!.. Вы не навлечете на себя подозрений… А кроме того, помогу сохранить жизнь, когда у нас начнется пекло… Ставка солидная. Не так ли? Как по-вашему? Итак, Ругге наконец подошел к тому, ради чего начал весь разговор. Откровенно говоря, Янг менее всего ожидал такого оборота дела. Еще не представляя себе всех последствий предложения Ругге, он почувствовал: вот где выпала немалая удача. Так золотоискатель примечает в промытом песке крупинки, слепящие своим блеском. Так геолог, искавший «черное золото», наблюдает за могучим выбросом нефтяного фонтана… Быть может, в других обстоятельствах он с большей настороженностью отнесся бы к словам Ругге. Уж слишком все напоминало ловушку. Но в данном случае интуиция Янга подсказывала ему, что о ловушке речи быть не могло. Перед ним сидел наркоман, готовый на все ради того, чтобы добыть деньги на наркотики! — Вы молчите? — после короткой паузы произнес Ругге. — Вы еще думаете? Другой на вашем месте не раздумывал бы ни секунды. Ведь это выгодно прежде всего вам!.. — Понимаю, Пауль, для вас сейчас главное в жизни — забота обо мне, — саркастически ухмыльнулся Янг. — Конечно, здесь и я заинтересован. Более чем заинтересован. Разве я скрываю?.. Разве я не откровенен с вами? В выигрыше мы, конечно, будем оба… Ну же, решайте! — торопил Ругге. Он явно нервничал. До хруста сдавливал правой рукой пальцы левой. — Вы только что утверждали, что люди должны думать. Для того чтобы думать, нужно время… — О чем думать?! О чем тут можно думать! Ведь, помимо всего прочего, вам некоторое время спустя придется возвращаться во Францию! Там тоже будет пекло. Россия — с одной стороны, Франция — с другой. Неужели вы не отдаете себе отчета, что именно там нанесут удар англичане и американцы! А я берусь обеспечить вам возможность остаться в Берлине. И… — он снова наклонился к Янгу, дыша ему в лицо, и непроизвольно перешел на шепот, — и тогда позабочусь о том, чтобы подготовить безопасное местечко, где можно будет укрыться. Нам обоим… Есть Испания, есть Южная Америка. Это не трусость, Янг, нет! Нет! Повторяю: надо — необходимо! — уже сейчас думать о возрождении Германии после тех потрясений, которые ей доведется пережить. Для этого надо сохранить силы. У меня много друзей среди видных членов нашей партии, и я хорошо знаю, что многие из них уже позаботились о том, как сохранить себя для грядущих дел!.. Янг сделал вид, будто окончательно убежден этими доводами. Но он хотел еще продолжить игру, ибо знал, что в подобного рода ситуациях выигрывает тот, кто проявляет больше выдержки. — Что же вы продолжаете молчать, Янг?.. Или я ошибся в вас?.. В ваших мыслительных способностях! — Не знаю, право, что и ответить. Все очень неожиданно… — Может быть, вы рассчитываете, что сможете реализовать и без моих услуг ценности, не вызвав подозрений? Имейте в виду: государство охотится за золотом, за всеми ценностями, и любая осечка может стоить вам дорого. Вы же знаете, как поступают сейчас со спекулянтами, которые утаивают ценности от имперской казны!.. А у меня есть верные люди, которых можно не опасаться. Будем говорить начистоту: вы нужны мне, я — вам. Вы, надеюсь, поняли это? — В какой-то степени понял. Но где гарантии? — заговорил Янг на вполне деловом языке. — Я не коммерсант, никогда им не был и не буду! Но вас понимаю. Гарантии — мои связи. Не забывайте, я вхож к любому влиятельному лицу. Наконец, мой шеф — один из руководителей противовоздушной обороны Берлина, и вы сами понимаете, что его акции растут с каждым днем… поскольку растет угроза Берлину. А плох был бы тот адъютант, который мог бы меньше своего генерала… У Янга было такое чувство, будто ему в буквальном смысле слова хочется зажмуриться от ошеломляющего блеска невероятной, немыслимой удачи! Вспыхивающие золотым сиянием крупинки в песке двоились, троились, несметно множились у него на глазах… Да ведь в любой, даже самой сложной работе не только одни препятствия и опасности подстерегают нас на пути, бывают же и редчайшие, но удивительные минуты вроде как слепой удачи, везенья, что ли! На них нельзя рассчитывать, но их нельзя упускать!.. — Еще и еще раз, Пауль, мне надо подумать. Вам ясна польза, какую вы можете извлечь для себя. Вот и я хочу как следует — до грамма — взвесить, какую пользу могу извлечь я. Я солдат и не могу соображать быстро, когда речь идет о коммерческой сделке. — Да, я понимаю, что вам надо подумать, — с досадой согласился Ругге. — Только торопитесь! Время работает не на нас с вами. Кажется, я никогда в жизни — никогда! — так не ценил время. Так не чувствовал его бег. Если б можно было его остановить! Но даже фюрер не может этого сделать!.. Я жду вашего ответа не позже завтрашнего дня. Ругге с трудом поднялся с кресла, проводил гостя в отведенную ему комнату и удалился в спальню. Янг лег, погасил свет, но не спал. Он пытался проанализировать, как отложенную шахматную партию, события последнего дня, встречи, разговоры. На это оставалась лишь ночь. Он мысленно вернулся к Клюзе, к его вопросам, которые так напоминали полицейский допрос. Что это, случайность?.. Может быть, действительно профессиональная манера разговаривать?.. А если нет?.. Но Янг отвел эту версию. Если бы у Клюзе были какие-то подозрения, вряд ли он стал бы выдавать себя. Нет. Это, конечно, профессиональная манера, которой Клюзе попросту бравировал, и не только перед Янгом… Потом — Ругге… А нет ли единой цели в действиях Клюзе и Ругге… Но опять-таки в этом случае сотрудник криминальной полиции не стал бы выдавать себя, ибо таким образом сразу же вызвал бы подозрительное отношение к предложению Ругге… Янг привык рассчитывать по возможности все варианты, на много ходов вперед. Если даже предположить, что ему расставляют ловушку, хотя это маловероятно, но предположим, что это так… все-таки стоит вступить в эту игру! Надо учесть и возможность шулерского трюка: в конце концов его запросто могут обвинить в спекуляции награбленным, если Ругге, отчаявшись в попытке завлечь его в свою авантюру, желая отомстить, предаст его… Но каково же решение?.. Он все же заснул. Спал чутко, слышал, как Ругге ночью несколько раз вставал, ходил по квартире… Ровно в семь прозвенел будильник. Ругге был уже на ногах, гладко выбрит. Видно, он уже сделал себе укол: держался бодро, приготовил завтрак, движения его были энергичны. За завтраком Янг несколько неожиданно сказал: — Возвращаясь к нашему ночному разговору, я прошу дать мне еще некоторое время подумать. Все это не так просто. А чтобы не было сомнений в моей искренности, прошу, Пауль, принять небольшой аванс — Он вынул бумажник, отсчитал несколько купюр и протянул Ругге. Тот вначале растерялся. — Пока, до заключения делового соглашения между нами, — продолжал Янг, — будем считать, что вы взяли у меня это взаймы. Отдадите, когда представится возможность. Ругге взял деньги, спрятал в карман кителя. — Спасибо, Янг. Вы выручили, очень выручили меня! Я в крайне затруднительном положении… Но… я жду вашего ответа! — Я постараюсь решить все как можно быстрее. Если нужны будут еще деньги, не стесняйтесь. У меня есть. Я не люблю давать в долг и не отличаюсь щедростью, но вы мне симпатичны. Я с большим уважением отношусь к честным людям. К сожалению, их осталось очень мало. Ругге, пожимая руку Янгу, сказал: — Вы тоже честный человек, капитан Янг. Если я чем-нибудь могу быть полезен, обращайтесь ко мне, как к другу. Друзьям я не отказываю ни в чем.5. Обычная работа
Крупица по крупице собирал Рудольф Янг нужные ему сведения. По этим сведениям предстояло составить единую картину, тщательно выверить ее в целом, все ее детали. Круг его знакомств среди офицеров гарнизона расширялся. Он ловил случайно оброненные фразы, делал сложные умозаключения из, казалось бы, не имеющих отношения к делу реплик, сводил воедино обрывки фактов, тоже как будто лишенных какой бы то ни было связи друг с другом. Порой эта работа напоминала разгадывание ребуса. Заключенный с Ругге «союз» дал возможность совершать поездки, нужные для того, чтобы пополнять недостающие в цепи звенья. Ругге беспрепятственно обеспечивал его пропусками, предоставлял машину. Янг смог побывать во Франкфурте-на-Одере, в Штраусберге, в Либенвальде. Особое его внимание привлекал Одер. Было ясно, что здесь постараются построить главную линию обороны с таким расчетом, чтобы не допустить форсирования Одера советскими войсками. Предположения подтвердились. Из нескольких источников пришли к Янгу данные о тех инженерных работах, которые ведутся на Одере, в основном — севернее Франкфурта. Получавший теперь значительные суммы Ругге не знал, чем и как угодить Янгу. Чтобы подчеркнуть свое полное к нему доверие, даже делился с капитаном некоторыми не подлежащими разглашению сведениями, каждый раз не забывая заметить: — Только, вы понимаете, Рудольф, что это сугубо между нами?.. Это секрет! Янг несколько раз очень осторожно вызывал его на откровенные разговоры. Затевал их как человек, который вправе испытывать естественную тревогу о завтрашнем дне… Ругге только безнадежно махал рукой, рассказывая, что фюрер возлагает большие надежды на какое-то новое оружие и укрепляет Берлин так, чтобы никакая сила не могла сокрушить эти укрепления. От него же узнал Янг, что идут разговоры, будто руководство подготовкой обороны Берлина думают поручить эсэсовцам… Что Берлин разделен по окружности на девять секторов обороны. Причем девятый сектор имеет особое назначение: оборону самого центра столицы, где находятся правительственные здания, рейхстаг, имперская канцелярия. Многое пока держалось в строгом секрете. Об обороне Берлина было запрещено говорить. Красная Армия находилась еще далеко. Пропагандистское ведомство доктора Геббельса пыталось поддержать у населения Германии бодрый дух. На страницах газет и в радиопередачах жителей рейха успокаивали: русские никогда не дойдут до Берлина, в самое ближайшее время будет осуществлен «секретный план» гитлеровского командования, наступит перелом в войне и Россия будет сокрушена. Кое-кто верил в это, некоторые заставляли себя верить, но значительная часть населения понимала, что никаких надежд на будущее питать не следует. Что касается офицеров, то одни, как, например, фон Дейгель, предавались беспробудному пьянству. Другие бесстрастно ожидали грядущих событий, положившись на волю судьбы. Третьи искусственно поддерживали в себе боевой дух, стремясь оптимистически смотреть на жизнь, хотя оснований для оптимизма уже не было никаких. Янг с фон Дейгелем сидели в ресторане «Эрмитаж» на Францезишештрассе. Этот «русский» ресторан открылся в столице рейха после нападения фашистской Германии на Советский Союз. Здесь работали русские повара, в меню была только русская кухня, пели русские певицы. Среди обслуживающего персонала были люди, насильственно вывезенные из России, а также «добровольцы» из числа изменников. Фон Дейгель, как обычно, сетовал на жизнь, ругал все и вся. — Бросьте, Герд, — сказал ему Янг, — нам осталось не так уж долго предаваться переживаниям. Я верю, что скоро наступит перелом в войне и мы еще отпразднуем с вами наши новые победы! Фон Дейгель поставил на стол поднятую было рюмку. — Это вы вправду, Руди? Неужели вы во что-то еще верите? — Не верить нельзя, — ответил Янг. — Когда придет неверие, я пущу себе пулю в лоб. — Тогда это надо было сделать два года назад, — промычал майор. — К вашему сведению, — тихо сказал он, наклонившись к Янгу, — мы начинаем составлять план укрепления берлинских улиц, площадей, домов. Вы понимаете, что это значит? Мы готовимся вести бои в Берлине!.. Это все: крышка. Я был на днях на совещании, где выступал генерал Кребс. Он делал хорошую мину при плохой игре, расписывая план обороны Берлина. Мы-де заставим русских пройти через десяток сильно укрепленных рубежей, чтобы они обессилели, выдохлись, завязли на ближних подступах к городу, где их и уничтожим… Это планы фанатиков, рассчитанные на простачков! — Да, — задумчиво сказал Янг, — вы нарисовали такую мрачную картину, что мне, пожалуй, надо убираться восвояси. Все-таки во Франции будет легче… — Легче, дорогой Руди, нигде не будет. Нам придется отвечать за все! — Ругге предлагал мне оформить перевод в Берлин… Но после того, что вы рассказали, я, право, не знаю, как быть… Может быть, все-таки лучше уехать? — Это все равно. Конечно, лучше попасть в плен к англичанам или американцам, чем к русским. Но я думаю, что до плена нам не дотянуть. А если думать о могиле, то, по мне, веселее лежать в родной земле, рядом с друзьями… — Он замолчал, опустив голову на руки. На эстраде полная брюнетка в длинном вечернем платье под аккомпанемент гитар запела «Калитку». Фон Дейгель поднял голову, мутными глазами уставился на певичку, потом обернулся к Янгу: — Самое обидное, что нас принимают за дураков! Мы, конечно, и есть дураки, потому что верили в свою непобедимость, мечтали стать хозяевами мира! Но оценить себя вправе только мы сами. А когда другие считают нас идиотами — это свинство! Генерал Кребс заявил, что одерско-нейсенский оборонительный рубеж, особенно укрепление Зееловских высот — перед Кюстринским плацдармом, сделает Берлин неприступным. Боже, сколько подобных сказок мы слышали за эти годы! А нас били и били! Наши генералы придумывали новые сказки, а мы верили им! — Вы просто нагоняете тоску, Герд, — сказал Янг. — Нельзя же так мрачно смотреть на жизнь! — Я знаю, что говорю, и если говорю, то только потому, что много знаю… Срок «командировки» Янга кончался. Надо было как-то узаконить дальнейшее его пребывание в городе. Пришлось напомнить Ругге о ночном разговоре, когда тот предлагал заключить «союз». Ругге был крайне заинтересован в Янге, ибо в буквальном смысле слова ежедневно вытягивал из него деньги: наркотики стоили дорого. И конечно, он готов был сделать все, чтобы сохранить Янга подле себя. Кроме того, Ругге всерьез продумывал план бегства из Берлина. Он несколько раз заговаривал об этом с Янгом, напоминая, что следует уже сейчас разработать все детали побега… Учитывая все это, Янг поставил вопрос напрямик. Ругге словно ждал этого вопроса. Он заявил, что Янгу не о чем беспокоиться, все будет оформлено как надо. — Но у меня истекает срок командировки, и первый же патруль, проверив документы, может задержать меня… Ругге заверил, что впишет имя Янга в приказ об откомандировании в Берлин. Ругге действительно оформил все очень быстро. Через несколько дней приказ об откомандировании капитана Янга в распоряжение начальника противовоздушной обороны Берлина был подписан. Ругге сказал, что следует продолжать курс лечения, и даже пошутил, что, когда Янг пожелает получить орден, его друг Пауль сможет при очередном представлении к награде включить в список и его. Янг регулярно посещал гарнизонный госпиталь, принимал по предписанию врачей разные процедуры, но каждый раз при осмотре жаловался, что боли не утихают. Ему назначили ванны, делали уколы, все это фиксировалось в истории болезни. Янг лечился аккуратно: в случае проверки «история болезни» всегда могла подтвердить это. Новая должность капитана Янга открыла ему возможность выезжать в окрестности Берлина, посещать зоны, где дислоцировались части противовоздушной обороны. Он обратил внимание на то, что в ряде огневых точек ПВО снимались зенитные орудия крупного и среднего калибра и перебрасывались в те районы, где возводились оборонительные укрепления. Ругге как-то вскользь заметил, что есть приказ использовать зенитки в противотанковой и противопехотной обороне. Это был примечательный симптом: ощущалась нехватка артиллерии, приходилось ослаблять противовоздушную оборону, чтобы усилить наземную… Непосвященному человеку роль Янга может показаться чересчур скромной. Он не осуществлял внешне эффектных операций — с сюжетами, полными динамики и неожиданных поворотов. Напротив, старался держаться в тени. Но стоит задуматься, какой выдержки, какого мужества стоило человеку в течение длительного времени находиться в самом центре фашистской Германии, среди врагов, выполняя, казалось бы, незаметную, но столь важную и нужную работу!6. Крайний случай
Рудольф Янг пробыл в Берлине уже около трех месяцев. Ему удавалось оставаться вне подозрений. Во всяком случае, анализируя всякий раз поведение окружающих, он не мог заметить ничего такого, что насторожило бы его. Даже сотрудник криминальной полиции Клюзе, с которым он довольно часто встречался у Ругге, не выказывал и тени подозрения по отношению к Янгу. Никто не расспрашивал и Бакмана о его жильце. Между тем в Берлине царила атмосфера всеобщей подозрительности. На улицах рыскали военные патрули, повсюду сновали полицейские шпики в штатском. Любое неосторожно сказанное слово могло послужить поводом для ареста… Чувствуя, как ослабевает влияние нацистской пропаганды, главари третьего рейха все чаще прибегали к террору, запугиваниям, угрозам… Рудольф Янг старался обходить стороной военные патрули, не привлекать внимания шпиков. Он чувствовал, что, хотя достаточно надежно укрепился в Берлине и имел возможность отвести любые подозрения, все же не стоит искушать судьбу. Однако случилось совершенно непредвиденное. В апрельский вечер, когда Янг, возвращаясь к себе, позвонил, как обычно, из автомата Бакману, чтобы убедиться в том, что все спокойно, он услышал в трубке: «Алло!» Это был, как помнит читатель, условный сигнал опасности. Рудольф не узнал голос Бакмана. Может быть, соединение было неправильным? Он опустил еще монету в щель автомата, снова набрал номер и услышал: «Алло!» Сомнений не оставалось: у Бакмана засада! Янг вышел из телефонной будки и зашагал в обратную сторону. Надо было уходить подальше из этого района! Нацисты могли устроить облаву. Шел, опираясь на палку, пытаясь привести в порядок путавшиеся мысли. Что могло произойти?.. Неужели он допустил какую-то оплошность?.. А может быть, Бакман?.. Он вышел на Унтер-ден-Линден, пошел, не выбирая направления, вперед. Надо было подумать, куда деться на эту ночь. Если это провал и за ним слежка, то, конечно, в ресторан идти нельзя… К Ругге? К фон Дейгелю? Но если его ищут, то, конечно, не оставят без внимания и их… Свернул на какую-то улицу и остановился за углом. Постоял немного, убедился, что слежки нет, снова вышел на Унтер-ден-Линден и пошел в обратном направлении. Мозг работал напряженно в поисках нужного решения, отбрасывая непригодные варианты. Но решение не приходило. Идти на риск было нельзя, это значило бы поставить под удар столь успешно начатую работу. Следовало, пожалуй, позвонить Ругге, попытаться по еле заметным интонациям уловить, известно ли ему что-нибудь… Ругге был дома. Янг перебросился с ним ничего не значащими фразами, пообещал заглянуть в ближайшие дни, пожелал доброй ночи и повесил трубку. Нет, ничего особенного в его голосе Янг не уловил. Позвонил фон Дейгелю. Того не было дома, или он спал мертвецким сном: телефон не отвечал. Что же случилось с Бакманом? Эта мысль не давала покоя… Завыла сирена. Прохожие заторопились. Вот-вот должен был начаться очередной воздушный налет. Янг прочитал на одном из домов надпись «Бомбоубежище» и направился туда. По узким ступенькам спустился в тускло освещенный подвал. В одной из комнат стояли кровати, на них спали дети и женщины. В небольшом помещении сбоку, у самого входа, сидело несколько мужчин, переговаривавшихся вполголоса. Янг вошел туда, поздоровался. Ему ответили, продолжая начатый разговор. По доносившимся отрывкам этого разговора Рудольф понял, что речь идет о каком-то лавочнике, которого забрало гестапо за сокрытие больших ценностей… Янг сел на скамейку в углу, прикрыл глаза. Тревожные мысли теснились в голове. Он не заметил, как распахнулась дверь и в комнату вошли двое мужчин в штатском. Подойдя к нему, они потребовали предъявить документы. Один из них отвернул лацкан плаща и показал значок полиции. Янг достал документы. Тот, что показывал значок, осветил удостоверение фонариком. Долго рассматривал, потом протянул Янгу: — Прошу извинить, сами понимаете — служба. Новый человек… Мало ли что может быть… Это была обычная проверка, которую полиция проводила в бомбоубежищах: там можно было обнаружить самых различных людей, случайно застигнутых в том или ином районе сигналом воздушной тревоги. Янг снова прикрыл глаза. Так что же случилось с Бакманом?.. Эта мысль неотвязно сверлила мозг. Самое скверное было то, что ничего невозможно было узнать. Нельзя было даже приближаться к дому, где жил Бакман: если старика взяли, наверняка в его квартире устроена засада. Поручить что-нибудь выведать о происшедшем некому… Успокаивало то, что у Бакмана не осталось никаких его вещей. А в том, что старик ничего не скажет о нем, он был уверен. Нужно было думать о том, как теперь поддерживать связь. Сам Янг не имел права передавать материалы через тайник, а послезавтра надо было выходить на связь… Единственный выход — использовать явку, которую он получил на крайний случай. Теперь как раз тот самый крайний случай… Ни одной из минут удачи, выпадавших на его долю, не упустил Рудольф Янг. Но эти минуты кончились… …Отбой дали около шести утра. Невыспавшиеся, измученные люди выходили из бомбоубежища, каждый моля бога, чтобы его жилище оказалось нетронутым… Янг сполоснул водой лицо над старым, ржавым умывальником, вытерся носовым платком и тоже вышел на улицу. «Сколько же бед и несчастий принесла людям война! — думал он. — Во имя чего выпало человечеству столько страданий? Во имя низменных целей кучки маньяков, грезивших о мировом господстве?.. Когда-нибудь те малыши, которые спали в своих кроватках в оборудованном под бомбоубежище подвале, поймут то, чего не понимали их отцы». В городе было тихо, пустынно. Откуда-то тянуло гарью. Янг зашагал к станции метро на Лейпцигерплац, сел в поезд и долго колесил под городом. Потом вышел на станции Александерплац и направился в сторону Кайзер-Вильгельмштрассе. По пути завернул в маленькое кафе, выпил чашку эрзац-кофе и продолжил свой путь. Было уже девять часов, когда он остановился у одного из ничем не примечательных домов и нажал кнопку звонка, под которой была укреплена медная табличка: «Доктор Штольц». Послышались быстрые шаги, дверь открылась. Перед Янгом стояла миловидная девушка. — Прошу прощения, могу я видеть доктора Штольца? — Вы на прием? Доктор принимает сегодня после трех. — Но мне нужно видеть его, у меня маленькая консультация. Девушка опустила глаза, посмотрела на палку, на которую опирался Янг, и пригласила войти. Янг поднялся на несколько ступенек, миновал еще одну дверь и оказался в просторном холле. — Папа, это к тебе. Доктор вышел в домашних туфлях, с газетой в руке. — Чем могу служить? — Прошу прощения, доктор Штольц. Я знаю, что это не ваша специальность, но мне сказали, что вы даете радикальные средства от подагры. — Кто вам сказал? — Доктор Вольф. Мы были с ним на фронте. Это был пароль. Штольц распахнул дверь кабинета и жестом предложил капитану войти. Янг сбросил плащ и вошел в кабинет. Штольц протянул ему руку. Янг назвал себя, рассказал, что произошло с Бакманом. Доктор Штольц внимательно слушал. — Надо непременно выяснить, что случилось. Я постараюсь это сделать. А вас мы устроим. У меня ключи от квартиры родственника жены, доктора Руха, он на Восточном фронте. Думаю, там вы будете чувствовать себя достаточно свободно. И наконец, связь: видимо, к тайнику, которым пользовался Бакман, выходить больше не следует. Но нужно срочно предупредить об этом связника. Это я тоже беру на себя. Штольц был старым, опытным подпольщиком. Он не был коммунистом, но, как патриот, считал своим долгом участвовать в борьбе против фашизма. Еще в 1934 году он был арестован гестапо. Однако улик против него оказалось недостаточно, и три года спустя он был освобожден из тюрьмы. Некоторое время доктор не принимал активного участия в антифашистской деятельности. Заслужил репутацию вполне лояльного немца. В хранившемся в гестапо досье было даже записано, что, по донесениям осведомителей, доктор Штольц проявлял патриотические чувства, высказывался в поддержку нацизма, признавал, что совершил ошибку, не поняв вначале всей грандиозности планов национал-социалистов. Между тем в годы войны Штольц установил связь с подпольной организацией немецких патриотов — группой Антона Зефкова и Франца Якоба. Эта организация развернула активную антифашистскую деятельность. К весне 1944 года она объединяла восемьдесят подпольных ячеек и групп. Она установила связь с подпольщиками Бреслау, Ганновера, Дрездена, Штутгарта, Дюссельдорфа, печатала листовки, распространяла их в разных районах страны. Впоследствии, когда гестаповцам удалось напасть на след отважных подпольщиков и схватить их, фашистский трибунал в своем приговоре признавал, что коммунисты развернули «столь активную деятельность, что она превратилась в серьезнейшую опасность для государства». Когда решался вопрос о явках для Рудольфа Янга, доктор Штольц и был назван на «крайний случай». У доктора были обширные связи. Занимаясь частной практикой, он принимал у себя в кабинете видных нацистских чиновников, гестаповцев, высших военных чинов. Если бы они могли предполагать, что получаемые от них гонорары доктор передавал на приобретение пишущих машинок, гектографов, на которых печатались появлявшиеся чуть ли не ежедневно в самых разных районах Берлина антифашистские листовки… — Итак, мы все решили. Моя дочь проводит вас до вашей квартиры. К вечеру я попытаюсь узнать что-либо о Бакмане. Штольц позвал: — Анна! В кабинет вошла девушка, открывавшая Янгу дверь. — Познакомьтесь: моя дочь Анна, — сказал Штольц и добавил: — Можете ей доверять. На своей машине марки БМВ Анна отвезла Янга в дом, где ему предстояло жить. Три большие комнаты на последнем, седьмом этаже были обставлены старомодной мебелью. Хотя здесь давно уже никто не жил, в комнатах было чисто. Кто-то, видимо Анна, убирал здесь, поддерживал порядок. — Я оставлю вас хозяйничать. Вечером, думаю, увидимся, — сказала девушка. Проводив Анну, Янг внимательно осмотрел квартиру, проверил черный ход, куда вела дверь из кухни. Потом отправился на Унтер-ден-Линден, из автомата позвонил на службу фон Дейгелю. Тот очень обрадовался, услышав голос Янга. — Я сейчас в кафе Бауэр. Хочу перекусить. Не желаешь составить компанию? — спросил Янг. Фон Дейгеля не пришлось упрашивать. Они позавтракали в кафе, и, когда распрощались, Янг укрепился в уверенности, что, по крайней мере, фон Дейгеля никто о нем не расспрашивал. Если бы нацисты стали разыскивать капитана, живущего у Бакмана, и напали на его след через тех офицеров, с которыми Янг встречался, конечно, фон Дейгель вел бы себя иначе. Нет, пока в этом направлении все было спокойно. Теперь надо было еще встретиться с Ругге, чтобы проверить и его. Расставшись с фон Дейгелем, Янг позвонил Ругге, вызвав его в кафе на Фридрихштрассе. Тот не заставил себя ждать. Янг снабдил его несколькими сотнями марок, и Ругге расцвел… Он пустился рассказывать о том, что предпринимает решительные действия, дабы обеспечить их бегство из Берлина, когда русские подойдут ближе, что уже есть возможность перевести деньги в швейцарский банк. Но Янг возразил: пока не следует торопиться, он верит, что средство, необходимое для того, чтобы не допустить краха третьего рейха, будет найдено. Было очевидно, что и Ругге пока не трогали ни гестапо, ни криминальная полиция. Янг мог с облегчением вздохнуть, хотя понимал: те, кто напал на след Бакмана, не могли не знать, что у того жил некий армейский капитан. Об этом, конечно, рассказали соседи Бакмана. Но если так, то полицейские ищейки должны непременно попытаться разыскать этого капитана. А может быть, они хотят вырвать признание у Бакмана и поэтому не предпринимают активных розысков? Ответ на все вопросы Янг получил вечером. В его новой квартире раздался телефонный звонок. Он поднял трубку и услышал голос Анны Штольц. Она просила его прийти к месту, которое назвала. Янг вышел из дому и пошел по направлению к условленному месту. Вскоре рядом затормозила знакомая машина. За рулем была Анна, на заднем сиденье он увидел доктора Штольца. Янг сел рядом с доктором, машина резко взяла с места. — Нам удалось выяснить кое-что о Бакмане, — сразу же начал доктор. — Он попал в руки гестапо из-за собственной оплошности. Вчера он случайно встретил на улице человека, с которым некогда состоял в одной ячейке. Тот узнал его, остановил, они поговорили и расстались. Бакман не принял мер предосторожности и отправился к себе домой. Ему и в голову не пришло, что старый знакомый, давно ставший «добропорядочным немцем», выследил, где он живет, и тут же сообщил гестапо, что Бакман — подпольщик. Два часа спустя гестаповцы ворвались к Бакману, устроили в его квартире засаду. Затем увезли его с собой. Им известно, что у него жил какой-то офицер вчине капитана. Что говорит Бакман на допросах, пока узнать не удалось. Бедный Бакман! Как нелепо попал он в лапы гестапо!.. Конечно, против него нет достаточных улик. Но в обстановке массового террора от него будут любой ценой добиваться нужных признаний… И хотя Янг был совершенно уверен в Бакмане, однако понимал, что опасность нависла и над ним, над Рудольфом Янгом… Доктор сказал, что, как ему кажется, Янгу следовало бы на некоторое время исчезнуть из Берлина. Гестапо непременно будет искать как сквозь землю провалившегося капитана, жившего у Бакмана. Ведь одно то, что после ареста старика капитан не появился больше у него в квартире, выдает этого капитана с головой. Янг молчал. Он понимал, что решение нужно принять незамедлительно, и, слушая доктора, напряженно думал: как же поступить в этой сложной ситуации?.. Штольц предложил переправить его в Магдебург, где, по имеющимся сведениям, есть люди, у которых он сможет переждать некоторое время, чувствуя себя в безопасности. Янг медлил с ответом. Он просил дать ему возможность все обдумать до завтрашнего утра. Доктор согласился. — Хорошо. Завтра в восемь утра мы встретимся на том же месте, что и сегодня. Янга довезли до Унтер-ден-Линден. Выходя из машины, он оставил свою палку, с которой до сей поры никогда не расставался. — Прошу вас, забросьте ее куда-нибудь подальше! Мне сейчас совсем не нужны особые приметы… — сказал он, прощаясь. Из телефона-автомата Янг позвонил Ругге. К счастью, тот был в этот вечер один. Рудольф сказал, что надо непременно сегодня повидаться, что он хочет приехать. — Я жду вас, — коротко ответил Ругге. Янг объявил Ругге, что завтра должен срочно выехать в Магдебург. Намекнул, что речь идет о реализации кое-каких вещей. Объяснил Янг и то, что не хотел бы привлекать к себе внимание посторонних, а потому расстался с палкой, хотя ходить без нее ему нелегко… Попросил у Ругге штатский костюм, ибо такого рода поездку лучше совершать в гражданской одежде. Ругге понимающе кивнул и предложил любой костюм на выбор из своего гардероба. Янг тут же примерил показавшийся ему подходящим костюм. Костюм оказался впору. Нашелся в гардеробе и светлый пыльник. — Вот! У вас теперь стопроцентно штатский вид! — констатировал Ругге. — Одна опасность: если проверят документы! — сказал Янг. — Ведь я выезжаю без командировочного удостоверения. — Вы плохого мнения о нашей фирме, — улыбнувшись, сказал Ругге. Он открыл ящик стола, вытащил несколько пустых бланков с подписью и печатью и протянул один из них Янгу. — У вас не будет никаких осложнений. Если же кому-нибудь понадобится проверка, дайте мой телефон! — Вы действительно деловой человек! — воскликнул Янг. — С вами можно иметь дело… Утром в назначенное время подкатила машина. Анна приветливо кивнула головой Янгу. Он быстро уселся на заднее сиденье, пожал руку доктору Штольцу. — Я принял решение покинуть Берлин, — сказал Янг. — Очень благодарен вам за помощь, но в Магдебург поехать не смогу: выбрал несколько иной маршрут. Прошу вас, доктор Штольц, выйти сегодня на связь через тайник у озера Мюггельзее. Необходимо предупредить, что больше им пользоваться нельзя! Вот шифровка, которую надо положить в тайник. — Он протянул пластмассовую кассету. Доктор быстро сунул кассету во внутренний карман пиджака. — Как только появлюсь в Берлине, сразу же дам знать. Еще раз спасибо за все! — Сочтемся после победы, — улыбнулся Штольц. В шифровке сообщалось, что Янг на некоторое время отбыл в Лейпциг, чтобы переждать, пока гестаповцы будут вести поиски неведомого им армейского капитана, жившего у Бакмана. Янг назначал время и место для связи. Через некоторое время стало известно, что Хорст Бакман скончался в берлинской тюрьме в результате сердечного приступа после одной из жестоких пыток. У него не удалось вырвать ни единого слова.7. Снова в Берлине
Летом 1944 года Красная Армия заканчивала бои на территории своей страны. Бои вот-вот должны были переместиться на территорию Германии. Крушение надвигалось неотвратимо. Петля вокруг третьего рейха стягивалась все туже. Как признавал позднее фельдмаршал Кейтель, «начиная с лета 1944 года Германия вела войну только за выигрыш времени…» Гитлеровцы нанесли ряд тяжелейших ударов подпольным организациям, возглавлявшимся немецкими коммунистами. В первых числах июля провокатор выдал фашистским палачам руководителей берлинской подпольной организации Коммунистической партии Германии Зефкова и Якоба. Отважные подпольщики были казнены. 18 августа было совершено еще одно кровавое преступление: в концентрационном лагере Бухенвальд злодейски убили вождя немецких коммунистов Эрнста Тельмана. Разгромили лейпцигскую подпольную организацию коммунистов. Архивные документы свидетельствуют, что за короткое время нацисты казнили около 50 тысяч человек. 30 июля 1944 года Гитлер подписал приказ «О терроре и саботаже». В приказе говорилось: аресту и физическому уничтожению подлежат все лица, так или иначе связанные с антифашистским движением. Волна жесточайшего террора прошла по всей стране после организованного в июле генералами вермахта во главе с Штауфенбергом заговора против Гитлера. Заговор был раскрыт, генералы поплатились своими головами. Вслед за ними подверглись расправе тысячи причастных и непричастных к заговору немцев. Во время разгрома берлинской подпольной организации коммунистов были схвачены доктор Штольц и его дочь Анна. После жестоких пыток в застенках гестапо их расстреляли. Когда же начались массовые аресты среди офицеров, подозреваемых даже не в участии в заговоре, а лишь в сочувствии заговорщикам, в армии было зарегистрировано множество самоубийств. Среди тех, кто предпочел пустить себе пулю в лоб, был фон Дейгель. Скорее всего, он не был причастен к заговору, а спустил курок в состоянии крайнего опьянения, найдя тем самым для себя лучший выход. О фон Дейгеле Янгу рассказал Ругге. Он уже отчаялся увидеть Янга в живых, а теперь стал обвинять его в дезертирстве, пугая страшными карами, которые могут обрушиться на голову капитана: ведь Янг как-никак числился в составе службы противовоздушной обороны Берлина. Но когда Ругге получил солидную пачку банкнот, гнев его утих. Он похлопал Янга по плечу и сказал: — Не обращайте внимания, Рудольф! Все это чепуха! Я хозяин положения, и никто никогда не скажет вам ни слова. Но чтобы не навлечь подозрений, я вынужден был получать ваше жалованье, пока вы исполняли мое поручение. Запомните: мое поручение! А насчет денег… пусть это вас не тревожит: мы потом расквитаемся. В тот же день, когда Янг вернулся в Берлин, ему предстояло встретиться со связным, через которого он должен был передать ценные сведения, добытые им на одном из заводов в Лейпциге. Ровно в два часа дня он прогуливался по набережной Шпрее, неподалеку от дворца Вильгельма, с букетом цветов в руке. Проезжавший мимо зеленый «опель» подкатил к тротуару. Янг открыл дверцу и сел рядом с шофером, одетым в черную эсэсовскую форму со знаком свастики на рукаве. Машина тронулась дальше вдоль набережной. Сидевший за рулем человек и был связным. Он расспрашивал Рудольфа об обстановке в Лейпциге, Янг отвечал на вопросы как можно подробнее. Связной — он назвался Вальтером — передал ему привет от людей, готовивших его к подпольной работе в Берлине, и указание: проявлять особую осторожность, беречь себя. Машина возвращалась к тому месту, где ее встретил Янг. Вальтер сообщил, что связь теперь будет осуществляться через чистильщика обуви в отеле «Фюрстенхоф» около вокзала Потсдамербанхоф. Пароль: «Мне кажется, ваш крем отдает синевой». Ответ: «Это просто отсвечивает, господин». Янг был рад, что наконец-то у него будет постоянная связь. Правда, существовал еще один вариант: в исключительном — только в исключительном — случае он имел право воспользоваться радиопередатчиком. Адрес радиста был ему передан раньше. Но это только в исключительном случае! После разгрома подпольной организации немецких антифашистов — гитлеровцы назвали ее «Красная капелла» — пеленгаторы работали без передышки, и пользоваться радиосвязью в Берлине было крайне рискованно… — Ну, пришло время прощаться, — сказал Вальтер и крепко пожал руку Янгу. — Желаю больших успехов! До встречи! — Спасибо. Передайте привет товарищам и благодарность за их заботу, за поддержку… Рудольф шел по набережной, перебирая в памяти все детали разговора с Вальтером. Эта встреча согрела сердце. Ведь за те несколько месяцев, что он провел в фашистской Германии, произошло столько событий, сколько в иное время хватило бы на целую жизнь… Погибли его верные товарищи — Бакман, доктор Штольц, юная Анна… Он сам едва вырвался из железного кольца… А теперь вот опять предстояло работать в Берлине, работать во имя победы, которая казалась уже близкой. Янг не заметил, как оказался у дома Ругге. Они договорились, что он остановится у Пауля на несколько дней, пока не подыщет себе квартиру. Ругге еще не пришел со службы. Янг открыл квартиру оставленным ему ключом. Было нестерпимо жарко. Рудольф принял душ, распахнул все окна и с удовольствием вытянулся на большом кожаном диване в гостиной. Как редко он мог позволить себе расслабиться, отключиться от окружающего, побыть наедине с самим собой, со своими мыслями, избавляясь от постоянного напряжения, не контролируя своих действий! Неужели придет время, когда он сможет всегда быть самим собой, откровенно говорить с друзьями, делать то, что хочется, ничего не опасаясь, не остерегаясь?.. Он задремал. Разбудил телефонный звонок. Рудольф машинально посмотрел на часы: было уже около семи. Он снял телефонную трубку. Звонил Ругге, сказал, что немного задержался, но скоро выезжает. Пауль появился мрачный, усталый, очень бледный. Янг обратил внимание на то, как этот человек постарел всего за несколько месяцев. У него был болезненный вид, под глазами набухшие синие мешки, которые нельзя было скрыть даже под толстым слоем пудры. Морфий, который все в больших дозах употреблял Ругге, делал свое дело. Ругге был зол, неразговорчив, но Янг уже хорошо знал, что через несколько минут, после того как Пауль сделает себе укол, он станет совсем иным. Ругге возился в своем кабинете, плотно прикрыв дверь. Неужели же он думал, что Янг ни о чем не догадывается? Наконец он вышел из кабинета — возбужденный, разговорчивый, стал рассказывать Рудольфу о каких-то малозначительных событиях, случившихся за день, ни о чем не расспрашивая Янга. Надо сказать, тот давно заметил, что Ругге не проявляет никакого любопытства к его жизни, его делам. Что это — просто деликатность или здесь кроется иное?.. Словно угадав его мысли, Ругге неожиданно сказал: — Я никогда не задаю вам, Рудольф, лишних вопросов. Меня не интересует, как вы проводите время. Но вы понимаете, что меня не может не занимать вопрос о реальном осуществлении наших планов. Все надо решать уже сейчас! Конец близок, и, поверьте мне, мы можем оказаться за бортом уходящего корабля. А у меня такое впечатление, что все это вас мало волнует… — По-моему, вы все преувеличиваете, Пауль, и очень мрачно настроены. Я слушал вчера выступление доктора Геббельса по радио, оно было очень оптимистичным. — Боже мой, Янг, вы же умный человек… Не будьте наивным как ребенок! А что бы вы могли и стали говорить на месте доктора Геббельса? Это его обязанность! И даже когда русские будут входить в Берлин, он будет заявлять, что все спокойно и мы близки к победе, как никогда… — Ругге понизил голос: — Мы лихорадочно укрепляем Берлин. Это приказ фюрера. Вы солдат и должны понимать, что к чему. Значит, и фюрер убежден, что последняя битва будет здесь, а не на полях России! А если это так, то только болван и невежда может на что-то надеяться! Будем смотреть правде в глаза: ибо только здравый смысл и реалистический взгляд на вещи — наши союзники в данное время. Надо, надо решать, что делать дальше. Завтра мы можем опоздать. — Но мы, кажется, все давно решили… — сказал Янг. — Послушайте, Рудольф, мы не одни с вами задумываемся о том, как унести ноги и спасти шкуру. Будьте уверены, что многие из тех, кто еще кричит о великой Германии фюрера и о грядущей победе, уже позаботились сделать вклады в нейтральные банки и выбрали маршруты, по которым будут удирать… Надо действовать и нам, пока не поздно. Мы должны встретиться с надежными людьми, которые помогут нам в этом. — У меня нет возражений, Пауль. Я готов. На следующий день Ругге сообщил, что завтра днем они встречаются в ресторане с нужным человеком. Янгу не очень хотелось появляться в ресторане, но другого выхода не было, и он согласился, рассудив, что в обществе Ругге, которого всюду хорошо знали как человека с безупречной репутацией, не вызовет повышенного интереса у полиции. Он пришел вскоре после открытия ресторана и сразу увидел за столиком в дальнем углу Ругге с каким-то человеком в штатском. Ругге представил их друг другу, назвав только фамилии. Протягивая руку, спутник Ругге добавил: «Меня зовут Генрих». Кельнер принес заказ, о котором позаботился Ругге, не очень-то скупясь, благо что расплачиваться предстояло Янгу. Пока кельнер расставлял закуски, Янг исподлобья рассматривал Генриха. Это был плотный, уже в возрасте человек, видимо обладавший незаурядной физической силой: широкие плечи, сильные руки боксера. А два небольших шрама на щеке и на шее говорили о том, что вел он отнюдь не тихую жизнь. Глаза были скрыты за темными очками и массивной роговой оправе, но Янг чувствовал, как сверлят его эти глаза. Однако держался невозмутимо, будто не замечал этого. Они посидели немного, болтая о всяких пустяках. Потом Ругге, рассказывая какой-то длинный и скучный анекдот, неожиданно остановился на полуслове и сказал: — Впрочем, хватит тратить время на пустые разговоры. Пора перейти к делу. Господин Генрих Рошке предлагает нам свои услуги в осуществлении операции, о которой мы с вами вели речь, Янг. — Меня интересует, как он представляет себе это конкретно, — произнес Янг и повернулся к Генриху, готовясь выслушать его. Тот неторопливо вытер салфеткой губы, откашлялся. — Разумеется, господа, вы понимаете, что на данном этапе переговоров я могу информировать вас лишь в определенных пределах… Ругге понимающе кивнул головой: — Нас не надо об этом предупреждать. — Я могу обеспечить вас нужными паспортами, транспортом и соответствующими пропусками для беспрепятственного проезда в Швейцарию. Там вас встретят и помогут перебраться в Испанию. Оттуда, если пожелаете, — в Южную Америку. В Буэнос-Айресе у меня тоже люди, которые помогут обосноваться там, где вы захотите. Вот, собственно, и все, что я могу вам обещать. — Насколько это реально? — спросил Янг. — Ведь пока, как я полагаю, вы практически еще не осуществили ни одной подобной операции? — Ошибаетесь, — возразил Рошке. — Паулю Ругге не рекомендовали бы меня весьма уважаемые лица, если бы они не были уверены во мне. Некоторые заранее позаботились о том, чтобы унести ноги, и я помог им в этом. Конечно, как вы сами понимаете, я не могу распространяться на эту тему, ибо не хочу рисковать головой. Но Ругге имел возможность убедиться, что я не бросаю слов на ветер. — Я коммерсант, Генрих, — возразил Янг. — Вы тоже в своем роде коммерсант, и, вступая в сделку, я должен иметь надежные гарантии. Тем более что речь идет даже не о банкротстве, а о собственной голове. Она мне очень дорога. — Хорошо. Пусть для вас первой гарантией будут паспорта. Какие желаете? Испанские, аргентинские? Могу обеспечить вам любое подданство, чего не сделает ни один король. А я могу. Быть может, вас интересуют, — засмеялся он, — нобелевские паспорта и вы хотите стать «гражданами мира»? Пожалуйста. Вы получите не какую-нибудь липу, а настоящие документы, которые не вызовут сомнения ни у кого. — Волей-неволей нам придется стать «гражданами мира», — заметил Ругге. — Да, но паспорта нам нужны аргентинские, — сказал Янг. — После того как все кончится, паспорта без гражданства будут привлекать внимание. — Хорошо, вы получите то, что требуете. Но учтите, оплата в твердой валюте: доллары, фунты… — А золото? — Нет, с ним много возни. Кто знает, куда меня понесет судьба по волнам житейского моря. Но я могу познакомить вас с людьми, которые купят у вас и золото. Со мной же вы будете расплачиваться твердой валютой. Янг бросил взгляд на Ругге. Тот тянул вино, словно бы и не участвуя в разговоре, который вступил в решающую фазу. Пауль сделал вид, будто во всем доверяется Янгу. Ведь в конце концов расплачиваться предстояло именно ему, Рудольфу. Янг задумался. — Я думаю, мы с вами договоримся, — наконец произнес он. Генрих пожал плечами. — У меня твердая такса. Не думайте, господин Янг, что я испытываю нужду в клиентуре. От клиентов отбоя нет, и если я согласился вести с вами разговор, то только потому, что мне рекомендовали Пауля Ругге уважаемые мною люди. Ведь всем понятно, что конец близок. Пусть еще полгода, год, но вся эта система рассыплется в прах. Я не боюсь говорить с вами откровенно… Коммерция любит ясность. И вот тогда самые чванливые генералы, которые смотрят на нас сегодня свысока, будут ползать на коленях и умолять, чтобы я спас их шкуру. Они будут предлагать мне все: своих жен и дочерей, свои виллы и награбленные драгоценности, потому что я буду властителем жизни и смерти, а такой властью не обладает ни фюрер, ни американский президент. — Ну, раз так, — улыбнулся Янг, — вы меня убедили. Деньги у меня будут недели через две. Если вы сможете все устроить за это время, мы совершим сделку и будем вести дальнейший разговор. Они распрощались. Янг расплатился с кельнером. Генрих ушел, Рудольф и Ругге немного задержались. Ругге был явно доволен. — Что вы скажете? Ловко? — спросил он Янга. — М-да… — промычал тот. — Вот что, Пауль: все это достаточно рискованно, и я, вкладывая деньги, должен быть уверен, что тут дело надежное, что нам не всучат липовые паспорта, с которыми мы сразу же попадемся. Кто такой этот Генрих и кто вам рекомендовал его? — Но вы же доверяете мне, Рудольф? — Да, вам я доверяю. Но в данном случае решается жизненно важный вопрос, и мне надо знать все. Ругге помедлил с ответом, вздохнул. — Ладно. Только — никогда и никому… Я не должен был раскрывать этого никогда и никому. Но мы с вами связаны одной цепочкой. Брат моей жены полковник военно-воздушных сил — старый друг рейхсмаршала Геринга. Он свел меня с Генрихом. Впрочем, кто знает, Генрих он на самом деле или нет. Официально значится как Генрих Рошке, у него свой дом, он принят в самых высоких кругах. Ему бы в руки автомат и — на Восточный фронт, но его никто не трогает, потому что ему покровительствует сам рейхсмаршал. Вот и судите: надежен ли он? — У него внешность гангстера. — Что ж, все возможно. Рейхсмаршал не очень-то разборчив в знакомствах. Ему важно иметь людей, которые служили бы, как верные псы. Но что нам, в конце-то концов, за дело, чем занимался или занимается Генрих Рошке? Мы должны думать о себе, только о себе, о своих интересах. И если он даже беглый каторжник, нам должно быть все равно! — А что он имел в виду, когда говорил, что некоторые уже позаботились унести ноги? — Мне известно, что кое-кто из высоких чинов отправил семьи в неизвестном направлении. Говорят, что об этом проведал сам Гиммлер и пришел в неистовство. Но оказались замешанными его ближайшие сотрудники, и он вынужден был замять дело, чтобы не навлечь на себя гнева фюрера. — Значит, тонем… — Янг покачал головой. — Это же ясно любому здравомыслящему человеку, Рудольф! Только никто не говорит вслух… Это должно быть ясно и фюреру, после того как полковник Штауфенберг подложил ему бомбу своей беспалой рукой… Но у него и у его окружения нет выхода. Они вовлекли Германию в пучину и знают, что придется держать ответ перед нацией… А вот восстанавливать честь нации придется нам. Вот почему — поймите наконец — мы и должны думать не о них, а о себе. Они расстались на улице. Ругге отправился куда-то по своим делам. Янг побродил немного переулками, убедился, что «хвоста» нет, и поехал к Ругге. Там принял душ и блаженно растянулся на диване, по привычке перебирая в памяти все, что произошло за день. Генрих Рошке… Сомнений не было, эта фигура представляет значительный интерес. Ясно, что, воспользовавшись его помощью, постараются сбежать и укрыться в нейтральных странах многие нацисты, которые понимают, что им предстоит нести ответственность за свои преступления… Некоторое время спустя, когда солнце клонилось к закату, Рудольф Янг появился в отеле «Фюрстенхоф», купил в газетном киоске несколько иллюстрированных журналов, потом подошел к чистильщику обуви, уже немолодому мужчине с черной повязкой на глазу. Сел в кресло, поставил ногу на ящичек. Чистильщик ловко заработал щетками. Когда он натер ботинки черным кремом и стал растирать его, Янг как бы между прочим заметил: — Мне кажется, ваш крем отдает синевой. Чистильщик, не задумываясь, ответил: — Это просто отсвечивает, господин. — Может быть, может быть… — пробормотал Янг. Вытащил из кармана пачку сигарет, закурил. Чистильщик попросил у него сигарету. Янг протянул пачку, щелкнул по ней пальцем, чтобы выбить сигарету. Чистильщик осторожно взял сигарету и заложил за ухо. Он до блеска начистил ботинки, поблагодарил, получив несколько монет. Янг встал, кивнул головой и вышел из отеля. В тот же вечер ушло по назначению сообщение Янга о деятельности Генриха Рошке. Янгу вскоре было передано поручение продолжать игру, укрепить контакты с Рошке, поскольку к этому субъекту тянулись нити, соединявшие его со многими видными нацистами, заранее готовившимися спасти шкуру в преддверии неизбежного краха третьего рейха.8. Накануне
Зима в Берлине выдалась на редкость теплая. Неделями висела над городом осенняя морось. Стояли туманы. Низко проплывали серые тучи. Это была последняя зима фашистской Германии. К концу 1944 года Советская страна была почти полностью освобождена от гитлеровских захватчиков, оставивших на полях России миллионы деревянных крестов над могилами своих солдат и все свои надежды на мировое господство. А в январе 1945 года началось генеральное наступление советских войск по всему фронту, окончательно решившее исход войны. Выход Красной Армии за пределы своей страны отрезвил в Германии даже те головы, которым опьянение демагогическими выступлениями фюрера и гитлеровской пропагандой мешало видеть вещи в истинном свете. И хотя ведомство доктора Геббельса изо всех сил тщилось успокоить жителей Берлина, заявляя, что фюрер располагает «секретным оружием», которое поможет сокрушить врага, уже никто в это не верил. В те дни у Янга было очень много работы. Важные сведения по-прежнему получал он от Ругге, который был в курсе всех событий и разговаривал с Янгом откровенно. Ругге оставался прежним. В отличие от своих друзей-офицеров он не предавался отчаянию. Он давно убедил себя в неизбежности такого бесславного конца. А был спокоен еще и потому, что дома у него, в тайнике, лежал аргентинский паспорт и другие необходимые документы, с которыми он мог, улучив момент, расстаться с грешной землей своих предков и перебраться в края, которых не коснулась эта страшная война… Лишь бы не подвел Генрих Рошке, который должен обеспечить отправку двух друзей за пределы Германии!.. Но с Рошке договорились обо всем: его предупредят за день до назначенного срока, вручат половину суммы, которую он требовал, а вторую половину — его сообщникам, которые будут встречать беглецов в Буэнос-Айресе. Что было плохо и выводило Ругге из равновесия, так это то, что все труднее и труднее становилось добывать наркотики. Выдавались часы, когда он мучился, метался, впадал в бредовое состояние. Но, заполучив на черном рынке очередную партию ампул, Пауль словно воскресал — обретал спокойствие, жажду деятельности, строил планы создания немецкой колонии в Аргентине, где, по его убеждению, должна была сосредоточиться лучшая часть немецкой интеллигенции, которая примет на себя историческую миссию «возрождения великой Германии». Он жил этим будущим, презрев настоящее и теперь открыто выражая в кругу друзей, которые нет-нет да и собирались на его квартире, свое возмущение выскочкой-ефрейтором, толкнувшим Германию на край пропасти. Янг отмечал про себя, что даже такой верноподданный, как сотрудник криминальной полиции Клюзе, не возражал… Слушая крамольные высказывания Ругге, Клюзе отделывался молчанием. А еще не столь давно он, не задумываясь, отправил бы друга в гестапо, написав на него убийственный донос, и был бы убежден, что только так и должен поступать истинный немец. Почти у всех друзей и знакомых Ругге, бывавших у него в доме, наблюдал Янг как бы полное истощение духовной энергии, губительное, все прогрессирующее и прогрессирующее внутреннее опустошение. Этот процесс был уже, по-видимому, необратим. Это было похоже на паралич. В начале февраля Ругге предложил Янгу съездить к Генриху Рошке: — Надо напомнить о себе, все уточнить. Ведь этот подлец не остановится перед тем, чтобы нарушить нашу договоренность, если кто-то даст больше. Надо встретиться! Я говорил с ним. Он просит приехать к нему. У Рошке был двухэтажный особняк в глубине большого сада. Они позвонили у ворот, привратник, открывший калитку, спросил: — Господа Ругге и Янг? — и, получив утвердительный ответ, сказал: — Прошу вас, господа, вас ждут. Они прошли по асфальтированной дорожке, поднялись по ступеням крыльца. Сопровождавший их привратник распахнул массивную дубовую дверь, предложил раздеться и провел по мраморной лестнице наверх. Рошке болел. Он принял посетителей в халате, извинившись за свой вид. Приказал подать коньяк. — Мы хотели сообщить, что никаких изменений в наших планах нет, и поинтересоваться, не изменилось ли что у вас? — начал Ругге. Рошке пожал плечами, изобразив на лице недоумение. — Вы меня поражаете, господа! У меня достаточно солидное предприятие. — Но сейчас такое тревожное время. Всякое может случиться. — Время, конечно, сложное. Но все сложности лишь укрепляют мое дело и увеличивают оборот… Вы меня понимаете? — Рошке улыбнулся, обнажив ряд золотых зубов. — Каждый делает свой бизнес. Одни — на счастье ближних, другие — на несчастье. И кто может упрекнуть бизнесмена! Свободное предпринимательство… Рошке произнес некую тираду о сущности предпринимательства. Он всячески подчеркивал, что его деятельность не выходит за рамки закона, а с нравственной стороны-де во всех смыслах богоугодна, так как в конечном счете он делает людям добро! Янг рассматривал гостиную: все здесь было богато и безвкусно, но было и кое-что удивительное. Рошке поймал взгляд Янга, брошенный на одну из картин в золоченой раме, и, не дожидаясь вопроса, прервав свои излияния, похвастался: — Это Гоген. Стопроцентный Гоген. Я приобрел его в Париже. А рядом Брейгель. И тоже стопроцентный. Из Вены. Сам рейхсмаршал не раз покушался на эту картину, просил уступить, но я тоже люблю ценные вещи… Это, знаете, лучшее средство поместить капитал. — Значит, мы надеемся на вас и не будем больше никого искать для реализации своих планов? — вернулся к начатому разговору Ругге. — Я не изменяю своему слову, — ответил Рошке. Посетители поднялись и стали прощаться. Когда они вышли на улицу, Ругге убежденно сказал: — Нет, он не подведет. Только надо выбрать подходящий момент, не дожидаясь, пока русские ворвутся в Берлин. Потом все будет гораздо сложнее. Наш генеральный штаб принимает все меры, чтобы в случае русского наступления на Берлин не дать им возможности взять город в клещи. Но что стоят наши хваленые полководцы, мы знаем по Сталинграду и прочим «блестящим» операциям на Восточном фронте. Надеяться на нашу армию нечего. Надо выскочить из Берлина — и чем раньше, тем лучше! — Но пока об этом думать преждевременно, — возразил Янг. — Думать надо именно сейчас, чтобы не упустить момент. Не предавайтесь благодушию, Рудольф. Мы должны быть бдительны, как никогда. Через несколько дней Ругге присутствовал на большом совещании у начальника генерального штаба сухопутных войск генерала Кребса. Речь шла о подготовке к обороне Берлина. Правда, Кребс, по рассказам Ругге, несколько раз оговаривался: до столицы русские не дойдут, фюрер с его дальновидностью хочет избежать, однако, любых случайностей, а потому и требует, чтобы Берлин был превращен в неприступную крепость. Оговорки генерала не развеяли уныния среди офицеров, собравшихся на совещание. Кребс вновь упоминал о «секретном оружии», которое вот-вот появится на свет и принесет великий перелом в ходе войны. Но даже шеф Ругге, старый армейский служака, когда садились после совещания в машину, сказал адъютанту: — Боятся признаться, что потерпели жестокое фиаско. Мальчишки… Он никогда не был так откровенен с подчиненным. По слухам, которые ходили среди офицеров гарнизона, Гитлер собирался в случае наступления Красной Армии на Берлин поручить командование обороной города Гиммлеру, сделать ставку на войска СС. Ежедневно Янг отправлял свои сообщения, в которых подробно говорилось о положении в гитлеровской столице. В конце марта Янга известили, что на связь с ним выходит уже знакомый ему Вальтер:«Ждите Вальтера на прежнем месте в субботу в два часа дня».Вальтер появился на том же зеленом «опеле». Только на этот раз был в гражданском костюме. Он сказал Янгу, что в очень скором времени его сообщения будут крайне необходимы, а потому, в зависимости от обстоятельств, надо будет перейти на прямую радиосвязь. К тому же нацисты, конечно, будут уже не так рьяно заниматься пеленгацией посторонних радиопередач: им будет не до этого. Адрес радиста — прежний. На этот раз встреча была совсем короткой. «Опель» затормозил у того самого места на набережной Шпрее, где его ожидал Янг. Рудольф вышел и стоял, провожая машину глазами, пока она не скрылась из виду. Потом медленно пошел в другую сторону. Наступали самые горячие для Рудольфа Янга дни. Назревали решающие события второй мировой войны.
9. Финал
16 апреля 1945 года сорок тысяч советских орудий, обрушивших свой огонь на гитлеровские укрепления, возвестили о начале великого сражения — битвы за Берлин. Фашисты сопротивлялись отчаянно, защищая каждый клочок земли. Всеми силами стремились сдержать натиск Красной Армии, но мощь наступления была такова, что остановить его было уже невозможно. Пал Кюстрин. 17 апреля советские воины овладели Зееловскими высотами и прорвали вторую полосу оборонительных сооружений. Войска фюрера отступили за внешний обвод Берлинского района обороны. Их целью было с помощью заранее созданных оборонительных укреплений удержаться здесь. Однако удары советских войск сметали на своем пути все преграды. Вскоре разгорелись бои на окраинах Берлина… Ругге торопил Янга: сейчас все решали часы. Русские обошли город, и железное кольцо может вот-вот сомкнуться. Тогда придется распроститься с надеждой удрать отсюда. Город накануне падения. Вся жизнь в нем парализована. Не работает городской транспорт, остановились поезда метро, которое превратилось в убежище для мирных жителей, спасающихся от бомб и снарядов. Прекратили подачу света и газа. Берлин погрузился в темноту. Поздно вечером Янг пробирался на западную окраину. Город был окутан мглой. Приходилось идти медленно, тихо, с опаской, заслышав подозрительный шум — прижиматься к стенам домов. Уже выйдя на нужную улицу, Рудольф запутался: никак не мог в темноте отыскать дом, куда он шел. Наконец отыскал! В доме помещался небольшой антикварный магазин. Рудольф нащупал кнопку звонка, трижды нажал ее и услышал, как в двери щелкнул замок. Выставив вперед руки, он прошел внутрь, благополучно одолел несколько ступенек. — Кромешная тьма! — проговорил он. — Неужели в антиквариате не найдется хотя бы средневековых светильников? — Увы, их расхватали, — послышался глухой женский голос. (Это был пароль.) — Дайте руку, я проведу вас. Он последовал за женщиной, и они оказались в слабо освещенной несколькими свечами комнате, где за столом сидел бородатый человек в военном мундире, с погонами унтер-офицера. — Здравствуйте, Магда, здравствуйте, Франц, — поздоровался Рудольф, усаживаясь за стол. — Какие новости? — Это мы должны расспрашивать вас о новостях, Рудольф, — ответила женщина, наливая ему чашку кофе. — Мы здесь — как на необитаемом острове. Расскажите хоть вы: что там, в городе? — А вы разве не слышите грохота орудий? Все идет к концу, я даже быстрее, чем можно было предположить. Командование обороной города принял генерал Вейдлинг. Но что он может сделать? Бои идут уже в городе, танки подходят к Потсдаму, и кольцо сжимается с каждым часом. — Боже мой, даже не могу поверить… — вырвалось у Магды. — И тем не менее совсем скоро мы пройдем с вами, Магда, по Унтер-ден-Линден, не опасаясь, что за нами увязался «хвост», не будем настораживаться, заслышав шаги за дверью… Придется привыкать к мирной тишине!.. Франц был заброшен в Берлин несколько месяцев назад и, удачно миновав все преграды, добрался до этого антикварного магазинчика, где его хозяйка фрау Магда давно поджидала радиста. Две предыдущие попытки забросить радиста в Берлин оказались неудачными. Первый, выброшенный с парашютом, сразу же наткнулся на полицейский патруль, вступил в перестрелку и погиб от пули. Второй добрался до города, но где-то проявил неосторожность, вызвал подозрение и был схвачен гестаповцами. Его подвергли страшным пыткам. Он не проронил ни слова и погиб, не выдав товарищей. У Франца все сошло благополучно, и он обосновался в подвале магазинчика, который вряд ли мог привлечь к себе чье-либо внимание. Более четырех десятков лет магазинчиком владел отец Магды, Ганс Руш, старый антиквар, самозабвенно любивший свое дело. Получив довольно скромное наследство, он все его вложил в свой магазин, проводя в этих стенах чуть ли не все время. Прибыль от «дела» получал скудную, еле-еле сводил концы с концами, но даже в самые трудные минуты буквально светлел, если удавалось раздобыть какую-нибудь редкую вещицу… Он так и умер в первый год войны, приобретая по случаю редкий витраж работы итальянских мастеров: упал прямо в магазине, около этого витража. После смерти Руша хозяйкой магазина стала его дочь Магда, с которой они жили вдвоем тут же, в подвале. Старик любил дочь, она тоже души не чаяла в нем, быть может, потому и замуж в свои тридцать четыре года так и не вышла: чтобы не оставлять его одного. Но не знал, не ведал старый антиквар, что его Магда связана с антифашистами, что его магазинчик служит местом хранения нелегальной литературы, а многие из тех людей, которые появлялись в подвале и с видимым интересом рассматривали редкие вещицы, приходили сюда вовсе не из любви к старине, а чтобы получить кипу листовок или других нелегальных изданий… Магда была связана с подпольной организацией Антона Зефкова и его товарищей. После разгрома организации она ожидала ареста. Но провокатор, выдавший подпольщиков, видно, ничего не знал о ней. Благодаря этому Магда и уцелела. Когда было твердо установлено, что Магда вне подозрений, решили использовать антикварный магазин для того, чтобы в нем принять радиста. Магда сразу же согласилась. …В эту же ночь Франц передал сообщение Янга о положении в Берлине, о попытках нацистов заключить секретное соглашение с англичанами и американцами… Было уже известно, что Гиммлер послал в Швейцарию обергруппенфюрера Карла Вольфа, чтобы попытаться установить контакты с командованием англо-американских войск, убедить в необходимости заключить сепаратный мир. Было известно также, что настойчиво ищут связи с генералом Эйзенхауэром и фельдмаршалом Монтгомери Геринг и Риббентроп. И наконец, что некоторые весьма влиятельные лица в США и Великобритании оказывают давление на свои правительства, подстрекая их к переговорам с нацистским руководством. Янга просили не ослаблять внимания к Рошке, в руках которого были сосредоточены очень ценные данные о крупных нацистах, готовящихся к бегству из Берлина. И еще раз напомнили о предельной осторожности в эти решающие дни. Янг сжег в пепельнице текст сообщения, примял пальцами пепел. — Надо подумать, Магда, о месте следующего сеанса радиосвязи, — сказал он. — Зачем? Вряд ли сейчас фашисты найдут время и силы, чтобы пеленговать наши передачи. — Вы слышали, что требуют максимальной осторожности. Это приказ, и его надо выполнять. Осторожность еще никогда никому не мешала. Магда пожала плечами. Ее поддержал Франц: — Я тоже думаю, что сейчас нет смысла искать новое место. Гестаповцам не до нас… — Мы должны быть прежде всего дисциплинированными. Мы должны исключить любую возможность провала. Любую! — твердо сказал Рудольф. — И не будем спорить на этот счет, друзья. Приказ есть приказ… Бои перемещались по направлению к центру города. Во многих зданиях в результате бомбардировок вспыхивали пожары. Черный дым стлался над улицами и площадями. Янг с трудом добрался до дома Ругге. По привычке оглянулся, прежде чем войти в подъезд. Улица была пустынна. Отдельные фигуры появлялись на тротуарах, торопливо перебегая от дома к дому. По всей длине металлической ограды на другой стороне улицы протянулся лозунг Геббельса:«Берлин останется нашим!»Ругге набросился на Янга: — Где вас носит, Рудольф? Мы потеряем все! Вы знаете, что русские заняли Темпельхофский аэродром? Рошке сам собирается бежать. О чем вы думаете?!. — Вы договорились с Рошке о сроке? — Да, да! Завтра в девять утра он подаст свою машину к нашему дому. Я не знаю, как он вывезет нас из Берлина, но условие — никаких вещей, никаких чемоданов, чтобы не привлекать внимания. Я на всякий случай оформил для нас пропуска по своей линии. Мало ли что!.. — Успокойтесь, Пауль. Сейчас не время распускать нервы. Главное — хладнокровие. — Какое хладнокровие!.. Вы посмотрите, что делается вокруг! Вы что, не видите?! Все летит к черту… Надо немедленно выбираться из этого ада! — Вот и будем выбираться. А пока, Пауль, мне нужна машина. — Едем к нам в управление, и берите любую. Там они стоят на приколе, потому что всех солдат-шоферов заставили взять в руки автоматы. Час спустя, оставив Ругге в управлении, Янг сел за руль старого «опеля» и направился к Рошке. Он несколько раз останавливался, пропуская колонны «тигров» и «фердинандов», тянущихся с запада на восток, объезжал полыхавшие здания. Наконец остановил машину около чугунной ограды дома Рошке и позвонил. У калитки появился тот же привратник, который встретил их с Ругге во время первого посещения Рошке. — Мне нужно видеть господина Рошке. — Он никого не принимает. — Но мы договорились с ним о встрече. — Простите: ваша фамилия? — Это не имеет значения. Он знает меня. — Но не велено пускать никого! — Привратник хотел захлопнуть калитку. Янг, успевший просунуть ногу в узкую щель, с силой рванул калитку на себя. Привратник преградил ему путь. Янг выхватил револьвер, сильным ударом рукояткой по голове свалил его и поспешил к дому. Он взбежал на второй этаж, никого не встретив по пути. Распахнул дверь в гостиную. Но и там никого не было. Прошел несколько комнат — нигде ни души. Неужели Рошке сбежал?!.. Почему тогда привратник сказал, что господин никого не принимает?.. Янг обратил внимание, что всюду был безукоризненный порядок. Или — образцовый слуга… или хозяин все-таки дома!.. Вернулся в гостиную, осмотрелся вокруг и вдруг заметил неплотно прикрытую потайную дверь в книжном шкафу, осторожно приоткрыл ее, шагнул вперед, натолкнулся на вторую дверь. Повернув ручку, он увидел винтовую лестницу, ведущую наверх. Тихо поднялся. Маленькая площадка там, где кончалась лестница, была перегорожена тяжелой бархатной шторой. Осторожно отодвинул край шторы и увидел небольшую комнату без окон и Рошке, перебирающего бумаги в открытом сейфе. Откинул штору и вошел, держа револьвер наготове. Рошке резко повернулся, успев захлопнуть дверцу сейфа. Он был бледен, не мог выговорить ни слова. Лишь придя в себя, задыхаясь, выкрикнул: — Кто вас впустил сюда? Как вы смели!.. Убирайтесь вон! — Спокойно, Рошке. Надеюсь, вы поняли, что вам придется говорить? — Что вам надо? — прохрипел Рошке вне себя от ярости. — Мне нужно знать, кого вы собираетесь вывозить из Германии. Мне нужно знать, кто ваши сообщники. Кто с вами работает? Каким образом вам удается беспрепятственно пересекать границу? — Ты слишком много захотел, мальчик. Может, ты решил сделать игру на моих картах? Не выйдет. И своей игрушкой меня не запугаешь. Меня пугали многие, но под конец пугались сами. — Рошке демонстративно повернулся к Янгу спиной, сделал несколько шагов в глубь комнаты и сел в обтянутое красным шелком кресло, закинув ногу на ногу. — Я повторяю, Рошке, что не уйду, пока не получу тех сведений, которые меня интересуют. И пугать не буду. А просто пущу вам пулю в лоб. Решайте, у вас мало времени. Ну!.. — Ты уже получил мой ответ и, если хочешь, чтобы я простил твое нахальство, убирайся вон. — Рошке взял с журнального столика пачку сигарет, вытащил одну зубами и, чиркнув зажигалкой, закурил, сделав глубокую затяжку. Янг заметил, как подрагивают у него пальцы. Нет, Рошке был не таким спокойным, каким хотел казаться. — Я повторяю еще раз… — Янг повысил голос, щелкнул предохранителем. — А для чего тебе знать все это? Каждый делает свой бизнес… Постой… а может быть, ты шпион? Интеллидженс сервис? — Хватит кривляться! — Янг шагнул к Рошке. — Считаю до трех. Раз… Два… — Стой!.. — Голос у Рошке сорвался. Видимо, только сейчас он ясно осознал, что разговор идет нешуточный. Он исподлобья испытующе взглянул на Янга и понял: этот человек не отступит от своей цели. — Что вам надо? — глухо выговорил Рошке. — Я уже сказал. — Зачем все это? Ведь вы не сможете без меня воспользоваться моими каналами. — Небудем вдаваться в подробности, что и зачем. Бери перо, бумагу и пиши. Запиши всех, с кем договорился, от кого получил задаток, кому сделал паспорта. Рошке взял из стопки бумаги чистый лист, протянул руку за авторучкой, но продолжал сидеть не двигаясь. — Ну! — прикрикнул Янг. — Или ты собираешься играть со мной в кошки-мышки? Рошке стал писать. Янг видел, как одна за другой появлялись фамилии нацистских чиновников, военных чинов… Многие были известны Янгу. Места не хватило, и Рошке перевернул лист. — Учтите, если вас подведет память и что-то будет упущено, я сохраню за собой право выпустить в вас пулю при первой же встрече, — предостерег Янг. — А эту встречу я постараюсь устроить, куда бы вы ни скрылись. Кто занимается отправкой ваших беглецов из Швейцарии и Италии? — Несколько святых отцов из Ватикана. — Пишите их фамилии. Где достаете заграничные паспорта? — У нас повсюду свои люди. Они добывают паспорта. Это обходится в солидную сумму. — Кто обеспечивает прием в Буэнос-Айресе? — Аккерман. Он бизнесмен, давно живет в Аргентине. У него связи. — Кто еще? — Я в контакте только с Аккерманом. Знаю, что у него есть люди. Дело поставлено солидно. — Пишите. Все пишите. И поставьте свою подпись. Учтите, если что-нибудь утаите — а у нас есть способ проверить, — все те, от кого вы получили задаток, сегодня же будут оповещены, что вы шарлатан и авантюрист. Тогда плакали ваши денежки! Будете честны — получите возможность урвать с них солидный куш. Господин Аккерман достаточно умен: он не стал вилять, а дал нам нужные сведения сразу. Ибо для него главное — деньги! Рошке поднял глаза на Янга: — Вы, значит, и его?.. — Он быстро вычеркнул несколько фамилий из списка и вписал новые. — Смотрите, смотрите, Рошке! — продолжал Янг. — Если ваши данные не сойдутся с данными, которые нам дал Аккерман, это будет означать, что кто-то из вас двоих пытается нас обмануть. — Клянусь честью, я пишу сущую правду. Если что-то не так, то это — Аккерман… — Не будем говорить о чести! Помните только, что я вас достану из-под земли… — Вы Интеллидженс сервис? Или Америка? А может быть, вы русский? — Ни то, ни другое, ни третье. И в конце концов, ваше дело — бизнес, а не политика. Рошке протянул Янгу исписанный лист. Тот взял бумагу и быстро сунул ее в боковой карман. — А теперь десять минут не выходить из комнаты. Поняли? — Понял, — промычал Рошке. Янг быстро спустился по винтовой лестнице, через тайник вышел в гостиную, запер дверь на ключ, торчавший в замочной скважине, положил его в карман. Вышел в сад, направился к воротам, сжимая в кармане рукоятку револьвера. Тело привратника лежало у калитки. На улице было пустынно. Старый «опель» стоял на месте. Янг открыл дверцу, сел в кабину. Проехав несколько кварталов, покружив по переулкам, он остановился в одном из них, достал платок и вытер с лица пот. Только сейчас он почувствовал страшную усталость. Закурил сигарету, несколько раз глубоко затянулся и снова взялся за руль. …— Ну что ж, Франц, сегодня придется опять выходить на связь. Есть очень ценный материал. Выйдем на связь ночью. Место, думаю, найдем, благо у меня еще до утра машина, с которой, как ни жаль, придется расстаться. Сегодня мы можем доложить, что все задания выполнены, и ждать… Ждать! У Янга редко выпадали свободные минуты. А сейчас до вечера он был абсолютно свободен. Он даже предложил Францу сыграть партию в шахматы. Магда принесла им инкрустированную доску с выточенными из слоновой кости фигурами работы японских искусников. И мужчины ушли в мир шахматных баталий. Потом они слушали радио. В эфире гремели воинственные марши, передавались призывы к населению — не щадя жизни, сражаться за столицу, сообщалось о том, что армия генерала Венка вот-вот соединится с 9-й армией и это сорвет планы русских… К вечеру Янг позволил себе прилечь. Он хотел вздремнуть, зная, что ночью предстоит работа и, скорее всего, не придется сомкнуть глаз. Но сон долго не шел. Рудольф живо представил себе, как будет метаться завтра утром Ругге, которому, конечно, теперь не выбраться из Берлина, а следовательно, придется расстаться и с бредовыми реваншистскими идеями о будущей «великой Германии» без фюрера, но с ее «верными сынами», которые еще до окончания войны, поняв, что нацизм потерпел крах, стали думать о том, как возродят страну укрывшиеся в тени соучастники всех нацистских преступлений… В жилах Ругге текла прусская кровь. Вместе с ней он унаследовал старые прусские идеи и традиции его титулованных предков. Потому-то и к фюреру с его окружением Ругге относился как к выскочкам, хотя до поры до времени беззаветно служил им, стремясь убедить себя в том, что именно фюреру суждено принести славу Германии… Рудольф думал о Бакманах, Штольцах… Сколько прекрасных, отважных людей отдали свою жизнь за подлинную свободу Германии! Надо было обладать исключительным мужеством, преданностью великим идеям, чтобы в атмосфере разгула фашистского террора вести справедливую борьбу. Надо было очень сильно верить в победу, чтобы в дни, когда, казалось, замыслы фюрера о мировом господстве были близки к осуществлению, вступить в эту неравную борьбу, рискуя жизнью буквально каждый час, все время находясь на краю пропасти… Осталось ждать совсем немного! Судя по орудийному грохоту, бои шли уже близко от центра города. Эти последние часы ожидания были особенно томительными. Янг посмотрел на часы: уже девять. Он поднялся с кушетки, растолкал прикорнувшего в кресле Франца. В комнату вошла Магда. Она ожидала на кухне, не желая беспокоить мужчин прежде времени. — Нам скоро пора собираться, — сказал Янг. — Погодите, я сварю кофе. Они выпили кофе. Франц стал прощаться. — Нет, нет, — остановил его Рудольф, — никаких прощаний! Мы же уходим ненадолго. Ждите нас, Магда, и обязательно приготовьте к возвращению еще кофе! В вашем исполнении даже этот противный эрзац кажется настоящим «мокко»! В эту ночь поступило последнее сообщение от Рудольфа Янга. Сообщение очень важное, позволившее задержать нескольких крупных военных преступников, пытавшихся уйти от возмездия, укрыться в далеких странах под чужими именами. Янгу было приказано прекратить работу. Он получил на этот раз единственное задание — позаботиться о том, чтобы оградить от опасности себя и своих товарищей.
* * *
В те дни, когда оставались считанные часы до конца истории третьего рейха, я получил задание вылететь в Берлин, чтобы встретиться с работавшими там подпольщиками, среди которых был и Карл Штайнер. Прибыв в Берлин в День Победы, я приложил немало стараний, чтобы узнать о судьбе Штайнера и его товарищей. Ни Штайнер, ни Франц, ни Магда не давали о себе знать. С Вальтером, выполнявшим в трудные военные годы сложную обязанность связного, мы проехали на улицу, где должен был находиться антикварный магазинчик, ставший последним убежищем Карла Штайнера. Вся улица была в развалинах. Нам рассказали, что, когда советские танки входили на эту улицу, ураганный артиллерийский огонь гитлеровцев сровнял с землей почти весь квартал. Что же стало с Карлом Штайнером и его помощниками? С помощью немецких товарищей мы настойчиво пытались найти ответ. Мы спрашивали наших воинов, которые вели бои в этом квартале, уцелевших жителей близлежащих домов… И в конце концов смогли составить представление об обстоятельствах гибели отважных подпольщиков. В тот самый день, когда начались бои в квартале, где был антикварный магазин, и на улицах появились советские автоматчики, прикрываемые танками, вступили в бой с отступавшими гитлеровцами и покинувшие свое убежище подпольщики. Один из очевидцев, советский капитан, которого удалось разыскать уже после войны, рассказал: путь нашим бойцам преградила засевшая за каменной стеной одного особняка группа фашистских автоматчиков. Но вот неожиданно откуда-то сбоку появились двое мужчин в гражданской одежде, с автоматами на груди. Швырнув несколько гранат, они заставили замолчать гитлеровских солдат… В этот момент ударили вражеские орудия. Снаряды разорвались и в том месте, где были эти двое… Двадцать лет спустя после разгрома фашистской Германии вновь побывал я в Берлине. Пригласившие меня немецкие друзья сделали все, чтобы советский гость как можно больше увидел, узнал о жизни сегодняшней, демократической Германии. То короткое время, которое я провел в Германской Демократической Республике, было насыщено до отказа… И все-таки я выбрал время, чтобы пройти одному по улицам Берлина, остаться наедине со своими мыслями, вызвать в памяти образы моих товарищей, которые работали здесь в самые трудные годы Великой Отечественной войны. На развалинах поверженной столицы третьего рейха вырос прекрасный современный город, возведенный руками свободных немецких тружеников. Улицы были залиты солнцем. Повсюду слышался детский гомон — юные жители Берлина отправлялись в школу. И я подумал: как был бы счастлив Карл Штайнер, если бы смог увидеть Берлин в это весеннее, солнечное утро!.. Он очень любил свою страну, свой народ, он так мечтал увидеть Германию свободной! Этому он посвятил всю свою жизнь и, не задумываясь, отдал ее. Отдал за то, чтобы его страна стала такой, какой она предстает сегодня. За ее детей. За ее солнце.ШЕСТЬ КОЖАНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ
1. Гром
Достоин того, чтобы о нем рассказать, подвиг Викентия Марчковского. Так уж случилось, что судьба этого поляка тесно переплелась с боевыми делами Бригады особого назначения, которой я командовал, и Викентий Марчковский в значительной степени помог выполнению важного задания, которое было поручено нам. Мы разгадывали планы оккупантов по уничтожению партизан, направляли их нередко по ложному следу, и карателям никак не удавалось нас уничтожить. Несмотря на яростные попытки гитлеровцев навести порядок у себя в тылу, партизаны продолжали дерзкие вылазки, оставаясь, по сути дела, хозяевами положения. Взлетали на воздух вражеские эшелоны, на пути передвижения фашистских войск оказывались засады, горели гитлеровские склады… В конце зимы 1943 года мне было предложено начать поиски путей к тем людям, которые держат в руках, хранят, перевозят оперативные планы фронта. К весне 1943 года на всех фронтах обстановка изменилась в пользу нашей армии. С момента перехода в контрнаступление под Сталинградом советские войска разгромили более ста вражеских дивизий. Гитлеровцы делали все возможное, чтобы изменить ход событий. Разрабатывались оперативные планы фронтов, предполагавшие прежде всего наступательные действия. Враг хотел взять реванш за поражение под Сталинградом. Против Красной Армии к лету 1943 года действовало около пяти с половиной миллионов солдат и офицеров, почти шесть тысяч танков и самоходных орудий, три тысячи самолетов… Советское командование готовилось к новым битвам. Но для этого необходимо было знать о замыслах противника. Гитлеровцы проводили специальные обманные операции, чтобы скрыть свои истинные намерения. Часто устраивались ложные перегруппировки войск. Все это делалось для того, чтобы дезориентировать советское командование. Генеральному штабу Красной Армии было отдано распоряжение: заранее установить места сосредоточения главных группировок противника, определить направление, на котором гитлеровцы предполагают развернуть решающее наступление. Конкретное задание получили и мы. Я обсуждал с командирами боевых групп разведчиков детали нового задания, когда в землянке появился боец, доложивший, что ему удалось поймать в лесу фашистского офицера — не то генерала, не то полковника! А было это так. Человек в шинели фашистского офицера, подбитой дорогим мехом, оказался в расположении нашей бригады. Увидев среди нетронутого в лесной чаще снега лыжню, он остановился и огляделся по сторонам. Он догадался, что набрел на одну из партизанских тропинок. Чтобы попасть на нее, он прошел десяток километров по глубокому рыхлому снегу, пробирался через бурелом, чащу!.. Первый же партизанский пост задержал его. А он поднял руки и заговорил по-русски с едва уловимым акцентом: — Я сам иду к вам, видите?! Я должен говорить с вашим командиром! Партизан обшарил карманы пленного, извлек пистолет и запасную обойму и сказал: — А как же! Такую важную птицу обязательно командиру покажем! — Да! Только к командиру меня ведите! — Другого оружия нет? Офицер устало покачал головой. — Плохо будет, если обманул! — пригрозил партизан, продолжая обыск. Убедившись, что оружия действительно нет, он подтолкнул офицера в спину, коротко приказал: — Иди! Теперь, докладывая о случившемся, боец говорил: — Сам ко мне в руки шел: веди его к командиру, да и только! Я приказал привести пленного. Пригнувшись в дверях, чтобы не задеть головой за балку, он вошел в землянку. У офицера отличная военная выправка. Сразу видно, что это кадровый военный. В землянке было жарко от накалившейся печки. Офицер снял перчатки. И, не дожидаясь, пока ему предложат, сбросил шинель. Перед нами стоял человек в форме полковника старой польской армии. — С кем имею честь? — спросил он. Ему ответили: — Вы перед командиром партизанской бригады. — Разрешите представиться! — Он выпрямился. — Я Викентий Марчковский, поляк, бывший полковник маршала Рыдз-Смиглы. Он умолк, наблюдая, какое это произведет впечатление. Но никто из командиров бригады удивления не проявил. — С первых же дней войны, — начал свой рассказ Марчковский, — немцы предложили мне, как и некоторым другим высшим чинам бывшей польской армии, сотрудничать с ними. В душе я с гневом отверг это предложение. Но не выдал себя, сообразив, что, пользуясь известным положением, их доверием и даже покровительством, я смогу принести какую-то пользу моему народу… На территории Польши мне удалось найти людей, которые вели борьбу против немецких оккупантов. Среди них большинство оказалось коммунистами. Наблюдая за ними, видя их мужество, самоотверженность в борьбе, я пришел к убеждению, что, кроме коммунистов, сейчас нет другой силы, способной объединить всех антифашистов и направлять их действия. Немецкое командование предложило мне поехать в качестве военного консультанта в Западную Белоруссию, так как я отсюда родом и, кроме того, когда-то командовал здесь дивизией. Я дал согласие… Нет, не подумайте, что все произошло так легко и просто! Я никогда раньше не разделял взглядов коммунистов. Но когда твоя земля пылает, когда ее топчет фашистский сапог и ты видишь, кто, не щадя себя, поднимается на ее защиту, невольно начинаешь задумываться: а не заблуждался ли ты раньше?.. Полковник глубоко вздохнул. Видно было, что он очень утомлен дорогой, замерз и голоден… Мы предложили Марчковскому сесть. Бойцы принесли полковнику хлеба и кружку кипятку. Грея озябшие, красные пальцы об алюминиевую Кружку, он пил небольшими глотками. Потом стал есть хлеб. Хотелось верить этому поляку. Однако сразу возникали многие «но». В 1935 году Пилсудским была незаконно введена новая, фашистская конституция, установившая режим личной диктатуры главы государства. Он приблизил к себе маршала Рыдз-Смиглы, который впоследствии стал его преемником: после смерти Пилсудского — фактически диктатором Польши. В тогдашнее правительство были введены военные. Армия в лице ее высших чинов поддерживала буржуазное правительство. После гитлеровской оккупации некоторые высшие офицеры привлекались фашистами как консультанты в войне против Советского Союза. Использовались для этого наиболее реакционно настроенные офицеры, считавшие, что Украина и Белоруссия должны быть польскими. В то же время в Польше, как известно, существовало широкое Движение Сопротивления. Оно было неоднородным: были коммунисты, подлинные интернационалисты, но были и элементы реакционные — эти действовали по указаниям эмигрантского польского правительства, находившегося в Лондоне. … — Скажите, я попал к Неуловимому? — поев, спросил полковник. — А что вы знаете о Неуловимом? — Например, то, что за его голову обещано сто тысяч марок. — Ну, об этом знают многие. Фашисты повсюду разбрасывают листовки… А что вам еще известно о Неуловимом? — Я знаю многое. Я специально собирал все сведения. Партизаны уничтожили секретный эшелон с новейшей техникой — «пантерами» и «тиграми», — следовавший на фронт. После этого у меня уже не было сомнений, что Неуловимый, несмотря на то что много раз сообщалось о его гибели, жив, что это его рук дело. А ведь совсем недавно, после того как полковник танковых войск фон Зигфрид попал в засаду Неуловимого, группенфюрер СС генерал-лейтенант фон Готтберг докладывал в Берлин, что окружил и уничтожил «бандитов Неуловимого». Теперь нацисты, желая того или не желая, признались, что Неуловимый жив: признались, назначив за его голову такие деньги… Полковник умолк, пристально нас разглядывая. — Я действительно говорю с командиром? Меня не обманули? — Да, я командир. — Вы… тот самый Неуловимый? — Тот самый. — Не ожидал, что мне позволят вас увидеть… — Это произошло случайно. Разведчик, который вас привел, не знал, что я нахожусь у командира его группы… Вы хотите помогать нам? Поэтому вы искали меня? Так я вас понял? — Да. Я хочу помогать вам! С великой радостью! Для этого я и проделал довольно-таки трудный путь к вам. Если счастливый случай свел меня сразу с Неуловимым — я должен верить судьбе. Я много слышал от немцев о действиях партизан и всегда втайне восхищался вами. Немцы теперь боятся людей Неуловимого как огня… — Марчковский улыбнулся: — Интересно, сколько бы они мне заплатили, если бы я им теперь доложил, что случайно встретился с вами, и нарисовал бы им портрет Неуловимого? — А вы могли бы поторговаться. Запросить, например, половину всей назначенной суммы. И почему бы вам действительно это не сделать, если такая возможность представится?.. Полковник встал. Улыбка исчезла с его лица. — Вы мне не верите? Даю слово польского офицера, что с вами я искренен и честен! Я тоже встал. Подошел вплотную к Марчковскому, взглянул ему прямо в глаза. Мне хотелось быть с ним откровенным. — Вы служили маршалу Рыдз-Смиглы, служили Пилсудскому. Мы считаем их реакционерами. Как же я могу верить их полковнику? Согласитесь, что вы на моем месте тоже сомневались бы в том, верить или не верить офицеру армии Рыдз-Смиглы… На меня смотрели умные большие глаза. На бледноватом лице стрелками взлетели вверх тонкие черные брови. — Понимаю, — стараясь быть спокойным, ответил он, — нужны доказательства моей искренности… Конечно, я мог заблуждаться, я верил тогда, что служу верой и правдой моей Польше, ее национальной чести! — А что вы подразумеваете под этой «национальной честью»? Если бы вы вот так же убежденно могли сказать, что служили верой и правдой польскому народу! — Война с фашизмом перевернула многое в моих взглядах. Я смог отличить подлинные ценности от фальшивых. И я пришел к убеждению, что должен, обязан, что могу служить именно своему народу, который терпит такие величайшие бедствия… Ведь я родился в деревне. Я знаю народ, его чаяния. И еще я понял в этой войне, что Польше надо идти рука об руку с Советским Союзом — только совместными силами всех антифашистов можно разгромить нацизм… — Марчковский опять умолк… Мы тоже молчали. — Это все слова… — Полковник покачал головой. — А вам нужны доказательства. Понимаю… Пожалуйста, у меня есть доказательства! Я предполагал и это… — Хорошо, полковник. Будете отвечать на наши вопросы. Сколько вы к нам добирались? Откуда? Покажите ваш путь по карте… Марчковский показал весь путь, который ему пришлось преодолеть. — А вы знали, что именно в этом лесу есть партизаны? — Это я знал. — Откуда вы могли знать? О том, где мы находимся, известно связным, проверенным людям… — Тогда разрешите все рассказать по порядку. — Прошу. — После уничтожения партизанами эшелона с танками, группенфюреру СС генерал-лейтенанту фон Готтбергу ничего не оставалось, как признать свое поражение. Это он и сделал в Берлине. На место фон Готтберга прибыл штандартенфюрер СС Ламмердинг, которому лично Гиммлером поручено покончить с Неуловимым, разгромить партизан в Белоруссии. Это фашистам крайне необходимо: Гитлер готовит новое наступление на Восточном фронте. Операция, которую возглавил Ламмердинг, имеет кодовое название «Шнеехаазе» — «Снежный заяц». Все держится в строжайшей тайне. Ламмердинг на днях вызвал меня. В его кабинете на столе лежала большая карта западных районов Белоруссии. Я увидел квадрат, обведенный красным карандашом. Штандартенфюрер решил использовать мое знание местности. Ведь я когда-то здесь служил. Мне нетрудно было догадаться, что этот квадрат — предполагаемое место расположения партизан. Как я понял, штандартенфюрер Ламмердинг предпримет серьезную военную операцию, в которой будут участвовать солдаты, артиллерия, авиация. Я сказал, что для восстановления точных сведений о местности должен выехать в местные гарнизоны. И вот я у вас… — Вы спешили предупредить нас об опасности? — Конечно! — Но как Ламмердингу удалось установить наше местонахождение? Если все то, что вы говорите, — правда, а я думаю, что это правда, то где-то среди нас скрывается предатель… На лице Марчковского мелькнула ироническая улыбка. — Мне кажется, я знаю его, — сказал он тихо. Марчковский оглядел присутствовавших в землянке командиров боевых групп разведки. — Можете говорить, — постарался успокоить я его. — Именно в тот день, когда я был вызван к Ламмердингу, в приемной гестапо толкался некий «крестьянин». Он дождался, пока вышел адъютант, и сообщил ему, что Заяц приготовил список. «Крестьянин» передал лист бумаги адъютанту. Адъютант положил бумагу к себе ка стол. Я, может быть, и не обратил бы на этот эпизод внимания, если бы этот самый Заяц не повернулся ко мне лицом. Я сразу узнал этого человека. Его Фамилия Кох… — Кох?! — Вы его знаете? — Это наш человек! — сказал командир группы разведчиков Соколов. — Ну конечно! Он успел войти в доверие! — Марчковский прищурил глаза. — А я Коха хорошо знал еще до войны. Наша польская контрразведка заинтересовалась Кохом. И было установлено, что под видом крестьянина, зажиточного хуторянина, действовал германский агент… — Кох всегда исполнителен, осторожен… — Соколов покачал головой. — Наши связные постоянно получают от него различные сведения. И ничего подозрительного за ним замечено не было. Никто из связных не схвачен фашистами. Я спросил полковника, что он на это скажет. — А давно ваши люди связались с Кохом? — в свою очередь задал вопрос Марчковский. — Еще с весны, — ответил Соколов. — Правда, мы до последнего времени были связаны лишь косвенным образом. И только теперь, когда нам понадобились люди в районе Глубокого, мы открыли Коху, что он работает на Неуловимого. — Ну вот и ответ! — воскликнул Марчковский. — Кох по мелочам не играет, он всегда делает крупную ставку. — Предположим, что Кох действительно фашистский агент. Но где доказательства? Ваши слова? Одним словам мы доверять не можем. Нужны факты. — Доказательства, доказательства… — проворчал Марчковский. — Возьмите Коха, допросите! Вот и будут вам доказательства… — Нет. Нам нужны доказательства прежде всего. Народ знает, что ни один невинный человек не пострадал от нашей руки. — Рад слышать. — Полковник стянул правый сапог, достал измятый лист и протянул его мне. — Вам должен быть известен почерк вашего агента, — сказал Марчковский. — Это почерк Коха? Так или нет? Соколов разглядывал лист и все более мрачнел. — Похоже на почерк Коха, — сказал он. — Да, это он писал. — Тут список лиц, которых сейчас, по всей видимости, пытали бы в застенках гестапо… В списках значились активные помощники партизан из Глубокого и других близлежащих сел. — Как этот лист попал к вам в руки? — Кох ушел. Потом вызвали и адъютанта. Входная дверь часто открывалась, так как в приемную то и дело входили и выходили. Рядом со столом было окно. Достаточно оказалось приоткрыть форточку. Как только первый же посетитель распахнул дверь, поднялся сквозняк, листки со стола разлетелись. Я сумел взять то, что хотел… Хотелось, хотелось верить Марчковскому! Но все было не так-то просто. Да и история со списком казалась слишком уж наивной. Правда, с другой стороны, опытный разведчик вряд ли взял бы на вооружение столь примитивную легенду. Мы не могли подвергать риску людей, ставить под угрозу наши планы. Тут нужно было все хорошо продумать, все взвесить… Пока я предложил полковнику отдохнуть: — Вы устали. Надо хорошенько выспаться! — Не беспокойтесь, — возразил Марчковский. — У меня отличная спальня в Полоцке. Я арендую дом. — Вы уже сегодня хотите возвратиться? — Конечно, долго отсутствовать я не могу. Я спросил, не опасно ли ему возвращаться, не заподозрят ли его в чем-нибудь. — Нет, — решительно ответил полковник. — Водителя мотоцикла, гестаповца, я убил по дороге в лесу. Скажу, что Ганс погиб «смертью храбрых», заслонив собой полковника, когда нас обстреляли партизаны… Мне поверят: ведь на карте штандартенфюрера этот лес очерчен красным квадратом. Гораздо труднее будет им представить, что полковник маршала Рыдз-Смиглы, сотрудничающий с нацистами, вдруг побежит в одиночестве через дремучий лес — искать советских партизан… — Ну хорошо, — сказал я. — А в Варшаве у вас есть связи с подпольем? Марчковский помедлил с ответом. Потом тихо сказал: — У меня есть адреса патриотов, антифашистов в Варшаве, которые никогда не покорятся нацистам. И я думаю, вам есть смысл со мной договориться. — О чем? — О помощи вам. Если вы мне, конечно, поверите… — Мне хочется вам верить. Вы, наверное, видите это. Подумаем и о задании для вас! Как вы сами понимаете, для этого нужно время. А пока постарайтесь сохранить все, как было, служите нацистам, постарайтесь сделать так, чтобы они испытывали в вас нужду как в консультанте! — Вы правы, — сказал полковник. — Я про себя тоже решил, что, если буду помощником партизан в логове гитлеровцев, больше принесу пользы нашему общему с вами делу, чем если выступлю против них открыто. Разрешите мне подписывать мои сообщения псевдонимом Гром. Разведке Неуловимого я хочу быть известен под этим именем. — Почему именно так — Гром? — Это маленький каприз, если хотите… За мой шумный нрав покойная мать всегда звала меня Громом… — И кто-нибудь об этом знает? — Это было так давно, в детстве… Нет, те, кто знал это прозвище, давно на небесах… — Я ничего не имею против — будете Громом. — А пароль? И с кем я буду связан? Вы мне назовете явку? Он был очень нетерпелив, польский полковник. — Об этом вы не беспокойтесь. Наши люди сами вас разыщут, когда будет нужно. И если вас назовут Громом, надеюсь, вы поймете, что это мы решили вас потревожить. Полковник поднялся, надел шинель, натянул перчатки. — Товарищ комбриг, — обратился ко мне Соколов. — Разрешите запрячь в сани лошадь и вывезти полковника к дороге. Я разрешил. Теперь уже не имело серьезного значения, правду ли говорил польский полковник, или он был тщательно подготовленным агентом Ламмердинга. Имело значение то, что штандартенфюреру известно наше местонахождение. Необходимо было принимать срочные меры. Я немедленно распорядился вызвать ко мне всех командиров боевых групп и отрядов, находившихся в этом районе. Они получили приказ тотчас же сниматься и уходить в другое место, которое мы всегда имели в резерве и где заранее все было оборудовано. Мобильность — это то, что нас выручало не раз, делало и вправду неуловимыми. Конечно, такой человек, как Марчковский, если ему поверить, был нам крайне нужен. Он мог стать одним из звеньев цепочки, которую мы уже начинали ковать, надеясь заполучить оперативные планы фронта… Но следовало еще и еще раз проверить полковника, прежде чем довериться ему. Вначале было решено проверить полученные от него данные о Кохе… Трое гестаповцев на мотоциклах подкатили к дому Коха. Двое остались у дверей, держа в руках автоматы. Третий стал стучаться в дверь. Редкие прохожие постарались скрыться «от греха подальше». Только здешний полицай, наш связной, поспешил к дому Коха, делая вид, что готов услужить. Но гестаповцы в дом к Коху его не пустили. Кох встретил гостей криком: — За что? За что меня? Я невиновен… И тут же на чистейшем немецком тихо сказал: — Опрометчиво поступаете, господа! Вас могли видеть связные партизан, что я им скажу?! Он еще голосил, делая вид, что гестаповцы с ним обходятся круто, а сам читал бумагу, переданную ему одним из гестаповцев. В бумаге говорилось, что за безупречную службу великой Германии Кох награждается денежной премией в размере 10 000 марок. — Но почему же штандартенфюрер не подписал это? — спросил Кох, указывая на пустое место, где должна была стоять подпись Ламмердинга. — Штандартенфюрер готов заменить эту бумагу другой, в которой к этой цифре будет прибавлен еще один нолик, если Заяц укажет точные координаты Неуловимого. — Если люди Ламмердинга будут поступать так опрометчиво, как вы сегодня, это спугнет Неуловимого. Но я постараюсь… В тот же день, под вечер, в дверь дома, где жил Кох, стукнули три раза, потом еще два раза с интервалом. Кох знал: так стучат только связные партизан. Он открыл дверь. Войдя, связной снял с плеч тяжелую сумку: — Осторожно. Тут мины. Надо спрятать до утра. — Засуньте под кровать. Кох и не подозревал, что мины были с часовым механизмом и уже отсчитывали первые секунды. — Одевайтесь. Нам надо идти, — сказал связной Коху. Кох заволновался. — Куда идти? — С командиром встречи искали? Кох ахнул, дрожащими руками провел по щекам. — С Неуловимым? — Да. Нас ожидают. Торопитесь. — Я мигом, только полушубок наброшу… Кох шмыгнул в соседнюю комнату, связной слышал, как он шептался с жившими там его работниками, служившими ему подручными и телохранителями. Наверное, Кох сообщает, куда идет, просит через какое-то время выйти по его следу… Вскоре связной с Кохом пришли на опушку леса. Связной сказал: — К командиру с оружием нельзя. Такой порядок. Отдайте мне все, что у вас при себе есть. Кох достал пистолет, другой… Отдал и нож. — Не пропал бы ножик… С наборной ручкой, автоматический… — Вам это больше не понадобится, Заяц. Кох еще плохо соображал, что произошло. — Почему же?.. — пробормотал он растерянно. — Потому, что в музей ваше оружие сдадим. — В какой-такой музей? И что это вы меня Зайцем зовете? Путаете с кем-то?! В этот момент в деревне раздался взрыв. Кох словно что-то понял. Он рванулся в сторону, но крепкие руки схватили его. — Товарищи! Что же это происходит?! Ошибка здесь!.. Из-за кустов вышли трое в форме гестаповцев. — Узнаете, господин Кох? — Так это же я… Я и хотел предупредить командира… Я вам помогал… Правда?! — Вот твоей рукой написаны имена коммунистов, партизан. Эту бумагу ты передал в гестапо Ламмердингу… Коха привели в центр деревни. Здесь уже собрались местные жители. Кох упал на колени, ползал перед толпой, целовал сапоги, обмотки, подолы… — Пощадите, люди добрые! Во имя Христа!.. — От тебя и бог отвернулся, гадина, — отвечали ему крестьяне. Был оглашен приказ, в котором перечислялись злодеяния Коха — доносчика и шпиона. На Коха накинули петлю… Партизанам пришлось покинуть прежнюю базу. Мы расположились на новом месте и на время прекратили всякую деятельность. Надо было выждать, посмотреть, что предпримут фашисты, узнав, что их агент мертв. Чтобы не пострадали жители деревни, где был казнен Кох, им предложили уйти с партизанами. — Пущай пустым избам мстят! — одобрил один старик. — А мы еще повоюем! С командирами групп и отрядов мы обдумывали события последних дней — появление полковника Марчковского, разоблачение Коха. Соколов поделился своими сомнениями: — Товарищ комбриг, а не хитрость ли это? Смотрите, как все ловко у гитлеровцев получилось: мы разделались с человеком, который активно помогал фон Готтбергу. Ведь Кох был человеком группенфюрера. Разве нельзя предположить, что Марчковский по заданию штандартенфюрера Ламмердинга пришел к нам, выдал Коха, чтобы ему поверили. Кох для них — агент с «подмоченной репутацией». — Я об этом думал. Так или иначе, мы должны были разделаться с предателем. А вот насчет Марчковского… Время покажет. Нас еще раз запросили, получены ли какие-либо сведения относительно того, как можно получить доступ к оперативным планам фронта. Я сообщил, что дам ответ через неделю. Мы уже долгое время отыскивали подход к этим планам. Но это было исключительно сложно. Надежный вариант разведывательной операции пока никак не складывался. Еще и еще я советовался с нашими разведчиками, но приемлемого решения не было. А время шло. Был дорог каждый день. Мы с волнением ожидали карательной операции гитлеровцев, которые, по нашим расчетам, должны были попытаться уничтожить партизан в районе, обозначенном на карте Ламмердинга. Если гитлеровцы действительно убеждены, что мы располагаемся в красном квадрате, то они в ближайшие дни предпримут решительные акции. И точно. Наша разведка стала доставлять сведения, что фашисты стягивают в район Глубокого крупные силы специальных карательных подразделений. Вскоре на нашу бывшую базу обрушился страшный артиллерийский огонь. Целый день самолеты противника забрасывали этот участок леса бомбами. Лес потонул в густых тучах черного дыма. Штандартенфюрер СС Ламмердинг по открытому каналу послал в Берлин сообщение, в котором говорилось, что «Неуловимые» уничтожены окончательно, квадрат А-7 свободен от партизан… Это сообщение в тот же день лопало и к нам. — Вот вам доказательство честности Грома! Или у кого-то есть еще сомнения? — сказал один из наших товарищей. — Сомнений больше нет, — раздались голоса. В самом деле, вроде бы все подозрения рассеялись. Но, зная хитрость и коварство фашистов, я предпочел все же быть предельно осторожным… И в то же время перспектива воспользоваться услугами Марчковского была слишком заманчивой… В конце концов можно попытаться, приняв все меры предосторожности! Кроме того, я запросил о нем Центр. Данные, которые имелись, не давали повода заподозрить Марчковского в неискренности. Во всяком случае, было известно, что он имел связь с варшавским подпольем, кое в чем помогал подпольщикам, никаких подозрений доселе не вызывал. Я приказал готовить встречу с Громом. На эту встречу, которую назначили в одной из контролируемых нами деревень, Гром явился все в той же шинели, под которой был мундир польского полковника. — Не решились сменить мундир? — поинтересовался я. — Вы мне можете предложить что-нибудь получше? — Было бы желание… — Если бы я надел мундир советского офицера или офицера польской армии, которая сформирована в вашей стране, я был бы горд и счастлив. Но разве можно отказываться от моего старого мундира, когда фашисты мне верят! Я знаю, что принесу больше пользы в этом качестве. Жду от вас настоящего задания. Мы ведь так договорились. Правда?.. — Если вы решили твердо, этот мундир вам еще пригодится… Марчковский вопросительно смотрел на меня. — Вы имеете доступ к командованию фронта? Марчковский ответил не сразу. — Я постарался зарекомендовать себя… И пользуюсь доверием… О чем конкретно идет речь? — Нас интересуют оперативные планы фашистов на этом фронте. Вам известно, например, каким путем доставляются оперативные планы из ставки непосредственно в штабы? — Самолетом. Это быстро и сравнительно безопасно. Специальные службы абвера заранее разрабатывают маршрут, который кажется наиболее приемлемым. Затем выбирают шесть офицеров абвера: наиболее тренированных во всех отношениях людей. Каждому доверяют кожаный портфель с планами и последними указаниями штабам армий. Но дело все в том, что каждый получает не полный план, а план без некоторых существенных деталей. Только все шесть частей плана вместе могут дать полное представление о нем. Здесь речь идет о страховке, все предусматривается до мельчайших подробностей. Офицеры, как правило, друг друга не знают и впервые встречаются за несколько минут до вылета самолета. Разумеется, все детали предстоящей операции хранятся в строжайшей тайне. Агенты следят за исполнителями и друг за другом. Никому не известно, с какого аэродрома вылетит в этот раз Ю-52. — Кто-то ведь знает! — Высшие чины гестапо и абвера. — Ну а выяснить, где живут эти офицеры, которым доверены портфели, как-нибудь можно? Попытаться найти к ним пути? — Не зияю. Об этом как-то не задумывался… — Есть ли какая-нибудь возможность проникнуть к одному или даже к нескольким из них? Ведь и по отдельным частям планов можно в какой-то степени восстановить полную картину… — Лучше, конечно, иметь все планы. — Это само собой разумеется. — Ведь это все в Берлине… Но я сделаю все возможное… Попытаюсь… Пока не знаю как. Но неприступных крепостей нет. Не так ли? Марчковский улыбнулся и неожиданно добавил: — К тому же вы даете мне задание весьма вовремя: готовится поездка в Берлин группы высших офицеров. Я попробую сделать так, чтобы меня включили в группу как консультанта. А дальше… Мне надо подумать. Иногда сами конкретные обстоятельства подсказывают, как надо действовать. Может быть, они подскажут что-либо и на сей раз. — Хорошо, время у вас есть. Только хочу посоветовать одно: будьте более чем осторожны. Ищите самые надежные пути. — Я сделаю все возможное. Но ведь мне понадобится связь… — Это понятно. Наши товарищи найдут вас. — А если мне срочно потребуется помощь? — Подадите сигнал. Правда, для этого хорошо бы заранее знать, где вы остановитесь в Берлине, если поездка состоится. — Это я вам могу сообщить сейчас. Я всегда останавливаюсь на Фридрихштрассе, в гостинице «Савой» — в специальных номерах для командного состава. — Ну, вот видите, все очень просто. Прошу вас, когда вы остановитесь там и вам нужно будет найти связного, днем от часа до двух зашторьте окно в своем номере. Где вам удобнее встретиться с ним? — Мм… Я думаю, в кафе «Линден». Это там же, на Фридрихштрассе. — Хорошо. В два тридцать, после того как подадите знак, будьте в кафе «Линден». К вам подойдут. Если назовут Громом, поймете, что это связной. Марчковский протянул мне руку. Он понял, что ему поверили. Сейчас, когда прошло много лет, могу сказать, что в то время я еще не верил ему до конца. Но интуитивно чувствовал, что не подведет. В данном случае мы шли на риск. Но этот риск был оправданным: нам необходимо было узнать, как доставляются планы гитлеровского командования. И когда я доложил Центру о задуманной операции, то получил ответ: «План одобрен. Действуйте».2. В Варшаве
В Варшаву поезд пришел ночью. По перрону сновали носильщики с тележками, высматривая пассажиров с чемоданами. Раньше немецкие офицеры привозили драгоценности, антикварные вещи, меха, икру, коньяки и дорогие вина… Теперь их чемоданы были заполнены награбленным тряпьем, дешевыми колбасами, бутылками с самогоном. Времена менялись. — Не забудьте, Марчковский, я вас отпускаю ровно на сутки, — напомнил генерал. — Вы мне нужны в Берлине. — Я не подведу, господин генерал! — Вы прилежны и исполнительны, Марчковский, знаю. Но что может вас, одинокого человека, привлекать в Варшаве? Наверное, женщина… Угадал? — Генерал улыбнулся, отечески положил руку полковнику на плечо. — До отхода поезда еще остается время. Я позвоню в комендатуру и вызову для вас машину. Думаю, это будет не лишним. Рассказывают, что в Варшаве активизировались подпольщики. Лучше проявить осторожность… — Буду вам очень благодарен, — Марчковский поклонился. Через полчаса Марчковский сидел в удобном, мягком на ходу новеньком «опеле» и задумчиво смотрел в окно на ночные варшавские улицы. Кругом было темно и тихо. Только фары автомобиля вырывали участки улиц, площадей, дома… — Костел святого Яна знаете? — спросил полковник шофера. — Это недалеко от Вислы? Там два костела… — Да, два. Один — святого Яна, другой — святой Анны. — Туда ехать? — Да. — Господин полковник католик? — Вы много разговариваете, лейтенант. — Простите… — Остановитесь у костела. — Слушаюсь, господин полковник! Автомобиль проехал по набережной Вислы, поднялся по одному из переулков чуть вверх и затормозил на небольшой площади. — Как вас зовут? — спросил Марчковский шофера. — Курт Остен. — Дайте мне ключи от зажигания, Курт. Кто знает, сколько времени я проведу в костеле. Вам незачем дожидаться меня в машине. Я вас отпускаю. — О, спасибо, господин полковник! Я еще успею к друзьям в одно заведеньице… Простите, господин полковник… Один из друзей празднует день рождения. — Хорошенькое заведеньице? — Кормят и поят не по первому разряду, но остальное достойно внимания… — Вы будете гулять до утра? Запишите для меня адрес. — Но господин полковник хотел направиться в костел… — После молитвы я могу немножко и согрешить. Помните слова апостола Луки? «На небесах будет более радости об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не нуждающихся в покаянии». Апостол знал, что говорил. Не так ли? — Так точно, господин полковник! — Вы не заблудитесь, Курт? — О нет! Туда я дойду и с завязанными глазами. — Так я заеду… Марчковский подождал, пока Курт скрылся в переулке. Потом включил зажигание, проехал вверх метров двести, свернул в ворота и втиснул машину между большим ящиком для мусора и стеной дома. Запер дверцу. Подаркой прошел в следующий, крохотный дворик, вошел в подъезд. Тут звонок был еще старого образца, со шнурком. Он дернул красивую костяную ручку два раза. За дверьми раздался приятный звон. Но никто не открывал. Марчковский немного выждал и позвонил еще раз. Наконец послышалось какое-то движение. Потом раздались шаркающие шаги и сонный женский голос спросил по-польски: — Кто здесь? — Тереза, это я, Викентий. Замок щелкнул, и дверь отворилась. Через мгновение женщина уже обнимала его. Он ощутил мягкую скользящую ткань халата, хрупкое тело, запах духов и пудры. — Что так поздно? — прошептала Тереза. — Только что с поезда. Еду в Берлин. Здесь проездом. И не мог не навестить тебя. Хоть на секунду. Как у вас тут?.. Тереза прижала палец к губам: молчок. Глаза у нее были такие, точно она чего-то очень боялась. Только теперь, войдя в гостиную, Марчковский заметил, что Тереза изменилась: лицо усталое, под глазами теин. — Что-нибудь произошло? — спросил он. — Неприятности в театре? — Ты угадал… Я уже не на главных ролях. Теперь главные партии в немецких оперетках поет Эва… Ты ее помнишь? Подмазалась к немцам, потаскуха!.. А я выступаю только в ревю… — Что ж, ревю наиболее популярно у немцев! — Да, но каждый вечер петь для них — противно. Я не могу. Мне надоело забавлять их, выставляя напоказ свои ноги. — Ах, Тереза, не придавай этому значения… — Значение?! Они уже дерутся из-за меня… — Ну и пусть, хоть до смерти. — А победитель требует, чтобы я разделила с ним постель… — Ну-ну, крепись. Ты ведь помогаешь, как и прежде, Деду?.. — Помогаю, помогаю… — подтвердила Тереза. — А ты ведь с дороги! И грязный, как извозчик. Иди в ванную, а я приготовлю яичницу и сварю кофе. Марчковский наполнил водой ванну, развел душистый мыльный порошок, взбил облако пышной пены, но погружаться в ванну не торопился. Он не упустил из внимания таинственно приложенного к губам Терезы пальца… Может быть, в квартире есть еще кто-то… Он тихо приоткрыл дверь и вышел в прихожую. Услышал в комнате торопливый шепот. Марчковский расстегнул кобуру, достал пистолет. Потом резко распахнул дверь в комнату. — Не двигайтесь! Руки вверх! Он увидел испуганное лицо незнакомого молодого человека. Затем Терезу — с широко раскрытыми глазами. — Не подумайте! Я ничего не хочу от пани Терезы!.. — проговорил молодой человек. — Мы не сделали ничего дурного!.. — Что вам здесь надо? — Я кое-что приносил пани Терезе… Но это ее секрет! Придя в себя, Тереза бросилась к Марчковскому: — Он ни в чем не виноват, клянусь тебе! Марчковский видел перед собой прилично одетого молодого человека, который уже отделался от испуга и нагловато улыбался, словно был хозяином положения… Уж не сутенер ли? Полковник разглядывал смазливое лицо с кокетливыми усиками и бачками. — Рышард Вислянский. — Молодой человек поклонился. Марчковский теперь только заметил у ног Вислянского довольно большой кожаный чемодан. — Раскройте чемодан! — приказал полковник. — Не делайте этого, Рышард! — воскликнула Тереза и обратилась к Марчковскому: — Викентий, произошло недоразумение. Рышард — коммерсант. Он принес мне кое-что, о чем я его давно просила. Он должен был уйти, но тут раздался звонок. И я его спрятала в кабинете. Марчковский не слушал ее. Повторил приказание раскрыть чемодан. — Отчего же, пани Тереза, не показать господину полковнику наш товар? — улыбнулся Рышард. В чемодане были ткани, куски шелка самых разных расцветок. «Чепуха, — решил Марчковский, — эти ткани что-то прикрывают». Он подошел, сунул руку в чемодан, откинул материю. Теперь открылся и «секрет». В тщательно сделанных гнездах стояли флаконы разной формы и величины. — Что это? — Марчковский перевел глаза на Терезу. — Я все объясню тебе: Рышард имеет связь с немецкими офицерами, которые привозят косметику из Франции и Голландии, кружева из Бельгии и много всякой всячины. Они хотят получить за нее твердую валюту — доллары, фунты. А Рышард развозит товар, сбывая его в Польше, Чехии и Венгрии… Я ведь женщина, Викентий, и мне не чужды женские слабости! Пойми, мне тоже хочется иметь на туалетном столике парижский «Шанель». Она говорила искренне. Марчковский в этом не сомневался. Он опустил пистолет в кобуру, исподлобья взглянул на молодого человека. — Лучше будет, если вами займется охранка, — проговорил он. — Там выяснят, кто вы такой… — Перестань, Викентий, — попросила Тереза. — Лучше отметим твой приезд. …Рышард быстро хмелел. Выпив несколько рюмок водки, он стал словоохотлив без меры. Приглашал полковника к себе в гости, обещал королевский ужин. — Я не живу в Варшаве, — сказал Марчковский. — Сюда заехал на несколько часов, проездом в Берлин. — Мне тоже надо в Берлин! — воскликнул Рышард, хлопнув себя ладонью по коленке. — Мне нужно получить там товар и расплатиться со своей клиентурой… А у меня там, в Берлине, такая клиентура… — Он щелкнул пальцами. — Не думайте, что какие-нибудь пустяковые люди. Нет. Секретные офицеры. Абвер. — А вы спокойно ездите в Берлин? — спросил Марчковский. — У вас есть для этого документы? — Документы у меня есть, я езжу как коммерсант… Но, конечно, рискую. Валютные операции — это всегда риск… Если бы вы, полковник, согласились взять меня в спутники… Мы могли бы с вами вместе поехать!.. Никто не посмеет ни в чем заподозрить вашего спутника… А я вам пригожусь! Ведь мы — поляки! Марчковский молчал. Может, действительно, прихватить этого Рышарда? Если у него такие связи… — Викентий, а может быть, ты и правда возьмешь с собой Рышарда? Он ведь брат моей подружки — Эдитки Вислянской… Не помнишь ее? Самая молоденькая у нас в ревю. — Помню Эдитку. — Помоги Рышарду! Марчковский перевел взгляд на Рышарда. Не очень-то верил он в то, что этого спекулянтишку можно как-то использовать для блага дела. Но… в конце концов, Марчковский ничего не терял, отправляясь в Берлин в одном купе с Вислянским. Он снисходительно кивнул головой Рышарду. — Благодарите пани Терезу… Я еду в Берлин вечерним. Могу вам взять билет в свое купе. — Мы будем в купе вдвоем?! О, спасибо, пан полковник. Это как нельзя кстати. Я сумею отблагодарить вас… Впоследствии Марчковский рассказывал, что и сам не мог бы объяснить, что его побудило взять с собой Рышарда. Когда за Вислянским закрылась дверь, Марчковский сказал Терезе: — Такие знакомства никому не делают чести. — Боже мой, Викентий, неужели ты не убедился, что это простой аферист, услугами которого приходится, к сожалению, пользоваться. — Убедился. Потому и говорю. Ну да ладно, теперь поздно об этом. Но всегда помни, что ты связана с Дедом, с его людьми и можешь с помощью таких вот людишек завалить дело… — А ведь и ты хочешь использовать его, — улыбнулась Тереза. — Разве не так? Марчковский улыбнулся в ответ: — Ты очень проницательна, Тереза!3. В Берлине
На следующий день Марчковский уезжал в Берлин. Тереза не провожала его: вечером у нее был спектакль. Полковник встретился с Рышардом на вокзале. Вислянский подобострастно пожал протянутую ему руку. Марчковскому удалось достать билеты в двухместное купе, и Рышард блаженствовал: ему редко приходилось ездить в первом классе. Полковник был неразговорчив. Он подчеркивал дистанцию, разделяющую его и Рышарда. Тот не обижался: он привык к высокомерию господ, с которыми сталкивала его профессия. А полковник хотя и был поляком, видимо, занимал высокое положение у нацистов… Это заставляло спекулянта относиться к нему с боязливым почтением. В Берлине они расстались на перроне. Марчковский записал, как разыскать своего спутника, предупредил, что сделает это непременно, чтобы получить пока еще не оплаченный долг. Он сел в автомобиль, удостоив Рышарда легкого кивка головой, и укатил. Поселился Марчковский, как обычно, в «Савое». Днем шторы его окна были всегда раздвинуты. Он вызвал горничную и сказал, что в ее обязанности будет входить лишь вытирать пыль и убирать постель. Предупредил, чтобы она не смела переставлять вещи в номере. — Я привыкаю и не люблю, когда нарушается порядок, — бросил он горничной. Та кивнула в знак согласия. Множество офицеров перевидела она в отеле. У каждого свои причуды, свои прихоти. И ее вовсе не удивило предупреждение полковника. В последующие дни Марчковский помогал генералу составлять доклад, надеясь, что будет тоже допущен на заседания генерального штаба. Однако генерал заявил полковнику, что тот не будет присутствовать на заседаниях. Это распоряжение свыше касалось всех консультантов. Такой оборот дела вносил серьезные изменения в планы Марчковского. В первый раз между часом и двумя он зашторил окно. Затем оделся и направился в кафе «Линден». В этот час тут было много свободных столиков. Марчковский облюбовал один, в дальнем углу. Минут через пять в кафе вошел человек в форме армейского капитана и направился к столику Марчковского. Щелкнув каблуками, он громко произнес: — Рад встрече, господин полковник! А потом, усаживаясь за столик, тихо сказал: — Меня зовут Вальтер Зепп. — И еще тише: — Что случилось, Гром? Марчковский облегченно вздохнул. Он почувствовал, как спадала напряженность ожидания этой встречи. Ведь до последней минуты он сомневался: поверили ему или нет? Значит, все-таки поверили… Помешивая ложечкой кофе, он сказал: — Мне не удастся попасть на заседания. Но я много думал: возможен другой путь… — Какой? — Изучить одного из хранителей кожаных портфелей. — Об этом следует подумать. Но пока ничего не предпринимайте, ждите указаний… — Я только хотел сказать, что могут потребоваться люди. — Ждите указаний, — повторил Вальтер. А потом громко, чтобы слышали за соседними столиками, спросил: — Вы все так же сопровождаете своего генерала? Да вырвитесь хоть на вечерок! Вспомним нашу варшавскую встречу! Согласитесь, что мы хорошо погуляли тогда, полковник… Капитан еще долго говорил, предаваясь воспоминаниям о приятно проведенных часах, потом взглянул на циферблат, извинился и поднялся. Он взял с полковника слово, что тот выберет свободный вечер для встречи. Марчковский, вернувшись к себе в номер, решил, что следует все-таки заранее готовить почву. Пока есть время, полезно будет прощупать спекулянта Рышарда. Может, и впрямь через него можно завязать кое-какие знакомства… Марчковский позвонил Вислянскому, сказал, что хотел бы повидаться с ним, прокатиться в автомобиле по Берлину. Рышард с готовностью согласился. Через час они медленно катили по весенним берлинским улицам. Марчковский вел машину. Рядом расположился Рышард. Он проникся доверием к полковнику и охотно рассказывал о своих берлинских делах, сетуя на то, что офицеры, с которыми имеет дело, становятся невыносимы: требуют все больше денег за товар. — Это акулы, пан полковник! Самые настоящие акулы. Вчера я встречался с одним. Это крупная птица из абвера. По роду службы он бывает в разных странах. Привозит много добра. Не так давно он приволок из Франции несколько ящиков духов!.. И каких!.. — Рышард прищелкнул языком. — Но он просто грабитель! Он требует за свой товар такую сумму! А птица он важная. Имеет даже собственную охрану… — Для чего же ему охрана? — Ну, пан полковник! Чего не знаю, того не знаю. Я и так кое о чем догадался, можно сказать, благодаря способности анализировать. — Не тяните, Рышард. — У меня даже создается иногда впечатление, что он сам находится под стражей. Его держат, как пленника. Ну, сами понимаете… Марчковский посмотрел на самодовольное лицо Рышарда и рассмеялся. — Признаться, пока понимаю не слишком много. — А кое-что я достоверно знаю… Марчковский недоверчиво покачал головой. Это, видимо, распалило Рышарда: — Не верите? Ах, если бы я смог вам показать его… Но — о чем говорить! К нему доступа нет!.. — А вам? — перебил его Марчковский. Вислянский усмехнулся. — Я — другое дело. Они катили по загородному шоссе. Полковник как бы безучастно слушал хвастливую болтовню Вислянского, а в голове зрело решение. Конечно, и речи не может быть о том, чтобы открыться спекулянту, который со спокойной совестью тут же донесет на него. Но можно разыграть перед Рышардом небольшой спектакль… План действий сложился в голове Марчковского мгновенно. Хорош или плох этот план — можно проверить только на практике… Надо действовать! Марчковский свернул к роще, остановил автомобиль и приказал Рышарду вылезти из машины. Тот смотрел на полковника недоумевающим взглядом, не понимая, чего от него хотят… Марчковский увел Рышарда к небольшому овражку. — Я не знаю, что вы за человек, Вислянский. Но мы с вами соотечественники… Мы поляки, Вислянский, и должны друг другу помогать. — Конечно, конечно, — бормотал тот, силясь понять, что его ожидает. — Прежде всего, вы не должны мне лгать, Рышард! Знаете ли вы, где майор хранит деньги? — Конечно, дома. Это самое надежное место. Он прятал деньги, которые получал от меня, в сейф. О, он богат, как Крез… — Вот что, Вислянский, от вас требуется немного, но получите вы за это столько, сколько никогда не принесут ваши спекулятивные сделки. Вы будете иметь хороший куш, если сумеете держать язык за зубами. Рышард многозначительно приложил палец к губам. Марчковский поморщился, вспомнив такой же жест Терезы. — Чертите точный план, рассказывайте все, что вам известно об охране вашего знакомого, о нем самом. Намечена ли у вас встреча с ним в ближайшие дни? В общем, выкладывайте все. На обратном пути Марчковский выбрал шоссе, ведущее прямо к вокзалу Фридрихштрассебанхоф. На вокзальной площади остановил автомобиль. — Сейчас вы купите билет в Варшаву, — сказал Марчковский. — Вечером уедете. Так будет безопаснее для вас, и мне мешать не будете. Если все пройдет успешно, ваша доля вам будет выплачена немедленно. Я человек слова. В тот же вечер Рышард Вислянский выехал в Варшаву. На следующий день, придя утром в генеральный штаб, Марчковский понял, что беспрерывные совещания закончились. Офицеры штаба стали более оживленными. Повеселевшим ходил и генерал Гросс. Он даже сказал Марчковскому: — Скоро мы возвращаемся, полковник… Я подумал о вас. И приготовил сюрприз: неделя отдыха в Варшаве! Вас, надеюсь, это устроит? — Я вам безмерно благодарен, господин генерал! — А! — генерал махнул рукой. — Что там! Я оптимист, полковник. Если нам помешали русские морозы еще в сорок первом взять Москву, то лето сорок третьего станет переломным этапом. Мы начнем грандиозное наступление, и никто нас не остановит. До самых Уральских гор! — Ваши чувства я полностью разделяю, генерал. — Ну а теперь разговор конфиденциальный… Я устраиваю в нашем отеле ужин для моих друзей. Разумеется, вы приглашены, полковник. Кстати, будет и штандартенфюрер СС Ламмердинг, прибывший из Белоруссии по личному вызову Гиммлера. Так что прошу быть моим гостем! Марчковский поблагодарил за оказанную честь. …На ужине, который устроил генерал Гросс, было всего несколько человек. Гости пребывали в отличном настроении, как это бывает с людьми, свалившими с плеч большую, ответственную работу. — Скоро мы станем, полковник, свидетелями небывалого триумфа немецкого оружия, — доверительно сказал Марчковскому Гросс, откусывая щипчиками кончик сигары. — И в этом триумфе будет и наша с вами доля! Нас ждут награды и почести. Не смущайтесь: бравый солдат должен стремиться к наградам! К ним подошел Ламмердинг. — Вы уже делите награды, господа? Поделитесь и со мной! Кстати, господин Марчковский, хочу воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить вас за помощь в борьбе с партизанами. Вы помогли нам нанести сокрушительный удар. Партизаны в Белоруссии разгромлены. Генерал говорил, что вы намерены отдохнуть в Варшаве? Я туда лечу. Послезавтра. Рассчитывайте на место в моем самолете! Марчковский поблагодарил. Вскоре наступила минута, когда приглашенные начали расходиться. Марчковский, чтобы развеяться, спустился в вестибюль, стал медленно прохаживаться в холле. Сидевший в кресле с газетой в руках обер-лейтенант при приближении полковника вскочил. Марчковский сделал рукой жест, предложив офицеру садиться, но неожиданно услышал негромкое: — Случайная встреча, Гром… Полковник пристально взглянул на обер-лейтенанта. А тот так же тихо произнес: — Вас ждут в кафе «Линден». — И опустился в кресло, снова углубившись в чтение газеты. Марчковский поднялся к себе в номер, надел шинель. В кафе Марчковский увидел уже знакомого капитана и подсел к его столику. — Что это была за поездка с неизвестным нам штатским за город? И почему этот штатский на следующий день исчез? — спросил Вальтер. — Через этого человека я надеюсь многое выяснить… Но знаете, Вальтер, было бы неплохо, если бы возле нас оказалась какая-нибудь дама… На всякий случай лучше себя застраховать… Капитан понимающе кивнул, поднялся с места и скрылся за дверью. Несколько минут спустя он появился с высокой белокурой женщиной, в которой Марчковский узнал певичку из оркестра, игравшего по вечерам в кафе. — Она свой человек, — сказал Вальтер. — Можете говорить. — Есть план дома… — сказал Марчковский. — Хозяин дома ожидает перед отъездом того самого человека, с которым я ездил в город. Это спекулянт, его имя служит пропуском в дом, находящийся под охраной и днем и ночью. — Я вас понял, — сказал Вальтер. — Но уверены ли вы, что все это так? — Я штабной офицер и привык продумывать план операции до деталей, — сухо сказал Марчковский. — Не обижайтесь, полковник, в нашем деле лишняя предусмотрительность никогда не мешает. Давайте план дома и будем решать, что предпринять.4. Серьезные осложнения
Все планы нарушил звонок телефона, раздавшийся в номере рано утром. Марчковский машинально протянул руку к тумбочке, снял трубку и услышал: — Вас просит срочно явиться генерал Гросс. Собственно, ничего неожиданного в этом не было. Генерал часто поднимал полковника и среди ночи, и на рассвете, когда срочно нужна была консультация или какая-нибудь справка. Марчковский наскоро побрился, надел мундир и спустился. Гросс встретил его в халате, пригласил к раннему завтраку, за которым говорил о чем угодно: о погоде, о своей семье, о мучившей его подагре, но только не о деле, из-за которого поднял полковника спозаранку. Покончив с завтраком, они уютно расположились в глубоких креслах. Генерал предложил сигару. Марчковский закурил, ожидая, что наконец-то сейчас генерал сообщит ему о цели вызова. Гросс, действительно, перешел к делу: — Еще раз убеждаюсь, что у вас достаточно крепкие нервы, полковник. И выдержка. Вы с таким терпением ждете, что можно лишь позавидовать. — Я думаю, что вы скажете, когда сочтете нужным, генерал, — заметил Марчковский. — Но не волнуйтесь: ничего особенно страшного нет. И я не передумал относительно вашего отпуска! С завтрашнего дня неделя в вашем распоряжении. Вы заслужили отдых. И отправитесь отдыхать раньше, чем думаете. Через два часа, ровно в девять, Ламмердинг вылетает в Варшаву и возьмет вас в свой самолет, как и обещал. Все это столь неожиданно, что мне пришлось потревожить вас так рано. — Это действительно неожиданно, — сказал Марчковский. — Мой шофер вас ожидает. Захватите вещи и отправляйтесь к Ламмердингу. Времени у вас не так уж много. Всего чего угодно ожидал Марчковский, но не такого поворота дела. Ведь он даже никого не может предупредить о своем неожиданном отъезде! Под угрозу ставится вся операция. Что делать? Отказаться? Это невозможно. И как ответить самому себе на вопрос: почему Ламмердингу понадобилось так неожиданно увезти его в Варшаву? А то, что тут козни Ламмердинга, Марчковский не сомневался. Может быть, у этой лисы возникли какие-то подозрения?.. Но Марчковский не давал никакого повода… Предательство? Этого полковник тоже не допускал. Что-то сболтнул Рышард? Не тайный ли он сотрудник Ламмердинга? Это, конечно, вполне вероятно. Уж слишком широкие возможности у молодого человека для его спекулянтских операций. Свободно гастролирует по разным городам и странам, получает необходимые пропуска… Так можно действовать, только находясь под покровительством влиятельных лиц! Впрочем, об этом Марчковский размышлял и раньше. И, ведя разговоры с Рышардом, был весьма осторожен. Да и что может, в конце концов, сказать этот Вислянский о полковнике Марчковском? Что полковник проявил особый интерес к его, Вислянскому, знакомому? Никто не сможет доказать, что этот интерес обусловлен не коммерческими мотивами. Да кто вообще может доказать, что Марчковскому что-то известно о заданиях, которые выполняет этот знакомый Вислянского, если самому Марчковскому это пока неизвестно?! Хотя, конечно, если Рышард — сотрудник Ламмердинга, он может наболтать всякой всячины и вызвать у своего шефа подозрения насчет Марчковского… Однако подозрения еще не улики… Вот если Рышард расскажет — умолчит или расскажет?.. — об эпизоде в лесу… — Ну что ж, — сказал генерал Гросс, — не буду больше вас задерживать. Желаю счастливого полета! Отдыхайте в своей Варшаве, но будьте умеренны, полковник, в развлечениях… Я понимаю, после наших тревожных будней все это необходимо. Но используйте время и для отдыха. Впереди много работы, много дел. Наберитесь сил, не растрачивайте их попусту! — Благодарю за добрый совет, господин генерал. — Марчковский поднялся с кресла, щелкнул каблуками и вышел. Он поднялся к себе в номер, собрал чемодан и спустился. Шофер генерала Гросса отвез его на Александерштрассе к полицей-президенту. Ламмердинга там не оказалось. Марчковскому передали, что штандартенфюрер просил его прибыть прямо на аэродром. Марчковский пытался разобраться в мыслях, которые теснились в голове. Сейчас ему было совершенно ясно, что и приглашение Ламмердинга лететь в его самолете в Варшаву, и этот неожиданный отъезд — звенья одной цепи. Зачем Ламмердинг пригласил его лететь вместе? Марчковский знал, что этот хитрый и расчетливый человек ничего не делает просто так. Может быть, подозревая в чем-то Марчковского, он хочет держать его при себе, для собственной безопасности?.. Кто знает, какие замыслы у штандартенфюрера! Этого не знает, наверное, сам господь бог. Но как быть с задуманной операцией? Как быть?.. Марчковский никого не сумел предупредить о своем внезапном отъезде. Он просто не имел для этого возможности. А если бы даже и имел, то выходить сейчас на связь было бы крайне опасно. Выхода пока не было. На аэродроме Марчковского встретили. Пришлось пересесть в другую машину, которая отвезла его в самый конец летного поля, где стоял самолет, охраняемый автоматчиками. Ламмердинг был уже в салоне. Он поздоровался с полковником, предложил место рядом. К штандартенфюреру подходили сопровождавшие его гестаповцы, он отдавал короткие распоряжения. Марчковский взглянул в иллюминатор и увидел, как подъехал с эскортом мотоциклистов закрытый бронированный фургон зеленого цвета. Из фургона вышли… шесть офицеров с портфелями в руках и направились к самолету… Немало труда стоило Марчковскому сохранить самообладание, не дать дрогнуть на лице ни единому мускулу. Так вот оно что!.. Значит, офицеры абвера с оперативными планами полетят этим же самолетом! Всегда спокойный и уравновешенный, Марчковский почувствовал, как кровь прилила к лицу. Очень похоже было, что Ламмердинг почуял неладное и хитрейшим трюком обезвредил полковника, лишив его каких бы то ни было контактов. Офицеры заняли места в заднем отсеке. И тут же взревели моторы. А несколько минут спустя самолет побежал по взлетной полосе и поднялся в воздух. — Ну вот, — сказал Ламмердинг, — мы, как говорят летчики, легли на трассу. Теперь пожелаем друг другу счастливой посадки… И можем поговорить с вами, полковник, по душам… Стараясь ничем не выдать своих тревожных мыслей, Марчковский повернул голову в его сторону. Ламмердинг смотрел на него в упор своими бесцветными глазами, упрятанными за стеклами пенсне. — Мы доселе не разговаривали с вами по душам, полковник, — продолжал Ламмердинг. — У вас есть родственники, друзья? Вы к кому едете в Варшаву? — Я одинок, господин штандартенфюрер. Друзей прежних я растерял. Зато приобрел новых друзей среди офицеров германской армии, чем и горжусь. Ламмердинг кивнул головой. — И в Варшаве у вас никого нет? — Наверное, есть люди, с которыми я был когда-то знаком. Но я не поддерживаю с ними связи. — Нас интересует один очень важный вопрос, — продолжал Ламмердинг. — В Польше существует два подполья. Одно ориентируется на Лондон, другое — на Москву. Может быть, вы знаете кого-нибудь из подполья? — Я слишком далек от этого, господин штандартенфюрер. Ведь вы же знаете, я солдат и занимался делами фронта, а не делами тыла. — Я знаю это. Но вы к тому же поляк и могли слышать о тех ваших соотечественниках, которые пытаются бороться с нами. Это утописты, обреченные на гибель. И не только во имя великой Германии, которая ценит вас, человека здравомыслящего, но и во имя спасения своих соотечественников вы могли бы оказать нам немалые услуги. Вы едете отдыхать. Нельзя ли возобновить в Варшаве некоторые прежние знакомства? — Я военный, господин Ламмердинг, а не тайный агент, — резко ответил Марчковский. Штандартенфюрер усмехнулся: — Я и не хочу предлагать вам стать тайным агентом. Для этой цели у нас достаточно других людей. Но, установив контакты с лицами, связанными с подпольем, — а я думаю, это не составило бы для вас особых трудностей — вы могли бы оказать помощь Германии. — Я не совсем вас понимаю, господин штандартенфюрер. — Скажите, полковник, вы искренне преданы нашему делу? — По-моему, я доказал это. — Вы правы. Так вот, ради нашего дела и ради гуманной цели — предотвращения гибели множества людей вы должны взять на себя ответственную миссию. (Садист и каратель, руки которого были по локоть в крови, говорил о гуманизме!) По имеющимся у нас данным, в подполье зреет мысль о восстании. Она зреет и среди тех, кто находится под влиянием коммунистов, и среди сторонников лондонской эмиграции. Чтобы не допустить бессмысленных жертв, надо вбить клин между этими группировками, предотвратить восстание. Вы знакомы с генералом Бур-Коморовским? — Был знаком когда-то. — Генерал сейчас в подполье… Надо найти пути к нему. Надо убедить его в том, что коммунисты для него, для Армии Крайовой, для Польши представляют самую большую опасность. Бур-Коморовский должен понять это. Он должен понять, что ему более выгоден союз с нами, чем с коммунистами. Марчковский молчал. Ламмердинг сверлил его глазами. — Да, самый страшный враг для нас — коммунисты. Генерал — умный человек, он знает это и не должен упускать из виду никогда, бросая на чашу весов возможные решения. Нам следует усилить пропаганду среди польского населения, которое подчас забывает о том, что главная угроза для европейской цивилизации идет из Москвы. Надеюсь, теперь вы поняли, о какой помощи я хочу вас просить? — Все это весьма неожиданно, господин штандартенфюрер. Я должен подумать прежде всего о своих возможностях. Я не привык принимать опрометчивые решения. — Конечно, конечно, вам следует подумать, — согласился Ламмердинг. — Не скрою, что задание сопряжено с опасностью. Я дам вам номер телефона, чтобы вызвать помощь, если она понадобится. — Он протянул полковнику листок с номером телефона. У него все было предусмотрено заранее. Марчковский извинился, закурил и направился в хвостовую часть самолета. У входа в соседний отсек его вежливо остановил эсэсовец: — Господин полковник, ходить по самолету не разрешается. Курите, пожалуйста, на своем месте. Даже здесь, в специальном самолете, офицеров абвера, везущих оперативные планы, тщательно охраняли. Марчковский вернулся на свое место. Около Ламмердинга стоял офицер, слушавший указания штандартенфюрера. При приближении Марчковского он быстро закончил разговор, но полковник успел услышать последние фразы: — Маршрут штабного самолета будет сообщен вам завтра утром. Вылет тотчас же… Итак, офицеры абвера не полетят дальше на самолете Ламмердинга. Из Варшавы они отправятся в штабном самолете, маршрут которого будет сообщен только накануне отлета… Значит, еще есть какие-то шансы… Ничтожные, но есть… — Господин Ламмердинг, а вы надолго в Варшаву, если это не секрет? — возобновил разговор Марчковский. — Возможно, дела задержат меня на несколько дней, — подумав, ответил Ламмердинг. — Если я вам буду срочно нужен, звоните по номеру, который я вам дал. Назовите себя и попросите связать со мной. А через две недели надеюсь встретить вас в Полоцке. Самолет подлетал к Варшаве. Марчковский смотрел в иллюминатор, чувствуя, как охватывает его волнение, которое он испытывал всегда, ожидая встречи с родным городом… Самолет пошел на посадку. В конце взлетной полосы остановился и замер. Пилоты открыли выход. Шестеро офицеров со штабными портфелями спустились на землю. Марчковский видел в иллюминатор, как одна за другой подкатывали к самолету машины, как каждый офицер передавал в раскрытую дверцу портфель и возвращался в самолет: офицеров меняли, продолжать рейс на штабном самолете предстояло другим. Машины отъезжали, сопровождаемые мотоциклами с колясками, в которых сидели автоматчики. Ламмердинг попрощался с Марчковский. — Не забывайте о нашем разговоре, полковник, — напомнил он. — И не теряйте времени. Оно очень дорого. Штандартенфюрер спустился по трапу и сел в подрулившую к самолету машину. За ней подкатили еще две машины, в которые уселись спутники Ламмердинга. Марчковский оглядывался по сторонам, соображая, как ему выбраться через летное поле к выходу с аэродрома, но в это время около него затормозил автомобиль и шофер окликнул: — Прошу, господин полковник! Марчковский узнал Курта, того самого шофера, который возил его по Варшаве, когда он несколько дней назад останавливался здесь на сутки. — Опять вы! — улыбнулся Марчковский. — Господин полковник, я не только шофер, но и телохранитель, — ответил Курт. — Приказом штандартенфюрера я поступаю в ваше распоряжение. Курт отвез его в гостиницу. Марчковский отпустил машину. Медлить было нельзя. Надо было действовать. У него оставалось слишком мало времени. Что же ему делать? Выход был один — встретиться с Дедом.5. Маршрут «Z»
Марчковский отправился в варьете пешком. Так было легче установить, ведется ли за ним слежка. Немного поплутал по улицам, останавливался около газетных стендов и витрин, но ничего подозрительного не заметил. В театр попал как раз к окончанию репетиции, прошел за кулисы. Его здесь почти все знали: роман с Терезой тянулся не первый год. Здороваясь с попадавшимися на пути актерами и актрисами, он прошел к уборной Терезы и, постучав, отворил дверь. Тереза обрадовалась, увидев его. Он поцеловал ее. И тут заметил, что они не одни. В кресле сидел незнакомый Марчковскому полковник, поигрывая висевшим на цепочке моноклем. — Герхард Фиртель, — представился он. — Викентий Марчковский, личный консультант генерала Гросса. — Я слышал о вас от штандартенфюрера Ламмердинга и видел сегодня на аэродроме. — Викентий — мой старый друг, — сказала Тереза. — Ты из Берлина? — Да, только час назад приземлился в Варшаве. Фиртель поднялся. — Простите, но я вижу, что мне следует оставить вас наедине. — О, что вы, полковник, — возразила Тереза. — Нет, нет, у меня достаточный опыт, чтобы понять, когда я являюсь лишним. Он поцеловал руку Терезе и, повернувшись к Марчковскому, вытянул перед собой руку. — Хайль Гитлер! — Хайль… Когда за Фиртелем закрылась дверь, Тереза обняла Марчковского: — Я так ждала тебя! Ты совсем забыл меня, Викентий! — Не сейчас, Тереза, — мягко отстранил ее Марчковский, — мне необходимо встретиться сегодня же с Дедом. Крайне необходимо. — Я даже не знаю… — неуверенно проговорила Тереза. — Пойми, я никогда тебя об этом не просил. Раз прошу — это очень важно. Тереза потерла руками виски. — Я попробую. Но не уверена. Ты сам понимаешь, как это сложно. Ты тогда подождешь меня здесь, а я попытаюсь связаться с нашими друзьями. Марчковский взял маленькую руку Терезы в свои большие ладони, посмотрел ей в глаза: — И главное, Тереза, все надо сделать очень осторожно. Я не уверен, что за мной нет слежки. Может быть, в иных обстоятельствах я не решился бы подвергать опасности Деда, но другого выхода нет. Она понимающе кивнула головой. В ожидании Терезы Марчковский прошел в артистический буфет, выпил чашку кофе. Неожиданно в дверь просунулась голова Рышарда Вислянского. Он заметил полковника и попытался моментально исчезнуть. Но было уже поздно. Марчковский пошел за ним. Нагнал в узком длинном коридоре и, тронув за плечо, жестом предложил следовать за собой. Рышарду ничего не оставалось, как повиноваться. Они зашли в уборную Терезы. Марчковский сел в кресло. Рышард молча стоял перед ним. — Вы стали забывать старых знакомых, Рышард, — сказал полковник. — А евангелие учит: на добро надо отвечать добром. — Простите, я не заметил вас, — пробормотал тот. — Когда вам было нужно, вы замечали, очень хорошо замечали. Хочу напомнить вам, что не люблю неблагодарных. — Я, право, не хотел, пан полковник… — Ваше чистосердечие вас спасает. Так и быть, я прощу вам эту неучтивость. Но только в первый и последний раз. А теперь садитесь. Рышард продолжал стоять, не зная, как себя вести. — Садитесь, садитесь. У меня к вам есть разговор. Молодой человек сел напротив полковника. — Вот что, Рышард, мне нужна связь с Армией Крайовой, с генералом Бур-Коморовским. Ему угрожает опасность, я должен предупредить. Вы можете мне помочь? — Он в упор смотрел на Рышарда. Тот сперва побледнел, потом пришел в себя, замахал руками: — Господь с вами! Я ничего не знаю. Почему — я? — Знаете, знаете, Рышард. А если не знаете, должны узнать. Мне это необходимо. — Я первый раз слышу об этом… Первый раз… — твердил Рышард. — Не прикидывайтесь простачком. Вы не такой желторотый птенец, как себя подаете. Я все сказал. И хочу предупредить, что не прощаю, когда к моим просьбам относятся невнимательно. Слышите? Мне это необходимо. И вы должны помочь мне. Рышард сопротивлялся недолго. Он опустил голову и проронил: — Хорошо… — Найдете меня завтра здесь, в театре, на утренней репетиции. А теперь идите и действуйте! Рышард отвесил легкий поклон и вышел. «Ну что ж, Рышард Вислянский, — думал полковник, — теперь твоя судьба в твоих же собственных руках. Тут-то я и проверю, кому и как ты служишь. И, быть может, отведу опасность от Терезы»… Тереза вернулась скоро. По ее лицу Марчковский понял, что ей сопутствовала удача. — Дед встретится с тобой ночью, — сказала она. Марчковский весь вечер провел в варьете. Спектакль, в связи с тем что в Варшаве был установлен комендантский час, кончался не очень поздно. Пока шли к дому, где жила Тереза, Марчковский все время следил, не тянется ли за ними «хвост». В назначенное время из подсобной комнаты в квартире Терезы Марчковский прошел через стенной шкаф в небольшой чуланчик. Здесь валялось всякое старье, а в потолке был люк. Марчковский подтянулся на руках и поднялся на чердак. Пройдя в темноте весь чердак, у противоположной стены он нащупал крышку другого люка. Спустившись в люк, оказался в чуланчике квартиры, располагавшейся в крайнем подъезде. Постучал три раза в дверцу стенного шкафа, подождал, пока ее открыли. Он сощурился от яркого света… — Ну, здравствуйте, полковник Марчковский. Рады встретиться с вами. Перед ним стоял Дед. Марчковскому раньше только однажды довелось встретиться с ним. Но знал он о Деде много. Знал, что под этим именем скрывается один из руководителей Варшавского комитета Польской рабочей партии, возглавляющий в подполье боевую группу. Оккупанты давно охотились за ним, обещали награды за его голову, но все было тщетно… Тереза давно знала Деда. Она, чем могла, помогала подпольщикам, хотя и не входила ни в одну из боевых групп. Ей доверяли. И когда она через друзей, связанных с Дедом, передала ему просьбу Марчковского, тот согласился на встречу. Дед провел полковника в комнату, познакомил с двумя товарищами, которые были там. Марчковский в общих словах рассказал о том, что ему поручено сделать все возможное, чтобы узнать, как доставляются секретные документы гитлеровского командования; что эти документы сейчас в Варшаве. Он не сказал, что это за документы, предупредив лишь, что от выполнения задания зависит многое. — Надо выяснить, с какого аэродрома должен вылететь штабной Ю-52, когда вылет… — говорил Марчковский. — Это может произойти даже завтра. А надо еще успеть передать информацию о маршруте самолета! — Если это штабной Ю-52, то маршрут его держится в строжайшей тайне, — заметил Дед. — И карту маршрута отправят на аэродром перед самым вылетом… Дед закурил. Марчковский выжидательно смотрел на него. — Ну а вы что посоветуете, друзья? — обратился Дед к своим товарищам. — Если бы было время, можно было сделать налет на аэродром. Фашисты не рискнули бы отправлять тотчас же штабной самолет. — Они могли бы отправить его с другого аэродрома. Благо их немало под Варшавой. Нет, это не выход. А сделать что-то надо… Я не могу пока сказать вам ничего определенного, полковник, но мы попробуем использовать наших людей, работающих у нацистов. Может быть, удастся напасть на след, узнать, где готовится карта маршрута. А тогда уже будем думать, как ее добыть… Ничего не обещаю пока, но будем действовать. А результаты… мы сообщим вам через Терезу. Полковник поднялся. — Если бы вы знали, как это важно! — Знаю, иначе вы не стали бы рисковать и искать встречи со мной. Дед проводил Марчковского к чуланчику, пожал ему руку. На прощание сказал: — Может, сейчас и не к месту, но хочу высказаться. Вы избрали верный путь, полковник, и еще раз доказали, что вы настоящий патриот. В трудное для отчизны время люди проявляют себя по-разному. Самые стойкие остаются верны своей стране, как бы тяжело ни приходилось. И я с удовольствием пожму вашу руку, когда Польша станет свободной. Марчковский заснул на рассвете, но вскоре же проснулся. Он привык вставать рано и не изменял своей привычке ни при каких обстоятельствах. Тереза спала. Он не стал будить ее, оделся и вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Вернувшись в отель, он побрился и собирался спуститься в кафе, как в дверь настойчиво постучали. Марчковский открыл ее и увидел перед собой полковника Фиртеля, того самого, с которым встретился вчера в уборной Терезы. — Полковник Фиртель? — удивился он. — Чему обязан столь ранним визитом? — Не только соседству, — сказал Фиртель, входя в номер и прикрывая за собой дверь. — Прошу вас следовать за мной. — Он показал удостоверение контрразведки. Марчковский ничем не выдал своего волнения. — Может быть, вы объясните, в чем дело? — Объясню, непременно объясню. А пока следуйте за мной. Машина ждет внизу. Марчковский пожал плечами. Он вышел вместе с Фиртелем, закрыл дверь на ключ, внизу сдал его портье. В машине два офицера потребовали у Марчковского сдать оружие. Он подчинился. Машина въехала во двор комендатуры. В сопровождении Фиртеля и офицеров полковник поднялся на второй этаж — в большой кабинет. Там Фиртель сбросил на кресло свой плащ. — Ну-с, господин Марчковский, что вы нам скажете о варшавском подполье? Что вам известно об опасности, которая угрожает Бур-Коморовскому? Так вот оно что! У Марчковского отлегло от сердца. Значит, Рышард успел донести за столь короткий срок. Рышард — осведомитель, агент Фиртеля. Все ясно. И хорошо, что это выяснилось. Ведь в сети Рышарда могла попасть и Тереза, могли попасть и другие люди, связанные с подпольем! — Я жду, Марчковский, — нетерпеливо произнес Фиртель. — Надеюсь, вы понимаете, что отпираться бесполезно. Я ведь могу организовать очную ставку. Вы торопились о чем-то предупредить польское подполье? О чем? — Хвала вам, полковник Фиртель! Сознаюсь — мне дорога собственная жизнь. И я готов все рассказать и немедленно вызвать сюда соучастников моего «преступления»… — Что это значит? — Господин полковник, разрешите мне позвонить по телефону… Я не сомневаюсь, что соучастники придут сюда. Фиртель немного помедлил, потом указал на телефон. — Звоните. Марчковский набрал номер телефона, который ему оставил Ламмердинг. Он назвал себя и попросил немедленно кого-нибудь прибыть, ибо полковнику Марчковскому угрожает опасность. Каково же было удивление Фиртеля, когда перед ним появился сам штандартенфюрер СС Ламмердинг. — Что случилось? — обратился к Марчковскому Ламмердинг. — Я арестован. Арестован при выполнении вашего задания… Ламмердинг выслушал Фиртеля и раздраженно сказал: — Не обижайтесь на меня, полковник, но вы отрываете людей от дел, занимаетесь черт знает чем, вместо того чтобы наладить как следует свою службу! Марчковский — мой человек и выполняет мое задание. Немедленно отпустите его! И будьте впредь дальновиднее! Я не буду докладывать о том, что вы мешаете нам работать, но я хочу предупредить, чтобы в следующий раз вы были более осмотрительны! Фиртель стоял уничтоженный. Ламмердинг вышел вместе с Марчковский, пригласил его к себе. Гестапо помещалось в другом крыле этого же здания. — Вы исполнительны, полковник. Я вами доволен, — сказал он, — не ваша вина, что вы напали на агента Фиртеля. Продолжайте действовать, и вы, думаю, попадете на нужный след. — Очень жаль, что так получилось, — Марчковский развел руками. — Очень жаль. — Наберитесь терпения, Марчковский, главное — возобновите старые знакомства. — Я постараюсь, господин штандартенфюрер, сделать это через свою невесту. — Вот как? У вас в Варшаве невеста? И вы до сих пор ничего не говорили мне? — Мы решили, что поженимся после нашей победы. Отпразднуем свадьбу в Москве! — Кто же ваша невеста? Откройте мне свой секрет… — Ее зовут Тереза Сокольска… — Звезда варьете? — Она была талантливой драматической актрисой. И, я надеюсь, еще вернется в театр. Но пока она на передовой линии, как и все те, кто искренне помогает делу рейха, верно служит нашему фюреру. Эстрадное искусство сегодня нужнее всего. Оно веселит солдат, вселяет в них бодрость, вдохновляет их на подвиги во имя победы. Ламмердинг удовлетворенно кивнул. — Желаю удачи, — произнес он. Марчковский повернулся и вышел. Внизу, во дворе, он вспомнил, что ему не вернули отобранного револьвера. Пришлось подняться к Фиртелю. Тот принял его совсем иначе, чем полчаса назад. Он извинился, приказал немедленно вернуть оружие, предложил кофе. Марчковский не стал отказываться. — Вы должны понять нашу службу, господин Марчковский, — говорил ему Фиртель за чашкой кофе, — ведь и вы на моем месте поступили бы так же, получив сведения от агента, которому я очень доверяю. А от ошибок никто не застрахован. Во всяком случае, чувствуя свою вину перед вами, я хочу пригласить вас и фрейлейн Терезу на ужин в самом лучшем ресторане! Марчковский поблагодарил. — Правда, я не смогу осуществить это ни сегодня, ни завтра. Надо отправить в специальный рейс один самолет. Мы собирались это сделать сегодня, но подводит погода. И наши службы наблюдения сообщают, что вылет станет возможен только послезавтра. Так что послезавтра вечером, я думаю, буду уже свободен и еще раз прошу вас быть моими гостями! Сначала Марчковский не поверил своим ушам. Потом засомневался. Разве может быть только один специальный рейс… Нет, конечно, речь идет о том самом рейсе!.. Возвращаясь к себе, Марчковский подумал: уж не тактический ли это ход опытного контрразведчика?.. Может быть, Марчковский стал участником ловко разыгранного спектакля?.. Может быть, фашистские контрразведчики, установив, что оперативные планы стали объектом внимания советской разведки и в чем-то подозревая польского полковника, сознательно пытаются увести его на ложный путь? Для этого и разыгран весь спектакль?.. Но против этого предположения сам же Марчковский выдвинул достаточно веские аргументы. Вряд ли абвер пошел на то, чтобы вовлечь в эту игру такую фигуру, как Ламмердинг, вряд ли гестапо и абвер могли вместе разыграть спектакль со столь сложной интригой. Вряд ли Фиртель принес бы в жертву такого агента, как Рышард, только для того, чтобы ввести в заблуждение Марчковского. Но почему Фиртель вдруг рассказал о том, что занимается отправкой специального самолета? Почему? Да, но он ведь не сказал, что это за рейс. Для несведущего человека сказанное им вовсе ничего не значило… Кроме того, с Марчковским он мог говорить на эту тему свободно! Он знал, что полковник летел из Берлина в Варшаву в самолете Ламмердинга вместе с офицерами абвера, которым поручено доставить копии оперативного плана. Значит, Марчковский должен быть в курсе дела, знать о предстоящей операции, и упоминание Фиртеля о специальном рейсе конечно же не могло быть для него особой новостью… Марчковский взял у портье ключ от номера. Тот удивленно уставился на него: всего лишь немногим более часа полковник Фиртель сопровождал его. И вот этот польский офицер стоит перед ним живой и невредимый… Портье чувствовал себя явно не в своей тарелке, и Марчковский, поднявшись к себе, понял почему: не составляло труда заметить, что кто-то рылся в его чемоданах. Он вызвал портье. — Кто-то копался в моих вещах, пока я был вызван по важному делу и отлучился с моим другом полковником Фиртелем. Чтобы к вечеру все, что похищено из моих вещей, было положено на место и впредь подобное не повторялось! — сказал он резко, не глядя на портье. — Надеюсь, вы поняли? В противном случае вы будете давать объяснения самому господину Фиртелю. Портье только кивнул головой. Он, пятясь, вышел из номера. Марчковский не задержался в гостинице. Он отправился к Терезе. Она собиралась на репетицию. — Викентий, ты ушел, даже не предупредив меня! — Она обвила руками его шею. — Ты так сладко спала, мне было жаль будить… — Когда я проснулась, тебя уже не было, и мне стало очень грустно. Я почувствовала, что нам предстоит опять расстаться… Ну почему мы всегда должны расставаться? Неужели мы так никогда и не будем вместе? Настанет ли время, когда тебе не придется собираться в дорогу, покидать меня? Скажи, Викентий! Он ласково погладил ее по голове. — Тереза! Милая! Когда я уезжаю от тебя, делаю это для того, чтобы приблизить день, когда мы будем вместе!.. Наши с тобой жертвы ничтожны по сравнению с теми, которые приносят другие… — Я все понимаю, дорогой, — вздохнула она. — Ну вот и хорошо, — улыбнулся Марчковский. — И давай больше не говорить об этом… А у меня к тебе, Тереза, снова просьба: во что бы то ни стало свяжись с Дедом и передай маленькое сообщение. — Я попробую. — Значит, так, запомни: рейс самолета из-за непогоды задерживается до послезавтра. Занимается им полковник Фиртель. — Герхард? — Да. Он, кажется, ухаживает за тобой? — Пожалуй, только делает вид. Он отлично осведомлен и о тебе, и о наших отношениях. Он осведомлен обо всем, только делает вид, будто ничего не знает. Он и любителя искусств изображает из себя лишь для того, чтобы получать нужные сведения, которые выбалтывают ему у нас, за кулисами. Его интересует, кто из офицеров посещает варьете, о чем они ведут разговоры. Он работает как мелкий шпик. — Кстати, Тереза, будь особенно осторожна с этим Рышардом Вислянским! — Ты подозреваешь в чем-то Рышарда? О, Викентий, это уже болезненная подозрительность. Рышард — непутевый малый, он занимается аферами, но на иное он не способен. — Послушай меня, Тереза, будь очень осторожна с ним! Он агент Фиртеля. — Боже правый!.. — вырвалось у Терезы. Марчковский проводил Терезу до варьете и вернулся в отель. Он продолжал ломать голову над тем, как подобраться к Фиртелю, как узнать о маршруте штабного спецсамолета… Все надежды были только на Деда. Иного пути Марчковский не видел. Дед, наверное, все-таки может что-то сделать… У него, конечно, есть свои люди в нацистских учреждениях. Это несомненно… Но сможет ли он решить такую сложную задачу? И вдруг Марчковскому пришла в голову мысль использовать Рышарда. Уж кто-кто, а этот-то был вхож к Фиртелю. Иное дело, что его не очень-то посвящали в дела абвера, но он все же мог при желании найти какие-то пути… Помимо прочего, Рышард — пройдоха, аферист… Да, да, конечно, Рышард! Марчковский немедля отправился в варьете, разыскал Эдитку Вислянскую и спросил, где можно найти ее брата. На счастье оказалось, что тот еще с утра забрел к сестре и отсыпается у нее дома после бурно проведенной ночи. Эдитка жила неподалеку от Терезы. Марчковский прошел по набережной Вислы, знакомыми переулками выбрался на улицу, где находилась нужная ему квартира. Дом был старый и грязный. Долго блуждал Марчковский в длинных полутемных коридорах, где стоял запах квашеной капусты. Потом долго звонил в дверь, пока наконец не послышались шаги и голос Рышарда: — Кто там? — Откройте. От пани Эдиты. Рышард открыл дверь и остолбенел. Не давая ему опомниться, Марчковский вошел в прихожую и захлопнул за собой дверь. — Не ожидали? У Рышарда задергался глаз. От неожиданности он не мог произнести ни слова. Марчковский снял шинель, повесил ее на вешалку и прошел в комнату. Рышард последовал за ним. — Я вижу, вы изрядно покутили. Но пора приходить в себя. Садитесь. Рышард повиновался. — Я пришел к вам, чтобы вы мне рассказали, как вы донесли на меня полковнику Фиртелю. На что вы рассчитывали! Неужели вы могли предположить, что я настолько глуп, чтобы, зная, кому вы служите, откровенничать с вами, прибегать к вашей помощи? Хорошо же вы отплатили мне за услуги! Рышард молчал. Его била легкая дрожь. — Я не буду пачкать свои руки, но я могу передать подполью данные об одном из осведомителей и доносчиков, о платном агенте контрразведки, на совести которого, видимо, немало жертв. А вы отлично знаете, какие приговоры подполье выносит нацистским агентам и как они приводятся в исполнение… Но есть у вас и другой шанс — шанс спасти свою шкуру. Рышард поднял голову, взглянул мутными глазами на Марчковского. — Да, Вислянский, я затем и пришел к вам, чтобы дать этот шанс. — Я сделаю все, пан полковник, спасите меня!.. Я запутался!.. Я… я буду служить вам! Спасите!.. — Он опустился перед Марчковский на колени и зарыдал. — Перестаньте, Вислянский, — Марчковский с омерзением оттолкнул Рышарда, пытавшегося поцеловать ему руку. — Слушайте внимательно! Рышард поднялся с пола, присел на диван. — Мне нужно добыть некоторые данные из ведомства полковника Фиртеля. Он увидел, как Рышард изменился в лице, как широко раскрылись его глаза. — Да, Рышард, вы не ослышались. Каждый делает свой бизнес, как умеет. Вы делаете золото, не щадя других. Разрешите уж и мне действовать так же. Я хочу иметь деньги. И вы поможете мне в этом! Рышард как будто пришел в себя: он увидел, что Марчковский вовсе не собирается пристрелить его на месте. — Я жду ответа. — Но я маленький человек… Как могу я раздобыть у пана полковника то, что вас интересует?.. — А это уж ваше дело. Вы должны сделать выбор. Или достанете те сведения, которые меня интересуют, или я передаю вас в руки тех, кто не прощает предательства. Я человек слова и сдержу его. Рышард обхватил руками голову. Долго молчал. Потом взглянул на Марчковского и глухим голосом спросил: — Что я должен сделать? — Послезавтра Фиртель отправляет специальный самолет по маршруту, который мне необходимо знать. Не позже десяти часов утра. Вы спасете свою жизнь и еще заработаете так, как вам не приходилось зарабатывать во время своих вояжей. Вам все понятно? — Но это секретные сведения! Как их добыть?.. — Перестаньте корчить из себя младенца, Рышард. Вы что же, хотите заплатить за свою жизнь сведениями, почерпнутыми в утренних газетах? Рышард снова замолчал. Наконец поднялся, опершись о валик дивана. — Хорошо, я постараюсь. — Так-то лучше! Вы вложите сообщение в конверт и опустите его в почтовый ящик пани Терезы. Потом придете ко мне в гостиницу и доложите обо всем. И помните: если вздумаете шутить, я или мои люди найдем вас, где бы вы ни попытались укрыться. Вам хорошо известно, что даже нацистские чины не могли спастись от возмездия. Если вы разумный человек, то поймете, что должны делать… Марчковский рисковал и знал это. Он попытался все сделать так, чтобы уберечь прежде всего Терезу. На очередной ночной встрече с Дедом было решено, что Тереза, сообщив утром по телефону в варьете о своем недомогании, укроется у надежных людей. Удар — в случае неудачи — примет на себя Марчковский. Кроме того, Дед сообщил, что его люди в фашистской комендатуре и на военных аэродромах Варшавы попытаются добыть какие-нибудь сведения о рейсе. На следующий день Марчковский проснулся, когда еще не начало светать. Сразу вернулись навязчивые мысли. Какой ход сделает противник? Тот самый ход, который был предусмотрен, или совсем иной? Как поступит Рышард Вислянский? Полковник вполне допускал, что Вислянскому не удастся добыть интересующие его сведения, хотя и возлагал определенные надежды на ловкость и сообразительность Рышарда. Конечно, у Рышарда были собутыльники в аппарате Фиртеля… Но если Вислянский не сможет добыть нужные сведения, то не пойдет ли он вновь на предательство?.. Чиркая зажигалкой, полковник курил сигарету за сигаретой. Пробовал переключиться на другие мысли. Ничего не выходило. Он то и дело посматривал на часы. Стрелки ползли томительно долго. Марчковский даже подносил часы к уху, прислушиваясь, не остановились ли. К десяти утра Марчковский был в мундире, тщательно выбрит. Он предусмотрительно расстегнул кобуру, приготовившись дать последний бой, если Рышард все-таки предаст. Правда, брать его будут не здесь: разговор с Рышардом происходил с глазу на глаз, и для того, чтобы предъявить ему обвинение в измене, нужно будет поймать его с поличным. Тем более что Фиртель один раз уже обжегся на Марчковском. И все-таки он готовился к последнему бою. Отгонял от себя мысли об этом, но не подвластный доводам разума инстинкт брал свое. Минуло десять часов. Рышарда не было. Может быть, он просто, воспользовавшись тем временем, которое имелось в его распоряжении, попытался исчезнуть, укрыться, спасти свою шкуру?.. Нет, он не настолько глуп. Но он труслив, как все предатели. Марчковский знал, как боялись подпольщиков фашисты и их приспешники: боялись панически. Время шло. Часы показывали уже двадцать минут одиннадцатого, когда в дверь раздался стук. — Войдите, — ответил Марчковский. Он сидел в кресле, закинув ногу на ногу, разминая в руках сигарету. Вошел Рышард и, не дожидаясь приглашения, опустился в кресло напротив полковника. — Дело сделано, — сказал он. — Можете получить то, что вас интересует. Полковник даже бровью не повел. — Вы достали то, что мне нужно? — спросил он. — Достал, достал… — Как же вам это удалось? — Мне всегда помогали женщины… И для вас пришлось возобновить старую связь с фрау Ютой, машинисткой полковника Фиртеля, провести с ней вечер и половину ночи… а остаток времени постараться расшифровать копирки, которые, к счастью, не успели уничтожить. Думаю, что восстановил я эту дьявольскую схему в общем точно, отклонения могут быть незначительные. — Ну хорошо, Вислянский. Вам придется побыть в моем номере, пока я сам смогу убедиться, что вы хоть раз в жизни не оказались лжецом и негодяем. Но помните: один необдуманный шаг — и вы из номера не выйдете уже никогда. Советую подумать и о том, что, если я не найду конверта на месте, а вместо него найду людей Фиртеля, вы не переживете этого дня, под какой бы надежной защитой ни оказались. У вас есть несколько минут для раздумий. Если вы и на сей раз пошли на предательство, признайтесь лучше сейчас, тогда вам будет дан еще один, последний шанс искупить свою вину. Рышард сделал обиженное лицо и, как показалось Марчковскому, вполне искренне сказал: — Вы сможете убедиться, что Рышард Вислянский не такой негодяй, как о нем порой думают. Я поляк, пан полковник. Марчковский вышел из отеля, быстро прошел к дому Терезы. Все казалось спокойным. Он открыл почтовый ящик, достал заклеенный конверт, сунул в карман и так же быстро пошел обратно. Это был критический момент, когда решалось все. Он знал, что сейчас за ним наблюдают люди Деда. Но не наблюдают ли и нацисты?.. Тогда они должны схватить его тотчас же, вот здесь, с неопровержимой уликой в кармане. Вокруг было тихо. Марчковский миновал квартал, завернул за угол и оказался возле отеля. Поднялся в номер. Рышард сидел в том же кресле, где его оставил полковник. Он казался бледным. — Ну?! — Он вопросительно смотрел на полковника. Тот снял шинель, спокойно уселся за письменный стол, распечатал конверт и увидел выведенную корявым почерком Рышарда надпись: «Маршрут Z». Это было, видимо, закодированное название маршрута. Быстро пробежал глазами лист, на котором был напечатан маршрут. Потом поднял глаза на Рышарда, сказал, что тот может пока идти, но в семь часов вечера должен явиться сюда, в номер. Рышард мгновенно исчез. Конечно, бумага могла оказаться фальшивкой. Ее мог сфабриковать Вислянский, чтобы избавиться на какой-то срок от Марчковского и, воспользовавшись выигранным временем, унести ноги. То, что он не навел Фиртеля, не донес ему на полковника, показывало, что Рышард струсил. Но вот не попытался ли все же этот авантюрист просто потянуть время? Как бы то ни было, план необходимо срочно передать по назначению! Марчковский спустился, вышел на Маршалковскую улицу и, как было условлено с Дедом, стал прогуливаться возле небольшой табачной лавочки. Некоторое время спустя рядом с ним остановился респектабельный господин в строгом черном пальто и котелке. — Прошу прощения, — сказал он, — но мне кажется, мы знакомы с паном полковником. Если не ошибаюсь, вы из Лодзи? — Совершенно верно, мне тоже знакомо ваше лицо, — ответил Марчковский. Они пошли по улице. Завернули в какой-то двор, где находилась авторемонтная мастерская. В ее подсобном помещении и ожидал Марчковского Дед. Дед рассказал, что к плану, который вызывал такой интерес полковника, подобраться не удалось. Единственное, что удалось выяснить, это — что кодовое его название «Маршрут Z». Полковник в свою очередь рассказал, как попал ему в руки план — настоящий или сфабрикованный Вислянским. В любом случае надо немедленно переправить план на базу Неуловимого. — Мы все подготовили, — сказал Дед. — Через два часа мы выходим на радиосвязь с нашими людьми в Полоцке, которые смогут передать «Маршрут Z» по назначению сегодня же. И действительно, в ту же ночь в партизанской бригаде получили этот секретный маршрут, по которому должен лететь штабной самолет. Полученная схема представляла собой свод координат для ориентировки штурмана. Было проставлено точное время, когда самолет пролетит над данной точкой. И тут сыграл свою роль роковой промах Ламмердинга. Доложив командованию об уничтожении партизан Неуловимого, он был и сам уверен в этом. Прокладывая трассу полета с учетом наиболее безопасных для него районов, гитлеровцы отнесли к ним и лесной район, «освобожденный от партизан». В этом районе мы и намеревались встретить Ю-52, если… если схема, добытая Марчковским, была верной. Надо было позаботиться я о том, чтобы гитлеровцы, если нам удастся завладеть оперативными планами фронта, не догадались о происшедшем. На совещании командования бригады было принято, на наш взгляд, единственно верное решение…6. Задание выполнено
Несколько боевых групп пробрались в леса, где когда-то были наши землянки, укрытия. Теперь здесь все было разворочено, чернели гигантские воронки, печально стояли обгорелые стволы деревьев… Группы, вооруженные винтовками и пулеметами, заняли места по трассе движения самолета Ю-52, проходившей над лесом. В точно указанное на схеме время послышался рокот моторов. Рышард Вислянский на сей раз не солгал… Самолет летел низко. Это облегчило задачу. Как только он появился в поле зрения, по нему был открыт массированный огонь. После первых же пулеметных очередей самолет загорелся. Оставляя шлейф черного дыма, он стал снижаться. А еще через несколько минут раздался сильный взрыв. В тот же день вечером я зашел к радистам и попросил выйти на связь с Центром. Через некоторое время радист доложил: — Связь установлена. — Передайте кодом номер три… Радист удивленно посмотрел на меня. Это был старый код, которым мы давно не пользовались. — Но ведь этот код наверняка известен фашистам! — Передавайте, как я сказал… Радист начал передавать:«Случайно обнаружен и сбит самолет Ю-52. Самолет загорелся в воздухе. После удара о землю, огонь достиг баков, произошел сильный взрыв, разнесший самолет на куски. Обломки самолета сгорели. Ничего ценного обнаружить не удалось».Затем я вызвал командиров наших подразделений и боевых групп. — Среди жителей окрестных деревень, возможно, возникнут разговоры о подбитом немецком самолете. Всякие домыслы в данном случае нежелательны. Расскажите всем правду: это был штабной самолет Ю-52, наши группы обнаружили его случайно, был открыт по нему огонь, самолет взорвался и сгорел, среди обгоревших обломков мы ничего ценного не обнаружили. Слухи быстро распространились по району. А еще через несколько дней мне передали, что со мной ищет встречи Гром, недавно возвратившийся из Варшавы. Встреча была организована. Я дожидался Грома в доме на окраине небольшого городка Ветрино. Он вошел и прямо с порога бросил мне: — Неужели самолет сгорел?! — Это прозвучало как упрек. Я ответил: — Сгорел… Марчковский выглядел утомленным. Мне показалось даже, что за эти несколько недель, пока мы не виделись, он еще больше поседел. — Весь, как есть, сгорел? — переспросил Марчковский. — Полностью… А откуда, вам об этом известно, Гром? — В гарнизонах только и разговоров что о гибели Ю-52. Вашу шифровку перехватили… Очень жаль, что все так кончилось! — Марчковский опустился на стул, обхватив голову руками. — Чертовски обидно, что все было напрасно!.. Теперь они срочно пошлют дубликаты. Но нам повторить такую операцию не удастся. Никак не удастся!.. — Очень прошу вас, Гром, не огорчайтесь! И знайте: свое задание вы выполнили отлично, о чем я обязательно доложу в Москву. — Я старался подбодрить его: — Когда начнется наступление наших войск, мы сможем перебросить вас в Москву. Вы сможете наконец вздохнуть спокойно, полной грудью… — Значит, наступление все-таки будет?.. — Обязательно будет, Гром! — А знаете, Неуловимый, — Марчковский хитровато сощурился, — штандартенфюрер СС Ламмердинг не такая простая штучка! Поверьте, я смог его узнать хорошо. Местных жителей уже опрашивают: действительно ли горел самолет, слышали они взрыв?.. Ламмердинг не успокоится, пока не увидит воочию обгоревшие обломки Ю-52 и клочья, пепел кожаных портфелей. Хотя бы двух-трех… — Очевидцы расскажут им все, как было. Возможно, люди Ламмердинга найдут и куски этих сгоревших портфелей… Марчковский смотрел на меня и, кажется, начинал все понимать. Во всяком случае, настроение у него поднялось. — Я сообщу вам добрые вести, Неуловимый: штандартенфюрер СС Ламмердинг вчера послал официальную телеграмму в Берлин. В ней сообщается, что штабной самолет Ю-52 был случайно обстрелян группой уцелевших после разгрома партизан и полностью сгорел… Спасибо, Гром! Спасибо, дорогой друг! Читатель, наверное, догадался, что с Ю-52 все обстояло не так. Никто, кроме руководителей операции и участников особых боевых групп, не знал правды о сбитом самолете: до поры до времени никто не должен был знать о судьбе шести кожаных портфелей. Когда самолет загорелся, он резко пошел на снижение. Летчики оказались опытными, никто не выбросился с парашютом, они пытались сбить пламя и посадить терпящий бедствие самолет. Им удалось избежать немедленного взрыва баков при падении самолета. Но когда мы открыли люк, то обнаружили, что весь экипаж и пассажиры мертвы. Слишком силен оказался удар. Первое, что сделали наши бойцы, — ликвидировали пожар. Огонь был сразу погашен пущенными в дело телогрейками и брезентом. Действовали предельно собранно и быстро. Из кабины были вынесены шесть кожаных портфелей. Немедленно группа из шести бойцов переложила содержимое портфелей в свои рюкзаки. К этим бойцам присоединилась еще группа, тоже из шести человек, с точно такими же рюкзаками. Обе группы сразу устремились в лес, подальше от самолета. И здесь началась очень странная работа. Портфели заполнили бумагой, по качеству точно такой же, на какой гитлеровцы печатали свои секретные материалы. А потом эти портфели были вновь вложены в руки мертвых офицеров абвера. Тем временем подготовили самолет к взрыву. Группы отошли на безопасное расстояние, и тогда мощный взрыв потряс воздух. Мы учли все и постарались создать вполне правдоподобную — во всех деталях — картину гибели штабного Ю-52. Партизаны осмотрели обломки, тронули пепел одного из сгоревших портфелей — в общем оставили здесь свои «следы». После этого боевые группы покинули лес и благополучно возвратились на базы. Теперь надо было дезориентировать гитлеровцев — и «шифровкой», и свидетельствами местных жителей, которые наблюдали за падением Ю-52. Надо было убедить всех в том, что важные документы не попали в руки партизан, что гибель самолета произошла в результате слепого случая… Правду о том, каким путем должны быть доставлены оперативные планы гитлеровского штаба через линию фронта, мы, командиры и бойцы особых групп, участвовавшие в «охоте» на Ю-52, хранили в строжайшей тайне. Даже от своих товарищей. Этого требовало дело. И даже одному из главных участников операции — Грому — Марчковскому нельзя было до поры до времени знать всю правду. Специальные группы карателей обшаривали лес, опрашивали свидетелей катастрофы самолета… Очевидцы могли лишь утверждать, что, действительно, видели над лесом горящий самолет, а потом слышали сильный взрыв. Отыскали гитлеровцы и обломки самолета. Штандартенфюрер СС Ламмердинг лично убедился, что все штабные портфели сгорели дотла. Он сообщил об этом в Берлин. Новый секретный штабной Ю-52 летел на большой высоте, сопровождаемый истребителями. В его кабине шестеро офицеров абвера судорожна сжимали ручки шести кожаных портфелей, в которых находились дубликаты гитлеровских планов. А в это время эти планы внимательно изучались в Москве. Они были доставлены в столицу вместе с нашим донесением:
«В результате тщательно подготовленной операции нами был сбит штабной секретный самолет Ю-52. В самолете оказалось шесть кожаных портфелей гитлеровского генерального штаба. Первое сообщение о Ю-52 прошу не принимать во внимание, как заведомо ложное, переданное для дезориентации врага. Цель достигнута: штандартенфюрер СС Ламмердинг специально сообщил в Берлин, что при взрыве самолета планы погибли. Недавно к линии фронта пролетел новый Ю-52 — вероятно, с дубликатами оперативных планов фронта, оригиналы которых посланы вам… Готовы выполнить новые задания Центра. Неуловимый».Вскоре нам приказано было активизировать свои действия. Началось широкое наступление наших войск на всем протяжении фронта в Белоруссии. Мы, партизаны, наносили удары по гарнизонам, по укреплениям противника, организовывали диверсии на железных и шоссейных дорогах. Весь народ Белоруссии участвовал в этой борьбе. Осенью Центр передал, что на нашу новую базу вылетел самолет из Москвы. Партизаны подготовили посадочную площадку. Ночью зажгли сигнальные костры. Бойцам самолет из Москвы доставил много радости. Были тут и письма от родных, и подарки, и оружие, медикаменты, снаряжение, продовольствие… Командование предложило отправить на Большую землю помимо больных и раненых тех, кто заслужил отдых. Мы уже могли позволить себе подобное. В эти дни я вновь встретился с Марчковским. — Настало время открыть вам всю правду о штабном Ю-52 и о шести кожаных портфелях, — сказал я. Но Марчковский выслушал меня без особого удивления. — Я догадался об этом, — сказал он. — Вы ведь намекнули мне, что все в порядке… — Операция, в которой участвовали и вы, Гром, помогла командованию своевременно узнать планы противника, сорвать его наступление, самим перейти в широкое наступление. Завтра вы полетите нашим самолетом в Москву. Марчковский поблагодарил и ответил: — Нет. Теперь я подчиняюсь не только вам… Я вступил в Польскую рабочую партию. Да и слишком у меня еще много дел впереди. Надо освобождать Польшу. Разве не так?.. — Конечно, так. Но все-таки взвесьте, Гром, все хорошенько: есть возможность лететь в Москву! — Москва… Вы знаете, — его лицо посветлело, — мы с женщиной, которую я люблю, дали клятву после войны обвенчаться именно в Москве. И я не могу нарушить клятву. — Он улыбнулся. — Я приеду в Москву только с Терезой. А сейчас… А пока… до встречи в Варшаве, — Гром протянул мне руку. Я не предполагал, что вижу Грома — Марчковского в последний раз… Марчковский работал в подполье в Варшаве и стал жертвой предательства. Как «особо опасного преступника», Викентия доставили в Берлин. Больше его никто никогда не видел. Марчковскому не удалось выйти живым из застенков гестапо. Известно лишь, что он выдержал страшные пытки и погиб как герой.
ПОБРАТИМЫ
1. Как господин Шварц оказался во Львове
Он хромал. По старался шагать так, чтобы никто не обратил на него внимания. Стиснув зубы, превозмогая жестокую боль, пытался идти ровно, как можно меньше припадая на правую ногу. Куда он шел под знойным солнцем по улицам Львова? Ни украинского, ни польского языка он не знал. Обратиться за помощью было не к кому. Три часа назад его подобрали на дороге крестьяне: он потерял сознание и лежал в придорожной пыли. Волы, тащившие повозку с арбузами, остановились перед распластавшимся на земле человеком. Крестьяне подняли его в повозку, уложили на солому. Очнулся он уже во Львове, на базаре — шумном и многоликом: его толкал ногой полицай. Крестьяне, посмеиваясь, что-то объясняли полицаю. Кто-то сказал по-украински: — Ось як напывся… Ничого нэ чуе! Нет, тут, на базаре, оставаться было нельзя. Вот он и поднялся с соломы, вот и потащился по улицам, пыльным, горячим… Ему нужен врач, надо перевязать рану. Кусок полотна от рубашки, которую он разодрал на себе, чтобы замотать рану, намокает от крови. Вот начнет кровь сочиться, и потянется за ним кровавый след. Тогда все пропало: схватят, увидят, что рана пулевая… Человек внимательно разглядывал вывески. Некоторые из них были и на немецком языке. Наконец он нашел слово «врач». Перед глазами плыли оранжевые, красные круги. Было трудно держаться на ногах. Он толкнул дверь, ввалился в подъезд и рухнул на пол. В доме говорили по-польски. Он не мог понять ни слова. Хозяин, мужчина низенького роста, с непропорционально большой головой, обратился по-русски: — Кто вы — русский? Вы русский? Человек молчал, делая вид, что не понимает вопроса. Доктор перешел на немецкий. — Вы говорите по-немецки? — Да, — простонал незнакомец. — Вы немец? — Нет. Я чех… Доктор приказал прислуге: — Несите его в мой кабинет, он потерял много крови. Раненому помогли, сделали перевязку, оставили на ночь. Ночью он тихо встал с постели, тронул дверь. Она оказалась запертой. Он подошел к окну, но и окно было закрыто снаружи ставнями. Некоторое время постоял в раздумье, затем распорол подкладку в брюках у пояса, вынул оттуда небольшую гильзу. Внимательно осмотрел комнату. Кроме трех кроватей, тут не было другой мебели. Случайно взгляд его обнаружил в полу отдушину, прикрытую железной решеткой. Достал нож, осторожно отогнул гвоздь, поднял железную решетку, просунул в уголок гильзу, снова ввернул гвоздь на прежнее место. Капсула лежала в хлопьях пыли, ее совсем не было видно, сквозь решетку вообще ничего невозможно было рассмотреть. Только теперь он облегченно вздохнул. Хотя понимал, что отсюда ему не выйти. Опытный подпольщик, он научился сразу распознавать людей. Этот врач не внушал доверия. По всей вероятности, он уже сообщил в комендатуру о странном посетителе, который пришел с пулевой раной в ноге… Он не ошибся. Среди ночи послышался шум. Двери распахнулись — на пороге стояли гестаповцы. — Документы! — потребовал офицер. Он спокойно достал из кармана паспорт, протянул офицеру. — Шварц?! Уроженец Судетской области? Подданный Чехословакии? Как вы здесь очутились, господин Шварц? Что все это значит? Вы инженер-конструктор мебельной фабрики в Праге — в вашем паспорте штамп. И, наверное, сейчас вы должны быть на работе, конструировать шифоньеры и письменные столы, а не бродить по Львову. Объясните, что с вами произошло? — Не знаю… — проговорил человек, именовавшийся по документам Шварцем. — Не помню… Меня оглушили в пивной… Я очнулся в самолете… Потом нас обстреляли… Самолет разбился… Я прыгал… — С парашютом? На вас был парашют? — На меня надели парашют, насильно сбросили. — Кто? — Я их не знаю. — Они говорили по-русски? — Они при мне молчали. — Где они? — В воздухе нас обстреляли. Меня ранило. Что стало с экипажем самолета, мне неизвестно. — Зато мы знаем, что стало с экипажем, — сказал гестаповец. — Собирайтесь! Его бросили в камеру. Не в одиночку, а в общую камеру, он понял для чего: в расчете на то, что он, быть может, разговорится с соседями. Густав Варец — таково было настоящее имя инженера Шварца — знал, как себя вести в подобных ситуациях. Если кто-то из заключенных допытывался, за что его схватили, он повторял то же самое, что говорил гитлеровцам в доме у врача, что твердил и на допросах. — Вы утверждаете, что вас похитили неизвестные лица? — спрашивал следователь, которому было поручено вести дело Шварца. — Да, видимо, это так. — А вы не знаете, зачем они это сделали? — Понятия не имею. — Так вот, чтобы вы поняли всю серьезность своего положения и постарались кое-что вспомнить, я вам скажу: экипаж упавшего самолета захвачен нами. Не выдержав пыток, один из захваченных нами сознался, что вы действовали заодно. Это была чистейшая ложь. Варец облазил поросшее кустарником поле, куда упал самолет, и сам удостоверился, что все члены экипажа мертвы. Только штурман еще дышал, но и он скончался на руках у Густава. Варец прыгал первым, и гитлеровцы не успели открыть по нему прицельный огонь. Его спутников они расстреляли в воздухе. — Нет, — ответил Варец. — Видимо, эти люди что-то путают. Они приняли меня за кого-то другого. Я не имею к ним никакого отношения. Я честный человек! Я и в мыслях не имел того, о чем вы говорите. Я был богат и доволен жизнью… — Кто были ваши друзья? С кем вы чаще всего виделись в Праге? Не было ли среди них коммунистов? — Мои друзья? Это люди, посещавшие «Сливовицу» — пивнушку, в которой я любил проводить свободное время… — Интересно, кто же посещал пивнушку? Варец стал перечислять богатых содержателей ресторанов, магазинов, называл имена высокопоставленных чиновников, с которыми действительно был знаком. «Сливовица» — заведение, в котором собирались люди имущие. Здесь Варец — Шварц получал индивидуальные заказы на конструирование мебели для домов и загородных вилл богачей. Он оборудовал кабинеты, гостиные, столовые, спальни мебелью, специально изготовленной по заказам клиентов. Получить мебель «от Шварца» считалось признаком хорошего тона, было модой. На допросах Варец старался как можно больше рассказывать об этой стороне своей жизни. Он понял, что у гестапо прямых улик против него нет. Никаких фактов, одни лишь предположения и догадки. При обыске ничего компрометирующего у него не нашли. Все, что было при нем, свидетельствовало о том, что он отнюдь не собирался в дальнюю дорогу. Ну а пулевая рана — это еще не доказательство, что все рассказанное им — вымысел. — Вы лжете! — кричал следователь. — Мы заставим вас говорить! Начались пытки. Но Варец продолжал утверждать то же, что и раньше. Он — Шварц, конструктор одного из мебельных предприятий Праги. Он ожидал, что его отправят в Прагу или в Берлин, где он попадет в руки более искусных следователей. Этого не произошло, и Варец сделал для себя вывод, что фашисты не сумели обнаружить ничего, что свидетельствовало бы против него. После допросов его бросали в камеру истерзанного, полуживого. Заключенные спешили дать ему воды из кружки, старались помочь. Он видел искреннее сочувствие в глазах большинства заключенных. Но ведь среди них мог быть и провокатор… Варец молчал, хотя мысль работала напряженно: как передать на волю весть о том, что микропленка в капсуле находится в отдушине пола в доме доктора Дольского?.. Заранее были предусмотрены самые различные варианты, среди них и тот единственный, если Варец попадет в руки гестаповцев; в этом случае он обязан ждать человека с паролем. Паролем будет служить обыкновенная чешская почтовая марка. Предъявителю марки Густав может полностью довериться… Гитлеровцы предполагали, что Шварц возвращался с какого-то задания. Они и держали его во Львове со специальной целью: конечно же он попытается дать о себе знать кому-то. А уж получив в руки такую ниточку, несложно будет распутать весь клубок… Пока же гестаповцы тщательно изучали лиц, посещавших пивнушку «Сливовица». — Господин Шварц, — вялым голосом обратился к Варецу человек в штатском на одном из допросов, — нам известно, что каждый год вы на короткое время бросали работу и уезжали из Праги. Куда? — В Татрах у меня есть небольшой домик. Я проводил там иногда месяц или два. Иногда зимой, иногда летом. У меня туберкулез, поражено левое легкое. Врачи всегда рекомендовали мне природу, лесной воздух. — Кто может подтвердить ваше алиби? — Алиби? — стараясь казаться искренним, удивился Варец. — Ну конечно. Вы русский разведчик, вы брали отпуск, ссылаясь на болезнь. Делали вид, что ехали в Татры, а сами пробирались в известное вам место, где ждал самолет, и вы отправлялись в Россию. Как видите, мы знаем больше, чем вы думаете. Кто с вами бывал в Татрах? Кто может подтвердить, что вы проводили время именно там? — В пражском туберкулезном диспансере, где я состою на учете, знают, что я уезжал в Татры. В своем домике я вел обычно одинокую жизнь, старался отдохнуть от шума, от людей… Это должно быть понятно при такой болезни. Но, конечно, я встречался с людьми. Я постараюсь вспомнить… — Лучше постарайтесь вспомнить, о чем вы иногда беседовали в пивной «Сливовица» вот с этим господином. Он вам знаком? — Человек в штатском протянул фотографию, блеснувшую от луча яркого света, который был наведен на лицо Вареца. Густав сразу узнал на фотографии инженера-изобретателя Яна Поталека. Ян Поталек был схвачен несколько месяцев назад в Праге. Варец немедленно подготовил микропленку с чертежами Поталека. После этого он отправился в район, контролируемый чехословацкими партизанами. Там и приземлился самолет. Все шло благополучно, пока самолет при возвращении не нащупали «мессеры»… Варец хорошо знал Поталека, очень хорошо! — Нет. Я его не знаю. — Он покачал головой. — Лицо этого господина мне знакомо. Наверное, он бывал в «Сливовице», но знакомы мы с ним не были. Я общался там с клиентами, дававшими мне заказы. Этот господин мне ничего не заказывал, готов в том поручиться. — А вы все же постарайтесь вспомнить… — проговорил человек в штатском, протягивая Варецу другую фотографию. На этой фотографии Поталек был изуродован: вместо глаза на лице зияло черное пятно, одна рука была неестественно вывернута, заломлена, лицо и грудь в черных полосах — кровь, раны, ссадины… — У вас пока на месте глаза и уши, руки и ноги, — все тем же вялым голосом продолжал человек в штатском. — Советую вспомнить обо всем, что вас связывало с этим человеком. Иначе вам будет больно, очень больно… И вы станете сначала таким, как человек на этой фотографии, а затем и вот таким… На следующем снимке Ян Поталек был сфотографирован висящим в петле. Варец содрогнулся: Поталек мертв! — Шварц! Инженер Поталек перед смертью нам все рассказал. Ваши запирательства излишни. Вы работали вместе. Работали на Советы. Работали на наших врагов. Вам грозит то же, что вы только что видели на фотографиях… Он замолчал. Молчал и Варец. — Где чертежи передатчика? Где чертежи?! Где?! Где?! — выкрикнул внезапно, приблизив лицо к Варецу, следователь. — Вы ошибаетесь, — тихо проговорил Варец. — Меня принимают за кого-то другого. Я не знал никакого Поталека. Я ни в чем не виновен. Удар в лицо опрокинул его со стула. Струя воды на голову, и снова удар. И опять вода, и уже град ударов. — Нет, нет… Вы ошибаетесь… — хрипел, теряя сознание, Варец.2. По долгу совести
Чехословацкий коммунист Густав Варец родился в семье рабочего-столяра в 1913 году. Его трудовая жизнь началась рано. Семья была большая, и надо было помогать отцу прокормить ее. Десяти лет от роду Густав уже столярничал вместе с отцом. Четырнадцати лет поступил в производственные мастерские. Там он впервые встретил молодых людей, глубоко, всерьез задумывавшихся над судьбой Чехословакии. От них он услышал рассказы о Стране Советов, о борьбе коммунистов за свободу и демократию. Спустя некоторое время Густав становится членом Коммунистического союза молодежи Чехословакии. А в 1933 году вступает в ряды коммунистической партии. Варецу было труднее, чем многим. Тяжелая болезнь — туберкулез — подтачивала силы. Однако он не мыслил жизни вне борьбы. Непримиримый антифашист, горячий патриот, интернационалист, с тревогой следил он за тем, как фашизм укреплял свои позиции в Европе, как тянулись щупальца нацизма к Чехословакии. В то время антифашисты-подпольщики в Чехословакии получили сведения, что по лицензиям некоторых крупных западных стран чехословацкие заводы приступили к серийному выпуску новых видов вооружения. Это вооружение было сконструировано в лабораториях, принадлежащих крупным концернам. Анализ поступавших сведений свидетельствовал о том, что Чехословакия поставляет вооружение различным странам, в том числе фашистской Германии; более того, Германия начинает контролировать все крупные предприятия Чехословакии, вытесняя своего основного конкурента — Англию. Густав Варец вошел в группу, задача которой была исключительно сложной. В секретные цехи предприятий имели доступ только лица, работавшие там. Любому постороннему, будь то даже представитель официальных государственных властей, вход был строжайше запрещен. Варец понимал, что добиться успеха его группа сможет лишь в том случае, если найдет честных людей, патриотов, антифашистов среди тех, кто непосредственно работает в секретных цехах. И группа начала поиски в этом па-правлении… Незадолго до начала второй мировой войны, в середине тридцатых годов, появился в Праге господин Шварц, конструктор одной из мебельных фабрик, художник с незаурядным вкусом. Шварц хранил в глубокой тайне свои контакты с коммунистическим подпольем. Были там опытные конспираторы, люди безгранично смелые, готовые пожертвовать своей жизнью ради общего дела борьбы против фашизма и империализма. Некоторые из них были связаны с производством вооружения на заводах концерна Шкоды, «Збройевки», Чешско-Моравского комбината Кольбен-Данек и др. С их помощью группаВареца получала не только техническую документацию, но и характеристику образцов некоторых новых видов оружия. Одним из таких образцов был ручной пулемет «Брен», производившийся на заводах в Брно по английской лицензии. Немало было и таких людей, которые не способны были оценить реальную обстановку, складывавшуюся в мире. Они искренне верили, что своим талантом и трудом способствуют росту экономической мощи родины. В плену подобных заблуждений находился и Ян Поталек — одаренный инженер-изобретатель. Он был молод и весел, порою даже беспечен. Для него главным были изобретения. И он был счастлив, когда ему поручили возглавить конструкторское бюро на одном из военных заводов. Бюро было оборудовано по последнему слову техники. Светлые, просторные помещения, вся необходимая аппаратура, великолепный подбор специалистов — только твори! Изобретатель поначалу и не подозревал, кто финансировал предприятие. Варецу же стало известно, что фашисты особенно интересуются изысканиями чехословацких ученых и конструкторов в области радиотехники. Тайными путями они вступили в сговор с хозяевами и того предприятия, на котором работал Поталек. Господин Шварц был рад получить заказ на изготовление мебели от инженера Яна Поталека. Он приехал к нему домой, чтобы выяснить, какие стеллажи предпочел бы изобретатель для своего кабинета, как хотел бы их расположить. Инженеры быстро подружились. Постепенно их беседы становились все откровеннее, хотя свои отношения они отнюдь не афишировали, наоборот, Варец соблюдал все возможные меры предосторожности. Поталек к тому времени изобрел универсальную портативную рацию. В Чехословакии изобретение, встреченное с восторгом военными специалистами, было объявлено «государственной тайной», о чем официально заявили Яну Поталеку. Изобретателю предоставили все необходимые условия для дальнейшего технического усовершенствования его аппарата. Поталек вдохновенно работал день и ночь, убежденный, что изобретение послужит для обороны родины. И вскоре первый образец был готов. Варец старался объяснить Поталеку, что его изобретение не будет служить делу мира и безопасности Чехословакии, что страна стоит на пороге катастрофы, что Англия, Франция и Германия втайне от правительства Чехословакии решают, кому достанется этот лакомый кусок. И нет сомнения в том, что, если понадобится, Англия и Франция отдадут Чехословакию в лапы гитлеровцев. — А это значит, что твою радиостанцию возьмет на вооружение германская фашистская армия… — говорил Густав. — Подумай, Ян, хорошенько, прежде чем станешь завершать свою работу… — Ерунда, — отмахивался Поталек. — Мое изобретение объявлено государственной тайной. Оно будет служить только моей родине. Наступил 1938 год. Поталека в его конструкторском бюро посетили высокопоставленные гости. Представители деловых кругов и генерального штаба сопровождали визитеров из Германии. Немцы учтиво поздравили Яна Поталека с новым изобретением. Хозяева предприятия попросили изобретателя продемонстрировать перед гостями технические достоинства нового аппарата. Поталек впервые серьезно задумался над тем, о чем ему так много говорил Густав… Пожалуй, и вправду выходило так, что никакой государственной тайны его изобретение не представляет, что аппарат расценивается лишь как товар, который можно выгодно продать. А что будет дальше, в чьи руки он попадет, как им воспользуются — это никого из хозяев завода не интересует. Были бы заплачены деньги. Встреча закончилась ужином в самом фешенебельном пражском ресторане. На этом-то ужине изобретатель словно бы прозрел, понял, каким он был слепцом… Он увидел, что офицеры генерального штаба, хозяева предприятия, высшие полицейские чиновники держатся как слуги перед немецкими гостями. И тут же, в ресторане, ему был нанесен последний удар: Поталек узнал, что его изобретение будет запущено в производство на немецких заводах. Чехословакия продала патент Германии. Налицо был тайный сговор, измена своему народу. И его, инженера, втянули в это подлое дело!.. Тот день многое изменил в жизни Яна Поталека. До решения содействовать правому делу был всего лишь шаг. И он этот шаг сделал. Произошел такой разговор: — Шварц, скажите мне правду: кто вы? Я чувствую, что вы один из тех людей, которые видят, куда идти, знают правду. — Прежде всего, я люблю свою родину, я антифашист, — отвечал Густав Варец. — И я действительно не только мебельщик, Ян… — Вы коммунист? — спросил Поталек. — Я интернационалист. А это значит, что я служу делу борьбы всех народов с фашизмом. Вы же понимаете, что ни Чехословакия, ни какая-либо другая европейская страна не смогут в одиночку противостоять фашизму. — Я уничтожу свое изобретение! Я сожгу все чертежи, устрою взрыв в моем конструкторском бюро, и все образцы рассыплются в прах! — сказал Поталек. — Нет, Ян. Так вы, во-первых, поставите под удар самого себя и, во-вторых, не сможете принести пользы своему народу, всем народам, борющимся против фашизма. — Милостивый бог, что же я должен делать?! — воскликнул Поталек. — Я готов помогать вам, кому угодно… Но мое изобретение не должно служить гитлеровцам! Вскоре Поталек передал Густаву техническую документацию на свое изобретение. А еще через некоторое время изобретатель смог убедиться, насколько Варец был прав. События, происшедшие почти вслед за последним их разговором, не оставили у Поталека сомнений относительно намерений Германии. Фашистские войска вступили на территорию Чехословакии. Дорогие для каждого чеха улицы древней столицы наводнили солдаты Адольфа Гитлера. В стране были установлены нацистские порядки. Все руководящие должности в государственных учреждениях заняли немцы. Управление страной было поручено «протектору», который назначался Берлином и выполнял волю Берлина. Завоеватели чувствовали себя хозяевами в Чехословакии, беззастенчиво грабили ее. Известный своими аппетитами Герман Геринг прибрал к рукам всю военную и горную промышленность Чехословакии. На огромную сумму были конфискованы военные материалы чехословацкой армии. Военная промышленность работала на полную мощность для обеспечения нужд фашистской армии. Нацисты заставили работать на себя чешских специалистов. Всякий отказ от сотрудничества с фашистами расценивался как саботаж. А саботажников ожидала жестокая расправа. Поталека немцы ввели в специальную группу, которая готовила новейшие системы управления самолетами и ракетами по радио. Густав Варец принимал все меры, чтобы нацисты ни в чем не заподозрили Поталека. Фашисты усиливали террор. Осенью 1941 года «протектором» Чехии был назначен один из высших чиновников гестапо, Гейдрих, получивший от самого Гиммлера указание «действовать энергично и решительно». И новый «протектор» старался оправдать доверие. Буквально каждый день совершались казни патриотов. Приняли массовый характер аресты всех подозреваемых в сопротивлении «новому порядку». Но остановить борьбу народа против оккупантов фашисты были бессильны. Люди объединялись под руководством подпольных национальных комитетов. В первых рядах борцов за независимость шли коммунисты. В некоторых районах страны создавались партизанские отряды. Гейдрих разработал новый план подавления освободительной борьбы в Чехии. Но осуществить этот план ему не удалось. В 1942 году палач чешского народа был убит патриотами. Это вызвало новые репрессии. Прибывший в Прагу по указанию самого фюрера генерал полиции открыто заявил, что уничтожит всех чехов, которые отказываются сотрудничать с нацистами. И это были не только слова. Гестапо усилило надзор за деятельностью военных заводов, взяв под подозрение каждого чеха, работавшего там. Поталек понимал, что в случае провала пощады не будет. Но иначе он не мог: он должен исполнить свой патриотический долг! Былые иллюзии развеялись навсегда. Проходя по пражским улицам, которые пестрели плакатами со свастикой, ежедневно выслушивая наставления фашистских чиновников, он еле сдерживал себя. Как он ненавидел этих чванливых наци, которые принесли столько горя его стране! Он с восхищением воспринимал вести о борьбе против оккупантов: о героизме кладненского студента, создавшего тайную радиостанцию, голос которой был слышен по всей стране; о мужестве патриотов, которые вывели из строя несколько цехов на заводах концерна Шкоды в Пльзене; о взрыве на военном заводе во Влашиме; об актах саботажа на военных предприятиях в Брно, Млада-Болеславе и Градец-Кралове; о том, как чешские рабочие провели «неделю медленной работы», прошедшую под лозунгом «Работай не спеша, работай так, чтобы твоя продукция была как можно хуже!»… Поталек решил, что пришел его час. Он осуществил свой план, который требовал огромного риска, — не только передал Варецу технические документы и чертежи, но и уничтожил уже готовые образцы. Но в чем-то изобретатель так и остался человеком наивным. Он полагал, что только в его конструкторском бюро есть образцы изобретения… На самом же деле гитлеровцы дублировали все его чертежи, все расчеты, все конструкции. Его изобретения уже реализовывались на заводах Германии. Не посоветовавшись на этот раз с Варецем, он все же устроил взрыв в своей лаборатории. Погибли все образцы, все чертежи, все оборудование. Сам Поталек получил серьезное ранение. Конечно, взрыв в какой-то степени осложнил и задержал новые изыскания гитлеровцев в области управляемых по радио самолетов, снарядов и ракет… Поталек был схвачен гестапо. Шварц немедленно покинул Прагу. На партизанской базе его поджидал специальный самолет. Все шло без осложнений вплоть до того момента, когда «мессершмитты» в районе Львова заметили самолет. Командир самолета передал: «Горит левая плоскость. Пробит бензобак… Мы падаем…» Он успел сообщить последние координаты, и на этом связь оборвалась. Ни о судьбе членов экипажа, ни о Густаве Вареце долгое время ничего не было известно. Мне довелось узнать о подвиге Густава Вареца лишь после войны, когда судьба свела меня с тем человеком, который принимал непосредственное участие в его спасении. Оказалось, что мы отлично знали друг друга, что вместе начинали фронтовой путь под Москвой. Этим человеком была смелая болгарская партизанка Вера.3. Вера
Нашим партизанам было поручено собрать сведения о сбитом в районе Львова чехословацком самолете, летевшем из партизанского лагеря в Чехословакии, а также обо всех примечательных событиях, происшедших в самом Львове или в его пригородах за последние дни. На исходе дня, когда догорали лучи заходящего солнца и партизанский лагерь медленно погружался в сумеречную лесную тишину, на стволе поваленного дерева сидели двое: девушка в крестьянской одежде и красивый, стройный мужчина. Девушка — это сражавшаяся в отряде болгарка Вера. Она собиралась идти во Львов на выполнение ответственного задания. Инструктировал ее командир отряда. — Помни, помни все время, — говорил командир, — ты разыскиваешь по больницам и по врачам больную мать. Мать хворая, должно быть, не выдержала жаркого солнца, упала где-нибудь на дороге. Не знают ли чего добрые люди? Не видели, чтобы кого-то поднимали с дороги, несли в больницу?.. Останавливайся у колодцев, молись на распятия. Ты бедная, забитая, верующая… Будь осторожна! Не рискуй зря… Он повторял легенду, с которой уходила на задание Вера. О задании этом знали лишь несколько человек. Вдруг девушка истово закрестилась, запричитала: — Господи, владыка душ наших, господи, владыка душ наших, помилуй нас, грешных рабов твоих!.. Не знают ли люди добрые чего о матери моей, о старушке хворой? Матушку свою ищу, по докторам хожу, по больницам… Командир рассмеялся. — Ну вот, отлично. Тебе просто нельзя не поверить. Он немного проводил ее. На лесной опушке простились. Вера вышла из леса на проселочную дорогу, потом на проезжую, которая вела во Львов. Босым ногам было тепло от нагретой за день солнцем дорожной пыли. Грунт казался мягким как пух. Идти было легко. Сердце билось спокойно. На поле, куда упал самолет, и в окрестные села никого не пускали. Дежурили отряды фельджандармерии и тайные агенты гестапо. А Вере надо было разузнать, что говорят местные жители — очевидцы гибели самолета. Шла она всю ночь, а под утро, как и было рассчитано, выбралась к небольшому селу на берегу Западного Буга. Несмотря на ранний час, у развилки дороги прогуливались жандарм с автоматом и полицай. — Стой! — окликнул полицай Веру. — Кто такая? Куда идешь? — Дюже жарко, господин хороший. Притомилась, думала водицы из колодца испить… — Говори, куда собралась! И откуда сама-то? — Матушку свою ищу… Ходила она по людям, побираться… Да сказывали — удар с ней солнечный получился: не то в больницу взяли прямо с дороги, не то люди приютили. Вот и ищу… — Да разве так вот найдешь… — Полицай покачал головой. — Иди попей воды. Вера пошла к околице, к первому колодцу. Прежде чем опустить журавль с бадейкой в колодец, она стала на колени перед дорожным распятием и молилась, молилась, отвешивая поклоны. Появились патрульные, подошли к полицаю. Вера видела, как они показывали руками в ее сторону. Потом вся группа направилась к колодцу. — Аусвайс! — потребовал патрульный. — Господи милостивый, да я же сказывала: матушку ищу. А найду — так мы обе задумали в Германию податься. Там, слышно, легче. И работу при усадьбе найти можно… — Показывай документы, документы им покажи, — сквозь зубы прошептал полицай и, кивнув на немцев, добавил: — А то эти ребята сейчас дух из тебя вышибут… У нас свой бог, у них свой… — Аусвайс! — Патрульный протянул руку. — Что ему надо-то? — спросила Вера полицая. — Да говорю тебе — документы! Проверят и отпустят. Ты, я вижу, богомольная… Таких мы не ловим. Не переставая осенять себя крестным знамением, косясь все время на распятие, Вера достала справку, которой снабдили ее в отряде, и протянула гестаповцу. Патрульный долго читал бумажку. Томительно тянулось время. Наконец он махнул рукой: — Битте, фрейлейн, — сказал он, возвращая справку. — Аллес ин орднунг. Село как вымерло. Вера подошла к одному палисаднику, открыла калитку, подбежала к хате и постучала в окно. На крылечко вышел взлохмаченный мужчина. — Подайте христа ради… — пропела Вера. — Входи в дом, входи, — сказал мужчина. Он пригласил ее за стол, поставил перед ней горшок с теплой кукурузной похлебкой. — Ешь. Хлеба у нас нет. Вера поискала глазами икону, но углы в комнате были пусты. Тогда она перекрестилась три раза, прошептала молитву и принялась за еду. Мужчина внимательно следил за ней. — Чтой-то не очень ты и голодна… — сказал он наконец. — Я ведь знаю, как голодные-то едят. Давятся… Вера и вправду чуть не подавилась — от неожиданности, от сознания, что в чем-то сплоховала. Но тут мужчина сам выручил ее, оказав: — Небось дома полные погреба, а ходишь вот, побираешься… — Матушку я ищу… Пошла она по людям, да тут, где-то в ваших краях, видно, солнце ее в голову ударило. Сказывают, подобрали на дороге, а куда доставили — не ведаю. Не слыхали чего? — Да нет, чтобы бабу на дороге подобрали — не слыхал. У самого жинка помирает… И что за хворь такая — понятия не имею… Вера до войны училась в медицинском институте в Москве. И к партизанам она была направлена как врач. Мгновение она колебалась, а потом сказала: — Дозвольте посмотрю вашу жинку. — А ты что? И ворожишь, что ли? Ей бы доктора… Да чего там — смотри. Худа не будет. Вера прошла в комнату, где на постели стонала молодая женщина. Лицо у нее было желтое, все в каплях пота. Женщина жаловалась на боль в животе. Вера ощупала живот больной, велела поворачиваться на левый бок, на правый… Она без труда определила, что у женщины острый приступ аппендицита. — Надо везти ее, сердешную, в больницу, везти прямо сейчас, сразу. Годить нельзя. Там ей операцию сделают. Вези ее! Мужчина удивленно смотрел на нищенку, которая вдруг так переменилась, стала решительной, строгой, как настоящий врач. — Что у нее, сестренка? — Надо везти в больницу! Вези скорее! — Ну дела… — пробормотал мужчина, застегивая ворот рубахи. — Пойду искать телегу. А тебе спасибо, не знаю, как тебя величать. Ты уж извини, коли что не так… В ожидании хозяина Вера присела на лавку, прислонилась спиной к стене, закрыла глаза. В памяти почему-то ожило не такое уж давнее прошлое. …Это было в один из осенних дней сорок первого года. На территорию Украины вступили фашистские войска. Где-то неподалеку от Ровно пробивался сквозь темные облака советский самолет — он искал костры на поляне в лесной чаще, чтобы выбросить в тыл врага еще одну группу партизан. Фашисты заметили самолет. Заговорили зенитки. Раздумывать было некогда. Открылись люки, и вниз один за другим устремились парашютисты. Резким порывом ветра парашют Веры отнесло в сторону, и он зацепился за верхушку высокой сосны. Вера повисла между небом и землей. А кругом тишина… Прошел час, другой. Отекли руки и ноги. Но освободиться от парашюта так и не удалось. Ветви были далеко. Как ни старалась Вера, но дотянуться до них не могла. А перерезав стропы, упала бы с большой высоты… Так неудачно начиналось ее пребывание в тылу врага. Из предутренней мглы как бы вспыхнул чей-то добродушный голос: — Глянь, Вася, якась дивчина на сосне растет! Вера глянула вниз и увидела двух парней, опоясанных патронташами и с автоматами за плечами. — Ты що дурочку валяешь? Какие-такие дивчата могут на сосне быть? — А ты глянь ось сюды… — Долго еще говорить-то будете? — отозвалась Вера. — Лучше бы помогли… — Точно: дивчина! Товарищ командир, можно снять ее оттуда? — Лезем!.. Привели Веру в отряд, командир разведки доложил командиру отряда: — Ось, яку птыцу на сосне споймалы! В тот же день партизанского врача ожидало боевое крещение. После схватки отряда с карателями Вере пришлось сделать первую операцию. Чем она больше занималась — врачеванием или боевыми делами? И на Волыни, и под Луцком, и под Ровно ее можно было видеть то в белом халате, со скальпелем в руках во время операции, то в тяжелых солдатских сапогах и гимнастерке. …В сенях послышался шум. Это вернулся хозяин. — Выпросил телегу у старосты, — сказал он. — Собирайся, жена! — Потом подошел к Вере, присел рядом с ней на лавку и тихо заговорил: — Так ты… насчет того, не подбирали ль, мол, на дороге твою маманьку? Ну так вот что… Когда стали стрелять, я в садик выбежал, затаился. Вижу — падает самолет за селом, как факел. А в небе парашютисты. Семь. Один уже совсем низко. А остальные шесть еще высоко, и по ним немцы вовсю из автоматов лупят… Те шестеро все погибли. Их через село утром везли. А седьмой… Пропал седьмой! Партизанка поверила этому человеку. Доверилась ему. — Как были одеты летчики? — Все в военном, в комбинезонах. Это я точно видел. — А в штатском среди них не было ни одного? — Нет. Все в военном… — Седьмого немцы ищут? — Вроде нет, не ищут. По хатам никто не шукает… Ты вот погоди. Я поеду с жинкой, а сюда сейчас кум мой заглянет. Он тебе, може, что и поинтереснее расскажет… Когда хозяин увез жену, пришел другой, пожилой крестьянин — кум хозяина. Он рассказал Вере, как они с соседом везли на базар во Львов арбузы, как остановились, увидев лежащего в пыли человека. Решили, что пьяный. Подняли, положили в повозку на солому. А во Львове он ушел от них… — Куда? — А хто ж його знае. Бильше нэ бачылы його. — Он что-нибудь говорил? — Ни. Молчав. — Вы могли бы его узнать, если бы вдруг увидели? — спросила Вера. — Може, и признав бы… И добавил, что у того человека кожа дюже бледная, зеленоватая даже. И еще на шее большое красное родимое пятно. Думали — не кровь ли? Нет, родимое пятно. — Так он ничего вам и не сказал? Ничего у вас не спросил? — Ничого. — А вы по-украински, по-русски или по-польски говорили в тот раз между собой? — По-польски… Вера узнала: Густав Варец жив, вернее сказать, был жив. И попал во Львов… Во Львове она бродила по больницам и врачам, все искала «матушку», но выведать что-нибудь еще о Вареце не смогла. Возникло предположение, что его схватили гестаповцы. Ей надо было теперь встретиться со связным партизан, который мог сообщить, кто за последнее время попал в гестапо: связной служил посыльным в городской комендатуре и зачастую был свидетелем разговоров, которые давали ему возможность быть в курсе многих важных событий, происходивших во Львове. — Видел такого, точно, видел! — сказал связной. — В гестапо он. — Его в одиночке содержат? — Звать его Шварц… Так записано в регистратуре… А содержится он… в камере, куда сгребают всех подозрительных. Там кого только нет: и старые, и малые, и мужики, и бабы… Факт. Я всех, кто в одиночках-то, наизусть знаю… Итак, Вера узнала главное. Можно было возвращаться на партизанскую базу. Сколько подобных заданий выполнила Вера! Сколько раз ходила она в разведку — на железнодорожные станции, в города, в села…4. В камере
Когда встал вопрос, кому устанавливать связь с Густавом Варецем, Вера попросила командира отряда поручить эту операцию ей. Командир согласился. …Около двух часов пополудни на железнодорожной станции Львов грузился товарный состав. Вагоны набивали продуктами: мясом, салом, маслом, яйцами, овощами, фруктами — всем, чем богата щедрая украинская земля. Все это было награблено фашистскими оккупантами и предназначалось для подарков семьям гитлеровских вояк. На погрузку согнали украинцев, русских. И нередко случалось, что охранники замечали, как изголодавшийся грузчик припрятывал что-нибудь из продуктов. Провинившегося сразу же бросали в застенок, а то и убивали на месте… Киля Остапенко, молодая женщина, одетая в старенький выцветший сарафан, повязанная косынкой, возвращалась домой, на хутор Высокий; она была во Львове на базаре, продавала гуся и теперь держала путь обратно… И надо же было случиться такому: охранники обнаружили, что при погрузке товарного состава пропал ящик масла! Подозрение пало на двух пожилых грузчиков. Но за них вступились товарищи. Завязалась форменная потасовка. Гитлеровцы схватили грузчиков, а заодно всех, кто был поблизости, окружили их и, угрожая автоматами, повели в комендатуру. Ни за что ни про что попала в толпу арестованных и оказавшаяся здесь Киля. — За что меня-то?! Я ничего плохого не сделала! Вот мой билет! Я домой еду! Отпустите! — плача, кричала Киля. — Там разберутся, что ты за птица… Отправили арестованных не в комендатуру, а в гестапо. На сей раз речь шла об открытом неповиновении охране. А это было чревато тяжелыми последствиями. Их провели во двор, где на высоких кирпичных стенах с колючей проволокой торчали башни с пулеметами и прожекторами. Оглушающе лаяли собаки, рвавшиеся с привязи, готовые наброситься на беззащитных людей. Схваченных на вокзале построили в одну шеренгу. Дежурный офицер в сопровождении писаря проверял документы и распределял людей по камерам. — Килина Остапенко, хутор Высокий… — прочел гестаповец и цепкими глазами всмотрелся в лицо молодой женщины. — Воровка! Тварь! Во вторую общую! — Вторая забита, — сказал писарь. — Можно в первую. Такой красавице надо чего получше… Гестаповец усмехнулся: — Да. В первую общую. Крыс кормить… Киля опять расплакалась, пытаясь объяснить, что невиновна, но ее не стали слушать, а выволокли из строя и повели через двор к мрачному серому зданию. Она спускалась по каменной лестнице в темный, вонючий подвал. Камера прежде была холодильником для хранения овощей: пол цементный, стены цементные. Никакой подстилки, никаких нар, люди лежали прямо на полу — сыром и холодном. Одежда на большинстве была ветхая, проглядывало голое тело. И все же, несмотря на ужас, охвативший ее, Вера — а это была она — чувствовала удовлетворение: все идет по плану… Более того: она оказалась как раз в той самой камере, где томился Густав Варец… Готовя операцию, партизаны старались все сделать так, чтобы Вера подвергалась как можно меньшему риску, хотя каждый понимал, что малейшее подозрение в причастности к партизанам грозит ей смертью. — Отдавай все, что у тебя есть с собой, грязная свинья! — приказал гестаповец, который вел ее в камеру. Он отнял документы, деньги, железнодорожный билет до Высокого. Когда за гестаповцем захлопнулась тяжелая дверь, Вера остановилась растерянная, посреди камеры, не зная, что теперь делать, куда присесть. Но тут снова распахнулась дверь, охранники ввели еще нескольких узников, задержанных на вокзале. «Новенькие», объединившись, устроились на полу и принялись обсуждать свое незавидное положение. Вера села с ними. Она все твердила, что ни в чем не виновата, что ее схватили случайно. Она еще не осмотрелась как следует и, конечно, не могла узнать, где лежит человек с красным родимым пятном на шее — человек, ради которого она здесь. Ее волосы под косынкой были заплетены в две небольшие косички. В одну косичку была искусно спрятана маленькая почтовая марка. Постепенно в камере началось движение, узники зашевелились. Новичков окружили, стали расспрашивать, за что их схватили. Киля обратила внимание на человека, который остался лежать на полу и только издали смотрел на новую группу арестованных. — Давайте знакомиться, товарищи… — предложил один из заключенных. — Пусть каждый назовет свое имя и скажет, что́ хотел бы он передать на волю. Запоминайте, люди! Кому такое счастье выпадет — вырваться отсюда, тот пусть и передаст просьбу каждого… Это говорил лысый человек невысокого роста. На его узком лице очень крупными казались карие глаза. — Меня зовут Геннадий Сазонов, я эстрадный артист, был схвачен как подозрительный, — продолжал он. — Подозревают, что я пытался установить связь с партизанами… Люди называли себя, говорили о своем горе, что-то просили передать родственникам. Иные молчали, отвечали уклончиво, боясь затянуть в гестапо других. А Вера не сводила глаз с Сазонова. Ее поразила самоуверенность этого человека. Быть может, это профессиональное — он эстрадник. А может быть, просто провокатор. Во всяком случае, надо быть особенно осторожной с этим человеком, а когда она выйдет на волю, сказать товарищам, чтобы проверили, был ли такой актер и чем он на самом деле занимался. Кто-то из новеньких кивнул в сторону неподвижно лежащего человека: — Не покойник ли? — Почти, — шепотом ответил Сазонов. — Не русский он, надо полагать… Ничего по-нашему не понимает. Говорит на чужом языке. А мучают его, беднягу, больше других. Как привезут с допроса, так на нем места живого нет. Мы все ему хотим помочь, а он молчит. — За что же его так бьют? Он весь в крови! Мне страшно… — Киля задрожала как в лихорадке. — Я ни в чем не виновата. Они должны меня выпустить! Она вскочила, подбежала к обитой железом двери, стала колотить в нее кулаками. — Отведите меня к начальнику! Отведите меня к начальнику! — кричала Киля. Сазонов и другие старожилы камеры постарались оттащить девушку от двери, успокоить. Охранники не любят подобных сцен. Открыв дверь, они жестоко избивают отчаявшихся людей. — Эх, крошка ты, крошка… — проговорил Сазонов. — Привыкай к ужасам-то. Раз попалась птичка — стой, не уйдешь из сети… — Нет-нет, я ни в чем не виновата! — продолжала твердить свое Киля. Потом она умолкла. Как врач Вера отлично знала: после вспышки истерии обычно наступает депрессия, полное расслабление… Вера играла свою роль профессионально в полном смысле этого слова. Прошло три дня. Вера смогла установить два важных момента. Во-первых, Вареца увозили на допрос всегда в одно и то же время: в три часа ночи — и привозили к шести часам утра избитого, полуживого. Во-вторых, когда Вареца привозили с допросов, больше других заботился о нем Сазонов. Он буквально не отходил от несчастного, ловил каждый стон, каждое слово, произнесенное Густавом. Заметила Вера и то, что не может установить, когда Сазонов спит, а когда бодрствует. Дело в том, что глаза его были всегда открыты. Да, он спал с приоткрытыми глазами. А нужно было действовать. Нельзя дальше медлить! Ведь ее могли вызвать на допрос, установить невиновность и отпустить… На четвертый день, когда в камере все как будто спали, Киля подползла к Сазонову и прошептала: — Дядя Гена! Мне страшно… Сазонов не ответил. Вера увидела, что у него слегка приоткрыт рот. Он спал. Так вот по какому признаку можно распознать, спит или бодрствует Сазонов! Обычно челюсти его были плотно сжаты. Будить Вареца было опасно: могли проснуться и другие. Около трех часов ночи послышался лязг засовов. Стали просыпаться узники. Проснулся и Варец, которого в это время обычно увозили на допрос. Вера села к нему спиной. Изобразив на лице испуг, она расплетала косичку, словно это движение было случайным, словно это от повышенной нервозности. Ее затылок был рядом с лицом Вареца. Вера ловко высвободила из волос марку и распустила волосы за спиной перед самым лицом Вареца. Длилось это всего несколько секунд. Но эти секунды казались Вере часами. Время словно остановилось, застыло. И вдруг Вера почувствовала на локте легкое пожатие: Варец узнал пароль. Вера незаметно проглотила марку. Надо было дожидаться ночи. Теперь она сможет заговорить с Варецем. Он будет ждать этого так же, как она. Но днем ее увезли на допрос. Машина ехала к главному зданию полицей-управления. У Веры было трудное положение: ей нужно было задержаться в камере еще хотя бы на сутки. Как быть, если ее собираются отпустить сразу же? Наговаривать на себя крайне опасно. Ее допрашивал офицер гестапо через переводчика. — Килина Остапенко? Вера кивнула. — Так вот, Килина, — услышала она от переводчика, — нам все известно. Ты партизанка. И специально была подослана на платформу. Тебя опознали. Хочешь очную ставку? Киля заплакала: — Побойтесь бога! Какая я партизанка! Я на базар ездила, гуся продавала. Деньги у меня ваши стражники отобрали, и еще билет отобрали до хутора моего Высокого. Я ни в чем не виноватая и прошу господина начальника меня отпустить! Она стала говорить о всех тех ужасах, которые видела в камере, о том, что ее отец и мать, наверное, с ума от страха сходят, не зная, что случилось с дочкой. — Отпустите меня! Я же невиноватая! Только не увозите в эту проклятую камеру! Там мне стра-ашно!.. И хотя против Кили Остапенко не было никаких улик, гестаповец, усмехнувшись, сказал: — Ничего, посидишь в камере, пока твои отец с матерью не приедут за тобой. Увести! Киля разрыдалась. Ее выволокли из комнаты. Ночью Вера не спала, хотя и притворилась, что спит. Она внимательно следила за Сазоновым. Наконец заметила, что рот его приоткрылся. Он спал. Спал, как всегда, с полуоткрытыми глазами, повернувшись в сторону Вареца. Вера приподняла голову: спали и остальные. Все спали, кроме Вареца, который тоже приподнял голову. Их разделяло небольшое расстояние. Вера тихонечко придвинулась совсем близко и спросила почти беззвучно: — Где? — Доктор Дольский. Комната направо от кабинета. В левой дальней отдушине в полу. Утром Вера в присутствии фашистских охранников и полицая-писаря, которые делали ежедневный обход, кричала: — Что же мне теперь делать?! Как же мне, несчастной, выбраться отсюда?! — А ты все еще здесь? — удивился Сазонов. — Тебя в гестапо возили? И не выпустили? Что сказали-то? — Не отпустят, пока за мной отец с матерью не приедут. А они почем догадаются, что я здесь?! Они у меня неграмотные. Они чего другое подумают. — Вот как… — Сазонов покачал головой. — Ничего. Если станут наводить справки, придут сюда, в гестапо. На другой день Веру повезли в полицей-управление. Она вошла в комнату офицера-следователя и увидела двух человек — мужчину и женщину, простых крестьян, которые сидели у стола. — Господи! Маменька! Папенька! Родненькие! — закричала Вера. Родион и Мария Остапенко действительно всю жизнь прожили на хуторе Высоком. У них и вправду была дочь Киля. Об этом свидетельствовали документы. Не знали только фашисты, что Родион и Мария были связными партизан, что настоящая Килина в это время была в лесу — в партизанском отряде. Вера оказалась на свободе. Теперь надо было пробраться в дом доктора Дольского, взять капсулу. Вера попросила Родиона и Марию помочь ей. «Отец» и «мать» повели «дочь» к доктору: они волнуются, не случилось ли чего с ее здоровьем, бледна она, совсем разболелась! Вера умело отвечала на вопросы доктора. Доктор предложил оставить Килю до утра: надо взять анализы. — Так мы ж уезжаем, — говорил «отец». — Дайте такое лекарство, чтобы ей помогло! — Для этого и нужны анализы, — строго сказал доктор. Веру оставили на сутки. Ее поместили не в ту комнату, в которой находился в свое время Густав Варец. Ночью Вера тихо встала, открыла дверь, вышла в коридор. Неслышно ступая босыми ногами, подошла к комнате, где Варец оставил капсулу. Дверь была не заперта. Вера отворила ее. Осторожно ступая, подошла к отдушине. Отогнула припасенным ножом гвоздик, подняла отдушину, достала гильзу, спрятала на груди. Утром за Килей Остапенко пришли родители. Анализы к этому времени были готовы. Доктор выписал лекарство. И остался очень доволен, получив гонорар — жирного поросенка. В тот же день Вера благополучно прибыла в расположение партизанского отряда. Так, казалось бы, просто завершилась одна из сложнейших операций.5. Конец войны
Побег Густава Вареца осуществить было невозможно. Он по-прежнему находился в тюрьме. Затем он был переведен в концлагерь Дахау. Там он и встретил День Победы над фашизмом. 23 мая 1945 года в числе других заключенных его освободили. Он получил назначение на работу в один из областных комитетов партии. Но поработать в свободной Чехословакии пришлось недолго. Здоровье было подорвано, начался острый туберкулезный процесс. Врачи делали все, что было в их силах, однако тяжелые испытания, пытки в застенке гестапо не прошли бесследно. В 1951 году Густав Варец скончался… Я горжусь боевой дружбой с Верой. Однажды Вера показала мне письмо отца. Он писал дочери:«Брат брата забывает, а побратим побратима — никогда. Интернационалисты — побратимы на всю жизнь!»
РУКИ ДРУЗЕЙ
И еще одно имя должно быть упомянуто в моей книге. Узнал я об этом человеке от своего коллеги, которого назову условно полковником Алексеем Столяровым. О деятельности Столярова рассказано в другой повести, которая посвящена его боевым делам. А сейчас уместно сосредоточить внимание на его сподвижнике. Вот почти хроникальная запись событий.1. Кто такой Ландович?
В низкой бревенчатой избе, скупо освещенной керосиновой лампой, увидел Алексей приземистого человека в валенках и телогрейке. И валенки и телогрейка придавали внешности Карновича что-то сугубо гражданское и даже домашнее. Секретарь обкома был уже далеко не молод: видимо, ему перевалило за пятый десяток. Тихий голос и неторопливые жесты указывали на спокойный характер и деловитость человека, привыкшего за многие годы к серьезной, не терпящей суеты работе. Обменявшись приветствиями, они заговорили о деле. Тут Алексей сразу почувствовал, что Карнович был прекрасно осведомлен и хорошо разбирался в сложившейся обстановке. Казалось, он знал в округе всех и вся. Он легко припоминал фамилии местных жителей, названия сел, приметы местности. Алексей задал ему вопрос о Шерстневе, которого случилось увидеть в полиции. — Шерстнев работает в полиции по нашему заданию, — спокойно разъяснил Павел Васильевич. Корень (партизанская кличка Карновича) подтвердил все, что говорил Алексею Шерстнев. И добавил: подпольщики достали Шерстневу документы на имя некоего Аркадия Амосова, рецидивиста, вернувшегося в город перед самым началом войны. Гестаповцы охотно набирали в полицию уголовников, и Шерстнев — Амосов без особого труда поступил туда. — Теперь трудно сразу отличить своего от чужого, сначала приходится приглядываться, — заметил Алексей. — Мне вот дали в Москве адресок одного человека, пошел к нему — чуть было в ловушку не угодил. — Какой адресок? — Парикмахерская у рынка. Фамилии его не знаю. Черный такой, худой. — Крюков, Борис! — почти выкрикнул Корень. Он рассказал, что в первые же дни оккупации начало твориться что-то непонятное. Во-первых, присланные для подпольщиков два вагона с оружием и продовольствием исчезли бесследно. Тогда решили проверить, цел ли склад в лесу. Однако люди, посланные в лес, были схвачены гитлеровцами. Подозрение пало на Крюкова, но пока еще не установлено, его ли это рук дело. — И ты обращался к нему? — спросил Корень. — Да. Просил свести с кем-нибудь из подполья… — Ну? — Сказал, чтобы я быстрее уходил. За парикмахерской установлено наблюдение. А Крюкова вызывали в гестапо. — Мм… Странно. — Секретарь обкома задумался. — Странно, очень странно, почему он тебя спас. Виселицу видел? Те двое, скорее всего, на совести этого предателя. Должно быть, он назвал их имена, когда был в гестапо. Но почему же он не выдал тебя? Почему? — Не знаю. Может быть, совесть проснулась? — Совесть? — с раздражением переспросил Корень. — Где она у него была, когда он выдал тех двух товарищей?.. Но почему он все-таки не выдал тебя? — И все-таки в нем заговорила совесть, — настаивал Алексей. — Когда я произнес пароль, он страшно перепугался и потребовал, чтобы я скорее уходил. — Да, задал ты мне задачу. А мы уж думали убрать этого мерзавца. — Нет, — решительно запротестовал Столяров. — С этим успеется. Парень еще может нам пригодиться. Он-то кого-нибудь еще знает? — Нет. К счастью, никого. А в Москву мы уже сообщили, что эта явка подозрительна. Ну что ж, может быть, ты и прав. Подождем. Корень и Алексей помолчали. Наконец Павел Васильевич спросил, — видимо, чтобы сменить тему: — Как твоя нога? — Получше, — медленно ответил Столяров. — В первый раз я забыл о своей ноге. Хромота-то, видно, останется на всю жизнь. Алексей прошелся по комнате. — Крюков, Крюков, — повторял он, размышляя. — А в ком вы еще не уверены? Корень ответил не сразу. — Есть еще один — некто Ландович. Личность темная. — Чем он занимается? — Толкается на базаре, меняет соль на керосин. Но дело не в этом, сейчас всем приходится маскироваться. Однажды Ландович где-то выведал, что по глухой дороге пойдет колонна машин. Ну, мы организовали засаду. Действительно, колонна появилась в назначенный день и час. Но за два километра до засады внезапно повернула обратно. И есть подозрение, что именно Ландович и предупредил фашистов. Словом, загадочная история. Но он настойчиво напрашивается на задания. Даже предлагает достать оружие. — Так, — задумчиво проговорил Алексей. — Тогда познакомьте меня с этим Ландовичем. И кстати, дайте мне надежного помощника. У меня появился план… — Что ж, есть у меня такой человек. Зовут его Валентин Готвальд. — Немец? — удивился Алексей. — Да. Фольксдойч. Родился в России, но его отец и мать — выходцы из Германии. До войны был шофером в облисполкоме, а теперь возит кого-то из комендатуры. Вы знаете, как немцы носятся со своей арийской кровью. В комендатуре он вне подозрений. И шофер первоклассный. — А как себя ведет? — Проверен в деле. — Сколько ему лет? — Молодой, лет двадцати пяти. Говорит по-немецки, как по-русски. — Ну что ж, кандидатура интересная. — С чего ты собираешься начать? — спросил секретарь. Алексей улыбнулся. — Будь другое время, с чего бы мы с тобой начали? Собрали бы совещание, пришел бы я к вам с планом… — Нет, — засмеялся Карнович. — Придется покороче. Какие у тебя соображения? — Вот какие. Ты говоришь, этот Ландович напрашивается на задание? Корень кивнул головой. — Прекрасно. Нужно дать ему задание. — Пока не понял, — сознался Карнович. — А вот послушай. Коли дашь «добро», начнем действовать…* * *
У Ландовича узкое, худое лицо, обтянутое желтоватой кожей, прямые редкие волосы, зачесанные назад. Большие глаза цвета крепко заваренного чая прищурены, настороженно прощупывают собеседника. Нога закинута за ногу, локоть уперт в колено, меж длинных пальцев с обкуренными ногтями тлеет сигарета. На Ландовиче клетчатый пиджак, зеленый шарф обвивает жилистую шею с острым кадыком. И в его позе, и в одежде, как и в манере говорить туманно и интригующе, есть что-то картинно-театральное. «Похож на провинциального актера, выгнанного со сцены за пьянку», — решил Алексей. Он почти не ошибся: как выяснилось, до войны Ландович работал театральным администратором. Но ломался он, как плохой актер, важничал, говорил с недомолвками, многозначительно. У Алексея крепло убеждение, что перед ним ничтожный, тщеславный человек, авантюрист, мечтавший о крупной роли в жизненной игре, но так никогда ее и не получивший и теперь с приходом гитлеровцев решивший взять реванш за прошлое. Алексей понял: Ландовичу польстит, что с ним разговаривает не рядовой партизан, а некто повыше. Поэтому он отрекомендовался уполномоченным обкома партии и заметил, что на Ландовича это произвело впечатление. — Вы хотите с нами сотрудничать? — задал вопрос Алексей. Ландович подтвердил, что он не намерен в такое время сидеть сложа руки и готов выполнить любое задание. — Задание есть. Нужно проверить склад с оружием. Согласны? Ландович кивнул головой. — Тогда слушайте меня внимательно, — продолжал Столяров. — Пойдете по шоссе в сторону Кричева. На седьмом километре, у телеграфного столба номер шестьдесят дробь сто один, свернете вправо на запад, войдете в лес, через пятьсот метров увидите поляну, наней четыре сосны. Они сразу заметны, вокруг вырублены деревья. Вот на этой поляне зарыто оружие: несколько ящиков с винтовками, два — с ручными пулеметами и еще два — с боеприпасами. Запомнили? По просьбе Ландовича Алексей еще раз повторил ориентиры. — Хорошо. Запомнил, — заверил Ландович. — Какова же моя миссия? — Сначала проверьте, на месте ли оружие, и если на месте, мы дадим вам людей и подводы. Вывезете все по адресу, который позднее получите. — Будет сделано, — весело сказал Ландович. Договорились, что Ландович проверит склад с оружием двадцать седьмого, между двумя и пятью часами дня. Время это Столяров выбрал потому, что Валентин Готвальд именно в такие часы был свободен от дежурства в комендатуре. Дня за два до назначенной даты Алексею удалось познакомиться с шофером коменданта. Это был приятный молодой человек, высокий, с серыми глазами и светло-русыми волосами. Застенчивая улыбка придавала его лицу что-то детское. Сначала он держался скованно и даже настороженно, но потом разговорился. Свел их Шерстнев на толкучке, где Готвальд старался сменять немецкие сигареты на сметану. Алексей, как обычно, пришел за дратвой. Шерстнев скоро ушел, а Готвальд с Алексеем позли в пивную. Готвальд рассказал Алексею, что его отец, немецкий колонист, некогда работал на минском машиностроительном заводе. Но отца своего, как, впрочем, и мать, Валентин помнил смутно: они умерли, когда он был еще совсем ребенком. Некоторое время Готвальд воспитывался у родственников матери, но они оказались людьми скупыми, расчетливыми, непрестанно попрекали парнишку куском хлеба, и в конце концов Валентин «ударился в бега». Его подобрали и отправили в детскую колонию. Там-то он и нашел свой настоящий дом и семью. Там же вступил в комсомол и получил специальность шофера. До войны Готвальд работал в гараже облисполкома: возил одного из заместителей председателя, и тот, по словам Валентина, относился к нему, как к родному сыну. Валентин познакомился со студенткой пединститута, на которой и женился незадолго до начала войны. Эвакуироваться ему не удалось, а дом неподалеку от облисполкома, в котором они жили, сильно пострадал во время налетов фашистских бомбардировщиков. Пришлось перебраться в село, к родственникам жены. Как он относится к фашистам? Как и все советские люди: ненавидит. Однако «немцев не надо валить всех в одну кучу». Есть такие, которым «понабивали в голову дряни», но многие, как он убедился, только подчиняются приказу — иначе нельзя. Алексей объяснил Готвальду задание. Двадцать седьмого декабря с двух до пяти дня Валентину следует находиться в селе Осиновка, что стоит на шоссе в сторону Кричева, и незаметно наблюдать за дорогой. Со стороны города должен появиться человек — Алексей описал его внешность. — Ландович? — вырвалось у Готвальда. — А ты его знаешь? — Еще бы! Кто его не знает… — Тем лучше. Так вот, с двух до пяти он должен быть в селе Осиновка, затем свернуть в лес. Ты пойдешь за ним, но так, чтобы ни он, ни кто другой тебя не заметил. Понял? — А дальше? Дальше Готвальд должен был проследить за поведением Ландовича, а в случае, если тот не появится в Осиновке, разыскать поляну с четырьмя соснами и наблюдать. Валентин не скрывал своего разочарования: задание показалось ему малоинтересным. — Нельзя ли чего посерьезней? — попросил он. Но Алексей заверил его, что это дело рискованное, и просил действовать осторожно. Алексею и самому не хотелось посылать Готвальда на это хотя и рискованное задание, но такое, с которым справился бы и другой, вовсе не обязательно обладающий данными Готвальда. Валентин — служащий комендатуры, свободно общающийся с фашистами и знающий немецкий язык, конечно, мог быть очень полезным в разведывательных операциях посложнее. Однако другого помощника у Алексея не было, да кроме того, если на Готвальда наткнутся гестаповцы, он не вызовет подозрений и сумеет вывернуться, рассказав, что ходил в деревню покупать продукты. …Алексей ждал Ландовича в условленном месте на шоссе. Он еще издали заметил, что Ландович не торопясь идет по обочине дороги. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что поблизости никого нет, вышел из кустов и дал знак Ландовичу идти за ним. Ландович следом за Алексеем свернул с дороги и нырнул в лес. Лицо его светилось самодовольством, зеленый шарф был обмотан вокруг шеи как-то особенно лихо. — Задание выполнено, — по-военному доложил он. — Ящики с оружием найдены. Алексей поинтересовался, каким образом Ландовичу удалось их обнаружить. — А шомполом, — живо ответил тот. — Воткнул в землю в одном месте — ничего, воткнул в другом — чувствую что-то твердое. Так что давайте людей — ночью вывезем. Алексей пообещал, что люди и подводы будут, однако в котором часу — не уточнил. Он думал — думал о донесении Готвальда. Валентин сообщал, что, как ему и было приказано, двадцать седьмого декабря он с двух до пяти дня находился в селе Осиновка, но Ландовича не видел. Тогда он пошел к четырем соснам и увидел, что на поляне то и дело вспыхивают огоньки карманных фонарей. Он тихонько вернулся в Осиновку. Это не совсем противоречило донесению Ландовича. После пяти в лесу уже темно, и, возможно, светил фонариком сам Ландович. Тем более что он утверждал, будто искал оружие до вечера. Но почему тогда Готвальд его не видел в Осиновке? Ведь по дороге в лес шоссе около Осиновки Ландович миновать не мог. — Нет ли у вас карманного фонарика? — спросил Алексей. Ландович сказал, что нет, но, если нужно, он достанет. Этот ответ укрепил подозрения Алексея: Ландович лжет. Встречи с Корнем были очень затруднительны. Штаб-квартира подпольного обкома была строго законспирирована и находилась в районе действий местного партизанского отряда. Но Алексею все-таки удалось повидаться с Корнем. Тот предложил прекратить связь с Ландовичем до выяснения всех обстоятельств. Ждать пришлось недолго. Через день после встречи Алексея с Ландовичем Корень получил от связного зашифрованную записку. Шерстнев просил свидания четвертого числа по варианту номер один — так называли конспиративную квартиру в селе Глинцы. Встречи с Тимофеем Шерстневым Алексей и Павел Васильевич ждали с нетерпением. Ведь в тот же день, когда Ландовичу и Готвальду поручалось проверить склад в лесу, Тимофею было приказано, соблюдая осторожность, навести справки о Ландовиче в полиции. Едва переступив порог избы в селе Глинцы, где их ожидал Шерстнев, секретарь подпольного обкома тут же задал ему вопрос о Ландовиче. То, что рассказал Шерстнев, подтвердило худшие опасения. Оказалось, что, как только Ландович получил задание от Алексея, он сразу же пошел к начальнику полиции Венцелю. О чем говорил Венцель с Ландовичем — неизвестно, но само пребывание Ландовича в кабинете начальника полиции доказывало, что бывший театральный деятель — провокатор. На следующий день после этого разговора, закончил свое сообщение Шерстнев, грузовик с солдатами отправился по шоссе в сторону Кричева. Карнович и Столяров молчали. Шерстнев, не знавший всех подробностей проверки, увидел их нахмуренные лица и спросил с тревогой: — Что-нибудь случилось? — Пока еще ничего, — заверил его Алексей, — но может случиться, — добавил он задумчиво. И вдруг лицо его прояснилось, видимо, от какой-то неожиданно пришедшей мысли. — Ну выкладывай, что ты надумал, — потребовал Корень. Алексей не заставил себя уговаривать. — А вот что, — начал он. — Откуда взялись фонарики в лесу — теперь, я думаю, ясно. В тот вечер гитлеровцы проверили еще раз, не осталось ли там оружие, которое они не нашли при первом обыске, и намерены устроить около этого места засаду. Ландович их заверил, что мы не знаем о разгроме немцами склада и непременно явимся за оружием большой группой. И там-то, на поляне, они и собираются нас накрыть. Но мы им не доставим такого удовольствия. — Что же ты предлагаешь? — спросил Корень. — Заминировать поляну. — Легко сказать, — усмехнулся Шерстнев, — Она наверняка охраняется. — Ну и что ж, — возразил Алексей. — Это должен сделать один человек, ночью, незаметно. — Кто, по-твоему? — По тону, каким был задан вопрос Корнем, Алексей понял, что предложение его принято.* * *
Ландовича снова вызвал сам начальник полиции штурмбанфюрер Курт Венцель. Не без опаски Ландович переступил порог кабинета, осторожно прикрыв за собой дверь. В комнате было тепло, уютно, потрескивал камин. Венцель сидел за своим столом. Ландович был в курсе последних событий. Шел день за днем, а на поляну никто из подпольщиков не являлся, и начальник полиции заподозрил неладное. Возможно, Ландович его просто водит за нос. А может быть, подпольщики побывали на поляне и засада просто проморгала. Направляясь к Венцелю, Ландович не знал, что сейчас шеф готовит ему смертный приговор. Правда, в бумаге, лежавшей перед Венцелем, ни слова не говорилось о Ландовиче. Там упоминались пятеро полицейских, вчера вечером подорвавшихся на минах в лесу. Они были посланы Венцелем на поляну с соснами для проверки работы агентов. Начальник полиции поднял голову и рассматривал Ландовича, будто видя его впервые. Венцель не мог понять, напоролся ли Ландович на партизан случайно или умышленно провалил задание. Было ясно: использовать его больше нельзя. — Послушайте, — сказал Венцель наконец, — у меня к вам личная просьба. — Я к вашим услугам, герр штурмбанфюрер, — отозвался Ландович, вытягиваясь и засовывая за борт пиджака выбившийся конец шарфа. — Принесите мне дров. — Дров? — Да, дров. Ландович часто заморгал глазами и не двигался с места. — Ах, дров? — нервно засмеялся он. — Ну да, дров для печки… Из… как это по-русски… да, из сарая. — Слушаюсь, герр штурмбанфюрер. Ландович исчез за дверью. Венцель нажал кнопку звонка и углубился в бумаги. Когда в кабинет вошел сотрудник, Венцель, не отрывая взгляда от документов, приказал: — Уберите… Он во дворе. Венцель встал и открыл форточку. В лицо ему метнулось облачко морозного пара. Вскоре у сарая появилась длинная фигура Ландовича. Затем щелкнул выстрел. Ландович повалился в сугроб. Длинные темные пальцы его судорожно хватали снег.2. Хирург
Алексею удалось узнать, что на Мотовилихинском пустыре строят артиллерийский склад. В тот же день Алексей отправился туда. Вышел окраинными улочками, прошелся по тротуару, как будто разглядывая номера на домах, на самом деле тщательно изучая местность. Бывший пустырь теперь был огорожен высоким забором. То и дело подъезжали грузовики, крытые брезентом. Охранники проверяли у шоферов документы и распахивали высокие ворота. Останавливались грузовики у платформы с подъемным краном, стрела которого виднелась поверх забора. Алексей не мог простить себе, что узнал о строительстве склада так поздно. Если бы расчистка пустыря еще велась, то можно было бы незаметно пронести на его территорию противотанковые мины и зарыть их где-нибудь в центре. Хоть одна, может быть, взорвалась бы, и склад взлетел бы на воздух. Великолепная операция, почти не связанная с каким-либо риском! Теперь же пронести что-нибудь в строго охраняемый склад было невозможно. Ночами Алексей не мог уснуть, обдумывая всевозможные варианты диверсии. И вот как-то, опять «прогуливаясь» неподалеку от склада, Алексей увидел санитарную машину с красным крестом на дверце. Она пронеслась мимо, по дороге к воротам. Сквозь ветровое стекло мелькнуло знакомое лицо с нахмуренными мохнатыми бровями. Лещевский! С тех пор как Алексей вышел из госпиталя, он с хирургом не встречался. Пришлось прибегнуть к помощи Шерстнева. Тот через полицию быстро выяснил, что Лещевский живет почти в центре города, на бывшей Красногвардейской улице. Боясь не застать Лещевского дома днем, Алексей отправился к нему вечером, после комендантского часа. В кармане у Алексея лежал пропуск негласного сотрудника полиции, добытый Шерстневым. Лещевский открыл дверь только после того, как Алексей сказал, что он из госпиталя и ему срочно нужен врач. Адам Григорьевич встретил его в большой комнате, заставленной шкафами с книгами. Потрескивала большая, выложенная изразцами голландская печь, у дверцы валялись мокрые от снега поленья. Лепные карнизы потолка терялись во мраке. При виде Алексея брови Лещевского полезли вверх, на лоб набежали морщины. — Попов? — воскликнул он. В следующую секунду он уже тряс руку Алексея, расспрашивал о раненой ступне, тут же приказал снять валенок и внимательно осмотрел ногу. — Теперь я вам могу признаться, — сказал он, — я полагал, что в конце концов вам грозит ампутация. Да, собственно, надо было сразу отнять стопу, но стало жалко: здоровый молодой мужчина. Решил рискнуть. Ну, как себя чувствуете? Этот человек, казавшийся Алексею в госпитале сдержанным и холодноватым, сейчас был искренне рад своему гостю. Лещевский поставил на стол початую бутылку шнапса, рюмки, тарелки, коробку консервов. Свою рюмку хирург выпил залпом. — Раньше, до войны, я избегал пить крепкие напитки, — сказал он, положив себе в тарелку немного содержимого консервной банки. — Боялся — будут дрожать руки. — А теперь не боитесь? — спросил Алексей: — Нет. Лещевский был возбужден от спиртного или от встречи с Алексеем — неясно. Хирург то вставал и подбрасывал дрова в печь, то снова садился за стол и подливал себе шнапса, то принимался расхаживать по комнате. И курил. Большие, сильные пальцы его то и дело шарили по карманам в поисках спичек. Алексею не верилось, что этот неврастеник и тот волевой, хладнокровный человек, который сутками не отходил от операционного стола, — одно и то же лицо. И невольно приходила мысль: Лещевский частенько прикладывается по вечерам к рюмке. Топит в вине боль души. А хирург тем временем рассказывал о неудачной операции перед войной, за которую его отдали под суд. Вот почему его не пустили на фронт, как он ни просился. — А семья? — спросил Алексей. — У вас есть семья? — Есть. Жена и ребенок. Их я успел отправить к родителям в Куйбышев. А сам, дожидаясь все-таки повестки из военкомата, застрял здесь. Лещевский присел у печки, достал совком уголек, прикурил погасшую сигарету. — Помните, как меня вызвали немцы и предложили, вернее, приказали работать в их госпитале? Я знал: у меня только один выход — согласиться. Но все думаю: наши-то с меня спросят, когда вернутся… Врагам служу. Хотя ведь вы мне посоветовали идти в этот госпиталь! Да и нашу больницу не бросил — стараюсь помочь своим. — Мне-то вы помогли, спасибо вам. Знаю, на какой риск шли. Если б тогда нас поймали с документами того, умершего… вам бы несдобровать… Алексей видел: человек мучается и сейчас пытается разобраться в том, что с ним произошло. Некоторое время они молчали. — Да, я хорошо помню наш разговор, — нарушил затянувшуюся паузу Алексей, — я действительно посоветовал вам пойти работать в немецкий госпиталь. Алексей раздавил в пепельнице сигарету. — Вы слышали о расклеенных листовках, о взрыве на станции Бережная? — спросил он, посмотрев на Лещевского. — Да. — Так вот, фронт не только под Москвой. Он и здесь. Вы могли бы помогать нашим и дальше. Особенно теперь, когда работаете в немецком учреждении. Лещевский опустил голову, вертя в руках пустую рюмку. — Чем? — спросил он еле слышно. Алексей положил свою руку на кисть хирурга. — На днях я видел, как вы на санитарной машине въезжали на территорию склада на Мотовилихе. Так вот, слушайте меня внимательно…* * *
Лещевский уже не один раз по срочным вызовам бывал на складе. Видимо, немцы торопились со строительством — травм и аварий было довольно много. Алексей предложил Лещевскому такой план действий. Перед очередной поездкой Лещевский постарается дать знать Шерстневу, чтобы тот был готов действовать. И когда хирург будет садиться в санитарную машину, «полицейский» попросит у врача прикурить и незаметно передаст мину с часовым механизмом, которую врач спрячет в чемоданчик с инструментами. (Этот план Алексей предварительно разработал вместе с Корнем, а мину Шерстневу доставили партизаны.) На Мотовилихе Лещевский остановит свою машину рядом с одним из грузовиков, пошлет своего шофера (русский военнопленный, которому Лещевский делал в свое время операцию) разыскать пациента, а тем временем постарается сунуть магнитную мину в ящик со снарядами. Лещевский согласился реализовать этот план. Повеселев, он сказал Алексею: — Не умею говорить о своих чувствах. Но спасибо, что поддержали дух. Все, что надо, сделаю. Случай вскоре представился. Однако, когда через два дня после встречи с Алексеем Адам Григорьевич выехал на санитарной машине к артиллерийскому складу, он чувствовал себя скверно. Ему казалось, что все — и шофер, и часовой на контрольно-пропускном пункте, и полицейские — подозрительно косятся на его чемоданчик. Больших усилий стоило держаться спокойно. Он начал было шутить с шофером, но потом, решив, что излишняя общительность тоже может вызвать подозрения, замолчал. Когда машина подъехала к воротам склада, Лещевский с ужасом увидел, что грузовиков со снарядами около склада нет. И мысль, что все может сорваться, на время заглушила беспокойство и страх. Врач решил все-таки не отступать от задуманного плана. Он приказал шоферу остановить машину метрах в десяти от ворот склада и попросил его разыскать раненого фельдфебеля и узнать, может ли пострадавший сам выйти к машине, или она должна въехать в ворота. Шофер ушел. Лещевский спрятал чемоданчик под сиденье, вышел из машины, походил вокруг, как бы разминаясь, подошел к пожилому полицейскому с карабином, попросил прикурить. Сновавшие вокруг солдаты и охрана не обращали на человека в белом халате особого внимания. Некоторые знали его в лицо и здоровались. Шофера не было. Лещевский вернулся к своей машине, и вдруг до его слуха донесся рев мотора. Он оглянулся: по дороге тяжело брали подъем два крытых грузовика. «Снаряды! — пронеслось в голове Лещевского. — Сейчас не упустить момент…» Стараясь унять дрожь в руках, он достал чемоданчик. «Только бы не вернулся шофер, только бы не вернулся шофер», — повторял он про себя. Через несколько минут грузовики подъехали к складу и поравнялись с санитарной машиной, чихая густым черно-сизым дымом. Автомобиль Лещевского стоял справа на обочине, и теперь огромные грузовики закрывали его и от будки часового, и от бараков, в которых жили охрана и солдаты, обслуживающие склад. Лещевский переложил мину из чемодана в карман халата. Шофер первого грузовика, хлопнув дверцей, побежал к будке. Шофер второго грузовика остался в кабине. Лещевский обошел этот грузовик и оглянулся. Было безлюдно. Лещевский быстро сунул мину в один из ящиков, озираясь, отошел — и как раз вовремя. Вернулся шофер этого грузовика, и машины тронулись. Когда ворота склада за ними закрылись, Лещевский достал носовой платок и вытер мокрые, несмотря на легкий мороз, ладони… В тот же день Лещевский, проходя мимо дежурившего около комендатуры Шерстнева, подал ему условный знак о выполнении задания. Казалось, все обошлось благополучно. Однако жизнь приготовила Лещевскому еще одно неожиданное испытание. Мина должна была сработать через сутки, ровно в двенадцать часов дня. В загруженный только на три четверти склад немцы срочно завозили боеприпасы, и подпольщики рассчитывали, что к моменту взрыва он будет целиком заполнен. Именно в день взрыва Лещевского вызвал к себе дежурный врач. — На объекте В-11 опять неприятность, — сказал он. — Так что, герр доктор, выезжайте немедленно. Объект В-11 — это зашифрованное название артиллерийского склада на Мотовилихе. Адам Григорьевич взглянул на часы. До взрыва оставалось сорок минут. Хирург похолодел. — Но у меня консультация, — возразил он дежурному врачу, стараясь говорить спокойно. — Придется отложить. Травма серьезная. Пострадал офицер. Больше послать некого. Лещевский вышел в коридор госпиталя, чувствуя, как гулко, до боли, колотится сердце. Задержаться с выездом? Но это сразу вызовет подозрение. Выехать со склада до взрыва он тоже не успеет. Отбирая необходимый инструмент в чемоданчик, Адам Григорьевич то и дело бросал взгляд на часы и лихорадочно подсчитывал секунды. Пока он сядет в машину, пройдет минут пять, двадцать уйдет на дорогу. Значит, на складе он будет без десяти двенадцать. Что делать? Как поступить? Где бы задержаться по дороге? Во дворе госпиталя ждала санитарная машина. Шофер, скуластый парень, щурясь от солнца, светившего по-весеннему ярко, спокойно курил самокрутку. На снегу лежали голубоватые тени. Оглянувшись, Лещевский выронил чемоданчик. Инструменты рассыпались около заднего колеса. Адам Григорьевич поспешно присел на корточки и, собирая ножницы и хирургические щипцы, вонзил ланцет в резиновую покрышку. Усевшись в машину, приказал шоферу: — К Мотовилихе! Инструменты придется прокипятить на месте.* * *
Алексей зашел в портняжную мастерскую, которая находилась на Сенной улице в центре города. Алексей и Шерстнев последнее время встречались там под видом заказчиков. У Афанасия Кузьмича было много клиентов, дверь хлопала часто, и это было довольно удобное место явки. Когда Алексей пришел, Афанасий Кузьмич снимал мерку с заказчика — грузного усатого человека в хромовых сапогах и брюках галифе. Завидев Алексея, глазами указал ему на дверь в другую половину мастерской. — Подождите там. Примерка еще не готова, — сказал Афанасий Кузьмич. В маленькой комнатке у стола с лоскутами сидел Шерстнев. Они поздоровались. Не отрывая от Алексея взгляда косоватых улыбающихся глаз, полицейский прошептал: — Здорово, здорово, именинник. — Именинник? — удивился вошедший. — Конечно. Сегодня же день Алексея, божьего человека. — Не устроить ли нам по этому поводу маленькое торжество? — А что, пожалуй. Тимофей хитровато улыбался. Чувствовалось, что он жаждет сообщить какую-то приятную новость. — Ладно. Выкладывай, — засмеялся Алексей. — Задерживаться тут особенно не стоит. — Эх, — вздохнул Шерстнев, — надо бы заставить тебя потанцевать, да место неподходящее. Так и быть, смотри… Тимофей снял шапку, достал из-за подкладки крохотный листок бумаги и протянул Алексею. На листочке карандашом была выведена цифра: номер партийного билета чекиста, партизана Алексея Столярова. Дело в том, что давным-давно Алексей просил Карновича связаться с Центром и передать несколько слов: «Коршун жив. Ждет указаний». У местных подпольщиков рации не было: немцам удалось запеленговать ее, и она попала в руки гестапо. Поэтому подпольщики держали связь с Москвой через партизанский отряд Кузьмича, действовавший в лесах за Днепром. Партизанский связной принес зашифрованное послание. Еще в Москве было условлено, что Центр подтвердит получение первых сведений от Столярова номером его партийного билета. И вот теперь Алексей вертел в руках крохотный листок бумаги с долгожданным ответом и всматривался в знакомые, дорогие цифры. Он чувствовал на себе пристальный взгляд Шерстнева: тот наслаждался произведенным эффектом. Столяров не мог произнести ни слова. Отвернулся к стене: не хотелось, чтобы Тимофей видел его заблестевшие слезой глаза. Успокоившись, выдавил: — Ты даже представить не можешь, какая это для меня радость. Да, это был праздник. Пришел конец одиночеству, неизвестности. Те, кто посылал его сюда, снова с ним! Они помогут, посоветуют, направят. Интересно: дали знать домой, что он жив? Да иначе и быть не может. — Но это еще не все, — проговорил Шерстнев. — Я не сказал еще самого главного. Тимофей подошел к двери, проверил, плотно ли она закрыта. — Карпович получил новое задание из Центра, — прошептал он. — Из Центра? — Да. Москва рассчитывает на тебя. И на нас, разумеется, тоже. Алексей пододвинул табурет поближе к Шерстневу. За дверью слышались приглушенные, невнятные голоса. С шумом пронеслась мимо дома машина. — Так вот, — продолжал Тимофей, выталкивая изо рта облачко табачного дыма. — Корень просил передать тебе, что Центр интересуют все планы гитлеровцев на нашем участке. Информация по всему району представляет большую ценность. Передислокация войск, переброска вооружения, расположение аэродромов и так далее… Я думаю, не одни мы с тобой будем этим заниматься. Но на нас возлагают особую задачу: в сорока километрах от города находится Дретуньский аэродром. Это какой-то сверхсекретный аэродром. Нужно разведать все, что там происходит. Я случайно слышал разговор жандармов, что из района этого аэродрома выселили всех гражданских на десять километров вокруг. И еще: судя по всему, где-то на востоке от города, у Новых Выселок, расположен какой-то штаб. Об этом Готвальд сообщил Корню через меня. — Готвальд? — Да. — Вот что, — сказал Алексей. — Надо мне с ним снова повидаться. Предупреди его. — Постараюсь. Столяров взглянул на ходики, мирно тикавшие на стене. Они показывали без четверти одиннадцать. Пора было расходиться. После взрыва наверняка устроят облаву, и надо заблаговременно выбраться за городскую черту. Первым из мастерской вышел Шерстнев. Толстый заказчик уже удалился. И Алексей, помедлив несколько минут, тоже вышел из мастерской.* * *
…До взрыва оставалось двадцать три минуты, когда санитарная машина выехала на Витебскую улицу. Мелькали низенькие окраинные домишки. На карнизах трепетали отсветы капели. Воробьи стайками вылетали прямо из-под колес автомобиля. «Еду на собственные похороны», — думал Лещевский. Он ждал, когда же наконец спустит камера заднего колеса, но машина шла полным ходом. Хирург откинулся на спинку сиденья, щурясь от солнца, бившего ему в глаза. В зеркальце над ветровым стеклом увидел свое бледное, напряженное лицо и испуганно метнул взгляд в сторону шофера. Тот не обращал на своего пассажира никакого внимания. К губам его прилип окурок самокрутки. Лещевский думал о покрышке. Достал ли ланцетом до камеры? А вдруг она осталась цела? Вот кончилась улица, и машина выскочила в поле. Впереди чернел забор и низкие крыши артсклада. Вокруг муравьями суетились темные фигурки людей. Было без семнадцати минут двенадцать… Вдруг машина сбавила ход. — Что случилось? — спросил Лещевский. — Баллон сел, — равнодушно ответил шофер. До слуха Лещевского донеслось злое гусиное шипение. Шофер чертыхнулся и остановил машину. Пока он неторопливо ходил вокруг «опеля», что-то бормоча и вздыхая, доставал из-под сиденья домкрат и ползал под машиной, Лещевский сидел не шевелясь, вглядываясь в темную полосу забора. Время тянулось мучительно долго. Лещевский то и дело посматривал на часы. Нервы его напряглись до предела, по лицу струился пот. Только бы шофер не успел заменить баллон… Но вот шофер полез в машину, вытирая на ходу руки о грязное тряпье. Сел за руль, включил зажигание. Мягко заурчал мотор. Однако двинуться с места они не успели. Прежде чем Лещевский услышал звук взрыва, он увидел, как над забором косо брызнула струя сизого дыма. В следующее мгновение склад обволокло черное огромное облако. Страшный, оглушительный грохот, казалось, придавил их к конвульсивно вздрагивающей земле. В наступившей вдруг темноте Лещевский рассмотрел безумно выкаченные глаза шофера. Шофер зачем-то пытался открыть дверцу, но Лещевский схватил его за рукав ватника.* * *
Взрыв на Мотовилихе вызвал переполох в гестапо и среди сотрудников абвера. Это была первая крупная диверсия в городе. Взрыв произошел днем, на глазах у всех. Партизаны действовали откровенно и дерзко. Провели за нос и охрану и полицию. Горожане перешептывались. Некоторые уверяли, что склад разбомбила группа советских бомбардировщиков, и нашлись даже «очевидцы», якобы своими глазами видевшие самолеты с красными звездами на крыльях. Другие рассказывали, что какой-то смельчак бросил на территорию склада связку гранат. Этого смельчака поймали, но будто бы он ни в чем не сознался. Расследовать причины диверсии из Минска прибыл ответственный чиновник абвера фон Никиш, седой, респектабельный человек лет пятидесяти. Собрав эсэсовцев, он заявил: — Должен, господа, со всей откровенностью сказать, что последняя диверсия русских в чрезвычайно невыгодном свете показывает вашу работу. В Берлине вами недовольны. И согласитесь, господа, что на это есть основания. Совсем недавно в результате взрыва на железной дороге погибла группа штабных офицеров корпуса. И вот теперь еще один совершенно возмутительный инцидент. Создается впечатление, что некоторые наши сотрудники не справляются со своими обязанностями. Фон Никиш создал комиссию для расследования причин взрыва на Мотовилихе.* * *
При взрыве на Мотовилихе погиб почти весь взвод гитлеровских солдат, обслуживавших склад, а также полицейская охрана. Случайно уцелело лишь несколько солдат и начальник одной из полицейских команд Альберт Обухович. Последнего еще утром вызвали в комендатуру, и это спасло ему жизнь. Взбешенный начальник местной тайной полиции Штроп приказал за недосмотр при охране важного объекта отдать Обуховича под суд. Но так как тот был русским, обвинение в небрежности могло превратиться в более серьезное — с русскими перебежчиками обычно не церемонились, — и Обухович мог ждать казни. Однако, когда, выполнив свою миссию, улетел в Минск нагнавший здесь страху герр оберет фон Никиш и кресло Штропа обрело прежнюю устойчивость, а сам он немного пришел в себя, намерения тайной полиции относительно проштрафившегося полицейского изменились. Ему вдруг пришло в голову, что Альберт Обухович может стать ценнейшим и старательнейшим сотрудником гестапо. Обухович сидел в тюрьме за уголовное преступление, вышел оттуда перед самой войной и в городе появился совсем недавно. Слежка подтвердила, что его почти никто и в лицо не знал. Это важное обстоятельство отвечало замыслам Штропа. Теперь оставалось только припугнуть Обуховича. В один из ярких весенних дней была разыграна мелодраматическая сцена, будто взятая из авантюрного романа. Обуховича вывели из камеры во двор тюрьмы, где с перекладины виселицы, покачиваясь, свисала петля. Вокруг, поблескивая бляхами на ремнях, замер наряд полицейских с карабинами. Венцель, командовавший церемонией казни, прочел приговор: смертная казнь через повешение. Обухович затравленно озирался и все шарил глазами по рядам полицейских. Но они смотрели себе под ноги. Когда осужденному накинули на шею петлю, во двор тюрьмы ворвался запыхавшийся фельдфебель и протянул Венцелю какую-то бумажку. Это был приказ коменданта об отмене смертной казни. На следующий день Обухович, еще не совсем пришедший в себя после пережитого, сидел в кабинете Штропа. — Послушайте, — начал Штроп, — как вас… Обухович, вы тяжко, непоправимо виноваты перед германским командованием, которое доверило вам охрану важнейшего объекта. И как вы оправдали доверие? Прямо у вас под носом диверсанты взорвали объект! А может быть, вы служите русским, предаете рейх? Я сильно подозреваю именно это. Что, молчите? Вы должны понять, что работаете для Германии, а не для комиссаров. Мы не терпим расхлябанности и предательства. Мы научим вас уважать порядок и аккуратность! Нам все известно! Все ваши связи с партизанами! Обухович сидел, опустив голову. — Вы заслуживаете самой суровой кары, — повысил голос Штроп. — Но мы решили дать вам возможность искупить свою вину. Штроп взглянул на Обуховича, но тот даже не пошевельнулся. — Слышите? — А? Что? — встрепенулся Обухович. — Вы должны доказать, что не пожалеете жизни для победы германского оружия. На сей раз Обухович понял. На лице его появилась жалкая улыбка, и у Штропа мелькнуло опасение, уж не рехнулся ли полицейский от страха. Но вдруг Обухович грохнулся на пол и пополз на коленях к Штропу. — Господин офицер… Я… я… клянусь богом, я верой и правдой… разрешите. И Обухович потянулся губами к руке Штропа. Но тот брезгливо сморщился. — Э… встаньте, встаньте, я вам говорю. Хорошо, я вижу, вы все поняли. Вы раскаялись. Теперь вы должны доказать свою верность фюреру. Штроп вытер носовым платком тыльную сторону ладони, к которой все-таки прикоснулся губами полицай, и сел в кресло. Затем он дал совершенно растерявшемуся Обуховичу задание проникнуть в среду подпольщиков, войти в доверие, узнать фамилии, адреса, места явок, средства связи с партизанами. После выполнения этой задачи Штроп гарантировал Обуховичу не только полнейшую реабилитацию, но и крупную денежную награду. Полицейский поклялся, что он не пощадит живота своего, чтобы вернуть утраченное доверие начальства. Отпуская Обуховича, Штроп спросил его: — Вы, кажется, только что женились? Да ведь и мать у вас не так далеко от города: что для гестапо какие-то двести километров… — Совершенно верно, — растерявшись, пробормотал Обухович. — Вы ведь не хотите, чтобы с молодой женой и престарелой матерью случилось несчастье? Впервые за весь разговор Обухович посмотрел прямо в лицо своему начальству. — Я все понимаю, — тихо сказал он. — Великолепно! — удовлетворенно воскликнул Штроп и, коротко хохотнув, похлопал полицейского по плечу: — Вы сообразительный парень. Через два дня избитого Обуховича втолкнули в тюремную камеру, где томилось несколько человек, захваченных во время облавы после взрыва склада. Ранним утром четырех арестованных, в том числе и Обуховича, в крытом грузовике повезли по Витебскому шоссе к Доронинскому карьеру. Когда их привели на поляну, из леса выскочили человек тридцать полицейских, переодетых партизанами и вооруженных автоматами с холостыми патронами. Между охраной и «партизанами» завязался «бой». Арестованные бросились на землю и, воспользовавшись суматохой, кинулись в лес. Вскоре стрельба прекратилась. Беглецов никто не преследовал. В тот же день Штропу донесли, что спектакль удался. Однако Штроп приказал взять на всякий случай беременную жену Обуховича под стражу. Он не любил рисковать.3. Секретный аэродром
Теперь все свое внимание Алексей сосредоточил на секретном аэродроме. Сведения об этом аэродроме у подпольщиков были очень неопределенные. Шла неделя за неделей, а у Алексея не было еще и приблизительного плана действий. Между тем из Центра еще раз напомнили о задании и подчеркнули его исключительную важность. Разведчика охватило беспокойство. Он бился над почти неразрешимой задачей: как собрать хотя бы отрывочные сведения об охране аэродрома, системе пропусков, движении самолетов и т. д. Единственный человек, который иногда попадал за колючую изгородь аэродрома, был Готвальд, но он, как сообщал Шерстнев, повез какого-то офицера из комендатуры в Витебск и должен вернуться через две недели. Алексею оставалось только ждать. Валентин Готвальд жил с семьей в деревне Кровны, что в десяти километрах от города. Встречаться у него на квартире было опасно: незнакомый человек в такой крохотной деревушке сразу привлекал внимание. Мастерская Афанасия Кузьмича была на людной улице; там было удобно встречаться, но в последнее время гитлеровские агенты так наводнили город, что Алексей больше не считал возможным часто наведываться в ателье. Да и появление там Готвальда, немецкого военнослужащего, могло привлечь любопытство соседей и внимание шпиков. Решили поступить иначе. Как только Готвальд поедет по Витебскому шоссе один, без пассажиров, он остановится на третьем километре от города, около разбитой гипсовой статуи пионерки. Там лес подступает к самой дороге. Спустив баллон и разложив инструменты у машины, Валентин отойдет за деревья, где его и будет ждать Алексей. Договорились, что за несколько дней до поездки Готвальда тот предупредит Шерстнева, а последний передаст через Афанасия Кузьмича условную фразу: «Блондинка ждет во столько-то». Дня через три свидание было назначено. В лесу гудели сосны — день выдался ветреный. По молодой, трогательно зеленой травке пробегали солнечные блики, Алексей нес в руках веревку: пришел, мол, человек за хворостом. Скоро Алексей остановился: справа, от города, донесся рокот мотора. Между деревьями, блестя никелем облицовки, мелькнул черный «вандерер». У статуи пионерки (от нее остался только постамент и торчащие во все стороны прутья каркаса) машина остановилась. Хлопнула дверца. Шофер в серо-зеленой куртке и пилотке обошел «вандерер», пнул ногой заднее колесо, затем присел около него на корточки, оглянулся. «Вандерер», зашипев, плавно осел на левый бок. Готвальд строго следовал инструкции, которую Алексей передал ему через Шерстнева. Снял колесо и принялся было накачивать камеру. Потом, перескочив через придорожную канавку, не спеша пошел к лесу. Вскоре его светло-русая голова показалась из-за кустов. Алексей вышел навстречу. Серые глаза Готвальда щурились от солнца. Поздоровались, кивнув друг другу. Алексею всегда нравилось красивое лицо Валентина, его сдержанность, тяжеловатая, с ленцой, походка, обстоятельность, с какой тот отвечал на вопросы. Они спрятались неподалеку от машины. — Сумеешь устроиться на аэродром? — спросил Алексей. — Не знаю. — Это необходимо. — Но как? Если я буду очень настойчив, это сразу вызовет подозрение. — Нужно сделать так, чтобы тебя самого пригласили. А ты должен будешь еще поломаться. Готвальд засмеялся. — Ну, вряд ли меня пригласят. — Почему же. Давай-ка вместе покумекаем, как бы лучше выслужиться перед вашим начальством… По утрам, без пяти минут восемь, Готвальд подавал машину к подъезду кирпичного двухэтажного особняка, где жил комендант. Ровно в восемь часов распахивалась дверь парадного, и на пороге появлялся майор Патценгауэр, гладковыбритый, розовый после ванны. Натягивая на ходу перчатки, он, кряхтя, влезал в машину и доброжелательно кивал Валентину в знак приветствия. Но в последнюю неделю дважды случилось так, что Готвальд подъезжал к крыльцу, когда майор уже стоял на ступеньках и нетерпеливо посматривал по сторонам. В первый раз Патценгауэр ограничился лишь недовольным взглядом. Во второй раз он назидательно изрек: — Точность и аккуратность — главная черта истинного германца! Впрочем, вы столько лет прожили среди русских, что поневоле усвоили их дикарскую манеру везде и всюду опаздывать. Готвальд виновато пробормотал извинения… После двух-трех новых опозданий майор еще раз вознегодовал. Он пригрозил Готвальду увольнением, если машина будет подана хотя бы на пятнадцать секунд позже восьми утра. Готвальд ссылался на то, что ему трудно добираться от деревни Кровны до города, и однажды обратился к майору с просьбой перевести его на другую работу, поближе к дому. Патценгауэр, человек не злой от природы, хорошо относился к Готвальду, хотя и сердился за его неаккуратность. Ценил майор и то, что Готвальд был немец. Комендант не сразу отпустил Готвальда, предложил подумать — работа в комендатуре хорошо оплачивалась. После очередного опоздания Патценгауэр сдался и стал подыскивать себе нового шофера, а Готвальду — подходящую работу. Обращаясь с просьбой о переводе к коменданту, Валентин твердо знал: у его начальника выбор ограничен. Единственный объект, расположенный поблизости от деревни Кровны, — это аэродром. Расчет Готвальда оправдался: вскоре шоферу было приказано явиться на аэродром. Пропуск для него был уже готов. Сухощавый офицер придирчиво изучал его документы и наконец, позвонив по внутреннему телефону, приказал солдату открыть шлагбаум. В небольшом сборном домике, на который указал ему сухощавый офицер, Валентина ждал старший лейтенант с гладко прилизанными волосами и холодными внимательными глазами, поблескивавшими за стеклами очков. По первым фразам разговора Валентин понял, что комендант все устроил. — Будете работать у нас шофером, — объявил старший лейтенант. Готвальд замялся. — Не знаю, справлюсь ли? — проговорил он неуверенно. — Майор Патценгауэр положительно отзывается о вашей квалификации. Валентин, как научил его Алексей, долго расспрашивал о заработке, жилье и порядком надоел офицеру. И вот, когда главная цель была достигнута, неожиданно возникло серьезное препятствие. Старший лейтенант предупредил Готвальда, что тот обязан переселиться с семьей в деревню Клирос, находившуюся в двух километрах от аэродрома, на шоссе, ведущем в город. Готвальд, придя домой, рассказал жене о переходе на новую работу и об условии, с этим связанном. — Не поеду, — твердо заявила жена Готвальда Евгения. — Мне и здесь хорошо. Другие в город стремятся, а ты — подальше в глушь… Да и мало ли людей всяких шатается теперь по дорогам. — Евгения протестовала потому, что из деревень вокруг аэродрома были выселены все жители и фашистские власти водворяли туда только своих приспешников, проверенных в гестапо. — О ребенке подумай, — продолжала причитать она. — Да ведь и фельдшера там не найдешь. Всех угнали… Одни полицаи. До войны она преподавала математику в средней школе в Кровнах. Это была миловидная, невысокая, худенькая женщина с гладко зачесанными волосами, собранными на затылке в пучок. Валентин любил жену, но не мог ей сказать об истинных целях своей новой работы. Евгения тяжело воспринимала происходящее вокруг. Ее угнетало, что муж работает на немцев, она уже не раз думала, не покинуть ли гитлеровского прислужника. Только двухлетний Игорек удерживал ее. Переселение в деревню, где оставались жить только сверхпроверенные негодяи, пугало молодую женщину. Там бы она чувствовала себя совсем отверженной и оторванной от всех близких и знакомых. И без того уж последнее время соседи с ней не здоровались. — Но я уже согласился, — продолжал настаивать Валентин. — Надо было сначала посоветоваться со мной. «Никогда не подозревал, что Евгения так упряма», — думалГотвальд. — Пойми, я ничего не могу поделать. Меня переводят на новую работу. Если я откажусь, мы останемся без куска хлеба, да и могут загнать в штрафной батальон или посадят в тюрьму за сопротивление приказу. Нельзя раздражать начальство. Мне потом отомстят… Погибнем все. Игорька жалко… На аэродроме и паек, и зарплата приличная. В конце концов Евгения согласилась. Готвальды перебрались в деревню Клирос. Им отвели избу, из которой недавно выгнали хозяев. Треснувшая печь и выбитые стекла придавали помещению неуютный, нежилой вид. В темных, прокопченных углах, казалось, остался призрак чужого несчастья. Переступив порог нового жилища, Евгения сердито посмотрела на мужа. Он поспешил улыбнуться. — Ничего, ничего, — проговорил Валентин. — Потерпи… Мы сейчас все приведем в порядок. В гараже аэродрома Готвальд получил в свое ведение новенький черный «опель-капитан». Валентин обрадовался: это была машина высшего класса, на таких разъезжали только большие чины. Значит, он будет возить начальников. О том, что Готвальд благополучно устроился на аэродром, Алексей узнал от Шерстнева. Тимофей видел, как Валентин проезжал на своем «опеле» мимо здания полиции. Готвальд приветственно помахал полицаю рукой, и Шерстнев понял, что все в порядке. Дня через два им удалось поговорить. Готвальд ждал у полиции приехавшего с ним одного из аэродромных начальников. Передал Шерстневу, что в город будет заезжать редко, а заранее предупреждать о своем маршруте не может: за обслуживающим персоналом секретного аэродрома велась постоянная слежка и для каждой поездки в город нужен был хорошо мотивированный предлог. Да и в городе шпики ходили по пятам. Поговорив с Шерстневым, Алексей снова вспомнил о Лещевском. Единственный способ контакта с Готвальдом — встреча шофера с хирургом, к которому тот мог прийти под видом пациента. Нужно было придумать такую болезнь, которая требовала бы систематического посещения госпиталя, но не была бы заразной. Немцы панически боялись инфекции и при малейшем подозрении убрали бы Готвальда с аэродрома. На память Алексею пришла история, услышанная им от одного старого разведчика. Во время первой мировой войны этот человек работал писарем в штабе немецкого полка, одновременно будучи русским агентом. Дивизия стояла в сельской местности, а полученные сведения нужно было передавать связному в соседнем городе. Увольнительных не давали. Тогда разведчик заявил полковому врачу, что он уже несколько лет страдает «трещиной пищевода». Врач направил больного в городской госпиталь, где разведчика подвергли обследованию и предписали раз в десять дней являться на осмотр. Алексей решил, что версия о застарелой язве двенадцатиперстной кишки — подходящий повод для того, чтобы Валентин пришел к Лещевскому. Он предупредил Лещевского о возможном появлении в госпитале пациента с такой болезнью. Лещевский пожал плечами. — Разденьтесь, — приказал он и, не глядя на пациента, принялся заполнять формуляр.* * *
В трех километрах от аэродрома на обочине шоссе торчал полосатый столб. С прибитого к нему белого фанерного щита черные буквы предупреждали: «Запретная зона». Рядом стояла охрана. Двое автоматчиков подолгу придирчиво проверяли документы всех проезжавших по дороге. И только удостоверившись в полном сходстве фотографии с оригиналом, поднимали шлагбаум. И хотя документы Готвальда были в полном порядке, всякий раз, останавливаясь у полосатого столба и чувствуя на себе подозрительные взгляды охранников, Валентин нервничал. Через два километра, у поворота к летному полю, дорога подходила к забору с колючей проволокой. Здесь документы проверялись еще раз, и после этого автомобиль пропускали в ворота аэродрома. Последний контрольно-пропускной пункт был уже внутри отгороженного этой колючей проволокой пространства, у группы небольших щитовых домиков, где располагались различные службы: диспетчерская, гаражи, столовая для офицеров. Назначение нескольких других строений Валентину не было известно. Глубже в лесу, на обширной поляне, темнели окна длинного низкого флигеля, у которого постоянно дежурило несколько легковых машин. Подъезд охранял часовой. Аэродром был расположен в лесу, и от сосен была очищена только взлетная площадка. По асфальтированным дорожкам сновали офицеры, в большинстве своем старшие. Изредка здесь можно было увидеть и генерала. «Пожалуй, лучшего места для секретного аэродрома и не выберешь», — размышлял Готвальд. Несколько раз, когда, видимо, прилетали особо высокие чины, Валентину приказывали подать машину прямо к самолету. Тяжелые оливкового цвета Ю-52 появлялись из-за зубчатой кромки леса, бежали по дорожке, затем, приглушенно урча моторами, подруливали к краю поля. Едва пассажиры выходили, самолет тут же отводили под туго натянутые маскировочные тенты. В машине Готвальда места пассажиров были отгорожены от кабины шофера толстым плексигласом, так что голоса сидевших за его спиной офицеров сливались в монотонное бормотание. Невозможно было понять, о чем приехавшие разговаривают. С Готвальдом вообще никто не вступал в беседы. Садившиеся в машину офицеры бросали, не глядя на него, одно-два слова: — В город! — В отель! Или просто кивком головы указывали нужное им здание. Иногда Готвальду приказывали ехать в какой-нибудь населенный пункт. Тогда его «опель» шел в длинной веренице машин. Однажды, когда прилетел седой, почтенных лет полковник, Готвальд нес его чемодан и небольшой газетный сверток. Готвальд успел рассмотреть, что газета была датирована вчерашним числом и выходила в Берлине. Значит, эти «юнкерсы» прилетают прямо из столицы фашистской Германии! Так вот откуда эти чисто выбритые, лощеные, представительные майоры, полковники и генералы… Валентин отпросился в город у начальника гаража, толстенького лысоватого обер-лейтенанта, сославшись на боль в желудке. Толстяк посоветовал Готвальду обратиться к врачу на аэродроме. Но Готвальд настоял, чтобы ему разрешили посетить госпиталь: он хотел бы показаться врачу, который лечил его раньше. Может быть, понадобится рентген. Толстяк отпустил Готвальда на три часа. Как-то Валентин вез на аэродром из города молодого надменного майора. Неподалеку от первого контрольно-пропускного пункта мотор «опеля» зачихал, несколько раз конвульсивно дернулся и замер. Кое-как дотянув до обочины, Готвальд открыл капот. Оказалось, что засорился бензопровод. Пока Валентин ковырялся в моторе, мимо со свистом пронеслось несколько автомобилей. Один из них сопровождал эскорт мотоциклистов. — Скорей же, черт побери! — открыв дверцу, крикнул майор Валентину. Когда машина была налажена и «опель» мчался к аэродрому, Готвальд заметил, что майор то и дело нетерпеливо посматривает на часы. «Видно, торопится на какое-то совещание, — догадался Валентин. — Нет, не к самолету мой сегодняшний пассажир спешит». Шоферам было запрещено останавливаться ближе чем в двадцати пяти метрах от таинственного длинного здания. Майор же так торопился, что пришлось подъехать прямо к парадному входу. Он на ходу сам распахнул дверцу, спрыгнул на землю прежде, чем Валентин успел окончательно притормозить, и скрылся в темном прямоугольнике двери. Быстрый взгляд, брошенный Валентином на окна, запечатлел ряд затылков по ту сторону стекол, туго обтянутые мундирами спины, серебряные и золотые канты. Действительно, собралось какое-то очень важное совещание. Предположение подтверждали и шеренги роскошных машин, стоявшие поодаль. Помня наставления Алексея, Валентин жадно впитывал в себя каждую деталь… Когда Лещевский осматривал его, Готвальд торопливым шепотом рассказывал в очередной раз о своих наблюдениях. А рассказывая, он вспомнил, как на днях встретил на шоссе, ведущем к аэродрому, подводу. На телеге, слегка прикрытые соломой, лежали три трупа. Лиц Готвальд рассмотреть не мог, но, судя по юбке, видневшейся из-под соломы, среди убитых была женщина. Двое других оказались детьми. Лошадью правил сморщенный старик в поддевке и выгоревшем картузе. Рядом с возницей, свесив ноги в пыльных сапогах, равнодушно покуривал сигарету молодой полицай. Готвальд остановил машину. Махнул рукой полицейскому. Вожжи натянулись. Лошадь стала. Прикурив у парня с полицейской повязкой, Готвальд кивнул на трупы и спросил: — Кто это? — Да так, — нехотя заговорил парень. — По собственной глупости смерть приняли. — Ох, толковал же я им, — вмешался в разговор старик, — не ходите туда, — нет, не послушались. Выяснилось, что убитые — дальние родственники старика, старосты деревни. Вчера, собирая ягоды в лесу, они зашли в запретную зону. — Кто же это их? — спросил Готвальд. — Известно кто — охрана. Которая самолеты стережет, — пробурчал старик. Он хотел добавить еще что-то, но полицай прикрикнул на него: — Ладно болтать-то! Лошадь тронулась. Валентин поспешил к машине. Перед глазами стояли немытые детские ноги, над которыми вились мухи. Готвальд жадно курил. На душе у него было тяжело. Но все-таки заговорил с полицаем он не зря: узнал еще одну подробность. Значит, аэродром охраняют еще и посты жандармерии. Что ж, об этом стоит сообщить в город.4. Фукс и Ланге
Старинный костел стоял на Сенной площади. На стенах костела, сложенных из серого камня, осколки и пули оставили свои отметины. В нише над входом — статуя апостола Петра. Нос святого ключника был отбит осколком, и Алексею показалось, что в слепом, неподвижном взгляде апостола, устремленном к небесам, застыла немая жалоба на людское бессердечие. «Война не обошла и святых. Даже апостол. Петр попал в инвалиды третьей группы». — Алексей усмехнулся и, поднимаясь по каменным ступенькам, прихрамывал заметнее обычного. Нищие, осаждавшие всех входивших в костел, не обратили внимания на плохо одетого инвалида. Алексей беспрепятственно вошел внутрь. Там было темно и прохладно. После яркого солнечного света он долго не мог ничего рассмотреть. В ноздри ему ударил горьковато-кислый запах сырой штукатурки — костел, видимо, недавно побелили. Гулко разносилось нестройное, разноголосое пение прихожан, бормотание ксендза. Лицо его как бы растворилось в сумраке, белел только широкий воротник. Алексей остановился у входа, сделал вид, что усердно молится и стал украдкой посматривать вокруг, скользя взглядом по затылкам и спинам. Перед ним розовела лысина немецкого офицера. Когда офицер склонялся в поклоне, поскрипывала портупея. Рядом с Алексеем вздыхала и вытирала слезы высокая старушка в черном. Приглядевшись в темноте к сидевшим на скамейках, разведчик увидел слева знакомый четкий профиль. Готвальд, видимо, почувствовал на себе пристальный взгляд Алексея, обернулся. Глаза их встретились. Валентин еле заметно кивнул: подходи, мол, поближе. В левом приделе, перед статуей богородицы с младенцем, горело с полдюжины свечей. От одной из них Алексей зажег свою, поставил ее рядом с другими и, подняв глаза на каменное бесстрастное лицо богородицы, неловко осенил себя католическим крестным знамением. «Должно быть, я выгляжу со стороны вполне лояльным гражданином: прихожу в храм, ставлю свечи пресвятой деве», — вновь усмехнулся Алексей. Между тем хор смолк. Ксендз скрылся за занавесом. Толпа стала редеть. На каменных плитах застыли в земном поклоне несколько старческих фигур. Готвальд прошел мимо Алексея, не поворачивая головы, шепнул: — Иди за мной. У опустевшего клироса он скрылся за какой-то низенькой дверью. Алексей оглянулся — в костеле осталось с полдюжины молящихся — и двинулся к дверце. В маленькой комнатке с низким сводчатым потолком Готвальд был один. — Нечего сказать, нашел подходящее место, — Алексей пожал Готвальду руку. — Вполне подходящее. Мой начальник очень набожный, требует, чтобы мы посещали церковь. Я сказался католиком и теперь по воскресеньям смогу приходить сюда. — Ты думаешь, здесь безопасно? — Вполне. Ксендз — мой дальний родственник, мать у меня наполовину полька. К тому же ты пришел, чтобы предложить мне крупную партию табака. Ты спекулянт, человек солидный и, если кто войдет, держи себя соответственно. Правда, глядя на тебя, — смеясь, добавил Валентин, — не скажешь, что дела твои идут блестяще. — Я только начинающий, — в тон ему сказал Алексей, — подожди, у меня будет котелок на голове, манишка, сигара во рту и… что там еще полагается иметь солидному предпринимателю? Валентин машинально достал пачку сигарет. — Ты что, — остановил его Алексей, — здесь же храм! — Ах, да… Готвальд хотел было спрятать пачку в карман, но Алексей попросил: — Поделись, брат, со мной. Ведь я не на довольствии… Валентин отдал ему всю пачку. — Мне нужно сообщить тебе кое-что важное, — он перешел на серьезный тон. — Догадываюсь, что не зря мы встретились. — Я познакомился с одним немцем — Вилли Малькайтом. Он обслуживает офицеров связи, прилетающих из Берлина. Оказалось, что он, как и мой отец, из Дрездена. Несколько раз я его подбрасывал в город — тут у него живет какая-то зазноба. За это он снабжает меня сигаретами. Он приставлен к двум оберстам, которые по очереди раз в неделю прилетают в Ретунь. Фамилия одного — Фукс, другого — Ланге. Запомни: Фукс и Ланге. Алексей кивнул головой. — Так вот. Через своего нового приятеля я узнал, что «юнкерс» с Фуксом и Ланге прилетает, как правило, в час дня. Я подаю машину прямо к самолету и везу их к гостинице. Ты ведь знаешь, как у немцев все строго по расписанию. Распорядок тут такой: в час дня прилетает самолет. Я жду на летном поле и везу в домик для приезжающих. Затем душ — двадцать минут, обед — пятнадцать минут, отдых — час. — А после? — спросил Алексей, испытывая неожиданный прилив нежности к этому аккуратному, толковому человеку. — Иногда я еду на Новые Выселки, знаешь? Это километрах в ста отсюда. Там, видимо, какой-то важный штаб. Какой — пока еще не знаю. Но чаще всего офицеры собираются в большом здании на самом аэродроме… — Кто они, эти Фукс и Ланге? — Точно не могу сказать. У каждого всегда при себе большой желтый портфель. Скорее всего, офицеры связи из крупных штабов. — Вот оно что… — Думаю, что именно так. Судя по тому, с какой почтительностью к Фуксу и Ланге относятся даже генералы… Алексей пристально посмотрел на Готвальда и медленно проговорил: — Ты принес очень важные сведения, Валентин. Ты даже сам не подозреваешь, как они важны…* * *
В знойный июньский полдень из соснового бора на шоссе, ведущее на аэродром, в трех километрах от контрольно-пропускного пункта, вышел немецкий офицер в новом, видимо только что сшитом мундире со знаками различия майора. Подтянутый, чисто выбритый офицер посмотрел в обе стороны пустынного шоссе, затем укрылся в кустах, нагнулся и, достав из кармана кусок сукна, старательно, до блеска, начистил запылившиеся сапоги. Солнце палило. Дышать было трудно. От сосен тек горьковато-терпкий смолистый запах. В покойную полуденную тишину тревожной нотой вплетался далекий, еле слышный рокот самолетов. Офицер вытер носовым платком лицо и еще раз оглядел шоссе. Над раскаленным асфальтом дрожало марево…Ю-52 приземлился в 13.03 и подрулил к краю летного поля. По трапу неторопливо сошел полковник Фукс — седой краснолицый офицер в блестевших на солнце очках. Фукс вытянул руку, приветствуя военных, столпившихся у трапа, и направился к черному «опель-капитану». Валентин почтительно открыл перед ним дверцу. Фукс кивнул ему как старому знакомому. Десять минут спустя «опель» остановился у домика для приезжих. Готвальд снова услужливо распахнул дверцу машины и на отличном немецком языке пожелал оберсту хорошего отдыха после утомительного полета. Однако Готвальд не повел машину в гараж. Он поднял капот и принялся возиться с автомобилем. Руки слегка дрожали, нервы были напряжены; когда рядом послышался шорох шагов, он обернулся слишком резко. К счастью, проходивший мимо обер-лейтенант не обратил на незадачливого шофера внимания. Валентин закончил осмотр машины, закурил и пошел в гостиницу. В вестибюле, застланном коврами, было прохладно и тихо. В коридоре Валентин столкнулся с добродушным румяным Вилли. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что Малькайт — любитель пива, карт и девочек. Осторожно ступая, он нес перед собой поднос с кофейником, маленькую чашку, какие-то тарелки, прикрытые накрахмаленной салфеткой. — Скучаешь? — Он подмигнул Готвальду. — Что делать… — Тот пожал плечами. — Хоть бы переброситься с кем в картишки… Лицо Вилли приняло озабоченное выражение. — Сейчас не могу, сам видишь, — он показал глазами на поднос. — Понимаю, — Валентин сочувственно вздохнул. — Такая жарища, в горле пересохло. Совсем сморило… Эх, неплохо бы кофейку выпить, а то заснешь еще в машине. — Пожалуйста, — Вилли не растерялся. Поставив поднос на маленький столик, денщик достал из кармана складной металлический стаканчик, снял крышку с кофейника. Вырвалось облачко горячего пара. Валентин с наслаждением втянул запах, зажмурил глаза. — Какой аромат! — Настоящий мокко, только что помолотый, — пояснил Вилли, наливая кофе в стаканчик и передавая кофейник Валентину. И вдруг крышка кофейника выскользнула из рук Готвальда и, гремя, покатилась под диван. Валентин извинился за свою неловкость и продолжал мелкими глоточками отхлебывать кофе. — Подержи-ка, — Малькайт нагнулся, чтобы поднять крышку. — Эх, черт, далеко закатилась, — и полез под диван. Готвальд неотрывно глядел на Вилли, а тот все никак не мог дотянуться рукой до упавшей крышки кофейника. Валентин проворно сунул руку в карман. В ладони оказались таблетки, которые он быстро бросил в дышащий паром кофейник. Отдуваясь, Вилли с трудом вылез из-под дивана. Водворив крышку на место, он заторопился. — Побегу, — бросил он приятелю и, еще на мгновение задержавшись, спросил: — В субботу подбросишь к девчонкам, а? — Обязательно, — заверил его Валентин. — А ты не знаешь, когда сегодня потребуется машина твоему начальству? — Думаю, через час с четвертью. Полковник собирается отдыхать. А что? — Да что-то капризничает карбюратор. Хочу заехать в гараж. — Валяй. Да смотри не опаздывай! Как только Малькайт скрылся за дверью второй комнаты справа, Валентин выскочил на улицу, сел в свой «опель» и рывком взял с места. Гостиница для приезжих находилась метрах в пятистах от контрольно-пропускного пункта. Готвальд до конца утопил педаль газа. «Опель» торопливо глотал серую ленту шоссе. Мелькали красноватые стволы сосен. Охрана хорошо знала Валентина в лицо, тем не менее при выезде за ворота у него тщательно проверили пропуск. На третьем километре у телеграфного столба с подпоркой Валентин взглянул в зеркальце над ветровым стеклом. Убедившись, что сзади никого нет, он притормозил, круто развернул машину и остановился на обочине. В ту же секунду из кустов орешника вышел немецкий офицер. Он сам распахнул дверцу и сел рядом с Готвальдом. Валентин с трудом узнал Алексея: твердо сжатые губы, сощуренные, холодно поблескивающие глаза под лакированным козырьком фуражки со свастикой. — А где достали форму? — спросил восхищенный Готвальд. — Сидит как влитая. — Корень прислал. У них всякие есть из трофейных. А Афанасий Кузьмич пригнал по фигуре. Голос Алексея звучал глухо. Валентин украдкой взглянул на Алексея — он казался спокойным. — Тише. Не гони машину, — скомандовал разведчик. В голосе его звучали незнакомые холодно-повелительные нотки. — Следи за лицом. Оно у тебя слишком напряжено. Постарайся придать ему скучающее, равнодушное выражение. Как обстановка? Валентин посмотрел на часы. — Фукс уже лег спать… — Снотворное? — В кофе. Готвальд рассказал Алексею, как все было. — Дверь заперта? — спросил Столяров. — Обычно не запирают. Будем и теперь надеяться на счастливый случай. Приближался контрольно-пропускной пункт. Оба молчали. Алексей был внешне спокоен. На самом деле с той минуты, как он сел в «опель», им овладело нервное возбуждение. Это была хорошо знакомая «реакция на опасность». В такие минуты все чувства его обострялись, мысль работала с удвоенной быстротой, все силы были собраны и приведены в боевую готовность. Страха не было, и Алексей даже любил эти минуты наивысшего напряжения, чем-то близкого творческому вдохновению. В нагрудном кармане лежало удостоверение личности на имя майора Франца Деммеля. Документ был подлинный. Столяров не решился бы довериться подделке, зная, что у такого ответственного объекта дежурят люди с наметанным глазом. Достать документ удалось с помощью Лещевского. В немецкий госпиталь привезли тяжело раненного офицера — майора Деммеля. Осколок застрял в брюшной полости, и извлекал его сам Лещевский, дежуривший в этот вечер. Столяров уже давно просил Адама Григорьевича достать офицерское удостоверение. И хирург искал возможность выполнить эту просьбу, но документы прибывающих оставались обычно в приемном покое госпиталя. На этот раз Лещевский был первым, кто подошел к раненому. Во время осмотра хирург осторожно вынул у Деммеля из кармана френча удостоверение и сунул себе в халат. После этого он приказал санитарам срочно внести офицера в операционную. Когда санитары сняли с немца залитое кровью обмундирование, Лещевский приказал посмотреть, нет ли в карманах документов. Были найдены только фотографии, но удостоверения личности не оказалось. Раненый был зарегистрирован по фамилии, написанной на одном из конвертов. Документ на имя майора Деммеля врач передал Алексею через Шерстнева. Столяров осторожно над паром отклеил фотографию майора и приклеил свою. Недостающий сектор круглой фиолетовой печати оттиснул на фотографии сам. Алексей придирчиво изучил свою работу — изъяна отыскать не смог. Но все-таки он беспокоился. А вдруг этот изъян обнаружат те, что стоят у шлагбаума? Расстояние от первого КП до гостиницы для приезжих показалось Алексею бесконечной дорогой в неизвестность. Долго потом он вспоминал эту дорогу, колючий холодок в сердце, звон в ушах, руки унтер-офицеров, долго, невыносимо долго вертящие удостоверение майора Франца Деммеля, липкие взгляды, перебегавшие с его лица на фотографию. Стараясь сохранить равнодушное, холодно-надменное выражение лица, он глядел прямо перед собой — на полосатый шлагбаум и краем глаза зорко следил за каждым движением охранников. Левая рука его при малейшей опасности готова была ринуться в карман френча за «лимонкой», правая — дернуть ручку дверцы. И в то же время где-то в далеких уголках сознания созревала мысль: «Уйти невозможно, почти невозможно… Если удастся швырнуть «лимонку» и скрыться в лесу… Вокруг охрана, секреты, полицейские пункты… Нет, не уйти!» Толстый унтер вернул ему книжечку. Такая же процедура повторилась у ворот в заборе из колючей проволоки. «Опель» плавно покатил по узкой асфальтированной дороге. По бокам стояла золотисто-охристая колонна сосен, между которыми мелькали сборные домики защитного цвета. К ним вели дорожки, аккуратно присыпанные песком. «Будто санаторий», — подумал Алексей. Правда, сновавшие вокруг люди в комбинезонах и кожаных куртках мало походили на отдыхающих. У отеля «опель» остановился. Алексей небрежно ответил на приветствие часового и через вестибюль вошел в прохладный коридор, но почему-то в глаза ему бросился желтый листок липучки на столике. На нем, увязнув тонкими ножками, отчаянно билась оса. «Должно быть, тот самый столик, где Готвальд подсы́пал в кофе снотворное…» Из двери одной комнаты вынырнул пухлощекий ординарец. Вытянув руки по швам, он вопросительно смотрел на Столярова. Алексей догадался, что перед ним приятель Готвальда — Вилли Малькайт. Алексей помнил, что Фукс остановился во второй комнате справа. Ничего не сказав денщику, с непроницаемым лицом разведчик прошел мимо Вилли. — Герр полковник сейчас отдыхает, — сказал Малькайт, видя, что незнакомый ему офицер направляется к комнате Фукса. — Отдыхает? — удивился Алексей. — Но мне приказано явиться. — Так пойти доложить? — Нет, благодарю. Я подожду, когда полковник проснется. Столяров опустился в кресло. Вилли стоял в нерешительности. — Вы свободны, — распорядился Столяров. Едва денщик исчез, Алексей встал и направился к двери, за которой отдыхал полковник Фукс. Оглянулся — коридор был пуст. А что, если полковник не спит? Что ж, тогда он извинится и скажет, что ошибся дверью. Полковник спал, тихонько всхрапывая. Рот его был слегка приоткрыт. Из-под одеяла торчала синеватая, в старческих узловатых венах ступня. Рядом на стуле стоял большой желтый портфель. Ключ торчал в дверях, но Алексей решил не запираться: так легче будет объяснить свое присутствие здесь. Алексей вынул из кармана чистый лист бумаги, карандаш, положил все на столик, сел на стул. Да, если войдет дежурный офицер, Алексей скажет, что пишет записку полковнику. Ни на секунду не выпуская из поля зрения лицо Фукса, он взял желтый портфель. Заглянув внутрь, Алексей похолодел: в портфеле не было ничего, кроме старых газет и несессера. «Скорей из этой комнаты, пока кто-нибудь не вошел». Но не побриться же и прочитать старые газеты прилетел сюда полковник из Берлина! Может быть, карты и документы спрятаны где-нибудь в сейфе? Мгновение Алексей стоял посредине комнаты в нерешительности. Затем, неслышно ступая, подошел к кровати, на которой спал Фукс, и осторожно сунул руку под подушку. Пальцы нащупали жесткие края папки. «Осторожный, черт! Даже спит на своих бумагах». Рассчитанным движением Алексей вынул из кармана миниатюрный фотоаппарат…
* * *
Через несколько минут по коридору, медленно прихрамывая, прошел к выходу выхоленный офицер. На крыльце стоял Вилли и весело переговаривался с Готвальдом, выглядывающим из машины. — Я не дождусь полковника, — процедил сквозь зубы Алексей. — К дежурному по аэродрому! — распорядился он, когда Готвальд почтительно распахивал перед ним дверцу «опель-капитана».* * *
Через два дня после того, как Алексей сфотографировал содержимое папки полковника, он сидел вместе с секретарем подпольного обкома на конспиративной квартире. Пленки были уже проявлены, с них сделаны отпечатки, фотоаппарат возвращен Карновичу. Алексей держал в руках фотографии. Мелкие машинописные буквы чуть расплылись (второпях Алексей, видимо, не точно установил диафрагму), но, однако, читались без особого труда. Скользнув глазами по первым строкам, Столяров обнаружил, что документы обозначены грифом «Совершенно секретно». Это были приказы и планы переброски войсковых соединений из-под Могилева, Витебска и Смоленска в район Курска — Воронежа. Алексей понял, что сведения, которые он добыл, чрезвычайно существенны. Понял это и Карлович. Когда они снова внимательно все перечитали, Карнович похлопал Алексея по плечу. — Ты знаешь, что это такое? — спросил он Столярова. — Ты понял, что ты сотворил? — Догадываюсь. — Ведь переброска войск в таком количестве… это не так просто. — Документы указывают на то, — твердо сказал Алексей, — что немцы собираются вести решительное наступление на Южном фронте. — Но возможно, наше Главное командование уже информировано о направлении удара, — возразил Карнович. — Не знаю. Во всяком случае, надо как можно скорее передать эти документы в Москву.5. Михаил
Альберт Обухович, он же Михаил, он же агент А-39, еле поспевал за беглецами. Судя по тому, какой темп взяли беглецы, они поверили, что их спасли от расстрела партизаны. «А ведь неплохо подстроено, — думал Обухович. — Эти остолопы приняли все за чистую монету. Так мчатся, что у меня вот-вот лопнет сердце». Ободранные, исцарапанные в кровь, беглецы распластались в зарослях. Жадно, как выброшенные из воды рыбы, хватали ртом воздух. У Обуховича дрожали руки и ноги, отчаянно, до звона в ушах, колотилось сердце. Потом у него началась рвота. До войны Обухович заведовал промтоварной базой, проворовался и угодил в тюрьму. С приходом немцев он намеревался взять реванш за напрасно потерянные годы, сразу же поступил в полицию. И вот теперь он должен был улыбаться своим врагам, заискивать перед ними, искать их расположения, каждую минуту опасаясь, что его разоблачат. Столбы солнечного света падали почти отвесно, когда все четверо, отдышавшись, спустились в кочковатую низину. Между березами блеснула узенькая речушка. В ее ртутной глади отражались громоздкие кучевые облака. Спутники Обуховича стали поспешно раздеваться. Тайный эмиссар Штропа тоже было стянул мокрые от росы сапоги, но, взглянув на грязное, полуистлевшее белье беглецов, остановился. Черт побери, разве мог он думать, что ему придется раздеваться у всех на виду! Он облачился в старенькую красноармейскую гимнастерку, а исподнее надел немецкое. Сейчас Обухович с завистью смотрел, как его новые знакомые плескались в воде, ныряли, фыркали, возбужденно переговаривались, обсуждая свое неожиданное освобождение. Обухович разулся, закрутил штаны до колен и, войдя в реку, принялся умываться. — Эй, браток! Ты что, вроде как воды боишься? — спросил его один из беглецов, которого товарищи называли Федором. Это был коренастый здоровяк, широколицый, с неправдоподобно светлыми глазами. Обухович раздвинул рот в улыбке, блеснув сталью искусственных зубов. — Не остыл еще. Как бы не застудиться. Ревматизм у меня. — Да? А я-то думал — утонуть боишься. Товарищи Федора засмеялись. «Издевается, сука… Неужели догадался? — холодея от страха, подумал Обухович. — Надо держать ухо востро!» После купания собрались на поляне, чтобы посоветоваться, что делать дальше. Федор предлагал идти в лес к тому месту, где можно было встретить кого-нибудь из партизанских связных. Двое других поддержали Федора. Подпольщик с лицом в кровоподтеках уставился на Обуховича единственным глазом (другой застилал фиолетовый наплыв) и спросил о его планах. Хотя Штроп приказал следовать за этими людьми повсюду, Обухович не мог преодолеть своего страха перед лесом. К партизанам ему идти не хотелось. По многочисленным рассказам он хорошо знал, какую строгую проверку проходит каждый новый человек в отряде у партизан, редко кому из агентов удавалось войти к ним в доверие. Как правило, большинство засланных в отряды провокаторов проваливались: партизаны их разоблачали. Он предложил своим новым знакомым вернуться в город, к «надежным людям» — двум военнопленным, которые работают у немцев. — Один — электриком, а другой — плотником, и квартиры их вне подозрений, — уверял Обухович своих спутников. — У них кое-что из оружия припрятано, — говорил он все убежденнее, — переночуем, отдохнем, прихватим с собой хозяев — ив лес. На самом деле никаких «надежных людей» у него в городе не было. Да и весь этот план родился у него только что. Целью его было заставить этих людей навести его на след городского подполья: его участников Обухович боялся меньше, чем партизан. Однако Федор, который, видимо, пользовался среди своих товарищей авторитетом, возразил, что лезть еще раз в пасть гестапо они не желают, а будут искать партизан в лесу. В конце концов договорились, что Михаил, как назвал себя Обухович, вернется в город к своим знакомым. Федор же с товарищами пойдет к партизанам, дня через три пришлет к лесной сторожке, неподалеку от села Выпь, верного человека, который и проведет Михаила и его друзей — электромонтера и плотника — в лесной отряд. Прощаясь, Обухович на всякий случай дал Федору адрес квартиры, где жил его знакомый — негласный сотрудник полиции. На следующий день Обухович был в городе. Штроп, выслушав доклад агента, одобрил его план действий. На квартиру к негласному сотруднику полиции подселили еще одного, и Обухович отправился на условленное место — к лесной сторожке у села Выпь.6. «Бритву достать можно»
Негативы переснятых приказов уже находились на пути в партизанский лагерь, откуда их должны были отправить с первым самолетом в Центр, а между тем на аэродроме полковник Фукс забеспокоился. После визита Алексея Вилли с большим трудом поднял своего начальника. Фукс, не понимая, что с ним происходит, никак не мог оторвать голову от подушки и, поднявшись, долго ходил по комнате словно с похмелья. Когда наконец полковник пришел в себя, Вилли доложил шефу, что его ждал какой-то майор, но так и ушел, не дождавшись. — Какой майор? — спросил Фукс. — Вы его вызывали — так он сказал, господин полковник… — Вилли был растерян. — Я никого не вызывал, — удивленно буркнул Фукс. Вилли страшно испугался. А полковник все настойчивее требовал, чтобы Вилли объяснил, кто же все-таки приходил и почему денщик не удосужился даже спросить фамилию майора. Какое-то смутное беспокойство охватило Фукса. Он отбросил подушку — папка лежала на месте, все документы были целы. Но полковнику показалось, что шнурки на ней завязаны несколько иначе, чем это привык делать он. Фукс накинулся на Вилли с бранью, а тот, совершенно ошалев от страха и понимая, что в чем-то провинился, лепетал бессвязные слова оправдания. Фукс не мог отделаться от тревожного чувства. Что это за странный визит? Почему так невыносимо болит голова? Уж не заболел ли он? А Вилли все лепетал, что он не мог расспрашивать господина майора, он простой солдат, только выполняет приказ. Перед денщиком маячила угроза штрафной роты, а может быть, и чего-то похуже. Фукс, уходя на совещание, пригрозил Вилли, что все равно дознается, что за странный посетитель был у него, но в то же время приказал денщику пока молчать и никому о происшествии не рассказывать. В тот же день Фукс проводил совещание командиров частей, дислоцированных в районе города и предназначенных в ближайшее время для отправки на юго-восток. Полковник рассчитывал, что загадочный майор еще явится к нему и все объяснит. Но тот не приходил. Своими опасениями Фукс решил поделиться со Штропом, которого хорошо знал еще до войны, и отправился в гестапо. Они встретились как старые друзья. Штроп предложил полковнику рюмочку коньяку, но тот наотрез отказался. — Вы понимаете, — говорил Фукс, — у меня до сих пор смертельно болит голова. Такое чувство, что кто-то был в моей комнате в то время, когда я спал. И это не бред. Штроп попросил рассказать все подробности. В тот же день по распоряжению Штропа в гестапо допросили денщика Фукса — Вилли Малькайта. Перепуганный насмерть, он довольно путано обрисовал внешность майора, но показал, что незнакомца привез шофер Готвальд. Вызвали Готвальда. Тот подтвердил, что действительно привозил на аэродром неизвестного ему до сих пор офицера. Однако кто этот офицер, он, Готвальд, до сих пор не знает. — Где вы его встретили? — спросил гестаповец, допрашивавший Валентина. — А на шоссе. У него сломалась машина. Он задержал меня и приказал как можно скорее доставить его на аэродром. Дальше Валентин пояснил, что неизвестный офицер, пробыв пять — десять минут в гостинице, вышел на улицу. Он потребовал, чтобы Готвальд, который со своей машиной, как всегда, ожидал Фукса, доставил его к дежурному офицеру, но по дороге передумал и приказал доставить его опять на шоссе, к неисправной машине. Готвальд, хотя и боялся опоздать к тому времени, когда понадобится Фуксу, вынужден был исполнить приказ старшего офицера. Видимо, машина господина майора уже была исправлена, — во всяком случае, Готвальд успел заметить, как неизвестный офицер сел в машину и уехал в направлении города. Сам же Готвальд поспешно вернулся к гостинице. Шофер держался в гестапо спокойно, на вопросы отвечал уверенно. Его показания совпадали с тем, что говорил денщик. Первым желанием Штропа, когда он узнал о результатах допроса шофера, было тут же, немедленно арестовать Готвальда. Но, поразмыслив, он решил, что эта мера преждевременна. Гораздо важнее установить за ним слежку. Дня через два после разговора с полковником шпик, приставленный к Готвальду, донес, что последний заходил в кабинет хирурга военного госпиталя Лещевского и пробыл там четверть часа. Подслушать их разговор не удалось, однако, как установил агент, последние два месяца шофер посещал врача примерно раз в десять дней. Агент смотрел карточки больных, обнаружил, что у Готвальда зарегистрирована застарелая язва желудка, которая последнее время ею беспокоит. Все посещения больным госпиталя были тщательно записаны, так же как и лекарства, которые ему прописывались. Но что-то Штропу показалось подозрительным. Тонкие ноздри его нервно затрепетали. Он поспешно достал сигарету и жадно закурил. — Продолжайте наблюдение, — распорядился он, — и обо всем сразу же докладывайте мне. В тот же день санитарная часть аэродрома вывесила объявление, в котором обязывала обслуживающий персонал в течение двух дней пройти медицинскую проверку. По приказу Штропа один из опытных немецких госпитальных врачей выехал на аэродром. Врач, поблескивая стеклами маленьких старомодных очков в золотой оправе, участливо расспрашивал Готвальда о его здоровье. — Так, так… Язва желудка, говорите? Ай-ай-ай. Нехорошо… Такой еще молодой человек, такое сильное тело… Настоящий ландскнехт! Порекомендовав шоферу не поднимать тяжестей, не курить и не есть ничего острого, врач закончил осмотр и, едва Готвальд вышел за дверь, позвонил Штропу. — Абсолютно здоров, господин полковник. Да, да, уверен. У меня нет ни малейших сомнений. Здоров как бык. Готвальд понял: пришла беда. Правда, его отпустили после допроса, но он знал, что не отвел от себя подозрений. Ведь он действительно был абсолютно здоров, а врач, осматривавший его, был старый и опытный. Дома он изо всех сил пытался скрыть свое состояние, но это ему не удалось. Жена донимала его расспросами. Валентин уверял ее, что он просто устал. — Разве я не вижу! — воскликнула Евгения. — Последнее время ты стал совсем другой, что-то скрываешь. Нет, нет, не спорь, я все вижу. Это началось, как только мы переехали сюда, в эту проклятую дыру. Валентин едва слушал жену. Мысли его были заняты одним: надо бежать. Но нужно сначала предупредить своих и переправить к партизанам семью. Он знал, что в его распоряжении считанные часы, и, с трудом дождавшись вечера, отправился к Лещевскому на квартиру. Другого выхода он не видел. В этом и была его ошибка. Он, идя к Лещевскому, не заметил, что за ним увязался «хвост». Выслушав Валентина, Адам Григорьевич забеспокоился: надо предупредить Алексея. На следующий день забеспокоился еще больше: из регистрационного ящика исчезла карточка Готвальда. Сначала он подумал, что положил карточку в ящик своего стола, но ее не оказалось и там. Ах как сейчас не хватало Алексея, его мудрого совета и поддержки! До недавнего времени у них был связной, но теперь, когда того переправили в лес к партизанам, Алексей предложил другой способ общения. — Будете держать меня в курсе дела обо всем письменно, — сказал Алексей. — Знаете, где находится Крестьянская улица? Лещевский утвердительно кивнул головой. — Еще бы! Я ведь здешний старожил. — Так вот, — продолжал Алексей, — там на правой стороне улицы, в последнем телеграфном столбе, устроен у самой земли тайник. В небольшую эту щелочку вы вложите записку. Чтобы ее не заметили, бумагу на сгибе замажьте простым карандашом. Этим способом связи Лещевский и решил воспользоваться. Вечером, возвращаясь из госпиталя, приказал шоферу остановиться неподалеку от Крестьянской улицы и сказал, что хочет пройтись пешком. Шофер уехал, а Лещевский размеренно зашагал. Поравнявшись с последним столбом на правой стороне улицы, сунул записку в щель. При этом он сделал вид, что, закуривая, уронил спички. На следующий день озадаченный Адам Григорьевич нашел карточку Готвальда на месте, в регистрационном ящике. Вертя ее в руках, Лещевский понял, что совершил непоправимую ошибку, не уйдя из города немедленно, как только узнал о допросе Готвальда. Лещевский не знал, что карточка появилась на месте после того, как Штроп отчитал врача, исследовавшего Готвальда, за то, что тот не догадался поставить ее на место немедленно. С этой минуты Лещевский потерял спокойствие. Он понял, что гестапо напало на след, каждый шаг его отмечен шпиками, и особенно его волновало, что кто-нибудь из агентов видел, как он клал записку в тайник. Лещевский боялся, что он навел ищеек на след Алексея. Прощаясь на шоссе с Готвальдом после посещения комнаты Фукса, Алексей сказал шоферу: — Сегодня же уходи! Это приказ Корня. — Но может, все обойдется. Я ведь здесь на хорошем счету. Смогу еще быть полезным для общего дела. — Нет. Уходи. — А как же семья? — Временно остановишься в Криницах. Знаешь где это? Готвальд утвердительно кивнул. — Разыщешь там Захара Кивига. Человек он проверенный. Село глухое. Немцы и полиция заглядывают туда редко. Кивиг живет во втором дворе на краю села. Он предупрежден людьми Корня. Готвальд обещал, что сегодня же уедет, а сейчас, чтобы не вызвать слишком скорой тревоги, отвезет Фукса на совещание. Получив записку от хирурга, Алексей понял, что Валентин не только не выполнил приказ, но своим визитом навел сыщика на след Лещевского. Алексей с трудом заставил себя остаться спокойным. Он еще не терял надежды, что Готвальду и Лещевскому удастся скрыться. Но, едва переступив порог мастерской Афанасия Кузьмича, где его ждал Шерстнев, понял, что Тимофей принес дурные вести. — Обоих? — нетерпеливо спросил Алексей. — Нет, только Лещевского. — А Готвальд? — Бежал. — Сведения точные? — Да. Лещевского видел сам… в тюрьме. А о Готвальде сообщили наши. Алексей помрачнел. На скулах его заходили желваки. — Кого знал врач? — спросил Шерстнев. — Кроме меня, никого. Еще связного, он в лесу. — Тебе надо бежать. — Нет, подожди… — Он может выдать. Надо скрыться,пока не поздно. — Выдать? Лещевский? Ты его плохо знаешь. — Зато я хорошо знаю тех, в гестапо, — взорвался Шерстнев. — У них заговорят даже булыжники. Уходи, и как можно скорей! Алексей подошел к Тимофею вплотную. — Спокойно. Не поднимай панику. Лещевского не так-то просто сломить. Ничего. — Алексей прошелся по комнате, покусывая губы. — Нет, мы не можем, не имеем права уходить сейчас, когда группа только начала работу. Сейчас, когда гитлеровцы рвутся к Сталинграду, когда они без конца трезвонят о скорой победе, мы должны показать населению, что, пока жив хоть один советский человек, врагам не спать спокойно на нашей земле. А ты напрасно волнуешься. Лещевскому о деле не так уж много известно. Он нам помогал — вызволил меня из госпиталя, кое-что сообщал. Но о нашей работе он ничего не знает, не знает и людей. А кроме того, поверь мне: он не выдаст. Это не человек — кремень. И вдруг Алексей схватил Шерстнева за руку. — Послушай. Ты помнишь этого парня-парикмахера у рынка? — Провокатора? Который предал наших? — Ну да. Я много думал: почему он не донес на меня? Ведь ему стоило только переставить цветок на окне — и меня бы схватили. Тимофей пожал плечами. — Не знаю. Да и при чем здесь этот тип? — А вот при чем. Его надо использовать. Я согласен. Мы уйдем из города, но так, что фашисты нас будут помнить долго. Тимофей с интересом смотрел на Алексея. — Ты должен помочь мне. — Как? — Пойдешь в парикмахерскую…* * *
Проходил месяц за месяцем, а к Борису Крюкову никто из подпольщиков не приходил. Несколько раз его вызывали в полицию, где били так сильно, что на следующий день он не мог работать. Штроп пригрозил ему: — Если узнаем, что укрываешь кого-нибудь, — смотри! На Крюкова уже никакие угрозы не действовали. Он решил, что, как только представится возможность, убежит куда глаза глядят. Правда, бежать было трудно. Он не раз замечал, что за ним следят. Да и куда бежать? Партизаны и подпольщики его не пощадят. Ведь он убийца, предатель. Перейти через линию фронта? Это совершенно невозможно. А где-то в глубине души все отчетливее звучал голос, обвинявший его. И этот голос был громче угрожающего крика Штропа. Почему он не выдал тогда этого хромого парня? По велению все того же голоса совести. Борис решил твердо, что второй раз он не смалодушничает. Что бы ни случилось, второй виселицы на площади по его слабости не будет. Между тем Штроп, так и не дождавшись сообщений от агента, снял наблюдения за парикмахерской. По-видимому, подпольщики что-то знали или догадывались о предательстве Крюкова и обходили парикмахерскую стороной. Как-то утром, когда Борис только открыл дверь, дожидаясь клиентов, к нему пожаловал чернобородый полицай. Он уселся в кресло напротив зеркала и попросил подровнять ему бороду. Клиент внимательно следил за каждым движением Бориса. Наконец спросил: — Не знаете, где купить хорошую бритву? Взгляды их встретились в зеркале. Как долго Борис ждал эту условную фразу! Как давно хотелось ему встретить кого-нибудь из своих! Он медленно проговорил: — Бритву достать можно, только хозяин запрашивает высокую цену. Бородач сузил смоляные глаза. — Мы все знаем. Это ты выдал тех двоих. Ну чего же ты? Иди ставь цветы! Борис молчал. — Ну, боишься? — Подожди, я все объясню. — Не надо. Слушай меня внимательно. Ты можешь искупить свою вину. — Что? Что я должен сделать? — Сегодня же пойдешь в полицию. Скажешь, что у тебя был человек от подпольщиков. — В полицию? Зачем? Я не пойду. — Не перебивай. Пойдешь. И скажешь: на тридцатое число тебя пригласили для встречи с представителем подпольного обкома. Место встречи — поселок Краснополье, в доме Пелагеи Ивановны. Ничего не понимая, Крюков пытался возразить, но гость снова резко перебил: — Это приказ! А приказ, как тебе известно, не обсуждается. Это тебе задание. Выполнишь — уйдешь в лес, к нашим. Подведешь — достанем из-под земли! Когда Шерстнев ушел, Крюков вытер полотенцем взмокший лоб. Что-то было в этом полицейском такое, что заставило Крюкова поверить: это не провокация, ему действительно дано задание. Подпольщики вспомнили о нем и протянули руку спасения. И теперь все зависит от его мужества. Но как пойдешь в полицию? А вдруг этого черномазого полицая подослало гестапо?7. Где твои приятели?
— Ну а где же твои приятели? — спросил Федор, протягивая Обуховичу руку. — Опасаются, — ответил тот, озабоченно сдвигая брови. — Ты, говорят, ступай сначала сам, разведай, что и как, а уж мы потом… — Гм, — промычал Федор. — Осторожные люди. Ну что ж, это хорошо. Нам такие нужны. Разговор Обуховича с Федором происходил на поляне, возле сторожки лесника. Партизан пришел не один: с ним были еще двое бородатых людей, обвешанных гранатами, с немецкими автоматами на груди. — Ты передай своим друзьям, — сказал один из спутников Федора, невысокого роста человек с короткой окладистой бородой, — передай им, что если хотят бить врага, то пусть идут к нам без опаски. У нас всем дело найдется. «Должно быть, этот из начальства», — подумал Обухович. Он обещал в следующий раз обязательно привести двоих знакомых, подчеркивая, что у «военнопленных кое-что при себе имеется, не с пустыми руками придут». Уговорились встретиться на том же месте через два дня. Штроп узнал от Обуховича о его разговоре с партизанами и распорядился, чтобы все сведения, добытые у партизан, тот передавал старушке, жившей в деревне Большая Выгода, километрах в пятнадцати от Витебского шоссе на пути к месту расположения отряда народных мстителей. К этой старушке раз в пять дней должен был приходить агент полиции. Эта старушка лечила своих земляков травами, и поэтому посещение ее избы не могло привлечь особого внимания. В назначенный для встречи с партизанами день Обухович долго молился, долго стоял на коленях, выпрашивая у божьей матери защиты для раба божьего Альберта. Связной встретил Обуховича и еще двух агентов полиции, назвавших себя военнопленными, и провел в партизанский лагерь. Новичков долго и придирчиво расспрашивали и, видимо, не заподозрив ничего дурного, оставили в отряде. «Плотнику» поручили чинить телеги, Обуховичу и «электрику» — рыть землянки. Обухович внимательно присматривался к тому, что делают партизаны, и старался все запоминать. Иногда провокатор отмечал, что кто-то из партизан исчезал из лагеря и снова возвращался. «На задание ходили», — догадывался Обухович. Новых партизан никуда не посылали: проверяли. Обухович ночами спал плохо. Все боялся, что дознаются о его предательстве и поставят к сосне… Молитвы его стали жарче прежнего. Вскоре он убедился, что дела его не так уж плохи. Как-то вечером к нему подсел Федор, расспросил, как ему живется, привык ли в лесу, и, хитровато щуря светлые глаза, сказал: — А ты мужик вроде ничего… старательный. Признаться, сразу ты мне не очень понравился. А теперь я вижу — все в порядке. У Обуховича против его воли вырвался деревянный смешок… С тех пор Федор стал относиться к Обуховичу теплее, как-то показал фотографию жены и двух испуганно глядящих с глянцевитой бумаги девочек лет семи — девяти. Обухович решил отплатить откровенностью за откровенность. — А у меня жену и сына того… гитлеровцы расстреляли, — вздохнул он, отворачиваясь. — Жена-то еврейка была… Ну а меня в тюрьму посадили — за укрытие… Федор прикусил нижнюю губу, сузил глаза. — Ничего, ничего, брат, теперь ты расквитаешься за них. — Он вдруг схватил Обуховича за плечо: — Послушай, ты поселок Краснополье знаешь? Ну под городом? — Приходилось бывать… — Так вот… Я решил взять тебя в свою группу… — Федор перешел на шепот: — Дней через пять пойдем на задание. Устроим засаду в поселке. Там собираются схватить одного нашего человека… Обухович почувствовал, как по спине у него поползли мурашки. — Только… ты никому ни звука, — предупредил его Федор. — Понял? — Да нешто я… — Смотри! Чтоб ни одна живая душа… — Федор угрожающе поднял палец. Всю ночь Обухович ломал голову, как пробраться в село Большая Выгода и предупредить гестапо. Тайком смыться? Могут поймать, да и операцию отложат. К тому же и Штроп за бегство из отряда не погладит по головке. Ведь столько трудов стоило внедриться… Нет, этот вариант не пройдет. Нужно найти какой-то повод. Провокатор снова не спал всю ночь, все искал, под каким бы предлогом выпросить разрешение на отлучку. И наконец придумал. Наутро он явился к комиссару отряда, тому самому невысокому человеку с окладистой бородой, которого он впервые встретил на месте партизанской явки. Шпион Штропа предложил послать нескольких партизан, чтобы помочь местным жителям убрать урожай. — Время теперь горячее, пшеница поспела, — с жаром доказывал он комиссару, — а в селе одни бабы, мужские руки сгодились бы… Комиссар сгреб в ладонь свою бороду и задумался. Конечно, уборка урожая — дело существенное, да ведь у партизан есть задачи поважнее. Готовится ответственная операция. Однако он не отказал наотрез: — Хорошо. Посоветуюсь с командиром. Командир отряда, Петр Кузьмич Скобцев, узнав о предложении Обуховича, почему-то насторожился. — Здесь что-то не так просто. Вам не кажется, Матвей Иванович, странным: человек без году неделя в отряде, еще ничем себя не проявил, а приходит с такими идеями? — Ну что же здесь подозрительного, — возразил комиссар, — возможно, хозяйственный мужик. Душа болит за урожай. Не вижу в этом ничего странного… В первые дни войны Скобцев, или Кузьмич, как его звали в отряде, был штабным офицером. Когда часть попала в окружение и потеряла в боях почти весь командный состав, Кузьмич возглавил горстку оставшихся людей и увел их в глухие леса. Постепенно отряд стал пополняться бежавшими из окрестных городов и деревень жителями и сильно вырос. Теперь на счету партизан Скобцева уже числилось немало взорванных поездов, разгромленных полицейских пунктов, наказанных предателей. Но был штабист по старой привычке осторожен, хорошо наладил разведку, и это помогало ему, как говорили тогда, вести войну «малой кровью». Осторожность помогла Скобцеву и теперь. В тот же день он действительно назначил на уборку урожая двадцать человек, но Михаила Терентьева (под таким именем знали Обуховича в отряде) в списке не оказалось. — Как же так! — возмущался Обухович в землянке командира. — Я подал это предложение, а меня отшили! Несправедливо, товарищ командир! У меня, может, руки истосковались по работе. Скобцев не стал спорить. Тут же приказал включить Терентьева в список. Группа партизан отправилась на работу в ближайшие села — Мокрое и Малый Пилец. Большая Выгода отстояла от Мокрого километрах в трех, и Обухович решил, что найти повод сбегать к старухе и передать ей сведения будет нетрудно. Помогали косить пшеницу в первую очередь старикам, у которых дети служили в Красной Армии или ушли в партизаны. Обухович старался за двоих. — Эх, — повторял он, — руки стосковались по работе… Ему приходилось нелегко: бывший завскладом к крестьянской работе не привык. Он очень боялся обнаружить свою неловкость, да и уставал. Вечером, когда партизаны собрались в избах, где хозяева угощали их молоком и молодой картошкой, Обухович, охнув, вылез из-за стола. — Что с тобой? — спросили его. — Да вот живот что-то скрутило. С полчаса он пролежал на сеновале, затем разыскал старшего группы и попросил у него разрешения пойти поискать в селе помощи. — Что-то хужеет. Может, бабка травки даст или отпоит чем. Тут, говорят, есть одна в округе. Вернулся Обухович поздно, когда все остальные уже спали на сеновале. Он неслышно прокрался в сарай и повалился на пахучее сено. Отовсюду доносился храп. Сквозь щели сарая видно было, как меркнул над лесом долгий летний закат. Михаил уснул, довольный, что удачно разыграл это представление с болезнью и посещением знахарки. Наутро Обуховича отвел в сторону старший группы, веснушчатый, курносый парень в красноармейской пилотке, и спросил: — Как живот? — Да вроде бы прошел, — ответил Обухович. — Лекарство нашел? — Да, получил от старухи зелье. Пользительное, видать. — Ну хорошо, больше не болей, а то нам недосуг. Разговор этот насторожил Обуховича. «Неужели догадались, сволочи? — подумал он, чувствуя, как его окатывает холодная волна страха. — Да не может того быть, ведь я же оглядывался — никого следом не было». Больше Обуховича ни о чем не расспрашивали, и он успокоился. Но напрасно. Он и не подозревал, что в ту самую ночь, когда он побывал у старухи, за ним неотступно следовали трое. Они примечали каждый его шаг и запомнили избу, в которую он заходил. У избы менялись дежурные, и, когда на другой день там появился агент гестапо, партизанам все стало ясно. Когда агент шел от знахарки, его перехватили, и он под страхом смерти выдал старуху и Обуховича. Предатель был немедленно изолирован и переправлен в далекий партизанский край для выяснения обстоятельств. Обуховича много раз допрашивали, он не стал запираться. Теперь он томился, ожидая решения своей участи.8. Не простая птица
Алексей понимал, что оставаться в поселке Краснополье ему больше нельзя. Штроп шел по его следу. О Готвальде ничего не было слышно. Удалось ли ему спрятаться? Во всяком случае, как сообщил Алексею Корень, партизаны ночью побывали дома у Готвальда и никого там не нашли. Изба пустовала. Может быть, Готвальду удалось спастись. А вдруг его арестовали? Куда делись жена и сын шофера? Может быть, их схватили… А как будет вести себя Лещевский? Вынесет ли он пытки и не заставят ли молодчики из гестапо его заговорить? Надо было что-то предпринимать… Алексей решил уйти в лес. Но уйти, оставив о себе память. Вместе с Корнем и Шерстневым он решил через Крюкова сообщить в гестапо, что в поселке Краснополье скрывается секретарь подпольного обкома. Для поимки такого важного лица наверняка пригонят большой отряд, да еще под командой гестаповских офицеров. А тем временем партизаны устроят засаду. Скобцев охотно согласился на эту операцию и обещал прислать не меньше тридцати, а может быть, и пятьдесят человек. Вечером к Алексею пришел партизан, они уточнили детали совместных действий и нашли подходящее для засады место. Потекли часы напряженного ожидания. Снова наступил вечер. Алексей был один в своей каморке. За дверью громыхала ведрами хозяйка. В окно было видно, как улицу пересекли длинные вечерние тени от домов. В окнах напротив отражался золотистый закат. Над тесовой крышей застыло в небе малиновое облако. Поселок затих, будто жители чувствовали приближение грозовых событий и попрятались по домам. Разведчик прекрасно понимал, что ему угрожала очень серьезная опасность. Стоило фашистам появиться на полчаса раньше срока, назначенного Крюковым, — Алексей окажется в ловушке, которую подготовил себе собственными руками. А если запоздают партизаны, он погубит не только себя, но и других. «Ну что ж, — рассуждал он, — войны без риска не бывает. Как, впрочем, и без крови». Вот уже много времени он ведет тайную войну. Вел в госпитале, вел, выйдя из него… Он понимал, что враг и силен и коварен, и все-таки Алексей верил в свои силы, в свое умение разгадывать вражеские хитрости, предупреждать опасность. Ему вспомнилось, как когда-то он изучал опыт разведчиков, действовавших в интересах буржуазных правительств. Многим агентам нельзя было отказать ни в уме, ни в изобретательности, ни в ловкости. Порой это были удивительно мужественные люди. Но как бы ни был разнообразен их «почерк» и «стиль», как бы ни обновляли они приемы своей работы, приемы эти всегда строились на низменных качествах человека. Ему же не приходилось прибегать ни к подкупам, ни к обману, ни к шантажу. Он апеллировал к самому высокому чувству людей — к их любви к Родине. И люди откликались, шли за ним, хотя знали, что рискуют жизнью, что в гестаповских камерах в случае провала их ждет нечто более страшное, чем смерть. Шерстнев — он ходит в одежде полицая. Разве не рискует этот русский человек своей жизнью ежеминутно? Шерстневу угрожает смерть в застенке гестапо, его презирают свои, брезгливо сторонясь при встрече, боясь даже прикосновения к его полицейскому мундиру. И даже Борис Крюков, такой слабый сначала, преодолел страх и выполняет ответственное дело честно и преданно… Скобцев был очень пунктуален. Его люди, точно в указанное время выйдя из лесу, затаились в овраге неподалеку от дома на окраине поселка Краснополье, где жил Алексей. Овраг затопил густой туман; будто дымовая завеса он скрывал партизан. Повезло с погодой. Бойцы тихо лежали в зарослях орешника, а когда совсем стемнело, пригибаясь, бесшумно пробрались задворками к третьей с краю поселка избе, где жил Столяров. В начале двенадцатого в дверь легонько постучали. Алексей вышел открыть сам. На пороге стояли трое вооруженных людей. — Федор, — назвался рослый человек с худым загорелым лицом. Алексей крепко стиснул ему руку. — Один? — спросил Федор, быстро проходя на половину Алексея и оглядывая избу. — Нет, еще хозяйка. — Где она? — В город поплелась, к знакомой… — Хорошо, — Федор кивнул головой. — Эй, Петро! — позвал он стоявшего у дверей партизана с ручным пулеметом. — Живо на чердак! Когда пулеметчик исчез в темноте сеней, Алексей спросил Федора: — Как остальные? — В порядке, — отозвался Федор, — на местах. У ворот, за забором… Слушай, дай-ка водички. Алексей принес ему из кухни кружку воды. Федор жадно выпил и, вытерев рукавом ватника губы, поинтересовался: — У тебя какое оружие? — Парабеллум, три гранаты. — Слабовато… А зачем ты-то остался? Без тебя справимся. Может, пойдешь сейчас в лес? Алексей возмутился. — Вас подставлю под пули, а сам спрячусь? Нет, не пойдет! Федор кивнул человеку в потертом офицерском кителе, тот исчез куда-то на минуту и принес Алексею автомат. — Ну а теперь по местам! — приказал Федор и сам, став на одно колено, пристроился у окна. Алексей затаился у другого окна, приоткрыв его. В избе установилась сумеречная, настороженная тишина. Верещание сверчка казалось неестественно звонким. Алексей покосился на Федора. В темноте, едва различимый, белел горбоносый профиль партизана. Алексей тихонько спросил: — Который час? Федор бросил взгляд на трофейные ручные часы со светящимся циферблатом. Минутная стрелка накрыла цифру шесть. — Полчаса двенадцатого, — сказал Федор. Встревоженной стайкой метались мысли Алексея. А что, если полиция разгадала его уловку? А что, если она двинет сюда большие силы и он зря погубит этих ребят? Или фашисты вообще не появятся… «Нет, этого не может быть, — возражал Алексей себе. — Разве они упустят такой случай!» До сих пор он ускользал из их рук: прикидывался шофером, инвалидом. И вот теперь настала минута, когда он выходил к своему противнику на открытый бой. Алексей вслушивался в тягостную тишину. Ему казалось, что ухо его не пропустит приближающуюся опасность, и все-таки первым подал сигнал тревоги Федор. Алексей вдруг услышал его торопливый шепот: — Едут! И действительно, с другого конца поселка донеслось сначала слабое, затем с каждым мгновением усиливающееся гудение моторов. Звук ширился, становился увереннее, набирая угрожающую силу. И казалось, что это грозно ревет сам воздух. Все дальнейшее совершилось очень быстро. Несколько грузовиков вынырнули откуда-то из темноты и остановились напротив дома. Из машины одна за другой посыпались неясные, расплывающиеся в тумане фигуры. Вдруг у переднего грузовика плеснуло, брызнув вверх и в стороны, пламя — и грохнул взрыв. На мгновение Алексей увидел четкие силуэты солдат и нажал спуск автомата. У грузовика еще несколько раз грохнуло. И тут же все заглушил дробный треск автоматов. Казалось, будто какой-то великан сыпал на крышу дома тяжелые чугунные шары. Улица вдруг ярко осветилась, и в окнах домов заплясали отблески пламени, — это взорвалась передняя машина и загорелся вылившийся из баков бензин. Было видно, как из темноты выныривали и исчезали какие-то люди и их нелепо длинные тени метались по траве. Алексей непрерывно стрелял из автомата. — Пора уходить! — донесся до него голос Федора. Они выскочили из дома. Шум боя затихал. Фьюить, фьюить, фьюить — просвистело над головой несколько пуль. Видимо, уцелевшие гитлеровцы где-то залегли и отстреливались. Да, нужно было скорее уходить, пока из города фашисты не подбросили подкрепление. Около Федора появился человек, крикнул ему что-то, что — Алексей не мог разобрать. Вдруг в воздух с треском, рассыпаясь искрами, взвилась, буравя темноту, ракета. Алексей и Федор бежали к оврагу. — Быстрей! — крикнул Федор, и Алексей, спотыкаясь о что-то во тьме, ринулся за ним, но поспевал с трудом — мешала искалеченная нога. — Их что-то много оказалось, — снова крикнул Федор, оглянувшись на отстающего Алексея. — Нажми, приятель! Позади вдруг грохнуло два взрыва, что-то сильно толкнуло Алексея в спину, и он упал.* * *
Солнце еще только поднялось, а староста поселка Краснополье Иван Архипыч Барабаш, толстоносый мужик лет пятидесяти, был уже в пути. С вечера Барабаш гулял в гостях у своего знакомого — старосты соседнего села. Хозяин выставил на стол бутыль отличного самогона, так что через час после прихода в гости Барабаш уже еле ворочал языком и, порываясь пуститься в пляс, требовал музыки погромче. Домой Ивана Архипыча пришлось отправить на подводе: передвигаться самостоятельно он был не в силах. Когда Барабаш подъезжал к Краснополью, до его затуманенного сознания дошло, что где-то стреляют. Хмель будто рукой сняло. Он проворно соскочил с подводы, возницу отправил назад в село, а сам спрятался в кустах. Вернувшись в поселок, он увидел черные остовы сгоревших грузовиков, трупы немецких солдат и полицейских. Среди них было и несколько без всяких знаков различия на одежде. Теперь только старосте стало понятно значение перестрелки: это был ночной налет партизан. Барабаш много раз слышал о партизанах, но до сих пор в Краснополье они не появлялись. В ответ на рассказы испуганных народными мстителями полицаев Барабаш самодовольно ухмылялся: — Ну, у нас-то, слава богу, спокойно. К нам они носа не сунут! И вот, оказывается, добрались. — Господи, — бормотал Иван Архипыч, — что будет, что будет? Бессонная ночь, пережитый страх не прошли для старосты даром. Его мутило, ноги подкашивались, а на душе, в предвидении грядущих бед, было плохо. «Понаедет начальство, — размышлял он, — начнут пытать, что да как. Чего доброго, дадут и мне по шапке: не углядел, не донес вовремя… А откуда я мог знать?..» Чтобы хоть как-то застраховать себя, Барабаш решил проявить служебное рвение. Он наскоро умылся, опохмелился и отправился по поселку будить жителей: надо было убрать трупы. Староста стучал в окна и сердито кричал: — Эй, хозяин, выходи! В избах шлепали босые ноги, скрипели двери… Притаившиеся жители неохотно их открывали. Да и то за ворота выходили одни старухи. Мужиков и молодых женщин как ветром сдуло. Видно, еще ночью убежали в лес, не дожидаясь неизбежной расправы гитлеровцев. В проулке Барабашу встретился Степан Грызлов. Обычно молчаливый и угрюмый, Степан, завидев старосту, безмолвно кивал головой и проходил мимо: Грызлов работал у немцев и держался с Иваном Архипычем независимо. Но сейчас он сам направился к Барабашу и, поздоровавшись, протянул старосте сложенную вчетверо, потертую на сгибах бумажку. — Что это? — спросил Барабаш, разворачивая ее и подозрительно косясь на Степана. — А вот прочти — узнаешь. Староста достал очки и, водрузив их на толстый, в синеватых прожилках, нос, зашевелил губами: — «Справка. Настоящая выдана Попову Алексею Петровичу в том, что он действительно является шофером Наркомата лесного хозяйства и командируется в город Могилев сроком на двадцать пять дней». Кончив читать, Барабаш поднял на Степана мутный взгляд маленьких серых глаз. — Где нашел? — сурово спросил он. — А вон там, в кармане убитого, — ответил Степан. — Что это еще за Попов? — Да мой сосед, сапожник. — Так ведь его не Поповым зовут. Я сам видел его паспорт. Степан молча подвел старосту к одному из трупов, валявшихся как раз под окнами дома, где жил Алексей. Убитый лежал на спине, широко раскинув руки. На его обезображенном, видимо, взрывом гранаты лице запеклась кровь. Гимнастерка тоже темнела пятнами крови. Староста стащил одной рукой кепку, другой осенил себя крестным знамением. — Царствие небесное, — проговорил он со вздохом. — Ничего не понимаю. Почему он Попов и зачем под пули полез? — Вот в этом-то и дело: не простая птица был твой сапожник. Это давно подозревал и сам староста. Недаром же прихрамывающий сапожник почему-то интересовал полицию и оттуда часто поступали запросы относительно его поведения, а также наказы, в случае если поведение Степанова соседа покажется подозрительным, немедленно сообщить начальнику полиции. Заметить что-либо подозрительное в поведении сапожника, тихого, непьющего человека, староста не мог, о чем неоднократно и докладывал своему начальству. Тем не менее сейчас Барабаш вздохнул облегченно: одной заботой меньше. В кармане убитого он нашел синюю карточку — вид на жительство, выданный сапожнику Пичугину полицейским управлением. — Так кто же он — Пичугин или Попов? — то и дело бормотал староста. — Да кто его знает, — мрачно сказал Грызлов. — Как же ты это проморгал, староста? — А ты что смотрел? По соседству живешь. Давно шлепнул бы. — Я на железной дороге сутками дежурю и видел его не часто. Да и не мое это дело. Ну ладно. Прощевай. Разбирайтесь тут сами. Мне на дежурство пора. Пелагея Ивановна, хозяйка сапожника, показала, что дома она не ночевала, задержалась у знакомых и, услышав стрельбу, побоялась выйти на улицу. Утром пришла домой, видит — стекла побиты, а жильца нет. Когда ей сообщили, что он лежит убитый напротив ее дома, она тяжело опустилась на лавку, запричитала. Потом кинулась к своему жильцу, и ее с трудом удалось оттащить. — Ну, ну, — прикрикнул на нее староста, — будет тебе выть-то! Кто он тебе? Сын, что ль? Но Пелагея Ивановна не ответила. Разве могла она объяснить старосте, что за эти месяцы привязалась к своему жильцу, как к сыну… Да и в доме такой мужик был дорог: и воды принесет, и дров наколет. — За что же ею порешили-то? — спросила она, поднимая на Ивана Архипыча мокрые глаза. — А кто его знает… Поди разберись. После ночного налета вернулось из Краснополья только семеро солдат, из них трое раненых. А посылал Штроп шестьдесят. Оставшиеся в живых рассказывали, что партизан было по крайней мере целый полк. Когда один из уцелевших жандармских унтеров позвонил ночью Штропу и рассказал ему о разгроме наряда в Краснополье, тот похолодел. Попался! Он, опытный руководитель секретной службы, прошедший такую большую школу, попался как мальчишка. Попался на ловко подкинутую приманку. Позор! Какой позор! В трубке, которую он держал в руке, гудел взволнованный, прерывистый голос жандарма. Но Штроп не мог вымолвить ни слова. Наконец до его сознания дошло, что унтер о чем-то настойчиво его спрашивает. — Да, да, слушаю, — сказал главный следователь. — Какие будут приказания, герр оберштурмбанфюрер? — Приказания? — переспросил Штроп, с трудом овладевая собой. Он бросил взгляд на листок бумаги, лежавший на столе, и жестко приказал: — Возьмите людей, машину и как можно скорей на Авиамоторную улицу. (Это был адрес Крюкова.) Повторяю: как можно скорей! Дом семнадцать. Заберите всех, кто там окажется. Всех! — Слушаюсь! Отдавая это распоряжение, Штроп почти не сомневался в его бесцельности. Конечно, если этот парикмахер подослан к нему подпольщиками или каким-нибудь большевистским разведчиком, то вряд ли он дожидается дома сотрудников гестапо. Так и оказалось. Минут через сорок унтер снова позвонил Штропу и доложил, что дом номер семнадцать оказался запертым. Когда дверь взломали, то выяснилось, что квартира пуста. Анализируя причины своей неудачи, Штроп пришел к выводу, что он допустил крупную ошибку, попытавшись единым махом покончить с подпольем, захватив его главаря. Напрасно он вознамерился подобраться к самому сердцу тайной организации большевиков и остановить его биение. Старого волка провели, и как провели! Штропу становилось не по себе при мысли о предстоящих неприятных объяснениях с начальством. Но самый большой сюрприз ожидал его днем, когда к нему в кабинет вошел Венцель и сообщил, что среди убитых обнаружен некто Попов. — Попов? — задумчиво переспросил Штроп. — Да, тот самый шофер из Москвы. Помните, раненный в ногу… Староста прислал его документы. Вот они. — Так ведь он же умер от тифа — тот, раненный в ногу, которого мы принимали за генерала Попова… Чертовщина какая-то… Венцель, следя за выражением лица Штропа, положил на стол синюю картонную карточку — вид на жительство на имя Пичугина. Едва взглянув на фотографию, Штроп все вспомнил. Некоторое время, потрясенный, он сидел неподвижно, покусывая губы. — Где найдены эти документы? — хрипло спросил он. — В кармане убитого. Напротив дома, в котором собрались бандиты. — Но как он там оказался? Значит, он выбрался из госпиталя живым? — Он жил под чужой фамилией, — бесстрастно объяснил Венцель. — Значит… — начал Штроп, вопросительно глядя на своего собеседника. — Значит, ему не только помогли бежать, но еще и снабдили фальшивыми документами? Генерал не генерал, но, видно, не простой человек. — Это был именно тот, кого мы искали, — закончил Венцель. Штроп забарабанил пальцами по столу, посматривая на начальника полиции. Тот, глядя перед собой, курил сигарету. Несколько минут они молчали. — Плохо, штурмбанфюрер, очень плохо, — проговорил наконец Штроп. — Почему же плохо? Шеф гестапо метнул на своего заместителя раздраженный взгляд. — Почему? Ты хочешь, чтобы я объяснил тебе почему? Надо быть круглым идиотом, чтобы не сообразить, что у нас в руках был опытный большевистский разведчик! Недаром он был в компании с тем самым секретарем обкома, о котором донес Борис Крюков. А может, это и есть тот самый секретарь? Парикмахер как доносил: секретарь живет в этом доме или должен туда явиться? Венцель молчал. За месяцы совместной работы со Штропом он пришел к выводу, что его начальник слишком старомодный и недостаточно гибкий работник. Венцель просто удивлялся, как еще держится он на своем посту. Слишком уж прямолинеен. — Почему вы говорите «был»? — сказал Венцель. — Он есть. Он жив. Просто взять его еще не удалось. Лотар Штроп вопросительно смотрел на штурмбанфюрера. — А кто же убит? — Я не вижу причин для волнения, — продолжал Венцель. — На вашем месте я нашел бы, что сообщить в Берлин. Не обязательно рассказывать правду. Тем более что мы еще не знаем правды. Напишите, что гестапо нанесло подполью существенный удар: выследило важного руководителя красных и захватило его. Но он при попытке к бегству был убит. Неплохо звучит, а? Что вы, не знаете, как составляются эти донесения? Тонкие губы Штропа дрогнули в усмешке: — Раньше мне никогда не приходилось вводить в заблуждение вышестоящее начальство. — То раньше, — Венцель пожал плечами. — А теперь мы в России. Специфическая страна. Специфические условия. Надо приспосабливаться. Мы не можем сообщать в Берлин абсолютную правду. Боюсь, что нас не поймут. Им ведь там все кажется проще. — Да, пожалуй, — вздохнул Штроп. — Кажется, в твоем предложении что-то есть. Подготовь-ка проект донесения. У тебя это хорошо получается. Но почему ты считаешь, что этот Попов-Пичугин или как его там — жив? Ведь тело найдено, его опознали соседи, хозяйка. Вот протокол допроса. — А мы установили, — усмехаясь, сказал Венцель, — что на ногах убитого нет следов ранения. А тот ведь был хром. Еле передвигался на костылях, когда мы вызывали его на допросы.Тело сапожника Пичугина выдали для похорон только через три дня после налета партизан. Все заботы по похоронам взял на себя Грызлов. Он объяснил это тем, что хоть и редко встречался с покойным, но тот при жизни помогал многодетному Степану, чинил обувь его детям, занимался с ними. Соседи сочли естественным, что именно Грызлов выпросил у старосты подводу, заказал гроб, вырыл могилу с помощью своего старшего сына. И хотя смерть за последний год стала привычной гостьей в Краснополье (да и только ли в поселке!), но все-таки смерть сапожника задела за живое многих. Кроме того, она привлекла внимание своей необычностью и даже загадочностью. Никто ничего не знал о второй, тайной жизни этого широкоплечего, неизменно приветливого человека, поэтому гибель его казалась нелепой. Одни предполагали, что Пичугин был связан с партизанами, другие объясняли его смерть простой случайностью. Тощий маштак потащил гроб на кладбище, а позади шли Грызлов со своим многочисленным семейством и Пелагея Ивановна. К ним пристроились несколько человек. Когда гроб был опущен в могилу и над ней вырос рыжий глиняный холм, Степан водрузил в изголовье деревянный крест, на котором суриком было выведено:
«Иван Степанович Пичугин».— Может, родственники объявятся, — пояснил он собравшимся, приминая лопатой вокруг креста землю. Потом вскинул на плечи перепачканный глиной заступ, оглянулся на могилу и молча зашагал к поселку. За ним двинулись остальные. Над полями уже синели сумерки. За действиями Грызлова целый день неотступно наблюдал Барабаш. Староста и железнодорожник сговорились помалкивать в поселке о тайне Попова-Пичугина но по разным мотивам. Иван Архипыч был рад поскорее замести все следы этой подозрительной истории, из-за которой его все эти дни таскали в гестапо. А Грызлов действовал согласно указаниям подпольщиков.
9. Партизан на чердаке
Лещевского арестовали прямо в госпитале. В низком, темном полуподвале, куда впихнули Адама Григорьевича, было тесно. Арестованные сидели на ящиках, мешках с песком, лежали прямо на полу. Лещевский был так ошарашен всем случившимся, что только теперь, в камере, по-настоящему понял, какое страшное несчастье свалилось на него. До сих пор он не верил в возможность ареста, надеялся, что с ним этого не произойдет, и вот за его спиной с лязгом захлопнулась тяжелая железная дверь. Как бы ему хотелось, чтобы такая же участь не постигла его друзей — Готвальда и Алексея!.. Но на первых же допросах Лещевский убедился, что Готвальду удалось скрыться: хирургу не устраивали очной ставки с Валентином. Правда, как-то Штроп показал врачу несколько мелко исписанных страниц, уверяя, что это показания Готвальда. В этих показаниях утверждалось, что он, Лещевский, был связным между Готвальдом и большевистскими подпольщиками. Однако, несмотря на всю свою неопытность в подобных делах, Адам Григорьевич понял: следователь расставляет ему грубо сколоченную ловушку. Если бы Валентин был арестован, он давно бы встретил его в этом кабинете. Следователь не знает правды, а ловит его. Сначала Штроп пытался разговаривать с Лещевским мягко, «по душам». Он убеждал врача, что тот упрямится напрасно. Россия все равно в безнадежном положении, фашистская Германия очень скоро разгромит большевиков. — Ну поймите, — увещевал Штроп, — зачем вам, интеллигентному человеку, приносить себя в жертву безнадежному делу? Расскажите все чистосердечно, и мы гарантируем вам жизнь. Мы понимаем: вы заблуждались, ошибались. Но Лещевский снова и снова повторял, что шофер ходил в кабинет врача только как пациент, и Штроп резко переменил тактику допроса. Хирурга стали жестоко избивать. В камеру его уносили в бессознательном состоянии. Когда Адам Григорьевич приходил в себя, он со страхом вспоминал: не проговорился ли в полубреду? И в ожидании следующего вызова в кабинет Штропа он мысленно твердил: только бы выдержать, только бы выдержать, только бы никого не выдать… Потом Лещевского перевели в городскую тюрьму. Его соседом по камере оказался паренек лет двадцати, не больше. Одежда на нем была порвана. Лицо в синяках и кровоподтеках. Адам Григорьевич с трудом узнал в нем секретаря комсомольской организации школы номер пять Сергея Соболевского — хирург когда-то вправлял ему вывихнутую ногу. Соболевского тоже водили на допрос каждый день, и каждый день его приносили в камеру на носилках. Лещевский часто задавал себе вопрос: откуда у этого мальчика такое мужество, откуда такая сила? — Лещевский! — выкрикивал надзиратель, и Адам Григорьевич заставлял себя подняться на ноги.* * *
В тот день, когда отряд жандармерии попал в засаду в поселке Краснополье, Шерстнев, которого к тому времени повысили в чине, был послан в Грушевскую волость проверять работу местной полиции. Вернулся он через неделю. Его мучила тревога. Что с Алексеем? Удалось ли ему уйти в лес к партизанам? Это можно было бы узнать только у Корня, но он пока не давал о себе знать. Чем кончилась операция в Краснополье? Ехать на бывшую квартиру Алексея Тимофей не решался. Об аресте Лещевского Шерстнев знал уже давно и больше всего боялся, что хирург не выдержал пыток и выдал подпольщиков. Осторожными вопросами Шерстнев попытался навести обо всем его интересующем справки в полиции, но чего-либо определенного выведать ему не удалось. Никто этого разговора не поддерживал. Вечером в кабачке один из его сослуживцев оказался более откровенным. — Ну, что нового? — спросил Тимофей. — Мало веселого, — ответил подвыпивший полицай. — А что такое? — насторожился Шерстнев, чувствуя, что за этой фразой кроется что-то очень важное. — Ты что, не знаешь? — удивился сослуживец. И полицейский рассказал о гибели целого отряда жандармерии и сотрудников гестапо в Краснополье. — Вот черт! — воскликнул Шерстнев. — Совсем распоясались эти бандиты. Кого-нибудь задержали? Полицейский махнул рукой. — Какое там… Правда, ихнему главарю уйти не удалось. — Какому главарю? — настороженно спросил Шерстнев. — Да какому-то сапожнику. Он, говорят, все это дело и подстроил. Его застрелили на месте. Полицай что-то говорил еще, но Шерстнев дальше не слушал. Ему изменила его постоянная выдержка: он на несколько секунд потерял контроль над собой. Убит Алексей! Это был тяжелый удар. Погиб такой опытный разведчик! Это невероятно, неправдоподобно. Алексей был так осторожен, взвешивал каждый шаг… Нет, здесь что-то не так, думалось Тимофею. Ему хотелось сейчас же поехать в Краснополье, чтобы расспросить о подробностях гибели друга. Но ехать было нельзя: слишком заметна будет эта поездка. Что там делать полицейскому, какое у него может быть задание? Ведь в этой операции принимали участие другие. Попасть в Краснополье Шерстневу не удалось. На следующий день с нарядом полиции его послали в село Пашково, где, по поступившим данным, ночью должны были появиться партизанские связные. В Пашкове Шерстнев зашел к своему знакомому — Захару Ильичу Крутову. Это был высокий, еще довольно крепкий человек лет шестидесяти, с глубоко запавшими глазами, напрочь закрытыми лохматыми седыми бровями. Тимофей предупредил старика, что намерен у него переночевать. Обычно Захар Ильич отвечал лишь одной фразой: «Хорошему человеку крыши не жалко». Но на этот раз Тимофею показалось, что старику его просьба пришлась не по душе. Он мялся, дергал себя за бороду, глаза его бегали по сторонам. Шерстнев делал вид, что не замечает уловок старика, и настаивал. Захар Ильич наконец уступил. Шерстнев «проговорился», что ночью в село нагрянут полицейские, — он знал, что старик предупредит кого надо.* * *
Захар Ильич догадывался, что Шерстнев — не обычный полицейский. Подкупала Крутова вежливость этого человека. Переступив порог, Шерстнев стаскивал с головы фуражку и почтительно здоровался со стариком. Никогда не видел Захар Ильич, чтобы этот полицейский на кого-нибудь кричал или кого-нибудь избивал. «Чудной какой-то», — заключил старик, поближе познакомившись с Тимофеем. К тому же Тимофей уже не первый раз «проговаривался» о планах полиции, и Крутов подумывал, что это неспроста. Обычно Крутов был рад приходу своего знакомого и всегда уговаривал его остаться ночевать. Но на сей раз он не знал, как ему поступить. Хотя он и отнес Шерстнева к разряду «чудных» полицейских, но не мог сказать, что на чердаке у него скрывается партизан. Присутствие полицейского тревожило Крутова: вот-вот нагрянут жандармы, а как незаметно свести партизана с чердака? Ведь в избе слышен всякий шорох! Партизаном этим был Валентин Готвальд. После того как Алексей сфотографировал документы, он распорядился, чтобы Готвальд немедленно ушел с семьей к партизанам. Ситуация сложилась безвыходная. Не зная, как ему поступить, Валентин решил сказать жене напрямик: если он сегодня же не уйдет в лес, его арестуют. Жена побледнела. Она и испугалась, и обрадовалась. Значит, ее опасения, что муж продался немцам, напрасны. Как она сама не могла догадаться об этом! Как она только смела предположить, что ее муж, друг, человек, которого она любила, мог оказаться предателем! Евгения больше не колебалась: захватив самое необходимое, семья Готвальдов быстро покинула дом.* * *
В село Пашково Готвальд пришел ночью. Жену и ребенка он оставил пока у знакомых в селе Криницы, а сам отправился к Захару Ильичу. Старик предложил Готвальду переждать некоторое время на чердаке. Валентину нравился этот суровый с виду человек. На следующий день после прихода Готвальда в село нагрянули жандармы. Один из них забежал в избу к Захару Ильичу. Это, видимо, был еще не наторевший в облавах гитлеровец. Ворвавшись в избу, он ринулся прямо к печке. Возможно, над ним подшутили: мол, именно в этом месте крестьяне часто прячут партизан. — Эй, матка,матка! — крикнул он Матрене Максимовне, жене Крутова, показывая знаками, чтобы та открыла заслонку. — Никс, никс… — Матрена Максимовна покачала головой, вытаскивая из печи ухватом чугун со щами. Убедившись, что в печке действительно никого нет, солдат сосредоточил все свое внимание на щах. Подняв крышку, он пошевелил ноздрями, вдыхая ароматный запах, вынул из-за голенища сапога ложку. Похлебав щей, он быстро выбежал на улицу, предварительно заглянув под кровать. Всего этого Валентин не видел. Он лежал в ворохе сена на чердаке, сжимая в руках противотанковую гранату. Вскоре Захар Ильич поднялся к нему и сказал, что немцы ушли. И вот теперь еще одна неприятность: вечером в избу Крутова пришел на ночлег полицейский, да еще и предупредил, что будет облава. Захар Ильич сказал Готвальду, что этого полицейского он хорошо знает и вряд ли его стоит опасаться. Однако и Готвальд и хозяин не спали всю ночь: Валентину ночью надо было уходить.* * *
Шерстнева разбудил стук в окно. Накинув полушубок и сунув ноги в разбитые валенки, Захар Ильич, что-то недовольно бормоча себе под нос, вышел открывать дверь. Тимофей на всякий случай поставил пистолет на взвод. Старик долго не возвращался. Шерстнев лежал в маленькой комнатке, отделенной от избы тесовой переборкой, напряженно прислушиваясь к тому, что происходило в сенях. Оттуда доносились приглушенные голоса, скрипели половицы. «Кто бы это мог быть?» — раздумывал Шерстнев. А может быть, односельчане Крутова решили расправиться с предателем, за которого его, Тимофея, принимают? Он поспешно оделся и на цыпочках направился к выходу. Еще раз прислушался: за пологом о чем-то шептались. Шерстнев осторожно приоткрыл дверь. Захар Ильич держал в руках «летучую мышь». Тусклый свет фонаря вырывал из темноты еще две фигуры. Лица ночных гостей были освещены снизу, и Тимофей не сразу понял, что перед ним Алексей и Готвальд. Несколько мгновений полицейский стоял, не в силах произнести ни слова. Потом настежь распахнул дверь. — Алексей! — вскрикнул он наконец и прислонился к дверному косяку. — Откуда? Ты ведь… ты же… — Покойник? — засмеялся Алексей, обнимая Шерстнева. — Как видишь, нет… — Ничего не понимаю, — пробормотал Тимофей. — Да что же это последнее время происходит? Захар Ильич, видимо, тоже ничего не понимал. Он приготовился услышать выстрелы, возню и сейчас переводил недоуменный взгляд с Алексея на Шерстнева. — Это как же получается? — спросил он. — Выходит, свои, что ль, встретились? — Свои, свои, — весело подтвердил Алексей, хлопая Шерстнева по плечу. Тимофей обнялся с Готвальдом, и все трое долго шутили над Захаром Ильичом, который не хотел пускать в избу Алексея, потому как у него ночует полицейский. Шерстнев выговаривал Алексею, как тот мог не сообщить ему, что остался жив? — Ведь я мысленно похоронил тебя, брат… Как же ты мог не сказать мне? — Но как? — спросил Алексей. — Ведь ты был в отъезде, а доверять малознакомому человеку… сам понимаешь. — Но зачем тебе вся эта комедия? — не унимался Шерстнев. — Ушел бы просто в лес, и все… — Чтобы доставить удовольствие гестапо. Не хотелось их как-то огорчать, — улыбнулся Алексей. — Боялся, что с начальником гестапо будет плохо. Все-таки обидно, я ведь был у него в руках. — Алексей помолчал, потом добавил: — А если говорить серьезно, то мне выгоднее числиться в покойниках, чем в живых. Поэтому я попросил Степана Грызлова переодеть один из обезображенных трупов в мой пиджак и сунуть удостоверение личности в карман. Я считал, что в спешке они не станут проверять, есть ли у меня на ногах ранения. В избу вошли еще два партизана и напомнили Алексею, что пора уходить. Был второй час ночи. — Ну что ж, двинемся. — Алексей поднялся. Он обнял Шерстнева, они уговорились о новых явках — все старые связи были потеряны. Тимофей пожал руку Готвальду и двум проводникам. На прощание предупредил: — Имейте в виду, в нескольких километрах отсюда — отряд полиции. Осторожней! — И шепнул Алексею: — Завидую… Хотелось бы быть с вами. Алексей махнул рукой. — Потерпи. До встречи… Готвальд, Алексей и два проводника вышли на улицу. Стояла темная ночь. Проводники, хорошо знавшие дорогу, уверенно шли по лесу.10. От Андрея
Шла осень 1942 года. Петр Кузьмич позвал Алексея в свою землянку и протянул ему листок бумаги. — Тебе, из Москвы. Алексей торопливо скользнул взглядом по строчкам. Это была радиограмма из Центра.«Рады сообщить вам, — читал Столяров с волнением, — что добытые вами сведения высоко оценены руководством и способствовали нанесению чувствительных ударов по оккупантам. Вы проявили в борьбе с врагом смелость, изобретательность и отвагу. Вы, несомненно, нуждаетесь в серьезном лечении. Несмотря на то, что враг еще силен и продолжает оставаться опасным для нашей Родины, считаем целесообразным предоставить вам отпуск для отдыха и лечения, чтобы в дальнейшем, используя все свои возможности, вы смогли с новыми силами включиться в боевую деятельность по разгрому и уничтожению гитлеровских захватчиков.Алексей прочитал радиограмму несколько раз, затем слегка дрожащими пальцами сложил бумажку вчетверо и сунул в карман. После многих месяцев, проведенных во вражеском тылу, эти теплые слова благодарности взволновали его до слез. Нет, Столяров не ждал поощрений. Но было приятно, что он наконец принес какую-то пользу фронту. Не напрасно прошли его бессонные ночи, когда он обдумывал, как пробраться на секретный аэродром. Вознагражден был риск, когда Алексей среди бела дня фотографировал секретный приказ о наступлении. И теперь, за время пребывания в отряде, он участвовал в разработке нескольких секретных операций и наладил партизанскую разведку, которая добывала немало важных сведений. Он постарается сделать еще больше. Правда, Центр предлагает ему отдохнуть. Это, конечно, соблазнительно. Ранение, несколько месяцев, проведенных в больнице, постоянное напряжение, полуголодная жизнь — все это сказалось на его когда-то могучем здоровье. Мучительно хотелось повидать жену. Да, очутиться вдруг в Москве, среди своих, — это казалось немыслимым счастьем. Но выбраться отсюда можно было только самолетом, перелет и посадка которого связаны с огромным риском для пилотов. Нет, рисковать чьей-то жизнью ради короткого счастья он не мог. Да и оставить своих товарищей теперь, когда настоящая работа только началась, было бы безрассудно. Ответить Москве ему удалось лишь через две недели. В тот момент, когда он читал радиограмму, вернулись партизанские разведчики и сообщили, что к лагерю с трех сторон подступают большие силы гитлеровцев. Скобцев решил, оставив заградительные группы, увести отряд в безопасное место: силы были неравные. Холодным сентябрьским утром отряд двинулся в Ружские леса. Издалека доносился шум боя, — это оставленные партизанами заслоны преграждали дорогу карателям. Алексей ехал верхом рядом с командиром отряда. Скобцев, как всегда отлично выбритый, в ладно сидящей шинели, бесстрастный, сдерживал испуганно вздрагивавшую при взрывах гнедую кобылу, зорко оглядывал ряды партизан. Отряд двигался быстро, но без спешки и нервозности. Деловитое спокойствие, которое Алексей видел на лице командира, казалось, передавалось и бойцам. Несколько дней отряд шел, с боями вырываясь из окружения. Раненых становилось все больше, да и убитых отряд оставил немало. Каратели неотступно преследовали партизан, видимо рассчитывая загнать их в непроходимые Сардомские болота, лежавшие на пути к Ружским лесам.Андрей».
* * *
С Москвой Алексея удалось связать, когда отряд окончательно обосновался на новом месте. Алексей заявил Центру, что прерывать работу сейчас считает нецелесообразным, и просил разрешения остаться в тылу. Вскоре он получил ответную радиограмму. В ней говорилось:«Благодарим за мужественное решение. Андрей».Алексея предупредили, что из Москвы получен также «куэрикс». Этот термин Алексею был хорошо известен, он означал важность очередного радиосеанса. Алексей и Готвальд ждали радиста в избушке лесника. Вечер выдался теплый, безветренный и безлунный. Рядом с избушкой, в самой гуще леса, находился целый партизанский городок из землянок и палаток. Командир отряда уговаривал Алексея отдохнуть, но Алексей продолжал работать: обсуждал с разведчиками планы операций, помогал им проверять новых людей. Отряд пополнялся: прослышав о новом партизанском центре, к нему стекались люди из окрестных сел. Перебралась сюда и жена Готвальда вместе с малолетним сынишкой.
* * *
Радист пришел в половине девятого. Это был низкорослый рыжеватый паренек. Улыбаясь, он протянул Алексею телефонограмму. По этой еле приметной заговорщической улыбке Алексей догадался, что тот явился с приятной вестью. И не ошибся. Центр сообщал, что командир разведывательно-диверсионной группы «Коршун» Алексей Столяров за добытые сведения исключительной государственной важности награжден орденом Красного Знамени с присвоением очередного воинского звания. Одновременно Центр извещал о награждении Валентина Францевича Готвальда орденом Красной Звезды, о назначении его заместителем командира группы и присвоении ему воинского звания «младший лейтенант». Первым порывом Алексея было обнять Готвальда, который вопросительно смотрел на него. Но, подумав, он сунул радиограмму в карман и прошелся по избушке. — Ну что там Центр? — не вытерпел Валентин. — Секрет, — Алексей подмигнул ему. Готвальд топтался на месте, поглядывая на Алексея. Чувствовалось, что ему очень хочется прочесть радиограмму, но попросить об этом он не решался. — Вот что, дружище, — сказал Алексей, хлопнув вновь назначенного заместителя по плечу, — разыщи-ка свою жену и пригласи ее сюда. Да и сына тоже. Валентин кинул на Алексея удивленный взгляд. — Жену? — Жену. Да поживей! Готвальд, пожав плечами, вышел из домика. Алексей тем временем отправился в палатку командира отряда. Он пробыл у него не больше десяти минут. Вскоре в избушке лесника жена Готвальда накрывала белой простыней деревянный пошатывающийся стол, на котором появились банки с консервами, три бутылки вина с красивыми иностранными этикетками, плитки шоколада. Дверь то и дело скрипела, и тесная избушка принимала гостей. Низенькая комната наполнилась гулом голосов, смехом. — Откуда такое богатство? — спросил Готвальд, с удивлением оглядывая стол. Командир усмехнулся. — Известно откуда — трофеи… Когда все сели за стол, комиссар по просьбе Алексея прочитал вслух радиограмму и поздравил награжденных. Готвальд, счастливо улыбаясь, переглянулся с Алексеем. Раздались дружные аплодисменты, звякнули кружки… И вдруг около Валентина оказался его сынишка, двухлетний Игорек, такой же светловолосый и сероглазый, как и отец. Что-то лепеча, ребенок протягивал отцу небольшой сверток. Валентин неуверенно взял пакет и повертел его в руках. — Что это? — Ты посмотри, не бойся! — крикнул ему Алексей. Готвальд снял обертку. И все увидели у него в руках маленький трофейный «вальтер». — Какой красавец! — невольно вырвалось у Готвальда. — Это тебе от меня, — сказал Алексей. — Храни. Ты заслужил и более ценный подарок. Веселье затянулось до глубокой ночи. Алексей вскоре получил еще одно сообщение из Центра:«В ближайшие дни ждите самолет с нашим человеком. Он познакомит вас с новым заданием. Учтите его чрезвычайную важность. Андрей».
* * *
Столяров тряс руку вышедшему из самолета невысокому человеку в кожаной куртке. Это был старый знакомый Алексея Геннадий Колос. Он принадлежал к разряду тех людей, на примере которых природа как бы хотела доказать незыблемость известной истины — внешность обманчива. Приземистый, широкоплечий, с круглым невыразительным лицом, Колос производил впечатление человека простоватого и даже недалекого. И только в очень узком кругу чекистов знали, что за этой внешностью кроется тонкий, изобретательный ум и редкая выдержка, а Колос немало тренировался, чтобы выработать это постоянное выражение простоватости и ограниченности. Широкие плечи Геннадия говорили о физической силе. За Колосом давно утвердилась репутация человека смелого, удачливого, но крайне осторожного. Посылали его на самые ответственные задания. О некоторых его подвигах Алексей был осведомлен. Но и он не знал, что уже во время войны Колос, сам того не желая, завоевал себе известность даже в стане противника. Листовки с его портретом мокли и желтели на телеграфных столбах Винницы. Немцы оценили голову неуловимого разведчика в пятьдесят тысяч марок. Как очутилась его фотография в гестапо, Колосу так и не удалось выяснить. Возможно, ее передал проникший в группу Колоса, много месяцев действовавшую на Украине, провокатор. Во всяком случае, Геннадию пришлось сменить адрес. Теперь он был послан в помощь Алексею. Той же ночью Столяров, Колос и Готвальд собрались в палатке командира отряда, и Алексей наконец услышал о новом задании Центра. — Недавно, — начал Геннадий своим глухим неторопливым тенорком, — наши контрразведчики задержали немецкого шпиона по кличке Гельмут. Так вот этот самый Гельмут проходил курс обучения в гестаповской школе здесь, неподалеку. — Что это за школа? — спросил Скобцев. — Мы о такой не знаем. — Не знаете, потому что она очень засекречена. Но теперь наши ее обнаружили. Колос достал небольшую карту и, положив на стол, разгладил ее. — Эта школа находится вот здесь, — Геннадий ткнул в синий кружочек на карте, — в пятнадцати километрах к юго-западу от города, в бывшем совхозе. Как показал Гельмут, в ней обучаются восемьдесят будущих диверсантов. Какую опасность представляет собой эта школа, думаю, вам объяснять не надо. Центр поручает нам с вами уничтожить это осиное гнездо…11. Пароль
Погожим октябрьским днем к гауптману — коменданту одного из небольших гарнизонов в окрестностях города — привели неизвестного, задержанного поблизости. — Он заявил, что хочет говорить только с вами, — доложил часовой, сопровождавший незнакомца. — И только наедине, — добавил задержанный по-немецки. Гауптман взмахом руки отослал своих подчиненных, смерил арестованного долгим, пристальным взглядом маленьких светлых глаз. Нежданный гость был одет в порыжелую красноармейскую гимнастерку и синие диагоналевые бриджи. Офицерская фуражка с лакированным козырьком почти скрывала его глаза. Широкоплечий, худощавый, с темным от загара лицом, незнакомец спокойно потирал небритый подбородок, густо заросший щетиной. «Черт побери, что это еще за субъект?» — подумал комендант. Гауптмана раздражала вызывающая самоуверенность этого человека. Но «субъект» первой же фразой ответил на немой вопрос коменданта. Навалившись грудью на край стола, он торопливо зашептал: — Герр гауптман, в моем распоряжении две минуты. Передайте господину штурмбанфюреру Курту Венцелю, что у вас был Гельмут. Гельмут, — повторил незнакомец. Говорил он на довольно правильном немецком языке. — Нахожусь в партизанском отряде. Передайте также: в отряде готовится какая-то операция. Какая — пока не знаю. Сообщу позже. Незнакомец встал, оправил гимнастерку и еще глубже надвинул фуражку па глаза. — Если у вас нет документов, назовите пароль, — настаивал комендант. — Мое имя Гельмут и есть пароль. Разве вам не сообщили? Комендант ничего не знал, но проявить неосведомленность не захотел. Незнакомец сделал нетерпеливое движение. — А теперь отпустите меня. Я смог отлучиться из отряда лишь на три часа. Мне нужно вернуться как можно скорей. Распорядитесь, чтоб меня не задерживали. Какого черта я пришел бы к вам по доброй воле! — И неожиданный гость направился к дверям. — Покажите ваши документы, — остановил его озадаченный комендант. — Я настаиваю на этом. Гельмут обернулся и молча посмотрел на коменданта. — Документы? — удивился он. — Вы хотите, чтобы я непременно носил при себе документы? Для чего? Чтобы предъявить партизанам? Слушайте, герр гауптман, не валяйте дурака. Ведь гестапо не похвалит вас, если вы задержите его сотрудника. Комендант усмехнулся. — Вы отчаянный парень. А если я прикажу арестовать вас? Комендант не знал, что ему делать. Что, если этот нахал действительно сотрудник гестапо? А если нет? Потрескавшиеся губы Гельмута тронула улыбка. — Уверен, что вы этого не сделаете. Я ж предупреждаю: гестапо вас не похвалит. Повторяю: если вы арестуете меня, вы сорвете важное дело. Гауптман засмеялся. — Я думаю, что вы сумасшедший. Да и наглец к тому же. Хорошо. Можете быть свободны. Но все равно из виду мы вас не выпустим. Сведения проверим. Агент ли вы или только себя за него выдаете… Идите. — Он снял трубку полевого телефона и бросил в нее короткую фразу. Через минуту на пороге появился унтер-офицер. — Позаботьтесь о том, — сказал ему комендант, — чтобы этот человек без задержки миновал посты. Но и проследите, куда он пойдет. В тот же вечер комендант отправился в город и лично доложил штурмбанфюреру Венцелю о странном посетителе. Начальник полиции подтвердил, что агент под кличкой Гельмут действительно был заслан к русским. — Должно быть, он не пробрался через линию фронта и сейчас внедрился в какой-то партизанский отряд… А он, кстати, не сказал, к какому отряду ему удалось прибиться? — Нет, он ничего не сказал, а все ссылался на гестапо. Венцель решил не продолжать этого разговора, понимая, что от тупого служаки ничего больше не добьешься… Через некоторое время Гельмут снова напомнил о себе. В селе Воробьево он забежал в избу полицейского и попросил его жену передать немцам, что партизанский отряд имени Чапаева собирается предпринять диверсию на железной дороге в районе Строгоновки. Начальник полиции не знал, как ему отнестись к этим сведениям, но на следующий день другой агент гестапо подтвердил данные Гельмута. Действительно, в районе Строгоновки около железной дороги были замечены какие-то подозрительные личности, которые быстро исчезли. Штурмбанфюрер приказал усилить охрану участка железнодорожного полотна в этом районе. И мера оказалась не напрасной. В самом деле, в назначенную ночь партизаны подошли к железной дороге, прямо к тому месту, где для них гестаповцы приготовили засаду. Но когда партизаны подошли уже совсем близко, прозвучал одиночный, по-видимому, случайный выстрел. Трудно было определить даже, где стреляли. Часовые, охранявшие мост, открыли по партизанам пальбу из пулеметов, но отряд мгновенно рассыпался и скрылся в лесу. Вскоре Венцель, уже проникшись доверием к Гельмуту, через того же полицейского из села Воробьево назначил встречу с таинственным агентом. Но тот не явился. И как выяснилось позже, по вполне уважительным причинам: партизанский отряд перебазировался в это время в другой район. После неудавшейся диверсии на железной дороге Гельмут снова появился в доме знакомого уже ему полицейского и предупредил, что партизаны собираются взорвать мост через реку Линь в ночь с двадцатого на двадцать первое. И снова это сообщение подтвердил другой агент непосредственно в гестапо. Но разгромить диверсионную группу не удалось и на сей раз. За неуклюжее руководство операцией Венцель понизил в должности командира карательного отряда. Разъяренный неудачей, Венцель отправил несколько человек на передовую линию в штрафной батальон. — Получить такие данные и провалить операцию, упустить партизан! Штроп тоже был вне себя от злости, хотя в душе радовался неудачам самонадеянного Венцеля. На некоторое время следы Гельмута затерялись.* * *
У Венцеля было прекрасное настроение. Дело в том, что два дня назад он получил очередное звание. Это событие с помпой отметили в офицерском ресторане. Собрались друзья и сослуживцы. Штроп, знавший страсть начальника полиции к хорошим винам, женщинам и антикварным вещам, преподнес Венцелю великолепный обеденный сервиз с золотой окантовкой, извлеченный из богатых недр Пакетаукциона (Пакетаукцион — гитлеровская организация, которая занималась отправкой в Германию ценностей, награбленных на оккупированных территориях), и дюжину красного «Дюбоне». — Из того, что ты любишь, здесь нет только женщин, — заявил Штроп под общий смех собравшихся на вечеринку офицеров, — но этот товар ты достаешь успешней меня. Венцель подозревал, что главный следователь гестапо, кичившийся своими аскетическими привычками, его недолюбливал. И считал это вполне естественным: уж очень разные люди были они со Штропом. Казалось, главного следователя не интересовало ничто, выходившее за рамки его служебных обязанностей. Даже в офицерском ресторане его видели чрезвычайно редко. А молодой Венцель не упускал случая воспользоваться радостями жизни. И вот теперь этот лестный тост и подарок! Венцель был растроган не на шутку. В ответном слове он поблагодарил Штропа и подчеркнул, что ему чрезвычайно приятно работать бок о бок с таким опытным и беспредельно преданным делу фюрера офицером, как главный следователь гестапо. За столом было весело. Много пили и много говорили, главным образом об успешном наступлении под Воронежем и Сталинградом. Хвастались своими фронтовыми подвигами, не веря друг другу. Среди собравшихся не было никого, кто побывал бы на передовой. В самый разгар ужина, когда Венцель был изрядно навеселе, в зал ресторана неожиданно вошел сотрудник полиции. Он отыскал глазами своего шефа и, подойдя к нему, сказал вполголоса: — Вас хочет видеть один человек. — Какой еще человек? — Венцель недовольно поморщился. Полицейский пожал плечами. — Он заявил, что не желает говорить ни с кем, кроме начальника. — Так скажите ему, чтобы зашел завтра. — Он говорит, что завтра будет поздно, — виноватым тоном возразил полицейский. — Дело не терпит отлагательства. — Черт его побери! Кто все-таки он такой и что ему нужно? — Не знаю. Просил передать, что от Гельмута. — Гельмута? Венцель поднялся из-за стола и, извинившись перед своими собутыльниками, направился к выходу. — Проведите его в мой кабинет, а я сейчас приду, — сказал он семенящему за ним полицейскому.* * *
Незнакомец вошел в кабинет, подняв воротник пальто и надвинув кепку на самые глаза. Был он невысок ростом, широкоплеч, с каким-то неприметным, невыразительным лицом. — Ну? В чем дело? — спросил Венцель. — Я должен остаться с вами наедине, — сказал незнакомец по-немецки. — Хорошо. Подождите меня за дверью, — приказал он дежурному. Когда они оказались вдвоем, незнакомец тихо, но многозначительно произнес: — Я от Гельмута. — Чем вы это докажете? — Триста двадцать семь тире «а». Это вам что-нибудь говорит? Это был номер, под которым, как Венцель уже знал, числился агент по кличке Гельмут. — Да, говорит, — Венцель кивнул головой. — Гельмут просил передать, — продолжал незнакомец невозмутимо и невыразительно, — что завтра можно будет схватить Корня. На хуторе Обливном. Венцель не поверил своим ушам. Этот простоватый посетитель принес весть чрезвычайной важности. Гельмут отдавал в руки гестапо секретаря обкома, руководителя всего подполья! — Меня больше всего интересует Корень, — сказал Венцель. — Это будет именно он? — Да, — небрежно бросил неизвестный. — Когда? Где он будет? Повторите! — Завтра. На хуторе Обливном. В пять вечера. — Зачем он туда придет? — Чтобы встретиться со мной. Я послан к нему от партизан. — Кто будет еще? — Еще один человек из отряда. Надежный… Я с ним обо всем договорился. Ему надоело слоняться по лесам, и он готов искупить свою вину перед германским командованием… Венцель задумался. Все это выглядело слишком неправдоподобно. А что, если это партизанская провокация, хитроумная ловушка? Он покосился на своего собеседника. Но на давно небритом, бесцветном лице посетителя ничего не отражалось. — А что, разве Корень ходит без охраны? — Да, он будет один. — Удивительно! — Так вот, в пять вечера. Хутор Обливной, — повторил незнакомец. — Но учтите: у большевиков хорошо поставлена разведка. Если появится крупный отряд, мы спугнем их. Лучше, если от вас будет не больше трех человек. Желательно в штатском. В общем, нужна хорошая маскировка… Перспектива захватить Корня показалась тщеславному Венцелю очень заманчивой. Если он сам захватит этого легендарного большевика, то Штроп, да и начальники повыше лопнут от зависти. А Венцеля переведут в Минск или даже в Берлин! — Как мы узнаем, кто из троих Корень? — Очень просто, — ответил спокойно неизвестный. — Надо подойти к воротам последней на правой стороне избы. Спросить: «Товар из Витебска прибыл?» Я отвечу: «Прибыл». — «Хозяин здесь?» — «Да, — отвечу я. — Вот он, познакомьтесь», — и укажу на Корня. В это время мы набросимся на него сзади, а ваши люди окажут нам помощь… Вот и все. Тут только не оплошать и действовать быстро. — Ну что ж… — Венцель, окрыленный будущим успехом, кивнул незнакомцу. Тот задержался в дверях. — Ваши полицейские бывают нерасторопны, — сказал он. — Уже дважды они упустили счастливый случай. Надо послать кого-то ловкого и смелого… Когда через пять минут Венцель вернулся в ресторан, вид у него был чрезвычайно деловой. За столом шел оживленный спор. Но Венцель плохо слушал своих приятелей. Он решил, что после ужина обязательно посоветуется со Штропом, который изредка вопросительно посматривал на него. Да, конечно, риск и соблазн были велики в равной мере, но упускать случай взять целехоньким и невредимым руководителя большевистского подполья не хотелось. Поймать Корня значило нанести жестокий удар русским. И кто знает, может быть, удастся вытрясти из него адреса и явки. Тогда организация будет целиком разгромлена. Нет, нельзя отказываться от такой блестящей возможности. Кого из помощников послать на операцию? Эти ленивые дураки скорее всего проворонят Корня, а если и поймают, то все лавры достанутся не ему, Венцелю, а тому офицеру, которого он пошлет. Тогда прощай награда и счастливая, спокойная жизнь в Берлине. Надо ли советоваться со Штропом? Нет! Старик еще ввяжется сам и вырвет у Венцеля этот лакомый кусочек. Решено: он, не говоря никому ни слова, возьмет двух самых здоровенных охранников и поедет сам.* * *
Алексей рассчитал верно — недаром он так скрупулезно собирал сведения о Венцеле. Он понял, что Венцель самонадеян и тщеславен. Поэтому Алексей и решил сыграть на давнишних и безуспешных попытках полиции обезглавить местное подполье. А личные качества Венцеля помогли составить именно этот, а не другой план. Алексей был уверен, что Венцель побоится отдать столь выгодный шанс в руки помощников и явится сам. Вырабатывать этот план они начали еще в тот вечер, когда в партизанский лагерь прилетел Геннадий Колос. Прежде чем думать о взрыве гестаповской школы, все трое — Столяров, Колос и Готвальд — сошлись на том, что нужно добыть хорошо осведомленного «языка», который обогатил бы их сведения о вражеском осином гнезде. Таким «языком» мог быть только работник гестапо. Вот тогда-то у Алексея и родилась мысль заманить в ловушку самого Венцеля или кого-нибудь из его ближайших сотрудников, которые, конечно, обо всем были хорошо осведомлены. Роль Гельмута Алексей взял на себя. А к Венцелю вызвался пойти Колос. Операция готовилась в строжайшей тайне. Никого, кроме командира и комиссара, в нее не посвящали. Скобцев посылал своих людей и к железной дороге, и к мосту, тем самым подтверждая донесения Алексея — Гельмута в гестапо. Начальство Альберта Обуховича ничего не знало о разоблачении своего агента. Колос и Столяров попросили Скобцева отложить и исполнение приговора над Обуховичем. — Этот агент нам еще пригодится, — сказал Алексей. И он действительно пригодился. На допросе Обухович рассказал о системе связи со своими шефами. Она включала несколько тайников для передачи сведений в полицию. Через эти тайники Столяров и Колос отправляли донесения, которые полностью подтверждали сообщения Гельмута. Все сведения писал Обухович под диктовку Алексея, и в полиции эти сообщения считались бесспорными. Доверяла ли полиция Гельмуту? Этого Столяров еще не знал. Пока все шло по плану. Однако требовалась крайняя осторожность. Достаточно было Венцелю подготовить на хуторе засаду, и Алексей со своими людьми мог сам угодить в ловушку. Поэтому ночью накануне встречи с Венцелем командир отряда выслал на хутор разведчиков. В случае появления большой группы фашистов они должны были предупредить партизан. Но когда в половине пятого Алексей, Колос и Готвальд подошли к Обливному, у опушки их встретил один из разведчиков и доложил, что на хуторе все спокойно. — Где подводы? — спросил Алексей. — Укрыты в овраге, — ответили ему. — Там же и ребята. Кузьмич предусмотрительно прислал двадцать человек. Без десяти пять Столяров со своими товарищами вошел во двор крайней хаты. Окна были забиты досками. Алексей захлопнул скрипевшие на ветру ворота. В щели забора дорога хорошо просматривалась в оба конца. Тусклый октябрьский день клонился к вечеру. Ветер гнул у заборов заросли полынника, срывал с тополей последние листья. У колодца появилась женщина в ватнике, набрала воды и исчезла в избе напротив. И снова улица опустела. Хутор был невелик: всего восемь дворов, половина из которых осталась без хозяев. Старенькая, запыленная полуторка советского производства появилась на улице неожиданно. Шофер затормозил напротив крайней избы. Из кабины вышел Венцель. На нем было потертое, латаное пальто и кирзовые сапоги. На голове — помятая кепка. Венцель шел к воротам неторопливо, засунув руки глубоко в карманы. Алексей видел, что начальник полиции весь напряжен, а его глаза беспокойно шарят по сторонам, в поисках скрытой опасности. Столяров лихорадочно оценивал ситуацию. Едва Колос распахнул ворота и вышел навстречу Венцелю, стараясь держаться как можно непринужденнее, Алексей сразу же заметил, что слева, метрах в ста от них, остановился серый «опель». В нем кроме шофера сидели два гитлеровца. Это уже было нарушение договора. «Опель», конечно, осложнял дело… Эти мысли пронеслись в голове Алексея в какую-то долю секунды. Дальше все произошло мгновенно. Прижавшись к забору, он слышал, как Венцель спросил Колоса по-русски с сильным акцентом: — Товар из Витебска прибыл? — Да, — ответил Геннадий. — Пойдемте. Колос пропустил «покупателя» вперед и захлопнул ворота. — А хозяин есть? — Есть, познакомьтесь, — ответил Колос и указал на Столярова. Венцель, деревянно улыбаясь, протянул Столярову руку, но ее перехватил Геннадий. Сильной ладонью он сжал руку начальника полиции, и лицо Венцеля исказила гримаса боли. Прозвучал короткий приглушенный крик, прежде чем Колос успел зажать рот гестаповцу. В следующую секунду Венцель лежал на земле. Готвальд сидел на нем верхом и пытался защелкнуть на вывернутых за спину руках «покупателя» новенькие наручники, захваченные при недавнем налете на полицию. До слуха Алексея донесся рев полуторки, и разведчик ринулся к воротам, на ходу вытаскивая пистолет. Услышав крик, шофер грузовика дал задний ход. Зато серый «опель» мгновенно оказался напротив ворот. Из него на ходу выскочили оба гестаповца. Алексей не успел прицелиться, как рядом с ним треснул выстрел и один из гитлеровцев упал возле невысокой ветлы. Геннадий и Готвальд связали Венцеля. Алексей стрелял по фашистам. Второй немец прижался к ветле и открыл оттуда стрельбу. Алексей спрятался за столб забора. Одна из пуль расщепила ворота, и щепка впилась Алексею в руку. Вдруг стрельба из-за ветлы прекратилась. «Кончилась обойма», — пронеслось в голове у Алексея. Он осторожно выглянул и убедился в своей правоте. Гитлеровец, согнувшись, полез в карман за новой обоймой, и его серо-зеленый китель показался из-за ствола дерева. Алексей, держась одной рукой за столб, тщательно прицелился. Раздался выстрел. Выронив парабеллум, фашист тяжело осел на землю. Ни полуторки, ни «опеля» на улице не было. Видимо, водители погнали машины за подкреплением. Надо было торопиться.* * *
Алексей оглянулся. Колос и Готвальд поставили на ноги гестаповца и тащили его за собой, угрожая упиравшемуся фашисту пистолетами. Венцель неохотно повиновался. В эту минуту по улице застучали две таратайки, и кучера осадили лошадей прямо у ворот. Венцеля уложили на переднюю повозку лицом вниз. Пристраиваясь рядом, Столяров видел багровую гладкую щеку и такую же мочку уха штурмбанфюрера. Начальник полиции покосился на Алексея краем глаза, но хранил молчание. — А ну-ка, братцы, с ветерком! — крикнул возницам Колос. Щелкнул кнут. Лошади взяли с места галопом. В этот момент из-за поворота дороги показались три грузовика с гитлеровцами, которые начали с ходу стрелять. Им наперерез из оврага бежали партизаны. Звуки стрельбы еще долго слышались позади бешено мчавшихся таратаек.* * *
Венцеля допрашивали на следующее утро. Самолюбие гестаповца страдало от пережитого унижения и теперь он всем своим видом хотел показать, что никакие обстоятельства больше не заставят его уронить офицерское достоинство. Планируя поимку «языка», Столяров опасался столкнуться с человеком сухим, фанатичным, — из таких обычно трудно что-либо выбить. Но Венцель, по его расчетам, не принадлежал к их числу, скорее наоборот: у него была жизнерадостная внешность — розовые щеки, короткий нос и большие, немного выпуклые глаза, наверное, веселые в обычное время, а сейчас смотревшие настороженно, с плохо скрытым страхом. — Догадываетесь, куда попали? — спросил Алексей по-немецки. Гитлеровец кивнул головой. Колос улыбнулся: — Сообразительный парень! Ночью, кляня себя за то, что так глупо попался в сети советской разведки, сплетенные, как убеждал он себя, «всего лишь из наглости», Венцель принял твердое решение молчать. Этим он мог по крайней мере обеспечить покой и безопасность родителям и железный крест посмертно себе лично. Еще прежде, чем гестаповец переступил порог палатки и Алексей увидел его побледневшее, замкнутое, несколько даже торжественное лицо, он догадался о том, что происходило в душе у пленного. — Конечно, — говорил часом раньше Алексей Готвальду и Колосу, — этот мерзавец не заслуживает ничего, кроме веревки, но его показания для нас важней, чем возмездие… И есть только один способ заставить его заговорить — гарантировать ему жизнь. Столяров не ошибся. Едва он выговорил слово «жизнь», как пленный судорожно глотнул и облизал сухие губы. Он понял: жизнь ему обещают, ибо показания его необходимы этим русским. Для приличия он решил некоторое время молчать. Но колебался он недолго. Венцелю много приходилось слышать о том, как гордо умирают с именем фюрера на устах настоящие немецкие солдаты. Это было красиво. И Венцель раньше убеждал себя, что, доведись ему попасть в плен, он бы стойко принял смерть, презрительно улыбаясь в лицо врагам. Однако это оказалось не таким простым делом. Курт Венцель любил своего фюрера, но еще больше он любил самого себя. К тому же он ожидал самого худшего, и неожиданно вспыхнувшая надежда на счастливый исход заставила его забыть о долге «истинного германца». — Яволь, — проговорил он после долгой паузы, — я буду говорить… Хитрый фашист тут же решил, что выскажется не сразу, а будет «продавать товар» по частям, набивая себе цену.* * *
Все время после ухода из Краснополья Алексея не покидало беспокойство за Лещевского. Что с ним? Жив ли? Сумел ли выдержать пытки? Ответить на этот вопрос мог, пожалуй, Шерстнев, но, когда партизанский отряд вынужден был сменить базу, связь с Тимофеем прервалась. Алексей мог предполагать, что с Лещевским немцы расправились, но тревогу приглушала слабая надежда: у фашистов не было улик против хирурга. Страшило лишь, что гитлеровцы знали о встречах Лещевского с Готвальдом. Нужно было попытаться спасти Лещевского. Но как? Не было возможности пробраться в тюрьму, узнать, что там делается, как освободить… Мелькнувшую было мысль о налете партизан на тюрьму Алексей отбросил: такой проект сулил слишком большие потери. — Алексей, разреши, — попросил Валентин, — пойду в город, узнаю, что и как. — Ты с ума сошел! — прикрикнул на него разведчик. — Тебя схватят на первом же перекрестке. Теперь у каждого полицейского твоя фотография. — Я что-нибудь придумаю… — Брось об этом даже думать! Готвальд хоть и мало знал хирурга, да и держался Лещевский, принимая его, замкнуто и отчужденно, чем-то Адам Григорьевич навсегда расположил к себе Валентина. Прибавлялось к этому и уважение: Лещевский был не просто хороший врач, а еще и подпольщик. И Готвальд строил всяческие планы, как спасти хирурга. В конце концов Алексей и Валентин решили, что прежде всего нужно отыскать Шерстнева: он-то уж наверняка знает, в какой тюрьме держат фашисты Адама Григорьевича, если он еще жив. Но Шерстнев и сам не дремал и всячески пытался узнать что-либо об Алексее и партизанах. В одну из поездок по области он завернул в Пашково к Захару Ильичу Крутову. Было решено встретиться у него в ближайшие дни. В Пашково отправились втроем: Столяров, Готвальд и Колос. Скобцев предложил было им охрану, но они отказались. Выехали верхом в сумерках и часам к одиннадцати вечера были на месте. Захару Ильичу Столяров привез подарок — теплую ушанку и рукавицы. Старик вынул бутылку самогона, чтобы вспрыснуть обнову, но гости, озабоченные своими делами, пить водку отказались. Шерстнев, давно уже дожидавшийся партизан (полицай, как всегда, открыто пришел к Крутову еще засветло), покосился на бутылку, но пить тоже не стал. Старик понял, что его гостям не до него, и ушел в каморку за печкой. Алексей сразу спросил Шерстнева: — Что случилось с Лещевским? Он жив? — Жив. — Где он? — В городской тюрьме. Видел, как арестованных выводили во двор. Сначала он сидел в подвале гестапо, и я только недавно узнал, что его перевели. — Его надо спасти, Тимофей, слышишь? Обязательно надо. Шерстнев усмехнулся. — Будто я сам не понимаю. Легко сказать… — Надо что-то придумать. — Сам об этом все время думаю. Думать мне вообще немало приходится, — сколько времени вас вот искал. Помолчали. Потом Тимофей медленно проговорил: — Я и с городскими подпольщиками советовался… Служит в тюрьме один человек… Некто Ворчук. — Ну, ну, ну… Что же ты молчал до сих пор? Слова из тебя не вытянешь… Так что этот Ворчук? Шерстнев почесал за ухом, помедлил. — Да как вам сказать… Неясный он человек. По специальности слесарь-водопроводчик. Из военнопленных. Был в немецком концлагере. Освободили его оттуда за примерное поведение. К нему наши уже искали подход, да он чего-то не идет на сближение. Однажды наша связная встретила его на улице, попросила передать записку одному арестованному. Но он не ответил, прошел мимо. Боится, должно быть. Может, совсем продался. — А что, если попробовать еще раз? Ведь он все-таки наш, русский. Может, осмелеет… Шерстнев опять помолчал, погладил бороду. — Рискованно. Согласится, а сам предупредит гестапо… Загубим людей. — А если не освободим Лещевского — преданного нашему делу человека загубим… Да, может, и еще кого-нибудь удалось бы вызволить. — Ну конечно, — согласился Тимофей. — Я ведь все понимаю. Дадим знать Корню. Если даст «добро», то попытаемся… Шерстнев рассказал Алексею городские новости. Главная из них — пропажа заместителя начальника гестапо Курта Венцеля. — Представляешь, человек как в воду канул, — весело говорил Тимофей. — В гестапо паника! В полиции тоже. Куда он делся? Делают вид, что не знают. Но все-таки слух идет, что он натолкнулся на какую-то засаду и его то ли убили, то ли похитил кто-то из наших. Корень что-то знает, но помалкивает, как всегда. Заметив на лице Алексея усмешку, Тимофей умолк, затем перевел взгляд на Готвальда. Тот тоже улыбнулся. — Чего ухмыляетесь? — подозрительно спросил Шерстнев. — А у вас в отряде ничего не слышно об этом? — Да поговаривают, — буркнул Алексей и, не выдержав, расхохотался. Осененный догадкой, Тимофей на мгновение оцепенел, а затем вскрикнул: — Ваших рук дело? — Да тише ты! — шикнул на него Колос. Но унять Тимофея было невозможно. — Ах скромники… И молчат… А я-то им принес новость… Ну, ладно, этого я вам не прощу. И он долго молчал. Сменил гнев на милость, лишь когда ему рассказали все подробности. — Ну молодцы! Тут уж ничего не скажешь…12. Побег
Через неделю связной принес в отряд записку от Шерстнева. В ней говорилось о новом неожиданном обстоятельстве. Нашли людей, которым удалось уговорить Василия Ворчука помочь подпольщикам. Тот твердо обещал.«И хотя мы, — писал Тимофей, — полностью не уверены в этом человеке, выбора у нас нет, да и времени тоже. На 31 декабря назначена казнь большой группы заключенных. Их должны расстрелять, как всегда, в Доронинском карьере. Узнать, включен ли в список Л., мне не удалось, но это не меняет дела…»Получив записку, Алексей и Колос стали готовиться к операции. В партизанском отряде Скобцева был старенький трофейный «мерседес». Готвальд починил перебитый пулей бензопровод, машину покрасили и сменили номер. А для солидности на ветровом стекле в углу вывели по трафарету треугольник в треугольнике. Это была, по словам Венцеля, эмблема Блестковской секретной школы. К машинам сотрудников этой школы патрули относились с боязливой почтительностью, и разведчики решили использовать ее знак. Когда автомобиль был готов, встал вопрос о шофере. Брать с собой Готвальда Алексейопасался: его многие знали в городе. Колос машину водить умел, но недостаточно хорошо для такой ответственной операции. Сначала Алексей намеревался было сесть за руль сам, но боялся, что за это время утратил квалификацию. Делать было нечего: Алексею пришлось скрепя сердце капитулировать перед настойчивыми просьбами Валентина. — Мы въедем в город в сумерках, так что никто меня не разглядит, — успокаивал Алексея обрадованный Готвальд. — Ну а светить фонариком в кабину абверовцев вряд ли кто решится… Алексей молчал. На душе у него было тревожно, как всегда, когда он шел на операцию и чувствовал: что-то сделано не так, как нужно. Его, правда, утешала мысль, что Валентин первоклассный шофер, а это как раз то, что требовалось на случай погони. Но очень беспокоила мысль, что Валентина легко могут узнать. Он долго работал и в комендатуре и на аэродроме. Узнать его могут не только гестаповцы, но и городские жители. Дня за три до операции Колос, который появлялся в городе только раз, когда приходил от Гельмута к Венцелю, отправился к тюрьме, чтобы на месте ознакомиться с обстановкой, а заодно проверить дорогу, по которой должна будет ехать их машина. Нужно было узнать, где находятся часовые, патрули, контрольные пункты. Вернувшись, он начертил план местности и маршрут движения. Машину решили остановить в узком темном переулке, выходившем прямо к тюрьме. Он был плохо освещен, и прохожие избегали этого места. Готвальд хорошо знал город и не выражал никакого беспокойства. Он был уверен, что ему удастся возвратиться в отряд самым коротким путем. Теперь, когда все было продумано, оставалось ждать знака от Ворчука, который и сообщил Шерстневу через друзей, что самое подходящее время для операции — сочельник, когда охрана, бесспорно, напьется, а офицеры будут встречать рождественский праздник в казино. Солдаты городского гарнизона и полиция также будут веселиться. Накануне «мерседес» перегнали в село Грабы, за десять километров от города по Витебскому шоссе, и спрятали в сарае у одного из жителей, помогавших подпольщикам. В это же село поодиночке перебрались Алексей, Колос и Готвальд. Немецкая одежда для них уже лежала в багажнике «мерседеса». Алексей надел форму капитана, Геннадий выглядел как заправский обер-лейтенант, а Валентину, как шоферу, досталась солдатская амуниция. Гранаты и пистолеты подпольщики рассовали по карманам. Запасное оружие лежало и в «мерседесе». Вечером двадцать четвертого декабря машина благополучно миновала заставу и выехала на Большую Гражданскую. Город был затемнен. Медленно падал редкий колючий снежок. По Большой Гражданской, горланя, шли немецкие солдаты. Когда «мерседес» проезжал мимо офицерского ресторана, из которого доносилась музыка и пьяные крики, Готвальд повернулся к сидевшему рядом с ним Алексею и шепнул: — Вот бы куда швырнуть подарочек… Алексей ничего не ответил. Показалась серая трехэтажная коробка центральной тюрьмы. Мрачно глядела она из-за высокой каменной стены угрюмыми глазницами окон. Готвальд свернул в переулок. Трое в машине молчали. Каждый, видимо, думал об одном и том же: кем окажется Василий Ворчук — патриотом или предателем?
Еще в лагере Ворчук решил во что бы то ни стало выжить и вырваться на волю. Он прикинулся робким, безответным. И этому волевому и очень собранному и целеустремленному человеку удалось обмануть лагерное начальство. Выйдя на свободу, Ворчук контролировал каждое свое слово, каждый шаг, боялся случайных знакомств, избегал людей. Проходя как-то по коридору тюрьмы, Ворчук заглянул в глазок одной камеры. На грязном полу лежал парень в драной, окровавленной одежде. Хотя лицо избитого трудно было рассмотреть, Ворчук знал, что этому «опасному преступнику» — так называло его тюремное начальство — всего двадцать пять лет. Ворчуку стало стыдно. И на фронте, и здесь, в тылу, его однолетки сражаются с фашистами, а он, здоровый и сильный человек, русский рабочий, боится каждого шороха, сидит затаившись и обслуживает врагов своей Родины. И что-то перевернулось в душе Василия. Исчез страх, на смену ему пришла решимость. А вскоре к нему на квартиру пришел его знакомый Петр Головин, работавший у фашистов в оружейных мастерских. Ворчук и раньше догадывался, что Петр связан с подпольщиками, и потому старательно его избегал. На этот раз он пустил Головина в свою комнату. А тот принес ему два браунинга и несколько обойм к ним. Они заперлись, и Головин подробно объяснил Ворчуку, что́ последний должен сделать. Вечером в сочельник Ворчук появился в тюрьме, как обычно, с маленьким фанерным чемоданчиком, в котором лежали молоток, набор гаечных ключей и плоскогубцы — нехитрый набор инструментов слесаря-водопроводчика. Только на этот раз под инструментами были спрятаны тщательно обернутые засаленной ветошью два пистолета. Из карманов пальто выглядывали две бутылки самогонки. — Ты куда? — остановил его у проходной полицейский. Стараясь держаться как можно спокойнее, Ворчук объяснил: наверху лопнула труба, приказано починить. Однако, пока происходил этот разговор, слесарь заметил, что тюрьма сегодня охраняется менее тщательно: у ворот вместо сильного наряда полиции мерзли всего три человека. Все шло как по маслу; именно на это и рассчитывали подпольщики, выбрав для побега канун рождества… В узком, слабо освещенном тюремном коридоре ударил в ноздри отвратительный запах хлорной извести, крыс и параши. Обитые жестью дубовые двери камер были крепко, как всегда, заперты на засов. На мгновение у Ворчука мелькнула мысль, что задуманное освобождение арестованных неосуществимо и весь план обречен на неудачу: слишком крепки засовы, слишком высоки стены. Но Василий поспешил отогнать эту мысль и вошел в дежурку. За деревянным столом сидели трое охранников. Они были уже навеселе: распаренные лица, расстегнутые мундиры. Глаза выжидательно уставились на вошедшего. На столе бутылки, открытые банки консервов, на плите шипящая сковородка — жарится яичница. Собрав все свои познания в немецком языке — а он поднаторел в нем и в лагере, и на службе в комендатуре, — Ворчук поздравил тюремщиков с праздником и пожелал веселого рождества. Он спокойно раскрыл чемоданчик, проверил, все ли на месте — молоток, ключи, плоскогубцы, — и объяснил, что наверху лопнула труба. Захмелевшие фашисты не проявили к нему особого интереса: этого слесаря они здесь видели часто и привыкли к нему. Наверху, в комнате полицаев, тоже шла гулянка. Здесь Василия встретили более гостеприимно, поскольку оба полицейских были еще не настолько пьяны, чтобы не заметить торчавших у слесаря из карманов бутылок с самогоном. Ворчука усадили за стол. — Выпей с нами, парень! — предложил один из охранников. — Спасибо, — ответил Ворчук. — У меня у самого есть. Собираюсь вот, кончив работу, пойти к одной девочке… — К черту девочку, с нами веселей! — заорал один из полицейских. — Давай сюда твою водку! Боясь вызвать подозрение, Ворчук пил почти наравне со всеми. Но он не хмелел, — видимо, сказывалось нервное напряжение. Зато его собутыльники быстро опьянели. Вот один из них — рыжий, с бельмом на глазу — уронил голову на стол, другой принялся крутить шеей, будто стараясь отогнать от себя какое-то наваждение. Василий незаметно открыл под столом чемоданчик и вынул молоток. Когда и второй полицейский стал клевать носом, Ворчук вытащил из-под стола молоток и изо всех сил ударил по затылку сначала одного охранника, а потом другого. Через минуту он уже отодвигал засов камеры, где находился Лещевский. — Быстро выходите! — шепнул он в темноту. Высокий, сутуловатый человек, пошатываясь, вышел в коридор. Он никак не мог понять, почему какой-то неизвестный сует ему в руки пистолет. — Живее! — прикрикнул на него Ворчук. — За мной! — И, не оглядываясь, кинулся к другим камерам. Люди выходили в коридор неуверенно, щурясь от света и испуганно озираясь. Но теперь уже Ворчуку помогал худенький избитый паренек, который сидел в одной камере с Лещевским. Отперев все замки, трое (Лещевский уже пришел в себя) кинулись в комнату, где все еще лежали на полу полицаи, и забрали их оружие. Лещевский и его сосед остались на лестнице, а Ворчук спустился вниз, в дежурку. Из-за закрытой двери доносилось пьяное, нестройное пение. Ворчук рванул дверь и захлопнул ее за собой. — Руки вверх! За столом сидело теперь только двое гестаповцев. Завидев слесаря с пистолетом, толстый охранник, пригнув голову, метнулся к Ворчуку. Василий дважды нажал спуск. Зазвенели стекла. Гитлеровец, будто споткнувшись, растянулся на полу. Второй тоже рванулся с места, но две пули сделали свое дело. Василий снова взялся было за ручку двери, но задержался. Ведь охранников в первый раз было трое… Где же третий? И прежде чем слесарь успел что-либо сообразить, за дверью послышались нетвердые шаги. Видимо, тот, третий, зачем-то вышел и теперь возвращался, услышав выстрелы. Раздумывать было некогда. Спрятав пистолет за спину, Василий выскочил в коридор; охранник, пошатываясь, шел ему навстречу, держа руку в оттопыренном кармане. Он что-то пытался сказать, но язык не повиновался ему. Василий не стал медлить и выстрелил прямо в красное, бессмысленное лицо. Тем временем заключенные вышли из камер и спустились вниз. Решено было, что они будут выходить из тюрьмы группами. В первой пойдут Ворчук, Лещевский и худенький паренек…
* * *
В то время как в тюрьме происходили описанные выше события, Столяров, Колос и Готвальд сидели в «мерседесе», нетерпеливо посматривая на часы. Ворота тюрьмы должны были давным-давно распахнуться. Но время шло — тюрьма молчала. И вдруг произошло нечто, заставившее всех троих похолодеть. Первым забил тревогу Колос. — Смотрите! — шепнул он Столярову, указывая глазами в сторону. Мимо тюрьмы медленно двигалась колонна немецких солдат. Топот сотен сапог сотрясал землю. Ревели моторы: позади колонны ехало несколько грузовиков. Готвальд судорожно сжал руку Столярова, как бы спрашивая: что делать, как поступить? Алексей и сам не знал. Если сейчас заключенные выбегут из ворот, они наскочат прямо на колонну. Предупредить их нет никакой возможности. Оставалось только одно — ждать, как дальше развернутся события. Неужели так тщательно подготовленная операция сорвется из-за какой-то случайности… В довершение всего один из грузовиков, объезжая строй, увяз в сугробе прямо напротив тюремных ворот и никак не мог сдвинуться с места. Его обступило с десяток немцев. Упираясь в задний борт, они с криками помогали машине выехать на мостовую. Время тянулось нестерпимо долго. Наконец последний грузовик проехал. Прошло еще четверть часа, но из ворот никто не выходил. Беспокойство разведчиков нарастало. — Неужели Ворчук изменил? — прошептал Готвальд. Ему никто не ответил. Каждый думал: случилось несчастье… Улицы, несмотря на темноту, не были пустынны. Поодиночке и группами проходили немецкие солдаты и офицеры. Порой до сидевших в «мерседесе» доносилось пение, отрывки немецкой речи. Алексей и Колос подумали об одном и том же: так долго стоящий у тюрьмы «мерседес» может привлечь внимание патрулей. Наконец в темном квадрате проходной появились трое. Один из них, высокий, сутулый, был в шинели немецкого офицера — Алексей при свете синего фонаря, освещавшего ворота тюрьмы, сразу узнал Лещевского. Рядом с ним шли еще два «немца» — в одних мундирах, несмотря на холод. Готвальд выскочил из машины и быстро подвел к «мерседесу» уже совершенно спокойного Лещевского. Увидев Алексея, хирург от удивления только заморгал глазами. Партизаны ждали Ворчука — его надо было обязательно забрать с собой в отряд, — но он почему-то задержался. Между тем из тюрьмы поспешно выбегали заключенные — их фигуры будто растворялись во тьме декабрьской ночи. Колос настаивал на отъезде, но Алексей не мог покинуть Ворчука, оказавшего подпольщикам такую услугу. Наконец из дверей вышел Ворчук со своим неизменным чемоданчиком. Едва он успел перебежать широкую улицу, чтобы сесть в «мерседес», из-за угла вырвалась пронзительно гудящая полицейская машина с нарядом жандармерии. Она оказалась у ворот тюрьмы, когда из нее выбегала последняя группа заключенных. Жандармы открыли по ним пальбу. Несколько человек упали в снег, остальные добежали до переулка. За ними с криками и бранью погнались гитлеровцы. Уйти благополучно всем не удалось: в одной из камер вместе с подпольщиками сидел провокатор, он сумел связаться с гестапо… И все же в эту ночь из тюрьмы бежало семнадцать подпольщиков. Позже большинство из них удалось переправить к партизанам, остальные были надежно спрятаны в городе и окрестных селах.* * *
Столярова и его друзей охватило то радостно-возбужденное состояние, когда все кажется посильным и возможным. Но Алексей знал по опыту, как опасно это настроение для разведчика: оно порождает беспечность и, стало быть, неизбежные ошибки. А впереди подпольщиков ждала труднейшая задача — уничтожить шпионскую школу в Блесткове. Центр торопил Алексея. Получив сообщение, что подпольщикам удалось захватить начальника городской полиции, Центр приказал Столярову доставить Венцеля в Москву, — конечно, лишь после того, как партизаны получат от него все нужные для них сведения. Венцель назвал на допросах имена и клички многих гестаповских агентов. В тот же день названные Венцелем имена Алексей сообщил через связного подпольщикам. Многие гестаповские ищейки были вскоре обезврежены. Тайная полиция получила тяжелый удар. Обо всем этом написал Алексею Шерстнев в очередном донесении. Последний абзац этого письма особенно заинтересовал Алексея:«Лотар Штроп исчез, куда — точно никто не знает. Одни говорят, что отозван в Берлин, другие утверждают, что понижен в звании и отправлен на фронт. Во всяком случае, одним гестаповцем в городе стало меньше».Это обстоятельство чрезвычайно обрадовало разведчиков. Хитрый и опасный враг — не чета Венцелю — убран с их пути.
13. Специалист по психологии
Венцель не только бывал в Блестковской школе абвера, но и постоянно поддерживал с ее руководством деловые контакты. Они выражались не только в том, что начальник полиции рекомендовал начальнику школы подходящих людей, он несколько раз сам ездил в Блестково читать лекции. Из показаний Венцеля у партизан постепенно складывалась картина деятельности этого центра обучения фашистских разведчиков. Школа находилась в пятнадцати километрах от города, в бывшей помещичьей экономии, где при Советской власти размещалась центральная усадьба животноводческого совхоза. Усадьба эта была выбрана гитлеровцами, видимо, потому, что стояла в стороне от больших дорог, в неглубокой лощине на берегу озера. Окружавшие усадьбу холмы скрывали ее от любопытных глаз. К тому же здание было обнесено высокой кирпичной стеной, пострадавшей в нескольких местах от обстрела. Как только новое назначение усадьбы определилось, пробоины в стене были заделаны. На ремонте работали советские военнопленные. Но одной стены гитлеровцам показалось мало: они окружили школу забором из колючей проволоки в два метра высотой и спиралью, по которой проходил ток высокого напряжения. К этому сверхсекретному объекту местным жителям категорически запрещалось подходить, о чем недвусмысленно предупреждали щиты с надписями на русском и немецком языках. Нарушителей ждал расстрел. В главном одноэтажном здании разместились административные службы школы, кабинеты начальства — майора Фридриха Калау и его помощников. Здесь же в одной из комнат попискивала собственная радиостанция фашистского гнезда — антенна поднималась высоко вверх, замаскированная старыми липами, росшими вокруг дома. Деревянные корпуса были отведены под общежитие курсантов, преподавательского состава, гараж.* * *
Почувствовав, что ему уже не угрожает расстрел, Венцель стал еще более покладистым и даже по приказанию Алексея нарисовал план-схему усадьбы, где размещалась школа. Алексея удивило только, что Венцель, вручая ему план, высказался весьма пренебрежительно о кадрах школы — они набирались из военнопленных. — Очень, очень ненадежный народ, — говорил Венцель. — Большинство пришло туда не драться с большевиками, а найти способ, выждав время, перебраться к своим. Наконец разведчики пришли к выводу, что все нужные сведения они уже получили, и Венцель был отправлен в другой район. Теперь, когда подпольщики располагали довольно подробными сведениями о школе, получили ее подробный план, Алексей, Колос и Готвальд целыми днями ломали голову над тем, как выполнить приказ Центра. Просто напасть на школу или подослать группу подрывников было невозможно: неподалеку от Блесткова квартировали значительные силы гитлеровцев, там насчитывалось до двух батальонов жандармерии. — Если даже и удастся подойти ночью к школе, — говорил Скобцев, — то вывести в целости людей будет невозможно. Вот смотрите, — он показал карандашом план, нарисованный Венцелем. — Ближайший от усадьбы лес в десяти километрах. Немцы перережут дорогу к лесу и легко уничтожат отряд… Живым не уйдет ни один человек… С доводами Скобцева нельзя было не согласиться. Для разгрома школы требовалось много людей. — Есть только один выход, — утверждал Колос, — найти в самой школе подходящего человека, который подложил бы взрывчатку в административный корпус. Но Алексей напомнил, что Венцель рассказывал о том, как агенты следят за каждым шагом курсанта, получившего увольнительную в город. Стало быть, даже подойти к кому-либо из курсантов школы на улице или подсесть в кабачке совершенно невозможно. От этого варианта пришлось отказаться еще и потому, что у подпольщиков и у партизан не нашлось в Блесткове ни одного знакомого. Из-за этого были признаны негодными многие планы, предлагавшиеся поочередно Колосом, Скобцевым, Алексеем и Готвальдом. И вот когда Столяров начал уже отчаиваться, пришедший на явку Шерстнев вспомнил, что в городском госпитале лежит курсант школы, у которого во время учений в руках взорвалась толовая шашка. Попросили Шерстнева разузнать об этом случае поподробнее. Через несколько дней, встретившись с Шерстневым все в той же хате Захара Ильича, Алексей услышал то немногое, что Тимофею удалось выспросить у знакомой санитарки госпиталя. — Взрывом курсанту изранило руки, — сказал немногословный Шерстнев, — обезобразило лицо до неузнаваемости. — До неузнаваемости, говоришь? — насторожился Столяров, услышав последнюю фразу Тимофея. — Да, — подтвердил тот. — Ему опалило волосы, брови, ресницы, на щеках и на лбу сильные ожоги. Он лежит неподвижно на спине с забинтованной толовой и руками. И говорят, чуть ли не при смерти. Столяров забегал по избе. Таким взволнованным Шерстнев его никогда не видел. Наконец, немного успокоившись, Алексей остановился перед Тимофеем. — Слушай, — сказал он, — нужно найти надежного человека среди военнопленных-врачей. Впрочем, тут может помочь Лещевский. Я сегодня же поговорю с ним, он ведь знает в госпитале всех. Шерстнев не стал расспрашивать Алексея ни о чем. Он уже и так догадывался, какой план родился у его друга. Но затея эта показалась ему фантастической. Такого же мнения придерживались Колос и Готвальд. Особенно скептически был настроен Колос. Действительно, замысел Алексея подменить в последний момент умирающего курсанта, повторить трюк Лещевского, казался совершенно неосуществимым. — Ведь человек должен быть очень похож на обожженного курсанта, — сказал Скобцев. — Да он же будет с забинтованным лицом, — убеждал товарищей Алексей. — А голос? А манера говорить, двигаться? А, наконец, отпечатки пальцев? — возражал Колос. — Но в том-то и дело, что даже руки опалены, стало быть, ни о каких отпечатках пальцев не может быть и речи, — защищал свою идею Столяров. — А что касается приблизительного сходства — такого человека можно найти. Первые два дня Колос всячески иронизировал над планом Алексея и выискивал в нем все новые и новые уязвимые места. Он так часто возвращался к обсуждению этой идеи, что Алексей уже стал смеяться. — Кажется, моя мыслишка не дает тебе покоя, а? Сознайся. А ведь она соблазнительна! — Конечно, — с виду неохотно согласился Геннадий. — Но уж чересчур сложна. — Предложи проще. Но Колосу ничего другого так и не удалось придумать. И уже теперь обсуждали план Столярова все втроем, горячась, увлекаясь и одергивая друг друга, если кто-нибудь залезал в дебри фантазии. В замысел посвятили Лещевского. После пыток в гестаповском застенке, после всех волнений, связанных с побегом, Адам Григорьевич еще не совсем оправился. Столяров попросил Скобцева, чтобы хирургу назначили усиленный паек: за два месяца тюремного заключения Лещевский исхудал до неузнаваемости. Но врач по-прежнему был полон решимости и мужества. — Что я буду делать в отряде? — спросил он Алексея в первый же день. — Отдыхать, — ответил тот. — Пока только отдыхать, дорогой доктор, а потом дела найдутся. — Не могу же я быть нахлебником! — Не волнуйтесь. Вернете долг, когда встанете на ноги… А теперь дышите воздухом, отсыпайтесь. В землянке хоть и сыровато, но спать можно спокойно, фашисты сюда и носа не кажут. Однако вскоре после этого разговора Алексей узнал от комиссара отряда, что хирург уже оперировал в санитарной палатке раненного в ногу партизана. — Так он же сам еле на ногах держится! — удивился Столяров. — Я пытался его отговорить, — сказал комиссар, — но он замахал на меня руками и заявил, что работа для него лучшее лекарство. И вот теперь Лещевский, смущенно улыбаясь, появился в землянке Столярова. Ссадины на лице хирурга уже заживали, но некоторые еще были заклеены пластырем. Алексей решил сделать вид, что он ничего не знает о «подпольной» практике своего друга, и приступил к делу. Поначалу он спросил врача, есть ли в немецком госпитале человек, заслуживающий доверия. — Я имею в виду русских, конечно. Там ведь есть врачи из военнопленных, вольнонаемные сестры и санитарки. Вы ведь всех знаете? Лещевский ответил не задумываясь: — Самый порядочный там, на мой взгляд, Солдатенков. Михаил Иванович Солдатенков. — Кто он? — поинтересовался Алексей. — Терапевт. Капитан медицинской службы. Попал в плен под Могилевом. — Адам Григорьевич, здесь дело очень серьезное. Вы за Солдатенкова можете поручиться? — Как за себя, — твердо ответил врач. — Мы были откровенны друг с другом. Он, так же как и я, очень мучился, что ему приходится работать на немцев. Собирался бежать к партизанам, но не знаю, удалось ли ему… Если он еще в госпитале, я могу сам пойти к нему в обо всем, что вам нужно, договориться… — Нет, — возразил Алексей. — Вам в город идти нельзя. Мы найдем другой способ связаться с Солдатенковым. Когда Лещевский уже был у выхода из землянки, Алексей все же не удержался и, улыбнувшись, спросил: — Ну, как прошла операция? Руки не дрожат? Лещевский с трудом раздвинул в улыбке разбитые губы. — Уже донесли? Ну да ладно, от вас все равно ничего не утаишь… Так вот: прошла успешно. И руки не дрожат.* * *
Поговорить с Солдатенковым поручили Шерстневу. Когда Тимофей сообщил, что врач обещал свое содействие, Алексей передал «полицаю» еще одно задание: во что бы то ни стало добыть фотографию лежащего в госпитале курсанта. Но, естественно, сделанную еще до несчастного случая, изуродовавшего его. Задача была чрезвычайно сложная. Шерстнев ничего не обещал: в госпитале скорее всего документов обгоревшего не было. Его фотография могла быть только в секретной картотеке гестапо или абвера. Впрочем… Связного из города ожидали с нетерпением. Он появился в лагере морозной зимней ночью и достал из-под подкладки пальто аккуратно завернутую в бумагу фотографию — наспех сделанную копию. Алексей, Геннадий и Валентин склонились над снимком. С него смотрел на них человек лет тридцати, светлоглазый, русоволосый, с довольно красивым, правильным лицом. На обороте был отмечен рост, указан возраст… После разговора в землянке со Столяровым хирург замкнулся, стал избегать товарищей. Геннадий Колос как-то вечером заглянул к Лещевскому потолковать о медицине, но тот встретил его сдержанно, даже сухо и на все вопросы отвечал односложно, так что через четверть часа Колос выскочил от врача в полнейшем недоумении. — Что с нашим лекарем творится — не пойму, — сказал Геннадий Алексею. — Не понимаю… — Да какой-то он чудаковатый стал. Хмурится, глаза в сторону отводит. Устал, что ли… Алексей задумался. — А ведь, кажется, я промашку дал, — проговорил он наконец. — Мы с тобой кое-что не учли, Геннадий. — Что именно? — То, что Лещевский — человек тонкий, легкоранимый. — Он что, обиделся на что-нибудь? — Думаю, что так. И пожалуй, он по-своему прав. — В чем же прав-то? — Как ты думаешь? — Ну, сдали нервы, переутомление… — Может быть, но не только. — Что ж тогда? — А ты вспомни. Мы у него насчет Солдатенкова все узнали? Узнали. Зачем? Ясно, что не для врачебной консультации. К тому же просили Адама Григорьевича послать этому врачу с нашим человеком письмецо. Нетрудно догадаться, что мы что-то затеваем. А ему — ни слова… — Он решил, что мы ему не доверяем? — Вот именно. Ты его пойми: ведь он работал у немцев, а в отряде недавно. Готовится какая-то операция — ее держат от него в тайне. — А ведь, черт побери, ты, наверное, прав, — засмеялся Геннадий. — Давай проверим. Они вошли в землянку к Лещевскому. Тот хмуро сидел на койке, холодно ответил на приветствие. Алексей поинтересовался, как врач себя чувствует. Адам Григорьевич пожал плечами. — Что мне делается, старику… — Исподлобья оглядывая своих собеседников, он догадывался, что зашли они не за тем только, чтобы осведомиться о здоровье. — Вот что, Адам Григорьевич, — сказал Алексей после неловкой паузы, — мы решили поговорить с вами откровенно. Не возражаете? — Только этого и жду, — буркнул тот. — Прекрасно. Вы вроде чем-то недовольны, ходите расстроенный… Я не ошибся? Лещевский пристально посмотрел на Столярова. — Вы догадливы… — Тогда выкладывайте, в чем дело. Адам Григорьевич на мгновение замялся, а потом заговорил тихо, низко опустив голову: — Не знаю, как вам сказать… Ну да ладно. Хирург помолчал, поглядел куда-то вбок, потом заговорил снова: — Все это время я взвешивал наши отношения… ну, дружбу, что ли… с того дня, как мы встретились с вами в госпитале… Перебирал день за днем. Думаю, может, я поступил как-то не так, где-то в чем-то промахнулся… И ничего не нашел такого, что дало бы повод меня… ну, скажем, подозревать, отстранять… Алексей ответил: — И правильно. Вы и не могли найти такого повода! — воскликнул он. Лещевский поднял голову. — Тогда я не понимаю… К чему эти тайны? — Какие тайны? — Вы же знаете, о чем я говорю. Зачем вам врач, этот Солдатенков? Я что, уже ни на что не гожусь? Лечить разучился? Такой поворот дела не приходил в голову Алексею. Разведчик подошел к Лещевскому и положил ему руку на плечо, но тот не обратил внимания на этот дружеский жест, продолжал с плохо скрываемым раздражением: — Разве я не вижу по вашим лицам, что вы интересовались этим врачом неспроста… Зачем? Не хотите говорить? Не доверяете? — Подождите, Адам Григорьевич, — остановил его Алексей. — Подождите, — повторил он уже твердо, видя, что Лещевский собирается его перебить. — У нас, чекистов, — а чекистом мы считаем и вас — существует неписаный закон: если готовится операция, о ней должны знать только ее участники. Мы доверяем вам, как самим себе. Но все же нарушать закон мы не имеем права. Он установлен не нами, он существует давно, его подсказал опыт… Лещевский, смотревший себе под ноги, повеселел и поднял голову. — Гм… Это называется урок, — забормотал он. — Вы, Алексей, хоть и оказали мне честь, назвав чекистом, но тут хватили лишку. Теперь я вижу, что ваше дело действительно посложней моего… Но вы, по-моему, догадались о моем настроении, прежде чем я раскрыл рот, а? Ведь за тем и пришли? Сознавайтесь. Алексей ответил, пряча улыбку: — Это не я… Это все Геннадий. Он у нас специалист по психологии.14. Ему только двадцать пять…
Солдатенков охотно согласился помочь партизанам и даже провел Шерстнева в палату, где лежал курсант. Но рассмотреть лицо обожженного Тимофею не удалось: оно было сплошь в бинтах, странно неподвижно, и только три темных отверстия — у рта и глаз — и непрерывные стоны свидетельствовали, что этот человек еще жив. — Без сознания, — сказал Солдатенков. — Много бредит. — Прислушайтесь, — Шерстнев блеснул глазами. — Может, что скажет о себе. Нам это очень поможет…* * *
Алексей, Валентин и Геннадий долго рассматривали снимок. Все трое молчали. Им предстояло принять трудное решение, от которого зависело выполнение приказа. Кто же из подпольщиков хоть немного похож на изображенного на фотографии человека? Кому предстоит сыграть трудную роль, требующую не только внешнего сходства с курсантом, но и актерского таланта? Солдатенкову удалось узнать из бессвязных речей курсанта, что он прибыл в школу совсем недавно. И Алексей возлагал большие надежды на то, что к этому человеку администрация школы еще не успела как следует присмотреться. К тому же будущий актер должен был играть с забинтованным лицом. Но кроме внешности существовали еще десятки моментов, из которых слагается представление о человеке. Любая ошибка двойника могла выдать подделку. На какое-то время и самому Алексею весь его замысел показался утопией. Но выхода не было: надо было действовать. И Алексей до боли в висках продолжал обдумывать подробности своего плана. Шерстнев, не любивший лишних слов, так и не рассказал, откуда он добыл столь необходимый всем снимок. Готвальд зашел в землянку Столярова, выбрав время, когда тот был один. Присел на краешек табуретки, молча разглядывая свою шапку. «Что с ним? — думал Столяров. — Что с ним?» А Готвальд молчал, мял в руках шапку, безмолвствовал. Это становилось странным. Алексей спросил: — Ты что? Болен? Валентин встрепенулся, посмотрел на Столярова и машинально водрузил шапку на голову. — Я? Нет, ничего… — Да ведь у вас у всех в последнее время настроение меняется, как у капризных дамочек, вижу. Говори, что случилось? Валентин скосил глаза в сторону, потом медленно заговорил: — А ведь у него волосы светлые… — Ты что, с ума спятил! О ком ты? — И глаза серые, — не слушая Алексея, продолжал Валентин. — А-а, вот ты о ком… А что дальше скажешь? Действительно, волосы русые, а глаза серые… Тонко подметил. Алексей уже догадался, что́ будет дальше. — И нос вроде бы похож на мой… — Вроде бы похож… Взгляды их встретились. Алексей быстро отвел глаза. Ждал. — А? — В голосе Готвальда звучали надежда и тревога. — Как вы думаете, Алексей Петрович? И ростом со мной он одинаков… Столяров, насупившись, барабанил по колену пальцами. — Кто же еще? Ну кто? Больше ведь некому. Некому! — уже настойчивей продолжал Готвальд. Пальцы Алексея продолжали выбивать дробь. — Он ведь забинтован, все лицо забинтовано, — твердил свое Готвальд. — Да, да, — механически повторял за другом Алексей, — все лицо забинтовано… — Пока разберутся, что к чему… я успею… Ведь по-немецки я говорю не хуже, чем по-русски. А? Алексей молчал. Как только он увидел фотографию курсанта, он понял: идти должен Готвальд. У него действительно во внешности было много общего с курсантом. Такие же светлые волосы, прямой нос, большие серые глаза… И рост, главное, рост подходит. Все это верно. Да, верно. Так в чем же дело? Почему он, Алексей, медлит, не дает согласия, не советуется с другими? Ему стоит сказать только слово, и Готвальд пойдет. Как трудно сказать это слово! Одно слово, короткое слово «да»… Почему? Когда Алексей разрабатывал план операции, он думал о двойнике как о некой отвлеченной человеческой единице..«Отвлеченной единицы» не было. Надо было решать все конкретно. Решил было идти сам… Но, кроме светлых волос, он ничем не походил на обожженного. А главное, тот был почти на голову выше. И есть Готвальд. Подходит только Готвальд. Рослый, широкоплечий, белокурый. Но у него — жена и ребенок. Ему только двадцать пять… Готвальд — близкий ему человек. Как больно ему рисковать жизнью друга! А Готвальд все смотрел на Алексея. Он ждал ответа, видимо догадываясь о том, что происходит в душе Столярова. — Я успею… Пока разберутся, успею… Ничего страшного не произойдет. — Подожди, Валентин, не пори горячку. Подожди. Дай подумать. Надо хорошенько подумать… Посоветоваться с Корнем, со Скобцевым.15. Температура высокая
В деревне Выпь случился пожар. Сгорел дом старосты Охримовича. Сгорел так основательно, что, когда на утро к месту происшествия прибыло несколько полицейских, они увидели только закопченную печную трубу да груду обуглившихся бревен. Староста и его жена сидели на каких-то узлах и печально взирали на пепелище. На Охримовиче была шуба, накинутая прямо на нижнее белье. Ветер шевелил жалкие остатки его редких волос. Старостиха выла, как по покойнику. Ничего вразумительного добиться от супругов не удалось. Изо рта Охримовича вырывались какие-то хриплые, нечленораздельные звуки. С трудом можно было догадаться, что он повторяет слово «партизаны». Полицаи подняли Охримовича, взяли его под руки и отвели в ближайший дом. Там старосте поднесли стакан самогону, и постепенно он пришел в себя. — Разбойники! — вопил Охримович, сразу опьянев. — Спалили хату! Куда я теперь денусь! Полицаи заверяли старосту, что немецкие власти не оставят самого исправного в волости служаку без крова. — Будет тебе, Трофим, жилье! Будет, не тужи. А виновных мы найдем. Но найти виновных оказалось не так просто. Большинство жителей утверждало, что пожар начался ночью по вине самого хозяина, ибо каждый знает, что Охримович тайно торговал керосином. По словам односельчан, староста хранил бидоны с керосином в чулане, куда ходил со свечой или со спичками, и, должно быть, нечаянно обронил огонь, — от этого и стряслась беда. Подозрительных людей никто вокруг деревни не встречал. И собаки в эту ночь не лаяли — завыли, только когда пламя охватило весь сруб. Словом, истинные причины ночного происшествия полицейским выяснить так и не удалось. Стало лишь известно, что никто из жителей не помогал Охримовичу тушить пожар, кроме какого-то парня, имени которого никто не знал. Парень этот разбил окно, несмотря на бушующее пламя, храбро влез в избу и помог спасти жену старосты, а также кое-какие вещи. Очевидцы утверждали, что храбрец сам сильно обгорел и упал на снег без сознания. Кто-то из жителей догадался на подводе отвезти пострадавшего в город. Подвода еще не вернулась, но говорят, что парня забрали в больницу. Описать внешность незнакомца никто толком не мог. Вспоминали только, что ростом он «дюже высокий», а волосы у него цвета соломы. Полицейские уехали, так и не поняв, что же на самом деле произошло минувшей ночью в селе Выпь.* * *
Когда начальник госпиталя полковник Вернер узнал, что врач Солдатенков, дежуривший ночью, принял пострадавшего во время пожара русского, он посинел от ярости. Какое-то время он не мог вымолвить ни слова, потом разразился бранью. Действительно, случай был беспрецедентный. — Что, что вы говорить? — орал он на Солдатенкова. — Какой русский, при чем русский? Как вы смели без мой приказаний! — Но он весь обгорел, господин полковник… Ему нужна медицинская помощь, — осмелился возразить врач. — Что? Помощь? Какой помощь русскому? Вы с ума сошель! Здесь госпиталь для немецкий зольдат унд официр! — Но, господин полковник, этот человек старался для немецкого служащего, стало быть, для Германии, — оправдывался Солдатенков. — Он помог тушить пожар старосте. Говорят, вытащил из огня его супругу. — Э… бросьте! — Вернер сморщился. — Я не хочу слушать! Уберите этот человек. Скоро! Даю вам пять минут. — Слушаюсь, господин полковник. — Выполняйте приказаний! И Солдатенков послушно вызвал машину, а когда она остановилась у подъезда, двое санитаров из русских военнопленных вошли в приемный покой. Санитары вынесли из палаты на носилках человека с забинтованным лицом и руками. Носилки втолкнули в кузов санитарного фургона. Солдатенков был спокоен: он выполнил приказ, от него больше ничего не требовалось. Шофер из русских военнопленных не понимал, зачем человека, которого только утром доставили в госпиталь, повезут в какое-то другое место. Но это его не касалось, он привык повиноваться без возражений. Его дело молчать. Щелкнула дверца кабины, и рядом с шофером оказался Солдатенков — доктор из госпиталя. — Поехали! — приказал он. Шофер включил зажигание, нажал на стартер. Но мотор не заводился. Врач метнул в сторону шофера рассерженный взгляд. — Быстрей! — приказал он. — Быстрей! Больного везем. Шофер заметил: Солдатенков начал волноваться: часто затягивается сигаретой и пальцы его дрожат. «Почему он нервничает? Куда так спешит?» — думал шофер. Он утопил головку стартера до отказа. Мотор фыркнул, кабина вздрогнула, и санитарная машина выехала за ворота госпиталя. И вдруг шофер услышал удивившие его слова. Солдатенков сквозь зубы ругался и сетовал: — Изверги эти немцы! — шептал он. — Не приняли раненого в госпиталь. Куда теперь его везти? Обратно в эту чертову Выпь велено. А там и больницы-то нет. Хоть в сугроб выбрасывать, а он совсем плох, еле дышит. Кто его там примет! Шофер побоялся что-нибудь сказать, но в душе был совершенно согласен с доктором. Еще в лагере военнопленных он узнал, как фашисты обращаются с советскими людьми.* * *
Столяров и Колос ждали санитарную машину на лесной дороге, ведущей к селу Выпь. Ночь давно сменилась утром, а известий из города не поступало. В напряженной тишине было слышно, как в овраге фыркают и звенят уздечками промерзшие лошади. Геннадий, чтобы согреться, прыгал на одной ноге, бил рукавицей об рукавицу и то и дело осведомлялся у Алексея насчет времени. Наконец откуда-то донеслось гудение мотора. — Они! — сказал вслух Колос, хватая Алексея за рукав. — Надо выводить лошадей. — Подожди, — остановил его Столяров. — Если свернут сюда, тогда действительно они. А может, кто другой едет? Еще с минуту они постояли, стараясь не шуметь. Скоро появилась машина. Она медленно передвигалась по заснеженной дороге, а когда подошла поближе, разведчики увидели на ней красный крест. — Лошадей! — крикнул Столяров. Геннадий сорвался с места и бросился прямо по снежной целине в овраг. Алексей вышел из-за деревьев и направился навстречу машине. Он бежал, увязая в снегу, и ветки кустарника царапали ему лицо. Уже на опушке Алексей остановился, тяжело дыша. «Стоп! Спокойней!» — приказал он себе и на всякий случай снял автомат с шеи, непослушными пальцами спустил предохранитель. Машина остановилась метрах в пятидесяти от леса. Хлопнула дверца — из кабины вышел невысокий человек в шапке-ушанке. «Наверное, Солдатенков!» — подумал Алексей. Он не знал врача в лицо. Шерстнев описал Алексею только его приметы. Да передал пароль. Не спуская замерзшего пальца со спускового крючка, Алексей зашагал навстречу фигуре в белом халате, накинутом поверх пальто. Ступал осторожно, зорко следя за каждым движением незнакомца. «Все может быть, — думал Алексей, — и провокация тоже». Но в руках у человека не было оружия. Да и выглядел он отнюдь не воинственно. Грузная фигура, круглое, добродушное лицо, толстые губы, небольшие немигающие глаза. — Больной прибыл? — спросил Алексей. — Прибыл, — ответил незнакомец в белом халате. — Температура высокая. Это была условная фраза. Услышав ее, Алексей опустил автомат. Они немного отошли от машины. — А шофер? Как быть с шофером? — спросил Алексей. — Боится партизан. Как вас увидели, я сказал, чтобы он тихо сидел, а я пойду, сам улажу дело… Но не спускайте с него глаз, а то как бы не угнал машину. Алексей направил автомат на машину, где виднелось позеленевшее от страха лицо шофера. Тот, видно, читал мысленно себе отходную. — Ну а что с Готвальдом? — вырвался у Столярова нетерпеливый вопрос. Солдатенков вполголоса рассказал, что все идет по плану. За день до пожара в селе Выпь он положил курсанта, как безнадежного, в изолятор. Туда же принесли по его приказу и привезенного с пожара Готвальда. А когда полковник Вернер приказал убрать русского, он выполнил его указание. Убрал. Но только не Готвальда, а курсанта. И вот теперь этот человек лежит в санитарной машине. — Завтра Готвальда переведем обратно в палату. Скажу, что стало лучше. — Осматривали его лицо? — Да. — Похоже на ожоги? — Вполне. Я бы сказал — мастерская имитация. Кто это делал? — Адам Григорьевич. Кстати, он передавал вам привет. Лицо Солдатенкова озарилось улыбкой, но он сразу помрачнел. — Да бедняга и сам подпекся изрядно на пожаре. Не жалел себя. Руками схватился за что-то горячее — кожа сошла. От волос и бровей ничего не осталось. Какие-то теплые слова рвались у Алексея из души. Валентин, такой молодой, красивый, лежит теперь в госпитале, среди врагов, да еще мучится от ожогов… А ведь говорили — не лезь! Достаточно и того, что сделал с твоим лицом Адам Григорьевич. Нет, не послушался. Какой героизм! А Солдатенков? Он уже не молод. Как пошел он на это трудное задание? Вот сейчас они идут, разговаривают, а на них смотрит шофер санитарной машины. Кто он — друг или враг? Ведь Солдатенкову надо вернуться в город, иначе немцы всполошатся. В госпитале начнется повальный обыск, и тогда —пропало. Надо сказать врачу что-то теплое, ободряющее. Но Столяров не успел. Послышался скрип полозьев и звяканье уздечек. Это подъезжал на санях Колос с другими партизанами.* * *
Странное чувство испытывал Алексей, когда он в партизанском лагере допрашивал выкраденного курсанта. Адам Григорьевич так хорошо организовал лечение обожженного курсанта, что тот через два дня пришел в себя, а еще через несколько дней мог сидеть и говорить. Алексей знал по опыту, как важно во время допроса следить за выражением лица пленного. Это помогает понять ход мыслей, иногда убеждает в искренности показаний, иногда выявляет их ложность. Нет, не только глаза — зеркало души. Зеркало — все лицо. А теперь перед Столяровым сидел человек как бы без лица, вернее, с лицом мертвым, безжизненным, скрытым бинтами. И оттого Алексея не покидало ощущение, что он беседует с маской. И Алексей и Колос прекрасно понимали, что жизнь Готвальда да и судьба всей операции зависят теперь от этого пленного. Пока Валентин не будет знать все или почти все о своем оригинале и его знакомых, друзьях, начальстве, он беспомощен. Его могут разоблачить в любую минуту. Успех допроса — успех всего задуманного дела. Курсант охотно назвал свое имя и фамилию — Зотов Сергей Иванович. Но когда Алексей попросил его назвать место, откуда его привезли в госпиталь, тот опустил голову и промолчал. — Хорошо, — сказал Алексей, — тогда я подскажу вам: Блестковская школа абвера. Зотов снова промолчал. Колос и Столяров переглянулись. А что, если Шерстнев что-нибудь напутал? Или вдруг пленный откажется давать показания? На минуту Алексей ощутил под ложечкой неприятный холодок. Нет, надо заставить пленного говорить. Алексей встал и подошел к курсанту, положил ему на плечо руку. — Послушайте, Зотов, — начал он как можно спокойнее. — Послушайте и вникните в то, что я вам скажу. Нам известно: вы из школы немецкой разведки. Вы, русский, стали предателем Родины, пособником гестаповцев. Совершили тяжкое преступление перед своими людьми. Вы знаете, что вас ждет? Забинтованные руки пленного беспокойно зашевелились на коленях. — Знаю, — хрипло ответил он. — Ну вот, — продолжал Алексей. — Я буду с вами откровенен. Вы нам нужны. И мы сохраним вам жизнь, если вы все, честно, без утайки, расскажете о себе, школе, ее руководстве, слушателях… Подумайте как следует. Мы вам гарантируем жизнь. Алексей сел рядом с Колосом за стол и не отрываясь смотрел на Зотова. Тот согнулся на своей койке и молчал. — Ну? — спросил Столяров после паузы. — Что вы решили? Зотов ответил, с трудом подбирая слова: — Я рассказал бы вам все. Но есть одно «но», о котором я не могу говорить и которое, видать, унесу с собой в могилу. Что меня ждет — знаю и к этому приготовился… Пожалуй, даже не смысл слов курсанта, а его твердый голос и решительность заставили Алексея поверить, что этот человек не рисуется, не бравирует и такого, пожалуй, не испугаешь. Алексей пристально всматривался в щели между бинтами, где холодно блестели серые глаза. Нет, не таким представлял себе Алексей будущего пленника — презренного подонка, служившего врагам. Разведчик ожидал, что курсант сразу же «расколется», будет ползать на коленях, молить о пощаде. А этот ни о чем не просит и о смерти говорит как о деле простом и решенном. Поведение Зотова было так неожиданно, что какую-то секунду Столяров растерянно молчал, не зная, как продолжать допрос. И вот уже несколько часов продолжалась эта игра в кошки-мышки. Алексей уговаривал пленного, Зотов упорно молчал. — Эх, да что с ним церемониться… — взорвался Колос. — Поставить его к сосне — заговорит как миленький! — Геннадий вскочил, лицо его побагровело. На висках вздулись вены. Он сжал кулаки. — Подожди! — Алексей дернул Геннадия за рукав, усадил на место и продолжал спокойно спрашивать: — Что вам мешает говорить? Ведь вы у русских. Вы видите, ваши сведения нам необходимы. Вы у своих, поймите это! — В том-то и дело, что у «своих», — ответил курсант, и Алексею показалось, что слово «своих» он произнес с ударением. — Загадки загадывает… — зло процедил Геннадий. — Другие воюют, матерей, отцов защищают, а он, видите ли, загадки загадывает. Эх ты, а еще русский называется… И какая тебя мать родила? Алексей кинул на Колоса укоризненный взгляд, и тот замолчал. Кивнув на прощание Зотову, Алексей и Колос ушли из лазарета. Теперь пленным снова занялся Лещевский, который напоил его каким-то подбадривающим лекарством, потому что Зотов заметно ослабел за время допроса. — Подожди, Геннадий, — говорил Столяров своему товарищу. — Попробуем спокойно разобраться во всем. — Да чего тут разбираться! Холуй немецкий… — Нет, ты не прав, — возразил Алексей. — Тут все не так просто, как тебе кажется. Почему он отказывается говорить — как ты думаешь? Геннадий мотнул головой. — И думать не хочу! — А все-таки. Ведь он понимает: дать показания — значит спасти себе жизнь. Ему жить хочется? Хочется, как и каждому из нас. Поэтому-то он и молчит. — Я что-то не пойму, — хмуро пробормотал Колос. — Не поймешь? — переспросил Алексей, хитро щуря, глаза. — Сейчас объясню. Ты заметил, что слово «своих» он произнес подчеркнуто, с каким-то скрытым значением? — Ну и что? — А вот что. Он не уверен, что мы свои… — То есть? — Он считает, что мы гестаповцы. А весь этот допрос — очередная проверка лояльности. Геннадий свистнул. — Вот оно что… — Да. Он же сам намекнул нам: «Есть одно «но». Вспомни-ка… Одно «но». — А ведь ты, пожалуй, прав! — воскликнул Геннадий. — Ты вспомни показания Венцеля. Он сам рассказывал о гестаповских проверках. Бывало даже, что сбрасывали на парашютах в советский тыл, а переодетые в нашу форму гестаповцы ловили диверсантов и устраивали им допрос. А ведь Венцель знает порядки в этих школах. В Блестковской сам преподавал. — Да, да, теперь понимаю, — оживленно заговорил Колос. — Зотова выкрадывают из госпиталя, везут сначала в санитарной машине, затем в санях. Куда? Зачем? И он решил, что это забавляются его учителя. — Ну что же, теперь остается проверить, прав я или нет, — сказал Столяров. — Он передохнул, пойдем снова к этому парню. Времени терять нельзя. — Где и когда вы кончили среднюю школу? — спросил Алексей пленного. — В Москве. Окончил сто тридцать первую школу в тридцать третьем году. — Отметки в аттестате помните? — Д-да, — удивился курсант столь неожиданному вопросу. — А зачем вам мои отметки? — А вот увидите, — загадочно улыбаясь, ответил Алексей. Разведчики снова вышли, оставив Зотова несколько сбитым с толку. Три дня к нему никто не приходил. И вот наконец перед ним снова предстал Алексей с листком бумаги в руках. — Это ваши отметки, Зотов, — сказал Алексей. — Называйте их мне, посмотрим… Зотов не мог, конечно, знать, что сведения из его аттестата об окончании средней школы получены по рации из Москвы. Неуверенно курсант стал называть свои оценки. Все совпадало. Тогда Алексей протянул Зотову листок бумаги со столбиками цифр. Несколько минут парень молчал. — Ваши? — спросил Алексей. — Да, да. Мои, — растерянно бормотал Зотов. — Но откуда вы их знаете? — Из Москвы. У нас связь хорошо налажена. И вдруг Зотов согнулся, словно под грузом невидимой тяжести, и закрыл лицо руками. Плечи его вздрогнули. Из горла вырвались какие-то хриплые, сдавленные звуки… Потом он выпрямился и срывающимся голосом, торопливо, словно боясь, что его перебьют, заговорил. Да, теперь он видит, что попал действительно к своим. И они не знают, какое это для него счастье… Ведь об этой минуте он мечтал целый год. Строил планы побега, надеялся перейти линию фронта, и вдруг… Этого не может быть! Это как сон… Свои! А он-то думал, что гитлеровцы устроили ему очередную проверку, переоделись в партизан… Неужели он действительно у своих? Алексей и Колос слушали курсанта, не перебивая. Они понимали: Зотову необходимо дать выговориться. За короткий срок этот человек испытал два сильнейших потрясения: угрозу расстрела и радость неожиданного избавления. И вот теперь нервы его сдали… Только через полчаса его сбивчивый рассказ удалось направить в нужное русло. Для этого, правда, пришлось прибегнуть к помощи Лещевского, который отсчитал в кружку нужное число капель валерьянки. А потом в ход пошла и заветная фляга Колоса, из которой Зотов сделал изрядный глоток. Да, он действительно Сергей Васильевич Зотов, лейтенант, летчик-истребитель. В августе сорок первого его самолет сбили под Севастополем. Сам он выбросился с парашютом. Парашют раскрылся, но его отнесло ветром на территорию, занятую противником. Зотова обстреляли, когда он приземлялся; одна пуля попала в плечо, другая в ногу. Сознание он потерял и очнулся уже у немцев. Его долго допрашивали, били и, наверное, расстреляли бы. Но каким-то образом абверовцам удалось узнать, что перед ними сын крупного советского морского офицера. Побои прекратились. Зотова поместили в немецкий госпиталь, окружили врачами, а когда он выздоровел, предложили ему стать курсантом абверовской разведывательной школы. Зотов наотрез отказался. Тогда абверовец, ухмыляясь, веером рассыпал перед Зотовым небольшие снимки. Взглянув на них, лейтенант похолодел: на фотографии он увидел себя с немецким автоматом в руках (сзади толпились эсэсовцы), направленным на советских военнопленных. Фотография была смонтирована, но как это докажешь? — Подумайте, Зотов, — донеслись до него слова капитана, с акцентом говорившего по-русски. — Если вы не согласитесь, мы сумеем переслать эту фотографию вашему отцу. А копию поместим в листовках, которые сумеем также переправить через линию фронта. Уставившись в чисто выбритый подбородок абверовца и вслушиваясь в его ровный, бесстрастный голос, Зотов не знал, на что ему решиться. Немецкий капитан не торопил Зотова с ответом: по выражению лица пленного он догадывался, что летчик колеблется. — Соглашайтесь, и никто ничего не узнает, — тихо и монотонно продолжал гестаповец. — А когда кончится война, все забудется… Столяров и Колос сначала получили у Зотова сведения, необходимые в первую очередь для Готвальда: расположение различных служб в школе, клички курсантов, фамилии преподавателей. Зотов теперь рассказывал все — подробно и охотно. Результат показаний переслали через Шерстнева Солдатенкову. Столяров также просил Тимофея передать врачу, чтобы тот под любым предлогом задержал Валентина в больнице как можно дольше. Солдатенков тогда благополучно вернулся из Выпи. Шофер, напуганный до полусмерти угрозами партизан достать его из-под земли, если он проболтается, молчал. Время от времени врач при встречах с шофером ловил на себе его взгляд — то ли настороженный, то ли восхищенный. Солдатенкову некогда было разбираться в настроении своего спутника по поездке в Выпь, но что-то подсказывало доктору: шофер не предаст. У Столярова тем временем появилась надежда, что удастся взорвать школу прежде, чем Готвальда выпишут из госпиталя. Надежда эта появилась неожиданно. Как-то Алексей спросил Зотова: — Скажите, есть ли в школе человек, на которого можно было бы положиться? Курсант долго молчал. Потом наконец проговорил: — По-моему, есть. Беглов. Евгений Беглов. — Кто он? Курсант? — Нет. Оружейный мастер. — Вы хорошо его знаете? — Да, мы знакомы довольно близко. Мы тут в городе ухаживали с ним за двумя родными сестрами. Когда я получал увольнительную, мы с ним встречались в доме этих сестер. Да и в школе тоже. Мы с Бегловым дружили. Если, конечно, можно с кем-нибудь дружить в таком гнусном месте. — Почему вы думаете, что Беглов — человек надежный? — спросил Алексей. — Это трудно подтвердить фактами. Мне всегда казалось, что он ненавидит немцев, хотя, разумеется, откровенно мы с ним на эту тему не говорили. — А почему вам это казалось? — Не знаю. А впрочем, подождите… Как-то совсем незадолго до этого случая со мной, мы с ним вечером стояли на берегу озера. Смотрим, прямо над школой появились самолеты. Наши! Мы их узнали еще по гулу. Посыпались бомбы. И все мимо, мимо, мимо. Так ни одна в школу к не попала. Все в озеро. Мой приятель даже выругался от злости. А потом говорит: «Эх, хоть бы нашелся человек, который навел бы эти самолеты на цель». — Гм… — Столяров задумался. — Вы знаете, что случится, если вы наведете нас на провокатора? — Догадываюсь, — твердо ответил Зотов. — Беглов — не провокатор, в этом я уверен. Не знаю только, согласится ли он с вами сотрудничать. Думаю, что это зависит только от вас. — Где можно встретиться с вашим приятелем? — В городе, у наших подружек. Сенная, тридцать девять. Спросить Галю или Клаву. Он бывает у них часто, он не курсант, за ним не так строго следят. Когда вышли из лазарета, Алексей сказал Колосу: — Нужно срочно встретиться с Шерстневым. Поручаю это тебе. Пойдете вместе с Тимофеем к этим сестричкам, а еще лучше, если Тимофей один сходит. Передашь ему адрес.* * *
Субботним вечером Шерстнев постучал в дом номер тридцать девять на Сенной улице. Перед этим он внимательно осмотрел одноэтажное деревянное зданьице. Сквозь щели плотно закрытых ставен пробивался слабый свет. — Кто там? — спросил за дверью женский голос. — Полиция! Тимофей, потопав на крылечке, сбил снег с валенок и вошел следом за девушкой лет двадцати пяти в просторную комнату с низким потолком. За столом сидели еще одна девушка и парень в куртке немецкого солдата, но без знаков различия. Густой чуб спадал на лоб. В руках у парня была гитара. — Прошу документы, — строго сказал Шерстнев. Первым протянул свое удостоверение парень. — Так, Евгений Сергеевич Беглов, тысяча девятьсот двадцать первого года рождения, — пробормотал Шерстнев, листая паспорт. — Прописан в поселке Струево. А здесь, в городе, как оказались? — Да вот к знакомым в гости пришел, — насмешливо сощурившись, ответил Беглов. Он не боялся полицейских обходов: сотрудников Блестковской школы не смели трогать местные власти. Не возвращая удостоверение парню, Шерстнев так же тщательно проверил документы у девушек и затем сказал Беглову: — А вам придется пройти со мной. — Это почему же? — удивился парень, — Документы у меня в порядке. — Это мы проверим, — с угрозой в голосе пообещал Тимофей. — Пойдемте. Девушки тревожно переглянулись. — Господин полицейский, что же вы от нас кавалера единственного уводите? — кокетливо начала было одна из них, но, увидев неприступное выражение на лице Шерстнева, осеклась. — Может, сами бы посидели у нас, чайку попили, — залепетала другая, но тоже смолкла. Беглов протестовал бурно. Он совал Тимофею какие-то бумажки, пропуска. Но Шерстнев стоял на своем. В конце концов, ворча и огрызаясь, оружейный мастер накинул немецкую шинель без погон и вышел вместе с Тимофеем на крыльцо. Ночь была тихая и лунная. Шерстнев и Беглов шли по теневой стороне улицы, увязая в глубоких сугробах. Сильно подмораживало. Снег под ногами скрипел. — За каким чертом я вам понадобился? — снова взорвался Беглов. — Вы же прекрасно знаете, что под меня не подкопаешься. Я работаю в немецкой организации, да еще в какой! Вы же прочитали удостоверение. Наша школа полиции не подчиняется. Что вы ко мне привязались?! — Идите за мной, там узнаете. Нечего болтать, — приказал Шерстнев и свернул в пустынный двор большого дома. Беглов удивился, но, поколебавшись, последовал за Тимофеем. Здесь, во дворе, было темнее, чем на улице. Высокие кирпичные стены стискивали его с трех сторон. Вдруг из тени вышел коренастый человек и направился к Беглову и Шерстневу. Беглов отшатнулся и хотел было бежать, но Тимофей схватил его за рукав шинели. Подойдя вплотную, неизвестный сказал почти неслышно: — Давайте знакомиться. Меня зовут Геннадий. Я к вам от партизанского командования…16. Учитывая исключительное мужество…
«Утром 2 марта 1943 года Блестковская гестаповская школа взорвана. По имеющимся у нас сведениям, в момент взрыва там находился почти весь офицерско-преподавательский состав. Взрывом был убит заместитель начальника школы, штурмбанфюрер Отто Кравец серьезно ранен. Полностью уничтожено административное здание вместе с радиостанцией, пострадали два жилых корпуса и гараж. С нашей стороны потерь не имеется. Успех операции в значительной степени обеспечил заместитель командира нашей группы младший лейтенант Валентин Францевич Готвальд. Проникнув в школу под видом возвратившегося по излечении из госпиталя курсанта школы Зотова, Готвальд не только не вызвал подозрения со стороны противника, но и сумел установить связь с патриотически настроенной группой курсантов и оружейным мастером школы, военнопленным, бывшим старшиной Евгением Бегловым. Совместно с последним, Готвальд в ночь с первого на второе марта положил в канцелярский шкаф несколько килограммов взрывчатки и три противотанковые мины, соединив шпагатом взрыватель с дверцей шкафа. Валентину Готвальду с группой патриотически настроенных курсантов удалось благополучно перебраться в партизанский отряд имени Чапаева. Учитывая исключительное мужество, проявленное заместителем командира группы «Коршун» во время этой операции, считаю целесообразным ходатайствовать перед командованием о награждении младшего лейтенанта Валентина Францевича Готвальда правительственной наградой.Командир группы «Коршун»
Николай Псурцев Голодные прираки
Пессимизм людей энергии: «Зачем?», являющееся после страшной борьбы, даже победы. Есть нечто, в тысячу раз более важное, чем вопрос о том, хорошо ли нам или плохо – таков основной инстинкт всех сильных натур – а отсюда и отношение к вопросу о том, хорошо или плохо другим. Одним словом, возможна некая цель, ради которой без колебания приносят человеческие жертвы, идут на все опасности, берут на себя все дурное, даже худшее: великая страсть.Фридрих Ницше
МИР
Когда я вернулся в себя, то тотчас явилась и земля под ногами, хотя, может быть, все происходило и наоборот, но самое важное, что земля явилась, до или после – это уже не имело никакого значения; я почувствовал ее сначала подошвами, потом хлопчатобумажными носками, потом кожей ступней – своих ступней, чему, не удивляясь, обрадовался на некоторое время, забыл уже, на какое, через некоторое время, – потом почувствовал землю мышцами ступней, потом кроветоками, потом самой кровью, потом косточками и костями, потом коленями, потом ягодицами, потом членом, ухмыльнулся, вспомнив что-то приятное о нем, не помню что, и через долю секунды нахмурился, вспомнив что-то невероятное о нем, не помню что, так бывает, что-то помнишь, а что-то, мать его, не вспоминаешь, сначала я этого пугался, а теперь привык, теперь этот испуг меня забавляет, и я иногда вызываю его сам, когда хочется позабавиться, – когда получается, когда не получается, когда получается, я доволен, а когда не получается, я тоже доволен, я понимаю, что это трудно понять, и я сам этого чаще всего не понимаю, но это так; а затем я ощутил землю ягодицами, холодными и сухими, а затем слегка подпотевшей под брючным ремнем поясницей, а потом и самим ремнем, импортным, не новым, уже потертым, но боевым, побывавшим в переделках, он со мной еще с тех пор, когда я убивал, теперь я не убиваю, но он все равно со мной, он меня знает и любит, люблю ли я его – не знаю; а после кишки в брюшине землю почуяли, а после печень и селезенка, а после желудок и двенадцатиперстная, ребра и пищевод, бронхи и легкие; я услышал, как они зазвенели, когда уловили ее присутствие в непосредственной близости, внизу, там, где она и должна быть, но не всегда бывает; а после позвоночник загудел от восторга, что опять на землю опирается, и сердце, которому не хочется, как я знаю с рождения, покоя, все же успокоилось, вновь привычно притянутое притяжением, и заработало ритмичней, четче, легче и равнодушней, тук-тук, пук-пук, тук-тук, пук-пук… расправились плечи, расслабилась шея, зашевелились губы, язык потеплел, нос оттаял, лоб зачесался, в ушах что-то расплавилось, и из ушей что-то потекло, черт его знает что, и мозгу наконец стало ясно, что он мозг, и тогда я открыл глаза. Вокруг было утро, светило едва светило, погода лежала. Старательно стараясь ни о чем не думать, я думал о былом, и думы мои были нескончаемы, как простуженный дождь в декабре под Ливерпулем. Хреновое начало, подумал я, и перечеркнул все немысленно написанное к чертям собачьим, хотя перечеркивать было, собственно, нечего, потому что я тотчас забыл, какую фразу сочинил, когда открыл ранее закрытые глаза и увидел все, что есть вокруг и чего вокруг нет. А увидел я вот что: утро, светило, которое едва светило, и непроснувшуюся еще погоду, а также – степь да степь кругом, вокруг и сзади, и по бокам, несвежую траву, черную грязь, стылые гладкие лужи, голые прутики голых кустов, а также бульканье чего-то за неровными бугорками, запах нечеловечьего помета, теплое прикосновение одиноко пролетающей души, а также суровые нитки, накрепко связывающие меня с этим и, конечно же, тем светом, и еще много всякого другого, чего ни пером написать ни в сказке рассказать, так мне кажется, не спорю, что я могу и ошибаться, я знаю это, потому что действительно иногда ошибался и понимал это и понимаю и сейчас, и самая моя большая ошибка заключалась и заключается до сих пор в том, что я думал и думаю сейчас (потому я пока еще и не стал тем, кем должен стать), что настоящая жизнь, самая что ни на есть супержизнь, происходит вне меня, вокруг, там, слева, справа, снизу, сверху, в ресторане, на войне, в беседах с сотоварищами, в пьяных глупостях, в марихуанных дурачествах, в кафе на Елисейских полях, в мадридском «Жокее», на вручении «Оскара», в любви с красивыми женщинами и в играх с кудрявыми детьми, в крутой и грубоватой, но истинной и искренней мужской дружбе, в полетах на планере, в остроумных ответах на остроумные вопросы, в мягком и ароматном автомобиле, и прочая, и прочая, и прочая… Вне меня, там… Все не так, конечно! Я знаю, что когда-нибудь я осознаю, что все не так. Когда-нибудь, потом, не сейчас. Но я знаю! (Я вздохнул – в первый раз с тех далеких пор, как я открыл глаза.) Конечно, это была неправда, но мне так показалось, и я посчитал решить, что так оно и было на самом деле, в конце концов ведь это я в отношении себя решаю считать, а не в отношении кого-то другого, чьи интересы я мог бы затронуть таким решением и кто мог бы обидеться на эту неправду и подумать, что это действительно неправда, и оскорбиться оттого, а оскорбившись, разозлиться, а разозлившись, не сдержать и сделать что-нибудь непредвиденное и неконтролируемое, и повернуть таким образом русло своей жизни совершенно в иную сторону, чем оно было направлено до этого, что для одного человека было бы прекрасно, куда бы это русло ни вело – к любви или к гибели, а для другого чрезвычайно скверно, даже если бы оно вело к здоровью и богатству; и именно поэтому я никогда не брался и не берусь решать что-либо в отношении кого-то, лучше этого кого-то убить, чем что-то решать за него, проще и быстрее и гуманней, нет, правда, поверьте, я убивал, я знаю, проще и гуманней. И быстрей. Попробуйте, когда припрет. Итак, я вздохнул в первый раз с тех далеких пор, как я открыл глаза, и включился, без щелчка, неслышно – увидел цвет, и это самое важное, – когда я начинаю видеть цвет, я знаю, что я опять в порядке, более или менее, конечно, в полном порядке я не бываю никогда. Обидно… Включился и опять потерял лицо, потерял ощущение лица, ощущение, что оно у меня есть, я знал и знаю, что оно у меня есть, но я опять его не ощущаю, не вижу внешним зрением. Каждый раз, когда я просыпаюсь или включаюсь вот так, как сейчас, надеюсь, что увижу свое лицо, хоть на мгновение, на долю, каждый раз, это у меня давно, с войны еще, с того времени, когда я убивал. В общем-то я уже привык за эти пять лет, что я без лица, не пугаюсь этого уже так остро и панически, как раньше, но все равно это мешает мне, мешает, мешает, мешает… От земли поднимался пар, или это цвел туман над травой, над лужами, над мокрыми кустами, шевелился внутри себя как сигаретный дым, или это болтался неприкаянно, объединившись в облако, многосотенный автомобильный выхлоп, залетевший сюда с ближайшей дороги, – я это, собственно, к тому, что ни черта не видел дальше метров тридцати – сорока, а значит, и не мог сообразить, куда мне двигаться, куда идти, чтобы куда-то идти, а пойти куда-то надо было бы, не оставаться же здесь до смертного часа, хотя, собственно, какое имеет значение, где быть и что делать и где оставаться до смертного часа, если вдуматься, конечно, крепко и сосредоточенно, и если вдуматься, то и выходит, что действительно не имеет никакого значения, где быть, что делать и где оставаться до смертного часа, потому как кроме памяти твоей, ничего от тебя не останется в смертный час, а память – я это недавно понял – штука паршивая, все время к размышлениям-сожалениям тебя толкает и бесцеремонно еще так, настырно и грубо, и поэтому (я тоже это недавно понял) от нее освобождаться надо, как можно скорей и как можно активней и агрессивней. Значит, если все-таки, чтобы облегчить свое существование, ты от нее освободишься, то что от тебя останется в смертный час? – конвульсирующее, не живое уже почти тело? (Я скажу и более того – даже если ты и не освободишься от памяти, даже если и не освободишься, все равно не имеет никакого значения, где ты будешь находиться в смертный час.) Вот так, мой дорогой и любимый и свято почитаемый Нехов. Ну, а раз все равно, то я сейчас сделаю шаг и куда-нибудь пойду, все равно куда, если все равно, где быть. Я засмеялся, но не пошел. О том, как я здесь оказался, на этой незнакомой мне земле, и где она лежит, эта земля, я пока старался не думать, потому что знал, что если начну вспоминать, обязательно ничего не вспомню, ну, просто обязательно, а если не буду какое-то время, иногда короткое, а иногда долгое, об этом думать, то есть вероятность, что вспомню, если вспомню. Ну, а сейчас все же надо было идти, и лучше всего туда, куда удобней, то есть в ту сторону, в которую двигаться мне было бы легче всего, и, если еще точнее, то в том направлении, где путь будет напряженным, сложным, захватывающим и одновременно приятным, спокойным и не утомительным. Надо только найти его – путь и не сбиться с него – с пути. И я начал искать. Поворачивался туда-сюда, прислушивался, приглядывался, принюхивался, приседал к земле, поднимался вновь, сгибался и разгибался, кричал и прикидывал, с какой стороны громче эхо, тотчас забывал, с какой же стороны оно действительно громче, с помощью слюнявого пальца определял направление ветра, подпрыгивал, чтобы выяснить, в какую часть света меня тянет в полете, ложился на землю и представлял, что я магнитная стрелка компаса, не без любопытства ожидая, в какую же сторону меня крутанет, и, не дожидаясь, вскакивал опять и глубоко вздыхал, пробуя, где воздух не чище… А потом меня стошнило. И я понял, что идти надо именно в том направлении, в каком Меня стошнило. И я пошел. Закрыв глаза и, соответственно, не глядя под ноги. Я же и сюда прибыл, тоже закрыв глаза и не глядя под ноги, думал я, размышлял я, понимал я, знал я. И жив пока, и невредим, и без царапин даже, и без синяков, и красняков и желтяков, и просто без боли – ни там ни здесь, ни в другом месте, где бы она могла быть, а значит, а это означает, и, само собой, даже напрашивается вывод, в заключение всех моих раздумий-размышлений, понимания и, в конечном счете, в конце концов, не скажем так, знаний, что я точно таким же способом могу отсюда и уйти – закрыв глаза и не глядя под ноги, и, самое главное, больше не думая ни о чем, после того, как подумал, поразмышлял, понял и осознал на хрен, не думая; да, да, не думать надо, ни о чем не думать, пока шагаешь, пока находишься в процессе движения, пока делаешь дело – перебираешься из одного места в другое, из одного обычного места в другое обычное место или, можно сказать иначе из одного необыкновенного места в другое необыкновенное место, хотя суть от этого не меняется – все места, все, все у нас на свете обыкновенные и все необыкновенные, это банально, но мало кто это осознает, даже меньше малого тех, кто это осознает, и я лично уверен, что еще меньше… Пока перебираешься из одного места в другое – не думать ни о чем, только знать, что перебираешься, знать, и больше ничего, и не думать ни о чем, не думать и тогда, может быть, и выйдешь оттуда, куда пришел, живым и невредимым, и без царапины даже, и без синяков, и без красняков, и без желтяков, и просто без боли ни там ни здесь и ни в каком другом месте, где она могла бы быть. Я так и делал – мне удалось, я шел и не думал о том, что шел. И ни о чем другом, и третьем, и четвертом, и пятом… Не думал. Сзади, за спиной, в тумане, в степи, что-то прозвенело – несложно и коротко, и еще раз потом и еще раз – трамвай; значит, я пошел не в ту сторону, мог бы подумать я, значит, я ошибся, мог бы подумать я, значит, то, к чему я иду, у меня там, за спиной, мог бы подумать я, но я так не подумал, я вообще ни о чем не думал, я просто шел. Просто. Ступня ложилась туда, куда ей и надо было ложиться, именно туда и ни в какое другое место, ни в яму, ни в лужу, ни на кочку, ни на валун, ни на куст, а именно туда, где ей, а соответственно, и мне, было удобно, и именно тогда, когда ей, а соответственно, и мне, было удобно, и быстро ложилась – вот что важно, не медля лишней секунды. А все потому, наверное, что я просто шел, что я просто делал то дело, которое делал, и не более, наверное… Впереди встал гул – сначала, а потом я ощутил, как задрожала земля под подошвами – легко и не страшно и даже приятно, щекочуще, как если бы пятки кто дразнил павлиньим пером, а затем я почувствовал, как изменился воздух, он стал суше, гуще, теплее, и злее, и отстраненней, и я подумал… И спохватился, и подумал о том, что нельзя сейчас думать, и ступил ногой в тот же миг не туда, куда надо, и совсем не в то время, в которое следовало бы, и упал, пал, вперед, вниз, туда, где не было земли, где был гул, который твердо уже стоял и надолго; но земля скоро появилась все же, совсем скоро, через полтора-два, а может, и через пять сантиметров, трудно было сообразить, когда, но сначала ее не было – это точно, а потом она появилась, а когда, хрен ее знает, и я покатился вниз, кувыркаясь и матерясь, плюясь и сдерживая мочу, чтобы не намочить штаны и не выглядеть в своих глазах полным идиотом, хотя именно так в своих глазах я сейчас и выглядел, но это сейчас, а потом, через секунду, допустим, я бы не захотел так выглядеть. Да, Во как непросто. Я такой, мать мою! Когда я все же остановился, была осень, и, как я потом узнал, ранняя, уже не тепло было, но еще и не холодно, солнце светило уже без прежней любви, вернее, без прежнего желания трахнуть тебя, кончить на тебя своей красящейся коричневой спермой – солнце. А туман остался позади, он выблевал меня, как собака глиста, и икнул на прощанье – я слышал, я слышал. Я валялся на обочине шоссе и совершенно не страдал от этого, потому что валяться мне всегда доставляло удовольствие, а где заниматься валянием, мне сейчас было совершенно все равно, – у себя ли в постели, у кого-либо в постели, с кем-либо в постели и где-либо в постели, или на диване, на тахте, на раскладушке, на кушетке, на сундуке, или оттоманке, или на обочине шоссе – все равно, все равно. И я валялся и совершенно не страдал от этого. Грязный, и совершенно не страдал от этого. Небритый, и совершенно не страдал от этого. Ни черта не помнящий, и совершенно не страдал от этого. А почему я лежу, потом подумал я, когда догадался, что ни от чего не страдаю? – оттого, что не в силах подняться, и я стал подниматься, и поднялся, а почему я стою? – подумал я, оттого, что не могу идти, и я попытался идти, и пошел… Только не в ту сторону, и не в другую, Хотя, собственно, какая разница, в какую сторону идти, куда бы ни шел, все равно придешь в одно и то же место. И тем не менее я пошел поперек шоссе, закрыв глаза и, разумеется, не глядя перед собой, но не перестав думать. Меня ударило в бедро, а до этого я услышал: «Вррррр… бибиб… вжжжжшшшшхххх…» козел, мать мою! а после этого я упал, успев подумать, что жизнь прожил не напрасно, и мне мучительно не больно или не мучительно больно, хрен его там знает, за бесцельно прожитые годы, а . также я еще успел попрощаться с собой, потому что прощаться больше было, собственно говоря, не с кем, а потом еще решил успеть прокрутить перед глазами, как водится, всю свою жизнь, но почему-то ни черта из этого не получилось – никак я не мог вспомнить разом ВСЮ свою жизнь, а потом с неожиданной досадой понял, что зря напрягался, прощался там, прокручивал – я жив и даже вроде как невредим опять. Я не кричал, не плакал и ничего не говорил. А что, собственно, было говорить, когда можно было молчать? Я вообще, когда можно молчать, предпочитаю лучше молчать, чем говорить, или издавать какие-либо иные звуки ртом и совершать какие-либо движения языком (к сексу это не относится, потому что когда я занимаюсь сексом, мне до неосознательности и потери реальных очертаний окружающего меня мира нравится совершать самые замысловатые движения языком, а также другими частями своего и не своего прекрасного тела без исключения, мать мою), тем более, когда жив и невредим и не совсем уж худо себя чувствуешь и можешь порадоваться нынешней минуте именно потому, что она нынешняя минута. Лучше помолчать. Я молчал даже тогда, когда ко мне, шагая гулко по асфальту, подошли двое в сапогах без пылинки, но в грязи, и в серых до родной боли знакомых галифе с красным слепящим кантом, и в серых кителях с блестящими желтыми пуговицами – сожалею, что погонов я снизу не видел, хотя, собственно, если быть до конца откровенным, и не сожалею вовсе, какая, хрен, разница, сколько звездочек у этих сапогастых было на погонах или не звездочек, а полосочек, какая, хрен, разница, никакой… Один был старлеем, а другой старшим сержантом. А впрочем, какая, хрен, разница, кто бы они ни были, но один все-таки был старлеем, а другой старшим сержантом. И они были. И стояли надо мной и матерились, со злобой, с досадой и испугом и с желанием смыться и без желания остаться: «Бл…ь, на х…, мать его, на х…, мудила, и ты мудила, и он мудила, и все мудилы, и тачка мудила, на х.,. е… ее мать, бл…ь,…». Снизу их лица казались плоскими, нечеловеческими, а потому совсем нестрашными и даже добрыми, раз не человеческими. Один носил усы, а другой желтое пятно возле ширинки. Усатый пнул меня ногой, приличными словами выдавая свое неприкрытое сексуальное ко мне желание. Я, естественно, зашевелился (потому что было больно), но опять промолчал, только моргнул, громко и тяжело, и кряхтя про себя, попытался сесть. Сел, красавец! Значит, и вправду невредим, хотя и жив. Милиционеры отшатнулись, но не убежали и даже повеселели. Они-то с перепугу и с перепою решили, видать, что угрохали меня, уже парашу загаженную видели и хмурые намордники на тюремном окне, а я вот сюрприз им в пасмурный день, жив, мол, и не мертв. Вот радость-то, вот. Но я тогда, признаться, думал не о милиционерах, а только о том, чтобы встать, и больше ни о чем. Встал. Посмотрел, когда встал, на свои ноги сверху вниз (а иначе никак не посмотришь – голова-то вверху, выше чем ноги, так мне казалось, тогда во всяком случае, и в общем-то в конце концов так оно и оказалось на самом деле), ног было две, и они были одинаковой длины и ни в каких местах не подломанные, не перекошенные, стройные и привлекательные. Посмотрел после своих ног на ноги сапогастых, и нестройными и непривлекательными они мне увиделись, хоть и не переломанными и не перекошенными были, поднял тогда к лицам их я глаза – переломанными и перекошенными они мне показались, хоть и не привлекательными – бледными и потными и до отвращения простецкими: «Мать твою, сука, мать твою, на х…, мать твою, ты чего, козел, мать твою, да мы тебя, мать твою» ну и так далее. Я пожал плечами и извинился. Надо было ведь что-то говорить, виноват, мол, виноват, мол, виноват, мол, виноват, виноват, виноват, виноват, виноват, виноват, виноват, за что извиняюсь и покорнейше склоняюсь и умолительно прошу, будьте великодушны, а то пойду в ближайшую ментовку и напишу заявление, что вы на меня, мать вашу, суки, на хрен козлы обоссанные, на меня, невинно идущего, бл…ь на х…, наехали, педерасты е… Ну и так далее. Я умею так изъясняться, с войны еще умею, да и до войны тоже умел, я способный. Милиционерики остолбенели, конечно, разом и глаз от меня отвести не смогли, будто влюбились в меня всерьез и надолго. А я стою, большой и жалкий, и в лица им просительно заглядываю, тихий такой и ясный. Но старлей не промах оказался, не перебрал положенных на решение секунд, сбросил оцепенение, ощерился гнилозубо и, глядя мне в ноздри, процедил с притаенным злорадством: «Глянь-ка, Вася, а он по приметам на убийцу малолеток смахивает, глянь-ка, глянь-ка, точь-в-точь нарисован как во вчерашней ориентировке». И не договорил еще, а уже из кармана нелюбимый мной «макаров» выхватил, резко руку вытянул, ствол пистолета в щеку мне вдавил, заорал, как теперь инструкторы по задержанию учат: «Руки на машину, мать твою, голову ниже, голову ниже! – и рукояткой мне пониже затылка. – Ноги расставь шире, шире». – И снова рукояткой мне по шее. Умеет, гаденыш. Я оценил. А когда старлей третий раз мне рукояткой «Макарова» по шее треснул, тут я и вспомнил, где я был и что делал; и вчера где был и позавчера и вообще все вспомнил, что мог вспомнить, и что у меня пакетик марихуаны лежит в потаенном кармашке куртки, тоже вспомнил, и что статью два два четыре УК РФ пока еще не отменили, тоже вспомнил, и что этого всего мне только не хватало, тоже вспомнил. И спросил себя одновременно и параллельно с воспоминаниями, а чего мне вообще хватало? И стал перечислять в уме – жратвы хватало, выпивки хватало, сигарет хватало, травки хватало, оружия хватало, патронов хватало, телок хватало, силы хватало, спермы хватало, работы хватало, дерьма хватало, врагов хватало, глупцов хватало, и мотоциклов, и квадратных метров жилой площади… Всего хватало. Так ведь я счастливый человек, если объективно. А если объективно, то, может, друзей чуть-чуть не хватало (ну так это ж ерунда – от друзей один вред), ну детей, может, не хватало (так и это ерунда: от детей одни какашки). Так что, если быть действительно до конца честным, мне вот сейчас только за дерьмовую марихуану сесть за решетку не хватало. Вот чего нВ хватало, так не хватало, это точно. А старлей тем временем обыскивает меня умело да приговаривает: «И куртак точь-в-точь такой, как в ориентировке, американский, армейский, и джинсы голубые, мать твою, и кроссовки, и рост и морда. Ноги шире, сука!» Вот бумажку какую-то из кармана достал, еще одну, другую, третью, но неважно, я в карманах что-либо устанавливающее мою личность давно не ношу – ни документов, ни записных книжек. Все, что нужно, в голове держу, если держу. А если задержит кто из ментовки, так меня очень просто по ЦАБУ проколоть – я после войны карточку свою изымать из бюро не стал, пусть будет, пригодится для непредвиденных ситуаций, хотя, может, и неправильно сделал, черт его знает, я давно уже перестал оценивать, что правильно я сделал, а что неправильно, потому что я еще на войне понял, что это никто и никогда не сможет точно определить в отношении себя – никто и никогда. А потому не исключено, что совершенно исключительно, если исключить различного рода сомнения, которые по сути бесполезны и, более того, не несут в себе, ни с собой, ничего, кроме самого вредного вреда, что в этом блистательном пассаже есть что-то, о чем следует подумать, и не когда-нибудь там на досуге, а сейчас, именно в тот самый момент, в который этот пассаж пришел ко мне в голову. И я подумал. Если предположить, что ничего в своих поступках нельзя оценить как что-то хорошее или что-то плохое, значит, можно предположить, что все, что бы ты ни делал, все – хорошо, или наоборот, все, что бы ты ни делал, плохо, что, собственно, одно и то же (я усмехнулся – нисколько не заумно и очень даже просто и, вообще, признаться, даже и не мною придумано), из чего само собой напрашивается закономерный вывод – что все в твоей жизни зависит от волевого указания, которое ты себе дашь. Например (объясняю для не очень умных), я говорю себе: «Дорогой мой, с сегодняшнего дня все, что ты ни сделаешь, все классно, все отлично, все хорошо, короче, что бы ты ни сделал, ни совершил, все хорошо. С твоей точки зрения, конечно. С твоей, не с чьей-либо. Потому что на чью-либо точку зрения тебе, можно сказать, плевать слюной, да и то той, которую не жалко…» Именно так я себе сейчас и сказал, про себя, конечно, мысленно, да и к тому же очень тихо, так, что сам едва услышал, и не сразу понял, что сказал, а когда понял, повернулся резко вправо, сложно это было, в очень неудобной позе я пребывал, но сумел – навык – и с размаху сильно ударил старлея по запястью правой руки, в которой он пистолет держал, и, не удостоверясь, выпал пистолет у него из ладони или нет, кулаком той же правой своей руки въехал старлею круто в переносицу, после чего стремительно влево развернулся и пяткой левой ноги рядом стоящему сержанту в промежность попал и тут же быстро той же пяткой в лоб ему угодил – старался. Упали милиционерики одновременно, сморщенные и недовольные очень, но бессильные что-либо сделать, потому что без сил уже были вследствие моих обессиливших их неслабых ударов. Прежде чем уйти, я у старлея из внутреннего кармана кителя удостоверение вынул, посмотрел, кто таков этот старлей, стонущий и белками закатившихся глаз на меня сверкающий. «Зам. начальника отделения милиции… старший лейтенант милиции Койка Михаил Ремович», – прочитал я и подумал мимоходом, что с удовольствием и восторгом, выразившемся в удушающе счастливых снах, поспал бы сейчас на койке. Отойдя уже на несколько шагов в сторону от павших милиционеров, вернулся, отшвырнул носком кроссовки пистолет от старлея подальше, под машину и только тогда уж расстался с милиционерами окончательно – на нынешнюю минуту, конечно, – уточняю. Потому что дальнейшие события, которые могут последовать за этими событиями, их развитие предсказывать или даже просто прогнозировать не берусь – не могу, потому что знаю, что все равно предскажу или спрогнозирую неверно, знаю, да, и не хочу, потому что знаю. А машины, белые,красные, синие, черные, салатовые, розовые, морковные, желтые и прочие другие разные, а также комбинированные, катили себе на колесах по не свежему осеннему шоссе. И водители их в мою сторону совсем не смотрели, так же, как и водители прежде проезжавших машин не смотрели в сторону милиционеров, когда они падали, а если и смотрели, то не обращали внимания, а если и обращали внимание, то не придавали значения, а если и придавали значение, то сильнее нажимали на акселератор и ехали еще быстрее, чем ехали, потому что ведь ехали они по своим делам, а не по моим, поэтому и ехали, не останавливаясь, так я думаю, и если я неправильно думаю, то скажу себе, что я правильно думаю, и тогда я буду действительно правильно думать именно так, как думаю сейчас, потому что я сказал себе, что это так. Я усмехнулся и нашел, что погода великолепна, несмотря на тучи и на почти что вечерний сумрак, и нетеплую прохладу и зудящую в воздухе боль. На другой стороне шоссе было не хуже и даже не лучше, чем и на той стороне шоссе, которую я только что оставил. В сотне метров от шоссе там стояли многоэтажные дома. Возле домов стояли высокие фонарные столбы. А вокруг домов и столбов ходили невысокие люди, обитатели города, в котором я жил, – очень большого города, самого большого в этой стране. Я знал об этом, но никогда никому не говорил, и для меня до сих пор остается загадкой, откуда и другие знают об этом. Я решил тотчас поразмыслить над этим, но вдруг увидел проходящую мимо безобразно-некрасивую женщину, и мысли мои потекли в другом направлении – таких женщин, размышлял я, много в нашем городе, и я преклоняюсь перед ними, потому что они героини и героизм их заключается в двух вещах: во-первых, негероические люди с такими рожами просто жить не стали бы, уснули бы где-нибудь на рельсах или в полете с десятого этажа, и, во-вторых, среди них есть такие, которые, если не считают себя красавицами, то во всяком случае мнят себя привлекательными. Ну разве это не подвиг – с такой внешностью жить и уважать себя. Я преклоняюсь перед ними, честное слово. Я шел по улицам, сунув руки в карманы куртки, и глядел по сторонам, и считал героинь: триста пятьдесят, тысяча двести, двести шестьдесят тысяч, семь сто двадцать одна, на втором миллионе сбился со счета. Поднимаясь по лестнице в свою квартиру, посмотрел на часы. Я шел по городу три часа тридцать четыре минуты. Я отдохнул, пока шел, расслабился, но спать все же хотел. И вряд ли я хотел спать от напряжения, вызванного дракой с милиционерами на шоссе, нет, скорее оттого, что я просто не сомкнул глаз всю прошлую ночь. Я трахался, пил, опять трахался, курил травку, опять пил, опять трахался. Ничего интересного. И утомительно. Но все же лучше, чем ничего. Делать все равно ведь что-то надо. Я не могу ничего не делать, а делать мне нечего. Уже пятый год я маюсь оттого, что мне нечего делать, а ничего не делать я тоже не могу, и что делать дальше, не знаю. Я работаю, конечно, жить-то на что-то надо, не воровать же (да и не могу я воровать, идиосинкразия у меня к таким бабкам, пока во всяком случае), но работа моя дерьмо, работодатели дерьмо и переводы, которые я делаю, тоже дерьмо. Хотя переводчик я классный, но я не люблю переводить, я просто умею это хорошо делать, и все, но не люблю. Я работаю на большую и богатую фирму. И фирма эта тоже дерьмо. Эта фирма производит компьютеры. И компьютеры мне эти нравятся. Хотя на самом деле эти компьютеры тоже дерьмо. Мне просто вообще нравятся компьютеры – все. Правда, я в них ни черта не понимаю, несмотря на то, что перевел уже гору инструкций о том, как ими пользоваться. Но это не имеет никакого значения, понимаю я или не понимаю – компьютеры мне просто нравятся, нравятся и больше ничего. Совсем. Пакетик с травкой я спрятал, как обычно, в коридоре в металлическом стенном ящике, расположенном рядом с лифтом, там, где установлен электросчетчик для квартир. Приговаривал, пряча: «От греха подальше, мало ли, мало ли…» Я доверял своим «мало ли», когда знал, что им надо доверять. Это знание приходило внезапно – когда я его не ждал, естественно, раз внезапно, точно так же, как не приходило внезапно, когда я его все-таки ждал. И когда оно тем не менее не приходило, тогда я радовался, что оно, паскудное, не пришло, – пел, танцевал, ходил в присядку, играл на дудочке, занимался онанизмом, глядя на пролетающих птиц, и категорически запрещал себе вспоминать то хорошее, что происходило со мной в моей недолгой жизни и, тем более, что еще может произойти со мной в моей предолгой жизни. За дверью, перед которой я сейчас стоял, была моя квартира. Там я жил с тех пор, как ушел от своей второй жены и женился на самом себе – идеальный брак. Уходя от жены, я уже знал, что, собственно, никогда и не любил ее – ни до свадьбы, ни, тем более, после нее, а женился на своей жене только исключительно потому, что женился, и не более того. Точно так же я женился первый раз, до войны, когда был еще молод и дурковат. Мне совершенно не хотелось трахаться со своей первой невестой, ходить с ней в кино, пить спиртные напитки, сидеть за праздничным столом, смотреть, как она переодевается, слышать, как она громко и сытно мочится в туалете, как она икает, сморкается, стрижет ногти, бреет подмышки, слушать, как она говорит, что любит меня. Но я тем не менее женился. Провожая меня на войну, она не плакала и не клялась в верности и не обещала ждать меня даже мертвого, а просто сказала, что я сука и что я готов на все, даже на смерть, лишь бы не жить с ней. И только тогда, после этих слов я в первый раз по-настоящему понял, что так оно и было на самом деле. Я забыл о своей первой жене тотчас, как только сел в автомобиль и поехал в аэропорт. Напрочь. Начисто. Когда мы пришли разводиться в загс во время моего первого отпуска, я чувствовал себя там очень неловко – мне неудобно было спросить, как ее зовут, мою первую жену, а сама она себя по имени, естественно, как любой нормальный человек, не называла. Силясь вспомнить ее имя, я довел себя почти до истерики. Я перевернул в приемной загса столы, поломал все стулья, матерясь, выкинул в окно какого-то затруханного мужичишку, который пришел расписываться с такой же затруханной бабенкой (и правильно сделал, что выкинул, говорил я себе, на хрена таким уродам жениться, да еще плодить потом таких же уродливых детей), и после всего умчался в туалет. Там облегчился с удовольствием и, сидя на унитазе, вдруг понял, что какая, на хрен, мне разница, как ее зовут, если я с ней развожусь и больше никогда ее не увижу. Я вернулся, поставил на место столы и стулья и извинился перед всеми. Выпрыгнул в окно – первый этаж – и по просьбе затруханной бабенки я полчаса искал ее затруханного мужичонку, но так и не нашел его, к счастью своему и к несчастью тут же скоропостижно скончавшейся, видимо, от горя, затруханной бабенки. Получив паспорта со штампами о разводе, мы со своей бывшей женой еще какое-то недолгое время вместе ходили по близлежащим магазинам, вежливые и свободные, делали покупки, шутили и смеялись. «Хороший она человек, – при прощании подумал я, разглядывая ее большеглазое, пухлогубое, худое лицо. – Только зачем родилась?» Как ее звали, я потом все-таки узнал – подсмотрел у себя в паспорте – Елизавета ее звали. Но я не поверил паспорту. Я был твердо убежден, что ее звали как-то по-другому. Но как?… Если бы я хотел, я бы выяснил это. Но я не хотел. Вторая моя жена любила готовить супы. Я их ел, чтобы не обижать вновь суженную. А по ночам мучился метеоризмом и будил ближайший квартал нечеловеческими звуками, рождавшимися в моем спящем организме. Жена терпела. И, кстати, как ни удивительно, именно ее настырное стремление готовить разнообразные супы мне нравилось в ней, потому что именно эта ее (хоть какая-то) страсть отличала ее от других знакомых мне обыкновенных и до блевотины примитивных хоть и хорошеньких женщин. (А Маша была хорошенькая, это точно, уж в чем, а в женской внешности я разбирался.) Выгодно отличала или не выгодно отличала – не в этом суть. Главное, что отличала. Во всяком случае на первых порах мне было интересно наблюдать, как сосредоточенно и придирчиво она выбирала продукты на рынке, как медитировала на ковре в комнате, прежде чем приступить к процессу, как готовила к работе кухню, – мыла полы, убирала лишний свет, жгла индийские ароматизированные палочки, точила ножи, досуха вытирала ложки, вилки, терки, разделочные доски, кастрюли и сковородки, как тщательно и любовно мыла продукты, как раскладывала их в отдельные заветные тарелочки и горшочки, как чистила, нарезала и шинковала картофель, капусту, морковь, лук, свеклу, огурцы, помидоры, чеснок, редьку, манго, киви, лимон, ананасы, сало, корейку, спаржу, шпинат, салат, укроп, кинзу, черемшу, сливы, апельсины, урюк, яблоки, зеленый и красный перцы, орехи, семечки, груши, вишню, клубнику, малину, смородину, арбуз, дыню, анютины глазки, бамбук, сирень, мигрень, голландские тюльпаны, заготовленные на зиму соседкой дрова, импортное мыло и нашу зубную пасту, репу, хрен, побеги молодой осины и много-много всякого другого (шевеля от восторга покрасневшими ноздрями и побелевшими ушами и размякшими губами), как с громкими стонами вдыхая вьющийся над кастрюлей пар, вынимала она специальными вилками отварное мясо из пузатой эмалированной кастрюли, как, дрожа от вожделения, разрезала она мясо на гладкой и стерильно чистой и, как правило, всегда лишь второй или третий – максимум – раз использованной разделочной доске, как, вскрикивая, будто кончает, пассировала она лук на швейцарской сковородке, которую я ей купил в «Березке», как… Ровно через полгода после нашей свадьбы, день в день, час в час, минута в минуту, я достал из хитроумного и очень тайного тайника, устроенного мною в моей же квартире, револьвер, привезенный мною же с войны, – кольт калибра 38 «спешл фор полис», зарядил его сверкающими в свете моих глаз толстенькими патронами, крутанул барабан, ловко, одним движением кисти вставил его в рамку, взвел тугой курок, хрипло вскрикнул, оскалил свой левый, мокро сияющий отточенный клычок и пошел убивать свою жену-кулинарку. У входа в кухню в нос мне впился запах очередного супчика, и меня замутило, а потом закрутило, а потом завертело, а потом понесло в туалет и там, соответственно, понесло. И опять, сидя на унитазе, я подумал, без интереса заглядывая в длинный, пахнущий маслом ствол полицейского кольта: «А на хрен мне ее убивать, когда я могу спокойно и бесшумно, и бескровно с ней развестись, раз-вес-тись и никогда ее больше не видеть и никогда больше не хавать ее веселые супчики.» Из туалета я вышел новым человеком, облегченным и мудрым. Спрятав в тайный тайник револьвер и дыша только ртом, я пошел на кухню сообщить жене свое решительное решение. Она же, решительно ничего не подозревая, встретила меня добрым и тихим взглядом, молча, с дымящейся тарелкой красно-белого полосатого супа в руках. Демонстративно давясь, я съел суп, но решительно не решился сказать ей, что недавно так решительно решил. Заробел что-то. Ощутил себя неблагодарным и неблагородным, бякой и сукой, какой и пукой, пиподавом и любвефобом, так твою в растопырку. Ночью, благодарно, но без вкуса трахая свою жену-пюре, я размышлял, как бы тактичней, вежливей, любезней, воспитанней и безболезненней для нее сообщить ей, негромко покряхтывающей подо мной, о своем решительном решении. Но вскоре заснул, так и не кончив, прямо на ней, а может быть, и под ней, а может быть, и рядом с ней, не помню. Но это не имеет никакого значения, самое главное, что я так и не придумал, как поумнее сообщить своей жене о своем наирешительнейшем решении. Помог случай. Непредвиденный – раз случай, – но до тривиальности банальный, но эффективный, и в данной конкретной ситуации просто-таки незаменимый. Как-то утром я соврал своей жене-бульонке, что отбываю в командировку, туда-то и туда-то, за тем-то и тем-то, вроде как за заказом на переводы, или за деньгами за переводы, я уже не помню, на неделю вроде как еду, на неделю. А сам, прихватив под мышку одну тощую девчонку из издательства «Тело», прыгнул в свой замызганный и покореженный автомобиль (модель ВАЗ-2101) и умчался с гиканьем, топотом и свистом в уютный ведомственный пансионатик на Истринском водохранилище. Два дня мы отупело ели, пили и трахались, а на третий день я заметил, что моя издательская дама умопомрачительно много ест и даже, как мне показалось, жрет, ж-р-е-т, да, так точнее. По три, по четыре порции завтрака и обеда и ужина убирает честно за раз и не полнеет при этом, и не свежеет, и не веселеет, и, вообще, ничего и никак. На третий же день вечером, раздумчиво наблюдая за ее методично в такт желвакам двигающейся головой, я вдруг отчетливо представил себе, куда и в каких количествах уходит все ею съеденное, и встал тотчас, своим воображением укушенный, и, не попрощавшись, тут же уехал – в ночь. В ночь и приехал. Сонный город не ждал меня. Я стоял у двери своей квартиры с ключами в руке, но к замку не прикасался – слушал. За дверью моей квартиры что-то происходило, но я, честно, не догадывался что, хотя мог догадаться, конечно, уже в тот момент, но не догадывался, не смел даже представить, не смел вообразить, чтобы эта тихая супница… Ключ вошел в замок, как член во влагалище, ожидаемо-неожиданно, мягко и бесшумно. Точно так же и я через несколько мгновений вошел в освободившийся от двери дверной проем, тигрино-пантерно, пластично и легко, насколько позволял, конечно, лежащий во мне груз выпитого и съеденного в пансионате, я продвинулся немного по коридору квартиры и оказался перед полураскрытой дверью в спальню. А там… Маленький затруханный, тщедушный, кривоногий и кривопалый мужичонка, как хотел, смачно и откровенно драл мою полугодичную жену-супоманку. И так он ее раскладывал, и так, и словечками разными достойными все это дело сдабривал. А она-то, она как визжала, со слюной, и потом в себя его пуская!… Я до этого момента только один раз в жизни слышал, чтобы женщина так визжала, когда ее трахают… Это было ровно шесть лет назад. Наша рота разведки освободила из плена одну даму – военврача, красавицу, тридцати лет. Год она провела у басурманов. И за этот год никто к ней не притронулся, не ласкал никто и не целовал, и тем более не трахал. Продавали из банды в банду за все более и более крупные суммы, каждую неделю продавали. Купивший наряжал ее в новые туалеты и продавал дальше, восторженно цокая вслед ее вертящейся попке. Вышли мы на нее случайно, совершенно мимоходом агент замкомроты стукнул о ней на контрольной встрече. Замкомроты, как положено, доложил по команде. Ну и понеслась. Кто-то из генералитета, как мы знали, запал на нее еще тогда, до ее пленения, и теперь, узнав о том, что она жива и что мы знаем, где она находится, разнервничался, раскричался, растопался, расплевался и потребовал сорванным голосом, подать ее сюда, подать ее сладкую, подать ненаглядную, и если не подадите, кричал, сукины подонки и тому подобные твари, всех порешу, мать вашу, всех, всех, всех, всех, и чуть сам, как рассказывают, не помер в конце концов от излишнего, можно сказать, волнения и переизбытка, можно сказать, спермы. Операция была красивая, грамотно рассчитанная и профессионально проведенная. Одно плохо – народу мы там басурманского побили тьму. Куда ни кинь взгляд, всюду трупешники дымящиеся в глаза бросались. И на крышах мы их видели, и на заборах, и на деревьях, и на земле, конечно. Но мы забыли об этом зрелище, как только увидели ее. Ох, ох, ох, плен не испортил ее, наоборот – она была роскошна. Она какое-то время, долгое или короткое, не помню, внимательно смотрела на нас, потных, пыльных, усталых, забрызганных кровью, привычно потягивающих сигареты с травкой, довольных сделанной работой, а потом сказала громко, не стесняясь того, что сказала: «Ты, – и показала на комроты, – ты, – и показала на красавца пиротехника, – и ты, – показала на меня, – идите за мной, а вы ждите, – сказала она остальным, – сколько надо ждать, и слушайте все, что услышите, и запоминайте, что услышите, вряд ли вы когда такое еще услышите.» Мы трое послушно пошли за ней. И она привела нас в дом, где жила уже несколько дней. В пыльной, душной полутемной комнате под маленьким квадратным окном на полу валялись истерзанные «калашниковскими» злыми пулями два мертвых басурмана, молодые и даже симпатичные, глядели в потолок устало и счастливо, никому, кроме Аллаха, уже не нужные. Комроты сказал, что сейчас прикажет их убрать. А врачиха остановила его, покрутила головой, пусть лежат, попросила, пусть, так интересней, и усмехнулась мягкогубо, в упор басурманские трупы разглядывая. Потом она взяла у комроты сигаретку с марихуаной, прикурила, затянулась со сладостью раз, другой и после сигаретку нам передала, и мы тоже покурили по очереди, и потом снова ей сигаретку вернули. Докурив, она бросила окурок на пол и затем медленно подняла свою тонкую белую юбку и опустила маленькие шелковые трусики. Наманикюренными пальцами она раскрыла мокрые розовые губы у самого влагалища и сказала с мольбой, истекая слезой, слюной и другими замечательными женскими выделениями: «Ну, давайте, мальчики, покажите, чем вы богаты, я так соскучилась по вашим сокровищам…» Мы работали над ней отчаянно и остервенело, будто и боя никакого совсем недавно не было, будто после отдыха на Гавайях мы только-только вернулись и были полны по самую макушку и сил, и спермы. А она визжала. Оооооооооооооооо, как она визжала! Мы глохли и теряли сознание. Стены тряслись и рушились. А басурманские трупы вскочили и, сцепившись в экстазе, яро отплясывали народный танец под названием «Мудачок». Когда усталые, но довольные, мы наконец вышли из дома, то расхохотались, не сговариваясь, взглянув на ошалевшие лица разведчиков, парализованно сидевших на земле рядом с покосившимся от фантастического траха домом. Потом мы узнали, что врачиху генерал вроде как застрелил от ревности, а может, это все были враки. Хорошо бы, если это были враки, конечно. Потрясающая была врачиха. А как визжала… Точно как моя жена, когда я ее с затруханным застукал, не отличить, в той же тональности, с той же громкостью, с той же энергией, с той же радостью, с той же сладостью, с той же страстью и так же неосознанно, и так же несознательно, и так же отпустив себя всю до миллиметра, до микрона и, отдаваясь не столько уже затруханному, сколько чему-то или кому-то высшему, живущему, существующему вокруг, и там, и здесь, и тут, и повсюду, куда взгляд ни кинь или окурок, или загустевший плевок, или случайную мысль, живущему или существующему и в каждом из нас и, конечно же, в ней, визжащей и счастливой сейчас. Она поймала, ощутила, поняла его – на мгновения, которые жизни наверное равны. Не пошел я за револьвером в тайный тайник свой укромный и секретный, кулаки не сжал, к драке готовясь, и.не разозлился даже, потому что не было злости, не было, не родилась она во мне и даже не зачалась тогда. Я просто разделся, глядя на жену счастливую, оставил одежду у порога спальни и быстро переступил порог. Приблизился к сидящей на затруханном и визжащей своей жене и заткнул своим возбужденным мускулом ее большегубый визгливый рот. И она приняла мой подарок с благодарностью и без страха, как что-то само собой разумеющееся и, более того, необходимое. И даже глаз не открыла, я поразился, даже глаз не открыла. Затруханный-то весь затрясся, конечно, как меня узрел, но я ему подмигнул и улыбнулся добро и искренне, и он вроде как успокоился, и, по-моему, с еще большим удовольствием стал насаживать на себя мою гастрономическую жену. Долго ли, коротко ли, а всякой сказке есть и конец. Лежали мы потом на кровати втроем, от горячего пота блестящие, курили молча. А я еще между делом вспоминал, где я видел этого затруханного, знал, что видел наверняка, только где, лежал и вспоминал, вспоминал и лежал, и копался в прошлых людях, где же все-таки я видел этого затруханного и когда, и при каких обстоятельствах, вспоминал, копался и докопался. Ха, ха, вспомнил, где я его видел, и не засмеялся, хотя смешно было, когда его видел. И потом смешно было, когда я его уже не видел. А я не смеялся. И тогда не смеялся и сейчас не смеюсь, хотя смешно было, хотя и сейчас смешно. Этот затруханный был тем самым затруханным, которого я, разводясь со своей первой женой, из окна загса выкинул, когда вне себя был оттого, что никак не мог имя той самой своей жены, с которой в этом загсе разводился, вспомнить. Вспомнить не мог, оттого и вне себя был, оттого и бедолагу этого затруханного из окошка выкинул. А потом, когда в себя вернулся, сидя на унитазе, побежал его искать и не нашел. Вот тогда не нашел. А сейчас нашел. И где? В своей супружьей постели. Ах, какая славная, непредсказуемая жизнь! Славная, славная, славная. Затруханный меня, видать, тоже вспомнил, лежит недвижный, дышит бесшумно, только сигарета в стиснутых зубах курится, пепел с нее на грудь ему, на подбородок, на шею падает, обжигая, а он лежит неподвижно, и дышит бесшумно. Я покосился на жену, дымок выдыхая беззаботно. Она в нирване пребывала, как мне показалось. Улыбку я в ее теле почувствовал, спокойствие и довольство. Ни о чем моя жена не жалела и ничего она не хотела. И позавидовал я ей тогда, потому что думал, что вот так надо жить, как она. То есть чем-то быть одержимым, желать что-то до безумия, не кого-то, а именно что-то, и только этим чем-то и жить, дышать этим, как воздухом, есть это, как пищу, жить этим, жить, жить, не любить это и не ненавидеть, а жить этим, жить. А из всего остального, что вокруг, только высасывать удовольствие. И все, и больше ничего. А больше ничего и не надо. Да, ну и здоровья, конечно, оно не помешало бы, да. Потушив сигарету в пепельнице, которую она держала у себя на животе, моя кухонная жена сказала: «Хорошо, что ты пришел. Я очень рада, что ты пришел. Я ждала, что ты придешь. Именно в тот момент, в который ты пришел. Может быть и не сегодня я тебя ждала, но ждала вообще» – «Могла бы и не дождаться, – ответил я. – Намекнула бы хоть, мол, так и так, я тебя жду. Приходи. А так почем я знал, когда мне приходить. Мог бы ведь взять и не прийти. А ты же хотела бы, а я не пришел бы. Неделю не прихожу, вторую. Год, третий, а ты все ждешь и ждешь. И вправду, дорогая, сказала бы, мол, так и так, надо, чтобы ты пришел тогда-то и тогда-то. И я бы, конечно, с радостью…» – «Достаточно, – нервно перебила меня моя жена и бросила затруханному, вставая с постели: – Одевайся и уходи. Трусы под тумбочкой, носок на шкафу». Выбралась, вздыхая, из-под одеяла, голая, гладкая, распаренная, мокрая, будто из волны вышла, как богиня. Нет, вынырнула из-под одеяла, задыхаясь, как рыба, волной выброшенная, небрежно и брезгливо. Да, именно так мне показалось: моя постель отрыгнула ее из себя, как море большую рыбу, небрежно и брезгливо. И я сказал тогда моей жене, которую только что не без удовольствия, на пару с каким-то незнакомым затруханным мужичком трахнул, и я сказал: «Достаточно! Одевайся и уходи. Вещи твои в шкафу и в других частях моей прекрасной двухкомнатной квартиры!» Она удивилась этим моим словам и обозлилась на те же самые мои слова. Посмотрела на меня, как не на меня, и сказала, негодуя, обнаженной грудью от злости краснея: «Подонок, подонок, как ты смеешь?! Это и моя квартира! И моя!» Тогда я пошел и все-таки достал из секретного тайника, устроенного в укромном и непредсказуемом месте моей квартиры, револьвер «спешл фор полис», тридцать восьмого калибра и, вернувшись в спальню, выстрелил в потолок. Повалились на пол штукатурка и куски бетона – немалые. Было весело. И романтично. Как в старых романах, которых я не читал, – жена, любовник, муж, аркебуза – жизнь! Моя жена, конечно, оделась тотчас быстро-быстро, как в армии при побудке, за сорок пять секунд, а может, и того меньше, и все улыбалась мне добро, улыбалась, пока одевалась. И я подумал: «По сути ведь она неплохая, очень симпатичная и очень добрая женщина. Только зачем родилась?…» Перед уходом уже перед открытой дверью в прихожей, на самом что ни на есть на пороге, моя жена обернулась, честно посмотрела мне в глаза и сказала тихо и осторожно, опасаясь, видимо, что при звуке ее голоса я снова шмальну из безоткатного американского орудия, и сказала: «Прежде чем уйти я хотела бы тебе кое-что объяснить». «Суду объяснишь», – ответил я сурово, тяжело роняя слова из-под тяжелых и твердых губ. Ни до какого суда, конечно, дело не дойдет. А сказал я так только потому, что веселился. Да, мне было весело, и настоящая жизнь возвращалась снова – неадекватная, я бы сказал, экстремальная ситуация, оружие в руках, стрельба, легкое волнение. «Он, в отличие от тебя, обожает мои супы, – обливаясь собственным жаром, проговорила моя жена. – Он ест их каждый день, по три, по четыре, нет, по пять тарелок. Нет, по десять тарелок! По десять тарелок, вот!» Я несильно ткнул пальцем в грудь стоящего рядом с моей женой затруханного. И он, как от удара, отпрянул к стене. Притянув затруханного обратно, я сказал ему серьезным тоном серьезного эксперта: «По нему незаметно, да». «В отличие от тебя, он любит меня и уважает меня – крепко обняв себя обеими руками, с выражением воскликнула моя жена, – и собирается прожить со мной все оставшиеся годы, сколько их отпущено и ему, и мне, сколько отпущено и нашей стране, и этой несчастной нашей матушке-земле…» – «В жизни всегда есть место подвигу», – одобрительно отметил я. «В отличие от тебя, он дышит мной!» – в отчаянии выкрикнула моя жена. «Тогда ему осталось недолго, – скорбно заметил я. – Он умрет от удушья» – «Ты!… – сказала моя жена, сжимая синие кулачки. – Тебя!… – Она, видно, что-то хотела уже сказать совсем нехорошее, но вовремя приметила, как я поглаживаю рукоятку американского револьвера, хоронящегося у меня за поясом, и осеклась и добавила после, уже сдержанней: – Я… я… он… они… мы…» – и махнула рукой, и отвернулась от меня, близкую девичью слезу скрывая, и вышла из моей замечательной квартиры наконец, порог ее перешагнув, и пошла по коридору, минуя лифт, к лестнице, и пошла, и пошла… И затруханный за ней пошел, побежал, меленькими ножками меленько перебирая, меленький – ЛЮБОВНИК! Я захлопнул дверь, постоял около нее еще какое-то время, за теплую от моего тепла ее ручку держась, поглаживая ее, потискивая, пощипывая ее, твердую, совсем металлическую, думая о том, как жаль, что они ушли, эти двое, как жаль, что так быстро кончилось это замечательное, волнующее и, несмотря ни на что, жизнеутверждающее приключение. Я в который раз, с радостью, с очень большой-пребольшой радостью убедился в том, что в более или менее экстремальной ситуации я начинаю действовать быстро и четко, практически не раздумывая. Становлюсь в достаточной мере остроумным и в достаточной мере (для меня во всяком случае) насмешливым. Хотя произошедшая ситуация, увы, не показательна, так только, чуть-чуть, она не несла с собой опасности ни для моей жизни, ни для жизни третьих лиц, ни непосредственно, ни опосредованно, но тем не менее… Мне-то, конечно, всегда было интересно наблюдать, как я веду себя именно в тех ситуациях, когда возникала угроза моей жизни. Мне было чрезвычайно любопытно видеть, как из человека достаточно мнительного и осторожного, и очень боязливого по натуре, я превращаюсь в полагающегося только на свои инстинкты зверя, и как страх, который, я знаю, я чувствую, не исчезает, – остается со мной, здесь, под сердцем, в желудке, но совершенно не мешает мне… Сейчас не та ситуация, конечно, только так, чуть-чуть, но все же и такой у меня давно не было. Как жаль, что так быстро все кончилось. «А может, не кончилось?» – вдруг с острой надеждой подумал я. Может, они вернулись, моя жена и затруханный, и стоят сейчас за дверью, оскалившиеся, побелевшие от злобы. Она – с «Калашниковым» в руках, он – с базукой. Тянутся трепещущими пальцами к звонку, вот сейчас, сейчас, еще немного, еще чуть-чуть. И я рванул дверь на себя и тотчас отскочил под прикрытие простенка… Никого, мать их, никого! …Да, так было, именно так, я помню, усмехнулся я, стоя на сей раз уже с обратной стороны двери моей замечательной двухкомнатной квартиры, было так, так и было, забавно было, да, и даже весело, да, а с женами всегда расставаться весело, как и не с женами, впрочем, как бы ни относился к ним, к женам и не женам, весело всегда и совсем не мучительно, как кто-то иногда рассказывает, как где-то иногда пишут, совсем, и весело и забавно, а все потому, что любое расставание это как бы начало новой жизни. Весело и забавно, потому что понимаешь, что впереди – неизведанное, а позади – ничего. То есть вообще ничего. Было не было – никто не знает. Не знает. Делают вид, что знают, но на самом деле не знают. Не было позади ничего. Ни значительного не было, ни прекрасного, ни истинного, ни поучительного. Все ценности прошлого ни сегодня, ни в будущем не имеют и не будут иметь никакой ценности. Осознав это, ты начинаешь дышать свободней, легче, глубже, с удовольствием. Все гнетущие тебя мысли, тяжелые на вес и густо-черные на вид, делаются неожиданно и без усилий с твоей стороны невесомыми и прозрачными, и почти невидимыми, и совсем невидимыми, и вовсе потом исчезают, и ты даже не замечаешь, когда, и ты даже не замечаешь, куда, и в конце концов тебе становится совершенно наплевать, когда и куда они исчезают, и ты спрашиваешь себя, а были ли они вообще, и начинаешь понимать, что их и вправду не было, на самом деле, а были лишь только твои мысли о наличии этих мыслей, и начинаешь тогда смеяться над своей прежней глупостью, что когда-то эти мысли о мыслях тебя действительно заботили и угнетали. И ты смеешься, смеешься, смеешься… И день, и два, и месяц, и полтора месяца, и месяц и двадцать семь дней… А потом, мать ее, опять начинается всякая чертовщина с новыми тяжелыми мыслишками и новыми сложными заботками, и ты постепенно перестаешь смеяться и опять исподволь и незаметно отдаешь себя на растерзание этим совсем незначительным и совершенно не важным для твоей жизни, но отчего-то (я пока еще не понял, отчего) занимающим в твоей жизни достаточное место тяжелым мыслишкам и сложным заботкам. Но это все потом, потом. А сам момент расставания, возвращаясь опять к моменту расставания с женами и не женами, всегда весел и забавен. И совсем не мучителен, не мучителен совсем, забавен и весел. Я знаю. Я так и не открыл дверь в свою квартиру, так и стоял перед дверью и перед квартирой, вспоминая – о былом и о том, чего не было. О том, чего не было, я тоже люблю вспоминать. И иногда даже теряюсь, закончив вспоминать, вспоминая с усилием, было ли на самом деле то, о чем я вспоминал, или не было этого на самом деле, хотя я об этом и вспоминал. Недавно я сделал совершенно сногсшибательный вывод и вправду упал, когда его сделал (он сшиб меня с ног и я упал; синяки потом прошли, правда, быстро, и теперь я о них только вспоминаю), – что я сам хозяин своему прошлому, ага, захочу, таким оно будет, захочу, эдаким, а захочу, вообще никакого прошлого у меня не будет. Все в моей власти – все. Я так и не открыл дверь в свою квартиру, так и стоял перед ними, перед дверью и перед квартирой, внимательно прислушиваясь к тому, что там происходит, – за дверью, в моей квартире. Я слышал, хохот и молчание, сквернословие и эротические вскрики, выстрелы и истерическую ругань, рев бронтозавров и полет шмеля, истошные крики гинеколога, делающего себе аборт, и стук проезжающего по кому-то поезда, скрип санных полозьев и треск утреннего мороза, шорох снимаемой кожи и шелест тугого душа, и молчание, поскребывание бритвы о подбородок и ворчание матери, которая грозила кому-то в окно, тому, видимо, которому больно и смешно, смех собак и плач поросенка, шлепки падающего в унитаз дерьма и бульканье выливаемой из бутылки водки, хруст соленого огурца и урчание вскрытой брюшной полости, шепот ненамыленной пеньковой петли и горячее шипение вытекающей крови, и молчание, свист пролетающих слов и свист пролетающих снов (как пули у виска они, как пули), грохот уходящих минут и собственный очень долгий, долгий-предолгий крик, от которого тряслась моя квартира, трясся весь дом и трясся сам я. Но вот наконец – от испуга, наверное, что никогда не перестану трястись, я открыл дверь и с нерешительной решимостью перешагнул через порог. Именно так оно и было. Наверное. Я вошел в квартиру, и все стихло в квартире, все. И крик мой тоже стих. Пропал. А он был самый громкий из всех звуков, что я слышал, стоя перед дверью в квартиру, и самый долгий, и самый, казалось, нескончаемый и настойчивый. Я вошел, и он пропал. Он в МЕНЯ втек и там пропал. Он во мне пропал. Все очень просто, проще не бывает. И все другие звуки так быстро стихли только потому, что опять-таки все во мне собрались. Дело в том, что все эти звуки и есть Я. Вернее так – часть меня. Дело в том, что я их иногда оставляю в квартире, когда куда-нибудь ухожу. Тяжело с ними ходить по делам или просто гулять. Не слышишь ни черта, что вокруг творится, не понимаешь ничего, перестаешь ориентироваться. И поэтому я их, звуки, когда получается, оставляю в квартире. С запахами-то еще можно выходить из квартиры, с картинками кое-какими, перед глазами мечущимися, тоже можно, сложно, правда, но можно. Ну, а если к этому всему еще и звуки прибавляются, тогда ложись и помирай. А может быть, плыви и помирай. А может быть, и лети и помирай. А может быть… Вообще, кому как нравится, тот может так и помирать. Как нравится мне, я еще не знаю. Я столько раз помирал, и всегда это было скучно. Одним словом, хоть помирай. Поэтому я и оставляю эти звуки в квартире, а когда вхожу, они опять ко мне бегут, дорогие мои, любимые мои, родные мои, мать их и отца их, и бабку их, и деда – предателя, и всех их родственников, которых в единственном лице представляю я сам. Один я. В квартире ничего не изменилось с того момента, когда я последний раз видел ее, А видел я квартиру последний раз, когда покидал ее последний раз. Это было недавно. Это было давно. Это было вчера. Это было утром. Или позавчера. И тем не менее ничего не изменилось. Те же стены тут были, тот же пол, тот же потолок. И зеркало на том же самом месте висело в прихожей. И незаправленная постель так и осталась незаправленной – уже остывшая, уже холодная, я потрогал, совсем холодная, а еще вчера или позавчера была горячая, когда я поднялся с нее, горячая-горячая, а сейчас холодная, а еще раз потрогал постель – холодная, и еще раз потрогал – все же холодная. Но не расстроился, когда понял, что она холодная. Какая, собственно, разница, холодная кровать сейчас или горячая. Это не имеет никакого значения. Совершенно. Во всяком случае для меня… На своем месте пребывало и кресло. Не двигал никто в мое отсутствие и легкий тонконогий офисный письменный стол. И зеркало не было повернуто к стене, а смотрело на комнату, улыбаясь, и смотрело на меня, когда я смотрел на него. И во второй комнате никто не набезобразничал. Ни бог, ни царь, и не герой. И не изрезал никто острыми ножичками белые кожаные кресла и диван. Хотя зачем их резать? Они и так уже вида достойного не имели – протертые, промятые. Я их еще во время войны купил, когда во второй отпуск приехал. За валюту покупал, помню. Помню также, что жалко валюту было. Вообще, человек я весьма скуповатый, хотя мне, может быть, так только кажется. И телевизор никто не уволок, стоит он себе в углу на железной массивной ножке и не шевелится. Я дунул на него – не шевелится. Я сильней дунул – не шевелится. Я плюнул на него – не шевелится. Я пнул по нему ногой – зашевелился. Я успокоился тотчас и рассмеялся даже – а то стоит, гад, и не шевелится. Приказы не обсуждаются. Раз сказал, шевелись, значит надо шевелиться. А правильно я приказал или неправильно, это потом обсудим, после выполнения приказа. И книги из книжного шкафа не вынул, удивительно, какой неизвестный. И на первый взгляд их стало даже не меньше, чем до того, как я ушел из квартиры вчера или позавчера. И в платяном шкафу все так и осталось, как и оставалось до тех пор, как я ушел. Я бегло все в шкафу осмотрел и бегло все просчитал – рубашки там, туфли, майки, трусы. И все они (я хочу в это верить) оказались на месте. И двенадцатиэтажный дом за окном тоже стоял на месте, на том самом, на котором и стоял до того, как я ушел из своей квартиры. Я даже изумленно покачал головой, надо же, как стоял дом, так и стоит. А ведь такой большой, массивный и тяжелый на вид, а на тебе, стоит и не двигается, как вкопанный. Смотрел я так на дом, смотрел, а потом вдруг забеспокоился что-то. Непонятно почему, неясно отчего, забеспокоился. Неспокойно как-то стало, вот и забеспокоился. А чего забеспокоился, не пойму. Стою, смотрю на дом и не понимаю. А потом понял и еще больше забеспокоился – нет солнечного света на доме. Обычно в это время по утрам дом ослепительно ярко солнцем освещен, а сейчас не освещен. Не освещен. И значит, выходит, что если солнца нет, то получается, что исчезло солнце. А как же без солнца? Все кончится без солнца. Все, что есть вокруг, и все, чего вокруг нет, – все кончится, я знаю! Я все небо прошарил глазами, все, которое мог обозреть из окна, – нет солнца. Спотыкаясь, побежал к двери, выбежал на лестничную площадку и там на лестничной площадке к окну прильнул, – нет солнца. Опять в квартиру помчался. Окно открыл – с грохотом, звонко, с противным треском, – высунулся из окна, спиной на подоконник лег, лежал, прощупывал внимательно взглядом небо, закрывал глаза, открывал, опять закрывал, опять открывал, открывал и закрывал, открывал и закрывал, а потом заплакал, когда окончательно убедился, что солнца нет. Лежал и плакал с открытыми глазами, жалел солнце, жалел землю, жалел себя, конечно, очень жалел. «Как же так? – думал. – Как же так!» И вдруг что-то блеснуло желто перед глазами и в глаза блеснуло. Да, так и есть – в слезе блеснуло что-то золотисто. Я протер глаза и увидел на небе кусочек солнца, маленький кусочек СОЛНЦА, и я тотчас, прямо сейчас же, не сходя с подоконника, успокоился, почувствовал себя крепким, здоровым и готовым на все, что придет мне в голову, когда я решу, чтобы это что-то ко мне пришло, я живо оттолкнулся от подоконника, выпрямился, победительно посмотрел вокруг себя и, спрыгнув с подоконника, направился на кухню. Я изменился, как мне показалось, а раз так, то, значит, и вокруг меня все должно было измениться. Но комната, из которой я только что вышел, оставалась прежней, неизмененной. И кухня, порог которой я только что переступил, явилась мне точь-в-точь такой, какой и была всегда. Я усмехнулся – значит, нет, значит, я не изменился. Жаль! Наверное, еще не время. То, что такое время придет, знал точно. Еще не пришло попросту. Так и есть. Я огляделся еще раз – теперь уже не мнящий себя измененным. Моя квартира была тиха и пуста. Пуста и тиха. Да. Не то что у того фотографа Василия, у которого я был вчера. У него в квартире всегда клубятся разные народы. Народы громко и много разговаривают. И даже горячо и даже истово. И что самое любопытное, заинтересованно, а так же, что не менее любопытно, народы пьют и едят, и ширяются, танцуют и трахаются (в ванной, в сортире и на кухне), и курят травку, и нюхают еще всякую дрянь. И не устают. И не уходят. А если и уводят, то приходят снова и продолжают делать то же самое, что и делали до этого, – есть, пить, курить, трахаться – заросшие и лысые, улыбчивые и скверно пахнущие, богато одетые и дергающиеся в непролеченных нервных тиках, загорелые и с немытыми ушами, негры и томные лирические юноши, дети со стариковскими лицами и инвалиды войны и труда (у порога уже напивающиеся и падающие тут же в счастливом опьянении), местные дворники с метлами и жокей с недалекого ипподрома (все время мечущийся по квартире в поисках овса), какие-то татуированные и какие-то разыскивающие друг друга по запаху, некие, носящие в карманах живую рыбу, и другие, краснеющие от каждого матерного слова, – женщины и мужчины, взрослые и дети, гермафродиты и транссексуалы. И я. В первый раз там было весело. В последний раз там было скучно. Я не в меру выпил, не в меру покурил и выключился, хотя все понимал, и мог связанно ответить на бессвязанный вопрос. И мог даже сострить, если бы это было кому-нибудь нужно. Но никому это было не нужно и я не острил. Я оставил у двери деньги. Я посчитал, что надо с кем-нибудь за что-нибудь расплатиться. И этот кто-то у меня эти деньги взял, и сказал, что их хватит, чтобы на такси доехать до дома, и сказал, чтобы я собирался и выходил. Я не стал собираться, но покорно вышел. И вслед за мной вышел тот, кто забрал мои деньги, которыми я хотел с кем-нибудь за что-нибудь расплатиться. Я неслучайно повернулся – случайно. И увидел. Передо мной стояла молодая женщина, глазастая и губастая, как все мои предыдущие жены, и грудастая тоже, и ногастая, насмешливая и в черном платье, и, по-моему, основательно пьяная. Я видел ее впервые, и она меня, по-видимому, тоже. Но это не помешало ей прижать меня к стенке в коридоре и по-мужски взасос поцеловать меня в губы. Губы у нее были мягкие и вкусные. И поэтому я не стал капризничать и вырываться. А потом мы спустились по лестнице и вышли на улицу. А потом мы ехали в автомобиле, и я все время упорно спрашивал ее, говорит ли она по-немецки. А она отвечала, откуда, мол, я английский в школе учила и поэтому, конечно, и английского не помню. «Жаль, – отвечал я на это. – А то бы поговорили. Я так люблю говорить по-немецки». «Жаль», – отвечала она. «Конечно, жаль», – кивал я и опять спрашивал ее, а говорит ли она по-немецки, я так люблю разговаривать по-немецки. Нет, отзывалась она досадливо, она не говорит по-немецки. А жаль, сокрушался я, а то бы поболтали. «Это так приятно, – восхищался я. – Говорить по-немецки». А потом мы остановились у какого-то дома и поднялись по какой-то лестнице и вошли в какую-то квартиру. В прихожей я заставил мою спутницу обменяться со мной телефонами. Мы записали свои телефоны на бумажках и обменялись. Я взял ее бумажку и нетрезво посмотрел, что там написано, а там был написан ее телефон, состоящий из нескольких цифр, и я подумал тогда, как же это удивительно, что телефон состоит из цифр, – поразительно, – из цифр, а не из чего-нибудь другого, ну, например, из чего-нибудь другого, а под телефоном было написано слово «Дина». Что это такое, я спросил, «Дина»? Она сказала, что это ее так зовут, и, снимая черное платье, пошла в комнату, и я пошел за ней, снимая по дороге рубашку и брюки, да, удивился я по дороге: это, значит, так тебя зовут, потрясающе! А почему тебя не зовут по-другому, ну, почему, почему, приставал я к ней, уже голой, почти голой, в одних маленьких узких черных трусиках, стоящей у широкой спальной кровати, ну почему тебя не зовут как-нибудь по-другому, ну, например, и я задумался, и пока я думал она обняла меня очень приятно, очень нежно и очень даже очень, и мне даже показалось, что она не просто меня обняла и опять поцеловала взасос, а вообще всего меня просто взяла и всосала, и я не сопротивлялся и в нее всосался и какое-то время сидел там, в нее всосанный, а потом вдруг высунулся из нее и крикнул громко, чтобы самому себя услышать: «Дюна! Тебя зовут – Дюна! Я погибаю в тебе, как в дюнах, всосанный и высосанный!»Она не возражала, только отвесила мне подзатыльник и снова всосала меня в себя, а потом и упала со мной, всосанным, на спальную постель; и какое-то время, я не помню, какое, мы с Дюной по постели катались, катались, катались, а потом и еще всего разного много делали, я сейчас не помню, хорошо это было или плохо, но как-то было, это точно. Когда все кончилось, мы полежали и покурили, и о чем-то поговорили или не поговорили о чем-то, а потом она уснула с сигаретой в зубах с горящей, и, чтобы не случилось пожара, я сигарету из ее губ вынул и затушил в пепельнице, и похвалил себя после того, как затушил сигарету, какой, мол, я молодец, что взял и затушил сигарету, а то ведь сигарета могла упасть на кровать, на простыню или на пол и все эти перечисленные мною предметы могли загореться, и в квартире мог случиться неожиданный пожар, и нам пришлось бы срочно бежать из квартиры, спасаться от удушливого дыма и от жаркого, голодного огня, и, может быть, даже пришлось удирать голыми, потому что мы вряд ли бы успели одеться, а встречать голыми пожарников и других людей, которые сбегутся на огонь как на огонь, не очень как-то и красиво; а может быть, мы бы даже и не проснулись, если бы я тоже спал, и горели бы к чертям собачьим сонные прямо в постели, голые и вдвоем, такие красивые, такие молодые, так много не успевшие в любви, в труде и в служении Отечеству, но я нас спас, смело и решительно пресекнув попытку коварного огня лишить нас самого драгоценного, что есть в этой жизни, – красоты и таланта, нет, таланта и красоты, так вернее, какой же я молодец, подумал я, а потом и тоже уснул, как и Дюна, не храпя и не вздрагивая, и не мочась под себя, а тихо и спокойно, бессовестно и глубоко. Проснулся я от звука голоса. Сначала я решил, что от звуков моего собственного голоса, зовущего себя куда-то или зовущего себя к себе, а потом сообразил, что голос, от звуков которого я проснулся, принадлежит не мне, а другому человеку, и, скорее всего, женщине, я лежал с закрытыми глазами и гадал, кто бы это мог быть, и наконец догадался – Дюна, только она и больше никто, и открыл глаза, так оно и оказалось. Над моим лицом висело недоброе лицо Дюны. Дюна говорила, свирепо скалясь: «Вас махст ду денн, шайзе! Ну антворте, швайне, шнеллер, шнеллер!» Дюна говорила на чистейшем немецком языке, звучно, зычно и сочно, и глаза ее при этом трескуче сыпали синими холодными искрами. «Нун?» – вновь спросила она меня жестяным голосом и хлопнула меня больно по щеке, я откатился в угол кровати, но она догнала меня, и, продолжая выкрикивать грубые и непристойные немецкие фразы, била меня острыми кулачками по всему моему чистому и гладкому телу; оттолкнувшись от стены, я сумел вывернуться из-под ее кулачков и, изловчившись, коротко два раза ткнул ей локтем в живот, она вскрикнула испуганно на вдохе и согнулась тотчас, не в силах больше выдохнуть и вдохнуть, для верности я ей еще добавил по почкам, а потом несильно по затылку, и она, обмякнув, обвалилась на постель. «Во сука…» – сказал я и принялся сосредоточенно искать край кровати, ползая по ней туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, бумажно шурша свежевыстиранной простыней. Простыня являлась такой же просторной и необъятной глазом, как и сама кровать, которую она украшала, а также и защищала от пота, испражнений, спермы, слюны, блевотины и крови, Все вышеперечисленное привело меня в конец комнаты, к двери в спальню, там же, к счастью, оказался и долгожданный конец кровати, ее край, ее граница. И слава Богу, что не было на границе ни пограничников, ни таможни, никто не проверял мои документы и никто не ворошил мои вещи, и я мог спокойно сойти с кровати и не менее спокойно одеться, хотя самому мне, на самом деле, если говорить без преувеличений, а тем более и без преуменьшений было совсем не спокойно, я не знал, что думать, я не знал, о чем думать, пока одевался, пока причесывался, пока с нечеловеческой силой массировал пальцами свое человеческое лицо, не было мыслей, просто никаких, и это волновало меня и даже пугало меня, но я был достаточно опытен в разборках с самим собой и поэтому я не стал сопротивляться ни волнению, ни страху, а дал им возможность, одеваясь, причесываясь и массируясь, достигнуть своего апогея, и в самый пиковый момент я едва не потерял сознание, и едва не упал, глаза обожгло самым настоящим огнем и тело мое на какие-то секунды оказалось беспризорным и бесхозным, а сам я смотрел на него откуда-то со стороны, и даже не смотрел, а просто знал, что я вне тела, а оно торчит где-то сбоку, и непослушными руками натягивает на себя рубашку и свитер. А затем я снова вернулся к себе и тогда страх и волнение пропали, будто их никогда и не было, когда я дернулся. И я засмеялся тихонько, и с интересом, и не без некоторой приятности стал разглядывать (оно просто первым попалось мне на глаза, когда я вернулся) крепкое и здоровое тело Дюны, лежащее на кровати и невдалеке от меня и исходящее сонным жаром и отработанным воздухом, но без мыслей разглядывать стал и без думок, и без всякого другого чего, потому что ничего у меня такого тогда в голове и не было, не было ничего вообще, пусто было – страшное и одновременно восхитительное ощущение, – как не было и ничего другого, что могло бы быть, если бы все сложилось по-другому. Настроение сейчас владело мной веселое, и все мне очень нравилось, все-все, что я видел вокруг, и как всякому несовершенному человеку, мне захотелось, конечно, эту радость и это веселье усугубить, сделать их более яркими, сильными и продолжительными. Я не думал об этом, не думал, я просто хотел это сделать. И сделал. Забил травки в папироску – со вкусом и с любовью, жадно слюну сглатывая, – и закурил. На третьей затяжке я выключился. Как вышел из квартиры, как вышел из дома, как оказался на том пустыре, где снова включился, – не помню… Попытался вспомнить еще раз – в который раз – сейчас, вот сейчас, сидя на своей кухне. Но, как ни силился, как ни тужился, как ни пыжился, вспомнить ничего не смог, кроме того, что Дюна была жива, когда я ее оставил на кровати в квартире, в том доме, на той улице, куда она меня привезла. Но где эта улица, где этот дом, где эта барышня и что я делал до того момента, как очутился на пустыре, я сказать не могу – ни себе, ни тем более никому другому, даже под страшной пыткой. Это меня печалило, хотя не очень. Но печалило. Потому что я не люблю терять контроль над собой. Потому что я перестаю себя уважать из-за того, что я теряю контроль над собой, независимо, в какой ситуации я нахожусь, независимо оттого, пью ли я, курю, колюсь. Такое бывает очень редко, правда, но каждый раз я печалюсь и грущу по этому поводу; хотя не очень уж сильно, но грущу… Загудел холодильник, и я понял, что хочу есть. Все, что есть. Все, что было в холодильнике, все и съел. А было там много всего. (Я очень люблю, когда у меня в холодильнике много всего.) И колбаса трех сортов, и ветчина, и соленые грибочки, и авокадо, и баклажаны, и вальдшнеп, и бекас, и чирок, и гурийская капуста, и филе из почек, и желе из вишневого варенья, и вязига, и исландская сельдь, и курица, и кулебяка, и лососина, и ножки свиные и телячьи, и плов с изюмом и овощами, и окрошка сборная мясная, и бефстроганов, и севрюга отварная с грибами, и пирог, и творожная запеканка, и угорь, и украинские галушки, и фейхоа, и форшмак, и фруктовый гоголь-моголь, а также канапе Но-но-Нанет, оладьи из грюйера, гратинированное буше, кнели а ля Нантюа, флорентийский суп из шпината, суп-пюре майансе, судак а ля меньер, пироги Форфар бридиз, сухое печенье Абернети, десерт Аттолл Броусз, Эстуфад из говядины, фарш Пармантье, баранья нога шеврей, утка по-руански, эндивий по-фламандски, и кебали, и сациви из омаров, и чохохбили из куриных потрохов, да и еще всякая привычная мне другая вкусная и разнообразная ерунда, которую я, собственно говоря, и не особо-то ем, потому как, когда всего много, из этого многого трудно выбрать что-то одно или что-то два, или что-то три, или что-то четыре (хотя я предпочитаю одно или два), И именно поэтому, а не по какой-либо иной причине, проблема выбора – это самая большая и трудно разрешимая проблема в этой жизни. Я вынул из холодильника всего лишь небольшой кусочек одесской колбаски и съел его с немолодой хлебной корочкой – и с большим удовольствием. И с не меньшим удовольствием запил эту обыкновенную, но достойную пищу холодным и очень сладким, совершенно обычным, но так порой необходимым мне и многим другим, хоть мне совсем и не подобным людям, чаем. Уже на кухне я скинул куртку и кроссовки, а во время еды сиял и свитер, а закусив, сбросил с себя и рубашку, и, обнаружив уже в спальне, что к тому же я еще и без джинсов, понял, что очень хочу спать. И лег на большую свою кровать. И уснул на ней, удобной и родной, пахнущей мною и моими снами. Сон, который мне приснился на сей раз, пах цветочками и кровью. Сначала цветочками, затем кровью, а под конец опять цветочками. Все происходило так – во сне. Я шел по чистой прохладной аллее и смотрел по сторонам. Деревья по бокам аллеи были гигантскими, а земля почему-то катилась под ноги совсем близко от моих глаз. А правую руку свою я почему-то нес вытянутой вверх. Подивившись близкой земле и не малым деревьям, я посмотрел в сторону своей вытянутой руки и увидел, что она продолжается еще чьей-то рукой, которая, в свою очередь, переходит в крупное женское тело, украшенное длинным темным платьем. Над платьем, я заметил, торчала голова. Лица, являющегося необходимой составной частью любой головы, я разглядеть, к сожалению, не мог – чересчур высоко. Голова говорила: «Смотрите, барин, и эта аллея тоже принадлежит вашему папеньке, и эти поля, которые за аллеей справа и слева, они тоже принадлежат вашему папеньке, и холмы за полями, и леса на них тоже принадлежит вашему папеньке, и озерцо, что за лесом, тоже принадлежат вашему папеньке, барин, и вон те людишки, что толкутся в поле, глупые, тоже собственность вашего папеньки, и я сама, такая красивая и крепкая, тоже принадлежу вашему папеньке…» – «А что же принадлежит мне?» – помню, спросил я-маленький. «Пока ничего, барин, – засмеялась та, которая принадлежала моему папеньке. – Даже здешний воздух пока не принадлежит вам» – «И никогда ничего не будет принадлежать мне?» – осведомился я. «Будет, почему нет, – ответила та, которая вела меня по аллее, по темной и по чистой, и по прохладной. – Когда вот умрут ваш папенька и ваша маменька, тогда и будет» – «А когда они умрут?» – не отступал я-малютка. «Когда Бог распорядится, тогда и умрут, – ответила та, которая мне все рассказывала. – Может, сейчас, может, через год, а может, и через сто лет, как Бог распорядится, так и умрут» – «А почему распоряжаться должен Бог? – пробормотал я, с удовольствием разглядывая поля, леса и деревья, и людишек. – Почему не я?» – «Экий вы, барин, право, – смеялась моим словам та, что шла рядом – экий, право! Ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха!» В ту же ночь я зарезал своих родителей в их собственной постели. Окровавленный мясницкий нож, выбранный мной для совершения акции, я сполоснул в ванной. Я постарался сделать так, чтобы вода не полностью смыла кровь с лезвия и рукоятки. Той же самой ночью я подбросил нож под кровать той, слова которой на все на это меня и надоумили. Ее арестовали вечером следующего дня. А еще через месяц ее сослали на пожизненную каторгу. Мне не было жаль ее ни тогда, ни потом. Тогда – потому что мне было всего пять лет, а потом – потому что я просто забыл о ней. В самом конце моего сна я сидел в роскошном кабинете своего умопомрачительного дома, разглядывал свои необъятные поля, леса, холмы и бездонные дали и с недоумением думал, почему люди всегда чего-то ждут, на что-то надеются, вместо того чтобы взять и сделать то, что они хотят, если хотят, конечно… И так упоителен, так сладок был этот сон, что мне не хотелось просыпаться. Еще с полчаса, наверное, я лежал с открытыми глазами, перебирая подробности и нюансы этого замечательного сна, и прикидывая, о чем же это он и к чему, и почему вообще он такой мне явился; руководство ли он к действию или предупреждение о чем-то, а может он просто отголосок прошлого, войны, например. Может и так. Зазвонил телефон, и я взял трубку. В трубке помолчали и отключились. «Пи-пи-пи-пи», – сказали они, когда отключились. «Пи-пи-пи-пи», – сказал я и пошел в туалет. Мочился недолго, но с удовольствием, думая о том, что все в этой жизни надо делать с удовольствием, а иначе и жить не стоит, только как этому научиться – все в этой жизни делать с удовольствием? После душа я, конечно, насухо вытерся, прежде всего, а как же иначе, и причесался. Выйдя из ванной, оделся во все красивое и, как мне казалось, мужественное – в просторные черные брюки, черно-белый свитер, и зеленую армейскую куртку, привезенную с войны, с надписью «Морская пехота США» на левой стороне груди. Еще долго я, наверное, любовался бы своим четким и светлым отражением в висевшем на стене прихожей зеркале, вставал бы и так и сяк, и спиной, и боком, и передом, конечно, и приседал бы, и полуприседал, и вытягивался выше себя, чем я есть такой, или просто принимал бы исключительно, на мой взгляд, красивые, обаятельные позы, но тут, на тебе, позвонили в дверь – кто-то снаружи позвонил ко мне внутрь, тот, наверное, кто хотел меня видеть, или тот, кто ошибся номером квартиры, или просто этажом, или просто домом, и совершенно не хотел меня видеть, но тем не менее звонил в мою квартиру. «Нет уж, нет уж… – прошептал я, не переставая разглядывать свое отражение, – никто мне не нужен, когда я здесь сам, – и засмеялся притаенно. – Нет уж, нет уж…» Я никогда никому ни при каких обстоятельствах не открываю дверь, чтобы даже самое, что ни на есть, страшное ни случилось, хотя и не очень ясно себе представляю, что такое вообще «самое страшное». Но это уже, конечно, мои проблемы и совсем не того, кто иногда звонит в мою дверь. Может быть, он в отличие от меня и представляет отчетливо, что такое «самое страшное», но это уже его проблемы, того, кто звонит в мою дверь. Так вот, я никогда не открываю дверь в свою квартиру, если кто-то звонит мне в квартиру без предварительной со мной договоренности о том, что он или они придут ко мне и позвонят в звонок перед входной дверью в мою квартиру. И именном поэтому дверь я сейчас не открыл, а, еще раз взглянув на свое приятное отражение, пошел в гостиную, сел на диван и закурил, решив подождать, пока звонивший не уйдет, – я очень не люблю выходить из квартиры, когда знаю или чувствую, или слышу, что на лестничной площадке кто-то находится. Я закурил и принялся ждать. Ждал, ждал, ждал, ждал, ждал, ждал, ждал, ждал, ждал, ждал, ждал и выкурил сигарету. А выкурив, вспомнил, что не позвонил на свою фирму, куда и собирался сейчас идти после того, как тот, кто был на лестничной площадке перед моей дверью, уйдет куда-нибудь, может быть, даже и восвояси. Я взял трубку и набрал номер и, когда на мой звонок ответили, сказал даме, которая сняла трубку, много теплых и приятных слов, а потом попробовал угадать, в каких она сегодня трусиках, и угадал. Да, мол, ты прав, подтвердила она, в голубых, и заметила затем с сожалением, что, видимо, тайн в ней больше теперь для меня не существует и именно поэтому в последнее время я так редко с ней встречаюсь. И пытала все меня: «Так, да? Так? Я права, да?» Я сказал ей, что своими словами она заставляет меня плакать, и всхлипнул натурально и громко, а слезы, как известно, сказал я, портят мальчишечье лицо, и сказал, что если она будет продолжать говорить в том же духе, то скоро мое лицо испортится настолько, что она сама не захочет меня видеть, и спросил, не этого ли она добивается, собственно говоря. Она вежливо посмеялась и спросила, зачем я звоню. Я полюбопытствовал, нет ли для меня каких заказов. Она сказала, что они меня давно ждут и что текстов скопилось уже очень много. И тогда я сказал, что еду. А она сказала, что будет ждать меня и, по-моему, тоже всхлипнула и достаточно громко, и достаточно натурально, а может быть, мне так только показалось, может быть, – милая женщина, с хорошей фигурой, симпатичным лицом, неглупая, незлая, не дура, только зачем родилась? Я посмотрел на часы – на.часах было время – и поднялся, решив, что те, кто стоял за дверью и звонил в квартиру, или тот, или та, уже ушли, и я могу спокойно выйти из своей квартиры. Я снова посмотрелся в зеркало, перед тем как выйти. Сделав несколько па, улыбнулся себе довольный и шагнул к двери. Упустив меня из поля своего зрения, зеркало тотчас поблекло и погрустнело. Я открыл замки и, не мешкая, дернул дверь на себя. Никого, слава Богу. Но выходить я не спешил. Прислушался. Вроде как тихо. И только тогда ступил за порог. Первый удар пришелся мне меж ног, второй по уху – больно, третий сбоку, вскользь по кадыку. После третьего удара исчезло дыхание и, окунувшись в темноту, тугую и ощутимую, я бессильно повалился на холодный каменный пол. В темноте я – маленький, бегал по спальне убиенных мною тридцатью шестью ударами мясницкого ножа родителей, по восемнадцать ударов на брата, я считал, и радостно повторял: «А почему я должен ждать? Ну скажите мне, чему, мать вашу, я должен ждать?!» Очнулся я, наверное, через секунду, а может быть, через две, а может быть, через три. Я скоро очнулся, я это знал. Но не так все же скоро, как хотелось бы, как следовало бы, как требовалось бы в данное конкретное время, потому что, пока я был в отключке, мне успели уже надеть наручники на запястья. Болело горло, болело ухо, болел член, все вместе и все сразу. Но это нисколько не помешало мне поднять голову и разглядеть тех, кто бил меня и надевал наручники. Их было пятеро. Все крепкие, молодые, уверенные в движениях ребята. Я встречал таких на войне, профессионалы, из тех, которые тренируются каждый день и по нескольку раз в день, и, кроме тренировок, более ничем не занимаются, вообще ничем, даже сексом, даже ковырянием в носу, даже семьей, даже воспитанием собственных детей, потому что детей у них нет и семьи тоже. «Ха, ха, – сказал я себе, лежа в коридоре перед своей дверью в свою же квартиру и разглядывая тех, кто завалил меня и надел мне наручники. – Ха-ха, я, конечно же, все придумываю насчет этих замечательных ребят. Я, конечно же, их идеализирую. Для того чтобы так отдаваться работе, отбросив подальше к чертям собачьим и секс, и детей, и заботу о чистоте собственного носа, надо быть гением. А они, эти ребята, судя по моим некоторым наблюдениям снизу, были совсем не гениями, совсем-совсем. Они были хорошими грамотными профессионалами, я это видел, но совсем не гениями». Только я закончил думать эту свою не гениальную мысль, как меня подняли, – двое, встряхнули, пару раз, одновременно заглядывая мне в глаза, видимо, удостоверяясь, что я окончательно пришел в себя, и убрали, наконец, от меня руки, оставили стоять меня одного, без их помощи, и сами отошли. И только сейчас, когда они отошли, в глубине коридора у квартиры напротив, в тени, я разглядел человека с бетакамовской видеокамерой на плече. Человек снимал меня. Вернее, конечно, не только меня. Он снимал весь недолгий процесс моего задержания, ну и, соответственно, потом и меня одного, крупно, для истории, наверное, а более для суда, или просто для оперативного архива, а может, и еще для чего. Я усмехнулся в камеру, и сказал: «Красиво. Все красиво было сделано. Только непонятно, зачем, – и добавил, поворачиваясь к мускулистым ребятам, – зачем?» Никто из них ничего мне не ответил, стояли и молчали, длинноволосые, одетые в джинсы и куртки (правда, худшего качества, чем моя с надписью «Морская пехота США» на левой стороне груди), симпатичные ребята, несмотря ни на что. «Я все сейчас тебе расскажу. Я думаю, тебе будет интересно услышать то, что я сейчас тебе расскажу», – услышал я чей-то голос. Владелец его медленно спускался по лестнице, ведущей на следующий этаж. Это был человек, а не что-нибудь другое, я увидел это сразу, а зрение у меня хорошее, вижу всегда то, чего не видят другие, и очень этим горжусь, да. Я увидел еще, что лицом он больше похож на корейца или китайца, или японца, или еще какого-нибудь представителя восточных национальностей, но никак не на русского, не на европейца, если быть более точным. Но при всем при том, тем не менее, и, если быть до конца откровенным, как говорится, примесь европейской крови в нем была, это к деду не ходи (к которому я, собственно, давно уже не хожу). Европейскую примесь можно было определить по овалу лица, по достаточно твердому округлому подбородку и по не слишком узкому разрезу глаз и еще по густой щетине (я подчеркиваю, по густой), которой с позавчерашнего, видимо, или с позапозавчерашнего дня поросли его щеки. Был он высокий (пониже меня, правда), худой складный, волосы носил зачесанными назад и на затылке эти самые волосы (это я потом заметил, когда он ближе ко мне подошел) собирал в тонкий хвостик. Вот таким был тот, по виду которого я определил, что он – человек, а не что-нибудь другое, или кто-нибудь другой (ну там слон, например, такое тоже бывает в большом городе – идешь, идешь, и вдруг тебе навстречу слон, и не знаешь, как себя вести, ну просто не знаешь, правда, если навстречу слон, а тут человек, эта ситуация попроще, для меня во всяком случае). Не оборачиваясь, человек махнул кому-то у себя за спиной, тому, кто стоял на несколько ступенек повыше него. Тот спустился. И когда он спустился и встал рядом с человеком, я увидел… Господи, я увидел того самого усатого старшего лейтенанта, машина которого саданула меня в бедро сегодня утром на большом шоссе, и от которого я убежал, предварительно ударив его куда-то в тело, я уже не помню даже, куда. Усатый старлей злобно и не скрывая своей злобности посмотрел на меня, сверху вниз со ступеней (а мне показалось, что снизу вверх – из-под такого подлобья он на меня смотрел) и сказал тихо: «Это он. Да, он». «Хорошо», – без эмоций отреагировал человек с хвостиком на затылке, спустился со ступенек, подошел ко мне. «Не страшно?» – спросил. «Нет», – ответил я, усмехнувшись. Хотя страшно-то было. Конечно, это я врал, что не страшно. Но не говорить же в самом деле этому человеку, совсем незнакомому, что мне страшно. Неприлично как-то. «А зря, – сказал совсем незнакомый человек, – что не страшно» – «А чего бояться-то? – Я равнодушно пожал плечами. – Смерти? Тюрьмы? Мук совести? Так я уже умирал однажды. Это не страшно. А к тюрьме привыкаешь, как и ко всему прочему на этом свете. Я знаю. А что касается совести, так ею мучаются, как правило, те, кто не умеет отвечать за свой поступки, за свои мысли, может быть, даже. Перед самим собой прежде всего отвечать, перед самим собой. А я к числу таких не отношусь. Я умею отвечать за то, что сделал», – сказал я и засмеялся для всех неожиданно, свободно засмеялся и даже очень натурально весело. И очень я себе понравился в тот момент, очень. Смеясь, оглядел серьезных ребят вокруг себя и спросил, все еще смеясь, обращаясь к ним ко всем сразу: «Не слишком высоко выразился? Не слишком пафосно? Я могу иногда. Я умею». Но ребята опять отмолчались, опять, служба, видно, у них такая молчаливая, да и слава Богу, впрочем, что отмолчались. А то гляди, заголосили бы все разом, отвечая подробно на заданный мною вопрос, и хоть уши тогда закрывай – у меня слух тонкий, нежный. А как их закроешь и чем, когда руки-то в наручниках? (Фирменных, причем, наручниках, немецких. Я сразу обратил на это внимание, как только очнулся. Я такими тоже пользовался, помню, когда на войне еще работал.) Человек с нерусской внешностью посмотрел на меня с нескрываемым интересом и сказал затем, глаза от моего лица не отводя: «С тобой будет сложно» – «Не думаю, – не торопясь, покрутил я головой. – Если я и впрямь совершил то, за что вы меня задерживаете, я отказываться не буду. Я сговорчивый. Если нет, будем работать вместе. То есть будем вместе искать ответы на все ваши вопросы» – «Ты что, действительно, не догадываешься, почему мы тебя задержали?» – «Частично догадываюсь, – кивнул я на усатого старлея. – Но если бы только за это, – я опять кивнул на старлея, – то задерживали бы тише, сами, без группы спецназначения, как в старые добрые времена, сами. А раз задерживали не сами, а с помощью спецбригады, то выходит, что считаете меня опасным. А почему так считаете, не знаю и не догадываюсь». Сказал и вспомнил в тот момент, что в квартире моей, в секретном тайнике отдыхает американский кольт «спешл фор полис» калибра 38. Если у них есть постановление на обыск, и они найдут его, то вкатят мне двести восемнадцатую за хранение огнестрельного оружия. Небритый, который с косичкой и который нерусский, ничего не ответил на мои слова. Молчал, так же как и его люди. Только менее серьезным казался, чем его люди, и более легким, более свободным, более умным и во всяком случае более ироничным, чем его люди, – ленивая усмешка слонялась по его "губам, и тихая улыбка плавала в его глазах. И тем не менее он промолчал и ничего мне не ответил, и после того, как ничего не ответил, махнул рукой своим ребятам, не глядя совсем на своих ребят и зная, конечно, что они смотрят на него, и, сунув руки в карманы модных брюк, ступил на одну ступеньку на одном лестничном марше, ведущем вниз к другому лестничному маршу, а потом к другому лестничному маршу, а потом к другому маршу, а потом еще к одному маршу, а потом к выходу из моего подъезда. И когда уже полностью одной ногой он ступил на эту ступеньку, все-таки решил, наверное, что-то сказать и обернулся ко мне, И улыбки в его глазах я теперь не увидел. В глазах иное что-то теперь плавало – не улыбка – боль. И мне стало жутковато. И именно поэтому я сказал ему именно в тот момент, когда он на меня смотрел, опередил его, сказал, тоже переходя на «ты». «Подожди, – сказал я ему. – Не спеши, – сказал ему. – Ты кое-что забыл, – я усмехнулся. – Ты не представился и не объяснил мне, почему ты меня задержал, и тем самым, как ты понимаешь, нарушил закон». Нерусский убрал ногу со ступеньки, перенес ее неторопливо к другой своей ноге и потом этими самыми ногами, все так же не торопясь, направился ко мне. Я знал, что сейчас будет. Чувствовал. Но не знал, почему так будет. Не догадывался, не понимал. Я видел этого парня в первый раз, так же как и он меня. И я не знал, почему столько ненависти в его походке, в его руках, в его пальцах, в его зубах, волосах и, конечно же, в неморгающих узких глазах. Когда он остановился в метре от меня, я уже был готов. Навыки рукопашного боя остаются на всю жизнь, даже если уже и одрябли мышцы, и реакции нет уже прежней, и в настоящей драке не был давно, и чрезмерно пьешь виски, и охотно куришь травку, когда она есть (и, соответственно, не куришь, когда ее нет), и спишь с тремя женщинами одновременно (удовлетворяя их и истощая себя, хотя иногда бывает и наоборот, ха, ха), даже если все чаще прикидываешь, сколько тебе осталось жить, и каждое утро просыпаясь и каждый вечер засыпая, думаешь, для чего же ты предназначен в этой жизни, что ты должен делать в этой жизни, чтобы тебе не было скучно, так беспокойно, так утомительно. Навыки рукопашного боя остаются, даже если ты решил уже позвать смерть. С нетерпением, радостью и с тревогой ожидая ее прихода – вот как сейчас, – ты все равно автоматически готовишься к бою с ней: концентрируешься, расслабляешься, напрягаясь, просчитываешь варианты, как встретить ее, смерть, слева, как встретить ее справа, открыть ли лицо, подманивая ее, или погодить до ответного маневра… Небритый быстро и сильно ударил меня под вздох. Но кулак его встретила мышца – уже давно нетвердая, но все же еще достаточно крепкая, чтобы выдержать хороший удар. Я усмехнулся, и небритый усмехнулся тоже, и глядя усмешливо в мои не менее усмешливые глаза, той же правой рукой ударил мне кулаком в промежность. А вот здесь уже напрягайся – не напрягайся, ничем ты эту штуку не защитишь. Очень больно мне стало, очень, и я согнулся, конечно, на секунду забыв, как меня зовут. «Вот закон, – негромко сказал нерусский с косичкой и вслед своим словам, без замаха, снизу, достал меня в подбородок. Я отпрянул назад и повис на руках у его ребят, слабый и никому не нужный, жалкий и даже собой не любимый. – Настоящий закон, – добавил небритый, ухмыльнулся, достал из кармана куртки красную книжечку, развернул ее, поднес к моим глазам, заключил: – А вот моя фамилия: «Майор милиции Атанов Владимир Резакович, состоит на службе в Управлении уголовного розыска», – прочитал я в удостоверении. «Значит, все-таки милиция», – прошептал я. «А ты ждал кого-то другого?» – насторожился Атанов. «Да», – хмыкнул я, слизнув кровь с верхней губы, – я ждал ответов, а пришли вопросы» – «А если подумать?» – не отставал Атанов. «А если подумать, – сказал я устало, – то я ждал, конечно, папу римского. Он обещал забежать сегодня, да видно не забежит уже», – и я вздохнул горестно. Мне и вправду было обидно, что папа римский уже не забежит сегодня, и мы с ним сегодня же поболтаем. Я люблю иногда поболтать с незнакомыми людьми, особенно если знаю, что больше ни с кем из них никогда не встречусь, люблю, люблю. Хоть что-то, значит, я еще люблю на этом свете, я усмехнулся про себя. И то хорошо, что хоть это люблю, не все потеряно, значит – из того, что терялось, и из того, что теряется (каждое мгновение, которое я проживаю, теряется). Не все теряется, значит, так можно сказать. И я говорю – не все теряется. Что-то остается. И как правило, то, из чего мы снова можем построить себя. Только это «что-то» нужно уметь четко определить и умело его использовать, это сложно, это не каждому дано, но шанс есть у каждого, я знаю! «Не зли меня, сука, – сказал Атанов, глядя мне в рот. – Или я убью тебя!» – «Убей меня, суку, – сказал я. – Или я буду злить тебя…» После этих слов я снова получил точный и быстрый удар в собственное лицо и отключился, мать вашу, в который раз уже за последние сутки. Я видел огромного человека, легко и играючи перешагивающего с одной горной вершины на другую, с третьего пика на четвертый, с пятого на шестой, с седьмого на восьмой, с девятого на десятый, пики и вершины не кончались и не кончались и были, можно сказать, нескончаемыми, потому что не кончались. Человек шел и молчал. Глаза у него были спокойные. Лицо чистое и открытое. И обаятельное, что немаловажно для идущего по вершинам. И очень гармоничное, и даже, можно сказать, красивое. И, глядя на этого человека, я был счастлив, как никогда еще ни наяву, ни во сне. Я смотрел на этого человека и не понимал, почему только оттого, что я гляжу на него, с одной горной вершины на другую переступающего, я чувствую себя таким счастливым. А потом понял, разом, щелк и понял – потому, что тот огромный человек был я сам. Вот так. И я засмеялся – еще в забытьи – и, засмеявшись, очнулся. Продолжая смеяться – искренне и свободно, – огляделся и увидел вокруг себя салон автомобиля, а по бокам себя двух молчаливых ребят. И еще косичку Атанова впереди себя увидел. Косичка болталась из стороны в сторону весело и шаловливо. И чем больше я смотрел, как она мотается туда-сюда, тем больше мне хотелось дернуть за нее. Сильно. И вырвать ее из головы Атанова. С корнем, И вместе с другими волосами тоже. Со всеми. И затем наблюдать (этого мне тоже хотелось), как майор Атанов будет вести себя, когда станет лысым. Закричит ли от боли. Или стерпит. И будет пыхтеть, сдерживаясь. Засмущается или, когда без волос останется. Или, наоборот, разозлится и всех застрелит, всех, кто видел его в таком неприглядном виде. Интересно, интересно, как же все будет происходить? И как я ни терпел, как ни комкал это свое совершенно естественное желание, как ни запихивал его с неслышным криком под левую пятку, а может быть, и под правую, я не помню, но так и не смог себя пересилить и потянулся все-таки мертво сцепленными своими двумя руками к косичке Атанова. Но не дотянулся, к огорчению своему, успели ребята перехватить мои руки и для острастки подломили мне запястья больно. Я даже вскрикнул тихонько. А Атанов обернулся на мой вскрик и посмотрел на меня нехорошими глазами. А я опять засмеялся, по-прежнему, искренне и легко. Я не перестал бояться, нет. Просто, видимо, мой организм вспомнил старый военный опыт, – организм наш ведь все помнит, это каждый знает, и дурак и не дурак, каждый знает – и защищаясь, за считанные минуты он (так быстро потому, что раньше он уже умел это делать) сжился со страхом, свыкся с ним, как с неизбежностью и, наверное, даже как с необходимостью. И поэтому я чувствовал себя сейчас спокойным и бесстрастным. Только вот смеяться хотелось. И я смеялся. Я смеялся, а Атанов смотрел на меня в упор. И я в какое-то мгновение очень ярко и ясно ощутил, что еще несколько секунд, и он вынет свой табельный «стечкин», который я заметил у него под мышкой, и пристрелит меня к чертям собачьим, но, мать мою, удержаться я уже не мог. И тут, на мое счастье, машина, наконец, остановилась. И Атанов отвернулся от меня, такого веселого, и вышел из машины, когда машина остановилась, а она остановилась, это точно, потому что когда я посмотрел в окно, то увидел, что мы действительно уже никуда не ехали и совершенно конкретным образом уже куда-то приехали. К какому-то дому на какой-то улице. Когда я тоже вышел из машины, но не так, правда, красиво, как Атанов, не уверенно, не по-хозяйски, не по-барски, не упруго-пружинисто, не спортивно-тренированно, а неуклюже, враскоряку, подгоняемый пинками и матюками, я уже не смеялся. Желание веселиться исчезло только по одной простой причине – оттого, что я больше не видел перед собой смешной майорской косички, и, следовательно, не хотел за нее дернуть, раз я ее уже не видел, и поэтому, естественно, перестал фантазировать на тему лысого Атанова, и именно поэтому перестал смеяться. И серьезный уже и молчащий я ступил на тротуар, и, ступив, зачем-то посмотрел на небо и смотрел на него же, когда меня вели ко входу в здание. На небе я видел небо, которое было серое, но светлое, дневное (как быстро и неожиданно, внезапно настал день), но без солнца оно было и на первый взгляд мокрое было, и на второй – тоже и на третий тем более, более чем мокрое – очень мокрое. В скором времени, наверное, оно собиралось поделиться излишней мокротой с землей. Наверное, – потому что ничего нельзя знать наверняка. Небо могло поделиться, а могло ведь и не поделиться, так-то. Но пока в воздухе и на улице излишняя влага не ощущалась – совсем. Сухой ветерок дул в глаза, и сухая пыльца клубилась из-под ног. Я перестал разглядывать небо и поглядел себе под ноги. Из-под них на самом деле, как я и предполагал, неглупый, клубилась мелкая пыльца. И из-под других ног она тоже клубилась. Из-под ног атановских ребят, например. И из-под ног прохаживающихся прохожих, которые проходили по тротуару мимо меня, когда меня вели по тому же тротуару в трехэтажное желтое здание с красной доской перед входом: «Управление внутренних дел». Оп-ля.ВОЙНА. СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД
Он уже был у двери, когда услышал стон. За дверью стонал мужчина, а может, и женщина, тяжко, с сопротивлением; что-то мешало перемещению воздуха, выходящего из легких, из бронхов, из горла, – это могли быть и зубы, и язык, и губы, и носовые хрящики, и слюна, и банальный кляп, и залетевшая в дыхательные пути муха, и попавшая не туда, куда надо, косточка от персика, и душистый мужской член, и свежие женские трусики, да и много-много другого. …Он был уже у двери, когда услышал стон. Звучный. Или вскрик – негромкий. Звук показался нечаянным, коротким. Звук показался. Наверное, показался. Нехов огляделся – влево голову повернул, вправо, будто мостовую собирался переходить, по которой много-много машин ездит, и назад посмотрел, назад, опасаясь, как бы кто не столкнул его под колеса, как бы… Гостиничный коридор был пуст и тих. Сумрачен. Слева в конце коридора, там, где должна быть лестница, ведущая вниз и ведущая наверх – на другие этажи, – было темно, ни перил не различить, ни ступеней, ни стен… Справа, в другом конце – покрытое густой пылью окно, серое и унылое, – хотя за стеклом желтое солнце и синее небо. Скрипнула паркетина под ногой у Нехова. Он тотчас ступил в сторону. Хотя, наверное, этого можно было и не делать. Если за дверью никого нет, то и опасаться нечего, а если кто-то есть, так именно Нехова они и ждут, и знают что он уже идет, и знают, что он уже пришел, и знают, что он непременно войдет туда, где они его ждут. И Нехов опять наступил на поющую паркетину. Она пискнула чисто и весело. Нехов надавил сильней, скрип сделался низким, увесистым. Нехов поднял ногу – дерево проголосило надтреснуто. Нехов опять нажал на паркет, сильнее, слабее, еще, еще… Получилось что-то вроде «Чижика-Пыжика». Нехов засмеялся громко, без стеснения, чистые гладкие зубы под губами обнаружив, сунул руку под пиджак – под мышками на белой полотняной материи темные разводы, мокрые, пот, – вынул оружие. Не привычный табельный «Макаров», а шестизарядный револьвер – кольт тридцать восьмого калибра, длинный, тяжелый. Оттянул курок нарочито резко и нарочито громко. Звякнул металл, задрожал тонкой дрожью, висящую в воздухе невесомую пыль от себя отгоняя, прогудел едва слышно, бодря Нехова, черной энергией свинца и стали его заряжая. Нехов поднял руку, чтобы постучать в дверь, но передумал в ту же секунду и вместо стука толкнул дверь легонько костяшками согнутых пальцев, и дверь поддалась, дверь была не закрыта, дверь была открыта. Она мягко тронулась с места – послушная, тихая – медленно, плывуще откатилась назад, на смазанных петлях без скрипа поворачиваясь. Но Нехов был нетерпелив и, он решил поторопить ее, двинул по филенке ногой, дверь отлетела в сторону с треском и грохотом, бурно и шумно высказывая Нехову чувство признательности за его решительность и поддержку. Саданув по двери, Нехов метнулся в сторону – ожидая удара, выстрела или газового нападения, – вытянув перед собой руки со стиснутым в них слонобойным кольтом, машинально сдувая пот с верхней губы. И отчетливо слыша, как он его сдувает, отчетливо и ясно, потому что других звуков в тот момент в комнате слухом не улавливалось; дверь уже успокоилась и замерла, вытянувшись «смирно», а ничего другого и никого другого, способных производить какие-либо другие звуки, допустим, человека или, к примеру, животного, или еще кого, может быть, даже неземного существа в комнате не наблюдалось. Нехов выпрямился, немного расслабился, но оружия не опускал, водил стволом по сторонам – куда смотрел, туда и ствол направлял. Осторожно шагнул в глубь гостиничной комнаты, обогнул толстое кресло, обогнул низкий столик, коснулся бедром письменного стола, медленно пошел к окну – надо было отдернуть шторы, в комнате полумрак, по углам шевелится темнота – и едва не споткнулся об угол широкой и низкой кровати, разобранной и измятой. И хорошо, что не споткнулся, а то бы упал прямо на лежащее между кроватью и окном тело. Нехов сморщился отчаянно, когда увидел тело, и выругался затем матерно, длинно, и совсем не соблюдая стилистики, повторяясь, путая падежи и женский род с мужским, но зато от души. Продолжая выражать свои чувства с помощью нецензурной брани, Нехов вложил гаубицеподобный револьвер в кобуру под пиджаком и присел на одно колено возле тела (второе колено на пол по какой-то причине решил пока не ставить), приложил пальцы к шее лежащего мужчины и вздрогнул, ощутив подушечками пальцев.слабые, вялые, редкие и опасно аритмичные толчки крови, и вздрогнув, тотчас перестал ругаться, незачем было сейчас материться, сейчас надо было действовать, надо было работать. Нехов встал с одного колена. Второе почему-то он все-таки так и не опустил на пол. Вставая, подумал – а почему, действительно? Потом как-нибудь надо будет разобраться в этом, потом как-нибудь, на отдыхе, где-нибудь в Сан-Тропезе, в Антибе, в Биарице, в Каннах, в Ялте, в Весьегонске, потом. Он приблизился к письменному столу, из кармана белых полотняных брюк, мятых и тоже, как и пиджак, мокрых от пота, вынул платок, накрыл платком трубку телефона, поднял ее, набрал номер. – Капитан Нехов, – представился, – гостиница «Тахтар», номер триста шестнадцать, покушение на убийство, ранен полковник Сухомятов, раны огнестрельные, две, давай опергруппу и скорую помощь. Пока докладывал, разглядывал себя в зеркале, висящем над столом, отметил, что щетина ему идет, и даже очень идет и решил, что будет теперь всегда ходить со щетиной, и пусть хоть одна сука запретит ему ходить со щетиной, грохнет враз из кольта-зенитки. Ухмыльнулся, не запретят, потому что знают, что ежели чего, то точно грохнет, без колебаний, знают… Возвращаясь к лежащему Сухомятову, отдернул все-таки шторы. Солнце выбелило стекло, ярко осветило комнату, темнота из углов с ворчаньем шмыгнула за дверь. Комната оказалась скучной и безликой, в таких комнатах или трахаются, или стреляются, или убивают, подумал Нехов, потому что жить в такой комнате невозможно, невозможно, так, а Сухомятов жил, мать его, и сам ведь выбрал эту гостиницу и эту комнату. Проводил здесь все свободное время, когда не был задействован в операциях или не работал в городе, в штабе дивизии. Каждый вечер с упорством, вызывающим у сослуживцев и одобрение, и недоумение одновременно, спешил в гостиницу, в этот номер, запирался в нем и словно умирал до следующего утра. Хотя нет, не умирал, отзывался на телефонные звонки – не мог не отзываться – инструкция, – но был немногословен, отвечал односложно – «да-нет», вполголоса, без выражения, механически, будто и не он это вовсе отвечал – всегда на людях энергичный, самоуверенный, злой, – а кто-то другой, кто находился рядом или заменял его на вечер и на ночь, и на выходные – дух, Бог, машина… Он никогда не болтался с офицерами по кабакам и закрытым борделям. Он никогда не таскал к себе ни девок, ни юношей, ни старух, ни стариков, ни лошадей, ни овец, ни собак. Хотя мог бы и имел все права – все, – никто бы не осудил его – война! Чем он занимался все эти долгие часы? Что делал? Бил мух? В номере не было ни телевизора, ни приемника, ни магнитофона, ни книг, ни журналов, ни газет. Кровать, шкаф, стол, стулья. Кровать, шкаф, стол, стулья. Кровать, шкаф, стол, стулья. И мухами. Нехов подошел к шкафу, обмотанными платком пальцами открыл створки. И здесь нет ни книг, ни газет, ни журналов, – два штатских костюма, китель, гимнастерка, сапоги, кобура, в дальнем углу за одеждой короткоствольный «Калашников». Обыскивая карманы одежды, Нехов подумал, что сейчас неплохо было бы выпить, и непременно виски, и непременно из бутылки, из горлышка, грамм триста разом, и именно виски, ни водки, ни коньяка, ни сливовицы, ни ракии, ни джина, ни шнапса, ни болса, ни текилы, ни вермута, ни сухого, ни портвейна, ни самогона, ни браги, ни шампанского (потому что от всего этого у него паршиво с головой наутро, сколько бы ни выпил – рюмку-две, глоток или пол), – а именно виски, этого крепкого, но очень ласкового напитка, а потом пойти к двум близняшкам, сестричкам-медичкам из полкового госпиталя, и трахать их отчаянно, с криком, и слезами, обильно заливая их теплой и густой спермой, забывшись напрочь, отъехав с этого света на час-другой, а потом тихо заснуть под их утомленные вздохи, заснуть и спать, спать и спать… А утром, как по звонку,вскинуться, липко промаргиваясь, ровно в шесть ноль-ноль, отмассировать лицо привычно, пойти в ванную и несколько минут терзать себя тугим колючим душем, растереться, одеться, выпить кофе, вернуться обратно в спальню, сдернуть с постели одну из сонных близняшек, лучше ту, что похудее, перегнуть ее пополам, прижать к себе ее гладкие ягодицы и, не раздеваясь, трахнуть ее стоя, вскрикивая в полный голос, с трудом глотая горькую слюну, кончив, постоять с полминуты, успокаиваясь, а затем застегнуться, с удовлетворением ощущая на члене вязкий горячий сок женского влагалища, развернуться и уйти, не прощаясь. И через полчаса уже быть на базе и собираться в операцию, подбирать оружие, боезапас, проверять рацию, упаковывать сухой паек, прилаживать трофейный китайский бронежилет, легкий, гибкий, удобный, никогда не натирающий в кровь плечи и спину, что иной раз позволяют себе американские и советские бронежилеты. И вслед затем потомиться на рутинном инструктаже, сострить что-нибудь по поводу командирского способа изъясняться, поржать вдоволь с десантниками и после чего забраться в вертолет, окунуться в грохот двигателя и шипенье винта, в этот успокаивающий валерьяновый, нет, кокаиновый шум, в полете уже взбодриться парой затяжек отборной марихуанки, собраться, сосредоточиться, настроиться на работу – это важно, очень-очень – и десантироваться в конце полета в намеченной точке, без парашютов, конечно, не так как показывают в кино, обыкновенным прыжком с вертолета, как в детстве с крыш соседних заброшенных дач – скок, каблуком в песок, – и бежать еще километров пять по равнине, потея лицом и поясницей, сладко ощущая на члене прохладный скользкий сок женского влагалища, сплевывая песок изо рта и выдыхая пыль из легких, а потом карабкаться еще пару километров по горам – скок, камень в носок, – стараясь не шуметь, тренированно забыв о голове и думая только о ногах, следя, чтобы они легкими были, пружинистыми и послушными, и у самого объекта уже включить голову, давить возбуждение, убирать мысли – ВСЕ – до полной пустоты, иначе не будет хорошей работы, это так, – ив дело, в дело, в ДЕЛО! Стрельба, рукопашная, кровь, и вот изменники с простреленными лбами валятся у твоих ног, русские простые ребята с тихими добрыми лицами, добрыми лицами – суки. Но скоро их мертвые лица перестанут быть хорошими и добрыми – на отрезанных головах лица становятся совсем не хорошими, и совсем не добрыми. Лицо стекает книзу, тяжелеет и приобретает выражение угрозы, свирепости и беспомощности одновременно. Головы, конечно, режут новички, в такую операцию обычно берут одного-двух новичков, они с самого начала знают, на что идут, и, конечно же, теперь не противятся, не канючат, как это бывает при выполнении сложного задания в обычных подразделениях, а как умеют, делают свое дело, блюют, задыхаются, содрогаются, но работают, работают… И снова кайфовый, кокаиновый грохот вертолета, снова тонкая сигаретка по кругу и мат, мат, мат из-под потрескавшихся сухих губ… А приземлившись, разэкипировавшись, неплохо бы опять выпить – виски, – а выпив с ребятами из роты, проговорить смачно, как всегда: «Вот это жизнь, все остальное – ожидание», а потом пойти к себе в общежитие, накуриться до одури травки, и тащиться несколько часов, а потом протрезветь и плакать, плакать, пока слез хватит, а когда они перестанут литься, застонать во весь голос, матрац разрывая зубами, а потом уснуть и спать, спать и видеть сны… Все карманы пиджаков и брюк, кителя и гимнастерки были стерильно пусты, ни бумажек, ни монеток, ни замусоленных спичек, ни крошек табака, ни дырок, ни торчащих ниток из швов – Нехов вывернул все карманы, – ни протертостей, ни затертостей, ничего, как новенькие были карманы, хотя сами костюмы свежими и только сшитыми или только что купленными не казались, вот так. Как так? Так не бывает! – Так не бывает, – пропел Нехов, закрывая шкаф. – Но взгляд твой ловлю… – запнулся, – ловлю. – сосредоточился, вспоминая, не вспомнил, огорчился, полез за сигаретами и начал сначала. – Так не бывает, но… – опять осекся, выматерился, пнул ногой кровать, негодуя. – Так не бывает, – слабо и тихо пропел полковник Сухомятов из-за кровати, с голоса на шепот переходя, с шепота на голос, высокий, детский, обильно увлажненный тягучей слюной, розово-невинный, трогательно-трогающий, – не его уже – потусторонний, угасающий, но живой. Жалко. – Так не бывает,… и взгляд твой ловлю. – Он никогда не любил песню, – Нехов поправил вывернутые карманы, захлопнул дверцу шкафа. – Простую, русскую задушевную песню, которая, как говорят у нас в народе, и в горе подсобит и счастья не порушит, которую можно петь всегда и везде, и в любое время дня и ночи, и дома, и на улице, и в метро, и в трамвае, и в горах, и в ауле, обнимая девушку и целуя мальчика, играя в пятнашки со своими или чужими, или с пленными и их сотоварищами… и в любое время дня и ночи, и утром и перед полдником и после ужина, и в январе, и в июле. – Нехов положил одно колено на кровать (опять одно колено) и с размаху плюхнулся на нее, несколько секунд покачивался, блаженно щурясь, затем открыл глаза, свесил голову и встретился взглядом с полковником Сухомятовым, засмущался от неожиданности, застеснялся, зарделся лицом, отвернулся чуть в сторону и продолжил: – Он не любил и эстрадную песню, лиричную, ритмичную, сладкоголосую, которая всегда поднимает настроение, когда оно опущено, которая вообще всегда все поднимает. Все! И поголовье скота, и количество центнеров с гектара, и суточные надои, и ставки в каннском казино, и планку у прыгуна в высоту, и юбки у хорошеньких женщин, и артериальное давление у отъявленных негодяев… Она могла бы поднять и тебя, Сухомятов, но ты же не любишь ее. И не смей спорить со мной! – Нехов тряхнул указательным пальцем у пористого мягкого носа полковника. – Он не любил и рок. Морщился, когда слышал Гребенщикова, или Элвиса, или Стинга, или Дэвида Боуи или кого-то там еще, не сумел понять всей важности и нужности, и своевременности этого музыкального направления во всем мире и у нас в стране в частности. Не сумел или не захотел… Что в общем-то одно и то же. – Все это время Нехов продолжал трясти указательным пальцем над носом умирающего полковника Сухомятова. Полковник завороженно следил за неховским пальцем круглыми серыми глазами и улыбался чисто и искренне, как младенец, когда перед его головкой трясут яркой погремушкой. Подбородок его вздрагивал мягко, брови извивались черными гусеницами, а из ноздрей двумя тонкими струйками текла по щекам бурая кровь и капала на пол бесшумно (много ее там уже было, на полу, две черные неровные лужицы с полметра шириной). – Но если народную задушевную песню, попсовую, эстрадную, лирическую и остро социальную, роковую и импровизационную джаз-роковую, он, хоть через силу, но терпел, – с выражением говорил Нехов, – то когда слышал симфоническую, классическую музыку, свирепел тотчас, наливался потяжелевшей враз кровью и, не спрашивая ни у кого имени, не интересуясь ничьим здоровьем и более того, не представляясь, кидался, рыча, к источнику звуков, – магнитофону, радиоприемнику, телевизору, живому оркестру и рвал их всех в щепы, в кровавые клочья и зловонные ошметки. Не дано ему было разобраться в тонкости Вивальди, в жизнеутверждающей силе Вагнера, в гениальной легкости Моцарта, в тихой печали Баха и всех других не менее одаренных представителей мировой классической музыки. Именно поэтому, я подчеркиваю, именно поэтому он сейчас так бесславно умирает – не на поле брани с криком «е…л я вас в жопу, гады!», а на пыльном полу в мрачном номере к затруханной гостинице. – Нехов замолчал, подумал какое-то время, а подумав, сказал задумчиво: – А может, и не поэтому, а потому, что просто кто-то пришел к нему и пристрелил его на хрен, чтоб не жил он больше. Наверное, поэтому. Я так думаю, подумавши. – Тихо, – прошептал полковник. – Тихо, – едва слышно прокричал полковник. – Тихо, – проплакал полковник. – Помолчи, – попросил. – Я буду говорить, – сообщил. – А ты послушай, – предложил. И заговорил: – Не надо плакать от боли, можно плакать от злости. Не надо плакать от бессилия, можно плакать от избытка сил. Только так. И ты должен запомнить это на всю оставшуюся жизнь, и ты должен не только понять это на всю оставшуюся жизнь, а осознать и превратить эту единственно верную жизненную формулу в характер. Вот почему я говорю это тебе сейчас, когда тебе всего пять годков, и именно сейчас, когда ты тяжело болен, – полковник вздохнул хрипло. – Я могу сказать тебе сейчас, что я очень люблю тебя, больше всего люблю, больше всего на свете. И это так. И что моя любовь поможет тебе справиться с болезнью и со всеми иными невзгодами, которые встретятся тебе в жизни. И это, наверное, тоже так. Наверное. Но я хочу, чтобы ты с этой жизнью боролся сам, один, всегда один, без чьей-либо помощи. Именно в одиночестве – сила, и только в нем. И поэтому я говорю тебе, с сегодняшнего дня я перестаю любить тебя. Ты скажешь, что это невозможно, а я отвечу тебе – сложно, да, но не невозможно. Я сумею, увидишь… – Сухомятов замолчал, дышал трудно, давился, загустевшую слюну глотая-сглатывая. Жесткий кадык протирал кожу на шее, резко бегая вверх-вниз, вниз-вверх. Полковник тяжело оторвал руку от пола, как отклеил ее, медленно потянулся к Нехову, к его голове, которая свисала с кровати над самым лицом Сухомятова, неуверенными пальцами погладил его по волосам. Нехов не шевельнулся, позволил дотронуться до себя. Он внимательно разглядывал полковника, боясь упустить малейшее движение его лица, надеясь увидеть торжественный момент оргазма Смерти. Она уже долго и умело ласкала полковника. И теперь приближалась кульминация акта, еще немного, еще чуть-чуть. Рука Сухомятова напряглась вдруг и расслабилась тотчас, и упала обратно на пол почти бесшумно, словно и не весила ничего, словно перьями была набита. Полковник сказал не моргая уже – глаза сохли на глазах: – Ты любил слушать сказки, а я любил их читать тебе. И, наверное, ты помнишь сказку про Мальчика-с-пальчика и сказку про Илью Муромца, и сказку про храброго портняжку. А знаешь, что объединяет эти сказки? То, что все герои их были крутые. Каждый из них знал, что хотел от этой жизни, и добивался того, что желал. Один – хитростью, другой – силой, третий – артистизмом, фантазией, и все – фанатичной верой в то, что им непременно надо это сделать. Когда чего-то хочешь сделать, добьешься этого обязательно, несмотря ни на что, несмотря на сомнения, любовь, благонадежность, страхи, патриотизм, соблазны, боль, болезни, утраты, привязанности, даже несмотря на смертельное течение времени… И в этом самый большой кайф, мой мальчик! И если ты победишь сегодняшний свой недуг, я уверен, я знаю, ты победишь жизнь! Давай, малыш, работай! – А потом полковник Сухомятов проговорил совсем уже тихо, и не проговорил, прошептал даже, продышал даже, а не прошептал: – Я очень люблю тебя, малыш!… – и умер, не вскрикнув на прощанье, не подмигнув со значением, до скорого, мол, приятель, и не вздрогнув даже, ни рукой, ни ногой, ни животом, ни членом, ни ногтем, ни зубом, ни ухом, ни рылом. Нехов укусил ворсистое покрывало, покрывающее постель, на которой лежал, сдерживая стон и перехватывая крик, и сдавил глаза холодными твердыми пальцами, загоняя слезы обратно вовнутрь, – очень расстроился он, что так и не увидел, как удовлетворилась Смерть, как балдела, как кайфовала она, огорчился так, что не передать, и потому продолжал грызть постель дальше. Изжевал одеяло, разодрал простыню, прокусил матрац. Закончил грызню с постелью, впившись в металлические пружины кровати. Больно зубам стало. Сплюнул слюнявую кровь вбок, в угол пустой, в один из пустых углов – все четыре угла были пустые, четырехугольная это была комната, – опасливо опустил руку с кровати, закрыл полковнику Сухомятову глаза скользкими теплыми веками. И уснул. Проснулся. От стука в дверь. Она оказалась запертой. Запирал ли он ее – не помнил, если и запирал, то зачем, а если не запирал, то почему она заперта? А если даже он ее и запирал, то где же ключ, который должен торчать из замочной скважины? Нет ключа, и не торчит он из замочной скважины, а если он не торчит из замочной скважины, то как Нехов мог изнутри запереть дверь? Нехов слез с кровати, сожалея, что недоспал, – еще часок-другой, и он был бы в форме (а так он был в штатском, что тоже неплохо, учитывая, что щетина ему здорово идет, делает его стройнее и образованнее), Нехов засмеялся и подумал, что не стоило бы смеяться, пока не узнаешь окончательно, проснулся ли ты или нет, и вообще, жив ли ты или голоден, но все равно продолжал смеяться. Смеясь, подошел к двери. Смеясь, спросил, кто там. Смеясь, выслушал ответ, что это опер-бригада из штаба дивизии и представители республиканской милиции. И, смеясь же, предложил им выломать дверь ко всем чертям, потому что дверь заперта, а ключ не торчит из замочной скважины, что кажется ему очень странным, потому что вообще-то место ключа в замочной скважине, он ведь и предназначен и изготовлен для того, чтобы, совокупляясь с замочной скважиной, производить на свет радость открывания и закрывания дверей… Из-за двери Нехову предложили отойти, что он и сделал благополучно, и вслед за этим высадили дверь – офицеры – в два плеча с посвистом и улюлюканьем, чему все присутствующие, кроме покойного полковника Сухомятова, были несказанно рады. РАДЫ. РА-ДЫ. ДЫ-РА. ДЫРА. Прибыли: следователь военной прокуратуры, оперативники из разведки и контрразведки дивизии, эксперт-криминалист, судмедэксперт – все, как положено по закону. А вместе с ними прибыли: шофер оперативной машины, три сотрудника республиканской милиции, во главе с заместителем начальника контрразведки республики по фамилии Ругаль и еще двое понятых, горничный и горничная. Понятые не выглядели напуганными. Они только шевелили мохнатыми бровями и так крепко держались за руки, что выдавливаемый пожатием пот капал с их ладоней на пол, чем поначалу отвлекал сотрудников оперативно-следственной группы от их работы. Оперативники двигали ушами и внимательно прислушивались к капанью пота на пол, но вскоре они уняли, пыжась, беспорядочную пляску своих ушей, законопатили их затем спрессованными комочками спрессованного воздуха, которые брали из воздуха, и продолжили столь необходимую для всего человечества и важную для него же работу, которую, отдаваясь любимому делу всей душой, работали в гостинице «Тахтар» в несветлом номере покойного ныне полковника Сухомятова. Вот так работали они, работали – осматривали, оглядывали, обыскивали, фотографировали, переглядывались, перешептывались, перешучивались, пересмеивались, а потом стали работать – опрашивать Нехова и одновременно с ним опрашивать и других людей – в частности, работников гостиницы и постояльцев, не слышали ли они чего, не видели, не чувствовали, позавтракали ли, пообедали ли, помылись ли, помочились ли, потрахались ли, когда с кем, имя, фамилия и другие установочные данные, отвечать правдиво, подробно, в противном случае – расстрел на месте, мать вашу, по законам военного времени. Так! Нехова оперативники знали, и он их знал, и поэтому они как знающие люди беседовали мирно и вежливо и заинтересованно, осведомляясь друг у друга о здоровье, о семье, жилищных условиях и здесь, и на Родине, о женщинах, о вине, о содержании совершенно секретных штабных документов, о ценах на марихуанку, кокаин, золотые изделия, видео– и радиоаппаратуру. А потом незаметно, словно бы нехотя, как это бывает у профессионалов, перешли на разговор о прискорбнейшем случае, ради которого они сегодня в этот час и собрались в гостинице «Тахтар» в негрязном номере покойного ныне полковника Сухомятова. Нехов рассказал оперативнику Ахтылову – преснолицему, раскосому парню, все, что знал, и все, что не знал. Рассказал о том, как ему позвонили от Сухомятова, женщина (но пароль, подтверждающий, что она именно от полковника, не сказала, сука). Голос у нее был призывный и эротический, и Нехов даже почувствовал эрекцию, когда слушал этот голос, но после того, как женщина не произнесла положенных конспиративных слов, эрекция у Нехова закончилась, о чем Нехов очень и очень горько сожалел секунд двенадцать, а может быть, и того больше, он не мог сказать точно, на чем Ахтылов, впрочем, и не настаивал, хотя полюбопытствовал, как, мол, по-твоему, Нехов, судя по голосу, как она любит трахаться, снизу или сверху, и кричит ли она при этом или рычит или стонет устало, на что Нехов ответил, что, честно говоря, ему показалось, что звонил ему мужчина, который искусно сымитировал женский голос, после чего Ахтылов расстроился и несколько раз выматерился не по-русски. Далее Нехов «по существу заданных вопросов показал», что, несмотря на то, что пароль не был произнесен, Нехов все же решил пойти к полковнику в гостиницу, и пошел, и пришел. На лестнице он никого не встретил, но в лифте ему показалось, что он поднимался не один, хотя в кабине он был один, в коридоре в это время было тихо, хотя за дверями всех номеров шуршали, будто бы конфетными обертками, и хрустели, будто бы яблоками, как в театре во время паузы, а в мутное окно билась большая птица, но потом исчезла и больше не появлялась, а с потолка капала сладкая вода – Нехов, мол, попробовал ее на язык. Ну, а потом он услышал стон за дверью полковника, а потом наступил на писклявую паркетину, ну и в заключение всего вынул китобойный револьвер и страшными, леденящими преступные души криками подавляя болезненную психику предполагаемо находившихся у Сухомятова злодеев, ворвался в комнату. А там всего-навсего был только полковник. Один. Он тяжело умирал. И умер. Расписываясь за достоверность своего рассказа, Нехов заметил майору Ахтылову, что в протоколе все записано гораздо правдивее, чем он рассказал, за что похвалил майора и дружески похлопал его по покатому плечу (подумав удивленно, как на таких плечах умудряются держаться погоны, когда майор надевает форму на строевой смотр), и после чего решил устроиться в одном из пустых углов, покурить и понаблюдать за действиями оперативников. Увидев, как оперативники обыскивают покойного, Нехов, досадуя, ущипнул себя через брючный карман за ляжку – незаметно, – почему он сам, мать его, не обыскал карманы раньше, – и, с трудом сдерживая крик и корчи от болезненных щипков, пошел к контрразведчикам посмотреть, что же они там обнаружили в карманах полковника Сухомятова. Ничего. Кроме фотографии молодого мужчины в форме старшего лейтенанта, в сдвинутой фуражке на затылок, в распахнутой рубашке и в клетчатых тапочках вместо форменных ботинок или сапог, без носков. Старший лейтенант улыбался, и неулыбчивой улыбкой своей был похож на полковника Сухомятова, и не только улыбкой похож, и еще круглыми глазами и пористым носом и еще так же другими частями лица и тела, так сын бывает похож на отца. Так оно и было – сын. Нехов знал, что здесь же в республике в одном из танковых батальонов служит двадцатитрехлетний сын Сухомятова. Но сам Нехов никогда его не видел, а теперь вот увидел, и подумал, что неплохо было бы сейчас выпить, и ни водку, ни коньяк, ни ракию, ни сливовицу, ни джин, ни горячего саке, ни шампанского, ни портвейна, ни сухого, ни ринтвейна, ни доппелькорна, ни шартреза, ни Амаретту, ни чего другого всякого, а виски, самого обычного дешевого шотландского виски, а потом пойти к медичкам-сестричкам-близняшкам и… Один из контрразведчиков, самый суровый, и самый рослый и самый широкоплечий, и самый загорелый, вдруг рухнул прямо на грудь покойному Сухомятову и зарыдал в полный голос, всхлипывая на вдохе, вздрагивая туловищем и ступнями. Все отвернулись смущенно, достали сигареты, задымили разом. Тут Нехов решил, что это уже слишком, и покинул комнату. В коридоре толпились. И в лифте толпились. И на лестнице толпились. И в вестибюле толпились. Покажите мне того, кто не любит толпиться, подумал Нехов, а подумав, показал на себя. И в то же мгновенье краем глаза уловил, как кто-то еще показывает на него – пальцем. Нехов повернулся с равнодушной медлительностью и посмотрел центром глаз туда, куда только что смотрел краем глаза. И поверх голов, толпившихся толпой в вестибюле – самых разных, и русских, и нерусских, – увидел чью-то поднятую руку и вытянутый палец на этой руке, который, тыкая в воздух, как в кнопку звонка перед дверью в квартиру на пятом этаже семиэтажного дома в Большом Харитоньевском (определенно, и даже более того – несомненно), указывал на Нехова. Нехов даже ощутил, как палец стучит ему по лбу, как раз в то нежное и важное место над самой переносицей, на какое индийцы клеют свои мушки. Нехов умело и привычно просочился сквозь толпящихся, разговаривающе-жестикулирующих, смугленьких и не очень, вымытых и не только, наших и не совсем, и добрался до стойки портье, за которой вместе с самим портье – пятидесятилетней, а может, и большелетней, а может, и меньшелетней, – изюмно-морщинистой афганкой, стоял подполковник Мутов из штаба армии, сорокалетний мужик, приземистый, крупнорукий, сильный, почти лысый, светлоглазый, всегда ухмыляющийся, даже тогда, когда и вовсе не думал ухмыляться, даже когда намеревался отходить ко сну или произносить речь над могилой погибшего товарища. Заметив Нехова, подполковник опустил руку. И когда Нехов совсем уже приблизился и коснулся телом стойки, только тогда сообщил вполголоса, что афганский контрразведчик Ругаль сейчас допрашивает службу, портье и телефонисток и переводит ему, Мутову, сукин сын, не все однозначно, – да еще так, гад, произносит русские слова, что хрен разберешь, на каком языке этот калдырь вообще базарит, хотя знает он, сволочь, русский как свой родной, четыре года у нас учился, басурман, поэтому надо, чтоб кто-то переводил из наших, исключительно надо. Нехов согласился, конечно же, и они с подполковником пошли в ту комнату, где Ругаль допрашивал своих соотечественников и соотечественниц. Ругаль общался с ними, разумеется, весело и добродушно, никого не ругал, не бил, никому не угрожал, хотя все они – гостиничные труженики – с наглым испугом заявляли ему, что ничего не видели, ничего не слышали и поэтому ничего никому не расскажут. Изредка Ругаль поворачивал к Нехову и Мутову свое пухлое усатое лицо, с профессиональной легкостью творил на нем озабоченность, и грустно качал головой, вот так, мол, вот так, ничегошеньки не могу добиться, как ни стараюсь, как ни пытаюсь, как ни использую все свои полученные в московской академии знания и навыки. Потом они все втроем пошли в другую комнату, туда, где работали телефонистки. Сегодня за пультом сидела по-европейски одетая молодая женщина, длинноглазая, полногубая, с распущенными вьющимися черными волосами, лет девятнадцати-двадцати, – стройные ножки, тонкий каблучок. Ругаль представил ей своих спутников, а им, в свою очередь, сообщил, что телефонистку зовут Зейна. Телефонистка встала, потом села, потом сняла наушники, потом вынула зеркальце, но даже не поглядев в него, покраснела, вернее еще больше потемнела, посмуглела, а потом наскоро что-то спев назидательно-патриотическое, немного успокоилась, и, успокоившись, стала не отрываясь смотреть на Нехова. Нехов машинально подмигнул ей, и тогда Зейна опустила глаза и заплакала. Ругаль бросился к ней, погладил ее по голове, по шее, по плечам и, заметно возбуждаясь, что-то страстно прошептал ей на ухо. И Зейна опять немного успокоилась и стала смотреть в пол, точно меж неховских белых итальянских ботинок. Нехов тоже поглядел туда, но ничего интересного там не усмотрел, кроме двух жестоко дерущихся и грозно вопящих при этом рыжих муравьев. Хотя, наверное, именно муравьев-то Зейна и не видела, потому что муравьи были крошечные, а Зейна сидела метрах в двух от Нехова, а то и трех. Так что совершенно непонятно было, почему она туда смотрела – точно меж неховских белых ботинок. Отвечала она коротко, но точно, кто звонил, кому, что она слышала, имена, фамилии, оттенки голосов. Когда Ругаль спросил про Сухомятова, Нехов заметил, как Зейна едва заметно напряглась и опять чуть не заплакала, но сдержалась и только заморгала истово, а потом сказала тихим голоском, что полковнику Сухомятову никто сегодня не звонил, и он тоже никому не звонил, и теперь, наверное, уже звонить не будет, раз он мертвый и не живой. Ругаль понимающе покивал и, повернувшись к Нехову и Мутову, скорбно-разочарованно развел руками. За окном телефонной комнаты был виден полутемный двор, с трех сторон окруженный стенами служебных гостиничных помещений, а с четвертой – стеной самой гостиницы, из окна которой и был виден окруженный с трех сторон служебными гостиничными помещениями, а с четвертой – стеной самой гостиницы, полутемный двор, на асфальте которого валялся мусор и бумажки, железяки, объедки, очистки, бутылки, обглоданные кости и необглоданные кости, трупы мух, пауков, комаров, жуков, собак, кошек и гордых равнинных орлов. Посреди двора стояли смугленькие детишки, по всему явно – мальчики, лет шести, чистенько одетые и веселые, о чем говорили их безмятежные улыбки и нетерпеливые подпрыгивания на носочках и пяточках. Они чего-то ждали, подняв вверх сытые носики. Дождались. Что-то упало с верхних этажей. Мальчики кинулись к неизвестному предмету. Не добежав до него, стали драться, жестоко и с угрожающими криками, как рыжие муравьи несколько минут назад. Наконец один мальчик осилил другого, повалил на асфальт, отбежал, выхватил из мусорной кучи ржавый железный прут, кинулся обратно к лежащему ровеснику, занес прут над его лицом. В это время сверху опять что-то упало и грохнулось мальчику-победителю прямо на голову. Мальчик открыл рот и упал, залитый кровью. Нехов отвернулся от окна и ухмыльнулся, мотнув головой. И Мутов тоже заулыбался. И Зейна растянула губки, засмеявшись тихонько. А Ругаль просто расхохотался открыто и откровенно, держась рукой за жирно блестящий лоб, закатываясь, заходясь… Нехов неожиданно убрал ухмылку, сузил глаза и какое-то время смотрел на Ругаля с любопытством, а потом стремительно шагнул к нему и без замаха коротко ударил его в гогочущий рот. Ругаль, вскинув руки невольно, отлетел к входной двери, стукнулся затылком о крашеное дерево. Некрашеные усы его закачались, спущенные щеки зависли над шеей бурыми ватными одеялами. Ругаль сполз на пол, тонкошерстный пиджак на плечах вздыбливая, подпрыгнул на круглых толстых ягодицах, зубами цокая, слюну расплескивая, из глаз сознание вытряхивая, хоп, замер, ага. Мутов кивнул неопределенно, с отстраненной ухмылкой подоспел к Ругалю, преклонил перед ним колени, обыскал его одежду скорыми профессиональными движениями. Записную книжку Нехову кинул, деньги пересчитал, но оставил, расческу, обросшую волосами, брезгливо в сторону откинул, извлек связку ключей, прикинул на глазок, прищурившись, от чего они, ключи, от каких дверей, не разобравшись, на всякий случай и их Нехову кинул, тот подбросил звеняще-гремящую связку вверх, громко в ладоши хлопнул, поймал ключи, в глубокий пиджачный карман их опустил. Мутов тем временем, вытянул обойму из пистолета Ругаля, ловко опорожнил ее, патроны на ладонь выщелкнув, а затем пистолет обратно в кобуру вставил, потом нашел у Ругаля в карманах плоскую металлическую флягу, отвинтил крышку, понюхал, восторженно зрачки вверх отправив, под веки, под брови, под лоб. Вернув их все-таки на место, раскрыл пальцами рот Ругалю и, разомкнув зубы, влил содержимое фляги под язык ему, на язык ему и тряхнул после его голову, засмеялся, Нехову подмигивая. Встал, коленки обтер аккуратно, язык высунув, пыхтя по-детски, разогнулся, флягу в сторону отбросил, к Зейне повернулся, не убирая ухмылки, шагнул к ней, взял ее за остренький подбородок. «Ну, – спросил ласково. – Ну, кто звонил полковнику, кому звонил полковник?» Нехов перевел, сунув в рот очередную сигарету. Наблюдал за всем происходящим равнодушно. Зейна попыталась что-то ответить, но, видно, спазм перехватил горло, и она замычала только болезненно, красивый глаз отчаянно выпучив, а потом захрипела, а потом зашипела, а потом засвистела… Мутов отпустил ее подбородок, досадливо головой дернул, черт с ней, сказал. Забрал у Нехова записную книжку и ключи Ругаля и пошел прочь из телефонной комнаты. Нехов, усмехнувшись, подмигнул свистящей Зейне и отправился вслед за подполковником. В вестибюле они расстались, не пожимая рук, кивком попрощавшись, молча. Мутов отправился в номер полковника Сухомятова, Нехов на улицу сквозь толпящуюся толпу, возбужденную, разноязыко-крикливую, пахнувшую табаком, порохом, водкой, потом и французским одеколоном. На улице запахи сменились. Пахло асфальтом, автомобильными выхлопами, перегнившими испражнениями, несвежим мясом, курящимся опиумом. По мостовой, меж машин и по тротуару, меж самих себя, не замечая солнца, синего неба, парящих над городом больших черных птиц, дымчатых очертаний холодных горных вершин и друг друга, сновали люди с серо-коричневыми лицами и нелюбопытными глазами. Нехов забрался в припаркованный у входа в гостиницу крытый грязно-зеленым брезентом газик, чертыхнулся, когда воздух внутри машины обжег лицо и руки, завел двигатель и тронулся с места, несколько раз пугнув прохожих и редкие автомобили требовательным и громким гудком клаксона. Никто из горожан, что был рядом, не повернулся к газику, но тем не менее дорогу все уступили, не спеша, будто нехотя, с сопротивлением, но не видя иного выхода. Так! Машину жестоко вскидывало на неровном взгорко-ямном асфальте и опускало не мягко, с не радующим ухо звуком упавшей на землю огромной металлической коробки, на три четверти наполненной патронами изрядного калибра и снарядами калибра немалого. Сиденье со смачным кряканьем поддавало Нехову под зад, и он, катапультировавшись, перековыркивался в воздухе, сверкая набелочищенными итальянскими ботинками, и приземлялся грузно на заднее сиденье и в мгновение, опомнившись, проворно перебирался на водительское место и катил дальше, безрадостно распевая веселую афганскую песенку про наивных и застенчивых работников деревенской скотобойни. По обеим сторонам дороги, на тротуарах и нередко на самой мостовой густо и не очень сидели горожане, приклеив зады к икрам, и подпевали Нехову негромко, глаз не подымая, на корточках и не томясь. А вокруг – над витринами слепыми надписи зазывные поблекли давно, в ресторанах музыка разладилась, в банках деньги не считали, ленясь, в домах не жили – спали, дети вытягивали руки, готовясь поймать вражеский снаряд, который мог прилететь в любую минуту, и прилетал, во дворах резали кур и шпионов, за горами пылала ненависть. Нехов въехал на территорию базы, кивнув часовому, не останавливаясь. Дома трехэтажные, одинаковые тут и там, чахлые деревца меж ними, несколько БМД там-сям, солдаты, сонно играющие в карты, прямо на песке, не матерятся. Нехов тормознул перед одним из зданий – офицерским общежитием, спрыгнул с машины, вошел в подъезд, вдохнув до порога и выдохнув после, поднялся на третий этаж, открыл своим ключом дверь своей комнаты, вошел, закрыл дверь тем же ключом, лег на кровать, не раздеваясь, заголосил, рот не раскрывая, а глаза закрывая, ладонями виски меся, минуты две-три, долго, и затих, замолк, замер, сна ожидая…МИР
Проходившие прохожие невольно бросали взгляды на наручники на моих руках, а потом переводили глаза на меня и внимательно смотрели мне в лицо, и думали, наверное, неужели такой видный и такой симпатичный мужчина может быть преступником. Что же он совершил, любопытно? Зарезал жену, застав ее с любовником? Ограбил Центральный российский банк? Застрелил ненавистного врага? Отомстил за поруганную честь любовницы, сестры, брата, невесты, жениха, матери, дочери? Любовника? В глазах женщин я читал одобрение, возбуждение, интерес. В глазах мужчин – зависть и уважение. Нет, не уважение – страх. Зависть и страх. И женщины, и мужчины разглядывали меня с ног до головы. Изучали мое лицо, особенно их интересовали глаза, губы, уши, зубы. Некоторые даже заглядывали мне в ноздри и, ничего достойного там не обнаружив, разочарованно мотали головами, а потом опять продолжали исследовать мое лицо, мое тело, походку, манеру одеваться, мои жесты, посадку головы, спокойную улыбку… Ни одна сука, мать их, не взглянула на меня, когда я шел по тротуару, ко входу в милицейское здание! Ни одна, как будто, мать их, так и надо! Как будто каждый день водят по городу таких красавцев в наручниках, мать их! Дай, Атанов, мне твой «стечкин»! Положу-ка я здесь же, на тротуаре, с десяточек этих ничем не интересующихся ублюдков. И легче мне станет. Да и им тоже. Лучше вообще не жить, чем жить так, как они! Меня провели мимо дежурки, наполненной равнодушными милиционерами в фуражках, о чем-то сонно болтающими, и что-то вяло жующими, мимо пахнущего дерьмом и хлоркой туалета, по унитазу которого, не переставая уже который год, наверное, текла, вода, мимо двух взасос целующихся женщин, одетых в милицейскую форму, мимо сидящего на горшке печального двух-трехлетнего мальчика, мимо трех лежащих на полу вниз лицом кавказцев (меж кавказцев ходил немолодой капитан и монотонно объяснял, кавказцам, как надо жить в Москве, – тихо, мол, дружно, мол, и не нарушая, мол, закон, мол, мол, все, мол и мол). И наконец меня подвели к лестнице, ведущей на второй этаж. На втором этаже мы прошли мимо окна, выходящего на многолюдную, многопотную, многоавтомобильную, бегущую, беснующуюся и очень грустную улицу, мимо трех молоденьких, очень миленьких, длинноногих девочек, сидящих на стульях возле стены, мимо кабинета, возле которого они сидели, и из-за двери которого доносились стоны, чмоканье и вскрики: «О, как хорошо! Давай еще, еще, еще, еще…», мимо низкорослой большеголовой овчарки, которая остервенело в темной нише драла какого-то толстого лоснящегося мужика и, остановились наконец, после всего пройденного и увиденного, возле кабинета, расположенного в самом конце коридора. Один из сопровождавших меня парней пнул меня коленом в промежность, согнул меня, добавив еще кулаком поддых, и втолкнул меня в дверь кабинета. Голова моя с грохотом ударила по двери и открыла ее. В кабинете стоял стол. За столом сидел немолодой седоволосый, толстоплечий и толстощекий мужик. А рядом с ним стоял Атанов. Мужик и Атанов курили, медленно и печально. Кроме еще двух стульев, поставленных рядом со столом, больше никакой другой мебели в этом очень просторном квадратном кабинете не было. Портретов на стенах, и сейфов, и настольной лампы, и пишущей машинки, и графина с водой – этого тоже ничего не было. Атановские ребята посадили меня на стул перед столом и ушли, крепкие и молчаливые. Я выпрямился и спросил негромко: «Ну, и что дальше?» – «Заткнись, мать твою, – зашевелил тяжелыми губами толстоплечий, – я полковник Данков. Слыхал, наверное? – хрипло и четко проговорил этот самый толстоплечий полковник Данков. – Я таких, как ты, не раз колол, мать твою! И тебя расколю, мать твою! Я про тебя, п…р е…й, все знаю, на х…! Все, с начала и до конца! И тебя, козла обоссанного, опознали. И, даю слово, я тебя пристрелю, если ты, сука, не расскажешь мне все, повторяю, все, на х…! – Он повернулся к Атанову. – В…би-ка ему по кишкам!…» Атанов мастеровито въехал мне в живот, а потом почти без паузы добавил ребром ладони по шее чуть ниже уха. Я с грохотом свалился со стула. Мне было, конечно же, больно и, конечно же, обидно и, тем не менее, все же смешно и любопытно, хотя никто, к сожалению, мне не грозил в окно. Да и не мог, собственно, потому что находились мы на втором этаже. А ни одна мать, как бы она ни захотела, не допрыгнула бы до второго этажа, чтобы в окошко погрозить сыну. Хотя кто их, матерей, знает. «Почему я вспомнил о матери? – спросил я себя и ответил тотчас: – Потому что большой умелец по расколочным делам полковник Данков очень часто ее, мою немолоденькую, поминает. А про свою забыл, видать. Ну, пусть тоже вспомнит. Жива ли она у него еще, его старушка?» Терять мне было нечего, кроме своего страха, и я сказал достаточно громко: «На х…я, мать твою? Я тебе не п…р е…й! Я боевой офицер, мать твою! А ну сними, мать твою, браслеты, и я, мать твою, отмудохаю, вас двоих на раз, на х…, как козлов, блядь, недоношенных!» – и подумал тотчас, как закончил говорить, вот сейчас они меня убьют, точно убьют. Я бы убил, если бы на войне был, убил бы, убил бы… Я закрыл глаза, ожидая удара, дышал медленно и глубоко, стараясь успокоиться. Успокоиться, успокоиться… А может, и не убил бы, может, наоборот, полюбил бы его, такого, подошел бы к нему, обнял бы его, поцеловал, повел бы к себе домой, чаем напоил бы, обласкал бы, обогрел бы, спать уложил – или с собой, или одного, в зависимости от того, какой он собой был бы, какую внешность имел, как пах, каким голосом говорил, тонкими ли пальцами и запястьями обладал, как на меня бы смотрел, каким глазом, любопытствующим, заинтересованным или равнодушным… «Что за дерьмо я несу?» – сказал я себе, так и не дождавшись удара. Открыл глаза. Склонившись, Атанов смотрел на меня в упор: «Жив?» – спросил, когда я открыл глаза и, не дожидаясь ответа, взял меня под мышки, поднял и снова посадил на стул, выпрямился, разглядывая меня, прищурившись, не отходил. «Офицер? – спросил Данков недоверчиво. – Офицер чего?» – осведомился Данков. «Армейский капитан в отставке, – сказал я. – Десант, разведка, война». Какое-то время Данков сидел и молчал, и смотрел на меня – прямо мне в лоб, и скрипел стулом, на котором сидел, и столом, на который положил свои тяжелые толстые руки, и головой, которой пытался думать или еще что-там делать, что обычно люди делают головой, я не знаю, что. Посидел, посидел так, поскрипел, поскрипел и стал спрашивать дальше. Говорил спокойней, тише и вроде как даже по-свойски, но достаточно отчужденно, чтобы мне, неглупому, можно было понять, что мы тем не менее, независимо от тона и корректности вопросов, по разную сторону баррикад, мать вашу! Он спросил меня, убивал ли я когда-нибудь, и я ответил, что убивал, конечно, – война, – и пожал плечами. И тогда он поинтересовался, много ли я убивал. И я сказал, что много убивал, – война, – и опять пожал плечами. И тогда он осведомился, и как, мол, кайфовал ли я от того, что убивал. И я сказал, что кайфовал, но не от убийства, а от работы, когда хорошо ее делал, а убийство на войне это лишь средство для квалифицированного выполнения работы. «Детей убивал?» – спросил он как бы между прочим после паузы. «Детей нет, – сказал я. – Детей не приходилось. Женщин убивал, а детей нет, не довелось как-то, – заметил с сожалением. – Не повезло» – «А после войны не доводилось?» – полюбопытствовал Данков. «А после войны… – Я засмеялся. – Доводилось, конечно». Данков напрягся после таких моих слов и осведомился как можно равнодушней, когда, мол, и где. «Да не далее как сегодня ночью, Бог ты мой, – сказал я. – Не одну сотню небось замочил, мать их. Так и сдохли они в презервативе, света белого не увидев и не познав, что такое любовь, созидание, счастье» – «Мать твою! – сказал Данков. – Мать твою! – и загрохотал кулаками по столу. – Убью на х…! Убью, сука!» Атанов мне опять вмазал. В лоб теперь. И я опять упал. И упав, лежал, не двигался и даже не дышал, и для большей убедительности рот открыл, и для еще большей убедительности расслабился привычно так, чтобы на большую половую тряпку, валяющуюся на полу, быть похожим. Атанов пхнул меня ногой и сказал: «Эй!», – и еще раз пхнул и опять: «Эй» – «Не хватало еще угрохать его», – устало заметил Данков. «Да не мог я, – удивился Атанов, – я тихо, – и опять пхнул меня. – Давай, давай, гнида, возвращайся» – «Вашу мать, – простонал Данков. – Как есть угрохал.» И поднялся со стула – я услышал – и по-слоновьи к моему неподвижному телу протопал, присел на корточки, пыхтя, раздвинул мне веки мягкими горячими пальцами, но ни черта там, кроме бело-синего моего белка, не увидел. А что он там хотел, собственно, увидеть? Я, умный, за мгновение до того, как он до меня дотронулся, зрачок повыше, под самую бровь закатил, ха, ха. «Врача?» – плохо скрывая испуг, спросил Атанов. «Нет», – выцедил Данков и хлопнул меня по щеке легонько, потом еще, еще. И впрямь пора возвращаться, подумал я. Главное в любом деле – это чувство меры. И сейчас я достаточно уже поумирал, чтобы они испугались и в дальнейшем вели себя, так скажем, более сдержанно в отношении меня. А если они не будут вести себя более сдержанно, тогда… Тогда выходит, что я полный идиот, что, по моему глубокому убеждению, не являлось исключительной и неоспоримой истиной. Я шевельнулся и застонал негромко, и дернул веками пару раз, и шумно, вроде как с облегчением, вздохнул, и с легким стоном выдохнул, и только после этого открыл, вернее, полуоткрыл глаза, и невидяще взглянул на сидящего передо мной Данкова. «Ну вот и хорошо, – сказал Данков. – Ну вот и хорошо, – и совсем по-дружески потрепал меня по щеке. – Все нормально, сынок, все нормально… – и обернулся к Атанову и проговорил, передразнивая его. – Врача, врача… Посади его на стул». И в который раз уже, я не помню, я не считал, Атанов взял меня за плечи, поставил на ноги, с моей помощью, конечно, потому что просто так поднять меня вряд ли он смог бы (вес у меня девяносто почти), а затем аккуратно усадил на стул. Данков тем временем что-то записал быстро на бумажке, склонившись над столом, и потом эту бумажку протянул Атанову. «Позвони по этому телефону, – сказал он. – Позови полковника Перекладина, скажи, что ты от меня, и попроси его дать справку на Нехова Антона Павловича. – Данков кивнул на меня и добавил, поясняя, – полковник Перекладин – начальник отдела в Управлении кадров Министерства обороны. Скажи ему, что я просил это сделать как можно быстрее. Сегодня». Атанов взял бумажку, кивнул и вышел. Данков снова сел за стол, потер переносицу, морщась, раздумывая, верно, как дальше меня колоть – наездом не вышло, мордобоем тоже, и как же теперь, как же теперь? А, полковник? «Офицер, значит, – заговорил вдруг Данков. – Ну, поговорим как офицер с офицером» – «Поговорим, – усмехнулся я. – По говорим. Отчего же не поговорить». И вправду, отчего же не поговорить, тем более как офицер с офицером, тем более, если такой высокий, такой крупный и широкоплечий, такой большой и сильный человек просит. Я всегда любил таких тяжеловатых, рослых людей. Не толстых, а именно тяжеловатых. Даже не то чтобы любил, громко сказано, наверное, – я доверял им, да, доверял, точно. Убежден был, что от таких дерьма не жди. Хотя, к сожалению, дерьмо они все-таки иной раз и преподносили, тяжеловатые и рослые. И чаще всего это было не простое дерьмо, как правило, чрезвычайно жидкое и чрезвычайно вонючее, и ко всему прочему его было очень много. Но это, как ни удивительно, никоим образом не влияло на мое априори доверчивое отношение к ним, тяжеловатым и рослым. Я доверял им по двум причинам. Во-первых, крупные люди все делают по-крупному (дерьмо – так тонны, добро– так всем) или не делают вообще ничего, то есть вообще ничего. А во-вторых, потому что сам был такой – рослый и по весу нелегкий, и достаточно сильный. Но, к сожалению, по причине врожденной лености, а также по причине отсутствия жизненных стимулов и целей, немного растренированный, размякший и вяловатый. «Можно и поговорить, – повторил я, – как офицер с офицером. Почему бы не поговорить, коли у тебя есть время и желание, А также, что не менее важно, есть право на ошибку. И не на одну, наверное. И не на две. И не на три… Я это понимаю, как никто другой. Без права на ошибки, на самые жестокие и кровавые ошибки, нельзя работать в этой системе. Я понимаю. И поэтому не держу зла на тебя, вообще никакого. Более того, с удовольствием наблюдаю за тобой и Атановым. Я люблю хорошую работу… Так что, почему бы и не поговорить?» Данков кивнул атласно и деловито, будто ждал таких слов от меня, – именно таких и никаких других и, кивнув, пододвинул к себе папку, лежащую на углу стола, раскрыл ее, достал из нее фотографии, махнул мне рукой, мол, подойти ближе. Я встал со стула, шагнул к столу. Данков бросил фотографии передо мной. «Твою мать?…» – только и сказал я, взглянув на фотографии. Нет, конечно, потрясения я не испытал, когда увидел эти фотографии. На войне я видел картинки и пострашней. И не на фотографиях, а воочию, перед своими глазами, только руку протяни. Я давно уже не задыхаюсь от невротических спазм и не блюю куда попало, когда вижу такое, – отдышался уже и отблевался, – теперь мои эмоциональные восклицания типа «твою мать» или «мать твою» означают иное – не страх и не отвращение, а неожиданное и острое и вместе с тем наивное изумление. Каждый раз, когда я вижу подобное или читаю о подобном, или слышу о подобном, я прихожу в изумление, – неужели еще остались на земле такие, кто может это сделать, думаю я. Я знаю, что остались, конечно. Я даже вижу их, когда иду по городу, захожу в рестораны, магазины, сберкассы, кинотеатры, парки культуры и отдыха, парикмахерские, институты, школы, министерства, частные фирмы, малознакомые подъезды и частопосещаемые квартиры, гостиницы, дома друзей и дома не друзей, зоопарк, отделения милиции, воинские подразделения, пожарные части, подсобки, подвалы, на приемы в посольства, на станции автотехобслуживания, в редакции газет и журналов, на студии радио и телевидения, когда смотрю телевизор, видео, кино, театральные постановки, когда прихожу на кладбища, когда сажусь в такси, автобусы, троллейбусы, трамваи, поезда, самолеты, вижу даже тогда, когда, вообще нет никого вокруг, вижу… На столе передо мной лежали несколько фотографий – все цветные, четкие и яркие. На одной я увидел труп мальчика лет восьми. Глаз у мальчика не было. Вместо них чернела спекшаяся кровь. И носа не было, он был откушен – или срезан, нет, скорее откушен. Штанишки у мальчика были спущены, и на том месте, где у него должен быть член, тоже чернел огромный запекшийся сгусток крови. Мальчик лежал в траве, а вокруг белели стволы берез. На другой фотографии был запечатлен труп другого мальчика. И у этого другого мальчика так же, как и у первого, отсутствовали глаза, нос и половые органы. На третьей фотографии я увидел мокрую, видимо, только что вытащенную из воды девочку, того же возраста, что и погибшие мальчики, семи-восьми лет. Она была в белой рубашечке, темной юбочке и в гольфах. И у нее так же отсутствовали и глаза, и нос. И между тоненьких, прозрачных ножек у нее тоже блестело неровное алое пятно. Я взял лежащие рядом с фотографиями, еще в квартире вытащенные у меня сигареты «Кэмел» без фильтра и закурил. Данков откинулся на спинку стула, взглянул на меня вопросительно. Кроме вопроса или вопросов, или, так, скажем, кроме вопрошания, в глазах его я уловил (если мне не показалось) еще и сочувствие. Я усмехнулся, вернулся опять к своему стулу, сел. Спросил: «Я подхожу по приметам?» Данков кивнул. «Опознать меня есть кому?» – снова поинтересовался я. И Данков снова кивнул. «Так чего же ты ждешь?» – осведомился я. «Ответа, – сказал Данков. – Твоего ответа сначала». Я засмеялся: «Понимаешь, как-либо оправдываться и отнекиваться мне сейчас глупо» – «Объясни», – попросил Данков. «Пожалуйста, – согласился я. – Если я скажу, что это не я, у тебя нет основания мне верить, наоборот, у тебя есть все основания мне не верить. Значит, я должен хоть как-то, хотя бы косвенно, доказать, что это не я. Первое доказательство – это алиби. Но какое я сейчас могу представить тебе алиби, если я даже не знаю, когда эти преступления были совершены? Второе – мотив. Я могу сказать тебе, что эти убийства совершил человек больной, а я вот, как ты сам видишь, и совсем не больной и даже более того, очень даже здоровый. Но ты ведь не можешь знать, больной я на самом деле или нет, необходимо исследование, психиатрическая экспертиза. И ко всему прочему, мы с тобой знаем, что подобные штуки совершают часто не только больные, а самые что ни на есть нормальные, но слегка ущербные, закомплексованные, оскорбленные жизнью люди. Мы же знаем ведь это с тобой, так? – Данков кивнул медленно. – Так какого же ты ждешь от меня ответа?» – развел я руками. Данков, судя по всему, не хотел возражать мне, потому что все, что я сказал, было очевидно и лежало на поверхности, но и соглашаться не хотел со мной тоже, потому что, согласившись, он тем самым признал бы, что достаточно глуп и далеко не профессионален, а это было совсем не так, и мы оба это знали. Он взял сигарету и тоже закурил. Затянулся вкусно и глубоко и сказал, глядя на стол перед собой: «Мне очень жаль, что ты не сказал прямо, как офицер офицеру, ты это или нет, очень жаль. Если бы ты ответил просто – ты это или нет, мы с тобой разговаривали бы на равных, неважно, ты это или нет. В любом из двух случаев мы бы разговаривали на равных. А сейчас ты вынуждаешь меня разговаривать с тобой не совсем корректно и, более того, совсем не любезно и далеко не на равных. Понимаешь?» И он поднял на меня глаза, посмотрел в упор, не моргая, не отрываясь, равнодушно и полусонно. Грамотно изложил. Отыгрался. Я не ожидал. А он умнее, чем мне показалось. Хорошо. Посмотрим, что будет дальше. «Как офицер офицеру я тебе скажу», – начал я. «Уже поздно, – прервал меня Данков, брезгливо поморщившись, – не надо…» – «Как офицер офицеру, – тем не менее продолжил я, – я тебе скажу, просто и прямо, как ты хотел. Я знаю того, кто убил этих детей, знаю… Ты веришь мне?» Настороженность появилась в глазах Данкова. А равнодушие улетучилось, как и не было его. И сонливость пропала. Я смотрел на Данкова и закатывался от смеха – внутри, конечно, внутри. Внешне же я был серьезен, и даже печален, и даже скорбен, если не сказать больше, едва не плакал, мать твою!… «Я видел его, этого человека, тогда в лесу, в день убийства», – я показал пальцем на фотографии, на все сразу… «Когда это было? – прервал меня Данков. – Где?» – «Ты не дослушал, – сказал я и заговорил, быстро, страстно, с нажимом, глядя Данкову в глаза, не отводя их ни на мгновение. – Он был с меня ростом. Такой же, как и я, слегка сутуловатый, широкоплечий. Тоже с глубокими глазами и с полноватыми жесткими губами. В американской армейской куртке, в джинсах, кроссовках. Постарше лет на десять. С проседью. Я хорошо запомнил его… Очень хорошо. Он прошел в двух метрах от меня. Нет, метре. Нет, в сантиметре. Да, в сантиметре. Когда я прочитал в газете об убийстве ребенка в Измайловском парке, я сразу догадался, что видел убийцу. И я знаю, кто это, – я встал со стула и опять подошел к столу Данкова вплотную, уперся бедрами в край стола, стоял и смотрел идиотским расфокусированным взглядом поверх глаз Данкова на верхнюю часть его лба. Такой взгляд производит яркое впечатление на любого, на дурака или крутого, в первые секунды во всяком случае, и добавил с напором, чуть наклонившись вперед: – И ты знаешь, кто это! Мы с тобой оба знаем, кто это!… Ну? Скажешь сам? Или уступишь это право мне? Уступишь, да? Я вижу, ты уступаешь?… Это был ты! – крикнул я и вытянул в сторону Данкова скованные никелированным металлом свои горячие руки, вздрагивающие. – Это ты убил в тот день этого тихого, милого мальчика, примерного отличника и послушного сына, чистенького и свеженького! – Я задыхался от негодования. – Ты задушил его. Потом трахнул его, уже неживого. Потом, опьянев от власти и от насилия, ты откусил ему нос, выколол глаза, отрезал член и съел его, пожелав себе приятного аппетита!» – «Заткнись! Дурак!» – истерично заорал Данков и грохнул круглым, размером с гандбольный мяч кулаком по столу. «Не ори!» – рявкнул я и еще ниже склонился над столом, сверлил Данкову его вспотевший лоб своим непримиримым, обличающим взглядом, а затем неожиданно расслабился и заговорил иначе – тихо, вкрадчиво, но с затаенной угрозой в голосе: «Ведь у тебя есть американская армейская куртка? Есть ведь, правда? Или была… Это же легко доказать» – «Ну есть, – попробовал ухмыльнуться Данков. – Ну и что?» – «Ничего, ничего, – я примиряюще выставил вперед две ладони. – Нам важен сам факт, что есть. И джинсы у тебя есть? Так ведь? И кроссовки, так, правда? Это ни о чем не говорит. А может быть, говорит обо всем… – Я резко выпрямился и опять заговорил громко и жестоко. – Ты специально сейчас задерживаешь людей, похожих на тебя комплекцией и ростом, имеющих одежду, похожую на ту, в которую ты был одет в день убийства. Ты будешь задерживать как можно больше таких людей и по нескольку раз станешь предъявлять их на опознание, чтобы окончательно запутать опознавателей, чтобы настоящего убийцу опознаватели уже не смогли опознать, не были бы уже уверены, что это именно он, то есть ты, ты, ты, ты… – Я перевел дыхание и заговорил еще громче. – Сам опознание ты не проводишь. Это делает Атанов или еще кто-нибудь из твоих людей, потому что боишься, что тебя могут узнать… Убийца!» – срывающимся голосом крикнул я. Данков рассмеялся деланно, откинувшись на спинку стула. Стул скрипнул пискляво. И мне показалось, а может быть, так было и на самом деле, что вместе со стулом скрипнул и сам Данков. Механизм его организма, работавший до этого момента четко, легко и уверенно, сейчас дал сбой. Вроде как где-то стало подтекать масло и детали механизма подсохли и стали скрипеть. Я понял, что почти добился своего – Данков «прогнулся». Еще чуть-чуть, и я сломаю его. Если захочу. Данков потянулся нарочито сладко, как после доброго сна, и сказал, ухмыльнувшись: «Что ты несешь, мудила?!» – «Я думаю, что люди, которые хотя бы вскользь видели тебя, опознают тебя после того, как я с ними поговорю», – заметил я тихо… «Я не мог быть в тот день в Измайлове, – уже не сдерживаясь, плюнув на все и вся, и всех, и на себя в том числе, заорал Данков. – Я был здесь, – он яростно тыкал толстым сильным пальцем в стол. – На работе! Понимаешь, на работе! Это легко проверить!» – «Но я же видел тебя, – в тон ему заорал я. – Я же видел! Вот так же, как сейчас! И есть свидетели, которые видели меня. Я гулял там со своей знакомой барышней, болтуньей и хохотушкой, – и я засмеялся переливчато женским голосом, показывая, как хохочет моя барышня, а закончив смеяться, заключил, посерьезнев: – Она подтвердит мои слова…» Данков, не торопясь, вышел из-за стола, подошел вплотную ко мне, быстро поднес руку к моей шее, сжал пальцами горло, посмотрел на меня оловянно: «Я убью тебя!» И тогда я сделал вот что – опущенными вниз руками я схватил его за мошонку и рванул ее на себя. Данков взрыкнул испуганно и тотчас отпустил мое горло и захлопал расплавившимися вдруг глазами, завыл зверино. А я ему сказал, глядя точно в его открытый всем ветрам рот: «Мне очень жаль, что ты не ответил мне прямо, как офицер офицеру, ты это или нет. Очень жаль. Если бы ты ответил просто, ты это или нет, мы бы с тобой разговаривали бы на равных, в любого случае, ты это или нет. А сейчас ты вынуждаешь меня разговаривать с тобой не совсем корректно и, более того, совсем не любезно, то есть далеко не на равных. Понимаешь?» И разжал, конечно, пальцы после таких замечательных своих слов и отпустил на волю изрядно помятую мною мошонку полковника Данкова. На хрен мне нужна его мошонка? Даже если она и не особо взопревшая, и не скользкая на ощупь и не вонючая от давно не смываемой с головки члена мочи и белковой смазки, даже если она очень чистая, прохладная и дезодорантом надушенная, для чего она мне нужна? Я во всяком случае не знаю этого. Не знаю, зачем она мне нужна, его мошонка… Данков, когда я его отпустил, согнулся и, морщась и мотая головой, потер то место, которое я отпустил, потом медленно выпрямился, шало посмотрел на меня и хрюкнул вдруг, как хряк перед случкой, и еще раз потом, и еще раз, и загоготал затем во весь голос, одной рукой тиская скомканный мною член, а другой тыкая мне в висок и приговаривая сквозь смех: «А ты, сука, того, на хрен, точно того, гадом буду…» – и гоготал, гоготал. Долго так гоготал, долго-долго. Я уже устал ждать, пока он закончил гоготать. Я уже и сигаретку выкурил, и на стуле своем посидел, и по телефону одной подружке своей позвонил, и на сегодняшний вечер с ней встретиться договорился, а Данков все гоготал и гоготал. И остановился только тогда, когда в кабинет Атанов вошел и какую-то бумагу ему протянул. Данков стер слезы с лица, перестав смеяться, отдышался и, все еще хмыкая время от времени, принялся читать принесенную Атановым бумагу. Пока Данков читал, Атанов с удивлением смотрел на его блестящие гладкие глаза, на его мокрые щеки и потом переводил взгляд на меня, и с не меньшим удивлением смотрел на мои рыжие глаза и бледные небритые щеки, и вычислял, наверное, что же здесь произошло, пока его не было. И даю голову на прострел, что он, нерусский, так и не допер, что же здесь у нас с Данковым случилось, и не допрет, даже если ему Данков и расскажет все, не почувствует ситуацию. Не из той он породы, этот Атанов. Но Данков ему ничего не расскажет, это точно. Хотя, признаться, мне совершенно было наплевать, расскажет Данков что-то кому-то или не расскажет. В эту минуту самым важным для меня было то, что я переиграл Данкова, что я подчинил себе неблагоприятные для меня обстоятельства, и изменил ситуацию в свою пользу. Это была настоящая классная работа. Я наслаждался. Я был счастлив. Данков дочитал, наконец, бумагу, которую ему принес Атанов. Аккуратно положил ее на угол стола. Судя по моему личному армейскому делу, сообщил мне Данков, я хороший солдат, профессионально грамотный, храбрый и находчивый. (Знал бы он, что такое моя храбрость, я усмехнулся, знал бы он, что основное сырье моей храбрости – это страх, обыкновенный страх, Когда я слышу первые выстрелы, он начинает полыхать у меня внутри, а затем сжигает там все без остатка и вырывается в конце концов наружу, потому что некуда ему уже больше деваться, яростный, грохочущий, неуправляемый, и принимается жечь все, что находится вокруг меня. Именно этот неуправляемый огонь люди называют храбростью. Какая же эта храбрость?) Данков полюбопытствовал, за что я дважды награжден орденом Красной Звезды. Я ответил, что за хорошую работу. Данков попросил уточнить. Я ответил тогда, что два ордена я получил за две хорошие работы. Данков засмеялся и настаивать на более точном ответе не стал. А даже если бы он и стал настаивать, я бы все равно ему ничего не сказал. И дело не в том, что это тайна и что я, мол, подписку о неразглашении давал. Нет, просто я не люблю рассказывать про работу. Я люблю ее делать, а рассказывать не люблю. Данков закурил и после небольшой паузы поинтересовался, а по какой, мол, причине я был уволен из армии. Я ответил, что был комиссован по ранению. Данков кивнул и сказал, что прочитал это, но почему, спросил он, после слов о ранении в моем личном деле в скобках указание, что подробнее о моем увольнении можно прочитать в особой папке за номером 14295 кс. Что, помимо ранения, мол, были и другие причины?… Я сказал, что никакой секретной папки – ничего не знаю и не знал никогда, и что уволен я исключительно по ранению. Ну в самом деле, не рассказывать же Данкову эту очень страшную историю, которая стала истинной причиной моего увольнения. Неприлично даже как-то. Я стесняюсь, мать мою… История эта, конечно, достойна, чтобы рассказать ее в деталях и подробностях, в лицах и фигурах, стоя и лежа, бегая и покрикивая, притопывая и присвистывая, возбужденно и с жаром, и умирая на последней точке, как герой на амбразуре. И я уже решил было, что сейчас расскажу эту историю, и все покажу как надо, но вдруг почувствовал, что чрезвычайно хочу курить. Поднялся, взял без разрешения свои сигареты со стула, закурил с наслаждением и тотчас забыл напрочь, что хотел сделать еще несколько секунд назад. Сидел, вспоминал мучительно, пока Данков там что-то еще говорил. Вспоминал, вспоминал, но так и не вспомнил. Потому как если бы важное что-то забыл, то вспомнил бы, это точно. А Данков говорил тем временем, сидя на широком подоконнике широкого окна, говорил: «За последний год четырнадцать убитых детей. Одиннадцать мальчиков и три девочки. Откусаны носы, отгрызаны или отрезаны половые органы. У пятерых вскрыты грудные клетки, вынуто и съедено сердце. Во всех случаях половые органы отрезались или отгрызались еще у живых мальчиков и девочек, еще у живых… Если я найду его, я убью его. Сам. Ни суда не будет, ни психиатрической экспертизы. Ничего этого не будет. Будет он и буду я. И я убью его. Предварительно у живого у него я отрежу член. И выколю ему глаза живому. И я это сделаю. Я сделаю это! Это я сделаю! Сделаю я это! А там пусть судят и судят, и судят!…» – он пренебрежительно махнул рукой и слез с подоконника, сказал Атанову, чтобы тот снял с меня наручники, и быстрым шагом направился к двери, предварительно жестом показав мне, чтобы я следовал за ним. И я следовал. По коридорам и лестницам, мимо людей и зверей, мимо трахающихся мух и пыльного воздуха, мимо тихого света и громкого рыганья, мимо тех и других, которые были и которых не было, мимо прощенных и недостреленных, мимо сожаления и бесконечного наслаждения от подчинения силе, мимо пота и пуканья, мимо трещин на давно не крашенных стенах и мимо тех, кто шел навстречу. Глядя в спину быстро и уверенно идущему и не глядящему по сторонам и тем более не оглядывающемуся Данкову, я подумал (и не в первый раз уже, я думал об этом и раньше, глядя в спины и лица подобных ему, раньше, раньше, давно-давно, или недавно), что лучшие люди на этой земле – это фанатики, те, кто одержим навязчивой идеей, которую во что бы то ни стало, даже ценой собственной жизни, даже ценой жизни других, ценой страдания и несчастий всех остальных, необходимо воплотить в реальность, или, скажем проще, во что-то ощутимое, чего можно коснуться, что можно увидеть, на что можно сослаться, потому что об этом знают все. Так я подумал, И еще подумал, что я, к немаленькому сожалению и моему и всех тех, кто живет, не фанатик, и никакой идеей не одержим, – ни великой, ни обыкновенной, ни даже самой что ни на есть примитивной. И даже какой-нибудь мерзопакостно-гаденькой, меленькой и никчемненькой тоже не одержим. Ах, ах, подумал я и запечалился, и закручинился, ах, ах, и затосковал по жизни своей невнятной. И подумал еще, что вот если напасть сейчас на Данкова, и выхватить у него из кобуры под мышкой крупнокалиберный пистолет Стечкина и застрелиться, и остаться в живых, несмотря на крупный калибр, вот, может быть, тогда что-нибудь изменится. Попробовать, что ли, мать вашу? Попробовать, а? «Я тебя отпущу, конечно же, – говорил Данков, не оборачиваясь. – Но раз я тебя задержал, я должен выполнить кое-какие формальности. Понимаешь? И самая основная из них – это опознание. Понимаешь, да?» Я шел и кивал. Хотя Данков и не видел, что я киваю, но наверняка знал, что я киваю, потому что ничего другого мне не оставалось, как кивать. Не набрасываться же на Данкова в самом деле и не вырывать у него из кобуры за пазухой крупнокалиберный пистолет Стечкина, чтобы застрелиться и тем не менее остаться в живых. Комната, в которую мы вошли, была маленькая, меньше той, из которой мы вышли, и тоже почти пустая – стол, два стула, тумбочка, сейф. Хороший интерьер, мне нравится. В комнате находились четверо. И все мужчины. Трое из них были одеты в американские армейские куртки цвета хаки, все рослые и спортивные, с крепкими равнодушными лицами, а один был в обыкновенном костюме и сам очень даже был обыкновенный, круглоглазый и круглоносый, усталый и недовольный, простой и несложный. Данков представил меня всем четверым и всех четверых представил мне. Как оно было, так и оказалось, именно так, и никак по-другому. Точно так, как я и думал, когда думал. (Одновременно думая и о многом другом, сразу, скопом, и о том, как хорошо, например, что у меня две комнаты в квартире, это, конечно же лучше, чем одна, и о том, что у меня сухо и кисло во рту, и о том, что я не совсем причесан, и о том, что к отцу на могилу надо сходить, и о том, как мне познакомиться с той прелестной дамой, которую я видел позавчера или поза-позавчера по телевидению, и о том, что нужно продать задорого мой цветной японский телевизор, на хрена мне два телевизора, и о том, что тучи скоро уйдут с неба, куда-нибудь на другое небо, и солнце будет светить и греть всех нас без помех и без всякого другого, что ему мешает вот уже такое бессчетное количество лет, и о том, что надо что-то делать в этой жизни, все равно что, но главное, умело и профессионально и получать от этого удовольствие, именно от этого и больше ни от чего другого, потому что все другое – от веселого, нет, от хитрого, нет, ну как же там говорят, а, вспомнил, от лукавого, от него, от него… Или нет, не так, тут же возражал я сам себе, не так надо все делать, – иначе, – со страстью, забыв обо всем на свете, и о том, что ты жив, и о том, что имеешь какой-то пол, – это очень важно, а также что имеешь руки, ноги, пупок и волосы на голове и в других местах, и делать только то, что делаешь, с горячим дыханием, с восторженным замиранием, лихорадочно, потея от поднявшейся температуры забытого тобой тела… Или нет, опять перебивал я себя, нужно просто жить, не обращая внимания на то, что живешь, так и жить, так и жить, есть, пить, спать… Или нет, снова неверно. Надо обязательно знать, что хочешь, тогда действительно жизнь становится простой и легкой, я ощутил это тогда, на войне. Было время, когда я знал, что хотел, а сейчас… Я был бы самым счастливым человеком, здесь, в этом мире, на этой земле, а может быть, и вне земли, там где холод, или под землей, там где огонь, а главное, самым счастливым среди самого себя, если бы знал, что я ХОЧУ!) Трое в американских куртках действительно оказались теми, среди кого я буду стоять, а может быть и сидеть, не исключено, что и лежать, когда придут потерпевшие, или просто свидетели, а проще сказать, опознаватели, те самые люди, которые будут опознавать меня, есть ли я тот, кто есть, или я кто-то совершенно другой, о котором я даже и не догадываюсь, да и никто из окружающих тем более. А четвертого Данков мне представил как следователя прокуратуры по фамилии Лутовкин. Следователь поздоровался со мной, кивнул Данкову и сказал ему, что вчера он развелся с женой, на что Данков мгновенно отреагировал бурными поздравлениями и требованием выпивки в честь этого события. Следователь тряхнул круглым.носом и заметил, что Данков, видимо, не понял, что он ему сказал, и повторил, что вчера он развелся с женой, со своей женой, не с чужой. «Ну и что?» – недоуменно отозвался Данков. И тогда следователь сообщил, что ему очень-очень плохо. Армейские куртки после таких слов сочувственно закивали головами, а я повернулся к Данкову и сказал ему, чтобы он дал следователю Лутовкину пистолет, для того чтобы тот застрелился, и тогда будет не так плохо, ему просто будет никак, а это гораздо лучше, чем плохо. Данков тотчас оживился, и даже можно сказать, воодушевился, вынул из кобуры огромный пистолет системы Стечкина и со словами: «Кончай эту мутотень, Серега, поступи хоть раз, как мужчина!» Легко передернул затвор и протянул пистолет следователю. Следователь пистолет не взял, а заморщился вдруг, вздрогнул плечами нервно, руку к глазам поднес и быстро-быстро вышел из комнаты. «Следователь-то он хороший, грамотный, практик, – глядя за закрывающуюся дверь, со вздохом отметил Данков. – Только как в прокуратуре оказался – не знаю… – развел руками. – Я говорил прокурору города, не потянет Лутовкин. А прокурор говорит, он умный, только чувствительный чересчур. Чуть что – плачет. Я иногда смотрю на него и у самого в глазах щипать начинает, ей-богу…» Лутовкин вернулся минут через десять. Мы за это время успели выкурить по паре сигарет. Курили все. И Данков, и трое равнодушных в армейских куртках, и, конечно же, я. Открыв дверь и шагнув в комнату, следователь остановился тотчас, конвульсивно схватился за сердце и открыл рот, и застыл так с открытым ртом и с рукой у сердца, чувствительный. Окутанный обильным, но прозрачным сигаретным дымом, он на мгновение показался мне вмерзшим в льдину героем-полярником, которого в самом начале экспедиции нарочно заморозили другие герои-полярники, чтобы тот своим нытьем, слезами и неконтролируемым мочеиспусканием не мешал их героическому походу к Полюсу. Какое-то время мы все с интересом наблюдали за тем, как Лутовкин розовел, восстанавливал дыхание и, разминая мышцы, шевелил плечами. «Железный парень, – с облегчением проговорил Данков, – выдержать такое дано только сильным» Мы, сильные, конечно же, согласно закивали сильными головами. В глазах Лутовкина я с удовольствием прочитал ненависть и боль. И мне показалось, что если бы ему хватило смелости и у него действительно был бы пистолет, свой, неодолженный, Лутовкин всех бы нас здесь и положил. И я думаю, это был бы самый лучший и самый достойный поступок в его жизни. Он бы стал уважать себя после этого и, что не менее важно, он бы стал любить себя после этого, истово и безоглядно. Но у него не было смелости и не было пистолета, и он не убил нас. Он просто обвел нас медленным тяжелым взглядом, и все. Интересно, догадался ли кто-нибудь, о чем говорил этот взгляд? Нет, наверное! Вряд ли кто-то из присутствующих в той же степени, что и я, обожал людей, которые многого хотят в этой жизни – власти, успеха, бессмертия. Лутовкин был слаб. Но он хотел. И именно поэтому он мне даже чуть-чуть понравился – потому что ХОТЕЛ. И как мне было жаль, когда я понял, что Лутовкин не решится даже сейчас сказать в наш адрес что-нибудь грубое и оскорбительное, а тем более не решится дать в лоб, допустим, Данкову или, к примеру, мне. (Нет, лучше, конечно, Данкову. За Данкова ему ничего не будет, только ответный удар. А за меня и ответный удар, и неприятности по службе.) И все же, мать его, я все-таки ждал, что он хоть что-нибудь сотворит с кем-нибудь из нас. Мне бы легче задышалось тогда в этой комнате. Я бы увидел, к восторгу неописуемому своему, что есть еще богатыри на этой земле, есть… А Лутовкин, отдышавшись и откашлявшись, осипшим слегка голосом, стараясь держаться спокойно, рассказал армейским курткам и мне, как нам сесть и где. Потом не менее хрипатым голосом позвал понятых, двух толстых и крашеных женщин, видимо, продавщиц из соседнего магазина, а может быть, и жен допрашиваемых в это время здесь, в управлении, убийц, насильников, разбойников, гомосексуалистов-параноиков, может быть, может быть. Когда женщины вошли и встали там, где им положено было встать, Лутовкин опять выглянул в дверь и опять кого-то позвал. И когда тот, кого он позвал, вошел в комнату, следователь, наконец, закрыл дверь. И не просто так притворил, а запер ее на ключ, а ключ положил в карман. А в комнату вошел мальчик, лет восьми-девяти, серьезный и испуганный, сутуловатый и от волнения часто моргающий, беловолосый и чернобровый, с синими крупными глазами и влажными малиновыми губами. Симпатичный мальчик. Прежде всего Лутовкин попросил мальчика назвать себя и сказал, чтобы мальчик сообщил ему и понятым, знает ли он кого-нибудь из нас четверых и, если знает, то где и при каких обстоятельствах встречал того, кого знает. Мальчик кивнул коротко и робко, подтвердив, что он понял все, что сказал Лутовкин, и разом, от еще большего, видимо, волнения перестав моргать, посмотрел снизу вверх на первого из нас. И на второго через несколько секунд посмотрел. И еще через несколько секунд на третьего взглянул и в завершении процесса, естественно, уставился на меня. И задержал свой взгляд на мне, подлец, мать его. И снова, отойдя на шаг-другой в сторону, вернулся к первому из нас, и разглядывал его недолго, и неожиданно с того места, где стоял, опять взглядом ко мне возвратился, маленький стервец. Смотрел на меня с полминуты, прищурившись и верхней губой вздрагивая (будто хотел меня укусить или, более того, загрызть и после чего, как водится, впиться мелкими зубками мне под ухо и до отвала напиться моей ароматной деликатесной кровушкою), и, наконец, неуверенно вытянул в мою сторону руку. И я тогда очень пожалел о том, что неизвестный «мокрушник» не довел все-таки свое дело до конца. Зашиб бы он тогда этого мальца, и не стоял я сегодня здесь, и не тряс бы страх сейчас мой организм изнутри, А он тряс, сука. Да еще как тряс! Может быть, внешне это было и не очень заметно, но если бы кто залез сей момент ко мне внутрь, этот пухлогубый малец, например, то сгорел бы он заживо там, подлец, через полсекунды, и ни косточки бы не осталось от него, и ни хрящика, о ля-ля! А паренек тем временем все тянул ко мне руку, тянул и говорил тихим голоском, урод лопоухий, что кажется, мол, он это, тот, кто на него тогда в лесу напал, вот тот вот… небритый дядя, кажется. Очень похож, хотя, может быть, это и не тот дядя, добавил он заикаясь. Он, гад, с уверенностью сказать не может, этот дядя его, гладкокоженького, душить собирался или не этот. Спасибо, мальчик, хоть и на этом, а то я подумал было, что мне уже кранты. «Так он это или не он? – попытался уточнить следователь. – Он или не он?» Мальчик покрутил головой нервно, и ответил, раздраженно вскрикивая, что не знает он, не знает… Следователь – а что оставалось делать – тяжело вздохнул и отпустил мальчика. Открыв ему дверь и выпустив его в коридор, стоял какое-то время посреди комнаты, растирая лоб, будто ему в тот самый лоб кто-то въехал – или Данков, или я, или ребята в американских куртках, или только что покинувший нас беловолосый мальчик – напоследок, уходя. Натерев лоб до краснушной красноты, Лутовкин дошел до двери, выглянул в коридор и снова позвал кого-то… Не стану скрывать перед собой, чего я никогда, собственно, и не делаю, что за свою длинную тридцатипятилетнюю жизнь я переспал с большим количеством женщин. Сколько было их у меня, точно я сказать не могу. Не считал. И не считал нужным считать – никогда. Да и не считаю и сейчас, и по сей день. И не буду считать, наверное, и в будущем. Я люблю их запах, короткие юбки, длинные рты, нежные ягодицы, узкие трусики, тонкие ноги, взбухшие соски, «плывущие» от желания глаза, влажные и воспаленные губы влагалища, возбуждающие звуки падающей струйки мочи, непристойные на взгляд обывателя словечки, которыми они называют соитие, матерные вскрики в момент оргазма… Да и кто, собственно, этого не любит? Дайте мне такого на пять минут, и я сделаю из него полноценного трахальщика. Чаще всего я, конечно, спал с красивыми женщинами (на мой, разумеется, вкус – а вкус у меня отменный), но спал также с просто симпатичными и чуть миловидными и даже с очень некрасивыми. Но все они, и красавицы и «страшилки», обладали (для меня опять-таки) одним потрясающим женским качеством, которым, к сожалению, обладает очень невеликая часть женского населения, при взгляде на этих женщин член мой вскакивал, как примерный солдат при команде «подъем» (а я человек крайне разборчивый, щепетильный и брезгливый). Эти женщины обладали способностью вызывать желание. И происходило это не потому, что они такие вот родились. Нет, они хотели вызывать желание. Они стремились к тому, чтобы вызывать желание. Они старательно и упорно работали над тем, как и что нужно делать, чтобы вызывать желание. Они мучили и терзали себя, в конце концов, добивались того, что так страстно хотели. Я уверен, что если бы все женщины чудесным образом вдруг осознали бы, что самое главное для них в этой жизни быть желанными, и стали бы с маниакальной страстью стремиться к этому, то на этой земле, в этом мире, в этой жизни, очень и очень быстро наступило то, о чем так долго мечтали коммунисты и капиталисты, – всеобщее счастье – гармония, если быть более точным. Не стало бы больше войн. Подравнялось бы неравенство. Все бы вокруг породнились, все до единого. Подлость была бы оскорблена. Предательство было бы предано. Люди стали бы завидовать только самим себе. И больше никому. С трудом, морщась, тужась, напрягаясь и судорожно корчась, -будто сидя на унитазе, вспоминали бы они слова: «убийство, грабеж, разбой, мошенничество, кража, тяжкие телесные повреждения, менее тяжкие телесные повреждения, легкие телесные повреждения, измена, шпионаж, бандитизм, вымогательство, халатность, изнасилование, развратные действия в отношении малолетних» и так далее, и так далее, и так далее (см. УК РФ). Короче, все жили бы счастливо и легко. И я тотчас представил себе, как она могла бы выглядеть, эта легкая, добрая, беззаботная жизнь. Примерно так. Все друг другу улыбаются. Друг перед другом то и дело извиняются. Голоса не повышают, не спорят друг с другом. Не перечат друг другу, говорят друг другу комплименты (как ни увидят друг друга, неважно, кто кого, так тут же говорят комплименты) и все время при этом повторяют: «Давайте, мол, говорить друг другу комплименты, и это все любви счастливые моменты». Конфликтов НЕТ. Все ПРАВЫ. Дети слушаются родителей. Родители детей не бьют. Все пьют шампанское и другие некрепкие, прекрасно приготовленные напитки. И никто не пьет водку, коньяк, бренди, джин, виски и все остальное нехорошее прочее. Никто не употребляет наркотиков. Никто никого не хочет победить. Никто ни у кого не хочет выиграть. Никто не хочет умирать! Никто не хочет умирать! НИКТО НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ! Никому не надо бороться за кусок хлеба. Никто не хочет украсть этот кусок хлеба. Все пашут и жнут. Жнут и пашут. Изобретают, сочиняют, производят – ВСЕ. Потому что нет простых людей. Потому что все сложные и в каждом человеке скрыт какой-то талант, какой, неважно, но скрыт. И при такой замечательной жизни, о которой я рассказываю, этот талант, конечно, обнаруживается, и проявляется. И ВСЕ что-то ДЕЛАЮТ полезное – благообщественное, благочеловеческое, благоживотноводческое, благонасекомочное, благорыбочное, благо… благо… благо… И все радуются и веселятся. Пляшут и поют. И здорово все поют, между прочим. И здорово пляшут. Ну, если не все, то большинство. И никто не плачет. А если и плачет, то от радости. И то не по-настоящему, а понарошку, слюнявым пальцем проводя мокрые дорожки – от глаз к щекам и ниже к подбородку, и еще ниже к шее, и еще ниже к груди, а также и к другим не менее важным частям человеческого тела. Некоторые болеют. Но болезней своих они не боятся, не думают о них, и они проходят. А если не проходят, то человек умирает, конечно. Но на похоронах все равно все веселятся и радуются. Вот такая вот картина. Да. Смотрю я на нее, такую вот картину, и думаю, а на хрена жить тогда вообще, если вдруг действительно настанет на земле такая вот мною нарисованная жизнь, жизнь без драки, без крови, без побед и поражений, без разочарований и унижений, без обмана и без страха измены, без жестокости и старости, без боли и голода, без ожогов и без крика, без страха и без ответа. Одно только меня в этой картине моей радует неудивительно – это когда на смертном одре все веселятся и шутят – хороший конец, мне нравится. А остальное меня не радует. Нет, не радует, не хочу я всемирной гармонии. И пусть никто и никогда, НИКОГДА, не спасает мир, – ни ГЕРОЙ, ни КРАСОТА и ни что-нибудь другое, или кто-нибудь другой. Не надо. Как кто захочет спасти мир, так пусть сразу же скажет себе: «Как бы хуже не было, мать мою! Как бы не было хуже!» Я понятно говорю? Если непонятно, то могу повторить. Не надо спасать мир! Даже и не думайте! Он сам кого хочешь спасет. Я ЗНАЮ! И пусть, подумал я, пусть в этом останется ровно столько же стремящихся быть желанными женщин, сколько их и есть сейчас. Этого достаточно. «Как бы не было хуже, как бы хуже не было…» Та, которая вошла в комнату после того, как ее покинул недобитый «мокрушником» мальчуган, относилась как раз к числу тех немногочисленных женщин, которые хотели, чтобы их хотели. Я это увидел сразу, с первого взгляда. Вернее, сначала захотел, а потом увидел. Я глубоко вздохнул, когда захотел. Я всегда глубоко вздыхаю, когда хочу. Не знаю, для того ли, чтобы успокоиться или не показать вида, что я хочу. Или потому, что радуюсь, когда хочу. Или от того, что для пущего желания стараюсь поймать, а затем и вдохнуть запах увиденной женщины – полными бронхами, полными легкими, всей кровью, а значит, и членом, а вместе с ним и другими эрогенными зонами, в изобилии имеющимися на моем отзывчивом и податливом теле. Вдохнув, не уловил ни одной из ноздрей, никаких до ее прихода наполнявших комнату запахов – табака, пота, мужского одеколона, нагретого металла, оружейного масла, и моего, кстати, далеко не благоуханного утреннего перегара. Эти запахи испарились. Нет их, нет и нет. Случилось так, будто мы все, и комната тоже, и мебель, и полы, и потолок, и стены перестали в одночасье чем-либо пахнуть, совсем. Я слышал только ее запахи – теплой постели, душистого мыла, сладкой губной помады, горячего и тугого душа, густого кофе, свежего, тонкого и почему-то (так мне показалось) белого белья, гладко:!, прозрачной кожи, дорогих духов, мытых волос, теплого дыхания, увлажненных глаз – запахи женского утра… Я захотел коснуться женщины, протянул руку. Но не дотянулся. Тогда я решил сделать шаг, но не сделал, потому что Данков опередил меня. «Вы хотите что-то сказать?» – поинтересовался он гладким голосом. Я ничего не ответил. Я только опустил руку и опустил ногу, и опустил глаза, и заставил себя думать совершенно о другом. Я плыл на венецианской гондоле и распевал венецианские гондольерские песни. Я был здоров и счастлив. И не вспоминал о том, что когда-нибудь постарею и буду немощным и нежеланным, дряблым и слюнявым, тусклым и слезливым. И не размышлял даже о том, как мне жить, чтобы прожить и чтобы выжить. Я плыл на гондоле и распевал гондольерские песни и одновременно стоял на опознании, и слушал, что говорили говорившие, которые были вокруг. И мне было хорошо. А говорили говорившие вот что. Лутовкин назвал имя и фамилию вошедшей женщины. Ее звали Вероника Визинова. «Ника Визинова», – повторил я про себя. «Ника Визинова», – сказала она, улыбнувшись, когда я повторил ее имя про себя. Так и сказала, вслух, всем нам разом улыбнувшись. Невесело улыбнувшись, но и не горестно, не трагично, не скорбно. Просто невесело и чуть устало. Лутовкин сообщил, что Вероника Визинова – мама того самого недобитого «мокрушником» мальчика, который только что покинул эту комнату, что она тоже видела того мужчину, который, по словам мальчика, пытался задушить его. Злодей почему-то не сумел закончить свое недоброе дело и оставил мальчика в живых. Видимо, потому, как предполагал следователь, что его кто-то спугнул, и он бросил мальчика и бежал. Вот тогда-то, когда он, потревоженный кем-то, бежал, ломая на своем пути кусты и деревья, его и увидела женщина по имени Ника Визинова. Ника Визинова. Визинова Ника. Вероника. Веро-Ника. Следователь поставил женщину перед нами, точно так как и несколько минут назад ее сына, и произнес, обращаясь к ней, те же слова, что и говорил мальчику, когда тот был тут и пытался меня опознать, недоносок. Лутовкин предложил еще раз назвать женщине свое имя и фамилию, теперь уже официально, и указать на того из нас четверых, кого она знает, и сообщить, при каких обстоятельствах она видела того, кого знает. И сказал в заключение: «Пожалуйста». И коснулся, когда говорил «пожалуйста», ЕЕ локтя. И отдернул руку от нее, как от змеюки мокрой и холодной. И порозовел, робкий, и вроде даже как чуть не заплакал, заморгал круглыми глазами, и зарделся помидором вслед. И отошел в сторону, в угол комнаты, в тень, чтобы никто не заметил, как он заморгал и раскраснелся. Женщину по имени Ника Визинова ничем не заинтересовали стоящие рядом со мной армейские куртки. Она даже не взглянула на них. Она сразу же посмотрела на меня. Мне в рот, мне в глаза, мне на ноги, мне на руки. И опять мне в глаза. Глаза в глаза. Я мог бы кончить, прямо сейчас, если бы отпустил себя. Только глядя на ее лицо, я мог бы кончить. У нее было лицо, глядя на которое можно было кончить, мать ее. Я видел короткий нос, мягкие полные губы, темно-синие продолговатые глаза. Я видел ее мелко завитые длинные волосы. Я видел… Нет, никакое описание ничего не скажет о том, какое у нее было лицо. У нее было лицо, глядя на которое, МОЖНО БЫЛО КОНЧИТЬ! Не надо было дотрагиваться до ее тела, не надо было дотрагиваться до своего члена, а надо было просто стоять или сидеть, или лежать и смотреть на нее, на ее лицо, и через секунду, другую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую, десятую, одиннадцатую, двенадцатую, тринадцатую, четырнадцатую, пятнадцатую, шестнадцатую, семнадцатую, восемнадцатую, девятнадцатую, двадцатую, двадцать первую, двадцать вторую, двадцать третью, двадцать четвертую, двадцать пятую, двадцать шестую, двадцать седьмую, двадцать восьмую, двадцать девятую, тридцатую можно было запросто кончить. Если сдерживать себя, конечно, как сдерживал себя я, когда я стоял перед ней и перед полковником Данковым и следователем прокуратуры Лутовкиным, которые это следственное мероприятие и проводили, а также перед двумя понятыми, которые за этим мероприятием наблюдали. Вот такое у нее было лицо. Лицо было. «Вот этот похож, – наконец сообщила она, указывая на меня пальцем. – Но это не он. Похож, – добавила раздумчиво, не отрывая взгляда от моих глаз. – Но не он. – Хотя и похож» – «Вы уверены, что это не он?» – спросил разочарованный Лутовкин. «Точно, не он, – сказала Ника Визинова. – Но похож», – и все смотрела мне в глаза, пока отвечала. И во взгляде ее я читал интерес, призыв, усмешку, ожидание, предчувствие новизны, удивление самой себе, удивление и оттого, что я – это я, и я такой есть, вот такой, какой есть, и подчинение силы и открытость наслаждениям, и… Я опять сочиняю. Я люблю сочинять. Я большой мастер в сочинительском деле. Может быть, и не было в ее глазах всего того, что я перечислил. Или, может быть, я неправильно прочитал все, что там было написано. Или, может быть, я просто-напросто не умею читать то, что бывает написано у людей в глазах. И может быть, желая, чтобы все, что я перечислил, было написано в ее глазах, я это сам и написал в ее глазах. Я сочинил речь ее глаз, слова ее глаз, романс ее глаз. Однако не исключено, что все, что я прочитал, на самом деле было написано в ее глазах. Никто никогда ни о чем не может сказать с уверенностью. И именно поэтому мы еще живем иименно поэтому еще что-то делаем – не сознавая неуверенность явно, но чувствуя (если хотим чувствовать), что она ВСЕГДА в нас. Вот. Сиреневое узкое трикотажное платье не скрывало ее тонкой фигуры – наоборот, длина его не утаивала стройности ног – наоборот, игрушечные, почти детские туфельки не говорили о запредельной величине ее ступни – наоборот, в ее голосе я не слышал бесстрастия и равнодушия хулительницы удовольствий – наоборот, движения ее не были беспорядочны и неуклюжи – наоборот, нельзя было сказать, что каждое утро она не делает себя – наоборот и, самое главное, я не был бы я, если бы не увидел в ней ежемгновенного ОЖИДАНИЯ – наоборот. (Все в прошлой моей жизни было странно. Иногда мне казалось, будто я и не жил вовсе, будто все, произошедшее со Мной, мною же и выдумано, а на самом деле ничего со мной и не происходило. Было или не было, черт его знает? Есть или нет, об этом не могу заявить с определенностью. А спросить кого-то об этом неудобно, неловко. Примут за ненормального. Начнут сторониться. Показывать пальцем. Сочинять небылицы. Строить козни. И ставить подножки. Плевать, конечно, плевать, я без людей проживу – как-нибудь и где-нибудь. Неужели я опять все сочинил? Или я на самом деле встретил ЖЕНЩИНУ! Мать мою! Лутовкин попросил Нику Визинову пройти в другую комнату, печально сообщив предварительно, что он хотел бы с ними еще немного поговорить – с ней и с ее сыном – о том, о сем и о том, конечно, тоже, как это ни прискорбно. И опять непроизвольно коснулся ее локтя, и вздрогнул заметно и порозовел опять, и вновь застеснявшись самого себя, скорым шагом вышел из комнаты, бегом почти, убегая, пряча лицо, пряча глаза и еще кое-что, чего прятать нельзя, что прятать преступно – желание женщины. Он прятал. Он боялся. А зря. Тем более что только вчера развелся с женой. Ой. У двери она оглянулась и еще раз посмотрела на меня. И, конечно, встретилась с моим взглядом. Я смотрел ей вслед – «ничего в ней нет». Наоборот! В ней было ВСЕ. Я всегда мечтал о женщине именно с такими плечами, лопатками, руками, бедрами, ногами, пятками, с таким затылком, с такой талией, с таким ростом, с таким весом, с такой печенью, с таким желудком, с таким аппендиксом и с таким сердцем. И, встретившись с моим взглядом, она не растерялась, и не смутилась, и не отвернулась тотчас, как это бывает, когда малознакомые люди встречаются друг с другом взглядами, а еще какое-то время смотрела на меня – полуобернувшись, стоя перед дверью, на самом ее пороге, открыв ее, и держась за ручку ее – и улыбнулась неожиданно и только тогда отвела взгляд, когда улыбнулась, продолжая улыбаться – себе, себе, не мне же, конечно, – открыла шире дверь и вышла из комнаты и закрыла дверь за собой, и пошла по коридору, все еще улыбаясь (я видел, видел, как она шла и улыбалась, видел, несмотря на то, что дверь была закрыта, видел). Она шла и с удовольствием смотрела на блюющую в светлом углу беременную женщину, на безрадостно сношающегося с курчавым бараном чернозубого пастуха, на висящего под коридорным потолком обнаженного и далеко не соблазнительного олигофрена, на распиливающих наручники, мелкоглазых рецидивистов, на угрюмого конвоира со спущенными и собранными в гармошку штанами, на жарко матерящуюся трехлетнюю девочку и на свои руки, которые когда-то станут просто костями, белыми и усохшими, если до этого не сгорят в крематории. Я видел это, видел, видел, видел! Мать мою так растак! И еще видел, как она обняла своего пакостника-сына, как обняла его и поцеловала, и как она зашла с ним в кабинет, в который ее приглашал Лутовкин. Данков закурил и объявил, что опознание мы закончили. Поблагодарил армейские куртки, пожал им руки, сказал им что-то смешное, я не слышал что, но куртки засмеялись, и достаточно искренне, из чего можно было заключить, что Данков действительно сказал им что-то смешное; и после того, как они отсмеялись, он, наконец, попрощался с ними и они ушли, покинув нас и комнату как раз через ту самую дверь, через которую до этого момента нас покинули и следователь прокуратуры Лутовкин, и недодушенный мальчик, и его мама Ника Визинова. Повернувшись ко мне, Данков заметил, что эта Визинова классная штучка, по всем параметрам классная, и что он бы не отказался, если бы, конечно, она не отказалась, и засмеялся, думая, что сострил. Но, посмотрев мне в лицо, замолк и добавил затем, что, проводя сегодня опознание, он сделал вывод, что Визинова или знала меня раньше, или видела меня действительно в этот самый злосчастный день и что все-таки может оказаться, что разыскиваемый убийца – это я, или эта ситуация имеет какое-то третье объяснение, о котором он пока не догадывается. А сделал он вышеприведенное заключение из того, что, мол, не может такая роскошная, и, видно, далеко не глупая и знающая себе цену женщина так смотреть на незнакомого ей мужчину, как Визинова смотрела на меня. «Т а к смотреть не может!» – убежденно отрубил Данков и произнес в конце, что, мол, поэтому, да, собственно, и не только поэтому, а еще и в соответствии с законом у меня должны взять сперму на экспертизу. Это предположение мне понравилось, и я оживился и спросил с интересом: «Когда? Где?» – «Здесь, – ответил полковник и указал пальцем в пол, – на первом этаже» Я удивился: «Здесь? В управлении?» – «По убийствам работает большая оперативно-следственная группа, – пояснил Данков. – И штаб у нас тут, в районном УВД. Здесь и криминалисты, и следователи, и сыщики, и врачи, и экспертиза. Все собрались здесь, в помещении управления, чтобы всегда быть под рукой» Данков с любовью посмотрел на свою руку. Мы прошли на первый этаж, спустившись со второго. Шли по коридору. Мимо старушек, потерявших паспорта и дедков, пропивших ордена, мимо тинейджеров с рогатками и гранатами в руках и заплаканного дрессировщика, только что зарезавшего своего любимого льва, мимо женщин, похожих на мужчин, и мужчин, похожих на женщин, мимо шепота за губами и урчания в животе, мимо измятых членов и засохших сосков, мимо нужных и бесполезных, что стоят вдоль стен, мимо паутины дружелюбного паучка, с потолка застенчиво поглядывающего на нас, мимо дымящихся окурков и неясной надежды, мимо текущей по кранам воды и некрасивой секретарши, мимо беспокойства и неузнавания жизни. «Здесь!» – сказал Данков и остановился там, где сказал, и рукой милицейской ткнул в дверь, рядом с которой стоял, остановившись после того, как сказал: «Здесь!». На белой, на крашеной, на деревянной я увидел надпись «ЗДЕСЬ» и понял, что мы пришли туда, куда надо. Данков толкнул дверь и пропустил меня вперед, вежливый, и вошел вслед за мной, не улыбаясь и без желания. За дверью я, как и ожидал, увидел комнату – обычную, похожую на другие, уже виденные мной в этом здании, – за столами и стульями, с потрескавшимся шкафом, двумя сейфами и тремя серьезными и подозрительными людьми в белых халатах, сидевшими за столами на стульях, возле шкафа, рядом с сейфами. Сидевший за одним из столов курчавый и ушастый немолодой мужчина протянул мне стеклянную баночку: «Вот. Туалет рядом». Я понюхал баночку и засмеялся. Она пахла духами «Пуазон». «Туалет рядом», – повторил ушастый и еще более посерьезнел и заподозрился. «Помочь?» – участливо поинтересовался Данков, когда мы вышли из комнаты. Вместо ответа я резко крутнулся на левой пятке и вернулся к двери с надписью «ЗДЕСЬ». Открыл ее. Те трое, что были в халатах, теперь уже без халатов сидели на подоконнике, жадно пили пиво из банок и весело матерились. Я опять понюхал баночку. От нее все так же пахло духами «Пуазон». В туалете я закрыл за собой кабинку, спустил штаны, трусы и с вопросом посмотрел на свой вялый и равнодушный член. «Ну? – обратился я к нему. – Я начну, а ты кончишь». На белом кафеле стены передо мной висели густо-крупные капли – стена потела, как мужик после обеда. На перегородках слева и справа чернели, синели и серели горькие надписи, написанные гонителями плотской любви. На полу под моими красивыми кроссовками хлюпала ярко-желтая – жирная, никогда не высыхающая, наверное, тут моча. И пахло. Вокруг пахло… И как пахло!… Но ЕЕ запах и здесь (хотя его здесь и не было, здесь были только я и моя память о ее запахе), как только я подумал о ней, ЕЕ запах убил все другие запахи, которыми тут пахло, убил и овладел пространством милицейского туалета и теперь подчинял его легко и играючи, властвовал над ним, делал его таким, каким ему надо, запаху (то есть мне, думающему об этом запахе, вспоминающему, какой он, этот запах). И в тот же миг я увидел и ее саму, сидящую на унитазе, со спущенными трусиками, маленькими-маленькими-маленькими, вот такими маленькими, вот такими. Она сидела и смотрела на меня, полуоткрыв глаза и полуоткрыв рот. И все! И этого было достаточно! Я только слегка коснулся своего члена рукой и кончил сей момент. Все произошло так быстро и случилось так приятно, что я едва успел подставить пахнущую баночку под пульсирующий член. Когда я уходил из туалета, она все еще сидела на унитазе со спущенными до самых щиколоток трусиками и смотрела мне вслед с мутной улыбкой на мягких губах и двумя пальцами показывала мне козу, идет, мол, коза рогатая за малыми ребятами, ну и так далее. Так и пугала меня, пока я не вышел. А шел я долго. Туалет растянулся до бесконечности. Хотя конец все же нашелся. И на него, на конец, я все-таки вышел. В коридоре я увидел Данкова, злобно и громко орущего на какого-то низкорослого мужика. Мужик безумно хохотал в ответ на грозные и грязные слова Данкова – заливался, закатывался, свихнувшийся, буйный, совсем недавно, вот только теперь. Заметив меня, Данков и мужик не сказали друг другу больше ни слова. Разошлись в разные стороны. Данков, все еще продолжая кривить губы, ругаясь, направился ко мне, а низкорослый, повернувшись спиной и пританцовывая, поспешил куда-то по коридору первого этажа, вперед и прямо, не спускаясь и не поднимаясь и ни на шаг не сворачивая с выбранного им пути. На мой вопрос, кто этот вальсирующий весельчак, Данков ответил, что это мудак по фамилии Буковников, а должность его называется просто и ясно – начальник районного управления внутренних дел, вот, этого самого управления, на полу которого мы сейчас стоим и разговариваем. «А почему он мудак?» – поинтересовался я. «А потому что глуп», – ответил Данков. «А, – сказал я. – Ну тогда понятно». Мне и вправду было понятно все про начальника Буковникова. Достаточно было только взглянуть на его лицо, глаза, фигуру, чтобы понять – мудак. Я так и понял. Одно только не укладывалось в понятие мудака, уж очень достойно он себя вел, когда Данков орал на него, – хохотал и пританцовывал, пританцовывал и хохотал. «Наверное, все-таки он не совсем мудак, – подумал я, – хотя мне-то какое до этого дело?» Баночку со спермой я отнес в комнату с надписью «ЗДЕСЬ» на двери. Трое пивших недавно пиво на подоконнике и весело матерившихся, теперь облаченные опять в белые халаты, сидели каждый за своим столом и уже без серьезности и подозрения, а, не скрывая, пьяно, смотрели на меня, в их комнату вошедшего. Принимая баночку, ушастый спросил удивленно: «Что такое?» – и с трудом поднял на меня глаза. «Моя сперма», – ответил я. «Какая гадость», – поморщился ушастый. «Покурим?» – предложил Данков, когда я вышел из комнаты. Я согласился. Он подождал, пока я его угощу «Кэмелом». Я угостил. «Покурим, – сказал Данков, затягиваясь, – и я тебя отпущу» – «Хорошо», – сказал я. Мы помолчали. Потом я спросил; «Как вы меня вычислили?» – «Старлей, обыскав твою куртку, нашел номер телефона, написанный на бумажке. Мы установили по телефону адрес. Приехали. Девчонка, которую ты трахал сегодня ночью, дала твой телефон. Все просто». Я кивнул. «Я тебя отпущу, – повторил Данков. – Я тебе верю. Ты не «мокрушник». Я верю. Я вижу. Хотя я мог бы, конечно, и придержать тебя, на сутки, трое, десять за сопротивление работникам милиции. Да, кстати. Зачем ты сопротивлялся работнику милиции? Зачем!» – «А мне ничего не оставалось другого, – усмехнулся я. – У меня в джинсах была марихуана, граммов десять. На статью хватило бы» – «Вот оно как, – протянул Данков. – Так оно» – «Оно так, – ответил я и добавил, – но курю я травку редко. Реже редкого. И еще реже. Когда совсем хреново. Понимаешь, да?» – «Понимаю, да, – кивнул Данков, кивнул. – Ты ее, конечно, сбросил?» – «Конечно, – отозвался я. – Конечно» – «Понятно, – сказал Данков. – Ты же не дурак. Коли был бы дурак, я бы с тобой вот сейчас не стоял бы и не разговаривал. На хрена мне с дураком стоять и разговаривать? Я с дураками не люблю разговаривать. Ничего нового не узнаешь от дураков-то. А от тебя, например, можно узнать. И я узнал. Что ты еще и травкой балуешься, узнал. Но я тебя понимаю. Понимаю, правда. На войне все курили. Так? Так. Я понимаю» – «Дай мне ее адрес», – попросил я, не глядя на Данкова, а глядя в окно, где улица, где воздух и где температура. Данков усмехнулся. «Хочешь мальца добить? Чтобы уж точно он тебя не опознал. Кого он, мертвенький, опознать-то сможет. Никого». Я пожал плечами и выкинул сигарету в форточку. «Я пошел», – сказал. И пошел. По коридору. Туда, где выход. Я так устал, что мог сейчас упасть здесь, в коридоре, на пол и лежать. И не спать, нет, а просто лежать, тихо и неподвижно, будто неживой, и смотреть в потолок и смотреть на тех, кто будет смотреть на меня сверху, склоняясь надо мной, и моргать и спрашивать меня, что со мной, что, что, что… Я мог смотреть на них и не видеть их, и потолка не видеть, и стен, и рук своих, и ног. Я мог бы так. Вот сейчас. Но я, конечно же, не упал в коридоре. Хотя мог бы. Но не упал. Я просто шел по коридору туда, где выход. Мимо звона в ушах, мимо винного запаха, мимо небритых щек и подбородков, мимо дерьмовых мыслей и тщательно скрываемого страха. Я шел мимо себя самого, когда-то сюда вошедшего. «Я тебя отпускаю, – сказал мне Данков вслед. – Пока. Пока я тебе верю, до тех пор и отпускаю. А если что не так, то я тебя задержу за сопротивление работнику милиции. Если что, конечно, не так. А если все так, то задерживать не буду. Ты помни, да!… Вот так». Я не обернулся. Я видел его затылком. Он стоял, расставив ноги и сунув руки в карманы и усмехался. Чему усмехался? Почему? Зачем? Хороший он парень. И не зря родился. Мне так кажется. Пока. Я никогда не знакомился с девушками (женщинами) на улице. Потому что мне никогда не надо было знакомиться с девушками (женщинами) на улице. Они сами появлялись откуда-то. Сейчас уже сложно вспомнить, откуда и при каких обстоятельствах (я кокетничаю, я прекрасно помню, откуда и при каких обстоятельствах они появлялись) но, как правило, и чаще всего и, можно сказать, всегда, да, они появлялись без моего активного участия (без больших усилий с моей стороны, скажем так, будем точными и откровенными до конца). Я всегда думал так, зачем мне самому знакомиться с какой-нибудь девушкой (женщиной), если я знаю, что у нее, у девушки (женщины) всегда, ВСЕГДА, гораздо больше желания познакомиться с более или менее привлекательным и более или менее умеющим поддерживать беседу мужчиной, а значит всегда, ВСЕГДА больше способов для того, чтобы с таким мужчиной познакомиться. Гораздо больше желания и способов, чем у меня, или чем у того же самого более или менее привлекательного мужчины. И еще я понял за свою долгую тридцатипятилетнюю жизнь, что девушки (женщины) не уважают мужчин, которые их добиваются. Я знаю, я видел, я слышал. Так было всегда на моей памяти. Так не было со мной, потому что я никогда никого не добивался. А и вправду, зачем добиваться? Если, например, девушка (женщина) с самого начала вашего знакомства уклоняется от разговоров с вами, или от встреч, а если и разговаривает с вами, то с легким пренебрежением, и даже иногда с легкой брезгливостью, то это означает, что вы ей просто-напросто не понравились с самого начала, и потому, конечно же не понравитесь и потом, так не бывает, чтобы сначала не понравился, а потом «я узнала его ближе и влюбилась в него», так не бывает, а если и случается, то ничем хорошим не оканчивается, всегда. А бывает и по-другому. Бывает, например, так. Девушке (женщине) понравился мужчина, допустим, в первую их встречу понравился, но она, неумная, дурковатой мамой воспитанная, не хочет этой своей неожиданно возникшей симпатии показывать, не хочет казаться легкодоступной, хочет, чтобы тот, кто ей понравился, думал, что мужиков у нее – без счета, и держится оттого снисходительно, – позволяет, допустим так. И мужчина тогда начинает ее добиваться (домогаться). Звонит бесконечно, умоляет о встрече, на свидания приносит цветы, подарки, зазывает в рестораны (если деньги есть), в театры, на концерты (я фантазирую, конечно, я большой мастер в сочинительском деле), говорит комплименты, угождает, предупреждает желания, извиняется и просит прощения – за что-то там, за что-то. Неважно… И все. И вся симпатия ее к нему начинает таять, как мороженое в ладони. Она сопротивляется, а симпатия тает. Природа берет свое. Женщина всегда рабыня. И роль госпожи ей инстинктивно чужда. Посмотрите вокруг и увидите, что я прав. Да вы и так знаете, что я прав. Это все знают. Знали и будут знать. Но иногда забывают. Я просто напомнил. Женщина – с удовольствием – спит не с теми, кто за ней ухаживает, а с теми, кто МУЖЧИНА. Все просто. Есть и еще одна причина, по которой я никогда не знакомлюсь на улице, в лифте, в магазине, в аэропорту, в общественном транспорте, на рынке, у входа в общественный туалет, в поезде, в кинотеатре, на автостоянке, в такси, на стадионе, на вокзале, в буфете, в столовой, в самолете, на лестничной площадке, на почте, у мусоропровода, в сберкассе, в зоопарке, в гостиницах, в тире, в очереди, на лавочке, в исполкоме, в милиции, как было заметно, наверное, в бане, в которую я не хожу, в лесу, на выставках, в полях, на распродажах, в музеях… Очень часто в глазах женщин, на которых я дольше обычного задерживаю взгляд, я вижу испуг, не страх еще, а только испуг, легкий и едва заметный, только мне заметный и никому другому. Я вижу, как мелко вздрагивают глаза этих женщин и как они, женщины, пытаются отвернуться и не смотреть на меня, но все равно потом поворачиваются и смотрят, и опять отворачиваются, и опять поворачиваются и смотрят. И нет. симпатии в их глазах, нет. Есть ожидание опасности, ожидание удара. Есть боязнь за себя, внутренняя, едва различимая мною и редко различимая самой женщиной, боязнь, что вдруг она не сдержится и покорится моему взгляду, и, не в силах сопротивляться, пойдет за мной, кусая губы, кусая ногти, кусая локти, кусая пятки, – до крови, плача, рыдая, стучась лбом о ближайший твердый и немягкий предмет… Вот по этой причине я не знакомлюсь с девушками (женщинами) на улицах моего большого города, а также на улицах и других, менее больших городов, а также на улицах поселков городского типа, просто поселков, деревень, хуторов, также на просторах лесов, полей и рек. С Никой Визиновой к тому времени, как я увидел ее на улице, когда вышел из здания УВД, я был уже знаком. Во всяком случае нас представили. Вернее, ее мне представили, а меня ей нет. Но для того, чтобы утверждать, что знакомство состоялось, этого было достаточно. Я теперь для нее не просто первый встречный, уличный безликий прохожий, а человек, которого она видела, на которого внимательно смотрела, которого изучала пристально и которому даже улыбалась. Она, конечно, себе тогда перед дверью улыбнулась, я это понял, но вместе с тем, а почему бы и не предположить, что она улыбнулась все-таки мне, ведь в тот момент она смотрела на меня, на меня. А вдруг она улыбнулась мне? А вдруг. Я остановился посреди тротуара, когда подумал, о чем подумал, и подумал о том, что я о ней думаю, мать ее, и всерьез думаю, забыв о том, что я всегда, мать мою, плюю, тьфу, тьфу, тьфу на серьезные мысли, я их терпеть не могу, я их ненавижу, мать их. (Интересно, а есть ли у них мать? Наверное, нет. Отец есть, это точно, так что, отца их! Ха, ха.) Они утомительны и бесполезны, а значит вредны. И тем не менее, будучи убежденным, что они утомительны, бесполезны, а значит вредны, убежденным до такой степени, что это убеждение стало частью моего организма, я все-таки – вопреки всему ясному и неотносительному – всерьез думал о женщине по имени Ника Визинова. Мать ее! Это случайно, сказал я себе, так бывает. Я не машина в конце концов. Я имею право как на полярные эмоции, так и на полярные мысли. И ничего в этом страшного нет. Ну подумал, подумаешь! Действительно, неужели я не влюблялся никогда? Да влюблялся, и не раз. Ненадолго, правда, влюблялся. Ну так в этом и кайф, что ненадолго. Постоянство (постоянство во всем, я имею в виду) скучно. Это так. Так почему я не могу влюбиться еще раз? А? Чего я боюсь? Или я боюсь именно того, что боюсь? Как те женщины, на которых я смотрел внимательней и дольше обычного и в глазах которых я читал испуг, а вдруг она не сдержится и пойдет за мной, как котенок на веревочке, упираясь и морщась, но пойдет? Нельзя сказать, чтобы я боялся привязанностей, нет. Я просто не хотел расслабляться, напряженность я считал и считаю лучшим для себя состоянием. Но ненадолго можно расслабиться, сказал я себе, ничего страшного не случится, можно – в конце концов такая женщина! Я, кажется, еще не встречал таких. Кажется, так. Когда я вышел из здания районного УВД, она садилась в машину, стоявшую в двух десятках метров от входа в здание, у тротуара. Мальчик уже был внутри машины. Тихо, не шевелясь, сидел на заднем сиденье, сведя плечи вперед, сведя брови друг с другом, не улыбался и не плакал, и никуда не торопился. Ника Визинова уже села за руль, когда я приблизился к машине и встал вплотную к ее капоту. Женщина не удивилась, как я понял, ни моему появлению, ни тому, что я встал на пути ее машины. Она не стала заводить двигатель. Она положила руки на руль и, чуть прищурившись, посмотрела на меня, будто вспоминая, откуда же она знает меня. Чтобы не стоять просто так – стояние, сидение, лежание или делание чего-то еще просто так всегда вызывало у меня довольно острое ощущение дискомфорта, – я порылся в карманах куртки. Я старался следить за своими движениями, контролировать их (движения должны были быть естественными, чуть расслабленными, и очень точными, и, вместе с тем, неторопливыми и ни в коем случае не суетливыми). Глаз от женщины не отводил, придавая им, глазам, выражение снисходительного любопытства и привычной утомленности. По крайней мере мне так казалось, что я придавал глазам выражение снисходительного, чисто мужского, точнее, чисто животного любопытства, так мне казалось. Я нашел пачку, лениво сунул сигарету в рот, прикурил, затянулся, выдохнул дым неровной неплотной струйкой, небрежно почесал ногтем большого пальца правой руки левую бровь, свою, конечно, и опять затянулся. Женщина, наконец, поняла, что отходить от машины я не собираюсь, открыла дверцу, вышла, оперлась одной тонкой рукой на крышу машины, другой не менее тонкой, но и не более тонкой рукой – на дверцу, усмехнулась слабо одним уголком своих полных губ, по-моему, левым, а может быть, и правым (а может, и вовсе не усмехалась) и сказала, кивнув в сторону своего автомобиля: «Садитесь». Я бросил окурок под ноги, не спеша обошел капот, крыло, приблизился к дверце, открыл ее, сел, волнуясь, мать мою, волнуясь, закинул ногу на ногу, привалился к спинке сиденья и попробовал расслабиться. И еще попробовал улыбнуться Нике Визиновой, когда она тоже села в машину и повернулась ко мне. Она не ответила на улыбку, а только сказала: «Мы, кажется, так и не познакомились». Я ответил, что это она не познакомилась, а я познакомился, и помимо ее имени и фамилии, я знаю о ней еще много всякого другого, и что же, например, спросила она и все-таки улыбнулась, но опять не мне, по-моему, не мне, я сказал, что знаю, что она красива. «И все?» – вновь повторила она. Я сказал, что знаю, что она красива и еще знаю, что она красива, и еще знаю, что она красива, и еще знаю, что она красива… Мальчик вклинился в крохотную паузу между моими словами и спросил жестко: «Зачем здесь этот дядя, мама? Зачем?» – «Не знаю», – пожала плечами Ника Визинова, и посмотрела, как тогда на опознании, на мои губы, на мой нос, на мои брови, на мои уши, на мои ноги, на мои кроссовки, на мою куртку и затем опять на мои губы и, наконец, на мои глаза, в мои глаза. «Зачем нам этот дядя, мама?» – сказал мальчик и сжал плечо женщине. «Не знаю, – усмехнулась женщина. – Я просто не знаю, что тебе на это ответить. Если бы знала, то ответила бы, поверь, ответила бы. Но я не знаю», – и она опять пожала плечами. «Мама, зачем, зачем, зачем. Пусть он уйдет. Я боюсь, боюсь». – мальчик вцепился в ее волосы и тянул их на себя, кривясь и морщась, морщась и кривясь – некрасиво. Ника Визинова откинула голову назад, подчиняясь сыну, и сказала: «Он не уйдет, – и скосила глаза на меня. – Вы не уйдете?» – «Нет, – сказал я, – я не уйду. Даже если вы очень попросите, не уйду» – «А я не прошу, – сказала женщина, – чтобы вы уходили. Нет.» – «Мама, мама, мама, мама…» – шептал мальчик и, закрыв глаза, дергал женщину за волосы, но уже не сильно, не так, как в первый, второй, третий и четвертый раз, не сильно, а затем и совсем отпустил волосы женщины, повернулся к спинке сиденья, ткнулся в нее носом и заплакал негромко, но по-настоящему. Я знаю, когда плачут по-настоящему. Я знаю, как по-настоящему плачут дети. Я видел. Я слышал. Они плачут как дети, дети. «Меня зовут Антон, – проговорил я, когда женщина подняла голову. – Моя фамилия Нехов. По профессии я переводчик, филолог. Я воевал. Был два раза женат. Иногда я люблю жить. А чаще нет. Меня подозревают в убийстве четырнадцати детей. Меня подозревают в каннибализме. Меня подозревают в том, что я не человек» – «Я видела вас тогда, в парке», – сказала Ника Визинова. «Это был не я», – отозвался я. «Это были вы. Я помню», – она крепко держала руль и крепко смотрела перед собой. Я засмеялся. «Тогда почему вы не сказали об этом на опознании? – спросил я. «Я была не уверена, – объяснила женщина. – А сейчас уверена» – «Ну так идите, – подсказал я. – Идите. И сообщите им об этом». – Я махнул в сторону здания УВД. «Я не пойду», – женщина покрутила головой. «Почему?» – искренне удивился я. «Не знаю, – сказала Ника Визинова. – Но я не пойду». «Мама, мама», – шептал мальчик в спинку заднего сиденья. Я нисколько не злился на этого мальчика. Уже не злился. В конце концов ведь он так и не опознал меня. Хотел было опознать, но не опознал. Наверное, я все-таки действительно похож на того, кто его недодушил и недотрахал. Ведь утверждает же взрослый и отвечающий за свои слова человек, Ника Визинова, Визинова Ника, Ни-ка, что я это он. Она ошибается, конечно. Но, значит, точно так же может ошибаться и ее сын – ее плачущий мальчик, ее боящийся мальчик, ее шепчущий мальчик, когда хочет видеть во мне того, кем я не являюсь на самом деле. «Как его зовут?» – спросил я. «Павел, – сказала Ника Визинова. – Он хороший. Он просто испугался тогда. Он очень испугался вас» – «Это был не я», – опять возразил я. «Может быть, и не вы, – неожиданно легко согласилась женщина и опять посмотрела на мои губы, и сразу же на мои глаза, в мои глаза. – Конечно же, не вы, я теперь вижу, что не вы. У него было другое лицо. Да, все то же самое было у него, что и у вас, и куртка, и джинсы, и кроссовки, и щетина, и темные длинные волосы, но лицо другое, – и она засмеялась весело и удовлетворительно. – Другое, другое, я вспомнила. Дайте мне вашу руку, – я протянул ей руку, она положила мою ладонь на свою ладонь и поднесла наши руки к глазам и проговорила тихо: – И руки не те. Нежнее. У вас они нежнее. Чище и доверчивей. А у него были грубые руки», – она вдруг лизнула горячим влажным языком указательный палец моей руки, и еще лизнула, и еще, и еще. Я едва сдержался после первого раза, чтобы не отдернуть руку, а после второго раза мне стало приятно, а после третьего раза я закрыл глаза и с трудом сглотнул скопившуюся за эти секунды под языком густую и очень горькую слюну, а после четвертого раза непроизвольно потянулся свободной рукой к ее коленям… И тут она отпустила мою руку и повторила утверждающе-деловым тоном: «Ваши руки другие. Нежнее и чище». Не зная, что делать с освободившейся вдруг рукой, я пригладил ею волосы, и так тщательно, будто последние дни только и думал о том, как бы мне получше пригладить мои волосы. И когда пригладил наконец и убрал руку от волос, то сказал тогда: «Я не хочу от вас уходить. Но и не могу сидеть рядом. Просто так сидеть рядом, и все. Я могу не сдержаться и поцеловать вас. Я могу не сдержаться и поцеловать очень крепко и очень сильно, и целовать вас долго-долго, очень-очень долго. Я могу не сдержаться, просто так сидя рядом с вами…» – я не закончил фразу. Я и не собирался ее заканчивать. Я вынул из кармана пачку сигарет, вставил сигарету в рот. Если бы я закончил так, как хотел, это прозвучало бы достаточно грубо и прямо. А сейчас, когда мы только-только познакомились, говорить грубо и прямо, наверное, не следовало бы, наверное. Я прикурил, затянулся, и хотел было перевести разговор на другую тему. Уже открыл рот, как она спросила меня: «И?… Ну, ну, договаривайте. Что вы хотели сказать?» Я рассмеялся и ответил: «Не могу. Здесь дети» – «Договаривайте, – потребовала она. – Договаривайте. Или я попрошу, чтобы вы ушли. Договаривайте» – «Но, я не знаю…» – неожиданно растерялся я. «Договаривайте, – она чуть подалась ко мне и опять в который раз уже посмотрела мне на губы и затем в глаза, и повторила тихо, но жестко: – Договаривайте». Я усмехнулся. «Я могу не сдержаться, – сказал я, – и прямо здесь заняться с вами любовью. В машине. На глазах у мальчишки. На глазах всех, кто идет мимо» Она услышала, что хотела. С маленькой улыбкой на губах она откинулась на спинку сиденья и, слегка сузив глаза, посмотрела на меня, и по ее взгляду я понял, что она согласна, что она не против, что она смогла бы мне отдаться здесь, сейчас, мать ее, мать ее, мать ее! Или мне так показалось только. Показалось, конечно. И кажется до сих пор! Я не хочу так, честное слово, не хочу… Я хочу так. Именно так. Так. Так… «И поэтому, – договорил я с трудом, – давайте-ка я сяду за руль. Давайте я сяду за руль» – «Хорошо», – сказала она и открыла дверцу. И я открыл дверцу, и мы вышли почти одновременно, и, обходя машину, встретились, и, не коснувшись друг друга ничем, ни руками, ни ногами, ни ключицами, ни головами, ни носами, ни бровями, ни грудями, ни задами, ни волосами, ни ногтями, ни ушами, ни позвонками, ни языками, ни ступнями, ни глазами, разошлись, и сели быстро каждый на свое сиденье, и захлопнули двери громко. И долго еще потом не могли отдышаться, когда сели. Долго. Когда уже запотели окна от нашего дыхания и когда через них не стало видно ни тротуара, ни здания УВД, ни прохожих, когда не стало видно туч, которые встали над городом, и небесного цвета неба, висевшего над тучами, которые встали над городом, и не стало видно даже обыкновенного воздуха, который всегда видно, если окна чисты и невинны, тогда, только тогда я повернул ключ в замке зажигания и завел двигатель. Двигатель работал хорошо, это я слышал. Своими ушами. Теми самыми, которые слышат иногда такое, чего не слышит (я так предполагаю) ни один даже самый-самый классный слухач в мире, а уж в нашей стране и подавно. Я мог положиться на свои уши – это так (не в смысле лечь на них и валяться, валяться, валяться… а верить им, доверять, знать, что они не подведут). И положась, могу твердо заявить себе и всем, кто находился бы рядом, что двигатель работал хорошо, хотя машина была и не вчерашнего дня выпуска, а скорее всего позавчерашнего, или позапозавчерашнего скорее всего – не новая машина, хотя и позапозавчерашняя. И я хотел сказать вслух о том, что услышал, что, мол, двигатель хороший, ну, во всяком случае неплохой, нормальный. Но не сказал» Так бывает. Хочешь чего-то сказать и не говоришь. И не знаешь, почему не говоришь. А потом все-таки говоришь. Но себе и про себя и про другое говоришь, что правильно сделал, говоришь, что не сказал то, что хотел. Раз засомневался, раз тормознулся на первой же букве того, что хотел сказать, значит, и не надо было говорить, то, что хотел сказать, не стоило, значит, этого говорить, значит, если бы ты это сказал, то жизнь твоя пошла бы, покатилась бы, поползла бы, наверное, по-другому, хуже, лучше, это не имеет значения, но не так как положено было бы, не так как предначертано (хотя все это, наверное, что я сейчас говорю, полная херня, потому что если бы жизнь после этих слов пошла бы по-другому, значит, именно так и было предначертано, ведь так, да, ведь так?) Одним словом, надо что-то решать, решил я. И я решил. И решив так, как решил, что, мол, все идет как надо и куда надо, и вместе с тем, конечно же, и не догадываясь ни чуточки, ни вот чуточки, как на самом деле надо и куда надо, я включил первую передачу и отжал сцепление, после чего не менее осторожно нажал на педаль акселератора и машина тронулась, тронулась! Не умом, конечно, а с места. От тротуара. В сторону мостовой, сбоку от которой она стояла. И потом вторую скорость я включил, и третью. И все нажимал на педали, и все вертел руль, вертел и нажимал, откинувшись назад спокойно и успокоенно, расслабившись, но будучи в напряжении, и смотрел вперед, и смотрел по сторонам, и смотрел на Нику Визинову, хотя еще несколько минут назад говорил, что не буду смотреть на нее, и не просто говорил, а именно так и думал, что не буду смотреть на нее. Но вот сейчас изредка смотрел, и мне было хорошо, и мне было тяжело. «Вы красиво ведете машину, – сказала Ника Визинова. – Очень приятно смотреть, как вы ведете машину. Очень редко так на кого приятно смотреть, когда кто-то ведет машину. Обычно машину ведут, будто делают работу, будто работают, когда ведут, будто только о том и думают, когда ведут машину что они ведут машину, и больше ни о чем не думают. Только о том, что ведут, и все. Даже лучшие из водителей, которых я видела, именно так и водят машину. А.вы ведете ее отстраненно и с удовольствием. И вам нравится, что вы ведете машину. И сама машина вам нравится, и то, что вокруг в машине, тоже нравится. Я вижу, я вижу, вижу, я вижу. И вы спокойны, и вы чуть ленивы, когда ведете машину. Я вижу, я вижу. Вы естественны. Да, вы естественны» «Я неестествен, – сказал я. – Вы ошибаетесь, Ника Визинова. Я очень собран, и я очень сжат. Не зажат, а именно сжат. И далеко не естествен, если придавать этому слову его первоначальное значение. Моя естественность неприродна. Она не врожденна. Она сделана. Она сконструирована. Мной, конечно, конечно же, мной. Я всегда смотрю за собой со стороны. Я слежу за каждым своим движением, когда веду машину, за каждым жестом, за каждым поворотом головы. И за своим взглядом в зеркало заднего обзора слежу тоже, стараюсь придать взгляду небрежность и ироничность, и одновременно равнодушие. Да, равнодушие. Мол, даже если и долбанет нас какой-нибудь полудурок, и мы вылетим с трассы на огромной скорости и ударимся там, за трассой, обо что-нибудь, например о дерево, то мне, мол, наплевать на это, наплевать, потому что будет то, что будет, если и будет наоборот. Хотя мне, конечно же, не наплевать, конечно же. Но я стараюсь убедить себя в том, что все равно наплевать, и, убеждая себя, я одновременно конструирую выражение своего лица, свои движения, жесты, манеры. Понимаете, Ника Визинова? Вы меня понимаете?» Я видел краем глаза, что она не слушала меня, а значит, и не понимала, что я говорю. А если и слушала, хотя она, конечно, не слушала, ну, если предположить, что все-таки слушала, то слышала она только звуки моего голоса, звуки, но никак не слова, не фразы, не предложения, только звуки, которые не собирались у нее в мозгу в какие-то более или менее значимые понятия. Так я думал. Так я предполагал, когда говорил и одновременно смотрел на нее. И оказалось, что так и оказалось, что мне казалось, а казалось бы, да? Она снова заговорила, и заговорила так, что и вправду стало понято, что она меня совсем не слышала, а если и слышала, то только звуки, звуууууууу-ууукиииииииии… Она говорила, Ника Визинова: «И он тоже красиво водил машину. Я очень хорошо это помню, потому что я очень хорошо это видела, будто сидела с ним рядом, вот так, как сейчас сижу с вами. Хотя я не сидела с ним рядом. Я была совсем в другом месте, в своей квартире, в своей постели, рядом со своим мужем. Или без него, когда его не было. Когда с мужем, а когда и без него. Без него, это когда его не было, мужа. Он часто уезжает, часто, часто. Вот и сегодня его нет. Он часто уезжает. Но когда он не уезжает, и я лежу рядом с ним в постели, то тот, кто ко мне приходит, он все равно приходит, даже когда мой муж рядом. Я вижу, как он едет ко мне на своей машине, я вижу, как он красиво ведет эту машину, я вижу, как он волен и свободен, вижу, как он спокоен и умиротворен. Вижу, как его усмешливые глаза взирают вокруг с превосходством и снисходительностью. Он многое знает. Он о многом знает. Он не раздражается, когда зажигается красный свет, и не нервничает, когда зажигается желтый, и остается совершенно равнодушным, когда зажигается зеленый. Он едва касается педалей ногами и он едва касается руля руками. И кажется, что машина слушается его мыслей… Он подъезжает к моему дому. Он останавливает машину. Он выходит из машины. Он не запирает ее. Ему все равно, что будет с его машиной. Он идет к моему подъезду, приглаживая на ходу волосы, идет вольной и чуть ленивой походкой. Заходит в подъезд, с улыбкой ожидания нажимает кнопку лифта, едет на этом лифте, читая непристойные и вместе с тем возбуждающие надписи на его стенах. Приезжает на мой этаж, подходит к двери моей квартиры, ни секунды не колеблясь, нажимает на кнопку звонка, и ждет, улыбаясь, и звонит опять, и ждет, улыбаясь, и звонит опять, и видя, что ему никто не открывает дверь, и зная, что ему никто и не откроет дверь, он открывает ее сам. Открывает и заходит в мою квартиру. Идет по квартире, идет, идет, идет, идет, идет, идет, идет, идет, идет, идет, идет, идет, идет. И заходит в спальню и садится рядом со мной на кровать. И не раздевается и не ложится, а просто сидит. И я открываю глаза и вижу его, и я знаю, что это не сон. И я вдыхаю его запах, и я дотрагиваюсь до него, и чувствую руками его тепло. И он дотрагивается до меня, и я чувствую тяжесть его рук. Он гладит меня, ласкает. Я позволяю ему все. Он делает все, что хочет. Но сам не раздевается и не ложится рядом. Он гладит меня и ласкает и что-то говорит, я не понимаю, что, но все, что он говорит, возбуждает меня и успокаивает меня. Он ласкает меня и говорит, говорит… И я хочу жить. Я так хочу жить. Только тогда я живу, когда он приходит. А потом я засыпаю и сплю крепко и долго и не хочу просыпаться, потому что я знаю, что, когда проснусь, его уже не будет. Он уходит, когда я сплю. Я пытаюсь не засыпать как можно дольше, когда он рядом. Но все равно засыпаю. И ничего не могу поделать с собой, как ни стараюсь, как ни пытаюсь, какие усилия ни прикладываю, какие силы на помощь ни призываю, засыпаю, засыпаю. Как жаль, что я так мало видела его, смотрела на него, дышала им. Как жаль, что я так много спала, когда он был рядом, как жаль… Потому что теперь он не приходит больше. С тех пор как кто-то напал на моего мальчика, на моего сына по имени Павлик, тот, кто приходил ко мне, больше не приходит. Не приходит! Я жду его каждую ночь, а его нет! Я хочу его каждую ночь, а его нет… Я смотрю на город, я заглядываю в каждый его уголок, в каждую ложбинку, в каждую канавку, в каждую щелку, я не говорю уже о том, что я заглядываю в каждую квартиру, на каждое рабочее место. Его нет. Нет нигде. Он не ушел к другой. Он просто исчез. И я не могу понять, почему он исчез. Ты не знаешь, почему он исчез? – Ника Визинова наклонилась вперед, повернулась ко мне и взяла пальцами мой подбородок и развернула к себе мое лицо и повторила свой вопрос: – Ты не знаешь, почему он исчез?» – «Знаю, – сказал я и потерся подбородком об ее пальцы. – Он полюбил твоего сына. Сначала пожалел, а потом полюбил. И полюбил больше, чем тебя. И ты ему теперь не нужна. Как бы он ни любил тебя до этого, ты ему сейчас не нужна. Потому что, какая бы сильная любовь ни была, по сравнению с новой любовью она – ничто… Она не помнится даже, будто ее и не было никогда» Ника Визинова убрала руку от моего подбородка, сжала пальцы в кулачок, поднесла кулачок к груди и провела кулачком по животу, провела кулачком по обнаженным коленям, спрятала кулачок под обнаженные колени, будто грела кулачок, будто вернулся кулачок из Антарктиды и очень поэтому замерз и его добрая знакомая Ника Визинова взялась согреть его. Она грела кулачок и неотрывно смотрела на меня, и в глазах ее толпились слезы – подталкивали друг дружку к выходу, давай, мол, давай, нам тесно, нам душно, «Мама, – сказал мальчик Паша хрипло. – Мама. Я боюсь. Пусть он уйдет…» – «Бойся, – сказал я мальчику Паше. – Бойся как можно чаще и как можно больше. Чем раньше твой страх достигнет своего апогея, тем раньше ты перестанешь бояться» – «Или наоборот», – тихо заметила Ника Визинова. «Или наоборот»,-легко согласился я. «Мама, – прошептал мальчик Паша. – Почему я называю тебя мама? Почему? Кто придумал это слово?» Ника Визинова не знала, почему мама зовется «мама», не знала, как я предполагаю, изначального происхождения этого слова, не читала никогда об этом, не слышала по радио и телевизору, и ни кто ей никогда об этом слове не рассказывал, и поэтому она не могла сейчас, сидя на переднем сиденье в своей машине, объяснить происхождение этого слова своему сыну Павлику, сидящему на заднем сиденье ее же машины. И она не объяснила. Она оставила вопрос открытым. А я просто не обратил внимания на этот вопрос. Услышал, но не обратил. И поэтому я тоже ничего не ответил мальчику. Хотя мог бы ответить. Я прекрасно знаю происхождение этого слова. Прекрасно. «Мама, – продолжал говорить мальчик Павел. – Ты всегда была со мной такая добрая, такая отзывчивая, такая желанная, такая ласковая, такая нежная. И вот теперь, когда рядом с тобой сел этот страшный человек, которого я боюсь, ты перестала обращать на меня внимание, перестала говорить мне разные слова. И даже не хочешь объяснить мне, почему ты называешься мамой. Откуда взялось это слово? Откуда? Мне так хочется это знать. Так хочется». «Ты думаешь, это действительно так? – спрашивая, Ника Визинова пытливо смотрела мне в уголок правого глаза. – Он полюбил моего сына и перестал поэтому приходить ко мне?» Я кивнул. «А тебе… – спросила Ника Визинова, – тебе тоже нравится мой сын?» – «Хороший мальчик», – неискренне ответил я. «И ты мог бы полюбить его, как тот, кто приходил ко мне?» – «Нет, – покрутил я головой. – Полюбить бы не смог. А тем более полюбить больше, чем женщину. Нет, не смог бы» Я говорил правду. Я знал, что говорю. Я вообще не люблю детей, я вообще не люблю людей в возрасте от пяти до двадцати пяти лет. Бесполезный возраст, выкинутые из жизни двадцать лет, за редким исключением, конечно; есть, конечно, разные, но их мало, очень мало, которые в этом возрастном промежутке что-то создают или просто что-то делают достойное, сознавая то, что они делают (и это главное). Но их такое мизерное количество по всей планете, что для того, чтобы полюбить их, их надо для начала найти. А этоархисложно, хоть и архиважно. И если я найду таких, то полюблю, полюблю, конечно, конечно, кто бы спорил. «Мама, мама, – громко шептал мальчик Павел. – Какое странное слово, ма-ма. А если прочитать наоборот, то получается ам-ам… Кто ам-ам? И кого ам-ам? Ты меня или я тебя? Мама, амам…» Мы ехали по городу. В машине. И эту машину вел я. Я ее неплохо вел. Достаточно бесстрашно и достаточно умело. И это несмотря на то, что я уже год не сидел за рулем. Я на секунду-другую-третью закрыл глаза, поразившись и подивившись одновременно, – целый год уже прошел с тех пор, как пьяный экскаваторщик попортил мою собственную машинку. Жив ли ты еще, экскаваторщик? Когда я оставил тебя в той яме, которую ты сам и выкопал своим экскаватором, ты еще дышал. Слабенько, затухающе, но дышал. Прошел целый год. А мне казалось, неделя, день, час. Я держусь сейчас руками за руль, я манипулирую рычагом передач, привычно нажимаю на– педали, и мне кажется, что я так и не выходил из машины, что я так и веду ее все эти пять лет, как я пришел с войны. (А я ведь уже год не сидел за рулем или два…) И ем в ней и сплю в ней, и занимаюсь любовью в ней. В ней так уютно, в ней так тепло, в ней так хорошо, как хорошо, наверное, было в утробе матери, когда меня еще не было, но когда я уже был. Мы ехали по городу. Справа и слева стояли дома, как и положено в городе, – с окнами и с крышами и, конечно, со стенами, и, конечно, с людьми, которые там жили. И мы проезжали мимо этих домов, сейчас невеселых и мокрых, потому что было сумрачно и шел дождь. И мы проезжали мимо людей, которые живут в этих домах. Мы проезжали. И вот что я думал, когда мы проезжали. Почему люди живут в этих домах?! Почему люди живут в этих домах все вместе? Почему люди, мать их, не живут свободно, по отдельности, поодиночке, подальше, подальше друг от друга? Это же так хорошо, когда никого нет рядом, когда никого нет вокруг. Это же так хорошо! Почему я, мать мою, не живу один, отдельно, свободно, без людей? Мать мою! Мать мою! Мать мою! Мать мою! Мать мою! Мать мою! Мать мою! Мать мою! И вот Ника Визинова убежденно сказала: «Здесь». И я притормозил и подвел машину к бровке тротуара, и когда подвел, остановился окончательно. «Мы дома», – сообщила Ника Визинова. Я посмотрел на дом. Семиэтажный и кирпичный, не новый и, наверное, добротный и, наверное, удобный, как все старые дома. Там, наверное, были потолки, и они, наверное, были высокие. Там, наверное, были комнаты, и они, наверное, были просторные. Там, наверное, были лестницы между этажами, и они, наверное, были широкие. Я очень люблю высокие потолки, просторные комнаты и широкие лестницы. Так и было. Ника Визинова взялась уже за ручку дверцы» но я остановил ее, я сказал: «И все?» «Нет, – сказала она. – Не все» Она вышла. И я вышел. А мальчик не вышел. Лежал на сиденье вниз лицом, вздрагивал спиной, плечами, ягодицами, затылком, руками, пятками – плакал. Я открыл заднюю дверцу и дотронулся до мальчика. «Не надо! Не надо! – закричал он, готовясь к истерике, – Пожалуйста… Зачем я вам нужен! Я же мальчик. Вот там за кустами моя мама. Возьмите лучше ее! Она же женщина. Лезьте в трусы к ней, а не ко мне. Пожалуйста, пожалуйста… Не убивайте меня! Да, вон там за кустами и деревьями на детской площадке моя мама. Позовите ее и делайте с ней, что хотите. Она красивая. Вам будет приятно. А я вам зачем? Зачем я вам?! Зачем?!» – мальчик Паша кричал уже, захлебываясь своей кипящей слюной, за катив под веки зрачки, вспоминая. Я слушал его, закрыв глаза. Мне не хотелось смотреть ни на него и ни на Нику Визинову, стоявшую рядом с машиной, и тоже, конечно, слышащую все, что говорил ее сын – мальчик Павел. Я слушал. И не дослушал. Не смог. Я ткнул согнутым указательным пальцем мальчику в середину живота, и он умолк, и через секунду зашипел что-то, задыхаясь, я ткнул еще раз посильнее, и он умолк окончательно. Я взял тогда его на руки, захлопнул ногой дверцу, обошел с мальчиком на руках машину и сказал Нике Визиновой: «Пошли». И улыбнулся ей – не ободряюще и не сочувственно, а улыбнулся как перед поцелуем, перед таким особым поцелуем, за которым следует все остальное. И она оценила мою улыбку, вскинула поникшее было уже свое порнографическое лицо, уверенно развернулась на тонких каблучках и пошла в дом, который она называла своим, туда, где она жила, где спала, ела, переодевалась, занималась любовью, мылась, подмывалась, писала и делала еще кое-что, чего в нашем представлении не делают красивые женщины (ходила по большой нужде), надевала колготки и снимала бюстгальтер, ласкала и ругала мальчика Павла, готовила обед, кокетничала с гостями, засыпала и просыпалась, не храпела, видела сны, купалась в фантазиях и не переставая думала, а на черта все это… И пыталась ответить и отвечала все-таки, но все время не так, все время неправильно (знала, что неправильно, знала), а как правильно, не знала, и плакала оттого, что не знала. Всегда плачет тот, кто не знает, всегда, готов спорить с любым, это так и никогда не бывает по-другому. И ребенок тут не спасение, когда не знаешь, так же, как и не муж, и не любовник, и не бог, и не царь, и не герой. И добиться можно всего только своею собственной рукой. А если не добьешься – будешь плакать до самой смерти. А добьешься, будешь веселиться и хохотать до самой смерти. В полутемном и гулком подъезде все изменилось. Мир, который остался за дверью, казался мне теперь нереальным, мною (любителем посочинять) выдуманным, а потому несерьезным и не заслуживающим никакого внимания. Здесь в прохладном, тихом подъезде я увидел ее. Она была. Она дышала, звала, пахла. Я увидел мальчика Пашу. И он был, был. Я почувствовал его тяжесть. И его тепло. И движение его крови и биение его сердца. И я увидел себя. И я был. И я почувствовал движение своей крови и биение своего сердца в груди, и почувствовал, как болит висок и болит переносица, и болят губы от ударов Атанова. А еще несколько секунд назад я не чувствовал этой боли, как не чувствовал и движения своей крови, веса мальчика Павла, или легкой щекотки от текущего по ребрам пота, или вкуса меди во рту, или зуда натертостей от ремня на бедрах, или горящих пяток, сколько-то времени касающихся пола в автомобиле, или тяжести над глазами, или желания сна, обыкновенного банального сна. Я не могу с убежденностью сказать, что все, что я почувствовал, войдя в подъезд с мальчиком Павлом на руках, было мне очень приятно, нет, но то, что это новое ощущение неожиданно порадовало меня – это я могу сказать определенно. Почему? Наверное, потому, что после достаточно долгого времени я все-таки ощутил, что я есть, что я вот он, что я могу себя пощупать, что я живой и что я существую, и что у меня есть тело, то, которое хочет сна, и что у меня есть лицо, которого я так давно не видел. (Отраженное в зеркале лицо – это не то лицо, которое имеется у меня на самом деле. Я должен видеть себя иным – внешним – зрением спереди, сзади, со стороны – четко, ясно, как до войны.) Надолго ли такое мое состояние? Не знаю. Никто не знает. Но пока оно есть. И я этому радуюсь. Я не берусь объяснить все происшедшее со мной какой-либо одной причиной или сразу несколькими причинами, потому что все равно все перечисленные причины окажутся неточными, но я все же хочу верить, что все происшедшее со мной, после того, как я вошел в тихий полутемный подъезд дома, где живет Ника Визинова, можно объяснить тем, что в этом подъезде живет Ника Визинова, Визинова Ника. Ни – ка. Н – и – к – а… В лифте мальчик Павел открыл глаза и прошептал: «Мама любит. Я слышал. Она сама говорила. А я не люблю». «Он бредит, – сказала Ника Визинова. – Не обращайте внимания. Врачи обещают, что все пройдет. Он просто очень сильно испугался тогда. Все, что он говорит, это бред. Бред. Вы же понимаете, что это бред? Понимаете, да? То, что вы слышали, там в машине, это защитная реакция» – «Понимаю, – согласился я и не сдержал усмешки в голосе, – защитная реакция…» – «Я не в том смысле», – спохватилась моя Ника Визинова. Визинова Ника. «И я не в том смысле», – отозвался я. «Он хороший мальчик, – тихо проговорила Ника Визинова. – Он не мог такого сказать тогда. Это сейчас его мозг работает на защиту. На защиту от воспоминаний. На защиту от того дня.» – «Конечно, – кивнул я. – Конечно» Лифт остановился. Но мы не вышли. Мы продолжали стоять в лифте. «Нет, вы не верите, – Ника Визинова взглянула мне в глаза, очень твердо, очень по-мужски. Мне понравилось, как она взглянула мне в глаза. – Но это так» – «Какое это имеет значение, – сказал я ей. – Верю я или нет. Хороший у вас мальчик Павел или нет…» – «Да, – согласилась она и усмехнулась вскользь. – Это не имеет никакого значения. – И перевела на мальчика взгляд, и вдруг быстро опять посмотрела на меня. – Что вы имеете в виду?» – «Идемте», – кивнул я на дверь. Женщина вышла. И я вслед за ней с мальчиком Павлом на руках. Хорошим мальчиком, как она говорила. Не очень хорошим мальчиком, как предполагал я. (Какое это имеет значение?) Когда я вошел в подъезд, я забыл о смерти. Хотя, конечно же, не забыл само это слово, но постоянная тревога о том, что я неуклонно и неотвратимо двигаюсь (как, впрочем, и все живущие) к своему концу, ушла. Пропала совсем? Исчезла без следа? Конечно, не пропала и не исчезла, а просто удрала на время при виде Ники Визиновой. И поэтому, когда мы вышли из лифта и в окне лестничной площадки я увидел вышедшее из-за туч побледневшее к осени солнце, я не подумал, что вот посветит-посветит оно сейчас и уйдет опять туда, где никому из нас, ныне живущих, не достать его. Я подумал – вот оно, здесь, сейчас. И я люблю его. Я счастлив оттого, что оно здесь, сейчас и я люблю его. Я не подумал, что оно уйдет! Пока Ника Визинова открывала многочисленные замки, встроенные в дверь ее квартиры, я с мальчиком Павлом на руках стоял за ее спиной и, не отрываясь, разглядывал ее снизу доверху. Она открывала замки, а я разглядывал ее и улыбался. А потом перестал улыбаться. Потому что вдруг в какой-то момент понял, что если она сейчас, вот именно сейчас, именно в данный конкретный миг не откроет квартиру, и не войдет в нее, и если сейчас, вот сейчас я не увижу, что же там за дверью, и вид того, чего я еще не видел (квартиры в данном случае), не отвлечет меня (а отвернуться от женщины, когда она открывала замки своей квартиры, я был не в силах, не в силах), то тогда я брошу мальчика Павла на пол или я брошу мальчика Павла в лестничный пролет, чтобы все было кончено разом и чтобы к мальчику Павлу нам больше никогда не возвращаться, и подойду к ней, к Нике Визиновой, сзади и обниму ее, и поцелую ее в шею, под волосы, и проведу руками по ее бедрам, и подниму ей платье, и нащупаю гладь ее шелковых трусиков, и… Она, наконец, открыла дверь, и мальчик Павел был спасен, мать его…, мать его! В ее квартире можно было разместить три мои квартиры. Она хорошо жила, Ника Визинова. Она шикарно жила, Ника Визинова (по нашим отечественным меркам, конечно). Я бы не смог сегодня вот так устроить ее жизнь, как она была у нее устроена сейчас, у Ники Визиновой. Поэтому, конечно, это правильно, что она жила не со мной, а жила с тем, кто мог сделать для нее то, что сделал. Я отнес мальчика. Павла туда, куда она указала, в детскую, в его комнату, мальчика Павла. В квадратной просторной комнате стояли секретер, компьютер, видео с телевизором, кресло, книжный шкаф и кровать, на которую я положил занемогшего от переутомления и от моих успокоительных ударов, и от моего присутствия вообще мальчика Павла, сына Ники Визиновой. Глаз мальчик Павел так и не открывал после того, как проговорил что-то насчет того, что любит мама и чего не любит он, – маленький и, конечно же, еще нетронуто-целомудренный мальчик Павел, мать его! Ах, как приятно произносить эти слова – «Мать его»! Мальчик Павел еще не шевелился на своей кровати иностранного производства (он зашевелился потом, а когда, я расскажу потом) и не моргал под веками, а только перекатывал под веками глазные яблоки туда-сюда, туда-сюда… Мне стало противно смотреть на мальчика Павла. И я не стал больше смотреть на мальчика Павла, я подошел к окну и увидел из окна землю и город на ней, хороший город, мой город. Город, в котором я родился, и в котором я не знаю, умру ли, город, где все живут зачем-то вместе, затем, наверное, что так удобней и легче им, тем, кто живет вместе. Я любовался городом и думал о том, как бы мне сделать так, чтобы не жить вместе со всеми, а жить одному. Наверное, надо заработать много-много денег и уехать туда, куда хочешь, и со стороны, издалека любить и мысленно ласкать свой родной город, а если все-таки нет денег, да даже если они и есть, да, надо основательно поработать с собой, над собой, так поработать, чтобы достичь такого внутреннего состояния, что не уезжая, и будучи здесь, в самом центре города, не быть рядом с ними, а быть одному и быть в стороне, быть вне города, но все-таки в нем. Это сложно, но надо попробовать. И я надеюсь, вот уже несколько минут я стараюсь поверить, что в этом мне поможет Ника Визинова, Визинова Ника. Ни – ка. Н – и – к – а. Я подойду сейчас к ней, и она поможет. Я коснусь ее, поцелую и стану другим – свободным и радостным, всегда радостным, добрым и щедрым, не шагающим, а танцующим, не танцующим, а летающим, я стану необыкновенным, гениальным, созидающим все, что можно созидать, я стану божественным… «Разденьте его», – услышал я Нику Визинову. Я повернулся. Женщина стояла в дверях комнаты. «Разденьте его», – повторила она. И, заметив недоумение в моих глазах, объяснила мне, что мальчик Павел уже взрослый, и он стесняется ее и всегда стеснялся, и даже когда был маленьким. А после того случая в парке стал стесняться ее еще больше, плачет, когда замечает, что его видят голым. А она, Ника Визинова, не хочет, чтобы он плакал, и не хочет также стеснять его даже теперь, когда он без сознания, а вдруг он очнется и увидит ее, его раздевающую, и тогда может случиться, случиться… Она сейчас сделает ему успокоительный укол, а меня она просит раздеть мальчика Павла. Она пошла за шприцем и лекарством, а я стал раздевать мальчика. Я расстегнул ему рубашку, я расстегнул ему джинсы, я развязал ему шнурки на туфлях. Когда пришла Ника Визинова со шприцем и лекарствами, мальчик был еще не раздет, но зато весь расстегнут и развязан и раздеть мне теперь его не составляло большого труда. И я стал его раздевать, а Ника Визинова смотрела. Ника Визинова застыла. Ника Визинова замерла. Глядя, как я раздеваю ее сына. Я видел ее краем глаза. Я видел. Я медленно снял рубашку с мальчика, мягко и плавно, чтобы не потревожить мальчика, вытащил рубашку из-под его тела. Ника Визинова не дышала! Я слышал – она не дышала! Я аккуратно освободил ноги мальчика от туфель, а затем и от носков, поставил туфли под кровать, а на туфли положил не скомканные, а ровно расправленные носки. Приступая к джинсам, я пригладил волосы и протер пальцем глаза, будто готовился к чему-то важному, очень. Ника Визинова не дышала! Я слышал – она не дышала! Я взял джинсы за пояс и потянул их, джинсы не слушались. Я осторожно подсунул руку мальчику под талию и чуть приподнял его, ровно настолько, чтобы джинсы беспрепятственно прошли под ягодицами… «Трусы», – едва слышно выдохнула Ника Визинова. Значит, дышала она все-таки, значит, мой слух меня подвел. Я кивнул и вслед за джинсами потянул к коленям мальчика и чистые белые трусики. Показавшийся под трусиками маленький член встрепенулся, освободившись, и свалился набок. «Вот так», – прошептала Ника Визинова. Не заполненные больше ногами и бедрами, животом и поясницей и членом с мошонкой джинсы мальчика Павла я сложил вчетверо и положил на кресло, стоящее рядом с кроватью, после чего опять опустился на колени перед мальчиком и, восстановив чуть сбитое движением дыхание, приступил к белым свежевыстиранным, совсем не детским, а очень даже взрослым мужским трусикам Павла. Резинка трусиков еще стягивала его колени, когда я опустился перед кроватью. Я не спеша подвел трусики к лодыжкам мальчика, к его тонким острым щиколоткам, к его ступням и хотел уже снять их совсем, когда почувствовал на своей шее, сзади, прикосновения руки Ники Визиновой. Она гладила мою кожу, она пощипывала ее тонкими горячими пальцами… и теперь я отчетливо слышал ее дыхание, оно было ясным, оно было громким, оно было оглушающим, я закрыл глаза и почувствовал, что дрожу, что ухожу, что забываю, кто я, что забываю, где я, и пьянею оттого, что мне совершенно наплевать, где я и кто я, и пьянею еще оттого, что светло вокруг, оттого, что воздух вокруг, и оттого, что меня нет здесь… Но, мать мою, я был бы не я, если бы полностью потерял контроль над собой. Я не потерял. И именно потому, что не потерял, спросил тихо, едва шевеля языком, едва двигая губами: «Мне тоже раздеться?…» Грохнуло что-то там, за спиной, и горячие сильные пальцы оставили мою шею. И дрожь моя унялась тотчас, и я открыл глаза и с усилием повернулся. Ники Визиновой уже не было в комнате. Остался только ее запах. Я вдохнул его, зажмурившись. К запаху Ники Визиновой неожиданно примешался другой запах – запах лекарств, запах больницы. Я открыл глаза и огляделся. На полу в тонкой неровной лужице лежал разбитый шприц. Значит, это шприц так грохнул. Маленький и легкий шприц взорвался, соприкоснувшись с полом. Я слышал, как он взорвался. Я могу поклясться, что слышал, что он взорвался. Я встал и, чуть шатнувшись, как после сна в похмельное утро, побрел к двери. И столкнулся с Никой Визиновой – в дверях, – в руке у нее был новый шприц. Женщина даже не подняла лица ко мне, только сказала, когда я посторонился, чтобы пропустить ее: «На упаковке написано, что эти шприцы не бьются, а они бьются. Зачем тогда писать, что они не бьются?» Ника Визинова остановилась перед кроватью и перед мальчиком Павлом, лежащим на ней. Сосредоточенно глядя на кончик иглы, надавила на шприц большим пальцем правой руки, и, когда из иглы брызнула нитевидная струйка, обернулась ко мне и попросила: «Помогите мне перевернуть его». Я помог. Я перевернул. Пока переворачивал мальчика, касался женщины бедром, и случайно локтем, и нарочно локтем, и нарочно бедром, поэтому переворачивал долго, будто на кровати лежал не девятилетний мальчик, а придавленный неподъемной штангой атлет-тяжеловес. Кожа у мальчика была мягкая и прохладная, и я боялся поцарапать ее своими руками (хотя кожа на моих руках тоже была достаточно мягкая и нежная, но с кожей мальчика ее, конечно же, не сравнить). Когда мальчик наконец оказался на животе, я выпрямился, и снова как бы случайно локтем задел женщину, и отступил на шаг, и сказал: «Вот» – «Спасибо, – сказала женщина. – А теперь идите» – «Я хочу выпить», – признался я. «Я тоже, – сказала женщина. – Мы обязательно выпьем. А теперь идите, идите…» Наступая на паркет, я ходил по квартире. Паркет не скрипел. И был чист и ровен. И его было много, потому что полов в квартире тоже было много, потому что комнаты – все – были такими большими, каких я никогда не видел в городских квартирах. Нет, в этой квартире уместились бы не три мои квартиры, а пять, десять, двадцать пять моих квартир. Я ходил по квартире и дышал – и не так как у себя дома или у кого-то еще дома, я дышал легко и с удовольствием, ощущая, что я дышу, впервые сознавая, насколько приятен процесс дыхания – вдох, выдох, прикосновение прохладного ветерка к губам, приятное тепло в ноздрях, нежелание ничего другого, кроме дыхания. В одной из комнат я различил стеклянную дверь, а за дверью неяркую зелень цветущих деревьев. Я, конечно же, подошел к этой двери и, конечно же, открыл ее. И не удивился, увидел за дверью еще больше деревьев, чем видел, стоя за еще не открытой дверью, когда увидел неяркую зелень цветущих деревьев. Деревьев было так много, что среди них, не зная дороги, можно было заблудиться. Но это в том случае, если бы вокруг не было бы никаких ориентиров. А они были. Наверху, на самом небе желто светило солнце. По бликам, по наклону лучей, просачивающихся сквозь листву, и по некрепкому еще теплу и тем более по цвету самого солнца я определил, что оно еще не дошло до зенита, что оно восходящее, а значит там, где висит оно, солнце, там восток, и поэтому я, конечно, не заблудился бы, если бы пошел гулять среди этих деревьев. И я пошел гулять среди этих деревьев. Шел и дышал, и радовался тому, что иду и дышу, шел и жил, и радовался тому, что шел и жил. Я. Я. Я. Радовался, как давно не радовался, как в детстве, когда все впереди и нет смерти, как в молодости, когда смерть есть, но не для тебя, как пять лет назад, когда я удачно увертывался от нее. Неожиданно я заметил что-то темное в траве. Недалеко. Но и далеко. Кажется, там лежал человек, мальчик, вниз лицом, неподвижный. И я пошел быстрее, и не дошел, потому что меня остановил запах, запах, я принюхался, шевеля всеми ноздрями, пытаясь определить, откуда он шел, запах. Он шел слева. Я повернулся к нему лицом и пошел на него, и дошел. Запах издавало дерево, очень похожее на яблоню. Я шагнул ближе и не поверил себе, когда увидел то, что увидел – на дереве висели маленькие, размером с обыкновенное яблоко, головы Ники Визиновой. И головы жили, они подмигивали, шевелили губами, ушами, носами, облизывались и плевались… «Сейчас я найду что-нибудь выпить», – услышал я голос Ники Визиновой и вздрогнул, и протер глаза, соображая, откуда же доносится голос Ники Визиновой, со стороны дерева или еще откуда-нибудь, и открыл потом глаза, когда протер их, и уткнулся взглядом в ветки карликовой вишни, вкопанной в большой керамический горшок, который, в свою очередь, стоял на широком подоконнике широкого окна. «Так», – прошептал я и обернулся. Не было ни сада, ни огромных комнат, ни плюющихся и подмигивающих голов Ники Визиновой. Я по-прежнему находился в квартире Ники Визиновой, в той самой, в которой уместились бы три мои квартиры, пять, десять, а сама Ника Визинова стояла в дверях и внимательно смотрела на меня, изучающе, будто я был не я, а кто-то другой, может быть, даже совсем и незнакомый человек. «Я найду сейчас что-нибудь выпить», – повторила она. «Хорошо, – кивнул я. – С удовольствием». «Я сейчас найду», – сказала она. – В доме всегда что-то есть. Подождите. Я и сама охотно выпью. Хотя днем никогда не пью. Но сейчас выпью. Я устала сегодня. Да и кто бы не устал, правда, после того, всего того, что с нами произошло? А произошло очень многое. Иному на целую жизнь хватит, правда? Я сейчас что-нибудь найду. Сейчас» Из той комнаты, где я был и где она мне все сказала то, что я услышал, она вышла и прошла в другую комнату, а их было четыре или пять, или шесть, а я остался. Один. Посмотрел опять на вишню в горшке, и на окно потом, и за окно, где улица и город, и на стекло посмотрел после города, и на оконную раму, и на краску на оконной раме, на потрескавшуюся и еще белую, и наверх, на карниз посмотрел, на котором крепились шторы-струны, пели монотонно и длинно – – и нигде и никак не смог обнаружить объяснения тому, что произошло со мной несколько минут назад. Где я был? И как там оказался? Там, где был? Почему на дереве висели головы Ники Визиновой? Галлюцинации? По-другому не объяснишь. Они бывали у меня и раньше, но не такие яркие и не такие реальные, и я никогда не мог прикоснуться к тому, что рисовало мое воображение. А сегодня вот прикоснулся. Я трогал листья деревьев, их стволы. Я шел по траве, которая приминалась под моими ногами и шепотно шуршала. Я слышал, слышал. Я огляделся вокруг, желая зацепиться за что-то взглядом, за что, на чем можно было бы сосредоточиться и, сосредоточившись, подумать, более конкретно и глубоко, о том, о чем я думал несколько секунд назад, о том, как же случилось так, как случилось, о саде, и о головах Ники Визиновой. Это что-то, за что я желал зацепиться взглядом, должно было быть красивым, и обязательно радующим, а значит, успокаивающим и, следовательно, расслабляющим, а потому мобилизующим мою внутреннюю, подавленную умом, логикой и знаниями, силу. Я искал, искал, долго искал, я не помню, сколько времени, но долго, я помню, что очень долго, и я нашел, – это было лицо Ники Визиновой. Женщина к тому времени, когда я, отчаявшись найти что-либо, за что можно зацепиться глазами, с тем чтобы на этом чем-либо сосредоточиться для более плодотворных, чем прежде, размышлений, уже снова вошла в комнату и встала спиной ко всей остальной своей квартире, где только что искала что-нибудь выпить, и сказала, что выпить она ничего не нашла, а нашла только пустые бутылки. И это странно, сказала она, потому что у них в доме всегда есть что-то выпить. В приличном доме всегда должно быть что-то выпить. А как же иначе? А вдруг гости придут или просто, почему бы и нет, просто захочется выпить, а у тебя ничего нет – нехорошо это, совсем нехорошо, сказала она. Я смотрел в лицо Ники Визиновой, и понимал, что оно единственное из всего прочего вокруг, и не только в этой квартире, а вообще, на что я могу смотреть с тем острым удовольствием, которое порождает или возрождает неутолимое и непреодолимое желание жить. Ее лицо явилось для меня оптимальным объектом для сосредоточения и концентрации – красивое, радостное, успокаивающее, расслабляющее. Оно поглощало меня, пережевывало, проглатывало и в процессе переваривания отбрасывало от меня все лишнее и бесполезное, и оставляло только полезное… А Ника Визинова тем временем продолжала объяснять, почему она не нашла выпивку. Потому, наверное, что муж взял какие-то бутылки с собой в командировку, он иногда так делает, а может быть, эти бутылки он выпил с друзьями или коллегами или какими-нибудь иностранцами, которые часто приходят в этот дом, потому что ее муж, как она сказала, работает на внешнеторговой фирме, и поэтому в доме бывает много иностранцев, да и не только поэтому, а вообще, потому, что муж ее очень общительный и дружелюбный человек и у него много знакомых, с которыми он запросто мог выпить те бутылки со спиртными напитками, кои она, Ника Визинова, сейчас не может найти, чтобы предложить мне выпить. «Если так, – наконец сказал я ей, наконец отведя глаза от нее и глядя теперь куда-то в сторону, туда, где кожаный диван и стеклянные столики, где розовая лампа и свежие цветы (откуда? я их не покупал). – Тогда вот так. Если так. Идемте со мной. И я покажу вам место, где мы найдем все, что захотим. Где мы выпьем и отдохнем. Или развернемся и уйдем, если не понравится. И пойдем туда, где тоже можно неплохо выпить и не менее неплохо отдохнуть и поговорить. И рассказать то, что не рассказано. А не рассказано многое, потому что не рассказано ничего. А если и там не понравится, мы развернемся и уйдем… Идемте» – «Хорошо, – просто ответила Ника Визинова. – Идемте. Я только переоденусь. Я так устала, что устала даже быть в этом платье. Когда я опускаю глаза и вижу его, я чувствую, что устала еще больше, чем устала на самом деле. А вы не скучайте. Вот видеомагнитофон, вот телевизор, вот кассеты. Найдите что-нибудь и посмотрите, и не скучайте. Я буду собираться быстро. Но, как и у любой любящей себя женщины, эти сборы будут долгими» И она улыбнулась, когда закончила, – не кокетливо, не приветливо, не призывно, и не обнадеживающе, а просто улыбнулась, улыбнулась, потому что именно в этот момент ей захотелось улыбнуться, она улыбнулась и, улыбнувшись, ушла, и я опять остался один. Один. Оставшись один, я обычно думаю. И всегда, конечно, как и все нормальные или ненормальные люди, думаю о прошлом или о будущем и никогда о настоящем. Потому что я никогда не понимал, как можно думать о настоящем, ведь настоящего нет, настоящее постоянно в движении. Как ни пытайся, никогда не поймаешь то мгновение, о котором можно подумать. Оно, это мгновение, уже прошлое, как только о нем подумал. Но вот сейчас, сейчас, когда Ника Визинова ушла, я осознал, что настоящее можно остановить, его можно попридержать, можно заставить его застыть. И тогда можно думать о нем, когда оно застыло, и радоваться ему, и пьянеть от него. Как это получается, каков механизм этого, я сейчас еще не могу объяснить. Но знаю, что когда-нибудь смогу обязательно – это очень важно будет для меня, – объяснить, но потом, потом. Самым главным сейчас для меня было, что такое случилось, и что благодаря тому, что это случилось, я узнал то, чего не предполагал никогда, даже и не смел предполагать. Потому что, основываясь на опыте и на знаниях, я был твердо убежден, что остановить вселенское движение невозможно – а вот оказалось возможно, а вот оказалось и нужно, иначе без такой остановки – скука и медленное, медленное умирание в скуке… Вру, вру, вру, все вру, и знаю наперед, что вру, и все равно продолжаю врать, потому что так хочется, чтобы так было, как было, как я рассказал, о чем. Все не так, конечно. Не остановить, понятно, вселенское движение, и в частности время, не остановить. Да, не остановить время, которое вокруг. Это так. И я не буду спорить, и пусть никто не спорит со мной, потому что это действительно так. Все знают. Но зато можно остановить время в себе, хотя бы на чуть-чуть, можно, каким-то образом (с помощью воли или специальных упражнений, например, или при помощи искусственно созданной смертельной опасности. Или в момент экстаза работы или в присутствии человека, при взгляде на которого тело твое начинает вибрировать и петь, как струна на карнизе для штор) избавиться от чувства непрерывного движения самого себя и в самом себе, даже когда сидишь, и когда лежишь, и когда спишь, разумеется, тоже. И вот так случилось сейчас, я поверить не могу, но так произошло неожиданно – я, только глядя на эту женщину по имени Ника Визинова, и только думая о том, что она есть, когда не видел ее, я неожиданно, к восторгу своему и острому испугу своему, утерял, в одночасье, чувство движения в себя, чувство движения в себе. Надолго ли? Я странно ощущал себя в новом качестве. Странность заключалась в том, что я не ощущал себя ни в каком качестве вообще, я ощущал себя никак. Или скажем так, я ощущал, будто я не я, а невесомая невидимая молекула воздуха, висящая, падающая или летающая, неважно. И я знал, что я есть, то есть у меня присутствует сознание. Но я знал также, что я уже не тот, что был раньше. Я уже не был опутан режущей и кромсающей паутиной эмоций. Нет, не был. Меня сейчас всего полностью, снизу доверху, заполняло только одно чувство, цельное и вечное – чувство РАДОСТИ. Я радовался тому, что я есть, и что я осознаю, что я есть, и тому, что я осознаю, что у меня есть чувство радости, и тому, что я не тот больше, который был раньше, и что я теперь частица, и не бесполезная, а, наоборот, необходимая, частица большого – земли, мира, космоса, Вселенной, и что живу для этой Вселенной, а значит, живу для себя. Мне было сейчас так легко, как было только тогда, когда я еще находился в утробе матери или еще даже, когда не был зачат, когда только примеривался, что я, наверное, буду тем Неховым, прекрасным и замечательным, который вот через какое-то время должен будет быть зачат, а потом родиться и прожить не совсем счастливо, но счастливо одновременно до сегодняшнего дня, нынешней минуты, секунды, мгновения, доли мгновения. Мне стало так легко, что я перестал ощущать не только тяжесть мыслей, которые текли сейчас без моего участия, без моей воли, но и тяжесть тела. И когда я понял, что не ощущаю тяжести тела, я оторвался от земли и завис над полом, как во сне, как это ни банально звучит. Мне места было мало и земли. Эх! Огибая кресло и диван, я пролетел в один угол комнаты, в другой, затем и в третий, конечно, и четвертый угол не исключил, пятого угла в комнате не было. Эх! Я подлетел к окну, со звоном и треском открыл одну, вторую, третью и четвертую створки, распахнул их одну за одной, – на простор рвался, на нескончаемость и бесконечность. Воздух нежный меня омыл и окунул в себя после, и внутрь забрался после, прохладой и ароматом легкие мои наполняя. Я раскинул руки, я раскинул ноги. Согнулся пополам и верхнюю половину перебросил через подоконник, не касаясь его, как будто прыгнул в высоту «перекатом», и увидел землю там, под собой, там внизу, далеко, – песчинки не различить, травинку не углядеть, лиц у прохожих не распознать. «Высоко, – подумал. – Далеко, – подумал. – А вдруг… – подумал и рухнул тотчас на подоконник, всей грудью и всеми ребрами на него обвалился, с шумом, глухо, ух. – Во бля какая, – сказал себе, на подоконнике лежа. – Вот какая бля, – сказал, не зная, кого имею в виду. Себя, наверное, да, точно себя. – Зачем подумал, зачем засомневался, а вдруг?… Вот бля какая!» И сполз с подоконника, весомый, как и обычно, опять весь не цельный, не полный и далеко не вечный, мать мою! Засмеялся, ха-ха-ха-ха-ха»… Далеко не цельный и совсем не вечный. Ненадолго меня хватило. Жаль! Подпрыгнул. Не взлетел. Жаль. По комнате прошелся, во всех углах потерся, и без пятого обошелся. И через диван прыгнул, и через кресло, и через воздух. Жаль! И все равно рад был, и доволен, и удовлетворен. Потому что впервые понял, что что-то по-другому может быть в жизни, что совсем не такая она (хотя такая тоже), как я ее себе представляю и рисую, какой я ее прогнозирую. Она может быть другой, прекрасной, неземной и без помощи выпивки и наркоты. И я знал, что организм мой запомнил, как было, и когда-нибудь обязательно повторит, что было. Смею надеяться. Надеюсь. Верю. Знаю. И смеюсь над собой. Потому что, конечно же, не знаю ни черта! Смеюсь! Я сел на диван, через который только что прыгал, пытаясь взлететь и лететь, смеясь, закурил, смеясь, огляделся, смеясь, наткнулся взглядом на стопку кассет возле видеоаппарата, смеясь, встал и подошел к аппарату поближе, смеясь, принялся рассматривать названия фильмов, напечатанные на кассетах, и, когда прочитал все названия, смеяться перестал. Оказалось, что все фильмы, записанные на кассетах Ники Визиновой, или ее мужа (?) я уже видел, а некоторые и не один раз. Так что я не просто перестал смеяться, я еще и расстроился и потому помрачнел, и погрустнел, и еще затосковал, кручинясь, если говорить истину и говорить ее искренне. Что же я буду смотреть сейчас по видеоаппарату, ожидая, пока соберется на прогулку со мной Ника Визинова? Что же буду смотреть? Я же все, что у нее есть, уже смотрел. И еще раз те фильмы, которые у нее на кассетах и которые я смотрел, смотреть больше не хочу, не стоят они того, не стоят и я не стою того, и я не стою. О горе! О горе! Я подпрыгнул еще раз. На всякий случай. Тщетно. Жаль! Я опять тогда пошел по комнате. Шел, шел и остановился у книжного шкафа, маленького. Может быть, я что-то почитаю, подумал, увидев в книжном шкафу книги. Вот одна книга, вот другая, вот третья, вот четвертая, вот пятая, вот шестая, вот седьмая, вот восьмая, вот девятая, вот десятая, а вот и не книга вовсе, а что же? Кассета. Да, кассета, и без наклеенной бумажки с названием фильма. Неизвестно, что там. А неизвестность, как известно, манит, будоражит и возбуждает. Я вынул кассету из шкафа, я вставил ее в видеоаппарат, я включил телевизор, я сел на диван и стал смотреть, предвкушая. На экране я увидел Нику Визинову. Она сидела на широкой многоспальной кровати и смотрела прямо в камеру – очень красивая в тонком узком и предельно коротком белом платье, с ногами под платьем и полными губами над платьем. Камера, как я понял, была установлена стационарно. То есть Нику Визинову никто не снимал, держа камеру в руках. Она работала автономно. А находилась она, по всей видимости, на какой-то возвышенности в комнате, например на шкафу или в самом шкафу, на верхней полке, а в дверце шкафа проделана дырочка, выпилена аккуратно, и через эту, тщательно обработанную дырочку, видеокамера, поставленная на работу в автономном режиме, без участия человека или какого-либо другого животного, самостоятельно снимает все, что происходит в спальне – на кровати, около кровати, над кроватью, но никак, к сожалению, не под кроватью. Хотя почему к сожалению; что может быть интересного под кроватью – пыль, старые окурки, забытые презервативы, кусочки ваты и скелет оголодавшего любовника, ха-ха, или любовницы. А что еще может быть под супружеской кроватью? Я сидел перед телевизором и смотрел на экран. А Ника Визинова сидела на кровати и смотрела на меня. Не знаю, что она читала в моем взгляде, но я в ее взгляде прочитал решимость (я не знаю пока, к чему), торжествующую усмешку и спокойствие, видимо, продиктованное все той же решимостью (самое сложное по этой жизни, как мы знаем, – это выбор, если бы человек вдруг в одночасье лишился бы проблемы выбора, он в то же самое мгновение незамедлительно бы обрел бы счастье, это так). Она что-то решила для себя, и теперь нет у нее сомнений, – мол, а вдруг этого делать не стоит, или, может, стоит сделать, но по-другому – она должна сделать так, как решила, и потому она спокойна. Я знаю такой взгляд. За четыре года, пока я воевал, я видел много, и многое, и многих, черт знает что я видел на войне, на которой воевал четыре года, – я видел такое выражение и в своих глазах. Я помню. Да. Наверное, сейчас я поступал скверно. Надо было выключить магнитофон, вынуть из него кассету и поставить ее на место в книжный шкаф, или надо было хотя бы спросить у Ники Визиновой, могу ли я посмотреть эту пленку. Я, конечно же, вне всяких сомнений, поступал скверно, я знал это, как знал бы об этом любой нормальный, любой воспитанный человек. Но тем не менее я продолжал смотреть запись. Я не стал объяснять себе, почему я продолжаю делать то, что делаю. К чему? Если я знаю, что как бы я ни объяснил себе, почему я продолжаю смотреть запись, я бы все равно продолжал ее смотреть. Ника Визинова тем временем отвела глаза от камеры и, значит, от меня тоже отвела глаза – длинные-длинные и не совсем голубые, потому что синие, – и посмотрела себе под ноги, вниз, на коврик, на свои босоножки, на напедикюренные пальцы, выглядывающие в прорезь босоножек, на блестящий паркетный пол, на свое отражение в блестящем паркете, размытое и неясное и ко всему прочему, конечно же, искаженное, а может быть, даже и совсем не ее; дышала, я видел, глубоко и часто дышала и смотрела в пол. И вот, выдохнув резко и шумно, протянула руку к тумбочке и взяла с тумбочки маленькую стеклянную баночку, и когда взяла баночку, поднялась, выпрямилась – платье задравшееся так и осталось задравшимся, она не одернула его, она не думала сейчас о нем (какие ноги у Ники Визиновой!) и сделала шаг к объективу камеры, этикеткой вперед, чтобы мы, те, кто смотрел эту кассету, смогли прочитать, что написано на этикетке, а на ней было написано «Веронал», вот это да! Что же ты делаешь, девочка, и почему? Ника Визинова открыла, как я предполагал, стеклянную баночку, высыпала на ладонь сколько-то таблеток, я не видел, сколько, и бросила их в рот, после чего вернулась к кровати и к тумбочке, взяла с тумбочки стакан, видимо, с водой и отпила из него половину и опять села на кровать и, устроившись поудобней, опять посмотрела в камеру. Улыбалась, мать ее. Она улыбалась, и не вымученно или деланно, а с искренней радостью, отдохновенно. И вот мы снова сидели и смотрели друг на друга. Я вынул сигарету, закурил. После пятой затяжки я услышал звук звонка, прозвучавшего с экрана. И Ника Визинова тоже его услышала и, услышав, улыбнулась шире, и встала и скрылась с поля зрения камеры. Появилась она через полминуты. И не одна. И не одна! Вошедший вместе с ней в спальню был мужчина, во всяком случае он выглядел как мужчина. Был он в просторных брюках, в пестрой шелковой рубашке, высокий, крепкий, со смуглым сухим лицом, с зачесанными назад черными волосами. Он вошел, огляделся, повернулся к женщине, хотел что-то сказать, но она остановила его, прикрыла рот ему ладонью и, отняв ладонь, тотчас поцеловала его, со вкусом, мягко, вздрагивая. Мужчина подчинился, ответил с удовольствием. Через полминуты, когда губы их разнялись, мужчина улыбнулся и, глядя Нике Визиновой в глаза, сказал: «Так сразу? Мне нравится». И теперь сам поцеловал женщину. Ну, а дальше… А дальше все происходило, как должно было происходить в таких случаях. Не переставая ласкать женщину, он раздел ее (раздел медленно, смакуя, профессионально), и быстро, и даже, как мне показалось, нервничая, во всяком случае с нескрываемым нетерпением разделся сам (первичные мужские признаки у него оказались впечатляющими), и довольно грубо (женщинам грубость в постели нравится, я знаю) толкнул неодетую Нику Визинову на кровать. Многое из того, что они, эти славные ребята, творили в постели, я сам знал и умел, и любил, мать мою, но отдельные очень эффективные приемы я видел впервые. Можно было, конечно, догадаться до этого, дойти до этого самому. Можно, если заниматься сексом как работой, как ремеслом. Но это же не было моим ремеслом, оправдывал я себя, в отличие от черноволосого парня, который сейчас отменно трахал Нику Визинову. Я занимался сексом умело, да, но по-любительски тем не менее. Оправдания мои меня, к сожалению, мало успокоили. Я завидовал этому малому – как четко, как совершенно он все делает, взял пультик и отмотал немного пленку назад, включил снова и по второму разу смотрел за работой мастера – учился, запоминал… Ревновал ли я сейчас! Наверное, нет. Я сейчас упивался работой. Возможно, ревность и тревожила меня в данный момент. Во всяком случае, должна была тревожить – а как же иначе? Но для того чтобы сейчас определить это, мне нужно было выключить видео, унять возбуждение и внимательно прислушаться к себе. Но я, конечно же, не сделал этого. Экран был сильней. Ника Визинова была сильней. Я смотрел жизнь. И восхищался ее высотой. Затаив дыхание и, забыв о том, что затаил дыхание, сразу же после того, как затаил дыхание, я тем самым освободил его – я мог теперь не дышать и тем не менее жить. Не дышать и жить. Да. Перестав дышать, я тотчас забыл о том, что живу. А сердце мое тогда же перестало биться, и остановилась кровь, загустела, остыла, но я жил. А мысли мои зашевелились вяло и, шурша по-птичьи, улетели прочь, точь-в-точь как звезды в ночь, а я жил! И более того. Не просто жил, а занимался любовью, там, с ними двумя, с теми, что были на экране телевизора, с Никой Визиновой и ее черноволосым трахальщиком, я был там, третьим. И все продолжалось бы так, как продолжалось, пока не закончилось бы, если бы не закончилось бы так скоро. А закончилось потому, что Ника Визинова вдруг по– теряла цвет лица – сначала, – а потом и цвет тела – вслед за лицом, а позже уже потеряла и голос, и слезы со щек, и восторг из глаз, и сами глаза, когда пропал взгляд, а потом и тело, когда оно перестало дрожать и отдаваться. Черноволосый партнер не сразу понял, что произошло и почему так случилось. И я не понял тоже, хотя знал больше. И когда понял, то задышал в тот же миг и потеплел, и сердце мое забилось привычно, ритмично, тум-тум, тум-тум. И я вспомнил себя, и вспомнил, что я на диване, и что я смотрю телевизор, где от снотворного умирает Ника Визинова, плотно покрытая совсем еще ничего не понимающим черноволосым партнером. Но вот. Вот, вот, вот… Партнер откинулся назад, свои глаза к глазам женщины подвинул (вместе с головой, конечно), вгляделся в них веками, ресницами, бровями, вздрагивая, и носом затем в ее рот влез, между губ и зубов, над скользким языком, принюхивался, морщась и вытянув нос обратно, заругался грубо и басовито, грязно и чрезвычайно нелюбезно, отвратительно и, бесспорно,пленительно. Он вообще знал, что делал, этот парень. Он отлично трахался, он отлично ругался, и, судя по всему, он был неплохо знаком с медициной. Не давая себе времени на раздумье, а Нике Визиновой на прощание с жизнью, он вскинул женщину на плечо и утащил куда-то в сторону, туда, где я уже не смог ее видеть. Что он там делал за кадром, я не знаю. Но догадываюсь. Там, за кадром, он, наверное, все так же умело напоил женщину водой или молоком, или еще чем-то жидким и даже не напоил, наверное, а просто влил молоко или воду, или еще что-то жидкое ей в рот, какое-то время подождал, нервничая, а потом опять подхватил Нику Визинову и понес ее в туалет или в ванную, нет, скорее в туалет (ванную или раковину потом надо было бы мыть, а унитаз мыть не надо, спустил воду, и все) и, переломив женщину пополам и прислонив ее ягодицы к своему опущенному и сморщенному теперь члену, надавил ей на живот и сунул ей пальцы в рот, вынуждая ее блевать, а затем опять напоил ее молоком, водой или еще какой жидкостью, и опять заставил ее блевать. Он спас ее. Так было. Через двадцать минут он появился в кадре и она появилась в кадре. Они оба появились в кадре. Вместе. Он шел, а она лежала у него на руках, на двух. Он положил ее на кровать, войдя в кадр, и лег радом. Он накрыл ее одеялом и накрылся сам. Она дрожала, и он дрожал тоже. Он обнял ее, и они дрожали вместе. Оба. Как один. И тут я остановил кассету. Потому что услышал стук каблуков Ники Визиновой в коридоре. Ника Визинова шла в комнату, где я сидел на диване и смотрел видео. И мне было бы очень неловко и неудобно, и мне было бы просто не по себе, если бы она сейчас вошла в комнату и застала бы меня за просмотром кассеты, которую я наверняка не должен был смотреть без ее разрешения, да и с ее разрешения тоже. Хотя, конечно же, я вру. Я не ощущал бы никакого неудобства и никакой неловкости. Плевать, конечно же, мне на все эти условности, которые когда-то придумали (именно придумали, потому что природной, естественной необходимости в этих условностях, как я давно понял, не было) умные люди для того, чтобы управлять всеми остальными – неумными – людьми. Просто зачем Нике Визиновой знать, что я знаю больше, чем она может предположить? Зачем? Верно? И я так думаю. И я успел все-таки вынуть кассету из видеомагитофона и поставить ее в книжный шкаф. Я так и остался у книжного шкафа, когда она вошла. Платье у Ники Визиновой было черное (чернее некуда), а волосы светлые, платье у нее было короткое (короче некуда), а ноги длинные. А еще – платье так облегало ее тело, что угадывался даже крохотный провал пупка. А еще – помада на губах у Ники Визиновой была того же цвета, что и лак на ногтях. А еще – на тонкие чистые ее ноги были надеты черные и блестящие колготки. А еще… А еще если бы я не сдержался, я бы сейчас уже схватил эту женщину цепко и крепко и бросил бы ее в предварительно открытое окно и наблюдал бы за ней, всхлипывая, пока она не добралась бы до самой земли, и вздохнул бы тогда с облегчением, тогда бы все было кончено. «Какие страсти, – подумал я вслед этим мыслям. – Какие страсти…» А вслух сказал, конечно же, совсем другое, что-то о цвете своей рубашки и о небритом лице, и засмеялся некстати, и без облегчения вздохнул и огляделся смущенно, словно кого-то ища, и только после сказал: «Идем…» – неуверенно и волнуясь. Она надела длинный плащ. А я не надел ничего, потому что ничего и не снимал. Из квартиры мы вышли через дверь, так же как и вошли, и это было удивительно. Лифт контрабасно гудел, когда нас вез, и я даже угадал в этом гудении какую-то известную джазовую мелодию, чья она была, я не помню, но звучала она примерно так: пабам, пабам, пабам, пааааа, папапа, па-ра, хотя, может, совсем и не так. Все это время, что занял у нас переход из квартиры до машины, Ника Визинова молчала. В машине она разговорилась. Пока мы ехали, она перечисляла названия улиц, по которым мы ехали, и номера домов, которые мы проезжали, а также названия магазинов и учреждений, которые в этих домах располагались. Я слушал женщину, не прерывая. Конечно. Мне нравился ее голос, его звучание и его мелодика. Мне нравилось, как она произносит слова. И отдельные буквы, например «л», «в», и «р» – мягко и едва различимо. Мне нравилось и то, о чем она говорила. Нравились – безудержно и сокрушительно – названия улиц, номера домов, названия магазинов и наименования учреждений, которые располагались в домах, стоявших на улице. Я узнавал то, чего еще не знал. Я удивлялся тому, чему никогда бы без нее и не удивился. Я восторгался тем, что, не будь ее рядом, и не заметил бы никогда, даже если бы пристально глядел на это самое, чем сейчас восторгался. Чем? Я забывал об этом тотчас. Сам предмет удивления и восторга не имел для меня значения. Значение для меня имели лишь мой восторг и мое удивление. Я слушал и повторял слова вслед за ней; гладил руль, ласкал педали и повторял, повторял громким шепотом, опьяненный. Я не заметил тот момент, когда я перестал повторять за ней ее слова и заговорил самостоятельно, не заметил, я еще продолжал повторять за ней ее слова – мысленно, – а вслух сообщал уже то, что видел сам, – впереди, слева, справа, сзади, в зеркале заднего обзора. Я перечислял номера, марки и цвета автомашин, я считал число людей в салонах, определял их пол, возраст, предполагаемые черты характера, количество глаз и зубов, а также отпущенное, на мой взгляд, им время жизни. Я рассказывал Нике Визиновой, в каких отношениях находятся друг с другом эти люди, которые вместе-едут в той или в той машине, что их связывает, а что разделяет, что скрывают они друг от друга, что пытаются доказать друг другу, а что навязать, бывают ли у них счастливые минуты и каков их месячный доход, обвиняют ли они себя в неудавшейся жизни или считают, что в этом виноват кто-то другой. Например тот, с кем они едут сейчас в машине. Ника Визинова теперь молчала, как и я еще несколько минут назад, и слушала меня, не прерывая. Конечно. Я не знаю, нравился ли ей мой голос и нравилось ли ей, как я произношу буквы, например буквы «а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «з», «к», «л», «м», «н», «п», «р», «с», «т», «у», «ф», «х», «ч», «ц», «ш», «щ», «э», «ю», «я», но то, что я рассказывал, несомненно, было достойно самого глубочайшего интереса со стороны любого слушателя, и она, Ника Визинова, это, конечно же, понимала. Или не понимала. Но слушала. Не перебивая. Дорогу переходили верблюд и два ослика. Верблюд был большой и старый, а ослики маленькие и молоденькие. Верблюд тихо смотрел перед собой и радовался жизни – той, которую он еще проживет, а ослики не понимали пока, что такое жизнь, и поэтому беспокойно зыркали по сторонам, и явно опасались автомобилей и проходящих мимо людей. Я хотел было рассказать Нике Визиновой о том, чем отличаются ослики от верблюда, и о том, где и как тем не менее при желании они смогут найти достаточно клейкие точки соприкосновений, но так и не рассказал, потому что увидел, что Ника Визинова плачет. Почему она плачет, спросил я ее. И она сказала, что она не может смотреть без слез на всех животных, за исключением: ворон и попугаев. Животные напоминают ей о смерти. «Почему?» – спросил я, конечно, догадываясь, почему. «Потому, – ответила Ника Визинова, – что все они, эти животные, живут в среднем гораздо меньше, чем человек» «Да, – сказал я, – это так. Да», – сказал. Но не заплакал. Весь оставшийся путь я опять молчал, а Ника Визинова медленно и уныло продолжала перечислять увиденные ею в окно автомобиля названия улиц, номера домов и наименования магазинов и государственных и не государственных учреждений, в этих домах расположившихся. Я слушал ее, не перебивая. Конечно. Мне нравился ее голос… Я всегда знал, что если о чем-то очень горячо и убежденно просишь (главное, твердо знать, что просить), то обязательно получишь то, что просишь, обязательно. И сегодня я в который раз убедился в этом. Я просил солнца. И оно появилось – распинав тучи и распихав облака. Наконец Ника Визинова сказала: «Солнце. Одно. Желтое. Горячее». И улыбнулась. Я ждал этой улыбки. Я был очень – очень рад этой улыбке, очень. (Если бы еще вчера кто-нибудь мне сказал, что я буду так радоваться улыбке женщины, убил бы гада!) Она еще продолжала улыбаться и говорить про солнце, когда мы подъехали к тому месту, к которому и ехали все эти несколько минут, пока ехали. Я был в этом ресторане не раз и не два, скорее всего, три раза, а может быть, и того меньше, не хочу привирать, пока не вспомнил. Ресторан мне понравился. Во-первых, потому, что там вкусно кормили, а я люблю вкусно поесть, и подавали любую выпивку, а я люблю разнообразно выпить, во-вторых, потому, что там было просторно, но вместе с тем уютно и, что не менее важно, – не светло, а скорее наоборот, но нет, нет и, конечно же, не темно, когда очень темно, я тоже не люблю, ну, а в-третьих, потому, что хозяином там был человек, с которым я служил в одном батальоне на войне. Носил он тогда звание майора и находился на должности интенданта. Фамилия его была Стоков. Он не любил меня. И я не любил его. Но мы вместе воевали, воевали вместе. Хотя он и не работал в боях, но ему тоже досталось, как, впрочем, и всем, кто был на той войне. Я не любил его, но уважал. Он не любил меня, но боялся. Мы не любили друг друга. Но мы были однополчанами; С войны Стоков пришел богатым – в отличие от меня. Как и откуда образовался у него во время войны капитал, мне было наплевать. Сумел человек, не будучи пойманным за руку, скопить немаленькую сумму, честь ему и хвала. Я не думаю, что на нашей крови он заработал денег, вряд ли. Мои друзья наверняка знали бы об этом. Нет, скорее всего он занимался обычной спекуляцией и торговал, не нашим, причем, имуществом, а трофейным, американским, китайским, тайваньским. Но, повторяю, мне плевать. Из-за Стокова, я знаю, не погиб ни один десантник, и от него не пришло к нам ни грамма наркоты. И благодаря его стараниям мы всегда были одеты, обуты и сыты. Правда, я знал за ним пару грешков. Но, я думаю, что только в мирное время эти грешки могут считаться грешками, а на войне на эти грешки никто не обращал внимания, они были в порядке вещей на войне. Когда-нибудь, наверное, я вспомню об этих грешках и расскажу кому-нибудь о них, а может быть, и не вспомню и не расскажу кому-нибудь о них. На войне Стоков был толст и неуклюж. Все время хихикал, излишне суетился, часто моргал и избегал прямого взгляда. Другим становился только, когда выпивал. Когда выпивал, становился таким, какой он сейчас – усмешливым, снисходительным, уверенным, и даже обаятельным. Резко и неожиданно происходило это превращение, раз, и готово – новый человек. Мы так и не привыкли к этой херне. Никто не привык, и я тоже. Раз, и новый человек. Нынче Стоков трезвый такой же, как на войне был пьяный, и худой он теперь, и не толстый, и очень неспешный, и почти не моргающий, и никогда не хихикающий, короче, крутой. Только меня все еще боится, я вижу, я знаю. Мы с Никой Визиновой прошли холл, дорогой, золотисто-зеркальный. У входа в зал к Нике Визиновой подскочил молодой швейцар, розоволицый, заискивающе плащ у нее попросил. Она отдала, и я не возражал, пусть повисит плащ в гардеробе, чего ему на спинке стула-то болтаться, помнется еще, а так на вешалке висит себе, не скомканный, и висит, Я пропустил Нику Визинову вперед. А сам на мгновение остановился перед дверью в зал и оглянулся на гардероб, в котором висел плащ Ники Визиновой. Плащ висел. Я его сразу отличил от других плащей, висящих в гардеробе. Он был вроде бы похож на все остальные плащи. Но в то же время и не похож. Он казался (а может, так и было на самом деле) более чистым, более свежим, более светлым, более мягким, более нежным, более воздушным, чем все остальные другие, иные, чужие плащи, висящие в гардеробе. Мне захотелось вернуться и потрогать его, обнять его, подышать им, потереться о него щекой, носом, губами, щеками, бровями, ушами, волосами, а также и другими и не менее важными частями моего довольно крупного тела. Но я не пошел. Потому что в таком случае Ника Визинова осталась бы одна. И не знала бы, конечно же, без меня, куда ей идти и что делать. И ждала бы меня, нервничая и беспокоясь. Беспокоясь и нервничая. А я никак не мог допустить, чтобы она нервничала и беспокоилась и не знала тем более, куда ей идти. И я направился вслед за ней – без вздоха и сожаления. На сцене стоял рояль. Возле рояля стоял стул. На стуле сидел Стоков и играл на рояле. Я узнал Шуберта. Эта музыка била под вздох. Я стал задыхаться. Ника Визинова обернулась ко мне и проговорила изумленно: «Шуберт». Я только кивнул головой, потому что говорить не мог, переводил дыхание. По цвету руки Стокова не отличались от клавиш, от белых, не от черных, от черных отличались, цветом. Белые пальцы на белых клавишах. Да-а-а-а… Пальцы сливались с клавишами, и можно было подумать, что рояль играет сам по себе, а Стоков просто сидит рядом. Просто так сидит, закрыв глаза и закрыв рот, и слушает, что там играет рояль. Кажется, Шуберта… Я наконец справился с дыханием и решил подняться на сцену. Стоков, конечно же, не заметил, как я подошел к нему со едины. Конечно же. Он ведь никогда не работал в боях. И потому третий глаз у него, естественно, был незрячий, как, впрочем, и у всего остального населения земли, которое не работало в боях. Я-то сам третьим глазом к концу войны видел отлично и потом после тоже видел неплохо, сейчас вижу хуже (без постоянной мобилизации, напряжения, без тренировки всегда что-то теряешь, что имел, – хорошее, нужное, важное, я никак не могу научиться расслабляться, будучи одновременно напряженным, никак), но тем не менее вижу, когда концентрируюсь, сосредоточиваюсь и убеждаю себя, что это надо, надо. А Стокову третий глаз никогда не был нужен, и поэтому он им никогда и не видел. Ему этого было не надо, ему это и сейчас не надо – он так считает. Я уверен, что он неправильно считает. Я подошел к Стокову ближе. Встал за его затылком. Усмехнулся, глядя сверху на его волосатое темечко, сощурился, прицеливаясь, размахнулся коротко и энергично, и стремительно опустил занесенный кулак. Костяшки кулака чиркнули бесшумно по голове Стокова. А он так ничего и не почувствовал. Играл упоенно, сладко томясь, нездешний, сторонний Стоков. Замечательно играл. Я сжал и разжал пальцы, на обеих руках одновременно. А неужели я играю хуже? Я сжал и разжал пальцы. Неужели? Краем глаза я видел, как в испуге замерли официанты, когда я занес руку над головой Стокова, как сидящие за столиками перестали жевать, как Ника Визинова вскинула ладонь ко рту. Интересно, чего они все так испугались? Ведь я же не собирался убивать Стокова. Мне незачем его пока убивать. Незачем. И вправду, зачем убивать человека, который так замечательно играет Шуберта! Замечательно играет. Я знаю, что говорю. Потому что я сам играю Шуберта. Я взял один из стульев, стоящих на сцене, поставил его к роялю, рядом со Стоковым, справа от него и слева от себя. Ника Визинова протянула ко мне руку, но ничего не сказала и, ничего не сказав, руку опустила. Я обмакнул пальцы в клавиши и заиграл – на высоких, – мечтательно и напористо. Стоков открыл глаза и, не глядя на меня, улыбнулся, отрешенный, дальше кончиков ресниц своих ничего не видящий. Не прервал игру, продолжал играть – теперь в унисон со мной, белыми пальцами, гибкими и уверенными. Неужели я играю хуже? Я старался, как мог. Забыв, мать мою, что в работе стараться нельзя, что работу нужно делать или не делать, но никак не стараться. Старание – это труд. А то, к чему ты призван всегда и никогда по-другому, должно получатся у тебя без труда – легко, как дыхание, как моргание, как жевание, как глотание, как спермоиспускание. А я старался… Я играю хуже! Я играю хуже! Я перестал касаться клавиш. Я стал стучать по ним. Колотить. Дубасить. Пальцы сделались жесткими, холодными, тяжелыми. Ими можно было теперь только крошить клавиши, но не играть на них… Я заревел зверино, мотая головой, как заарканенная дикая лошадь… Музыка кончилась. Кто-то накрыл мои пальцы белой теплой ладонью. Я вырвал свои руки и стал бить их жестко, жестоко, до боли, не поднимая головы, не глядя никуда. «Я распоряжусь, чтобы приготовили твой столик», – услышал я голос Стокова, и его вздох потом, и его шаги после. «То, что ты делал, было фантастично», – сказала Ника Визинова. «Это не так», – ответил я, проведя пальцами по лицу. «Это так, – сказала Ника Визинова. – Ты потрясающе играешь Шуберта. Я знаю. Я сама играю Шуберта…» – «Неужели лучше меня?» – прошептал я. «Хуже, – сказала Ника Визинова, и, подумав, добавила: – Или лучше, – и, подумав, добавила: – Не знаю. Я давно не играла. Не помню» – «Вам не надо играть Шуберта, – услышал я вновь голос Стокова. – Вам не надо играть ни Моцарта, ни Вивальди, ни Гайдна, ни Малера, ни Стравинского, ни Шенберга, ни Кейджа. Вам никогда не надо ничего играть. Вам надо только быть. Это уже музыка. Самая лучшая, самая совершенная музыка». Стоков прошел мимо Ники Визиновой и мимо сцены, между Никой Визиновой и сценой, в темную глубь зала, по гладкому паркету, неторопливыми шагами, негромкий, точно знающий, сколько он стоит, а также, сколько стоит порция бифштекса, вырезанная из привезенного утром куска парного мяса. И я опять не увидел его лица. Только профиль мелькнул в полутьме. Я мог бы окликнуть Стокова и, когда он обернулся, я бы увидел, конечно, его лицо – я хотел увидеть его лицо. Но все же окликать Стокова я не стал, потому что тогда надо было бы что-нибудь говорить Стокову. Что-то ведь надо было бы говорить Стокову, если бы я окликнул его, это так. А что я мог бы ему сказать, когда бы он обернулся? Через щели между оконными занавесками скупо протекало солнце. В лучи попадала пыль и посуда. И не только. Пыль суетилась, дрожала и старалась поскорее убраться в темноту. "А посуда блестела. Чистая. Мытая. Полоски лучей разрезали на части скатерти и столы и сидевших за столами людей. Но столы почему-то не разваливались, скатерти не расползались, а люди не истекали кровью и не умирали, а продолжали спокойно есть, пить, курить и разговаривать. А жаль. Стоков окликнул нас из темноты, и мы пошли на его голос. Дошли. Стоков стоял у стола спиной к нам и что-то говорил официанту, мелколицему, высокому и узкоплечему, с бабочкой у ворота. Официант кивал согласно и приговаривал тихо: «Эрик понимает… Эрик сделает. Эрику повторять не надо…» Увидев, что мы подошли, официант поклонился нам и отступил на шаг от стола, а потом на два шага и еще отступил и еще, и еще, на десять шагов отступил, и на одиннадцатом исчез за шелковой портьерой. В тот же миг, как официант скрылся, Стоков обернулся к Нике Визиновой. Склонился без слов над се рукой и коснулся губами се пальцев, выпрямился, не отводя взгляда от женщины, похлопал меня дружески по плечу, сказал тихо, но обращаясь опять-таки к Нике Визиновой: «Я знал, что когда-нибудь такая женщина, как вы, встретится на моем пути. Будете ли вы любить Нехова или кого-то еще и никогда не будете любить меня, это не имеет значения. Главное, что вы есть и что вы, мне встретились». «Вы потрясающий мастер говорить женщине то, что она хочет услышать», – усмехнулась Ника Визинова. «Я знаю», – скромно склонил голову Стоков. «Но женщине не всегда нравится то, что она хочет услышать», – уже без усмешки добавила Ника Визинова. Стоков вопросительно вскинул на женщину глаза. «Не огорчайтесь, – сказала Ника Визинова. – Вы отлично играете Шуберта» Я хмыкнул и почесал переносицу. «Спасибо», – сухо ответил Стоков. И в который уже раз, не поворачиваясь ко мне лицом, показал рукой за спину и известил: «Все готово. Прошу садиться». Склонив голову к груди, выпрямился и, не взглянув больше ни на кого из нас, и на себя в том числе, пошел прочь от столика и от нас с Никой Визиновой. «Интересно, удастся ли мне сегодня увидеть его лицо?» – подумал я и тотчас забыл, о чем подумал. Разве я думал сейчас о чем-то? Думал, думал, точно. Думал о том, что мы нация крутых ребят, мать мою. На сто тысяч населения у нас крутых побольше, чем в какой другой стране мира. Поэтому вот уже не одно столетие нас так и трясут войны и революции. Среди нас такое огромное количество людей, которые хотят владеть миром или по крайней мере страной, что даже на улицах от них спасу нет. Если во Франции был один Наполеон, то у нас имя наполеонам легион, и половина из них покруче самого Буонапарте будет. И не спорить со мной! Завалю, фамилии не спрашивая! Вот и этот, интендант, мать его, всего-то дерьма кусок, а туда же, в великие метит. Полстраны скосил бы, чтобы женщины ему так никогда больше не отвечали. И скосит ведь, если сумеет жизнь себе подчинить. Но не сумеет, наверное. Возраст уже не тот. Да и в башке пустовато. Да и хуишко коротковат, если не ошибаюсь. Я засмеялся, вспомнив, какой хуишко у Стокова. В состоянии эрекции размер его не превышал десяти сантиметров. Я видел. Как-то по пьянке мы трахали напару с ним пухленькую продавщицу из военторга. Славно было. Орали мы втроем так, что весь батальон сбежался к магазину смотреть, что мы там делаем. Славно было. Я смеялся, и смех мой был искренним. Мне и вправду было смешно. Мне всегда бывает смешно, когда я встречаю очень серьезного и строгого человека, который очень серьезно и строго относится к жизни и который считает, что он на самом деле очень серьезный и строгий, и вижу, что из носа у этого человека торчат волоски, что взгляд у него блеклый, что походка у него утиная, а хуишко коротковат. Я просто задыхаюсь тогда от смеха. Я не мог остановиться. Я осознавал, что не могу остановиться, и оттого мне с каждым мгновением моего грохочущего смеха становилось все страшнее. Я согнулся пополам. Я упал на колени. Я свалился на пол. Я в отчаянии долбил каблуками паркет. Неужели я так и буду хохотать всю свою жизнь?! А почему бы и нет? Прохохотать всю свою жизнь – это так классно. Прохохотать бы действительно всю свою жизнь, подумал я, хохоча, и хохотать перестал разом. Сел на паркет, отдышался, покрутил головой, вынул сигареты, закурил, сказал, не поднимая головы: – Налей что-нибудь. – Виски? – спросила Ника Визинова. – Да, – сказал я. – Полстаканчика. Нет, две трети. Нет. Сколько хочешь. Вот сколько хочешь, столько и налей. Ника Визинова подала мне полный стакан. Я выпил. Быстро и с удовольствием. Отдал Нике Визиновой стакан, помолчал и сказал затем, после того, как помолчал: – Жаль, что я так мало смеялся. Я хотел было смеяться всю свою оставшуюся жизнь. Я так надеялся, что сегодняшний мой смех не остановится до самой смерти. Но нет, не вышло. Я разочарован, но надежду не оставляю! – Я помогу тебе встать, – предложила Ника Визинова. – Нет, – ответил я. – Не надо помогать мне вставать. Я встану сам. Ты помоги мне лучше снова рассмеяться, и рассмеяться так, чтобы смеяться всю жизнь, до самой смерти. И до первой смерти, и до второй смерти, и до третьей смерти. И смеяться в другой жизни тоже. Помоги мне. Я знаю, ты можешь. Я знаю, ты сможешь… – Но ты все-таки встань. Хорошо? На полу хоть и не грязно, но и не чисто. И ты уже наверняка запачкал свои брюки. И сейчас, когда ты встанешь, их придется отряхивать. А зачем тратить наши драгоценные силы и энергию на то плохое, чего можно было бы избежать. Ведь правда, правда, да?! – Правда. Да, да, конечно. Правда. Я встаю. Разумеется, я встаю. На полу, конечно, удобно. Но на полу в то же время и пыльно, ты права, и можно испачкаться. И на полу к тому же еще и прохладно. Можно и простудиться. Да, конечно. Я встаю. – Вот так, молодец. Встал. Ну и замечательно. А теперь садись за стол, который приготовил для нас твой друг. – Он мне не друг. – Хорошо, твой знакомый… – Он мне не знакомый… – Тогда кто же он тебе, Господи! – Мы воевали вместе… – Аааа… – Да. – Ну, тогда понятно. – Вот именно, тогда все должно быть понятным. – Ну, я и говорю, что понятно. – Ты так и говоришь? Я не расслышал. Наверное, стул, на который я садился, скрипнул громко, когда ты говорила, что тебе все понятно! – Наверное! – Какой стол! – Какой стол? Стол квадратный… – Я усмехнулся. Но пока не более того. Пока не засмеялся. Попытайся-ка еще раз. – Хорошо. Я попытаюсь. – А стол, на самом деле, Стоков накрыл роскошный. – И дорогой. – Что, дорогая? – Теперь ты смешишь меня? И я смеюсь. Мне и вправду смешно. И вправду. Дорогой, дорогая… Это смешно. – Не уверен. Но сказано было вовремя. А это лучше, чем смешно. – Может быть, ты прав. Я подумаю над твоими словами. Но потом. А сначала поем. Я катастрофически хочу есть. – Еще несколько минут назад ты хотела только пить… – Это было несколько минут назад. – Очень хорошо ты сказала. Очень хорошо. Непоследовательность желаний и взглядов – вот что отличает настоящую личность от ненастоящей. Непоследовательность и одновременно целостность, как это ни парадоксально. – Ты очень умный. Я потрясена. – Я знаю. И сам трясусь с тех пор, как узнал об этом впервые. – Опять ты смешишь меня. А сегодня это входит в мою задачу, а не в твою. – Входит… в твою… Очень сексуально. – Налей мне вина. – Не пей вина, Гертруда, оно… – Что, что, я не поняла?… Ну, налей тогда виски. Налей, что хочешь. – Налей, что хочешь… Очень эротично! – Ты любишь секс? – В отличие от подавляющего большинства мужчин и женщин, детей и стариков да, я люблю секс. И, по-моему, ты это поняла сразу. – Да, я поняла сразу. – Тогда зачем ты спрашиваешь? – Затем, чтобы удостовериться, что я поняла правильно! – Рыбу, ветчину, грибы? – Рыбу, ветчину и грибы. – ,А по виду и не скажешь. – Я могу есть много, и могу есть мало. Это ничего не меняет. Я всегда такая, какая я есть сейчас. – Организм сам отберет, что ему на пользу, а что во вред. Ты редчайшее существо. Ты почти совершенна. – И чего же мне не хватает до полного совершенства? – Меня! – Мы выпьем? – Мы выпьем! – Просто так? – Конечно, просто так. Когда мы захотим что-то пожелать друг другу, мы сможем сделать это и без бокала в руке. А пить лучше просто так. Отчетливей ощущаешь удовольствие от процесса втягивания спиртного напитка в себя, его проглатывания и дальнейшего его проникновения в наши внутренние органы, а затем и в кровь. – Фу… Я представила внутренние органы. – Какие именно органы ты имеешь в виду? – Я опять смеюсь… – А я нет. – Ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха! – – Нет, у тебя ничего не получается. Я все равно не смеюсь. – По-моему, мой смех очень заразителен. – Сациви, лобио, баклажаны? – Сациви, лобио, баклажаны! – Сациви, лобио, баклажаны. И тем не менее мой смех очень заразителен. Так все говорят. И я сам это чувствую. – Смех? Как это грустно – смех… Более того. Смех – это не только грустно, смех – это безобразно, это – отвратительно, это – мерзко…: – Господи, с чего это ты? – Ты не дослушал. Я на самом деле думала так, я думала так, когда мне было пять, шесть, семь лет, я не помню. Когда я была маленькая, я думала так. Сейчас я так не думаю. А тогда думала. Началось с того, что я потеряла сознание от смеха. Не от своего, от чужого. Родители заставили меня танцевать перед гостями. Гости хлопали в ладоши и смеялись, подбадривая меня. Смеялись все разом, громко, гнилозубо, гримасничая, брызгая слюной, выдыхая смрад и табачный дым. Они не веселились, они ждали меня, скалясь и склабясь. Они хотели меня растерзать, они хотели меня съесть. Я упала. Я потеряла сознание. – Жуткая история. Мое сознание сейчас тоже может потеряться. – Так было. Поверь. Я ни слова не сочиняю. – И что потом? – И что потом? И что потом?… Потом смеющиеся лица вызывали у меня крупную дрожь и острое головокружение, улыбки – мелкую дрожь и легкое головокружение, а от звука смеха меня начинало тошнить… – Тошнить? Ну, в случае чего можешь не стесняться, я все понимаю. Только все-таки постарайся предупредить заранее… – Так было. Поверь. Я ни слова не сочиняю. – И что потом? – Потом я стояла у зеркала и пыталась хохотать. Я понимала, что должна пересилить себя. – Такая маленькая и понимала. – Это удивительно, но это так. Понимала не явно, а подсознательно. Так, наверное. – Так, наверное. – Я хохотала и падала. Я хохотала и падала. Я хохотала и плакала. Я хохотала и меня рвало – и изнутри и на части. Я, конечно, страшно похудела. Я перестала говорить. Я едва двигалась. И родители положили меня в больницу. Но бесполезно. Да. Я умирала. От окружающего смеха и от лекарств, которые мне впрыскивали три раза в день. Но пока я еще была жива. И я знала, что останусь жива, что бы ни случилось. – И ты оказалась права. – Родители плакали, когда приходили в больницу и видели меня. И они взяли меня домой: «Вы увозите ее умирать», – сказал моим родителям доктор. – Это был не доктор. Это был прозектор.. – Но умерла не я. Умерла моя бабушка. Она умерла вовремя и тихо. И ее смерть была счастьем для меня. Она принесла мне выздоровление. – Обычно так и бывает. Кто-то для кого-то всегда умирает к счастью. – Сейчас уже неважно, любила ли я ее или не любила. Скорее всего нет. Просто бабушка была. А значит, она должна была быть. Важно было то, что бабушка стала трупом. Важно то, что до этого я никогда не видела трупов. И бабушкин труп был первый труп, который я видела в своей жизни. – Как все непросто. Кто бы мог подумать. – Когда я подошла проститься с бабушкой, я увидела, что она улыбается. Понимаешь, улыбается. Труп улыбается. Даже нет, труп смеется. Я не знаю, как так получилось, и кто в этом виноват. Наверное, виноваты работники морга, которые готовили бабушку к похоронам,… А может быть, неожиданно сократились какие-то мышцы на лице. Не знаю. Но так было. Труп смеялся и, увидев смеющееся бабушкино лицо, я впервые за весь этот год не почувствовала ни дрожи, ни головокружений. Я спокойно и даже с удовольствием смотрела на бабушкину улыбку. Я поняла тогда, что я возвращаюсь к себе. Я выздоравливаю. – Даже если твоя бабушка ничего и не сделала толкового в этой жизни, своей смертью она оправдала все никчемно прожитые годы. Покажи мне, где похоронена эта замечательная женщина. Я поклонюсь ее могиле… Смерть не всегда несчастье, – Я не знаю, какой была ее жизнь, И как она сама ее оценивала. Она никогда не говорила об этом. Мне во всяком случае, Я не знаю, любила ли она своих мужей. И первого и второго, И третьего – моего деда. То, что она относилась к деду без неприязни – это так. Но любила ли?… – Если любила хоть кого-то, значит, не зря прожила. – Я об этом и хочу сказать. Ты опередил меня. – Если любила, значит, жизнь ее была наполнена и осмысленна. Даже если любовь заняла очень короткий отрезок времени, все равно жизнь прошла не зря. Для нее. Не для того, кого она любила, конечно. – Да, наверное, это так. Но мы сейчас только предполагаем, а что было и как было на самом деле я не знаю. Я могу только догадываться, и смутно чувствовать, но быть уверенной… нет. Нет. Но я знаю другое. И то, что я знаю, как раз подтверждает обратное тому, о чем мы сейчас с тобой говорим… – Еще виски? – Да. – Салат? – Да. – Сигарету? – Ну… пожалуй. – Зажигалку? – Если не сложно. – Ты красиво куришь. – Я не люблю курить. – Это неважно, что ты не любишь курить. Главное, что ты отлично умеешь это делать. Красиво умеешь это делать. – Ты не дослушал. – А?… – Я хотела тебе рассказать о бабушке. – Я знаю, что ты хочешь рассказать мне о бабушке. – Откуда? – Понятия не имею. Но знаю. – Интересно. И что же ты знаешь? – Твоя бабушка никогда ничему не радовалась. Более того, она никогда не улыбалась… – Боже – Во всем, что происходило вокруг, она видела только плохое. – Только плохое… – Грязное, недостойное. – Больное и зараженное бациллой ненависти. – А раз так, то, выходит, она никогда и никого не любила, – Да. Выходит. – Потому что, если бы любила, то с радостью принимала бы все, чтобы ни случалось с ней, или рядом, или далеко, или с людьми, или с нелюдями, а также со зверями и насекомыми, пресмыкающимися и пернатыми, рожью и апельсинами, небом и вулканической магмой, мочеиспусканием и рождением великих замыслов. Так? – Так, Я потрясена. Я напугана. Я трясусь, как заяц при виде волка. Как висельник при виде петли. – Как петля при виде висельника… – Как нимфоманка при виде члена… – Как гром при виде земли!… – Как ресницы при виде солнца!… – Как губы при виде воды!… – Как муж при виде любовника!… – Как ребенок при виде себя взрослого… – Как правило при виде исключения… – Как жизнь при виде смерти… – Как бабушка при виде жизни… – Жюльсн, почки, пирожки? - – Да, да, да… – Минеральной? – Лучше «Пепси»… – И еще виски? – И еще виски… Если ты назовешь сейчас, чьей мамой была эта бабушка, я, пожалуй, смогу поверить, что ты ясновидящий. – Она была матерью твоей мамы. – Фу, ну слава Богу. Значит, ты просто импровизировал. Но грамотно. И почти в точку. – Я ошибся? – Ты ошибся. – Странно… – Ты ошибся. – Но ей ведь было семьдесят девять, когда она умерла. Так? – Так… Но… Этого не может быть! Ты сейчас опять угадал. Ну сознайся. Угадал, да? – Она пророчила тебе плохое будущее. – Она всем пророчила плохое будущее. – Оставим всех. Бог с ними со всеми. – Она говорила, что Павлик умрет, не дожив до десяти лет. Сейчас ему восемь с половиной… – Мы все когда-нибудь умрем. – Ты плохо сейчас сказал. – Почему же плохо? Я сказал то, что есть, было и будет. Мы все говорим об этом. Но не осознаем, ЧТО говорим. Скажи мне, действительно ли случится что-то ужасное, если твой мальчик умрет? – Я не хочу больше говорить с тобой. Я ухожу. – Скажи, какая разница для него, умрет ли он, когда ему будет девять лет или когда ему будет девяносто лет. Скажи, какая разница? Девять и девяносто. К концу жизни он не заметит разницы. Как и никто ее не замечает. Никто. Год или сто. – Ты говоришь страшные вещи. – Я говорю обыкновенные вещи. – Ну, хорошо. Для него нет разницы. Хорошо. Но ты забываешь обо мне. – Не забываю. Да. Ты будешь считать себя несчастной, когда он умрет. Не чувствовать, а именно считать. Потому что все так считают. И не одну тысячу лет. Все считают, что им плохо, когда ушел из жизни близкий им человек. Но почему они, и ты в том числе не можете посчитать по-другому? Кто знает, может быть, смерть сына, как раз наоборот, принесет тебе счастье и радость, ну, допустим, не сейчас – в будущем. Вспомни бабушку. Ну, например. Если бы не умер сын, ты бы не встретила настоящую любовь и не родила бы двух девочек и одного мальчика, и не сделалась бы такой счастливой, какой не была бы никогда, если бы твой сын остался бы в живых. Есть гарантия, что именно так и не случится?… – Я не хочу говорить об этом. – Я спрашиваю, есть гарантия или нет? – Я не хочу говорить об этом! – Я спрашиваю, есть гарантия или нет, мать твою!!! – Замолчи! Или я ударю тебя! – Ударь меня! – Вот!… Вот!… Вот!… – Еще!… Еще!!! – Вот!… Вот!… На!… На!… – Еще, мать твою!… – Ты сумасшедший!… – Я знаю. – Ты смеешься?! – Я смеюсь. Я, и правда, смеюсь. Как же мне хорошо, когда я смеюсь. Ты не представляешь, что я ощущаю, когда я смеюсь… – Но ведь тебе должно быть больно. Я очень сильно тебя била. Тебе должно быть больно. Почему же ты смеешься?! – Маринованной капусты? Огурчиков? – Что? – Маринованной капусты? Огурчиков? – Я не знаю… Может быть… Пожалуй, и того и другого. И побольше. – И побольше. Пожалуйста, побольше. – Вкусная капуста. – Потрясающие огурчики. – Виски?… – С удовольствием. – Виски под соленые огурчики?… Сомневаюсь… – Я не знаю лучшей закуски. – Маслины. – Огурчики лучше. – И все же маслины. Тебе положить маслины? – Если ты настаиваешь? – Я настаиваю. – Тогда положи. – Я кладу. – Может быть, ты и прав насчет маслин. Острее чувствуешь послевкусие виски, когда закусываешь маслинами. – Это так. Так это. – Ты все еще смеешься? Ты все время смеешься с того времени, как я ударила тебя… Весной восемьдесят пятого я попал в плен в ста километрах южнее Кабула. Во время боя я вбежал в дом, где двое духов с крупнокалиберным пулеметом не давали моей роте подойти к кишлаку. Пулеметчик увидел меня и с испугу выдернул чеку из лимонки. Я успел лечь, но меня оглушило. Не контузило, а оглушило. А наши войти в кишлак так и не сумели. Сели на вертолеты и ушли на базу. Без меня. Они думали, что убит. Они же видели и слышали взрыв… Комроты бедного тогда за это разжаловали в прапорщики. Он не имел права пускать меня вперед. Были у нас гораздо более опытные офицеры. Но я так горячо просил… Так горячо. Что сам обжигался о свои слова. И стал я собственностью Файзулы Таруна. Неплохой был парень. Только мочиться очень любил на своих офицеров. Как что не так, вызывает офицера и мочится. А тот стоит – только улыбается. Они, офицеры, его потом сами и завалили. Собрались, обсудили все и завалили к Аллаху. Из двенадцати стволов его, спящего, раскрошили. Не мусульманин, сказали, он, не мусульманин. Мусульманин себе такого никогда бы не позволил. И были правы. Я подтверждаю. Но тогда Файзула еще не знал, что ему неделя Аллахом отпущена. И поэтому был веселый и добрый. И поэтому очень даже мало за меня запросил, когда меня решили выкупить у него две молодые дамы, принадлежащие к корпусу советников при оппозиции. Кто они были по национальности, я так и не узнал. Они одинаково чисто говорили по-английски и по-немецки, но я не уверен, что это были их родные языки. Ты понимаешь, наверное, зачем они купили меня. Да, да, конечно, для этого самого. Наверное, они могли бы найти себе партнеров и среди иностранных советников, да и среди местного населения, конечно же, тоже, дамы были достаточно молоды, и достаточно миловидны. Но любовник-раб все-таки лучше, согласись. Особенно на войне. Ему не надо говорить ласковые слова, ему не надо угождать, от него не надо выслушивать нытья, жалоб, он не будет рассказывать о своих врагах и друзьях, о своих планах и о своей семье, оставшейся в недалекой мирной стране. Он будет есть, пить и молчать. И трахаться, когда они захотят и как они захотят. Я ел, пил, молчал и трахал их, сук! По три раза на дню, мать их, каждую, мать их! К концу пятого дня понял, что кончаюсь. И они тогда начали бить меня, грамотно, как положено. Больно, очень больно. Но что изумило меня. Слушай. Приходит время. Я иссяк. И ничего уже с ними делать не могу. Член висит. Он маленький, жалкий, сморщенный, красный, бордовый даже, смотреть на него страшно, да и болит он ко всему прочему, болит неимоверно. Но вот эти, суки, начинают меня бить, по почкам, по печени, по ушам, по позвоночнику… Боль адская. Но в какой-то момент я вдруг начинаю ощущать мощный прилив энергии. И наступает эрекция, и еще более сильная, чем раньше… Когда я в первый раз ощутил прилив сил после побоев, я был потрясен. Во второй раз я изумился. В третий раз мне стало весело. В четвертый раз я уже просто хохотал искренне и безудержно. На пятый раз я задушил обеих дам той самой тонкой, но прочной цепью, которой был прикован к стене гостиницы, где они меня держали. Тебе нравится мой рассказ? Я вижу, нравится. У тебя даже, расплавились глаза… А произошло все быстро и просто. Они избили меня и член у меня снова встал. Я расхохотался, хохоча уложил их перед собой, голова к голове, и начал целовать их, лизать, кусать. Они поплыли, разомлели, стали целовать губы друг друга, и в тот момент я накинул на их шеи длинную цепь, которая тянулась от стены к моей правой руке… Через пару минут все было кончено. Тебе нравится мой рассказ? Почему ты молчишь? Ведь нравится… Ну хорошо, Я нашел ключ от своих наручников. Освободился. Из двух полувоенных комбинезонов, в которых ходили покойницы, соорудил с помощью ножниц, ножа и выдернутых из материи ниток один комбинезон для себя, дождался ночи, взял пропуск одной из дам, той, которая была коротко острижена, и без приключений вышел с базы. Через двое суток я уже находился в расположении своего батальона… Вот и все. Теперь я всегда смеюсь, когда меня бьют. Потому что тогда я становлюсь сильнее и радуюсь этой силе! – Сядь ближе. – Сажусь… – Еще ближе… – Пожалуйста, Бог мой, что ты делаешь? Здесь много людей. Не надо… Ну что ты делаешь… – Я радуюсь силе… – Ты шепчешь, я не слышу. – Я радуюсь силе… Я чувствую эту силу… О, я хочу видеть ее!… – А вот и Эрик. Славный Эрик. Он что-то принес нам вкусное. Я слышу запах. Он восхитителен. Телятина в вине, с грибами и с соусом чили. Вот это да. И мелкий розовый картофель, и брюссельская капуста, и маринованная морковь. Разностильно. Но тем не менее вкусно. Бог мой, какой восторг!… – Спасибо, Эрик. Вы молодец, Эрик, Вы просто великолепны, Эрик. Вы очень красиво работаете, Эрик. Вы очень элегантно работаете, Эрик. Мы благодарны вам, Эрик. Особенно я, Эрик, которая так беззаветно и самозабвенно любит правильную сервировку стола. А теперь идите, Эрик, идите. Идите и не оглядывайтесь. Потому что оглянетесь, в соляной столб превратитесь, помните, как у древних? Не помните? И не знаете, что такое соляной столб? Ну, Эрик, это для вас не имеет никакого значения. Вы должны просто точно знать, что оглянетесь – в соляной столб превратитесь. И все. И все… Идите, Эрик, идите!… Сядь ближе, еще ближе!… Я не стал упираться и не стал говорить больше никаких слов типа «что же ты делаешь, здесь люди», «не надо». Во-первых, когда я говорил так минутой раньше, мне показалось, что я снова превратился в школьника. Оно, правда, наверное, так и было. Я на какое-то время снова превратился в школьника. (И хотя я уже давно перестал комплексовать по поводу того, как я выгляжу со стороны в присутствии Ники Визиновой, этот страшок вновь выкарабкался на поверхность из подсознания.) А я очень не хотел выглядеть как неумелый и неопытный школьник. Во-вторых, к тому, чтобы сесть к Нике Визиновой ближе и «еще ближе», я был готов с самого первого момента, с того самого, как увидел ее на опознании, там, в милиции. Когда угодно и где угодно, я готов был сесть к ней ближе. Я готов был и лечь на нее, и лечь под нее, и раздеться, и мочиться, и плеваться, и мастурбировать. И просто бегать голышом я готов был для нее – по тротуарам, квартирам, ресторанам, улицам, переулкам, площадям, проспектам, подъездам, научно-исследовательским институтам, овощехранилищам, стадионам, паркам, загсам, автомастерским, канализационным коллекторам, библиотекам, воинским частям, космодромам, морям, облакам и океанам, и там, и здесь, и тут, и тут, и здесь, и там, и здесь, и тут, и там. Мало того, что я был готов к этому, я истерически желал этого. И, в-третьих, я с четко осознаваемой ясностью понял сейчас, а может быть, даже и осознал (пока не могусказать, со знанием понял или осознал), что процесс принятия пищи человеческими особями гораздо более интимен, чем процесс совокупления. Результатом совокупления является новая жизнь или удовольствие, или то и другое вместе, а результатом принятия пищи является дерьмо, вонючее, отталкивающее и бесполезное. Конечно, я утрирую. Я был бы не я, если бы не утрировал. Конечно, самым важным результатом принятия пищи является фактор поддержания жизни в человеческом организме (хотя такое утверждение тоже до конца не обосновано и поэтому спорно). Да, да, да, я все понимаю, но тем не менее, когда смотришь на человека, поглощающего пищу, тотчас уже видишь, как эта пища с непристойными звуками выходит у него из заднего прохода. Ассоциация именно такова. Посмотрите, приглядитесь, проанализируйте и вы увидите, что я прав. Несомненно и несомнительно прав. Окончательно и навсегда. Поэтому питаться нужно поодиночке, каждому в своем углу, как можно дальше от посторонних глаз, ушей, ртов, носов, чтобы люди не ощущали запаха дерьма, исходящего от вас во время пережевывания, проглатывания и переваривания пищи (слово-то какое, кстати, неприлюдное – переваривание…). А вот совокупляться или заниматься любовью, или трахаться, это уж как кому нравится, можно по желанию в общем-то где угодно и при ком угодно. Даже при детях и стариках – они ведь такие же люди, как и все остальные, ничем не хуже, лучше не знаю, но ничем не хуже – это точно. И дети, и старики должны знать, если не знали до этого, что и в каких случаях может приносить людям новую жизнь и несказанное, неописуемое, необрисуемое, необъятное и нескончаемое (если хоть раз по-настоящему попробовать это) удовольствие. Но… Но у нас в обществе, скажем так, среди людей, на всем земном шаре все происходит почему-то наоборот. То, что интимно, то, что неприятно глазу и слуху и обонянию, выносится на всеобщее обозрение в ресторанные залы, в бары, кафе, столовые, а что приятно, радостно, то, что гораздо более активно, чем пища, питает жизненную силу, загнано в укромные места, в темные комнаты, в неприглядные, безвкусные дома с красными фонарями и ни-ни, ни-ни, мать вашу… Конечно, я могу говорить всякое и всяческое, это мое право, чтобы я ни говорил, но когда Ника Визинова в ресторанном зале, за ресторанным столиком, на кожаном полукруглом диванчике, на котором мы сидели – она и я, – горячими мягкими умелыми руками начала расстегивать мне рубашку и брюки, я, к стыду своему, увы (отвратительное слово), почувствовал стыд. Но объявившийся вдруг стыд не стал тем не менее причиной, которая подтолкнула бы меня к сопротивлению или же противлению действиям Ники Визиновой. Сей стыд оказался гораздо слабее постепенно приходящего наслаждения. Более того, через минуту, через две, благодаря этому проявившемуся во мне стыду, я стал ощущать еще большее удовольствие от действий прижавшейся ко мне, тихо постанывающей Ники Визиновой, я остро и болезненно даже, по-детски капризно стал желать, чтобы все, кто был в зале, – и посетители, и официанты, и повара обязательно видели бы, как ласкает меня Ника Визинова… Успешное преодоление стыда приводило меня в восторг. Ника Визинова уже освободила все, что хотела, из-под моей одежды. Она уже делала все, что хотела с тем, что освободила. И все смотрели. Я видел. Я видел. Все смотрели. Сначала тайком, с опаской. Коротко. Мимолетно. Затем посмелее. Повернувшись открыто в нашу сторону и не отводя уже глаз. Сам-то я не мог долго глядеть на них, на смотревших на меня, я должен был видеть, что делала Ника Визинова. Я опустил взгляд и чуть не задохнулся, или задохнулся, или вовсе перестал дышать. Я увидел ее глаза, ее губы, ее руки, ее ноги, белый шелк ее трусиков… Увидел свой член в ее руке, в ее губах… Кипящая, мощная, ясная, до боли ощутимая волна быстро и мягко поднялась от низа живота к голове, и я, к счастью своему или к сожалению, не знаю, я до сих пор не знаю, правда, я перестал видеть все вокруг так, как видел раньше: предметы теряли четкость линий и обрели внезапно другой цвет, хотя в то же время они оставались теми же предметами, какими и были до этого момента, – я осознавал это, но тем не менее они были другими, другими, я перестал видеть тела людей, стоящих и сидящих вокруг нас и, не стесняясь, разглядывающих нас, на их месте образовались легкие, постоянно меняющие форму, достаточно высоко оторванные от пола невесомые, разноцветные облачка. Но это были не облачка, это были люди, я тоже знал это, понимал. Мать мою, кажется, я круто набрался. Никогда я так не набирался, как сейчас. Я набрался сегодня до такого состояния, когда с легкостью и благодарностью и все возрастающим изумлением принимаешь все, что вокруг тебя и в самом тебе, и между тобой и тем, что вокруг тебя, когда видишь множество тонких светящихся нитей, соединяющих тебя с тем, что вокруг, с воздухом в ресторанном зале, с капелькой пота у нищего, сидящего на другой стороне улицы, с обритым котом, пытающимся влезть в мышиную нору на восточном побережье острова Хонсю, со своей левой ногой, которая стучит сейчас пяткой по паркетному полу, громко и беспорядочно, и с белым позвоночником той, которая сейчас сидит на тебе и, извиваясь, вдавливает тебя в землю, проявляя при этом стальную силу и мармеладную нежность, и с теми переливающимися разноцветными, без боли яркими сущностями, что обступили тебя и мир, и наблюдают за тобой в мире и за миром в тебе, который соединен со всем остальным миром, соединен миром. «Я никогда еще так не набирался», – думал я, любя свои мысли и все опьянение, любя все, что рисовало мне мое неподконтрольное сейчас воображение, любя себя самого и дымящееся дерьмо, которое вываливают из себя люди после принятия пищи, и прохожего мандарина, и пылающего Торквемаду, и своего отца, который, я знаю, – жив и рядом… знаю, я вижу его, вот он, вот он, и я смеюсь… Я люблю Фейзу Таруна, весело вставляющего мне горящие сигареты в задний проход, и корешка своего Сережку Натанова, походя приучившего меня к наркоте, и любовников своих жен, всех вместе и каждого по отдельности, и кусающую меня гюрзу (я целую ее и плачу, и она смеется в ответ и аплодирует), и пулю, которая летит в меня и которую я ловлю, и лечу вместе с ней к тем, которые меня не ждут, я люблю и тех, которые меня не ждут, приходя к ним, я их не о чем не прошу, я смотрю на них с удовольствием и молчу, и мне так хорошо, так, так мне хорошо, хорошо, хорошо, хорошо мне так… Никто и никогда и ни при каких обстоятельствах не изведал того, что чувствую я сегодня, и не изведает, конечно же, в будущем ни за что… Только я способен на это, только я способен на это. Нужно иметь дар, нужно обладать талантом, нужно быть гением, чтобы испытать то наслаждение, которое испытывал я сейчас. Только я способен на это! Я спрашивал всех, кого видел, всех-всех, и тех, кто со мной и тех, кого давно уже нет. Я спрашивал: «Ведь, правда, только я способен на такое?» «Да, – отвечали все. – Да, только ты, да, только ты, и никто никогда!…» Разноцветные, ежесекундно меняющие форму, переливающиеся, парящие сущности приблизились ко мне, спеша, все разом, обступили меня и коснулись меня, и я заплакал от счастья. Сила, которую я ощутил, дала мне возможность осознать, что я способен управлять миром и даже Вселенной… Мне было хорошо! Я все могу, когда мне хорошо! И когда я подумал об этом, то тотчас увидел перед собой – далеко – свет, белую точку света, которая с каждым мгновением увеличивалась, становилась ярче. От света исходили тепло и радость… И я полетел ему навстречу… В детстве я боялся делить себя на двое, на трое, на десятеро. Срабатывал естественный тормоз – инстинкт самосохранения, который на подсознательном уровне в большей степени развит у животных и у детей и меньше у нас, у людей, у взрослых людей. Мы все-таки думаем, прежде чем начать защищаться, а животные и дети не думают – они защищаются. Животные всегда доверяют своему организму. А дети еще доверяют своему организму. У детей даже есть преимущество. В отличие от животных, они еще доверяют и своей личности. (Если детей не «воспитывать», они инстинктивно будут поступать правильно, безукоризненно.) Взрослея, человек обучается логике и неверию, и инстинкт самосохранения, в данном случае инстинкт сохранения своей цельности, запихивается на самое дно подсознания. И дно это столь глубоко, что многие так до конца жизни и не догадываются, что это дно вообще существует. А как они были бы счастливы, эти многие, если хотя бы раз, случайно, обнаружили и дно, и лежащие на нем давно забытые инстинкты. К сознанию, как правило, прорывается только инстинкт, сохраняющий жизнь, физическую жизнь (что тоже важно, конечно). Но для ощущения полноты жизни, его одного совершенно недостаточно… С возрастом я все-таки разделил себя, сначала на двое – на хорошего и плохого, потом на трое – на хорошего, плохого и трусливого, потом на четверо – на хорошего, плохого, трусливого, но иногда и отважного; затем; конечно, ко всему прочему, прибавились – я – умный и – Дурак, я – талантливый и не совсем, я – злой и добрый, ну так далее, короче, и у меня инстинкт сохранения цельности тоже ухнул на самое дно, да еще и зарылся там в песок, на самом дне. И я, конечно, разгулялся без тормозов-то, без защитника. Я рвал себя на части, страдал, болел, не спал ночами, да и днями тоже, и всерьез думал о суициде. Все гении, говорил я себе в оправдание, судя по их трудам и письмам и воспоминаниям современников, – были натуры противоречивые, раздираемые внутренними сомнениями, находящиеся в постоянной борьбе со своими многочисленными «я». Повзрослев еще, я понял, что если бы это было правдой, вряд ли бы Генри Миллер или, скажем, Лев Толстой прожили бы так долго и так счастливо: что-то тут не так, сомневался я, что-то тут не так. И тогда я стал думать о животных, о детях, об инстинкте сохранения личностной цельности, и о том счастье, которое должен испытывать человек, когда он перестает зависеть от обстоятельств, когда он перестает зависеть от себя, когда он может себе позволить что-то сделать, а может и не позволить, одним словом, когда поднявшийся со дна инстинкт сохранения цельности личности встанет на страже его величия… Я думаю об этом до сих пор. И вот сегодня… Очнувшись и не открывая еще глаз, и не вспоминая, где я и что со мной, и не задумываясь, что вокруг меня и кто вокруг меня и ли это вообще-то, который лежит и не открывает глаз, – я ясно и уверенно ощутил, что нет во мне больше сомнений, страхов, нет больше, если быть более точным, маленьких и больших «я», был только один Я – чистый, прозрачный, открытый, легкий, радостный. Я один, и больше никого во мне. Да, это так. В то время… В то время, как я сам находился во всем, что вокруг, разом, одновременно, – ив пузатом хрустальном фужере, и в штукатурке потолка, и под ногтями официанта Эрика, ив сливном бочке общественного туалета на Пушкинской улице, и в мыслях постового милиционера, и в земной коре, и в коре головного мозга, и внутри земли, и внутри беременной кенгурихи, и в первой, и во второй, и в остальных, всех, которые еще ныне живут и здравствуют на славном австралийском континенте, и в тучах, и облаках, и в звездах, и в Луне тоже, которая, как теперь предполагается, создана искусственно кем-то, когда-то, и я был тоже внутри тех, которые построили Луну, и я, конечно же, знал, кто они, эти «кто-то», и я с ними вот сейчас, сейчас, вот, вот, мог поговорить, вот сейчас, сейчас… Но они не стали говорить со мной, суки! Они вылили мне на лицо какую-то херню, холодную, мать их, и мокрую, мать их. И я открыл глаза тогда невольно, или даже так – вынужденно, и решил поговорить с ними по-другому, круто, хотя не хотелось мне этого до этого, и до того тоже. Клейко, грузно и громко похлопал я веками, промаргиваясь и сбивая влагу с ресниц. И когда отворил глаза полностью, к удовольствию своему (сейчас мне было все в удовольствие), увидел лицо Стокова, а не лица тех, кто построил Луну. Да, да, вот так прямо анфас его и узрел, в первый раз за сегодняшний вечер. Глаза его и нос, и. рот, и щеки, и уши, и брови были на месте. Так почему же он тогда не поворачивался анфас ко мне раньше – весь этот вечер. Ха, ха. Я знал, почему. Я сейчас много, чего знал. Он не поворачивался потому, что я этого не хотел. Не хотел я видеть его лица, поэтому он и не поворачивался. Не поворачивался не потому, что боялся меня, нет, дело тут в другом – он, конечно, поворачивался ко мне, и не раз, просто я это его лицо не видел, не желал. Я все время видел его профиль. Мне хотелось видеть его профиль. И совсем не хотелось видеть его лица. А вот в данный конкретный момент я был другим, чем несколько минут назад. И мне, наверное, захотелось увидеть его лицо, там мне кажется во всяком случае – и я его увидел, к своей радости и несказанной приятности. Вот. Стоков улыбнулся, когда я открыл глаза, и верхняя улыбка его была светла и чиста, и невинна, и объективна, и за верхней улыбкой не было нижней улыбки, вернее, она была, но была точно такая же, как и верхняя. «Окей», – сказал Стоков и вытер мое мокрое лицо салфеткой, морща свой горбатый нос и прищуривая свои узкие глаза и пытаясь, по всей видимости, этой безобидной детской гримасой, успокоить меня или ободрить меня. Только сейчас я обратил внимание, что лицо Стокова находится сверху от меня, а позади стоковского лица я видел гладко и бело отштукатуренный ресторанный потолок. Выходит, оказывается, что я лежу? Да, так оно и выходило на самом деле – я лежал, на диванчике, рядом со столом, заставленным вкусными и разнообразными напитками и закусками, есть не хотелось. И какого хрена, интересно, я лежу? Я так и спросил Стокова откровенно и открыто, глядя прямо в его близкое лицо. «Все окей?» – поинтересовался в ответ Стоков, шевеля своим длинным острым подбородком. «Окей, окей…» – кивнул я. «Тогда окей», – сказал Стоков, взял меня под мышки, как мышку, и усадил на диване, соединив нас с диваном немягкими спинками. Я, конечно, тут же осмотрелся, налево, направо поглядел, вниз, вверх и назад обернулся. Все было так, но и не так. Итак… Нигде не было Ники Визиновой – первое. И одежда моя была застегнута на все пуговицы и «молнии», которые на этой моей одежде имелись – второе. Все это было не так, а в остальном все было так. Даже посетители те же самые, что и раньше, сидели за своими столиками. Никто не ушел. Все как один остались. И украдкой сейчас на меня поглядывали, поглядывали… Никто не ушел. «А Ника Визинова ушла?» – «Ушла», – кивнул Стоков с улыбкой сожаления. «И когда она ушла?» – «Как только ты кончил, прости, пожалуйста, и отрубился, мать твою, прости, пожалуйста. Она тогда тотчас тебя застегнула, как только ты отрубился, застегнулась сама, встала, подмигнула мне, и ушла, допив перед уходом остаток виски из бутылки» «Ага, – сказал я себе, – ага…» – «Чему ты улыбаешься?» – спросил Стоков. «А я улыбаюсь?» – удивился я. Вот на, я улыбаюсь. Я улыбаюсь тому, вернее, потому что, потому что мне очень нравилось, как она, Ника Визинова, делала то, что сделала, и как говорила со мной, мне понравилось, и о чем говорила со мной, мне понравилось, и как ела и как пила, и что ела и что пила, мне понравилось, и как дышала, как моргала и как язычком проверяла остроту своих маленьких зубов, мне понравилось, и как кривовато усмехалась, и как резко вскидывала голову и внимательно смотрела мне в глаза, когда в моих словах что-то трогало ее или интересовало ее, мне понравилось, и как она раздевала меня, как целовала, как гладила и как массировала, как мяла и кусала меня, и как стонала у меня на коленях, мне понравилось (как стонала, мне бы так, надо учиться, учиться и еще раз учиться). Мне понравилось и то, как она вот так легко, только допив виски и весело подмигнув Стокову, покинула меня и ресторанный зал. Все действия ее от начала и до конца отличал высокий класс. И мне нравился этот класс, и поэтому я улыбался. Я был цельным и сильным, и поэтому я улыбался. Я любил Стокова и официанта Эрика, и всех остальных официантов, а вместе с ними и всех посетителей ресторана, и поэтому я улыбался. И еще я улыбался, потому что я улыбался. Звучит претенциозно, но на самом деле, мне было сейчас приятно улыбаться, и я улыбался. Я улыбался. Стоков сел рядом, налил себе виски, выпил без меня, закусил куском севрюги, закурил и только тогда заговорил; И сказал он вот что. Все, что произошло, конечно, на его взгляд, было непристойно и недостойно и в общественных местах подобного позволять себе, конечно, непозволительно, тем более в его ресторане. Но тем не менее, понял я из его слов, хоть это было и недостойно и непристойно, но это было здорово, здорово. Так здорово, что ему, Стокову, захотелось жить, захотелось любить, захотелось радоваться. Все равно чему, но только радоваться. (Так бывает, когда ждешь смерти или когда уходишь от смерти.) И я, конечно, поверил Стокову, как тут не поверить, когда я сам ощущал то же самое, только в тысячекратном, в миллионократном, бесконечно кратном размере. И как тут не поверить! Я тоже налил себе виски в фужер и тоже подцепил белой рыбки и хотел уже выпить со вздохом восторга и умиротворения, как увидел на краю стола золотистый цилиндрик нерусской (естественно) губной помады. И я, конечно, потянулся за ним и, конечно, взял и, конечно, открыл его, и, конечно, втянул в себя его остропьянящий сладкий аромат, и, конечно же, застыл, ожидая неземного опьянения… И внезапно вздрогнул, мать мою, а вдруг так хорошо больше не будет никогда, подумал неожиданно, а вдруг я больше не увижу ее, а вдруг, если и увижу, она не захочет больше знать меня, целовать меня, заниматься со мной любовью, мать мою, мать мою, мать мою! Я отбросил губную помаду на стол, взялся за фужер, выпил виски, налил еще, еще выпил. Не помогло, «Что? – спрашивал Стоков, заглядывая мне в глаза. – Что?» А вот что – испарилась моя цельность, и я теперь опять прежний, с сомнениями и страхами, мать мою, разный и многоликий, и воюющий сам с собой, и убивающий сам себя. Как быстро все закончилось! Но ведь было же, было! Я же помню это потрясающее ощущение единства себя с собой – когда любое движение, любая мысль не оспаривается тысячью других «я», и ты полон миром и мир неполон без тебя… «Что? – спрашивал Стоков, беспокоясь. – Что?» Я улыбнулся безмятежно и сказал, давай выпьем, мол, друг Стоков. «Давай, – обрадовался Стоков. – Давай». Он быстро опьянел – первым опьянением, за которым может последовать и второе и третье, я знаю, – сорвал бабочку с шеи, расстегнул ворот рубашки, сказал официанту.Эрику: «Позови Наташку, позови». Пришла Наташка, хорошенькая кукольная официанточка, села рядом с нами, тоже выпила, слушала ерунду, которую нес Стоков, согласно кивала и не сводила с него влюбленных глаз. А Стоков все говорил и говорил и все подливал, и подливал виски Наташке. Я тоже, как и Стоков, говорил всякие глупости, Я сочинял их тут же на ходу, умело и с удовольствием. Ну, например, я серьезно вещал о том; что полет мухи подобен жизненному пути человека, он так же беспорядочен, не осознан и бесполезен. Я говорил, что человек точь-в-точь, как и муха, стремится к свету, и в продвижении к этому самому пресловутому свету обязательно встречает преграду, как правило, невидимую, как правило, прозрачную, совсем так, как муха, которая встречает стекло, когда летит в закрытое окно, и что человек точно так же, как и муха о стекло, бьется об эту невидимую преграду, бьется насмерть, не понимая, что это всего лишь преграда, преграда, и больше ничего… Чудак – человек. А еще я говорил, что стол в ресторане должен быть достаточно низким, таким, чтобы поставленные на него локти упирались в него свободно, без напряжения, потому что, когда стол чуть выше, чем необходимо для свободного упирания локтей, то тогда чувствуешь себя не совсем комфортно, и эта самая некомфортность очень ощутимо отражается на твоем умении вести беседу, острить и говорить всякие умности, а также обольщать женщин, молоденьких официантов и шаркающих меж столами старух-попрошаек. А еще, я говорил, что Наташка очень клевая и что неплохо бы ей, Наташке, выпить за мое здоровье, и не раз, и не два, и не три, и все подливал и подливал Наташке виски. А еще я говорил, что больше всего на свете люблю читать чужие письма, наблюдать в мощный бинокль за окнами в соседнем доме, отбивать женщин и жен у своих приятелей, а также заходить со спины и появляться внезапно, когда меня никто не ждет… И много, много, много всякого другого я еще говорил… А что говорил Стоков, когда говорил одновременно со мной, говоря при этом то, что говорил, и ничего больше, я не помню. Правда, хоть убейте, не помню. Начисто не помню. Совсем не помню, будто пьян был тогда, будто нетрезв был. А говорил Стоков, по-моему, следующее. Он все это время рассказывал, как он богат. Мол, говорил он, у него и там деньги вложены, и там, и там тоже вложены. И во все карманы у него даже вложены, и не только его, но и в Наташкины карманы тоже вложены. И когда Наташка, ненатурально изумлялась, говорила, ну вот уж глупости, вот уж ерундистика, и карманчики у нее совершенно даже пустые, и ничегошеньки в них совсем даже и нету, и никогда и не было, и неизвестно вообще будет ли, то Стоков на такие нехорошие Наташкины слова исключительно правдиво возмущался и говорил, что все вранье, что вчера он Наташке пару «лимонов» на карманные расходы перекинул и что она, падлючка, врет, как не врал никто и никогда до это и не будет никогда после. А Наташка щекотала себя и смеялась в ответ таким хорошим словам Стокова. Она щекотала себя под мышками и под крысками, и под хомячками, и под морскими свинками, и хохотала языком, ноздрями и тушью на ресницах. «Ох-ха-ха, о-ха-ха», – делала Наташка. И Стокову это нравилось, и он тоже даже немножко смеялся. И, немножко смеясь, продолжал говорить. И вот что он говорил. Очень, говорил Стоков, ему хочется, чтобы пронесся над его городом сильный, мощный и очень катастрофический ураган, и чтобы этот ураган снес к чертям собачьим половину этого его почти родного, очень-очень большого города, и чтобы погибло очень и очень много народа, но чтобы много и не погибло и чтобы те, кто не погиб, были погребены заживо под обломками различных строений, или там в метро, или там в каких подвалах, или где еще, где застал этих людей ураган, и чтобы среди этих людей было много женщин и детей. «Зачем? – смеялась Наташка. – Зачем тебе это надо, богатый Стоков?» – смеялась Наташка. «А затем, – говорил Стоков, – чтобы я этих людей спасал. И людей и народное добро. И маленьких и больших животных, ну кошек там, собачек, лошадок, допустим, верблюдов и слонов из цирка и зоопарка тоже спасал. Чтобы я не спал ночами, – говорил Стоков, – и утрами, и вечерами, и днями тоже не спал, а все спасал людей и спасал народное добро, маленьких и больших животных, а в перерывах между спасением людей, народного добра и маленьких и больших животных усиленно думал о том, как спасать остальных людей, остальное добро и остальных животных» – «Зачем? – смеялась Наташка. – Зачем?» – «А затем, чтобы была ЖИЗНЬ, – говорил Стоков, – чтобы она была ПОЛНАЯ, чтобы был в ней СМЫСЛ», – говорил Стоков… «БОГ МОЙ, – думал я, – КАКИЕ ЖЕ ГЛУПОСТИ ГОВОРИТ СТОКОВ, БОГ МОЙ!» – «Ох, я умираю от тебя», – -сказала тем временем Наташка, пока я думал. Пока думал, она именно так и сказала. И без смеха сказала, без усмешки и без издевки, а совершенно серьезно и с неподдельным доверием и с неразыгранным восхищением. «Я умираю от тебя», – вот точно так и сказала Наташка. Неужто поняла что-то, удивился я и засомневался тотчас, нет, конечно, ни хрена не поняла она в этой глупости, которую нес сейчас Стоков, просто, наверное, животным чутьем учуяла тоску и искренность в словах Стокова, тоску и искренность. «Да я и сам умирал, – засмеялся Стоков. – Еще час назад умирал, – продолжал смеяться Стоков. – А вот сейчас не умираю, – Стоков подмигнул мне и руки моей, лежащей на столе, быстро коснулся. – А вот сейчас немножечко, немножечко живу, но живу, – помолчал недолго, все смеясь еще, и добавил после молчания тихо: – А урагана все-таки хочется» – «Ох, я умираю от тебя», – прошептала Наташка, и положила одну руку Стокову на плечо, а вторую руку под пиджак ему сунула, и лбом о его подбородок потерлась, жмурясь, морщась. Стоков прижал женщину к себе, нашел ее губы, поцеловал. И целовал, целовал, целовал. По груди пальцами провел, по бедрам, юбку Наташке приподнял, дальше двинулся, дрожал лицом от возбуждения. И неожиданно повернулся ко мне, произнес четким шепотом, быстро: «Я тоже хочу, как ты, здесь, при всех, забывшись, счастливо, хочу!» И еще сильнее Наташку к себе прижал, стал ей платье на груди расстегивать, стал свою рубашку расстегивать, стал все на себе и на Наташке расстегивать, горячо, умело, всхрипывая, взрыкивая… И вот уже до самого сокровенного Наташкиного добрался, пальцами коснулся, влагу, наверное, ощутил, потому что вздрогнул, я видел, как он вздрогнул. И тут вдруг Наташка уперлась руками ему в обнаженную уже его грудь и сказала: «Нет. Не могу, сказала. Не здесь, – и сказала: – Не хочу, – сказала. – Потом сказала: – Отпусти, сказала» – «Нет, Наташа, здесь и сейчас, – осторожно попросил Стоков. – Только так, и никак иначе, прошу тебя, пожалуйста, я знаю, ты можешь, можешь!» – «Нет, – замотала головой Наташка. – Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет» – «Почему, но почему? – допытывался обескураженный Стоков. – Это же так прекрасно! Это так здорово! Это так здорово! Ты увидишь мир другим. Ты узнаешь, что такое свобода! Ты ощутишь наслаждение, какого не испытывала никогда до сих пор. Наташа, Наташа, умоляю тебя», – коснулся Наташкиных ног. «Уйди!» – закричала истово Наташка, и ударила Стокова кулачком по груди, и ударила Стокова по щеке кулачком, и еще потом ударила Стокова по губам кулачком. Четвертый раз ударить не успела, Стоков завалил ее прямым в переносье. Падая на пол с диванчика, Наташка успела проговорить что-то типа «Не в деньгах счастье» или что-то типа «Я одна у мамы дочка…» или что-то типа «Чур, лежачего не бьют», или что-то типа «Я честная, хоть и не девушка», или что-то типа «Маленькие скучные людишки ходят по земле моей отчизны…» Хотя, наверное, ничего подобного она и не говорила, и мне только лишь показалось, что я слышал звук ее голоса и слышал слова, которые она тем самым своим или нет, вернее не своим, уже, падая, голосом произносила. (Падала она тихо и бесшумно, легко и согласно.) «Сука», – сказал Стоков и пхнул лежащую Наташку каблуком в живот. Наташка икнула. Услышав икоту, Стоков вдруг заплакал и стал, заплакав, ломать себе руки и ноги и причитать, пошто, мол, ее, такую красивенькую и такую славненькую, погубил, пошто вынуждал ее к непристойному и срамному действу, пошто… Короче, понес всякую херню, от которой я тоже, как и Наташка, стал икать, а еще вздрагивать и передергиваться, мать его, козла пьяного! Я налил еще виски – ему и себе, ткнул его кулаком в лоб, не слабо, показал на виски, чокнулся с ним прозрачным бокалом и разом высосал вкусный и бодрящий напиток. И Стоков тоже выпил, конечно. И выпив, сказал, мне совершенно трезвым и спокойным голосом: «Пошли отсюда, на х… не могу больше здесь, на х…, мутит, на х…! Тошно, понимаешь, тошно…» – «Ты истинно русский человек, брат, – я положил Стокову руку на плечо и бубнил чуть не плача, а может быть и плача: – Настоящий рррррррруссссский чччелове-чище!» – «И ты русский, – убедительно и веско заметил Стоков. – А она не русская», – сказал Стоков, указывая на лежащую Наташку. «А какая она?» – удивился я, пытаясь как можно внимательней разглядеть лежащую Наташку. «Не русская», – повторил Стоков и морщась сплюнул на Наташку. «И впрямь не русская», – наконец, я и сам убедился в этом, встав на колени перед лежащей Наташкой и почти вплотную приблизив свое лицо к ее белой обнаженной груди. «Она старорусская», – определил-таки с усилием Стоков. «Ну да?» – удивился я, не отводя глаз от Наташкиной груди. «Да! – неожиданно громко крикнул Стоков. – Да! Потому что порядочная… На Старой Руси все были порядочные! Вот прямо как Наташка! Вот так, понял?!» – «Ух ты! – искренне изумился я. – А я и не знал… Хотя историю читал… Помню… И в школе и в институте…» – «Правда? – заинтересовался Стоков, – А ты и в институте учился?» – «Учился», – кивнул я. «А в каком?» – строго спросил Стоков. «Ну дак в этом, как его… – я зажмурился. – Ну, в этом, мать его… Ну, вот в этом вот…» – «Ну, в каком, каком?!» – настаивал Стоков. «А, вот, – щелкнул я пальцами, – не помню, на хрен… Да какое это имеет значение?» – «Никакого, – согласился Стоков, и добавил непререкаемо: – -Значение имеет только то, что имеет значение!» – «Как ты прав, – потряс я головой. – Как ты прав!» И тряс головой, переживая, и тряс и тряс. И потом что-то там еще говорили мы друг другу, – и приятное тоже, и неприятное тоже, но по-доброму, по-дружески, по-однополчански, ну что-то вроде «Ты козел, мать твою!», «Ты сам козел, и мать твою!» или «Ты, пидор, подлый, и я твоего папу с твоей мамой…», ну и так далее, и все по-дружески, беззлобно и ласково даже, с почтением к личности, с любовью в душе. Пока мы разговаривали, Наташка уползла. И мы хотели поначалу за ней погнаться, но потом еще выпили по полфужера и забыли о Наташке, будто и не было Наташки, будто и не родилась она никогда или померла еще до рождения. Слово «рождение» вызвало у меня воспоминание, что я тоже когда-то родился, и я сказал Стокову проникновенно: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…» – «Как ты прав! – прорычал в ответ Стоков и сдернул с грохотом со стола скатерку, белую, свежую и нами с Никой Визиновой ничем не запятнанную. – Как ты прав, Палыч, ой-ей-ей-ей! – и вскрикнул затем, взмахнув руками и языком: – Пошли! Мы сделаем это, Палыч!» И мы пошли. Куда деваться? Сначала пошли – до машины, а потом поехали – на машине. На иностранной, на «Мазератти». У Стокова была личная «Мазератти», с телефоном, с музыкальным центром, с телевизором и видеомагнитофоном, но без сортира, да, без сортира, я бы даже уточнил, что без туалета, что плохо, конечно, и непредусмотрительно. Но нам со Стоковым пока в туалет не хотелось, нам хотелось другого, нам хотелось… А, мать мою, а чего же нам хотелось? Забыл, бля… «А куда мы, собственно, едем?» – спросил я Стокова. «На машине», – ответил Стоков. «Я не спрашиваю на чем, – сказал я – Я спрашиваю куда?» – «Ну и что же ты спрашиваешь?» – поинтересовался Стоков, вертя в разные стороны маленький руль иностранной Мазератти. «Я спрашиваю, куда мы едем?» – не унимался я. «Да, – важно ответил Стоков. – Да». Кивнул солидно. Я знал, конечно, Стоков не был сумасшедшим, да и я вроде считал себя нормальным, но мы с ним почему-то сегодня друг друга не понимали. Но, впрочем, мы и на войне-то друг друга, честно говоря, не очень-то понимали, а уж в мирной-то жизни сам Бог велел. Я решил так и успокоился и, широко открыв глаза (чтобы лучше видеть), стал смотреть на дорогу перед собой. На дороге толпилось много людей, разных по полу и по возрасту, по лицам, и по качеству, и по расцветке одежды. Завидев идущую машину, люди стремглав кидались к ней и со сладострастными криками валились под ее колеса. И мы едва успевали увертываться, чтобы не зашибить кого-то из разнополых, падающих под колеса. Я высунулся в окно и крикнул громко: «Какого хрена, мать вашу, бросаетесь под колеса?!» И некоторые из людей отвечали мне, не смеясь: «Это вы, мать вашу, бросаетесь на нас, а мы, мать вашу, спокойно и культурно переходим дорогу в положенных местах» – «Ого, наглецы», – подумал я и сказал об этом. Стокову. «И ты еще спрашиваешь?» – усмехнулся Стоков. «Я не спрашиваю, – разозлился я. – Я просто говорю». Стоков засмеялся и сказал:«Не забывай, что жизнь у нас одна, и прожить ее надо». И опять засмеялся, будто знал, над чем смеялся. Я оглянулся назад. На дороге лежали люди, по всей видимости, неживые. Ну и да Бог с ними! У нас теперь нет времени смотреть назад. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!» И плевать, плевать! Пусть бросаются под наши колеса! Пусть, – если жизнь им не дорога! Усеяв дорогу трупами, мы, наконец, добрались до того места, куда все-таки, наверное, и ехали. (Во всяком случае я так предположил.) Стоков притер «Мазератти» к ночному тротуару, не блестящему, к сожалению, как в хороших американских фильмах, свежей влагой, но зато чистому и идеально гладкому. За тротуаром я увидел дом, большой, не маленький, многоэтажный, с горящими окнами на многих этажах, но с темными окнами на первом этаже. Пока мы выбирались из машины (а выбирались мы долго), в доме несколько раз открывалась дверь, и из нее выходили по вечернему одетые люди, мужчины и женщины, женщины все в длинных и не очень платьях, а мужчины почти все в смокингах. Когда дверь открывалась, за ней был виден приглушенный зеленовато-красноватый свет. Мужчины и женщины садились в машины и куда-то уезжали, быстро и солидно, наверное, домой, например, или на телефонную станцию, или на железнодорожный узел, или на мусорный отстойник, или на канализационный коллектор, или на электрическую подстанцию в Красноармейск, или на ночную смену на сигаретную фабрику «Дукат», или в телеателье, или на биржу труда, или все-таки домой в маленькие, утлые, унылые комнатки в коммуналках, в покосившиеся хибары на окраинах, или в утепленные землянки в близлежащих лесах. Ну, а правда, куда могли уезжать в таких больших машинах женщины в длинных платьях и мужчины в смокингах? Я подумал так и изумился самому себе! Как задвинул, мать мою, а? Как пафосно! Как обличительно! Будто в пятидесятые годы я родился и живу, не в девяностые, а будто еще в тридцать седьмом, том самом, комсомольский значок получил. Я засмеялся сдобненько – ого-го, живет и здравствует еще во мне, и развивается конструктивно стремление к социальной справедливости. Уважаю я и люблю еще убогих и сирых, жалких и ленивых, уродливых и немощных – всех тех, кто никогда даже и не стремился что-то изменить в своей жизни, что-то изменить в мире, тех, кто всегда только жалуется, ноет и обвиняет в своей паскудной жизни окружающих (но только не себя), тех, кто этой паскудной жизнью тем не менее доволен – безмерно (а иначе бы не жил этой жизнью), тех, кто не любит жить и тем не менее боится смерти, тех, кто готов задушить каждого, кто рядом, но тем не менее теряют сознание от страха, если видят кого-то сильнее себя, тех, кто постоянно ходит под себя и не замечает этого, тех, кто воняет и радуется этой.вони, как другой благоуханию весеннего цветка… Опять красивости, мать твою, оборвал я себя. Все хорошо сочинил, но вот про благоухание весеннего цветка, это уж чересчур… Смеясь, я подумал, что ни черта я не знаю про себя – не люблю я, конечно, сирых и убогих, и не любил никогда. Но я также, пока, не могу полюбить и тех, кто, может быть, и честно заработав большие деньги, тут же напяливает на себя смокинг и всерьез начинает играть в незнакомую и потому, конечно, непривычную игру – в «матерых» и «крутых». Я смеюсь… Наконец мы вышли в открытое пространство и, поддерживая друг друга плечами, двинулись к закрытой сейчас двери. Мы достучали. Нам открыли. Стокова узнали и пустили. Меня не узнали и пускать не хотели. Но Стоков строго сказал, чтобы меня пустили, и меня пустили. В помещении, в которое мы вошли, было тепло и сухо, в нем замечательно пахло и, вообще, было очень уютно. И тихо, и даже радостно, я бы так и сказал – радостно. Здесь играли, пили и танцевали. Наверное, это место называлось казино, а может быть, и нет. На двери и перед дверью, и над дверью никаких надписей я не приметил, а спрашивать проходящих было как-то неловко, а спрашивать Стокова я просто не хотел, он все равно отвечал не на те вопросы, которые я ему задавал. Как я понял, он говорил не со мной все это время, пока мы ехали, а с кем-то третьим, которого я не знал, или знал, но не догадывался, кто он (или она). Но во всяком случае этот третий (или третья) был не злобным и сговорчивым. И поэтому он никоим образом, ни физическими действиями, ни уговорами, ни увещеваниями не стал склонять Стокова не идти туда, куда в данный момент ему хотелось, благодаря чему Стоков, едва только зайдя в зал, в конце которого располагалась длинная стойка бара, первым делом к этой самой стойке и направился, решительно, напряженно, пружинисто, целеустремленно, крупным сильным шагом, чуть ссутулившись, и не моргая. Я поплелся за ним. Шагая нехотя. Даже думать о спиртном я сейчас был не в состоянии – виски плескалось под горлом, переливалось через край, обжигало небо. Стоков постучал по стойке, подзывая бармена, – молодого, крутоплечего, с круглым бесстрастным лицом «качка», – прохрипел коротко: «Виски, два, по сто пятьдесят», взял поставленные на стойку рюмки, расплатился, одну рюмку протянул мне, вторую, свою, тут же выпил, без тостов и чоканий. Поставив рюмку на стойку, с минуту разглядывал свои наманикюренные ногти, а потом сказал тихо, но внятно: «Где мы?» – «Ну, слава Богу, – подумал я, – первая стадия прошла, с ним можно говорить.» Третий, не злобный и сговорчивый, ушел на время. «Понятия не имею», – отозвался я. «Хорошо», – сказал Стоков и повернулся лицом к залу. И я повернулся вслед за ним… Я всегда был уверен, что искусство, кино, в частности, никоим образом не влияет на нашу жизнь. Нет, я допускал всегда, конечно, что где-то, как-то, по мелочам, люди невольно подражают, киногероям, стараются, может быть, даже не осознавая того, походить на них, говорить, как они, думать, как они. Но, однако же, вместе с тем я предполагал, что даже и это мое незначительное допущение не имеет под собой никаких оснований. Никак не влияет кино на человеческую жизнь. Нет. Оно не понуждает людей убивать, насиловать, курить марихуану и пить самогон, как в равной степени оно, конечно, не благоприятствует и зарождению в них чувства чистой любви, а также развития в них доброты, благородства, честности и всяких еще иных ценностей, которые на заре своего туманного детства придумала малая часть человечества для большей части того же самого что ни на есть человечества. Однако глядя сейчас на заполненный людьми зал, я без ужаса, но и без удовлетворения обнаружил, что был не прав. Да, я ошибался. Оказалось, что даже в наше смутное (и прекрасное) время (я очень люблю смутные времена, очень) кино все-таки достаточно основательно влияет на нашу жизнь. И то помещение, в котором я сейчас находился, являло тому исключительно яркий пример. (Я это увидел даже после очередных горько и тошно выпитых ста пятидесяти граммов доброго шотландского напитка.) Ну, начнем с того, что сам зал был явно привычен глазу всякого любителя зарубежного (не нашего, к сожалению, не нашего) кино – хорошо освещенный, выдержанный в коричнево-голубых тонах, просторный, с низкой эстрадой, с большой танцплощадкой, с повернутыми в сторону сцены полукруглыми диванчиками вместо стульев (как в третьей части «Крестного отца»). Во-вторых, официанты тоже походили на своих кинематографических коллег – коротко стриженные, немногословные, резиново-улыбающиеся, во фраках. В-третьих, посуда, что стояла на столах, была словно перенесена из кинокартин «Багси», или «Преступный синдикат», или «Билли Батгейт». На столах красовались большие тонкие тарелки, фужеры на длинных ножках, золотистые вилки и ложки, и щипцы для разделывания лобстеров, и еще много всякого того, чему я не знаю названия. В-четвертых, музыканты на сцене тоже мало походили на обыкновенных московских. Все музыканты, как один, были негры, («Ох-хо-хо!» – я вскрикнул от восторга.) И играли они классические мелодии пятидесятых. Но самое главное заключалось в другом, (Идея подобного дизайна могла родиться и в неглупой голове какого-нибудь и не увлеченного кинематографом человека.) Самое главное заключалось в людях. В людях, мать их, в мужчинах и женщинах… Все мужчины, почти все были в смокингах, в бабочках, волосы носили зализанными назад, не суетились, держались с достоинством, смотрели по сторонам тяжелым «гангстерским» (ха-ха) взглядом, высокие и маленькие, толстенькие и худые, встречая знакомого, солидно расцеловывались и снисходительно кивали дамам, ручек их к губам не подносили, и их, затянутых в тонкие нежные перчаточки, не целовали (по-американски к дамам относились, по-американски, – с легким пренебрежением, но с заинтересованным заглядыванием в глубокое декольте). Теперь насчет нежненьких перчаточек. Были такие перчатки, были. Почти на всех дамских ручках красовались они, и длинные и короткие, и разных цветов, больше – пастельных, о-ля-ля, А на многих шейках еще, ко всему прочему, колыхалось боа, и многие головки были украшены бриллиантовыми диадемами, о-ля-ля. А теперь насчет декольте. Оно присутствовало почти во всех туалетах, глубокое и манящее (и не только взгляд), восполняющее наверху отсутствие обнаженности внизу – платья на всех дамах были длинные-предлинные, дорогие. Носить такие платья дамы не умели, почти все, но носили с удовольствием (я видел). Мужчины тоже не умели носить свои смокинги. На многих из них, мужчинах, они смотрелись до того смешно в нелепо, что мужчины сами понимали это и, подавляя естественную неловкость, еще страшнее вращали глазами и еще громче цыкали многочисленными золотыми и платиновыми зубами. Картину дополняли молодые, крепкие, можно сказать, квадратные (и фигурами и лицами) ребята со строгими внимательными взглядами, стоящие или прохаживающиеся рядом почти с каждым из столиков, ненавязчиво показывая, что они тут, хотя вроде их как бы и нет. (И пиджаки у них вздувались возле левых рук.) Телохранители. Ненадежные, как правило, пареньки, в любую минуту готовые переметнуться к тому, кто больше заплатит… А как танцевали эти мужчины и женщины! (Телохранители не в счет, они не танцевали, видимо, нельзя! А почему?) На удивленье умело, со старанием, явно соревнуясь. Танго, фокстроты, и что-то там еще… Я закурил, протянул пачку Стокову. Стоков взял мою пачку и аккуратно положил ее в свой карман. «Так, – сказал он, – мы в казино «Фламенго». Я засмеялся. Ну, конечно же, казино «Фламенго» из фильма Барри Левисона «Багси». Эти ребята, которые заполнили в тот вечер казино, были настоящими, самыми закоренело-заядлыми киноманами. Они наверняка не пропускают ни одной гангстерской новинки, смотрят один и тот же понравившийся фильм по нескольку раз в день, восхищаются, млеют, плачут, старательно копируют жесты, манеры и движения запавших в их широкие и добрые, и щедрые, и очень нежные бандитские души героев. Они двигаются, как Уоррен Битти из «Багси», они улыбаются, как Рей Лиотта из «Славных парней», они одеваются, как Кристин Слейтер из «Преступного синдиката» или как Энди Гарсиа из третьей части «Крестного отца», они ценят мужскую дружбу, как Роберт де Ниро из «Однажды в Америке», они убивают, как Джони Турутуро из «Уважаемых людей», они мстят, как Кристофер Уокен из «Короля Нью-Йорка», они любят, как Том Беренжер из «Города страха». Я понял это сейчас, в упор и на расстоянии глядя на них, наблюдая за ними. И я был в восторге, мать мою! Родилась и развилась новая генерация людей, которые честно играют в нечестность. Нашу плаксивую серую, несмелую, умеренную, очень серьезную, ну простооччччень серьезную, по нашему разумению, жизнь они превратили в то, чем на самом деле и является жизнь. Не все из них, конечно, отдавали себе отчет в этом, конечно, болванов и придурков среди них больше, чем среди других слоев населения, но все же тех, кто играл в Игру Жизни сознательно, а их было тоже немало (я видел, я умный, я все понимаю), можно было с полным правом отнести к категории людей незаурядных и даже по-своему выдающихся, и далее не просто как-то там неопределенно «по-своему», а однозначно выдающихся. Они сами выбрали свой путь. Они знают, что их ждет – несвобода, потеря близких и друзей, ранняя смерть, – и тем не менее они, усмехаясь и поглаживая в кармане Черный Пистолет, не сворачивают со своего пути, ИДУТ и получают удовольствие от каждого своего шага. Без сомнения, не будь кинематографа, книг, театра, они бы все равно играли, но подражание сочиненной талантливыми людьми жизни делает их игру еще более красивой (игра ведь сама по себе всегда красива) и еще более подчеркивает придуманность и сконструированность их жизни и тем самым одновременно еще резче очерчивает фактор влияния их воли на свою судьбу. А это большой кайф, знать, что твоя жизнь зависит только от твоей воли. Если не пробовали, попробуйте, узнаете. Большой Кайф! Да, они не созидают и ни хрена путного не останется после них. Деньги и смерть – это не путное. Много денег и много смерти, и это тоже еще не путное. Неизмеримо много денег и неизмеримо много смертей – вот здесь уже имеются проблески чего-то стоящего. Но только проблески, и всегда только проблески… Но вот какой парадокс. Да, они разрушают. Но зато КАК разрушают! Профессионально. Мастерски. Талантливо. Гениально. Я говорю сейчас только о чистой работе. Не имеет значения, что это за работа, с позитивным она зарядом или негативным. Если она сделана мастерски, я уверен, я знаю это, она всегда, ВСЕГДА, достойна восхищения и уважения. А мастерски сделать работу можно, только играя в эту работу. Круг замкнулся. Стоков наклонился ко мне и сказал: «Сейчас я сделаю это», и оторвал ступни от начищенного паркетного пола и воткнулся в толпу танцующих, направляясь через танцевальную площадку к столикам. «Если мы выйдем отсюда живыми, – подумал я, – я завяжу с наркотой» И затосковал тотчас: а если и вправду мы выберемся отсюда живыми? Стоков тем временем рассек вальсирующих и подошел к столику, где сидела пухленькая дамка с расписным веером в пухленьких ручках. Танцующие пары то и дело загораживали мне пухленькую дамку, и я не мог как следуете ее рассмотреть, но все-таки успел отметить, что каждая из грудей у нее больше, чем одна голова у Стокова и, конечно же, порадовался за товарища. Но радость моя была преждевременной. По всей видимости, дамка решительно отказала Стокову в том, что он просил у нее. Не знаю, что он просил, я могу только догадываться. Наверное, он просил ее повальсировать с ним, наверное, а может быть, и чего-нибудь другого просил. Я видел, как она что-то строго сказала моему товарищу по войне, а потом, когда он все-таки – как человек упорный – протянул к ней руку, ударила его сложенным веером по пальцам, и больно, наверное, ударила, потому что Стоков тотчас отдернул руку и стал яростно дуть на пальцы, будто обжег их кипятком. Оглядев зал, я понял, что на Стокова обратили внимание. Пока, слава Богу, не пристальное, но обратили. «Если мы выберемся отсюда живыми, – сказал я себе, – я брошу пить.» И скучно мне стало как-то сразу и я сказал себе: «В конце концов ничего уж такого страшного не случится, если мы не уйдем отсюда живыми.» Нет, а правда, а что в этом такого страшного? А Стоков в отличие от меня не унывал. Он бесстрастно огляделся и направился к следующему столику, в другом ряду. Шел по ступенькам, не торопясь, с достоинством. Мне показалось, что и у другого столика Стокову тоже откажут, и я отвернулся, чтобы не чувствовать неловкость за то, что Стокову станет неловко, когда ему откажут. После очередных ста пятидесяти граммов виски, выпитых несколько минует назад со Стоковым, предыдущее виски, перестало плескаться у меня под горлом, и я подумал, что мне совсем не помешало бы сейчас выпить, и окончательно повернулся к стойке и сказал протирающему только что вымытые стаканы бармену: «Уважаемый, у меня сейчас к вам будет огромная и убедительная просьба, и я уверен, что вы не станете отказывать мне в ней, а удовлетворите ее быстро и качественно, как удовлетворили подобную просьбу совсем еще недавно, то есть всего лишь несколько минут назад. Я вижу это по вашей благородной осанке, по вашему чистому, честному и открытому лицу. Будь моя воля, я усыновил бы вас, но у меня нет такой воли и поэтому я не усыновлю вас. Моей воли сейчас хватит только на то, чтобы попросить вас налить мне вот в этот пользованный уже мною стакан небольшое количество терпкого шотландского напитка со странным для нашего уха названием «виски», граммов сто пятьдесят, не больше. Вот и вся моя просьба. И если вы, милостивейший, соблаговолите принять и исполнить мою нижайшую просьбу, то, помимо величайшей благодарности, я буду испытывать к вам еще и чувство истинного мужского долга, и всенепременнейше в сей момент, как вы только потребуете, отдам вам этот долг в виде жалких и презренных, как мы с вами, как благородные люди, понимаем, нескольких рублей». Я перевел дух и шумно выдохнул. После чего преданно говорил о другом. Но писать-то хотел, – Можно, допустим, без устали работать, я имею в виду над поиском Пути, анализировать, сопоставлять, наблюдать, учиться, учиться и еще раз учиться, слушать умных людей, читать книжки, ломиться в открытые и закрытые двери, истязать себя, умерщвлять плоть, подвергать себя лишениям или, наоборот, излишествам, засыпать и просыпаться с именем Бога на устах или постоянно клясть и пинать его, драться, убивать и убиваться, бежать, ползти, прыгать, рваться изо всех сил изо всех сухожилий, ломать стены и разгонять облака… Одним словом, все время, беспрестанно действовать, действовать и действовать. – Я отпил глоток виски из стакана девушки и продолжал: – А есть другой путь, совершенно противоположный тому, о котором я только что рассказал вам, милая девушка, – это путь неделания. Я сейчас объясню. На Востоке говорят: «Сядь на берегу реки и жди, когда мимо понесут труп твоего врага». Но я бы дополнил эту пословицу, я бы добавил такую фразу: «И опять сиди и жди, пока по берегу не пойдет твой друг». Вы понимаете, о чем я говорю, да? Конечно, я вижу по вашим глазам, по вашим ушам, по вашим бровям и по вашему левому мизинцу на правой руке, что вы понимаете. Вы неглупая девушка. Так вот теперь я перехожу к самому основному. – Я сделал паузу, во время которой снова отхлебнул. виски из стакана девушки. Провел затем языком по губам, по своим пока, помолчал недолго, глубокомысленно качая при этом головой и продолжил неожиданно горячо: – Я никогда не искал женщину, я сидел и ждал ее. Я сидел на берегу реки и ждал женщину. И она пришла. Ты понимаешь? Не важно, что мы делаем и делаем ли вообще что-то, будет так, как будет, надо только не мешать тому, кто ведет нас по этой жизни, – я понизил голос, я зашептал даже, приблизив свои глаза к губам девушки в зеленом платье. – Не надо только мешать ему. Не надо мешшшш-шшаааааатть!»… Я замолк. Девушка часто-часто дышала мне в глаза, влажно и даже мокро. Я выпрямился. Бедная добрая девушка едва не плакала. Я все-таки допил ее стакан. «Еще», – наконец промолвила девушка. «Еще», – сказал я бармену Евлампию, показывая на стакан. «Нет, не этого», – тихо возразила девушка. «А чего же?» – не понял я, все-таки продолжая жестами настаивать, чтобы бармен снова наполнил стакан. «Я хочу, чтобы ты говорил, говорил еще… Я никогда не слышала, чтобы кто-то так говорил. Среди моих друзей так никто никогда не говорил. Я всегда знаю, что каждый из них скажет, наперед» – «Ерунда, – отмахнулся я, внимательно наблюдая, как бармен наполняет стакан. – Тащи их ко мне, научу, Я еще не так умею. Я знаешь, как умею? Я такое могу вложить в уста! Такое! Ты себе даже не представляешь. Или нет, представляешь. Ты ведь, наверняка, представляешь, что можно вкладывать в уста» – «Я не знала, что когда-нибудь встречу такого, как ты. Я думала, что такие, как ты, живут только в телевизоре… Послушай, послушай, – она сжала мою ладонь своими пальцами. Рука ее и пальцы ее были нежными и легкими. – Говори еще, говори…» Я собрался уже было что-то сказать, но понял, что сказать мне нечего, и тогда я предложил девушке в зеленом платье: «Давай потанцуем!» – «Да, да, да!» – смеясь воскликнула девушка, тут же соскочила с табурета и положила мне руки на плечи. И тут, как раз, нерусский оркестр заиграл что-то блюзовое и доверительное, вовремя и к месту, и я взял девушку, разумеется, за талию и, разумеется, прижал девушку к себе, и она, разумеется, ко мне прижалась без сопротивления, и мы немедленно стали танцевать – медленно. В то время, как я, танцуя, продолжал не менее зорко, чем несколько минут назад, наблюдать за стоящим на стойке стаканом с виски, девушка потерлась тонким носиком о мой небритый подбородок и принялась нескучно рассказывать мне разные разности про свою жизнь и жизнь других, кто был рядом с ней и вдалеке от нее, и кого с ней не было вовсе и никогда. Стакан все еще стоял на месте – нетронутый. И я стал прислушиваться к тому, что мне рассказывает девушка в зеленом платье. Она говорила, что она точно так же, как и я, никогда сама ничего не искала, ни мужчину, ни любовь, ни работу, ни счастья, мать ее работала на почте заведующей, а отец на этой же почте служил ямщиком, в смысле он был шофером, хотя на самом деле он был инженером, но одновременно он был и педиком, да, да, педиком, в его институте, где он работал научным сотрудником, об этом узнали и все стали над ним смеяться, и он ушел из института и стал работать шофером, мать к нему относилась с жалостью и приветливо, и он тоже к матери относился дружелюбно, но спал тем не менее с почтальоном Трубчаниновым, которого любил больше, чем мать, и даже несколько раз приводил его домой и представлял матери как свою будущую жену. Мать немного, конечно, ревновала, ну а в остальном все было в порядке. В семнадцать лет, закрыв глаза, рассказывала мне девушка в зеленом, она в первый и пока в последний раз вышла замуж, один хрен предложил, и она вышла, а через полгода она развелась с ним, потому что он только один раз занимался с ней любовью, в тот самый день, когда они познакомились, а потом больше не занимался с ней любовью, а только мастурбировал, глядя на нее, и причем делал это в самых неожиданных местах, например в метро, в кинотеатре, за столом в гостях, в очереди за колбасой. Подруга стала таскать ее по кабакам, и там в каком-то из них она познакомилась с вором Ситниковым и стала с ним жить, потом вор Ситников проиграл ее вору Гулмизину, и она стала жить с вором Гулмизиным, вор Гулмизин, в свою очередь, продал ее рэкетиру Обуренко, который ей, кстати, очень понравился. Рэкетир Обуренко помимо того, что был денежным и веселым, был еще и красивым и сильным, и не ругался при ней матом, и очень любил ирис «Кис-кис», на чем, между прочим, и попался. Муровские оперативники через своих людей в уголовном мире специально с провокационными целями распространили слух, что в магазин на площади Восстания завезли видимо-невидимо ириса «Кис-кис». Обуренко, конечно, тотчас двинул туда и при задержании был убит. Умирая, он, конечно, догадался обо всем и перед последним вздохом прошептал прозорливо: «Это был не «Кис-кис», это был Мур-мур». Странная, неправдивая, казалось бы, история, но так было, божилась мне девушка в зеленом платье, и я верил ей, верил, а почему бы мне ей не поверить, не убудет ведь от меня, думал я, если я ей поверю, и от меня, конечно, не убывало. После гибели красивого рэкетира моя партнерша по медленному танцу решила завязать с распутной жизнью и пошла работать на почту к родной маме и родному педику-папе приемщицей посылок. Через неделю ей каждую ночь стало сниться, что ее саму пакуют в деревянную посылку и теряют где-то при переправке. Сон был жестоким и утомительным. Продержавшись еще неделю, моя партнерша ушла с почты и пришла на телеграф. Через две недели работы на телеграфе оказалось, что речь девушки густо пересыпана странными словами типа «тчк», «зпт», «воскл» и так далее, от нее шарахались люди и на нее лаяли собаки, когда она открывала рот; в конце концов она перестала за собой следить, не красилась, ходила черт-те в чем, а по вечерам в своей коммунальной комнатке писала себе грустные телеграммы, а по ночам во сне отвечала на них. Жизнь проходила даром, жизнь проходила задаром… Танец кончился. Мы остановились, я ястребом взглянул на полный стакан и зайцем решил метнуться к нему, но девушка в зеленом платье задержала меня, с мольбой и болью взглянула мне в глаза и прошептала: «Не уходи, побудь со мной», И я остался. И мы снова стали танцевать – следующий медленный танец… Однажды, продолжала рассказывать моя партнерша, она оказалась возле ресторана «Савой». Она услышала музыку и чудесные запахи. Она увидела красиво одетых мужчин и женщин и… упала в обморок. Очнувшись, поняла, что жизнь ее снова сделала крутой поворот. На следующий вечер, намакияженная и наманикюренная, короткоюбочная и ароматная, она сидела за богатым столиком у окна в ресторане «Савой» с бывшим квартирным грабителем, а ныне преуспевающим бизнесменом Саввой Чубом по кличке Коса. Коса так сильно влюбился в девушку, что через дня три после знакомства перестал выпускать ее куда-либо, и, естественно,– никогда не брал ее больше с собой на рауты, приемы, вечера и балы, боялся, как бы ей кто не приглянулся, ревновал. Он запер ее в потаенном загородном доме и приставил охрану. Ключи от ее комнат все время носил с собой, а дубликаты уничтожил. Тем не менее каждый раз, приезжая в этот загородный дом к своей любимой, изводил ее скандалами и драками, подозревая ее в том, что, несмотря на принятые им меры безопасности, она за прошедшие несколько часов все-таки умудрилась с кем-то переспать. «С кем?! С кем?!» – в слезах вопрошала моя партнерша по танцу. «Это я выясню!» – грозно и беспощадно рычал Коса. Моя партнерша, будучи одна-одинешенька во всем доме, скучала. Читать она не любила, а телевизор и видео ей скоро надоели, И к концу первого месяца любви с Косой она поняла, что мужчины – это дело ненадежное и что для того, чтобы ей быть счастливой до конца жизни, ей необходим ребенок. Только он, и никто иной, может сделать ее счастливой до того самого конца жизни, который когда-нибудь непременно придет. От самого Косы она ребенка иметь не захотела. Ей не нравились его оттопыренные уши и его короткий толстый член. (Она же ведь не могла позволить, чтобы у ее ребенка были оттопыренные уши и толстый короткий член.) Надо было бежать. Но как? Она-таки нашла выход. Она соблазнила старую корявую тетку, которая приносила ей еду. Соблазнила в самом прямом смысле этого слова. Давя отвращение и рвоту, она пару раз позанималась с вонючей теткой лесбийской любовью, и тетка стала как ручная и в конце концов помогла ей бежать, за что была в тот же день и убита Косой, Коса потом перестрелял под это дело всех охранников, а также нескольких прохожих, проходивших в этот момент мимо загородного дома, а из гранатомета снес располагавшиеся неподалеку коровник, силосную и водонапорную башни. И в конце концов, увидев милицейские и военные машины, окружающие его дом, взял, ревнивый, да и застрелился из того же самого гранатомета… Голова моя раскалывалась. Янтарный стакан манил. Но с танцевальной площадки я все же не ушел. Я, понятно, слегка протрезвел, и взгляд мой теперь был более четким и ясным и реалистичным, скажем так. И я решил разглядеть свою партнершу повнимательней. Разглядел. Я бы не сказал с уверенностью, что она несветская дама, нет, правда, глаза у нее были умные, манеры естественные, чуть-чуть наигранные, но в самую меру, то, что надо. Платье она носила не как многие здесь дамы, она не замечала просто это платье, как не замечают пижаму. Да, совсем немного ей не хватило, чтобы стать настоящей, подумал я. Чего не хватило, я точно определить еще не мог. Наверное, не хватило образования, воли, вкуса к жизни. Или нет, не хватило движения, точно так, одного маленького шага, одного поворота головы, одного взмаха руки. Всего лишь один крохотный, но сильный прыжочек – и она поднялась бы на несколько уровней выше, сразу. Ей не понадобилось бы долгое и скрупулезное карабканье вверх. Она могла бы просто прыгнуть, и все. Но кто-то должен был помочь ей. Может быть, я помогу, мелькнула у меня мысль, и тотчас исчезла, не сформировавшись, а через мгновение опять мелькнула, а может, и вправду. И девушка в зеленом платье станет тем, кем могла бы стать, и тогда… тогда нет гарантии, что она не застрелится, не повесится, не отравится, мать ее, нет гарантии, что ей будет там, на другом -уровне, хорошо. Нет гарантии. Она, между прочим, и здесь счастлива. Это ее жизнь, это ее путь. И она, я вижу это, идет по нему или идет к нему в отличие от миллиардов других, которые ползут, и, к тому же, не в ту сторону. Помогая ей, я могу навредить ей. Музыка еще не заиграла. Чернокожие музыканты о чем-то грустно беседовали друг с другом. Зал без музыки негромко гудел голосами. И звенел вилками, ножами, и ложками, шуршал купюрами, шаркал подошвами и цокал каблучками. Я нечаянно вспомнил о Стокове, подумав о каблучках, и оглядел зал – с танцплощадки мне было видно все, ты так и знай, – Стокова нигде не было. Я выругался, кажется про себя, и решил, что сейчас пойду искать его, вот сейчас и пойду, решил, вот сейчас. Возле выхода из зала вдруг кто-то крикнул – женщина, кто-то вбежал в зал, кто-то выбежал, ко входу ринулся метрдотель, и через несколько секунд вошел обратно, делая успокаивающие жесты руками. Телохранители облегченно вздохнули и вынули руки из-под пиджаков. Неожиданно заиграл оркестр. Девушка в зеленом платье вновь обняла меня, вновь прижалась животом к моему звонкому паху и продолжила под музыку свой занимательный рассказ… Теперь она искала того, кто сделает ей ребенка. Условия она поставила себе такие. Будущий отец ребенка должен быть красивым, умным, решительным, смелым, незаурядным, в меру нежным и в меру жестоким, влюбленным в себя и нелюбящим толпу. Я оценил условия и, более того, с удивлением подумал, что этой девочке моя помощь не нужна. Я ошибался. Но об этом чуть позже. Прошло более полугода, но моя партнерша так и не нашла человека, соответствующего всем ранее выдвинутым ею условиям. Тогда она, плача и ломая "себе руки и ноги, стала отбрасывать условия одно за другим. К концу года остались только красивые и решительные. (Красивых меньше, решительных больше.) Но мою партнершу теперь ждало еще одно препятствие – красивые и решительные при всей их решительности ни в какую не хотели делать ей детей, – кончали в сторону, надевали по два презерватива и так далее, – как назло, по закону подлючей подлянки. На какие только ухищрения не шла моя партнерша в зеленом. В опасные дни она говорила, что у нее эти дни безопасные. Запихивала отброшенную в сторону сперму к себе во влагалище. Подсовывала своим любовникам проколотые презервативы. Но все бесполезно. Одни любовники все равно кончали в сторону (те, которые не любили презервативы), а другие проверяли надежность резиновых изделий перед каждым сексуальным контактом. А сперматозоиды, по всей видимости, гибли, бедные, пока моя партнерша в зеленом доносила их до влагалища. И более того, некоторые из любовников, заприметив следы вредительской деятельности на презервативах, иной раз поколачивали мою партнершу в зеленом, а некоторое количество раз даже пытались утопить в ванной. И даже сбрасывали однажды из окна (с первого этажа, слава Богу). А как-то завезли далеко в лес и оставили там. Питаясь шишками, травой и корой деревьев и пойманными голыми руками белками, зайцами и лосями, шестнадцать суток она, сильная и веселая, шла по лесу. И вышла, упорная. Теперь, отчаявшись, она спала с кем придется – и с симпатичными, и со страшненькими, и с немоющими задницу. Ей было все равно. Она хотела лишь одного, чтобы кто-нибудь кончил в нее, и она бы родила маленького. Черта, с два, вся сперма уходила мимо, даже самые страшненькие из страшненьких оказывались мерзавцами. Опасаясь СПИДа, они вес как один пользовались презервативами. Тогда она перешла на школьников, на самых малолетних, потому что старшие уже все понимали и тоже знали про СПИД. Но и с маленькими также вышла промашка – они кончали, не донося своих пиписек до ее влагалища… Впору было удавиться. «Но вот тут, – она задержала дыхание и выпалила, – я встретила тебя!» Я здесь чуть не грохнулся. Вот к чему были все искренние и подробные рассказы. А я-то думал… Я уже начал было гордиться, что одержал победу, что покорил еще одну красивую и сексапильную женщину своей мужественной внешностью и врожденным обаянием и не менее врожденным интеллектом. А она, оказывается, черт ее драл бы, хотела только одного, чтобы я прыснул в нее свое семя. Да пошла ты на хрен, мать твою. Так обидеть меня! Так обидеть! Я решил убить ее. Сейчас. Вывести ее на улицу и убить где-нибудь за ближайшим углом. Я хорошо научился убивать на войне. И там же я обрел еще одно самое важное свое качество – умение забывать об убийствах, которые совершил. Так оно случится и сейчас. Я отведу ее за угол, сломаю ей шею, привычно и быстро, и вернусь, посвистывая, допивать виски из ее стакана. Я улыбнулся, наклонился к своей партнерше, поцеловал ее тихонько в теплые душистые губы и пошел, посвистывая, к стойке допивать виски из ее стакана, не дожидаясь, пока кончится музыка. Я сделал большой глоток и спросил, не оборачиваясь, зная, что она следовала за мной и стоит сейчас рядом, за моей спиной. «Ты одна здесь?» – «Пришла не одна», – ответила девушка в зеленом платье. – А сейчас одна, – она хмыкнула. – Вчера я решила перейти на стариков. Ему семьдесят восемь. Час назад его уволокли с приступом геморроя» – «И кто он?» – спросил я, допив стакан и показывая Евлампию, что надо налить еще. «Какой-то босс какого-то клана». «Ты трахнулась с ним? – спросил я. «Я трахнулась с ним. – грустно ответила моя партнерша. – Но у него больше нет спермы. Кончилась» – «Так не бывает», – сказал я. «Со мной все бывает», – сказала моя партнерша. Мы помолчали. «Я не подхожу для тебя, – сказал я. – Я пью, курю марихуану и иногда колюсь. У тебя может родиться урод» – «Рискнем», – сказала моя партнерша. «Шансов ноль», – сказал я. «Один всегда есть», – сказала моя партнерша. Я опять наклонился и поцеловал ее, теперь покрепче и подольше. Мне нравилась эта девушка. Но спать я с ней не хотел. Во-первых, потому что я не люблю трахаться, зная, что трахаюсь только ради того, чтобы зачать ребенка. Я не получу удовольствия и надолго отвращу себя от секса, чего я не хотел бы, потому что у меня была Ника Визинова. А во-вторых, я не хочу, чтобы появился еще кто-то на земле, похожий на меня. Я один. Один я. ОДИН. Танцующие пары колыхнулись, как от сильного порыва ветра, и затрепетали затем, опасаясь чего-то и волнуясь. Многие из них распались на моих глазах и сошлись ли потом, не знаю. Через танцплощадку шел Стоков, Живой. Хотя и слегка поврежденный – в порванной рубашке, без бабочки, взъерошенный и почему-то мокрый. Недовольный и злой. Сам не свой и сам не наш. Возбужденный и изумленный. «Никто, – простонал он, подойдя к стойке. – Ни одна. Ты понимаешь? Ни одна не пошла со мной, А я ведь пока просил только потанцевать со мной. И больше ничего. Пока. Они вежливо и любезно, мать их, отказывали мне. Одна сослалась на больные ноги, другая – на больную мать, третья – на больного мужа… А я ведь подходил только к тем, кто сидел за столиками без мужчин. Вот, мать их! На меня стали показывать пальцами, разными – и указательными, и большими, и средними, и мизинцами. Мизинцами, мать их!? Я плачу Ты можешь поверить, я плачу! Они и сейчас показывают на меня пальцами. Вон смотри – и там, и там, и тут, и вон та, и другая – все показывают на меня всеми пальцами… Но я человек упорный, ты знаешь, я выпил стаканчик в соседнем зале… А, вот кстати, спасибо. – Стоков взял из рук Евлампия стакан виски, предназначенный для моей партнерши, и мгновенно ополовинил его. – Я выпил стаканчик в соседнем зале и пошел… Куда бы ты думал? Все равно не догадаешься, Я пошел в женский туалет. Я рассчитывал, что, может быть, там я найду сочувствие и понимание. Женщина, когда она мочится, становится добрей, я знаю это. Я надеялся, что, может быть, кто-нибудь там, в туалете, согласится сначала потанцевать со мной, а потом сделать то, что сделал ты в моем ресторане. В моем ресторане! Но не тут-то было. Они подняли визг и крик. Они порвали мне рубашку. Украли мою любимую бабочку. Они облили меня мочой и водой. Они, они… они… – Стоков задыхался. – Они смеялись надо мной и показывали на меня всеми пальцами рук и ног! О боже!… – Стоков закрыл лицо руками и опрокинул голову на стойку, плечи его дрожали, а ботинки его вздрагивали. «А что ты сделал в его ресторане?» – спросила меня моя партнерша в зеленом и подставила губы для поцелуя (как быстро человек привыкает к хорошему). В тот самый момент, как я склонился перед девушкой, целуя ее, Стоков поднял голову. «Это кто?» – спросил он недобро. «Это моя партнерша по танцам», – ответил я. «И давно вы знакомы?» – спросил Стоков. «Минут сорок», – ответил я. Стоков грустно усмехнулся: «И уже целуетесь, да? Уже целуетесь! Как у вас все быстро, мать вашу!» Он выпрямился и встал вплотную к моей партнерше. «Может быть, поцелуете и меня тогда?» – с вызовом спросил он. Девушка отпрянула от него, проговорила скоро, с испугом: «Нет, нет, нет…» – «Ну тогда, может, станцуете?» – «Нет, нет, нет…» – говорила моя партнерша. «А вот почему? Скажите мне на милость? – закричал Стоков. – Чем же это я так плох? Чем же это я хуже его?» Стоков ударил указательным пальцем в мою грудь. Я засмеялся, будто Стоков нажал на какую-то специальную смеховую кнопку у меня на груди. «Ну, чем, объясни мне?» – продолжал орать Стоков. Моя партнерша тоже улыбнулась, глядя на меня, и поманила Стокова тонким пальчиком. Стоков подался к ней, подставил ухо. Девушка что-то прошептала ему. Оторопелый и притихший вдруг Стоков обернулся ко мне и проговорил; «Знаешь, что она сказала мне?» – «Знаю», – хмыкнул я. «Она послала меня в п…у! Спасибо, девочка, – кивнул Стоков. – Я весь вечер собираюсь туда. И я войду туда, уж будьте уверены… Я войду туда!» – неожиданно громко прорычал Стоков и снова ринулся через танцплощадку к столикам. Если мы уйдем отсюда живыми, то тогда я обязательно встречусь с этой девушкой и сделаю все, что она попросит. Хотя, впрочем, смерть в кабаке – это совсем неплохая смерть. «Знаешь что? – сказал я девушке в зеленом платье. – Давай договоримся так. Я на полгода брошу пить, курить и ширяться. Я полностью вычищу свой организм, И через полгода мы с тобой сделаем столько маленьких, сколько ты захочешь…» Моя партнерша обняла меня, поцеловала в шею, подбородок, в ухо, в нижнюю губу, в верхнюю губу, в нос, в один глаз, в другой глаз, в лоб, в висок, и отступила вдруг, посмотрела на меня внимательно и сказала: «Врешь! Я вижу» – «А ты поверь, – сказал я ей. – Дело ведь не во мне. Дело в тебе. Поверишь, будет то, что ты хочешь, не поверишь – не будет. Ты поверь» – «Я попробую», – серьезно сказала девушка в зеленом платье. «Опять неправильно, – заметил я. – Не надо пробовать, надо сделать». На танцплощадке кричала женщина. «Началось», – подумал я и повернулся в сторону зала. На танцплощадке не было никого, кроме Стокова и той пухленькой с веером, к которой Стоков подходил сразу после того, как мы заявились в это казино. Одной рукой Стоков крепко держал женщину за волосы, а другой рукой раздевал ее. «Нет!» – кричала женщина. «Да!» – отвечал ей Стоков. «Не здесь, не сейчас! – кричала женщина. «Здесь и сейчас!» – злобно шипел Стоков. Самое гадкое заключалось в том, что на сей раз Стоков ошибся. Эта женщина была не одна. Просто спутник ее сновал по залу, и поэтому складывалось впечатление, что за столиком она пребывает в одиночестве. Я видел ее кавалера. И он мне не понравился. У него был вид человека, с которым нельзя договориться ни по какому вопросу. Даже просьбу прикурить сигаретку он воспринял бы как оскорбление. И я не знаю, что произошло бы, если кто-то предложил бы ему уступить место у писсуара. А сказать ему, что земля на самом деле круглая, означало бы просто подвергнуть свою жизнь непосредственной опасности быть этой жизни лишенным. За тонкими губами у него угадывались острые и длинные зубы, а за светлыми, почти белыми глазами ненависть ко всем, у кого глаза чуть-чуть потемнее. Двигался он резко и очень недоброжелательно. Небольшой рост он компенсировал большими каблуками и парой высоченных телохранителей, таких же, как и он, тонкогубых и белоглазых, «Выходя из дома, – сказал я себе, – всегда бери с собой пистолет. И если ты не взял с собой пистолет, то непременно, – продолжал я, – может случиться то, что может случиться. А когда пистолет все же лежит в кармане, этого может и не случиться. Факт – проверенный веками» Сейчас, конечно же, случилось. Да так круто, что когда произошедшее произошло, я искренне решил, что пистолет мне больше никогда не понадобится, как и не понадобится ничто другое, даже презерватив или зубная щетка. Наверное, только память о совершенных мною добрых делах все-таки могла мне сейчас понадобиться. Ведь надо же было хоть с чем-то предстать перед Всевышним, Поймав и закрепив последнюю мысль, я стал старательно и пытливо вспоминать о добрых делах. Вспомнил только, как однажды подсказал слепому, как ему пройти в магазин «Оптика», хотя он об этом, по-моему, не просил… Ситуация на танцплощадке тем временем имела развитие. Случившееся и произошедшее принимало необратимый оборот. Почему-то я расслабился и отчего-то дал себе волю думать тогда, когда думать не следовало бы. Следовало бы просто что-то делать или не делать ничего. Я оглянулся и увидел причину своей ошибки – она стояла рядом и была одета в зеленое платье. Лучше бы я все-таки убил ее к чертям собачьим, и тогда мне не было бы ее так жалко, и эта жалость тогда бы не смогла размочалить меня в такой степени, в которой, мать ее, размочалила сейчас. И если бы я убил ее, то, естественно, значит, и не думал бы о ней сейчас неторопливо и скорбно (будто у меня есть время, будто я в тихой квартирке лежу на мягкой постельке), и не стоял бы потому, как идиот, возле стойки, и не улыбался блаженно своим мыслям, и не смотрел бы печально на мою соседку в зеленом, а давно бы уже оценил ситуацию, сложившуюся на танцплощадке, и давно бы уже принял бы все меры для ликвидации опасных последствий этой ситуации. Паскуднейшая штука это сострадание, оно парализует волю и вяжет движения. И вместо того, чтобы чувствовать, человек начинает сочувствовать, и тем самым (кто бы сомневался) катастрофически вредит всем вокруг, а в первую очередь себе и непременно тому, кому сострадает. Все это так. В абстракции. Но никак не применительно к данному, что ни на есть конкретному моменту. Я, конечно, сейчас оправдываю себя. Никакая жалость к девушке в зеленом не расслабила меня, просто-напросто потому, что никакой жалости к ней и в помине не было. Дело в том, что, когда я увидел, как кавалер пухленькой приставил длинный-предлинный пистолет ко лбу моего однополчанина Стокова и когда такие же пистолеты из-под мышек достали стоящие за спиной кавалера тонкогубые телохранители, я без всяких там дураков и микроцефалов и олигофренов, как на духу, растерялся. Я обыкновенным образом растерялся. И от растерянности, конечно, вспомнил про пистолет, который надо всегда держать в кармане, выходя из дома, и о том, что при наличии пистолета может никогда не случиться то, что, по всей вероятности, могло было бы случиться в отсутствие пистолета. Кавалер пухленькой, мать его, уже поставил Стокова на колени, и уже давил черным стволом на голубой стоковский глаз, и уже орал, брызгая слюной, заводя себя и своих заспинников, и уже не сомневался (я видел), что сейчас нажмет на пусковой крючок и снесет полголовы у не известного ему совсем человека, еще немного, еще чуть-чуть… И что мне, скажите, оставалось делать? Я схватил свою партнершу в зеленом, притянул ее к себе за шею, а затем выставил ее, ничего не понимающую и ошалевшую, перед собой, толкнул ее на танцплощадку и, не отпуская ее, сделал шаг вслед за ней. И заголосил дурным голосом; «Это она виновата! Убей ее! Она во всем виновата! Она!» Белоглазый, естественно, повернулся в мою сторону и на курок все-таки не нажал. Во-первых, потому, что он, конечно, отвлекся (орал-то я отменно), а, во-вторых, каждый, кто в окружении сотни людей держит пистолет у глаза невооруженного человека, даже при стопроцентной решимости этого человека завалить, рад бы воспользоваться любой причиной, чтобы в конечном счете – во всяком случае сейчас и здесь – этого не сделать. Именно на это я и рассчитывал. Больше ни на что другое. Да и на судьбу, конечно, рассчитывал, чуть не забыл… «Только сейчас на моих глазах она послала в п… у того парня, которого ты держишь на стволе», – продолжал орать я, срываясь на фальцет. «А он любит ее! А она послала его в совсем чужую п…у. Ну, он и пошел, обезумевший! – орать-то я орал, но одновременно довольно быстро подходил к кавалеру и его заспинникам. – Убей се, убей! Это она виновата! Мать ее!» Тут и бедная девушка опомнилась и тоже заголосила, да так, что мне и не снилось (или нет, снилось, а помню, конечно, да, снилось, мне вес снилось, мне снилось такое, ого-го, что никому другому и не снилось, мне снилось, например… а, впрочем, какая разница что мне снилось, сейчас не до этого), и забилась вслед, как припадочная, б моих крепких и красивых руках. Кавалер взглянул на своих телохранителей, вроде как взглядом советуясь с ними, потом на меня посмотрел, пытаясь, наверное, угадать игру (по-моему, не угадал), потом на ствол, потом на мушку, потом на пухленькую, стоявшую тут рядом, не моргающую ни одним глазом, ни вторым тоже, и только после этого взглянул на Стокова, и улыбнулся нехорошо. Убьет ведь, гад! Я видел такие улыбочки. Многие офицеры из нашей роты именно так и улыбались, прежде чем завалить кого-то (нашего, не нашего, неважно). Я с силой толкнул орущую девушку на кавалера. И она ударилась головой о его плечо. Кавалер, понятно, отшатнулся вбок, и непроизвольно отвел пистолет от Стокова. И тогда я рванулся вперед, стремительно и мощно, будто и не высосал почти литр виски до этого, ухватил кавалера за руку с пистолетом, потянул руку на себя резко, сам ушел влево, взял локоть кавалера и что есть силы надавил на него. Рука, естественно, хрустнула, а сам белоглазый, естественно, заорал (знатно заорал, кстати, побогаче, чем мы с партнершей, вместе взятые). Пока он орал – переливчато и разностильно я выдернул у него из ладони пистолет, и приставил его ствол к щеке кавалера. Тот испугался, конечно, но орать не перестал, и тогда я взял его за волосы, повернул его голову к себе и вставил ствол пистолета его в рот. Белоглазый, как и полагается, умолк тотчас. Несколько секунд мы с белоглазым молчали, я – с улыбкой, рассматривая растерянных телохранителей, а белоглазый – без улыбки, слюняво посасывая ствол пистолета. Я наклонился к уху белоглазого и сказал нежно: «Язычком поработай, любимый, язычком. Вороненому будет приятно… Приятно», – и засмеялся довольный. Пока все идет нормально, пока. (Именно пока. Я не знаю, что будет дальше, и не желаю этого знать. Я доволен и тем, что есть, сейчас, в данный момент. И не требую большего и не хочу большего. Если я начну думать о будущем, хотя бы о том, что может произойти, ну, допустим, через тридцать секунд, когда заспинники, весьма, судя по виду, небоязливые ребята, опомнятся, то я испугаюсь, мне станет страшно, у меня затрясутся ручки и ножки, и язычок и зубки, и печенка, и селезенка, и сердечко и хвостик, и тогда меня можно будет взять не то что голыми руками, голой задницей, мать мою… Так что сейчас я смеялся и был пока доволен тем, что сделал до данного момента.) «Убрать стволы, суки! – неожиданно для самого себя истошно закричал я. – Стволы на пол, вашу мать! Или я снесу ему башку на хер! Стволы на пол, вашу мать!» Заспинники безропотно и послушно наклонились к паркетному полу и положили на него черные пистолеты, бесшумно и аккуратно, после чего медленно выпрямились и уставились на меня одинаковыми бесцветными взглядами. «Хорошо, – уже спокойно сказал я. – Теперь я пошел. И если хоть одна сука двинется, я сначала вышибу мозги ему, – я кивнул на кавалера, а потом и вам. Я это умею. Я и не таких козлов грохал. Я из людишек покруче мозги вышибал. Все. Теперь всем стоять и не шевелиться. Я иду, – и обращаясь к Стокову: – Поднимайся, приятель. Все кончилось. Сделай дядям ручкой». Стоков поднялся деловито, безмятежно отряхнул и без того чистые колени и шагнул ко мне. (И все это время в глаза мне не глядел, уворачивал зрачки, отворачивал голову, умеючи так глаз прятал, по-привычному, как не в первый раз и не в последний тоже. Хотя между тем вроде как и смотрел на меня, глаза-то я его видел. Вот умелец, вот артист.) Я качнул вперед белоглазого минетчика, и мы все вместе, втроем быстро пошли к выходу. Мужчины и женщины расступились, детей здесь не было, а то бы и они расступились, и столы и стулья перед нами расступались, рюмки и бутылки в стороны отшатнулись, позвякивая и позванивая. Я шел озираясь – влево, вправо, назад, – улыбался и приговаривал: «Тихо, тихо, тихо…» Наконец мы добрались и до выхода из зала. И только тогда я услышал то, что ожидал услышать, и, признаться, гораздо раньше, чем услышал. Мне вслед кричала моя партнерша. Она кричала: «А я? Мы же договорились. Ты обещал, что бросишь пить, курить и ширяться и, очистив свой организм, сделаешь все, что я попрошу… Ты обещал». Ну что я мог ей сказать, а, ну что? И я сказал, сглатывая комок, которого не было: «Я был пьян, когда обещал. Я не помню даже, что обещал. И, вообще, я даже трезвый никогда не выполняю, что обещаю. И именно поэтому я всегда всем что-нибудь обещаю. Но вот сейчас я выполню свое обещание, которое сейчас же тебе и дам. Я обещаю тебе посоветовать, что делать. И советую. Слушай и запоминай. Слушайте и запоминайте все вы, полулюди и недочеловеки. Это все сказано для вас. Я – Господь Бог твой; и не должно быть у тебя других богов, кроме меня. Не произноси имени Господа твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его… Не убий. Не прелюбодействуй. Не укради. Не произноси на другого ложного свидетельства. Не желай себе дома ближнего своего… и всего того, что есть у ближнего твоего…» Я закончил и победно посмотрел на паству. Эффект был сокрушительный. Все полудурки как один поднялись со своих мест и, стоя, взирали на меня как на Него, тогда, когда Он пришел. Ощущение, я себе не верю, было запредельное. Я такого не испытывал никогда. Мне казалось, что я сейчас могу сделать все. ВСЕ! Я даже мог бы сейчас отпустить, белоглазого, и он грохнулся бы передо мной на колени и попросил бы благословения. И я чуть было не сделал этого. Но вовремя спохватился. Опыт сотен поколений подсказал мне, что я могу ошибиться. И, чтобы не ошибиться, я еще глубже засунул ствол пистолета в рот белоглазому и сказал ему, икающему, назидательно и сурово: «Не суди, да и не судим будешь!» – И пхнул его вслед за словами коленом в копчик, и мы все вместе, и Стоков тоже, вновь двинулись дальше. Мы уже переступили порог зала, когда я опять услышал ее голос: «Но я хочу детей, много детей! И от тебя!…» – «Не искушай, – поморщился я, не останавливаясь, – и проси дитя у Господа, а не у меня». И подумал мельком, что, пожалуй, это все, что я знаю из Библии и из Евангелия. Если выберемся отсюда, надо будет перечитать эти книги повнимательней… Хотя, если не выберемся, то я тогда скорее поздороваюсь с Господом, нежели за чтением богословских книг. По фойе мы прошли спокойно. Никто не дернулся. Хотя местные вышибалы и были наготове. Я видел, как у них пульсируют указательные пальцы. А за дверью была улица. И мы все-таки вышли на нее. Ступили в прохладный воздух. Обнялись с несветлой темнотой. «Заводи свою иностранную машину, – сказал я Стокову. – И на хер отсюда!…» Белоглазого я выкинул через километр от казино, пообещав ему предварительно на всех языках, которые знал, что обязательно вернусь. Пистолет же выкинул, когда мы проезжали по мосту через речку. И только потом уже закурил и дал, наконец, волю страху, мелкой дрожи и обильному поту. Только теперь я понял, как я боялся… «Спасибо», – сказал Стоков. Он был абсолютно трезв, естественно. Я пожал плечами в ответ. «Первый раз в своей жизни в экстремальной ситуации я вспомнил о Боге, – подумал я. – Ничего не случается в нашей жизни просто так. Случайность и та закономерна. Как ни банально, но это так. На самом деле так. Я знаю. Я испытал это на себе. Значит, мысль моя о Боге тоже не случайна! И что-то означает. Что? Что? Что? Ну, не внутреннее же мое стремление к вере, к той самой догматической, канонической, предельно заидеологизированной, шаг влево, шаг вправо – попытка к бегству, прыжок на месте – провокация! Нет, конечно. Тогда что же, что? Я, разумеется, усмешничал, да, читая десять заповедей и произнося имя Бога всуе, я таким образом боролся со страхом. Но тем не менее мысль возникла, появилась, жила». «Я не хочу домой!» – сказал Стоков. «Хорошо», – ответил я и назвал адрес, и объяснил Стокову, как туда проехать. «Что там?» – спросил Стоков. «То, что тебе понравится», – ответил я.ВОЙНА. СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД
Вместо сна пришел отец, который умер два года назад в Москве. Просто вошел в дверь, будто она и не заперта была. Ни слова не сказал, прошагал по ковру, сел в одно из двух мягких красных кресел, что украшали неховскую комнату, и только тогда посмотрел на Нехова, пухлые веки приспустив. – Ну? – проговорил тихим голосом, низким, гордым подбородком слабо шевельнув (щеки бритые, бледные не дрогнули ни на миллиметр, ни чуть-чуть, словно из металла литые, – крепкое широкое лицо невыразительно смотрелось). – На чем мы остановились в прошлый раз? Нехов привстал медленно, голову вперед на загорелой шее тянул, пристально без испуга всматривался в отца, решая, сон ли, явь ли, вспоминая, откуда у отца этот длинный, просторный мятый плащ, не он ли сам его подарил отцу на день рождения и дарил ли он, вообще, что-либо отцу на день рождения, и ответил, не решив ничего: – А был ли прошлый раз? Отец пожал плечами: – Был не был – тебе судить, так, наверное? – Наверное… – неопределенно отозвался Нехов, спустил ноги с кровати, сел к отцу боком, правым, раздумывая, а не повернуться ли левым. – Ну, тогда… – почесал бровь, поймав себя на том, что хотел почесать ресницу, – тогда, мы остановились на моем рождении, – усмехнулся, головой качнув, в пол глядя. – Ты родился, – сказал отец. – Ну? – не понял Нехов. – Что ну? – А дальше что? – А дальше ты вырос. – И это все? –А потом ты умрешь. – Господи!… – А что ты хотел? – Все… – Хорошо, – просто согласился отец. – Я расскажу тебе все. Начнем с того, что скука, всегда одна только скука была моей подругой в этой жизни, верной подругой, хотя я ей иногда и изменял, ха-ха, с водкой, коньяком, изредка с портвейном, а до этого со спортом, четыре года с войной… – Я твой сын! Точно! – перебил Нехов отца, ухмыляясь и подмигивая кому-то, может быть, даже чему-то на стене или импортным красно-желтым обоям. – Хорошо, – сказал отец, мимо дня глядя, мимо ночи, мимо слов и мимо мыслей. И глядя только в Нехова. Только. Даже так, заглядывая в него, как заглядывают в микроволновую печь, чтобы проверить, работает ли, не брак ли, горит ли… Ли? Кристофер Ли, Брюс Ли, Ли Марвин, китайчонок Ли. – Как только ты родился, вот прямо в ту же секунду я постарел, хотя мне было всего тридцать шесть, потяжелел тотчас, съежился. Начал годочки считать, сколько осталось, и осталось ли, Джанет Ли, До рождения твоего ведь мальчишкой жил, мальчишкой. – Ну, теперь все понятно, – усмехнулся Нехов, о белый пододеяльник итальянский каблук вытирая. Каблук чернел на глазах. – Что понятно? – голос отца не выражал ничего. Он ничего не выражал и до этих слов. Ничего не будет выражать и после. Ничего. – Твое отношение понятно. – Я плохо к тебе относился? – Ну, не то чтобы очень, но не так, как хотелось бы все же. И мне ясно теперь, почему. Резкую потерю жизненного тонуса, ощущения радости и, более того, необходимости жить ты невольно связывал со мной, с моим рождением. И, конечно же, должен был ненавидеть меня. Жестоко, смертельно… – Я любил тебя. – Да, да, ты вел себя героически. Верно. Я знаю. Вместо того чтобы метелить меня ежечасно, ремнем, поленом, кулаком, мокрой веревкой, форменным ботинком, а в один прекрасный день и вовсе выкинуть меня из окошка шестого этажа, с глаз долой подальше, и зажить после этого нормальной прежней жизнью, ты стоически сдерживал себя, мирился с моим существованием, сдавливая многопудовый стон, и даже говорил со мной иногда и иногда помогал мне в моих маленьких детско-юношеских проблемах. Давал денежку, улыбался, улыбался… И это действительно подвиг… – Я любил тебя. – Ох, не надо, будто я не помню. – Ты дурак. – Вот! – Что, вот?! – Любимых людей не оскорбляют. – Бред! – Хм, хм… – Ты маньяк! – Ладно. Допустим, ты любил меня. Ну так и в чем же твоя любовь выражалась? – Идиотский вопрос! – Вот опять, я аплодирую! – Что, опять? – Разве так разговаривают с любимыми людьми? – По-разному разговаривают. – Не знаю, не знаю. – Конечно, не знаешь. Ни хрена. То есть вообще ни хрена. – Видишь ли, я бы все равно стал тем, кем стал, и таким, каким стал. Это не зависело от того, как ты ко мне относился. Ни родители, ни сестры и братья, ни учителя, ни старшие сержанты, ни милиционеры, ни члены правительства, ни продавцы, ни работники метрополитена, ни слоны, ни кошки, ни жены, ни любовницы не способны повлиять на ту главную суть человека, с которой он родился, она запрограммирована заранее в его клетках, генах или в неизвестных еще нам материальных или нематериальных структурах человеческого организма. Это я понял и осознал. Это так. Я уверен. И поэтому мне наплевать, любил ли ты меня или нет. Это ничего у меня не убавило и ничего мне не прибавило, просто любопытно, поверь, просто любопытно, в чем же все-таки выражалась твоя любовь? – Как рассказать тебе?… Что рассказать тебе?… Прости, я растерялся. Не думал никогда об этом. Ну, хорошо… любил… Ты хочешь знать! Тревога. Страх. Волнение. Радость. Вот четыре составляющих любви. Наверное… Я переживал, когда ты болел маленький, когда болел взрослый. Ты часто болел. Я волновался, стоя у окна, у входной двери, и на балконе, прислушиваясь к уличным звукам, когда ты не приходил вовремя домой. Тревога терзала меня, когда ты поступал в институт, когда ты ушел с первого курса, когда ты устраивался на работу, когда поступал в институт во второй раз. И я помогал тебе. Ты помнишь? Помнишь?! Должен помнить! И еще я очень радовался, что ты такой умный и красивый. Искренне. Я приучал тебя к спорту. Я не запрещал тебе, как мать, встречаться в девицами. Ну, что еще? С работой помогал. Устраивал туда, куда ты хотел. Так? Ну, что еще?! Когда ты женился, достал тебе квартиру. Ну, это ль не любовь?! – Ты был человеком с обостренным чувством долга, ответственности. Я помню. И поэтому ты жил бы дискомфортно, если бы не делал всего этого. – Называй, как хочешь, мое отношение к тебе, хоть паранойей, суть одна. – Ты никогда не давал мне свой автомобиль, даже когда я просил об этом на коленях и со слезами. – О чем ты, Господи? Ты и вправду маньяк. – И все же, все же… – Машина – это любовница, и я не хотел делить ее ни с кем. Это мое второе я, альтер эго, ты мог бы понять и простить… – Ты никогда не покупал мне вещей, о которых я просил: джинсов, курточек, дубленок, хотя деньги у тебя были, были, я знаю. Ты хорошо зарабатывал в те времена – начальник отдела в генштабовском главке, полковник. – Дурацкие претензии. – Вот опять. И я снова аплодирую! – Мы жили от зарплаты до зарплаты. А частенько я тайком от сослуживцев ходил в финчасть и просил, унижаясь, выдать мне зарплату раньше срока. – Куда же вы девали деньги? Ведь мама тоже работала. – Тратили. – На что? Почему я не видел, на что вы тратили? За машину вы давно расплатились… Копили? Так где же они, накопления? Или ты содержал вторую семью? Я подозревал… – Чушь! Не смей так говорить! Не смей это говорить! – Так. Поговорим о другом. Однажды, мне было уже двадцать три года, я встретил на улице девчонку, с которой познакомился летом на юге. Ей негде было ночевать. Хорошая девчонка, правда. Не блядь, не путана. Обычная симпатичная девчонка из провинции, И я привел ее домой, попросил, чтобы она переночевала у нас одну ночь, всего одну ночь, она уезжала на следующий день. И ты выгнал нас с жестоким равнодушием. Или с равнодушной жестокостью. Называй как хочешь! – Если и все последующие твои упреки сводятся к такой ерунде, то мне жаль тебя! Ты так ни черта и не понял! – А еще… – Хватит! Ты болван! Параноик! – Вот опять. И я аплодирую в который раз! – Сколько влезет. – И все же, все же, может, мои слова и кажутся глупыми, да, наверное, так оно и есть, и все же я чувствую, что ты жил с нами, нет, не с нами, рядом с нами, так будет верней, ты жил нехотя и с раздражением, чувствую, чувствую, жил в силу инерции, что ли, без эмоции, кляня себя за слабость, потому что не решался разом вес разорвать. – Зачем тебе это? Зачем? – Но вернемся к началу. Ты говорил, что после моего рождения ты ощутил себя стариком, хотя тебе было всего тридцать шесть. – И ощутил, и понял, и осознал. И еще ко мне пришло четкое и ясное убеждение, что теперь я буду не жить, а доживать. – Страшное убеждение, – Еще бы. – И до самой смерти это убеждение владело тобой? – Оно жило во мне. Оно росло с каждым часом. – И могло привести к суициду, как часто и бывает? – Не привело, к счастью. Или к сожалению. – А еще ты говорил, что до этого момента ты чего-то хотел в жизни. Или от жизни. А после уже не желал ничего. Совсем ничего? – Совсем. – Так как же все-таки потерю желаний можно совместить с любовью ко мне. Не понимаю. – Элементарно. Именно любовь и держала меня на этом свете. Не желания, не цель. Любовь. – Не понимаю. – Я объясню. Безудержный порыв вперед к достижению цели, к преодолению преград, возникаемых объективно или создаваемых самими нами, работа, занятие делом, делом, приятным или неприятным тебе, но профессионально, постоянное желание смены ситуаций и обстоятельств, стремление к качественному изменению психики, сознания, с помощью пограничных ситуаций, риска, географического перемещения, секса, алкоголя, наркотиков – все это гонит время, а ЛЮБОВЬ – останавливает его. Остановить время и жить, вернее, кайфовать в нем, остановленном, – не это ли мечта каждой человеческой особи на протяжении миллионов лет, с момента возникновения человечества и по сей день? И я тоже мечтал об этом. И моя мечта исполнилась. Я жил в остановленном времени. Потому что я любил. Тебя, Любил твою мать, свою жену. Ее я потом, кстати, любил гораздо больше, чем тогда, когда познакомился с ней. Она была красавица, да. Я добивался се. Упорно и страстно, несмотря на ее равнодушие, несмотря на непримиримую враждебность ее родственников. Но полюбил я ее только после твоего рождения. Истинно. Без всяких там поцелуйчиков и лизаний и обнимашек. Но так же сладко, как и себя. Как голос свой, как мысли свои, как обоняние свое, как осязание свое, как запах, мной испускаемый. Ну, что еще… Любил я и свой автомобиль. Пальцы пылали, когда я брался за руль. Замирал от детского восторга, когда искра поджигала бензиновый дух, когда двигатель с покорностью отзывался на малейшее движение ноги… Любил свой мундир, сшитый на заказ, скроенный с учетом каждого бугорка, каждого изгиба фигуры, подогнанный под биение сердца солдата. И тормознулось время, будто кто там наверху и педалью и ручником одновременно бешеные колеса заклинил. Попробуй сам. Увидишь… – Прости меня. Тогда прости меня. Я понял тебя. Как жаль, что ты сказал мне все это только теперь, когда тебя уже нет и никогда не будет. Никогда. Если бы ты рассказал бы мне все раньше, как счастливы мы были бы. Но жизнь не предполагает сослагательного наклонения. В жизни существуют только понятия «есть» или «нет» и никогда «если бы». Я благодарю тебя, что ты хотя бы сейчас открыл мне мои глаза, открыл мое сердце, помог мне возродить давно исчезнувшее у меня ощущение долгой и радостной дороги жизни, ощущение перспективы моего бытия. О, как я был не прав, папа! – Х-ха-ха… х-хе-хе-хе… И ты поверил, дурачок! Сейчас бы я тяжело вздохнул, если бы умел. Как с вами просто. За прожитые годы я здорово научился притворяться, лицедействовать, дурить людям головы, пускать им пыль в глаза. Я, видно, обладал даром манипулировать их сознанием, создавать выгодные мне ситуации. Я владел дьявольской энергетикой. Но так и не воспользовался предоставленными мне природой и опытом возможностями. А мог бы с их помощью достигнуть многого, МНОГОГО. Я знаю. Не достиг. И знаешь, почему? Не хотел. После твоего рождения не хотел ничего… Совсем ничего. – Господи, и все-таки это так… – Так! Так! Так! И не любил я никого и ничего. Не мог. Не способен. Такой уродился. Такой… Как прискорбно,, что тебя так легко провести. Ты же все видел и, наверное, понимал. Почему я пил? Почему в загулы уходил недельные? Почему прежде чем домой идти, в автомобиле часами сидел, недвижный и печальный… – Я видел, я помню. Ты сидел НИКАКОЙ. Тебя не было, хотя ты был… Мне так хочется, чтобы ты любил меня, папа! – Никакой… Верно… И самое страшное, что я только сейчас смог разобраться в себе, что, почему, как. А тогда даже и не пытался. Не умел. Даже и мысли такой не возникало – разобраться… Я был уверен, что не живу, а доживаю. – Я люблю тебя, папа. – Прости, но я не смогу ответить тебе… – А я вот могу ответить и отвечу. Я всегда любил тебя, милый, и больше, чем детей своих пьяных и внуков, ничем не примечательных. – Это в комнату вошел старший брат отца, дядя Слава. Он умер одиннадцать лет назад, но выглядел неплохо – на свои восемьдесят. Он был в солидном костюме из тяжелого темного материала, в белой рубашке и в сером обезличивающем галстуке. На обеих сторонах его пиджака блистали медали и ордена, роскошно-богатые, наши и не наши, много, до пояса и ниже. А над всеми над ними с левой стороны желто светилась, завораживающе, золотая звезда Героя Социалистического Труда, маленькая, изящная, Дядя Слава почти тридцать лет был председателем очень важного оборонного комитета, входил в правительство, имел трехэтажную дачу в Раздорах, на которой Нехов провел свое детство и отрочество, большую черную машину и много всякого другого, чего остальные не имели, но очень хотели, но не могли, потому что были не такие умные, как дядя Слава и ему подобные. Свою революционную, военную и политическую деятельность дядя Слава начал еще в гражданскую. В девятнадцать лет он имел мандат на право расстрела без суда и следствия по своему усмотрению кого угодно – и тех, и других, и иных, и всяких. Он никогда не рассказывал, воспользовался ли он этим правом и сколько раз. А в газетах об этом не писали. Но все равно, независимо от того, застрелил он кого-нибудь по своему усмотрению или нет, это право, данное ему в девятнадцатом, видимо, отложило отпечаток на всю его последующую жизнь – он был тихим и всеми любимым, и привилегиями пользовался, плача от стыда. Но пользовался, как и все члены его семьи, как и Нехов в том числе. Другого нет у нас пути, в руках у нас сосиска… Лицо его очень походило на отцовское, но выглядело более сытым. А во взгляде таились настороженность и неуверенность. Пуля в нем застряла, не долетевшая до кого-то в девятнадцатом или не добравшаяся до самого дяди Славы в тридцать седьмом. – Розыгрыши на священную для всего мирового человечества тему любви – это, видно, у вас фамильное, дорогой мой дядя Слава, – сказал Нехов, отмахиваясь руками и ногами от покойного дяди. Шнурки на итальянских ботинках развязались и развевались теперь в безветрии, как ленточки снежных парадных бескозырок у матросов разных морей. С ладоней капал пот, и уже залил полкровати, соленый на ощупь, теплый на вкус. Лежать неприятно – под задом мокрит, но Нехову нравится, когда неприятно. – И поэтому позволь мне тебе не поверить, чтобы не вызвать у тебя такую же бурю возмущения, какую у отца, совсем недавно вызвали мои слова о том, что я верю ему, что хочу верить и что без этой веры мне нехорошо, что меня мутит… Но мы не в самолете и рядом нет гигиенического пакета… О, дайте, дайте мне пакет, полбанки за пакет!… – О, о, о, о! – Дядя Слава кривлялся перед Неховым как перед зеркалом. – Не верит он! Смотри ты, какой! Не верит, мать его!… А ты верь!… Взойдет она, и на обломках.,, все пишут, пишут наши имена… Не верит! А кого мне любить-то было? Детишек своих, с малолетства водку трескающих? Пробовал. Не вышло. Кроме блевотины, ничего больше не вышло. Или жену свою толстозадую за ее малый рост, малый рост?… Или за умишко ее воробьиный? Или внуков своих, дурковатого Сашеньку и злобную Машеньку, только и умеющих, что денежки от меня отсасывать? Ну?! А в тебе я сразу стерженек личностный разглядел, в малолетке еще, в людях-то я разбирался, не откажешь, – но виду не подавал, ты прав, почему? А хрен его знает. Стеснялся, наверное. Как так, племянника, мол, больше детей, а потом и больше внуков любить, не хорошо как-то, не по-людски… Во дурак! Когда тебе года два было, я тебе комбинезончик из Китая привез, ты не помнишь уже, конечно, ладный такой– комбинезончик, добротный, яркий. Подарил. Радовался, когда видел, как ты радовался. Из следующей поездки, когда ты уже подрос, опять комбинезончик привез, красивый такой, модный, но уже размером побольше гораздо. Не подарил. Заробел. Боялся, что жена шипеть начнет, дети осколками водочных бутылок вены резать, а внуки ревновать и планы изощренной мести вынашивать. А потом еще машину привез, большую уже, игрушечную классную, спрятал ее в подвале на даче, как и комбинезончик… Так и возил тебе каждый год комбинезончики и машины игрушечные. Комбинезончики все больше размером были и машины тоже увеличивались. Последнюю игрушечную машину таможня пропускать не хотела. Ужаснулась ее размерам и цене, гораздо большей, чем цена автомобиля настоящего… Комбинезоны и машины аккуратно на даче в подвале складывал, в специальный тайник секретно-укромный, большой и вместительный, никому неизвестный, никогда и нипочем. Частенько спускался в подвал, любовался комбинезонами, примеривал их, красовался перед зеркалом, себя тобою представляя, часами в машины играл, радовался, когда видел, что радовался. – Вам повезло, Вячеслав Андреевич, вы тихо умерли, спокойно, во сне, раз и нету. А я вот умирала в муках страшных, в слезах, с криками, душу мою леденящими и влагалище и лицо, а также много других частей тела и внутренностей, – сказала, входя в комнату и садясь на краешек постели (Нехов невольно подобрал ноги в расшнурованных итальянских ботинках, но они все равно тотчас инеем синеватым покрылись тонко) Лена Незабудская, погибшая год назад, на второй день после того, как Нехов прилетел в Москву в отпуск. – Веревка мне попалась шершавая, грубая, а я от волнения естественного забыла намылить ее, не предусмотрительно, короче, поступила, и поэтому, когда я легко, грациозно и почти невесомо спрыгнула с табуретки, на которой стояла, и на мгновение застыв в воздухе в изящном пируэте и затем полетев вниз, обрушилась на суровую веревку, петля не затянулась до конца. И я, бедная, повисла на подбородке, а петельный узел, по-видимому, застрял где-то на уровне затылка. Больно. Страшно. Душно, Но никак не смертельно, никак, никак, как-как-как, как-как, как-как… Я пыталась подтянуться на веревке руками. Но руки у меня слабенькие были всегда, да и к тому же обессилели теперь от волнения и от шока, вызванного начинающимся удушением. Я сучила ногами, я дергала грудями… Они у меня большие, сочные, соблазнительные, и очень красивой порнографической формы… Дергала я также своим аккуратным кругленьким задиком, а также другими частями тела и иже с ними и, разумеется, внутренностями. Но бесполезно. Так и мучилась, пока глаза не вытекли, а язык сквозь нижние и верхние зубы котлетным фаршем не полез, ах-ах, ах-ах! – Твой натуралистический, и одновременно трагический, и одновременно горький, и одновременно любопытный рассказ произвел на меня большое впечатление, – заметил Нехов, стараясь непринужденно, как бы между делом, очистить белый итальянский ботинок от синего инея. Но ничего не получалось. Иней успел уже превратиться в синий лед и негорным хрусталем красиво обволокнул нерусские ботинки, нежарко. – Брррр, – сказал Нехов, передернувшись всем телом от холода. Кровать закачалась тотчас, а вместе с ней закачалась и безглазая Лена Незабудская, и сам Нехов, и пол под кроватью, и кресла, на которых сидели отец и его брат дядя Слава, и сам отец, и его брат дядя Слава. – И я еще могу понять, что побудило тебя на такой исключительный поступок. Каждый думает о самоубийстве. Но я не понимаю, почему ты до этого зарезала своего мужа и двухгодовалого ребенка, – как рассказывали очевидцы, смышленого и шустрого мальчика? Расскажи, Лена! Не стесняйся. Все свои… – («Что я несу? – подумал Нехов вскользь. – Я-то с какого хрена своим стал?».) Поежился. Покрылся мурашками. Хлопнул себя по груди ладонью, сотню мурашек придавил разом. Остальные испугались-разбежались. – Вот именно, – усмехнулась бы Лена Незабудская, если б смогла. – Ты-то с какого рожна своим стал. Ни раньше своим не был, во всяком случае для меня, ни тем более теперь, уже для всех, – она посмотрела на всех, все кивнули кивком, кивая. – А я-то уж и просто тебя ненавидела всегда, ненавижу и сейчас. Ублюдок! Тварь! Скотина! Гнида! – задохнулась, если б смогла. – Один только раз мы трахнулись с тобой, один только раз, и этого было достаточно, чтобы я всю жизнь смертельно ненавидела тебя. Ненавидела до такой степени, что в тех, кто был рядом, кто проходил мимо, кто касался меня или не касался меня, видела тебя и только тебя, одного лишь тебя. На экране телевизора – ты. На портрете любимой бабушки – ты. В морозильном отделении холодильника – ты. В птичке за окном – ты. В льющейся из крана воде – ты. В зеркале – ты, опять ты. В муже моем, некогда горячо любимом, – снова ты… Я пыталась найти тебя и безбоязненно и прямо выразить тебе свою ненависть. Но ты был далеко-далеко, мой ненавистный. Я обивала пороги военкомата, требуя послать меня на фронт, туда, где воевал ты. Я должна была, я обязана была сказать тебе, как я ненавижу тебя, как я хотела бы прижать тебя к себе, к своей красивой порнографической груди и душить, душить тебя, мерзавца гадского. Но краснолицые офицеры смеялись надо мной, и грубо заигрывали, и даже пытались лапать потно, ах-ах, ах-ах… И я решила забеременеть. Вынашивая дитятко, беспрестанно смотрела на твой портрет. По-старинному преданию, таким образом древние женщины добивались сходства своих кровинушек с истинным предметом обожа… ненависти, оголтелой, лютой ненависти. Родился мальчик, слава Богу. Месяц прошел, другой, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый – он не похож на тебя. НЕ ПОХОЖ! Хорошо, сказала я себе, подожду. Ждала. Еще месяц, два, три, четыре, пять, – Лена заплакала, если б смогла, – шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать – НЕ ПОХОЖ! Так кого же теперь я могла бы ненавидеть? Кого бы могла, придушивая, прижимать к своей чудной материнской груди? Этого НЕПОХОЖЕГО?! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет!… И не выдержало сердце матери, я не смогла его ненавидеть и я стала его ненавидеть! И тогда поняла, что жить так нельзя больше! ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ! И зарезала свое зернышко тупым столовым ножом… К чертям собачьим! – Ай-яй-яй, как нескладно вышло, – посочувствовал Нехов, – ай, яй, яй! Ну хорошо, а мужа, мужа-то какого хрена замочила тем же тупым столовым ножом? – А чтоб знал, паскудина, чтоб знал… – Ага… Тяжело было резать металлом-то неточенным, а? – Ох, тяжело… Но я не ропщу, нет, ведь, собственно говоря, а что легко-то было в той жизни? Ну что? Кран на кухне починить, и то какая морока, а ты говоришь… – Не знаю, как насчет крана, а на похороны-то мои прийти не трудно было, – сказал, входя в комнату сорокалетний, примерно, мужчина, невысокий, большеголовый, с красными близкопосаженными (кем?) глазами, лысоватый. Мужчина осмотрелся, подыскивая место, где бы пристроиться. Пристроился. Встал возле кровати, вытянувшись, как часовой у Кремля. – Но ты не пришел, – продолжал мужчина с недобрым укором. – А мог бы, но не пришел, а мог бы, но не пришел, хотя мог бы прийти. Ты же ведь мог прийти? Тогда почему не пришел, если мог, а? Мог же, правда? Но не пришел. Это учитывая, что мог, однако не появился на моих похоронах, хотя, вне всякого сомнения, совершенно спокойно, мог взять и прийти – не пришел… – Кто вы? – прервал его Нехов, влажнея на собственных глазах, будто под душем находился, пущенным на всю душевую катушку. Нехов булькал и истекал пахнущей хлоркой жидкостью, по виду напоминающей воду, обыкновенную, канализационную. – Как? Ты не помнишь меня? – искренне– удивился мужчина, сажая близкопосаженные глаза далеко (так вот кто их сажает). – Мы вместе учились на, «четыре» и «пять» в первом классе, в первой четверти. А потом мы с родителями переехали в другой город, и я стал там тоже учиться на «четыре» и «пять»… И ты меня не помнишь? Ну, ты подонок, подонок!… – Позвольте… Но я даже не знаю вашей фамилии и имени, и тем более не знал, что вы умерли. – Мог бы узнать. Это не так сложно. Позвонил бы ко мне домой, и тебе сообщили бы, когда похороны. – Но я даже не имел понятия, где вы живете? В каком городе! – Мог бы обзвонить все города нашей великой Родины и узнать, в каком из них я прописан, а узнав, позвонить ко мне домой, где бы тебе и сообщили, когда мои похороны. Это просто. А ты не сделал этого. Не люблю тебя, не люблю! – Но я даже не знал, что вы существуете! Я не помню вас в первом классе, потому что я сразу пошел во второй! – Ну и что?! А мог не полениться и узнать, существую ли я или уже существовал, или, может быть, еще буду существовать, а также узнать, как меня звали, зовут или еще назовут. А узнав, обзвонить все города нашей многострадальной Родины и выяснить, в каком городе я прописан. А выяснив, позвонить ко мне домой, где бы тебе и сообщили, когда меня хоронят. Так поступил бы каждый порядочный человек! Не люблю тебя! Не люблю! – А уж как я не люблю тебя, это мало кто знает. Лишь двое, я и я! – сказал, входя в комнату, нестарый, но и немолодой мужчина, в просторном полотняном костюме, в белых тапочках, в вышитой украинским узором рубахе, в соломенной шляпе, надетой почему-то на голову, которая, в свою очередь (голова), обладала лицом пламенного борца за революционные идеалы. – В тридцать восьмом, когда ты понял, что ты враг народа и за тобой скоро придут, ты написал на себя анонимку. Но адрес указал не свой, а мой, Меня арестовали вместо тебя. И расстреляли, конечно, после чего я стал нежив. А ты, воспользовавшись моим именем и наработанным годами авторитетом среди самых широких слоев трудящихся, сделал головокружительную от успехов карьеру. Пользовался черным автомобилем, трехэтажной дачей, еженедельным пайком, отличной медициной и лучшими курортами Франции… Хотя всем этим должен был пользоваться я и я, я и я, я и я, я и я, я и я. Нехов почувствовал, что его нежная привязанность к себе стала приобретать патологическую форму, и он сказал строго: – Вы ошиблись номером, гражданин. Я родился на пару десятилетий позже того, как вас подвергли высшей мере социальной защиты – великому РАССТРЕЛУ! – Извиняйте, именем революции! – сказал мужчина и вышел из комнаты. Вон. Оп-ля! – Нет тебе прощения, а тем более извинения за твое безобразное ко мне отношение, – сказала, входя в комнату, молоденькая, хорошенькая, полногубенькая, большеглазенькая, большегруденькая, длинноногенькая, короткоюбочная, тонкошпилечная и порочненькая, ах, какая порочненькая женщина. Она указывала на меня острым пальчиком и повторяла: – Нет тебе прощения. Нет тебе прощения… Ты перестал пускать меня в свои сны и, соответственно, перестал трахать меня сладко и спермообильно. Как ты можешь не пускать свой идеал, свою мечту? Или ты превратился в машину, в робота, и твой член теперь откликается только на команду «Смирно!»? А я так истомилась, так иссочилась. – Женщина медленным движением потянула короткую юбку наверх, приоткрывая тонкие белые трусики на загорелых бедрах, и кончиком языка принялась старательно ласкать свои яркие влажные губы, светлые глаза черными ресницами и сверкающими веками полузакрыв, шептала: – Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтоб оно за мною мчалось, ну и так далее… – Сунула руку под трусики, пробежала ловкими пальчиками по горячему клитору, простонала: – Ааааа! Ууууу! Ааааа! Ееееее! Ииииии! Ооооо! Ууууу! Эээээ! Ююююю! Яяяяяя! Ведь я моооогуууу уйти и в еще чей-нибудь соооон! Помни! Кончааааааююю!! Аааааа! Ееееее!… Нехов почувствовал, что член его задиристо дернулся и с отчаянной решимостью и быстротой стал набухать и расти, брюки натягивая туго и трескуче; вдоль ноги кипящий, жесткий, протянулся, толстым концом под носок пробрался, попытался в ботинок себя впихнуть с нечленовой силой и упорством, оттаявший, дымящийся, Нехов выгнулся, закрыл глаза – веки скрипнули, понял, что кончит сейчас. И испугался вдруг. Как в детстве во сне, когда поллюция подступала неотвратимо. ОД желаешь ее страстно и пугаешься одновременно острой новизны ощущения.) Так. И когда член долесекундно замер, раскаленно-обжигающий, в преддверии бесстыдно исступленного, созидающе-разрушающего прыжка, через мгновение готовый выплеснуть из себя густой белый, дурманящий неземным ароматом огонь, Нехов заорал, до черной крови разрывая свой единственный рот: – Докооооооле! Хваааатит! Поиздевааааааались! Вууу-уудя! После чего, конечно, все, кто был, ушли, смиренно, и никого больше в комнате не осталось, кто был. И даже дверь не закрыли, потому что и не открывали. А член, обиженный, так и не прыгнул, сморщился, расстроенный, и убрался, недовольный, восвояси, носок только слегка подпалив и алый след у Нехова на левой ноге оставив, угадываемый даже через чесучовые брюки, пошитые (как, впрочем и пиджак) в Токио на шестьдесят девятом этаже Хайриш-билдинга в мастерской великого Ямасото. Сам же Нехов так и остался лежать на кровати – в ботинках оттаявших, наконец, и обмочивших обильно одеяло, – и не сделал даже намека на попытку встать и как достойный хозяин проводить дорогих гостей до дверей. До дома. До могилы. Курил, разглядывая воздух внимательно, и ни о чем не думал, – не решался, боялся… Знал, что любая мысль сейчас – любая – вызовет изнуряющий тревожный зуд где-то под желудком. А зуд, в свою очередь, через полминуты превратится в боль, тупую и томительную. А потом похолодеют пальцы рук и ног и кожа на всем теле натянется сухо, как на солнце после купания, и сделается необычайно чувствительной, чешуйчатой, шелестящей при каждом движении. А потом начнет казаться, что комната наполняется темнотой, хотя за окном день в апогее. Причем темнота займет только верхнюю часть комнаты. Зависнет над головой. И как бы случайно коснется волос. И ужас тотчас выстудит уши, нос, глаза. И если в тот момент по ним ударить легонько, они расколются на части и посыпятся бесшумно на простыню и на подушку. И любое движение чем-либо, а также шевеление чем-либо, как то ногтем, пупком, аппендиксом, удаленным зубом, ЖЕЛАНИЕМ, МЫСЛЬЮ вызовет во всем тебе лютый ледяной пожар, который, конечно, пострашнее любого пожара обыкновенного, если таковой, разумеется, сможет когда-либо возникнуть в человеческом теле. И только смутное, неосознанное предощущение желания лишь нескольких движений (шевелений) будет не пожираться внутренним морозным пламенем (он помнил, он знал) – это извлечение пистолета из кобуры, взвод курка, всовывание ствола к себе в рот и быстрое нажатие на спусковой крючок. БУМ! И никаких тебе пожаров, никаких!… Но перед такими движениями (шевелениями) крутые обычно выкуривают сигаретку – для завершенности, для отточенности процесса, – и Нехов не был исключением, хотя всю жизнь мечтал именно им и быть (исключением), даже среди самых крутых-раскрутых, даже среди немногих, даже среди одного-единственного – СЕБЯ. Он с трудом дотянулся до кармана, достал пачку, морщась, кривясь, вынул сигарету, сунул ее в рот, болезненные стоны не сдерживая, – мебель в комнате гудела, растревоженная стонами, дверца шкафа отвалилась, ножка стула подломилась, закипел коньяк в бутылке, пробку выбив к потолку, руку не чувствуя, поднес к сигарете зажигалку – память жест тот сохранила, – прикурил, выдохнул, закружилась голова, выдохнул дым из легких с шумом, прозрачными мохнатыми струйками дым потек к потолку – тягучий, закручивался в спирали, завязывался в узлы, затейливые многоходовые – некрепкие, так легко и разно, подчиняясь одному лишь закону – Закону Свободы. Завороженный Нехов следил за струйками, не моргая, не глотая и рот не закрывая, теряя вес, и рост, и тепло, и влагу, кровь, себя. И через какое-то время осознал, что он уже не лежит на кровати, а, оседлав самую верхнюю струйку дыма, летает вместе с ней, куда она захочет, восторженный, задыхающийся от радости и не верящий еще, что с ним может произойти такое счастье. Он хохотал беззвучно, он плакал бесслезно, он страдал не страдая, он радовался не радуясь, он жил не живя, он дышал не вдыхая, он любил не любя, он жил без ЖИЗНИ. Так. …Кончилась сигарета, рассеялся дым, и Нехов вернулся. Лежал раздавленный, подавленный, задавленный, задыхался от воздуха, как другие без воздуха, тонул в себе, как другие в реке, давил тошноту, как другие других, кипел в. поту, как другие в бане, рвался к крику, как другие к жизни. Крик не случился – рвота мешала. Мотая головой с выпученными глазами, сомкнув губы, округлив щеки, будто собираясь дунуть в пионерский горн, Нехов приподнялся на дрожащих руках, слез кое-как с кровати, поковылял шатаясь к ванной. Пот водопадом обрушивался с его тела, с одежды. Нехов дымился, как облитая водой огромная седая головешка. Влага жирно блестела на дощатом полу. Добравшись до ванной, Нехов упал на колени, больно ударившись о холодный кафель, протащился еще с полметра, выбиваясь из сил последних, и сунул голову в унитаз, как в петлю, с отчаянной решимостью и со страстным желанием конца. Ходуном ходили плечи, бились ступни о пол, как рыбы об лед, волосы вздыбились на затылке мокрые, затвердели вмиг, зазвенели стеклянно, касаясь друг друга не изредка – всегда. Нехов хрипел, выворачиваясь. А унитаз трясся мелко, распираемый обильной рвотой, пел, несчастный, свою дерьмовую унитазную песню, хорохорясь… Теперь Нехов мог встать с колен – все кончилось, он бил пуст, как помойное ведро после совокупления с мусоропроводом, – и даже мелочь не звенела в карманах, и моча не булькала в пузыре, и дерьмо не чмокало в кишках. Куда что подевалось? Так не бывает… – Так не бывает, – обессиленно пропел Нехов. – Но взгляд твой ловлю… Поперхнулся. Закашлялся. Но улыбался сквозь кашель, чувствовал, что улыбается, хотя и кашлял, но, кашляя, улыбался, рот растягивая в улыбке, и кашлял, а когда кашлял, растягивал губы, улыбаясь, но кашлял, кашлял, откашливаясь – улыбчато, не понимая, то ли от улыбки закашлялся, поперхиваясь и плюясь, доблевывая и дохаркивая, то ли от кашля; развеселился, улыбаясь улыбкой, улыбающейся улыбке-улыбкой, и лишь чувствовал глубинно, что послервотный кашель суть улыбка есть. Те же ощущения испытывает кашляющий послервотно, что и он же, улыбаясь после драки смертельной или после трахания яростного, или после сна кошмарного – освобождение, легкость, зыбкую первобытную радость, когда прекрасным кажется все вокруг, даже собственные раны, откуда, как вино из вспоротого бурдюка, безостановочно и напористо хлещет кровь, даже душный запах натертой кожи, даже желто-зеленая блевотина в унитазе. Не надолго так – жаль. И продлить эти минуты, секунды, мгновения могут немногие. Нехов не может. Он хуже их. Он лучше их. Он – другой. Я лучше, я хуже, я просто другой, или рано еще, или поздно уже, сколько мне лет, сколько у меня тел, она кончала только, когда на нее смотрели, как ее звали, я не любил ее, но у нее была классная походка и нежные пальцы и на ногах, и на руках, как хреново, что все стареют, унитазы надо увековечить, поставить где-нибудь на большой площади в большом городе огромный белый унитаз с фонтанирующим бачком, слава Богу, я сегодня мало ел, вон кусок котлетки плавает, огурчик недожеванный, плохо и быстро жую, надо тщательней, тщательней, башка не болит и то гут, гут, гут, гут, хорошо, наверное, у Сухомятова были бабки, много, где он их схоронил, царствие ему небесное, где, уже в ушах гудит, херня, пройдет, все пройдет, как же скучно, все, все скучно, даже война оказалась скучной шуткой, а я-то грезил: опасность, смерть, страх, кайф, вот и все, и нет котлетки с огурчиком, смыла их нечистая водица, жевать надо тщательней, тщательней, губа треснула, черт, как бы не была стоматита, так сказал Заратустра, я хочу, чтобы мои книги не читали, а заучивали наизусть, так сказал Заратустра, дураки плохо пахнут, сейчас разденусь и промастурбирую перед зеркалом для полноты ощущений, лень раздеваться, лень курить, лень пить, лень идти, лень сидеть, лень лежать, лень спать. Какого черта я притащился сюда, не сюда конкретно, а СЮДА вообще, я просил? Я просил? Зубы почистить, паста горькая, очень клево, когда баба жует розовую жвачку, большой-большой кусок, причмокивая, облизываясь, нарочито медленно, вкусно, некоторые зеркала мутнеют и темнеют, когда я смотрюсь в них, стоит мне отойти, и они снова проясняются, это зеркало вроде пока спокойно, а вчера оно было спокойно или позавчера? Не помню, твою мать, не помню, откуда волосы в раковине? Я же не брился, не стригся, я не люблю не само Черное море, я не люблю его побережье – потное, душное, тревожное, отупляющее, но не везде оно такое, наверное, не везде, а глаза у меня вполне нормальные, усталые, внимательные и совсем не безумные, правда, совсем не безумные, я нормальный, так, так, так, пора ребенка завести, с кем? Зачем? Больно саднит в груди, когда я представляю себе своего ребенка, как там писал Розанов, все эти люди, идущие по улице, – умрут, вода пахнет тухлятиной, но холодная, как они умудряются сохранить воду холодной? Эта Зейна ничего штучка – нога, задница и смотрит, будто кончает, и много знает, сука, много, чем же занимался Сухомятов, когда приходил к себе в номер, дрочил, наверное, весь вечер или тараканов бил, или мочился без остановки до кайфа, самоубийцы – это люди с гипертрофированным желанием жить… Нехов вернулся в комнату причесанный и умытый, но небритый, по пояс обнаженный, с прозрачными капельками – не пот – на гладкой коже. Рубашку оставил в ванной, мокрую, потяжелевшую, соленую. Она со шлепком упала на пол, когда Нехов ее бросил. Она лежала, как половая тряпка, сморщенной горкой, когда Нехов покинул ванную. Никто бы теперь и не подумал, что она по цене дорогая и в престижном магазине кем-то когда-то купленная и на прошлой неделе Неховым и десантниками, вместе, во вражьем караване найденная, тряпка и тряпка, вроде как действительно и половая, раз на полу лежит. В набитом одеждой шкафу Нехов нашел другую рубашку, не менее дорогую, не менее красивую, шелковую и очень голубую и не очень синюю. Надел с удовольствием, прохладе радуясь и шелковому скольжению, ощутив неожиданную легкость в теле и непринужденность в голове. Постарался запомнить это ощущение – пригодится, если запомнить, а если не запомнить, то, конечно, не пригодится. Но он запомнит, если запомнит, это точно. Привычно, не задумываясь над тем, что делает – руки сами без четкой команды работали свою работу, – Нехов проверил наличие патронов в обойме и исправность спускового механизма самого, револьвера – маленького градобойного орудия, приносящего большую радость тому, кто им пользовался (Нехов им пользовался). После этого он вложил кольт в кобуру, висящую на поясе, спереди с левой стороны, замер на секунду, а затем резко выдернул его из кобуры, – в две тысячи пятьсот шестнадцатый и не в последний раз убеждаясь в легкости извлекаемости оружия из той самой кобуры на поясе, из которого только что его выдернул – резко. Пиджак был еще влажный, как брюки. Нехов не помнил, как он их намочил, и постарался вспомнить, почему так случилось. Но не вспомнил, хотя тужился и пыжился до полного телесного покраснения. А раз не вспомнил, то посчитал, что не важно, как и при каких обстоятельствах он намок. Он принял этот факт как необъяснимую данность и как: мужественный – что в общем-то не исключено – мужчина смирился с этой данностью, после чего, собственно, и надел пиджак. Машина стояла там, где стояла, и поэтому Нехов увидел ее тотчас, как только вышел из подъезда офицерского общежития, перед этим кивнув дежурному офицеру, сонному лейтенанту с облупленным детским лицом. А увидев, конечно, сел в нее и завел ее, снял ее с ручного тормоза, нажал на се педали и, когда она стронулась с места, стал крутить ее руль в строго необходимых, разумеется, для безопасной езды направлениях. День подходил к концу. Воздух остывал. И сиденье уже было не таким горячим, как утром, и не обжигало больше зад. Оно лишь приятно его согревало. А вместе с задом согревало также и спину, и нижнюю часть бедер и, конечно же, предстательную железу, что очень важно для любого мужчины, даже здорового пока физически. Небо было чистым. Воздух был чистым. Равнина была чистой. Горы были чистыми. Нехов верил, что когда-нибудь застанет того, кто все это моет так умело и так любовно. Уборка окружающего происходила всегда и непременно в тот момент, когда Нехова либо не было на улице, либо он не смотрел в окно или в дверь, или в щель; либо даже, когда он был на улице, то просто забывал проследить, кто же с таким трепетом и обожанием, с такой почтительной преданностью выбранному уборочному делу чистит, моет или скребет. Но он верил, что все-таки когда-нибудь, потом, совсем в ближайшее время или некоторое время назад увидит, как же совершается эта великая чистка и кем. А если не увидит – не получится, не случится, хотя такого не может быть, то выдернет к себе в контору кого-нибудь из местных и с помощью ума, хитрости, силы, злости, физических воздействий, а также психотропных средств, называемых в обиходе «химией», расколет его или ее, или их на дачу правдивых показаний по данному факту. Так и будет, если не забудет. Товарищ, верь… Он петлял меж машин, меж редких велосипедистов и не редких горожан без велосипедов. А также меж тех, кто лежал, отдыхая на мостовой, на теплом еще асфальте, теряя вместе с ним жар, холодея и знобясь, а может быть, наслаждаясь единением с природой или чем-то еще, чего он, Нехов, не понимал, да и не хотел понимать, хотя интересно. Подбросив газик и многое другое, что находилось в тот момент в прямой видимости, бабахнул взрыв. Грохочущее эхо его прокатилось по соседним кварталам, разнеслось по городу, досаду в людей вселив, – вот опять, ну сколько ж можно, и не надоело, – право слово. Недоверие в людей вселив – кто враг, кто друг? Сомнения в людей вселив – как жить? С кем жить и вообще зачем есть, пить, мочиться, трахаться, лупить детей, спать, вставать, умирать, не заметив, что жили? Стоит ли? Трехэтажный дом, в котором бабахнул взрыв, загорелся быстро: ветхий и сухой, заполыхал лимонно-кроваво, щедро, широко, огненно-густо, с удовольствием. А из окон кричали, в сером дыме задыхались. И махали руками, словно белыми флажками. Прося пощады, передышки, жизни сраненькой глоток. Люди стояли вокруг. Люди сидели вокруг. Люди лежали вокруг. Кто-то охал. Кто-то ахал. Кто-то накачивал велосипедную шину. Кто-то прикурил от отлетевшей головешки. Кто-то проснулся и решил опять уснуть… А какой-то коротконогий толстяк метался возле дома туда-сюда и обратно, то снимал халат, то надевал его, корчился и задыхался от невозможности возможного. Он совался в незагоревшуюся еще дверь и с воплем отчаянного отчаяния шарахался обратно, и задыхался. Две старухи черпали кружками из жестяных чанов питьевую воду и швыряли се в сторону дома. Вода исчезала на лету бесследно. Нехов подъехал ближе. И выскочил из машины, матерясь, растолкал стоящих, сидящих, лежащих и спящих, в благородном порыве добираясь до чанов с водой, когда добрался, поднял один из них и опрокинул на себя. И вырос сей миг. И тотчас вширь раздался. Набухли у него мускулы прямо на глазах. А костюм и рубашка растянулись резиново, мокрые. Еще один чан вылил Нехов на себя. И засветился тогда изнутри светом слабым, но всем видимым. Даже на фоне на редкость буйного и на удивление помешанного пожара можно было различить тот свет. И из третьего чана облился водой – той, питьевой, и еще выше стал, еще больше, еще сильнее, еще смелее, еще светлее. И до четвертого чана очередь дошла и до пятого и до шестого, и до священного седьмого. Огромным стал Нехов, выше всех домов негорящих стал. А свет, изнутри его исходящий,,до самых укромных уголков облезлого, облупленного сумеречного города добрался, – и нор мышиных, и гнезд осиных, и лазов червяковых, и пор цветочных даже достиг. Нехов видел все. Нехов знал все. Стоял, дрожал от возбуждения, неизведанного ни ранее, ни потом, от боли неболезненной, сладкой инеобходимой и от восторга неземного. И это было счастье. Руки раскинул, все обнимая, все губами целуя, глазами объемля все! И дом горящий, трехэтажный. И людей, и зверей. Счастье! Опустился на колени, столб фонарный поломав, не заметив, пальцем горожан от дома отстранив любовно. Попытался влезть в дом рукой, но не вошла ладонь ни в дверь, ни в окно. Только покраснела кожа на руке, только запузырилась бело. Решил тогда Нехов крышу приподнять, а то и вовсе снять. Поздно. Посыпались вниз с громким треском балки перекрытий, застонали раздавленные, шум огня перекрывая, затявкали жалобно, замяукали горестно, зашептали последнее. Еще раз со всех сторон внимательно осмотрел Нехов пылающий дом, но так и не смог решить, как людей и зверей от пожара уберечь, от смерти ужасной спасти. И тогда поднял голову к небу, вдохнул воздуха чистого, много, насколько дыхания хватило и дунул на дом горящий, что есть силы (а силы с избытком было, это к.бабке не ходи) и зашаталось пламя под ветром человечьим, заголосило утробно, кончину свою чуя, опало-упало, сдаваясь. А вслед и дом упал – разом, с громоподобным грохотом, с воплями, криками, стенаниями оглушающими, души рвущими, с ума сводящими, угасающими, угасшими, уже неслышными, теперь бесшумными. Никто не спасся. Никто. Все умерли. Все, все, все. До единого. Горожане стояли, онемевшие, вокруг, не знали, что говорить, что делать. И только коротконогий, толстенький мужичок все бегал туда-сюда-обратно возле полыхающих останков дома, все бегал и бегал, а потом, сморщившись, скинул халат и, не морщась, прыгнул в огонь и сгорел там дотла, а пепел его душеприказчики тут же развеяли по ветру, как он и завещал. А та старуха, что торговала питьевой водой, доллар за кружку, увидев, что ее чаны пусты, очень расстроилась по этому поводу и, расстроенная, побежала к соседнему дому, нашла там в стене водопроводную трубу с крантиком, открыла тот крантик и напилась водопроводной воды до отвала и тут же умерла от расстройства желудка, расстроенная. Нехов же в одночасье потерял тот свет, что был или не был внутри у него. И уменьшился сразу в росте. И в плечах, и в мускулах. И стал таким, каким был. Побрел к машине, питьевой водой истекающий, понурый, сутулый, незнакомый себе и другим, кто его не знал, вздрагивал в такт ударам сердца – весь от пяток до волосков на макушке, часто. Вздрагивая, забрался в машину, с трудом, вздрагивая-, сел на сиденье, вздрагивая, сидел с безликим лицом, вздрагивая. Не любил никого, ни за что, никогда. Вздрагивая, забыл, кто он и как его зовут. И всех других, с кем был знаком, о ком слышал, кого видел, о ком читал, папу с мамой, а также дом и школу, детство и юность, молодость и момент рождения и тем более, что случится, русские и иностранные слова и образы, когда-то рожденные в мозгу, тоже забыл. Но помнил, что в бардачке лежит почата, я бутылка виски, шотландского, двенадцатилетней выдержки «Чивас Регал». Достал ее, вздрагивая, отвинтил коробку, вздрагивая, приложил горлышко к губам, вздрагивая, выпил, пил, пил, пил, пил, пил, пил, пил, пил, пил, пил, пил, пил, пил, пил, пил, пил… И перестал вздрагивать. И сразу все вспомнил. Все. И кто он, и что он, и зачем он. И про все другое тоже, вспомнил, про что недавно забыл. Завел двигатель, поехал, обсыхая на солнце и на ветру. К гостинице подъехал сухой. Но выпимши. Но не пьяный. В самый раз. И сухой. Толпа толпящихся в вестибюле уменьшилась. И теперь отчетливо можно было рассмотреть на полу отдельные фрагменты отдельных узоров, художественно выложенных местными художниками из цветной плитки, полированной, блестящей, отражающей свет негромоздких люстр, висящих под потолком высоким, и бра, висящих на стенах матовых. Пахло духами и духами. Нехов остановился, принюхиваясь, стараясь отличить один запах от другого. Но запахи настолько глубоко проникли один в другой, что один от другого отделить было невозможно. И уже давно. И Нехов это знал, и это его злило – всегда; но всегда, когда он вновь слышал эти запахи, он таки опять старался отличить один от другого. А вдруг сегодня выйдет. Фарт. Случай. Воля. А вдруг! А вдруг! И, кажется, сегодня удалось! Вашу маму! Знал, куда шел, носом шевеля. Потому и приехал. В телефонную комнату он шел. Там Зейна сидела, скрестив тонкие ноги, прячась – не вся – под тонким платьем, мечтая о тонких чувствах, украшенная тонкими наушниками и тонким микрофоном, ждала, ждала… И правильно делала – все придет к тому, кто ждет. И все пришло – Нехов пришел. Когда пришел. Закрыл за собой дверь, замкнул се замком, скромный, посторонних глаз стесняющийся, скромный. – Я люблю вас, – сказал на зейнином языке, приближаясь. – Как увидел, так и полюбил. Это может показаться неправдивым и странным, я понимаю. Но попробуйте поверить. А я попробую доказать. Зейна встала со стула, платье не прикрыло колен, села опять. Влажные губы ее вздрагивали, смыкались, размыкались, мягко, бесшумно. Глаза во все глаза разглядывали Нехова – с головы до ног, – искали что-то на его теле. Зейна сняла наушники и попросила, чуть улыбаясь, чуть волнуясь: – Повторите, плис, я не слышала, что вы сказали. – В наушниках кто-то матерился по-русски, классно. – Хорошо, – охотно согласился Нехов, еще ближе к Зейне подойдя. – Хорошо. Я говорил, что люблю вас. И это в первый раз. Вас. Как увидел вас, так забыл, что есть зло, добро, радость, сладость, утренний сон, пьесы Чехова, золотые птицы, удивлении солнцу, печаль знания, цвет воды, текучесть кадров, нежная кошачья лапка, пение травы, пиво с раками, благоуханье детских слез, исключительная мера наказанья и все другое, что так сейчас не важно. Я помнил только вас… Я говорил, что звучит мое признание странно и трудно в него поверить. Но поверить надо, потому что это правда. И я это докажу. – Вы любите меня? – Зейна растерялась и не могла найтись. Переживая, она оторвала микрофон от наушников, а потом перекусила провод, соединяющий наушники с телефонным пультом. Но мат в наушниках не прекратился и качественно не изменился. – Вы любите меня? Я читала, что так бывает. С первого взгляда. В книгах. Там. Далеко. Где нас нет. И, наверное, никогда не будет. Книги – это не жизнь. А жизнь – это не книги. И вот со мной такое происходит, о Аллах… не верю… – пальцами Зейна терла смуглые колени, колени побелели. – Нет!… – Я докажу, – сказал Нехов. – Я обещал, – он снял пиджак, бросил его на пол небрежно, расстегнул рубашку – все пуговицы, медленно, Зейну разглядывал дурными глазами. – Я докажу, – стянул рубашку и тоже швырнул ее на пол, ботинки скинул, носки и брюки и трусы. Остался голым, улыбался предвкушающе. Температура его сухощавого мускулистого тела поднялась выше обычного. А кожа потемнела, будто еще загорела, еще и еще, и оросилась чистой влагой испарины там, и сям – везде – горя. И изо рта вынырнул пар, тоже горячий, а из члена бесцветная смазка, конечно, горячая. Нехов со звучным чмоканьем отлепил от пола прилипшие к нему жарко-мокрые ступни и шагнул к Зейне, взгляд от нее не отклеивая, глядя на нее у дав но, умело лаская себя руками, возбуждаясь, с хрустом тяжелую слюну сглатывая, пьянея предвосхитителъно, обольстительный и желанный – для любой женщины и для любого мужчины, но не для Зейны – сегодня. Желание ее породило ее испуг. Нехов это видел. А испуг породил злость – на себя и на окружающих, и, конечно же, на того, кто вызвал это желание. У нее никогда не было мужчин – Нехов это понял, это не трудно, – но были мечты, как и у любой девочки, девушки, женщины, независимо от их внешности и вероисповедания. Но только мечты, да и те фрагментарные, обрывочные, боязливые, омрачаемые опасением, что кто-то их подсмотрит, запишет на кинопленку и покажет маме, папе, братьям, сестрам, соседям и их соседям, а так же соседям соседей их соседей, а может быть, даже самому Президенту. И тогда лучше не жить – никогда, нигде, и ни с кем – умереть и не встать. И поэтому Зейна поначалу оцепенела, увидев, как Нехов разделся и стал совсем голым и совсем неодетым, а потом вскрикнула с ужасом и сладостью, упершись взглядом в грозное и готовое к бою Неховское главное оружие – она так часто видела его в запрещенных мечтах и контролируемых снах, – а потом, посветлев темными глазами, потеряла сознание и свалилась с вертящегося металлического стула, почти бесшумно, легкая. Платье ее задралось, обнажив гладкие бедра и черные трусики… Очнувшись, обнаружила, что лежит на столе, но уже без платья и трусиков, с задранными ногами, а перед ней стоит Нехов и разглядывает ее любовно, всю, от сих и до сих, и говорит, смеясь и подшучивая. – Я докажу! Я докажу! – Нет, – закричала Зейна, плача. – Я не хочу! Оставьте меня! Нет! Я не хочу так! – А как? – деланно удивился Нехов, а затем игриво констатировал: – Так тоже неплохо. И удобно. И все видно. – Я хочу, как в книгах, – уточнила Зейна, – и заплакала, плакала… – Чтобы свидания, чтобы цветы, чтобы ухаживания, чтобы объяснения, чтобы любовь! Как в книгах, как в книгах! – молила, ломая губы, ломая брови, ломая уши. – Книги – это не жизнь, – строго поучал девушку Нехов, поглаживая членом ее теплые бедра. – А жизнь – это не книги. В жизни настоящие мужчины доказывают свою любовь только так и никак иначе, иначе никак, – пожал плечами, заметил мудро. – И только так. А как иначе? Вот так. – Я не хочу настоящего мужчину, – прокричала Зейна и стала биться затылком об стол. – Я хочу ненастоящего мужчину! – А с педиками еще хуже. – Нехов опять пожал плечами. – Они не любят женщин и поэтому, как только замечают, что женщины пытаются их соблазнить, сразу начинают с ними драться. – Нехов приблизил свой звенящий от напряжения ствол к самому Зейниному заветному месту. – А если вы имеете в виду не педиков и не настоящих мужчин, а просто обыкновенных мужчин, то вы должны знать, что они не моются и от них плохо пахнет, ну, а если они и моются, то от них все равно плохо пахнет. – Ну и пусть, пусть, я привыкла! – надрывалась Зейна и билась лопатками о стол. – Лишь бы свидания, лишь бы цветы, лишь бы ухаживания, лишь бы объяснения, лишь бы любовь! Как в книгах! Как в книгах! Нехов погладил пальцами промежность женщины, с удовольствием. – Сначала будет больно, – сообщил он добродушно. – А потом пррриятно… – Нет! – закричала Зейна – Ноу! Наин! – И билась ягодицами о стол. – Если вы сделаете это, моя жизнь кончится, меня проклянут родственники, друзья, соседи, все, кто знал и не знал меня. Со мной не будут разговаривать, меня будут сторониться. Дети будут показывать на меня пальцами и обидно меня оскорблять. Мне придется уйти из дома и из города. Но куда бы я ни приходила, весть обо мне будет опережать меня и тогда мне придется умереть. Пощадите! – кричала Зейна, срываясь до хрипа. Пощадите! – И билась теперь всем телом о стол: и головой, и лопатками, и позвоночником, и поясницей, и ягодицами, и бедрами, и икрами, и пятками, и кожей, и волосами, и родинками, и прыщиками, и микроскопическими кусочками грязи, забившимися в кожные поры, и самой кожей тоже. Нехов усмехнулся кривенько, глазом неслучайно свирепея, склонился к лицу женщины, членом ее влагалища касаясь, прихватил ее двумя пальцами за волосы – на голове, – потянул в сторону, больно, проговорил отчетливо и без особой сердитости: – Кто звонил Сухомятову? Кому звонил Сухомятов? Кто звонил от Сухомятова? О чем говорили? Какие имена называли? Какие улицы? Какие бары, рестораны, гостиницы, населенные пункты, номера телефонов? И сегодня, и вчера, и позавчера, и раньше, раньше… – А вы не тронете меня? Нет? Да? Нет? Да? Нет? Да? – допытывалась пытливая Зейна. – Кто звонил Сухомятову? Кому звонил Сухомятов? Кто звонил от Сухомятова? – бесстрастно повторял Нехов, не подмигивая и не улыбаясь. – Не тронете? Нет? Не тронете? Да? Не тронете? Нет? Не тронете? Да?… – Кто звонил Сухомятову? – Не тронете? – Кто звонил? – Нет? – Кто? – Сегодня утром из его номера говорил мужчина. Не полковник Сухомятов. Нет. Другой человек. Молодой. Нервный. Звонил в ресторан «Ламар» какому-то Сахиду. Сообщил, что дело сделано, и после этого долго смеялся. А потом позвонил какому-то переводчику по фамилии, кажется, Нешов или Нетов, или Нехов и женским голосом попросил прийти его в гостиницу «Тахтар». Все! Больше никто не звонил. Никто. Я говорю правду. Поверьте! Вы не тронете меня? – Почему не трону, – искренне удивился Нехов. – Трону, конечно, – добавил просто. – Но… – губы Зейны запали, щеки Зейны опали, а голос Зейны пал. Но потом поднялся. – Но… Вы же обещали… – и снова упал, и больше не поднялся. Голос Зейны. – Обещал, что докажу вам свою любовь, – деловито подтвердил Нехов. – И непременно сдержу свое обещание. Я человек ответственный. Раз сказал, значит, сделаю, то что сказал. Заметано. Железно. Только так, и по-другому я не умею. Я офицер, Зейна. А значит, человек слова. И вы должны меня понять. Обязаны. И с этими честными словами он втолкнул себя в женщину, судьбоносно и непререкаемо. Вскрикнул, натянулся, вытянувшись, весь белый на долю секунды, частично мертвый на долю мгновения, счастливый на еще меньшую долю еще меньшего мгновения. И задрожал затем, себя не помня и обо всем забыв, и о Родине, и о Долге, и о Войне, и о Жизни. И замер потом, с Небом напрямую соединившись. И забился через миг меж длинных женских ног, как припадочный, мать его… Долго бился, пока бился, потом изошел и слюной, и слезами, и нецензурными словами, а в конце концов и спермой нежной и пахучей. Не видел – с Небом говорящий, – как из глаз Зейны взлетают слезы к потолку, доводя его, недавно побеленный, до аварийного состояния. Не слышал ее голоса, оконные стекла крушащего (боль и ужас в голосе, ужас и боль, Зейна сейчас не знает других эмоций, узнает), не чувствовал ожогов от текущей по своим ногам крови – не жил, любил. Когда слух включился и зрение вернулось, он застал себя за тем – врасплох, – что читал стихотворение, которое заканчивалось строчками «Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим». – Да, – прошептал Нехов после того, как стихотворение было прочитано еще раз. – Вон как оно бывает. – Скрестив руки на груди, раздумчиво посмотрел в раскрытое окно комнаты, во двор, на помойку, в историю. Заговорил: – Любил. Именно любил. А сейчас не люблю. Вот еще несколько секунд назад любил, а сейчас нет. Я вообще какое-то время не люблю людей, которым сделал больно, после того как сделал больно. Один вид их и даже воспоминание о них ранят мою и без того израненную душу и портят и без того испорченное настроение и вызывают во мне гипертрофированное чувство неуважения себя. Но проходят дни, а может быть, месяцы, а может быть, годы, а может быть, часы и даже минуты, но никогда не мгновения, – помахал рукой, отмахиваясь, – нет, нет, никогда не мгновения, и, достигнув пика, гипертрофированное чувство неуважения к себе превращается в свою противоположность – в гипертрофированное чувство уважения себя. О да! Необъятного, – Нехов пытался обнять воздух, но обнял себя, с радостью. – Восторженного уважения себя. И прежде всего потому, что сделал то, что боялся, сделал то, против чего протестовала моя сущность, как протестует она у девяносто девяти процентов населения земного шара, сделал то, что общепринято считается мерзким, гнусным, подлым, пакостным, отвратительным, чудовищным, страшным, нечеловеческим… А когда приходит уважение к себе, уходит нелюбовь к другим. Время идет, и кто знает, что случится дальше, кто знает, чем вы будете для меня и чем я буду для вас, кто знает… – и вскинул голову, смотрел в потолок невидяще. – Я ЗНАЮ! Улыбнувшись себе, опустил голову, вес еще за собой наблюдая, все еще робея внутренне – заглазно, забровно, злобно, загрудно, – взял вазочку с цветами, стоящую рядом с телефонным пультом, вынул цветы, бросил их на пол с отвращением. Смыл водой из вазочки кровь с паха, с ног, покрякивая, как в бане, – отдохновенно. А затем оделся быстро и ушел, не прощаясь, закурив. И только, когда за ним захлопнулась дверь, неподвижно лежащая до этого – будто спящая – Зейна открыла глаза и проговорила сладко: – Да? Нет? Да? Нет? Да? Нет? Он поехал обратно на базу той же дорогой, которой и приехал. Решил другой дорогой не ехать. Хотя можно было бы поехать и другой дорогой – левой, по окраинам города, а можно было бы и правой, тоже по окраинам города. Но ехать по окраинам на открытой машине было прохладнее, чем через центр, то есть, чем той же дорогой, которой он и приехал. Светило светило уже не так, как днем, если светило, желто и жгуче, а по-вечернему красно и в туче. И горожане уже сняли халаты и жили в рубахах, а к ночи они снимут и рубахи и будут жить без рубах. И все равно станут выделять пот и другие выделения, потому что без халатов им жить нестерпимо нехолодно – всегда: а в халатах они ночью мерзнут и все время хотят есть, что, впрочем, не мешает им постоянно хотеть есть и когда они не мерзнут. Он поехал обратно на базу той же дорогой, которой и приехал – вопреки инструкции и опыту, которые указывали и подсказывали, что ездить по городу одному нужно всегда разными дорогами и желательно в разное время. Но он все же поехал той же дорогой, хотя ив разное время. И ничего исключительного не произошло. Он без приключений доехал до базы. На сей раз обошлось. А могло и не обойтись. Но обошлось. Поприветствовал часовых, кивнув-мигнув-козырнув. Поприветствовал дежурного офицера в общежитии, кивнув-мигнув-козырнув. Поприветствовал свою комнату, кивнув-мигнув-козырнув. Поприветствовал себя в зеркале, кивнув-мигнув-козырнув. Снял пиджак, бросил его на кровать, прошелся по комнате, кивая-мигая-козыряя, и понял, что сейчас свихнется, если не перестанет кивать-мигать-козырять. Сцепил пальцы рук, сжал веки, голову назад откинул, подбродок вверх вытянув, стоял так, в уме патроны считая. Когда дошел до шестой сотни, почувствовал, что отпустила «кивалка-мигалка-козырялка». Открыл глаза, расслабился, засмеялся, пот с верхней губы слизывая. А слизав солоно и шершаво – снял рубашку влажную от телесных испарений и к пиджаку ее швырнул на сожительство на кровать. И остался обнаженным, всем ветрам открытый, что дули через неплотно прикрытую дверь. Остановившись посреди комнаты, не двигался с места, потому что двигаться не хотелось, так же как и не хотелось и не двигаться. Точно так же, как не хотелось смотреть ни на что, несмотря ни на что. И говорить не хотелось, и молчать не хотелось. И думать не хотелось. И даже подумать о том, чтобы не думать, было противно. А любой звук вызывал раздражение, а отсутствие звука – непотопляемую тоску.МИР
Подавляющее большинство людей, даже порой самые лучшие из них, очень редко смотрят по сторонам, когда идут по улице или когда сидят в кафе и ресторанах, или когда сдут в метро, или в троллейбусе, или в трамвае, или в автомобиле. А если и смотрят, то не видят то, на что смотрят, в неясные пятна сливаются для них дома, люди, кошки, птицы. Они даже не видят, что предстает перед самым их взором. Столкнувшись нос к носу со знакомым, они не узнают его. Они живут в доме номер пятнадцать, а где находится дом номер тринадцать, они не имеют понятия. Увидев возле урны чешую от вяленой или копченой рыбы и брошенные стеклянные банки, они ни за что и никогда не заподозрят, что где-то рядом стоит пивной ларек. Заметив на поясе пистолет у человека в штатском костюме, они даже не задумываются над тем, а кто этот человек с пистолетом, разгуливающий по городу, даже не задумаются, они не отличают (даже мужчины) немногочисленные марки отечественных автомашин и никогда, никогда не смотрят на их номера. Они каждый день в телевизоре видят симпатичную дикторшу, а встретив ее на улице, мучительно вспоминают, где же они видели эту женщину, да так и не могут вспомнить. Они не видят, не чувствуют, не понимают людей, не отличают идиота от неглупого, злобного от равнодушного, грамотного от невежественного, красивого от обыкновенного, самодовольного от ищущего. Они не реагируют на закипающий очаг опасности в многолюдной толпе или на тихой полутемной улице. Поэтому их так запросто и с удовольствием режут и грабят, и насилуют или просто бьют: они сами, глупые, напрашиваются на это. Они к тому же еще и мало чего слышат, хотя и не глухие, а чаще, попросту вообще ничего не слышат. С третьего, четвертого, пятого раза откликаются, когда их зовут по имени-отчеству и фамилии. Шум приближающейся машины для них всегда откровение – они искренне удивляются, когда рассерженные машины пихают их в зад. Они никогда не прислушиваются, о чем говорят люди вокруг, в толпе, в лифте, у мусорных контейнеров, в поликлиниках и далее в очередях. Они умеют ухватывать смысл только в словах своего непосредственного собеседника, только его, и больше никого другого. И еще. Эти люди никогда не меняются, не развиваются (развитие может быть разным), а именно не меняются. Меняется время, меняется качество жизни, меняются ценности, а люди эти не меняются. Да, они принимают (и это в лучшем случае) изменение вне себя, то есть не удивляются ему. Раздражаются, злятся, да, но не удивляются, а значит, принимают; но сами не меняются, не могут понять, а тем более осознать (не дано), что, если вдруг почувствовал, заметил, заподозрил наконец, что ты такой же и что естественным, не насильственным путем ты измениться не можешь, то необходимо заставить себя измениться усилием воли, потому что жить значит меняться – каждый день, каждый час, каждую минуту, каждое мгновение. Никаких принципов, никаких позиций, никакой веры… Мать мою, а на хрена я думаю об этом дерьме? На хрена? А, вспомнил, да, вспомнил. Я, молодец, никогда ни о чем, просто так не размышляю без причины, и тем более так пространно, как сейчас. Дело в том, что человек, к которому я в эти минуты вез Стокова, относился как раз к той категории людей, о которых я только что думал, куря сигаретку и наслаждаясь движением. Эта милая и неглупая и даже, наверное, умная и решительная, и уверенная в себе женщина, к сожалению, не сумела измениться вместе со временем, а потому и не увидела, что люди вокруг за последние пять – восемь лет стали такими, какие они есть, и какие они были всегда. Они попросту раньше таили свое настоящее, потому что могли за него поплатиться, и свободой тоже. Они не изменились, они только стали такими, какие они есть на самом деле. (Плохими стали или хорошими, не знаю, это как судить, и с какой целью, и кому. Но то, что люди не понравились сами себе, когда увидели себя настоящих – это точно… Я представляю себе брюнета, который для того, чтобы не отличаться от всех, как один, блондинов – должен тоже стать блондином. И становится. И уверяет себя, что навсегда. И вдруг через несколько десятилетий ему говорят, что все – время блондинов кончилось, кончилось, и он волен иметь любой цвет"волос, и брюнет смывает краску, и смотрит на себя в зеркало; сначала он не узнает себя, потом не хочет узнавать, а потом начинает ненавидеть себя за то, что уже не сможет никогда перекраситься и снова стать блондином.) С хорошенькой девочкой по имени Нина Запечная мы учились в одном институте, и была любовь у нас, как водится, но недолгая. Нина не убивалась, когда мы расставались, а я так и вовсе не плакал. Потом она работала в Интуристе, после института, долго, лет десять. Познакомилась там с туристом из Арабских Эмиратов, вышла, понятное дело, замуж, хоть и поздно, но с удовольствием. Неглупая была, и, в отличие от многих наших глупых соотечественниц, выходящих замуж за иностранцев, составила брачный контракт, который арабский муж ропотно или безропотно, но подписал. В Арабских Эмиратах Нине не понравилось. «Слишком много арабов вокруг, – рассказывала она мне. – Слишком много арабов. Куда ни кинь взгляд, всюду арабы, куда ни плюнь, опять арабы. Никакой жизни, мать вашу!» И с мужем она развелась. И довольно скоро, и года не прошло. И в суде, умница, доказала, что причиной развода является его измена (а она и вправду его застукала с одной англичанкой на пляже и сфотографировала их) и потому суд по контракту присудил ей приличную часть состояния неверного мужа, около полумиллиона долларов. Нина Запечная приехала домой, осмотрелась, огляделась, погуляла, попила, купила машину, купила дачу, заскучала, позвонила мне и сказала, сказала следующее, она сказала, что собирается открыть в нашем большом городе еще не открытый здесь клуб для женщин, элитарный клуб для жен богатых мужей, с рестораном, с комнатами отдыха, с сауной, с кинозалом, с компьютерами, с парикмахерской, с массажем и так далее и так далее. Она не учитывала, что люди стали такими, какие они и есть на самом деле, и очень не понравились себе такими. Я сказал ей, что через какое-то время одним богатым женам надоест ходить в ее клуб, а другим не разрешат ходить туда богатые мужья, и в клуб станут приходить другие женщины – не жены богатых и просто не жены. И им станет скоро скучно без мужчин и постепенно в женском клубе станут появляться мужчины, как правило, из бизнеса и из уголовно-преступной среды. Они будут париться в сауне, ужинать в ресторане, а после ужина уходить с женщинами в комнаты отдыха. Потом мужчинам потребуются другие женщины и ей, Нине Запечной, придется найти этих женщин. Придется, потому что к тому времени «крутые» мужчины уже не раз проучат хозяйку клуба, и она будет послушная и услужливая. Парикмахерская, сауна и компьютерный зал тоже превратятся в комнаты отдыха, и кинозал превратиться в комнаты отдыха. Короче, женский клуб скоро станет обыкновенным проституточным домом, так просто и непременно. Нина возражала, конечно, называла меня и таким, и сяким, и бранно, и нецензурно что-то говорила о моем неверии в людей и о моем полнейшем их незнании. А я повторял ей, повторял грустно, что люди стали такими, какие есть, и они не нравятся себе, и еще я повторял, что нельзя сравнивать с нами никого никогда, даже арабов из Арабских Эмиратов, у нас все по-другому, все, все-все. Твой клуб превратится в проституточный дом. И я знаю об этом совсем не потому, что я ясновидящий или пророк, или кто-то там еще из этой профессии. Я просто не так быстро, как хотелось бы, но меняюсь вместе со временем, и я вижу, что люди стали, какие есть, и они не нравятся себе… Да, так все и случилось, как я говорил, за те два года, с тех пор как Нина Запечная открыла клуб для женщин. Ну может быть, конечно, не совсем так, но вообще так, да. Я не предугадал только (а следовало бы), что ей даже при ее хороших деньгах не дадут в аренду приличное помещение, а дадут не совсем приличное, я имею в виду по размеру. Ни кинозала, ни компьютерной комнаты, ни даже большой парикмахерской она, Нина, оборудовать не смогла. В маленьком двухэтажном особняке в центре города она соорудила гостиную с камином и ресторанный зал – на первом этаже, а на втором этаже – пять комнат отдыха. Комнаты отдыха, по ее разумению, поначалу предназначались для уединения и для интимных бесед, для карточных игр и для других каких-нибудь игр. А вышло, как я и предупреждал ее, все иначе. И богатые жены перестали ходить в клуб, и стали появляться в клубе мужчины, и любовью парочки и троечки стали заниматься не только в комнатах отдыха, но и в туалете, и на лестничных переходах, и в самом ресторанном зале, и в довершение всего наехали на клуб рэкетиры во главе с Сашей Темным и разобрались в первый приход круто – побили посуду, побили женщин, побили охрану и побили Нину Запечную. К концу разборки приехал и сам Саша Темный. И тут… И тут Нине повезло. Саша влюбился в нее с первого взгляда, всерьез и надолго, как могут только влюбляться представители (лучшие представители) уголовно-преступного элемента. Теперь жизнь в клубе текла спокойно и упорядоченно, и богато. Да, богато. Но благодаря усилиям Саши клуб все-таки превратился в настоящий нелегальный проституточный или публичный дом, или дом терпимости, или бордель, как хотите, суть одна. Милиция знала об этом, наверное, как знала и о Саше, и его делах. Но взять с поличным клуб было делом крайне сложным, в чисто профессиональном смысле я имею в виду. Ну, клуб и клуб. Ну мало ли кто там случайно трахнулся, за всеми не уследишь и все, и все. Да к тому же дому кое-кто покровительствовал из городских чиновников. Я не знаю кто, но я и не интересовался, а надо будет, узнаю, если надо будет, а пока не надо.) Саша Темный мне не очень понравился, а я ему понравился очень. Так бывает. Не очень понравился он мне потому, что все-таки он был преступник, а я не любил преступников, я могу их уважать (самых личностных из них) за то, что они не хотят быть такими, как и все, но любить… А Темный после второй выпитой бутылки немецкой.водки положил мне руку на плечо, ткнулся в мой лоб своим лбом и очень трезво сказал: «Нравишься ты мне, парень. Ты такой же, как я. Я чувствую, такой же. Много видел, много знаешь, и тебя любят девки, я вижу. Так что мы с тобой похожи, и за это, парень, ты мне очень нравишься». Я-то всегда думал наоборот, имея достаточный опыт общения с людьми, Я думал, что если кто видит в другом присущие ему самому блестящие достоинства, как то: мужественную внешность, остроумие, силу и обаяние, а также, если видит, исходя из этого, восторженно-эротическое отношение со стороны красивых женщин, то тот, другой, тому, первому, никогда, мать мою, не понравится, да более того, другой вызовет в том, первом, яростную и нередко кроваво-смертельную и даже жестоко-убийственную, ну а чаще всего просто нескрываемую ненависть. Я так думал. А оказалось в случае с Сашей Темным совсем и не так (или Саша, подлый, имел какие-то виды на меня, хотя я до сих пор, а прошло уже два года, как я с ним познакомился, так и не понял, какие же все-таки виды имел или имеет на меня бандит по кличке Темный, по фамилии Самочкин и по имени Саша), за что я Темного, конечно, не полюбил, нет, но невольно зауважал. «Всю жизнь мою, как крупнокалиберные пули, прошили женщины, – рассказывал мне Саша Темный. – Но эти пули, то есть женщины, не убивали меня и не ранили меня. Они приятно посвистывали возле уха. Они безвредно опаляли мой член, они угарно пахли разнородными духами. Мама любила меня еще до того, как я был зачат. Поверь. И любя, дала мне жизнь, славная, моя светлая. Она потом утонула в кипящем чане с солдатским вонючим бельем. Она была прачкой, но спала с генералами. Нет гарантии, что и я не генеральский сынок. Потом любила училка в интернате. Я был красивый, да еще и молодой, да еще и свежий. Я помню, пах молоком и мылом. Она трахнула меня. А потом я трахнул ее. И когда я трахнул ее, я понял, что секс мое призвание, и я решил после окончания интерната заниматься только этим. Объектов для траханья было навалом, ты знаешь. Но я как – не исключено – генеральский сынок хотел, чтобы все -было красиво и солидно. Рестораны там, роскошные номера, тонкое и только свежее белье, шампанское в постель… Пять лет я ломал квартиры или врывался в них под видом почтальонов, работников милиции, слесарей, сборщиков макулатуры, нищих цыган и уже.не, помню кого. Я воровал только у тех, кто имел в те годы застоя деньги. А кто имел, в те годы деньги? Чиновники и такие же бандиты, как и я. Я обувал и тех и других, мать их. Кстати, и матерей их имел иногда, да, и сестер, и дочерей, и племянниц, и жен. Особенно жен. И такая жизнь была салатно-разнояркая, ты не представляешь. Ты так не жил никогда, ты не знаешь, что такое, когда нет границ, нет рамок, нет условностей. А потом наступила зима. И на снегу стали оставаться следы. И борзые ментухаи повязали меня, быстро и ловко, суки; я даже до ствола своего не успел коснуться, как кто-то в лоб мне ногой заехал, как кто-то за яйца схватил, а кто-то третий со свистом на руки железки нацепил. Я в первый и последний раз зауважал ментов тогда. Мастерски они меня свинтили. А я ой как люблю мастеров. Из следственного изолятора я сбежал. Следачка моя в меня влюбилась и мой же ствол из вещдоков выловила и мне же в следственной камере передала. После чего я взял в заложники одного тюремного опера и ушел с ним в Нижний. На шоссейке машину обстреляли и подранили меня, суки, и опера, правда, тоже подранили. Даже своего не пожалели, суки. Вот и работай с такими потом, у них и в помине нет никакого понятия о ценности людской единоразовой жизни. Да и опер-то тот тоже козел оказался, все орал в окно: «Стреляйте, ребята, не бойтесь! Убейте его! Убейте, на хер!» Но судья мне лопалась из моего гардеробчика. Втюхалась в меня по самый клитор, мать ее. Кстати, надо будет попробовать мать ее. Я знаю ее адресок. Короче, судья все глазки мне строила, а потом, зассыха красногубая, по минимуму мне дала – семь лет усиленного. Но я, брат, знал, чем дело там, в зоне, кончится. Тем оно и кончилось. К хозяину на зону на лето сестрица приехала, молодая, дебелая, с русой косой. Как увидела меня с гитарой на сцене, когда я в самодеятельности песни битлов наяривал, так и кончила, мать ее, сучка похотливая. Я видел, потекло. Нет, не видел, вру, носом учуял, запашок-то остренький. И что бы ты думал – через год на поселение я вышел. А через еще два на волю. Напоследок я дебелую от души оттрахал. Она была почти мертвая, когда я уходил, почти мертвая… На воле было вольно и назад не хотелось, я часто-часто задышал и, утолив кислородный голод, решил завязать со своей неправедной жизнью и, что само собой разумеется, с преступной деятельностью. Долго, муторно и неясно думал, чем бы мне заняться. И наконец пришел к выводу, что всегда хотел быть диктором на телевидении. И я стал им. Это было несложно. Я зацепил одну телку из руководства телевидения. Ну а дальше все как по накатанному. За этой телкой я отодрал другую, потом третью. Короче, прошел я конкурс, на курсах каких-то там поучился и вышел на телевизор. Мама моя, вот это было ощущение, я один, а передо мной десятки миллионов глаз. Признаться, на первой тогда своей передаче я кончил, обильно, густо и горячо. Это же то же самое, что трахаться, брат, – но только поначалу. Через два месяца я стал скучать, все одно и то же и одно и то же – чужие слова, похожие тексты. И я подумал, а почему бы не стать каким-нибудь телевизионным руководителем. И я нашел жену одного малого из Президиума Верховного Совета, и се муженек рекомендовал меня на очень крутое какое-то место, я уже не помню, какое, с перспективой вообще встать во главе всего Российского телевидения. А мне стало скучно, когда я пробил это место, нет, правда. Я пришел в тот большой кабинет, посмотрел, что и как, и понял, что в этом кабинете через месячишко найдут мой хладный труп – я помру от тоски. И я открыл окошко этого кабинета и сиганул с четвертого этажа. А вдруг не разобьюсь, подумал, – и не разбился. Пока летел, вспоминал, где я закопал свой резервный черный пистолет. Когда приземлился, вспомнил. В тот же день я выкопал ствол и для разминки решил взять сберкассу. Взял се с лету, без стрельбы и крови, к сожалению, но красиво и дерзко. И понял, что вновь живу. Вот, ну а опробовав затем разнообразные формы преступной деятельности, я решил остановиться и остановился на большом рэкете. Это красивое и очень, скажу тебе, прибыльное и веселое дело. Приходишь так на любой завод от души проникнутый, Францией благоухающий, и говоришь директору с улыбочкой: «Давай, мол, сука, переводи на меня миллиончиков двадцать, а то я тебя поколочу». И так хорошо делается, когда в ответ он тебе говорит: «Ой!…» Я совсем недавно, приятель, понял, что я безумен. Но это не самое исключительное. Когда я понял, что я безумен, я не испугался, наоборот, я до сих пор ощущаю обжигающий прилив радости. Я безумен потому, что люблю стрельбу, кровь, насилие, жестокость, хотя вместе с тем я нежен, предан и любвелюбив. Я безумен потому, что истинно люблю жизнь, но нисколечко не боюсь умереть. Я безумен потому, что осознавая, что нельзя лишить человека жизни, ни дурного, ни хорошего, что не имею я права ни перед Богом, ни перед людьми отбирать у них нажитое ими добро, что гнусно и гадко трахать баб на глазах их мужей и любовников, я тем не менее делаю это. Я делаю это, мать мою! Кстати, мать мою пока не пробовал… Я безумен потому что… я, наверное, родился не в том месте и не в то время. Я веселюсь и горюю. Я люблю и ненавижу. Я трахаюсь и мастурбирую. Я… И очень часто мне кажется, что я – это совсем не я, а кто-то очень даже другой» – «Проникновенно, – усмешливо подумал я, выслушав такой длинный и информативный монолог, – берет за душу и за пипиську». Я виду не подавал, но внутренне раскатисто хохотал, пока Саша мне рассказывал про свою жизнь. Но когда он закончил, я неожиданно понял, что он искренен и все, что он говорит, на самом деле так. И дело даже не в том, что он действительно работал диктором на телевидении (я вспомнил его морду) и что он действительно мог занять какой-то высокий чин.на том же самом телевидении, не эта правда дала мне понять, что он искренен. Я это просто почувствовал. И я не знаю, как почувствовал, то ли по дрожи ресниц, то ли по сохнущим губам, то ли по плохо скрытой страстности, с которой он говорил, то ли потому, что он все время нервно и ласково в то же время поглаживал давным-давно сведенную наколку на руке, где, как мне сказала до того Нина Запечная, было когда-то написано слово «мама». Черт его знает, мудака, не могу сказать как, но я поверил ему, и потом поверил себе, что поверил ему. И огорчился не в первый раз -уже с тех пор, как встретил Темного Сашу, когда понял, что поверил себе, поверив тому, что он истинно искренен, и если и фальшивит, то самую малость, которая необходима для того, чтобы подчеркнуть, что говоришь правду. Огорчился оттого, что не смогу высказать Темному Саше больше чувств, чем испытывал при первой нашей встрече и при второй тоже. Дело в том, что люди, говорящие искренне и открыто, считай, с первым встречным (и не только с первым встречным, но и с близкими и более близкими), не могут быть даже уважаемыми, потому как признак нудизма и нездоровой дурковатости у таких людей налицо и на лице. И какое тут может быть уважение, тем более глубокое. И по той же самой причине исчезают основания и для иных, более заметных чувств к таким людям: как то, приязни, симпатии, любви. Это женщины могут любить мудаков. Мужчины их любить не должны, иначе они не мужчины, а как становится заметно, женщины. И теперь, если говорить яснее без всякого того, что может прозвучать многозначительно, а потому смешно и непонятно, а значит, зловредно, мне неинтересен и неприятен тот, кто правдиво и открыто, добиваясь поддержки и сочувствия, подробно и душевно, ища свое отражение в чужих глазах, рассказывает мне о своей жизни, о своих мыслях, о своих чувствах, о своих планах. (Даже если рассказчик крут и агрессивен, и непохож на других, и влюблен в женщину, к которой по сей день испытываю иногда довольно сильное сексуальное влечение.) А впрочем, хрен с ним, с Темным, я редко вспоминаю его, – только тогда, когда прихожу – не часто – заняться любовью с Ниной Запечной или вот как сейчас, когда везу к ней гостя. Над входом в домик Нины, конечно, не висел красный фонарь. И в окнах первого этажа не красовались полуголые и большеротые дамы. Не было и зазывал, не было и стендов с фотографиями предлагаемого товара. Казалось, в доме вообще никто не обитает. Окна на двух этажах были задраены, как люки на подлодках, ни полоски света, ни проблеска огонька от спички или от горящих желанием глаз не могло проникнуть через них. Я знал, что там тяжелые и толстые, как одеяла, шторы, что там светомаскировка, как в этом же городе во время последней войны. Там, даже так: за невзрачной и обшарпанной входной дверью есть вторая дверь, отлитая из танковой брони, с массой ручек и колесиков, с многочисленными замковыми язычками, а в двери окошечко, в окошечко можно высунуть стволы бронебойного оружия и выстрелить в непрошеного гостя. И еще над бронированной дверью есть объектив охранной телекамеры. Кому надо, тот видит, кто пришел, ведь надо же знать, в кого стрелять. Каждый раз, подъезжая к дому Нины Запечной, я удивляюсь, как и почему контора до сих пор не прикрыла этот явный и такой вызывающий публичный дом. Да, конечно, с поличным взять Нину сложно. Да, Нине оказывают покровительство некоторые уважаемые люди, но если захотеть… если захотеть, все можно сделать. Не была бы Нина Запечная моей старинной любовницей и если бы меня кто из той или другой конторы нанял бы по контракту на данное конкретное дело, недели через две я бы обставил дом агентурой, а еще через неделю повязал бы Нину и Сашу, сладкую парочку, допустим, на незаконном хранении огнестрельного оружия, или, допустим, на наркотиках, или, допустим, на распространении порнографии, или, допустим, на развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Можно всего добиться на этой земле, если очень захотеть. Значит, контора не хочет, раз молчит по этому поводу, значит, она согласна. Я постучался сначала в первую дверь, и она открылась автоматически. Я показал язык в объектив телекамеры, и вторая дверь тотчас открылась тоже. Здесь так же, как и в казино, было тепло и уютно, и вкусно пахло духами, пищей и хорошими сигаретами. Я поздоровался с зубастым охранником, посмотрелся во все зеркала сразу, что были в фойе, взял Стокова под руку и пошел к двери, ведущей в Каминный зал. В Каминном зале мы застали только официанта Костю, который ворошил уголья и пел какую-то тягучую песню на нерусском языке. «На каком языке поешь?» – спросил Стоков. «Не знаю», – ответил официант. А он и вправду не. знал. В детстве мама научила его какому-то языку, которым он теперь владел в совершенстве, а что же это за язык, он и понятия не имел, и очень мучился оттого. Я попытался– было ему помочь и опросил своих знакомых лингвистов и языковедов. – Они сказали, что это скорее всего какой-то давно умерший южноафриканский язык. Откуда простая русская женщина из вятской деревни знала этот мертвый язык, оставалось загадкой и по сей день. Официант Костя, ее сын, пытливый и любознательный, прошелся до пятого колена по своей генеалогии, но ответа он так и не нашел. Бледный даже в отблесках красного огня Костя печально сказал мне, что сейчас он позовет мадам Нину и тихо ушел. «Этот парень когда-то был негром», – задумчиво проговорил Стоков, ничего, конечно, не знавший об истории мертвого африканского языка и о Костиной маме. Я от неожиданности сел в кресло и попросил Стокова: «Объясни» – «Просто мне так показалось, когда я взглянул ему в глаза. Просто мне так показалось», – ответил Стоков. Когда пришла Нина, мы сидели в креслах и молча смотрели на огонь, который горел. Тридцать пять не возраст для женщины, а тем более для такой, как Нина Запечная. Невысокая, тонконогая, тонкобедрая, тонкорукая, пухлогубая, большеглазая и короткостриженная вдобавок, она и вовсе была похожа на девочку. К ней одинаково шли джинсы, мини-юбки, короткие и длинные каблуки, сигареты, папиросы, водка в стакане и шампанское в бокале, толстый и худой член, равнодушие и похоть, скандалы и нежное воркование… Иначе говоря, она идеально подходила для той роли, которую играла по этой жизни в данное конкретноевремя. Она поцеловалась со мной и познакомилась со Стоковым. Стоков отпустил ее руку только после того, как спросил Нину, понравился ли он ей, вот так вот сразу, с первого взгляда. И Нина ответила, что, конечно, понравился, потому что ей нравятся все, кто переступает порог ее дома с добрыми намерениями. Стокову ответ явно не пришелся по душе, но он все-таки сумел улыбнуться. То, что Нина ему понравилась, было заметно явно – веки его вздрагивали каждый раз, когда он смотрел на Нину. Точно так же они у него вздрагивали и когда иной раз он переводил взгляд на огонь. Одинаковый эффект производили на него огонь и Нина. Выходит, что той же силой воздействия на него, что и огонь, стала обладать Нина – с первой минуты их знакомства. Я такое встречал, но не часто, и не помню у кого, – кажется, у себя. Огонь тоже оказывал не меня сильнейшее влияние, и даже большее, чем женщина, и даже большее, чем смерть. В огне я видел жизнь, ее сгусток, ее суть, ее свободу, ее насыщенность, ее боль, ее совершенство и ее нежность. И у меня при виде огня не только вздрагивали веки, или щеки, или губы, или пальцы, я всякий раз ощущал еще, как твердеет мой член и как наполняется он горячей густой влагой. Подумав об этом, я невольно перевел взгляд на то место, где у Стокова, по всей вероятности, должны были располагаться его мужские достоинства, и не удивился, увидев там вздутый бугорок. Я усмехнулся, представив себе, как будет вести себя Стоков, если я сейчас подойду к нему и с оттягом щелкну по его бугорку пальцем. Я засмеялся, вообразив себе, как он будет себя вести. Я расхохотался, – увидев почти наяву, что он будет делать, если я подойду и – щелкну. Он, наверное, вскрикнет и вытянется, звеня, и сморщится, наверное, тоже, и в шоке взглянет на нас жалко, а потом отведет глаза и не посмотрит больше на нас ни разу, никогда; или, чуть придя в себя, ударит меня по лбу каминными щипцами или каминной кочергой, или убежит тотчас, не попрощавшись. Да что бы ни случилось, собственно говоря, как бы он себя ни повел, это все равно будет ужасно смешно. Нина спросила меня, чего это я так разошелся. Я сказал, что просто вот так бурно радуюсь тому, что увидел ее, и еще радуюсь тому, что она сегодня в мини-юбке, и еще тому, что от нее так призывно пахнет. И она не поленилась, встала, подошла ко мне и долго, и жадно поцеловала меня в губы. Вот те на, мать мою, а может, и вправду она любила меня еще с тех самых институтских времен (она что-то говорила мне кажется об этом, я помню, или это не она говорила), и любит до сих пор. Она хорошая. И она потрясающе занимается любовью. Но, однако, похуже, чем Ника Визинова, похуже. Это факт. Целуясь с Ниной, по старой привычке не закрывая глаз, я случайно поймал на себе взгляд Стокова. И взгляд тот был не самый удачный из тех, которыми меня иногда одаривал мой однополчанин. Я почувствовал себя мелким вориком, которого Стоков застал у себя на интендантском складе с поличным за кражей нескольких кусков банного мыла. «А где же наш друг Саша?» – поинтересовался я с обаятельной улыбкой и с тайной надеждой, что Темного здесь нет, и что он где-то очень-очень далеко и, может быть, даже и на этом свете. «Ах, ах! – садясь в свое кресло, ответила Нина. – Ох, ох! Маята мне с ним и муета. Он, негодник, в Париже, ищет там для нашего дома французских девчонок, свежих, красивых, профессиональных и неумных». Я заметил, что если кто-то все же и приедет сюда, то насчет отсутствия ума у них в этом случае можно не сомневаться. Официант Костя принес виски, и мы выпили. Стоков больше всех. «Дело в том, – продолжала Нина, – что дело в том. И я сейчас вам расскажу, в чем». И она рассказала. Еще издавна, вероятно, что, скорее всего, и очень даже может быть, с молоком матери, или даже со спермой отца, она впитала в себя, в свою кровь и даже, возможно, в кожу, а уж в мозг и подавно, одно непреложное для настоящего и уважающего себя человека правило, что любое дело надо делать мастерски, иначе его нет смысла делать, иначе от этого дела не будет пользы окружающим и, соответственно, удовольствия тебе, главное, конечно, что не будет удовольствия тебе. И поэтому, если уж случилось так, что женский клуб ее превратился в дом радости, то непременно надо, чтобы он был великолепен и чтобы слава о нем пошла не только по всей России, но и по всему миру. Вай нот? Почему бы и нет? А значит, помимо редкой кухни и вышколенной и дорогооплачиваемой обслуги в доме, естественно, должны быть мастерски работающие женщины, то есть те, которые осознают, какую работу они выполняют, и делают се на высоком профессиональном уровне, отдаются ей полностью и по возможности получают от этой работы удовольствие. Задача перед Ниной Запечной стояла сложнейшая, почти невыполнимая, но надо было знать Нину, а я ее знал, чтобы не сомневаться в том, что задачу эту она решила. Сначала Нина пошла по простому пути, она с помощью друзей, а впоследствии и энергичного и влиятельного Саши Темного, по кабакам и по гостиницам отыскивала смазливеньких девчонок, экзаменовала их на практике и отбирала лучших, из сотни одну, как правило. Но и эту одну из сотни с трудом можно было назвать профессионалкой. Работали девушки вяло, не получая оргазмов, и без выдумки. Даже поговорить с ними после совокупления клиентам было не о чем. Обучать их Нина не захотела, долго и дорого, и совершенно неизвестно, образуется ли из них потом толк. И тогда она принципиально изменила подход к качествам будущих своих сотрудниц. Она решила так (и была права, в прелестное место ее трах!). По-настоящему красивой женщиной может быть только умная женщина. По-настоящему профессиональной может быть только умная и образованная женщина. И Нина стала искать по-настоящему красивых и умных женщин. Найти таких среди гостиничных и ресторанных проституток и даже среди проституток по вызову практически было невозможно и потому искать их нужно было среди так называемых добропорядочных женщин, среди тех, кто, как правило, не удовлетворен семьей или отдельно мужем, любовником, или просто своей жизнью. И Нина нашла таких. Правда, только троих. Но и это уже много. Это так. У девушек была своя профессия, интересы, пристрастия, У одной из них был муж и дети. У двоих, разведенных, имелись любовники. Девушки приходили сюда не каждый вечер и не каждую ночь, но тем не менее они через некоторое время являлись уже золотым фондом дома, его гордостью (его лицом и влагалищем). Несмотря на то, что они стоили дорого, на них записывались в очередь. Работали девушки самозабвенно, изощренно, не халтуря и с удовольствием – в отличие от остальных четверых своих простушек-коллег, выбранных Ниной из проституточного контингента гостиниц и ресторанов. Так было. А вот что случилось потом. Суть дам и первой, и второй, и третьей оказалась сильней, и вскоре уже без удержу завозилась, пытательно стараясь выбраться наружу, настойчиво и назойливо пробиваясь сквозь схватки оргазмов, сладость сознательного и бессознательного отключения из мира сего во время работы (то есть во время актов совокупления) и тихое успокоение от обильного наличия русских и нерусских денег, – и у первой, и второй, и третьей. Первая – Алена – имела профессию журналиста (я знаю Алену, я экзаменовал ее на практике по просьбе Нины Запечной, я поставил ей тогда удовлетворительную оценку, я не мог поставить больше, Нина бы обиделась, я умный), и работала в большой газете. Примерно, не боюсь не сбиться со счета, после двух месяцев пребывания Алены у Нины в ее ласковом доме, Нина стала замечать, что многие высокопоставленные клиенты (их было достаточно – политики, экономисты, ученые и всякие там еще кто-то) задерживаются у Алены больше положенного времени (доплачивая, конечно, потом необходимые деньги) и выходят потом от женщины задумчивые и не всегда приветливые, а иной раз и грустные, а чаще всего что-то шепча про себя что-то типа: «Не дадим погубить четвертую власть!… Информация и еще раз информация». А некоторые, то и дело конвульсивно хватаясь за ручку, вынимали блокноты и судорожно что-то записывая в эти блокноты, страстно икая, и по-стариковски пуская слюну. Нина стала ломать голову. Но сломать ее так и не смогла. Голова у Нины была крепкая. Через какое-то время точь-в-точь такая же ситуация стала повторяться и с клиентами Марины (Марине при тщательной экзаменовке я тоже поставил оценку «удовлетворительно», но с плюсом). Некоторые клиенты стали приходить к Марине с портативным, а иногда и не с портативным компьютером. То и дело во время «сеанса» в комнату к Марине и клиенту входили секретари, помощники и иные сотрудники того или другого высокопоставленного деятеля. Пытаясь найти ответ, Нина еще раз внимательно просмотрела подробную анкету Марины и к своему удивлению обнаружила, что Марина, оказывается, является лауреатом премии Мудоса Козлоса, ежегодно присуждаемой лучшим экономистам Европы. Нине показалось тогда, что голова ее стала давать трещину. И трещина та расширилась и увеличилась еще более (Нина, пальцами разделяя волосы на темечке, показывала нам трещину, замазанную, по се словам, алебастром, но мы трещины не видели и запаха алебастра не услышали; наверное, сочиняла Нина Запечная про трещину), когда она увидела, как-то утром раньше раннего придя на работу, разъяристую толпу плохо одетых и дурно пахнущих людей под окнами своего дома с призывными плакатами, где было крупно написано: «Вся власть бедным!», «Нет капиталистам-кровопийцам!», «Кто не работает, ТОТ ЕСТ!», «Богатых – к ответу!», «Не в деньгах счастье!», «Они заставляют нас работать, а мы хотим жить!». Через канализационные коммуникации, с трудом и страданиями, едва не утонув, пройдя через тернии, но так и не достигнув звезд, а только измазавшись в скользких фекалиях и иных прокисших испражнениях, Нина пробралась к себе в дом и, выпив залпом, задыхаясь, стаканчик виски и, нечеловеческими усилиями удерживая глаза в орбитах, вспомнила, что Наташа – третья из трех (моя оценка – «удовлетворительно» с двумя плюсами) является лидером неформальной организации «Рабочая Москва». И тогда она сообразила, рассказывала Нина, почему некоторые из клиентов, с горящими глазами выходя от Наташи, гордо говорили Нине: «С такой женщиной я могу заниматься любовью бесплатно. Не в деньгах счастье». И пытались скоро уйти, не заплатив. Нина поняла, что если и дальше будет работать у нее Наташа, то ее славный дом может превратиться в штаб новой революции, а этого Нина допустить не могла. И поэтому Наташа была уволена первой из трех. А после того, как почти во всех газетах начали появляться материалы Алены, страстные и обличительные, и Алена стала свысока и снисходительно, по-хозяйски разговаривать с Ниной, она тоже была уволена. Возглавив вновь созданный в столице университет, Марина теперь приезжала к Нине в дом на большой черной машине и, как правило, в сопровождении пытливых студентов и задумчивого проректора по общим вопросам. Ответы на вопросы пытливых и распоряжения задумчивому не прекращались, даже во время крикливой работы с клиентами (когда ему хорошо, да и новоявленному университетскому ректору тоже неплохо). Марина так же, как и две другие работницы, была лишена места не без скандала, как водится, но с понятием, ибо по-другому нельзя. «И денег я многих лишилась. И достойных клиентов так мало осталось с уходом тех трех, что составляли гордость и богатство моего чудесного дома, – рассказывала Нина Запечная. – Но иначе я поступить не могла». А Темный, так тот и вовсе радовался такому повороту дела. Он с самого начала не жаловал ни одну из тех троих. «Расстройство от них и разврат, – говорил Саша. – Я понимаю, когда какая-то дура безмозглая за деньги трахается. Она больше ничего не умеет. Это можно. Это как и не срамно даже, и потому можно. Но чтоб умная да образованная, и все понимающая, и отчет себе отдающая, и могущая и умеющая и не так чтобы и плохо деньги себе на жизнь зарабатывать по своей настоящей профессии, чтоб такая занималась проституточным делом – это разврат и падение нравов». Он даже вот что придумывал, ревнитель-рецидивист, – он их пугал-попугивал во время работы (тем самым вредя Нине, конечно, и не всегда полностью того сознавая – в запале, в горячке, неуправляемый). То крыс голохвостых он женщинам в комнату во время приема клиентов подпускал. (Хохоча и постреливая в потолок, наблюдал за тем, как они голые выбегали в коридор, пища и плача, босые.) А бывало одевался в милицейский мундир и давай документы проверять и у девиц самих, и у клиентов, строго и непримиримо, суровый, как сам Закон. А то льда в постель женщинам накладывал, а то и лягушек, если летом то происходило. Или привидением нередко наряжался и забирался под кровать, и не без удовольствия выскакивал оттуда в самый что ни на есть ответственный момент. «Вот, – говорила Нина, – так что, может, и хорошо, что от девчонок мы тех трех избавились, а то неизвестно, что еще было бы…» Стоков после Нининого рассказа, еще один стаканчик виски выпив, спросил, а как это так, что эти так, назовем их дамы, позволяли себя так с Ниной вести, ведь их можно было бы запросто приструнить, пригрозить тем, что расскажу, мол, всем обо всем, что вы тут, потаскушки, делаете. Тут на такие слова захохотал я – как в последний раз (я как только начинаю смеяться, так все время кажется, что в последний раз), – голову закидывая и ногами притоптывая и на Стокова всеми пальцами всех рук показывая. «А что? – недоумевал Стоков. – А что?» – не без добра яростного и законченного на меня глядя. «А то! – говорила Нина Запечная. – А то!» – тоже мой смех поддерживая и, не уступая мне даже ни в громкости его, ни в его искренности (хорошей парочкой могли бы мы быть). «А то, – говорил я, едва-едва ясный смех свой прерывая. – А то, что и так все вокруг об этом знали, как ты должен был понять, мать твою, из рассказа» – «Ах, – тогда схватился Стоков за свои уши и, обезумев будто, попытался вырвать их с корнем, наверное, чтобы не слышать такие мои чистые речи, стонал; Как жить дальше так? А? Ну скажите вы, новые люди, скептики, циники и педерасты?» – «Причем здесь педерасты? – обиделся я, потому что педерастом пока еще не был, – Какое отношение ко мне имеют педерасты?» Стоков не слышал меня – он рвал в кровь свои уши. Когда кровь из-под ушей его стала назойливо капать на недавно официантом Костей вымытый пол, Нина Запечная встала со своего кресла, подошла к стонущему Стокову, вплотную, не спеша подняла свое мини-платье и уткнулась своим лобком, затянутым в шелковые трусики и блестящие колготки, прямо Стокову в нос. Стоков вскрикнул тогда, будто его убили, растянул глаза снизу вверх, немыслимо ранее и тогда же невообразимо и невиданно, с хрустом отнял руки от ушей и безвольно откинулся на спинку кресла, потеряв, по-моему, сознание, если у него когда-то таковое имелось. Не опуская платья, Нина обернулась и вопросительно взглянула на меня. «При всей его внешней крутости, – пожал я плечами, – он очень легкораним. Тяжелую артиллерию тебе надо было пускать в самый последний момент, когда совсем не оставалось бы надежды, что он не оторвет себе уши». Нина согласно покивала головой, опустила платье и вернулась в свое кресло. Мы выпили. Потом еще. Закурив, Нина сказала: «Он так наивен» – «Да, – подтвердил я. – Верно. И это несмотря на то, что он был на войне. И немолод. И много знает. И обладает зрением. И давно уже вращается в кругу людей, для которых нет запретных тем и сфер приложения сил…» Я еще выпил, «Не помню когда, – продолжал я, – давно или недавно, я встретил человека, с которым тоже был на войне. Он теперь работал в МУРе. Был начальником отдела, кажется. Он позвал меня в гости. Мы выпили. Много. Очень много. Почти столько, сколько и сегодня. И я стал забавляться. Я потребовал у дружка, чтобы он вытащил член и показал мне. При всех. При мужчинах и при дамах. А мой дружок застеснялся. Мать мою, застеснялся! Покраснел, начал отшучиваться, Я свирепел, я рычал, я требовал. Меня удерживали, как могли. И тогда мой дружок достал милицейскую дубинку, приставил ее к тому месту, откуда у него рос детородный орган и сказал мне, мол, вот, пожалуйста, это то, что ты просил, и я, как сумасшедший, накинулся на эту дубинку и стал кусать ее, лизать, целовать с урчаньем и конвульсиями… Я забавлялся, я шутил. Я не люблю пресных компаний, а тогда было пресно и скучно… И что бы ты думала? После того как я бросился на дубинку, все застыли в молчании и пребывали в таком состоянии долго, а потом все так же молча и, не глядя на меня, почему-то вынесли стол с закусками и напитками в другую комнату и стали грустно танцевать на освободившемся месте… Они были шокированы, удручены, и не знали, как им вести себя со мной… И это люди, которые каждый день видят смерть, кровь, страдания, слезы, которые крутят педиков и лесбиянок, знают их всех от и до, в подробностях, чем и как, где они занимаются, и сами нередко трахаются с проститутками, да и с теми же лесбиянками, Но, когда увидели и услышали за столом что-то эдакое, на тебе… Реакция, как у гимназисток» – «Они, верно, таким образом защищаются, – заметила Нина Запечная. – Они ведут две жизни. И не хотят, чтобы одна вторгалась в другую. Их психика не хочет. Независимо от воли. А? Как ты думаешь?» – «Я думаю, – не открывая глаз, ясно и четко проговорил Стоков, – что мир сдвинулся набекрень, а я не успел вслед за ним. Я, видно, неповоротлив с детства. Я никак, как ни силюсь, не могу раздвинуть границы своего восприятия происходящего ныне. То, что было хорошо, – -стало плохо. И наоборот. И хорошо ли это то, что наоборот, я тоже не знаю. Мне говорят, что хорошо, но верить ли мне тому, кто такое говорит и, если верить, то на каком основании, если я сам еще не могу самому себе сказать, вот это так или, или это по-другому?» «Запутанно, но понятно», – усмехнувшись, негромко, проговорила Нина. «Мне хочется за что-то ухватиться по жизни, – глядя точно Нине под платье, говорил Стоков, – удержать равновесие. Потому, что я вижу и чувствую, что меня качает. Еще качок, и еще качок, и еще два качка, и три, и десять, и я просто уйду под волны, окончательно и безвозвратно. У меня нет ничего, ни любимого дела, ни любимой женщины и ни любимых детей. А ведь мне еще жить и жить, так я думаю… Да… Некоторое время назад, совсем недавно, я встретил женщину полумесяцем бровь, на щечке родинка, а в глазах любовь. Ах, что это была за женщина! Роскошная! Я такой не встречал никогда. И умная и, по всей видимости, добрая, и, как я предполагал, порядочная. Нас познакомили. Я стал ей звонить. С трудом склонил ее к встрече. Она была крайне доброжелательна, мила и немного таинственна. Я влюбился. Да, вот так сразу. Да, в первый раз. Я мечтал. Я уже видел ее на своей кухне, за плитой, я видел ее выносящей мусорное ведро и блюющей после очередной попойки со мной, я видел ее в тонком прозрачном белье у себя на постели… Ох-хо-хо-хо… во время второй нашей встречи, видя мои горящие глаза и пылающие щеки, она взяла мою руку и положила ее на свою промежность. Я чуть не умер тогда. Или умер. Я не знаю до сих пор. На месте влагалища у нее был большой, хотя и мягкий, мужской член, мать се! Она была транссексуалкой. Она всего месяц назад сделала себе операцию, ей прирастили этот чертов член. Если бы у меня хватило сил тогда, я бы повесился… Что происходит? Как не утонуть? За что зацепиться?» Стоков налил себе привычно полстакана виски, выцедил медленно. И я тоже налил себе и тоже, конечно же, выпил. И Нина выпила вслед за нами. «Мы здорово умеем пить, – подумал я. – Поскольку нормальные люди столько не пьют. После такого количества выпитого они просто умирают, а мы вот пока живы. Правда, никто из нас не знает, зачем мы живы, но это уже дело десятое, это даже не имеет в данный конкретный, как я не раз повторяю, момент никакого значения – ни для кого другого, и ни для нас в том числе». Задумавшись над тем, что я подумал, я, не спохватившись вовремя, икнул безобразно, отворачивая, верно, тем от себя благовоспитанных дам и любезных друзей, чему огорчен был несносно, и даже было заплакал, если бы не надо было сглатывать то, что нынешняя икота выкинула мне в рот – виски, чистое, без примесей желудочного сока. Значит, я опять полон виски, как колодезное ведро водой в погожий летний день, «И интересно, – тогда раздумчиво прикинул я краем всевидящего глаза, ухватывая языки чистопробного пламени, шевелящегося в черном камине, неподалеку от которого все мы, кто был в этой комнате, сидели, каждый на своем кресле, – интересно, – прикинул я, – если я суну сейчас палец в мирно ласкающий наши члены огонь, то загорюсь ли я весь сразу, наполненный крепкоградусным спиртным напитком, или мне надо будет выждать время, чтобы разгореться основательно? И факелом ли я буду гореть, любопытно, или буду тлеть медленно, как печальная головешка?» Я решил не ожидать более и встал, качнувшись, и шагнул вперед, склоняясь влево, вправо, к огню, руку к нему протягивая, левый мизинец, конечно, правой руки к нему вытягивая, И успел уже всунуть его в огонь, как налетел на меня кто-то и обнял, и руки мои к бокам моим поприжал. Я полуобернулся и увидел Нинин носик. Я захотел спросить Нину: «Зачем? Зачем?…» Но не успел. Нина моя вскрикнула и отпустила меня, и запрыгала на одной своей красивой ноге, вторую одновременно обминая пальцами и расчесывая ногтями. Перед ней на полу лежал Стоков и пытался укусить ее теперь уже за другую ногу, зажмуренный и улыбающийся… «Вот что, ребята, – сказала Нина. – Я сейчас принесу вам поесть и приведу вам девчонок» – «Одну, – сказал я и показал один палец. – Ему», – и этим пальцем я указал на лежащего Стокова. «И не сюда, – невнятно проговорил Стоков, не открывая глаз. – А в ресторанный зал. Где много людей. Я хочу се трахнуть там» – «Хорошо, – согласилась Нина. – Идем». Ресторанный зал был небольшой. И всех находящихся там я хорошо видел. Человек десять всего здесь находилось. По двое за пятью столиками. Некрасивые пожилые мужчины с местными девочками. Несколько мужчин я узнал. А они – меня никогда не видевшие (как я их) ни в телевизоре, ни на фотографиях в газетах и журналах, – не узнали меня, понятно. И поэтому я удивился, когда все они разом, не сговариваясь, посмотрели прозрачно на меня или на нас с не совсем еще пока сознательным Стоковым и показали нам розовые, красные, белые, синие и желтые языки (ровно десять штук – я подсчитал). А девочки их засмеялись – тоже все разом, а две из них даже не удержались и описались, распираемые смехом, и скользкие лужицы образовались тут же под их стульями. Все остальные, находившиеся в зале, увидев, что девчонки описались, стали смеяться еще сильней, сильней и сильней, заливаться стали, закатываться, дергаться и корчиться, извиваться и выворачиваться и падать начали вдруг на пол и биться в конвульсиях на гладком паркете. С каждой секундой зрелище становилось все интересней и любопытней. Некоторые из повалившихся, мужчина и две девчонки, принялись яростно раздеваться и, обливаясь потом и стекающими со столов напитками, начали царапать друг друга, мять, бить, душить и резать столовыми ножами и тыкать в разные нежные части тела вилками и непонятно откуда взявшимися отвертками и спицами, и вырывать друг у друга из тела кровавые куски мяса огромными, ржавыми и тоже неизвестно откуда появившимися гвоздодерами. «Классно, – думал я, прикидывая, присоединиться мне к ним сейчас или погодить пока, дождаться кульминации. – Вот это жизнь. Вот это настоящее! И смех, можно сказать, и слезы, и любовь, мать их!» Дальше, естественно, больше. Кто, где, с кем, я уже различить не мог, смешались, можно сказать, люди, кони, а также представители обслуживающего персонала. Больше всех усердствовал действительно оказавшийся негром, причем очень некрасивым и гадким, официант Костя, напевающий сейчас громко и гордо Гимн Советского Союза: «Союз нерушимый республик свободных» и так далее. А другие официанты, выписывая счета, кричали в уши беснующимся клиентам астрономические суммы платежей и мерзенько хихикали, прикрывая своими мохнатыми лапами беззубые кровоточащие рты. А в дверях зала стояла бородатая Нина Запечная и огромной многотонной чугунной лопатой разбрасывала по залу искрящийся голубой снег и приговаривала, путая отдельные буквы: «С Нофым хотом, торокие тофахищи! С Нофым шчастьем!»… Не успела Нина засыпать снегом и половину копошащегося и истекающего кровью помещения, как была сметена, словно ураганом или каким другим ветром, чудовищных габаритов женской грудью с торчащим посередине нее размером с баскетбольный мяч пористым густо-коричневым соском. Круша все на своем грудном пути, сосок со свистом примчался ко мне и, надувшись, ткнулся мне в лицо. «Ох!» – сказал я и укусил сосок – всеми зубами, которые у меня имелись. Сосок страстно вскрикнул и томно застонал, и из него с поросячьим писком и визгом засочился воздух. Не прошло и каких-то пяти суток, как он принял свои обычные, смотря для кого, конечно, для меня и вправду обычные, то что надо, размеры. И только тогда я разжал зубы. «Ты жадный, я люблю таких», – сказал мне сосок низким голосом. Я посмотрел на него внимательно, но говорящего рта на нем не обнаружил. Странно. Да и голос доносился откуда-то сверху. И я тогда посмотрел наверх и там увидел губастое и глазастое смеющееся лицо. Я откинулся назад и только теперь понял, что передо мной не сама грудь по себе, а грудь как часть тела стоящей передо мной девушки в расстегнутой белой блузке. Девушка подмигнула мне» задрала и без того короткую юбку, поставила мне на бедро свое тонкое колено и спросила: «Ты хочешь здесь? Сейчас?» Я шумно выдохнул и помотал головой, отодвинул девушку от себя, чтобы она не загораживала мне зал, и осмотрел все вокруг. Вот это да! Ничего не изменилось с тех ш как мы вошли сюда со Стоковым. Популярные мужчины и безвестные девочки сидели на своих местах и мирно разговаривали, изредка целовались, пили и закусывали. Официант Костя был по-прежнему белым, а Нины Запечной я и вовсе нигде не заметил, ни в дверях, ни в самом зале. Я усмехнулся, потер виски и сказал девочке: «Твои вопросы не ко мне, – и я указал пальцем на Стокова. – Твои вопросы вот к нему» – «Иди сюда», – с металлическим лязгом подняв тяжелые веки, сказал Стоков. Девушка разочарованно взглянула на Стокова, поморщилась и вновь вернулась взглядом ко мне. «Ты огорчил меня», – усмехнулась девушка и, вздохнув, шагнула к Стокову, профессионально подавила неудовольствие, и, улыбнувшись длинно, тягуче проговорила: «Это ты, баловник, хочешь заняться любовью прямо тут, в зале?» Вместо ответа Стоков взял ее за руку, с силой дернул к себе и присосался слюняво к обнаженной женской груди. Девушка повернула ко мне свое лицо, проговорила негромко: «Иногда я очень не люблю свою работу». Я кивнул и отвернулся. «Не отворачивайся, – попросила девушка. – Смотри». Стоков уже поднял ей юбку, спустил трусики, уже расстегнул свои брюки и усадил девушку на колени и, сопя, завозился под ней и выматерился потом. Девушка чмокнула губами, посылая мне воздушный поцелуй. Стоков снова выматерился, копошась обеими руками у себя в промежности. Убрал потом руки, положил их девушке на грудь, стал мять грудь судорожно, дерганно, и опять сунул руку под девушку, вскрикнул истошно, оттолкнул девушку от себя. Остался один на диванчике. Розовый вялый член тут же свалился набок. Стоков взрыкнул, вертя головой, и засмеялся неожиданно, открыл глаза, сказал мне сквозь смех; «Ни хрена не получается. Ни хрена, мать твою!… Попробуй ты. Я хочу посмотреть. Давай!» И опять смеялся, смеялся, смеялся… Я поманил девушку к себе, она с радостью подалась ко мне; обойдя стол, села на мои колени, я поцеловал ее раз, другой и тоже, как и Стоков, столкнул ее со своих колен. Девушка обиженно поднялась, встала возле нашего столика, смотрела то на меня, то на Стокова, в растерянности, со спущенными трусиками, с поднятой юбкой. Сидящие за столиками девочки тихонько захихикали. «И я не могу, – сказал я. – Никак не могу». Хотя, конечно, я врал, я мог, да еще как… Но зачем же обижать и без того обиженного уже однополчанина. «И ты не можешь? – захохотал, показывая на меня, Стоков. – Вот умора!» – «Умора», – подхватил я и засмеялся вслед за Стоковым. Стоков скатился с дивана под стол, хохоча, и я скатился туда же за ним. Хохоча, мы обнялись под столом, и Стоков сказал мне, хохоча: «Я больше никогда не хочу тебя видеть. Понимаешь? Никогда!» Я кивнул, хохоча. А потом мы заснули. Все там же – под столом. Сон. Нет. Это был не он. Потому что снится мне всегда только и только, что я летаю (причем невысоко от земли) или кокетничаю с хорошенькими женщинами (иногда трахаюсь с ними, сейчас – реже, раньше – чаще), или дерусь с хулиганами, бандитами и немецко-фашистскими оккупантами (может, и с какими другими еще оккупантами – по сути, но предстают они, в моих снах, любые оккупанты, как закон, исключительно в мундирах гитлеровского вермахта). Возможны, не берусь с собой спорить, и вариации на темы моих предыдущих снов (например, я могу кокетничать с немецко-фашистскими оккупантами и драться в воздухе с хорошенькими женщинами), где обо всем понемножку и ни о чем конкретно, но с точно обозначенным, всегда одним и тем же набором героев и сюжетных линий (полеты, хорошенькие женщины, уголовно-преступный элемент и оккупанты в мундирах германского рейха)… А сейчас я видел совсем другое – СЕБЯ на верхушке Земли, в длинном плаще с поднятым воротником, с мокрыми от утренней росы волосами и мокрым от утренней росы лицом, спокойного и сильного, с полуулыбкой взирающего вокруг, и прежде всего, на мечущихся с бешеной скоростью людей, одетых и раздетых, с сумками, портфелями и без, в автомобилях, поездах, на танках, ракетах, кораблях, подлодках, на мотоциклах, велосипедах, самокатах, на осликах, волах, телегах, бричках, пони и собаках, потных и от напряжения звенящих, и от боли кричащих, спотыкающихся и падающих и умирающих, и заливающих обильно кровью и себя и тех, кто рядом, и тех, кто рядом с теми, кто рядом, и тех, кто рядом с теми, кто рядом с теми… До меня кровь не доходит, застывает возле начищенных мысков моих мягких дорогих туфель. Я смотрю на людей и не различаю их лиц, не слышу их голосов, а мне и невозможно разглядеть их лица и услышать их голоса – чрезвычайно высока скорость движения людей по сравнению со моей. Сначала мне – я ощущаю – хорошо от того, что я один такой, ОДИН, спокойный, сильный и красивый, в длинном плаще и в классных туфлях, ясноглазый и непечальный, но потом, потом (так это на самом деле, или я так себе просто внушаю, я, набитый чужими мыслями, чужими наблюдениями, чужим восприятием, чужим мироощущением) ловлю себя на том, что молю, молю кого-то, может быть Бога, чтобы хотя бы кто-то из бегущих и мечущихся остановился, и, не боясь, что его могут растоптать и убить напирающие сзади и спереди, и с боков, перевел бы дыхание, перевел бы сердце, умылся бы свежей росой и посмотрел на солнце, молю, чтобы хоть кто-нибудь хотя бы замедлил движение, чтобы я смог хотя бы разглядеть его лицо, я же ведь уже забыл, какое лицо у Человека. Я отвык от его голоса, и я не помню, есть ли у него слух. И я не могу с точностью сказать, не потерял ли он зрение. А мне так хочется, чтобы он увидел меня и услышал меня. Мне есть что сказать ему. Теперь. Раньше не было, а сейчас есть. Я могу говорить долго. Я буду говорить долго. Я знаю, что случится потом, но я все равно буду говорить… Знаю, что кто-то все же остановится. Многие. Но не все. ЛЮДИ. Люди. Они увидят меня. Пока еще молчащего. И половине из них я не понравлюсь. Внешне. Потому что не все же из них окажутся красивей и обаятельней меня, выше и ладней. Они услышат меня. И половине из другой половины не понравится то, что я говорю. Ведь не все же из оставшейся половины так же талантливы и умны. Останутся равные. И они поймут меня и примут без сопротивления. Но поймут, конечно же, не все. И примут, конечно же, не полностью. Двух равнозначных умов не бывает. Так тогда же зачем я показывался им и зачем я сотрясал воздух? Ведь если они не примут меня полностью, то, значит, не примут и вообще. Если поймут, но не вес, значит, не поймут и вовсе. Это так. И тогда у меня будет два пути. Заставить их принять меня до конца, без остатка и оговорок. (Жестокий и кровавый путь. Нет сомнения. И для меня и для них Он обязательно окончится смертью – этот путь. И не обязательно чужой.) Или оттолкнуть их, остановившихся, и вновь придать им скорость, равную скорости всех других. И опять остаться одному, и жить, опять наслаждаясь вечной природой, и собой как нехудшей частью этой природы… И второй путь, так же как и первый, был бы кровав и жесток и со смертью в конце – очень трудно будет толкнуть их обратно, остановившихся. Они не слабые и не так-то просто сдвинуть их с места, И к тому же, я соглашаюсь с собой, да, они не захотят, раз остановившись и насладившись медленным и свободным временем, вновь возвращаться в беспорядочное стремительное и бессмысленное движение своей прошлой жизни. …Немецко-фашистские оккупанты растянулись уже серой цепью по предрассветной дымке, расплавленным жемчугом стелившейся над свежескошенным полем, недавно, вчера, позавчера усеянным мягкими, влажными еще стожками. «Поле, руууусское поооле», – запел было я, но умолк тотчас, заплакав, переполненный чувствами… «Лос, лос, форвертс!» – кричал солдатам захватчик-офицер… и целился в меня из длинноствольного пистолета, сука… Я не спеша достал из кармана отвратительного вида гранату. Что-то тут не так! Диссонанс, дисгармония, дискомфорт, наконец. Сначала я в длинном стильном плаще посреди мечущихся людей, я, ищущий себе равного, я, заявляющий о своем присутствии в этом мире, я, сурово размышляющий о жизни, и рядом немецко-фашистский офицер с длинным пистолетом, и тут же я сам с гранатой. Сон. Нет. Это не он. Потом он. А сначала… Сначала то, чему я еще не придумал название. Тогда, когда цепь гитлеровских солдат стала рассредоточиваться по душистому русскому полю, я открыл глаза. Я лежал под потолком. И потолок тот был мне знаком. Несвежий и потому уже не белый, с длинно-предлинными прямыми полосами трещин и вдоль, и поперек и, главное, с мелкоячеистой паутиной дружелюбного паучка в углу, там, где тень и много чего не видно. Я узнал бы потолок своей квартиры среди десятков тысяч потолков по всему миру, под которыми не просыпался, не просыпаюсь и не просыпался бы впредь. Я видел хорошо, что длинно-предлинных трещин было семь и что четыре из них составляли почти что настоящий ромб, в середине которого я когда-то убил раздутого донельзя от моей крови комара. (Там пятно теперь черно-алое. А ножки и крылышки комара сгнили еще в то лето, когда он погиб. Я разглядывал, близко, без лупы, конечно. Но и так невооруженно было видно, что лапки и крылышки сгнили уже.) Значит, я дома. У себя в квартире. Из которой вышел сегодня. Нет, вчера. Я посмотрел на часы. Да, точно, вчера. И попался в ловушку, удачно организованную парнем по фамилии Атанов. Я раздет, посмотрел я на себя, не пахуч, я понюхал, и один в своей постели, я догадывался. Так не может быть. Что-то тут не так. «Эй!» – крикнул я в сторону свободной от меня части моей квартиры. Никто не отзывался. Да, не исключительно какие-то непонятности, задумался я, сев голым задом на простыне чистой, посмотрел налево, направо, звенящей головой вертя. На той подушке, что рядом, второй, которой у меня давно на постели не лежало, я заметил листок бумажки, испачканный чем-то синим, как оказалось, чернилами, то есть буквами и словами, и составленными из всех них предложениями: «Ты так рвался домой, сукин сын, – было написано там. – Что я уступила тебе. И, верно, в благодарность и ты уступил мне. Ты, наверное, забудешь. А было, было… Спроси у своего малыша. Он расскажет. Я ухожу. Сегодня приезжает Темный. Позвони. Нина». Ни радости я не ощутил, ни огорчения, ни жалости, ни раздражения. «Хорошая девочка Нина», – только сказал я себе. И только. Меня иное сейчас волновало и не головная боль, она пройдет. Мне надо было разобраться, и как можно скорей, срочно, с теми живыми картинками, что мелькали у меня под закрытыми веками, между тем временем, когда я уже не спал, и тем, когда я еще не заснул снова. Это был не сон. Да. Я знаю. Но я не знаю, как назвать то, что было. Я думаю сейчас, как назвать то, что было. И ничего не приходит в голову. Давай-ка я попробую договориться с собой так. Я назову это так. Нет, только обозначу. И не все явление разом. И не само явление, а лишь свое отношение к нему. Итак, сейчас я назову каким-нибудь словом свое отношение к тем живым картинкам, которые я помню в мельчайших деталях, вплоть до цвета волос и глаз у тех, остановившихся… Значит, так, не задумываясь надолго, – живые картинки могли быть видением. Я в длинном плаще, мокрый от росы, улыбающийся и спокойный – это то, что уже есть, это то, какой я сейчас, настоящий, но пока не догадавшийся об этом (сложно найти себя в себе, когда ты весь окутан фантазиями, сомнениями, страхами, чужими мнениями, сложившимися веками оценками, навязанным тебе мироощущением; еще задолго до тебя разложенными по дешевым и дурно сработанным полкам, полочкам и ящичкам для всех одинаковыми представлениями о жизни, о смерти, о любви, о Боге). Но нет. Я льщу себя надеждой. Счастлив был бы я и безумен, произойди такое. Нет. Если бы случившееся было видением, то есть я на самом деле был бы такой – один, спокойный, среди вибрирующей толпы, я, во-первых, в данный момент уже знал бы об этом, и приход этого знания был бы внезапным и необратимым, и тотчас исчезли бы тогда мои сомнения, все, любые, и страхи тоже все, и тоже любые, и уже сейчас здесь, в кровати на чистой простыне, я был бы спокоен, и умиротворен, и уже не пытался бы разобраться в том, что же за картинки видел я между явью и сном. Во-вторых, уже в самый момент видения у меня не возникло бы желания молить Бога или кого-то еще другого о том, чтобы кто-то там еще остановился бы и посмотрел на солнце и посмотрел на меня, мне было бы все равно, остановится – хорошо, не остановится – хорошо. И далее, допустим, остановились – многие или немногие, – мне бы, мне в этом случае опять-таки было вес равно, принимают они меня полностью или нет, понимают ли они все, что я говорю, или нет, Я воспринимал бы мир, каков он есть, и был бы полностью удовлетворен этим миром, каков он есть. Я скажу сейчас так – я видел не себя, какой я есть, я видел Цель. Таким я должен стать. Таково мое предназначение. Путь, Судьба. Я в длинном плаще, мокрый от утренней росы и улыбающийся, один, спокойный, среди мечущихся в погоне за призраками бедных, но не достойных жалости людей. Я. Но зачем, опять-таки, тогда мое управляемое подсознанием воображение показывало мне, что я даже, обнаружив себя в себе, став тем, кем я должен стать, буду молить Бога или кого-то другого о том, чтобы выявились из толпы равные мне, те, которые будут слушать меня и понимать, те, кто примет меня безоговорочно и навсегда? Зачем? Ведь мне же будет тогда все равно – объявятся ли равные или нет. Ведь не могло же подсознание мое просто так нарисовать те картинки с остановившимися, не могло же оно просто так столь остро дать ощутить мне жажду иметь слушателя и зрителя. Наверняка в этом есть какой-то смысл. И я обязан узнать, какой. Но для этого я должен стать. А я не знаю, как стать. Не знаю. Но я должен. И не знаю как. Узнаю ли? Не знаю тоже. Я ничего не знаю. Я должен стать, я хочу стать. Но не имею ни малейшего представления, с чего начать. А может быть, я уже начал? Нет. Тогда мне не было бы так паршиво на этой Земле, мать ее! Или наоборот. Именно с дерьма все и начинается? Не знаю. Мать вашу! Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю!… Разъяренный, рычащий, я изо всех сил стал бить кулаками по своей постели. Долго бил и грамотно, но не помню, сколько времени и каким стилем. Бил так, что до изнеможения, корявого и соленого себя довел, а кровать до слез и стонов. Руки и ноги мои тряслись, волосы на голове в узелки закручивались, а с ушей капал пот и замерзал на мочках сосулькой мутной. И у кровати у самой, ножки тоже тряслись и даже подгибались, а спинка конвульсировала и кривилась, и скособочивалась, некрасиво и неудобно, не замирая, ни на мгновение, все время двигаясь (ерзая и выкобениваясь), не отдыхая и не давая отдыха и мне, так в отдыхе нуждавшемуся после вчерашнего. И после позавчерашнего тоже и после прошлогоднего и позапрошлогоднего, и после прошлолетнего, тридцатипятилетнего, так в отдыхе нуждавшегося. Но не постель, конечно, виновата, что я не отдыхаю сейчас. Я сам же и начал то, что недавно началось. Бил ведь я постель и не отказываюсь. Вот она и отвечает, комфорт свой внутренний и внешний пытаясь таким образом обрести – постель же моя на меня похожа, не любит, когда ее бьют, когда понукают ею и несправедливо обвиняют в чем-то. Я слез с кровати тотчас, как подумал об этом, скользнув по чистой простыне с сухим шорохом гладким задом, голый, и двинул туда, откуда ветер, откуда свежесть текла и прохлада. Войдя на кухню, обнялся с холодным воздухом с удовольствием, как с красивой женщиной какое-то время назад, поцеловал жгучий воздух, потрогал его там, где можно, небыстро, наслаждение получая, прижавшись к нему крепко, радуясь, что он есть, радуясь, что я есть, и оттолкнул потом его ласково, форточку закрывая, широко до того распахнутую, приговаривая: «Потом, потом… Я сам тебя найду…» - Из стародавнего материнского буфета вынул три таблетки «Алказелтесра». Предвкушая освобождение, следил за пузырьками, бегущими от лежащих на дне стакана таблеток, – наверх, к родной воздушной стихии. Выпил потом, конечно, воду и, не закуривая, просто не хотелось, ушел в ванную, где стоял бездумно под душем, и холодным, и горячим, сколько, не знаю, пока не стали плавиться глаза, А как вышел из ванной, не почувствовав облегчения, с беспокойством вспомнил то, что видел между тем, когда уже не спал и тем, пока еще не спал, и направился опять к постели, которая к тому времени успокоилась и даже задремала немного, от меня освободившаяся, и лег на нее, желая по возможности и, не исключая, конечно, неудачи получить ответ или, скажем так, получить расшифровку увиденного и услышанного утром или хотя бы подсказку, каким путем идти или каким способом найти тот путь. Тот путь найти. Путь тот найти… Чересчур медленно, как мне показалось, будто я двигался в воде, как таблетка «Алказелтцера» в стакане, я при-и-и-и-и-и-и-и-бли-и-и-и-и-и-и-зи-и-и-и-и-лс-я-я-я– к сво-о-о-ое-е-е-йййй по-о-о-о-стелии-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-ле-е-е-е-е-г на-а-а-а-а-а не-е-е-ее-е-е-е-е и-и-и-и-и-и-и– у-у-у-усну-у-ул, ма-а-а-а-а-ать мо-о-о-о-о-ою-ю-ю-ю-ю… И ни черта мне теперь не приснилось. И между явью и сном тоже ни хрена не случилось, я спал, как кабан после случки, глухо, черно и глубоко. Открыв глаза, понял, что похмелье отвалило. Слава Богу. Я резко поднялся. Попробовал сделать гимнастику. Сделал без труда. Отжимаясь, усмехнулся. Пью, ширяюсь, курю, а привычка кгимнастике осталась. Задыхаюсь, но работаю. Надолго ли меня хватит? Мокрый от пота, опять, второй раз за утро, пошел в душ. Вышел из ванной энергичный, оптимистичный и полный сил и, к удивлению своему, веселый. Вот именно, к удивлению. С чего бы это я такой веселый? Или что-то я сделал достойное в этом мире? А? Сука! Ты сделал что-нибудь достойное? Чтобы можно было чувствовать себя сильным, энергичным и веселым? То-то и оно, что ни хрена не сделал. Ну, воевал, ну, убивал… И сейчас была бы война, снова пошел бы. Пошел бы. Война это настоящее мужское дело. ДЕЛО. (Только когда не со своими воюешь, с чужим и.) На войне, как ни банально это звучит, осознаешь, что живешь, ж-и-в-е-ш-ь, там чрезвычайно ощущаешь благоуханный вкус времени. Время не исчезает там куда-то, как сейчас, ты его можешь потрогать, время. И ты его можешь попробовать, и ты его можешь увидеть. Но… Но если быть до конца честным перед собой, я не уверен, что моя работа на войне – это самое достойное, что я мог бы сделать в этом мире. Вот так. Кофе я уже пил не такой веселый, каким вышел из ванной. «И хорошо, – говорил я себе. – И хорошо, что невеселый. Радость надо заслужить. Веселье надо заработать. Вот когда заслужу… Вот когда заработаю…» А могу ли я? – в который раз спрашиваю я себя. И в который раз уже отвечаю, что никто не сможет тебе этого сказать, потому как никто не знает, что будет завтра и каким будешь ты завтра. Да что завтра, никто не знает, что будет через мгновение, и каким будешь ты через мгновение. Значит, исходя из этого, получается, что я просто обязан знать, а что же я могу сейчас вот, вот, вот в данную минуту, пока не зашло время так далеко, как оно имеет обыкновение заходить. И теперь вот, когда я так решил, мне надо очень быстро отыскать то дело, про которое я буду иметь право заявить, вот это я сейчас, в данную секунду, МОГУ, или, наоборот, не могу, сука… Я неожиданно подумал, что о таких вещах размышлять голым, каковым я нынче был, не совсем удобно, так как отвлекаешься на внешние раздражители – как-то сквозняки, мухи, крошки под задом на табуретке. Да и вообще голое тело – что мужское, что женское – неэротично. А мне не нравится, когда я неэротичен, я тогда хуже думаю. Я встал и пошел в комнату, и надел там итальянские черные брюки, широкие и модные, вольную американскую рубашку голубого цвета, брызнул на себя одеколоном «Шанель – Эгоист» и принялся думать, что же я умею делать лучше всего. Вот уже несколько лет, всякий раз, когда я думаю, в какую сторону мне повернуться, чтоб выйти на свой путь, то кажется, что еще немного и закончатся мои метания. Уже сегодня, а может быть, даже в тот час, когда я думаю о том, что они закончатся, и снизойдет на меня решение как просветление, после чего лишусь я незаметно того ненужного и мешающего и, наверное вредного, чем забита моя голова все последние годы. И мне кажется, что надеюсь я на избавление не без оснований тому. Основания есть. Как не быть? Я же не полный идиот, чтобы надеяться, нет,, не просто надеяться – верить без оснований. Основания такие: я все время работаю, каждую секунду мое подсознание терзает меня и истязает, и томит, и снова истязает до больной боли, до такой, которой я не испытывал никогда – и на войне тоже (и когда две тонкие пули прошили мне мышцу у самой шеи, не испытывал тоже) и когда-то должен наступить предел и измученное и истомленное подсознание и сознание тоже, конечно (куда ж без сознания) – внезапно (именно внезапно), повернут в какую-нибудь из двух сторон – к умиротворению или к безумию. Меня устроит любой поворот. Лишь бы больше не было так, как сейчас. И я верю, это придет, или то, или другое, скоро уже, да. Нет, опять ошибаюсь, я не верю, я чувствую, я знаю. И я жду. Я жду. Я прошелся по комнате, у окна остановился, но не стал в него смотреть, там ничего нового я пока не увижу, и задернул шторы, плотные и тяжелые, как кулисы в театре. Теперь, наверное, надо обратить себя к себе, как раньше я делал, и после чего мне становилось легче. А то что-то сейчас совсем худо. Так худо, что может случиться так, что я опять, как иногда бывало, когда я пребывал в подобном состоянии, пойду искать героин и найду, и дня два выблюю из жизни, хотя и с кайфом, но без надежды. Или, если удержу себя, тпру, скажу, тпру, то извлеку из тайника, в коридоре, марихуанки и обкурюсь до зеленого поноса, хотя и с кайфом, хотя и с кайфом, но и не без страха, что завтра после кайфа я опять буду мучиться так же, как и сегодня, и вчера. Поэтому я и решил, подавив себя внутренне и заставив забыть себя о наркоте, обратить, как я называл, себя к себе. А означало это выражение следующее. Я включал на автономный режим портативную видеокамеру (японскую «Сони»), я ее с войны привез, вставал перед объективом и разговаривал с камерой, как с собой, ходил, сидел, стоял, лежал и разговаривал, Без вранья рассказывал о том, что хотел, и так, как хотел, зная, что эту запись никто и никогда не увидит (я спрячу ее или сотру). Немножко и играл, разумеется, не без этого, мы всегда хотим выглядеть лучше, чем мы есть на самом деле даже перед собой, хотя не ручаюсь за всех, но я хочу – это точно. Ну да Бог с ней, с игрой. Игра не главное, конечно. Главное то, что я отдавал пленке часть своего беспокойства. И благодаря этому после записи мне становилось легче – на время, конечно, но легче, мать мою! Писал я себя редко, приберегая этот способ психотерапии на крайний случай, когда уже, совсем становилось невмоготу. Я боялся, что, если я буду повторять такой прием чаще, он выхолостится, потеряет свои целебные свойства. Писал я себя раз в два-три месяца, а то и еще реже. Полностью записанных кассет было три или четыре. Я повернулся к книжным полкам, вынул первый ряд книг – «Трех мушкетеров», «Двадцать лет спустя», три тома «Виконта де Бражелона», «Одиссею капитана Блада». За книгами стояли кассеты. Все-таки три четырехчасовые кассеты. Да, решил я, глядя на них, сегодня самое время. Сейчас я буду писать себя. Я достал камеру, вставил в нее чистую кассету, поставил камеру на стол. С грохотом снял с антресолей две мощные лампы на тонких ножках, пристроил их, включил. Белый свет ослепил меня на мгновение. Я зажмурился, проморгался, через минуту привык к ярким лампам. Более того, как и всегда, их свет взбодрил меня, и еще через полминуты, ощутив тепло от ламп на своем лице, я почувствовал, что готов к работе. Я подошел к камере и включил ее, вернулся к стене, возле которой всегда писался, кивнул в объектив, приветствуя себя, и начал: «Сегодня я опять буду говорить о себе. Это понятно. Ни о ком другом я говорить никогда не желал и до сих пор, во всяком случае, не желаю. Может быть, потом, когда-нибудь, но не сейчас. Вот. Поверь мне, мои разговоры не нытье, не жалобы на жизнь. Это попытки, очень искренние попытки, понять, как мне эту жизнь сделать комфортной и радостной. Тривиально, конечно, но это так. Сегодня я попытаюсь рассказать, какие мои мысли, за последнее время пришедшие мне в мою замечательную голову, заставили обратить на себя внимание, удивив ли меня, или огорчив меня, или, что самое прекрасное, обрадовав. Последних меньше, ха, ха… Итак… – я вздохнул и ничего не сказал, усмехнулся, бывает, и снова набрал воздух, и снова ничего не сказал, покрутил головой, вынул руку, правую, из кармана, потер лоб, усмехнулся снова и снова без особой радости, конечно. Я молчу, наверное, потому, что не знаю, что сказать. Другого нет объяснения. Но ведь у меня есть что сказать. Я знаю. Так что это объяснение не подходит. А… Вот что. Понятно. Понятно. Я боюсь повториться. Я боюсь осуждения со стороны самого себя же за то, что могу повториться, за то, что могу сказать то, что уже наговаривал во время прошлых записей. Это все потому, что я чрезвычайно исключительно, и никак иначе и не могло быть, и не будет, и не было по-другому, ой как не хочу обнаружить в себе дилетанта, даже в таком малознакомом мне деле, как устный рассказ-импровизация. Да, да, я боюсь повториться. Какие нежности в нашей промежности… Можно, конечно, сейчас усилием воли подавить этот страх и начать работать опять. Можно. Но я вдруг подумал, что, собственно говоря, неплохо было послушать и то, что я говорил раньше. Я ведь ни разу еще не слушал то, что записывал в прежние годы. Я подошел к камере и выключил ее. Погасил затем лампы. Очутившись в темноте, еще острее ощутил желание услышать то, что я говорил три года назад, два года назад, год назад. Может быть там, в этих записях, я найду истину, которую тогда, в те годы проглядел. Может быть, я тогда не придал значения каким-то своим мыслям или какой-то истории, которая сейчас, с точки зрения меня нынешнего, может оказаться очень важной, нужной, единственной. Херня все это, конечно. Но попробовать надо. Я взял с полки первую в ряду кассету с надписью «17 мая 1989 года, 14 часов 07 минут», включил телевизор, видео и вставил кассету. На экране был я. И никто иной. Такой, каким я предстал пред миром пять лет назад. Высокий, тонконогий, широкоплечий, бледный, с печально-усмешливыми глазами, худой (сейчас я поматерел, хотя мускулов поменьше теперь, тогда я еще по инерции держал форму), длинноволосый и бритый, что очень важно с точки зрения меня сегодняшнего. Я ухмыльнулся и потрогал свою щетину. Чудесная щетина, короткая, жесткая и пока еще не седая. Одет я был тогда в темно-синие джинсы и в красный тонкий свитер, натянутый на голое тело. Неплохо я выглядел – надо отдать мне должное. Я себе понравился. Хорошее начало. Я устроился поудобнее в кресле и сказал, подбадривая себя экранного: «Ну, начинай, дружок. С Богом». Но я пока молчал – там, на экране. Улыбался тихо, едва заметно, не глядя в камеру, переступал с ноги на ногу привычно, как на татами, то вверх глядел, то по сторонам, и вот руку поднял к щеке, погладил щеку легко пальцами и заговорил, наконец: «Трудно так сразу, – сказал и смущенно рассмеялся. – Хотя знаю, что никогда никому эту запись не покажу. А все равно трудно. Чувствую, что могу держаться перед камерой. И мне это даже нравится. Но начать все равно сложновато. Видимо, срабатывает стереотип восприятия, давно с детства внедрившийся к нам в головы, мне в голову, в частности, что когда тебя снимают, то эту запись будут обязательно смотреть миллионы, ну, если не миллионы, то во всяком случае десятки людей – это точно. Поэтому у непрофессионалов и пропадает естественность. А черт! – я мотнул головой и замолчал. – Говорю банальности. Говорю то, что все знают. – И засмеялся вдруг, голову на секунду запрокинув. – Ну, вот опять, видишь, снова сработал страх, на сей раз страх говорить банальности, будто я многоглазой и многоухой аудитории эти банальности говорю, а не только себе одному. Зрителям-то, наверное, нельзя, непрофессионально, да и просто некрасиво говорить банальности – часто, а себе можно. Понимаешь, можно? Нестрашно это. В банальности иной раз, когда повторяешь ее часто, находишь новые оттенки смысла или даже просто новый смысл, который раньше не ухватывал, который раньше никто не ухватывал… Ну вот, вроде я собрался. Прошел мандраж. Потеплели пальцы. И мне стало еще больше нравиться стоять перед камерой и рассказывать себе о себе. И поэтому теперь, наверное, можно начать. Хотя, по-моему, я уже и так начал. Итак! Я родился. А ничего другого ты и не мог ожидать от себя. Если бы я не родился, я бы здесь сейчас не стоял. А ты бы там сейчас не сидел. Факт неоспоримый никем и никогда. Если хочешь переубедить меня, иди сюда, – с нехорошей ухмылкой я поманил себя с экрана и сделал несколько угрожающих жестов и движений, я тогда здорово владел рукопашным боем, чему только ни научишься за четыре года войны. – Иди. Только чур драться насмерть. Не хочешь? Ну и сиди там, успокоившийся и ожиревший придурок. Небось ты уже при семье и вокруг тебя сейчас жена и дети. – Я осмотрелся вокруг, я был один. Много мебели и пыли. – Если так, то у тебя пока еще есть время послать все это на хрен и начать жизнь сначала. И поспеши. Жизнь не такая длинная, как кажется. Ты, наверное, забыл об этом… Ну, хорошо. Короче говоря, я родился. Ну и понеслась. Детство и юность мои были обыкновенными, и я вспоминаю о них с равнодушием. Правда, вот в университете было повеселей. Выпивка, девочки, секс. Все в новинку, все в первый раз… К тому времени я обнаружил, что мне нравиться учить восточные, именно восточные почему-то языки, хотя к Востоку самому я тогда, как, впрочем, и сейчас, относился без особого восторга. Но языки в отличие от английского и французского были сложные, непредсказуемые, многозначные и потому необычайно интересные. И еще мне нравился спорт. Как все приличные мальчики того времени, я играл тогда в теннис. И не без удовольствия, надо сказать. Ты помнишь. Перед окончанием факультета отец помог мне сделать свободное распределение – позвонил кому-то, не помню, кому. Он многих тогдашних крутых знал. Работку я себе по тем временам нашел нормальную. В радиокомитете. На иновещании. Разные дерьмовые передачки записывал для азиатских слушателей. Осточертела мне эта работка, правда, уже через полгода. Скучно. Все время одно и то же. И народец вокруг блеклый. Нерасторопный. Дурно одетый. Заморенный. Забитый. Как и в любой другой, впрочем, организации. Пару лет я, правда, там еще проработал. А куда деваться? Что было лучшее из того, из чего я имел возможность выбрать? Но в конце концов это бесцельное и бессмысленное времяпрепровождение достало меня до самой задницы и я уволился. Целый год я бездельничал. Подрабатывал, конечно, где-то, как-то, но, в основном, жил на деньги родителей. Бездельничал, повторяю. И был прав, как понимаю сейчас. Лучше, как говорят, ничего не делать, чем делать ничего. Я убедился. Это так. А в Афганистане шла война, между прочим, тем временем. Я много думал о той войне, лежа на диване и покуривая сигаретки. Думал, думал, думал. Что конкретно думал, не помню. Что-то вообще… Какие-то образы витали перед глазами, – кровь, трупы, огонь, вертолеты, перекошенные от напряжения, потные лица офицеров, матерящиеся солдаты, почему-то ночные допросы пленных… И что самое важное, пожалуй, представляя войну, я постоянно чувствовал острый страх – вдруг убьют, – внезапно, к изумлению моему, переходивший в восторг, а вдруг не убьют… Убьют, ну что сделаешь, поздно уже что-либо сделать, а не убьют – кайф. Короче, мне казалось, что война – это жизнь. Настоящая мужская жизнь. Не то, что та, которой я живу сейчас, монотонная, тягучая, никакая. Когда мысли о войне уходили, я начинал снова перебирать варианты, чем бы мне все-таки заняться, может, эту работу мне выбрать, а может, ту, а может, например, стать продавцом мороженого или швейцаром, почему бы и нет… Или пойти в милицию, в розыскники. Я видел себя уже вяжущим с криком и матом вооруженных особо опасных… И все же потом опять возвращался к вертолетам, огню и потным лицам офицеров. Когда меня вызвали в военкомат и предложили аттестоваться, получить офицерское звание и поехать в Афганистан работать переводчиком, я долго не раздумывал. Я согласился тотчас же. Я оформлялся втайне от отца, конечно. Если бы он узнал; он нажал бы на все кнопки, и не видать бы мне войны, как своих лопаток. Он работал тогда в Генштабе. Его, конечно, поставили в известность, но, по моей просьбе, уже перед самым моим отъездом, хорошие ребята кадровики попались, как ты помнишь, сами бывшие вояки. Так вот, через два месяца я уже летел в Кабул. Все объяснялось просто, очень мало в нашей стране было тех, кто прилично знал местные языки. По моей же просьбе я был прикомандирован к батальону разведки. В первом же бою я убил человека. Как это было, я рассказывать не стану. Я сегодня и, наверное, в ближайшее время, вообще не буду рассказывать о войне. Наверное, когда-нибудь, потом, когда пройдет время, когда война уже будет существовать хоть и во мне, но вроде как и отдельно, когда она обретет контрастные очертания, конкретные образы, ясные звуки, вот тогда, возможно, я расскажу, как это было на самом деле. Только рассказывать я буду самую суть и словно как не про себя. И начну я примерно так; «Он уже был у двери, когда услышал стон и остановился. У двери». Год назад я вернулся. Живой. Хотя и немножко вредимый. Две пули насквозь пробили мышцу у шеи, и нож однажды пропорол мне пах, вот и все. Я пробыл на войне четыре года. И демобилизовался в звании капитана. Хоть я и служил переводчиком, но воевал как обычный десантник. И я мог теперь уверенно говорить про себя, я – фронтовик. Мне нравилось это выражение. И мне нравилось то, что я на самом деле фронтовик. Мне это нравится и сейчас. И, наверное, будет нравиться до конца жизни. Тебе нравится сейчас, что ты фронтовик? – Я кивнул. – Я думаю, нравится. И мне плевать, кто и как ко мне относится. И мне плевать, что кто-то говорит сейчас, что война эта была неправедная, захватническая и преступная. Я не думал о том, какая это была война, когда уходил на нее. Я знал только, что там настоящая мужская жизнь. Там постоянная опасность. Там всегда рядом смерть. Я знал, что там я или сойду с ума, или начну по-настоящему уважать себя. К тому же я воевал там с чужими, не со своими. На войну со своими я не пошел бы никогда, как бы опасность и смерть ни влекли меня. Да, на той войне я убивал и своих. Но эти свои были предателями, а значит, были чужими… Ну и хватит об этом. Я же предупредил, что пока я не хочу ничего рассказывать о войне. Еще не время. Как-нибудь потом… Напряжения нет. Мышцы всегда расслаблены. Глаза постепенно перестают постоянно реагировать на какие-либо странности на улице, в подъезде, в квартире, на изменение выражения глаз у собеседника, на чересчур торопливое движение его руки в карман, на излишне резкое перемещение чего-либо где-то поблизости от тебя, например машины на мостовой или человека, или группы людей на тротуаре или в ресторанном зале. Исчезает желание смотреть за спину, перепроверяться каждые четверть часа на улице, неожиданно уходить из поля зрения встретившихся тебе знакомых людей, внезапно появляться там, где тебя не ждали, не смеяться, когда действительно смешно, никому и никогда не говорить правду (даже и своим, очень близким, преподносить правду крайне рафинированную) – и быть каждый день разным, – и в одежде, и в манере держаться, и в походке, и прическе, по нескольку раз в день прилюдно менять свое мнение о чем-либо, все равно, о чем, чем, конечно, глубоко изумлять людей, ставить их в тупик, и таким образом не давать им возможности составить какое-либо мнение о тебе… Но никуда не делось, поверь, желание убивать. Не уверен, что оно исчезло и у тебя, будущего, сейчас слушающего меня. Это желание настолько сильно врастает в тебя, что становится неотъемлемой частью тебя, и отделить вас друг от друга – тебя и это желание – может только смерть. – Я, нынешний, сказал в этот момент; «Ну, ну, продолжай. Пока я не совсем согласен с тобой». И закурил сигаретку. – Убивая, ты уравниваешься с Богом. То есть ты можешь не только дарить жизнь, как и любой из людей, но и по своему усмотрению отнимать се. Мы все имеем право давать жизнь, а отнимать почему-то не имеем. Кто это придумал? Когда? И отчего это считается единственно верным? Может быть, все как раз наоборот. Я думаю, вот с чего все начиналось. Однажды, очень и очень давно, кто-то гениальный, отмеченный, посвященный убил себе подобного и ощутил при этом мощный приток жизненных сил, ощутил радость жизни, своей жизни, и перестал тотчас бояться того, чего боялся раньше, стал спокойней засыпать и легче просыпаться, и, наконец, стал любить свою смерть, а значит, освободился от самой что ни на есть мучительной мысли, раздирающей всю человеческую жизнь, – мысли о смерти. Тот человек решил тогда же, что те чувства, что он испытал и ощутил, могут испытывать и ощущать только избранные, такие, как он, но ни в коем случае не все, не ВСЕ. И он, наверное, имевший тогда возможность влиять на жизнь людей, придумывать и утверждать законы, придумал закон, по которому убийство считается самым страшным преступлением на земле. Так оно было. Я не сомневаюсь в этом. Причины, способствующие принятию закона, были именно таковы. Но тем не менее, каковы бы ни бы, ли, закон был категорично правилен и необходим. Ты скажешь, что я противоречу сам себе, что я утверждаю сейчас совершенно противоположное тому, что утверждал несколько секунд назад. И окажешься не прав. Я объясню… Ощущение власти над собой и ощущение радости жизни после убийства дано почувствовать не каждому, более того это дано единицам. Большинство же людей мучаются после убийства. Убитые являются им ночами, грозят им бледными пальцами из проезжающих трамваев и троллейбусов, шепчут на ухо: «Пошто ты, падла, загубил меня, чернявого?» ну и так далее. Другая же категория людей вообще ничего не чувствует после убийства, ну, замочил и замочил, мать его, козла потного. Сытно после этого обедают и обхохатываются над мультиками. И таких, и первых, и вторых, большинство, повторяю, большинство. Так вот этот закон для них. Даже не закон. А, скажем, диктуемая извне непреложная внутренняя установка. Для них, и только для них. А для людей, сознательно идущих на убийство, чтобы получить ощущение собственной мощи, для таких людей существуют совсем иные законы – это те законы, которые они устанавливают сами для себя… Ты, наверное, смеешься сейчас. Мысль твоя, ты скажешь, не единожды уже произнесена и не однажды написана, а значит, банальна. Согласен, банальна, Но тем не менее она является единственно верной, потому как со столетиями нисколько не изменилась. Вот так. – Я на экране вдруг весело и искренне засмеялся и показал тонким пальцем на объектив, то есть на меня нынешнего, сидящего сейчас перед телевизионным экраном. – Ты поверил, ты поверил! Через несколько лет ты забыл уже, что сам же говорил, и сейчас поверил мне. Поверил, что я такой монстр инопланетный, злобный пришелец, пожиратель горячих кишок и экскрементов, вместо водки потребляющий бражку из человеческой крови и закусывающий вяленой ягодицей.» – Я засмеялся, уличенный, проговорил, вроде как оправдываясь: «Ну конечно, я мог кое-чего и подзабыть. Сколько лет-то прошло. Хотя, – я сделал паузу и прикурил очередную сигаретку, – что-то здесь не так. Я вот помню, что что-то здесь не так…» А на экране я тем временем смеяться перестал, зачесал волосы назад обеими руками, вздохнул и усмехнулся опять, не сдержавшись: «Поверил… Конечно же, я могу так думать. Другое дело, согласен ли я с этими мыслями и умозаключениями, и выводами. Согласен ли? Вот что главное. Я не согласен. Но тем не менее уверен, эти выводы мои правильны. Теперь послушай. Я убивал, ты знаешь. Я не мог не убивать. Если бы не убивал я, убили бы меня. Война. И на войне убивать просто, убиваешь ведь тех, кого не знаешь, с кем не знаком. Никаких эмоций не вызывает убийство на войне. Разве что первое. И то не у всех. Совсем другое, если убиваешь не в бою. И убиваешь человека достаточно тебе знакомого, с которым несколько часов говорил до того, как решаешь, как с ним быть, человека, о котором ты, например, знаешь, что у него сумасшедшая жена, за которой он ухаживает вот уже четвертый год, две пятилетние дочери – двойняшки, никогда не выходящие гулять во двор с другими детьми, потому что их там дразнят, называют треснутыми, тюкнутыми, стукнутыми, пукнутыми и смеются над ними, бьют их, и которые целыми днями сидят на подоконнике и грустно смотрят в окно. А сам человек тот умен, образован, пишет статьи и книги по социологии. И я знаю, что, убивая его, я лишаю права на существование целый мир, с материками, морями, государствами, городами, гостиницами, музыкой, любовью и бурями, сопками. Да, он плохой человек. Но кто же это установил, определил и доказал? Может, точно такой же плохой а может, тот, кто еще похуже. Ведь так, согласись, ведь так? – Я, не возражая, кивнул, но осторожно, слабо, едва заметно. А я на экране в тот момент опять рассмеялся, и опять неожиданно для меня нынешнего. – Так вот именно тогда я приравниваюсь к Богу. Потому что только я один – и никто другой – решаю – жить этому человеку или умереть. Никто этого не вправе решить. А я решаю. Хоть и не вправе. Решаю и беру ответственность за это решение. И именно в этом мгновение я подобен Господу.» «Опять ты наврал мне, сука!» – Я вскинулся с кресла и на телевизор замахнулся и едва не ударил, но левой рукой правую удержал, а правой ногой левую прихватил. Не ударил, а то разнес бы телевизор ни в чем не повинный к чертям собачьим. Не ударил. Но зато закричал. Кричал: «Сука! Сука! Сука! Мать свою! Не слышу тебя! Не слышу! Ты там! Я здесь! Мы разные, мать твою! Ты не я, мать твою!» А я, тот, что на экране, безудержно заливался, хохотал, остановиться не мог. Когда остановился, отвернулся как есть от объектива; плечами вздрагивая, шею массируя, туда-сюда прошелся по комнате, все головой вертел, хныкая, вернулся к объективу. После, конечно, куда бы я делся, отдышался, отсмеялся, говорил дальше: «Я ведь так и задумал, что об этой кассете забуду. Надолго. Даже если до самоубиения посмотреть ее захочется, задумал, вытерплю, не посмотрю. Для того так задумал, чтобы не транжирить, не растрачивать слова, раз, допустим, в неделю воздух ими сотрясая. Ибо значение свое они потеряют тогда, и мысль растворится в других мыслях и обесцветится, и смысл потаенный, глубинный потеряет. Ну хорошо, хорошо, даже если нет в них, в моих словах, глубинного, потаенного смысла, все равно что-то они от частого их слушания потеряют. Ведь так? И я уверен, что через несколько лет ты забудешь о том, что ты тут говорил, конечно, и реагировать на произнесенные слова, я предугадываю, будешь негодуя и возмущаясь. Ты изменился, да, без спора, но пока не настолько, чтобы просто-напросто вообще забыть об этой кассете и никогда, никогда ее не смотреть после первой записи. Вот если бы ты не стал смотреть ее больше никогда, вот тогда бы ты знал точно – ты другой. А, раз смотришь – терпи!» – и я, нынешний, сел на кресло тогда обратно, хмыкнул, подбородком дернув, и без злобы уже сказал, махнув рукой на телевизор: «Мели, Емеля…» – и прикурил новую сигаретку. Затянулся без удовольствия. – «Тот, про которого я говорил, – продолжал я, экранный, – тот, что с сумасшедшей женой и со статьями по социологии и двумя дочками-двойняшками, сотворил вот какую штуку. Я расскажу. Во время одной секретной операции в Каданге был ранен офицер нашей разведки. Пытаясь скрыться от преследователей, он, истекающий кровью, вбежал в подъезд одного дома в центре города и потерял там сознание. Очнулся, к изумлению своему, не в камере, а в светлой и просторной квартире. Оказалось, что его подобрал, умирающего, один из жильцов того дома – тот самый, который с сумасшедшей женой. Звали его, как ты помнишь, до отвращения знакомо – Мустафа. Мустафа не сразу выдал нашего офицера. Он месяца два выхаживал его и довел его до полного выздоровления. Да-да, ну ты помнишь, до полного, дал ему одежду потом и еды на дорогу и с пожеланиями добра и успехов, открыл ему, розовощекому и пышущему силой, дверь своей квартиры, иди, мол, дорогой товарищ, куда тебе надобно… А за дверью дорогого товарища уже ожидали оперативники из местной службы безопасности. Помнишь, да? Что толку было Мустафе выдавать нашего офицера, когда тот был ранен и нездоров. Не заметил бы наш офицер разницу между двумя жизнями – на воле и вне ее, не было бы того эффекта, который имел место после, когда офицер, веселый и довольный, ступил за порог дома Мустафы… Наш офицер повесился в камере. А я убил Мустафу. Я нашел его и убил. Сам. Никого не поставив об этом в известность. Я сам вынес приговор и сам привел его в исполнение. Было ли у меня право судить Мустафу или нет, это никакого не имело значения тогда и не имеет сейчас. Я решил убить его и я убил его». «Я убил его, – повторил я, сидящий в кресле. – Я стрелял ему в живот и после каждого выстрела внимательно смотрел ему в глаза, стрелял и смотрел, стрелял и смотрел. Мустафа уже умер, а я все смотрел, смотрел… Да, я помню. Конечно. Я все помню…» – «Но разве я не был в тот момент подобен Создателю?! – спросил я, экранный, себя сегодняшнего. – Наверное, после таких моих слов лицо твое покрылось рябью. Я вижу, вижу. Но прошу тебя, потерпи еще немного. То, что я сейчас говорю – очень важно для меня. Да, убийство, это страшная вещь. Да. Но где граница между страшным и прекрасным? Где граница между жестокостью и нежностью? Секс, например, упоителен только тогда, когда он неограниченно груб. Скажи об этом своим дамам, если они еще не испытали этого – пусть испытают, и они согласятся с тобой. Знают цену сексу только те женщины, которые были изнасилованы. Поговори с ними, вызови их на откровенность. Напои их вином, одурмань их наркотиками. Изнасилуй их. И они сознаются, что это так. Жизнь – это насилие. Жизнь – это кровь, смешанная со спермой. Все другое – не жизнь… Но уж, если быть искренним до конца, до дна, до боли и до слез, то жизнь, – я сделал паузу, ткнул несколько раз твердым напряженным пальцем в объектив и продолжил: – Это спокойствие, бездействие и умиление, И любовь. Ко всему, к любому проявлению бытия… А уж если быть совсем, ну просто окончательно правдивым, то жизнь, – я неожиданно засмеялся, – это кое-что такое, о чем я не имею никакого представления. Но хочу иметь. Хотя, однако, буду несказанно счастлив, если когда-нибудь это желание у меня пропадет… Двенадцать месяцев, как я пришел с войны. Но до сих пор не могу понять – на самом деле я пришел или я все еще там. Если я еще там; то почему я не воюю? Если я здесь, то почему я все время воюю? Однако нельзя гневить Бога. Мне, разумеется, есть чему радоваться. Ну хотя бы тому, что я жив… Послушай, послушай. – Происходит странное. И происходило. Но не знаю, будет ли происходить еще. Когда исчезли все мои желания и осталось одно – убивать, а так было на самом деле, было, было, и я стал искать объект для действия, то не поверишь, я не нашел его. Я же не мог убить просто кого-то, все равно кого. Я должен быть чист перед собой. Я же не мог лишить жизни того, кто, по моему разумению, данной ему жизни достоин. А достойными этой жизни я считал только тех, кто созидает. Кто созидает. И неважно, что созидает. Себя ли творит. Или иной взгляд. Прыжок, Тепло. Слова. Движение желания. Дом. Землю. Знание. Сознание. И подсознание. Влюбленность. Плод. Дорогу. И спасение. Фантазию. Спокойствие. Протест. Падение. Взлет. Течение. И спор. И спорт. Преодоление. Славу. Удовольствие. Приемы. Способ. Метод. Инструмент. Дыхание… Я долго могу перечислять. Так долго, что не хватит кассет всего мира, чтобы уместить мое объяснение понятия – СОЗИДАНИЕ. Ну, ты, надеюсь, понял, что я имел в виду… И вот, когда я взял свой кольт тридцать восьмого калибра в руки и, обласкав его, почистив его и пропев ему в холодный ствол боевые марши, пошел искать, кого бы мне убить, мне тогда.тотчас стали гроздьями попадаться те и только тс, кто жизни нашей достоин и гораздо больше чем, например, я, нынешний. Не верилось, но было так, я сопротивлялся, как мог, но было так. Мне просто не везет, говорил я себе, просто не везет на тех, кто не достоин. Пока не везет. Временно». Я, сегодняшний, молчал. Сигаретка валялась на полу под креслом, дымилась, затухая. Пахло горящим табаком и паленым деревом. И еще – копчик чувствовал тепло от затухающей сигаретки. Мой копчик очень нежен. А на кончике сигаретки сконцентрировано невероятно большое количество тепла. «Например, я встретил парня, – рассказывал я с экрана, – который научил разговаривать свой автомобиль. Этот парень мой сосед по подъезду. Я знал его еще до войны. Но не подозревал, какой он есть на самом деле. Я только сейчас увидел, вернее, разобрался, какой он, какой он есть. Да, он научил разговаривать свой автомобиль. Я не брежу. И еще не сдвинулся окончательно. Но я слышал, как его автомобиль разговаривает. Сосед купил себе его лет двенадцать назад. И к тому времени автомобиль был уже немолод. Помнишь, ездили по Москве такие старенькие «Москвичики», букашки, похожие на военных лет немецкие «Опели». Вот, вот, у соседа был такой же. Сосед сразу полюбил свою машину. Как женщину. Больше, чем женщину. Я видел. Я слышал. Все время сосед проводил у, машины. Свободное время, конечно. Вру, и несвободное тоже. Чинил. Чистил. Разговаривал с автомобилем, много, и целовал его, и обнимал его, год, второй, третий. Говорил. Целовал. Чистил. Чинил. Обнимал. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый… На десятый год автомобиль заговорил. Когда двигатель был включен, автомобиль, используя его звук, отвечал моему соседу на его вопросы. Сосед спрашивал, например: «Как ты сегодня себя чувствуешь?» И я слышал, как менялись тональности и тембр звука двигателя, и я слышал, как автомобиль говорил: «Хорошо…», выдыхая маслянисто-металлически. «Хочешь покататься сегодня, – спрашивал сосед. – Или отдохнешь?» – «Едем…» – утробно выдыхал автомобиль… Разве не достоин мой сосед жизни больше, чем я? Один мой приятель, доктор, познакомил меня с человеком, который только своей волей и любовью и более ничем, не экстрасенсорикой, не медикаментами, не заговорами, не. доморощенными снадобьями, только волей и любовью спас свою умирающую жену. Врачи дали ей месяц. И он не отходил от нее этот месяц в больнице. Он плакал. Он кричал. Он умолял. Он угрожал. Он настаивал. Он просил. Он разрушал. Он утверждал. Он требовал. Спал он по часу, по два в сутки. Ел только для того, чтобы поддержать силы: А сил надо было много… Сначала его хотели выгнать из больницы. Но потом почуяли – у докторов, у лучших из них, есть чутье, – почуяли, что здесь не все так просто и что человек этот не сумасшедший. А он продолжал грозить болезни. А то и заигрывал с ней, усыпляя ее бдительность, и вдруг неожиданно нападал на нее… Он водил руками по неподвижному легкому телу жены, от макушки и до пят, вынимая Болезнь, вытягивая се, и, вытянув, бросал на пол и топтал ногами с громовым криком и нецензурной бранью. Через месяц анализы показали практически полное исчезновение злокачественных клеток у его жены. Ну, разве такой человек не достоин жизни больше, чем я?! Однажды во время пьянки у одного своего сокурсника, месяц назад это было, да, месяц, мне вдруг стало безумно скучно, а домой идти не хотелось и от нечего делать, унылый, я вышел на лестничную площадку и позвонил в соседнюю квартиру. И когда в двери показался какой-то мужик, я сказал ему, протягивая стакан с водкой: «Давайте выпьем и потом вы расскажете мне про свою жизнь.» Мужик – дурак, послал меня. А я тогда в другую квартиру позвонил, но и там меня тоже послали, а в третьей квартире и вовсе никто не открывал. Но вот дверь в четвертую квартиру оказалась незапертой. Я крикнул: «Эй!» в глубь квартиры, и мне ответили: «Проходите». Но к тому времени проходить мне уже расхотелось. В квартире стоял устойчивый, резкий запах дерьма. Но я был слегка пьян и потому все-таки пошел. Квартира была бедна, квартира была нища, и одновременно была богата. В квартире не было ничего. Ничего. Кроме картин. Они висели, стояли, лежали. Повсюду. Картины. Странные, в серо-зеленых тонах, Портреты. Пейзажи. Натюрморты. В маленькой затхлой комнате я увидел человека в инвалидной коляске… Мы познакомились, разговорились. Он жил совсем один. У него не было ни родственников, ни друзей ни в городе, ни на земле. За ним ухаживала соседка по дому. Не бесплатно, конечно. Половину его пенсии она тратила на него самого, а другую половину забирала себе. Человек был художником. Не знаю – плохим или хорошим. Не мне судить. Я мало что в этом деле всегда понимал. Но одно я понял четко, общаясь с ним, – он не мог не писать. Он должен был писать ВСЕ время. Каждую минуту, каждую, секунду. Но краски у него давно уже кончились. А для того чтобы купить новые краски, у него не было денег. И он стал делать краски из собственного дерьма. У него не хватало денег и на холсты и бумагу. И он стал рисовать свои картины на обратной стороне сорванных со стен обоев. Ну разве такой человек не достоин жизни больше чем я?» И там на экране неожиданно для нас двоих – для меня и для меня, замер мой язык. Его будто кто заморозил лошадиной дозой анестезина. А за доли мгновения до этого, за доли того мгновения замерли и мои мысли, и еще за меньшие мгновения исчезло и воображение. И я замолчал. Не знаю, так ли это было. Не помню. Давно все случилось, вроде как в прошлом веке. Однако вид у меня был точно такой, как если бы на самом деле все происходило со мной именно так, как я рассказал (язык замер, воображение исчезло и так далее). Минуту я так стоял, кажется, или две, кажется, не моргая, и не шевелился, а может, три – надо было засечь, а я не засек, ни к чему как-то было. Четыре минуты стоял, а то и пять, ни пальцем, ни глазом не двинул ни разу. Я даже забеспокоился, не хватил ли меня, тамошнего, какой сынок или племянничек Кондратия, потому, как если бы, хватил сам Кондратий, у меня все же вид был бы иной. Я выматерился, заерзал на кресле, туда-сюда головой вертя, помощи ниоткуда ища. Встал. Сел. Встал. Лег, Отжался раз сто. Встал. Присел столько же. Перевел дыхание. Переключил зрение. А я на экране так и не пошевелился за это время. Ах ты, сука! Не умер ли? А?! Живой ли?! Как помочь?! Не вызовешь же врача в восемьдесят девятый год. Сел в кресло обратно, понял – только ждать могу. Как все обернется. А как действительно тогда обернулось – не помню. Сам себе не верю, что не помню, но ведь и правда не помню. Не помню! НЕ ПОМНЮ! А как я хохотал там, на экране, потом – через сколько-то там минут, после того как вдруг, вздрогнув всем телом, ожил и язык себе длинный и мокрый показал, извивался, трясся, бился в конвульсиях на паркете – от хохота, от хохота,"от чего ж еще, не от болезни же, здоровый я был, двинутый, правда, круто, но физически здоровый, по роже видно было, хохотал, как никогда. Нет, так, как вот недавно у Нины Запечной. Кажется. Или раньше. Выдавив смех, наконец, до последней смешинки, мать мою, сказал, не отдышавшись даже: «Ты был полным дураком, если не заметил, что с, самого начала я играю. Что я все придумал. Что ничего не было из того, что я рассказал. Я просто решил развлечь тебя. Тебе скучно сейчас, ведь правда? Ну вот. Ты немного побеспокоился, потом и посмеялся, потом испугался. Одним словом, развлекся. И я развлекся. Я просто даже удовольствие получил. Я творил. Более того, я созидал. Не возражаешь против такого утверждения. А? Ну хорошо, все! На сегодня довольно. Я выключаю аппарат. – Я подошел к объективу близко, протянул к нему руку, но аппарат не выключил, отступил на шаг. Теперь лицо мое стало серьезным и грустным и даже скорбным, как на собственных похоронах. А руки свои я почему-то где-то на уровне члена скрестил, то ли мастурбировать перед камерой решил, то ли грусть-тоску свою таким образом захотел выразить. – Но тем не менее поройся все же в памяти, – сказал я негромко. – Может, что-то из того, что я рассказывал и происходило на самом деле. Может, в моих рассуждениях и есть какая-то правда. Бог его знает.». И выключил все-таки аппарат. И экран тотчас покрылся черными поперечными полосками и зашипел, как проколотое автомобильное колесо. Не был, конечно, я круглым дураком, несмотря на то, что принял за чистую монету почти все, о чем говорил с экрана. А как не принять! Ведь действительно я убил Мустафу. Это факт. И я себе этот факт могу доказать. У меня есть фотографии. Я сфотографировал убитого Мустафу. Сверху, с боков. Мы так всегда делали. Нас так учили. И я знаю, где в квартире у меня лежат фотографии трупа Мустафы. Я их прямо сейчас, если захочу, могу найти. И как не поверить, если я знаю человека, который именно таким способом, о каком я рассказал с экрана, спас от смерти свою жену… Правда, я не могу вспомнить соседа, который научил разговаривать автомобиль, и не помню инвалида, который делал краски из собственного дерьма. Но это уже не так важно. Я и взаправду мог об этом забыть. Я тогда круто ширялся. Без дозы на улицу не выходил. Конечно, я мог и забыть. Теперь так. Был ли тот взгляд на мир, который я изложил с экрана, действительно моим взглядом или я его все-таки придумал? Вот на этот вопрос не берусь ответить. Во всяком случае сейчас. Пока. Потому что не помню, как я воспринимал мир тогда на самом деле. Но с точки зрения меня, сегодняшнего, я согласен буквально с каждым словом, сказанным мною с экрана. Другое дело, что сегодня эти мысли мои звучали бы скорее всего не так категорично и безапелляционно. Я, нынешний, выразил бы их теперь с большим допуском вариаций в ту или иную сторону, но суть тем не менее, наверное, оставалась бы прежней. А что же касается желания убивать, так желание это осталось, – да, не делось оно никуда, оно стало только менее острым, и я привык к нему и оно меня уже не так беспокоит и тревожит, как раньше, и я знаю сейчас, что я могу достаточно легко себя контролировать, потому как научился регулировать температуру этого желания. Так что сейчас полегче. Полегче. Я улыбнулся, довольный собой, и не без удовольствия закурил новую сигаретку. Шипенье на экране продолжалось, полосы не исчезали, а это означало, что на кассете дальше ничего не записано, и я взял в руку пультик управления и навел его на телевизор, чтобы тот самый телевизор и выключить. Но кнопку нажать мне не пришлось. На экране вновь появился я, экранный. «Ты правильно сделал, что не выключил, – сказал я. – Посмотри еще кое-что. Если станет неинтересно, выключи. Нет, я больше не буду говорить о чем-либо, нет, я теперь буду только показывать. Ты увидишь женщин, которые приходят и приходили ко мне, ты увидишь, чем я и как с ними занимаюсь. Но я покажу тебе не все. Только самое любопытное. Смотри!» И я стал покорно смотреть. Хорошие у меня тогда были женщины. Хорошие. Я оценил это только сейчас. Хорошие в смысле красивые – стройные и длинноногие, – только в этом смысле. Были молодые, были и не очень, но все как одна ухоженные и сексапильные. Где я их брал-то только, мать мою?! Камеру, вспоминаю, я спрятал тоща в книжном шкафу, и поэтому мне было легко под различным предлогом встать с дивана, подойти к книжному шкафу и незаметно выключить камеру. Что я, кстати, и делал довольно часто. А почему делал и почему часто, я понял лишь потом, чуть позже, не когда только начал смотреть, а через некоторое время, небольшое, но необходимое для того, чтобы мне, нынешнему, все сопоставить, и вычислить, каковые были истинные мотивы моих столь частых подходов к книжному шкафу, на одной из полок которого я прятал маленькую видеокамеру, которую в качестве сувенира, или даже, можно сказать, трофея, я привез с прошедшей войны. Бах! Бух! Трататататататтатата, мать вашу! Пошли, ребята!… Бах! Бух! Дзинь! Фьюииииииить! Попал, сука! Перевяжи меня! Тратааааааататататата! Дай курнуть! Травки, травки, мать твою! Еще! Все, работаем, работаем! Пленных не брать! Бали всех подряд! Чтоб ни одной твари здесь не осталось! Дети? Это не дети, мать их! Это маленькие солдаты! Валить всех, е… рот! Тратаатататататата! Бах! Бух!!!!!!! Война. (Война. Не более того. Я помню. И до сих пор восторг обжигает меня, когда я слышу автоматный треск, уханье взрывов, пушечную стрельбу, крики раненых и молчание убитых. Я пьянею, я теряю себя, я становлюсь пулей, снарядом, осколком, комком грязи, кровью, эхом. Я перестаю бояться жизни. И смерти, потомучто четко и ясно осознаю, что умру только тогда, когда это мне предназначено. Не раньше. И не позже. Большего счастья я не испытывал никогда. Разве идут в сравнение с войной наркотики? Женщины? …С исключительной регулярностью, три раза в неделю, точно по расписанию, составленному мной еще давно, когда-то, когда на лице моем еще дымился загар, я взвожу тугой курок своего большого кольта, уверенно приставляю револьвер к своему сердцу и стреляю. Раз, второй, третий, пятый, шестой. Я всаживая в себя всю обойму. И падаю с разорванной грудью, булькая кровью, желудочным соком и мочой. Я бьюсь в конвульсиях на нечищеном паркете, я брызжу зловонной жидкостью. Я упоительно хохочу. Потому что я опять на войне, и я не знаю – выживу или умру. Я выживал. Всякий раз. Кровь, дерьмо и моча, и желудочный сок, что выплескивались из меня после того; как расплавленный горячий свинец остервенело рвал мое тело, через какое-то время стекались в меня обратно, а скользкие куски мяса и кожи возвращались на место и соединялись, и склеивались, и прирастали друг к другу, и начинали пульсировать, и набирали температуру, и розовели. А остывшие пули с тихим, но тяжелым стуком падали на пол (уже не похожие на себя), все шесть штук, потерявшие форму, потерявшие цвет, расплющенные, скрюченные, почерневшие и покрасневшие. Я выживал. Всякий раз. Не переставая заразительно смеяться. Потому что знал – не пришел еще срок. Я был так счастлив в те мгновения, так счастлив… как никогда счастлив, как ни теперь, когда сижу у телевизора и не без удовольствия и удовлетворения наблюдаю за собой тогдашним, ранним, хоть и молодым, как ни тогда, когда родился, как никогда…) Наконец после каких-то минут, внимательно следя за происходящим на экране, я понял, почему же я так часто вставал с постели, отрываясь от очередной дамы, и подходил к книжному шкафу, чтобы выключить видеокамеру. Да потому, что все эпизоды были похожи друг на друга. Будто так – будто я каждый раз в свою квартиру приходил с одной и той же дамой, а не с разными. События разворачивались всегда идентично. Где-то вне поля зрения камеры, мы с дамой, по-видимому, ели, пили, разговаривали, потом садились на диван (здесь-то и брала нас камера), что-то там еще о чем-то продолжая говорить, а потом я нежно привлекал даму к себе, несопротивляющуюся, и целовал ее и, поглаживая коленку дамы, нетерпеливо стремился к ней под юбку или, не менее нетерпеливо, расстегивал ей «молнию» на джинсах или приспускал ее лосины. А дама, в свою очередь, постанывала и покряхтывала, закрыв глаза в предвкушении, безвольная и расслабленная, но готовая (видно было) и истекающая (не видно было), и тогда, я, конечно, вставал, что-то даме размякшей говоря, подходил к книжному шкафу, подмигивал в объектив и камеру выключал. Но ради чего-то я все же записывал, и эти свои встречи с дамами. Вряд ли я, мужчина далеко не глупый, мог просто так, без всякого умысла, записывать всю эту муру с поцелуйчиками и нежностями. И потому понимал, что в этой записи имеется какой-то секрет. И потому я, нынешний, беспокойно ерзая, прикуривал сигаретку от сигаретки я нетерпеливо томился, с тоской глядя в окно, где птицы и облака и голубой воздух – сегодня, правда, привычно серый и никакой другой. И дождался-таки – не дурак оказался. После какой-то там очередной блондинки или пеструшки, хорошенькой и веселенькой, на экране рядом с собой на том же диване я увидел стройную худую девушку с длинными волосами, с красивым и добрым лицом, чуть встревоженную, чуть испуганную, но заинтересованную, с улыбкой признания украдкой меня разглядывающую, полногрудую, что немаловажно, и в туфлях на шпильке, что не менее важно, в длинной цветастой юбке и в короткой желтой мохеровой кофте, что также. немаловажно, и даже имеет значение, и даже более того, мне, говорю сейчас, нравилось и очень. Я отработанно закинул руку девушке за голову, положил пальцы ей на плечо, несильно привлек девушку к себе. И вот тут, к восторгу моему тогдашнему и нынешнему, вышла осечка. Девушка отстранилась, чуть с недоумением посмотрела на меня и спросила что-то или сказала что-то, я не слышал. Я, понятное дело, тоже что-то там сказал в ответ, веселое и, судя по моему виду, чуть грубоватое (секс, как я уже говорил – дело грубое) и снова, но уже посильней, притянул девушку к себе. Но не тут-то было – девушка закричала. Заплакала. И ударила меня несколько раз. И затем уперлась ручками мне в грудь (ах, с каким удовольствием я прочитал на тогдашнем своем лице УДОВОЛЬСТВИЕ, давненько в зеркалах я не видел себя таким). Я схватил девушку за руки, дернул ее на себя, она согнулась, а я привстал и двумя своими руками завел ее тонкие и слабые руки ей за спину. Сомкнув ее запястья, я сжал их сильными пальцами левой руки, а правой рукой поднял ей, кричащей истошно, юбку, приспустил узкие (конечно, узкие, а как же) трусики, и провел пальцами по влагалищу – по губам, по клитору, раз, другой, еще и еще. Я был терпелив, я знал, ради чего я это делал. Я получал удовольствие. Я ударил девушку по голым ягодицам, несколько раз, сильно, очень сильно. Девушка дернулась и застонала. И я тогда опять вернулся к ее влагалищу. Работал нежно, с уважением и мягко, но настойчиво, настойчиво и с желанием. И когда время пришло и когда время пришло, я заметил, что девушка перестала уже так вырываться истово и непримиримо, как, когда время еще не пришло, и кричать перестала, и вместо крика глубоко стонать завелась, даже вроде как подбадривая меня, и даже вроде как поощряя. И когда я ее к камере лицом повернул, то на лице том увидел, что непереносимо приятно ей все то, что я сейчас с ней делаю, как тогда, когда время еще не пришло, было ей не менее непереносимо неприятно. Девушка то открывала глаза, то закрывала, складывала губки буквой «О» и говорила вслед: «О!» и судорога наслаждения тогда перепрыгивала через ее светлое лицо. И еще минут?, когда прошла, девушка сказала, шепча-крича: «Давай… Ну, пожалуйста… Я хочу.» После этих слов я рученьки ее белые, конечно, отпустил, ласково, на диван девушку усадил, подошел затем к книжному шкафу, привычно подмигнул в объектив и, проговорив весело: «Вот так!», выключил камеру. И снова по экрану черно-белые полоски пошли-поехали, не вертикальные, а горизонтальные, дрожащие-переливающиеся. Я после подождал еще немного, на полоски глядя, любознательно раздумывая над увиденным, и когда убедился, что никакой записи дальше не будет, а полоски из горизонтальных в ближайшее время вряд ли превратятся в вертикальные, я кассету остановил и вынул ее из видеоаппарата. А телевизор просто выключил, и он, не мигнув, погас и, не вскрикнув, затих. Ааааааа, вот оно как, весело бил я кулаком по ладошке, похохатывая, по комнате туда-сюда ходил, не знаю чему радовался, к окну подошел, на улицу с удовольствием взглянул, как никогда еще за последние пять лет. Или вру. Но не важно. Хорошо мне сейчас было и комфортно, и ловко, и горячо, и ярко. Так бывает, наверное, когда какую работу классно сделаешь, так, что самому нравится, и осознаешь благодаря этому, что ты что-то можешь по этой жизни и радуешься тому, что ты что-то можешь. А что я, собственно, такого совершил пять лет назад перед зорким объективом портативной видеокамеры, что так веселюсь нынче и торжествую? Ну, надругался над доброй и чистой девушкой. Ну? Так вот так лишь на первый взгляд – полудурков и недоумков, как правило, – а на второй взгляд, и на третий все видится иначе. Поди наговори так, складно и искренне и страстно и неглупо, как это сделал я, поди соблазни скромную и порядочную девушку, и быстро, как это сделал я. Это работа – настоящая. Очень точная. И очень тонкая. Я помню хорошо эту девушку. Ее звали Мелиса. Мы встречались потом пару месяцев и хотели даже пожениться. Если бы я любил ее, может быть, я так и сделал. Но я так не сделал. И Мелиса утопилась. А потом повесилась. А потом сожгла себя в знак протеста на центральной площади города. И в конце концов бросилась под проходящий скорый «Москва-Париж». Короче, не жива она теперь. Или жива… Да, такую работу мог сделать только я, и никто другой. Нелепо и смешно думать противное. Значит, что-то я могу. Мог. Хоть это. Хоть так-то. Значит, есть у меня основание для того, чтобы почувствовать, что я есть. Пусть на мгновение. Пусть на минуты. Пусть на "часы. И никак не на большее время, к сожалению. Для того чтобы ощущать наличие себя в этом мире более длительный срок, а может быть даже, если повезет, и пожизненно, нужно что-то делать постоянно. А я-то вот уже год-другой не д е л а ю ничего.) Стоило мне подумать так, как, конечно же, радость убежала. А я не смог ее догнать. Я видел, как она, верткая, шмыгнула в форточку. И пока я добрался до окна, пока с грохотом открыл его, радости уже и след простыл. Воздух, что за окном, затолкал меня, холодом грозя и в лицо ударяя вскользь, в комнату обратно, бесшумно, легко одетого, разгоряченного. Не стал я сопротивляться, хотя, верно, совладал бы с холодом, и, будь моя воля, ответил бы ему, защитнику сбежавшей радости, своими приемами единоборства, кои знавал достаточно, ранее, и немного сейчас, хватило бы их, чтобы на равных с холодом вступить. Втолкнувшись в комнату, распятился вольно к дивану, сел – спинка к спинке, закурил, как никогда, механически, не замечая, есть дым, нет ли. Думал, размышлял, прикидывал. После каких-то минут пришел вот к какому выводу. Случается всякое, и на улице и вне ее, а равно как и в умах разных знакомых мне и незнакомых человеческих людей, и нет гарантии (как и, впрочем, гарантий, вообще, нет, странное это слово, кто его придумал? Пусть мне скажут, и я не дам ему никаких гарантий), что не влетит кому-то, тому же, скажем, полковнику Данкову, например, в темечко мысль, сдуру, посмотреть квартиру мою, со мною ли, без меня ли, не суть проблемы, на предмет, допустим, чего-то такого, чего полковник или кто другой обо мне не знал. Я был профессионалом. Я работал на войне. Я не исключал возможной возможности (я бы, например, сам именно так и творил бы то дело, которому был призван и придан), что те, в чье поле зрения я попал, могли еще раз посмотреть на меня, теперь уже с других сторон. И потому не исключительно, что всякого проникшего в мою квартиру – да того же вора, например, того же вора, почему именно и только полковника Данкова – смогут заинтересовать те кассеты, на которых я себя, и через себя и через объектив видеокамеры пристрастно писал, с любопытством. Не хотел бы я, чтобы кто-то, даже вор, видел, как я там на кассетах убеждаю себя в собственном существовании, «Паранойя», – подумал я мимоходом. Я не встал, вскочил, одеваться начал. Быстро. Уже собрав кассеты в сумку, не забыл и про револьвер системы Кольта, калибра тридцать восемь, «спешл фор полис». Не надо знать, кому не надо, что он такой у меня есть. Бежал по улице, улицы не замечая. Но это мое дело. Это мои проблемы. А улица тем не менее была, существовала объективно, и увидеть на ней я мог следующее. ,…В витринах магазинов светилось все, что пожелаешь (и если бы еще все это действительно желали, я бы успокоился тогда совсем и удивлялся бы себе каждый раз, когда замечал, что не улыбаюсь). …Несмотря на естественную грязь, и сор и мусор, и залитые водой ямы на тротуарах и мостовых, ботинок себе никто не пачкал. Плащи и куртки на всех казались только что купленными (или в крайнем случае сейчас только взятыми из химчистки). А на небритых женских лицах (я уж не говорю о мужских) читалось острое желание побриться, и как можно скорее. …Двое краснорожих нищих хватали спускающихся в переход людей, тех кто поближе, и весело кричали: «Дай денег, мать твою! Копейка миллион бережет!» …Немолодые мужчина и женщина сидели на заснеженной лавке и ели сырую рыбу, приговаривая с удивлением; «Когда б еще пришло такое время, чтоб мы ели, как богатые японцы, сырую рыбу. Как вкусно! Как полезно!…» …Броско и дорого одетые дети с гиканьем воровали книги с книжных лотков и, разбежавшись по соседним дворам, зачитывались ими до дыр в своих молодых глазах. …Задумчивые и скромные девушки выискивали в толпе симпатичных молодых людей и, любуясь ими, тайно мастурбировали на ходу. …Малоимущие старушки до крови бились друг с другом в очередях у ювелирных магазинов… …Представители уголовно-преступного элемента собирались на многочисленных сходках и плакали навзрыд – кончалось лихое времечко, теперь им никто не будет завидовать, теперь они не избранные, теперь у каждого есть возможность заработать. …Рябые, толстозадые тетки в расползающихся по швам дорогих жокейских костюмах неуклюже скакали по аллеям парков на тонконогих рысаках… С каждой секундой прибавлялось страдающих. Люди страдали теперь не от отсутствия чего-то, а от отсутствия отсутствия чего-то. Они просто-напросто не знали, что делать с тем, что у них недавно появилось… …В глаза стали явно бросаться первые признаки разрешенной свободной любви – у кошачьих подвалов с букетами роз в зубах терпеливо дежурили влюбленные псы… В доме Нины Запечной было тепло и сухо, стучали ходики и пахло пирогами с капустой. Увидев меня, Нина распахнула свой тонкий, почти прозрачный халат и спросила, чем меня угостить – собой или пирогами. Не мешкая, я тотчас же выбрал пироги. Если Нина и обиделась, то мне она об этом не сказала. Мы ели пироги и заливались веселыми слезами, вспоминая вчерашний вечер. Я смеялся еще и оттого, что вчера я ни разу не вспомнил о смерти и времени, которое никогда не стоит на месте, а мчится со скоростью бешеной, а сегодня помнил об этом каждое мгновение. Нина сказала, что Стоков ей не понравился. Но он забавный. Так что пусть приходит, когда захочет. Я пообещал ей передать Стокову ее слова, хотя и знал, что обещание мое невыполнимо. Я оставил у Нины кассеты и револьвер системы Кольт. Я видел, как она положила мои вещи в стенной сейф. Когда я был уже у двери, Нина сказала: «Твою мать… Нехов. У меня была не одна тысяча мужчин, и некоторые из них мне очень нравились. Но сегодня мне кажется, что я всегда любила и люблю только тебя». Оставив за спиной благодарный дом Нины Запечной, я посмотрел глазами в различные стороны и не словами поговорив с согревающим щеки солнцем, все-таки сказал себе некое вслух и прислушался затем к тому, что сказал, и в конце концов с удовольствием выслушал ранее сказанное. Голос мой, верно, прозвучал так громко, что обернулись и те, кого не было на тротуаре, и тот, кто проезжал в длинном лимузине по соседней улице, и остроголовый старик со второго этажа из дома напротив (любопытствуя, он приложил коричневую руку к белому уху). «Туда пойду, куда ноги поведут», – вот что сказал я, когда сказал. И они повели меня. Без сомненья. И я, конечно, пошел вместе с ними. Долго ли коротко ли. Весь город протопал. Ни пылинки ко мне не пристало, ни грязинки не прилипло. Шел, улыбался, не получая того же в ответ. На Сретенке чуть за улыбку в лоб не получил от одной восьмилетней девчушки, слюняво пересчитывающей толстенную пачку долларов. На Трубной мне грозил пальцем весь троллейбус. «Закрой пасть! – орал разъяренный водитель, высказывая мнение всех собравшихся. – Не трави душу, мать твою!» И заедал свои слова огромным куском осетрины горячего копчения. На Пушкинской меня остановили два суровых миллиционера и попросили предъявить документы. Я сделал вид, что плачу и они тотчас отпустили меня… Несколько минут я постоял на Пушкинской рядом с тележурналистом, задающим проходящим людям один и тот же вопрос: «Сколько раз в жизни может случится настоящая любовь?» Довоенно одетые корявые старики и старухи говорили, что много, много раз, а душистые и веселые юноши и девушки, посерьезнев вмиг, в один голос утвердили, что такое, конечно же, может случится только однажды. У тротуара остановилась иностранная автомашина, и из нес вышла роскошная женщина, и сказала грустно: «Невольник чести…,» «К вашим услугам, мадам», – торопливо раскланялся я, но женщина не видела меня. Она обращалась к Пушкину… У Белорусского вокзала два смешливых мальчугана угостили меня эскимо и, отойдя от меня метров на десять, потребовали: «Откуси, откуси, сладкое ли мороженое, холодное ли?» Я повертел мороженое в руках и неожиданно бросил его в сторону. Эскимо взорвалось со смачным грохотом… Когда я вышел на Ленинградку, по тротуару запрыгал дождь. Только по тротуару. Откуда лил, не видно было. И был ли это дождь на самом деле. Я с трудом могу сейчас подтвердить. Не исключено, что кто-то, пролетая на самолете под облаками, не вовремя спустил воду из сливного бачка. Ноги привели меня туда, куда и должны были привести. Я был бы полным идиотом, если бы не знал, куда иду. А я был не полным идиотом. Подтверждаю. Тогда в первый раз, оглушенный любовью, я и не заметил, что у подъезда Ники Визиновой, в маленьком палисадничке цвела красно-белая роза. «Этого не может быть», – подумал я и подошел ближе. Роза цвела. Я не люблю цветов. И, в частности, терпеть не могу роз. Я сорвал розу, смял ее, не обращая внимания на укусы иголок, бросил ее на траву и втоптал каблуком в землю. За дверью квартиры Ники Визиновой было тихо. Но это еще ни о чем не говорило. Я нажал кнопку звонка и не отпускал ее минуты три. На площадке было тепло и приятно пахло туалетными дезодорантами. Мне очень нравилось, как пахли туалетные дезодоранты, и поэтому я мог простоять тут целую вечность. Вместо двери Ники Визиновой приоткрылась дверь слева от меня, соседняя, и грозный женский голос сообщил, что сейчас вызовет милицию. «Я уже здесь, – строго сказал я, повернувшись в сторону голоса, – имя, фамилия, отчество, год и месяц рождения?» – сурово потребовал я. «Ой!» – сказали за дверью. «Гражданка Визинова» – продолжал я, – не явилась по повестке. Если я не сумею найти ее сегодня, то придется взламывать дверь» И я устрашающе пошевелил бровями. Я иногда сам пугался себя, когда изредка шевелил бровями перед зеркалом. «Она работает в Доме моделей на Солянке», – скороговоркой объявила женщина и захлопнула дверь. «Обратно пешком я уже не пойду, – сказал я себе, с удовольствием нюхая полировку на стене лифта, – я попробую оторваться от земли и улететь на крыльях такси» Не споря, втиснулся в первую же остановившуюся машину и, отняв ноги от асфальта, полетел в ней, пугая окружающих своим заоблачным видом. Бородатый шофер косился на меня, белком сверкая, через уши воздух втягивая неслышно, думал-гадал, кто такой, зачем здесь взялся, почему парит, почему светится, для чего такой нужен, только мешает, только пугает. И рванулся было от греха подальше из государственного автомобиля и дверь уже оттопырил, и плечо уже ветру подставил, ан не вышло, удержал я его, втянул его в кабину обратно, что-то ласковое ему в ухо шепнул и то же ухо раз-другой смял больно, щедро, и ехали мы дальше, каждый себя осознавая, каждый другого понимая – теперь. Я не великий охотник разговаривать в такси. Нет. Никогда. И потому я молчал. И бородатый шофер тоже молчал. Но причины у него для того были иные. Зачем что-то говорить, когда все равно ни черта не услышишь. Сломанное ухо шофера было свернуто в аккуратную трубочку – как металлическая крышка от португальских сардин. …С крыши «Интуриста» по очереди прыгали люди, один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Внизу стояла огромная толпа и аплодировала мертвецам. …На Манежной площади детей катали на верблюдах… Верблюды, ярясь и плюясь, жестоко кусали бедных детей… Чтобы не видеть всего того, что я видел, я вынул из кармана куртки темные очки и надел их. Верблюды исчезли. И толпы у «Интуриста» как и не бывало. А ухо у шофера, оказалось розовым и гладким. Я рассмеялся. Я почему-то очень люблю смеяться. Но никак не могу понять – я смеюсь оттого, что мне весело, или мне весело оттого, что я смеюсь, и весело ли мне вообще, независимо от смеха, когда я смеюсь. Наконец мы приехали, куда следовало, и остановились, где было сказано. Я вышел из машины и вошел в дом. Даже и не взглянув на него предварительно. (Могу только сообщить следующее – дом строился явно до войны, состоял из четырех этажей, выглядел грузно и солидно. Блестел стеклами длинных окон и серел давно уже высохшей краской.) Там, в доме, беспрепятственно миновав первые двери и перешагнув немногометровый тамбур, я наткнулся на закрытые вторые двери и на пятнистого часового, стоящего у их порога. Выпятив верхний лоб и нижнюю губу, затуманив свои подлые глаза, охранитель дверей сурово попросил меня предъявить. Не будь дураком, ни ранее и ни теперь, я вынул из не без труда найденного кармана куртки, потаенного, от моих же глаз укрытого, старое и заморщинившееся уже, но еще не истертое удостоверение корреспондента радио, с крупной золотой надписью «ПРЕССА» на задней обложке и, сотворив не менее подлые, чем у означенного стража, глаза, сунул удостоверение часовому прицельно в его лицо. Не помню точно насчет лица, но глаза у пятнистого юноши разъяснились, и он съехидничал, недолго раздумывая: «А приглашение?» Я знал, что проще убить «несговорчивого, чем вести с ним утомительные беседы, и, покушаясь на собственную свободу, я дал задание своей правой руке жестким ударом разбить для начала незадачливому мошонку и все, что к ней прилагается. Но в тот момент, как учуяв приятное, догадливый сказал по-хозяйски: «Хотя чем больше журналистов, тем лучше». Моя правая рука расстроилась, но меня это не огорчило. Я был весел и полон надежд. .Возможно, все это сказки, что человек не появился на этой планете таким, какой он сейчас, а прошел до этого множество ступеней развития – от полудурка до понятливого и от четвероногого до двурукого. Возможно, все это сказки, что люди, став людьми, поначалу ходили по Земле голыми, а потом, подмерзнув, стали шить себе из шкур и растений одежды, прикрывая ими, как правило, самые чувствительные к холоду и иным природным раздражителям места (как то первичные и вторичные половые органы). Возможно, сказки и то, что, мол, люди, уже облаченные в одежды, появились на нашей планете, например, прилетев из космоса или волшебно материализовавшись (телепортация), или выкарабкавшись из остывшего кратера… Белый, красный, черный, желтый… Возможно, все это сказки. Но как бы то ни было – выдумка все это или чистая достоверность, важно иное, важно то, что является ныне неоспоримым и давно доказанным фактом – человек носит одежду. И не суть представительны ныне причины, побудившие людей придумать одежду и надеть на себя ее, – последствия, что имеем мы сейчас, вот что заслуживает исключительного и пристального внимания. Вышло ведь так, что одежда теперь не только и не столько средство для утепления тела, сколько средство для его украшения и дальнейшего подчеркивания его полной и неоспоримой – под одеждой – обнаженности. Надевая одежду подсознательно резервируют у себя в воображении возможность при помощи одежды (а также прически, походки, манер, умения поддержать беседу и всего другого прочего, конечно) вызвать к себе симпатии со стороны окружающих, а может быть, если повезет, если страшно повезет, то не только симпатии, но и острое и длительное сексуальное желание. Это так. И никуда от этого не деться. Нет… Мне всегда казались смешными, нелепыми, глупыми и дурацкими заявления многих достаточно просвещенных людей – во всем мире, не только у нас, разумеется, – о том, что широкий показ, допустим, в кино, на телевидении и в средствах печати обнаженной женской или мужской натуры ведет к сексуальной распущенности и развращению душ (вожделение, похоть, по их мнению, оттягивает на себя ту энергию, которая могла бы пойти на созидание, на добро, на помощь людям, в частности нищим и обездоленным), и посему это, мол, вредно, бесчеловечно, преступно и тому подобное. Люди, так утверждающие, никогда, утверждаю теперь я, никогда никого не желали и никогда с истинным удовольствием и удовлетворением не занимались любовью, люди, так утверждающие, я утверждаю, люди больные, и их нужно лечить (изолированно). Потому что, если бы они были здоровыми, они бы знали, что истинное сексуальное желание вызывает не обнаженная плоть, а плоть, облаченная в одежду. Красивая плоть, облаченная в красивую же одежду. А обнаженная вызывает лишь тогда, когда только-только эту одежду сбросила. Волнение тонкой юбки, блеск гладких колготок, прозрачность беспокойной блузки, мягкий рельеф под тесным платьем, неустойчивость высокой шпильки, вольный жакет на сильных плечах, шуршание шелковой сорочки, бег переливающихся морщинок на просторных брюках, бесшумность лайковых туфель – вот что вызывает ЖЕЛАНИЕ. Одежда – это все равно как лобстеры, шампанское «Дом Периньон» и изысканная беседа в предвкушении любви. Одежда – это равно как первая встреча взглядов, первый блеск в глазах, первый огонь, первое прикосновение. Одежда – это сигнал для тех, кто такие сигналы понимает. О, если бы я за одни сутки почти подряд не поимел бы сразу двух чудеснейших женщин, я бы сегодня, тут, в доме, в который только что вошел, сгорел бы к чертям собачьим от смертельно пожирающего желания. И к женщинам, и к мужчинам, мать их всех! Одетые броско и стильно, под вздох бьющие ароматами духов, одеколонов и тел, они ходили вокруг, стремясь коснуться друг друга, тронуть, задеть, шлепнуть, поцеловать, прижаться, согреться, помочиться, проглотить, куснуть, облизать, пукнуть, влюбиться, отдаться – все и всем. Так мне казалось. Так мне показалось. Но было ли так на самом деле – с уверенностью сказать не могу. Сегодня здесь представляли новую коллекцию Дома, Я услышал, так говорили. Те, кто вокруг. Громко и неслышно. Я не снял свою красивую куртку. Но никто мне ничего не сказал. На меня смотрели. Многие. И по-разному. Больше с интересом. Я невольно отвечал тем же. Но потом мне не понравилось, что в моих глазах можно прочесть что-то. И я надел темные очки. Женщина в узком черном платье, черная и сама – негритянка, наверное, а может, просто загоревшая где-то круто – выскользнула из толпы, шагнула ко мне и сняла с меня очки, улыбнулась. Я не растерялся, ухватил женщину за руку, вырвал из ее тонких пальцев свои очки и надел их снова, черная пожала лоснящимися – от пота, от масла, от жира, от природы – плечами и ушла, ни слова не сказав, – немая, глупая, неместная, неземная – вправо, влево, вбок, вперед, назад, Переварилась толпой, я предположил, и где-то с заднего прохода, видно, дерьмом вышла – или не видно. Я поискал ее глазами, руками натыкаясь на тела, а ногами на пол. Не нашел ни там, ни сям. Вместо – увидел двух старушек, которые заметно прятались в неукромном уголке зала, которые с тыльной стороны своих ладошек, страстно выкатив глаза, нюхали белый порошок (кокаин) и краснели тут же и без того красными носами, которые хихикали через паузу, хихикали, хихикали, маленькие, сморщенные – сестры, подружки, одноклассницы, односадницы, одноясленницы – хихикали, хихикали и вдруг задрали платья, перед собой похваляясь, являя всем и всем узкое и тонкое девичье белье… И тут пришло время, и кто-то, кого я не видел (так как с удовольствием смотрел на старушек) наступил мне на ноги, на обе сразу, больно. О-ля-ля, передо мной, нос к носу, близко-близко имелась женщина… А, впрочем, нет, имелся мужчина в женском парике, накрашенный, намакияженный, симпатичный, но и не в моем вкусе – крупноватый и пахучий: «Ам!» – сказал он и клацнул толстыми зубами, кокетливо и слюняво. «Пошел на х…!» – сказал я доброжелательно и улыбчиво. «Понял», – ответил пахучий и тотчас сошел с моих ботинок. Не успел он ступить на пол, как я своим каблуком резко придавил его пальцы – сначала на одной ноге, а затем на другой. Крупноватый вскрикнул горестно и сказал с возмущением: «Зачем? Я и так все понял». Он и еще что-то потом сказал, но я уже забыл о нем, потому что за его головой увидел занятное: две группы людей (в каждой человек по двадцать, в одной группе – женщины, в другой – одни только мужчины) стояли полностью неподвижные друг против друга. Стояли, и все, мать их! Я отодвинул толстозубого и протиснулся поближе. И впрямь стоят и не двигаются. Вот потеха. Я прошел между ними туда-сюда. Стоят – глазами не шевелят. Не манекены ли? Я их руками тронул, не всех, некоторых, тех кто ближе стоял, – теплые, пахнут, дышат. Моргают – редко. И никто на них не обращает внимания, один я, как дурак, меж ними болтаюсь. Я тогда к одной из дам пышноволосой, губастой, в белом платье длинном, облегающем приник и губы ее с истовой силой всосал в себя, И она ответила… Она ответила! Не пошевелив, правда, телом, а пошевелив лишь губами, зубами и языком и голосовыми связками. «Какое раздолье, – подумал я, – я буду приходить сюда каждый день» Что-то ударило меня по икрам. Я чуть не упал. Обернулся. Две старушки-наркоманки сидели в своем огромном инвалидном кресле и тыкались его подножкой мне в ноги.«Дорогу! Дорогу!» – грозно шипели они. Я отнял руки от женщины в белом и длинном, и посторонился. А кресло опять двинулось на меня. «Дорогу!» – недобро блеяли старушки – синеволосые, бледноглазые, съеженные, сухокожие. Я выругался, но снова уступил. А кресло опять-таки развернулось ко мне. Я, плечи сведя, растерянный в толпу воткнулся тогда, и скоро забыл уже для чего, знал только – сзади беда. Мне улыбались, желали удачи, целовали воздушно, совали бутылки, сигаретные пачки, зажигалки и спички, конфеты, гондоны, называли себя, ласкали привычно, сотрясались от смеха, звонко били по заду… Я в стенку уперся. Нет хода мне дальше. Наверное, пора. Решил повернуться. Старушки несутся. Вопят про дорогу. Я выждал мгновение. И влево метнулся. Тут грохот, конечно. Головками в стенку. Упали – не дышат. Лишь локоны синие трепет сквозняк… Я опустился перед старушками на колени, потрогал пульс на шее у одной, и у другой. Без особой надежды. Пульса не было, как не было и старушек. Я сидел на полу и озабоченно мял пальцами крашеный плинтус. Мать мою! Я встал, отряхнул брюки на коленях. Не без неловкости огляделся вокруг. И тотчас подскочил чубатый официант с подносом. Я взял рюмку с водкой. Выпил. Поставил рюмку на поднос. Усмехнулся. Вынул сигарету. Закурил. Сигаретка пахнула дымком. Дымок завился нежно и вверх поднялся. Я взглядом за ним потянулся. Выше, выше… На потолке себя, на себя глядящего, увидел. В зеркальном потолке отражался не только я, но и моя сигаретка. Мы вдвоем прекрасно смотрелись. Налюбовавшись собой и сигареткой, я решил посмотреть и на других людей, и на другие сигаретки. Посмотрел. И увидел… Никого не увидел. И ничего не увидел. Кроме Ники Визиновой. Кроме ее отражения. Дрожащий, я в тот же миг опустил глаза и посмотрел в сторону пандуса. И не увидел ее там. Как же так? Я опять взглянул на потолок. ОНА там, где и была. И снова я скользнул взглядом вниз. Нет ее. Нет. На ее месте какой-то увешанный фотоаппаратурой лохматый парень в сером твидовом пиджаке судорожно из всех фотоаппаратов, подряд, сверкая вспышкой, фотографировал свои голые ноги – трясся от возбуждения, что-то выкрикивал и что-то пел незнакомое. Смятые брюки его лежали на краю пандуса, и некоторые женщины осторожно подходили к брюкам и, восторженно жмурясь, нюхали их. Я хотел было опять поднять голову к потолку, но потом сообразил-таки, вашу мать, что я не с той стороны пандуса ищу ЕЕ – в зеркале ведь все наоборот. Я втиснулся в толпу и подобрался ближе к той стороне, где и должна была быть Ника Визинова. И она была. Я скажу ей, когда подойду, что это я. Просто я. И больше ничего говорить не стану. Потому что я не знаю, что я могу сказать, когда подойду к ней, когда посмотрю на нее, когда протяну к ней руку, коснусь ее, когда обожгу об нее свои пальцы. Свет потух – и женщины кокетливо вскрикнули, а мужчины мужественно усмехнулись – и зажегся снова теперь лишь над подиумом и под подиумом. Громче зазвучала музыка. (Пел, кажется, ранний Синатра, или поздний…) На подиум, улыбаясь и пританцовывая, выступили манекенщицы – под аплодисменты зала – и закружились вокруг друг друга, демонстрируя то, что им сегодня было велено демонстрировать, и не более того. Знак в моделях был одинаков – люби меня. Минимум самовыражения ради самоутверждения – люби меня. Потрясает только то, что подчеркивает, а не то, что скрывает, – люби меня. Платье должно пахнуть не только духами, сколько желанием – люби меня. Научись читать мою одежду и ты увидишь, что я хочу – люби меня. Я научился читать, Ника. Я вижу, что ты хочешь. Я люблю тебя. Не грубо, но настойчиво и умело, вспоминая былые тренировки, я расклеивал толпу и пробирался к подиуму, к Нике. Плечо вперед и с силой вбок, обязательная улыбка, обязательное извинение, плечо вперед и круто вбок, обязательная улыбка… Я близко. Вот он я. Смотри на меня. Но не на меня она смотрела. Рядом с ней стояла высокая, худая дама в черном жакете, напоминающем мужской смокинг, в черных же брюках, остроносая, остроглазая, острогубая, остролицая, с прямыми медными волосами до плеч. Вот на нее Ника Визинова и смотрела, и только на нее, мать ее, – чуть снизу и чуть вверх. А та смотрела на подиум. Курила. Щурилась. Она смотрела на кружащихся манекенщиц, а Ника Визинова смотрела на нее. Не отрываясь, улыбаясь счастливо. Я уткнулся в чьи-то широкие сильные спины и попробовал втиснуть плечо меж них, и попробовал развернуться, приготовив уже улыбку и извинение. Но обладатели крепких спин не поддались мне, стояли как стояли, чуть лишь шевельнувшись, повернувшись, матюкнувшись. Кто такие?… Я коротко ударил одному из них мыском по коленному сгибу и за плечо, затем, на себя рванул. Пошло-поехало. Малый. заваливался назад, темечко волосатое моей улыбке подставляя. И на старуху бывает… Но второй тут – резкий, – не мешкая, ствол мне под нос сунул, прошипел злобно: «Не оторвешься – в…бу!» Вот оно как. Охрана. Я мог бы и раньше сообразить. Я молча отступил на шаг и еще на шаг и втерся в толпу, улыбаясь и извиняясь. Ника Визинова что-то зашептала на ухо своей перерослой соседке, посмеиваясь безмятежно, губами острого уха ее касаясь, с удовольствием, почти целуя. Почти целуя! Я смотрел на них поверх толпы, мертвый… Почти целуя… Сердце минуту, наверное, не стучало, а может, две, а может, три. И вдруг пихнуло больно под горло. И я ожил. Когда Ника губы свои от ненавистного мне уха отвела, к женщинам какой-то тип притопал, сказал что-то, почтительно перед остролицей склонясь, в плечо ей быстро губами ткнувшись, в смокинге, вымытый, вычищенный, постоял с четверть минуты, ушел, а через какое-то время еще один беспрепятственно охрану миновал и к остролицей подошел и тоже ушел – тоже в смокинге, не пыльный, глаженный. У них, значит, так выходит, что смокинг это вроде как униформа. Ага. Я понял. Ага. Я знал, что мне делать. Я повернулся и в обратный путь собрался, не грубый, но настойчивый, улыбающийся и извиняющийся. За тем вторым, который в смокинге, я пошел. Он выпил на ходу, закусил на ходу, кого-то шлепнул на ходу, на кого-то цыкнул на ходу, из зала вышел, по лестнице поднялся на другой этаж. На этаже, белостенном и красноковровом, в третью по правой стенке комнату вошел (я считал). Я пока до той комнаты дошел, все-все вокруг успел рассмотреть. Я подивился довоенным фикусам в кадках и того же времени пальмам в бочках, по углам, по нишам расставленным, полюбовался картинками, на стенках развешанными, эскизы, этюды, мимоходом отметил, что над каждой моделью запечатлено отменно прорисованное лицо рослой соседки Ники Визиновой. Кто такая? Почему не знаю? В третью дверь я вошел без стука. Там кабинет я увидел. Со стеклянной мебелью. Весь как бы прозрачный. Стены будто окна. А окна будто стены. За столом непыльный в дочки-матери с куклой Барби играет. «Баю-баюшки-баю, – поет, – не ложися на краю» Увидев меня, вскочил, куклу в стол спрятал (а ее все одно видно, стол-то стеклянный), возмутился круглыми глазами, закричал что-то, слюнявые губы ломая. «Ах, какая встреча, – шел я к нему с распахнутыми объятиями. – Как я рад тебя видеть», – улыбался медово. Непыльный растерялся, как видно, смотрел на меня, пытаясь что-то вспомнить, глупый. «Неужели ты забыл меня? – светился я счастьем. – Ай-яй-яй… Мы родились с тобой в одном роддоме. Почти в один час. Ты еще угостил меня тогда сигареткой. Однако, кажется, я недостойно ошибаюсь, – я пожал машинально протянутую мне непыльным руку. – Ты не угостил меня тогда сигареткой. И как уж я ни просил, не угостил ты меня», – я дернул на себя руку непыльного, крутанул ее в воздухе снизу вверх, завел ее непыльному за спину, а другой своей рукой по затылку непыльному пару раз не слабо ударил, бах, бах, ударил. Непыльный обмяк, бессловесный. А я, не долго раздумывая, вернее, не раздумывая вообще, стал быстро стягивать с него смокинг, брюки и сорочку (предварительно, конечно, отвязав бабочку, шелковую, в серебристых крапинках). «Что ты хочешь?» – выдохнул полуголый непыльный. Он лежал на стеклянном столе прямо над куклой Барби, казалось, будто он примеривается трахнуть ее, маленькую и беззащитную. «Уже ничего», – пожал я плечами. «Господи, – пробормотал непыльный. – Каждый раз, стоит мне выйти из дома, что-то случается». «Не выходи из дома», – переодеваясь, резонно заметил я. «Я пробовал», – непыльный чуть не плакал, но не плакал. «И что?» – Я завязал бабочку и надел смокинг. Он пришелся впору, как и бабочка. «В первый раз, когда я не вышел из дома, соседи сверху мне замели квартиру, – непыльный едва сдерживал слезы, – во второй раз треснула несущая стена, в третий раз стрела автокрана вышибла окно, в четвертый раз загорелась квартира, в пятый раз умерла собака, в шестой раз жена сломала себе обе ноги, в седьмой раз прямо подо мной развалился унитаз и я в клочья порезал себе задницу. Теперь я не рискую. Но стоит мне выйти на улицу…» – и все-таки непыльный заплакал. Слезы так обильно заливали стеклянный стол, что коэффициент прозрачности стола с каждым мгновением стал значительно уменьшаться, и совсем скоро я перестал уже различать куклу Барби. «У тебя есть только один выход», – заметил я, приглаживая волосы. «Какой?» – встрепенулся непыльный. «Смерть», – просто ответил я. «Ты так думаешь?» – непыльный перестал плакать. «Уверен, – кивнул я. – Лучше смерть, чем такая жизнь. Твои муки и страдания сведут тебя с ума. Это так. Никакой надежды, А безумие страшнее смерти. Если хочешь, я могу помочь тебе…» – «Не понял», – насторожился непыльный. «Я могу убить тебя, – я помедлил. – Если хочешь, конечно. А ты ведь хочешь, правда?» Я шагнул к столу. «Нет», – непыльный теперь не лежал на столе, он теперь сидел на столе, залитый слезами, в желтых трусах и черных носках, протягивал ко мне руки ладошками вперед, вроде как останавливал меня, вроде как просил меня о чем-то. О чем? «Нет, ты хочешь», – настаивал я, делая еще один шаг. «Да ерунда все. Я просто пошутил, – непыльный неискренне рассмеялся. – У меня все класс. Класс. Точно. Как выйду из дома, так все класс». «А как не выйдешь?» – я остановился. «И как не выйду, тоже класс, – голос у непыльного дрожал, ой дрожал. – Я специально тебе наврал все. Чтобы как-то разжалобить тебя. Понимаешь? Ну что бы ты меня не особо того, не особо трогал, понимаешь?» Я покрутил головой: «Не понимаю… Ты сказал мне, что тебе плохо, и я хочу помочь тебе. Я очень люблю помогать таким, как ты. Беззащитным и обездоленным. Потому что я добрый. Самый, самый добрый. Нет добрее меня никого на свете. Я вижу – тебе плохо. А я сделаю, чтобы тебе было хорошо», – и я рванулся в этот момент к непыльному и ударил его жестко в середину живота, два раза, а затем схватил его одной рукой за подбородок, а другой за волосы на затылке и сказал: «Вот сейчас крутану. И добро пожаловать в Счастье». И тут этот полудурок налил в штаны. В самом значении этого слова. Мать его! Желтые трусы потемнели тотчас, и быстрые мутные ручейки потекли по стеклу стола. Все развлечение испортил, пидор обоссанный. Я поморщился, отступил от непыльного назад и спросил: «Что эта за баба у подиума в черном, длинная, остроносая?» Непыльный руками пытался остановить текущие по столу ручейки. «Анна Бойницкая, – наконец выхрипел он. – Владелица дома.» Я закурил, затянулся, сунул сигарету в рот непыльному. «Крутая баба, – добавил непыльный. – Связи. Тут, там. И в верхах, и у блатных.» – «Бизнес?» – спросил я, «Модели», – удивился непыльный. «Ну-ну», – я указательным пальцем ткнул непыльному в лоб и добродушно улыбнулся. «Девочки, наркотики, посредничество… Она убьет меня…» – непыльный крутил в отчаянии головой и вытирал о голые ноги мокрые ладони. «Кто такая Визинова?» – «Ты из конторы?» – спросил непыльный. «Кто такая Визинова?» – повторил я вопрос. «Художник. Очень талантливый. По-моему. Это ее модели сейчас там, внизу», – непыльный обхватил плечи руками, вроде как замерз – хотя в кабинете было тепло. Или холодно. «И все?» – «Я не знаю». – «Ну», – я посильнее, чем в первый раз, ткнул непыльного в лоб, а потом для верности и в глаз. «Я правда не знаю», – всполошенно заорал непыльный. «Хорошо, – примирительно сказал я. – Ас кем Бойницкая завязана из верхов? Хотя бы одну фамилию» – «Не знаю…» – неуверенно пробормотал непыльный. Я коротко ударил непыльного в переносицу. Непыльный вскрикнул и тотчас схватился за нос. «Мукомолов», – выцедил он глухо. Вот как. Зампремьера. Наш постел везде… Я встречал его пару раз у Нины Запечной. И помню, он там не только выпивал и трахался, он там и покуривал, и ширялся. Надо будет спросить у Нины, не писала ли она его. Я сам в прошлом году помогал ей доставать аппаратуру – фото-видио-аудио, не новую уже – из МВД, но еще функционирующую. Я усмехнулся. А, впрочем, нет гарантии, что она все, что происходило в ее доме – все – не записывала на другой, более новой, новейшей аппаратуре – для какой-нибудь конторы, например, для контрразведки, ГРУ, разведки МВД, Внешней разведки. Нет гарантии. Так что материал, я думаю, у нее все-таки есть. Я снизу, почти без замаха, ударил непыльного в подбородок. Мне не хотелось, чтобы он трепыхался, пока я буду его связывать. И непыльный, конечно же, рухнул на стол, А куда ему деваться, козлу? Руки я ему связал своим ремнем, а ноги джинсами. Я положил ему под голову свитер, а белоснежной свежевыстиранной майкой своей я заткнул ему рот. Прежде чем уйти, я склонился над ним, на стеклянном столе лежащем, и посмотрел, все ли я оставляю в порядке. В уголке левого глаза непыльного я заметил слезинку, а в уголке правого глаза обратил внимание на слезу. Непыльный был без сознания или притворялся, что находится без такового. Скорее всего, притворялся. Но слезинка и слеза были настоящими. Я проверил. Солеными на вкус. «Мне очень жаль», – искренне заметил я у порога. И вышел. И закрыл дверь на ключ за собой. На каблуках, мне не свойственных, сам себе выше казался, так оно и было. В зеркале себя не узнал, когда взглянул в него, с одного этажа на другой опустившись, потому как на пару-тройку сантиметров выше стал, вроде как и я, а вроде как и не я. Рост чужой – и исключительная гармония лица и тела изменяетсяв обратно или наоборот наперед. У дверного охранителя я подобные моим прежним, бескаблучным, ботинки углядел, не удержался, подшагнул к нему, залился соловьем романтичным, переливчатым, что, мол, мне, бедолажному, жмут те ботинки, нынешние, а тому охранителю, вижу, в самый раз, да еще для него, для охранителя, покраше да помодней будут, и еще постройней его, невысокого, сделают. Охранитель таращился на меня поначалу совино-округло, тускло соображая, чего я из-под него желаю (и не узнавал меня, придурок, а я ж только что, минут сколько-то назад прокатил мимо него, журналистским удостоверением помахивая), потом, когда догреб до сути дела и глянул на мои ботинки, согласился враз, и враз сел на пол и снимать их начал. Отдал мне. Я примерил, самое оно. Обменялись мы. Довольны остались. Сплясали русского, непечальные. Друзьями разошлись. Охранитель мне вслед щеглом посвистывал, умелец этакий… Толпа в зале еще туже стала. То ли людей прибавилось, то ли от питья, от еды толще-пухлее они сделались. Я в них с лета втиснулся, зная, что почем, повлек себя вперед успешно, плечо вперед, разворот, улыбочка, извинение, плечо вперед, разворот, улыбочка… Неспеша-торопливо до крупных вооруженных спин добрался. Раздвинул их бесцеремонно. Они воспротивились было, но, заприметив прикид мой достойный, отстали, рта не раскрыв, расступились, щурясь, мне в уши смотрели. Руку в карман сунув, подходил я к НЕЙ вольной походкой, стараясь со стороны на себя поглядеть, хорош ли, и не видел, не видел себя (обидно, как никогда), не мог потому как сосредоточиться, волновался неудержимо, до слышимой дрожи волос на своей – не чужой – голове. Кто бы мне когда сказал о таком… Убил бы гада! Я шагал напрямик, себе не сдаваясь, не замечал, как вокруг шумно было и весело, и ярко, и блестяще, и ароматно, и душисто. Все те, кто вокруг, в единую студенистую клейкую серую массу незаметно слились – не люди, не звери, так себе, неизвестно кто, неизвестно что. Лишь та, к коей шел я, черты обличья имела, ясные и потрясные, не сказать бы больше, а больше и некуда. Мог упасть, пока шел – не раз, – от восторга и опьянения, и держался только потому, что знал – должен дойти, должен, иначе напрасно все, иначе жизнь, выходит, так, впустую прошла. Шел, шел, шел… Фантастическое расстояние нас отделяло, как две кругосветки, нет, три, нет, четыре, нет, много, много. Метров десять, наверное, а то и того меньше, а то и того больше. Много. На таком пути умереть можно. Но невозможно. За какие-то сантиметры до нее я подсобрался, резкость настроил, контрастность прибавил, отрегулировал звук. Я умею. Я уж фронтовик. Хотя причем здесь фронт? Фронт там, а я тут. Все прошло и ничего не вернется. Эта мысль убивает меня вернее, чем пуля. Я до потери жизни хочу, чтобы все вернулось… Она, наконец, увидела меня, и на ее лице я прочитал сомнение. Вот как. (И радость на нем была. Была. Неподдельная. Неуправляемая. Потому как – первой появившаяся. Но сомнения было больше.) Она едва заметно кивнула мне. Потом влево повернулась, потом вправо» потом на остролицую Бойницкую посмотрела. Не знала, бедная, что ей делать, как себя вести, что сказать, протянуть ли руку, подставить ли губы, улыбнуться, разозлиться. Я видел все это. Конечно, видел. Не слепой. Не дурак. И тем не менее, к удивлению своему, заметил – что не оскорбляют и не унижают меня в моих же глазах ее метания. Мне попросту было наплевать на них. Во всяком случае сейчас. Ведь это я же любил ее. Я. И какое мне дело до ее чувств. Позволит она собой любоваться, и на том спасибо. Спасибо, что узнала. Спасибо, что улыбнулась. Спасибо, что все-таки протянула руку. Спасибо, что подставила губы. По гладким рукам ее пальцами я пробежался, к губам, возгораясь, приник, боль нестерпимую в те же секунды в ноздрях ощутив – от запаха ее кожи, ее дыхания, ее глаз. Она хотела что-то сказать, губы раскрыла, глядела снизу на меня с сочувствием и сожалением, принимая меня и одновременно опасаясь того, что меня принимает. А я не мог отвернуться от нее, как ни пытался, знал, что следовало бы уже, пора – здесь люди, которые смотрят, – и не получалось, я потерял контроль над собой, да, и сейчас бери меня, слабого и рыхлого, все, кто хотите, сопротивляться не стану, понесусь, куда понесут. Она хотела что-то сказать, маленьким кончиком маленького языка по открытым губам провела долго и не сказала, грустно дыша, ничего, глазами своими до моих глаз, до глубины их, до дна (без слов) пытаясь добраться. Хотя и знала, как и я, я чувствовал, что не время теперь и не место для немых поисков и молчаливых объяснений – когда глаза в глаза, когда взгляд во взгляд, – потому как, оттого сразу все всем, тем окружающим понятно, все понятно – кто же друг другу эти двое, которые только и делают, что смотрят друг на друга, безмолвные, когда рядом так много чего иного, на что следовало бы посмотреть, хотя бы на объективы фотоаппарата и кинокамеры, что сейчас тебя снимают. «Я вас не знаю. Кто вы?» – я не вздрогнул, услышав этот голос, я лишь моргнул, когда не хотел. Краем глаза я уловил – Бойницкая в упор разглядывает меня, неотрывно и требовательно. Ника повернулась первой (как я был бы счастлив, если бы первым оказался я). Заглянула Бойницкой в ее узкие внимательные глаза, рассмеялась, как ни разу не смеялась еще при мне, незначительно, и сказала, положив мне покровительственно руку на плечо: «Это мой однокашник. Мы вместе учились в институте. Он раньше, я позже. Он тоже художник. Его зовут…» «Эраст Известный», – прервал я Нику и поклонился не без достоинства. Я снова контролировал себя. Это Бойницкая привела меня в боевую готовность. Теперь вряд ли я понесусь куда понесут. Подходите, кто пожелает. Сегодня я приглашаю на танец. Черный танец. «От вас пахнет чем-то знакомым. Не могу вспомнить, – без интереса разглядывая мое лицо, сказала Бойницкая. – Подскажите» – «Не ручаюсь за точность, – совсем уж без всякого любопытства разглядывая лицо Бойницкой, ответил я, – но, кажется, это обыкновенная водка» – «Я не исключаю вероятности, что в этом гаме вы могли не совсем правильно понять мой вопрос, – сказала Бойницкая, полубоком повернувшись к подиуму. – Но я имела в виду запах, исходящий от тела и от одежды, а не из вашего, простите, желудка» – «Все запахи человека, – пожав плечами, заметил я, – откуда бы они ни исходили, из желудка ли, от кожи, из мочеиспускательного канала или из заднего прохода, в конечном счете, скажем так, составляют один запах. – Я тоже повернулся полубоком к подиуму. – Он складывается не, простите, в носу рядом стоящего, а в его мозгу. – На подиуме без стеснения раздевались веселые легконогие девицы, с удовольствием демонстрируя новые купальники, придуманные Никой Визиновой, – люби меня. – Для расширения кругозора в этом вопросе я бы порекомендовал бы вам прочитать замечательный роман немецкого писателя Патрика Зюскинда "Парфюмер"» – «Спасибо за рекомендацию, – не отводя нарочито заинтересованных глаз от подиума, кивнула Бойницкая. – Вы очень добры. Я читала этот роман. И, к сожалению, он мало что рассказал мне нового о природе запахов. И все же не сочтите за бесцеремонность, но я хочу повторить свой вопрос. Чем же все-таки от вас пахнет?» – «Всякий раз, видя кого-либо издалека, неважно, мужчину или женщину, – сказал я, старясь не смотреть на Нику Визинову, потому что догадывался, с каким выражением лица она разглядывает меня и Бойницкую, – многие из нас, в том числе и я, заранее чувствуем запах того человека, вернее, чувствуем не как этот человек пахнет на самом деле, а как он должен пахнуть в соответствии с тем образом, который он нам издалека являет. И когда человек подходит ближе и мы начинаем ощущать его настоящий запах и этот запах оказывается не таким, каким нам представлялся, то тут происходит следующее. Мы подсознательно начинаем относиться к этому человеку как к обманщику. Мы с первого взгляда уже не доверяем ему, хотя, может быть, на самом деле, он самый честнейший из людей в нашем с вами мире. Более того, тот человек через какое-то, долгое ли, короткое ли, время становится до противности ненавистен нам. Однако бывает и по-другому. Хоть и не часто. Случилось чудо, совпало наше представление с истинным запахом того, кого мы видели издалека, а теперь видим вблизи. И становится тогда тот мужчина или та женщина, или тот ребенок нам роднее родного, любимей любимого, ближе, я бы даже сказал, ближнего… Потому, я думаю, не суть.важно, чем именно от меня пахнет. Важно – совпало ли ваше представление о моем запахе с моим действительным запахом» Бойницкая помимо воли, как мне показалось, повернулась ко мне – вся, – наплевав на то, что происходит на подиуме, оглядела меня снизу вверх, молча, длинно, проговорила после медленно: «Совпало…» Я не ожидал, честно, такого ответа и слегка растерялся. (Ни для кого незаметно, правда. Только я один знал о своей растерянности.) «Совпало, – повторила Бойницкая. – Но ближе, чем ближний, и любимей, чем любимый, вы мне не стали» Вот сука! Сначала я переиграл ее, заставил ее вести разговор так, как я хочу, а теперь она взяла реванш, вынудив меня растеряться, а потом загнав мне эту мою растерянность под самый вздох. Сука! «Тогда позвольте вам заметить, – сказал я добродушно, – что вы все-таки ошиблись. – И предложил. – Если вы не будете возражать, давайте-ка все же мы это проверим. Повторяю, конечно, если вы не станете возражать, на что я очень надеюсь. Мы проверим, на самом ли деле совпало ваше представление о моем запахе с моим настоящим запахом» – «Отчего ж, – без особого энтузиазма согласилась Бойницкая, – Давайте» – «Хорошо, – одобрил я. – В таком случае попробуйте найти словесный эквивалент вашему представлению о моем запахе. Постарайтесь, как бы сложно это вам ни было» – «Почему сложно. – Бойницкая равнодушно оглядывала непрерывно шевелящийся зал. – Это очень даже просто. Увидев вас, я сразу же услышала запах желания и пороха. Так оно и оказалось. Но, повторяю, от этого вы не сделались мне роднее родного» – «Либо вы обманываете меня, – как можно любезнее улыбнулся я. – Либо вы… не женщина» После этих моих слов Ника Визинова так жестко и больно прихватила мою левую руку выше локтя, что, если бы я не видел сейчас рядом с собой Нику Визинову, держащую меня за руку, то я решил бы, что это держит меня за руку совсем даже и не Ника Визинова, а кто-то из крепкоспинных парней, не пускавших меня без смокинга к демонстрационному подиуму. Бойницкая заметила невольное движение Ники и, усмехнувшись, сказала ей: «Не надо, Ника. Он неглуп. Он все видит. И все понимает, – и обратилась ко мне с той же усмешкой: – Правда?» – «Правда, – кивнул я обреченно. – Я вижу, что вы обворожительны, и понимаю, что никогда не получу вас», – и я горестно затем покачал головой. Бойницкая рассмеялась. Ника, наконец, отпустила мою руку. «Вот видишь, Ника, – сказала, все еще смеясь, Бойницкая. – Он очень неглуп, – и оборвала неожиданно свой смех. – Я и вправду не женщина. Но это совсем не говорит о том, что у меня нет чувств. Скорее, наоборот. Просто я не позволяю им руководить собой. Я сама руковожу ими. Я – хозяйка. Я сама приказываю себе, независимо от симпатий и антипатий, кого мне любить, а кого ненавидеть, а кого просто не замечать, а кого и замечать, но не любя и не ненавидя» – «В таком случае, – с доброжелательной усмешкой проговорил я, – я убедительно прошу вас, никогда не приказывайте себе полюбить Нику. Потому что в противном случае я прикажу себе полюбить вас. А я очень горячий любовник. Я ни на секунду не оставляю в покое свою любимую. Я ее трахаю, трахаю, трахаю… До тех пор, пока она не перестает дышать и шевелиться. А с трупами я уже любовью не занимаюсь. Я же не некрофил в конце концов…» Бойницкая молча смотрела на хорошеньких девчонок, бегающих почти голышом по подиуму. Она была спокойна и неподвижна. Только побелели крылышки ноздрей и ритмично вздрагивала длинная вертикальная мышца на тонкой шее. Очень были неприятны Бойницкой мои слова. И я был тому чрезвычайно рад. Я вот на какую хреновину обратил внимание, живя той жизнью, которой живу. Так случается, что появляешься на свет. И появляясь, будто выныриваешь из толщи водяной, утолительной, медленной, бесцветной и мутной туда, где дышать уже можно бессовестно и безбоязненно, туда, где все вокруг прозрачно и где не скован телом, и где без особых усилий можешь запросто выкручивать выкрутасы, каковые и выкручиваешь, если надобность есть в том и желание. А если нет, то и не выкручиваешь. Понятное дело. Вот об этом и речь сейчас, которую говорю. И плывешь так себе наполовину здесь, а наполовину там. Наполовину мертвый (если не понятно, – потому что, когда-никогда, а умрешь, то есть обратно в мутную толщу нырнешь), а наполовину живой, потому что все-таки живешь, и ведь живешь, мать твою! Так есть. И можешь ведь так плыть и плыть, и плыть, тихо, спокойно, на спинке там отдыхая, на брассок полегоньку переходя, и ничто твоего размеренного плавания, незатейливо говоря, собственно, и потревожить не может. Ну ничто, ничто, никакие обстоятельства, потому как нет никаких таких обстоятельств, не существует их, помимо, конечно, помимо, конечно, болезней, страшных и страдательных. Все же остальные обстоятельства, если не концентрироваться на них, как многие глупые делают, неумные, исчезают, уходят негромко, не оставляя ни следа никакого в памяти твоей. И потому не влияют никак на дальнейшую последующую твою жизнь. К числу таких обстоятельств, например, относятся, и это осознать только надо, это трудно, но надо – смерть близких и иных, – включая жен, детей, братьев, сестер, возлюбленной, родителей, друзей, любимой собаки, кошки, хомячка, лошадки, слона, носорога, гиппопотама, попугайчика, мышки, паучка, пострела-кузнеца, а также пожары, изнасилования, измены, предательства, избиения, кратко– или долгосрочные пребывания в местах лишения свободы, катаклизмы, кражи, потеря крова, работы, денег, любви, новых ботинок, наветы, оскорбления, доносы, ненависть, убийства и прочее, и прочее, и прочее. Так, без тревог и забот, если не дурак, или с мелкими, ничего не значащими по сути (и ты это, в конечном счете, понимаешь) треножками и заботками, если дурак, ты можешь плыть, допустим, очень быстро или, допустим, я допускаю, очень медленно, можешь останавливаться и оглядываться, допустим, можешь улыбаться всем другим плывущим тебе навстречу, можешь плыть по прямой или по кривой, можешь, можешь зигзагами, кольцами, восьмерками, можешь! А можешь разговаривать с рядом плывущими, рассказывая и слушая, а можешь, например, лежать на спине и читать звездное небо, или анализировать поведение воды под тобой. Можешь просто размышлять обо всем, и плыть, плыть… Что я, неправду не говоря, и делал, когда пришел с войны, точно так и было. Деньги у меня имелись – немало, – и я мог довольно долго жить, не шикуя, без сомнения и с сомнением о чем-то беспокоясь. Увидев многое и убедившись окончательно, что все мы умрем, как ни крути, ни верти, – нырнем в мутную толщу и вынырнем ли когда-нибудь, неизвестно, и устав от увиденного, и устав от всего, чего даже и не видел, устав от неизвестного и от собственного блеска в глазах, в том числе и от зеркала, в котором этот блеск отмечал, и от слов и голоса, от движения и холода, а также и от тепла, от дождя, снега, ветра, рукопожатий, объятий, автобусов, такси, глупых воробьев и жестоких голубей, от зелени и синевы, от рублей и центов, отзвука шагов и жужжания пчел, от скрипа песка и любовных вздохов, от дворников во дворе и от«дворников» на лобовом стекле, от звона бокалов и гудения электропроводов, от грязных ручьев, текущих в трамвайных рельсах, и от нечестных стонов во время совокуплений, от обещаний и обязательств; короче, когда я догадался, что устал, а произошло это примерно через полгода, как я пришел с войны, я захотел обратно туда, откуда я вынырнул, туда, где я уже жил, но еще не был – в чрево матери. Но осознавая, разумеется, что такое невозможно, я решил тоща просто плыть., и не барахтаться, плыть, глядя только на звездное небо, и больше ни на что и больше ни на кого, плыть и размышлять, и размышлять, а потом спать, и спать, и смотреть на звездное небо, и размышлять, и опять спать… Один. Окончательно один. И я не сделал ничего другого, как заперся в своей квартире в один прекрасный памятный мною день – солнце светило и немалые дети гомонили во дворе – и забрался в постель под два одеяла, хотя и без того теплым являлся, как никто, и взял в руки первую, что попалась, книгу, неинтересную помню что только, и принялся ее читать, зевая и радуясь, радуясь и зевая, до вечера, там – ночь, утром не вставал, пока голод не одолел, позавтракал чем было; и день так пролежал, и другой, на третий соседей за деньги снарядил в магазин – так они потом меня и баловали, покупали что надо за мои деньги, жадные, но добрые. И неделя прошла, и вторая, и месяц минул, а я лежал, лежал. Полгода лежал. Семь месяцев. В разводе тогда пребывал или в браке, забыл, не суть важно. Я плыл и размышлял. И ничего. Ничего не происходило со мной. НИЧЕГО. Все семь месяцев. Где-то стреляла, стонала, гоготала, плакала и приплясывала жизнь (я видел ее по телевизору, и. слышал ее в радиоприемнике, да и попросту я знал, что она была – ЖИЗНЬ), а вокруг меня творились тишь да благодать. Я ведь могу так и до смерти долежать, радовался я. Каждый раз, когда просыпался, радовался, и каждый раз, когда засыпал… Но иногда, не всегда, – приходило сомнение, и ночью, и днем, и во сне, и в мечте (и чем дальше, тем чаще), а так ли плыву и туда ли… Да, можно плыть и так. (Ну при наличии, конечно, того, на что плыть, конечно.) Но можно, ведь, и не менее плыть и иным способом – например, каждый день ходить на тихую работу, каждый день, в девять пришел, в шесть ушел, и домой. Чем такая работа не постель? Но об этом позднее… А можно, если кто не знает, плыть и совсем по-другому. Нырять и выныривать, с восторгом делая первый вдох, плыть навстречу волне и врезаться в нее с победным воплем, плескать водой в того, кто тебе не по нраву, и катать на себе того, кого любишь. Изобретать новые стили, но совершенствовать старые, верить в Течение, но стараться плыть рядом или в обратную сторону… Я рассказываю сейчас простые и всем известные вещи. Все, о чем я говорю, было известно, конечно, и мне – но только известно, как и подавляющему большинству, – известно, и все, и все, но не прожито, не прочувствовано, не продумано и не осознано. Только известно – и все. Я на войну пошел (добровольцем, не абы как), не осознавая тогда, что и зачем делаю. Понимая. Но не осознавая. Между пониманием и осознанием во-о-о-о-н какая дистанция. За раз не допрыгнешь, и за два, и за три. Тут время необходимо, и Достаточно длительное, и отчаянная работа в голове, беспрерывная, беспаузная и безостановочная. Дистанцию эту сначала надо постичь, а потом преодолеть. Я когда на войну пошел, еще сам не сам был. Я миром тогда был повязан окружающим, я спорил с обстоятельствами, боялся – смертельно – неудачи, я радовался, когда солнце, и чертыхался, когда хмарь. Я на войну направился только для того, чтобы от дискомфорта внутреннего спастись, от депрессии, или, поточнее скажем, я отправился за постоянным ощущением скорой смерти, которую тем не менее можно избежать. (Если повезет, конечно.) Кстати, весь кайф-то основной был именно в этом – повезет, не повезет. Я врос в войну по самую макушку, не оставив ни кусочка себя где-нибудь в стороне. Я врос и растворился в ней. И именно потому, что растворился в ней без остатка, переживал до полного телесного коченения за все, что как-то не так, по моему разумению, там со мной происходило: что трушу, например (а такое бывало часто), что чужую жену трахаю, что групповым сексом занимаюсь, что марихуану курю, что героином колюсь, что водку крепко пью, что женщин и стариков иногда убиваю по необходимости, – до ночных кошмаров переживал, до обильного пота по утрам, до звериного воя в горах – когда был один, – до холодного ствола во рту – на рассвете… И только после семя месяцев, проведенных в постели, а не после и не во время войны, как, казалось бы, это должно было бы быть, я сумел постичь и преодолеть расстояние, отделяющее понимание от осознания. И если бы я сейчас на войну отправился, то видел бы теперь ее и себя, конечно же, по-другому. Во-первых, если бы я отправился,. то знал бы наверняка, зачем отправился. Не эмоции и чувства были бы ныне основными причинами моего там появления и пребывания, а четко и ясно обдуманная, четкая и ясная цель. То есть со всеми решениями, а затем и делами, я, как водится, управлялся бы по-прежнему, но только теперь я смотрел бы на себя как бы со стороны, я наблюдал бы за собой – тихий, спокойный, усмешливый, отзывчивый, на радость наплевательский и на горе. Потому как осознавал бы уже, что жизнь одна и прожить ее надо. Теперь любое свое переживание, а они непременно возникали бы, я бы уже знающе препарировал и отбирал бы себе то, что мне нужно, а то, что не нужно, я выкидывал бы к чертям собачьим. Или даже так, да, вот так, нет, не выкидывал бы к чертям собачьим ненужное, а оставлял бы все как есть, и только бы дивился, посмеиваясь или поплакивая, глядя на то, как переживаю, волнуюсь. (Мать мою, ты смотри, надо же, как переживаю, умею ведь, а интересно, долго ли я так переживать стану или коротко? А не пора ли, мол, на хрен всю эту мерихлюндию тут же взять и прекратить, например, ежели какое другое дело имеется – запросто. И в сей же миг, трах-бах, и прекратил, и зажил – дальше, до следующего волнения-переживания.) И опять дивился бы, когда придет новое переживание, усмешливо-снисходительно, ах, надо же, как могу, как могу-то! Маму вашу под самую, не скажу чего… И именно так ко всему-всему, что и как со мной происходило бы, я теперь и относился: ем ли я, допустим (ты смотри как ем, жую, глотаю, ощущаю вкус, потрясающе), пью ли (водка, между прочим, на вкус горькая и противная, а я пью се тем не менее, значит, нравится, и ведь нравится), иду ли (смешно как, смотри, получается, одну ногу вперед ставлю, а потом другую вперед – почему именно так? – а стопа-то, стопа, сначала на пятку становится, а потом уже и вся полностью с мягкой тяжестью на землю ложится – кто так придумал, отзовись!), сплю ли (сплю ли и во сне знаю, что сплю, и зная, что сплю, сочиняю сны, сначала трудно, сначала не получается, но надо пробовать, пробовать, интересно ведь), говорю ли (чувствую, как вибрирует гортань, как язык касается влажного неба и теплых зубов, как отлипают друг от друга, когда надо и когда надо, сходятся вновь мои губы, забавный процесс, неужели у всех так, а не только у меня?), ругаюсь ли с невежливой продавщицей в магазине (чтобы еще ей, глупой, такое сказать поизящней, поостроумней, чтоб самому посмеяться и ее не обидеть), влюбляюсь ли (эка роскошь – волнуюсь до боли сердечной перед встречей с ней, да хотя бы и не первой, встретив, говорю ей слова, кои до того и в мыслях не держал и не ведал даже, что и знал-то их с какого-то времени, соблазнительно целую пальчики, обмирая от их перезвона), желаю ли что-нибудь такое, чего не хочу делать, но знаю, что делать это необходимо (удивительно, и занятно одновременно, и забавно, что ни говори, как замедляется ход моих мыслей, как стойко я сопротивляюсь своим же движениям, как подступает к моему горлу тошнота, когда я начинаю говорить, и как радостно вместе с тем становится оттого, что я знаю, что я могу все мешающее одолеть, как бы мне трудно то ни было…). Как случилось так, что я постиг и преодолел названное расстояние между пониманием и осознанием (хотя так ли все на самом деле или мне только кажется), я не могу разъяснить никоим образом. И лишь для того, чтобы хоть что-нибудь сказать, скажу, что я просто много думал, думал о том, как мне это сделать, я искал пути и находил – неверные отбрасывал, и вновь искал и вновь потом находил – неверные; как и все, сопротивлялся поначалу плохому в мыслях, например, предположениям несчастий, неудач, болезней, смерти, а потом незаметно для самого себя перестал почему-то сопротивляться и принял это плохое, какое бы действительно плохое оно ни было, вернее, смирился с тем – любым, что может со мной произойти (или мне так казалось и кажется до сих пор) и продолжал думать, думать, думать, думать, до страшных головных болей, до спазмов в желудке, до галлюцинаций… И вот в один добропамятный день перед самым обедом, предвосхитительно вкусным, состоящим из рыбного супа, из нежного эскалопа с жареным картофелем, цветной капустой, свежими помидорами и маринованными огурцами, и раками, и душистой дыней на десерт, я неожиданно сказал себе, вдруг усмехнувшись, уже в кресло свалившись, сказал: «И какой же херней я занимаюсь, мать мою!» – и рассмеялся, расхохотавшись, дивясь, и заливаясь, и едва не захлебываясь. И когда перестал дивиться, выдавив весь смех до конца, до самой последней-распоследней веселой нотки в голосе, сидя в кресле, расслабленный и бездушно равнодушный, вдруг увидел, так же вдруг, как и засмеялся, в себе другого – Наблюдателя. И подивился ошеломленно, крутя головой, телом и креслом, в котором сидел, – как же все просто, как! И почему же я раньше этого самого Наблюдателя в себе не разглядел? Почему? Вот так все оно и было (если, конечно, мне можно верить). И в постель я уже свою больше не вернулся, отобедав сытно в тот день. Я, улыбающийся, в приятном возбуждении ходил по квартире туда-сюда и всем, что в ней есть, любовался, и всему, чего нет, радовался. И не могу сказать, что я о чем-то думал, когда ходил, нет. Я, скорее, чего-то внутри себя легко и не больно касался, как птица концом крыла прозрачной волны. А касался я примерно так. За окном лето, оно сильное и красивое, оно может, если захочет, победить зиму, склонить к сожительству весну, подружиться с осенью, оно может раскинуть сети и поймать все звезды, которые в эти сети поймаются, и привлечь затем эти звезды на Землю, и тогда мы точно узнает, одиноки ли мы во Вселенной или нет. Но, конечно же, мы не одиноки, мы узнаем, и на других планетах есть собаки и кошки, только там они по-другому называются и по-другому выглядят, но их тоже любят, они тоже любят, и они, конечно же, полюбят и нас, когда увидят нас, потому что они умные, а мы можем, конечно, поначалу испугаться, потому что вид у них будет непривычный, так же как и у их хозяев, но потом мы заглянем к себе в сердце и найдем место и для них, и для их хозяев, найдем быстро, потому что оно там им уже уготовлено, место, еще с того момента, как мы родились, там всем место уготовлено, всем, кто жив и не жив, плохим и хорошим, хотя трудно сказать, кто плохой и кто хороший, ясно другое, что всем там место уготовлено. Сердце большое, оно бесконечное так же, как и время, в котором живет Вселенная и в котором живет каждый из нас, и если мы захотим по-настоящему, на самом деле захотим, то мы то время, которое живет в каждом из нас, можем по своему усмотрению замедлить или убыстрить, а для того чтобы этого захотеть, необходимо учиться это желание у себя вызывать, учиться делать его постоянным, учиться делать его мощным, всепоглощающим и единственным. Очень сложно научиться делать так, но можно. Не все, конечно, готовы к этому, но главное, что такие уже есть, и были, и будут, и они должны потянуть за собой других, тех, которые пока еще хотят иного – быть несчастливыми и некрасивыми. В синем небе, висящем над землей, есть красота и стремление, в деревьях, растущих под окнами, есть красота и стремление, в горах, которые громоздятся неблизко отсюда, есть красота и стремление – хоть они и неподвижны и не могут действовать, а во многих людях нет ни красоты, ни стремления, хоть они и способны действовать, и нет потому разницы между такими людьми живыми и другими такими – мертвыми. Они ждут, и ничего не приходит. А есть, которые не ждут, и им тоже ничего не приходит… А я жду, жду дольше и сильнее, и нетерпеливее их всех, и ко мне тоже ничего не приходит, ничего… Хотя я и не представляю даже, чего я ладу и как хотя бы примерно выглядит то, чего я жду, я вес равно знаю, что оно приходит. А действовать страшно. Потому что не знаю как, не знаю где и не знаю, чем все это кончится. На войне-то было понятно, как, где, зачем и чем все кончится. Там всегда приходило то, чего я ждал… Но почему я так пессимистичен? Сейчас ведь во мне все по-иному. Я познакомился с Наблюдателем. А с Наблюдателем не страшно. Я забираюсь в себя и вижу – не страшно… Надо зажечь огонь, чтобы длинными были языки, в полроста или полный рост, и прыгнуть туда и танцевать с саламандрой под лапку, умирая и воскресая» такой, какой есть, но другой… Примерно так текли мои мысли. Легко и не больно. Непоследовательно и нелогично. Конечно, я не стану спорить, может быть, мое тогдашнее состояние можно было объяснить тем, что я просто-напросто прекрасно отдохнул, и ничем иным. Да, еще полгода назад я бы объяснил бы произошедшую во мне перемену именно так, но сейчас бы я засомневался в таком утверждении. В чем и продолжаю сомневаться. А дальше было так. «Хватит! – сказал я не вслух, обращаясь, зная, к кому. – Довольно! – воскликнул невосклицательно. – Будет! – хрипел бесшумно, смирившись с положением дел. – Нет времени больше бездействовать, есть да спать, да мочу гонять, вставай, поднимайся, до святости далеко, надо что-то делать, чтобы что-то произошло, случилось хоть что-то, как до того семь месяцев не случалось чего-то. Иначе зачем меня назвали Нехов, а не как-то иначе, иначе, иначе, зачем?» И не стоит, подумал одновременно, когда так решил, задаваться целью еще не совершенного действия; почему, мол, и для чего я буду делать то-то и то-то, главное делать, А каков настанет результат, плохой или хороший, кто может судить? Не я. Только Создатель. А он не станет этим заниматься, как не занимался никогда, значит, некому судить, а значит, все равно, какой будет результат, и будет ли какой вообще. Хотя, конечно же, будет, все кончается когда-никогда. (Именно так я, наверное, понимаю мир – все кончается когда-никогда). Закончится ли то, что я начну, неудачей или, может быть, даже смертью, Наблюдателю все одно будет интересно это наблюдать, и потому я могу делать все, что угодно, когда угодно и где угодно, но только делать, делать, делать… «Но Бог мой, – мелькнуло вскользь, забывшись вскоре, – надолго ли меня хватит?» Что для начала стоит придумать? Не имел представления. Представляя всевозможное (из того, что знал и оттого мог представить). Перебирал разное, перебранное отбросив. Например, сразу отбросил все виды преступлений, И все вероятные виды творческой, как говорят в народе, работы тоже отбросил, так как не знал, конечно, какой из них мне стоит заняться. При слове «женитьба» захохотал, а при слове «ребенок» невольно потянулся к остроотточенному длинному кухонному ножу. Вспомнил я пехоту и родную роту и тебя за то, что дал мне прикурить. Прикурил и думал дальше. Все варианты с раздачей собственного имущества бедным тоже были мною отвергнуты, поскольку на всех его не хватит. Выдвинуть себя в народные депутаты? Скучно. Уйти в бизнес? Еще скучней. Выступить с Мавзолея с проникновенной речью, а потом застрелиться? Нет предсмертного размаха. Да и умирать пока не хочется. Ближе всего моим ожиданиям соответствовала мысль найти какого-нибудь старого друга, который сейчас в беде и который сейчас нуждается (неважно в чем, в чем-то) и помочь ему бескорыстно и самоотверженно. Я тотчас стал вспоминать всех друзей и не вспомнил никого, потому что их у меня не было. Были коллеги. Были соседи. Были однополчане. Друзей не было. Теснее всего к понятию «друзья» стояли однополчане. Я набросился было на записную книжку, а затем и на телефон, но так и не придушил его трубку, подумав, мать мою, что для таких ребят, с которыми я воевал, предложение помощи прозвучит как оскорбление… И все же я разрешил мучившую меня проблему действия-бездействия. Первым делом я оборвал телефон. Затем закрыл свою квартиру на ключ. Крепко-накрепко, Потом достал из стола наручники и прикрепил свою правую руку к радиатору отопления, а ключик ловко выкинул в открытую форточку. Первые два дня я думал о времени. Следующие два дня о нежных свиных эскалопчиках. К вечеру пятого дня я увидел ангела. Он играл на Волшебной флейте и был похож на Моцарта. На шестой день пришел Гиппократ и долго массировал мне спину, поясницу, ноги, и особенно пятки и пальчики. После Гиппократа заглянула Смерть и дала мне закурить из синей пачки «Житана». Мы покурили, поговорили о том, о сем и она ушла, посмеиваясь. На седьмой день кто-то врезал мне подзатыльник и сказал в самое ухо, ласково и с угрозой: «Если ты, мудак, сейчас же не найдешь возможности освободиться от этой мутоты, я перестану любить тебя!» После подзатыльника сознание мое сделалось ясным, прозрачным и привлекательным. Отяжелевшими, но все еще видящими глазами я оглядел комнату. К удовольствию своему, я не обнаружил вокруг ничего такого, что могло бы мне помочь открыть замок наручников. Я возрадовался тому, как положено, и вследствие того же почти перестал биться сердцем. Но получив еще один, крупный и далеко не дружеский подзатыльник и еще одну угрожающую угрозу, мол, давай, сучок, а не то… дрожащими и холодными пальцами я в тот же момент принялся отковыривать паркет, где полегче, досочку за досочкой, скоро и торопливо. И вот в одной из паркетин я обнаружил наконец-то что искал – гвоздик небольших размеров. (Паркетины иные мастера под радиаторами прибивают гвоздиками, чтобы те от постоянного жара не отклеивались.) Тот гвоздик я вытащил зубами, расшатав себе эти самые зубы и раскровянив десны. Вытащив, взял гвоздик в слабую руку, и после примерно получаса возни отомкнул все-таки замок наручников. Когда через две недели я набрал вес и забежал в себя, я похвально оценил все сделанное мною на оценку плюс. После произошедшего я был постоянно радостен, энергичен и знал наверняка, что впереди будет то, что будет, даже если будет наоборот. «Надолго ли меня хватит?» – из далекого далека выскакивала изредка мысль и тотчас убегала туда же трусливо. Окончательно окрепнув, задумался опять. Поискал. И не нашел. И опять поискал и опять не нашел. И в третий раз поискал, хорошенько-хорошенько, как никогда. И нашел. И совсем не удивился этому. А чему удивляться? Ведь искал же! В газете «Все обо всем» я прочитал объявление о том, что, позвонив по такому-то телефону, любой из читателей может запросто провести несколько приятных минут или часов с дамой любого возраста, даже самого нежного, само-го-самого, там так и было написано «самого-самого». Я позвонил. Мне ответили. Мы договорились, Я приехал. Мы встретились. Парень был высок и мускулист и глуповат на вид. Он сказал мне: «Если ты мент, ничего не докажешь. Никогда, Мало ли какая телка захотела с -кем потрахаться. Если не мент, но если хочешь заложить – отрежу яйца и заставлю тебя их сожрать. Давай бабки». Это он мне все в машине говорил, возле которой мы встретились, где-то на Речном вокзале, и в которую потом сели, когда поняли, что мы – это те самые, что вчера о том о сем и договаривались. Деньги я отдал, понятное дело, без сопротивления, но с сожалением (я всегда с большим сожалением расстаюсь с деньгами, хотя, несмотря ни на что, я человек совершенно нежадный). Ехали потом, покачиваясь на неновых рессорах, сколько-то времени, недолго, покуривая и не переглядываясь. Когда возле, помню, десятиэтажного дома, розового, остановились, парень мне этаж назвал и номер квартиры, той самой, куда мне идти следовало. И сколько звонков надо сделать, тоже сообщил, не таясь. Все случилось так, как он и говорил, слово в слово. Дверь мне открыла девочка лет десяти, одетая и накрашенная, как девочка лет двадцати, – в мини-юбке, в прозрачной блузке, на крутых шпильках, с густо-красными губами, в румянах, с толстыми от туши ресницами, и в довершение всего ударно надушенная. Девочка мне понравилась. Миленькая, стройненькая, красиво улыбающаяся, обаятельная, и даже кокетливая. Когда я шел за ней в комнату, подумал невольно, что не прочь схватить бы ее сейчас, стянуть с нее юбку и блузку и бросить остервенело ее, маленькую, на приближающуюся кровать и не менее остервенело кинуться на девочку самому. Особенно укрепился я в этой мысли, когда заметил, что на девочке не колготы надеты, а чулки, удерживаемые тянущимися под юбку тонкими белыми резинками. Но все же я посильнее оказался, чем на самом деле думал. Я сглотнул слюну и удержался-таки, успокаивая себя тем, что как только приду домой, агрессивно помастурбирую перед большим зеркалом… Не помню уже, что я девочке говорил, но речь моя была серьезной и долгой, и, по-моему (на тогдашний момент), исключительно убедительной. Девочка слушала меня, раскрыв рот (и все остальные полости, как я предполагал), первые минут десять, пятнадцать – и совершенно не врубаясь, о чем я ей говорю. Однако через какое-то время, долгое-недолгое, она стала, мне показалось, что-то соображать, а еще через какое-то время, она наконец поняла, что я от нее хочу, и захохотала искренне и весело и, перестав смеяться, тихо заметила, неглупая, что, спасибо, мол, вам большое, но спасать ее не надо, ей ужасно-ужасно нравится то, чем она занимается, и что заниматься тем, чем она занимается, гораздо лучше, чем ходить каждый день в школу и сидеть за партой и общаться с малолетками, и слушать мудовых учителей, которые сами не знают, что говорят, потому что не знают, говорят что. В школе скучно, безлико, темно и один день в школе похож на другой. Нет новых знакомств, неожиданных ситуаций, отсутствует дух праздника и радости. А здесь каждый клиент несет с собой неожиданность, а может быть, даже и смерть. Где гарантия, спрашивала меня десятилетняя девочка, что вот ты сейчас не возьмешь и не придушишь меня – от страсти ли, или, например, вследствие маниакально-депрессивного состояния. Нет гарантии, отвечал я про себя, печально качая головой. Да и ко всему прочему, говорила мне третьеклассница, она до восторженных обмороков любит мужчин и их члены, особенно пятнадцати-двадцати сантиметровые члены, не больше, и обязательно со светлой и чистой головкой. Она может смотреть на такие члены часами, ласкать их, разговаривать с ними и не единожды кончать при этом! Ну и деньги, конечно, конечно, играют немаловажную роль в ее жизни, откровенничала школьница, а здесь она имеет их немало. Но члены и деньги, возражал я, не самое главное в жизни. Придет время, и она узнает, что есть и другие ценности. Любовь, семья, дети, работа, творчество в конце концов. Когда придет время, отвечала мне двоечница, тогда и узнаю. И если то, о чем ты только что сказал мне, понравится больше, чем члены и деньги, я тут же брошу свое занятие и стану тотчас создавать семью, заводить детей, работать, и творить. И как мне было с ней не согласится, со второгодницей? Ведь права она была, мерзавка, права… Но я не согласился. Я пришел сюда с совершенно иными целями. Я пришел спасти заблудшую душу от скверны, грязи и позора. Хотя нет, не так – а вот так – я пришел действовать. Здесь за "какие-то пару часов я вряд ли смогу убедить нимфетку в неправильности ее жизненного выбора. Так что надо взять ее домой, и там уже, не торопясь, вести с ней разъяснительную работу. И потому без замаха тюкнул я ей тогда в подбородок, сидящей, после чего она, красивая, и завалилась на бок как есть в сей момент, погнавшись тщетно за убегающим своим сознанием. А я тем временем, пока она гналась, дверь открыл и оглядел лестничную площадку. И, не увидев никого там, зарадовался, как не радовался давно еще, с самого позавчера, когда что-то было, но что, не помню. И, вернувшись в комнату, к кровати, взял ее легкую и водрузил себе на плечо и вышел из квартиры. Догадывался, что у подъездной двери дежурит кто-то, но надеялся, что этих кого-то будет немного, а может быть, даже и один. Справлюсь. Но тут случилось не как рассчитывалось. На лестничной площадке этажом ниже неожиданно навстречу мне откуда-то, откуда ни возьмись, сурово двинулся тот парень, что деньги у меня брал, глуповатый, но крепкоплечий. Он ухмыльнулся и спросил, мол, что это у тебя там. «Где?!» – изумился я. «А на плече» – «А на каком?» – «А на левом». Я посмотрел на левое плечо недоуменно и когда девочку там увидел, сказал печально, но искренне: «Боюсь, тебе не понравится мой ответ», – и хотел было пройти мимо. Но крепкоплечий дорогу загородил мне и хотел, поганец, меня за горло схватить, и тут я ему резко в промежность кулаком заехал, а потом быстро в середину живота, а потом еще быстрее в область сердца. Парень хрюкнул вонюче и упал в грязный кафель, тут же перед моими глазами. Я девчонку тогда осторожно на пол положил и парня обыскал, и найдя у него в карманах куртки деньги, и свои и чужие, взял только свои (я же честный человек) и, опять прогульщицу на себя взвалив, пошел преспокойно вниз к выходу. Снова девчонку на полу оставив, тихонько подъездную дверь приоткрыл, и туда-сюда посмотрел, никого вроде, и, подняв нимфетку, ступил на улицу. И ста метров не прошел, не успел, как девчонка очухалась и стала вопить, и бить меня кулачками по спине, и кусать меня за шею и за ухо. И пока я с ней возился, с придурковатой, тут и крепкоплечий в себя пришел и стал орать из окна на лестничной площадке: «Убейте его на х… Он телку с бабками унес! Убейте на х…». Он еще орать не закончил, как из двух тачек ребята молодые повыскакивали, спали они там, как я понял, отдыхали, и давай ходу ко мне. Я душистую, конечно же, бросил тотчас и помчался со двора, как можно быстрее. Не задыхался. Оглядывался. Через одно плечо. Через другое. Не отпускал тех четверых. Глазами их держал. Петлял. Петлял. Петлял. Глазами их держал. Видел, что они сноровистые. Что опытные. Что в армии служили. И, верно, не в стройбате. Петлял. Петлял. Петлял. Трое бежали. Один на машине гнал. Я во двор. И они туда же. Я в проулок. И они на пятках. Я через проходняк. И они сквозняком. Дышу. Дышу. Дышу. Слезы из глаз. Слюна с губы. А чего, думаю, бегу. Ухмыляюсь. Тормознусь в удобном месте. Поодиночке их завалю. Не успел додумать. То, что думал. Ба-бах, ба-бах мне в спину. Я к земле и кувырком в подворотню. Непростые ребята. Судя по хлопку, ПМы у них в руках. Бегу. Думаю: дальше. Думаю: недоношенную я пошел спасать, вспомнив фильм Мартина Скорцезе «Таксист» накануне, а почему бы мне сейчас какой другой фильм не вспомнить, где герой, уходя от погони, вбегает в подъезд ближайшего дома и тарабанит по квартирам, и трезвонит по ним же, мол, пустите, мол, гонятся, мол, убивают. Бегу. Думаю. Могу ли я уйти от них, не вбегая в ближайший подъезд? Бегу и думаю – могу. Я знаю эти места. Я знаю, куда я попаду минут через пять. Уйду, знаю. Уйду… И именно поэтому бросаюсь в подъезд ближайшего дома. И на каждом этаже во все квартиры звоню. Не открывают. Не открывают. Не открывают. Не открывают. Открыли!… Я втиснулся в щель и захлопнул дверь. Взглянул на того, кто открыл. На ту, кто открыла… Вот так, между нами говоря, и бывает. Только так и бывает. Я начал действовать. Плохо ли, хорошо ли. Талантливо ли, бездарно ли. Неважно. Я начал действовать! И случилось то, что не могло случиться последние лет десять. Я влюбился! Это былаОНА. Я потом даже женился на ней. Мы недолго с ней прожили, правда. Но зато как прожили. Я был счастлив эти дни и месяцы. Ей-богу! А тогда… Тогда я ей, конечно же, все рассказал. Она слушала меня чуть не плача, гладила меня по руке и повторяла: «Я не знала, что это ты звонишь, но я знала, что это ты звонишь!…» Я ушел утром, В юбке, блузке, шерстяной кофте и в седом парике. Побритый, конечно. Ребята меня ждали. Но так и не дождались. Суки! Но на этом я не остановился. Я влек себя дальше. Ровно как и «дальше» влекло меня. Мы оба были крайне привлекательными. И были на этом основании страстно увлечены друг другом – без сомнения. Дальнейшие" события развивались следующим образом. Учитывая, что за семь месяцев бездеятельного лежания я изрядно поистратился, я решил вернуться обратно в институт, в коем до моего лежания я на договорных началах подрабатывал переводами… Я вернулся. И не в самое лучшее время. Институт бурлил. Люди требовали повышения зарплаты. Дело в том, что сам по себе институт, занимающийся проблемами истории, конечно, прибыли никакой не приносил. Но… Нет при институте еще давным-давно была создана мощная издательская база. И эта база сейчас работала на полную катушку и приносила, естественно, немалый доход. Но сотрудники института от того дохода не имели ни копейки. Все излишки, видать, уворовывал подлец-директор. Когда, заливаясь слезами, водкой и компотом, работники института мне все это рассказали, я подумал, дрожа от восторга: «Ага! Вот оно – действие!». Не мешкая, я записался к директору на прием и в тот же вечер уже оказался у него в кабинете. Предварительно я, конечно, таинственно намекнул придурковатой секретарше, мол, никого не пускать – ссссссерьезнейший разговор мы будем вести, в том числе и о Вашей, Алевтина Ксенофонтовна, зарплате! Что я не сделал первым делом, когда вошел в кабинет к этому низкорослому ушастому и носатому пятидесятилетнему притырку, так это я не поздоровался. Я просто подошел к столу, ухватил подлого начальника за его жиденькие волосенки, подтянул его голову к себе и несильно ударил мягкокостного по кадыку. Притырок захрапел и потерял ориентацию. Тогда я достал из куртки припасенный кусок крепкой веревки, надежно обвязав ею ноги директора, другой конец веревки привязал к радиатору отопления, после чего открыл окно и, приподняв директора, перекинул его через подоконник и стал потихонечку травить. Когда директор весь оказался за окном, из-за подоконника торчали только его ноги, я спросил его ласково: «Ну, что, пиздюлина, будем делиться?!» «Аааааа… Еееееее…, Иииии… Ооооооо… Ууууууу… Эээээээ… Ююююююю… Яяяяяяяяя…» – ответил белогубый директор, что, по моему разумению, означало следующее: «Уважаемый и любезный Антон Павлович Нехов, с великой радостью и удовольствием сообщаю Вам, нижайше, и с поклоном, и с изъявлением почтения, и всего такого прочего, что с сегодняшнего дня все сотрудники моего института будут получать столько, сколько они хотят, исходя, конечно, из нашего реального дохода, – и ни копейкой меньше. А уворованные мною деньги я самым скорейшим образом верну, кто бы сомневался, в казну института». Именно это, собственно, на самом деле его мычание и означало, в чем я и убедился, вернув директора после его короткой речи обратно в его директорское кресло, потому как, сев в кресло, директор тут же, без последующих уже слов, подписал протянутый мною и подготовленный заранее бухгалтерией приказ о повышении зарплаты и гонораров. После чего я развязал лопоухому ноги и строго-настрого приказал никому о нашем разговоре не рассказывать, и ни милиции, ни государственной безопасности не доносить, потому как директор прекрасно знает, что у него есть родные и близкие, в частности жена и дети, и случись что не так, никто не может гарантировать им сохранение здоровья и жизни – ни Бог, ни царь и не герой. Директор кивнул обреченно. И я понял, что он все понял. Всю следующую после этого события неделю я готовил к печати перевод книги Стивена Топсона «История как наука о смерти», три года назад прогремевшего в мире научно-популярного бестселлера. В конце недели мне позвонили из издательства «Юпитер» и предложили издать эту книгу у них по таким-то и таким-то гонорарным расценкам. (Обращались они именно ко мне потому, что все права на книгу Топсона имела моя будущая жена, та самая, которая спасла меня от погони, – Топсон был приятелем ее отца.) Расценки были умопомрачительные, не то что у нас в издательстве (даже после моего разговора с директором-притырком мы смогли повысить размер гонорара только в три раза), и я, конечно, согласился, не раздумывая. Связаны ли эти события друг с другом – беседа с подлецом директором и бешеный гонорар за книгу – не знаю. Но знаю, что связаны. И вот тут почувствовал я, что я вроде сейчас как на принудительных работах. И перестать бы действовать уже хотелось – и так что до невмоготы доходило, – а не получалось, потому как понуждало меня что-то к действию, что-то такое, что было свыше, наверное, и пихало меня в спину и пинало под зад, давай, давай, мол, сучий потрох, действуй, мать твою. «Нет, нет, – молил я. – Не хочу, отвык я действовать за пять-то годков, что с войны прошло. Да еще так глупо действовать, так нелепо, так бесполезно по сути, так бесполезно по сути! Ну, женщина досталась мне, ну, несколько денежек привалило – все одно бесполезно» Но не прислушивался я никак к своим же утолительным мольбам и, отрешившись решительно от себя, просящего лихорадочно, искал, что бы еще такое сделать, что-нибудь не такое, что все, кто вокруг, не делают и не хотят, что-нибудь. Что-нибудь. Не зайди ко мне соседка (та самая, которая продукты мне приносила, когда я бездельничал семь месяцев) в какой-то вечер и не расскажи она о том, что мучит се и волнует ее, и волнует и до смерти преждевременно догоняет, я, конечно, разумеется, что-то другое обязательно бы придумал, может быть, похуже, а может быть, и получше, но придумал бы, и несомнительно, и несомненно. А тут и думать не пришлось – когда соседка-то мне все рассказала. Ее семья состоит из четырех человек, рассказала соседка. Она, муж и двое детей, мальчик и девочка, и живут они такой семьей вот уже много лет в однокомнатной квартире. «Знаю, знаю, – кивал я, – дальше». Трехкомнатную квартиру ее семье обещали еще аж годков пять назад – по закону в соответствии с очередью, – и все никак не дадут до сих пор, все никак. Все какие-то люди находятся, кто той квартиры трехкомнатной больше достоин, – то начальник какой, то бизнесмен, то родственник чей-то, то любовник, то любовница. И кет сил больше, говорит соседка, ходить по префектурам и по мэрии и правду там искать, нету сил, в пору удавиться,, предварительно детишек мокрозубых придушив и зануду мужа-трезвенника заколов. «Так кто препятствует? – спросил я, наливаясь горячей радостью. – Кто конкретно?» – «Префект, – отвечала соседка. – Он, поганец кривоухий» – «Иди, – сказал я соседке, – и не думай более ни о чем. Веселись и песенки пой. Будет тебе квартира, я сказал». А я, сам себя похваливающий и бранящий сам себя одновременно, стал собираться, как только за соседкой захлопнулась входная дверь, стал собираться в поход. Не одного дня дело, знал, а потому, пока собирался, усилием сильным настраивал свой организм на полнейшую и скорейшую мобилизацию, дабы квалифицированно и, разумеется, успешно выполнить данное себе задание. Прежде всего я проверил исправность фотоаппарата, оснащенного мощнейшим телеобъективом, и диктофона с десятиметровым радиусом восприятия звука, затем почистил и смазал револьвер системы Кольта, пересчитал фирменные стальные отмычки, снял ржавчину с фомки и убедился, использовав кухонную табуретку, в работоспособности японской мини-электропилы (изрубал табуретку в куски к чертям собачьим, по-собачьи воя и хохоча по-собачьи). А после того как сложил все необходимые предметы в большую спортивную сумку фирмы «Рибок», сел к телефону, взял в руки записную книжку и стал названивать всем, кто мог бы мне на несколько дней одолжить свой автомобиль. Задача оказалась самой из всего прочего труднейшей. Народ наш вообще по сути своей жаден и подозрителен. А те особи, которым я звонил по поводу автомобиля, оказались еще и самыми примерными и достойными представителями этого народа. При словах: «Ты не мог бы мне одолжить автомобиль на недельку за деньги, разумеется», на другом конце провода я слышал сначала тишину, а потом громыханье нервно бьющегося сердца, потом хрип, невольно вырывающийся из горла, а потом слабый, уже умирающий голос: «Ты понимаешь… Здесь вот какая вещь… Я не знаю, как тебе сказать… Я понимаю, что ты оплатишь и прокат, и ремонт в случае чего… Но вообще-то у моей машины… корь, нет, скарлатина, нет, ветрянка, нет, свинка, нет, сифилис, гонорея, трихомонада, цирроз карбюратора, уремия, воспаление втулки, дистрофия…» Машину нашла мне все та же соседка. Кореш ее мужа-трезвенника алкоголик-актер из музыкального театра одолжил мне свой автомобиль всего за ящик водки. Теперь я был готов полностью. Префект оказался молодым сравнительно мужиком. Лет сорока, не более. Гляделся он стройным, гибким и достаточно привлекательным. Имел четко очерченные зеленые глаза, мягковатый нос и длинный пухлый рот. «Ага, – глубокомысленно сказал я себе, сделав первый снимок префекта, когда он выходил из своего офиса. – Ага, кого-то ты мне напоминаешь, чистенький ты мой». Короче, увидев префекта, я понял, что задание, которое я дал себе, не столь трудно выполнимо, как казалось до того, как я впервые увидел префекта. Единственно, кто мог бы сейчас помешать моим планам, это охрана. Машина с двумя телохранителями в первые два дня моего наблюдения постоянно следовала за «Волгой» префекта всюду, куда бы он ни ехал. Но на третий день я понял, что охрана меня волновать не должна. Дело в том, что на третий день, выйдя из офиса, префект отпустил охрану. Более того, он отпустил и шофера своей «Волги». После чего сам сел за руль и, неуклюже стронувшись в места, поехал туда, куда должен был, судя по всему, приезжать один, без свидетелей. У метро «Университет» он тормознул и открыл дверцу перед двумя молодыми ребятами, которые, по всей вероятности, именно его-то и ждали. Мальчишки были застенчивые и тихие, дорого одетые и выглядели оба примерно лет на пятнадцать-шестнадцать. Когда они сели в машину, я заглянул в салон «Волги» через телеобъектив и удовлетворенно поцокал языком, увидев достаточно ясно, как мальчишки отнюдь не по-дружески расцеловываются со стройным префектом. Еще через минут семь «Волга» остановилась возле десятиэтажного дома за метро «Проспект Вернадского», где, выйдя из машины, все трое направились в этот самый дом. Я успел вбежать в подъезд вместе с ними. Они доехали на лифте до третьего этажа. По звуку я определил, в какую квартиру они вошли. Поднявшись, я осмотрел замки и убедился, что открыть эти замки для меня будет пустяковой забавой. Я вышел из подъезда и вернулся к машине. Через час я сказал себе: «Пора». А дальше все просто. И быстро. Я готовился дольше, чем работал, – собирался там, проверял, чистил, пилил, исправлял, а с самой работой я покончил за две минуты, ну за три, если быть точным, ну за четыре, если принять во внимание, что я слегка завозился, подбирая отмычки (все время отвлекался – то кто-то по лестнице спускался, то кто-то по ней же поднимался, то кто-то из лифта выходил, то кто-то в лифте застревал, то собака пробежала и меня облаяла, то кот подкрался и ластиться стал, то девочка крохотная попросила ей шарик надуть, то какая-то женщина требовательно настояла, чтобы я ей сумку подержал, пока она дверь открывала, то какой-то старик с лестницы грохнулся, и я его поднимал, бедолагу свистящего, то алкаши какие-то приехали на третий этаж пописать, и мне пришлось гнать их с улюлюканьем до самого первого этажа, то девица какая-то вдруг за спиной объявилась и, без раздумий и слов, не спросив фамилии, стала обнимать меня и за член хватать и за ухо покусывать – ее мне тоже пришлось с топором и криком до первого этажа гнать), ну хорошо; за четырнадцать минут я работу завершил, за четырнадцать, и ни минутой больше, я помню. Десять минут я замки отмыкал и четыре минуты в самой квартире болтался. В квартиру я вошел бесшумно, едва дыша. Закрыл за собой дверь, прислушался. По стонам и всхлипываниям быстро определил, где означенные трое пребывают, И затем, взяв фотоаппарат наизготовку, неожиданно для них, но не для самого себя, влетел в комнату – беспрерывно щелкая автоматическим затвором аппарата и беспрестанно мигая его же ослепительной вспышкой. (Картинки, что я нащелкал, были что надо.) Ошеломленные от моего вторжения, все трое, как один, застыли, кто как был, козлы, и ни слова, конечно, вымолвить не могли. И я сказал тогда, усмехаясь, аппарат в сумку запихивая: «Ну что, пидоренок хренов, говорить будем или глазки строить?» Квартиру, конечно, префект моей соседке дал, куда ж деваться, хорошую квартиру, пятикомнатную, а не трехкомнатную, как планировалось, в престижном доме, в центре города, куда ж деваться. Более того, префект решил и меня поощрить за такую самоотверженную заботу о людях. Да. Он мне машину подарил, не новую, правда, но на ходу, чистенькую, ухоженную (у нее потом, правда, коробка передач рассыпалась и задний мост полетел, ну так то же потом было). И вообще префект неплохим малым оказался, мы с ним даже вроде как подружились, гуляли пару-тройку раз совместно, трахались даже как-то вместе – он в одной комнате, помню, двух малолеток имел (по привычке), а я за стенкой тем временем двух подружек тех малолеток. Префекта этого сняли через год за какие-то там незаконные махинации с землей. После чего дружить я, конечно, с ним резко перестал. А на хрена мне нужен этот педик вонючий, после того как его от власти отлучили, на хрена? Но и на этом я не успокоился. Не успокоился и вообще вовсе. Беспокоился я о том – о сем, о чем не надо – больше, о чем надо – меньше или наоборот, потому как не знал, о чем надо, – если бы знал, перестал бы беспокоиться и счастьем бы озарился, засветился бы, залучился бы и в святого бы превратился бы, короче, больше небожителем бы стал бы, чем земножителем, или кем-то другим, возможно, – если бы узнал, о чем беспокоиться надо, а о чем не надо и, вообще, стоит ли делать и то и другое. Как-то случилось, что однажды один мой приятель, коллега по институту истории, тоже переводчик, веселый и недалекий, пригласил меня погостить в выходные в его только что купленном деревенском доме – в Шатурском районе, под Москвой. И я согласился. А почему бы не согласиться отдохнуть в выходные в Шатурском районе? Мы славно там провели время. Пили водку, пили чай, беседовали, философствовали (я философствовал, в основном), гуляли по лесам, и степям, по долинам, и по взгорьям. Помню, с лосем повстречались, помню, лисицу вспугнули; и ягод набрали, и грибов, и подышали легко и свободно. К вечеру в воскресенье в дом к нам зашел мужичок местный, приземистый, пришибленный, с огромной родинкой на верхней губе. Принял стакан и стал на жизнь жаловаться. Мол, не могут они, простые и честные сельские труженики, на некоторых московских рынках торговать своим экологически чистым и вкусным продуктом, картошкой там, яблоками, огурчиками и капустой. Вернее, могут, но при условии, если очень и очень большие деньги заплатят тем людям, что на рынке командуют. В частности, именно такая вот беда на Малашевском рынке каждый раз случается. «Так, – сказал я. – Так, – почувствовав, как начинаю мелко дрожать от возбуждения и нехорошо улыбаться, продекламировал со значением: – Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, нетронутая даром, бандиту отдана?…» Директор Малашевского рынка (больше похожий на потомственного дипломата, чем на рыночного торгаша) дал мне разрешение на торговлю и, тяжело посмотрев мне в глаза, сказал: «Торгуй. Завтра к вечеру разберемся, что и как». Я выгрузил картошку и стал торговать. Завтра к вечеру ко мне подошли два мускулистых паренька – небритые, сонные – и объявили сумму. «Хорошо, – сказал я, – пойдем поговорим». Мы вышли из павильона и пошли в дальний безлюдный конец рынка. Солнце уже почти исчезло. Пришли сумерки. Когда парни остановились и развернулись ко мне, я не спеша вынул из-за пояса револьвер Системы Кольта с прикрученным к стволу глушителем и выстрелил одному из парней в колено. Парень заорал истошно и свалился тотчас. Второй хотел было правую руку за пазуху сунуть, но чуть-чуть не успел, следующим выстрелом я перебил ему локоть. Когда и второй малый свалился, я обыскал парней тщательно, корчащихся, вынул у них ПМы и положил пистолеты к себе в карман. «Ну ты, сука, пожалеешь, мать твою, – орал тот, что постарше, – в…т тебя мои парни!» Я тогда ему во второе колено выстрелил, а потом и в правый локоть, а потом и в левый. После чего перезарядил револьвер и то же самое со вторым парнем проделал. Потом какое-то время стоял и думал, убить или не убить их. Очень соблазнительно было убить их. Думал, думал и не убил-таки. Потому как резонно решил, что о ранении-то они вряд ли в контору заявят, а по трупам-то, наверняка уголовное дело возбудят. А с кем их в последний раз видели? То-то и оно. Я засунул револьвер за пояс и вернулся в павильон. И до закрытия рынка еще пятьдесят шесть килограммов продал. Удачно день у меня тогда сложился. После закрытия рынка я к директору зашел в кабинет. И когда в кабинете никого, кроме нас, не осталось, отстрелил директору пол-уха и, погрозив директору стволом, заметил строго: «Я такой не один. Нас таких много. Если что чего, ушами не отделаешься», – и отстрелил ему еще половинку от другого уха. В тот же вечер я позвонил шатурским мужикам и сказал, чтобы завтра утром они были тут в полном составе, груженые и бодрые и готовые к работе. Утром я ткнулся к директору, но его не было. Мужики приехали, заняли все прилавки. К полудню мы узнали, что директор написал заявления об увольнении и отбыл в неизвестном направлении. На следующий день прибыл новый директор. Мужики все гуртом (по моей подсказке) пришли к нему и, неловко поигрывая обрезами, обо всем с ним договорились. Весь тот день меня носили по рынку на руках, как героя. Задаривали продуктами, совали немалые деньги в карманы. Я брал, конечно, и то, и другое. Постановили также всеобще и громогласно, что отныне на этом рынке я буду получать все продукты бесплатно, сколько ни захочу (я хохочу). Я ехал домой и смеялся: одна команда сменила другую – хрен редьки не слаще (для другого, конечно, а для меня так слаще). Приехав домой и усевшись в кресло с усталым вздохом, я почувствовал вдруг, что мне страшно. Я понял скоро, что не ошибаюсь. Случилось так, что защитный панцирь, эти несколько месяцев меня облегающий, неожиданно почему-то спал с меня. И я нынче, мягкий, влажный и пульсирующий, один на один со всем миром остался. Я закрывал глаза и под веками, как на экране, видел скачущие в ритм ударам своего сердца черные тени. С каждой секундой, пока глаза были закрыты, тени скакали все быстрее и быстрее, и вместе с тенями скорее и мощнее начинало биться сердце. Беснуясь, оно взлетало вверх и било с ужасающим грохотом под горло. Я открывал глаза, крича и плача, и сердце успокаивалось понемногу, медленно, нехотя. А я продолжал тем не менее плакать и не мог остановиться, как ни хотел, как ни пытался… Мне снова, как и тогда, почти год назад, захотелось вернуться обратно туда, где я уже жил, но еще не был, туда, внутрь своей матери, где тепло, тихо и спокойно, где молено ничего не делать и ни о чем не думать, можно быть никому не нужным и ни в ком не нуждающимся, быть счастливым. Я накурился травки. Я напился «транков», Я забился под одеяло. Пролежав неделю, небритый, потный, вонючий, я пошел к окну и открыл его слабыми руками, и увидел солнце, и, глотнув воздуха, упал, хватая сознание, – нечищенными зубами и нестриженными ногтями. Упал тут же возле холодного радиатора, неуклюже согнувшись и неловко повернувшись. Очнувшись, выблевал на паркет всю оставшуюся желчь и неожиданно спокойно и ясно подумал, что неплохо было бы чего-нибудь поесть. Недельное голодание вернее марихуаны и транквилизаторов сделали свое дело. Груз тревоги и беспокойства не давил мне больше ни на затылок, ни на сердце, ни на живот. Я не ощущал больше тоски, и черные тени не прыгали больше на сером экране под веками. Но, заглянув в себя поглубже, я все же убедился, что страшок-то у меня хоть и маленький, но остался. Это открытие огорчило меня. Но ненадолго. Я позвонил знакомой даме. – И после первого же своего отчаянного семяизвержения об огорчении своем забыл (об огорчении, но не о страхе). Несколько лет я жил спокойно и тихо. Работал, работал, работал. Иногда отдыхал. Иногда выпивал. И вот тут я встретил Нику Визинову… И понял, что снова пора действовать – все равно как, все рано зачем, вопреки всем, вопреки всему. …Беспокойство и удовольствие от беспокойства, возбуждение и радость от того возбуждения переполняли меня, когда я говорил Бойницкой: «…потому что в противном случае я прикажу себе полюбить вас. А я очень горячий любовник. Я ни на секунду не оставляю в покое свою любимую, я ее трахаю, трахаю, трахаю… Пока она не перестает дышать и шевелиться. А с трупами я уже любовью не занимаюсь. Я же не некрофил в конце концов!» – «Я не думаю, что ты сейчас правильно поступил, сказав мне то, что сказал, – не глядя на меня, проговорила Бойницкая. – Но ты уже взрослый мальчик и, наверное, знаешь, что делаешь. И знаешь, конечно, и то, что за каждое слово нужно отвечать. И ты ответишь, – и она приподняла уголок длинного рта, изобразив неусмешливую усмешку. И, не меняя выражения неласкового лица, кивнула Нике: Нас ждут журналисты» Ника посмотрела на меня, сказала, улыбнувшись: «Я быстро. Только не уходи» – «Я не уйду», – сказал я. «Это мой первый показ. Мне нужна реклама», – сказала Ника. «Я понимаю», – сказал я. «Тебе что-нибудь понравилось из того, что уже показали?» – спросила Ника. «Мне понравилось все, что уже показали», – ответил я. «Ты умный», – сказала Ника. «Я знаю», – сказал я. «И глупый», – сказала Ника. «Я знаю», – сказал я. «Я все время думала о тебе», – сказала Ника. «Я тоже думал о тебе все это время, с того самого мгновения, как увидел тебя. И думаю теперь. И буду думать и потом», – сказал я. «Я хочу тебя», – сказала Ника. «Я хочу тебя», – сказал я. «Я хочу, чтобы сейчас, здесь ты раздел меня и вошел бы в меня, – сказала.Ника, – сейчас и здесь, и чтобы все смотрели, и чтобы все завидовали» – «Я готов», – сказал я. Я протянул руки и привлек Нику к себе, обнял ее, приблизил свои губы к ее губам… «Ах ты, сучка нетраханная! – прошипела над самым моим ухом Бойницкая. – Ты мне сцены устраивать?! Убью, мать твою!» – ощерилась, дрожала лицом, скрюченными белыми пальцами к лицу Ники тянулась. «Мне надо идти», – не обращая внимания на Бойницкую и глядя мне в глаза, сказала Ника. «Тебе никуда уже не надо идти!» – выцедила Бойницкая, опустила руку, отошла на шаг в сторону, прошептала что-то на ухо смуглому скуластому парню. Парень внимательно выслушал Бойницкую, от услышанного невольно глаза расширяя. Дослушав, развел руками растерянно. Бойницкая пихнула его в накрахмаленную грудь: «Иди, иди, иди, иди, иди!». Телохранитель поднялся на подиум и скрылся за кулисами. Бойницкая обернулась к Нике и повторила беззлобно уже, даже нежно теперь: «Уже никуда не нужно идти!»… Зал охнул. Зал ахнул. Зал взорвался. Зал зазвенел. Кто-то выругался. Кого-то вытошнило. Кто-то пукнул (я заметил, что таких почему-то было большинство). Кто-то схватил за грудь соседку. Кто-то взял соседа за член. Две старушки-инвалидки, сладострастно хихикая, полезли себе под платья. Все глубже и глубже засовывали в себя руки, пока руки не вошли в них по самые плечи. И только тогда старушки успокоились и захрапели. Официанты, кривляясь, вино и водку на подносах разносили, и всю эту водку с подносов сами и выпили, и попадали тут же меж разных ног мельтешащих, антиалкогольные лозунги нетрезво выкрикивая. Фотокорреспондент, что недавно свои ноги фотографировал, теперь приставил объектив фотоаппарата к виску, к левому и, перекрестившись, нажал на кнопочку, полголовы у фотокорреспондента как не бывало, а аппарат ничего, цел, даром что японский. С потолка капало – желтая мутная жидкость обольстительно пахла мочой… Дело в том, что на сцену вышли совершенно раздетые манекенщицы, голые как одна, маленькие груди свои с удовольствием демонстрируя и бритые лобки, улыбались, виски морщиня. «Последние модели Ники Визиновой, – заговорил динамик голосом Бойницкой (я видел, как она выдернула у ведущего микрофон и прилипла к металлу скользкими губами). – В этой коллекции молодая художница не превзошла самое себя. Минимум средств и минимум эффекта. Отражение отторгаемого подсознания молодого модельера видим мы в этой коллекции. – Бойницкая рассмеялась нарочито весело. – Глубоко запрятанный талант, который, как нам казалось, имел место, не мог больше терпеть непроницаемую темницу забвения и рвался наружу. Мой Дом помог художнице освободить трепыхающуюся сущность. Каналы нашими усилиями были открыты, но из них вышло только то, что вы видите. Диагноз о таланте был катастрофически неверен. Но, как вы знаете, дорогие господа, путь к совершенству усеян ошибками. Мы на пути к совершенству. Спасибо вам всем! Всем вам спасибо. Теперь попрошу вас пройти в другой зал. Что бы ни случилось, а от банкета мы никогда не отказываемся. Еще раз благодарю вас за то, что вы пришли к нам!» Не узнавая себя и думая, что она кто-нибудь другая, не та, про которую только что рассказали в громкий микрофон, Ника Визинова, не меняя цвета лица, а поменяв только цвет глаз (из голубых они превратились в зеленые, из зеленых в серые, из серых в вороные, из вороных в каурые, а из каурых обратно же в голубые – я всего этого, правда, не видел, но мне так показалось), ринулась, напряженно тонкими ногами по паркету ступая, вон от подиума, перед собой не глядя, под себя не глядя – в себя глядя. Не пустили ее крепкоспинные – плечом к плечу встали, бесстрастно в глаза Нике Визиновой уставились. Ника развернулась стремительно, глубокие дырки в паркете шпильками пробуравя (от паркетин, я видел, густой белый дым повалил), пошла к кулисам с еще большей, чем раньше, скоростью, цвет глаз меняя (я этого тоже не видел, но знал, что ото так). Задев меня на ходу локтем, попросила тихо: «Помоги мне». Зачем просить ей меня было, не знаю? Оскорбительна ее просьба для меня была, потому как я бы и так ей помог, попросила бы она меня или не попросила бы. Я направился вслед за ней, краешками обоих своих глаз за окружающей обстановкой наблюдая. Я заметил, что Бойницкая не глядела в нашу сторону – с журналистами разговаривала, я отметил также, что нас никто не преследовал и дорогу за кулисы нам никто не преграждал. Уже одетые манекенщицы молча смотрели на Нику и на меня, когда мы шагали меж них к другой двери. Сочувствия в их глазах я не заметил, но и злорадства тоже в них не было. Покинув комнату за «языком», мы очутились в полутемном коридоре, где пахло пылью и духами, свернув за угол, попали в другой коридор, где пахло краской и потом, поднявшись по лестнице, на которой пахло крысиным дерьмом и горящими свечами, мы оказались в коридоре следующего этажа, где пахло дорогими сигаретами и разрезанными лимонами. Сделав еще несколько шагов, мы вошли в комнату, на двери которой висела табличка: «Главный художник В. Визинова». В комнате пахло мылом и кофе. Ника закрыла за собой дверь. Отдышалась, опершись спиной на ту же самую дверь, что только что заперла, закрыв глаза и вздрагивая губами. Переведя дыхание, сняла платье, оставшись в одних крохотных трусиках, гладкая, чистая, подошла к трельяжу, облокотилась на миниатюрный столик, посмотрелась в зеркало и сказала выдохнув: «Смотри на меня» – «Я смотрю на тебя», – сказал я. Я сунул руки в карманы брюк, оперся плечом на стенку. «Закури, если хочешь», – сказала Ника, разглядывая меня в зеркало. «Я хочу», – сказал я. Я вынул сигареты, закурил. «Что ты чувствуешь, когда смотришь на меня?» – спросила Ника. Я не сдержал усмешки: «Ты прекрасно знаешь ответ» – «А ты все-таки скажи», – попросила Ника. «Хорошо, – кивнул я. – Я скажу. Я чувствую вкус горькой слюны во рту. Я чувствую жар на своем лице. Я чувствую холод в пальцах. Я чувствую, как кончик моего языка неожиданно гладит мои зубы, гладит мои губы. Я чувствую, как ему не терпится. Я чувствую, как с каждым мгновением он насыщается энергией, силой. Я чувствую, как мои губы скучают по другим губам. Я чувствую, как они шевелятся непроизвольно, имитируя поцелуй. Я чувствую, как в ожидании напряжены мои руки, моя грудь, я чувствую, как мелко-мелко и, кроме меня, никому незаметно, дрожат мои соски, готовясь к приему жадных и влажных губ. Я чувствую, как кусочки льда внутри меня касаются моих сосудов, моих мышц, моей кожи. Я чувствую воинственную и грозную готовность моего члена… Я чувствую, что ничего не боюсь, ничего вообще, кроме одного, что что-то помешает мне сейчас заняться с тобой любовью» – «Иди ко мне», – сказала Ника. «Я иду!» – сказал я. И пошел, медленно, на ходу с удовольствием снимая смокинг. «Не снимай», – попросила Ника. «Хорошо», – сказал я и снова натянул смокинг на плечи. Я вплотную приблизился к Нике, Дотронулся до прохладной кожи на ее спине. Ника вздрогнула и закрыла глаза и открыла их тотчас, сказала: «Смотри мне в глаза через зеркало. Я хочу видеть твои глаза. Не закрывай их, пожалуйста». Не сдерживаясь больше, я крепко прижался своими бедрами к ее упругим ягодицам… И, конечно же, а как могло быть иначе, мать вашу, в тот момент в дверь постучали. Еще и еще. Настойчиво. Ну, понятное дело, нас не могли надолго оставить в покое. Сейчас начнется разборка. «Никогда не надо чего-либо бояться, – проговорил я вслух. – Я всегда помню об этом, Я всегда следую этому. А сейчас ты настолько овладела мной, что я потерял контроль. Я стал бояться, что что-то помешает мне войти в тебя. Так оно и случилось. Какой-то мудак или какая-то мокрощелка помешали мне сделать это. Но тем не менее дверь я не открою и непременно сделаю то, что собирался». Упорно и неотвратимо подбираясь к ее дышащим ароматным теплом распаренным губам, застенчиво затаившимся между ее тонких и длинных полированных ног, я целовал Нике ее воздушный позвоночник, с упоением облизывал ее бархатные бедра, терся потным лбом о ее шелковые трусики, хрипел, стонал, плакал, смеялся и, главное, не думал, не думал, а значит, не беспокоился, а значит, не тревожился, а значит, не боялся, а значит, был сильным. Я не слышал, как взломали дверь; треск и грохот, верно, были впечатляющими, но только не для меня. Я едва почувствовал, как меня чем-то ударили по затылку, а удар, верно, был крайне мощным, потому что я тотчас потерял сознание. Я не знал, что произошло. Я не мог знать, что произошло, потому что я не хотел знать, что произошло (а что-то наверняка произошло, раз кто-то взломал дверь и ударил меня по затылку). Но на самом-то деле все, конечно, было не так. И не там. Меня окружала другая среда и другие люди. Вместо воздуха была вода. И двигаться в воде было чрезвычайно приятно. И дышать в воде было тоже чрезвычайно приятно. Я пускал пузыри, мягко и медленно махал руками, как воскресающий лебедь, и хохотал от восторга. Неподалеку от меня покачивался невесомо Лев Толстой. Только это был не тот самый Лев Толстой, которого мы привыкли видеть на фотографиях, картинках и видеопленке, а настоящий Лев Толстой. И являл он собой следующее: старичок, маленький, без бороды, с огромными ушами, с тремя-четырьмя волосенками, с круглыми глазенками, часто моргающий, то и дело с завидной регулярностью бьющий себя огромным членом то по одной, то по другой щеке. То по одной, то по другой. В редких между ударами паузах он с ненавистью смотрел на имитирующую игру в лаун-теннис Мерилин Монро. Вторичные половые признаки, как я заметил, у Монро отсутствовали, а на месте первичных я не углядел ничего, кроме лоснящейся кожи. На широких бедрах Мэрилин волнами перекатывался жир, по невыразительному плоскому круглому лицу желтыми блошками прыгали веснушки; а на огромных растоптанных ступнях длинными корявыми змеями извивались пальцы. Мячи Мерилин подавал Лермонтов, тот самый, но другой, стройный, широкоплечий, голубоглазый, усмешливый, со вкусом покуривающий «Житан», несколько дней модно небритый, с парой дуэльных пистолетов за поясом, весь, от начала пяток и до кончиков волос, дышащий сексом и войной. Я видел, как под Лермонтова, пакостно кривляясь, подныривал Наполеон. Подныривал, подныривал, и поднырнуть не мог. Никак не мог, потому что был безобразно худ, а значит, бесстыдно легок, а его все время выносило поверх Лермонтова, а не затягивало под него, как того Наполеон желал. На пергаментном теле Наполеона я читал французские надписи татуировок: «Не забуду мать родную и отца духарика», «Не кори меня, сестренка», «Всем стоять – мне сидеть», «Всем молчать – мне говорить», «Все «бабки» в гости к нам», «Вперед к победе монархического труда», «Не прыгайте с подножки – берегите свои ножки», «Пятилетку в четыре года», «Догоним и перегоним», «Боня плюс Жозя = любовь» и так далее. Чуть в стороне от Лермонтова и Наполеона в кровь бились мои прежние жены, все, как одна, четырехрукие и четырехногие и удивительно мелкоголовые. Бились смертельно, срывая друг с друга кожу, отрывая друг у друга руки с вызовом то и дело поглядывая на меня, скоро, мол, и до тебя дойдет очередь, твою мать, козел обоссаный! Над ними беспутно кочевряжился не один десяток моих неродившихся детей. Они пукали, писали, какали и тут же пожирали все то, от чего только-только еще освободились. Зрелище было пренеприятнейшее. Я отвел глаза. И посмотрел куда-то не туда. И увидел плывущего стремительно над всеми нами мужика, которого я никогда и знать не знал, и о ком, конечно, и не ведал и не догадывался никогда, хотя, несомненно, ждал его, как и ждали его многие другие, которые разумеется, хотели ждать. Он тонко и знающе улыбался и пристально и доброжелательно смотрел на каждого из нас по отдельности и на всех вместе одновременно. Я знал, что он летит со скоростью света, но тем не менее я видел его, более того, я мог разглядеть мельчайшие детали на его лице, на теле, и даже узоры нитяного плетения на его одежде. Я все это видел и мог все это дотошно разглядеть, и мог все это до мелочей различить, но я не мог об этом рассказать. Я в какой-то момент понял, что как бы я ни описывал его лицо, его тело, его одежду – все мои слова были бы истинной правдой. Нос у него длинный – правда, короткий – правда, мясистый – правда, острый – правда, глаза узкие – правда, длинные – правда, овальные – правда, некрасивые – правда, восхитительные – правда, взгляд, заставляющий его любить, – правда, заставляющий ненавидеть – правда, он был мускулист – правда, хил – правда, высок и строен – правда, уродлив, омерзителен – правда, все правда, правда, правда, чист – правда, грязен – правда, Бог – правда, дьявол – правда. Я знал, что знал, что знал, о том, что знал, что знал, кто он, но не мог сказать, кто он, – никому другому, и ни себе в том числе. Когда он проплывал прямо над самыми нами, надо мной, Львом Толстым, Мерилин Монро, Михаилом Лермонтовым, Наполеоном Бонапартом, моими женами и моими неродившимися детьми, в тот самый момент, а может быть, и чуть раньше, а может быть, и чуть позже, все разом они, они разом все – и Толстой, и Монро, и Лермонтов, и Наполеон, и мои прежние жены, и мои неродившиеся дети посмотрели вдруг на меня – сурово и непредсказуемо. И я вслед за ними тоже тогда посмотрел на себя – сурово и непредсказуемо, и ужаснулся. Я был не тот, я был другой. Я был сиамский близнец, о двух шеях и о двух головах, мужской и женской. Одна нога моя красовалась в джинсовой штанине, а другую до полбедра закрывала мини-юбка. Одну половину моего тела украшала прозрачная белая блузка, а другую – черная лайковая куртка. Все, кто смотрел на меня, продолжали смотреть на меня, и, продолжая смотреть на меня, незаметно для меня двинулись, непонятно зачем, на меня – плыли, посылая кверху пузыри, отпихивались от воды руками, и ногами. Вот схватили меня за одежду, за волосы, за руки, за ноги, потянули вверх высоко, высоко… Проплывающий над нами теперь проплывал под нами, сочувственно смотрел нам вслед, ненавидяще провожая нас взглядом. Я хотел крикнуть ему: «Помоги, помоги! Не хочу я туда, куда плыву сейчас! Здесь мое место! С тобой, под тобой, над тобой. Здесь мне хорошо, здесь я счастлив!» А сам не кричу, только пускаю пузыри, один за другим, звучно, смачно, отчаянно, как в последний раз, и вверх, все вверх плыву, не сопротивляясь ни непротивленцу Толстому, ни красавцу Лермонтову, ни бесполой Монро, ни дистрофику Наполеону, ни жадноруким и жадноногим моим женам, ни детишкам-говноедам, потому как знаю откуда-то, что рано мне еще кричать и о помощи взывать и что не надо мне оставаться тут, как бы ни было здесь хорошо, как бы ни было здесь удовлетворительно и даже, может быть, все-таки счастливо. Я плыл, отдаваясь воле всего, что имело волю, с каждым мгновением ощущая, как становится мне плохо, – тоскливо, тошно, крикливо, слезливо… Вот уже совсем немного осталось, едва-едва, слегка-слегка, конечно же, чуть-чуть, последний этот самый, он трудный самый – самый – гребок. Пихнула меня «группа сопровождения» что есть силы под самый зад. И взвился я ракетой вверх с бешеной скоростью, рассекая воду. Успел-таки тех, кто толкнул меня, взглядом поймать, голову опустив. И с удивлением обнаружил, что смотрели они мне вслед с завистью. Все, кроме жен, которые весело махали мне всеми руками и ногами и посылали, смеясь, мне водные поцелуи, и говорили что-то мне в подошвы, судя по движениям губ, что-то типа: «До встречи, любимый! Бай, бай!» Что-то типа. Я с пенным шумом вылетел из воды и тотчас открыл глаза. Прежде всего я увидел Бойницкую, суку, сидящую на краешке стола, на который совсем недавно еще опиралась руками полуголая, душистая Ника. Бойницкая курила и, щурясь, брезгливо разглядывала меня. Я проследил ее взгляд и понял, что она смотрит мне на то самое место, где у меня имеется один поразительно значимый в моей жизни орган, мать ее! Я опустил голову и с искренним удивлением увидел, что я совершенно голый, и орган этот мой замечательный полностью открыт этой суке на ее сучье обозрение. Я машинально хотел было прикрыть член руками, но сделать этого опять-таки, к недоумению своему, не сумел. Руки мои были связаны. И вот только после того, как я сообразил, что руки мои связаны, я решил, что теперь пора бы и обратить внимание, в каком вообще положении я нахожусь. Вообще-то я, как я все-таки догадливо догадался, сидел на стуле, а не стоял, как мне показалось, когда я только открыл глаза, хотя, может быть, я еще тогда, когда открыл глаза, а потом меня посадили на стул, а может быть, я всегда сидел на стуле, что скорее всего, потому что, как же я мог стоять, да еще со связанными за спиной руками, когда я находился без сознания… Уууф, грамотно размышляю! «Ну хорошо, – Бойницкая мужским движением затушила окурок в пепельнице (резко и сильно втерла его в керамику). – Иди сюда», – сказала кому-то. Я повернул голову влево, вправо. Затылок откликнулся тупой болью. Оттолкнувшись от затылка, боль ударила по вискам, по лбу, по переносице. Мне захотелось сморщиться и вскрикнуть, но я лишь дернул щекой и моргнул глазом. Слева и справа от меня стояли крепкоспинные, целых трос, расслабленные, бесстрастные. Ника вышла откуда-то из-за моей спины. Она была уже одета. Ника подошла к Бойницкой и встала рядом. Посмотрела на меня, усмехнулась криво, повернулась к Бойницкой, сказала: «Ну?…» Бойницкая обняла ее за плечи, кивнула в мою сторону, спросила: «И это тебе нравилось? И с этим ты хотела трахаться? Я понимаю – это временное затмение, аффект, вызванный неадекватной ситуацией, произошедшей сегодня, но… Все же надо быть более разборчивой и более внимательной, моя дорогая. Я сейчас тебе хочу кое-что показать и кое о чем рассказать. Я сделаю это для того чтобы в следующий раз у тебя не возникало соблазна иметь дело с подобным ему. Смотри и слушай…» Не переставая лениво ухмыляться, Ника посмотрела на меня чуть сонными, излишне влажными глазами – на мой член посмотрела, на мой живот, на мою грудь, на мою шею, на мое лицо, мимо моих глаз, на мой лоб, на мои волосы, и выше посмотрела, и выше, и смотрела, смотрела, пока не застряла взглядом на потолке. Я хотел спросить Нику, почему она так странно смотрит на меня, почему она так странно смотрит мимо меня. И не смог. Потому что обнаружил в своем рту вонючую тряпку – кляп, мать его! Бойницкая нежно погладила Нику по волосам и затем слегка надавила на затылок Ники, заставив таким образом Нику снова смотреть на меня. «Смотри и слушай, – мягко потребовала Бойницкая. – Прежде всего обрати внимание на его ступни. Они большие. Они грубые. Они гораздо больше и грубее, чем твои и чем мои». «Вот сучара! – подумал я. – Все не так! При моем стовосьмидесятивосьмисантиметровом росте я ношу обувь всего лишь сорок третьего размера. И ступня моя предельно мала и незабываемо изящна в сравнении с моим, конечно, крупным телом. Вот сучара!» «И они покрыты волосами, – будто рассказывая страшную детскую сказку, продолжала Бойницкая. – Жесткими упрямыми и колючими волосами покрыты и пальцы. Даже на мизинце мы видим волосы. На том же мизинце, посмотри, какой растет ноготь? Толстый, корявый, плохо, неровно остриженный. И хорошо бы такой мизинец был на одной ноге. Но ведь и на второй растет точно такой же. А теперь смотри выше. Все его ноги, от ступни до колена и от колена до бедра, покрывают все те же противные упругие волосы. И еще. Ноги его жесткие и мускулистые. Разве может вызвать желание четко, как на анатомической картинке, очерченный мускул? Линии тела должны быть мягкими, нежными, округленными, как, например, у тебя или у меня. Смотри, смотри, а где ты видишь у него линию талии? Его бедра не отделяются от его грудины. А если ты заглянешь ему за спину и посмотришь на то место, на котором он сидит, ты увидишь совершенно не обольстительные белые, сухие ягодицы, поросшие все теми же мерзкими неизводимыми ничем и никогда волосами. Над ложбинкой, разделяющей его зад на две половины, ты увидишь затем бугристую, потную, очень твердую даже на вид спину. Но не надо заглядывать ему за спину. Много омерзительного можно найти и со стороны его лица. Смотри, смотри, разве это соски, вон те маленькие, коричневые пупырышки, что виднеются среди все тех же злосчастных, зловонных, колючих волос? Разве можно эти неаппетитные соски сравнить с тем, что есть у тебя или у меня?… А обрати внимание на кость, что торчит у него из шеи. Гляди, как она шумно елозит изнутри его кожи, будто кто-то сидящий внутри этого недочеловека водит по его шее своим костянымпальцем… А кто там сидит внутри него, кто, кто? Ответь мне, кто?…» Ника запрокинула назад голову, как еще минуту назад, когда смотрела в потолок, и засмеялась громко, и сказала, отсмеявшисъ, но все еще вздрагивая плечами, губами: «Там сидит настоящий, истинный он. Скользкий, вонючий, слепой…» «Умница, – похвалила ее Бойницкая, – умница…» «Что с тобой, Ника? – кричал я беззвучно. – Где ты, Ника? Я не вижу тебя, Ника? Та, что стоит передо мной, это не ты, Ника! Или-, может быть, все же это ты – такая, какая ты есть на самом деле?!» «Посмотри, как вздулись жилы и жилки на его шее, – говорила Бойицкая. – Посмотри, как они извиваются. Они похожи на червей, бьющихся в предсмертной агонии. Стоит надавить на них, и они брызнут гноем, черным и удушливым. А разве может когда-либо возникнуть желание, чтобы хоть единожды, хоть едва-едва, хоть совсем ненадолго до тебя дотронулся этот рот, эти губы, сухие и бледные? Разве могут вызвать страсть едва видимые из темных глазниц жестокие и злые глаза, – теперь Бойницкая почти кричала. Или не почти. Трясла перед собой длинным тяжелым указательным пальцем. – И разве можно, смотри, смотри, получать удовольствие от этого никчемного, одним своим видом вызывающего тошноту, гадюкообразного отростка, что болтается у него между ног? Ответь мне, можно? Можно? – Бойницкая ухватила Нику за кофту на груди и встряхнула Нику, что есть силы: – Можно?!» – «Нет! – вскрикнула Ника, закрыв глаза и покрутив головой, – Нет! Нет! Конечно же Я вижу. Я слышу… Я знаю. Я не могу понять сейчас, как я могла еще несколько минут назад целовать этот смердящий кусок мяса, непромытый водой и мылом, необлагороженный вниманием и лаской, укутанный в грубые и некрасивые одежды, решительный и сильный, опасный и непредсказуемый… Я не понимаю, как я могла увидеть любовь там, где ее нет. Там, в этом человеке есть только воля, движение, пренебрежение равно как к поражению, так и к победе, свободная походка, быстрый и ироничный взгляд, потухшая сигарета в уголке губ. То есть все-все, что так противно нашим с тобой простым и ясным натурам. Я не понимаю, как мог разбудить мое воображение и возбудить мою плоть этот словно литой и всегда готовый к атаке розовый мускул, этот бесцеремонный, вечно лезущий, куда его не просят и в общем-то никчемный и совершенно лишний шлангообразный отросток… Я сейчас не могу взять в толк, как я могла ласкать его и целовать его… Я знаю, что, если я стану снова целовать его, то меня стошнит… Я знаю. Я могу доказать. Могу» – Ника провела сверкнувшим тысячью бликов языком, по горячим губам, вздрогнула ноздрями, шагнула ко мне мягко и встала на одно колено, медленно и липко сжимая и разжимая свои веки. Бойницкая смотрела Нике в затылок стылыми глазами, прозрачными, хрустально поющими что-то тихо, шептала какие-то слова, кривя губы, и сказала тогда, когда прошептала неслышное, вслух: «Ударь его!» И повторила, прежний взгляд на другой не меняя: «Ударь его! Получи удовольствие». Ника замахнулась на меня и опустила руку, и опять замахнулась и опять не смогла ударить меня, Я заметил, что она плакала. Слезы текли не только из ее глаз, они текли отовсюду, с ее лба, с висков, они текли из ее бровей, они сочились меж пальцев ее рук, они пузырились в щелях меж паркетин, они капали с потолка, бились в закрытые окна, они застилали мои глаза, они забивали мой нос, в них захлебывались мои мысли, в них тонули мои Стоны. «Это делается вот так, – засмеялась Бойницкая. – Я покажу тебе. Запоминай». Бойницкая быстро шагнула ко мне и со всего размаху ударила меня по щеке, потом наотмашь хлестнула меня по другой щеке, потом мыском лакированной зеркальной туфли придавила мне член и левой рукой умело нанесла мне удар в переносицу, и еще вдогон покрасневшими костяшками в рот. Продолжая веселиться, взяла протянутую кем-то из крепкоспинных милицейскую дубинку и принялась молотить меня изо всех, по всей видимости, что у нее на тот момент имелись, сил. Через какие-то минуты я перечеркнул все надежды когда-либо выбраться отсюда, и потому перестал, естественно, обращать внимание на детали происходящего и отмечать самые малозначительные подробности, которые каким-то образом могли бы помочь мне справиться с ситуацией, и полностью отдался опьянению, получаемому от боли наносимых ударов… Вскоре я уже стоял на корме скрипучей и мокрой каравеллы и грязно, не по-русски ругался. Я клял королеву Изабеллу, море, свою мать, черта, матросов, звезды, мадридских проституток, четырнадцать впустую потраченных лет, горы и реки, землю и небо, свои съежившиеся от влаги ботфорты, пропахший рыбой и дымом камзол, солнце и несправедливое провидение. Если сегодня я не увижу землю, говорил я себе, то к вечеру я вздерну себя на рее. Я знал, что именно так я и сделаю, как решил. И я был готов к смерти. Я не боялся ее. Я боялся только одного – не увидеть землю. Я вынул из-за пояса сыромятную плеть-треххвостку: свинцовые шарики, болтавшиеся на кончиках хвостов, глухо стукнулись друг о друга, здороваясь. Я хлестнул себя по плечам, по спине, я хлестал все сильней и сильней, по ребрам, по шее и снова по плечам, и по спине. Я рвал губы в клочья, но не кричал. Я знал, что поступаю правильно. Если бы я не начал бить себя сейчас, то через минуту-другую я был сошел с ума от ожидания. Под толстой фуфайкой и под груботканым камзолом, на кипящей потной спине, я вдруг ощутил холод, Я отбросил плеть, закрыл глаза и внимательно пригляделся к своим ощущениям. Я увидел свой позвоночник – он был покрыт инеем и от него шел пар. Мой позвоночник раньше меня знал, что сейчас произойдет, Я, не мешкая, развернулся лицом к носу судна, остервенело, рыча скатился с юта и, разбрызгивая во все стороны пот с лица, помчался вперед. Никто меня не останавливал. Никто и не мог бы меня остановить. Я бы убил любого, кто попытался бы меня остановить. Я бежал с вытянутой в сторону носа каравеллы рукой и кричал что-то, кричал, кричал. Я взбежал на нос и наконец-то увидел ЕЕ. «Вот! – заорал я, – Вот!» – и тряс пальцем в ЕЕ сторону. «Где? – суетились матросы вокруг, терли глаза, жмурились, моргали, протирали грязными фуфайками подзорные трубы. – Так где же, командор?! Мы ничего не видим!» А я видел… Видел… Тонкую серую полоску на горизонте. Я упал на колени и захрипел, кривясь. Бедра мои вздрогнули и задергались в конвульсии, я вперся руками в палубу, и не стесняясь никого, долбил, долбил воздух окаменевшими мускулами. Когда горячая влага мощными толчками выплеснулась из меня, вся до конца, я рухнул на грязные доски… и тихонько засмеялся… засыпая, блаженный… Блаженный. Я открыл глаза и увидел Бойницкую, которая что-то совала в нос Нике. Ника вдыхала это «что-то» и целовала Бойницкой се пальцы, и облизывала их, закатывая глаза от восторга. Лица женщин светились и были удивительно добры и прекрасны. Такие лица бывают только у тех, кто ЛЮБИТ. Только у тех. Бойницкая что-то сказала крепкоспинным. Я не слышал, что. Потому что я вообще ничего не слышал. В ушах моих до сих пор стоял шум океана, крики матросов и мой собственный хрип. И еще я слышал, как песочно шуршит воздух, касаясь океана, и как глухо бьют тяжелые волны о скрипучие борта каравеллы, и как те же волны, откинувшись от взбухшего дерева, несутся к берегу с негромким шелестом, и запрыгивают со звонким шлепком на соленую землю, я слышал, как визжат чайки, предупреждая нас о том, что берег близко и рассказывая нам о том, какой он – берег – жаркий, сухой, желтый, зеленый, благоухающий, чужой, я слышал, как колокольно звенит, разматываясь скоро и нервно, якорная цепь, я слышал звук удара своих подошв о качающееся дно корабельной шлюпки, я слышал стон весел и кашель матросов, я слышал шорох пороха и скрежет камней на ружьях, я слышал жесткий писк вонзившейся в берег шлюпки, и гортанный низкий говор тех, кто до этого шумел на берегу перьями, бусами, скрипел кожаными одеждами, я слышал вопли их и боевые кличи, ухающие удары копий в шлюпочный борт, бульканье матросской крови, беспорядочные выстрелы ружей, я слышал собственный вскрик, когда гортанно говорящие поволокли меня по песку, я слышал шепот веревки, которой мне связывали вытянутые вперед руки, я слышал щелчки расстегиваемых крючков и пуговиц своей одежды, и снова гортанный говор и затем треск раздираемой кончиком копья кожи на своих ягодицах, и еще, и еще я слышал БОЛЬ… Звуки были похожи на звуки взрывающихся у тебя в голове десятка пороховых погребов. Первый взрыв вернул мне зрение. Я посмотрел перед собой и увидел свое лицо. Оно глядело мне прямо в глаза – из зеркала. Я лежал грудью на гримировочном столике, точно так же, как еще какие-то секунды или годы назад лежала тут обнаженная Ника Визинова. Над собой – в зеркале – я увидел еще одно лицо. Я понял, что сзади меня стоит один из крепкоспинных и, ухмыляясь, пристраивается всем своим мужским хозяйством к моему заду. Грохнул еще один взрыв. И я почувствовал, как вдруг зачастило пулеметно сердце, как свирепыми грозными потоками понеслась кровь – в венах, артериях, капиллярах, в зубах, в глазах. Бедрами я оттолкнул крепкоспинного, ушел влево и с большого размаха связанными руками ударил его по стоящему члену. Крепкоспинный не успел согнуться, вернее, он даже не шевельнулся еще, а я уже бил его в сплетение, а потом в кадык. Крепкоспинный завалился назад нескончаемо медленно, как при съемке в рапиде. Пока он падал, я ловко выхватил связанными руками у него из-за пояса пистолет. Поднял пистолет к своей шее, прижал затвор подбородком к груди и, кряхтя и кривясь, взвел-таки затвор. А крепкоспинный все еще падал. Он еще не дотронулся до земли. Второй телохранитель, который стоял у входной двери, тоже медленно, очень медленно, удивительно медленно сунул руку за пазуху. Пальцы его еще не скрылись под смокингом, а я уже успел прицелиться и выстрелить. Я увидел, как пуля, не торопясь, вылетела из ствола и, лениво крутясь вокруг собственной оси, без суеты и торопни полетела напрямик ко второму крепкоспинному. Она летела, летела. И, наконец, долетела. И вонзилась ему в правое плечо. Нехотя – клочьями – в стороны разлетелась материя смокинга, и еще через какое-то время тихо плеснула кровь из раны. И только теперь первый телохранитель, наконец, упал, вернее, пока коснулся только лишь пола и едва-едва укладывался на спину. Я быстро повернулся к женщинам. Глаза у Бойницкой были закрыты – в тот момент, когда я посмотрел на нее. Открывались они тягуче, как спросонья. Я заметил в них безумный испуг. А потом глаза снова стали медленно закрываться. Сама Бойницкая за это время, по-моему, так и не пошевелилась. Ника прекрасным изваянием застыла рядом. С открытым ртом. С высунутым язычком, словно приклеенным к верхней губе. Я не удивился происходящему. Один раз со мной случилось уже такое. На войне. Я остановил время. Свое время. Тогда, как и сейчас, я был быстр и сноровист. А все, кто находился вокруг меня, двигались в десятки раз медленней меня. Тогда меня хотели убить. А сегодня меня хотели трахнуть… Что, собственно, одно и то же. И мой организм остановил время. – Он спасал себя. Он очень хотел жить. Он очень хотел жить. Он действительно этого очень хотел. Но тогда на войне я еще не понял этого. А теперь понял. Но еще не осознал. Я счастливо рассмеялся, радуясь своему превосходству. Теперь мне надо было развязать веревку на руках, – пока все те, кто едва шевелился, продолжали едва шевелиться, суки. Оглядевшись, я нашел на столике длинные ножницы. Сев на стул, я зажал их меж коленями и принялся перетирать ими веревку. К тому времени, как Ника чуть отклеила язычок от верхней губы, мои руки уже были свободны. – Моя одежда мятым комком валялась в. углу комнаты. Я выдернул из комка свои брюки. Из кармана выпали часы. Я поднял их, взглянул на "циферблат. Часы стояли… Хотя нет, вот дрогнула секундная стрелка… Ну да, черт, я же забыл, что я остановил время. Я привычно надел часы на руку. И в тот же миг услышал истошный крик Бойницкой, и грохот падающего тела раненого в плечо телохранителя, и мат первого крепкоспинного, того самого, со спущенными штанами. Я заметил, что крепкоспинный уже достал из кармана пиджака нож и пытается встать. Я, не целясь, навскидку, спокойно (как в тире на тренировке) выстрелил крепкоспинному в член. Фонтанной струей с шипеньем хлестнула вверх черная кровь. Телохранитель повалился на спину и не издал больше ни звука. А Бойницкая тем временем продолжала орать. Высоко, громко. Пугаясь собственного крика. И оттого крича еще громче, еще выше и еще испуганней. Я перешагнул кастрированного телохранителя и подошел к Бойницкой. С ходу ударил ее рукояткой пистолета по переносице, потом посильнее по лбу. Бойницкая умолкла, изумленная. Я резко развернул ее к себе спиной и с оттяжкой саданул ее пистолетом по затылку. Она сложилась пополам. Я сорвал с нее брюки, колготки, трусы. После чего повернул к себе лицо Ники и сказал; «Смотри. Она обыкновенная женщина. И не более того. Обыкновенная. Не красивая и не уродливая. Самая что ни на есть обычная. И я сделаю с ней сейчас то, что мужчина обыкновенно и делает с обыкновенной женщиной…» Я вошел в Бойницкую при вздохе. Резко и мощно. Женщина вскрикнула. А затем завизжала. А затем задергалась передо мной змеисто в конвульсиях, задыхаясь, а потом прокричала шепотом: «Давай, еще, еще, не останавливайся! Я умоляю тебя!» – «Вот видишь, – я не отводил глаз от Ники. – Она всего лишь обыкновенная, никем не любимая женщина» Обыкновенная женщина, однако, выделывала необыкновенные вещи. Она крошила зубами спинку стула, на которую опиралась, и, выплевывая деревяшки и куски материи, истерично ругалась по-немецки: «Шайзе! Доннерветтер, тойфель, тойфель!», а пальцами, одновременно отдирала от близкой стены обои и штукатурку, свирепо просверливала вертящимися, как дрели, кулаками в ней дырки и, органично переходя на русский, пела в их пустоту: «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно». Она страдала, негодовала, прощалась с мамой я с папой, и с неродившейся сестренкой, икала, сморкалась, весело хохотала и умоляла кого-то по-французски томно; «Шерше ля фам, шерше ля фам вы нам, а мы вам, вам дам, а вам не дам, ам…» Она меняла головы и фигуры, И одежды. Я видел перед собой то Никсона, то Марию Стюарт, то Шекспира, то Жаклин Кеннеди, то бронекожего единорога, то толстенького лохматого человечечка, вкусно пахнущего разложившимся мертвецом, то барона Унгерна, то Флобера, то мадам Бовари, то Маргариту Наваррскую, то Александру Колонтай, то Катеньку Фурцсву, то Адам Перин, то Дантеса, облик которого плавно перетесал в облик Лермонтова и обратно, то Бенджамина Франклина, то Мопассана, то какого-то корявенького, то какую-то кривоногенькую, то кого-то еще, не имеющего пола и не молодого и не старого, голого и не одетого, который шептал горячо: «Прислушайтесь! Прислушайтесь! Прислушайтесь!…» Ника неожиданно лизнула мне лицо. Как собака. Слюняво и шершаво. «Да», – сказал я. И она лизнула еще. «Да», – сказал я. И Ника, слабо кривясь, и тихонько воя, прижалась ко мне, тесно и тепло, и сказала мне на ухо: «Я никогда не видела тебя. Кто ты?» И именно тогда Бойницкая, просунув руки в дырку, ухватилась за стену и рванула стену на себя. И закричала, погибая. И я закричал. И Ника закричала. Таившееся все это время во мне пламя полыхнуло из меня – в пепле сжигая Бойницкую. Стена качнулась и рухнула на нас. Мы лопались, как надутые лягушки, И нам было хорошо… Продолжая прижимать к себе Нику, часто и хрипло дыша, сухим языком облизывая сухие губы, я отступил от Бойницкой. «Скажи мне свое имя, скажи. Только скажи, и я отдам тебе все, что ты пожелаешь», – шелестела мне в ухо Ника. Я слегка отстранился от нее и взглянул ей в глаза. Слишком много кокаина она нанюхалась. Бойницкая оказалась щедрее, чем я думал. Кайф у Ники держался стойко. Но, судя по появившейся резкости движений, должен был скоро выдохнуться. Бойницкая с тихим стуком упала на колени. Голый зад ее потно блеснул в свете ламп. Бойницкая стонала, как профессиональная плакальщица, мотала головой из стороны в сторону. Я поцеловал Нику. Она с готовностью ответила. Провела знающими пальцами по моей мокрой груди, коснулась сосков, куснула мое ухо и неожиданно ясно произнесла: «Убей ее…» Да, конечно, я должен был убить Бойницкую. Я чувствовал это. Я чувствовал, что должен был убить Бойницкую. И сама Бойницкая догадывалась, что сейчас должно было произойти. Она не вставала с колен. Она продолжала сидеть на полу. И когда она спросила: «Что теперь?» я понял, что она обо всем догадывается. Я резко вытянул руку и приставил ствол пистолета к затылку Бойницкой. «Вот так, – прошептала Ника, завороженно глядя на пистолет. – А теперь нажимай…» Палец мой дрогнул, но спуск не нажал. Я нервно рассмеялся, облизнул губы, сосредоточился. И снова, мать мою, не смог нажать на курок. «Сейчас, сейчас, – скоро проговорил я, дернув головой в сторону Ники. – Спуск непривычный. Тяжелый. Сейчас…» Но к этому мгновению я уже знал, что курок сегодня больше не нажму. Как ни пытался, но я не смог вызвать в себе прежнюю, еще несколько минут назад бушующую во мне ненависть к этой женщине. И более того, к моему удивлению, у меня вообще пропало чувство мести. А оно ведь должно было быть, должно. Ведь Бойницкая только что издевалась надо мной и унижала меня. Она издевалась и над Никой. И унижала ее. А я люблю себя. А я люблю Нику. И еще я сказал себе, что эта женщина просто опасна для нашего с Никой дальнейшего существования. И если оставить ее сейчас в живых, она снова захочет завладеть Никой и уничтожить меня. Но ничего, кроме легкой усмешки, у меня мои слова не вызвали. Почему? Ведь я же ко всему прочему был твердо уверен, что такие, как Бойницкая, просто вообще не имеют право на существование на этой земле. Они лишние. Они бесполезные. Они вредные. Они не созидают. Они разрушают. Да, конечно, наверное, они необходимы жизни, как необходимы природе ядовитые растения и кровожадные животные, и пусть они живут, конечно. Пусть. Но только до тех пор, пока они не начинают разрушать что-то непосредственно связанное с тобой или самого себя. И вот тогда их необходимо убрать, смести, ликвидировать, убить. Чтобы не тратилась потом на борьбу с ними так необходимая для созидания энергия… Попытки уговорить себя были бесполезны. Палец мертво замер на спусковом крючке… Мне не нравится ее лицо, говорил я себе. Мне не нравится ее одежда. Мне не нравится ее манера говорить. Меня бесило в конце концов, когда я слышал, что она говорила. Претенциозная и амбициозная дрянь! Да и Бог мой, неужели так трудно убить человека?! Плохого человека! Не трудно. Я убивал и не раз. Но вот теперь что-то случилось со мной… Я опустил пистолет. Отступил на несколько шагов назад. Повернулся к своей одежде. Оделся не спеша. Сунул пистолет за пояс. Накинул на сидящую на краешке гримерного столика Нику свой смокинг, взял ее за плечо, сказал: «Пошли» – «Убей ее», – недобро глядя мне в лицо выговорила Ника. «Я только что занимался с ней любовью, – тихо сказал я. – Я только что кончил в нее. Я только что получил удовольствие. Это правда, я его получил. И пусть я хотел унизить ее. Разозлить ее… Но я занимался с ней любовью. И все мои чувства, способные заставить меня пустить ей пулю в затылок, сейчас утихли, растаяли, и исчезли». Произнося эти слова, я осознал вдруг, что говорю самую настоящую правду. Это действительно так. Наконец найдя объяснение, я негромко рассмеялся и попытался сформулировать это объяснение одной фразой: «Оргазм несет мир». Ночью я слышал, как разговаривали рыбы в озере. Я не понимал, конечно, о чем они ведут речь, но шепот их доносился до моего слуха ясно и отчетливо! «Ввввааааахххх-ххшшшшшуууууууииииииии… Фффффффххххххххоооооо-фыыыы. Аааааааммммммаааааа… Бббббблллллюююююю». Вот так они разговаривали. Вот так. И чем больше я их слушал, тем тверже убеждался в том, что если задаться целью и выкроить время, может быть, месяц, может быть, год, может быть, десять лет, то непременно можно выучить язык, на котором разговаривают рыбы в озере. Другое дело, стоит ли задаваться такой целью. Наверное, не стоит. Но если все же задаться, то язык озерных рыб можно выучить – это факт. Днем рыбий шепот заглушали не только крики птиц, завыванье ветра, шелест листьев, фырканье лося, рык кабана, писк лисицы, стук дятла, цоканье белки, скрип древесных стволов, кряхтенье пней, звяканье озерной ряби, треск сверчков, жужжание комаров, дыхание паучка, топот муравья, скрежет песчинок, но и рев пролетающего самолета, монотонный и беспрерывный гул людских голосов и мыслей, доносящихся со всех концов земли, да и немалый шум самого дневного света. Я заснул под утро. И спал очень крепко. И без снов. Проснулся радостным. И, подумав, решил: наверное, оттого, что ночью слышал, как разговаривают рыбы в озере. Я помню, что их шепот успокаивал меня. Глушил тревогу. Помогал избавиться от мыслей – от всех мыслей сразу. Я встал с постели. Машинально размялся. В охотку и очень энергично. Умылся холодной водой – из-под крана в углу комнаты. Растерся грубым полотенцем – до жара. С удовольствием оделся. Джинсы, кроссовки, майка, теплый свитер. Бриться не стал. Ну его! Отпер дверь. Вышел на улицу. Меж мокрых сосен синела тихая вода. Пахло размоченной хвоей, грибами и прибрежными водорослями. Было хорошо. И это правда. Много лет прошло с тех пор, как мне было так хорошо. В детстве, наверное, только. Или нет. Не только. Когда я был студентом, мне тоже было хорошо. Но тогда для того имелись причины. Прежде всего, тогда я был молод, и осознавал, что все, ВСЕ у меня впереди. (Так оно и было.) И от ощущения перспективы счастливо теплело под сердцем, и хотелось всего, чего можно было только хотеть. И, безусловно, верилось, что желания эти исполнятся. (Не без помощи, конечно же, меня самого, не без труда, не без пота, не без одержимости и страсти, но и не без помощи судьбы также.) А именно оттого мне было хорошо и счастливо. Сейчас иное дело. Сейчас у меня нет причин для счастливого и радостного ощущения жизни. Нет. И тем не менее я ощущаю эту радость. Я нисколько не сочиняю и не фантазирую, и не внушаю себе этого. Я действительно ощущаю радость. И между прочим именно потому, что сейчас у меня нет причин для радости, ни одной, а она вопреки всему владеет мной, именно потому нынешнее мое состояние было гораздо мне дороже, чем то прежнее – в детстве и юности. Второй день уже я жил на турбазе нашего института в Куранове, в ста тридцати километрах от Москвы. База работала только летом. И поэтому сейчас здесь никто не отдыхал. Кроме меня, конечно. А еще здесь жил Петр Петрович Мальчиков, мужчина шестидесяти шести годов, сторож, администратор, зимний директор, мой добрый приятель, отец погибшего на войне офицера-десантника, отменный стрелок, пьяница и классный автомеханик. Месяца три назад, еще летом, я пригнал ему сюда свою старенькую машину, ту самую, что подарил мне префект. Я просил Мальчикова подновить кузов и перебрать двигатель. Машина была готова через месяц. Петрович звонил мне, бил телеграммы. А я все не ехал. Дело в том, что в те дни меня совершенно не интересовала машина. В те дни я учился играть на фортепьяно. Меня, человека, обладавшего минимальным музыкальным слухом, на протяжении всей предыдущей моей жизни не покидало искреннее желание научиться сочинять музыку. Я испытывал страстное стремление творить новую, совсем новую, никогда еще не бывалую последовательность нот, ритмов и тактов. Но стремление то мое мною же наглухо всегда и подавлялось, потому как я никогда, говоря честно, не видел в этом своем стремлении целесообразной необходимости и необходимой целесообразности. Да и вправду, зачем? Развлечения ради только. А не много ли развлечений, говорил я себе? А где дело, настоящее дело? То, ради которого ты умрешь?… А вот этим летом я услышал «Весну священную» Стравинского и больше не смог сдерживать себя. За недорого (а она за дорого и не соглашалась) я нанял старую мамину подругу, бывшую преподавательницу Гнесинского училища. И занимался с ней восемь месяцев подряд. Каждый день. Я научился записывать ноты. Я научился играть тихие колыбельные и легкие вальсы. Я понял, что музыка – это мир гораздо больший и великий, чем он мне представился до этого. Но я так и не смог за это время ничего сочинить. То есть вообще ничего. Ни одной крохотной фразы. От огорчения и злости я поширялся неделю «в легкую» и, спрыгнув с иглы, дал себе слово заниматься в этой жизни только тем, что мне дается легко, без напряжения и в удовольствие, и только тем, что хорошо получается. Главное – тем, что хорошо получается. Это очень важно, когда хорошо получается. Я должен заниматься только тем, что у меня хорошо получается. Лучше, чем что-либо другое. И лучше, чем у многих других… «А куда ж тебе деваться, – сказал мне пьяный Петрович, когда я приехал в Кураново. – Куда? Рано или поздно лучшие из нас уходят от людей. Ты помнишь? Заратустра. Иисус. Будда. Я. А теперь вот и ты. А как же». Я верил, что он действительно считает меня одним из лучших. Больше трех лет назад мы в первый раз выпили с ним по стакану. И по второму. И по третьему. После седьмого он упал. А я после седьмого полетел поболтать к Богу. Разговор был длинный и утомительный. Утром я понял, что человечество ждет от меня истины. Не вставая с постели, я выблевал эту истину на пол. Всю до конца. Всю без остатка. «Ты был там?» – спросил меня Петр Мальчиков, после того как мы похмелились. «Там, – я поднял глаза к небу. – Как ты догадался?» – «По твоему лицу. По твоему голосу. По тому, как ты держишься сейчас. По твоему спокойствию. По твоему волнению. Все, кто летал поболтать с Господи, все похожи!» – «Ты тоже летал?» – усмехнулся я, «А как же!» – удивился Петр Мальчиков…«Был бы девкой, я бы отдался бы тебе, – сказал мне Петр Мальчиков, когда я еще через год заехал к нему на турбазу. В то утро он бил неожиданно трезв, чисто выбрит и свежо одет. – Был бы настоящим мужиком, – продолжал Петр, – я бы с удовольствием трахнул бы тебя. Был бы таким же, как и ты, человеком, я бы тебя убил, был бы завистником, я бы плеснул тебе в лицо кислоты, был бы Господом, я подарил бы тебе любовь всего человечества. Но я ни то, ни другое и ни пятое. И поэтому я просто стану уважать тебя. Уважать тебя, и все. И ты теперь всегда, в любое время, когда захочешь, можешь спросить меня: «ты меня уважаешь?» И я тебя отвечу, я тебя уважаю!» Петр был пьяницей. Пропойцей. Алкоголиком. В его сортире постоянно пахло спиртом. Петр признавался мне, что мочится водкой, а его дерьмо удивительно похоже на загустевший портвейн. К смерти он шагал в одиночку. Сын убит, жена умерла, младший брат повесился в привокзальном туалете. Ему, Петру, нечего было терять. А значит, он никого и ничего не боялся. А значит, ему незачем было кому-либо льстить. Например, мне. Я верил, что он действительно считает меня одним из лучших. Он был, пожалуй, единственным человеком, которому я хоть в чем-то верил, …На берегу я отыскал лодку. Доплыв почти до середины озера, я остановился. Прислушался. И заплакал, услышав ТИШИНУ. После того как мне надоело плакать, я рассмеялся и поднял лицо к небу, зажмурившись. Солнце быстро высушило влагу на моих щеках. И я опять стал прежним. Таким, каким сел в лодку, которую отыскал на берегу. Да нет. Конечно же, я стал другим. Немножко другим. Жадно и часто вдыхая воду, лес, траву, землю, облака, пролетающих птиц, мелководных рыб, головастиков, тритонов, мошкару и необычайно нежный и бархатный воздух, я неожиданно сказал себе, что в этой жизни самое важное – это жизнь. Я часто слышал эти слова, но никогда не понимал их. А теперь начал понимать. Жизнь и только Жизнь. А все остальное совершенно не стоит того, чтобы растрачивать на него самое важное, что у меня есть, – Жизнь. Я бросил весла, лег на дно лодки и закрыл глаза. Я решил проверить, действительно ли я понял, что ничего нет в жизни важнее самой жизни. Если я на самом деле это понял, сказал я себе, то первым воспоминанием, когда я закрою глаза, будет воспоминание об очень счастливом времени в моей жизни. (Конечно же, я знал, что все придумки мои о первом пришедшем в голову воспоминании глупы и нелепы, но тем не менее решил попробовать. А почему бы и нет, в конце концов!) …Пациентов в кабинете у стоматолога было двое. Я и еще девица на соседнем кресле. Я очень стеснялся, что буду кричать, когда доктор начнет сверлить мне больной зуб. А я непременно стану кричать, потому что я всегда кричал, когда мне лечили зубы. И кричал не потому, что не мог терпеть боль, я мог терпеть боль (лукавлю, конечно, я не знал тогда, могу ли я терпеть настоящую боль, мне было тогда всего двадцать пять лет, на войну я уйду только через полгода) – мне вырезали гланды и аденоиды, мне запихивали гастроскоп в желудок, меня били хулиганы, сорвавшейся пилой я однажды пропилил себе руку до кости, – но стоматологическое сверло доставляло мне боль, которая выходила за пределы моего терпения. Я знал, что буду кричать. Я боялся, что буду кричать. Я понимал, что именно потому, что я боюсь и стесняюсь кричать, я стану кричать еще сильнее, чем когда-либо. Так оно и случилось. Да и более того… Когда сверло свирепо вонзилось мне в зуб я, конечно же, вскрикнул страшно, и правой рукой непроизвольно ударил милую женщину в живот, а пяткой левой ноги что есть силы, тренированно, двинул по станине стоматологической машины. Бедная женщина с обреченным воплем грохнулась на пол, а вслед за ней повалился и плохо прикрепленный к полу, и состарившийся уже давно стоматологический аппарат. Звон, разумеется, громыханье, истерические визги, брань, столпотворение… Только один человек оставался спокойным в той неразберихе. Молодая девица, что сидела на соседнем кресле. «Большинство людей, – проговорила она, когда затихли вопли и грохот, – проживают свою жизнь очень негромко. И, конечно же, их никто не слышит. Их называют добропорядочными, положительными, правильными. Их любят и уважают. Но никогда не выделяют. Им никогда не придают значения. Потому что их не слышат. Человека должны слышать. Вот вас сейчас услышали. Теперь в этой поликлинике вас будут выделять, вам будут придавать значение. А легенды о том, как вы разгромили кабинет, будут передаваться из поколения в поколение стоматологических работников.» Я повернулся к ней только тогда, когда она закончила. На вид ей было лет восемнадцать. На голове она носила красивое лицо, а на бедрах короткую юбку. В ее крупных продолговатых глазах я увидел несколько очень неплохо прожитых ею предыдущих жизней. Так мне показалось. И именно так и оказалось. А еще я увидел дымящуюся капельку крови на ее нижней губе. Кровь кипела, пузырилась и быстро исчезала. Утро отнималось. Занимался день. «Так прекрасен этот мир», – сказал я. «Я с вами полностью и совершенно согласна», – ответила девушка и поправила рукой сбившиеся на лоб темные волосы. Именно такого и так именно сделанного движения и не хватало в эти мгновения в стоматологическом кабинете. Это было ясно, как ночь. Потому что тотчас, как только оно случилось, исчезла тяжесть из окружающей нас атмосферы. И улетучилось напряжение. И испарилось раздражение. И растворилась злоба. Стоматологи переглянулись и засмеялись. Принялись по-свойски хлопать друг друга по плечам и добродушно шутить. «Мы плохо и несовершенно устроены, – сказал я девушке. – Боги «отправляют нас на Землю в виде сырья. И сделать из того сырья приличный товар должны мы сами» – «Вы правы и не правы одновременно, – сказала девушка. – Мы можем поспорить.» Меня пересадили в другое кресло. Теперь я видел только затылок девушки. Вернее, ее темечко. И я не только его видел. Я еще и ощущал теплоту, исходящую из него. Жар. Он палил мне ресницы, и мне из-за этого приходилось часто моргать. «Перестаньте моргать», – попросила меня побитая мною несчастная докториса. – А то я стану подозревать самое худшее» – «Или самое лучшее», – предложил я. Стоматологическая дама рассмеялась и еще долго не могла остановиться. «Мы все твердим о естественности, – заметил я девушке. – А сами не понимаем, что это такое. Например, мы говорим, что страх, сомнения – это самые что ни на есть естественные человеческие эмоции. Но ведь такое утверждение совершенно неверно. Неверно совершенно. Мы можем поспорить» – «Я понимаю, что вы имеете в виду, – ответила девушка, отведя в сторону сжимающую бормашину руку стоматологического врача. – Если судьбу нельзя изменить, то и бояться нечего. А если можно, то тем более» – «Именно так», – кивнул я. «Но ведь вы не знаете, в какой степени вы можете влиять на судьбу. И можете ли вообще влиять, – сказала девушка. – Это незнание и порождает страх и сомнения. Так что эти эмоции действительно естественны». Сверкающие серебром бурильные машины вонзались в наши нездоровые кости и крушили– их отдохновение и пьяно, и невзирая на последствия. А мы кричали. Оба. Превозмогая боль. Оба. В унисон. Оба. Задушевно. Вдвоем. Я не могу сказать точно, что именно боль сроднила нас тогда. Но то, что она сыграла немаловажную роль в наших взаимоотношениях в дальнейшем, это достовернейший и чистейший факт, и не будем спорить, тут нет предмета для спора. Поднявшись с кресла, мы ярко улыбнулись друг другу, ясно догадавшись в тот момент, что первая наша встреча ни в коем случае не станет последней. Я шел вслед за ней по коридорам стоматологической поликлиники и откровенно любовался ее стройными и тонкими ногами, ее маленьким округлым задом, ее прямой изящной спиной, ее худыми плечами, ее светящимися волосами и ее призывной походкой. Я желал ее, эту чудную девочку. И не желал одновременно. Я видел, что она могла бы доставить мне массу удовольствия в сексе и вместе с тем где-то там, в самой-самой глубине души я чувствовал, что от этой девочки я смогу получить радость гораздо большую, чем ту, что доставляет секс. Мы медленно шли по Олсуфьевскому переулку и говорили. Она говорила. «Эмпирической базой, – рассказывала она, – возникновения «коллективного бессознательного» была установленная Юнгом во время его психиатрической практики схожесть между мифологическими мотивами древности, образами сновидений у нормальных людей и фантазиями душевнобольных. Эти образы «носителей коллективного бессознательного» были названы Юнгом «архетипами»… «Основное требование «позитивной метафизики» Бергсона, – сообщала она, – это опора на непосредственный опыт, с помощью которого постигается абсолютное»… «Язык мысли и поэзии, – продолжала она, – согласно Хайдеггеру, заслоняемый обыденным представлением о знаке как о ярлыке предмета, начинается с зова мира, ожидающего в своей смысловой полноте, чтобы человек дал ему слово, «сказал» его». «Не стоять, а двигаться. Не бежать, а идти навстречу. Делать то, что не хочешь, что дается с усилием. Беспрестанно до изнеможения трудиться. Вот к чему надо стремиться в этой жизни», – утверждала моя новая знакомая. Мы пересекли Пироговку и спустились к Саввинской набережной. Там на берегу мутной реки, опираясь на холодный гранит и разглядывая проплывающие трамвайчики, я языком дотрагивался до своего только что залеченного зуба и непрерывно полно радовался тому, что теперь на нем стоит пломба и что во всяком случае в ближайшее время он не будет болеть и я смогу как следует и безбоязненно пережевывать пищу, а затем глотать ее и, как положено, переваривать, чтобы впоследствии с помощью энергии, полученной от проглоченной и переваренной пищи, вершить великие дела. «А вершить их необходимо, – минутой раньше сказала мне моя спутница, – а иначе зачем жить? Жить зачем?» Меня сжигало удовольствие. Я был бодр. Добр. И доступен. Мы гуляли по Москве всю ночь и все утро, и весь следующий день, и всю следующую ночь… Мы говорили о том, как счастливы пьяницы, потому что вся их жизнь и есть движение к радости – сбор денег, целеустремленный поход в магазин, сладостный запах спиртоносной влаги, музыка бульканья и встык – божественный ожог пищевода, и последующее счастье, и опять сбор денег, и поход в магазин, и запах, и бульканье… Как счастливы убийцы, потому что они, убивая, уподобляются Богу, хоть на мгновение, хоть на долю мгновения, но уподобляются. Разве это не счастье хоть на сколько-то времени почувствовать себя Богом?… Как счастливы самоубийцы, потому что они Решились… Как счастливы вампиры, потому что знают, что хотят… А еще мы говорили… Ну, например, что существует только женская ревность, но не существует мужской. (Дело в том, что когда мужчина видит свою женщину, целующуюся или занимающуюся любовью с другим мужчиной, он испытывает подсознательную радость; ему же всегда хотелось избавиться от своей женщины, как бы он ни любил ее, но он все никак не решался, не было повода и вот наконец-то повод нашелся.) А еще мы говорили о том, что самый лучший способ победить партнера в споре, это унизить его, рассказав ему все о его отвратительной внешности и о его сложностях во взаимоотношениях с противоположным полом. Нет такого человека, который не потерял бы уверенность в себе после таких слов. А так же говорили о том, что любовь и почтение к родителям мешают человеку полностью реализоваться в этой жизни. И, конечно же, мы говорили о Любви, не о конкретной, конечно, любви к кому-то или к чему-то, а о Любви ко всему сущему, к людям, их поступкам, предметам, обстоятельствам, к горю, к Смерти. Ведь именно такая любовь имеет право называться ЛЮБОВЬЮ. Мы встречались с моей девочкой каждый день. Три раза в день, четыре раза в день, тридцать пять раз в день. Мы встречались даже, когда не видели друг друга. Наши мысленные импульсы, посылаемые друг другу, были иной раз настолько сильны, что мы, люди, не наделенные, собственно говоря, особыми телепатическими способностями, часто принимали эти посланные мысли и дословно считывали их. Например, именно таким образом, на девятый день нашего знакомства, я узнал, что ее зовут Тина, а она узнала, что меня зовут Антон. Мир вокруг меня завертелся с бешеной скоростью. Мы ходили в кино. Презрев чужое внимание, мы обсуждали с Тиной каждый кадр кинофильма, улавливали и отмечали самые незаметные детали, самые тончайшие нюансы, оттенки цвета, голосов, число инструментов в оркестре, музыкальный ритм, степень выбритости актеров, старались угадать запахи, исходящие от них, определить их семейное положение, наличие любовников и любовниц, пристрастия, пороки, отношение к Смерти и к Любви, длительность эрекции и эякуляции, или прикидывали, как можно было бы улучшить или, наоборот, ухудшить просматриваемый нами фильм, каких реплик не хватает, и чего не хватает в тех репликах, которые есть. Выйдя из кинозала, мы начинали сочинять свое кино, мы разыгрывали, его в лицах, не стесняясь прохожих, не отвечая на замечания. Забывшись, иногда выходили на мостовую, и автомобили, гудя с остервенением, объезжали нас, задевая наши тела крыльями, дверцами, фарами, кулаками, зубами, ушами и матерными словами. Мы ходили в театры и суфлировали актерам. Иногда мы подсказывали им именно те слова, что были в пьесе, а иногда совершенно другие, те, которые нам, казалось, больше подходят к тому или иному эпизоду играемой на сцене пьесы. Несколько раз нас выставляли из зала. Мы уходили, громко и победительно смеясь. Несколько дней после особенно понравившегося нам спектакля, находясь под его воздействием, мы вели себя в обыденной жизни так, как вел бы себя герой некоторых пьес. «Забыть, уснуть и видеть сны…» – кричал я в лицо своему начальнику на работе, «Люди, звери, орлы и куропатки…» – грустно говорила Тина, стоя на Манежной площади и протягивая руки к пролетающим птицам и вертолетам. «А судьи кто?! – вопрошал я, – за давностью лет, мать вашу?» – в ответ на любую критику в мой адрес. «Но я другому отдана и буду век ему верна…» – отвечала Тина очередному поклоннику. На концертах мы хохотали, падая с кресел, когда видели некоторых наших эстрадных звезд. Мы по-козлиному блеяли, передразнивая их маломощные голосишки и кривлялись, утрированно копируя их неумелые сценические движения. Мы дрались с возбужденными поклонниками, а чаще убегали от них, ввиду их явного количественного преимущества. В гостях Тина никогда ни с кем, кроме меня, не танцевала. И ни с кем не разговаривала. Она участвовала в беседе только тогда, когда в ней участвовал и я. А чаще всего мы говорили исключительно между собой, не забывая для прикрытия нежно держаться за руки. Если мы встречались с Тиной сразу же после ее занятий на филфаке в университете, она всегда начинала наш разговор с возмущенных слов: «Не могу, – мотала Тина своей красивой головой. – Не могу. Какое убожество! Какое невежество! Как скучно мне с ними! Как скучно, ты не представляешь! Они ничего не хотят в этой жизни! Они желают только напиться, накуриться и потрахаться. Они не знают даже, что такое «харизма» – «Неужели… – деланно изумлялся я. – Не может быть, чтобы они не знали, что такое «харизма» – «Не знают, не знают…» – сокрушалась Тина. «Ай, ай, ай», – приговаривал я, прикидывая, в каком же словаре я могу отыскать слово «харизма». Прошел месяц, другой, третий. Мы не могли насытиться друг другом. Каждая следующая встреча нам казалась первой. Дрожащими от восторга пальцами мы касались друг друга при встрече, запотевшими от волнения губами мы целовались прощаясь. Нам невозможно было наговориться. Темы рождались одна за одной. Мы говорили и о сексе, конечно. Но за три прошедших месяца мы так ни разу и не переспали. Однажды мы уехали в Ленинград. Просто так. Молодые люди часто в те годы уезжали или в Ленинград, или в Таллинн. Мы уехали в Ленинград. Потому что там жил один мой знакомый, который мог предоставить нам для жилья отдельную квартиру. Если бы такой знакомый с квартирой жил в Таллинне, мы наверняка уехали бы в Таллинн, А так мы уехали в Ленинград. В первый же день до изнеможения набродившись по городу, мы пришли на квартиру, выпили бутылку шампанского и уснули крепким сном, на полуслове оборвав разговор. Утром, открыв глаза, я увидел, что Тины нет рядом. Я повертел головой. Тина стояла у открытого окна. Не совершенно голая. В маленьких кружевных трусиках. Меня всегда возбуждал вид стройной, красивой женщины в кружевных трусиках. И, конечно же, и на сей раз природа сработала, как ей и полагается. «Наверное, пора нам уже заняться любовью по-настоящему, дорогая», – сказал я тихо. «Мы и так занимаемся настоящей любовью, – отворачиваясь от окна, проговорила Тина и спросила после паузы. – Тебе плохо со мной?» – «Мне очень хорошо с тобой», – искренне ответил я. «Ты не получаешь удовольствия от– меня?» – снова спросила Тина. «Я получаю огромное удовольствие от тебя, – снова искренне ответил я. – Но…» – «Поверь, – усмехнулась Тина. – То удовольствие, которое ты получаешь от меня сейчас, гораздо выше и сильнее того, которое ты получишь, когдаобыкновенно и пошло трахнешь меня» – «Ну давай я трахну тебя необыкновенно и не пошло», – поддержал я ее усмешливый тон. «Так не бывает», – вздохнула Тина. «Ну, давай попробуем, попробуем» – «Жаль, – поморщилась Тина. – Как жаль…» – «Что жаль?» – не понял я. «Я была уверена, что ты никогда не обратишься ко мне с таким предложением» Я рассмеялся и, закурив сигарету, сказал: «С таким предложением я хотел обратиться к тебе, моя дорогая, еще тогда, когда мы сидели с тобой в лечебных креслах стоматологической поликлиники. Вид твоих прекрасных, едва прикрытых юбкой ног, и твои эротические вскрики возбудили меня тогда настолько, что, придя домой после первой нашей встречи, я промастурбировал весь вечер…» Одевшись, я продолжал: «Потом, правда, столь острое желание секса стало понемногу исчезать. Я получал удовлетворение на другом уровне, наверное, на более высоком, на уровне духа. В какой-то момент я неожиданно ощутил, что во мне открылось множество чудесных и неизведанных доселе миров. Удовольствие от этого было таким сильным, что сама только мысль о сексе казалась грязной, пошлой, приземленной и человеческой, слишком человеческой…» – «Вот видишь, – с воодушевлением сказала Тина, наконец повернувшись в мою сторону. – Вот видишь!» – «Но прошло еще какое-то время, – говорил я, кружа по комнате и оставляя за своими плечами шлейф сигаретного дыма, – и я стал сознавать и чувствовать, что мое удовлетворение окажется далеко не полным, если я не буду ощущать прохладу гладкой кожи, касаться губами твоих пальцев, твоих щек, если я не буду крепко прижимать тебя к себе, если я не буду носить тебя на руках, если я не буду петь тебе колыбельные, баюкать тебя, осыпая частыми поцелуями твое лицо…» – «Молчи, молчи, – морщилась Тина, натягивая колготки, надевая платье, всовывая свои маленькие ножки в туфли на высокой и тонкой шпильке. – Молчи, молчи, молчи… Иначе я расплачусь. Я разревусь. И разбужу весь дом. Весь город. Всю Землю. А может быть, даже и Вселенную. Я расплачусь не от осознания правоты твоих слов и, конечно же, не от жалости к тебе. Я расплачусь от разочарования… Тогда, в этот день, когда мы сидели с тобой в лечебных креслах стоматологической поликлиники в Олсуфьевском переулке нашей столицы, я сказала себе, вот он, тот человек, который мне нужен, вот он – мой человек, с ним моя жизнь станет полной, насыщенной, яркой. И совершенно не потому, что в ней будет много секса, роскоши и развлечений, а потому, что в ней, мне так хотелось, не найдется места для лености, праздности и бесполезности, каждая минута, каждая секунда будет до отказа заполнена энергией, познанием, мыслью, целеустремленностью и восторгом. Удовольствие, получаемое от созидательного труда, от созидательной мысли, гораздо сильнее и гораздо важнее, чем удовольствие, получаемое от секса. Ты был прав минуту назад, говоря об этом. Удовольствие, получаемое от совершенного живописного полотна, от мощной музыкальной композиции, от мастерски написанного романа, да и просто от неожиданно появившейся яркой фразы, мысли гораздо выше, именно выше, чем от сексуальных утех. Конечно! Я была так счастлива, так счастлива!… И вот теперь, теперь ты все хочешь разрушить… Ты хочешь убить меня!» Я не переставал взволнованно кружить по комнате. И хотя я давно уже затушил сигарету, сизый прозрачный шлейф все еще тянулся за мной. Слова Тины, произнесенные так искренне, так убедительно и так вовремя, мгновенно и без остатка уничтожили возникшую во мне несколько минут назад яростную и именно тем отвратительную похоть. Я остановился наконец и огляделся, не совсем понимая, где мы и что мы тут делаем. Была она, был я, а что вокруг – неясно. И я сказал: «Прости, если можешь, прости. Я пока слаб. Но я стану сильным, поверь. Я стану. Ради тебя…» – «Ради себя», – перебила Тина. «Ради себя! – безвольно повторил я. «Ради созидания, – подсказала Тина. – Ради прогресса» – «Ради созидания, – кивнул я. – Ради прогресса». На украденной лодке мы катались по ночной Неве, Мы читали Пушкина, Мильтона, Рембо, Лермонтова, Блейка, Тассо, Анненского, Уитмена, Ницше, Северянина, Аполлинера, Йетса, Бодлера, Набокова, Данте, Ариосто, Ростана, Григорьева, Гете, Вернее, читала Тина, а я слушал. Во главе возмущенных пролетариев я брал штурмом Зимний, а она защищала его – четко, со знанием дела, командуя женским батальоном. (Я победил.) В Репине, в Доме творчества кинематографистов, она предлагала проходящим сценаристам игру – за три дня написать сценарий на заданную тему. Никто не соглашался. В Эрмитаже Тина обычным карандашом очень быстро копировала картины Рембрандта, Рубенса, Дюрера. Точность потрясала. В «Прибалтийской» какой-то тощий американец заплатил ровно тысячу долларов только за то, чтобы поболтать с ней на чистом англо-американском языке, который она знала, как родной, как сказал тощий. Я не участвовал в разговоре, хотя, естественно, все понимал, но Тина тем не менее весь разговор смотрела только на меня, что произвело на тощего американца совершенно ошеломляющее впечатление, и я видел по американским глазам, как он прикидывал, а не добавить ли ей еще премиальных гринов за верность выбранному предмету обожания (но не добавил, сучок). Мы тогда не знали, что надо с этими зелененькими делать и, выходя из гостиницы, подарили их какому-то пьяному финну. Увидев деньги, финн упал и потерял сознание. На обратном пути я встал посреди ночи и, воспользовавшись тем, что поезд стоял на какой-то станции и перронные фонари достаточно ярко освещали наше двухместное купе, осторожно снял одеяло с Тины и долго рассматривал ее обнаженное тело и ее лицо, и до физического утомления силился понять, богиня она или просто начитанная и обладающая феноменальной памятью дура. Не понял. Устал. Вернулся к себе на полку. Уснул мгновенно. Во сне я был женщиной. До утра я занималась любовью с машинистом. Машинист гудел, пыхтел, вместо ног у него визгливо крутились колеса, а из заднего прохода клубами валил пар… Утром я познакомился с ее мамой. Она встречала Тину на вокзале. «Я думала, вы хуже, – вместо приветствия сказала мама, – заумные, они всегда такие странные и такие некрасивые» – «Повторите», – попросил я. Мама рассмеялась: «Просто я знаю, что Тина любит заумных или богатых духом, как она говорит» – «А каких любите вы?» – спросил я. «Разных, – ответила мама. – Но только красивых». Маму звали Леся, ей было тридцать восемь лет и выглядела она великолепно. Была так же стройна, худа и красива, как Тина, и точно так же, как дочь, носила суперкороткие юбки. После того как я познакомился с мамой Тины, ничто не мешало мне бывать у Тины дома. И я бывал. Мне там нравилось. Ну во-первых, потому что Леся была дамой приятной во всех отношениях. Это так. Красива. Умна. Иронична. А во-вторых, потому что у Леси не было мужа, равно как у Тины не было отца. Он ушел от них лет пять-шесть-семь назад. (Женщины не могли уточнить сколько лет назад ушел от них отец и муж, считали, спорили, плакали, едва не подрались, но так и не вспомнили.) Мы пили чай. Мы пили виски. Слушали музыку. Играли в лото. Много разговаривали. Стреляли в цель из духового ружья. Играли в прятки и салочки. Вызывали духов. Читали мысли друг друга. Соревновались в изготовлении редких кулинарных блюд. Прыгали с места в длину. Стреляли из рогатки в прохожих. Убирали квартиру. Рисовали друг друга. Пели строевые песни. Разыгрывали по телефону знакомых. Упоительно танцевали. Били на счастье посуду. Переставляли мебель. Произносили по очереди с балкона пламенные революционные речи. Играли в карты. Качались на сделанных мною в дверном проеме качелях. Учили швейцарский, бразильский, кубинский и африканский языки. Писали стихи. Записывали на магнитофон тишину и, замерев, слушали ее затем. Вырезали из картона свои профили. Кидались столовыми ножами в чертежную доску. Почти каждую полночь торжественно встречали новый день… Так что оказалось вполне естественным, что, после того как Тина уехала на картошку, я зашел проведать заскучавшую Лесю. Мы немного выпили. Поели. Послушали музыку. Грустно потанцевали. Печально поцеловались. И… яростно занялись любовью. Бог мой, только Ника Визинова может сравниться с Лесей в умении доставлять удовольствие. Я даже, кажется, потерял тогда сознание от восторга. Или мне показалось, что я потерял сознание. Но одно могу сказать точно – какое-то довольно длительное время я отсутствовал в ту ночь на Земле. Не день такое продолжалось и не два. А все то время, что бедная Тина выкапывала картошку из полей Подмосковья. Месяц, мать вашу. Мы с Лесей вроде как обезумели. Вроде как рехнулись. А может быть и вправду сошли с ума. Мне достаточно было услышать по телефону ее голос и я был готов трахать ту самую телефонную трубку, из которой Лесин голос и доносился. В перерывах между грубой и потной любовью мы разговаривали. Разговаривать с Лесей было не так интересно, как с ее дочерью, но истории, которые она рассказывала, рассуждения ее, размышления, ее взгляд на мир, на себя, на меня, на огонь, на воду, на Луну, на Солнце, на Землю и на вечную жизнь были мне милей, ближе и родней, чем упорядоченные, очень грамотные и гармоничные умозаключения ее дочери Тины. Леся, например, искреннее считала, что действительную, настоящую, что ни на есть самую реальную жизнь она проживает во сне. А явь как жизнь она не воспринимала совсем. (И даже любовь со мной являлась для нее приятной счастливой грезой.) А во сне она была принцессой океанов и правила всем находящимся на воде и под водой. С самого того времени, как она помнила себя, ей каждую ночь или день, если она спала днем, снился один и тот же сон с продолжениями. Во сне она воевала, влюблялась, интриговала, казнила и миловала, путешествовала, писала стихи, играла на арфе и лютне, трубила в огромные раковины, держала целую стаю ручных карликовых, размером с кошку, слонов и воспитывала тридцать восемь детей. Подданные почему-то упорно называли ее принцессой, а не королевой. Наверное потому, что принцесса звучит красивей, чем королева, предполагала Леся, а ее народ очень любил все красивое. И я заметил – и вправду так – она не воспринимала явь как жизнь, она воспринимала явь как наказание, – за грехи, совершенные ею в той, королевской жизни… За день до приезда Тины я решил, что больше никогда не переступлю порог ее и Лесиного дома, и никогда больше не увижу ни ту, ни другую женщину. Я начал думать об этом с того самого времени, как в первый раз, обессиленный, с трудом оторвался от разгоряченной душистой женщины и, закрыв глаза, откинулся на прохладные подушки. Речь в моих рассуждениях не шла о честности, порядочности, подлости или предательстве. В конце концов, ну что тут страшного, ну, переспал с матерью своей подруги, с которой, в свою очередь, между прочим, так ни разу и не позанимался любовью. Нет, не в этом было дело. Просто теперь я уже не смог бы вести с Тиной и Лесей ту веселую и беззаботную жизнь, которую вел до этого. А в другую жизнь я играть с ними не хотел. Вот и все. Все просто. Я не стал ничего объяснять женщинам. Я сказал только, что начинаю все сначала и что на этом своем новом пути места Для них я не отыскал. Через два месяца я ушел на войну. А еще через полгода, уже в самом конце учебы в лагере спецподготовки, после короткого, закончившегося смертельным исходом спарринга с приговоренным к смерти афганцем, отмокая в резиновом американском бассейне, я прочитал письмо, которое мне прислала Тина. Я не сохранил его. И потому не могу привести его полностью. Но отдельные его фрагменты я почему-то помню до сих пор. «…Ровно через три месяца, как ты ушел от меня, я встретила одного человека… Тот день был очень хорошим. И для жизни. И для смерти. Спокойным. Тихим. Солнечным. И я была спокойна, тиха и солнечна. Мне никто не был нужен. Я никого не хотела видеть. И после окончания занятий я пошла не к метро «Университет», а к «Ленинским горам»… Я уже давно и долго шла через немноголюдный, практически пустой парк, как услышала за спиной торопливые резкие и твердые одновременно шаги. Я испугалась, но поворачиваться не стала. Не захотела. Более того, я замедлила шаг. Человек догнал меня и, не говоря ни слова, положил мне руку на плечо. Я повернулась. Он был красив. Так же, как и ты. Он был лучше тебя. А может быть, и хуже. Он был. Он сказал: «Здесь и сейчас!» Я ответила, что не понимаю его, хотя, конечно, я все прекрасно понимала. Он сказал: «Уже долго и утомительно я иду за тобой. И с каждым шагом, с каждым сантиметром мое желание катастрофически усиливается. И, если я не сделаю того, чего так страстно хочу, я сойду с ума, я умру. Мне глубоко плевать, хочешь ли ты того же самого или нет. Ты можешь кричать. Ты можешь сопротивляться, но я все равно сделаю то, без чего не смогу дальше жить. Я не боюсь наказания. Я не боюсь тюрьмы. Я боюсь только одного – что никогда не войду в тебя…» Не дожидаясь ответа, он сильно ударил меня кулаком в живот, а затем подножкой сбил меня с ног, поднял меня, очень быстро отнес подальше от дороги, в заросли, положил на землю, лег на меня сам и с самым сладостным криком, который я когда-либо слышала за свою жизнь, впился в мои губы… Он сделал все, что хотел. Это было так чудесно! Именно тогда я поняла, что такое жизнь! Что такое радость! Что такое удовольствие! Что такое счастье!… До самой ночи мы занимались с ним любовью – там же, на влажной траве, на прохладной земле, в редких зарослях не помню каких деревьев. Потом он проводил меня домой. А утром мы встретились вновь. И вновь весь день мы занимались любовью. Только теперь не на голой земле, а в его небольшой и не очень уютной квартире… А потом и следующий день, и следующий… Через месяц я переехала к нему жить. Ты, конечно же, спросишь, кто он? Никто. Технолог на кондитерской фабрике. Малообразован. Зарабатывает мало. Не особенно умен. Не обаятелен. Не любит размышлять. Не умеет рассуждать. Не понимает юмора. Никогда даже не делает попытки острить. И вообще, мне кажется, он не совсем психически здоров. И говорить нам с ним не о чем. Но мы и не разговариваем. Почти никогда. Мы занимаемся любовью… И я люблю его! Люблю по-настоящему, как только может любить человек человека! Я готова отдать за него все! Все, понимаешь? Даже жизнь…» Я сделал из этого Тининого письма кораблик и какое-то время гонял его по резиновому американскому бассейну, в котором купался, читая Тинино письмо. Но недолго я его гонял, пыхтя и надувая щеки. Не прошло и каких-нибудь несколько минут, как я неожиданно для самого себя и, конечно, для Тининого письма, из которого был сделан мною кораблик, хлопнул ладонью по плывущему по волнам кораблику и утопил его с одного удара. Кораблик, съежившись и сморщившись, пошел под воду, а я захохотал грохочуще, с удовольствием разглядывая, как кораблик тонет, – сморщившись и съежившись. Я хохотал, хохотал, хохотал… Предельно громко. Предельно безумно. Натурально. И совсем не по-человечески. Хохоча, я трясся. И вместе со мной тряслась вода, в которой я купался, а вместе с водой и со мной трясся и американский резиновый бассейн, в котором находилась эта вода. А вместе со всеми нами троими, конечно тряслась и база, на территории которой располагался резиновый американский бассейн, а вместе со всеми нами и та азиатская горная страна, где была выстроена база, а вместе со всеми нами тряслась, без сомнения, и вся планета Земля, на которой когда-то образовалась та самая азиатская горная страна, а вместе со всеми нами тряслась, соответственно, и вся Вселенная, которой наша планета и принадлежала… Я перестал смеяться только тогда, когда кто-то положил мне сильную руку сверху на голову и резким толчком вдавил меня в воду. Вынырнув, задыхаясь и отплевываясь, я увидел вокруг бассейна множество людей, а непосредственно перед своими глазами грубое и пыльное лицо инструктора по рукопашному бою. «Ну что, сынок, – сказал инструктор, – нормально?» Я кивнул. «Он сегодня в первый раз убил человека, – сказал инструктор собравшимся вокруг меня офицерам. – Первый раз. И голыми руками. Вполне естественная реакция. Привыкнет».ВОЙНА. СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД
Но Нехов еще не умер и был пока живой, и поэтому все равно, хочешь не хочешь, а он должен был произвести какое-либо действие, раз еще не умер. И он произвел. И выбрал при том наиболее легкое действие, выбрал наиболее легкий путь – так ему казалось – он посмотрел в себя. И понял, что выбрал правильно и, более того, выбрал верно и, более того, как оказалось, единственно, потому что самосмотрины, к его удивлению, а потом и удовлетворению, не принесли ему столько мук и страданий, сколько принесли другие действия, а в равной степени и отсутствие этих самых действий, имевших свое место под солнцем до этого момента. А увидел он в себе следующее: Череп, мозг, щитовидный хрящ, внутреннюю яремную вену, щитовидную железу, общую сонную артерию, трахею, ключицы, легкие, сердце, грудину, диафрагму, печень, селезенку, желудок, поперечную ободочную кишку, тонкие кишки, нисходящую часть ободочной кишки, тазовую кость, лобковое сочленение, бедренные артерии и вены, мочевой пузырь, слепую кишку, подвздошную кишку, восходящую часть ободочной кишки, желчный пузырь, серповидную связку печени, прямую кишку, ситовидную кишку, червеобразный отросток слепой кишки, брыжейку, двенадцатиперстную кишку, поджелудочную железу, брюшную аорту, общую подвздошную артерию, лопатки, почки, мочеточники, нижнюю полую вену, крестец, почечные артерии и вену, большие ягодичные мышцы, семенные железы, три пещеристых тела члена, кровь. Внутренности были видны ему четко, ясно, до самых мелких мелочей; в цвете – алый, бурый, красный, бордовый, коричневый, синий, фиолетовый, черный, зеленый, с оттенками и без оных. Внутренности переливались, шевелились, двигались, утопая в горячей влаге, жили, нет, работали, помогая друг другу, спасая друг друга, любя друг друга, не жильцы и не работники друг без друга и без чего-то еще или без кого-то еще, которого Нехов не увидел в себе, но знал, что он, она, оно есть, как и другие люди знают и знали и будут знать, знать, но не видеть, где он, она, оно? Ну? Где? Где, мать твою! Где, сука? Сколько времени прошло, неизвестно. Но после того, как оно прошло, все, что Нехов четко и ясно видел в отдельности друг от друга (яремную вену, червеобразный отросток слепой кишки, трепещеристый член…),.все слилось теперь в его сознании в одно нецветное целое – в пустоту. Не было ни печени, ни мыслей, ни прямой кишки, ни эмоций – не было ничего, ничего. И он уже не заставлял себя совершать какое-то действие – это произошло само собой, он стал искать – «его» или «ее», сейчас без пристрастия, спокойно и не думая о результате, наплевав на него, густо и обильно. Трудился тщательно. Сначала обшарил себя, используя волевые импульсы, – пустота. Затем стал прислушиваться к себе, попытался определить, куда и как потянет сознание: привычно логично с помощью ассоциативной цепочки в одном направлении или скачками в разные стороны, но бесполезно, все будто застыло внутри – ни цепочек, ни скачков, только тепло и тишина и отсутствие, и тепло, и тишина, и тепло, и тишина, и тепло, и тишина, Нехов вздрогнул – кто-то укусил его в солнечное сплетение, не больно, но неожиданно будто ледяными зубами, выстудив вмиг какую-то часть пустоты. Нехов тотчас мысленно спустился к сплетению и увидел, что это он сам кусает себя. Он – шестилетний, в первый раз подумавший о смерти и испугавшийся этой мысли до холода в зубах. Еще укус. Нехов съежился. Это он семилетний, заставший своих родителей в момент совокупления. Еще укус. Нехов вскрикнул. Это он восьмилетний, впервые кончивший ночью («Кто там?» «Поллюция!»), в мокрых трусиках, съеженный под теплым одеялом, дрожащий от страха, от наслаждения, от страха наслаждения, клявшийся скороговоркой без остановки, чуть не плача, что никогда себе такого больше не позволит, никогда, будет следить за собой, не засыпать, не спать, не просыпаться, следить… никогда… И опять укус. Студеные зубы отбирают тепло. Это он девятилетний, проблевавшийся после того, как увидел отрезанную кисть своего ровесника, лежащую меж матовых серых рельсов на черных просмоленных шпалах, белую, с грязными длинными ногтями, с засохшей болячкой у запястья, еще шевелящуюся в луже маслянистой крови: мальчик пытался вынуть из-под проходящего поезда гвоздь, который положил на рельсы, чтобы железные колеса расплющили его… Он вновь кусает себя – он десятилетний. Холод достает позвоночник, колко. Ему кажется, что он умирает; в жару, с расплавившимися глазами, на качающейся кровати в кувыркающейся комнате, стонет обреченно, явственно ощущая, как деревенеют ноги, как перестают слушаться руки, как утекает сознание – вверх, вверх… Обыкновенный вирусный грипп. Обыкновенный – сейчас. Но особый и единственный, убивающий – тогда. Он знал он. Знал… И опять, в который раз уже, он терзает себя нетающими зубами, рвет узлы, расплетает сплетение – одиннадцатилетний, в предощущении первой драки. Через час в школьном саду он должен драться с одноклассником – с Юркой Пострыкиным. С тех пор как Юрка появился у них в классе, он дразнит Нехова, называет девчонкой, оплевывает его смрадной слюной из нечищеного рта, пинает под зад на переменах. Драться надо. Драться страшно. Коченеет спина. Хочется плакать. Хочется бежать. Хочется кинуться в мусоропровод вниз головой. Он знает, что будет больно, он уже чувствует эту боль и уже сейчас готов упасть на влажную землю школьного сада и лежать, прикрыв голову руками, до тех пор, пока все не уйдут. Все… С каждым укусом Нехов сгибался все ниже и ниже и, в свою очередь, остервенело кусал душный горячий воздух. Он с рычаньем отдирал от него рваные куски и яростно жевал их, звеня зубами, усилием воли запихивал их в глотку и толкал по пищеводу в желудок, обогревая его, спасая его. Опять укус. Ему, четырнадцатилетнему, в подъезде его же дома какой-то небритый, потный, красноглазый хрен приставил длинный нож к горлу и, часто-часто сопя хлюпающим носом, шарит до его карманам. Найдя всего рубль с мелочью, бьет его коленом меж ног, валит на землю, снимает с него, скрюченного, почти новую финскую куртку, снова бьет и уходит. Нехов долго-долго лежит без движения, весь целиком заполненный страхом. Кто-то поднял его, отвел домой, он не помнит, кто. Кто-то… И без паузы уже шестнадцатилетний Нехов вновь впивается в себя крепкими студеными зубами. Вот он просыпается. Кто-то гладит его по груди, по ягодицам. Он открывает глаза, щурясь от резкого света, видит сидящего рядом на кровати, где лежит он сам, знакомого мужика. Нехов вспоминает, что вчера этот немолодой уже тип зазвал их с ребятами к себе домой. Он накормил их, налил портвейна, водки, был добр, открыт, смеялся, острил, глядел на всех нежно, трепал ребят по волосам, обнимал шутливо. Нехов сломался к полуночи, и вот теперь… Нехов был голый, и мужик тоже, голее некуда. Он с упоением тискает неховский член и, подняв на Нехова притуманенные глаза, шепчет: «Я хочу тебя! Хочу…». Нехов, оцепеневший, громко и глубоко икает, не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой, ни членом, ни языком; стынут и твердеют его глаза, стынут и твердеют веки, стынет и твердеет слюна. Этот страх не похож на прежние страхи, это не страх боли, или разочарования, или утраты, или несчастья, это страх разрушаемого запрета, страх перед собственным неожиданно появившимся любопытством, страх от того, что ему не страшно. Нехов кричит, и крик взбадривает его, придает сил, и он, исхитрившись, ногой бьет мужика в лицо. Тот отшатывается недоуменный, Нехов бьет еще раз. Мужик падает на пол, обиженно скуля, Нехов вскакивает с кровати, бежит в прихожую, срывает с вешалки первую попавшуюся одежду, бросается к двери, спешно и суетливо возится с замком, слыша за собой приближающиеся шаги, наконец открывает дверь, несется по лестнице, вываливается на улицу… Нехов, нынешний, рухнул уже на колени, сжимает себя руками, опуская все ниже и ниже вздрагивающую голову и вздрагивающие на ней нос, губы, уши, щеки и высунутый язык, воспаленный, дымящийся, – очередной укус разрывает Нехова изнутри. Это он, семнадцатилетний, вгрызается в себя – он, впервые увидевший смерть. Погиб его однокурсник, глупо, нелепо – выпал пьяный из окна. Но не в этом суть – суть в факте смерти, суть в зыбкости жизни, суть в хрупкости жизни, суть в непредсказуемости жизни, суть в непредсказуемости смерти. Суть в страхе перед небытием. И снова бьет холод под сердце, и Нехов царапает лоб о шершавый деревянный пол… – ему двадцать и ему кажется, что ничего уже не будет, никогда, до самой смерти, далекой, близкой, неважно, главное, что уже ни-; когда ничего не будет нового и еще не изведанного. Он понимает разумом, что, конечно же, все будет – работа, жена, наверное, дети, путешествия, деньги, любовницы» дача, друзья, машины, хлеб, водка, бананы, цель, ее достижение, преодоления, победы, – но ему кажется, что уже не будет радости от всего этого. Ну и что, ну жена, ну машины, ну победы, ну и что, ну и что? НУ И ЧТО? Депрессия, Первая. Настоящая. Стопроцентная. Зачем ему такая жизнь? Зачем, ну скажите, зачем? Зачем старость и немощь? Зачем покорное ожидание конца? Кому это нужно? Людям? Нет. Им плевать на Нехова. И даже близким и просто знакомым и совсем незнакомым. Ему нужно? Ну уж нет! Совсем нет! Как можно радоваться жизни, если знаешь, что все равно умрешь? Нелепость. Безумие. Патология… Но выход есть. Мужской, Волевой. Настоящий. Добровольная смерть. Это можно сделать только с помощью оружия, как Хемингуэй, как Маяковский. Достойно. Только где взять оружие? Где? А, у отца, кажется, был нетабельный пистолет. Надо найти его… Нехов скорчился на полу, хрипя, взвизгивая, разбрызгивая в стороныслюну и пот, вздрагивал крупно, будто бил его мощный электроразряд, мял руками живот, будто пытался выдавить из себя себя же: «Нет! – кричал. – Не так! – кричал. – Все не так! – горло криком вспарывал в кровь. – Я знаю, что не так! Знаю! Знаю! Знаю! – кричал. – Ты сука! – кричал. – Я убью тебя! – кричал, стены криком кроша. – Я буду е…ь тебя, пока ты не сдохнешь, гад!!!» – кричал, голос теряя, хрипя все слабее, молотился телом судорожно об пол, измазанный кровью, тонущий в жирном поту… И вдруг, словно взрыв бесшумный случился – плеснуло нестерпимой белизной в глаза и отчаянным жаром опалило все тело, а затем рядом вспыхнуло внутри чувство радости и наслаждения. Оно шло от пульсирующего сильными толчками, выплескивавшего на пол густую скользкую сперму члена. Пришло время, и, истощив себя – всего – до дна, до последнего-распоследнего, член замер, влажный, блестящий и на вид тяжелой волей измученный. И Нехов, не менее влажный, блестящий и измученный, тоже замер и даже обмер и даже умер, на секунды, на минуты, не больше – раз, два, три. А после сколько-то лежал без движения, дышал, не вздыхая, смотрел, глаз не вскрывая, и, к удивлению своему, о чем-то думал, но тут же забывал, о чем, и думал дальше, дальше, дальше… думал. Как нестерпимо хочется жить – ВСЕГДА. Когда открыл глаза и посмотрел куда-то, то увидел, что там – потолок, и не белый, как раньше, а с небесным оттенком, вроде как подсиненный кем-то, когда-то, зачем-то, а приглядевшись внимательней, увидел на потолке себя, лежащего на полу, тоже голого, и грозящего самому же себе, лежащему на полу, не менее голым пальцем: ты давай, мол, того, мол, не очень-то. А то гляди! Но потом он, правда, исчез, тот, который лежал на потолке, как немного раньше исчезли и те, которые кусались. Исчез, как и не было никогда. Но был ведь, был, точно был, да нет, ты путаешь, не был, показалось, чур меня, чур, да был, я говорю, я видел вон как кровать, мать его, да не был, да не был, был, я сказал! Ну хорошо, был так был, мне от этого не холодно и не жарко. Жарко все же, даже голому, несмотря на то, что вечер и нет солнца, даже на ветру, даже когда прохладно – все одно жарко. А потолок все-таки белый, хоть и жарко. Нехов засмеялся, и без всяких оттенков, хоть и не морозно, белый, белый, белый, и не спорь с собой, в конце концов у меня есть глаза, и они да увидят, и уши, и они да услышат то, что глаза не увидят. Так вот я слышу, что потолок белый и никто на нем не лежал и никто не грозил. …А ведь лежал и грозил… Нехов поднялся – смог подняться, постоял – смог постоять, – к себе прислушиваясь. Узнал, что может идти в ванную, полоскаться под душем и, вообще, может делать все из того, что делал раньше, что он и делал впоследствии до определенного момента. Но об этом потом. После душа и растирания раскраснелся и тотчас потерял измученный вид, чему был рад. В комнате оделся. Надел белый костюм, не от Ямосото, жаль, черную рубашку пакистанскую, но шелковую. Одевшись, занялся оружием. Скотобойный револьвер в кобуру под мышку втиснул, израильский «мини-узи», новенький, еще роскошно пахнущий, в другую кобуру, соответственно, под вторую мышку впихнул, рассовал патроны по футлярам на ремне, а оставшиеся – по карманам в пиджаке. Из тумбочки шприц вынул, две ампулы, и их в карман отправил. Вот и собрался, и даже подпоясался. В комнате офицерского общежития, из которой вышел сей миг, как собрался. По белесой, недавно помытой каким-то солдатиком, но уж давно сухой лестнице. Сошел вниз не торопясь, руки в просторные карманы окунув, не думая о том, что было, или о том, что будет, а только о том, что есть.. Дежурному офицеру рукой махнул на прощание, прощаясь временно. На улице, оглядевшись, осмотревшись, поозиравшись вверх-вниз-вокруг, вздохнул, вздохнул, вздохнул, вздохнул. Зажмурившись. Лицо к небу прислонив. Синим вечером. В машину. Прыгнул в нее, как обычно, привычно, дверцу не открывая, чтобы потом не закрывать. Колеса направил, куда следует. Въехал в город. На окраинах здесь малолюдно и малошумно в этот час. Вот кто-то идет, вот кто-то сидит, вот чья-то тень – лежит. Костерки там и там, и там тоже. Тусклый свет в малых оконцах. А больше нет. Дымно и невкусно пахнет расплавленным жиром и горелой шерстью, перегнившими испражнениями и кайф-травой, в табачок забитой, предчувственно – сладко. …«Что делать?» – спросил тот, кто постарше. «Что делать?» – ответил тот, кто помоложе. «Что делать?» – вздохнули все остальные… Вот оно как… Из-за какого-то угла или из узкого неприметного проулка, а может из потаенной двери в глухой стене какого-то дома или какого-то забора неожиданно для Нехова и для всех тех, кто этого не видел, выпрыгнули на дорогу двое. Нехов тормознул в последний миг, сказав что-то матерное, сам не запомнив, что. Остановившись, когда машина остановилась, включил дальний свет. Поздно, один из двоих уже был у дверцы, второй подбегал к другой дверце, пыхтя, жуя и глотая. – Не рыпайся, парень, – сказал первый по-русски. – Будешь делать то, что я скажу, авось и поживешь. Лады?! – Высокий был в штатском, как и Нехов. Говорил, слышно шлепая толстыми губами длинного рта, мокро. Нехов быстро сунул руку под пиджак. – Даже и не думай, – утомленный, как солнце, попросил второй. Нехов повернулся к нему и увидел его. А еще увидел автомат, который тот держал, а еще увидел ствол автомата, который не дрожал, а еще увидел дырку в стволе, которая была черная. Нехов положил руку на руль. – Ну, а дальше? – спросил равнодушно. – Подвезешь нас, – сказал первый, забираясь в машину. – Его и меня, – уточнил второй, присоединяясь к первому. – Хорошо, – сказал Нехов, включая скорость. – Куда? – Пока в центр, – отозвался первый. – А там скажу. – И я скажу, – добавил второй. Он был помельче первого, и ростом, и плечами, и руками, и ногами, и головой, но длинноволосый, в отличие от первого, коротковолосого, узколицый и крупноглазый, очень подвижный и очень грустный. Его штатский (как и у первого) костюм отлично сидел на нем, светлый, кокетливый. – Говорить буду я, – веско произнес первый. – И я буду говорить, и я! – обиженно вскрикнул второй, расстегивая и застегивая рубашку – на себе и на своем сотоварище, очень скоро и очень умело. Расстегнул-застегнул, расстегнул-застегнул, шурша. – Трогай, – приказал первый. – Трогай, – повторил второй и с вызовом посмотрел на первого. Нехов нажал на педаль, и машина двинулась пока вперед, по песку и по темноте. – Помолчи, – беззлобно проговорил первый. – Ну почему? Почему? – плаксиво заныл второй. – Ты всегда ущемляешь мои права. Всегда. Я тоже хочу иметь свое мнение, а также и многое другое, чего благодаря твоей милости я не имею. Но хочу, а не имею, но хочу. Вот так! Да! – Начинается, – вздохнул первый и что-то добавил не по-русски. – Не начинается, а продолжается, – тряхнув головой, упрямо заметил второй. – Ну сколько можно, право. Ты ценишь и любишь только себя, а меня не ставишь ни во что!… – Ставлю, – хохотнул первый. – В позу… – Фи, фи, фи, фи! – замахал руками второй. – Как пошло и плоско и совсем не смешно, – и, не сдержавшись, рассмеялся коротко. И тут же опять зачастил, сердясь: – Я всегда думал, что если я принесу настоящее наслаждение мужчине, то смогу подчинить его себе. Он же ведь снова захочет испытать это наслаждение. И будет со мной! конечно же, ласков, нежен и уступчив. Будет слушаться меня, потакать мне. А оказалось все наоборот. Я принес тебе истинное наслаждение. Ведь так? И тем не менее ты не слушаешься меня и не потакаешь мне. И это я бегаю за тобой, а не ты за мной. Это я бегаю за твоим поганым членом. – Поганым, – согласился первый. – После твоей задницы, всегда поганым. – Я когда-нибудь убью тебя! Убью, – второй застучал кулачками по мускулистому первому. – Мало того, что ты делаешь со мной, что хочешь, как хочешь и где хочешь. Ты еще и перетрахал всех моих друзей. И моего мужа. И его брата. И еще одного брата. И его племянника. И его племянницу. И ихнего отца. И ихнюю мать. Да мало этого, каждое утро ты еще мастурбируешь по полчаса. И после всего этого я еще должен любить тебя, любить, да? – второй заплакал слезами, лицо его блестело в отсветах нескончаемо неземного, возвышенного и возбуждающего синего неба. Лицо его светилось под верным спутником Земли – Луной, под которой ничто. Лицо его было… Лицо его есть… Лицо его будет ПРЕКРАСНЫМ. – Я люблю тебя! – шептал он. – Я люблю тебя, – говорил он. – Я люблю тебя, – кричал он. Первый – весь – потянулся ко второму – всему – обнял его, поцеловал нежно в ушко, в губки, застонал на выдохе, захрипел на вдохе, стал сильнее целовать, яростнее, трясясь и подпрыгивая. Одежду с него стал срывать и ботинки, и кольца, и перстни. И целовал, целовал, целовал… – А вот это уже лишнее, ребята, – решил Нехов и резко нажал на тормоз. Ребят бросило вперед прямо к Нехову. Нехов с разворота одного ударил в переносицу, и другого ударил туда же. И пока они не успели прийти в себя, повторил удары. И в третий раз ударил и того и другого – для верности, – полностью повернувшись теперь к ним лицом, а к рулю задом, коленями забравшись на свое водительское сиденье, предназначенное для сидения водителя. И когда ударенные потеряли как осознание себя, так и способность двигаться, вышел из машины и стащил их, отдуваясь, редкими чувствами не отягощенных, с заднего сиденья, предназначенного для сидения пассажиров, на истерзанную землю многострадальной страны. Там и оставил. И уехал, забрав с собой автомат Калашникова и пистолет Макарова. Посмеиваясь. Добравшись до центра, лицо свое в зеркальце заднего вида яснее различать стал, обрадованный (здесь, в центре, света потому что больше было), и в глазах своих спокойствие с удовлетворением отметил (в центре безопаснее потому что было). Когда по окраинам ехал, знал, что взгляд взгляду его передает, ствол стволу, патрон патрону, хоть и посмеивался. Кто-то улыбался ему на улицах. Нехов не запомнил кто, но кто-то улыбался, и не один – два, три… Отражались огни на матовом капоте, скользили бликами по ветровому стеклу, по стеклу часов «Роллекс» на его левой руке, убегали прочь, усаживались позади машины на асфальте рядком и следующую машину ожидали нетерпеливо, вздрагивающе. Заприметив тускло светящуюся неоновую вывеску «Ресторан Ламар» над входом в один из двухэтажных домов, серый и ночью, серый и днем, затормозил, свернул в узкий проулок перед домом, остановился, огляделся, рассчитывая найти где-то в стене запасной выход. Увидел несколько низких дверей, плотно закрытых. Дернул за ручку одну, вторую, третью. Четвертая открылась. Вот именно отсюда-то он и выйдет после того, как он станцует с Сахидом медленный танец любви. А войдет-то он с улицы, конечно, с главного входа, нестроевым шагом, не отдавая никому чести и под маской добродушия и алкогольной пьяноватости, а может быть, и наркотической кайфоватости или просто беззаботной глуповатости, скрывая свои истинные, чрезвычайно коварные для злоумышленников помыслы и намерения. И вошел. Пьяновато-кайфовато-глуповатый, и его не узнали те, кто знал, или сделали вид, что не узнали, хотя знали его и не могли не узнать, но Нехов об этом не знал или только делал вид, что не знал, потому что не хотел знать, что его кто-то может узнать. Хотя, впрочем, если бы и узнали его, ничего страшного не случилось бы. Потому что, как ни крути, а по нему явно было видно, что он не местный. И он об этом знал, как и все другие, которые увидели его, когда он вошел в ресторан «Ламар». Войдя в который, отметил (обратив на себя все взоры и тишину), что совсем недурно в ресторане, недурно, – длинный зал, длинная стойка, маленькие столики, пестро и чисто. А в каких-то шагах от него – вокруг – танцует в стаканах невыпитое, меняя цвета, переливаясь, источая свет, разглаживающий давно неглаженные лица посетителей. Худой долговязый бармен, наполняя скучно стаканы, думает не об этом, а о чем-то совершенно другом. Наливая спиртного напитка себе, просит ближайшего посетителя плюнуть в его стакан, возгораясь сей миг внутренне и внешне обжигающей его самого радостью (искры гаснут на лету) и полыхая неподдельным восторгом, когда выпитое проникает кайфопадом, жидкопадом, влагопадом почти в самую середину его длинного тела обуянного. Нехов вольно приблизился к стойке, руки в карманах прохлаждая привычно, волей загнав в неволю едва нарождающийся страх перед страхом нарождающегося страха, сел лениво на высокий табурет у высокой стойки напротив высокого бармена, посмотрел на бармена снизу вверх свысока, улыбаясь, довольно непроизвольно. – Виски, – попросил Нехов не по-русски, – двойной. А, впрочем, давай тройной. А если не жалко, и четвертной. А если сумеешь – десятирной, хотя двадцатирной намного лучше, намного, ты знаешь. Сорокатирной наливай, я решил, решил, и точка. И по рюмочкам наливай, но по маленьким. – Нехов показал пальцами, по каким рюмочкам разливать бармену виски. – И сразу, чтобы я их все видел, и ты видел, ты и я, да мы с тобой… Сторной давай, сторной иди не мужик я?!… А?! Тишина, исходящая от трех десятков посетителей, волнами толкала Нехова в спину, и он покачивался взад-вперед в такт непрерывным толчкам (не путать с унитазами), терпел, ничего, кроме глубокой заинтересованности в выпивке, не выказывая, но на всякий случай полы пиджака пошире раздвинув, пошире, пошире, пошире, пальцы сгибал-разгибал, готовность готовя. Один глаз у бармена еще светился бенгальским огнем, а второй уже потух, потемнел, запах изоляции испуская горелой, а когда и второй перестал искрить, погрустнел бармен, опечалился, стал свой стакан в жестких пальцах нервно теребить, то и дело поверх головы Нехова в зал поглядывать, ответа ища, как же быть, как быть, запретить себе себя любить, ведь не мог он это сделать, ведь не мог. – Я жду, – с доброй улыбочкой сообщил Нехов, зло усмехаясь. – И дождусь. Ибо сказано, все придет к тому, кто ждет, – зло усмехаясь. – Жду, жду, жду, жду, – громче, – жду, жду, жду, жду, жду, жду, – и еще громче, – жду, жду, жду, жду, жду, жду! – закричал остервенело: – Жду! Жду! Жду! Жду! – не обращал внимания на тишину, тесно прижавшую его к стойке. – Ждууууууууу! Забегал бармен, спотыкаясь, вдоль светящейся винной витрины, тонким смуглым носом вздрагивая, зазвенел рюмками точь-в-точь такого размера, как Нехов показывал, на гладкой стойке их расставляя в стройные ряды, как игрушечных солдатиков перед игрушечным боем. Разлил по рюмкам виски. И по рюмкам и по стойке, и по штанам своим белым, по тапочкам легким, матерчатым, и по полу дощатому, и по самому донышку своего стакана. – Плюнь, – сказал, не отдышавшись, Нехову, стакан протягивая, заискивающе, задыхаясь, согнувшись, безрадостный. Нехов выпил рюмку, выпил две, закружилось в голове, как обычно, впрочем, ничего нового, выдохнул сладко, улыбался сахарно. – Ну плюнь, плюнь!… – молил бармен, держа перед Неховым свой стакан, морщился, постанывал, корчился, повизгивал, ежился, как наркот между дозами. – Пощади, ну что тебе стоит! Возлюби ближнего своего! Не убий! Не укради! Не прелюбодействуй! Плюй, когда тебя просят!… – Где Сахид? – спросил Нехов, прилаживая к губам третью рюмочку. – Кто? – отшатнулся бармен. – Что? – отшатнулся бармен. – Когда? – отшатнулся бармен. – Зачем? – отшатнулся бармен, ударился спиной тощей о витрину, посыпались бутылки на пол, покатились по доскам поверженными кеглями. – Не знаю такого! – вымолвил бармен, когда сообразил, что дальше отшатываться некуда. – Ааааах! – развеселился Нехов и выглотнул третью рюмочку. – Плюнь? – кинулись к нему бармен и его стакан. – Плюнь, – затосковал, брови раскачивая. – Сахид, – предложил Нехов. – Плюнь, – умирал бармен. – Сахид, – торговался Нехов. – Плюнь. – Сахид. – Плюнь. – Сахид. – Плюнь. – Сахид. – Плюнь. – Сахид. – А плюнешь? – А то! – Дверь в конце стойки, – медленно, с сопротивлением, совсем не шевеля губами, зашептал бармен. – Лестница. Второй этаж… О Аллах, я убиваю себя… – Ага, – сказал Нехов. – Ага, – и двинулся, не торопясь, вдоль стойки, по полированной поверхности ее костяшками пальцев постукивая, краем одного глаза зал контролируя, а краем другого – возмущенного бармена. – Ты обманул меня, – шипел ему вслед бармен. – Ты умрешь, клянусь Аллахом, умрешь! – Ага, – приговаривал Нехов, к указанной дверке приближаясь. – Ага… Тишина заложила одно ухо и подбиралась к другому. Но еще немного, еще чуть-чуть, последний шаг – он трудный самый, а я в Россию, домой хочу, я так давно не видел маму, не видел маму. Прикоснулся к ручке кончиками пальцев, погладил ее, возбуждаясь, расстреливаемый со спины взглядами, возбуждаясь, ладонью по ручке провел – тверже, а языком по губам мягче – вот сейчас, сейчас, не спеши, сейчас, вот, вот… Рванул кто-то дверь с той стороны, силу немалую приложив, распахнул до самого что ни на есть конца ее – настежь, и, сделав шаг – кто-то – на пороге ее появился – лысый, маленький, безбровый, безгубый, безресничный, с одним ухом, – но с двумя глазами – и, кажется, с языком – язык мелькал черно в раскрытом рту меж коротких зубов, –в толстом несвежем халате и с «Калашниковым» в пальцеватых и ногтистых руках. – Ты хочешь трахаться, – констатировал маленький, глядя Нехову точно в глаза, в один и в другой по очереди с полсекундной задержкой, засмеялся кочковато. – Вернее хотел, теперь не хочешь. Решаешь, Сахид я или не Сахид… Нехов усмехнулся коротко, повернул голову назад, медленно зал оглядел, низкий потолок осмотрел внимательно, морщась от тусклых ламп, как от солнца, одновременно едва заметно на ногах покачиваясь, к веселой игре готовясь. – А сейчас хочешь ногой мне в лоб долбануть, – хихикал маленький. И вслед его словам за его спиной еще один нерусский появился, из темноты задверной вышагнул, высокий – повыше маленького и повыше Нехова, – мордатый, усатый, в зеленой чалме, в черной рубахе до колен, с длинноствольным пулеметом Калашникова в руках, перекидывал пулемет с одной руки на другую, легко, как детский сачок для ловли бабочек и других крылатых насекомых, и напевал вполголоса славную песенку о славных батырах из далекого горного селения Ахохэ. – А сейчас вот уже не хочешь мне ногой по лбу долбануть, – веселился маленький, – не хочешь, не хочешь!… Нехов попристальней посмотрел на маленького, в глаза ему посмотрел, за глаза, в рот, в зубы, за язык, за второй язык – в мозг. Ни хрена там не увидел. А лысый-безволосый смеялся, смеялся, говорил, смеясь: – Жалеешь, что не через черный ход пошел? А он закрыт. На ключ. Открыл бы, думаешь? Думаешь, что открыл бы? Не такие замки вскрывал и набор отмычек шведских у тебя в машине есть, – и смеялся, смеялся. Нехов тряхнул головой и, не стесняясь недоумения на своем лице, и в голосе, и в вопросе, спросил: – На каком языке читаешь? Я же на русском думаю? – А мысли языка не имеют, – ухмыльнулся маленький. – И слов не имеют и знаков препинания. Поэтому мне плевать, на каком языке ты думаешь. На каком бы ни думал, ты – мой! – Ага, – сказал Нехов, покачал головой понимающе. – Вот так значит. Ага. – Сахида хочешь видеть, – сказал маленький, перестав улыбаться, а тем более ухмыляться, на серьезный лад настраиваясь, на деловой, мужской, – Надеешься, он тебя на убийцу твоего полковника выведет. Хорошо. Подними руки, я твои пушки выну. Подними. Нехов покорно дал себя обыскать, стараясь не думать ни о чем, кроме того, что его обыскивают и как обыскивают, и что отбирают, и надолго ли. Хмыкнув, решил, что ненадолго. И в тот же миг маленький поднял голову и посмотрел Нехову в глаза – ив правый, и в левый, изучающе, но ничего не сказал, лишь запоздало настороженность во взгляде подавив. И с тобой можно сладить, лысый телепат, главное – захотеть. Нехов хотел. – Иди, – маленький толкнул его к двери. Нехов подчинился, сделал шаг. На пороге остановился, услышав за спиной обреченный вой бармена: – Он не за… не плюююююююуууууул!… Нехов обернулся, встретился взглядом с маленьким, с ленивой полуулыбкой секунду, другую, третью, четвертую, пятую смотрел ему в глаза. Маленький все понял: – Иди, – повторил. К бармену не повернулся. – Он уже труп. И Нехов следующий шаг сделал – за дверь уже, – усатому-мордастому навстречу, который выше Нехова вырос когда-то и вширь поболее его раздался когда-то. Без распростертых объятий он Нехова встречал и без простертых тоже, то есть без объятий вовсе. И его можно было понять: хоть Нехов и привлекательный мужчина был, мордатый все же больше любил детей. Но, кроме него, об этом знали только двое, и обоих уже не было в живых. Печальная история. И снова Нехову пришлось остановиться. По залу опять возглас прокатился: «Эй!» Нехов повернул голову назад. Посреди зала стоял бородатый официант – он все крутился возле Нехова, юркий, когда тот беседовал с барменом – и показывая на Нехова пальцем, гремел: – Он не заплатил по счету! Не заплатил по счету! Он! – и смеялся толсто и бородато: – Хахахахахахахаха-хахахахахаха. – Заплатить? – спросил Нехов маленького. – Бессмысленно, – пожал тот плечами и посмотрел на часы. – Через сорок две минуты его уже не будет в живых. Дверь за ними закрылась, и тотчас возле нее оказались бармен и официант, скребли ее ногтями, стонали плаксиво: – Он не плюнул… Он не заплатил… Он не плюнул… Он не заплатил… Горячась и страдая, страдая и горячась, не заметили, как руки друг другу стали царапать, а потом не заметили, как царапанье в ломанье перешло, а ломанье рук соответственно в ломанье шей, ребер, ног и всего прочего, что может сломаться в замечательном человеческом организме. Но все остальные заметили и сонно, и без интереса наблюдали, как бармен ломает официанта, а официант ломает бармена, мертвые оба давно, – еще до рождения, – но не успокоенные и тем достойные уважения, а может быть, и подражания… Нехов и маленький поднимались по крутой лестнице на второй этаж. – Сказать тебе, о чем ты сейчас думаешь? – спросил маленький. – Ну? – усмехнулся Нехов. – Ты думаешь ударить меня сейчас ногой в лоб, как в прошлый раз… – Он не договорил. С разворота, опершись руками о перила, Нехов двинул его пяткой в висок. Маленький покатился по ступеням, вскрикивая болезненно: – А теперь хочешь Ахмета через себя перевалить и ко мне его бросить. Именно это Нехов и сделал благополучно. Он подсел под медленно поворачивающегося Ахмета, одной рукой схватил его за ногу, а другой рукой за плечо его уцепился и перекинул Ахмета через себя. Загрохотал рослый и плечистый Ахмет по лестнице, скатился вниз, на маленького завалился. Напевал, пытаясь подняться, героическую песенку про отважных женщин, которые отказались стирать белье оккупантам. Нехов спустился в коридор и, не суетясь и не дергаясь, саданул пытающегося подняться Ахмета ногой по ребрам, потом по носу, потом по уху, вынул пулемет из его рук, повернулся, склонился над маленьким: – Ты отличный телепат, – сказал Нехов маленькому. – Ты исключительно верно прочитал все, что я хотел сделать. Блистательная работа. Жаль, что я не знал тебя раньше. Вместе мы могли бы многое сделать… – Еще не поздно, – улыбаясь безгубо, просяще, предложил маленький. – Поздно, – вздохнул Нехов, вынимая из-под халата маленький свой зверобойный револьвер и свой же «мини-узи». – Поздно, – отжал курок, резким движением перевернул маленького на спину и выстрелил тотчас ему в затылок. Маленький дернулся один раз и все. – Прости, – сказал Нехов, вставая. – Я не мог оставить тебя в живых, и ты сам понимаешь, почему. – Понимаю, – скользя зубами по дощатому полу, согласился маленький. – Ты умный. Был. – Нехов перевел взгляд на Ахмета, с размаху шарахнул его еще раз ногой по голове – для верности, повесил на одно плечо пулемет Ахмета, а на другое – автомат маленького и ступил на первую ступеньку лестницы, а потом и на вторую, и на третью, и на четвертую, и на пятую, и на шестую, и на седьмую, и на восьмую, и на девятую, и на десятую, и на одиннадцатую, и на двенадцатую, и на тринадцатую, и на четырнадцатую, и на пятнадцатую, и на шестнадцатую, наконец и лестница кончилась и начался воздух второго этажа, более верхний и более, свежий. Верхний, понятно почему, а свежий потому, что воздух по помещению циркулирует так: повыше свежий, а пониже порченный. Нехов полной грудью вдохнул нового воздуха и по вкусу его почувствовал, что недалек от истины, той самой, которая нужна ему была в данный конкретный и никакой другой момент. Истина звала его. И была настойчива. Потому что хотела иметь дело только с ним. Она любила таких, как он. И всякий раз радовалась, когда встречала такого, как он. Потому что их мало таких, как он. Она могла бы пересчитать их по пальцам, таких, как он, если бы у нее были пальцы и она умела считать. И он шел на зов, не сопротивляясь, – радуясь, возбуждением возбуждаясь, предощущением наслаждения наполняясь, силу свою силясь осилить, что вперед его несла, гнала, ОБУРЕВАЕМЫЙ. Не удивился, что какое-то время уже идет по белому мрамору, полированному, зеркальному, чистому. В мраморе отражались черный потолок, красные стены, сочно желтые светильники под потолком и он сам, Нехов, перспективно уменьшающийся от ног к голове. Тяжелая дубовая дверь подалась легко и открылась неслышно, и Нехов шагнул за порог и перелетел порог невесомо, веса не ощущая, оказываясь, приземляясь в огромном мраморном зале, прохладно-голубым светом освещенном, с белыми статуями кого-то вдоль гладких непыльных стен, с тяжелым и черным столом в конце зала, и с кем-то сидящим за этим столом, неразличимым ясно еще с того места, где Нехов уже оказался, уже приземлившись в прохладно-голубом немалом зале, перелетев порог. Шел на зов, не мня, не сомневаясь, глаза в сидящего за столом перил, с каждым стремительным шагом все больше подробностей в сидящем отмечал – пухлощекость, например, полногубость, большеухость, очкастость, бритость, мягкоплечесть, просторно-полотнянокостюмность и летне-белопанамистость. Наличие этих подробностей придавали – в глазах Нехова – сидящему вид существа наидобрейшего, славнейшего и бесповоротно и окончательно безобиднейшего. Существо работало, не замечая спешащего к нему Нехова, что-то писало ручкой по бумаге, скоро, самозабвенно высунув язык в зал, Сглатывая звучно, себя не жалея. За спиной его на стене умело освещенные с пола маленькими прожекторами томились портреты Гитлера и Сталина, перечеркнутые крест-накрест жирными черными полосами, краской вниз стекшими, тонкими, быстро загустевшими и потому короткими, в полпальца длиной, в треть, четверть, не менее, а то и более. А над портретами – двумя – еще висел транспарант со словами – черным по белому – на местном языке соответственно: «Добрые люди всех стран, соединяйтесь!» И вот случилось то, что должно было случиться. Он предстал перед столом, как лист перед травой, готовый и к самому прекрасному, и к самому ужасному – в равной степени, – надеясь или от того, или от другого получить одно и то же подтверждение – что живешь. – Я хочу пригласить тебя на танец, Сахид, – с усмешливой вкрадчивостью проговорил Нехов. – На медленный танец любви. Сидящий вздрогнул от звука псковского голоса, положил ручку на лист бумаги, на котором писал, потер пальцы, уставшие, и только тогда медленно поднял голову, большими беззащитными глазами на Нехова взглянув, посмотрев, уставившись, – Как ты попал сюда, брат мой? – спросил ласково, с легким беспокойством Нехову за спину заглядывая. – Добрые люди указали мне путь сюда, помогли добраться, рассказали, кто ты и как тебя зовут, – ухмыльнувшись коротко, скромно объяснил Нехов, – Вот как… – Сахид приспустил очки, потер пальцами переносицу, ватные весомые щеки морща, подвинул очки снова к глазам, заметил тактично: – Значит, ты тоже добрый человек? – Ты не найдешь такого, кто бы сомневался в этом, – гордо ответил Нехов. – Весь свет обойдешь, не найдешь! – Хорошо, – покачал головой Сахид. – Очень хорошо. Ты, верно, знаешь, что на нас, добрых людях, держится мир. Знаешь, что мы, добрые люди, основное богатство этой грязной планеты. Знаешь, что мы, добрые люди, любим всех-всех, без исключения, И своей любовью заполняем людские души и делаем обладателей их счастливыми. Знаешь, что наша цель – счастливое человечество. Знаешь? – Знаю, – сказал Нехов. – И именно поэтому пришел пригласить тебя на медленный танец любви. – Он протянул Сахиду руку, щелкнул каблуками, головой тряхнул четко. – А знаешь, что они, – Сахид указал себе за спину, на перечеркнутые портреты Гитлера и Сталина, – были невеждами. Они не смогли додуматься до одной предельно простой вещи. Они не поняли, что нового человека, нравственно и морально чистого, преданного патриота своей страны, не создашь путем жестокости, насилия и подавления воли. Что этого можно добиться только с помощью добра и любви. С обласканным человеком можно делать все, что угодно. С любым. Даже с самым отъявленным негодяем и преступником. Одаренный тобой добром и любовью, он пойдет за тебя даже на смерть – безбоязненно и гордо. Знаешь?! – Знаю, – сказал Нехов. – И именно поэтому я пришел пригласить тебя на медленный танец любви. – Он вновь протягивал к Сахиду руку. – А-а! – махнул пальцами Сахид. – Я не танцую. Тем более без музыки. – Я смею настаивать, – с легкой угрозой проговорил Нехов и улыбнулся. Добавил с добром и любовью. – Мой дорогой. Я уверен, ты прекрасно танцуешь. Ты танцуешь лучше всех. Даже, наверное, лучше меня. Хотя это и исключено. Прошу. – И щелкнул каблуками, головой тряхнув. – Ну хорошо, – наконец согласился Сахид. – Только сменю очки. В этих я пишу. Они для работы. Для танцев у меня другие. Выдвинул ящик стола, сунул туда руку… Но вынуть не успел. Нехов стремительно навалился на широкий стол и двумя руками задвинул ящик, больно зажав им пальцы Сахида. В ящике стола, разумеется, лежали не очки, а лежал, разумеется, натурально, револьвер, поменьше размером и калибром, правда, чем у Нехова, но тоже неприятный для доброго человека. – Любимый, – обратился Нехов к Сахиду, не выпуская его руку из своих рук. – Ты, верно, напутал. Это совсем не очки. Это что-то другое. К танцу, который мы сейчас с тобой станцуем, отношения не имеющее. Так? – Да, да, – засмущался Сахид, краснея, бордовея. – Я перепутал, конечно, я перепутал. – Я понимаю, – нежно улыбался Нехов. – С кем не бывает, – подумал, добавил: – Со мной. Я никогда ничего не путаю. – И торжественно кладя одну руку Сахида себе на плечо, подхватывая его за талию и не выпуская из левой своей руки его правую руку, – провозгласил: – Итак, медленный танец любви! Обнялись они вдвоем – тесно, Заволновались оба вместе – в вальсе, Расцеловали сами себя – в лица, Горячей слюной истекая, Теплым потом себя омывая, Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля, ДОБРЫЕ! Под шуршанье одежд, как под музыку гения, томно плавились души двух так непохожих.друг на друга людей, Они, люди, дышали друг в друга, и стонами впивались друг в друга. Они мешали свои запахи и слезами паяли свои глаза – твердо – свинцово – титаново, хоп, хоп. Они парили колено к колену, живот к животу, сердце к сердцу. Бьются сердца как одно бум-бум, бум-бум……А у Нехова сильней – бум-бум, а у Нехова покруче – бум-бум. Трещат ребра у Сахида, хрум-хрум, но он терпит, он же ЛЮБИТ, бум-бум, хрум-хрум, бум-бум… Вот как сложно и как просто. Не валяй дурака и не свален сам будешь, как говорил кто-то, кого они не знали и знать не могли, потому что так говорил я. Жизнеспособность сопротивленца всегда выше была, казалось, чем жизнеспособность захватчика, казалось. А оказалось, не так. Исключение. Из правил. Мы устанавливаем свои. Правила. Мы – это Нехов и немногочисленные другие, которые жили и умерли и, наверное, еще родятся, но пока еще не родились, пока только Нехов на этой Земле правит собой, ПРАВИТ СОБОЙ, ХОЧЕТ ПРАВИТЬ СОБОЙ. И НЕ ЗНАЕТ, ПРАВИЛ ЛИ ОН СОБОЙ. Он ни черта не знает на самом деле, ни черта, и меньше всего он знает о том ублюдке, который замочил полковника Сухомятова. Плевать, собственно, на Сухомятова. Нехов уже забыл о Сухомятове. Но узнать, кто его убил, надо. Трудно сказать, зачем. И Нехов не знает, зачем, но знает, что надо. Хоть что-то он знает, хоть что-то. Хрустят сахидовские ребра под ударами любвеобильного сердца. – Скажи, Сахид, скажи, – жеманясь и кривляясь, мурлычет Нехов, трется виском, наклоняясь, о Сахидову щеку, жирно блестящую, коричневую, тысячно-точечно волосками прорастающую, и громкую от их роста, свистяще-гомонящую, в такт тактам вальса вальсирующую, раз-два-три, раз-два-три… – Скажи, Сахид, скажи, а как быть с теми, кто от добра не добреет, и от ласки не нежнеет, и от любви не млеет, и не идет, куда ты скажешь, и не стоит, где ты укажешь, и не бьется, с кем ты покажешь?… И не говорит, что ты закажешь?… – Он болен! Болен! – горячился Сахид восточной горячностью, обжигая лицо Нехова остроязыким пламенем, изо рта выбивающимся. – И опасен! Для народа! Для добра! Для счастья! Лечить его! Лечить! Лечить! Для народа! Для добра! Для счастья! – А скажи мне, Сахид, скажи, – просит Нехов, сладкой сладостью истекая, липкий, парной. – Кто звонил тебе сегодня утром из гостиницы «Тахтар»? Кто говорил тебе, что дело сделано, но кое-кого еще подождать бы надо?! Кто?! Скажи, Сахид, скажи! – просит и обцеловывает Сахида мокрыми поцелуями, прижимается липким телом, рыдает во все глаза, памятуя, что чем больше слюны, тем больше любви, чем больше пота, тем больше страсти, чем крупнее слеза, тем больше восторга, помочиться еще хотел Нехов на Сахида, но решил пока обождать, не все сразу, хорошенького понемножку, короче, застегнул ширинку. Вовремя. Сахид вырываться начал. И плевался при этом, и кусался, и хватал Нехова за разные части его шикарного тела, а также за одежду, которая покрывала это шикарное тело, в том числе и за вовремя, застегну тую на всю «молнию» ширинку. – Ты болен! – констатировал Нехов и двумя приятными ударами завалил Сахида на пол. – Лечить тебя! Лечить! – И ногой добавил по одному месту, а затем и по другому, не жалея. – Ты опасен! – ужасался, холодные пальцы к горячим щекам прижимая. – Разве здоровый человек противится добру? – И топтал Сахида, как топчут в бочках виноград, сок из него, выжимая, смеялся предвкушающе при этом. – Лечить тебя! Лечить! – Не прошло и столько-то минут, и Нехов сошел с Сахида на ковер и, задыхаясь от смеха, просипел: – Добром прошу, сука, говори, блядь, твою мать, кто звонил тебе сегодня утром из гостиницы «Тахтар»?… Ой, умираю, какой ты потешный, – давился хохотом. – Говори, так твою растак, а то пиписку надеру! – Я не люблю тебя, – кровь бурно клокотала, во рту у Сахида. – Ты бяка! Бяка! Ты! – Слово «бяка» он произнес на чистейшем русском и поднял руку со сжатым кулаком, затем и честно прошептал, слабея: – Добрые люди всех стран, соединяйтесь! – Лечить тебя! Лечить, – пританцовывая над Сахидом, засуетился Нехов. Веселился, любя свою работу, сам того не зная или старательно скрывая это знание, чтоб не мешало оно делать ту работу, которую он делал и сейчас, и вчера, и год назад (он с незапамятных времен знал, что охотник не должен любить охоту, он должен просто хорошо охотиться). Нехов вынул шприц, нестерильный, конечно, пользованный уже не раз (зачем Сахиду стерильный шприц, да и всем другим, в кого этот шприц уже втыкался когда-то, и да и будет еще втыкаться, наверное), и ампулку из кармана вытащил, выпростал, разломил ее, наполнил шприц, склонился над непримиримым добряком Сахидом и, расценивая свои действия как средство для получения жизненного наслаждения и удовольствия, не моргая, ввел иглу Сахиду в вену (предварительно, конечно, оторвав к чертям собачьим рукав от сахидовского пиджака, а вслед тоже к чертям собачьим и рукав от сахидовской рубашки, они ведь, рукава, все равно ему больше не понадобятся, Сахиду, суке). И выдавил все, что было в шприце, все до конца. Шприц спрятал в карман, а ампулку раздавил каблуком, сухо хрустнув тонким стеклом. Раздавив, давил ее дальше, в пыль мельча сосредоточенно, насупившись, язык прикусив, розовый, чистый, забывшись, отрешившись и желая только одного – приехать домой в Москву, упасть на диван и перечитать «Женитьбу Фигаро». Опомнился, конечно, когда и следовало, когда Сахид стал радушно улыбаться и строить Нехову кровавые глазки и делать бантиком кровавые губки. – Ага, – сказал Нехов и сел на ковер рядом с Сахидом, потер руки. – Ну-с, батенька, – проговорил оптимистично. – Как мы себя чувствуем? – Как попка, которая хочет пукнуть, – кокетливо отозвался Сахид и рассмеялся кругленько. Белые статуи кого-то – в полный человеческий рост – кто выше, кто ниже – благоволили Нехову и Сахиду, кивали головами с гипсовой важностью и невидящими глазами, белыми, то и дело поглядывали на противоположную стену без окон, за которыми сидела темная ночь, и только пули свистели в степи, и только ветер гудел в проводах, и тускло звезды мерцали. – Ну-с, – сказал Нехов. – Попка, – потирая руки добренько, – пукни, пукни. Это так эротично. Но вместо возбуждающего звука исходящих газов Нехов услышал частые и толстые удары в дверь, входную, кабинетную, необыкновенную – массивную и крепкую – с удара не вскроешь, и с двух, и с трех тоже, и с пяти, и с шести, и семи, а равно как и с восьми, и с девяти. Бух, бух, бух, бух, бух, бух, бух, бух, бух, бух, бух – и крики меж ударов, и крики, и рев, и ор, и местные бранные слова меж криков и ударов, – бух, бух, бух, бух, бух, бух, бух, бух, бух, бух, бух, бух, бух. – Йу-с, – Нехов взял Сахида за подбородок, сжал несильно, но чувствительно. – Кто звонил тебе сегодня утром из гостиницы «Тахтар»? – улыбался ясно. – Ха-ха, ты ревнуешь, – порадовался Сахид, игриво шевеля ушами. – Ревнуешь, ревнуешь… Кто? – Нехов улыбнулся еще яснее, яснее некуда. Один хорошенький мальчишка, – потупив глаза, со вздохом счастья и вины сознался Пукалка-Сахид. – Один красивенький мальчишка… – Имя? – Нехов укусил Сахида за нос, пока небольно. – Приметы? Где его можно найти? – Не скажу, не скажу, – плаксиво захныкал Сахид. – Я знаю, ты хочешь его отшлепать. Бух, бух, бух за дверью и крики, и брань, и дурные запахи, фу! – Я найду его, – проговорил Нехов Сахиду в самый его что ни на есть рот, – и приведу к тебе. – Правда? – радостно встрепенулся Сахид и спросил шаловливо: – Ты не врешь? – Я никогда не вру, – честно признался Нехов. – Вот тебе звезда! А за дверью теперь тишина настала неожиданная. Бесполая и ничейная. – Я так люблю тебя, – признался Сахид, утопая в нахлынувших чувствах, кои вызвала чудесная жидкость из многоразового нестерильного, поржавевшего шприца. – Во как люблю, – показал, разведя руки, и пукнул в доказательство. – Во как! А вслед за пуком без паузы и промедления грохнул взрыв, встряхнув кабинет, а вместе с ним и статуи кого-то, которые даже не успели уши зажать и потому оглохли сразу, и черный стол, который подпрыгнул и поскакал по кабинету на четырех ножках, и так и не смог больше никогда остановиться, и Сталина, и Гитлера, перепуганных, но не побежденных, только крепче зубы сжавших, так что собственные портреты чуть не изжевавших, и Нехова с Сахидом, которые до потолка взлетели и на пол возвратились, неторопливо размышляя каждый о своем – Сахид о сладости полета, а Нехов – обо всем сверху виденном: и о прыгающем столе, и о жующих портретах, и об оглохших статуях, кого-то, и о густо небритых типах, вбежавших в, кабинет вслед за взрывом. Типы Нехову не понравились, и он стал в них стрелять – прицельно – и положил нескольких тут же, не сходя с места, когда приземлился. А потом Нехов лимонку в дверь расколоченную кинул и, когда лимонка бабахнула, вернулся к прерванной беседе. – Имя, – он ласково трепал Сахиду его мясистые веки. – Приметы. Где я могу его найти? – Он большой. Красивый, – восторженно цокал Сахид языком. – Желтоволосый. Смуглощекий, красногубый, розовопопый, чистенький, свеженький… Нехов встряхнул Сахиду язык. – Он русский, – заявил одноязыкий Сахид. – Русский, – сморщился Нехов и поскрежетал зубами, пробуя слово на крепость. – Русский. – Не разгрызть словцо. Нехов иол ожил его в карман. – Он помогал нам, – умильно плакал Сахид, – Он был сторонником Движения освобождения Доброты. Он сам вызвался помочь. Его никто не просил. Он такой чудный, такой голубоглазый, такой пухлогубый, такой прелестный, такой ароматный, такой нежный, такой сексуальный, так и хотелось его облизать, – Сахид высунул язык и стал упоенно лизать дымный воздух. Небритые снова пошли в атаку. Но из кабинета их неожиданно вытолкнул стол, весело выпрыгнув в коридор и помчавшись, грохоча и потрескивая, по шаткому полу и по валкой лестнице. Хряк. Бряк. Дряк. – Имя?! – Нехов щекотал Сахиду пятки. – Он назвал себя Сильвио, – похохатывал, возбуждаясь, Сахид. – И всегда говорил, что последний выстрел за ним. Ха-ха-ха, хо-хо-хо, хи-хи-хи!… – Где он?! – проорал Нехов Сахиду в самый его нос, Нос шевельнулся и побледнел, застигнутый врасплох. – В моем сердце, – прошептал Сахид. И ударил себя пальцем в сердце и попал в него – пальцем, – пробив кожу и вонзившись меж ребер. В самую его серединную середину попал. Сахид высунул палец, облизнул его и перестал дышать, и, уже не дыша, все подмигивал Нехову, похохатывал, кокетничая, все завязывал губки изысканным бантиком. – Ну, ты козел! – констатировал Нехов и чуть не заплакал от жалости: как-никак ведь вальс они с этим козлом плясали, а это что-то да значит по этой жизни. Так-то.МИР
…Я открыл глаза и, жмурясь от горячего слепящего солнца, поднялся, выпрямился и сел в лодке. Воспоминание было действительно хорошим. Лучшего я и не мог себе представить для доказательства того, что я действительно понял, что наиболее важное в жизни – это сама жизнь. Пока только понял, не осознал. Взялся за весла и поплыл к берегу. Я плыл и думал. А надо ли насильно внедрять в себя мысль, что самое важное в жизни – жизнь? Ведь наверняка же знание этого, не мысль, а именно знание, имеется уже в моем подсознании (так же как и в подсознании любого родившегося на этой земле человека). Наверняка имеется, мать вашу! Не может не иметься. Потому что в противном случае люди бы повально кончали бы самоубийством или просто бы затухали и умирали тихо, не дожив до положенного срока. А раз такое знание имеется, то, значит, совсем не надо привносить его извне, а надо только попробовать добраться до него внутри себя, добраться. Так, так, так… Я уверен, что такой путь наиболее верен, а значит, и наиболее оптимален, а значит, наиболее легок. Наверное. Спроси любого, что важнее всего в жизни, и после недолгих размышлений и наводящих вопросов любой ответит тебе, что важнее всего жизнь. Да, не сомневаюсь, так скажет почти каждый. Но тогда почему люди, все люди, так расстраивается из-за потерянных в трамвае денег, из-за конфликтов с начальством, из-за измены любимого, от грубого слова в железнодорожной кассе, из-за того, что вовремя не был готов обед, из-за того, что не пригласили в гости, из-за того, что кто-кто что-то сказал недоброе за спиной или в лицо, или в ухо, из-за того, что кто-то посмотрел неласково, из-за того, что кончился бензин или сломалась машина, из-за того, что не досталась путевка в санаторий, из-за того, что не пришло письмо, из-за того, что кто-то не позвонил, из-за того, что обокрали? А откуда в конце концов столько причин для ссор между самыми близкими людьми, если мы знаем, что самое важное в жизни – Жизнь? Я могу ответить на эти вопросы. Потому, что ми только говорим о том, что самое важное в жизни – Жизнь. Но даже (хотя бы как я) не приблизились к истинному пониманию, что так есть на самом деле. А так есть на самом деле. «Я доберусь до этого знания, – сказал я себе. – Я доберусь» Лодка уперлась в берег. Спрыгнув на песок и подтянув за собой лодку, я сильно провел пальцами по лицу и, глубоко и чисто вздохнув, подумал, а хорошо бы остаться здесь подольше. Но я не останусь. Завтра или послезавтра или уже сегодня вечером я уеду отсюда. Я знаю, что случилось то, что раньше или позже должно было случиться. И я просто приблизил день и час события. Но тем не менее – объективно – все началось именно с меня. Это же ведь я пришел в Дом моды Бойницкой. Это же со мной обнималась и целовалась Ника Визинова, чем вызвала патологическую ревность и штормовое негодование Бойницкой. Это же я в конце концов подстрелил двух заспинников Бойницкой и в довершение всего далеко не по-джентльменски оттрахал ее саму. (Я довольно ухмыльнулся, вспомнив, как, не сдержавшись, Бойницкая все же закричала, кончая.) Так вот объективно выходит так, что все началось именно с меня в тот день и час. А значит, именно я и несу ответственность за произошедшее – перед собой и прежде всего, прежде всего, прежде всего перед Никой Визиновой. И я обязан теперь обеспечить ее (Я люблю ее!!!) безопасность, (То, что Бойницкая попытается достать ее, а через нее и меня, сомнений не вызывает. Я профессионал. Ну, хорошо. Я был профессионалом. Но чутье-то осталось, осталось ведь, вашу мать! И я предощущаю развитие событий – Бойницкая, сука, станет отвечать, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука!) В день, когда все произошло, уже после того, разумеется, как все произошло, я отвез Нику домой. Там мы забрали ее сына и.отправились дальше, на квартиру к ее одинокой тетке, адреса которой – Ника была уверена – Бойницкая не знает и вряд ли когда-либо узнает. Я наказал Нике не высовывать носа из дома дня три-четыре, пока ситуация не остынет, и сообщил также, что сам я тем временем съезжу за машиной, которая сейчас будет нам крайне необходима, а когда приеду, постараюсь узнать, какой вариант ответа нам готовит Бойницкая. В электричке по дороге в Кураново я понял что не только автомобиль был причиной моей поездки на турбазу к Петру Мальчикову – мне до боли в висках хотелось остаться одному. Мне хотелось тишины, влажного воздуха, чистого и резкого запаха земли, хвои, воды, скрипа весельных уключин, ворчания деревьев над головой, шуршания пролетающих птиц, тихого ветра в лицо, беличьего цоканья, мягкого неба наверху, болезненной заботы далеко в стороне (настолько далеко, будто ее и нет вовсе), ритмичного и четкого сердцебиения, сухих ладоней, легких лба и висков, не пересыхающего рта, пружинящей травы, скучной многословной книги, обшарпанного черно-белого телевизора – одним словом, всего того, что сейчас в данное конкретное время я и имел. Я привязал лодку к дереву. И пока обматывал дерево цепью, захотел вдруг обнять его, прижаться к нему – грудью, бедрами, коленями, и щекой. Я ощущал, какое оно теплое. Я слышал, как оно живет. И я понял, что хочу поговорить с ним. «Меня зовут Антон, – сказал я дереву. – А тебя?» Я приложил ухо к стволу. Дерево молчало. «Меня зовут Антон, – повторил я. – А тебя?» И снова я не услышал ответа. «Меня зовут Антон, – ласково проговорил я. – А тебя?» Ухо слышало только шум движения соков под корой, и все. «Меня зовут Антон, – засмеялся я. – А тебя?» Дерево или не хотело отвечать, или просто не знало нашего языка. Хотя оно не могло не знать нашего языка, подумал я, ведь деревья уже столько тысячелетий живут рядом с людьми, и давно уже наверняка должны были научиться человечьему языку. «Меня зовут Антон, – говорил я, не переставая. – А тебя?… Антон… зовут… тебя… Антон… тебя… тебя… зовут… тебя… Антон… – меня…» Не час стоял я и говорил. И не два, и не три, наверное. Устал, замерз, перестал чувствовать язык и щеку; «Меня зовут… а тебя… Антон… меня… зовут… зовут… меня… тебя…» Петр рассказал потом, что от дерева он отодрал меня с трудом, руки мои впились в ствол так, рассказывал Петр, что пальцы продавили кору, кроша, Петр рассказывал, что колол сведенные мои мышцы кончиком ножа, чтобы они вновь начали сокращаться и смогли расслабиться. Петр рассказывал, что ему пришлось несколько раз ударить меня по лицу кулаком и сильно, чтобы я пришел в себя. Петр сидел у меня в домике, пил водку и рассказывал. А еще он рассказывал, что несколько лет назад, когда он жил в городе, в один прекрасный день он вдруг захотел ударить ножом женщину, которая приходила к нему убирать квартиру. Не убить, такой мысли не было, а именно ткнуть в женщину ножом. И тыкать потом и тыкать, тыкать, тыкать. До крови. Глубоко и еще глубже. Петр уже нож взял и уже занес его над несчастной женщиной. Высоко занес. И ткнул ножом самого себя в последний момент. Потому что надо было в кого-то ткнуть, рассказал Петр, потому и ткнул. В последнюю секунду сработал какой-то инстинкт, и не стал Петр резать пожилую домработницу, ничего не подозревающую и напевающую про праздник с сединою на висках, а вхреначил нож в себя – чуть повыше сердца. Потому что, если бы не вхреначил, рассказывал Петр, в себя, то непременно всобачил бы его (нож) в бедную уборщицу (сохранившую еще, кстати, рекомендательные письмо от самого аж князя Юсупова). Нож сломался от силы удара, рассказывал Петр. И кровь плеснула из дырки на рубашке и потекла, густея, по ткани. Петр промыл и продезинфицировал рану, перевязал ее, выпил водки и на том успокоился. Однако… Петр доканчивал вторую бутылку. Сам я не пил. И даже не курил. Я полулежал в драном кресле и слушал Петра. А Петр рассказывал. – не матерясь и очень складно, без слов-паразитов (как их называли в школе), не цыкая, и не плюясь. Однако, рассказывал Петр, желание резать, оттого что он ткнул ножом самого себя, не пропало. Следующим объектом для разделки туши стала писклявая толстая соседка. Когда Петр не видел ее, ему было, конечно, наплевать на нее, рассказывал Петр, но когда Петр видел ее, рука его снова невольно тянулась к ножу, удобно и ловко ухватывала его за рукоятку и сама по себе поднималась вверх для нанесения тайного и сильного удара. И во второй раз Петр, рассказывал Петр, в последнюю секунду ударил самого себя, теперь чуть пониже сердца. А когда еще и в третий раз – пожелав разрезать слесаря-сантехника, – Петр рассказывал, он нанес себе новый ножевой удар уже чуть правее сердца, он решил, что пора что-то делать, иначе или он станет новый Чикатило, или попадет в психушку. И он устроился на работу на Курановскую турбазу. Зимой это было. И в том спасение оказалось. Потому что, если бы он прихайдакал туда летом, рассказывал Петр, то он точно кому-нибудь голову от туловища отделил. А зимой на турбазе никого, естественно, не было. Петр жил совсем один – сироткой. И к тому времени, когда весной на базу приехал ее директор проверить, как и что, у Петра уже пропало всякое желание тыкать в кого-либо ножом. Петр, рассказывал Петр, излечился. В каждом из нас просыпается такое желание, рассказывал Петр, иногда, кого-то прирезать, или просто ударить кулаком, без всяких видимых или невидимых на то причин, или оттаскать кого-то за волосы, или садануть подвернувшимся под руку кирпичом, булыжником, доской, или ткнуть отверткой в слишком открытый глаз, или полоснуть бритвой по слишком закрытому рту, или отгрызть ухо, или сломать об колено чьи-то ногу или руку. И не надо такого желания пугаться, такое желание в определенные периоды жизни возникает у каждого, рассказывал Петр, ополовинив третью бутылку, не икая и не потея, покуривая «Лаки Страйк» и почесывая грудь под шелковой рубашкой от Мак-Грегора, Чаще хочется совершать подобное с хорошо знакомыми людьми, реже с малознакомыми, чаще с женщинами, реже с мужчинами. Надо постараться проанализировать свое желание, поиграть с собой в вопросы и ответы (а иногда можно и в крестики-нолики) и, основываясь на своих ответах, найти для себя приемлемый способ избавления от такого желания – как то, например: уехать от людей подальше, заняться спортом, начать пить горькую или сладкую, усердствовать в сексе или, забыв и о себе и обо всем остальном, броситься в работу (или уж в крайнем случае, если уж совсем невмоготу, вместо кого-то другого дубасить кирпичами, тыкать ножами, бить кулаками и простреливать пулями самого себя и никого другого). Можно, можно, рассказывал Петр, именно так переориентировать себя. Основная трудность в таком самолечении, заключается в том, чтобы заставить себя поверить, что ты сам, без помощи кого-либо можешь справиться с мучающей тебя напастью. Главное знать, что напасть пройдет. Что не с тобой одним такое. А со всеми, со всеми. Подавляющая часть самоубийств, рассказывал Петр, происходит от того, что потенциальный самоубийца не знает, что у него всего лишь обыкновеннейшая, банальнейшая депрессия, которая для психиатра так же легка в лечении, как насморк для терапевта, рассказывал Петр. Несчастный суицидник не знает, что подожди он еще день-другой, или неделю, месяц, или полгода в конце концов, и депрессия пройдет, и не надо будет ему тогда вязать петлю и прилаживать ее к крюку под потолком, и устанавливать под петлей качающуюся табуретку, которую мастерил еще рукодельник дед и домовитый отец, а надо будет только проснуться одним солнечным утром и неожиданно и беспричинно (опять-таки) радостным и сказать себе неласково и не улыбаясь: «Какой же я мудак!» Суицидник не знает, что так будет, и прилаживает потому прочную веревку к крюку под потолком, пыхтя и отплевываясь, ставит под нее крашеный табурет, ладно сработанный еще рукодельником дедом или домовитым отцом, и с отчаянным хрипом, покачиваясь и дергаясь, уходит туда, откуда никто еще пока не возвращался. В первый день, когда Петр приехал в Кураново, рассказывал Петр, или во второй день, или в третий, он тоже точно так же, как и я недавно, какое-то время назад, несколько минут тому, час, вышел на берег замерзшего озерка и неожиданно для себя самого, того, который приехал, возбужденного и подавленного, напрочь забывшего себя прежнего и никогда не знавшего себя настоящего, кинулся к ближайшему, очень большому и очень приветливому дереву и обхватил его крепко, прижался и обслюнявил его всего, как неумейка-школьник вожделенную женщину, и забился невзначай в горьком плаче, и сквозь слезы стал требовать что-то от молчаливого дерева, что-то типа «Научи, помоги», что-то типа «Расскажи, покажи», что-то типа «Убей, сотри с лица земли». Выплакав все, что можно выплакать, все вытребовав и все выкричав, оторвался Петр, рассказывал Петр, от благородного дерева, протер воспаленные глаза и почувствовал, что ему легче, немного, но легче… Так что он меня понимает, рассказывал Петр, прекрасно понимает, как не понять, мы все ведь братья, а братья всегда могут понять друг друга, только не хотят они того, как правило, а понять могут. Вот он-то, например, меня понимает, и я его самого, конечно же, понимаю. Мы понимаем, значит, и все могут понимать и его, и меня, и всех остальных. Но не хотят, потому что глупы и уверены, что бессмертны. Глупы от того, что уверены… Через неделю, рассказал Петр, после того, как он приехал в Кураново, у него кончились продукты и чтобы не умереть, – а умирать к тому времени уже не хотелось, – ему надо было пойти в ближайший поселок и что-то там купить. Нехотя, скрепя сердце и некоторые иные не менее важные части своего уже немолодого, натруженного организма, Петр собрался и двинулся в путь. Дорога предстояла быть долгой, и дорогой Петр, рассказывал Петр, размышлял. Выглядело это примерно так: «Вашу мать, суки, на хер, как я вашу мать, никого из вас, вашу мать, не хочу на хер видеть, вашу мать и вашу тоже и вашу и всехнюю мать тоже!» Не захочет ли он вновь кого порезать, дрожа головой, думал Петр, а если захочет, что делать тогда? Опять резать себя, думал Петр, а он и так же не единожды и многократно повредил свое не увядшее еще тело, и как быть, как быть, спрашивал себя Петр, запретить себе себя любить, не могу я это сделать, не могу, думал Петр, рассказывал Петр. Он прошел уже два километра и оставалось еще три. Погоды стояли на этот раз непонятные, рассказывал Петр, мела метель, но светило солнце, скучал мороз и пели ветры. Он увидел даже нескольких весело кружащихся в метельном вихре грачей и соловьев и смешного горбатого, пухлого верблюжонка, который кружился вместе с птицами и все пытался толстыми губами ухватить какую-нибудь из пролетавших мимо него птичек за кончик хвоста. Петр наблюдал за верблюжонком, и весело смеялся, радуясь тому, что есть на земле вот такой смешной и нелепый верблюжонок с влажными розовыми губами и что он живет и не болеет, и с таким удовольствием гоняется за маленькими птичками, чтобы ухватить какую-нибудь из них за кончик хвоста. И тут Петр, рассказывал Петр, наткнулся на что-то. С бегу, с разлета. И они вместе с этим чем-то упали на снег. Петр быстро поднялся, отряхнул лицо от снега, открыл глаза и увидел лежащего на земле человека, лысого, длинноносого, длинноухого, круглоглазого, с непомерно, и даже более чем непомерно развитой верхней частью головы, проще говоря, с огромным лбом. Поллица этого человека составлял один только лоб. «Вашу мать, – подумал Петр, рассказывал Петр, – инопланетянин. Спасибо тебе, Господи, и я сподобился на инопришельца поглядеть». Петр, конечно, тут же заулыбался приветливо, и, ударив себя в грудь, сказал громко: «Я Петр, а ты?» – и указал пальцем на лежащего человека. «А я Семен», – сказал на чистом русском языке человек и тоже заулыбался. «Во, бля, – подумал Петр. – Как чисто, сучок, по-нашему болтает. И имя-то какое себе земное взял. Работают же, стервецы!» Петр ткнул пальцем в небо (но осторожно, боясь его повредить ненароком) и закричал, будто спрашивал, о чем-то глухого: «С какой планеты ты прилетел, Сема? С Альфа Центавра? С Тау-Кита?» – «Из Кураново, – захихикал большелобый. – Из психинтерната номер шесть. Это на планете Земля. Знаешь такую?» Петр задумался надолго после этого ответа, и через несколько минут, растянувшихся, как ему показалось на годы, сказал тихо и разочарованно: «Ошибся, значит. Прости, псих» – «Да чего там, – махнул рукой псих. – Я сам готов верить в самое несуразное. Ведь так хочется чуда, Петя» – «Оно верно», – кивнул Петр и со вздохом помог Семену подняться. «И куда ты идешь, Семен, в такую пургу?» – спросил психа Петр, заботливо стряхивая с него снег? – «А куда глаза глядят, – ответил Семен. – Иду себе и иду» – «Тогда пусть глаза твои вон туда глядят». – И Петр указал направление, в котором двигался до этой встречи сам, на Кураново. «Пусть», – легко согласился Семен и опять захихикал. Каждые семь – десять минут Семен вдруг садился прямо на снег и начинал быстро-быстро писать пальцем на снегу ровные рядки цифр, и все время бормотал что-то, бормотал, бормотал, стекленея глазом, костенея лицом. «Что ты там считаешь?» – наконец решился спросить Семена Петр. «Когда? Где? Почему? – завертелся после этого вопроса на одном месте Семен. – Когда? Где? Почему?» – «Ооооо – почесал Петр себе шапку, там, где у него был затылок. – Плохи твои дела, Семен», – проговорил почти про себя. Это была счастливая встреча, рассказывал Петр. В первый раз за последние несколько месяцев он не хотел никого резать. Он совершенно не хотел резать Семена, наоборот, он хотел обнять его, поцеловать даже, сказать ему какое-то доброе слово, порасспросить его о его жизни, о его семье, о его товарищах. Петру, рассказывал Петр, было очень легко с Семеном, очень вольно и очень тепло. Придя в Кураново, Петр не пошел в магазин, он направился в психинтернат номер шесть. Он познакомился там со всеми психами и со всеми медсестрами и медбратьями, которые мало чем отличались от самих психов. Весь день он играл с психами и с психперсоналом в разные игры – в «дурака», в «салочки», в «прятки», и в придуманную умным Семой (даром, что ли, лоб в полголовы) игру «Покажи мне свое дерьмо, и я скажу, кто ты». Семнадцать раз Петр, рассказывал Петр, оставался в дураках. Потому что психи коварно жульничали, а медпсихперсонал им с энтузиазмом в этом помогал. Бегая за психами и пытаясь кого-нибудь из них осалить, он так никого и не осалил. Психи были быстрыми, верткими, заводными, имели отменную дыхалку и большой опыт игры. Когда считались, кто будет водить в «прятках» –«Эники-беники съели вареники…», – эта тяжкая доля всегда выпадала на Петра, рассказывал Петр. Даже когда он сам начинал считать «Аты-баты, шли солдаты…», он все равно неизменно оказывался последним по счету. Черт-те что! Давно изучив все закоулки своего облупившегося и покосившегося интерната, психи прятались – так укромно и секретно, что Петр, конечно, был совершенно не в состоянии их найти. В очередной раз, не найдя никого, ну просто никого во всем небольшом доме, Петр сел на пол посреди зала столовой и взрыдко заплакал, вздрагивая и покачиваясь, – от обиды, что он такой неловкий, и от сожаления, что он не псих. Заслышав его плачь, психи вышли на открытое пространство. (Выбрались из пола, выковыряли себя из стен, спрыгнули с потолка, материализовались из воздуха, вылезли из-за швабр и веников, а также из помойных ведер и, конечно же, из прозрачных оконных стекол.) Они по очереди подходили к сидящему на полу скорченному и плачущему Петру и нежно гладили его по голове, по плечам, по рукам, по ногам, по бедрам, по коленям, и по мыскам петровских распаренных валенок, и, не переставая, что-то говорили ему тихое, доброе и совсем, как рассказывал Петр, совсем не психически больное, а нормальное, привычное, человеческое. Петр смотрел на них – горбатых, хромых, кривых, большеротых и длинноруких, белоглазых и круглощеких, дерганных, вздрагивающих, вертящих головами, бровями, носами, ушами и худосочными или сочномясистыми задницами, и плакал пуще прежнего. И теперь уже не от обиды и сожаления, а от радости и удовлетворения. Ему было сейчас так хорошо, как никогда не было до этого. Через какое-то время Петр успокоился, вытер слезы и заулыбался. И, завидев такое, психи тоже сразу повеселели, стали петь песни, танцевать, кувыркаться, кусаться, таскать друг друга за волосы, снимать с себя одежду, плеваться и блеваться. И Сема тогда сказал громко и отчетливо: «Играем в дерьмо». И все тотчас принялись готовиться к игре под названием «Покажи мне свое дерьмо, и я скажу, кто ты». Самые сильные из психов принесли специальные фанерные щиты, на которые психи должны были испражняться. Расположив щиты, психи начали, считаться, выясняя, кто же из них будет водить. Считаясь – все как один хитро поглядывали на Петра. Петр, конечно, засек такое дело, рассказывал Петр, и под предлогом исключительной утомленности отказался от участие в игре и под неодобрительный гул психов пошел спать в комнату, которую ему специально для его отдыха и отвели. А психи всю ночь, не смыкая глаз, пукали и какали и по виду и качеству дерьма довольно точно определяли, какой заднице оно принадлежит. «Завтра же приду на базу, -? подумал, засыпая, Петр, – и поиграю с собой в эту чрезвычайно замечательную игру». Наутро психи сгоняли в магазин и приволокли Петру столько продуктов, сколько он мог зараз унести. Прощались долго. Обнимались. Горевали. Наконец Петр ушел. Шел по снежной пустыне и думал: «Как хорошо! Как хорошо! Ну как же, вашу мать, мне хорошо!» И второй раз он к психам пришел, и в третий, и в четвертый, и в пятый, и в шестой, а после седьмого раза внезапно понял, что теперь он с кем угодно повстречаться может, с кем угодно, и никого, кого увидит, совершенно не захочет резать. Как человек прагматичный, он решил это проверить. Добрел до поселка и долго кружил по нему, В магазин заходя, на почту, в дома стучась, и никого так ни разу, к своему великому счастью, не захотел порезать. Ну, а потом приехал директор базы. Петр долго смотрел на него, смотрел и с одного бока заходил, и с другого, и со спины, и склонялся над ним, сидящим, но так и не ощутил никакого желания зарезать приехавшего к нему директора. Излечился. Слава Богу. Слава психам. Какие они, вправду, славные, эти психи, рассказывал Петр. Нет, даже не так, рассказывал Петр, они не просто славные, они мужественные, они честные, они настоящие, и дух человеческий, рассказывал Петр, в них более силен, чем в подавляющем большинстве так называемых «нормальных» наших сограждан. И Петр рассказывал. Этим летом в психинтернате случился пожар. С треском, грохотом. и воем горело дореволюционное здание интерната. Горело -долго. Потому как наверное дореволюционное. Психперсонал разбежался тотчас. И психи остались одни. Брошенные и никому не нужные. До поселка километра четыре. А в поселке только старики и дети. Молодой люд на работах в ближайшем совхозе. Так что помощи ждать неоткуда. А они и не ждали. Под руководством двадцатипятилетнего психа, с деформированным перекошенным лошадиным лицом, со слезящимися глазами и едва понятной речью, психи быстро выбрали чрезвычайный совет, распределили обязанности и, хромая, рыгая, пуская слюну и не удерживая пуки, бросились спасать имущество и успокаивать, и выводить из здания буйных, а также послали двоих наиболее быстрых в совхоз за помощью… Не разбежались, как медперсонал, не ударились в панику, как следовало бы ожидать, а работали спокойно, уверенно и четко, с полувзгляда понимая друг друга и не тратя силы на ненужную беготню и суету. Дом все-таки сгорел, конечно. И психи соорудили тогда неподалеку шалаши, и самые лучшие из них отдали женщинам (!) Устроились. Обжились. Договорились с совхозом о поставках пищи. Напрямую. А не через город, как раньше. Послали гонцов в Москву – им ведь нужны были деньги на строительство нового дома… Битые-перебитые подлым медперсоналом, насквозь пропитанные аминазином, уродливые, грязные, сквернопахнущие, уже теряющие человеческий облик психи оказались сильнее, мощнее, умнее, добрее и порядочнее, чем большинство из тех, у кого с головой и телом на первый взгляд все вроде бы в порядке. «Я преклоняюсь перед ними!» – сказал Петр, выпив очередной стакан. И неожиданно свалился со стула. Сначала я подумал, что он кочевряжится, по-пьяному бывает такое у алкашей, а потом, вспомнив, сколько он выпил, забеспокоился, вскочил с кресла, склонился над лежащим Петром Мальчиковым и пощупал пульс на шее, и пощупал пульс на запястье. Сердце не билось. Я расстегнул Петру рубашку и приложил ухо к его волосатой груди. Я знал, что не услышу сердца. Но я надеялся. Выпрямившись, я глухо выматерился. Теперь так. Мужской поцелуй. И выдох из уст в уста. Резкий. Короткий. С сознанием, что даришь жизнь. Первую. И единственную. Новую. И не последнюю. И в руках концентрируешь силу. Так что кажется – пальцы лопнут сейчас. И забываешь себя. И начинаешь верить. Что ты – это он. Что он – это ты. Бьешь по сердцу. Раскаляясь. Звеня. Ныряешь под ребра. В коричневую глубину. Видишь неподвижный, потухший комок. Улыбаешься, предощущая. И говоришь: «Возвращайся! Не время еще. Тебя ждут». Еще поцелуй. И еще по сердцу удар. Темнота и в тебе. Темнота и вокруг. И видеть перестаешь, но не боишься. Потому что ЗНАЕШЬ. Так собирается свет. Он вспыхнет через мгновенье. Слышишь пение в ушах. Качаешься, как в колыбели. Тихо плывешь. И вот долгожданный свет. Проходит через тебя. Всего. Через голову. Через сердце. Через руки. В другое сердце. Взрыв. И свет возвращается. Ты смеешься. И чувствуешь, как любишь другое сердце. Смеешься. И любишь. Теперь оно тоже твое. Ты поделился с ним светом. Кто я и зачем я, я вспомнил только после того, как стал замерзать. Моя одежда – вся – напрочь оказалась мокрой. Будто меня постирали. Пропитавший одежду горячий пот очень быстро остыл и превратился в холодный компресс. Я лежал на полу, рядом с живым теперь Петром Мальчиковым, дрожал, сопел, громыхал зубами, шлепал веками, шелестел ресницами, и в ритмичных конвульсиях дергал мизинцами всех рук и ног. И ясно вспоминал себя грудного, когда, описавшись, по-мужицки уже обильно, – лежал вот точно так же, но только не на полу, а в зарешеченной кровати, ожидая, пока меня распеленают, обсушат, согреют, скажут на ухо что-то важное и нежное, покачают, поцелуют и убаюкают. Я помнил даже, о чем я думал тогда, когда ожидал, пока меня распеленают. Я (а может быть, еще не я, а может быть, я, но тот, который еще будет после меня, того, который живет сейчас) размышлял о причинах, побудивших меня выбрать именно эту маму, и. именно этого папу, и именно это время, и именно самого себя. Я твердо знал – на тот момент, – что никаких указаний, ни сверху, ни снизу, ни слева, ни справа, ни сзади, ни спереди, я не получал. И что право выбора принадлежало исключительно мне – одному. Так на основании чего же я заключил, что мне необходим именно я? Я прошелся секундно по всей своей родословной, по вертикали до самого низа. Ничего особенного, обыкновенные люди, обыкновенная жизнь, без взлетов и падений. Скучная. Тихая. Вязкая. Удушливая. Слезливая. Трусливая. Бесцветная. Никакая. У всех. От зачинателя рода – длиннорукого, крутолицего, волосатого, длинноглазого Тара до печальных моих родителей. Может быть, именно поэтому, размышлял я, я выбрал именно себя, именно потому, что пора бы уже было прервать затянувшуюся незаметность рода. Сработал закон всеобщей гармонии. Да, думал я, грудной, лежа в зарешеченной кровати, конечно, так. И только так. Так. Я наконец поднялся с пола, поясницей, ягодицами, ладонями и пятками заставив пол издать вздохи и стон удовлетворенный. Я снял с себя одежду и голый сел перед пустой печкой. Заполнил ее бумагой и дровами и подарил ей огонь. Благодарная, она подмигнула мне несколько раз и, кокетничая, показала мне язык и загорелась скоро и нетерпеливо затем, со сладким томлением предвкушая оргазм от предстоящего жара. Я разложил перед ней джинсы, рубашку, свитер, носки, кроссовки, плавки. Закурил. Курил бездумно, а потому спокойно и радостно. Глядел на огонь. Огонь грел мои глаза. И мне хотелось любить. Высушив перед печкой кожу, докурив, я встал и, бросив предварительно сигарету в огонь, повернулся к лежащему на полу Петру Мальчикову. Засмеялся, увидев его вздрагивающие в храпе, уже не белые, уже не серые, уже не синие, уже пунцовые губы. Взял Петра на руки, встряхнул его, ухватывая его поудобней, и перенес На кровать, на которой спал сам. Я не боялся нести Петра и не боялся его встряхивать. Я мог бы сейчас заставить его пробежаться километра два и не боялся, что он умрет на втором, на пятом или на тысячном шаге. Я знал, что после того, как я отдал ему часть своей жизни, он будет жить еще долго. Я не могу сказать сейчас, откуда пришло мне это знание (когда-нибудь я, наверное, все-таки отыщу ответ), но я действительно знал, что теперь Петр Мальчиков будет жить долго. …Летом восемьдесят седьмого была плотно обстреляна артиллерией база нашего полка. Снаряды попали и в госпиталь. Пятеро раненых были убиты наповал. Осколки прошили и одну из сестричек-медичек, как я их называл, одну из красавиц двойняшек, с которыми я нередко и с чрезвычайным удовольствием занимался любовью – особенно после боев и рейдов. (Побывавшим в переделках, я думаю, не надо рассказывать, что такое секс после боя.) Я попал в госпиталь примерно через пару минут после того, как Марина умерла. Я встал на колени перед ней и в первый раз за все годы войны заплакал. Конечно, мне было безудержно жаль, что погиб человек, но более всего мне было жаль, что я не смогу больше получать того удовольствия, что приносила мне эта женщина. Значит, теперь, думал я, после боя мне придется восстанавливать внутреннее равновесие с помощью онанизма и нескольких бутылок виски. Как бы не так, мать вашу! (О том, что на базе есть другие женщины, менее красивые, конечно, чем двойняшки, но все же есть, и что осталась в живых сестра Марины, я не брал во внимание в те мгновения. Может быть, я любил эту женщину тогда на войне, может быть.) Я наклонился к губам женщины и втолкнул в них воздух из себя. Еще. И еще. Я наливался огнем. Я видел, как полыхали мои губы и руки. Гребешки пламени, метущиеся по губам, опаляли мне нос, лоб, волосы. Двумя руками одновременно я резко надавил на ее грудину. Со звенящим криком я запускал руками ее сердце. Я заводил его, как водитель заводит заглохший мотор автомобиля. Я не видел, как собрались вокруг меня люди – врачи, раненые, офицеры, солдаты. Я не слышал, как они говорили: «Хватит, Нехов, брось! Не дури! Она мертвая. Мертвее не бывает. Мы же знаем, Нехов. Мы не первый год на войне! Оторвись от нее, Нехов, мать твою. А я снова и снова, снова и снова, снова и снова дышал в нее и мял раскаленными руками ее остывающее сердце. «Иди сюда, твою мать! -г– орал я. – Ну, возвращайся же, сука! Я же жду тебя! Я так люблю тебя!» И вот… А я и не ожидал другого. Я знал твердо, что так будет. И вот кольнуло пальцы. Больно. Я отдернул руки. И здесь услышал, как кто-то из врачей завопил: «Она дышит, мать твою, Нехов! Она дышит, дышит! В реанимацию ее! Она дышит! Ты сукин сын, Нехов! Ты самый настоящий сукин сын!» А я тогда в тот миг уже знал, что нет нужды уже в реанимации – женщина будет жить еще очень и очень долго… Вот точно так же я и сейчас знаю, что мне совершенно нечего беспокоиться за жизнь Петра Мальчикова. И я не беспокоился. Я сел за стол. Налил себе стакан привезенного с собой виски «Чивас Регал» и выпил его залпом. Налил второй и его выпил. Вышел из дома в черный от ночи лес и закричал с удовольствием в мерцающее небо: «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» Я вернулся в дом, лег на пол возле печи и тихо уснул. Я не слышал, что ответило мне небо. Да я, собственно, и не хотел даже знать, что оно могло мне ответить. Вести машину после полугодичного перерыва было непривычно, страшновато и вместе с тем удивительно приятно. Ощущение всемогущества и царственного величия владели сейчас мной. Власть, скорость и отсутствие какого-либо прогноза на следующую секунду жизни активно подпитывали это ощущение. Понимание того, что через мгновение может случиться всякое – даже смерть, позволяло не думать о будущем, не надеяться ни на что, и, разумеется, не мечтать (если только о прошлом). Вот такое состояние, наверное, и является тем самым состоянием полного кайфа, к которому мы так старательно всю жизнь стремимся. (Уточню, лучшие из нас.) Надо запечатлеть это свое состояние, подумал я и посмотрел в зеркальце заднего вида. Я увидел в нем свои спокойные усмешливые глаза и усталую полуулыбку на сухих губах. Я себе понравился. Реанимированный Петром Мальчиковым мотор работал тихо, ровно и уверенно, был чуток к каждому моему касанию и, судя по всему, если я его, мотор, правильно понимал, очень желал того, чтобы на акселератор я давил почаще и посильнее. Мотор ведь, как человек, – получает Удовольствие, демонстрируя свою силу и мощь. Думая о починенном и отлаженном автомобиле, я споткнулся на слове «реанимация». По всему выходило, что мои манипуляции с Мариной и вот вчера с Петром являли собой самую что ни на есть обыкновенную реанимацию. Я возвратил людей к жизни. И способ для оживления людей я избрал самый банальный, отработанный веками и пока на сегодняшний день, пожалуй, единственный. (Я имею в виду вне стационара единственный.) Но тем не менее во всем произошедшем существовала одна интересная закавыка, которую когда-нибудь, может быть, позже, а может быть, и никогда, следовало бы объяснить. Дело в том, что когда после смертельного осколочного ранения ожила одна из сестричек-медичек, подполковник медицинской службы Крамов, тот самый, который кричал мне истошно в ухо: «Ты самый настоящий сукин сын!» – довольно быстро, подавив эйфорию от увиденного, вывел меня на улицу и сказал: «Я много видел на войне вещей фантастических, волшебных и необъяснимых. Но то, что сейчас сделал ты, фантастичней самых фантастических случаев, о которых я знаю. Сейчас ты поймешь, почему. Марина к тому времени, когда ты появился, была действительно мертва. Не клинической смертью. Поверь. Я знаю. Она была на самом деле мертва. У нее были поражены печень, легкие, позвоночник, мозг. Каждая из четырех ран была смертельной. Женщину нельзя было реанимировать. Нельзя». Я тогда сказал Крамову, что он все же, наверное, ошибся. В такой ситуации, когда вокруг все горит, а земля под ногами ходуном ходит, можно легко ошибиться. Крамов тогда засмеялся, похлопал меня по плечу загорелой, черной, как у негра, рукой, и заметил, что он вот уже двадцать лет шляется по войнам планеты и что он видел и констатировал столько насильственных смертей, сколько у меня волос на мошонке. И потому он не мог ошибиться. Он сказал еще, что меня надо обследовать. Я рассмеялся тогда в ответ и заметил, что мне вообще-то работать надо. Я на эту войну работать приехал, а не обследоваться. И, продолжая смеяться, ушел. И вот теперь Петр. Петр умер. Я мог поклясться. Потускнели белки и зрачки. Затвердели пальцы на руках. И, судя по своим скромным познаниям в медицине, его уже действительно нельзя было оживить. (Я возился с Петром более пяти минут, прежде чем ко мне пришло ТО состояние. Значит, Петр к тому моменту был мертв уже целых пять минут.) Мне трудно сейчас объяснить, каким же все-таки образом сумел я оживить и Марину, а затем и Петра, но я твердо помнил одно – мне очень хотелось, очень хотелось, чтобы и та и другой жили. Очень хотелось. И еще я помню, что в момент наивысшего напряжения сил, в самый пик его, я готов был отдать и Марине, и Петру свою жизнь. Я помню. Увидев голосующего на обочине немолодого мужичка с рюкзаком на спине, я тихо засмеялся. А что если, мелькнула мысль, посадить мужика сейчас в машину, завести его, кудрявого, в лес, завалить его там, долбанув ему монтировкой в висок, и попробовать его неживого оживить? А действительно, продолжал я смеяться, почему бы и нет. Я тормознул рядом с мужиком и приспустил оконное стекло. Мужик сунул голову в салон и сказал, дыхнув на меня смрадно: «В Москву». «О нет, – решил я, как только взглянул на лицо мужика, как две капли похожее на лицо моего давнего, детсадовского еще, заклятого врага, старшегруппника Валерика Кальсонова. – Человеку с таким лицом я вряд ли захочу отдать свою жизнь». И к удовольствию автомобиля, я тотчас, как решил, ударил его по «газам». Вешать на себя труп ради заведомо неудачного эксперимента не имело, разумеется, совершенно никакого смысла и никакой целесообразности. Черт с ним, пусть себе живет этот двойник коварного детсадовца. Как-нибудь в другой раз. Или в другой жизни. Город изменился, с тех пор как я оставил его. Кроме того, что он, конечно же, постарел на три дня, он еще и вымок до черноты. Все три дня здесь, видимо, шел дождь. (Дождь шел и сейчас. А в Кураново я видел солнце не раз. В Кураново было хорошо.) Сморщились крыши, налились слезой окна, промокли до корней и обвисли деревья, отсырели люди. Лица водителей за мутными от воды стеклами автомобилей (я знаю) были печальные, хотя я и не совсем отчетливо различал их лица. Ощущение всемогущества и царственного величия, к сожалению, пропало, как только я въехал в город, и мне тоже, как и невидимым за мутными стеклами водителям, стало грустно. Грустя, я проехал окраины, грустя, приблизился к Центру, и, все так же не переставая грустить, подъехал к своему дому. Неожиданно для себя я остановился не у самого дома, а метрах в трехстах от него. Да, я грустил – отчего-то, беспричинно, – но грусть не помешала мне никоим образом почувствовать опасность, И я ее почувствовал. За годы войны мой организм научился чувствовать опасность. Сам научился, совершенно без моего участия, потому как знал: не почувствует – умрет. Дело обыкновенное. А умирать не хотелось, и именно поэтому он научился чувствовать опасность. Все просто. Нет, еще проще… Я огляделся по сторонам. Тут, за несколько сот метров от моего дома, пока ничего не вызывало у меня вопросов и сомнений. Я вышел из машины, захлопнув дверцу мягко, ключами позвенев, правым ухом звон знакомый отражая, как эхо. Пошел легко в сторону, какую надо, звук от звука ясно и четко отделяя – скрип песка под своими подошвами от скрипа песка под чужими подошвами. Шорох ветра от хрипов бродячих котов, стук сердца шагающего неподалеку прохожего от стука собственного сердца, гул приближающегося к Европе циклона от журчания спущенной из сливного бачка воды в туалете трехкомнатной квартиры на седьмом этаже соседнего с моим домом дома, мягкий перезвон улыбки идущей мне навстречу женщины от свиста падающего с неба метеорита, дивную музыку эротических мечтаний первоклассника в школе на противоположной стороне улицы от жестокого пука пьяниц, приплясывающих посреди мостовой, тонкое гудение недоброжелательства, исходящее от моего подъезда, от грубого рева недоброжелательства, несущегося ко мне со всей планеты. У своего подъезда я увидел белую «Волгу» с конторскими номерами. Ребята не скрывались. На лоха рассчитывали. Да они правы вообще-то • – в подавляющем большинстве люди невнимательны. А если что-то и замечают они, то не умеют делать из увиденного выводов. Но я вот, в отличие от них, умею. Я довольно долго выполнял работу, при которой невнимательность и неумение делать выводы из увиденного, как правило, оборачивалось смертью для того, кто был невнимателен и не умел из увиденного делать выводы. И мне сейчас стало даже обидно, что конторские ребята не проявили ко мне должного уважения и подставились со своей машиной так, будто не знали, кто я такой, и не имели представления, какую оперативную квалификацию я имею. Хотя, я засмеялся, не удержавшись, видимо, те ребята, что ко мне приехали, и относились именно к тем людям, которые, как правило, невнимательны и которые если и видят все же что-то, то не умеют делать из увиденного правильные выводы. Я сел на мокрую и холодную лавочку в маленьком скверике напротив своего дома, закурил и стал наблюдать,за тем, что происходило вокруг. Пьяницы ушли с мостовой, бранясь и качаясь, неторопливые, гордоголовые, ясно осознающие свое преимущество перед остальным человечеством, эротичный первоклассник вышел из школы покурить, на седьмом этаже соседнего дома открылось окно трехкомнатной квартиры, и обнаженная белотелая женщина помахала кому-то рукой, а потом ногой, а потом головой, а потом показала кому-то упругий, аккуратный зад. Та женщина, что шла навстречу мне и улыбалась звеняще, когда я направлялся к скверику, что напротив моего дома, теперь шла обратно и, издалека меня еще приметив, аж от магазина, из которого только что вышла, помахала мне, веселыми губами улыбчато посмеиваясь, незнакомая мне, но, по всему видать, хорошая и добрая (раз улыбается, раз меня выделяет); глазами на меня показала, глазами на себя показала, приглашала, видимо, куда-то, видно, к себе, познакомиться, верно, поговорить по душам о том, о сем, узнать друг о друге побольше, сойтись, может быть, если повезет, и начать новую счастливую жизнь, забыв о смерти, забыв о старости, забыв о воде и пище, страстно желая (я уверен) на день, на час хотя бы очутиться в раю земном, и потом всю оставшуюся жизнь (если что-то не сладится вдруг) только этим часом и днем и жить, и умереть потом, улыбчато посмеиваясь… Из подъезда вышел (кто бы мог подумать!) Атанов. Махнул косичкой, налево – направо, головой крутя, оглядываясь, озираясь, меня ища, своих собирая. Один из «своих» от трансформаторной будки к нему подошел, другой через несколько секунд из моего же подъезда вышел. По сторонам вышедшие позыркали-поглядели. Меня не обнаружив, разговор начали, серьезный, вдумчивый, умный, голова к голове склонясь, напряженные, насупленные. Договорились о чем-то. Атанов с тем, что из подъезда вышел, сели в «Волгу» и покатили, куда колеса катят, а тот, что у трансформаторной будки стоял, остался и опять к ней же, серокирпичной, занудливо гудящей, двинулся, зашел за нее, от ветра прячась, и скрылся с глаз моих. Женщина шагала теперь по узкому проулку, но все еще поворачивалась и смотрела на меня, теперь уже без улыбки, печальная, сгорбленная, обыкновенная. Была бы ты покрасивей, милая, может, что и сложилось бы. Я красивых люблю. Люблю. Ну что ты тут поделаешь! Опять, мать его, полковник Данков, крутоплечий и большеголовый милиционер, что-то затевает. Дался я ему. Полюбил он меня, верно. Так бывает. Мужчины иногда влюбляются в мужчин. И любовь подобная не самая худшая на свете (как много раз уже выяснялось). Или, как пишут в милицейских и прокурорских бумагах, «вновь открывшиеся обстоятельства», верно, побудили и милиционера Данкова опять обратить свой взор на меня. Но тем не менее, каковы бы ни были причины проявившегося ко мне любопытства со стороны конторы, факт приезда ко мне Атанова и его ребят был для меня сейчас крайне несвоевремен. Данков и Атанов могли помешать мне сделать то, что я должен был сделать – обеспечить необходимую безопасность Ники Визиновой. (Я действительно должен. Ведь все неприятности Ники начались с меня. Я должен. Я уже не раз говорил себе об этом. И говорю снова. Я должен.) Я бросил очередную сигарету и направился искать телефон-автомат. Данков снял трубку тотчас. Он ждал моего звонка, Данков, – седеющий человек, не знавший в жизни ничего, ничего, кроме своей работы, состоящей из охоты, дерьма, полного неверия в чистое и светлое начало человека, животного страха перед начальством и истового, крепнущего с каждым днем стремления как можно скорее отслужить положенное и уйти в отставку, и невозможности уйти, когда иногда предоставляется такая возможность, – потому как невообразимо трудно в сорок пять начинать свою жизнь сызнова. «Зачем я тебе?» – спросил я Данкова. «Я знал, что ты позвонишь. Ждал, – торжествующе заявил Данков. – Я ментяра тертый. Двадцать три года в розыске, мать твою, что-нибудь да значат». Я засмеялся и закурил новую сигарету. «Я, Антоша, знаешь, уже с тобой по ночам, мать твою, разговариваю. Ага, – продолжал Данков. – Правда. Но я не жалуюсь. Мне нравится с тобой по ночам разговаривать. Ты умный. Ты много что нового, чего я не знал по этой жизни, мне рассказываешь. Например, куда надо бить, чтобы с одного удара зашибить человечка насмерть. Или, например, как не помереть с голодухи в пустыне, когда жрать ну совершенно нечего, и не день, не два, не три, десять, двадцать дней. Или как при помощи неправдоподобно страстных занятий любовью допрашивать особо упрямых женщин. Или какой наркотик следует курить, чтобы такую скорость своему телу придать, что от пуль увертываться можно было. – Данков засмеялся. – Что молчишь-то? Не переживай, приятель. Мне не дали посмотреть твое личное дело в Министерстве обороны. Кто ж мне даст-то? – проскоморошничал милицейский полковник. – У меня там просто друзья работают добрые. Они твое дело почитали и мне, понимаешь ли, пересказали. И я знаю теперь, что ты не профессионал-спецназовец, а переводчик всего лишь, но многому научился на войне, многому. И еще я знаю, каким способом ты убивал людишек на войне. Помнишь? И уж очень этот способ похож на тот, который ты, Антоша, теперь детишек розовощеких и белопопых жизни лишаешь…» – «Мудак ты, Данков», – беззлобно заметил я. «Дело в том, Антоша, что позавчера мы нашли мальчика. Ты не успел добить его, только кишки, сука, разворотил. И мальчик жив. Жив. И он в сознании. И один в один тебя описал. Ага. И знаешь, что он еще показал? Что у убийцы на запястье левой руки татуировка – меч, как у ниндзи. А я выяснил в том же Министерстве обороны, что и у тебя на левой руке должен быть изображен самурайский меч. Так что, Антоша, будь добр, посмотри-ка на свое левое запястье» – «Изображение меча «Нодати» на запястье имеется почти у всех офицеров моей роты разведки», – сказал я. «Я знаю, – ответил Данков, – и мы всех их будем проверять. На всякий случай. Но уверен, что не все они подходят под описание, данное мальчиком» – «Не все, – согласился я. – Но многие. Мы все стали похожи друг на друга, повоевав вместе. Глаза стали похожи. Губы. Манеры. Походка. Улыбка. Смех. Многие из нас были одного роста. Одинакового телосложения…» – «Приходи, Антош, – по-отечески как-то, по-домашнему попросил Данков. – И тебе спокойней будет и мне. Ежели малыш тебя не опознает, уйдешь с миром, а, Антош…» Я повесил трубку. Не опознает. А если опознает? Неизвестно, как может увидеть меня недобитый мокрушником мальчуган. Возьмет да опознает, сучок. И что тогда?… То-то и оно. Я вышел из телефонной будки, бегом домчался до машины и быстро хорошо знакомыми проулками выехал за пределы Садового кольца. Остановился на Ново-Басманной, у входа в сад Баумана. Бежал так скоро от своего дома я потому, как знал хватку острозубого Данкова и мог предположить, что, пока он со мной говорил, его ребята прокалывали телефон, с которого я звонил. Неизбежно так могло случиться. И случилось наверняка. Здесь, у входа в сад, я пока пребывал в спокойствии, хоть в зыбком и неустойчивом, но спокойствии. Никто не знает, где я. И никто и не узнает, пока я сам того не захочу. Сквозь автомобильное стекло, уже нечистое несколько минут, так как ездил по мокро-грязному городу, я разглядывал мостовую, блестящую и шуршащую, и автомобили разные, бежавшие по ней, бесстрастные морды свои друг в друга тыкающие, неплотный дым из задов своих непромытых вываливающие, плюющиеся в разные стороны водой и грязью; и на тротуар затем, еще более успокаиваясь, чем какое-то время назад, обращал свое угасающе-пристальное внимание, на листочки желтого цвета, к асфальту жалко прилипшие, на голубую рябь поверх многоцветных немалых луж, на птичек неизвестной мне породы, смело купающихся в холодной воде, на подошвы, приминающие прилипшие к асфальту листочки и распугивающие птичек-«моржей», а также на приклеенные или пришитые к подошвам ботинки, сапоги и туфли (и на тапочки домашние также, и на сандалии летние, на голую и, можно сказать, босую ногу надетые) и, не исключая иной какой возможности, на владельцев данной обыкновенной обувки, которые, возвышаясь над ней – и иной раз даже в размер человеческого роста, – сновали туда-сюда, вперед-назад, вдоль мостовой, медленнее, ясно, чем автомобили, но так же неизвестно, как и автомобили, – ЗАЧЕМ, когда и без того все догадываются, а если не догадываются, то просто возможно, и знают, что в конце любого пути ВСЕГДА НИЧТО. Вот подумал я так, а потом, после того как подумал, подумал еще, а затем и еще, конечно, подумал, я люблю думать, хотя знаю наверняка, что от такой привычки надо непременно освобождаться (выдумывать – полезно, думать – не думаю), а вслед всем думам своим этим снова подумал. И додумался. Уже не в первый раз – до одного, мать вашу, и того же. Выходит, так оно и есть на самом деле, раз не в первый раз… То самое НИЧТО, что ждет нас в конце пути, ничего, к сожалению, для нас не значит – только лишь слово НИЧТО, и больше ничего. И потому, когда даже я себе это слово говорю, я, который только и делает, что каждое мгновение вот уже сколько лет пытается постигнуть значение этого, слова – НИЧТО, у меня оно тоже не вызывает острых и ярких чувств и незнакомых непривычных и нереальных ощущений, и поэтому я продолжаю жить так, как будто я вечен. И все же я счастливей, чем многие другие, чем большинство других. Я уверен в этом. Потому что я уже осознал, что живу так, будто я вечен. А раз осознал, то, значит, мне легче, чем другим, будет справиться с коварным и вредным ощущением собственного бессмертия. И тогда, когда справляюсь, я смогу научиться проживать каждую секунду как целую жизнь, я научусь безудержно радоваться всему, ВСЕМУ, что меня окружает, и добру, и злу, и спасению, и предательству, и любви, и ненависти, и смерти, и рождению – научусь только по одной простой причине: потому, что все, что меня окружает, ЕСТЬ и что я с этим со всем нераздельно связан. За мутным, словно прослезившимся стеклом автомобиля я не в первый раз уже в своей жизни вижу мельтешащих на тротуаре владельцев ботинок, штиблет, мокасин, туфель, кроссовок, тапочек, кедов, сапог, валенок, онучей, лаптей, босоножек. Я не могу различить детали их лиц, но ясно замечаю отсутствие на этих лицах глаз. Нет, глаза есть, иначе как бы владельцы обуви могли видеть, куда идут, но нет выражения в глазах, нет температуры, нет света, а значит, нет и самих глаз. И мне на какое-то время становится помрачительно страшно, мне кажется, что они все слепы, и не только те, кто шагает по тротуару рядом с моим автомобилем, а вообще все, все, все, а зрячий только я один, и что никто не может увидеть меня, полюбоваться мной, оценить меня, и, глядя на меня с восхищением или со страхом, с ненавистью или восторгом, с завистью или с любовью, сказать: «Это он!…» Еще на войне я понял одну вещь. Нужно всегда пытаться нарушить устоявшийся порядок жизни. Сложно такое себе позволить. Я знаю. Но необходимо. Необходимо для того, чтобы почувствовать собственную силу – я МОГУ. Для того, чтобы увериться в том, что тебе совершенно неизвестно, где и когда тебя ожидает удача, удовольствие, счастье. Когда и где – совершенно неизвестно. Беда всех владельцев обуви именно в том и заключается, что они считают, будто им известно, когда и где. Они идут прямо и боятся свернуть в сторону или вообще повернуть назад. Им кажется, что только там, впереди, их ждет удача. А на самом деле удача их может поджидать на самых неожиданных направлениях. Я однажды сказал себе: «Уходи, когда думаешь, что надо оставаться. Оставайся, когда уверен, что надо уходить. Делай то, что не хочется делать. Радуйся тому, чему радоваться нельзя. Поворачивай назад, если знаешь, что надо идти вперед. И, вообще, вес время меняй направление. И никогда не бойся. Потому что никто нс знает, где и когда тебя ждет удача. Никто. И тем более ты сам». Сказать легко. Конечно. А вот следовать тому, что сказал, уже гораздо сложнее. Но я пытался. И пытаюсь до сих пор. Я бы не познакомился с Никой Визиновой, если бы не следовал, я бы не стрелял в телохранителей Бойницкой, если бы не пытался, я бы не кололся наркотой, я бы не шантажировал префекта, я бы не бил задерживающих меня милиционеров и не бежал бы от них, я бы не трахнул Бойницкую, я бы не потащился за Стоковым в казино и не стал бы отнимать у злодеев оружие, я бы не убегал от Данкова, я бы не убил предавших страну капитанов Молева и Болотника, старшего лейтенанта Луговенко и лейтенанта Муртаева, если бы не пытался следовать. Я не знаю был бы я счастливее, если бы не сделал всего того, что сделал. Я не знаю. И никто не знает. Но я сделал это. И очень рад, что сделал. Рад именно тому факту, что я в отличие от многих хоть что-то сделал, чтобы понять, для чего же я предназначен по этой жизни. Ведь для чего-то точно предназначен. У каждого есть предназначение. Значит, оно есть и у меня. По тротуару прошла стройная длинноногая девушка в короткой юбке, владелица узких туфель на длинном каблуке, и мне захотелось выпить. Сработал рефлекс: красивая женщина – выпивка – секс. Среднее звено– было сейчас самым доступным. Я вынул из бардачка недопитую бутылку «Чивас Регал» и сделал большой глоток. Не следовало бы сейчас, конечно, пить. Если вдруг для обычной проверки меня тормознет гаишник и учует запах спиртного, то не миновать мне тогда зубов Данкова точно… Так думал бы и прикидывал бы я – обыкновенный, но тот, который следовал своим же словам: «Меняй направления», думал иначе. Например, выпив немного виски, думал я, я буду так мастерски вести автомобиль, что тот гаишник, который должен был бы меня остановить, увидев мое мастерство, даже и не шевельнется, чтобы сделать это. А именно это мне и надо было бы, чтоб не шевельнулся гаишник, потому как нет гарантии, что Данков не передал уже мое фото и мои данные по всем милицейским подразделениям.) Я сделал еще один глоток виски, вытер губы, закурил, положил бутылку обратно в бардачок, кряхтя, порылся в карманах, отыскал в них несколько монеток для телефона-автомата и, не торопясь, попыхивая сигареткой, вылез из машины. Из тех, у кого на левом запястье была татуировка, изображавшая самурайский меч «Нодати», в Москве жили только двое, кроме меня, разумеется. А всего офицеров с такой татуировкой, на момент, когда прапорщик Храповец накалывал нам ее с помощью изящного никелированного американского аппаратика, было двадцать три человека. Было. С войны не вернулось одиннадцать. Убиты. Расстреляны. Трое покончили с собой. Двое скончались от излишней дозы наркотиков. Девять человек из оставшихся в живых сейчас проживали в других городах, в других республиках, в других странах. Меч «Нодати» офицеры спецроты разведки решили наколоть себе после очередного занятия по фехтованию на самурайских мечах. «Я впервые за много лет службы встречаю такое братство, – сказал полковник Сухомятов, поднимая до краев наполненный «Белой лошадью» обыкновенный, банальный, граненый стакан, – Двадцать три человека, как одна семья» За три месяца совместной работы я не увидел ни одного недоброго взгляда, брошенного в сторону товарища, я не услышал ни одного дурного слова о ком бы то ни было. И я не почувствовал чьей-то к кому-то зависти. Я уверен, что я не ошибаюсь в своих наблюдениях. И я счастлив, что я не ошибаюсь. Теперь вот что. – Сухомятов оглядел собравшихся за ужином в полевой столовой офицеров. – Помимо того, что мы умеем дружить, мы обладаем еще и рядом иных достоинств. Мы сильны. Мы красивы. Мы отважны. Мы прекрасно обучены. Мы умеем делать то, что не умеют все остальные, кроме нас, в этом мире. И, наконец, мы любим жить опасно. – Полковник еще выше поднял свой стакан. – Я предлагаю поклясться в верности нашей дружбе, Я предлагаю скрепить нашу дружбу кровью. И я предлагаю наколоть каждому из нас татуировку, изображающую символ нашего братства – самурайский меч «Нодати». Я предлагаю… – Полковник поискал что-то глазами вокруг себя, наткнулся взглядом на кувшин, с блеклыми, словно пыльными, никогда, даже после дождя, не пахнущими полевыми цветами. Поманил шуршащими движениями пальцев кувшин к себе. Кувшин подали. Кто-то подал, кто-то один, я не помню, кто. Но это теперь не важно. По-моему, это была официантка Лида. Толстая, белотелая и узкоглазая, всегда в ультракороткой юбке, и завлекательно пританцовывающая, и никогда никем не траханная, и от жалости к себе вечно слезливо моргающая, официанта Лида. Полковник Сухомятов вынул цветы из кувшина и откинул их в сторону, размахнулся кувшином и выплеснул воду из него в другую сторону, сосредоточенный, невеселый, с морщинками под глазами и на лбу. Вылил в кувшин свое виски из стакана, протянул кувшин соседу. И сосед вылил свое виски в кувшин, и сосед соседа вылил свое виски, и сосед соседа вылил. И все остальные, кто сидел за столом, все вылили свое виски из стаканов в кувшин. Увидев, что все стаканы пусты, полковник Сухомятов надрезал десантным ножом себе указательный палец и выдавил кровь в кувшин, вернувшийся к нему после того, как все вылили в него свое виски. Выдавил и передал кувшин соседу. И сосед надрезал палец, и тоже капелька его крови упала в кувшин. И кувшин вновь пошел по кругу. И офицеры выдавливали в него свою кровь из пальцев. И когда не осталось ни одного, кто бы не выдавил свою кровь в кувшин, полковник поднял кувшин и сделал из его несколько крупных глотков и снова, в третий раз уже, передал кувшин по кругу. Офицеры пили и не морщились, и не облизывались, серьезные, бесстрастные, сознающие важность ритуала и его значимость для дальнейшей своей жизни и для дальнейшей жизни своих товарищей. «А теперь, – сказал полковник Сухомятов, грохнув пустой кувшин об пол, – прапорщик Храповец поставит нам на левое запястье наш отличительный знак» И офицеры дружно поднялись и пошли, не торопясь, за прапорщиком Храповцом, который, фиксато улыбаясь, уже хищно пощелкивал своей трофейной никелированной машинкой. …Войдя в телефонную будку, я первым делом набрал номер не Леши Читина и не Ромы Садика, двух проживающих в Москве своих боевых товарищей, а, конечно же, и не могло быть по-другому, номер Ники Визиновой. «Я забыла, как ты пахнешь. Я забыла, как ты дышишь. Я забыла, какого ты роста. Я забыла, сколько у тебя рук и ног, – сказала мне Ника Визинова, когда услышала мой голос. – Я забыла, как ты выглядишь. Я не помню, кто ты, мужчина или женщина, ребенок ты или зверь. Я не могу представить звука твоего голоса. Но я всегда ясно вижу тебя во сне. Вижу всего. Ощущаю всего. Слышу твой голос и твой запах. Каждую ночь ты появляешься из меня. Ты, обнаженный, очень горячий, очень сильный, очень красивый, выбираешься из моего чрева, с трудом, тяжело и громко дыша, опираясь мускулистыми руками о мои бедра, чертыхаясь и матерясь. И падаешь, обессиленный, меж моих ног и лежишь там долго, отдыхая и переводя дыхание. Потом ты поднимаешься, склоняешься надо мной и говоришь, улыбаясь, как только ты умеешь улыбаться: «Теперь ты. Ты теперь. Теперь ты. Ты теперь…» И ложишься, улыбающийся, рядом со мной. И я начинаю трогать тебя. Я начинаю обнюхивать тебя. Я начинаю внимательно, очень внимательно, пристально, очень пристально разглядывать тебя. Я начинаю искать вход в тебя. Я пытаюсь забраться в твой рот. Не получается. Я пробую залезть в твое ухо, в одно, потом в другое. Я не могу этого сделать. Я хочу влезть в твой глаз. Он не пускает меня. В твой зад. Я не могу просунуть в него даже палец. А. ты смеешься, ты смеешься, ты смеешься. Я изучаю каждый миллиметр твоего тела. Я целую твое тело, Я кусаю его. Я злюсь на него. Я бью его. Я пытаюсь найти вход в тебя. Я пытаюсь и не могу. И тогда обессиленная, как ты недавно, едва дышащая, я кончаю. И просыпаюсь. И понимаю, проснувшись, что счастливо смеюсь. И понимаю, что я счастлива… Я сплю только днем. А ночью я не сплю, – продолжала Ника Визинова. – Потому что ночью дом, в котором я живу, начинает дрожать и дрожит всю ночь. Звенит посуда, бьются тарелки, летают по кухне чашки, а по комнате столы и стулья, с потолка падает штукатурка, вздымается паркет, и из-под паркета кто-то смотрит на меня, и я кричу, и я зову на помощь. Я зову на помощь тебя. Но ты не приходишь… – «Я скоро приеду, – сказал я. – Потерпи немного. Я скоро приеду. И буду любить тебя. И ты перестанешь бояться. Со мной ты ничего не будешь бояться. Потому что я сильный и смогу защитить тебя от всего – от всего» – «Я жду тебя, – сказала Ника Визинова. – Я хочу, чтобы ты пришел ко мне возбужденный, нервный, с лицом, покрытым испариной, и с руками, покрытыми кровью. Я хочу, чтобы ты сказал мне» войдя в квартиру: «Я только что убил человека. Я давно хотел убить его. И я сделал это. Айв данет. Я сделал это». Я хочу, чтобы ты грубо схватил меня за волосы, притянул к себе и поцеловал, прокусывая насквозь мои губы. Я хочу, чтобы ты разорвал мою одежду, чтобы ты сильным ударом повалил меня на пол и с победительным криком вошел в меня. Я хочу… Нет, мальчик мой, я не плачу, – сказала Ника Визинова кому-то, кто был с ней рядом. Сказала в сторону от трубки, потому что голос ее стал на какое-то время тихим и приглушенным. – я не плачу» – «Ты разговариваешь с сыном?» – спросил я. «Да, я разговариваю с сыном, – ответила Ника Визинова, и снова обратилась к мальчику, смеясь через силу. – Я не плачу, но все равно целуй меня. Целуй сильней. Целуй крепче. Целуй, мой мальчик. Целуй. Ты такой нежный, ты такой теплый. Ты мой самый любимый мальчик. Целуй меня. Я хочу, чтобы ты целовал меня, как можно чаще, как можно дольше. Я хочу, чтобы ты трогал меня, чтобы ты гладил меня. Я хочу…» – «Ника, – позвал я женщину, – Ника, – повторил я громче. – Ника, – закричал я,убедившись, что она не слышит меня. – Ника! Ника! Ника!…» Она повесила трубку. Я стряхнул пот с лица. Достал очередную сигарету. Закурил. Глубоко затянулся. Не без удовольствия выдохнул дым. Я понимаю ее состояние, сказал я себе. Шок еще не прошел. И страх никуда не делся. А она человек не очень сильный. Ей тяжело справиться с собой, Я часто видел на войне людей, которые не могли справиться с собой. Они начинали тогда говорить вслух вещи, которые долго и укромно таились в их подсознании. Они говорили что-то сразу необъяснимое, странное, на первый взгляд несвязанное, нелогичное и, может быть, даже вообще чуждое человеческой природе. Но потом проходило время. Они успокаивались. И становились такими же, как и прежде. И со смехом вспоминали то свое прошлое состояние. Я помню. Я знаю. Я сам принадлежал к числу таких людей – тогда, когда еще не был сильным. Я набрал номер Леши Читина. Ответил мне незнакомый голос. Я попросил Алексея. С излишней доброжелательностью обладатель голоса полюбопытствовал, а кто» мол, его просит. И тогда, когда я услышал такой вопрос, неожиданно для самого себя я сказал: «Это тот, кого вы ищете. И я совсем рядом, – добавил я со свистящим придыханием. – Совсем ряяяяядооом. Только протяни руку, и вот он яяяяя! – ив конце фразы захохотал сатанински. – Ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-и»!» И только после того повесил трубку. И уже не деланно, когда повесил трубку, а искренне и действительно весело рассмеялся. Я представил себе лицо милицейского работника, который мне отвечал. Очень занимательное, наверное, было у него лицо, когда он слушал, что я ему говорил. Исключительно жаль, что я не видел его лица в тот момент. Жаль. Прислонив горячий лоб к скользкому стеклу телефонной будки, я решил, что все сделал верно. Если у конторских ребят и были какие-то подозрения в отношении Лешки Читина, то сейчас, после моего звонка и моих слов, они стали менее определенными. Это так. Я подбросил конторским сомнения. А сомнения чрезвычайно страшная штука – для человечества вообще, и для каждого человека в отдельности, особенно, если с сомнениями умело работать. Я снова снял трубку и набрал номер Ромы Садика. Никого. Еще раз набрал – контрольно. Никого. Рому Садика я не видел уже года два. А не слышал его, наверное, год. Но тем не менее я знал, где его можно найти. У меня в запасе было еще два телефона. Я позвонил Роме на работу, на фирму «Мирон», где Рома занимал должность начальника охраны. Мне ответили, что сегодня он отдыхает. Тогда я набрал номер второго телефона. Рома ответил сразу: «Брат опять в командировке?» – спросил я. «Он девять месяцев в году в командировке, слава Богу», – ответил Рома. «Хорошо, что ты не дома», – сказал я. «А что случилось?» – спросил Рома. «Случилось то, что на твоей квартире наверняка засада» – «Не понял», – насторожился Рома. «Они ищут убийцу детей. Уже, несколько эпизодов по городу. Он убивает с особой жестокостью. Отрезанные головы. Вырванные сердца и так далее. Мы с тобой такое уже видели. Но то были чужие головы и сердца. А это наши…» – «Хорошо, – сказал Рома. – А при чем тут я?» – «А при чем тут я? – в свою очередь, спросил я. «А при чему тут ты?» – согласился Рома. «А при том, что недобитые жертвы дают приметы, частично совпадающие с моими. А значит, и с твоими. Рост, телосложение, цвет волос, овал лица. Общий облик ведь почти у всех нас похож» – «И сколько недобитых?» – угрюмо поинтересовался Рома. «Двое», – ответил я. «Мать его!» – сказал Рома. «Но это еще не все», – пообещал я. «Ну! – поторопил меня Рома. «Один из недобитых рассказал о татуировке на левом запястье», – сообщил я. Рома ничего не ответил. Видимо, не нашел слов. Бедный Рома. «Рома», – позвал я Рому. «Ты когда-нибудь убивал детей?» – спросил меня Рома. «Нет», – сказал я. «Там, на войне?» – уточнил Рома. «По-моему, нет», – сказал я. «А я убивал, – сказал Рома. – В последнюю секунду взрослые всегда смиряются со смертью. Это видно по глазам. А дети нет. У них в глазах всегда удивление. И сопротивление. Они еще не устали от жизни. Хотя, – я услышал, как Рома усмехнулся, – какая разница, сколько ты прожил, восемь лет или восемьдесят. Все равно, жизнь – мгновение. Одно мгновение. И почему они сопротивляются?… Я жду тебя, Антоша. Адрес ты знаешь». Сев в машину, я сделал еще глоток виски, закурил и только потом завел двигатель. Все гаишники в городе смотрели только на меня, пока я ехал. Я приветливо им улыбался, посылал воздушные поцелуи и ничего не боялся. И они видели и понимали, что я ничего не боюсь, и потому только смотрели на меня и все. И не шевелились, И даже не думали о том, чтобы поднять жезл и указать им на меня. Все милиционеры города смотрели-, пока я ехал, только на меня. Каждый милиционер, заметил я, тотчас поворачивал голову в мою сторону, где бы он, милиционер, ни был, рядом или в навстречу идущей машине, на тротуаре, в толпе, в столовой или ресторане, на лестничной площадке одного из ближайших или не ближайших домов, в постели с любовницей или за кухонным столом с женой, на собственном приусадебном участке, окучивающий грядки, в туалете или в морге на вскрытии. Но мне было плевать, что они поворачивали голову в мою сторону. Я их не боялся, лони чувствовали это. И поэтому не стреляли сразу. Медлили. Ждали, пока я испугаюсь… Когда я въехал в Ясенево, напряжение спало. Ясенево уже не Москва – другой, совсем другой город. Загород. И милиционеры здесь другие (те же, конечно, но другие тем не менее). Здесь, в Ясеневе, я нашел даже солнце. Оно светило мне с высокого неба. И не только светило, но и грело. И не только грело, но и светило. В центре города солнца я так и не отыскал. Хотя, впрочем, там я и не пытался этого сделать – не до того тогда было. Я поднялся на девятый этаж обыкновенного панельного, несколько лет назад, наверное, белого, а сейчас темно-серого, дома. Я нажал на звонок одной из квартир. Дверь еще не успела до конца открыться, а Ника Визинова уже взяла меня за левую руку и потянула меня в квартиру, смеясь и заглядывая мне в глаза, остропахнущая мылом и дорогими сигаретами, постукивающая каблучками по чистому паркету, нетерпеливая, в длинной тонкой цветастой юбке, в тяжелой шерстяной белой кофте, красивая, призывная, незнакомая, новая, смертельно желанная. Она гладила мне левое запястье, и звала за собой… Приоткрылась дверь в комнату, и выглянул мальчик. Он был бледен и серьезен. Он стоял, вытянувшись, опустив руки вдоль своего худого тела, и в упор смотрел на меня. «Здравствуй», – сказал я как можно приветливей. Мальчик ничего не ответил, отступил назад в комнату и закрыл за собой дверь. Я пожал плечами и пошел вслед за Никой на кухню, Ника прикрыла дверь и обняла меня, прижалась ко мне крепко. Поцеловала меня, оторопелого поначалу. «Я хочу тебя! Я хочу тебя, – повторяла, часто и хрипло дыша. – Я хочу тебя!» Я отвечал на ее поцелуи. С удовольствием. С дрожью. Теряя память. И землю под ногами. «Ты опять кого-то убил сегодня? – проговорила Ника все так же шепотом. «Я никого не убивал сегодня, – тоже шепотом ответил я. – Я уже давно никого не убивал». Ника целовала меня все сильнее. Она кусала мои губы. Она впивалась в мою шею. Она ела меня… Вот рука Ники скользнула под ремень моих брюк. Я вскрикнул и вытянулся от остроты наслаждения. «Мама, мама – как из-под воды услышал я голос мальчика. – Мама, мама!» Я потряс головой и оттолкнул Нику от себя… «Потом, – сказал, переводя дыхание. – Потом. Здесь ребенок» – «Подожди», – сказала Ника и, поправив юбку и кофту, вышла из кухни. Мне, наверное, надо было бы сейчас, когда Ника оставила меня, подумать о том, как мне действовать дальше, используя случайно образовавшуюся паузу, наличие безопасного места пребывания, уют, тепло и запах поджаренного хлеба. Но я не смог себя заставить думать. И в конечном счете был рад тому, что не смог. Какое-то время суток голова должна быть совершенно пустой, и жить и действовать в это время надо только с помощью врожденных или приобретенных рефлексов. После не одного, но сотен таких состояний начинаешь гораздо больше, чем раньше, доверять себе, доверять своей личности. А доверие своей личности – чрезвычайно важная штука в борьбе (или не в борьбе – в сотрудничестве) со страхом, который постоянно и безысходно живет в каждом из нас. Так что сейчас я не думал. Сейчас я, к удивлению своему, совершенно неожиданно для себя, любовался местом, в котором находился, – кухней. Я с удовольствием и беспричинной радостью отмечал матовость кастрюль, сковородки, чайники, причудливую форму протертости на линолеуме возле плиты, неказистость старого обшарпанного, исцарапанного когтями то ли кошки, то ли собаки, то ли попугая какаду кухонного стола, устрашающую неровность грубо оторванного куска деревянного подоконника, мутность немытых стекол в окне, немалую величину дыр в шторах (через которые я видел летающих в солнечном небе черных птиц), опасный наклон буфета, стоящего у плохо окрашенной стенки, вздыбленность валявшихся на полу газет… и совершенность Ники Визиновой, которая наконец-то вернулась ко мне. Совершенность Ники уже отметил без удивления, а с привычным восторгом, и непривычной печалью. Ника включила чайник, взяла сигарету из пачки «Мальборо», лежащей на столе, закурила, села на табурет возле стола, затянулась глубоко, закрыв глаза, и, выдохнув дым, рывком, по-мужски, сказала: «Раньше, давно, в школе, когда мальчишки пытались лапать меня, когда старались поднять мою юбку, когда, краснея от желания, хотели дотронуться до моего лобка, я не понимала, для чего они это делают. Какую ценность представляют для них мой лобок, моя грудь, мой зад и в чем причина той радости и удовольствие, с которыми они ощупывают мое влагалище. Когда я училась в шестом классе, двое здоровых десятиклассников затащили меня на школьный чердак, раздели меня и, дрожа, багровея, сопя и пуская слюну, дотронулись до меня своими членами и кончили тотчас, выплеснув на меня море своей невинной еще, горячей спермы. И тогда я тоже не почувствовала ничего; кроме отвращения и жалости. Ничего из того, что могло бы возбудить меня, доставить мне удовольствие… Ничего. В шестнадцать лет я стала женщиной. Все тогда пробовали это. И я попробовала. Ну и что? – сказала я девчонкам. Ну и что? – сказала я себе. В восемнадцать мне попался один умелец, его звали Родион и было ему двадцать восемь. Он знал все. Он умел многое. Прежде чем войти в меня, он обрабатывал меня часа два, квалифицированно, упорно и ожесточенно… Чуть-чуть, чуть-чуть мне было приятно, тогда, чуть-чуть. И все. Родион был зол. Груб. Язвителен. И, наверное, справедлив. Он сказал, что я не женщина. Он сказал, что я никогда не стану женщиной… В девятнадцать моя институтская подруга познакомила меня со своим старшим братом – Андреем Боротовым. Ты, наверное, слышал о нем, О нем писали. О нем плохо писали… Мне он понравился. Но пока только на уровне внешности. Он был высок. Крепок лицом. Усмешлив. Уверенно двигался. Имел жесткие внимательные глаза. Волосы носил гладко зачесанные назад. Не делал ни одного лишнего движения. Был умен. Умел говорить. И, что самое важное, от него исходила опасность. Я тогда, когда познакомилась с ним, еще не знала, кто он. Но чувствовала всем телом, что от него исходит опасность. И мне это нравилось. Ох, как мне это нравилось! Андрей водил меня по ресторанам, по престижным театральным и кинопремьерам. Приглашал и к себе домой. Но ни разу не дотронулся до меня, ни разу. Но я, правда, тогда и сама-то не очень хотела, чтобы он дотрагивался до меня. Понемногу стала догадываться, кто он. Преступник. Организатор. Крестный отец. Дон. Или как там еще можно было назвать его. Из молодых да ранних. Ему было всего тридцать три. Я совсем не хочу его оправдывать. Но все же есть одно «но»… Или два, или три, или бессчетное количество «но». Они есть. Я не могу сказать, что он был по этой жизни отрицательным персонажем. Хотя он и совершал преступления. Он был положительным персонажем. Потому что в своей области он добился предела возможного. Он был богат. Он был уважаем. Он был известен, как кинозвезда. О нем не писали газеты. Но фамилию его знали все. Он был таким, каким был. Он не мог быть другим. И осуждать его нельзя. Это одно «но». А есть и другое. Он не воровал у государства. Он не грабил честных граждан. Первоначальный капитал он сколотил на разбоях. Он сам ходил на разбои. С оружием. Без маски. Он обирал директоров ресторанов, гостиниц, магазинов. Только их и только их. Он создал потом подпольный цех по производству так необходимой для ткацких станков мягкой пружины – ее не делали у нас в стране, покупали за валюту за рубежом. И люди были ему благодарны. Под Москвой он построил на свои деньги детский дом. Это был самый богатый дом во всем Союзе…Нет, Воротов был положительным персонажем… Однажды у него на даче я услышала крики в его кабинете. Я подошла ближе. В приоткрытую дверь я увидела, как он убивает человека. Он бил его по голове хрустальной вазой. Он почувствовал, что кто-то смотрит на него. Обернулся и увидел меня. Лицо его было спокойно и доброжелательно. Он сказал, кивая на труп: «Этот парень был плохим». И я поняла тогда, что если он не возьмет меня сейчас, я умру. Я впервые в жизни захотела мужчину. Так остро, так истово, так страстно, что сама испугалась этого ощущения. Будто во сне, дрожа и тяжело дыша, как те мальчишки-десятиклассники, что раздевали меня на школьном чердаке, я подошла к Андрею и впилась в его губы. Он вошел в меня здесь же, в кабинете, на полу, рядом с истекающим кровью трупом. Я тогда впервые узнала, какое счастье быть женщиной. – Ника потушила сигарету в пепельнице, в упор посмотрела на меня, сказала: – Ты очень похож на него. И внешне… И вообще. Ты такой же. Ты опасный. Я поняла это с первого взгляда…» – «Возможно, – я рассмеялся. – Возможно. Но только между нами все же великое различие. Я – не преступник» – «Но ты же убивал?» – Ника посмотрела мне в глаза. «Я убивал на войне, – продолжая улыбаться, сказал я. – А это не преступление» – «Ты убивал и после войны». Я пожал плечами. «Только в порядке самообороны», – уточнил я. «Но убивал», – настаивала Ника. Я промолчал. Взял сигарету из пачки со стола, закурил. «Убивал, – протянула знающе Ника, не отводя от меня взгляда. – И не только для того, чтобы защитить свою жизнь. Вернее, не столько для того, а сколько затем, чтобы почувствовать себя сильным, всемогущим и свободным. Так?» Я продолжал молчать. Курил. И с удовольствием разглядывал возбужденную Нику Визинову. «Ведь ты лее из тех, кто считает себя отличным от всех. Кто хочет от жизни больше, чем другие. Кто уверен, что нет ни жизни, ни смерти, а есть только игра в жизнь и смерть. Так?» Я снова пожал плечами. «Может быть, да, – сказал я. – А может быть, и нет» – «Да, да, да, да, да!» – Ника несколько раз ударила ладонью по кухонному столу. «Я был бы счастлив, – заметил я, – если бы все было так просто» – «Аааа, – покачала головой Ника. – Ты ищешь. Ты в поиске. Понятно. Ну, теперь я уже не сомневаюсь, что это ты» – «Что я? – Я почувствовал, как невольно сузились мои глаза, когда я смотрел на Нику. – Что – я?» Ника усмехнулась: «Ты хороший актер, Нехов. Но мой мальчик вообще-то опознал тебя…» Она еще не успела закончить фразу, как я уже перегнулся через стол, ухватил Нику за волосы, с силой потянул ее голову на себя и прижал к столу ее лицо, «Если ты, сука, еще хоть раз скажешь мне-то, что сказала сейчас, – – мокро прошептал я женщине в самое ухо, – я сверну шею твоему мальцу! – Я резко, так же, как и схватил Нику, отпустил се и добавил уже мягче: – И тебе тоже…» – «Боже, – не открывая глаз и встряхнув несколько раз головой, выдохнула Ника, – как я люблю тебя, Нехов! Я хочу тебя! Сейчас. Здесь. Пожалуйста, Нехов! Пожалуйста!» – «Не сейчас, – вставая, сказал я. – Потому что сейчас я уеду. И не здесь, потому что здесь ребенок». Я был суров и непреклонен. Театрально, понарошку, совсем не взаправдашне. Мне более, чем ей, верно, хотелось снять с себя одежду и прижаться к ней, гладкой и душистой, теплой и горячей. Забыть всех и обо всем, и о себе в том числе, и качаться восторженно на волнах удовольствия, сконцентрировавшись только на одном – на оргазме, в котором, как сказал великий Генри Миллер, сосредоточен весь мир. Но был мальчик Павел и был дядя Рома. Первого мне не хотелось видеть, второго мне не терпелось видеть. Я пошел к двери, говоря на ходу: «Я приду сегодня вечером. Я буду с тобой. А ты позвони кому-нибудь, у кого можно выяснить хоть что-то о намерениях Бойницкой. И я, если смогу, сегодня тоже что-нибудь узнаю…» – «Хорошо, – сказала Ника мне в спину, – я попробую узнать. Попробую. А приходить тебе сегодня сюда не надо. Тетя Алина ведь тоже ночует здесь. Это же ее квартира» – «Да, да,. – кивнул я. – Я совсем забыл. Хорошо. Тебе надо менять место. Я постараюсь что-нибудь найти» – «У мужа есть дача в Михино, – сказала Ника. – Вот о ней точно не знает никто. Ни мои родственники, ни мои подруги. Я сама-то была там раза два. Муж не любит, когда кто-то бывает на даче. Он отдыхает там, и только один. Ну а сейчас, так как его не будет еще месяца два, я могу…» – «Да, – согласился я. – Ты можешь. Прекрасная идея. Я позвоню, вечером. – Я поцеловал Нику и открыл входную дверь. – Да кстати, – остановился я на пороге. – А чем кончились ваши отношения с Боротовым?» – «Его расстреляли», – ответила Ника. «Я так и думал», – сказал я и захлопнул за собой дверь. Мне жалко было уезжать из Ясенева, где синее небо, желтое солнце и сонные жители. Я, конечно, не заплакал по этому поводу, но что-то похожее на резь в глазах я все же почувствовал. Я невесело усмехнулся, садясь в машину, подумав, что, безусловно, мне хотелось покоя, настоящего и полного. Но я и понимал одновременно, что не смог бы долго находиться в состоянии покоя, так как посчитал бы подобное состояние бездарной потерей и без того крайне малого времени, отведенного на жизнь. Подъезжая к Беляеву, я возразил себе, Я спросил себя, а что я подразумеваю под словом «покой»? Покой, как ни крути, а по-всякому выходит, откуда ни глянь, даже из-под себя или, возможно, даже и сверху, почти с того места, что и Господь, делай, не делай, что ни говори, а покой – это не лежание на диване с грязными (либо с чистыми – не имеет значения) ногами и не бездумное глядение в потрескавшийся и уже обсыпающийся (или в свежевыкрашенный – не суть важно) потолок, а покой это такое состояние – внутреннее, исключительно внутреннее, – при котором тебя не волнует результат твоей деятельности. Только и всего. Вот именно такого бы покоя мне хотелось бы, сказал я себе. И тот час спросил себя же, а как мне такого покоя достичь? Я пожал плечами, в который раз уже за сегодняшний день, и свернул на Ленинский проспект. Я не знаю, как того состояния достичь. Я не знаю даже, что нужно сделать для того, чтобы это узнать. Мать мою, я ни хрена не знаю! И ни о чем. И ни о ком. Ни о мире. Ни о себе… Что-то скверное со мной происходит… Я люблю тебя, Ника Визинова! Старый дом в старом районе ни в какое сравнение не идет с относительно новым домом в относительно новом районе. Старый дом, в старом московском районе, конечно же, более красив, конечно же, более притягателен и, конечно же, более близок для любого коренного москвича. Увидев такой дом на Малой Бронной, я, разумеется, спел, не выходя из автомобиля, несколько классических песенок о Москве, не забыл, естественно, и о Сережке с Малой Бронной, и только после этого, воодушевившись, взбодрившись, заметив себе, что не все потеряно, и еще заметив (но не поверив, правда), что я сам хозяин своей судьбы, я оставил автомобиль и деловым шагом направился к подъезду того самого старого дома, который так скоро разбудил во мне редкое для меня желание что-нибудь спеть, и тем более допеть до конца (и это при отсутствии музыкального слуха и памяти на песенные тексты, ха, ха). Рома открыл мне дверь и сказал: «Я ожидал, что ты будешь выглядеть гораздо лучше. Я ошибся. Но это непричина для того, чтобы не пускать тебя в дом. Скорее, наоборот. В России всегда любили сирых и убогих» – «Сними очки, – сказал я, переступая порол. – Я по-прежнему красив и обаятелен». Рома очки не снял (хотя в прихожей стоял полумрак, а очки у Ромы были темные – Рей Бен-родной). Рома только сказал недовольно: «Говори тише» – «Почему?» – спросил я, снимая куртку и вешая ее на деревянную резную вешалку, полированную, но потрескавшуюся, старую, верно, ручной работы, не отечественную, иностранную, хорошую вешалку. (Я погладил ее, оценил, покачав головой, высоко.) «Потому что, – сказал Рома, – у меня очень чувствительные уши» – «Тогда сними слуховой аппарат», – сказал я. Но Рома не вынул из уха слуховой аппарат, а, наоборот, поглубже впихнул его в ухо – в то самое, из которого торчал слуховой аппарат, не в другое. По квартире гуляло журчание сливного бачка. Звук расслаблял и настраивал на лирический лад, хотелось говорить о любви, революции, не напрасно принесенных жертвах, телеграфе, вокзале и. сигнальном выстреле с маленького корабля. Я слышал уже скрип сапог, звон волочащегося по деревянному полу палаша на колесиках, смущенное покашливание, шуршание поглаживаемых шершавым пальцем шелковистых усов и беззлобный вскрик: «Гыть, вашу мать, басурманы!…» За окном кто-то что-то ковал. И жар из поддувала долетал до окон, раскалял их, ложился горячим компрессом на кожу лица и на другие открытые части тела, возбуждал, заставлял двигаться и искать счастья на чужой сторонке. Я был весел, как никогда. Я даже прошелся вприсядку по просторной комнате от полноты чувств, подбадривая себя матерными вскриками и подробным перечислением собственных достоинств. «Тебе не холодно?» – спросил я Рому, отдышавшись после удачного танца. Рома, заложив руки за спину, быстро шагал по комнате мимо меня туда-сюда, потел, но плаща, черного, длинного, плотного, застегнутого наглухо до самого горла, не снимал. Говорил только печально: «Есть многое на свете, друг Горацио, есть многое, есть многое. – А потом добавил, остановившись: – Надо выпить». Мы выпили. На кухне. Из братовых стаканов. За братовым столом, сидя на братовых табуретках, возле братова буфета. Я сделал глоток привычного виски. И тотчас почувствовал себя в джунглях. И мне стало хорошо. Я выпил еще и понял, что. я могу долго чувствовать себя в джунглях. Во-первых, потому что у меня прекрасное воображение, а во-вторых, потому что вся мебель братова была любовно выкрашена в цвета военного маскировочного халата. Усилием своей немалой воли я остановил поток атакующих меня (умело и агрессивно) воспоминаний и фантазий, касающихся, кстати, не только джунглей, но и гор, и плоскогорий, и равнин и холмов, и сказал Роме, внимательно слушающему в тот момент свой слуховой аппарат: «Через час, через два, они пробьют и эту квартиру. Так что я у тебя недолгий гость», «Не ори!» – сказал Рома. Я закурил и подумал, что неплохо было бы надеть милицейскую форму генеральскую, прийти на Петровку, подняться на третий этаж, где располагается большинство кабинетов МУРа, и крикнуть смачно: «Повзводно! В две шеренги! Выходи строиться!» Класс! «По ночам я слышу, как бьют барабаны загонщиков слонов, – сказал Рома. – И мне снится, что слон – это я. Загонщики гонят меня на восток к океану, Я бросаюсь в океан и плыву. А загонщики на берегу танцуют танец утраченных снов. И мне становится грустно, и я возвращаюсь…» – «А потом?» – спросил я. «Не ори!» – сказал Рома. Ромин палец, Ромины очки, Ромин слуховой аппарат, и еще Ромины высокие и грубые американские армейские ботинки – тоже, как и плащ, черного цвета – делают Рому значительным, непредсказуемым, загадочным и опасным… Хотя он и без плаща, и аппарата, и очков, и ботинок тоже непредсказуем и опасен. На моих глазах в офицерской столовой он зажатыми в руках вилками двумя ударами убил двух рядом с ним сидящих офицеров-интендантов, после чего бросился к ним, падающим, вырвал у одного из них взрывное устройство, добежал с ним до окна и выкинул устройство наружу; и все это время не переставал кричать, чтобы все покинули улицу перед столовой – к чертям собачьим. Грохнул взрыв. Слава Богу, никто не пострадал. А Рому тогда наградили орденом. У моего Ромы много орденов. (Как и у меня, впрочем.) «Я уйду, – сказал я. – Но…» – «Они не пробьют эту квартиру, – перебил меня Рома. – Я снял Сашкину карточку из ЦАБа еще года три назад. Они не смогут узнать, где я прописан. А таскаться по всем РЭО они не станут» – «А зачем ты снял его карточку?» – спросил я. «Не ори! – сказал Рома, – У меня от тебя начинает болеть ухо» – «А зачем ты снял его карточку из ЦАБа?» – повторил я шепотом. «Что ты там бормочешь? – поморщился Рома. – Я ни хрена не слышу…» В Роме Садике меня никогда, ни теперь, тем более, не раздражало ничего – ни его манера говорить, ни странноватый иной раз, на взгляд не странного человека (а таких я за людей и вовсе не считаю), ход мыслей, ни его вкусы в одежде, ни его застывшая улыбка (иногда на полдня). Наоборот, все перечисленное возбуждало мой интерес к нему, мою симпатию к нему, подогревало мое желание быть как можно чаще с ним, с Ромой Садиком, рядом, в бою, в постели с девкой, за столом, ночью в безделье под звездами. …Ночью под звездами. Мы лежали на теплой земле, где-то уже далеко от базы, предполагающие и, более того, знающие, что в любую секунду нас могут грохнуть кровожадные боевики контрреволюции, и смотрели на звезды. Считали и пересчитывали их, спорили, громко, едва не до драки, делясь пересчитанным, грелись потом в звездных лучах, а еще чуть позже искали на них, на звездах, жизнь и смерть, секс и детей, лошадей и осликов. И кто первый находил все это вместе, тот награждал проигравшего десятком откровенно крутых щелбанов… А когда я вдруг затихал на какое-то время, Рома трогал меня бережно за руку и спрашивал: «Ты здесь? Ты здесь? Хорошо. А то я думал, ты ушел, Антоша. Ты не уходи. Тут так хорошо. Тут так хорошо». А на следующее утро, да нет, собственно, уже в это же самое утро, мы, хмурые, покуривая косячок, садились на открытый борт вертолета и летели работать – убивать людей. И убивали. «Я очень много думал о разных религиях, – сказал Рома. – Ив результате своих раздумий додумался до того, что у всех у них две задачи – человеческая и государственная. И что самое любопытное, эти две задачи взаимно исключают друг друга. Первая задача – совершенствование человека, стремление к тому, чтобы помочь человеку жить счастливей. А вторая – подавление человека, торможение его "движения к независимости мышления и поведения. Несправедливо. Ведь по сути своей религия так прекрасна. Любая». А я и не замечал раньше, что Рома такой умный и, заметив такое дело, сейчас, я полюбил его еще больше. «Дай я тебя поцелую», – сказал я. «На, поцелуй», – сказал Рома и подставил мне одну щеку. Я поцеловал. И подставил другую щеку. Я поцеловал. «Не испачкал?» – подозрительно глядя на меня, спросил Рома. «Я чист перед тобой», – сказал. Я. Рома кивнул одобрительно. «Когда много думаешь о многом, – сказал Рома, – приходится тратить из-за того очень много так жизненно необходимого времени своей чрезвычайно быстротекущей жизни. И встает вопрос: что делать? Что-то делать или что-то не делать? Я всегда выбирал первое. И был крайне доволен своим выбором. А потом, к моему искреннему удивлению, оказалось, что второе важнее. Не делать что-то, а думать, понимаешь, гораздо важнее. Гораздо нужнее. И гораздо, сознаюсь тебе, приятнее. Вот так» – «Я не могу убедить тебя, мой дорогой, – сказал я, – что ты неправ. Это было бы несправедливо и, более того, неточно с моей стороны. Хотя я давно уже перестал различать, где моя сторона, а где чужая. Эх, чужая сторона, – заложив руки на затылок, залихватски пропел я, – ты не Родина моя!… Действие не всегда есть движение. Чаще процесс активного, плодотворного, созидательного мышления более полно отвечает понятию действия, чем движение. Я не думаю, что ты станешь возражать, ибо рюмки уже давно пусты…» Мы выпили. Закусили консервированной сайрой. Закусив, Рома поднялся из-за стола и решительно двинулся вон из кухни. Я не препятствовал ему и не спрашивал его ни о чем. Я не мог спросить сейчас друга, что случилось и куда он пошел. Во-первых, это было бы нескромно с моей стороны. А во-вторых, я мог бы обидеть своего Рому выказыванием своего недоверия к нему. А обижать Рому я не хотел, а потому ничего ни о чем у него не спросил. А мог бы. Но не спросил. Хороший, хороший, добрый я человек. Я сидел, курил родное «Мальборо» и любил себя. Трахнуть, что ли, себя по такому случаю, даже подумал я вскользь. Но не стал. Оставил данный акт на потом. На более подходящее время. В движениях уходящего с кухни Ромы я угадал тот давнишний порыв, который так отличал его от всех остальных наших однополчан в те военные годы. Он всегда действовал по первому импульсу, совершенно не обдумывая правильность и целесообразность своих последующих поступков. Мне не -трудно было вспомнить один необыкновенно достойный для воспоминания эпизод. (И не без удовольствия и радостной ностальгической улыбки.) Перед самым нашим уходом из страны, за свободу которой мы воевали, мы проводили прощальный футбольный матч с командой наших местных союзников – бойцов народной армии и работников народной же милиции – крепкими, тренированными, угрюмыми, смуглолицыми, черноволосыми и черноусыми ребятами. Разборка являла собой крутой замес. Играли мы, мать вашу, не в бровь, а в кость, не щадя зрителей и забыв о нашем тесном союзническом сотрудничестве. Мы проигрывали. Крупно. (Кто с бодуна у нас был, кто обкуренный, кто с девки всю ночь не слезал – оно и понятно, впереди же не работа была, а всего лишь какой-то там заурядный футбольный матч.) После очередного забитого нам гола стоявший на воротах Рома Садик не выдержал и, грязно выругавшись, сказал: «Вот теперь оттрахаю всех, на хер. И сдержал свое слово. Побежал к центру поля, оставив ворота, и, растолкав своих, начал игру. Первого же встреченного на пути игрока соперника свалил мощным ударом с правой, второго – мощным ударом с левой, судью свалил мощным ударом головой, и после чего преспокойно побежал к воротам соперника, и забил, конечно же, гол. Вратарь даже не шевельнулся. Стоял, как третья штанга, посреди площади ворот. Таким же образом Рома и второй гол забил, и третий, и четвертый. Каждую минуту Рома по голу забивал. Одним словом, мы выиграли. Я помню, нас потом наградили и выдали нам денежную премию. Ковать за окном перестали. Теперь там пилили. Опилки долетали до нашего этажа. И казалось, что началась желтая пурга. «Скоро зима», – подумал я. И представил себе, как я купаюсь в теплом море и загораю под буйным солнцем. Прилипший к моему мокрому телу листок бумаги, несомненно, окажется инструкцией по сбору кокосовых орехов, написанной не по-русски, нежно, женской изящной рукой, и пахнущей духами «Пуазон». И следуя данной инструкции, после того как я сорву несколько орехов и понесу их туда, куда надо их доставить по инструкции, я окажусь в дурманящих объятиях той, о которой мечтал еще в период полового созревания, кокетливой, капризной, недоброй, склонной к измене и предательству, взрывной, несдержанно готовой к убийству, не умеющей любить и сострадать, но очень красивой и очень сексуально жадной, женщины с экзотическим именем Розамунда. О, Розамунда! Рома рычал и плакал. Рома плакал и рычал. За стеной в туалете. Звук глушили стены. Но тем не менее я слышал в доносящихся звуках боль и отчаяние. Не плачь, Рома. Я не вижу повода. Даже болезни и смерть не повод для отчаяния. Уж мы-то знаем с тобой об этом, как никто другие. Я курил и, закрыв глаза, слушал, как Рома рычит и плачет. Я не знаю, чем я могу помочь тебе, Рома. Но ты скажи мне, и я сделаю все, что в моих силах. Все, Рома. Потому что ты мой друг. Потому что я несу за тебя ответственность, Рома. Скажи мне… Рома блевал. Рев блевопада сотрясал сигарету в моих пальцах, долбил по моим перепонкам, выдавливал мне глаза. Я затушил сигарету, поднялся и, подойдя к туалетной двери, принялся стучать по ней. «Открой, Рома, открой, – стуча, приговаривал я. – Это я, Антон. Открой, не таись. Расскажи мне все, Рома, все, что тебя мучит. Я пойму и помогу. Я помогу и пойму. Есть вопросы в этой жизни, на которые мы не можем с тобой ответить, но нет вопросов, которые мы не могли бы разрешить. Я знаю, что я говорю, и ты знаешь, что я знаю. Мы оба знаем. И наше знание дорого. Не каждому дано такое знание. И надо ценить, что нам дано такое знание. Давай ценить, Рома, давай ценить. Ну-ка Рома, на счет «три», давай-ка оценим такое знание. Раз, два, три!» При счете «три» дверь туалета открылась, резко, со свистом, распугав птиц на крыше соседнего дома, и я увидел перед собой направленный мне прямо в глаза давно и хорошо знакомый мне пистолет системы «Беретта» (калибр 9 мм). За пистолетом тянулась Ромина рука, а за рукой стоял сам Рома Садик. «Никогда, – с тихой угрозой сказал мне Рома Садик. – Я повторяю, никогда не советуй, что мне надо делать. Никогда не пытайся успокоить меня. Никогда не говори со мной так, будто я больной. Никогда. Никогда. Никогда-гда!» Я пожал плечами и согласился – а что мне еще оставалось? Мне было очень неприятно, что все так получилось. Картинка, изображавшая Рому с направленным на меня пистолетом системы «Беретта», наверное, навсегда, да не наверное, а, несомненно, навсегда осядет в моей памяти, и будет ею же, памятью, услужливо воспроизводиться в самые неподходящие для того моменты, – сбивая нужное настроение, вредя необходимой для той или иной ситуации решимости и решительности. (При стечении обстоятельств, не имеющих совершенно никакого отношения к Роме Садику и к нашей с ним дружбе. При любом стечении обстоятельств. При любой ситуации.) А слова, произнесенные им, я, наверное, буду помнить наизусть: «Никогда, повторяю, никогда не советуй мне…» и так далее. Сукин сын! Мать его, козла! Но… Но время не останавливалось (оно вообще не останавливается), и потому жизнь двигалась дальше, и ощущать чересчур продолжительно, что тебе что-то неприятно, было бы, я уверен, вредно для организма, и я, собравшись тогда и сконцентрировавшись, подавил эти неприятные ощущения. – быстро, как мог, – и сказал Роме после того, как согласился с его словами: «У меня никогда не возникало желания убить тебя. И сейчас тоже у меня не возникло такого желания. Это странно. Но это так». Рома опустил пистолет и сказал: «Не ори». Сунул пистолет в карман плаща и, величаво вскинув голову, направился в комнату. Как только Рома сдвинулся с места, я услышал следующий за ним тонкий, едва слышимый, протяжный и однотонный звук. Кажется, это была нота «ля». Я прислушался. Нота «ля». Я огляделся, пытаясь установить источник этого монотонного протяжного звука. Это мог быть и плохо закрытый кран в ванной братовой квартиры или плохо закрытый кран в какой-то из соседних квартир, или ветер, просачивающийся в щели окон, или в щели входной двери, или ария дерзкого мышонка из одноименной мышиной оперы, или непрекращающийся полет крупного, очень крупного комара, или дыхание паркета, или стон потревоженных душ погребенных под этим домом неизвестных. Но вот Рома ушел в комнату. И звук двинулся за ним. Значит, источником был сам Рома. Так по всему выходило. Я тоже вступил в комнату. За Ромой. Как завороженный. Безвольно бредущий за звуком «ля», потерявший мир и не обретший покой. Мне мерещились кошачьи бега. Коты бегали на задних лапах и весь маршрут дрались друг с другом, свирепо и когтисто. Первым приходил живой. Его награждали сигареткой с марихуаной, голубым бантом и хорошенькой жеманной кошечкой. А потом убивали, потому что завидовали победителю. Я ясно, как мысок своего ботинка в лунную ночь, видел истекающего кровью, но чрезвычайно довольного кота-победителя, трахающего нежную пушистую кошечку, Я видел также и тень безликого убийцы, с сияющим ножом в руках зависшего, над спиной кота. Рома сел за черное пианино, стоящее в углу комнаты у окна, не старое, но не новое, исцарапанное, матовое уже, не бликующее, но еще теплое, сохранившее температуру с того времени, как его сделали горячие руки мастера, мастеров, рабочих, людей, живых людей, не мертвецов, любящих мятую картошку и кошачьи бега, за завтраком ласкающих жену, а за ужином друга, кричащих по ночам и забывающих о смерти во время работы, тех, кого мы ищем, но никогда не находим, существующих только в наших мечтах и никогда на самом деле. Рома открыл крышку пианино, обнажив его кости, достал пальцы из рукавов плаща, положил их на скользкие клавиши и прокатился по клавишам, как по льду, издавая тревожные звуки, заглушая ноту «ля», перебивая ноту «ля», тиражируя ноту «ля» – десятками и сотнями. Засыпая, заиграл энергичней, строже. А увидев сны, начал и вовсе неистовствовать, буйствовать, вдыхая сквозняк и выдыхая ураган, светился, как вольтова дуга, сыпал слепящими звездами, исчезал как Рома Садик и появлялся как Божественный Некто, гениальный, великий, неземной, волею Господней ниспосланный на Землю, дабы повести за собой растерянные мечущиеся души, заронить в них Начала Любви и Гармонии, успокоить их, заставить их поверить, что Жизнь Вечна! Рома играл не музыку… Я не знаю, что играл Рома, но то, что не музыку – это точно. Я не слышал звуков, но я их чувствовал. Они проникали в меня совершенно иными путями, не через слуховые перепонки, а через глаза, через волосы, через ногти, они щекотали под мышками, буравили кожные поры, втискивались в задний проход, с.треском вламывались под череп, вместе с воздухом влетали и в ноздри, в рот… И звенели внутри меня, и пели внутри меня. Делали меня невесомым и отрывали меня от земли! Я летал. Я летал. Я летал… Неожиданно приземлился и недоуменно, затем и осуждающе посмотрел на Рому. Как и почему ты, Рома, прекратил играть на теплом пианино? Я видел, что Рома теперь не сидел за пианино, а стоял у пианино, склонившись над пианино, и стучал по одной лишь клавише пианино, по клавише пианино, издающей ноту «ля». «Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля», играл на пианино Рома! Он дубасил по клавише сильным указательным пальцем, кривясь, как от боли, встряхивая головой, как лошадь, и встряхиваясь всем телом, как неизвестно кто. На мой взгляд и на мой слух, нота «ля» была исключительно нормальной. Однако Роме она, вероятно, казалась фальшивой – это с одной стороны, – ас другой стороны, она, наверное, казалась ему не совсем фальшивой, а может быть, даже и совершенно чистой. И вот, чтобы проверить это, чтобы убедиться или, наоборот, разубедиться в своих сомнениях, Рома и стучал так часто по жесткой клавише. Наверное. Иначе я не могу объяснить, зачем он без Остановки дубасил по клавише пианино, издающей ноту «ля»? …Маленькая и тоненькая нота «ля» откровенно дисгармонировала с очень крупным, сильным, большим Ромой Садиком. Они совершенно никак не подходили друг другу, не вязались друг с другом, не смотрелись друг с другом. Пытаясь хоть как-то сопоставить их вместе, я даже почувствовал тошноту. И я уже шагнул было к туалету, как неожиданно понял, что нашел то, что искал. Я представил Рому маленьким, в коротких бархатных штанишках на бретельках, с пышным бантом, повязанным поверх воротника чистой белой рубашки, и все тотчас встало на свои места. Маленький розовощекий Рома вполне соответствовал хрупкой ноте-детенышу. Им можно быдло запросто позволить играть друг с другом, не опасаясь, что кто-то из них кого-то из них обидит или повредит. Эти двое могли бы даже полюбить друг друга, если их не трогать и дать событиям развиваться так, как они должны были бы развиваться. Рома большой вес колотил и колотил по бедной клавише, ярясь все сильнее, брызгая слюной и потом. «Ай-яй-яй, нехорошо, Рома, – сказал я Роме и погрозил ему пальцем. – Папа накажет Рому, если Рома не перестанет безобразничать!» Рома отдернул руки от клавиш, словно клавиши в одночасье раскалились и обожгли ему пальцы, повернулся виновато ко мне, вздрагивая побелевшими губами, и через полминуты, через минуту, я не считал, через сколько, облизнул зарозовевшие губы и сказал беззлобно: «Не ори…» Вяло закрыл крышку пианино, прошел мимо меня, медленно, устало, вошел в кухню, сел за стол и долил в стаканы оставшееся виски. Мы выпили. За окном перестали пилить. И принялись протяжно выть. «Наверное, потому что уже ночь!» - подумал я. Вой проникал сквозь стекла, царапал стены кухни, и комнаты, и коридора, и туалета с ванной, и мои щеки, и мои глаза. Глаза стали слипаться, и я посмотрел на часы. Было время. Весь день пронесся, прошел, прополз, а я и не заметил. «Надо спать», – сказал Рома. И уснул. На табурете. На кухне. Рома Садик. Я погасил свет на кухне, но выть за окном оттого не перестали. Наоборот, начали выть еще громче. Я приблизился к окну и посмотрел вниз, во двор. Никого не увидел. Но тем не менее там кто-то был и кто-то выл. Сначала я разозлился и хотел было даже достать из кармана спящего Ромы пистолет и пальнуть во двор наугад, чтобы прекратить отвратительный вой, но потом подумал, и очень верно подумал,, что они перестанут выть только тогда, когда закончится жизнь. Только тогда, и никогда раньше. Я направился в комнату, сел на диван, снял кроссовки, лег и закрыл глаза. Я решил поспать. Чем я хуже Ромы? В том сне мне пришлось всякого хлебнуть – и виски, и джина, и красного портвейна, и колодезной воды, и умопомрачительных страстей, и пахучей крови, и убийственного лета, и жидкого горького шоколада, и изнеженной мальчишеской души, и изворотливых радиоволн, и собственной слюны, и пыли далеких троп… На стройном, черным блеском сверкающем коне, в золотой драгунской каске, с бьющим по ребрам коня фантастических размеров тяжелым палашом я скакал перед кортежем английской королевы; я буйствовал на африканском троне, с хохотом пожирая своих подданных, называя завтраки фрюштюками, а обеды ланчами; я пытал пленных американских солдат, заглядывая им в глаза в момент смерти, желая увидеть, как же все-таки и куда отлетает душа; вместе с дельфинами я нырял в океаны и моря, совершенно забыв о том, что я не могу дышать под водой, и потому дышал под водой; меня – самый чистый и самый дорогой в мире наркотик – провозили контрабандисты из Москвы в Нью-Йорк в контейнерах с французским женским бельем, меня покупали крутые, и отвратительные на вид, небритые и саблезубые американские гангстеры и потом очень за дорого продавали развратным и распутным представительницам высшего света; я крутил жизнь на пальце, как футбольный мячик, – не понимая того, что это она крутит меня, посмеиваясь, как малыш крутит звенящую юлу; я -притворялся спящим, заслышав легкое дыхание и почувствовав близкое тепло, я открывал глаза только тогда, когда ко мне протягивали руку… «Я не сплю», – сказал я, увидев склонившегося над собой Рому. «Тогда вставай и одевайся», – сказал Рома. Я зажег зажигалку и посмотрел на часы. «Без семи четыре», – сказал я. «Самое время», – сказал Рома, вынимая из стола деньги и распихивая их по карманам. Я потянулся, жестко, с силой, позевывая и постанывая, разминая руками шею, лицо, нагнулся, надел и зашнуровал кроссовки. «Я тебе говорил, мать твою! – заметил я и беззлобнопередразнил Рому: – Я такой крутой, я карточку из ЦАБа изъял. Они нас не пробьют… Твою мать!» Я закурил, неслышно подошел к двери и, закрыв глаза, сконцентрировался. Я попробовал настроиться на пространство лестничной площадки. При точной концентрации я должен был поймать волны, идущие от присутствующих там людей. …Один стоял рядом с дверью. Я наткнулся на него почти сразу. До других, как ни пытался, добраться не смог. Но они были. Конечно же. «Один наверху, – полушепотом сказал Рома, застав меня за поиском милицейских полей. – Двое других одним маршем пониже. Две машины у подъезда. Двое во дворе под пожарной лестницей». Рому в отличие от меня долго учили выявлять противника с помощью биополя, или, так скажем, с помощью шестого чувства, или, еще проще, с помощью особо натренированной интуиции. Я был всего лишь любителем. А Рома был профессионалом. Многие из работавших со мной ребят видели через стены, точно предугадывали развитие событий, умели допрашивать противника, не применяя силы, умели стрелять с закрытыми глазами, ориентируясь только на тепло, исходящее от человека, или на его биополе, а также умели стоя спать, прыгать в длину и высоту дальше и выше любого чемпиона мира, обезвреживать противника без оружия и без контакта и окружать себя защитным полем, через которое с трудом проникали даже пули. «Уйдем по пожарке», – сказал Рома и потянул меня на кухню. Подвел к окну. «Вот», – указал он. Примерно два метра разделяли окно и пожарную лестницу. «Я прыгну первым, – сказал Рома, осторожно открывая окно, – и буду тебя -страховать» – «Послушай, – остановил я Рому. – На хрена тебе все это? Оставайся. Я уйду один. Тебя допросят. Проведут опознание. И все. И ты свободен. Это я уже замазан. Это меня они будут теперь тягать по поводу и без повода, Я просто хочу переждать, пока они найдут настоящего убийцу. Мне очень не хочется все это время сидеть в камере. И еще мне не хочется, чтобы повторилась витебская история, когда подозреваемого расстреляли, а через год нашли настоящего убийцу. Оставайся. Я пойду один». Рома поднес руку к очкам, вроде как желая их снять. Но не снял. Почесал рукой висок, сказал: «Без меня ты не уйдешь. Там внизу двое с Калашами. Это первое. Ну, а во-вторых, – Рома почесал кадык, – обрыдла мне моя тихая жизнь. Пора за работу. За настоящую работу. Я пошел». Рома взобрался на подоконник, чуть привстал, как бегун перед стартом, как пловец перед тем, как нырнуть и поплыть, и победить, и не устать, прийти домой и любить ч женщину, и не одну, а трех, а четырех, а пятерых и не по очереди, а всех сразу – и прыгнул, четко и точно, руки вверх взметнув и руками теми уцепившись за толстый металлический прут, которым лестница крепилась к кирпичной стене, и качнулся, раз, другой, и поставил ноги на лестничную перекладину, удобно, ловко, и поманил меня растопыренными пальцами левой руки, как ребенка, иди, малыш, не бойся, папа с тобой, он поможет… Я нашел наиболее удобное место на подоконнике, с которого мне предстояло прыгнуть, укрепился на нем, пошаркав подошвами, покачался на полусогнутых ногах и, прежде чем оттолкнуться от подоконника, взглянул вниз и подумал: «Если захочу умереть, умру, не захочу – значит сумею прыгнуть и попасть туда, куда надо. Все зависит от моего желания, и только от него». Я ухмыльнулся своим мыслям и прыгнул. Мокрый ветер ударил по глаза, а холодный прут по рукам. «А что если сейчас взять и отпустить руки? – спросил я себя, – Восьмой этаж – это не крыша дачного сарая, мать вашу. Взять и отпустить. Изменится ли что-нибудь в мире, если я отпущу руки? Нет, ровным счетом ничего. А меня забудут тотчас, как закопают. Все. Ну, может быть, мама еще будет помнить, если не умрет вслед за мной. Паскудная штука-то какая, а! Все забудут!» Нет, так не пойдет, нееееееет… Я так себе скажу, вот так скажу, пока качаюсь на влажном железном шершавом металлическом пруте, с помощью которого крепится лестница к кирпичной стене, я так себе скажу: «Я не стану, мать вашу, умирать до тех пор, пока не уверюсь в том, что меня будут помнить всегда, всегда. А для того, чтобы меня помнили всегда, я должен в этом мире что-то сделать. И я сделаю. Я не знаю, что, но я СДЕЛАЮ! Я поймал ногами лестничную перекладину, подтянулся на пруте сначала одной рукой, а потом другой – и ухватился за лестницу. Рома уже спускался. Я видел его черные плечи, черную макушку и белые руки. Небо из черного превратилось в синее. Значит, город все-таки упорно продолжает вращаться в сторону солнца, с всегдашней печалью отметил я. Ничего не изменилось. И над вечностью по-прежнему еще одна вечность, а над той вечностью еще одна, а над той еще одна, и под ними не меньше вечностей, чем над ними, и сбоку вечность, и сзади, и спереди – везде, везде, везде. Везде, куда ни сунься, вечности да вечности. Удивительно. Но скучно. Очень хочу, мать мою, проскочить между вечностями, как пленник меж охранников, и очутиться там, где никто никогда до меня еще не бывал. Я хочу пребывать в постоянном восторге и восхищении, в действии и в полете. Я устал смотреть на всех и на все с высоты своих метра восьмидесяти восьми. Я хочу взглянуть на жизнь, сидя верхом на Солнце. Или вообще никак. Рома спрыгнул на землю. И после того, как подошвы его высоких военных ботинок коснулись асфальта, я услышал, как кто-то сказал: «Руки за голову, мать твою, сука. И ложись на землю; блядина, на землю или я снесу тебе башку, твою мать!…» А затем я услышал слова, обращение ко мне: «А ты, гнида, спускайся быстрее, пока я тебе жопу не отстрелил. И держи руки так, чтобы я их видел, мать твою!» Словами из любимой песни показались мне высказанные стоящими внизу людьми пожелания в наш с Ромой адрес. Как давно я не слышал таких сладких, завораживающих, как непристойности, вылетающие из уст партнеров во время горячего совокупления, слов. Так могли разговаривать только ребята из милицейского отряда специального назначения – «вязалы». Хорошие, симпатичные, кое-чему обученные ребята. Но беда тех ребят в том, что они не прошли войну. На войне все по-другому. На войне ты всегда готов к смерти – трус ты или храбрец – ты всегда готов к смерти. И в том огромное преимущество тех, кто воевал. В отличие от меня ребята, стоящие внизу, не готовы к смерти. Я Знаю, Я чувствую. И поэтому дальше произойдет следующее. С пятиметровой высоты, напрочь забыв о том, что я смертен, я прыгну на одного из ребят – такого прыжка от меня, конечно, не ожидающего. А Рома тем временем сделает крутое сальто и сметет своим превратившимся в снаряд телом второго «вязалу». Все кончилось. Два симпатичных, ничего дурного не сделавших нам по жизни паренька лежали в отключке на непросохшем асфальте. «Вот видишь, – сказал Рома, вынимая рожки из автоматов оперативников. – Один бы ты не справился» – «Да, наверное», – отозвался я, вынимая обоймы из пистолетов оперативников. «Не наверное, а точно», – поправил меня Рома и швырнул рожки подальше от оперативников. «Как скажешь», – не возражал я, в противоположную сторону кидая обоймы из пистолетов. «Я очень рад, что не остался дома, – сказал Рома, закуривая сигарету и глубоко вдыхая в себя дым. – Я снова молодой. И мне снова хочется жить». Я пожал плечами и внимательно оглядел все вокруг, не забыли ли мы чего, не забыл ли нас кто… «Машина со стороны улицы, – сказал я. – У соседнего дома. Пошли». Через низкую арку мы проскочили в соседний двор, оттуда вышли на улицу и, прижимаясь к стенам домов, бесшумно дошли до машины. Хорошо, что они не знают о наличии у меня машины – это здорово облегчает нам положение. У нас есть крыша над головой. Мало того – у нас есть маленький теплый домик. Мы не стали уезжать далеко от дома. Мы остановились переждать до утра во дворе одного из домов на Поварской – среди десятков других таких же машин – незаметные – мы. Рома спал. А я думал, что делать теперь. Наверное, придется позвонить Нине Запечной. Я уверен, она найдет нам тихое спокойное место, где мы могли бы переждать горячку первых дней, а может быть, и недель розыска убийцы детей. Пусть даже они не поймают его, пусть хоть только на него выйдут, уже тогда к нам не будет никаких претензий, и мы тогда сможем вернуться к нормальной жизни. Когда я додумал о «нормальной» жизни, мне вдруг сделалось совсем скверно. Дело в том, что я не хотел, как и Рома, возвращаться к «нормальной жизни. Это так. Я хотел бы проскочить между вечностями. Мать вашу… Я посмотрел на двор и увидел, что он заполнен – весь – толпой угрюмых, сухощавых, марширующих на месте людей. Они маршировали и все как один смотрели на мою машину, на меня и на спящего Рому. Раз-два, раз-два, раз-два, раз-два, раз-два, ррраз. Чуть позже я заметил, что они приближаются к машине. Я пригляделся внимательней, но не увидел, чтобы они сделали хоть полшага, хоть четверть шага вперед. Но тем не менее они приближались, и довольно быстро. Вот в метре они уже от машины, вот в полуметре, вот прижались бледными лицами к стеклу, открывают рты, беззвучно говорят что-то злобное, ненавистное, решительное, угрожающее. У отвел от них глаза, покрутил головой, морщась, а затем опустил голову и опускал все ниже и ниже. И наконец голова моя коснулась руля. Резкий сигнал клаксона заставил меня отпрянуть от руля. Я огляделся настороженно. Двор был пуст. Я протер лицо, глаза. Мои недавние мысли сейчас показались мне пакостными и отвратительными. Я желал, и с большой страстностью, между прочим, чтобы контора выявила и задержала моего товарища по оружию, офицера из спецроты разведки, того самого, с которым четыре года я делил хлеб, воду, жизнь и смерть. В какую паршивую ситуацию мы попали с тобой, Рома… Следовало бы, наверное, поговорить с каждым из них. Предупредить каждого из них. Если кто-то из них на самом деле убийца (а я не исключаю ошибки в свидетельских показаниях, так же как и не исключаю различного рода совпадений), он сумеет подготовиться – организует алиби, уничтожит орудия убийства… Мать мою! Нет, опять все не так! Я вот, я тот самый, я, Антон Павлович Нехов, не имею права ни перед людьми, ни перед Богом покрывать убийцу детей. ДЕТЕЙ! И я не имею права никому звонить и никого предупреждать; Убийца должен быть задержан и осужден. Более того, он должен быть уничтожен… Но ведь убийца – мой, вашу мать, боевой товарищ!… «Я хочу есть», – сказал Рома. Я не заметил, как он проснулся. И Рома тоже не заметил, как он проснулся. Потому что он еще даже не пошевелился, как сидел, так и сидит, чуть запрокинув голову. «Я хочу есть», – слабеющим голосом протянул Рома и опять уснул. Крепкий Рома. Тренированный Рома. Я завидую твоему спокойствию, Рома. Я снова невольно посмотрел во двор и снова увидел тех же угрюмых. Только теперь они не маршировали, а, спустив штаны, сидели на корточках и крупно испражнялись. Я тихонько рассмеялся. Зрелище пренеприятнейшее и одновременно забавное. Сидящие угрюмые не пребывали в задумчивости, что обычно свойственно людям, находящимся в подобном положении, они упрямо продолжали со все возрастающим вниманием и интересом разглядывать мою машин и находящихся в ней меня и крепкого Рому. Куда бы я ни повернулся, я тотчас натыкался на немигающий взгляд испражняющегося – обильно – угрюмого. Ради любопытства я посмотрел на потолок автомобиля – не глядит ли на меня и оттуда какой угрюмый. На потолке прямо надо мной висело скользкое зеленое дерьмо. Пока я рассматривал его с недоумением, приличный кусок дерьма оторвался от общей массы и упал мне на нос. Я хотел закричать, но не смог – меня душил запах. Более мерзкого и отталкивающего запаха я еще в своей жизни не слышал. «Ну хорошо, – стараясь не дышать носом, с угрозой проговорил я. – Сейчас, – пообещал я. – Сейчас». Я вынул из кармана Роминого плаща пистолет системы «Беретта», привычно передернул затвор, резко открыл дверцу и с решительным видом выбрался наружу… Двор был пуст. И тих. Зыбкие лучи утреннего, свежего еще солнца освещали все его уголки. Я видел, что угрюмые исчезли. Они не спрятались. Им негде было так быстро спрятаться. Они исчезли. Я залез обратно в кабину машины. И чуть не задохнулся. Вонь в кабине стояла невыносимая. Я огляделся. Двор был по-прежнему пуст. И тут я услышал, как Рома пукнул. И еще потом, И еще. Рома пукал так громко и значительно, и истерично даже, что я испугался за его штаны и за сиденье моего автомобиля под ним. Не разнесет ли их в клочья столь мощный, столь ураганный напор воздуха? Я открыл окно и высунул голову наружу. Дышал. «Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля…» Я подумал, что сейчас, в данную конкретную минуту, я гораздо счастливее, даже настырно осаждаемый зловонными парами Роминых пуков, чем был еще прошлым утром – до того, как подъехал к своему дому и увидел оперативников возле подъезда. Сейчас у меня было все, что необходимо для настоящей жизни: любовь, опасность, друг (омерзительно пукающий во сне – но друг). И я не ощущал сейчас необходимости думать о будущем. То есть нынешняя минута – минута настоящего – так меня устраивала и удовлетворяла, что мозг мой не искал спасения в завтрашнем дне – мол, завтра будет лучше, завтра что-то изменится и обязательно станет лучше, обязательно. Мне не требовалось сейчас лучшей жизни. Я уже жил такой жизнью.» Хотя нет. Вру. Вру себе. Привычка, мать ее! Привычка врать себе. Не хватает, конечно, еще одного для полного и всепоглощающего кайфа – дела, которое я должен делать на этой земле. Но, наверное, поиск такого дела тоже является делом, успокоил я себя. Наверное. Я откинулся на спинку кресла. Закурил со вкусом маленькую сигаретку бесфильтрового «Кэмела». Запах Роминых пуков выветрился. И теперь салон машины заполнил медовый аромат знаменитых американских сигарет. Я курил и улыбался. Мне нравился аромат «Кэмела». Мне нравился салон моей машины. Мне нравилась моя машина. Мне нравился Рома, спящий в моей машине. Мне нравился двор, в котором стояла моя машина. Мне нравились стоявшие рядом с моей машиной и не мои машины. Мне нравилась скверно сколоченная песочница посреди двора. Мне нравились недокрашенные металлические качели, покачивающиеся в нескольких метрах от песочницы. Мне нравились хмурые, невыспавшиеся люди, выходившие из подъезда того дома, который мне тоже очень нравился… А с чего это вдруг люди толпой повалили из подъездов? Я посмотрел на часы – без десяти восемь. Пора было начинать день. Я бесцеремонно растолкал Рому. «Во ебт! – сказал Рома, проснувшись. – Я только приступил к копченой курице с трюфелями. Она лежала на золотом сверкающем подносе и кудахтала, сука. И чем громче она кудахтала, тем вкуснее она мне казалась. Но прежде я захотел с ней познакомиться. Я представился чинно. И курица представилась. Она сказала, что ее зовут Нюся. Нюся – это так сексуально. И подумал даже, может быть, мне ее трахнуть, а потом съесть. Но я был так голоден, так голоден, что решил все-таки сначала ее съесть, а потом… И тут ты меня разбудил. – Рома огляделся. – Мать твою, – разозлился Рома. – Еще так темно!» – «Сними очки», – посоветовал я роме. «Не ори!» – сказал Рома в ответ. Рома потянулся – с хрустом, писком и скрипом, будто весь состоял из протезов, весь, включая голову, – зевнул в пол-лица, похлопал себя машинально по карманам, спросил с затаенной угрозой: «Где мой пистолет?» Я ничего не ответил, повернул ключ зажигания, завел двигатель. «Где мой пистолет?» – чуть дрогнувшим голосом повторил Рома. Я вытащил из-за пояса Ромин пистолет и протянул его Роме. Рома взял пистолет из моих рук, сунул его в карман и сказал: «Я понимаю, у нас у всех нездоровая страсть к оружию. Но воровать, тем более у спящего, – нехорошо» – «Не ори», – посоветовал я Роме. «Что?» – Рома подкрутил свой слуховой аппарат. «Я хотел пристрелить тебя сегодня ночью, – сказал я. – Но передумал. Ты спал, как ребенок, положив кулачки под щеку. Я не хотел убивать ребенка» – «Что? – кричал Рома и вздрагивающей рукой вертел ручку уровня громкости своего слухового аппарата. – Я ни хрена не слышу! Что ты сказал?! Что ты сказал?!» Рома нервничал, тряс висевший на груди микрофон слухового аппарата, тер с силой ухо, в которое был вставлен наушничек, и все кричал, кричал: «Что ты сказал? Что?! Что?!» Я протянул руку к Роме и выдернул у него из уха слуховой наушничек. Проговорил негромко: «У нас впереди трудный день» – «Я знаю», – неожиданно спокойно сказал Рома, прочистил пальцем ухо и снова вставил слуховой наушничек. Заметил с досадой, после того, как вставил: «Опять ни черта не слышу» – «Мне надо позвонить», – сказал я, выруливая со двора. «Ну-ка, скажи что-нибудь, – попросил Рома. – Что ты молчишь? Все молчит, да молчит. Я помню, когда-то давно, тогда, на войне, ты неплохо умел разговаривать» – «А ты неплохо умел смеяться», – сказал я. «Вот теперь слышу, – пробормотал Рома, фиксируя ручку громкости в нужном положении. – Да, было время…» Я остановился у телефона-автомата. Вылез из машины, зашел в будку. Трубку сняла сама Нина Запечная. «Это я», – сказал я. «А, Сильва Петровна, – обрадовалась я? – нетерпением ЖДУ вашего звонка» – «Они уже у тебя.» – «А как же, – ответила беззаботно Нина. – По высшему разряду» – «Много?» – «Не знаю даже, как вам сказать, – щебетала Нина. – Одного шва будет мало. Давайте сделаем два. Да, два» – «Тааак, – протянул я. – Если ты выйдешь, они пропасут тебя» – «Конечно», – сказала Нина. «А мне позарез нужен мой пакет» – «Даже и не знаю, что же вам еще предложить, – сказала Нина. – Не знаю» – «Ладно, – я вздохнул. – Давай так. Минут через двадцать к тебе придет человек в черном плаще, темных очках, со слуховым аппаратом в левом ухе» – «Фредди Крюгер», – предположила Нина. Я рассмеялся. «Именно за это я тебя и люблю», – сказал я. «При встрече надо будет все же уточнить, за что же конкретно», – ответила Нина. «Уточним, – согласился, – потом. – И спросил зачем-то: – Ты сейчас в чулках или колготках?» – «Чулки нынче моднее, дорогая Сильва Петровна», – заметила Нина. «И в узких розовых кружевных трусиках?» – с надеждой проговорил я. «Верно», – искренне удивилась Нина. «Это странно, – сказал я. – Странно. Но я почему-то очень хочу тебя», Нина засмеялась весело: «Вы мне очень нравитесь, Сильва Петровна, честное слово». «Представь этого парня, который придет, как клиента и отдай ему пакет», – попросил я Нину Запечную. «Конечно, – ответила Нина. – Непременно. Жду». Я вернулся в машину. Рома сосредоточенно копался в бардачке автомобиля. «У тебя там столько барахла, – сказал Рома, не поворачиваясь ко мне. – Презервативы, палочки от допотопного эскимо, чешуя от воблы, вилки, дырявая ложка, засохшая роза, кокарда, непристойные фотографии, любовные записки, чистые носки", детская дудочка, ошейник для собаки, наручники, соска, искусственный член, пробки от бутылок, неизвестного предназначения красные цилиндрики в палец размером, несколько одноразовых шприцев, орден Красной Звезды, словарь матерных слов, наперсток, лента с патронами от крупнокалиберного пулемета… Кажется, все». Рома закрыл бардачок, откинулся на спинку кресла, переводя дыхание. «Ты не хочешь все это выкинуть на хер? – спросил Рома. – Кроме ордена, конечно, и чистых носков?» – «Нет, – сказал я. – Не хочу. Каждая их этих вещей дорога мне. Каждая из них – часть моей жизни» – «И чешуя от воблы – часть твоей жизни?» – спросил Рома. «И чешуя от воблы», – кивнул я. «И наперсток?» – спросил Рома. «И наперсток», – ответил я. «Какая насыщенная была у тебя жизнь, – с завистью проговорил Рома. – А у меня, что и есть дорогого, так это пистолет. Пистолет, и все». Я остановился за два квартала от дома Нины Запечной. Подробно проинструктировав Рому, что и как ему делать, я сообщил ему также – на всякий случай, – что оперативники, ожидающие меня у Нины, ребята, видно, не очень квалифицированные, а может быть, просто ленивые, что в общем-то тоже говорит о низкой профессиональной квалификации (они же ведь даже не удосужились по параллельному телефону послушать наш с Ниной разговор). И еще я, конечно, рассказал Роме о расположении комнат, коридоров, лестниц и туалетов в доме Нины Запечной, объяснил, где находится запасной выход, а также в каком из туалетов достаточно большие окна. И напоследок попросил: «Чтобы ни случилось, Рома, не стреляй на поражение!» «Вот если бы ты меня не предупредил, я бы обязательно кого-нибудь завалил. А вот после твоих слов, точно не завалю», – сказал Рома. И ушел. Для того чтобы добраться до дома Нины Запечной, необходимо было пройти двор, затем небольшой скверик, а потом пересечь узкую мостовую, по обеим сторонам которой стояли впритык друг к другу несколько легковых автомобилей. В сквере я обнаружил – на траве и на деревьях – утреннюю росу. Я присел на корточки, подался вперед, оперся на руки, нагнулся и слизнул росу с остро пахнущего, негородского подорожника. Пробегающий бульдог посмотрел на меня удивленно, а потом тоже слизнул росу с тоненьких травинок и побежал дальше, призываемый хозяином, дальше, дальше… Я встал, прислонился плечом к дереву, закурил. Подходы к дому были чистые. Оперативники, видимо, обставили только сам дом, и все. Резонно в общем-то. Неизвестно еще, появлюсь ли я тут или нет. Запах влажной, мокрой древесной коры заставил меня вспомнить лес и озеро в Куранове, пионерский лагерь на Пахре, дачу в Барвихе, пансионат в Рузе, речку в Звенигороде, теннисный корт в Воронове, пьянку в Мозженке, крутую групповуху в Пушкино, отвязанную ширяловку в Малеевке, драку в пансионате в Аксакове, камеру в предвариловке в Успенском, разборку с гаишниками в Перхушкове, прошедший в самогонном угаре день рождения знакомой актрисы в Жаворонках, кровавое сражение с пейзанами и пейзанками в Кашире, браконьерство на Можайском море и многое приятное другое, что происходило со мной или происходило в моих фантазиях, что, собственно говоря, одно и то же. Дерево тоже прижималось ко мне, как и а к нему, с той же силой, с тем же чувством, что-то вспоминая свое, наверное, плечом к плечу, питаясь от меня движением, мыслью, желанием, голодом, сытостью, огнем, порывом, исключительностью ситуаций, любовью, новизной положения, отвагой, сомнениями и страхом; я понял, что между нами происходит своеобразный взаимообмен, и я не ошибся; питаясь моими чувствами, дерево отдавало мне в ответ свои уверенность, твердость, жестокость, непоколебимость, необходимую жестокость, оно закрепляло в моей памяти мои же эмоции, мои мысли, каждое совершенное мной движение, каждое желание, да, да, так было, было, я настаиваю… я заметил, что дерево смотрит на меня, я поймал его взгляд, оно смотрело не глазами, оно смотрело всем своим деревянным телом. Я подмигнул дереву, и оно подмигнуло в ответ, подражая мне. И от подмигивания, непривычного для себя, так сильно вздрогнуло, – от макушки до самых дальних кончиков корней, – что задрожала под ним земля и подо мной задрожала, и под бульдогом, и под его хозяином, и под всеми другими, кого еще не было рядом. И капли росы, дремлющие на листьях и покоящиеся на ветках, от сотрясения хлынули на меня буйным и шумным потоком. Я подставил влаге свое лицо и стал ловить воду ртом, с упоением, холодную, чистую, ароматную. Наслаждался. Руками, с удовольствием, я зачесал мокрые волосы назад, вздохнул глубоко, сладко жмурясь и отдохновенно смеясь, и машинально вынул затем новую сигаретку и закурил. Закурив, вспомнил, зачем я здесь. Вспомнив, зачем я здесь, решил еще раз прикинуть, правильно ли я сделал, что послал к Нине Рому. Может быть, мне все-таки надо было бы пойти самому? Нет, не надо было. Они ждали ведь именно меня – это же ведь я был приятелем Нины. То, что к Нине придет Рома, они вряд ли брали в расчет. А если и брали в расчет, то вряд ли быстро сообразят, что Рома это Рома. Рома по сравнению с теми фотографиями, которые у них наверняка имеются, чрезвычайно сильно изменился – похудел, стал носить темные очки, слуховой аппарат. Да еще такой странный черный плащ… С грандиозным грохотом и немелодичным звоном разнеся на части две оконные рамы, ногами вперед, руками назад, расплескивая перед собой беспорядочно сверкающие на солнце стеклянные осколки, грозно рыча, из окна второго этажа вылетел мой друг Рома Садик, Пока летел, кувыркнулся тренированно, сгруппировался – приземлился на крышу черной «Волги», стоящей у тротуара. В Рому выстрелили из разбитого окна. Не попали. Рома спрыгнул с крыши машины и огрызнулся парой выстрелов из своей безотказной «Беретты». Качаясь ловко из стороны в сторону, как финтующий футболист, Рома пересек мостовую и спрятался за одной из машин на другой стороне улицы, то есть на той, на которой находился я. Из разбитого окна выпрыгнул парень в кожаной куртке. Скрылся за черной «Волгой». Металлическая дверь дома Нины Запечной отворилась, и из нее выскочил и тут же лег на асфальт, тоже укрывшись за стоящей у тротуара машиной, еще один оперативник, светловолосый малый в ярком клетчатом пиджаке, выстрелил наугад в сторону Ромы. Я пригнулся и перебежал сквер, присел за желтыми «Жигулями», неподалеку от Ромы. «Взял?» – спросил я Рому. Рома вынул из-за пазухи мой пакет и бросил его мне. Я поймал пакет. Раскрыл его. Все, на месте. Кассеты, револьвер системы Кольта, патроны. Я вынул револьвер, а сам пакет запихал за отворот своей длинной американской армейской куртки. Выстрелы оперативников расколотили стекла желтых «Жигулей» над моей головой. Я сказал Роме: «Только не убивай их!» – «Не ори!» – нехотя ответил Рома. «Если у них рации, то скоро вся московская контора будет здесь», – сказал я. «А если мы побежим, они засекут нашу машину», – сказал Рома. Ты прав, Рома. Машина – наше преимущество. Машина – наш козырь. «Е… их мать, – сказал Рома. – Давай отстрелим им задницы. Не убьем, но положим» – «Стреляй по бензобакам!» – крикнул я, догадавшись, что можно сделать. «Ебт! – выругался Рома. – Ты обставил меня. Ты – мой ученик, обставил меня! Меня, боевого майора Красной Армии! Мать твою! Мать твою! Мать твою!» – Рома привстал над капотом автомобиля, за которым сидел, и всадил две пули в бензобаки трех стоявших на противоположной стороне машин. Выглянув сбоку из-за крыла желтых «Жигулей», я убедился, что пули попали точно и что благодаря тому, что они попали точно (а они не могли не попасть точно – стрелял сам Рома Садик, боевой майор Красной Армии, мастер-стрелок, орденоносец, герой, отважный и хитрый воин, не могло быть иначе), из пораженных бензобаков тонкими струйками потек бензин на асфальт. А раз потек бензин на асфальт, то мы с Ромой можем сделать то, что должны бы сделать. И сделаем, раз должны. Безмятежно и вольно прислонившись спинами к автомобилям, за которыми прикурили с Ромой по сигаретке «Кэмел» без фильтра и затем почти одновременно бросили наши горящие зажигалки, бензиновые, престижные, американские «Зиппо», чрезвычайно популярные на войне, за спину, в сторону пораженных точными выстрелами бензобаков стоящих у противоположного тротуара автомобилей. Раздались два глухих, но мощных хлопка, один за другим. И я увидел отсвет красного огня на стволах деревьев, живущих в сквере. И на своем дереве, которое ко мне прижималось тесно и сокровенно, я тоже увидел отсвет полыхнувшего огня. Только отсвет на моем дереве был ярче и живописней, чем на остальных деревьях. А затем бабахнули три взрыва. По очереди. Оглушительные. И вот тут мы с Ромой, ни слова не говоря друг другу, поднялись и побежали, с Ромой, в разные стороны, чтобы, конечно, сойтись в одном и том же месте т– возле подъезда дома Нины Запечной… Ошарашенные оперативники не успели, спасаясь от огня, вбежать в открытую металлическую дверь дома Нины Запечной; одного из них, кожаного, ударом пятки в висок положил на асфальт Рома, другого двумя ударами в туловище и одним в переносицу положил я. Не теряя ни секунды, мы разоружили оперативников, отбросили подальше от них их разряженные пистолеты, добавили бедным милиционерам для надежности еще по удару в голову, и только после этого выпрямились и посмотрели на открытую металлическую дверь. В дверях стояла Нина Запечная. «Давай с нами!» – крикнул я. Нина отрицательно помотала головой. «Выкрутишься?» – снова крикнул я. Нина на сей раз утвердительно покачала головой. Заметив, что Рома на какое-то мгновение отвернулся от нее, она показала на него пальцем и постучала тем же пальцем по своему лбу. «Берегись его!» – прочитал я по ее губам. С топотом и свистом, улюлюкая и кривляясь, гримасничая и хохоча, подставляя разгоряченные, опаленные огнем лица мокрым веткам и листьям (чтобы те хлестали наши лица, истово и старательно выбивая из нас ненужные воспоминания, как пыль их ковров, или половиков, или перин, или матрацев, или одеял, или спальных мешков, или обыкновенных мешков, или из плюшевых игрушек, или из брюк, или из книг, или из стен, или из котов, или из людей), мы помчались к машине. Через улицы, через сквер, через время, отпущенные сами от себя, по пути хватающие воздух и мгновения, звуки и запахи, и беснуясь от радостной мысли, что мы есть… …На соседней улице, в магазине, мы купили колбасы, хлеба и виноградного сока. Ели, наслаждаясь, и, наслаждаясь, наблюдали, как спешат к Нининому дому милицейские и пожарные машины, перекликались междометиями типа: «А!», «Е!», «И!», «О!», «У!», «Э!», «Ю!», «Я!» и так далее. Некультурно и невоспитанно показывали на вес, что видели, пальцами, жирными от колбасы, с налипшими крошками белого хлеба, и хохотали до упаду на пол автомобиля, грязный и непомытый. Наевшись, закурили, и я сказал: «Во бля!» и вылез из машины и пошел туда, где усидел, что там был, висел на каком-то доме телефон-автомат. Дойдя, позвонил Нике Визиновой. Набирая номер, волновался, будто в седьмом классе, когда приглашал одноклассницу на первое в жизни свидание, как на первом курсе института, приглашая однокашницу к себе домой, надеясь и пугаясь того, что могло бы произойти между нами у меня дома – в первый раз, явственно ощущая вязкую густоту и сладостную горечь слюны; сказал, чуть поперхнувшись, когда услышал голос Ники: «Это я! – и засмеялся счастливо и добавил потом: – А это ты!» Я рассказал Нике Визиновой, что произошло. Не скрыв ничего. Расписал случившееся в подробностях, ощущая облегчение, рассказывая, я, любуясь собой и обмирая от ЕЕ дыхания. «Я хочу быть с вами! – крикнула Ника, как только я закончил. – Я хочу слышать звуки выстрелов и ощущать запах гари и уколы пламени у себя на щеках!» Я люблю тебя, Ника Визинова! Возвращаясь от телефона-автомата к своей машине, я по привычке, непроизвольно, раз по привычке, механически, раз по привычке, не оценивая, конечно, что делаю, потому что по привычке, не отдавая себе отчета, именно благодаря тому, что по привычке, посмотрелся в магазинную витрину. Поймав свое отражение, без удивления заметил, что улыбаюсь. Оттого ли улыбаюсь, что поговорил только что с Никой Визиновой, голос которой и дыхание которой могли заставить меня взлететь и направиться прямиком к Венере, чтобы узнать, наконец, есть ли там ЛЮБОВЬ?! И я понял, что не оттого. А оттого всего лишь, всего лишь, что не знаю, что принесет мне завтрашний день. Почему день? Следующая минута, секунда. Я счастлив именно потому, что не знаю, что ждет меня вон там, там, там, в метре, в сантиметре, в миллиметре от меня – радость или горе, смерть или что-то нестрашней. Точно так, как НА ВОЙНЕ! А еще ведь несколько дней назад я все знал, все, буквально, каким будет завтрашний день знал, каким следующий. А сейчас не знаю. А тогда знал. А сейчас не знаю. А тогда думал, что знаю. А сейчас уверен, что не знаю. Тогда был печален и грустен. А сейчас весел. Тогда доживал. А сейчас живу. Когда я возвратился и сел на свое место, за руль автомобиля, в своих старых «Жигулях», сидящий там же Рома сказал: «Мне всегда казалось, что Москва – это большой город. А вот ныне смотрю на нее, на Москву, и думаю с восхищением и с глубоким дыханием, а ведь Москва – большой город. Большой! Ты согласен?» В большом городе росло много домов и двигалось много людей. Я их видел благодаря тому, что их освещало небо. А спроси любого из тех, кто двигается и которых много в большом городе, как часто он замечает, что его освещает неба, он посмотрит на тебя как на идиота, и пройдет мимо, сторонясь, и хорошо, если не ударит, и повезет, если не убьет. А я вот, в отличие от этого любого, замечал это и раньше и теперь, и отмечал, тогда же и тогда же, и старался радоваться тому, что есть свет, и что мы, люди, можем видеть друг друга и можем видеть и все остальное, что вокруг нас, и дома в том числе, которых много в большом городе, таком как Москва. И вот теперь, пока ехал по городу, тоже замечал и отмечал, и оценивал с восторгом, что есть СВЕТ, и идет он, кажется, отовсюду, хотя на самом деле, он, наверное, идет от неба, хотя кажется, что отовсюду, а строго говоря, от солнца, от раскаленной вечной звезды. Он согревает мир, тот, который можно увидеть, а самое главное, делает видимым путь. Вернее, дорогу, тропу, тропинку, потому что путь это нечто иное. Путь – это наше правильное движение по жизни. Не каждого, а избранных. Потому что у каждого пути нет. Он есть, конечно, есть, но не каждый его находит, а значит, его вроде как и нет. А иногда мне кажется, вот как, например, в данную минуту, конкретную и более неповторимую, что это те, кто нашел свой ПУТЬ, своим светом, который сияет, у них внутри, освещают небо и солнце. И небо и солнце, подготовленные уже природой, отражают его и посылают его обратно на землю, только уже преломленным и в миллионы раз усиленным, и дают свет другим, тем, кто такой свет не может зажечь в себе сам – жующему, писающему, какающему, совокупляющемуся, сонному большинству, чтобы они могли жить, хоть как-то, но жить. «Я надеюсь, что там, куда ты меня сейчас везешь, – сказал Рома, – там, в квартире другой твоей женщины, одной из твоих женщин, очередной твоей женщины, которых у тебя, как я понимаю, много, надеюсь, что там тоже будет засада. – Рома потер руки, предвкушая развлечение. – Пооостреляяяем!» – «Там не будет засады, – сказал я. – И мы не постреляем» – «Ты скучный, скучный, скучный, – капризно проговорил Рома, и добавил, помолчав: – И плохой. Бяка…» Я въехал в Ясенево, а через несколько минут и во двор дома, где жила пока Ника Визинова. На мгновение мне показалось, что мы в безопасности. (То ли от того, что тут было тихо, то ли от того, что люди, идущие по тротуарам, никуда не торопились, то ли от того, что необычайно мирно светило сегодня солнце.) И тут же, как только мне так показалось, мне стало до крайности противно, грустно и обыкновенно. Хорошо, что только на мгновение мне так показалось. Из того подъезда, за которым я наблюдал, вышел человек, мужчина, худой, невысокий, в мешковатом костюме-тройке, в великоватой шляпе, надвинутой чуть ли не на самые уши. Темные– очки, крупные, непроницаемые, скрывали верхнюю часть его лица полностью. Мужчина посмотрел в нашу строну, когда вышел из подъезда, чуть замедлил шаг, но всего лишь чуть, и двинулся дальше, стараясь ступать твердо и непринужденно, в другую сторону от нас, сидящих в моей машине «Жигули». «Педик, – сказал Рома, глядя в спину мужчине. – Или гермафродит. Или инвалид. Или урод. Или вор. Костюм не его. Шляпа тоже. Лет двадцать пять ему. Волосы длинные. Они под шляпой. Туфли велики. Мыски набиты бумагой или ватой. Оружия нет. И, не носил никогда. – Рома посмотрелся в зеркальце заднего обзора, снял невидимую пылинку с носа. – Однажды по пути в далекое Заполярье, пролетая на самолете над стародавним русским городом Торжком, я увидел выходящего из какого-то дома странного паренька, одетого примерно так же, как и тот человек, которого мы видим сейчас, в великоватый костюм, в великоватую шляпу, в великоватые туфли, с наполненными чем-то карманами, и в точно так же надетых на голову темных очках. Я догадался тогда, призвав на помощь, конечно, свою старую профессию оперативника, что это вор. Он только что украл, мерзавец, и теперь хочет скрыться с места преступления, попросил стюардессу предоставить мне возможность связаться с командиром корабля. А у командира корабля по просил возможность связаться с землей, с управлением внутренних дел славного города Торжка. Я рассказал им о том, что увидел, подробно описал улицу, дом, человека. Они задержали его через полчаса. И знаешь, что они сообщили на борт? Что это была женщина, которая специально переоделась в мужской костюм, чтобы никто ее не узнал, когда она пошлепала на блядки. Город маленький, понимаешь ли. Все друг друга знают… А в карманах у нес были простыня, наволочка и презервативы». Я засмеялся. Я хлопнул Рому по колену ладошкой. Я сказал: «Я бы с удовольствием трахнул бы тебя, будь ты женщиной, как говаривал Петр Мальчиков. Ты возбуждаешь меня» – «Это комплимент или оскорбление?» – спросил Рома. Мужчина сел в автомобиль Ники Визиновой. Я увидел, как брызнул прозрачный дымок из выхлопной трубы. Машина тронулась и поехала по двору. Я двинулся вслед. «Она красивая?» – поинтересовался Рома. «Попроси ее снять очки и шляпу, увидишь», – ответил я, выруливая со двора. Не доезжая до Беляева, мы свернули направо. Через полкилометра, возле автомобильной стоянки, машина Ники остановилась. Перед самым въездом на стоянку, сбоку от опущенного полосатого красно-белого шлагбаума, в стеклянной будке сидел лысый мужик, полуголый, с блестящим, будто намазанным жиром телом, с длинными, до шеи, усами и с черным хохолком волос на макушке, с черными глазами и с черными зубами. Как только я увидел его, я так и не смог отвести от него взгляда, от него, сидящего в одной и той же позе, не шевелящегося, не мигающего, то ли спящего с открытыми глазами, то ли парализованного, то ли мертвого, то ли ненастоящего вообще, воскового, картонного, гранитного. Так и смотрел, пока Ника не гуднула клаксоном и мы не вздрогнули – я и мужик – и не повернули наши головы медленно в сторону машины Ники, и не заулыбались оба по-младенчески искренне. Я вышел из машины, сделал несколько шагов, склонился к открытому окну машины Ники. «Поставь тачку на стоянку, – не вынимая сигареты изо рта и не поворачиваясь ко мне, сказала Ника. – Я договорилась. Поставь и садись со своим приятелем ко мне». Говорила Ника тихо, низко, чуть лениво, вроде как нехотя, спокойно, уверенно, одним словом, не по-женски, не по-визиновски, а так, как разговаривают «крутые» из американских фильмов. «Хорошо», – сказал я. «Давай работай. – Ника затянулась, выдохнула дым. – И быстро». Я направился к будке, вошел в нее. Лысый, не мигающий, чернозубый, хохлатый уже протягивал ко мне руку. «Сколько?» – спросил я. Мужик молчал, сука. «Хау матч?» – повторил я вопрос по-английски. Мужик тотчас улыбнулся понимающе, с треском раздвинув сухие губы и показал три пальца и указал другой рукой на календарь. «Три доллара в день?» – спросил я. Мужик кивнул, продолжая улыбаться. Я отдал деньги. Лысый пересчитал их, положил в стол, не вставая со стула, показал мне по схеме, висящей на стене, мое место, и нажал на кнопку, видимо, для того, чтобы поднять шлагбаум. Я повернулся и вышел. Машину поставил быстро. Место для нее располагалось недалеко от будки. Когда мы с Ромой выходили со стоянки, сидящий в будке лысый мужик свирепо посмотрел на меня и свирепо погрозил мне толстым, блестящим, вроде как тоже намазанным жиром пальцем, свирепо зашевелил губами, резиново закручивая их вперед и обратно, и не менее свирепо заморгал. (Мне показалось, что моргал он с приглушаемым стеклянной перегородкой металлическим клацаньем.) «Грохнуть его, что ли?» – пробормотал Рома и всерьез полез за пистолетом, и засмеялся неожиданно, вынув из кармана пустую руку. Повертел ею перед своим носом, дразня лысого. Лысый саданул круглым кулачищем по столу, и стол развалился. И мы увидели, что лысый был в розовых женских трусах. В машину Ники мы сели так: Рома впереди, рядом с Никой, я – сзади, за спиной у Ники. Понятно, почему мы так сели. Мои фотографии, верно, сейчас на всех постах, а Рому в нынешнем его виде черта с два узнаешь – со слуховым аппаратом, в темных очках, да еще в этом гробовидном плаще. Поэтому пусть Рома сидит впереди, решил я. «Порезвились, значит?» – спросила Ника, когда мы поехали. Рома повернулся через плечо в мою сторону. «Я ей все рассказал», – объяснил я Роме. «Аааа… – протянул Рома и, покивав головой, отвернулся от меня. – Аааааа…» – «Теперь так, вашу мать! – сказала Ника– – Слушаться меня, вашу мать! И если кто слово поперек скажет, ноги переломаю, вашу мать! Так вас растак, вашу мать!…» Я оторопел после таких слов, признаться. Круто! «Ника, – вкрадчиво обратился я к женщине. – Ты в своем уме. У тебя все в порядке?» – «Молчи, мать твою так растак. – рявкнула Ника. – А то глазенки твои выковырю и засуну их в твою грязную задницу, так твою растак, мать твою.» – «Ну, это уж чересчур, – сказал Рома, достал пистолет, передернул затвор и приставил его к виску Ники Визиновой. – Помаши дядям ручкой, детка!» – «Давай, мать твою! – выцедила усмешливо Ника Визинова. – Нажимай, – и погнала Ника машину быстрей. – Нажимай. Вместе пожалуем в ад!» – «Да насрать!» – сказал Рома и потянул спусковой крючок. Я успел ухватить Рому за запястье, нажал на его кисть, быстро и четко, и «Беретта» оказалась у меня в руках. Я положил «Беретту» к себе в карман. «Рома, – сказал я тихо. – Это женщина, которую я люблю. Понимаешь? Я ее л-ю-б-л-ю…» – «С возрастом у тебя испортился вкус, – заметил Рома, но тем не менее к Нике он теперь обратился вежливо. – Вы не могли бы остановить машину? Я хочу выйти» – «Сиди», – сказал я Роме и сжал крепко его плечо. Рома выругался и сплюнул себе под ноги. «Если ты, пидор обоссанный, сейчас не вытрешь свою вонючую блевотину, я разрежу тебя от горла до жопы!» – с этими словами Ника вынула из внутреннего кармана пиджака тяжелый армейский штык-нож и стремительно приставила его к горлу моего друга, Ромы. Но я оказался еще быстрей. Я правой рукой вцепился в запястье моей любимой, а другой своей рукой не сильно, но точно ударил по локтевому сгибу ее руки. Нож, конечно, вывалился из пальцев женщины. И Ника заматерилась отчаянно. Рома поднял нож, передал мне его через плечо, после чего повернулся и, вязко мотая головой из стороны в сторону, сказал мне: «Ну тебя на хрен. Надо сваливать…» Я подался вперед и погладил Нику по плечу. Ника вздрогнула. «Деточка моя, – сказал я. – Разве ты не узнаешь меня? Это я, Нехов. Антон Нехов. Что с тобой, любимая моя? Тебе плохо? Давай остановимся. Ты отдохнешь. А я поведу машину. Давай остановимся, девочка моя, давай…» Если я и изумился такому поведению Ники, то только в первые секунды. А потом я вспомнил, что давно перестал удивляться неадекватному поведению людей. Любых людей. Даже самых, казалось бы, нормальных, уравновешенных, спокойных, или даже тех, кого я знаю не один год, не одно десятилетие, знаю как людей четко и логически мыслящих, просчитывающих каждый свой шаг, контролирующих себя, умеющих регулировать свои эмоции. Потому что знал, потому что видел не раз, на войне и не на войне, как в одночасье ломается человеческая психика (беспричинно на первый взгляд!), как еще секунду назад совершенно нормальный человекпревращается на глазах в буйного шизофреника. «Ника, Ника, – я гладил ее шею, плечи, руки. – Ника, Ника, Ника.«» Я почувствовал, что Ника расслабилась. Хорошо. «Нам, я думаю, не надо ехать по основной магистрали, – осторожно сказал я. – Там везде, наверное, посты» – «Я знаю, – после недолгой паузы сказала Ника. – Мы поедем проселками. До Раздельной можно доехать проселками» – «Хорошо», – сказал я и откинулся на спинку сиденья. Несколько минут мы ехали молча. Все это время Рома с любопытством разглядывал Нику. Потом Рома сказал: «Вам очень идет мужской туалет. Правда. Он подчеркивает ваше изящество. Я чувствую чистоту кожи, санированность рта, податливость волос, глубину слуха, хруст мелких хрящей в коленной чашечке, бритость лобка и подмышек, нежность мизинцев на руках и ногах. Я ощущаю вашу ответственность за каждое движение, за каждую складку одежды, за толщину ткани, обработанность швов, крепость пуговиц. Я вижу ваше стремление к утонченности, утонченности во всем: в манере держаться, улыбаться, говорить, произносить отдельные слова, отдельные буквы, издавать отдельные звуки, будь то возгласы удивления или хрипы страсти, или стоны удовольствия, или восклицания одобрения, или обычный вздох, или обычный выдох. Даже когда вы говорите громче обыкновенного, в вашем возмущении я вижу не реакцию на дискомфортную ситуацию, а всего лишь присущее только сильному человеку желание еще раз проверить свою силу – например, а смогу ли я мгновенно возмутиться, искренне, до алого сияния перед глазами и затем мгновенно уравновесить себя, стать спокойным, как перед смертью…» – «Стать спокойным, как перед смертью». – Я уцепился за эту фразу. Я вспомнил, как тогда, еще на войне, Рома повторял слова: «Я спокоен, как перед смертью». Я спросил у Ромы – я помню, будто все происходило вчера (а все на самом деле происходило вчера – я родился вчера, я был зачат вчера, первые мысли обо мне, еще несуществующем, тоже возникли вчера, я знаю, что первый человек тоже появился вчера… нет, нет, все это происходило не вчера, сегодня утром, час назад, нет, мгновение назад, или нет, вот сейчас это происходит, вот сейчас, или только произойдет еще через вздох, а, скорее всего, через не одно еще тысячелетие, а нас никого еще попросту нет) – откуда эта фраза, он придумал ее сам или где-то услышал, прочитал, поймал рукой вместе с пролетающей мухой… И тогда Рома, будучи уже изрядно обкуренным, доверяя мне и любя меня, рассказал мне, сонно улыбаясь, что после окончания парашютно-десантного училища он еще три года учился в Москве на спецкурсах, где одним из основных курсов был курс психической саморегуляции и работы с энергиями. «Из нас делали суперлюдей, элиту армии. Ты уже, наверное, заметил, – говорил мне Рома, – что мы много можем, я, Макаров, Струнин, Лебяшев, Кандауров, заметил, что мы можем подавить человека или возбудить его каким угодно способом, голосом, словами, взглядом, движением, мы можем ощутить настрой человека, не видя его, главное, чтобы он был неподалеку, а в отдельных случаях при наиболее сильной концентрации и при сверх нормы активных мозговых сигналах со стороны объекта мы можем читать и мысли этого объекта, мы умеем чувствовать наличие или отсутствие людей за укрытием, в окопе, за спиной… Но для того, чтобы добиться такой концентрации, мы должны быть спокойны, как перед смертью. Ведь только перед смертью, неизбежной смертью, человек по-настоящему спокоен… – Рома затянулся сигаретой, выдохнул горячий дым и, сузив глаза, и даже вроде как, на первый взгляд, засыпая, добавил: – Не верь пьяному коммандос. Никогда не верь пьяному коммандос. Он всегда врет, пьяный коммандос…» Он не врал, пьяный коммандос. Он действительно многое умел. Я убедился в этом, воюя четыре года бок о бок с Ромой и его коллегами. Я тоже хотел научиться тому, что умели они. Желание не пропало и до сих пор. Я хочу стать суперчеловеком. Я хочу владеть собой. Я хочу владеть людьми. Я хочу владеть миром. Я хочу владеть Никой… В словах Ромы, обращенных, к Нике Визиновой, можно было уловить оттенок иронии, уж слишком четко, слишком медленно, слишком веско произносил слова Рома, вроде как издеваясь над тем, кому речь его была предназначена. И при первых словах его я даже было испугался, что Ника сейчас возмутится, вынет из рукава или из штанины турецкую секиру, или богатырский меч, или крупнокалиберный пулемет, или что там у нее еще припрятано, кроме ножа-штыка, и раскрошит нас с Ромой до полного нашего исчезновения. Но все получилось иначе – Ника слушала Рому, и слушала без возмущения, без раздражения, внимательно и, кажется, даже не без удовольствия. И я подумал в который раз о том, что, как бы я хотел научиться тому, что умеет Рома. С помощью чего, думал я, он достиг сейчас такого эффекта – с помощью тембра голоса, верно, там где надо поставленных слов, взгляда или всего вместе? «В мужском платье, – продолжал Рома, – вы кажетесь очень эротичной, вдохновенной, мощной, неспешной, уверенной, все понимающей, усмешливой, решительной, одним словом, очень похожей, простите, на мужчину…» Мы пересекли кольцевую дорогу. Два краснолицых гаишника с автоматами Калашникова на плечах проводили нас долгими взглядами, но не остановили… В воздухе висели капельки влаги, покачивались, как елочные игрушки на ниточках, сверкали на солнце и переливались разными цветами. Скоро, наверное, начнется дождь. Или он уже начался, только мы его пока не заметили. «И я сейчас, – говорил Рома, – я представил себя женщиной, ухоженной, капризной, знающей и любящей секс, стройной, ароматной и призывной, и глазами такой женщины я посмотрел на вас как на мужчину и, признаюсь, я безудержно захотел вас. Безудержно» – «Мне приятно слушать твои слова, – незнакомо низким голосом сказала Ника. – Мать твою, – вскользь беззлобно добавила она. – И твою тоже. – Она повернулась ко мне, тяжело колыхнув полями своей фетровой шляпы. – А кому их было бы неприятно слушать? Какому-нибудь идиоту. Или мертвяку. Или тому, у кого грязная вокзальная девка позавчера отгрызла все, чем он мог гордиться по этой жизни», – и Ника неожиданно захохотала громко и грубо, запрокинув назад голову в широкополой фетровой шляпе. И смеялась она долго. И чем дольше я слышал ее шершавый смех, тем сильнее во мне росло желание прихватить сейчас двумя руками ее голову, сжать крепко и свернуть ей шею, одним резким и точным движением, и выкинуть женщину затем, неживую, на обочину, и покатить дальше, быстро пересев за руль, и посвистывая легкомысленно что-нибудь из Баха, Иоганна-Себастьяна. Никогда до сих пор, до самой той минуты, секунды, в которой я сейчас нахожусь, я не мог представить себе, что можно так хотеть женщину. Я был готов даже на убийство… Мать мою, какие страсти! Я посмеялся вместе с Никой. После чего закурил вкусную сигаретку «Кэмел». А Ника между тем к моему удовольствию, перестала хохотать и смеяться и даже улыбаться, и вздохнула и приготовилась опять что-то говорить. И говорила: «Ты не знаешь, придурок, что только женщина, может знать, каким должен быть настоящий мужчина, И причем каждая женщина. Каждая, поверь мне, придурок. И я настаиваю на том, что каждая знает, каким должен быть настоящий мужчина. И если когда-нибудь женщина, страшненькая или красавица, неважно, глупая или гениальная, неважно, безногая или трехногая, зубастая или слепая, агрессивная или безропотная, неважно, дочь.дворника или дочь военного, или дочь музыканта или дочь жулика, неважно, скажет тебе, что ей по нраву мужчина скромный, тихий, незлой, внимательный, потакающий любым ее желаниям и капризам, доброжелательный, в меру умный, в меру образованный, не обязательно красивый и даже не обязательно симпатичный, но обязательно надежный, ты не верь ей, мать ее, сукину дочь! Она врет. Безбожно. Гадко. И отвратительно. Она врет. И тебе. И себе самой, мать ее, суку! Потому что боится признаться себе, что мечтает она совсем о другом мужчине. Она боится, что с тем, о котором, вернее, с тем, о каком она мечтает, жизнь ее будет стремительной, насыщенной, неожиданной, беспокойной, конечно же, до слепоты яркой и болезненной непременно, полной взлетов и падений, полной обжигающей страсти и не менее обжигающего холода, полной порушенных судеб и полной, возможно, смертей и полной, конечно же, счастья… Одним словом, – Ника усмехнулась, – именно последнего боятся женщины больше всего, они боятся счастья. Они боятся счастья, поверь мне, придурок… – Ника прикурила сигарету «Голуаз», сплюнула обильно в окно и решительно заговорила дальше: – А мечтает любая женщина о мужчине, который в представлениях ее примерно такой, примерно, всего лишь, примерно. Он строен и крепок и обязательно высок. И обязательно красив. Лицо такого мужчины может быть разным: длинным, овальным, круглым, полным, худым, носатым, щекастым, тонкогубым, или, наоборот, толстогубым, не имеет значения. Красивыми должны быть глаза, и только глаза. Ведь именно глаза «делают» лицо мужчины. А красота глаз, в свою очередь, заключается ведь не только и не столько в их цвете, в размере ресниц, а в наличии в них ума, внимательности, решительности, спокойствия, иронии, бесстрашия. Мужчина должен уверенно и естественно двигаться, так, как двигается знающий себе цену спорт смен. Он должен быть грубым и нежным одновременно; Страстным и равнодушным. Бесконечно агрессивным и неожиданно добрым. Плачущим навзрыд над могилой друга и плюющим на собственную смерть. Сомневающимся во всем и с победным рычаньем преодолевающим возникающие сомнения. Пугающийся собственной тени, но тем не менее неотступно следующим в сторону страха, ибо это единственное его направление, его путь – в сторону страха… Он обязательно должен иметь дело, которое может не любить, но которое тем не менее делает мастерски. Охотник не должен любить охоту, он должен уметь хорошо охотиться. И последнее – он должен быть всегда чисто вымыт, должен хорошо пахнуть, должен со вкусом одеваться и как можно чаще смотреться в зеркало, контролируя отточенность своих манер, жестов, мимики…» – «Вы забыли о любви, дорогая Ника», – заметил Рома. Он, не отрываясь, смотрел на Нику. Мне так казалось. Только казалось. Потому что я же ведь не видел его глаз. Но я видел зато, что плоскость его темных очков была направлена точно на лицо Ники. «Для женщины это не имеет значения. – Ника брезгливо скривила губы и выплюнула в окно окурок вонючего «Голуаза». Окурок до окна не долетел, сквозняком его развернуло в мою сторону. Я видел, как он мчится точно мне в левый глаз. Я едва успел увернуться. Окурок с грохотом врезался в заднее стекло автомашины. Сухо звеня, посыпались вниз табачные крошки. – Главное, чтобы этот мужчина был рядом. Женской любви хватит на двоих. Именно в этом-то вся суть. Должен ведь любить ты, а не тебя. Вот где истинное счастье для женщины. И только так и никак иначе». Через километров пять после кольцевой мы съехали с Минского шоссе на узкую асфальтовую дорогу. Не успели углубиться в пожелтевший лес, как нас тут же обстреляли из рогаток сто пятьдесят шесть мальчишек (я успел сосчитать). Мальчишки пили французское шампанское и кричали нам– вслед революционные лозунги. В одном из мальчуганов я узнал маленького Дантона, в другом – не менее маленького Робеспьера. Пока они еще, видимо, дружили и пили из одной бутылки. Разглядывая мокрый холодный лес, я вдруг ощутил незнакомую мне доселе потребность рассказать какую-нибудь сказку, окружающим или самому себе, не имело значения. И я начал: «Жили-были два убийцы…» Однако славная Ника, моя первая и единственная на сегодняшний день любовь, ясная и обворожительная, неумеренная и утопительная (в смысле притопить может, не глядя, а утопить, не слыша… красота – это страшная сила), аппетитная и голодная, эрректирующая (заводящая) всякого мужчину (меня-то так уж точно) в любом наряде – малышковом, детсадовском, школьном, студенческом, офисном, театральном, ресторанном, в никакой тем более, старушечьем, нищенском, больничном, инвалидном, кладбищенском, лесбиянском, гомосексуальном и, конечно же, в мужском, конечно же, в мужском, потрясающая Ника перебила меня… А я так, ТАК хотел рассказать сказку. Ника говорила: «И поэтому, то есть исходя из того, что я сейчас рассказывала, да так умно, да так складно рассказывала, я знаю, каким должен быть настоящий мужчина, мужчина, который может понравиться.с первого взгляда, мужчина, в которого может влюбиться и женщина, и мужчина тоже. И поэтому… – Ника сделала паузу и взяла в рот новую сигарету «Голуаз». При звучном соприкосновении сигареты с Никиными губами, я вздрогнул. Вздрогнув, сделал несколько тренировочных движений, позволяющих мне надеяться, что, приобретя за несколько минут достаточно приличную спортивную форму, я смогу увернуться и от этой сигареты. Ника говорила: – И поэтому, одевшись в мужской туалет, я веду себя так, как должен вести себя настоящий мужик, в которого, мать вашу, я сама могла бы влюбиться, мать вашу, так-растак, твою туда-суда, ядрена корень, всех вас на хер!…» Не успела Ника закончить, а Рому уже трясло от истерического хохота. Очки на его носу дрожали, потрескивая пластмассово, а слуховой аппарат отвратительно фонил, короткие волосы на Роминой голове от безобразного Роминого смеха то и дело на моих глазах закручивались в аккуратные спиральки и тотчас раскручивались из спиралек обратно, беззаботные и задорные. Руки у Ромы плясали на коленях, как два пернатых из одноименного лебединого балета. А внутри у Ромы хлюпало, булькало, чавкало, перекатывалось и переливалось. Короче говоря, странно было смотреть на Рому. Еще немного, казалось мне, еще чуть-чуть, и с Ромой что-то случится, и Рома умрет,, например, или Рома запоет, например, что-нибудь из Вагнера, например, или Рома съест автомобиль, например, в котором мы едем, и мы останемся без автомобиля и пойдем пешком через лес, через поля, как партизаны, остерегаясь постов и просясь на ночлег к добросердечным, патриотически настроенным селянам. Но вышло все не так, как мне казалось. Ника, наотмашь, правой рукой ударила Рому по губам. Первый удар Рома пропустил. Шлепок был звучный и, наверное, приятный на вкус. Ника замахнулась для второго удара. И ударила. Но Рома легко отбил этот удар. Ника снова замахнулась, и Рома снова отбил удар. И снова замахнулась, и снова ударила, И снова замахнулась… И снова, и снова. Била, била, била. И кричала. Ника кричала: «Заткни пасть, пес вонючий! Я сейчас загоню тебя, твой смех обратно в твою вонючую глотку! Заткнись, мать твою, так растак, е… твой рот! Ты же ни хера не знаешь, придурок! Ты же не знаешь, – кричала, поистине кричала моя любимая Ника, – что лучшие фильмы о мужчинах сняты женщинами! Вспомни, придурок, «Франциска Ассизского» Лилиан Ковани, вспомни «Точку разрыва» Кетрин Бейджлоу. Лучшие книги о мужчинах написаны женщинами, так твою растак, мать твою за ногу! Вспомни «Немного солнца в холодной воде» и «Рыбью кровь» Франсуазы Саган. Вспомни Дафну Деморей, мудак ты трахнутый, Керол Оутс, Шелли Энн Грау, Джекки Коллинс и Мариэтту Шагинян наконец!… Я не говорю уже о Вере Пановой, а также о многих и многих других не менее героических женщинах-писательницах!.,» Однако нелегко было пронять тренированного Рому. Рома кричал в ответ: «Не знаю, не читал, не видел, не слышал и ничего никому не скажу», – и хохотал, шельмец, как до ногтей обдолбанный. Ника нажала на тормоз. Меня качнуло вперед, и край полей фетровой шляпы Ники попал мне в левый глаз (в тот, который чуть не выжег окурок сигареты «Голуаз» несколько минут назад), глаз ойкнул и закрылся, едва терпя боль. И второй глаз мой тоже закрылся, видно, из солидарности. А Ника тем временем остервенело и злобно пыталась поколотить Рому. Я слышал звуки ее ударов. И я слышал также, как она материлась. О, Бог мой, как она материлась! Уронив вниз наполненные теплой кровью веки, грея глаза таким образом и согреваясь сам таким образом, от макушечной точки до папиллярных узоров на пальцах ног, удивляясь и умиляясь тихой музыке внутри себя и одновременно странностям человеческого облика (например, своего) – две руки, две ноги, одна голова, две ягодицы и один член – странно, странно – и прислушиваясь вместе с тем к непрерывно внутри моего сознания ведущемуся диалогу, я ловил жадно, если удавалось (а удавалось!), жесткий перестук наносящихся Никой ударов: «Так, так, так…»…Вот так точно стук в стук, нота в ноту, барабанила со дачному забору моя ореховая палка, которую я, двенадцатилетний мальчик, держал в вытянутой руке, касаясь концом той палки давно некрашенных, высохших до невесомости досок. «Тах-тах-тах-тах», – тарахтела палка. «Тах-тах-тах-тах», – тарахтел я вместе с палкой, «Гав-гав, гав», – весело и визгливо вторил нам с палкой двухмесячный щенок овчарки, козлом прыгая возле меня. … – молчал Артек, мой старый, одиннадцатилетний, печальный, многомудрый пес, тоже овчарка, как и щенок. Мы взяли щенка, чтобы не так остро ощутить горе, когда умрет старый Артек. (А он непременно умрет, и он об этом знает. Нет на свете такого живого существа, которое об этом не знает.) Как только появился щенок, Артек вместо того, чтобы взять над ним шефство, вместо того, чтобы обучить его собачьим премудростям, играть с ним, защищать его, Артек стал плакать ночами, да. И он не возился больше и ни со мной, и ни с отцом, и ни с мамой, ел, спал, какал, писал, бродил угрюмо по дачной территории, обнюхивая траву и деревья, будто в первый или в последний раз, часами сидел и смотрел на летнее небо. Зачем я тогда пошел гулять с собачками в сторону «железки», не помню. Кажется, хотел купить конфет на станции или покривляться перед проносящимся поездом, или залезть на верхушку черного, Бог его знает скольколетнего дуба, на той стороне железной дороги. Кажется, все-таки я хотел купить конфет. Да, вспоминаю сейчас, что я хотел купить конфет. Я их купил. Щенок вился возле меня, ластился, терся об ноги, как кот, заваливался на спину и весело сучил лапами. Он очень хотел карамельку. Я развернул конфету и дал ее щенку. Прежде чем взять карамельку, щенок полизал мои руки и, подпрыгнув, попытался лизнуть меня в лицо. А я тем временем что-то говорил щенку ласковое, любящее… Артек лежал метрах в десяти от нас в траве. В нашу сторону не смотрел. Глаза у него были влажные и тоскливые. Я позвал Артека. Он не сдвинулся с места. Тогда, на ходу разворачивая конфету, я сам направился к Артеку. Я не дошел до собаки метров двух. Артек вдруг сорвался с места и, низко стелясь, понесся к железнодорожному полотну. И тут только я увидел, что к станции катит поезд. Уже на подходе он был. Еще сотня-другая метров… Артек выскочил на полотно и помчался по шпалам навстречу электровозу. Я закричал тогда истошно, я заколотил по коленям кулаками, я заплакал навзрыд, уже зная, что сейчас произойдет… Артек рванулся в последнем прыжке. Мощный удар отбросил его в сторону от полотна метров на тридцать. Я видел, как брызги крови кумачово сверкнули на солнце. Щенок затрясся, как в лихорадке, попытался залаять охрипшим голосом. Я выронил конфеты. Они рассыпались на траве. Щенок инстинктивно ткнулся мордой в конфеты, зацепил одну зубами. Я ударил щенка ногой, еще, еще. Щенок отлетел от меня, упал на землю, посмотрел на меня изумленно. Я нашел в траве палку покрупнее и решительно двинулся к щенку. Я твердо знал, что сейчас убью его… Меня остановили какие-то люди, которые шли на станцию. Я пришел на дачу и все рассказал отцу. На следующий день отец увез щенка. Мне было совсем не жаль, что отец увез щенка. Не жаль. …Стук, стук да стук, стук, стук, да стук… К нам стучались. Кто-то стучал по крыше автомобиля. Я отчетливо понял – какой-то урод стучит по крыше автомобиля. Я поднял веки и в открытом со стороны Ники окне увидел пытающуюся просунуться поглубже в салон голову в милицейской фуражке, и лицо на этой голове я увидел тоже, мелкоглазое, мелкоротое и мелконосое. «Граждане, – сказала голова, – прекратите драться. И предъявите документы. Или я вынужден буду применить табельное оружие». Милиционер протянул руку и положил ее на плечо Ники. Ника в тот момент как раз замахивалась для очередного удара по Роме, а Рома тем временем привычно ставил очередной блок, чтобы отбить этот удар. (Мне показалось, что Нике и Роме очень нравилось драться.) Как только милиционер коснулся Ники, рука женщины тотчас замерла на полузамахе. Ника обернулась, опустила руку, спросила досадливо, без тени испуга, к моему удивлению, к моей радости и к моему недовольству, спросила: «Ну, что там еще?» Мелкозубый милиционер сказал неуверенно: «Попрошу, значит, выйти и предъявить, значит, документы». Милиционер попросил, значит, что хотел, и выпрямился. На шее у него висел короткоствольный автомат Калашникова. Ника повернула голову опять к Роме, потом ко мне, потом вновь к Роме. «Иди, иди, – сказал Рома, – мы здесь» – «Он уже с Никой на „ты"», – вскользь отметил я. «Только постарайся документы не показывать», – тихо проговорил я. «Это как?» – усмехнувшись, спросила Ника и открыла дверцу машины. «Хотя он все равно уже видел наш номер», – так же тихо заметил я. «Но не знает моей фамилии, – поставив ногу на землю, повернулась ко мне Ника, – а машина записана на фамилию мужа. Я попробую». Ника вышла. «Сержант Картузов», – представился милиционер. «Вы русский?» – спросила Ника. «Русский», – машинально ответил милиционер. «А почему фамилия нерусская?» – спросила Ника. «Это как, нерусская?» – опешил милиционер. «Как, как, – передразнила милиционера Ника. – Картуз-то слово французское». Я осмотрелся. Мы находились на выезде из леса, на опушке. Метрах в трехстах у подножия невысокого холма начиналась деревня. Видимо, на въездах в крупные поселки и деревни тоже были установлены посты. Но усеченные, как в нашем случае. По два, по одному человеку. «Второго нет нигде?» – спросил я Рому. Рома полуприкрыл глаза, задержал дыхание, ответил через секунду-другую: «Рядом нет. Точно нет». «Парле ву франсе?» – спросила Ника милиционера. «Чего это?» – не понял милиционер. «Тур Эйфель, – сказала Ника. – Жан Поль Бельмондо. Ален Делон» – «Говорите нормально, это самое, – повысил голос милиционер. – И давайте, того самого, документы» – «А вы мне очень нравитесь, французик», – сказала Ника и сняла шляпу, бросила ее в окно машины. Запрокинула голову назад, тряхнула волосами, расправляя их, руками себе помогая, тонкими, прозрачными, И вроде бы как случайно затем грудь еще вперед бесстыдно выставила. Видно ли там ее, под пиджаком, мужским, просторным, вольным?! Милиционер охнул, увидев такое, глаза вылупил ошалело и зачастил, зачастил: «Чегой-то вы, чегой-то, чегой-то, того самого, значит? Я вам, того самого, а вы мне, того самого, значит» – «Того самого, французик, – подтвердила Ника, теперь снимая темные очки. – Именно того самого, – и медово, с теплым придыханием произнесла еще: – Именно того самого, чего ты и хочешь. И хотел всегда. Видел во сне. Мечтал. Фантазировал. Но никогда не имел. Тебя ведь распирает от желания. Ты ведь умираешь от желания. На все. Я знаю. На все». Последние слова Ника уже прошептала, приблизив свои губы к лицу онемевшего нерусского Картузова. Ника выдержала паузу и неожиданно резко сорвала с плеч пиджак, бросила его на землю, вслед кинула и жилетку, быстрыми движениями расстегнула рубашку, стала расстегивать брюки. И все эти мгновения в упор смотрела на милиционера. Милиционер сглотнул шумно (я слышал, как слюна со звучным шлепком провалилась в пищевод), растопырил до нереальных размеров глаза, открыл рот и задрожал, как в некислом ознобе, мать его. Мы с Ромой, не отрываясь, следили за милиционером, как дети, прильнув к окнам автомобиля. «Сейчас кончит, – отирая пот со лба, вполголоса проговорил Рома. – Я очень волнуюсь». Ника сняла рубашку. Милиционер дернулся, чтобы, наверное, отступить на шаг, на два, на сто, на тысячу, но не смог, дурачок, только задрожал еще сильнее. Ника лизнула языком его пересохшие губы и, опустив руку, дотронулась до его набухшей ширинки. Милиционер тогда вытянулся, снизу вверх, весь, зазвенев, громко и тревожно, и рухнул вдруг на землю спиленным столбом. А Ника засмеялась, увидев, как милиционер упал. Перестав смеяться, сплюнула несколько раз, и вытерла затем язык поднятой с земли рубашкой, той же рубашкой вытерла и руку тщательно, которой дотрагивалась до милиционера, и засмеялась опять, надев рубашку и пнув милиционера мыском ботинка, застегиваясь медленно на все пуговицы, и продолжала смеяться, завязывая галстук, надевая жилетку, а затем и пиджак, кривляясь, гримасничая, пританцовывая и встряхивая энергично головой. «Я допер, что она накаченная, как только она начала говорить, – сказал Рома, закурив. – Но не был уверен. Я не видел ее глаз. Их скрывали очки. Однако движения, речь, способ мышления ясно давали понять, что она вкатила себе дозу. Небольшую, правда. Я не могу сейчас с точностью сказать, какой препарат она применила, но есть несколько соединений, которые дают подобный эффект. Употребив один из них, человек вроде бы остается нормальным, но реакции мозга у него в трех случаях из пяти бывают неадекватны привычным устройчивым реакциям. Появляются; несколько противоречащих друг другу реакций, явно или скрытно… – Рома повернулся ко мне. – Я прав?» – улыбнулся, спросив. Я не ответил. Я посмотрел на Нику. Ника пританцовывала спиной к нам и что-то напевала, хлопала себя по бедрам, по коленям, пыталась отбивать чечетку на мягкой блеклой траве. Сначала я не понял, что Ника в накачке. Тогда, когда она заговорила так странно пугающе, я подумал, что, может, она так развлекается и развлекает нас. Мало ли, я же не знал ее совсем, Нику. Чуть позже я решил, что от шока, явившегося следствием того, что произошло в Доме на Полянке, у Ники просто чуть надломилась психика. Ну а в конце уже, перед тем как возле нас объявился милиционер Картузов, к тому моменту, когда Ника принялась остервенело дубасить Рому, я обо всем уже догадался. И, осознав в чем дело, тем не менее про должал ревновать Нику, отмечая, с каким удовольствием она возится с Ромой или что Рома уже называет ее на «ты». Я посмеялся над собой, покрутив смеясь, головой. «Ничего смешного, – назидательно заметил Рома, повернув ко мне очки. – Совершенно ничего смешного». Как только Рома начал произносить последние слова, с той стороны, где находилась Ника, я услышал знакомый, можно сказать, родной звук, за четыре года войны ставший частью моей жизни, – клацанье автоматного затвора. Замерев от неожиданности, мы с Ромой увидели, как Ника, передернув затвор, направила ствол автомата в лицо лежащему милиционеру Картузову, бедному, слабому деревенскому пареньку, совсем не виноватому в том, что в милицию, кроме таких, как он, долгое время никто не шел, в общем-то еще мальчику Картузову, впервые так близко, наверное, увидевшему соблазнительную, красивую обнаженную женщину, настоящую женщину, которая, ко всему прочему, согласна была отдаться ему – во всяком случае она достаточно откровенно заявляла об этом. И еще мы, одеревеневшие, увидели, как Ника тонким своим сильным пальцем, не торопясь, нажимает уже на спусковой крючок… Мы сорвались с Ромой с места одновременно. (Отработанный с годами рефлекс не подвел. Слава Богу.) Только я выбрался из машины чуть быстрей, потому что Роме, для того чтобы добраться до Ники, надо было еще обежать автомобиль. (Он же вылезал спереди со стороны пассажира, а я выскочил из задней двери со стороны водителя, с той самой стороны, с которой и находились Ника и милиционер Картузов.) «Стоять, мать твою!» – рявкнул я и в два прыжка долетел до Ники, толкнул ее руками, повалил на траву, вырвал автомат у нее, бросил его рядом с собой. «Убью, убью, убью, – бормотала Ника, сжимая и разжимая пальцы, вырывая мокрую траву и отпуская ее тут же, сорванную, обратно на землю, разглядывала меня в упор дрожащими глазами, – убью, убью, убью…» Я опустился на колени перед Никой, погладил ее по голове, по щекам, по шее, по плечам, взял ее за плечи, притянул к себе, обнял ее, затихшую, податливую, мягкую, обжигающе горячую, сказал едва слышно: «Люблю, люблю, люблю…» – «Люблю, люблю, люблю…» – повторила вслед за мной Ника. Я прижал ее крепче к себе. «Только не заплачь, Ромео», – сказал Рома, стирая отпечатки пальцев с автомата милиционера Картузова. Я засмеялся невольно. И вслед за мной рассмеялась Ника… В машине я снова сел на заднее сиденье. И Ника села на заднее сиденье. А -Рома сел за руль. И мы поехали. Оставив позади себя лежащего в эротическом обмороке русского милиционера Картузова. Конечно, мы понимали, что, очнувшись, милиционер Картузов тут же побежит к средствам связи, к любым, какие только имеются в той самой деревеньке, через которую мы сейчас и проезжали (потому что другого пути у нас не было), и скоренько доложит обо всем происшедшем своему руководству, объявит, конечно, наши приметы и продиктует номер нашего автомобиля, и нас тогда уже станут искать целенаправленно и, разумеется, более успешно, чем до того, ранее, еще несколько минут назад, когда никто не знал, где мы, и что мы намереваемся делать, и намереваемся ли делать что-либо вообще, – так оно и будет. (Убивать же милиционера Картузова мы не собирались. Это понятно.) Значит, теперь наша задача состояла в том, чтобы как можно быстрей добраться до дачи Ники Визиновой и скрыться там. И мы добирались. Ника, с того самого времени как села в машину рядом со мной, не переставала дрожать – меленько, едва заметно, но вся, включая кончики ушей, волосы и длинные узкие ногти на пальцах рук. Я обнимал Нику. Я прижимал ее к себе. Но дрожь ее не унималась. Я говорил Нике ласковые слова. Я шептал ей что-то про любовь. Про счастье. Про долгую счастливую семейную жизнь. Про радость уютных семейных ужинов. Про воспитанных красивых детей. Про отдых на Ривьере. Про бурные сексуальные ночи на песчаных пляжах. Про пенистый теплый морской прибой. Про ободряющие стоны чаек. Про радость утреннего пробуждения. Про ни с чем не сравнимое удовольствие. просто смотреть друг на друга… И Ника, наконец подняла голову и, наконец, открыла глаза и коснулась своими губами моих губ. Я поцеловал ее, Нику. И отнял от нее губы, Я почувствовал, что дрожь Ники прошла и что потеплели ее пальцы, покоящиеся в моих ладонях. Ника снова потянулась ко мне губами и я снова бережно и мягко поцеловал ее. «Еще», – прошептала Ника. Я лизнул ее губы, провел по ним своими губами, погладил Нику по щеке, укусил ее за щеку, за подбородок. «Еще!» – громким шепотом потребовала Ника. И я опять откликнулся на ее зов – с еще пущей охотой и радостью, чем мгновение назад, ощущая вдруг внезапный прилив голода и жажды. Я готов был съесть Нику. Я готов был выпить ее кровь. Ощущая прилив мощи в мышцах, в связках и сухожилиях, я готов был раздавить Нику в своих руках. Я хотел слышать и готов был слышать ее отчаянный, обреченный, жалобный, ее предсмертный крик… Я забыл о том, что я еду в машине и что впереди совсем рядом сидит мой старый боевой товарищ, Рома Садик, и, конечно, о том, что нас преследуют и что за каждым поворотом, за каждым деревом, в каждом доме, под каждым листочком, кустом, травинкой нас поджидает опасность, Я забыл о том, что вокруг меня что-то и кто-то есть, кроме Ники, что кто-то смеет существовать, мать его, кроме Ники, что летают самолеты, мяукают кошки, растет картошка, плетутся интриги, варится сталь, изменяют жены, умирают дети, сжигается мусор, ползают нищие, прыгают блохи, разговаривают музы, зашиваются раны, чешутся язвы, чистятся зубы… «Еще!» – настойчиво кричала Ника и сжимала что есть силы своими нежными пальцами мои бедра и с упоением вонзала меня в себя… «Я люблю тебя! Я умру без тебя!» – плакала Ника. «Я умру без тебя! Я люблю тебя!» – плакал я…Долго ли, коротко ли, а до Раздельной мы все же добрались.. Рома остановился, не доезжая станции, свернув на проселок, укрыв машину за молодыми мокро-зелеными сосенками. Мы с Никой, к тому моменту с усилием оторвавшись друг от друга, едва переводили дыхание. «Я с трудом удерживал машину в руках, – сказал Рома, закуривая. – Она все порывалась к нам присоединиться», Ника засмеялась. «Простите нас», – смеясь, попросила она Рому. «Я не слышу, что вы говорите?» – Рома поморщился, вроде как прислушиваясь, и принялся привычно крутить ручку настройки слухового аппарата. «Раз, два, три», – сказал я. Рома кивнул одобрительно, перестал крутить ручку и попросил: «Командуйте, Ника, куда нам теперь?» Ника объяснила, с сомнением глядя на Рому, услышит ли. «Понятно», – просто ответил Рома, когда Ника закончила. Мне очень нравились всегда такие дачные поселки, как тот, в который мы только что въехали. Наверное, построили его еще до войны или сразу же после войны, или чуть-чуть позже, чем после войны. Нет, не той войны, на которой воевали мы с Ромой Садиком, а другой совсем войны – второй мировой войны, с гитлеровским фашизмом, 1941 – 1945 гг. Поселок отличался обширными, густо заросшими дачными территориями и причудливыми двух– и трехэтажными деревянными домами, иногда неожиданно открывающимися взгляду среди деревьев, над заборами, под синим небом, в Подмосковье. Дома отчетливо разнились друг от друга. Одни были с башенками, другие с большими чердачными окнами, одни с острыми крышами, другие с плоскими крышами, одни с соляриями, другие с резными балконами, одни покрытые черепицей, другие железом, одни крашеные, а другие полинявшие. В таких поселках всегда стоял особый запах, Я знаю. Я сам жил в таких поселках. В Барвихе. Потом на Николиной горе. Я знаю. Пахло всегда, собственно, теми же запахами, что, вероятно, и в любом другом дачном поселке: мокрым деревом, свежескошенной травой, сеном, цветами, жареной картошкой, кофе, яблоками, свежими огурцами, дымом костров и печек и пылью чердаков. Но только в таких поселках, как тот, по которому мы сейчас ехали, и в подобных ему, эти запахи были более устоявшимися, более, острыми, более насыщенными, одними и теми же, не исчезающими, вечными. И ветер даже, который шумел в деревьях, в верхушках, в кронах, который заставлял скрипеть и хлопать створки окон, тоже был тот же самый, что и пятнадцать, и тридцать лет назад, и вчера. И все, кто жил в поселке, узнавали его, конечно, здоровались с ним, а иные даже и разговаривали с ним и заявляли, поговорив, что он очень умный и эрудированный, этот ветер, и даже может много всякого нужного и полезного по жизни посоветовать. Вот так. Дача Ники Визиновой была трехэтажная, деревянная, с острой крышей, с крупным чердачным окном, когда-то выкрашенная в зеленый цвет, яркая, а сейчас поблекшая и поскучневшая. Машину Ника загнала в располагавшийся под дачей, очень незаметный, кстати, с первого взгляда гараж. Из гаража можно было подняться на первый этаж дачного дома. Но прежде чем открыть дверь и подняться наверх, Ника вытащила из автомобильного багажника две тяжелые, до отказа набитые сумки. Поставив сумки на пол, Ника объяснила, что там продукты. И еще она сказала, что, наверное, всего, что здесь имеется в сумках, может хватить на неделю, нам всем, и еще сообщила, что на всякий случай на даче на кухне есть ко всему прочему десятка два разных консервов. Рома крутил слуховой аппарат и прислушивался – и к Нике, и ко всему, что вокруг. И одновременно принюхивался и облизывался, и нетерпеливо сглатывал слюну, деланно громко и часто, таким образом, видимо, демонстрируя, что ему очень хочется есть, И еще Рома слегка пританцовывал на одном месте, видимо, тоже таким образом давая понять, что он очень голоден, (Хотя на самом деле можно было подумать, что он очень хочет писать.) Ника смеялась, глядя на него, и грозила ему пальчиком, и говорила преувеличенно строго, что хорошие и воспитанные мальчики должны спокойно и нарочито равнодушно дожидаться, пока их не пригласят к столу, какими бы голодными они не были, пусть даже они умирают от голода и пусть даже они уже умерли, и если они уже умерли, они все равно должны спокойно и равнодушно дожидаться, пока их пригласят к столу. А Рома закричал тогда, что он не хороший и далеко не воспитанный и дожидаться спокойно и равнодушно он ничего не будет, и нагнулся к сумкам, и, грубо ругаясь, извлек из одной из них бутылку джина, открыл бутылку и сделал большой глоток, и протянул бутылку Нике. Взяв бутылку, Ника сказала, что больше всего, конечно же, на самом деле она любит непослушных и невоспитанных мальчиков, потому что она сама всю свою сознательную и несознательную жизнь была непослушной и невоспитанной девочкой. «Я была плооооо-хой девочкой», – со злодейской улыбкой произнесла Ника и, сделав глоток, который был поболее Роминого, отдала бутылку мне. Я взял бутылку, но пить не стал, я завинтил пробку и положил бутылку обратно в сумку. «Я пью только виски», – объяснил я свое нежелание выпивать. Мы поднялись на первый этаж и попали в просторную и чистую кухню. Мы вынули из сумок продукты. Часть из них поместили в холодильник, часть оставили на столе, чтобы было из чего приготовить обед или ужин. Скорее всего, я думаю, обед, потому что времени (во всяком случае на моих часах) было четыре часа. Сделав еще глоток и сладко почмокав, Ника поманила нас за собой. На ходу она объяснила, что сейчас покажет нам дачу. Из кухни мы попали в маленький коридор, а из коридора в довольно большую гостиную. Посреди гостиной стоял кожаный диван, а напротив него два кожаных кресла, а между ними стеклянный журнальный столик. На полу лежал ковер. В одном углу я заметил книжный шкаф с книгами, а в другом углу – метровую вазу с декоративными цветами. А еще в гостиной был, к нашей с Ромой радости, камин. Мы же ведь любили огонь – и я и Рома. Хотя, конечно же, мы любили другой огонь, тот, который пахнет не смолой и горелым деревом, а тот, который пахнет бензином, паленым человеческим мясом, кипящей кровью, душными фекалиями и бездымным порохом. Но на крайний случай годился, конечно, и такой огонь. (Тот, который обыкновенно случался в камине.) Только хорошо бы чтобы его было побольше, ПОБОЛЬШЕ… Ну это, собственно, уже наши заботы – захотим, сделаем побольше, не захотим, вообще не будем ничего делать. В гостиной имелись две двери. И вели они в две комнаты, тоже просторные и со вкусом обставленные. Там и там присутствовали кровати, настольные лампы нерусского, как я обратил внимание, производства и платяные шкафы. «Комнаты для гостей», – заметила Ника Визинова. На втором этаже располагались комнатки поменьше. Там был кабинет Никиного мужа и спальня Ники и опять-таки ее мужа. (Я смотрел на широкую, очень широкую кровать спальни и невольно представлял, как Ника занимается здесь любовью со своим неизвестным мне мужем. Я видел, как они мнут друг друга жадно и жестоко, как целуются и кусаются, визжат и плачут, мочатся друг на друга, потеряв над собой контроль, выкрикивают непристойности, стонут и хрипят, кончают, теряя сознание…) А в третьей комнате. стоял маленький бильярд, примерно полтора метра на метр. На зеленом сукне лежали два кия и несколько желтоватых шаров. А в двух комнатах третьего этажа пылились старые вещи. Старые вещи всегда скапливаются на дачах. Они давно уже никому не нужны, но выбрасывать их почему-то не хочется. Кажется, что когда-нибудь они, возможно, даже и пригодятся, хотя они, конечно, не пригодятся уже никогда, – но тем не менее их не выбрасывают и отыскивают, как правило, такому своему нежеланию еще одно оправдание – жалко. Просто жалко выбрасывать именно эти вещи. Именно с этими вещами ведь связано так много хороших воспоминаний, так что пусть они себе лежат, ведь никого они не трогают и никому не мешают, пусть себе лежат. И они лежат. Мы вернулись в гостиную на первый этаж. Ника отправилась готовить обед, а мы с Ромой закурили. Мы курили и молчали. Покурив и помолчав, я спросил Рому: «Как они тебя прокололи? Там, в доме у Запечной?» – «Да никак, – Рома пожал плечами. – Обыкновенно. Как вышел я от Нины, из ее кабинета, прихватив твой пакет, тут и они ко мне красивой походочкой, за рукоятки пистолетов держась. Так мол и так, предъяви-ка, браток, документы. Ну и началось…» – «Ты поцеловал от меня Нину?» – «И она поцеловала меня, – ответил Рома. – Имея в виду тебя» – «Хорошая девушка Нина», – сказал я. «Красивая девушка Нина», – сказал Рома. «Рома, – обратился я к Роме, – не считаешь ли ты позорным наше бегство от органов правосудия? Не считаешь? Не считаешь!» – «Не считаю, Антон, – ответил Рома, обращаясь ко мне. Я огляделся. Обращаться и вправду больше было не к кому. – Зачем нам сидеть в СИЗО по подозрению, когда мы это время можем провести, выпивая и закусывая, в теплом доме, на свежем воздухе, за городом, в одном из чудеснейших уголков Подмосковья» – «Не смею спорить с тобой, – сказал я Роме. – В данном конкретном вопросе. Но, спрашивая тебя о позорности нашего бегства, я имел в виду несколько иной аспект данной проблемы, Рома, – я не случайно опять обратился к Роме, потому что, еще раз осмотревшись, я окончательно убедился, что в гостиной, кроме нас, никого не было. Так не к себе же самому мне обращаться в конце концов… – Я имел в виду несколько иной аспект данной проблемы», – продолжал я. «Я тебя слушаю, Антон», – слушал меня Рома. Рома Садик. «Слушай, – сказал я ему, – слушай, – повторил, – не знаю, с чего начать. И начал: – Ведь убийца, Рома, кто-то из наших. И убежав сейчас от правосудия и скрываясь в этом гостеприимном доме, мы тем самым с тобой, Рома, предаем нашего боевого товарища. Мы сидим и пассивно выжидаем, когда сотрудники правоохранительных служб поймают того, кто бок о бок с нами целых четыре года шел в атаки, сидел в засадах, делил с нами котелок с кашей, прикрывал нас огнем, а может быть, даже и спасал от смерти. Мы, наверное, должны вес же найти его, чтобы никто и никогда его не нашел…» – «Я, как никто другой и как никто третий, а тем более уж и не пятый, и не десятый, и даже не сто первый, и четыреста пятнадцатый, и поверь мне, конечно, не миллион триста двадцать первый, понимаю, что ты мне сейчас хочешь сказать, – произнес Рома и остановился на мгновение, чтобы перевести дух, а вместе с ним и дыхание, то, которое было только у него и ни у кого другого (каждому принадлежит свое дыхание, и мы всегда должны помнить об этом), и, переведя и то и другое, продолжал, вслед за тем, как перевел: – Но я думаю так по поставленному тобой вопросу. Он один из наших. А значит выживание – его профессия. И он выживет. – Рома засмеялся и похлопал себя по коленкам. – Выживет, мать его! Это я тебе говорю. А мы, – Рома указал пальцем на меня и на себя, – если бы начали искать его, чтобы предупредить его, нашего боевого товарища, коллегу, друга, почти родственника, мы могли бы только повредить ему. Понимаешь, Антон, устанавливая его, мы случайно могли бы вывести на него сотрудников органов правопорядка». Я задумался. Глубоко. И надолго. И, недолго думая, усмехнувшись, сказал: «Рома, значит, по-твоему, выходит так, что мы никогда отсюда, из Никиного дома, не выйдем. Потому что, пока не изловят наши славные оперативные работники настоящего убийцу, мы всегда будем находиться в опасности» – «Да, да, да! – закричал Рома. –Конечно, мой добрый друг и соратник. Именно так. Всю жизнь прожить в опасности – ну что может быть прекрасней! Именно для опасности мы и рождены. И разве есть иной смысл в жизни? Край пропасти. Полет над бездной. Напряжение. Решительность. Отвага. Ум. – Вот слагаемые настоящей жизни. Нашей с тобой жизни!» – слуховой аппарат у Ромы зафонил. Рома поморщился и тотчас поскучнел. Закрыл глаза. И мне показалось, что он сладко заснул. Пришла Ника и принесла бутерброды на большой тарелке. Увидев, что Рома спит, вопросительно посмотрела на меня. Я пожал плечами. Мы съели с Никой молча по два бутерброда. Первой заговорила Ника. Она сказала, что Рома смешной, очень даже смешной. У него смешные очки, у него смешной слуховой аппарат, у него смешной плащ и вообще он очень смешно держится. «Если бы она знала, как смешно он убивает», – подумал я. Я видел, как Рома разрывал на части человека, руками, демонстрируя своим подчиненным, что должен уметь офицер спецроты разведки. Спи, Рома, спи. Ника выпила джина. А я опять отказался. Ника приблизила ко мне свое лицо и поцеловала меня. Потом встала неожиданно и бросив: «Сейчас», – убежала на второй этаж. Вернулась в коротком черном платье, тонком, узком, как она любит, как я люблю, благоухающая, сияющая. Я с трудом проглотил слюну, увидев ее. Мне показалось, что от волнения горло мое распухло, а язык онемел. Ника села ко мне на колени. И снова поцеловала меня. Дрожа, я сунул свою руку ей под платье, нащупал ее трусики и, боясь потерять сознание от восторга, сжал пальцы. «Я хочу танцевать», – сказала Ника и соскочила с моих колен. Встала, поманила меня за собой. Мы спустились в гараж. Ника сказала, чтобы я забрался в ремонтную яму под машиной, нашел в яме дверцу сейфа на стене и ключом, который она мне сунула, открыл этот сейф. В огромном сейфе я обнаружил проигрыватель, маленький видеомагнитофон, портативный телевизор, обычный кассетный магнитофон и несколько видеокассет. Всю аппаратуру, что была в сейфе, я перенес в гостиную. Ника включила магнитофон. Вставила кассету. Томно запел Хулио Иглессиас. Мы закружились с Никой вокруг дивана в медленном танце. Я прижимал Нику к себе, я вдыхал ее дыхание, я упивался ее ароматом, я умирал. Я не заметил, как к нам подошел Рома. Я почувствовал только его руку на своем плече. «Позвольте, – с полуулыбкой попросил он, – вашу даму, – сказал он, – пригласить на танец. На танец. На танец. На танец». Как ни тяжело мне было оставлять Нику, но я уступил Роме. Роме Садику. Своему другу. И боевому товарищу. Которого я любил. И которому я верил… И теперь Рома с Никой закружились по большой свободной гостиной, вокруг дивана. А я сидел и смотрел на них, любя их по отдельности, но не любя их вместе, когда они вместе, каждого. Они знали, как надо танцевать красиво. И не раз, и не два, и не три, а гораздо больше именно так и танцевали – судя по всему. Умели. Где-то обучались, у кого-то. А может, по самоучителю или в школах бальных танцев. Или у самих себя, у собственного желания, и у музыки, которая постоянно звучит в головах некоторых, не всех, и не многих. Без особого шума, лишь с легким шелестом, шепотом и шуршаньем, и мягким пощелкиванием острых каблучков, и истошным скрипом солдатских ботинок славно плавали они вокруг кожаного дивана, кожаных кресел, журнального столика, а значит, и вокруг меня, потому что я находился именно там, где и стояли диван, кресла и столик. Руки Ромы и Ники – я видел, видел, видел – не просто касались друг друга, их руки гладили друг друга, очень бережно и очень нежно, Я не мог разглядеть, как ни старался, куда смотрит Рома (это понятно, Ромины глаза неприступно прятали очки), но я смог заметить (это мог заметить любой идиот, а не только я – человек внимательный и любопытный, которому интересно все и все вокруг, а не только он сам), я мог заметить, что Ника смотрит точно Роме в лицо, в непроницаемые Ромины очки, в Ромин рот, в Ромин нос, заглядывает так же и в Ромины уши, и присматривается также к Роминому кадыку – с большим интересом и с явным удовольствием. Было ли это удовольствие и был ли этот интерес проявлением какого-то только-только начинающегося, зарождающегося чувства (сильного или слабого, скоротечного или вечного, не в том суть сейчас, важен сам факт наличия чувства, если оно было, конечно) или таким образом проявлялось обыкновенное любопытство, мне было то неведомо, да. А как хотелось узнать! Больше всего на свете. Сейчас, Вот именно сейчас, сейчас, сейчас… Пока они танцуют, пока не остановились, пока звучит музыка, пока она так завороженно смотрит на н е г о, пока о н так волшебно трогает ее. Желание УЗНАТЬ заполняло меня все активней, быстрей и агрессивней. Обозначилась даже боль в висках, сначала легкая, но вместе с силой желания набирающая и собственную силу, потом я ощутил тяжесть и жжение в желудке, а затем мне показалось, что сузилась моя грудная клетка, будто бы она уменьшилась до размеров моего беспокойно колотящегося сердца, и в конце концов я понял, что не дышу. Не дышу, не дышу… И вот тогда мне стало страшно, так страшно, как не было никогда, ни в детстве, когда страшно все, что вокруг, ни на войне, когда в любую секунду я мог умереть (и умирал не раз), ни тогда, когда впервые в жизни попытался представить ночью, в тишине, один, что такое Вечность, Вселенная и Смерть. Страх овладел мной полностью, и я понял, что сейчас он разнесет.меня на куски, как противотанковая мина неосторожного солдата. Я сжался, готовясь к концу, в один маленький плотный и почему-то фиолетовый по цвету шарик, и сказал себе: «Прощай!»… И вдруг страх исчез. Исчез, достигнув своего пика. Полностью. И после того как он исчез, прошла головная боль, и грудная клетка обрела нормальные размеры, и восстановилось дыхание. Дыхание стало даже легче и приятней, чем было до того. И вздохнув несколько раз с удовольствием, я улыбнулся с искренней радостью и с истинным облегчением. Я открыл глаза. Я поднял голову. Я посмотрел на танцующих Рому и Нику и, невольно вздрогнув, понял в одночасье, разом, что знаю, о чем думает сейчас и что чувствует сейчас Ника Визинова. Я помотал головой от неожиданности. Наверное, что-то не в порядке с моей психикой. Наверное. Так бывает. Было бы даже удивительно, чтобы у меня после всего того» что я пережил за последние годы, было все нормально с психикой. Я стер пот со лба. Я вдохнул несколько раз глубоко. И вновь поднял голову, и вновь посмотрел на танцующих Рому и Нику… …Ника ощущала Покой и Радость. И тепло. Ей нравилось держаться за твердые и большие Ромины плечи и от даваться его уверенным движениям. Ей вообще нравилось, что Рома такой крупный, крепкий, тяжелый, что у Ромы такое тугое лицо, всегда сухие губы и тихое спокойное дыхание. А от запаха, исходящего от Ромы, у Ники перехватывало дыхание, такой восторг вызвал у Ники запах Роминого тела. Он пах не дезодорантами и одеколонами, как Антон (то есть я) или ее муж, он пах готовящимся к случке зверем, но не потом и спермой, а чем-то другим, более резким и более возбуждающим, кровью, наверное, горячей дымной кровью. Ника, танцуя, расслабленная, слегка утомленная, умиротворенная, кружась, невольно посмотрела на меня и подумала, что Рома не так красив, как сидящий на диване Антон, что Рома не сильнее, и не выше, и не крупнее Антона, что Рома убивал людей только на войне, а Антон убивает их и сейчас (я.хотел крикнуть: «Заткнись, дура, мать твою!» – но молчал, молчал), что Рома, наверное, менее умен, чем Антон… Но почему-то ей казалось, что Рома более загадочен и что Рома более страшен, чем Антон, хотя он убивал только на войне, а Антон убивает их и сейчас (Заткнись, дура, мать твою, сука, заткнись!). А потом Ника вспомнила мужа. Он тоже был тренированный и мускулистый, но он никогда никого не убивал. И не хотел. А после мужа она вспомнила отца. Наверное, единственного человека, которого любила по-настоящему. Отец ее тоже был похож и на Рому, и на Антона, и на ее мужа, он тоже был хорошо сложен, спортивен, обаятелен и непредсказуем, Ника улыбнулась тихо. Да, так и есть, так и было, так и будет. Она любит сильных, уверенных в себе, относящихся с иронией и легким пренебрежением к женщинам, да и ко всему остальному на свете, включая самих себя, мужчин… Как же божественно пахнет от Ромы! Интересно, усиливается ли этот запах, когда Рома занимается любовью?… Рома мог сейчас запросто сломать позвоночник Нике. Одним движением. И он очень хотел сломать позвоночник Нике. Ника была такая легкая и такая хрупкая, такая теплая, такая душистая и такая родная, что Роме хотелось сейчас убить ее, сломав ей позвоночник, а потом плакать над ее красивым трупом и кричать, и рвать на себе волосы, и биться об пол, о стены, и опять плакать. А потом, отплакав, вытащить из кармана черного плаща пистолет «Беретту» и застрелиться и упасть рядом с бездыханной и поэтому исключительно тихой Никой Визиновой. Рома посмеялся коротко, умиляясь своим фантазиям. Нет, больше всего, наверное, сейчас Рома хотел выйти в сад, снять очки, слуховой аппарат, плащ и снять еще шелковую рубашку, самую большую из всех рубашек, на него надетых, великоватую, объемную, с длинными, длиннее пальцев рук, рукавами, и другую рубашку, которая была под шелковой, тоже, конечно, снять, и следующую, байковую, непременно стянуть с себя, и обыкновенную клетчатую хлопчатобумажную (еще мальчиковую Ромину рубашку, подростковую, которую мама-покойница купила ему на выпускные экзамены, рубашка не сходилась, конечно, давно уже ни на груди, ни на талии и порвалась уже в плечах) тоже сбросить с себя, затем одну за второй, и третьей, и пятой снять шесть маек, и расстегнуть после того, как остался полуобнаженный, «молнию» черных брюк и снять брюки, под которыми не окажется трусов, и сорвать со ступней тяжелые солдатские ботинки, и содрать зубами с ног черные тонкие носки, и остаться совсем-совсем голым, легким и свободным, и раскинуть руки, обнимая воздух, и засвистать соловьем, с коленцами, да с переливами, со стаккато и крещендо, выражая свой восторг по поводу своей силы, своей свежести, своей чистоты, своей красоты, своего ума и, конечно же, самое основное, по поводу своей молодости, своей исключительной молодости… Вспомнив о молодости, Рома сжал зубы и поморщился, и с шумом трудно проглотил скопившуюся во рту слюну, и захотел завыть громко и протяжно, и жалобно, и одновременно угрожающе. Но что-то в последний момент заставило его подавить в себе желание жалобно и угрожающе выть. Рома ощутил, что что-то изменилось – ив нем самом и во внешнем мире. Он принюхался, осмотрелся (продолжая не менее красиво, чем секундами раньше, танцевать с Никой), не заметив ничего подозрительного, внимательно прислушался к себе. И в какое-то мгновение с недоверием обнаружил чье-то постороннее присутствие в себе – мое присутствие мое присутствие. Рома, правда, пока не догадывался, что это именно я внедряюсь в него, что это я и хоть и отрывочно, хоть и достаточно приблизительно, но читаю его сознание – и я думаю, что и не догадается никогда, но тем не менее от греха подальше я все же перевел свое внимание на Нику. …Нике безудержно сейчас хотелось услышать, как Рома кричит во время оргазма. Ей хотелось услышать не просто его крик как таковой (то, что Рома будет кричать, совокупляясь с ней, с Никой, это понятно) – ей хотелось услышать, именно, как он кричит – громко или не очень, срывающимся голосом или чистым, длинно или прерывисто, переходя на хрип или на рычанье, и какие гласные, интересовало Нику, он будет выкрикивать при этом, например, «я», или «го», или «э», или «у», или «и», или «е», или «а»… Я закрыл лицо руками, не в силах уже слушать Нику, и прокричал все гласные русского и нерусского языков, подряд, громко, и хрипло, одну за другой, и в прямом и обратном порядке, выругался витиевато, когда прекратил выкрикивать гласные, и засмеялся выругавшись. А затем, отлепив руки от лица, ухватил одной из них, правой, кажется, четырехгранную бутылку джина и влил в себя из горлышка грамм триста разом, а то и больше, после чего сказал переставшим к тому моменту танцевать и глядевшим на меня изумленно и молча – обнимавшим еще друг друга, – Нике и Роме: «Забей мне косячок, Рома. Я знаю, у тебя есть». Рома пожал плечами, вынул из кармана сигарету и кинул мне. Я поймал сигарету. Всунул ее в рот с вожделением, прикурил и затянулся. «Сейчас отпустит, – подумал я, – марихуанка мне всегда помогала. Всегда. Я помню». После третьей затяжки я четко и ясно понял, что решение возникшей проблемы предельно просто. Мне надо застрелиться. И все. Я представил себя, как я вынимаю свой любимый револьвер системы Кольта, подношу его ко рту, впихиваю ствол между зубов и стреляю, мать вашу! Ну и умираю, конечно же. «А на хрена мне умирать?» – резонно спросил я себя, когда представил, как я умираю. Скучно. И никогда не поздно. Значит, умирать не буду пока. Хорошо. Тогда мне придется страдать – безответная любовь и измена друга и все такое, и тому подобное. Да, но хоть в страдании – безусловно – и есть польза и даже удовольствие – иногда, – все же зачем портить себе страданием, то есть негативными, а значит, ненужными, собственно, эмоциями жизнь?… Следовательно, я просто-напросто должен, более того, обязан смириться с происходящим. Если Ника хочет трахаться с Ромой, пусть. Ведь слаще всего не быть любимым (как многим кажется, глупцам), а любить самому.,. После пятой затяжки мне было уже по хрену, и я подумал, что пора принять решение. А потом подумал, а на черта мне принимать решение, когда мне все по хрену? Значит, и принятое мною решение мне будет тоже по хрену. «Вот класс», – восхитился я. «Вот кайф!» – поразился я. Вот, так бы всегда. Всю жизнь. Что бы ни произошло, все по хрену. Все! ВСЕ!!! Я счастливо засмеялся. Давно я не испытывал такого ясного и понятного удовлетворения от жизни. Я счастливо засмеялся. Если бы захотел, то я смог бы, наверное, сейчас взлететь и полетать по гостиной, как космонавт по космическому кораблю. Но я не хотел, потому что, собственно, какая разница, полетаю я сейчас или не полетаю, посижу я на диванчике или не посижу, или, например, возьму и все, что сейчас имеется вокруг, возьму и описаю или не описаю, я захихикал, какая, мать вашу, разница! Как же хорошо-то, Господи!… Я поднял голову к небу или к потолку (какая разница!) и увидел перевернутое лицо Ники. Ника через спинку дивана склонилась ко мне и сказала вполголоса: «Ты пьян. Мне очень нравится» что ты пьян. Я очень люблю, когда мой мужчина пьян». Она коснулась своими гладкими губами моих сухих губ… «Нет! – я что есть силы оттолкнул Нику от себя. – Не хочу, – прошептал я. – Какая разница?! – продолжал шептать я. – Уходи, – махнул я рукой. – Я не люблю тебя, – я провел руками по лицу, -т– Я люблю тебя, – засмеялся. – Какая разница!» Я встал, держась за подлокотник дивана. Ника протянула ко мне руки, пытаясь поддержать меня. Я и вправду чуть не упал, вставая, но я ударил Нику по рукам, грубо и сильно, и, нетвердо шагая, вышел в коридор. Кое-как я добрел до входной двери. Распахнул ее» вышел на небольшую террасу, доковылял до ступеней, и, не рассчитав движения, сделал слишком большой шаг вперед, на лестницу. Ступня сорвалась со ступени, и я упал. Вспыхнул с шипением красный свет перед глазами и тотчас погас, не оставив и следа, и я оказался в полной темноте. «Скучно», – успел подумать я. Я стоял посреди круглого фонтана, и из меня вовсю била вода, с напором и задором, туго и не переставая, изо всех дыр, и даже из глаз. Вода насквозь прочищала меня. И мне было приятно от того и легко. Звук выплескивающаяся вода издавала звенящий, поющий даже. Это, наверное, потому, что я весь целиком был отлит из металла. Странно, но мне всегда казалось, что чувствовать может только живая плоть. Но я, металлический, сейчас тоже чувствовал, как и обычный человек. И чувство то являлось восхитительным. Восторг переполнял меня, пьянил меня, тело мое было холодным, твердым и сильным. Движение воды заставляло меня ощущать беспрерывное движение мира. Я вспомнил, что мне всегда хотелось владеть этим миром. Но сейчас такая мысль казалась мне смешной и глупой. Миром нельзя владеть. Миром можно наслаждаться. Миром нужно наслаждаться. К миру нельзя относиться как к своему рабу. К миру нужно относиться как к себе. Не делать различия между миром и собой. И вообще, никогда ни между чем не делать различия. Все важно в этой жизни. Все. И пролетающие пылинки. И революции. И мяуканье котов. И квартирные воры. И Организация Объединенных Наций. И заляпанный жирными пальцами стакан на подоконнике в твоем подъезде. Я был отлит из металла и по мне бежала вода. «Я люблю воду», – говорил я себе. «Я люблю, люблю металл», – говорил я себе. Если бы я был сделан из картона и нутро мое бы омывало молоко, я бы сказал себе; «Я люблю картон и я люблю молоко…» Вода, резвящаяся во мне, стала холодней. И мне показалось, что я начал замерзать. Я захотел постучать руками по своему коченеющему телу, но не смог. Ну, конечно же, как же я могу двигаться, ведь я же отлит из металла. Придется терпеть. Терпеть. Терпеть. Терпеть становилось невмоготу. Я завибрировал мелко и даже, как мне показалось, с гулким звуком. И вибрировал, не переставая. И не мог остановиться. Никак. Ну никак не мог остановиться. Мне стало страшно, и я закричал. И проснулся. Я открыл глаза и увидел темноту. И тогда я снова закрыл глаза. Я лежал и дрожал. Я мерз. Мне за шиворот дул студеный сквозняк. Я пошевелил плечами, головой, пытаясь согреться. А затем сдвинулся вбок. Сквозняк теперь дул в плечо. Спина моя стала теплеть. И тогда я снова открыл глаза. И снова увидел темноту. «Наверное, я ослеп», – думал я, но ни страха, ни беспокойства не испытал при этой мысли. Скорее, наоборот, мне сделалось даже легче и вольней, чем в тот самый момент, когда я только что открыл глаза. Ну и Бог с ней, слепотой, решил я, будет время подумать всласть, пофантазировать, поиграть с собой в прятки, в салочки, в города и таблицу умножения, будет время вспомнить все, что было, и представить то, чего не будет. И ко всему прочему умирать я теперь буду с гораздо большим удовольствие, чем раньше. Нет, и вправду, а зачем мне цепляться за эту неясную утомительную жизнь, мне, слепому?… Но глаза мои по прошествии минуты-другой привыкли к темноте, и я кое-что стал различать вокруг себя. Значит, все-таки я не ослеп, с сожалением подумал я. Значит, впереди не. отдых и спокойствие, а впереди бессмысленная возня и неизвестно что – впереди жизнь. Слева и справа и сверху от меня были стены – голые стены, без обоев крашеные, видимо, или некрашеные, просто бетонные плиты, и все. «Так, – подумал я. – Тут что-то не так». Если я все же смог увидеть стены в полутора-двух метрах от себя, и спереди, и сверху, и справа, и слева, значит, все же где-то здесь, рядом совсем, имеется хоть и крохотный, слабосильный, беспредельно скупой, но все же источник света. Я внимательней, чем прежде, еще раз посмотрел на стены и на потолок (если сверху, значит, потолок, а не просто какая-нибудь там обыкновенная стена, так я думаю) и понял, что мои заключения насчет источника света вполне обоснованны. По всем моим прикидкам, источник мог находиться где-то сзади меня, за моей спиной. Я повернулся, и щека моя уперлась во что-то твердое, шершавое, холодное и влажное. Я выругался (разматерился, отвязанный, аж самому страшно стало), вспомнив, что я забыл о том, что полуминутой раньше, определяя свое местонахождение, догадался, что я не стою или сижу, а что я лежу, на спине, на полу. Оставив остальные матерные слова, что не договорил и не доорал, но знал (а сам себе я верю иногда) на потом, для последующих грязных излияний, чтоб те излияния были еще грязней, чем мне самому можно было бы представить, я сделал попытку подняться с пола. Она удалась мне лишь наполовину. Я не встал – я сел. Со связанными руками, тем более, если до попытки подъема об этом не знаешь, очень трудно встать с одного захода. Ну, а когда обнаруживаешь, нервически похохатывая, что и ноги у тебя в довершение всего тоже связаны, то тут исчезает и само желание сделать хоть какую-нибудь попытку подняться. Потому что, во-первых, это чрезвычайно сложно, а во-вторых, зачем? Разочарованный и опечаленный, я решил снова полежать на полу, И откинулся назад, и коснулся затылком пола, и повертел головой, устраиваясь поудобней, и на левой части затылка при соприкосновении с полом неожиданно почувствовал боль. Боль оказалась острой и долгой, и отдалась сразу в нескольких местах – на темечке, в висках, за ушами (там, где ежеутренне аккуратным малышам надо смывать накопившуюся пыль). Когда боль перешла на шейные позвонки, я вспомнил все, что случилось, и как и почему, вернее, почему и как я оказался там, где оказался. Для того чтобы удостовериться, что я вспомнил вес точно, я снова сел и посмотрел назад, себе за спину. Так и есть. Сзади я увидел микроскопические полоски света. Тонюсенькие, нитевидные полоски составляли прямоугольник размером с обыкновенную стандартную дверь. Так и есть – я заперт в подсобке, дверь которой я видел на одной из стен гаража… Значит, все происходило так. Мы приехали на дачу Ники Визиновой неделю назад. В первый же день, или, вернее, в первый же вечер со мной случилось то, во что я до сих пор не могу поверить. Хотя поверить следовало бы. Потому что мое неожиданное и пугающее умение, вернее, моя способность считывать какие-то ощущения с человека, какие-то мысли с его сознания, действительно являются фактом, и за прошедшую неделю я это проверил не раз. И не то чтобы такое волшебство полагалось моему мозгу всякий раз, по воле или без воли, надобно того или нет, – по-разному происходило. Бывали минуты, когда Ника, например, сама того не ведая, вдруг прорывалась в меня без на то каких-либо потуг с моей стороны, неожиданно, пугающе, ярко, как вспышка, и я мог тогда принять ее, а мог и не принять. И если я не принимал ее, она уходила, так же внезапно, как и возникала. Но чаще я начинал видеть (так я назвал проснувшуюся во мне способность) людей, в данном случае Нику и Рому, когда очень-очень этого хотел, вот как тогда в первый раз, когда меня буквально трясло, когда бились в конвульсиях все мои внутренности, когда я думал, что умру (когда надеялся, что умру), если не узнаю, что думает и что чувствует Ника Визинова, танцуя красиво с моим другом и боевым товарищем Ромой Садиком. Отчего так происходило, каковы изначальные причины такого моего «видения», я не знаю. Я могу только предполагать или я могу только догадываться, но точно не знаю. И никто не знает. Ни одному человеку на земле неведомо, почему так происходит. Магия. Волшебство. Тайна. Я не страшился сейчас такой своей способности, но я и не радовался ей. Она просто была во мне, и все. Жила во мне. И все. Я слышал, я читал, что людей, обладающих подобными способностями, немало на земле, что такие способности уже не являются сенсационными и из ряда вон выходящими. А, правда, ведь могли же ребята из спецроты разведки чувствовать присутствие людей через стены, через толщу земли, через броню танков. Я думаю, что при условии обладания какими-то врожденными качествами (а разведчики ими обладали, это так) и при соответствующей интенсивной, и упорной, и достаточно долгой учебе, они могли бы овладеть и телепатией. Произнеся мысленно слово «телепатия», я поморщился. Нет. Это слово не подходит для обозначения того, чем владею я. Я же ведь не читаю мысли Ромы и Ники. Я просто, когда очень этого хочу, начинаю чувствовать точно так, как чувствуют они, и непроизвольно тогда начинаю и думать так же, как и они, начинаю вспоминать то, что вспоминают они, начинаю мечтать о том, о чем мечтают они. Нет, это не телепатия. Это называется, наверное, каким-то другим словом. Но каким, я не знаю. Не знаю. Но хочу знать. Пока Ника и Рома красиво танцевали, тогда, в первый день нашего пребывания на даче, я сумел выяснить, настраиваясь то на одного, то на другого, что не все так просто в наших отношениях с Никой, и что Рома не носит трусов под черными брюками, и что я принял как нечто само собой разумеющееся свою способность чувствовать, как чувствуют Ника и Рома. Я напился потом джина и накурился марихуаны, хотя джин я не пью, а травку не курил уже давно – потому что именно тогда (давно) дал себе слово ее не курить. Я расстроился не потому, конечно, что Рома не носит трусов под черными брюками, а всего лишь потому, что Ника захотела услышать, как Рома кричит во время оргазма. Я понимаю, что злиться мне на это было глупо. Ника не давал мне никаких обязательств, точно так же, как и я ей. Она вольна была делать и чувствовать, что ей угодно и как ей угодно. А мне надо было бы просто разлюбить ее, а не злиться на нее. Рррраз, и разлюбить. Ррррраз, ррраааз… На рррраз разлюбить не получилось. Хорошо, тогда надо было просто любить ее, просто любить – безответно. Сколько кайфа, шарма и игры в безответной любви. Я подумал тогда об этом. И более того, я решил тогда это. Любить ее безответно. Но вышло так, что сразу в одночасье я не смог на это настроиться. И напился, мать мою, и накурился. И, желая выйти, едва держащийся на ногах, на воздух, освежиться, поскользнулся на влажных ступеньках крыльца и свалился, мать мою, и потерял сознание. Очнулся на широкой постели, душисто пахнущей, хрустящей чистым бельем. Один. В темноте. Постель была действительно широка, почти как страна моя родная. Зачем мне одному такая постель, подумал я? И тотчас ответил, наверное, потому что я должен здесь спать не один. Скорее всего, с Ромой. Я рассмеялся, представив, что целомудренная Ника и вправду решила положить нас спать вместе с Ромой. А рассмеявшись, понял, что не так уж и плохо себя чувствую, как можно было предположить. (Напился-то я ведь круто и накурился одуревающе обильно.) Я поднял голову с подушки, сел на кровати, протер лицо руками, помассировал шею, грудь. Не удивился, что раздет – догола, – подумал только, интересно, а кто меня раздевал. Наверное, Ника. Мне было приятно подумать, что меня сегодня вечером, под ночь, перед сном раздевала именно Ника. Потому что это значит, что, когда она меня раздевала, она соответственно и без всякого сомнения видела, а возможно даже и разглядывала, а может быть, даже и с удовольствием и может быть, даже и любовно, а может быть, даже и возбуждаясь сверх меры, или даже сверх той меры, что являлась для нее сверхмерой, разглядывала мое сильное, большое тело, спящее и податливое потому, открытое и ничего и никого не стесняющееся, мои руки, мои ноги, мои ресницы, мои ногти, мой умиротворенно дремлющий член, готовый в любое мгновение проснуться, в любое, лишь только коснись его, лишь только сделай движение в его сторону… Я не исключаю и того, конечно (после всего, что узнал сегодня вечером), что меня раздел для сна и сам Рома Садик, умело, привычно, быстро, но застеснявшись вдруг неожиданно и совсем ему не свойственно, когда дошел до моих трусов. Он снимал их, стараясь не смотреть на то, что под ними, щурился, жмурился, отворачивался, но невольно сам себя не слушаясь, нет-нет да и косился на то, от чего отворачивался, и тогда начинал волноваться, облизывал губы, сглатывал слюну часто и еще чаще, и хотел дотронуться до того, от чего отворачивался и на что все же косился непроизвольно, не желая того – желая того и, наконец, все же сорвав с меня трусы неуклюжими резкими движениями, бросил их на кровать рядом со мной и ушел стремительно, с шипеньем вспарывая воздух, печальный и нерешительный… Думать о том, что меня раздевал Рома Садик, мне было тоже приятно, не меньше, чем о том, что меня раздевала Ника Визинова. Нет, меньше. Конечно же, меньше. Я все вру себе. По сложившейся у меня недоброй традиции. Конечно же, меньше. Ну кто бы спорил. Я засмеялся, показывая себе, что, несомненно, меньше, меньше, да и все тут… Меньше. А что меньше? Я поморщился. А о чем я? Мать вашу, о чем я? Чего, меньше? Кого меньше? Забыл! Забыл! Что-то сбивало меня., Кто-то сбивал ход и строй моих мыслей. Я осмотрелся. Дверь спальной, в которой я сейчас находился, была полуоткрыта. И за дверью я увидел Нику. Почти голая, в одних маленьких трусиках, босая, она пересекала коридор, отделяющий нашу спальню от комнаты (кабинета мужа Ники), где расположился Рома, Чем ближе она подходила к двери в комнату, тем медленней, скованней, нерешительней делались ее движения. В коридоре было холодно, но Ника не мерзла. Наоборот, ей было жарко, ей было душно. Ей даже казалось, что сейчас вспыхнут кончики ее волос, касавшиеся ее пылающей груди и займутся ало-желтым пламенем и осветят ее лицо, снизу, сбоку, и вот тогда она, нисколько не– колеблясь,; войдет в комнату к Роме Садику, встанет посреди нее, протянет к Роме руки и запоет на чистом итальянском, бельканто, арию Тоски из одноименной оперы. И вокруг тотчас в ответ на се пение, точь-в-точь как вспыхивает огонь, вспыхнет прекрасная музыка и, вспыхнув, тоже будет гореть, как и Ника, сгорая до тла, до пепла, до головешек, до опаленных ноток и скрипичных ключей, как и Ника. Вместе с Никой. Вдвоем. И Рома Садик тогда, наконец, снимет очки и посмотрит на Нику Визинову истинным взглядом и увидит, какое она совершенство, и скажет ей, сгорающей, вдогонку, спокойно и удовлетворенно: «Вот теперь я могу умереть с радостью. До встречи. Жди меня, – и продолжит, завертевшись Барышниковым по комнате туда-сюда, туда-сюда, на одних мысочках: – Жди меня, и я вернусь, только очень жди…» Ника дотронулась пальцами до кончиков волос, лежащих на груди. Они не горели. Ника усмехнулась и прислонилась плечом к косяку двери. Сначала она решила спуститься вниз на кухню за спичками, и уже спичками поджечь волосы, раз они не зажигаются от ее полыхающей груди. И уже сделала было даже шаг в сторону лестницы, но потом поняла, что ей совершенно неохота спускаться, а потом опять подниматься, а потом зажигать волосы, гореть, чувствовать боль, слышать запах паленого тела… И неизвестно еще, сможет ли она запеть, если ей будет больно; а еще через какие-то недолгие секунды она вспомнила, что никогда не знала итальянского языка, и совсем обладала музыкальным слухам и даже не имела намека а оперное бельканто. «Вот такая я, вот такая», – без сожалению сказала Ника и, тихонько засмеявшись, не торопясь, пошла в туалетную комнату, туда, куда, собственно, и собиралась, когда встала с кровати, где лежала рядом со мной. В туалете Ника спустила трусики и села на чистый и прохладный стульчак. И тут, когда села и стала писать и какать, она подумала, а почему люди так редко и неохотно, и с сопротивлением, и отвращением, оглядываясь и перепроверяясь, разговаривают, рассуждают, обмениваются впечатлениями, пишут в письмах, пишут в книгах и романах о том, как они писают и какают. Ведь испражнение – одна из важнейших функций человеческого организма, без которой никому из нас не жить – никогда и нигде. Так чего же мы стесняемся? Запаха, вкуса и внешнего вида мочи и фекалий? Придурки. Мы все, как один, делаем вид, что никто из нас на самом деле, собственно, и не писает и не какает, а в туалет мы заходим просто так, цветочки понюхать. Ника засмеялась, представив, что люди действительно заходят в туалеты, чтобы понюхать цветочки, – сидят на стульчаках и нюхают, нюхают… Когда и на каком этапе, любопытно, люди отвергли запах и вид мочи и фекалий, и что послужило причиной тому? Ведь начинались люди, и каждый урод об этом знает, с чисто животных инстинктов. Мы, как кошки и собаки или все остальные звери и зверушки, после каждого испражнения пристально и внимательно разглядывали свой кал, а затем самым тщательнейшим образом обнюхивали его, находя в нем какие-либо визуальные или обонятельные изменения, и таким образом диагностировали свой организм и выясняли, что же лучше организмом нашим усваивается – тушеная капуста или жареные бананы, пряная селедка или копченая оленина. Мы любовались калом – фигурными извивами его колбасок и пористыми узорами, их покрывающими, любовались мозаичными вкраплениями непереваренных помидорных шкурок, арбузных косточек и сверкающих на солнце рыбных чешуек, любовались цветом и блеском их гладкой поверхности. В те времена люди жили вольно и красиво, легко и радостно, восторженно и безмятежно, дружили со слонами, зебрами, лисицами, кукушками, зябликами, муравьедами, ужами, китами, дельфинами, бронтозаврами, дикобразами и со многими другими прочими, не менее славными и достопочтенными, дружили как с равными, как с себе подобными, не делая никаких, никаких различий между собой и ними; умели даже разговаривать с ними, но чаще понимали друг друга без слов; вместе ели, вместе охотились, наверное, влюблялись, наверное, занимались любовью, наверное, составляли семейные пары. (И нет подтверждения, что эти пары не были счастливыми.) Нике очень захотелось пожить в то замечательное и сказочное время. То время было, конечно, самым лучшим и самым счастливым для человечества, думала Ника, больше не было другого такого времени, такого светлого и чистого, такого неоспоримо во всех отношениях идеального. Ника ощущала, что наверняка вошла бы в тот мир как в свой, будто она родилась там, в том мире, и выросла. Она знала, что все ей там было бы привычно, знакомо и что все, что она видела бы вокруг, она бы очень и очень любила. Причем любовью не острой и страстной, а, наоборот, тихой, естественной, мягкой, но очень и очень сильной, любовью, которую могла бы разрушить только смерть. Наверное, на каком-то этапе развития мира человечество чересчур преисполнилось ничем не оправданным ощущением собственной значимости, решила Ника, мол, мы на двух. ногах, мол, мы красивы и безволосы, мол, мы умеем строить и разрушать, мы умеем разговаривать, и, наконец, мы обладаем самым главным, чем не обладает ни одно живущее с нами рядом животное, – мы обладаем разумом. Так зачем нам, таким красивым и великим, держать за ровню этих жалких и глупых зверушек? Мы обязаны отделиться от них, подняться над ними, а их самих сделать нашими рабами. И первым шагом, наверное, думала Ника, явилось как раз то, что люди как от чего-то дикого, постыдного и позорного – звериного, стали постепенно отказываться от собственных испражнений. Сопротивляясь зову инстинкта, они не разглядывали теперь свой кал или мочу и не обнюхивали их, как раньше. Они теперь и вовсе старались скрывать и сам факт того, что они вообще испражняются. Люди начали возводить туалеты или отводить для облегчения соответственные отдельные помещения. И располагали они эти помещения, конечно же, подальше, как можно дальше от людских глаз. Говорить о визитах в туалет теперь стало невозможно, и, более того, являлось, ныне просто делом срамным. А пукнувшего в обществе, даже случайно пукнувшего, это общество тотчас отвергало. Короче, на мочу и фекалии и на внутренние газы был наложен строжайший запрет. И тем самым, конечно же, а сейчас мы об этом можем судить с полным правом, рассуждала Ника, сидя на стульчаке, корчась и пыжась, была, разумеется, ограничена и внутренняя свобода человека. Потому как умолчание о любой сфере человеческой жизни – будь то испражнение, секс, живущая в каждом из нас страсть к жестокости и насилию, любовь к представителям твоего же пола, любовь к двум и более партнерам сразу, отвергание родителей и многое, многое другое – позволяет прогрессировать неуправляемым комплексам, делает развитие человека однобоким и уродливым, а самого человека, соответственно, непредсказуемым, страшным и убогим, убогим и страшным. (Как правило, и внешне тоже.) Ника и сама невольно – потому как так была воспитана, – если представляла какого-либо человека писающим или какающим, то вдруг на какое-то время, а то и навсегда, начинала относиться к этому человеку с антипатией и брезгливостью. А если она. например, принималась думать об очистительных функциях своего организма, то тотчас ей начинало мерещиться, что она и не человек вовсе, и даже не животное, грязное и вонючее, а созданный неизвестно кем и неизвестно зачем, запрограммированный на ряд каких-то отдельных операций робот, андроид или киборг, или еще что-то в этом роде. И тогда ей становилось дурно, и, казалось, вот еще немного, и она потеряет сознание. «Нет, – сказала себе Ника строго и сурово, вставая со стульчака и мягкой, нерусской, почти ватной бумагой вытирая дочиста, хотя и предварительно (прежде чем дойти до ванной и подмыться холодной водой), свой аккуратный зад. – Нет, – повторила Ника, выпрямляясь и поворачиваясь назад к стульчаку, – мои фекалии и моя моча не должны быть запретны для меня, я должна все видеть и все ощущать, и все знать, все, что позволено и не позволено тем обществом, в котором я живу! Я и так уже много сделала из того, что этим обществом не принимается и осуждается. Так насрать тогда мне на такое общество! И с двойной охотой, значит, я буду делать то, что решила делать». Ника наклонилась над унитазом и стала внимательно разглядывать свои фекалии. Кал был твердым, гладким и традиционно закручивался в колбаски. Колбаски отличались небольшим, женским, так скажем, размером и спокойным темно-зеленым цветом. Удовлетворенно кивнув головой, Ника одобрила внешний вид фекалий. Теперь их надо было попробовать на запах и на вкус. Необходимо просто – и даже не для того, чтобы определить, здорова ты или нет (вряд ли Ника сейчас, обнюхивая кал, сможет продиагностировать себя, ушло, к сожалению, из человека такое умение, и давно ушло, еще тогда), а для того лишь, чтобы выйти за запретное (а потому непривычное и неприятное), хоть чуточку подвинуться к той внутренней свободе, которую люди так бездарно и без сожаления растеряли. Ника поморщилась, закрыла глаза, вдохнула ртом, затаила дыхание, сглатывая слюну, часто, трудно и, наконец, пересилила себя, открыла глаза и опять стала дышать, и тотчас вздернула плечами, ухватила себя двумя пальцами за горло, сдерживая тошноту, сплюнула в толчок, опять задержала дыхание, и затем резко, решившись, протянула руку к своему калу, мазнула по нему пальцем, поднесла палец ко рту и лизнула его, и дрогнула тогда всем телом, напряглась, и, не в силах уже терпеть, низвергла в унитаз с ревом и храпом обильный поток блевотины… Отблевавшись, выматерилась по-мужски, плюнула в унитаз напоследок, спустила воду и, с усилием поднявшись с колен, побрела в ванную. Долго стояла, а потом сидела, а потом лежала, а потом прыгала, а потом приседала, а потом опять стояла под обжигающими стеклянными струями, смывая с себя выступившие на коже вместе с потом отходы мыслей и шлаки эмоций. Терла себя крепко колючей мочалкой, опасаясь, что не смоет все сразу и будет мучиться оттого, засыпая, ворочаясь и постанывая. И будет страдать во сне – когда все же заснет, – поедая в сновидениях собственное дерьмо и напиваясь до отвала собственной мочой. «Хорошо бы потерять счет времени, – думала Ника, вытираясь тщательно. – И избавиться от ощущения хронологии. Хорошо бы не знать, что будет завтра. Завтра или вчера…» Я притворился спящим, когда Ника вошла в спальню и легла в постель рядом со мной. И не шевельнулся, когда Ника дотронулась до меня. И с усилием подавил дрожь, когда почувствовал, как она кончиком влажного языка лизнула сосок моей груди. Ника, разочарованная, нехотя отвернулась от меня, легла щекой на подушку и через несколько минут заснула. Мы лежали в тишине и покое. Сколько было времени, я не знал. Я не хотел смотреть на часы. Мне было больно смотреть на часы. Мне всегда было больно смотреть на часы. А вот сейчас, в данный момент, больно особенно. Потому что оказывается, что я не сумасшедший, коим себя считал (потому как всегда хотел потерять ощущение времени и не знать, где оно начинается и где кончается, и путать завтра с позавчера, и быть полностью уверенным, что год не меньше секунды, а секунда – это такая штука, которую пигмеи из Центральной Африки едят за завтраком). Я не сумасшедший, потому что оказалось, что есть еще человек, который хочет того же самого, – Ника. А как известно, двух одинаковых сумасшествий не бывает. Значит то, что мы хотим – я и Ника, – норма для человека. Мне показалось вдруг, что к моей мускулистой теплой спине приложили лед. Я поежился и обнял себя руками, сжал себя, согреваясь. Как же это страшно, когда больно смотреть на часы! Страшно оттого, что больно? Или больно оттого, что страшно? И что, собственно, у меня болит? Голова, например, рука, живот, или палец, или зуб, или что-то еще? Я мысленно прощупал себя, микрон за микроном, в поисках того, что же все-таки у меня болит, когда я смотрю на часы. И оказалось, что ничего. Ничего не болит. И вместе с тем иного слова, чем «боль», для определения моего состояния, когда я смотрю на часы, нет. Значит, болит не тело, а, наверное, мое поле, мое биополе или мой дух, наверное. Нет, не знаю, ничего не знаю. Но больно, больно,, все равно больно. Я пытался заснуть. С усилием сумел освободиться от мыслей, вызывающих чувство тревоги (хотя все мысли мои в той или иной степени вызывают у меня тревогу), представил себе гладкую, до зеркального блеска отполированную голубую мраморную вазу, сосредоточился на ней и стал постепенно забываться, засыпать. Однако не заснул. Не суждено мне было в ту ночь ни поспать, ни просто спокойно отдохнуть. К той ночи я еще не научился без особого труда и быстро справляться со спонтанно прорывающимися в мое подсознание Никой или Ромой. Человек зачастую не в состоянии управиться с тем, что сам и создал. Его творение иной раз начинает выходить из-под его контроля, обретая самостоятельность и работая уже против своего же создателя, В истории так случалось много раз – и с отдельными людьми, и с целыми государствами. Возьмем, к примеру, хотя бы нашу замечательную страну, название которой Россия. Вопросы есть? Вопросов нет. Вызвав к жизни свою способность настраиваться на жизненную волну близкого мне человека, я пока не мог научиться этой способностью управлять, Ника и Рома могли запросто, без разрешения войти ко мне и спокойно во мне, мать их, обретаться. На третий день мне станет легче, я интуитивно уловлю технику сопротивления и регулирования, но пока я этого еще не умел. Я открыл глаза и… Рома Садик все в том же плаще и в не менее темных, чем раньше, очках и со слуховым аппаратом в ухе, как водится, стоял на коленях, на земле, на мокрой траве, недалеко от крыльца, напротив окон спальни, в которой устроились мы с Никой, и протягивал руки, просяще и взывающе, к восходящему солнцу, мягкий и открытый, все принимающий и ничего не отвергающий, улыбающийся и безропотный, до кончиков волос пропитанный послушанием и НАДЕЖДОЙ. «Я прошу тебя, дай мне то, что отнимаешь у других, – едва слышно говорил Рома, восторженно и одновременно отрешенно глядя на появляющееся солнце: – энергичное, упругое, здоровое сердце. Свежий, не обремененный окислением и разложением мозг, чистый, не пораженный язвами и эрозией желудок, по-мальчишески функционирующую печень. Задорно и без усилия работающие почки. Девственные легкие. Не засоренную усталостью кровь. Ровное дыхание. Гладкую розовую кожу. Всегда готовый к удовольствию член. Невесомые руки и ноги. Дай мне молодость. Сделай так, чтобы я никогда, слышишь меня, чтобы я никогда не старел… Ты всегда спрашиваешь меня, а чем же я лучшедругих, тех, у которых отнимаешь молодость. И я отвечаю тебе всегда одинаково. Потому что я не могу ответить по-другому. Я отвечаю правду. Я умнее других. Я талантливее других. Я сильнее других. Я могу принести гораздо большую пользу, чем другие. И тебе, и миру. Если ты мне скажешь, что надо мне сделать, я это сделаю, чего бы мне это ни стоило, как бы сложно это ни было. Я все сделаю. Потому что я самый сильный. Самый умный. Самый талантливый. Подскажи мне, как доказать мне тебе мое величие. Что мне нужно совершить? Подскажи. И прикажи, – Рома замолчал, внимательно прислушиваясь, Но ничего не услышал и продолжил обиженно; – Я вижу, ты не хочешь говорить со мной сегодня. Я что-то сделал не так? Тебе что-то не понравилось? – Рома с неожиданным беспокойством огляделся. – Или нам что-то мешает? Или кто-то мешает? – Рома поморщился, встряхнул головой. – Я чувствую, что нам кто-то мешает…» Я попробовал отключиться от Ромы. Я не хотел, чтобы он знал, что мешаю ему я. Я полагал, и правильно полагал, что никому не надо знать, ни тем более Роме, и тем менее Нике, что у меня есть такая способность, какая есть, – чувствовать кого-то или кого-либо как себя. Я говорил сейчас себе тс банальности, которые в иной ситуации подразумевались бы сами собой, только лишь для того, чтобы, отвлекаясь от Ромы, помочь себе тем самым скопить силы и путем напряжения и исключительной воли вырвать из себя моего любимого Рому – чтобы спокойно мог продолжать он свои дела, не подозревая ни в чем ни себя, ни кого-либо другого. Получилось наконец. Аж пот ноги прошиб и ручьями меж пальцев истек, увлажняя простыню, матрац и кровать, закапал на пол с громким стуком – кап, кап, кап. Получилось. Рома оставил меня. Я отдышался, почесал ногой о ногу и решил заснуть, пока не поздно. Вернее, пока не рано. Смог задремать достаточно быстро, потому что, наверное, притомился, отрываясь от Ромы. И даже сумел зачатки какого-то сна углядеть, приятного и увлекательного, что-то об экономических реформах на Крайнем Западе. Однако очень скоро шум, исходящий я не знал тогда откуда, вновь возобновил мои бдения. Я, беспокойный, озираясь, голый как есть, встал с постели и, ориентируясь на шум, подошел к окну. И выглянул в окно, предварительно отогнув -от окна штору. В окне я увидел воздух и зеленеющие в нем деревья и траву, и кусты, и дышащего воздухом Рому в черном плаще. Рома терся лицом о траву, в остервенении катался по траве – щенком или жеребенком – и выкрикивал что-то громкое и визгливое. Трудно разобрать было, что он кричал. Я мог различить лишь несколько слов: «Оживи меня, роса… Полюби меня, земляника… Дай мне силы…» Рома вырывал с корнем молоденькие елочки, сдирал с них ветки и запихивал эти ветки себе в рот. И жевал, их. С рычаньем, содрогаясь всем телом. Давился, кашлял, плевался и снова жевал. «Мать твою, урод!» – только и мог выговорить я и побежал к своим джинсам и свитеру, натянул их быстро, надел кроссовки на босую ногу, и помчался вниз спасать Рому. Подавится ведь командир и умрет, сучок. А мне бы того не хотелось. Я ведь любил Рому Садика, моего фронтового товарища. Я не добежал еще до конца лестницы, как хлопнула входная дверь, и я услышал Ромин кашель, и не желая теперь, когда у Ромы вроде как все в порядке, чтобы он видел меня, я осторожно поднялся обратно и скрылся в спальне, разделся быстро и лег. Смотрел в потолок, не засыпая и не дремля, размышлял о Роме и о сути его просьбы к кому-то или к чему-то, к Всевышнему, к Солнцу, к Космосу. Я мог бы сейчас посмеяться над Ромой. Потому как и на самом деле смешна и нелепа и, наверное, даже глупа его мольба о молодости. Вернее, смешна, нелепа и глупа не мольба, а вера в то, что эта мольба может ему помочь сохранить молодость. Но я не стал смеяться. Я подумал, что каждый волен, как ему хочется, строить свою жизнь – улучшать ее или ухудшать ее, избавляться от страданий или, наоборот, не страшась, идти им навстречу. Каждый волен, как ему вздумается, пытаться уйти от неизбежного – от старости и от смерти. Я, например, пытаясь уйти от этого, стремлюсь остановить время – с помощью любви, допустим, или с помощью размышлений, или с помощью страха (самый действенный, по-моему, путь), или с помощью удовольствия, или с помощью уговоров самого себя, или с помощью наркотиков (какое-то время назад), или с помощью воспоминаний, или с помощью битья головой о стену, до крови и до дикой боли… А вот у Ромы иной путь – Мольба к Богу, к Богу Солнца или к Богу Ветра, или к Богу Воды, или еще к какому-то Богу. Не самый худший способ, хотя и не самый лучший, наверное. Я поковырялся в пачке «Кэмела», лежащей на полу возле кровати, достал сигарету, закурил. Да, думал я, совершенно правильно я рассуждаю насчет Ромы Садика. Все так и есть, как я думаю. Однако непонятный мне дискомфорт я ощущал тем не менее, оправдывая сегодняшние действия Ромы Садика. Но никак не мог уловить вместе с тем, в чем причина такого моего состояния… Хотя возможно, что причина и необъяснима на первый взгляд. Возможно, просто срабатывает интуиция. И я, наверное, обязан к ней прислушаться. Помимо всего прочего, война научила меня одной важной вещи – доверять своим инстинктам… Я снова встал, оделся, но теперь более тщательно, чем в первый раз, когда увидел за окном поедающего еловые ветки Рому Садика не забыл трусы, и не забыл носки, и шнурки завязал на два узла, с интересом глядя на узлы, язык высунув, сопя, забывая, зачем я здесь и здесь ли я вообще. Прежде чем спуститься с этажа, заглянул осторожно в дверь Роминой комнаты. Рома лежал на полу, все в том же черном плаще, все в тех же очках и, конечно же, со слуховым аппаратом – теперь, правда, уже в другом ухе. Руки Ромы были сложены аккуратно на груди, как у покойника. Но Рома не был покойником. Я видел, что он Дышал, хоть и не глубоко, и не часто, но дышал. К носу его прилипли две елочные иголки. Я улыбнулся. Спи, Рома, спи. Я закрыл дверь и тихонько спустился вниз, в сад. Рассвет прошел. Занималось утро. Было мокро и тихо. Мне очень нравились воздух, цвет неба и отсутствие людей вокруг. Я вышел за калитку, оглядел улицу и пошел вдоль забора, не быстро и не медленно. Туда-сюда поворачивая, перепроверяясь, доверяя интуиции. Вышел из поселка и зашагал по неширокой асфальтовой дороге. Шел, напевая и пританцовывая. Я постарался забыть, кто я и почему я здесь, и помнил лишь о том, что вокруг пьянящий воздух, дружелюбные деревья и любопытные птички. Минут через пятнадцать я вышел к станции. Возле зеленого деревянного домика с окошком и надписью «Касса» над ним я нашел то, что искал, – будку телефона-автомата, и сам телефон-автомат в ней. Я набрал номер Нины Запечной. Нина обрадовалась, услышав мой голос. Я извинился, что звоню так рано. А Нина сказала, что извиняться не надо, потому что после вчерашнего она все равно так и не заснула всю ночь. Она сказала еще, что засаду с ее дома сняли и что претензий к ней, слава Богу, никто не имеет, и что она вообще поняла, что у нее в Москве очень много защитников. Я попросил Нину рассказать все, что произошло в доме, когда туда вошел Рома Садик. Нина рассказала. Дело происходило так. Когда Рома вошел, оперативники, собственно, и не обратили на него внимания. Они ждали совсем другого человека; судя по всему, видевшие Рому во дворе его дома сотрудники милиции не сумели как следует его описать – темно было во дворе. Увидев Рому, Нина пригласила его подождать ее в гостиной, а сама пошла за моим пакетом. Вернувшись, Нина застала Рому Садика лежащим на одной из работающих тут девушек. Рома сжимал горло судорожно бьющейся под ним девушки и говорил ей хрипло, склоняясь к самому ее лицу; «Успокойся, Рома, и ничего не бойся. Ведь ты же – это я, а я – это ты. Разве мы можем бояться друг друга?». Нина растерялась и первые несколько мгновений не знала, что делать, но потом сообразила. Она достала из пакета мой револьвер и направила его на Рому и сказала ему решительно, вспоминая мои военные рассказы: «Вставай, мать твою, сука! Или я снесу твою башку на хрен!» Рома поднял глаза и долго, непонимающе, смотрел на Нину. И в глазах его Нина прочитала тоску и печаль, и вместе с тем полную отрешенность от происходящего. Пролетела секунда-другая, и Рома пришел в себя. Он отпустил девушку. Встал. Долго тер виски. Потом искренне извинился и взял пакет. А потом в гостиную ворвались оперативники. Убежавшая девушка от испуга рассказала им о нападении… Я спросил Нину, что представляет собой девушка, на которую напал Рома. «Травести, – ответила Нина, – эта девушка травести. Она маленькая и хорошенькая. Она носит короткую стрижку и одевается под мальчика-подростка – короткие бархатные штанишки на бретельках, гольфики с помпонами, сандалии…» Некоторые из клиентов Нины Запечной ребята с весьма причудливыми вкусами… А еще я спросил Нину, есть ли гарантия, что ее дом в ближайшее время не будет под наблюдением. Нет, ответила Нина, такой гарантии нет, один из вчерашних оперативников сказал ей, что зайдет сегодня днем, на всякий случай. Я попрощался с Ниной. «Берегись его, – сказала мне напоследок Нина, повторяя свои же слова, произнесенные ею после того, как мы устроили веселую потасовку возле ее дома. – Берегись своего приятеля…» Я вернулся другим путем, шел, не приближаясь к заборам, где слышал собак (они дышали, попискивали, скулили во сне, шамкали и хлипко облизывались, они видели шумные сны и гремели цепью, когда содрогались от осознания, что они собаки), пригибаясь там, где хозяева дач уже проснулись и запахли запахами бодрствования – потом, мочой, несвежим дыханием, неудовлетворенной похотью, мятыми деньгами, табачной гарью и прочая, прочая, прочая, сворачивая в сторону, в ближайший проулок, если видел кого-то, кто так же, как и я, шагал по дачному поселку, одинокий или не очень. Ника и Рома спали, когда я пришел. Рома все так же на полу, а Ника вес так же на кровати. Я в который раз уже за последние часы разделся и лег. Я заснул, наконец, как ни странно и неудивительно, тихим и крепким сном. Мне снилось, что я вода и что родилась я в самом Центре Земли, а настоящий дом мой – неохватная Вселенная. Все меня любили, уважали и боялись. Я не знала, кто это такие все, но твердо знала, что они меня любили и боялись. Но нет добра без худа. Была в моей счастливой водяной жизни одна закавыка – я никак не могла решить, где же мне все-таки лучше течь, по Америке, по Австралии или по Российской Федерации, а может быть, даже по славной Литве или по не менее славной Норвегии. Где же мне приятней, где легче, где вольней и где же мне все-таки больше нравится? Решение пришло неожиданно. Сначала я почувствовал особую и очень знакомую приятную истому во всей себе, водяной, текучей, а потом мне показалось, что я потихоньку начала вскипать, забурлила – и оттого наслаждение мое еще увеличилось, И тогда я подумала, а какая в конце концов разница, где мне течь, лишь бы течь и не останавливаться, и в этом вся суть моей водяной жизни… И тут я проснулся и закричал. Я кончал. Краем глаза я увидел голову Ники там, где должен был быть мой член… Я дернулся несколько раз и затих, довольный и успокоенный. И может быть, минуты не прошло или тридцати, или, может быть, на следующие сутки и тоже в начале дня Ника подняла голову и сказала, утренне улыбнувшись: «Ты так красиво спишь. Я не могла сдержать себя. Но я хотела удовлетвориться лишь прикосновением. И прикоснулась. И он отозвался тотчас, несмотря на тебя, спящего и ничего не осознающего. И я поняла, что простое прикосновение не принесло мне удовольствия… Прости меня. Я разбудила тебя» – «Я люблю тебя, – сказал я и погладил Нику по щеке. – Я люблю тебя…» Я рассказал Нике о том, что я узнал от Нины Запечной. Ничего не утаивая – все как было. Ника молча выслушала меня. Потом поднялась и вышла в ванную. Долго плескалась под душем. Вернулась в спальню, села возле зеркала, с косметичкой в руках, и только тогда спросила, что я об этом думаю. Я пожал плечами. Ника посмотрела на себя в зеркало внимательно и изучающе и сказала, что, наверное, Рома псих, и я увидел, что, произнеся это, она улыбнулась своему отражению. …Ника вспомнила вдруг, совершенно неожиданно для себя, какой восторг она испытала, когда в десятом классе ее учитель русского языка и литературы на глазах у всего класса уверенно и сильно ухватил гориллообразную директрису школы за ее мускулистую шею, прижал директрису к доске и сказал тихо, почти шепча: «Если ты, сука, еще раз укажешь, как мне вести свои уроки, я выдавлю из тебя все твое дерьмо и заставлю его сожрать!…» Директриса тогда потеряла сознание и свалилась с грохотом возле доски, а учитель, к немому восхищению класса, как ни в чем не бывало продолжил урок: «А теперь поговорим об уродах, придурках и неудачниках, короче, о тех, кто составляет основное население русской классической литературы». Тогда Ника впервые очень четко и ясно, будто снизошло на нее откровение, поняла, что полюбить она сможет только сильного, жесткого и, может быть, даже безоглядно отчаянного человека, такого вот, как тот, который стоит перед ней у доски, рядом с валяющейся директрисой, и рассказывает презрительно о слюнтяях и нытиках, бездельниках и глупцах, подлецах и неженках, о тех, кто, конечно, недостоин быть русским, а уж тем более героем русской классики. Ника отдалась ему тем же вечером, здесь же, в школе, на столе, с раздирающим перепонки криком и истинным, никогда доселе ею, знающей мужчин уже три года, не испытанным наслаждением. Учитель был действительно силен и к тому же неожиданно изобретателен. В тот вечер в пустом классе они испробовали все, что можно было испробовать, в рамках отведенных, конечно, сил, времени и возможностей. На следующий вечер Ника по просьбе учителя привела с собой подругу, красивенькую, стройную девочку Машу. Любовь втроем потрясла шестнадцатилетнюю Машу. Маша прекратила все связи с внешним миром. В школу не ходила. Сидела дома, сказываясь больной. И только вечером под разными предлогами уходила из дома и являлась сюда, в класс. И только здесь она оживала, смеялась, шутила, рассказывала что-то забавное, дурачилась, предвкушая очередное тройственное совокупление. Она и Ника обожали учителя, боготворили его. Писали ему стихи, рисовали его с натуры, любуясь его красивым жестким лицом и его тренированным гладким телом. Так прошел месяц, другой, третий. И вот… В один из вечеров запертая дверь в класс была с грохотом вышиблена, и в помещение, где хрипло рычала любовная троица, ворвался высокий мужчина. Он оторвал учителя от девчонок, саданул его пару раз о доску, а затем, вынув из-за пазухи пистолет, сказал что-то такое ужасное, угрожающее, страшное и необыкновенно матерное, от чего учитель, как какое-то время назад толстая директриса, свалился без сознания возле той же самой доски. Ворвавшийся мужчина оказался Машиным папой. Папа был военный и работал в каком-то секретном военном подразделении и, как сказала Маша, несколько лет воевал в Африке. Умная Ника, проанализировав произошедшее, сделала три вывода. Первый: на любого крутого – всегда найдется кто-то покруче. Второй: чем мужик круче, тем симпатичней. И третий: по всему получается, что где-то по земле ходит самый крутой и самый симпатичный. И Ника сказала себе, обсудив с собой все сделанные ею же три вывода, что жизнь свою девичью она целиком посвятит поискам вот этого самого крутого и симпатичного, И неважно, насколько поиски те будут трудными и долгими, может быть, даже и опасными, она преодолеет все сложности и страхи и непременно отыщет того, кто ей нужен… Завтракали мы внизу, в гостиной. Ника приготовила картошку со свиной тушенкой. Рома открыл трехлитровую банку маринованных огурцов. А я сварил кофе. Ладно и быстро все у нас получилось. Мы сидели за столом, аккуратно жевали вкусную пищу и улыбались. Я улыбался Нике. Ника улыбалась Роме. Рома улыбался себе. За последние несколько лет – пять, а может быть, шесть – Роме впервые было очень хорошо. В ушах его стояла удивительная и очень непривычная ему тишина. Еще вчера в ушах его то гремел гром, то истерично бились крики новорожденных, то пищали крысы, то звенели рассыпаемые по полу медные никелевые монеты, то гудели провода ЛЭП, то грохотали танковые треки, то кто-то хрипло дышал ему в ухо, то хлопали птичьи крылья, то на повышенных тонах разговаривали рыбы, то свистели водосточные трубы, то отчаянно стучали крыльями бабочки, то чей-то голос говорил ему строго: «Рома! Рома! Рома! Рома! Рома! Рома!…» А сегодня вот тишина. И оттого спокойствие. И оттого благодушие. И оттого чудесное тепло во всем теле. И еще Рома с изумлением заметил, что у него совершенно исчезло постоянно в нем живущее страстное желание сделать то, что он иногда, когда ему совсем становилось невмоготу, делал все последние пять или шесть лет. Ему совершенно не хотелось делать это. Что Рома подразумевает под словом «это», я, как ни силился, а понять не мог. Рома, по всей видимости, сам от себя закрывал расшифровку этого самого это. Я сделал все же попытку просочиться в Рому поглубже. Но Рома, опять ощутив вторжение, закрылся еще больше. Я слышал, как Рома мысленно повторял про себя, то ли уговаривая себя, то ли констатируя факт: «Не хочу. Не хочу. Не хочу. Не хочу…». Я отступил. Рома посмотрел на меня, на Нику, подумал, что вот тут рядом сидят два человека, которые ему приятнее всего на этом свете, один – давно, он уже и не помнил, с каких пор, а другая – всего несколько часов, но кажется, что будто несколько десятилетий. Рома с удовольствием переводил взгляд с меня на Нику, с Ники на меня и улыбался загадочно. Ему хотелось сейчас что-нибудь рассказать нам интересное, веселое и запоминающееся, ему хотелось, чтобы мы внимательно и, забыв обо всем, слушали его и восхищались его рассказом и его умением такие рассказы рассказывать. Рома сделал глоток кофе и решил начать: «Послушайте, я хочу вам рассказать, как я любил когда-то, правда, это было так давно… – Я засмеялся, услышав слова из известной песенки «Битлов», Рома, воодушевленный моим смехом, продолжил: – Я отдыхал на Черном морс. Стоял июль. Плавился песок. А воздух можно было резать ножом и мелкими кусочками впихивать себе в рот, а затем и в легкие. Одним словом, было славно. Пансионат, в котором я жил, стоял далеко от Ялты. Так что людей вокруг было немного. Чему я исключительно радовался. Я рассуждал так; захочется мне видеть вокруг себя побольше людей, я сяду на автобус и доеду до Ялты – всего-то шесть или семь остановок. Я жил один и удивлялся такому счастью… Только что закончилась война… Только что закончилась война… И я еще стрелял по ночам… Командовал ротой… Окапывался… Прятался… Нападал. Я плавал всегда далеко от берега, потому что там море было прохладней, чем у берега. И вот на третий день моего пребывания на ярком и душистом побережье Крыма случилось следующее. Я плыл брассом и пел какую-то строевую песню, громко и весело, и не заметил птицу, которая низко пролетала над поверхностью моря. И вышло так, что эта птица чрезвычайно сильно ударила меня крылом. Я на секунду потерял сознание и, конечно же, глотнул воды и, конечно же, пошел ко дну. Очнулся от того, что стал дышать – не водой, воздухом, хотя все еще находился на морской глубине. Я открыл глаза и увидел вокруг себя совершенно голых людей, мужчин и женщин. Они были в аквалангах и масках. В своих зубах я тоже ощутил нагубник акваланга, а на своем лице маску. Аквалангистов насчитывалось (много) семеро, четыре женщины и трое мужчин. Когда они, голые, поняли, что я спасен, они начали заниматься тем, чем, видимо, и занимались до того, как я потревожил их водное спокойствие. Или, наоборот, неспокойствие. Потому как, разве можно назвать групповое совокупление спокойствием, тем более под водой. А они начали заниматься именно этим. Выглядело все достаточно привлекательно. Трое мужчин входили различными способами в трех женщин, а четвертая женщина переплывала от одной пары к другой и ласкала поочередно то мужчину, то женщину. Да и сами пары, естественно, не оставались на одном месте, это и понятно, вода вокруг, как-никак, они тоже перемещались и обижались то с одной, то с другой парой и тоже ласкали друг друга. Та, четвертая, незанятая женщина, поразительно похожая на русалку из моих детских снов, особенно похожая длинными-предлинными светлыми волосами, подплыла ко мне, бесцеремонно сняла с меня плавки, пригнулась и поцеловала мой член. Мне было очень приятно, и я, конечно, не сопротивлялся. Не прошло и сколько-то недолгих минут, как мы с моей партнершей присоединились к другим парам. Все случилось так, как я мечтал еще в своей далекой юности и в предвоенной молодости… Юности и молодости… – При этих словах Рома поморщился, и мне показалось, что рассказ свой он сейчас прервет и, может быть, даже заплачет. Однако Рома сумел справиться с собой, он только раз облизнул губы, а затем провел сильно ладонью по лицу и продолжил рассказ: – Со мной, счастливым, случилось нежданное и необычайно приятное во всех отношениях, особенно в отношении физическом, Приключение!… Все семеро жили в двух частных домах примерно в километре от моего пансионата. Двоим мужчинам было, как я выяснил, по тридцать пять, одному сорок, а мне самому тогда, как вы знаете, было тридцать два года. Возраст женщин исчислялся такими годами, говорю по нарастающей, – двадцать шесть, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать один. Той, моей первой партнерше, русалке, нежной и открытой женщине со светлыми глазами, коротким носом и чуть вздернутой верхней губой и которую звали Л или, было двадцать восемь лет. Один из мужчин занимался юриспруденцией, недавно он защитил докторскую. Второй работал театральным художником. А третий являлся заслуженным мастером спорта по фехтованию и сейчас тренировал одну из команд мастеров в Москве. Две женщины работали преподавательницами в институтах, одна была школьной учительницей, одна врачом. Все семеро начали заниматься групповым сексом всего три месяца назад и уже тогда решили, что поедут вместе на юг, где и отдадутся выбранному ими делу до конца и без остатка. Начали они заниматься любовью, как только сели в поезд, идущий в Симферополь. И занимались так круто и громко, да еще при открытых дверях, что заставили возмутиться весь вагон. Двух стариков довели до обморочного состояния, а одну женщину до попытки самоубийства, а одного, не очень пожилого мужчину до кратковременного помешательства. Увидев голых, кричащих, исходящих слюной и спермой людей, он заплакал и запричитал: «Если бы я знал раньше, что так можно, если бы я знал раньше… Скольких бы ошибок я не совершил. Если бы я знал раньше…»…Мои новые знакомые занимались любовью в кинотеатрах, ресторанах, на танцевальных площадках, на вечерних, а то и на дневных пляжах. Выглядело все это, по их рассказам, конечно, не так вызывающе, как в поезде. Там они просто оторвались после долгого ожидания. Нет, наоборот, они пытались заниматься сексом в общественных местах очень даже скрытно. Потому как именно в этой скрытности и была особая прелесть… В ресторане, например, женщины по очереди забирались под стол и делали мужчинам минет, в кинотеатрах садились мужчинам на колени и всем видом показывали, что просто сидят с любимыми, а на самом деле… К моменту моего знакомства с семеркой любителей открытого и нестыдного секса они уже, бедные, исчерпали свою фантазию. Места для массового совокупления ко всеобщему глубокому неудовольствию, стали повторяться – рестораны, кинотеатры, пляжи, морские глубины и так далее. Я внес свежую струю – я предложил прикупить на какое-то время маршрутный автобус и предаваться любовной страсти там – по всему маршруту, останавливаясь на остановках, но не сажая никого из пассажиров. Водителя такого автобуса найти было трудно. Но я нашел. Угрозами и деньгами я заставил его сделать то, что я хотел. Поездка оказалась феерической. Никто, признавались мне мои новые знакомые, не получал до этого времени большего удовольствия, чем от совместного совокупления в маршрутном автобусе. Следующее мое предложение касалось канатной дороги. Распределившись по четверо в каждую кабинку, мы любили друг друга там с отчаянным криком и не менее отчаянным визгом. Звуки удовольствия разносились над всей Ялтой… А как славно было ласкать друг друга в Бахчисарайском дворце. Мы отделились от большой группы туристов, нашли запертую комнату, которую я умело и быстро вскрыл, и, расположившись на старинных кроватях, тихо, едва сдерживая стоны и крики, отдались знакомо нахлынувшей в новом месте неудержимой похоти… Чем больше мы занимались групповой любовью, тем яснее я ощущал нарастающую во мне злость. Сначала я не понимал, отчего так происходило. Вернее, не пытался понять. Не хотел. Но все-таки пришлось. Потому как злоба стала захлестывать меня все больше и больше. И невмочь мне было уже терпеть. Так почему же все-таки я так злюсь, задал я себе один-единственный, но самый тем не менее важный вопрос. И нашел ответ. И довольно быстро. Просто я не мог спокойно наблюдать, как чужие руки, и губы, и тела касаются тела моей русалки – Лили. Поверьте, просто не мог. На каком-то этапе я понял, что могу даже совершить что-то не совсем хорошее. – Рома коротко рассмеялся при этих словах. – Дальше было так. Я нашел возможность остаться с Лилей наедине. Мы долго и с удовольствием говорили с ней, шутили, смеялись, как дети, держась за руки, гуляли по пляжу. И мне было хорошо. А после того, как мы еще в тот же день и переспали с ней – на сей раз, слава Богу, без наблюдателей и соучастников, я понял окончательно, что я люблю ее. И люблю так, как не знал, что так возможно. Я попросил ее уехать вместе со мной. Сейчас же. Собраться и уехать. Она сказала, что не может. Почему, спрашивал я, почему? Она опять ответила, что не может. Я сказал тогда, что заберу ее силой. Я могу это сделать. Я сейчас одним-двумя ударами обездвижу ее и унесу… Она заплакала. Она съежилась на кровати. Она сделалась маленькой-маленькой, как грудной ребенок. Мне стало жалко ее. И я не решился ее тронуть… Я не знал, что делать. Весь оставшийся день и всю ночь я– ходил по берегу моря, и думал, думал, как мне поступить… Утром я вернулся в дом. И в гостиной застал такую картину. Трое моих новых знакомых мастурбировали, глядя, как моя Лиля, совершенно голая, лежа на обеденном столе, возбуждает себя поглаживанием пальцев по клитору. Я вгляделся в лицо Лили, в который раз уже с начала наших совместных занятий любовью, и понял, что она действительно получает удовольствие, что ей действительно хорошо. Я покинул гостиную. И как только я закрыл за собой дверь, ко мне пришло решение. Вечером того же дня я сказал театральному художнику, что я знаю о его увлечении каратэ. Да, ответил он, это так, более того, он имеет черный пояс. Прекрасно, заметил я, значит, я не буду чувствовать свою вину, когда в честном поединке убью его. Художник сначала не понял меня. Я сказал ему, что если он откажется от дуэли (а это была бы именно дуэль), то я буду преследовать его всю жизнь. Я сделаю его жизнь невыносимой. Я сделаю так, что ни он, ни его семья не смогут жить спокойно, пока кто-то из нас двоих жив. Художник уже успел достаточно познакомиться со мной и понимал, что я не шучу. Он согласился, но только позволил себе поинтересоваться причиной такого моего решения. Я не ответил ему на этот вопрос… Мы дрались на закате, на фоне красного падающего солнца, на ровной травяной площадке, на вершине холма, возвышающегося сразу за пляжем. Художник оказался сильным противником, но через несколько минут, я не считал, через сколько, может быть, через одну или, может быть» через три, все было кончено. Художник умер от смещения шейных позвонков. Я нашел удобное и укромное место неподалеку в скалах и спрятал там труп художника, Место отличалось тем, что находилось в тени и было заполнено проникающей туда по каким-то невидимым протокам морской соленой водой. На следующее утро я вызвал на дуэль фехтовальщика. Я предложил ему фехтовать на любом виде холодного оружия. Фехтовальщик выбрал огромные мясницкие ножи. Я нашел эти ножи в городе, в мясном магазине. Мы дрались на закате, на фоне красного падающего солнца. Со стороны, наверное, наш бой выглядел живописно и эффектно. Фехтовальщик был, конечно, прекрасным бойцом, но я все же оказался сильнее. Я пробил Фехтовальщику грудь. Он умер тотчас. Не мучаясь. Я спрятал труп Фехтовальщика там же, где и труп Художника…Отсутствие двух мужчин я объяснил какими-то неотложными делами в городе. На следующее утро я вызвал на дуэль юриста. Учитывая, что он не владел единоборствами и фехтованием, и был несколько старше меня, хотя и не уступал в силе и тренированности, я предложил ему драться на ружьях для подводной охоты. Юрист единственный из всех троих возмутился моими словами, назвал меня идиотом, и заявил, что он сообщит обо мне в милицию. Тогда я несколько раз ударил его для острастки, затем повалил и приставил столовый нож к его горлу – разговор наш происходил на кухне – и сказал ему, что если он не захочет драться, то я убью его прямо сейчас и у него, естественно, уже не будет шансов выжить. Ну, а если он все-таки примет мой вызов, то, конечно же, такой шанс у него появится…Мы дрались на закате на фоне падающего солнца,… Две мои стрелы прошли мимо цели, а третья вонзилась прямо в левый глаз Юриста, Я думаю, что он умер еще в падении, еще даже не коснувшись земли. Я выдернул стрелу из глаза Юриста и оттащил труп Юриста туда же, где уже были спрятаны два других трупа. Утром я привел к этому месту Лилю. Прежде чем показать ей трупы, я сказал женщине: «Ты свободна. Теперь уже нет никого из мужчин, кто видел бы, как ты занимаешься любовью. Остался я один. Тебе нечего и некого смущаться. Тебе некого бояться. Нет тех, кто унижал тебя, кто смел развратно дотрагиваться до твоего чистого и душистого, пахнущего полевыми цветами и воздушным горным снегом тела. Ты свободна!» И закончив говорить, я подвел Лилю к тому месту, где лежали трупы тех, кто оскорблял и унижал мою любимую женщину. Я ожидал, конечно, что вид трупов вызовет у Лили какую-то реакцию. Это было неизбежно. Но я даже не догадывался, что реакция будет столь сильной. Сначала Лиля застыла, замерла, задеревенела, остекленела и стояла так – будто парализованная – сколько-то минут. Я не трогал ее. Я давал ей время прийти в себя. Прошло еще несколько минут, и я решил сказать Лиле все, что наметил. Я сказал, что очень люблю ее и хочу жениться на ней. Я сказал, что предлагаю ей не только руку и сердце, а и всего себя без остатка… И тут Лиля закричала. Она кричала громко и долго. Крича, она бросилась к трупу Юриста и принялась исступленно обнимать его и целовать его. Она кричала, что никогда никого так не любила, как его. Она кричала, что он был самым лучшим, самым достойным мужем на всем земном шаре. Она кричала, что двое его детей теперь остались сиротками. И тогда я впервые узнал, что означает выражение «закружилась голова». У меня действительно закружилась голова. Я едва удержался на ногах. Выходит, что я убил се мужа, отца ее детей… Но как же тогда совместить этот факт с тем, что происходило все последнее время? Как муж, думал я, поражался я, может спокойно смотреть на то, как кто-то трахает его родную жену? Как муж может спокойно смотреть на то, как его жена берет в рот чужой член? Я мотал головой из стороны в сторону и все силился, силился, силился понять… Ну, хорошо. Групповой секс не такая уж плохая штука. Приятная штука. Но приятен он только с посторонними тебе женщинами, с теми, которых ты, может быть, больше и не увидишь никогда… Не понимаю. Я подошел поближе к плачущей Лиле. Я сказал ей: «Я люблю тебя, Лиля. Я хочу жениться на тебе, Лиля». Я коснулся ее плеча. Она вскочила тотчас, повернулась ко мне лицом и, с ужасом глядя на меня, стала отступать назад к краю скалы. «Лиля, – говорил я как заведенный, я люблю тебя, Лиля, я люблю тебя». И все тянул к ней руки. Лиля ступила на край каменной площадки, посмотрела вниз, потом посмотрела на меня и прыгнула. Она, конечно же, не хотела кончать с собой. Она, видимо, надеялась, что сможет удачно приземлиться на песок. Высота скалы была невелика – метра три-четыре, не больше: Но в полете она ударилась виском о выступ. Когда я спустился, Лиля была уже мертва. Череп ее треснул от виска до затылка. Я видел кровь и трясущийся студень мозга. Я не плакал, потому что незачем. Не случилось беды, случилось пришедшее. Я мог бы подпрыгнуть, взлететь и исчезнуть. Но я остался стоять. Я остался сидеть. Я остался лежать. Рядом. Остывающие губы целовали меня. И, убаюканный, я заснул – на твердеющей, молчащей груди… Я проснулся через час. Достаточно бодрый и достаточно соображающий для того, чтобы найти лодку, вернее, украсть одну из лодок, сохнущих на безлюдном берегу, и увезти трупы подальше от берега, привязать к ним тяжелые камни и разбросать трупы в разных местах. Когда в последний раз мелькнуло лицо Лили, уже под водой, быстро уходя на глубину, я неожиданно кинулся вслед, пытаясь удержать любимую. Не догнал. Долго и громко кричал, разрывая криком водную густоту… Я вернулся к женщинам. Свежий и веселый. Будто с моря. С купанья. Несколько дней мы ожидали мужчин и Лилю. И потом наконец заявили в милицию об их пропаже. Милиция в нарушение всех и всяческих правил не давала нам уехать целую неделю. А потом, так и не найдя пропавших, отпустила нас. Мы уехали…». Рома умолк. С виноватой улыбкой поглядел на нас. Он хотел нас развлечь. А оказалось наоборот. Его история принесла нам печаль. И мне и Нике. «Это все правда? – спросил я Рому. – Или ты сочинил?» Рома пожал плечами и ответил: «Иногда мне кажется, что сочинил. А иногда я уверен, что это правда». Мой вопрос был лишним. Конечно. Я знал это. Потому как я нисколько не сомневался в том, что все рассказанное Ромой происходило на самом деле. Кто-то, и этих кого-то набралось бы большинство, не поверил бы Роме, и назвал бы его историю надуманной, фальшивой, картонной, ходульной и, вообще, скверно придуманной. Однако я, человек изрядное время знакомый с Ромой Садиком, знал наверняка, что Рома не сочинял. Имеются на земле люди (их мало, но тем не менее), жизнь которых (их очень мало, но тем не менее) по насыщенности в десятки, а то и сотни раз превосходит жизнь подавляющего большинства остальных – обычных, обыкновенных, простых. С такими, как Рома Садик, могут случиться и случаются самые на первый взгляд невероятные истории. В их жизни изобилуют конфликты, схватки, кровь, женщины, деньги, удовольствия, преследования, поражения, и затем победы, одна за другой, и снова поражения, и снова победы, и люди, люди, люди, и животные (самые разнообразные и экзотические, от мосек до слонов), насекомые, пресмыкающиеся, музыка, вино, и, конечно же, работа, РАБОТА… Наверное, в отличие, от других, такие, как Рома, осознают свою смертность и потому спешат, и поэтому хотят, многого, и добиваются того, чего хотят, и не убегают от страха, когда он неизбежно возникает, а идут ему навстречу, идут в сторону страха, и всегда только в сторону страха. Я не в первый раз повторяю уже это выражение – «в сторону страха». И чем чаще я его повторяю, тем тверже убеждаюсь, что иначе нельзя. Иначе скука, тоска, прижизненное небытие. Движение в жизни должно быть только в одном направлении – в сторону страха… Делай то, чего не хочешь больше всего! Делай только то, чего боишься больше всего! Живи не так как другие – неспокойно, неуютно, некомфортно, озираясь и оглядываясь, ожидая удара и готовясь к его отражению, отражая удар и готовясь к нападению, и нападая как можно чаще, и именно на того, кого боишься больше всего!… Да, наверное, Рома Садик не созидатель. Да, наверное, Рома Садик разрушитель – по рождению и жизненному выбору. Наверное. Я пока не могу заявить об этом с полной уверенностью. (Потому как, кто знает, зло или добро совершал Рома, убивая врагов на войне. И я, впрочем, тоже убивал, И много. Кто знает, доброе или злое дело делал Рома, убивая Художника, Фехтовальщика и Юриста? Кто знает? Может быть, Фехтовальщик в недалеком будущем намеревался в знак протеста против загрязнения окружающей среды взорвать атомную электростанцию? И Рома Садик таким образом спас определенную часть человечества от неизбежной гибели? Кто знает?) Но, несмотря на негативный заряд своей жизни, однозначно можно сказать, что Рома Садик человек сильный, волевой, неординарный, незаурядный, не такой, как все, особый, а значит, избранный, ИЗБРАННЫЙ. «Я не понимаю, что со мной происходит, – говорила себе Ника, – но я чувствую, что происходит что-то очень хорошее». Ника попыталась разобраться в себе, попробовала как-то упорядочить тот хаос из мыслей и чувств, который царил внутри нее после рассказа Ромы Садика. Сначала Ника похвалила себя за то, что не ошиблась в своих наблюдениях и сделанных на их основании выводах: Рома именно тот, кто сейчас, наверное, ей нужен – отважный, страстный, решительный и в то же время ранимый мужчина. Именно так и надо проживать свою короткую жизнь, как проживает ее Рома Садик, думала Ника. Ведь счастье жизни и заключается в постоянном напряжении, в бесконечном поиске, в регулярном создании ситуации и изобретении обстоятельств, которых ранее еще не было и которые можешь придумать, изобрести и создать только ты – один, и никто другой. И в ход тут могут идти любые средства – например наркотик для стимуляции деятельности мозга, для обострения чувственности, для борьбы с привитым с рождения и, как правило, неверным ощущением мира вокруг себя, и чрезмерный секс, как средство внутреннего раскрепощения, и даже убийство (Ника споткнулась на слове «убийство», но пересилила себя и как можно четче мысленно произнесла это слово), которое способно помочь тебе ощутить себя Богом… И все же слово «убийство» сбило Нику с довольно гладкого и четкого и видимого перспективно пути ее рассуждений. «Убийство», – повторила Ника и увидела, как выползает красно-серо-желтый студенистый мозг из трещины в черепе погибшей Лили. «Убийство», – повторила Ника и увидела растерзанные тела детей, фотографии которых ей показывал полковник Данков. Она увидела кровавые дыры вместо глаз, разорванные в клочья грудные клетки, отрезанные члены и вырванные и полусъеденные сердца. «Убийство», – повторила Ника и увидела вдруг себя, мертвую, убитую горячей свинцовой пулей, лежащую посреди цветочной поляны. Ника вздрогнула, поежилась и неожиданно улыбнулась. Господи, да о чем она думает? И зачем? Ведь рассказ Ромы повествует совсем не об убийствах и не о групповом сексе, а о любви, и только о любви и больше ни о чем! Вот почему ей так хорошо, наконец поняла Ника. Ей хорошо, потому что рассказ, который она слышала сейчас, посвящался любви, той самой, давно знакомой, давно и скрупулезно изучаемой, но до сих пор не разгаданной, читаной-перечитанной, отталкивающей и влекущей – безответной, самой настоящей, самой истинной и наиболее счастливой, самой самой. Вот от чего так хорошо – от истины, от ощущения узнавания рая. Вот так бы полюбить хоть когда-нибудь, и можно умереть потом – спокойно, и, может быть, даже с радостью. Нет, такого она не испытывала. Именно такого и никогда. Да, случилось у нее похожее в детстве, или, скорее, уже в юности, а скорее всего, в отрочестве, а если быть точным, тогда, когда ей пришлось пережить свою двенадцатую зиму, да, случилось похожее. Похожее? А может быть, все же именно такое, как и у Ромы? Как ей сейчас судить о том, по каким параметрам измерять? То, что было с Никой, нельзя измерить ничем. Потому что такой меры не существует. В двенадцать лет случилось событие. Событие. А предшествовала такому событию вся Никина жизнь – с момента зачатия еще, наверное, а может быть, и раньше… Когда Ника родилась, он был уже жив, ее старший брат. Она оказалась моложе его всего и только-только, но на целых два года. Она, когда открыла глаза, и увидела что-то вокруг, уже после того, как мать ее, невидящую, еще ласкала и баюкала, перво-наперво она заметила его, маленького длинноволосого, беленького – у кого-то на руках, – того самого, потом любимого, своего брата. И дальше все продолжалось так, как и началось в том роддоме, -где она родилась человеком и женщиной. Он был Богом, отцом и матерью, и братом, и тем, о ком мечтала она еще внутри у матери, – любимым и единственным. Год за годом чувство росло, оно становилось осмысленней и совершенней. Ника просыпалась в ужасе, когда ей снилось, что длинноволосый красавец-братик отвернулся от нее, не ушел, не исчез, а просто отвернулся. В шесть лет Ника уже не позволяла матери стирать брату белье, и гладить его, она делала все сама, с радостью, с упоением, сгорая от удовольствия и любви. Она повторяла про себя, а то и вслух, каждое произнесенное им слово, копировала его походку, его мимику, движения. Старалась одеваться точь-в-точь как и он, донашивала за ним его одежду или клянчила у матери такую же куртку, такие же брюки, джинсы, ботинки, кеды, рубашки, майки. Но вот годам к девяти в ней все активней и активней стала проявляться женщина. Ника начинала чувствовать и понимать, что ее туалеты лишают ее девичьей привлекательности, и для того, чтобы понравиться брату, чтобы он относился к ней не как к дружку, а хотя бы просто как к обыкновенной девчонке, она должна была изменить свое отношение к собственной внешности. Как ни трудно и тяжело и непривычно это было, но она перестала вскоре носить брюки, мужские рубашки и куртки и перешла на короткие юбки и воздушные прозрачные блузки. Она отпустила волосы и понемногу, очень осторожно стала пользоваться косметикой, незаметно на первый взгляд, но тем не менее очень эффективно в результате. Вслед ей теперь оглядывались – и мальчики, и мужчины, и девочки, м женщины. Кто с удовольствием, кто с раздражением, кто с завистью, кто с сомнением, кто с любовью, кто-то осуждением. В первый раз увидев ее такую, как-то днем придя из школы, брат опешил; долго рассматривал ее, щурился, ходил вокруг нее, а дотом, видимо, не зная как реагировать и что сказать, ударил ее неожиданно по щеке, грубо и сильно, и убежал из дома, и пришел только к ночи, и не разговаривал потом с Никой целую неделю. Прошло время, и все как-то уладилось само собой. Брат, видимо, привык к новому облику Ники и уже не возбуждался так, как в первый раз, разговаривал, конечно же, с ней, помогал ей делать уроки, но все же в отношении его к Нике теперь сквозила некая тихая настороженность. Казалось, что он общается не с родной сестрой, а с какой-то просто очень хорошо знакомой девочкой, одноклассницей, с сестрой друга, приятельницей сестры. Но все-таки Ника заметила, что, несмотря на то, что брат вроде бы как и привык к ней, к новой, в те дни, когда она особенно хорошо выглядела, он несколько раз сдерживал себя, чтобы не ударить ее. И ей очень нравилась (непонятно для нее, почему) такая его реакция. В одиннадцать лет она впервые ощутила незнакомое жжение внизу живота, когда увидела брата голым в ванной, мокрого, покрытого блестящими капельками, стройного, мускулистого, узкобедрого, с крупным, чуть возбужденным, качающимся в такт его движениям членом.Разумеется, Ника видела брата голым и раньше, но никогда до этого момента не охватывало се такое острое желание. Она испугалась такого неожиданного и неизвестного ей еще чувства. А испугавшись, растерялась. Она не знала, как вести теперь себя с братом. Она не знала, как вообще теперь вести себя, где бы то ни было и с кем бы то ни было – в школе, на улице, дома. Она хотела рассказать обо всем кому-то. Она едва сдерживалась, чтобы не рассказать. И все же не рассказала, потому как интуитивно понимала, что она не должна никому рассказывать о своем желании, о своем страстном желании близости с родным братом. Она решила забыть о случившемся. Напористо и агрессивно она занялась спортом. Стала много читать и начала старательно и с отдачей учить все уроки, что задавали ей на дом. Она распределяла день так, чтобы ей не хватало времени думать о брате, вспоминать его, желать его, …Однажды ночью она встала с постели, подошла к кровати брата, сняла с него, спящего, одеяло и принялась нежно целовать его тело. Когда губы ее добрались до члена, брат проснулся. Увидев сестру, склонившуюся над его членом, он оттолкнул ее от себя и несколько раз больно ударил ее по лицу. Матерился при этом отборно. Ника не вскрикнула ни разу. Она все стерпела. Она покорно ушла к себе на постель и тихо пролежала там до самого утра. Вечером того же дня она подлила брату пипольфен в стакан с чаем. И ночью всласть обцеловала брата, всего, от макушки до кончиков пальцев на ногах, несколько раз, переворачивая брата без устали то на спину, то на живот. Наслаждение, которое она тогда получила, было удивительным и доселе ни с чем не сравнимым. После той ночи Ника, к великой своей радости, перестала бояться брата. И что еще более ее обрадовало, она перестала бояться себя. Теперь Ника старалась как можно чаще раздеваться и одеваться при брате, оставляла дверь открытой, когда мылась в ванной, носила только маленькие узкие трусики, только мини-юбки и старалась как можно чаще при брате задирать свои длинные тонкие нога, чтобы он видел, как мелькают под маленькой юбкой ее белые или черные трусики. Она не обращала внимания на своих сверстников. И на старшеклассников тоже не обращала внимания. А любые притязания со стороны мальчишек грубо и оскорбительно отвергала. Ее не любили в школе. Никто. Ни школьники, ни учителя. Хотя у учителей к ней претензий не имелось. Училась она отменно. Когда брата по вечерам не было дома, она не находила себе места. Буквально. Она слонялась по улицам или по квартире. Не в состоянии ни остановиться, ни присесть, ни прилечь. Она не могла ни смотреть телевизор, ни читать, ни слушать радио, ни разговаривать с родителями или с одноклассницами. Все злило ее. Все раздражало ее. Все вызывало в ней ненависть… Несколько раз она следила за братом. Она чуть не потеряла сознание, когда однажды увидела его гуляющим по улице с девочкой. Она не пришла домой, когда увидела его целующимся с той же девочкой. Она всю ночь просидела на лавочке в парке. Осенью. В дождь. В холод. Не заболела. Любовь и злость не дали ей заболеть. Злость и любовь. Девочке, с которой встречался ее брат, она разбила лицо железным прутом, найденным на какой-то стройке. Она сломала девочке нос и выбила несколько зубов. Бедная девочка не узнала ее. Ника была в мальчиковой одежде и в шапке, натянутой на самые глаза. Брат, конечно же, перестал встречаться с той девочкой. Кому нужна девочка с перебитым носом да еще и без зубов. В то время очень трудно было достать где-либо порнографические открытки. Их продавали, как правило, инвалиды у вокзалов – осторожно и озираясь, и подозрительно глядя на покупателя. Ника очень боялась ехать на вокзал. Но желание пересилило страх. Желание всегда пересиливает страх. Ника теперь методично и регулярно подкладывала порнографические открытки в портфель к брату – каждый раз новые партии. На открытках, обыкновенно, симпатичные мужчины и женщины занимались групповым совокуплением, как правило, втроем – два мужчины и одна женщина или две женщины и один мужчина… Разглядывая открытки, Ника приходила в откровенное и неуправляемое возбуждение. И брат, наверное, тоже. Потому как с каждым днем он все внимательней разглядывал Нику, чаще украдкой, реже открыто. (Когда забывался, когда не мог не смотреть.) Ника иногда ловила его взгляд и радовалась этому взгляду искренне и искренне пугалась его. Во взгляде брата она читала и любовь и желание, и злость и жажду боли, и острую тоску. (Конечно, тогда двенадцатилетняя Ника не могла сказать, что же она читала во взгляде брата. Это теперь она может разложить все по полочкам, да и то с большой мерой условности., а тогда она просто чувствовала, и все.) Она заставала брата несколько раз в его классе в тот момент, когда он с мальчишками, красный от возбуждения, с сияющими сумасшедшими глазами лапал какую-нибудь симпатичную девочку на последней парте. Ника, конечно, могла бы и этой или другой девочке расколоть лицо припрятанным на всякий случай железным прутом, но не делала этого, инстинктивно понимая, что брату сейчас неважно, какую девочку лапать, – ему просто надо было снимать возбуждение, и все. Так случилось, что пришло время, когда все, что можно было, сложилось удачно. Так бывает редко. Но тем не менее. И когда так бывает, это и означает, что именно то, что сейчас случится и должно было случиться в твоей жизни и случай такой всегда, даже если потом он и не несет удачу, случай такой все равно доставляет удовлетворение, и сейчас, и потом, когда вспоминаешь его! когда думаешь о нем, когда прикидываешь, а как бы твоя жизнь развивалась, если бы такого случая не произошло, – лучше, наверное, несравненно лучше. Но если бы начать все сначала, ты все равно бы желал, чтобы все произошло именно так, как произошло тогда. Одним словом, в тот вечер все необходимые условия для выполнения Никой задуманного были соблюдены. Родители ушли в гости. И Ника и ее брат остались вдвоем. Брат был возбужден и суетлив. И Ника догадывалась от чего. Хорошенькая девочка из параллельного класса сегодня на перемене ударила брата ногой в его промежность. Это был ее ответ за то, что тот задрал девочке юбку. Брат впился пальцами в промежность, застонал и свалился на колени… Ника делала вид, что ей скучно. Она слонялась по квартире. Смотрела в окно. Включала и выключала телевизор. Жевала шоколадные конфеты и демонстративно громко вздыхала. И сказала, то, что наметила только тогда, когда брат крикнул на нее довольно грубо, мол, что ты все вздыхаешь, прекрати, надоело. И Ника тогда сказала, что ей грустно и что надо что-то придумать, и сказала, что она, собственно, уже все придумала. А придумала она, сказала, вот что. Она сказала, что никогда не пила вино. А очень хотела бы попробовать. И у нес как раз есть сейчас вино. Она купила его у грузчиков в соседнем магазине. И Ника достала бутылку из-под своей кровати. Брат усмехнулся снисходительно и согласился, ну что ж, мол, попробуй, я-то сам не раз пробовал, но за компанию с тобой и еще разок выпью с удовольствием. Они приготовили закуску. Выпили. Повеселели. Ника сказала, что сейчас покажет ему свою новую юбку и блузку. Появилась через минуту-другую из комнаты. Брат вытянулся невольно, увидев ее такую соблазнительную, душисто пахнущую, накрашенную. Они выпили еще. Говорили громко. Перебивали друг друга. Сидели рядом на диване. Смеялись. Спорили о чем-то. Смеясь, принялись возиться. Поцеловались. Ника задрала юбку и села брату на колени. Целовались долго. Неумело. Но истово, сладко. С дрожью. Со странным чувством. Не испытанным ранее. Удивительно острым, ярким, счастливым. Брат, казалось, сейчас заплачет. Или закричит. Он закричал. Он расстегнул свои брюки. А Ника сама сняла трусики. Они легли на диван голые, прижались друг к другу. Вжались друг в друга. Впились друг в друга. Теряющие сознание. Потерявшие сознание… Ника закричала, когда все свершилось. Она кричала до того самого момента, пока брат не кончил. Она кричала, и крик ее пронизывал каждую пору ее тела, каждый волосок. Вся она превратилась в крик. В какой-то момент она поняла, что оставшаяся ее жизнь теперь будет посвящена тому, чтобы снова и снова переживать тот момент, когда она вся превращается в крик. Потом пришло сожаление, но поздно. И стеснение, но незачем. И они не смогли больше лежать рядом, близко, на одном диване. Они вообще не смогли лежать. Они встали и, не глядя друг на друга, оделись. Разошлись по разным углам комнаты. Молчали. Ника читала газету, а брат плел ремешок из цветных проволочек. Вдруг Ника встрепенулась, сощурилась, не вставая с места, вгляделась в ткань дивана, засмеялась, встала, подошла к дивану, и, увидев что-то, тотчас побежала в ванную и принесла воды и стирального порошка, и стала затирать то, что увидела – кровь. Подошел брат, принялся деловито помогать. Они снова смеялись, перешучивались, целовались, возились, разлили ведро, упали в воду и в воде, мокрые, опять целовались и опять любили друг друга. Когда разжали объятия, уже не стеснялись друг друга и не сожалели о содеянном – радовались, радовались, радовались, радовались. Они занимались любовью каждый день. Раз от разу все лучше и лучше. Уверенней. Раскованней. Нежнее. Грубее. Узнали друг друга. Научились понимать друг друга. Изменились. Похорошели. Повзрослели. Стали спокойней. Жестче. Усмешливей. Со сверстниками общались снисходительно, устало, и чаще всего неохотно. После школы спешили домой. Не могли насытиться друг другом. Не получалось. …Родители застали их в самый момент совершения любви. Неожиданно. Случайно. Ника забыла закрыть дверь на цепочку. Мать не сказала ни слова. Не смогла. Она оперлась спиной на стенку и сползла вниз, не мигая, стеклянно глядя поверх детей. Отец, побледнев, снял старшего сына с дочери и ударил его несколько раз по лицу. Парень отлетел далеко назад, стукнулся затылком о подоконник… Сидел у радиатора отопления, оттирал кровь с губ, молчал. А Ника орала. Орала и дубасила отца кулачками, что есть силы, плакала, судорожно дергала головой. На следующий день отец отправил брата в Ленинград – к своему брату. Ника неделю пролежала с температурой. Без признаков простуды или гриппа. Острый невроз, констатировал врач. Более или менее придя в себя, Ника вернулась в школу. Учиться продолжала отлично. Но ни с кем, кроме учителей, которым отвечала урок или отвечала на их вопросы, не разговаривала, ни с кем: ни с одноклассниками, ни с родителями, ни с владельцами частного транспорта, ни с врачами, ни с продавцами в магазинах, ни с кондукторами, ни со служителями зоопарка, ни с кассирами в кинотеатрах, ни с канализационными рабочими, иногда вылезающими из железных люков и что-то неприличное кричащими ей вдогонку, ни с шоферами, ни с медсестрами, ни с больными, ни с милиционерами, ни с военными, ни с фарцовщиками, толпами шастающими по центру города, ни с проститутками, которые то и дело зазывали ее в свои скромные и нескромные ряды, ни с вахтерами, ни с официантами, ни со сторожами, ни со смотрителями библиотек, ни со стекольщиками, ни с работниками средств массовой информации (она не отвечала даже телевизионным дикторшам, которые каждый вечер говорили ей с экрана, лицемерно улыбаясь; «Спокойной ночи»); ни с кошками, ни с собаками, ни с мышками, ни с таракашками, ни с поросятами, ни даже со своим соседом Альфредом… А еще через две недели Ника исчезла. Милиция поймала их с братом в Пскове на вокзале. Их объятия не могли разжать четыре дюжих постовых. Они так и привели их, обнимающихся, в отделение. Мать с отцом теперь ссорились беспрестанно. Громко, оскорбительно, уничтожающе. И вскоре отец ушел. Он поехал в Ленинград, забрал у своего младшего брата своего старшего сына и обосновался на постоянное место жительства в каком-то городе. В каком, Нике об этом, конечно же, не сообщили. И Ника опять болела. И выздоравливала. И снова болела. Мать возила ее по самым известным неврологическим клиникам, показывала ее самым квалифицированным московским психиатрам. Но Нику вылечили не врачи – ее вылечило время (Вылечило ли?). В шестнадцать лет она переспала со своим учителем, прямо в классе, а потом занималась любовью – втроем – с ним и своей подругой, и впервые тогда забыла на какое-то время о существовании брата… А в восемнадцать лет она влюбилась (она тогда уже училась в институте), а потом еще влюбилась и еще. А потом поняла, что может любить сразу двоих, троих, четверых – и искренне и нежно, – и что может и спать одновременно с двумя, или с тремя, или четырьмя партнерами, – без стеснения, достаточно страстно и даже удовлетворяясь, но… не превращаясь в крик – вся целиком, как -тогда, когда занималась любовью с братом (Она любила его так, как никого никогда, ни в прошлом, и ни в будущем, и ни в настоящем, единственного, родного, сладко пахнущего, придающего силы, дарящего счастье). Когда ей исполнилось двадцать два, Ника решила, что все, хватит, надо что-то делать. Она была умная девушка. И она стала думать. Если любовников двое, трое, четверо, думала она, и правильно думала, то она не может концентрироваться на любви, на удовольствии, на самом акте совокупления, и она не имеет также возможности через этот акт вызывать в себе и иные чувства к мужчине, не совсем эротические, хотя на эротике и возросшие, как то – уважение, доверие, восхищение, благоговение. Значит, ей нужен только один любовник, только один партнер для любовных игр. Тогда, может быть, она сможет влюбиться по-настоящему. Через год она встретила того, кто, как ей показалось, дал ей возможность еще раз пережить момент превращения всей себя в крик. И вслед за тем подарил, ничего не требуя взамен, преклонение и любовь. И еще предложил ей выйти за него замуж. Ника не ответила тогда ничего. Она только пожала плечами и рассмеялась. Но потом случилось вот что. Мама дала ей письмо. Письмо от брата. Ника не поверила, что это действительно письмо от брата – столько лет прошло. Она боялась его открывать. Несколько раз откладывала его. Хотела выбросить. И выбросила. И пошла подобрала потом. И открыла. И ничего необыкновенного не произошло. Письмо было тихим и спокойным. Начиналось с приветствия, а продолжалось коротким рассказом о себе. Брат писал, что он закончил институт, работает инженером, женился, завел ребенка – девочку, доволен, счастлив. И в конце он прощался с ней, и писал, что послал ей на память свою фотографию. Ника еще раз заглянула в конверт и обнаружила ту фотографию. С фотографии на нее смотрело заурядное, чуть испуганное, безвольное, некрасивое лицо молодого человека. От прежнего, от того красавца не осталось ничего, ровным счетом. И Ника тогда засмеялась. Впервые свободно и искренне с того момента, как в Пскове на вокзале в отделении милиции крепкие сержанты разжали их с братом объятия. Конечно, того, кто был изображен на фотографии, которую Ника сейчас держала в руках, она не могла любить теперь – глупо, нелепо и действительно смешно. И Ника смеялась. И затихала на какие-то мгновения и снова смеялась. И смеялась… «И я не смогла ему отказать, – сказала Ника, глядя в камин, который не горел. – Ему, хозяину дома, где мы сейчас сидим и пьем кофе. Во-первых, потому что он был красив. Чрезвычайно. Во-вторых, потому что был потрясающе нежен и комплиментарен, и, что самое важное, крайне искусен в любви. Когда мы с ним спали в первый раз, он сотворил со мной такое, что я, поверьте, потеряла сознание. А в-третьих, потому что его звали Хуан Сабато. Мне очень нравилось, что его звали Хуан Сабато. Он был испанец. Но наш испанец, российский. Его отец был в числе тех юношей, девушек и детей, кто приехал в нашу страну, спасаясь от Франко. Отец его был крутой мужчина. Онумер несколько лет назад. Работал здесь у нас в различныхмощных номенклатурных структурах. И в Совмине, и в МИДе, и еще где-то. Много ездил. Много видел. Много зарабатывал. Эту дачу он построил. И квартиру, в которой мы живем сейчас с Хуаном, тоже он нам устроил. И обустроил. И обставил…» Я и Рома слушали Нику, курили, смотрели в камин, который не горел. Молчали. В комнате пахло древесным пеплом. «Хуан был нежен и искусен в любви, – повторила Ника, слабо улыбаясь. – И все. Нежен и искусен. И все. Я только через год поняла, увидела это. Тогда, когда уже ходила беременная, когда через четыре-пять месяцев должен был родиться Павлик. Я заметила, когда прошла эйфория сочиненной мною любви, что красота Хуана вовсе и не красота, лишь видимость, ничем внутренне не подтвержденная и не подкрепленная. Да, есть прямой нос, есть чувственные губы, есть прекрасный овал лица, роскошные волосы, вороные брови, чистая смуглая кожа. Но нет самого главного. Нет глаз. И еще. Нет свободных раскованных манер. Нет красивой походки, спортивной, уверенной, чуть расслабленной, чуть кокетливой, вот как, допустим, у тебя, Антон. И еще. Он не мог договориться, например, со швейцаром или с официантом, чтобы найти столик в переполненном ресторане. Он не мог без очереди купить в магазине сигарет или бутылку вина. Он не мог подойти к окошку администратора в кинотеатре и потребовать для себя билеты, если их не было в кассе. Он не знал, не понимал, не видел, какая одежда идет мне, а какая нет. Стоит ли мне покупать ту или иную вещь или нет. Сам он одевался дорого. Но не стильно. Безвкусно. У Хуана нет и не было своего, и только своего лица, своего облика. При всей его броской внешности среди толпы он терялся, пропадал, становился незаметным. И еще. Он очень серьезен. Всему, что бы ни происходило, он придает значение. И еще. Он обижается, когда его обижают. А его обижают. А он не отвечает, а обижается. И еще. Он не может, наплевав на будущее, и более того, испытывая наслаждение от неизвестности, а может быть, и трагичности будущего, послать к чертям своего мудака-начальника. И еще. Ему уже тридцать шесть лет, а он всего лишь обыкновенный товаровед. Иногда, иногда, ему, вот как сейчас, кидают подачку в виде поездки за рубеж. Хотя сейчас за границу не: ездит разве что только ленивый. И еще. Он нежен в посте-; ли. Он чересчур нежен в постели. Он не груб и не агрессивен в постели. Он не захватчик в постели. И даже не союзник. Он товарищ. Хотя и весьма искусен в разных штучках. Но мне, собственно, плевать на эти штучки. Я люблю силу… И еще…» – «Хватит, – неожиданно перебил Нику Рома. Он произнес слово тихо, улыбчиво, но веско приказывая. – Зачем столько говорить о человеке, который недостоин того, чтобы о нем вообще что-либо говорили?» Ника пожала плечами: «Может быть ты и прав» – «Я прав, – подтвердил Рома. – Зачем рассказывать или, например, писать повести, романы или ставить фильмы или спектакли о людях, которые ничего собой не представляют, которые незаметны, тихи, пугливы, неестественны, злобливы, завистливы. Никакие. Заменимые. Неинтересно. Просто не интересно. Скучно. И для тех, кто пишет и рассказывает, и для тех, кто читает и слушает». Рома говорил, что думал. Действительно. Он не строил из себя никого, кроме самого себя. Ни раньше. Ни теперь. «Я есть я, – давно решил Рома. – И принимайте или не принимайте меня таким, каков я есть. Подстраиваться ни под кого я не буду. Или буду, когда захочу. Но пока не хочу». Рома говорил то, что думал. Это так. Но тем не менее он сейчас почувствовал сожаление, что так достаточно грубо оборвал Нику и достаточно раздраженно все высказал ей, – то, что думал. Дело в том, что, привычно и умело прислушавшись к себе (профессия, профессия – он регулярно прислушивался к себе и иногда не в самые подходящие для того моменты), он с легким удивлением обнаружил, что тепло из его груди никуда не исчезло и что ему по-прежнему очень и очень приятно сидеть вит тут в гостиной на диване, рядом с Антоном, рядом с Никои, уютно, тихо, ощущая душистый запах кофе, и смотреть на Антона и Нику и слушать, что они говорят. Так почему же все-таки у него вызвал так внезапно раздражение рассказ Ники? Да, конечно, не стоит ни рассказывать, ни писать, ни снимать фильмы об обыкновенных, ничем не примечательных людях. Малоинтересно. Неинтересно. Скучно. Да. Но что-то еще было в рассказе такое, что заставило Рому прервать Нику. Было. Рома усмехнулся. Он знал, что ему еще не понравилось в рассказе Ники. Когда Ника говорила о некрасивой походке Хуана и о том, что тот чересчур серьезно относится к тому, что происходит вокруг, и о том, что он обижается, когда его обижают, Роме показалось, что в этих словах содержался намек и на его, Ромину? некрасивую походку, и на его трагичное отношение ко всему, что есть в мире, и на его тщательно и довольно успешно скрываемую обидчивость. Но нет. Все не так. Конечно же. Ника ни на кого и ни на что не намекала. Роме просто не понравилось, что Ника считает недостатком для мужчины и некрасивую походку, и серьезное отношение к жизни, и обидчивость. Считает прямо, открыто, и безапелляционно, и нелицеприятно, и разгневанно, и бескомпромиссно, нисколько не сомневаясь, что бесконечно права, уверенная, что она и есть истина, что она последняя в цепи самых точных доказательств своей же единственности и исключительности. Роме просто это не понравилось. И все. И, конечно же, не раздражение должно было бы стать внутренним ответом Ромы на слова Ники, а жалость. Жалость к еще мало что понимающему в этой жизни (а значит, и в смерти) человеку. Более того, к женщине. А значит, человеку на четверть, на осьмушку, на одну сотую, не человеку вовсе, черт знает кому, зверьку, предназначенному для избавления от похоти, для ощущения быстро бьющегося сердца, и для согревания пальцев рук и ног и то и дело остывающей под порывистыми ветрами груди. …Да что женщины?! Вообще мало кто даже из мужчин может почувствовать и осознать по-настоящему, а не на словах, вежливо соглашаясь с тобой, что мы все умрем. ВСЕ! ВСЕ!!!!!!!!… Когда бы смерть ни пришла, она все равно придет одинаково скоро – пройдет ли тысяча лет или пятьдесят, одинаково скоро. И в таком случае, мой дорогой зверек, зачем кому-то, и в данном случае мне, нужна красивая походка? Рома коротко усмехнулся. Незачем. Глупо и нелепо стремиться быть красивым, если мы все умрем. Нелепо ставить себе походку (мы говорим пока только о походке, к примеру), если мы все умрем. И нельзя, и ни в коем случае, не относиться к жизни несерьезно, если мы все умрем. Конечно же, необходимо относиться к жизни именно серьезно, и строго, и, более того, требовательно – к каждой минуте, ведь она единственная и никогда больше не повторяющаяся, мы должны чувствовать ее и даже, может быть, держаться за нее всеми силами, хвататься и не отпускать ее. Не отпускать. А теперь, что касается обиды и обидчивости. Постоянная обида – это один из довольно эффективных путей подготовки к смерти. Чем чаще тебя обижают и чем чаще ты обижаешься, тем чаще жизнь начинает казаться скверной, несправедливой, ненужной. В Роминой школе на выпускных экзаменах, во время работы над математической задачей, прямо за партой умер Ромин одноклассник, веселый, краснощекий, здоровый, ничем никогда не болевший мальчик, вернее, уже юноша. Голова его упала на деревянные крашеные доски парты с мягким стуком – бах, и все, – и из пальцев вывалилась ручка, которую Рома дал этому мальчику перед самым экзаменом, так как у того не было ручки, он забыл ее дома, собираясь впопыхах на экзамен по математике. Ручка скатилась с парты и полетела на пол и коснулась его бесшумно, маленькая, белая, легкая. Прибежал, конечно, директор. И приехали, конечно, врачи. И когда приехали врачи, всем стало до конца ясно, что мальчик на самом деле умер. Никогда ничем не болевший, здоровый, сильный, веселый мальчик взял да и умер. Мальчик. Уже юноша… Когда умершего одноклассника увезли, Рома посмотрел на ручку, белую, легкую, лежавшую на полу (никому не нужную уже, ни умершему однокласснику, ни самому Роме, и никому другому, – потому как все почему-то очень быстро узнали, что эта ручка выпала из рук умершего, и никто поэтому не хотел ее поднимать), и подумал, что ведь и он вот так вот в любую секунду может, бац, и умереть, хлоп, и свалиться на бок, бездыханным. И у него вот тоже что-нибудь вывалится из рук – белая легкая ручка, например, у Ромы вспыхнуло вдруг лицо от осознания своей конечности, и боль ударила под вздох, и потемнело перед глаза и Рома перестал какие-то мгновения что-либо видеть вокруг себя. Через несколько минут Рома успокоился. Вернее, ему только казалось, что он успокоился. Только казалось. В ту же ночь он проснулся неожиданно под утро, ужаснувшийся мысли, пришедшей во сне, – миллиарды людей жили на этой Земле до него и миллиарды еще будут жить. Миллиарды. А его самого уже не будет. Никогда. И его, Ромина, смерть может случиться в любую минуту, секунду, мгновение. А может, и через несколько десятков лет. Но она будет. В любом случае. Она будет. Она неизбежна. Как и неизбежна старость. И немощность. И слабоумие… В один день, в одну ночь Рома стал другим – совершенно не похожим на прежнего, еще вчерашнего– Из веселого, общительного, громогласного, быстрого, редко над чем-либо задумывающегося – над уроками, над оценками, над словами родителей и учителей, над шутками товарищей, над комплиментами девочек, над книгами, над объявлениями на телеграфных столбах – подростка Рома превратился в тихого, немногословного, слегка вялого, слегка грустного, аккуратно одетого, как положено причесанного, скупо улыбающегося, со всем и со всеми соглашающегося молодого человека. Еще одно отличие его от себя прежнего состояло в том, что он теперь постоянно прислушивался к своему организму, отмечал каждое изменение в настроении, каждое покалывание или зудение на коже, любой намек на боль в голове, желудке, печени, почках, обращал пристальное внимание на легкое и едва слышное урчанье в кишечнике, на цвет мочи и кала, на запах изо рта, на обилие или отсутствие пота под мышками или на ладонях, или на ступнях ног, он четко замечал увеличение шума при глотании слюны, или уменьшение чувствительности на левой ягодице, или слабое жжение в мочеиспускательном канале. Он не боялся изменений в организме. Он только отмечал их, фиксируя знаки приближающейся смерти. Он знал, что должен быть готов к ней. Он стал верить в приметы. Он стал сам придумывать приметы – свои, только свои, и ни на кого, кроме него, больше не действующие. Он просыпался по утрам, рано, и не мог заснуть, каждое утро. Не мог, потому что каждое утро им овладевала тревога, острая, сильная и с трудом подавляемая или не подавляемая вовсе. Рома боялся теперь что-то не успеть. Он не знал, что, но тем не менее боялся. И тревога его возрастала еще больше именно тогда, когда он приходил к выводу, каждое утро, в течение целого месяца, что он не. знает, что он может не успеть. Рома резко и неожиданно для всех переменил свои планы. Он не стал поступать на исторический факультет университета, куда совсем еще недавно так желал поступить. Он подал документы в парашютно-десантное училище. Там, рассчитывал он, он будет ближе к смерти. Там, рассчитывал он, еще мальчик и уже юноша, что-то уже в отличие от своих сверстников узнавший о жизни и смерти и потому уже умеющий не по-мальчишески анализировать, размышлять, там, рассчитывал он, он не будет так часто думать о том, о чем он думает все последнее время. Там, рассчитывал он, будет дисциплина и будут те, кто хоть какое-то время суток станет думать за него. Там, рассчитывал он, он будет находиться всегда в экстремальной ситуации, а значит, он начнет или, наоборот, перестанет бороться за жизнь. Там, рассчитывал он, он научится выживать и переменит свое отношение к жизни, или наоборот, если не повезет, отдастся полностью первой же опасности, поддастся первому же страху и умрет, – вот тогда, наверное, без сожаления. …Он научился выживать и полюбил жизнь, и потому стал еще сильнее страдать от того, что смертен,… …Утренняя тревога вернулась к нему на второй год учебы. Он проснулся привычно перед рассветом и не смог заснуть. Он опять что-то боялся не успеть. Но он подумал тогда, а может быть, причина его тревог и печали, и его неспокойствия, и безрадостности совсем не в осознании его, Ромы Садика, смертности. И он постарался представить, заставил себя представить, что он будет жить вечно и никогда не состарится. И чуть не заплакал тогда. Потому что ему на какие-то секунды сделалось так хорошо, как не было никогда до этого. Никогда. И он, конечно, окончательно понял, лежа на жесткой кровати в длинной казарме, в ночи, перед рассветом, что все тревоги его и печали, и неудобства, и боль, и страдания все же именно от того, что он смертен… Ника нравилась Роме. Очень, Когда-то он мечтал о такой женщине. Когда-то он хотел такую женщину. Такие, как Ника, влекли его, пьянили его, дурманили его, приводили его в восторг. С такими, как Ника, он забывал о том, что он когда-то умрет. Он забывал даже с такими, как Ника, и о том, что ныне живет. …За год до окончания войны Рому ранило. Смертельно, то сегодня мы знаем, что Рома не умер, а значит, рана была не смертельной. А тогда все были уверены, что Рома не выживет, и врачи, и коллеги, и друзья. И я сам не был уверен, что Рома выживет. Уж чересчур откровенно разлоскутили его брюшину юркие автоматные пули. Рома неделю находился в коме. Рома умирал даже два раза, но не умер окончательно. И не умер, молодец, и по сей день. После второй клинической смерти он неожиданно быстро пришел в себя и еще более неожиданно скоро пошел на поправку. И поправился. И выздоровел. На радость мне и еще одному-двум ребятам, которые неплохо к нему относились, и на радость, наверное, каким-то женщинам, которые, наверное, его любили или которым он хотя бы просто нравился. (Я знал женщин, которым он нравился, они были молодые и красивые, все как одна. Но я не знал ни одной женщины, которая его любила. И я не уверен, что имелись такие вообще. Хотя я не Господь и потому могу ошибаться.) После ранения Рома изменился в третий раз в своей недолгой жизни. Теперь из наблюдателя самого себя он превратился в активного и целеустремленного борца за самого себя, в частности, за свое нестарение. Он перестал есть мясо. Еще более активно занялся аутотренингом, оздоровительными физическими упражнениями, пристрастился, как кто другой к алкоголю или к наркотикам, к дыхательной гимнастике. И… И перестал спать с женщинами. Не в смысле, спать как спать, то есть спать и видеть сны, а спать в смысле заниматься любовью, трахаться, короче. Произошло однажды так, что сразу после какого-то совокупления с какой-то действительно очень хорошенькой женщиной Рома случайно подошел к зеркалу и с ужасом обнаружил, что лицо его постарело. Постарело, мать его так растак! Осунулось. Потемнело. На нем появились лишние морщины, особенно у глаз (а сами глаза запали, как у самых старых стариков). А на шее своей он увидел, как четко и ясно обозначились сухожилия и обострился кадык. И Рома отпрянул тогда от зеркала, потер пальцами лицо, судорожно, и, взяв наконец себя в руки и усилием воли успокоившись, решил, что больше никогда не будет заниматься любовью – ни с кем: ни с женщинами, ни с мужчинами, ни с детьми, ни с животными, что он вообще перестанет думать о сексе, потому что. даже всего лишь только мысли, и одни лишь мысли о сексе приводят человека к досрочному и, можно даже сказать, скоропостижному старению. Рома видел и понимал, что Ника лучше, красивей, роскошней, умнее, сексапильней, короче, лучше, лучше, чем все его предыдущие женщины, и, конечно, надо было бы попробовать хотя бы разок заняться с ней любовью, ведь и она сама была не против этого – он тоже это видел и понимал. Но табу на секс оставалось пока единственным табу, которое он себе не позволил разрушить за последние несколько лет. Он разрушил табу на наркотики, на выпивку, на курево, но запрета на секс придерживался твердо. (Я попытался подальше протечь в сознание Ромы, чтобы найти еще какую-то информацию о том, почему же Рома нарушил запрет на наркотики, выпивку и курево, но у меня ничего не получилось. Ответ на этот вопрос сидел где-то на самом дне Роминой сущности.) Рома смотрел на почти полностью открытые коротким платьем тонкие Никины ноги и отмечал, что они его не волнуют, разглядывал нежные, чуть вспухшие губы Ники и чувствовал, что они его не возбуждают, упирался взглядом в бугорки ее нежных грудей и ощущал, что вид их его не трогает, – он смотрел на Нику, на всю Нику целиком и удовлетворенно улыбался – нет, секс не станет никогда больше причиной его, Ромы, старения, никогда…ВОЙНА. СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД
Неспокойные небритые снова повалили в кабинет. Их было много! и они были некрасивые. Нехов не любил некрасивых. И он прямо им об этом и сказал, чем вызвал бурю негодования и стрельбы. Стрельба, как выяснилось через какое-то время, оказалась безрезультатной, потому что Нехов, высказав столь неприятные для небритых слова, успел спрятаться за мертвым, но еще подмигивающим, добрым Сахидом и тем самым спас себя от легких и тяжелых пулевых ранений, а может быть, даже и от преждевременной смерти. Напевая «Подпарижские вечера», он вырвал чеки сразу у трех лимонок и швырнул их в непрошеных визитеров. Лимонки разорвались громко и разорвали визитеров – тихо. Одну из статуй, на кого-то тошнило. Гитлер и Сталин, бумажно шурша, поедали друг друга. Глядя на увлеченных друг другом Гитлера и Сталина, Нехов какое-то время глубокодумно размышлял над ролью личности в истории, длинными пальцами лоб обнимая, и Даже пришел к кое-каким небезынтересным умозаключениям, но потом решил, что все это пустое, и об умозаключениях забыл, а один из пальцев, которым только что обнимал лоб, положил на спусковой крючок пулемета и что есть сил полоснул по угрожающе дышащей темноте за распотрошенной дверью. Темнота вскрикнула болезненно и дышать перестала. Нехов встал в полный рост и, не желая больше падать, во всяком случае сегодня, если, конечно, только у ног не окажется крутогрудая медичка, шагнул в бездыханную темноту. Небритые валялись там и сям, и там и сям, и там и сям тоже, разорванные вдрызг пулями и осколками, пустоглазые, безмятежные, уже собой покинутые. Но вот кто-то шевельнулся сбоку, Нехов не повернулся, только спросил, не по-русски, тихо, продолжая идти неторопливо: – О чем ты думаешь? – Теперь я знаю, как надо было жить, – слабо отозвался один из небритых. – Ну и как? – поинтересовался Нехов, вступая на лестницу. – Никак, – громко шепнул небритый. – Никак… – Я тоже иногда прихожу к такому выводу, – сказал Нехов, спускаясь по ступенькам. – Но окончательно еще ничего не решил. – Решай… – выдохнул небритый и добавил последнее: – Ай!… Лестница кончилась так же ожидаемо, как и началась. Нехов дальше не пошел, остановился, сознавая, что остановился не зря, но не понимая, почему. А там, за горизонтом, сияла Москва, а здесь, за спиной, не жили мертвяки, и потому отступать было некуда, только – вперед можно было двигаться, к родительскому дому, к отеческим гробам – и к мамкиным щам, после такой валтузки надо было и отдохнуть немного, съежась уютно и отрешенно в невыброшенной и никому не подаренной его детской кроватке, грудничковой, с высокими спинками, с высокими бортиками: и Спать, спать, спать до того, пока не разбудит погремушка или защекотавший глаза солнечный блик. У последней ступеньки Нехов увидел лысого телепата. Теперь он лежал на спине. Один глаз его был открыт. Второй глаз вышибла пуля и на его месте блестела черная слизь. Из оставшегося глаза по гладкому виску обильно и быстро текли слезы. Нехов перешагнул тело и, не оглядываясь, пошел дальше. «Правильно, – услышал он мысли лысого телепата, – никогда не останавливайся, никогда не оглядывайся. Прошлое тебя никогда и ничему не научит, никогда и ничему. Всегда забывай о нем. Каждый час, каждое мгновение начинай жизнь сначала. Только так и только вперед». А впереди была дверь в ресторанный зал. Нехов разбил ее крупным калибром в дымящиеся щепы. Перешагнул порог, щурясь. Капли пота щекотали веки, и хотелось хохотать во весь голос, думая только о щекотке и о хохоте и больше ни о чем (как в детстве, когда слезы еще были сладкими). Нехов дал очередь поверх голов сидящих. Те рухнули на пол, с причитаниями, криками, бранью, молитвой, икотой, рыганьем, моче– и воздухоиспусканием. – Все вон! – заорал Нехов на местном, к слову сказать, весьма сложном языке. Его не послушались. Нехов снова крупный калибр выплеснул – теперь по стойке бара. Полопались бутылки, винопадом полилась жидкость на липкий пол. Люди, пригибаясь, повалили наконец к двери. За ними падали столы, падали стулья, а также стаканы, кувшины и всякая еда. Бежавшие подскальзывались на еде и шумно хлопались на пол. Но вставали тотчас и принимались поедать ту самую еду и слизывать разлитое рядом с едой вино. Нехов поднимал упавших за шиворот и пинками гнал к двери. Гнались поднятые неохотно, огрызаясь и ворча. Когда все-таки зал опустел, Нехов неспеша зашел за стойку бара, взял уцелевшую бутылку виски, отвинтил крышку, сделал глоток, другой, третий, выдохнул шумно и, вяло моргая, сонно, закурил, думая об отеческих гробах и еще о чем-то. О чем и забыл тотчас. Под ногами густо хлюпало вино, вязко омывая итальянские белые ботинки и, не спрашивая размера, окрашивало их в розовый добрый цвет. Вино ароматное, пьянящее, отсылающее отменную память к годам подъездно-портвейновой юности; первым поцелуям, первой крови, первой сперме, первым дезодорантам, первому шуршанью капрона, первой сигарете, первой ревности, первому отчаянию, первому желанию «ничего». Нехов сплюнул на пол, рассмеялся, сигареты из губ не выпуская, рот кривя, саданул розовым итальянским ботинком по винной луже, забрызгав красным руки и лицо, а также сигарету. «Дерьмо, – сказал, – все дерьмо», – еще глоток виски сделал, а оставшийся напиток на стойку вылил, достал зажигалку, откинул никелированную крышку, ширкнул колесиком по кремню и, не дождавшись огонька, повалился вдруг на пол, с грохотом и всплеском, алые волны к потолку вздымая. Вовремя. Через мгновение затрещал автомат откуда-то из дальнего угла зала и пули расколотили стеклянные полки на витрине бара. Осколки посыпались на Нехова, затылок ему царапая, в руки ему впиваясь. – Ты не заплатил по счету! – истерично кричал толстый официант, – Ты не плюнул мне в стакан! – истошно вопил бармен. Выпрыгивал из валявшихся в углу зала столов и стульев и стрелял из маленького автомата, стрелял, жмурясь. Нехов сел на корточки, матерясь, влагу с рубашки и брюк стряхивая безрезультатно, морщась морщинисто неморщинистым лицом, отплевываясь и не раздумывая. Ухватил пулемет поудобней и, встав резко, подпустил в угол раскаленного свинца. И обратно сей миг под стойку ушел. Теперь с двух стволов в две руки пищевые работники палили, вконец доканывая витрину бара. «Ты не заплатил по счету, – кричали. – Ты не плюнул в стакан!» Нехов похлопал себя по карманам, но лимонок больше не нашел, жаль. Раздумывая, как быть дальше, позавидовал мимоходом тем, кто стрелял в него. Они-то знали, за что хотели убить его. А вот он не знал, за что он убьет их. Однако зависть эта была невелика, поскольку он понимал, что у незнающего больше преимуществ, незнающий свободней, потому что у него нет выбора. Ведь общеизвестно, что свободен тот, у кого нет выбора. То есть тот, кто осознал, что любое его действие в конечном счете приведет к одному и тому же результату – к ничему. Но все же знание понятней, привычней, родней. Если знаешь, ЗА ЧТО, понимаешь, что НЕ ЗРЯ… Наверное. – Дерьмо! – смеялся Нехов. – Все дерьмо! – И откупоривал недобитые бутылки с виски, с китайским спиртом, с джином и со всякой прочей крепостью… Оп! Одну швырнул в сторону ресторанных бойцов. Порадовался, услышав, как она раскололась. Оп, другая на куски разлетелась, оп, третья… А в ответ упреки свирепые и стрельба трах-тах-тах. Оп, и четвертая бутылка, и пятая на куски разлетелись. Сколько их еще уцелело, оп, оп, оп, оп, оп, оп! А потом и зажигалка зажженная, армейская, американская, дорогая, «Зиппо», за бутылками вспорхнула… – Гори, гори ясно, – вяло пропел Нехов, – чтобы не погасло, – крайне удрученный тем, что вынужден сидеть и мокнуть в луже, чесал ухо и нетерпеливо им прислушивался. И вот… Мягкий, но громкий хлопок – и засветился оранжево потолок, и захрустели в корчах столы, стулья, полы, тарелки, графины и стены, крысы и мыши. А официант и бармен кричали, сатанея: «Ты не заплатил! Ты не плюнул! Ты… ты… ты!… – И стреляли, курков не отжимая стреляли, пока не заклинили затворы. – Уходите! – заорал Нехов. – Я не трону вас! – Ты не заплатил! Ты не плюнул! – Я заплачу! – орал Нехов. – Я плюну! Уходите! И действительно плевок приготовил, обильную слюну за зубами собрав, давясь, глоток сдерживая, глаза от напряжения выпучив, и деньги бумажные местные пересчитал, отсчитал сколько надо и мелочь добавил, завернул монетки и купюры, в кулаке их в комочек скомкал. «Мммммммм, – гундел через до бела – до синевы сжатые губы. – Мммммммм, – гундел, из-за стойки вставая, выглядывая из-за нес как из-за бруствера, выглядывая из-под лба как из-за бронированного щитка над смотровой прорезью в танке. А бармен и официант танцевали в огне сивиллами, кривлялись и извивались, страдая и радуясь, в пламени купаясь, себя забыв и думая лишь о Родине, о благе ее и о процветании, гордясь исполненным с честью долге, погибающие, но не покоренные, чистые перед небом, перед детьми, матерями, братьями и сестрами и другими ближайшими родственниками, а также перед родственниками их родственников, а также перед друзьями и знакомыми и всеми остальными людьми, живущими в этой замечательной стране. Нехов перепрыгнул через стойку, жмурясь, к огню приблизился, слезы из глаз капали, мутные, тяжелые, падали на пол, бесшумно пузырились, сразу испаряясь, прозрачным парком к потолку поднимаясь, вдохнул через нос, двумя ноздрями, что есть силы, и плюнул в пламя крупно. – Вот, – выдохнул, отдуваясь. – Возьми. Мне не жалко. Слюна прибила пламя к полу, зашипела яростно, борясь с ним, унимая буйство его безумное, но не справилась с ним, не смогла справиться. Жаркие, желто-малиновые гребни, не сдаваясь, ползали еще по полу, по разбитым столам и стульям, по радостно стонущим людям, по рукам, по ногам, уже этим людям не принадлежащим, по открытым, светящимся ослепительно глазам, настойчиво подбирались к еще стучащим зачем-то сердцам. Нехов, не отрываясь, смотрел на бесплотные огненные ручейки, оцепенелый, заледеневший, потерявший счастье двигаться, думать и чувствовать. Огонь добрался-таки наконец до сердец, и люди вскрикнули зверино, оглушающе, оба разом, черные лица к Нехову обратив, глядя ему в глаза высыхающими взорами. Нехов вздрогнул запоздало, с усилием сбросил оцепенение, откинул зажатые в кулаке деньги от себя. Монетки тотчас мягко попадали на лежащие тела; а купюры опускались медленнее в несколько крат, кувыркаясь, накрывали огонь, теперь уже безвредный. И там, куда они опускались, огонь исчезал, оставляя на человеческих телах лишь причудливые следы:неровные черные пятна, кривые полоски, бордовые скользкие дорожки, то широкие, то узкие, то короткие, то бесконечные. – Вот, – сказал Нехов хрипло. – Возьми. Мне не жалко. Отступил на шаг, шатнувшись. – Теперь мы в расчете, – добавил. Повернулся, пошел к двери, перед собой не глядя. – Ты рассчитаешься с Аллахом, – услышал он лысого телепата, – за всех нас. Когда-нибудь. Прощай. – Прощай, – прошептал Нехов и переступил порог. Ночь не хотела уходить. Да ее, собственно, никто и не просил этого делать. В это время и в этой стране все с ней дружили. Ну, если не дружили, то во всяком случае относились к ней без неприязни и недоверия – и местные, и те, кто пришел давно или недавно, и те, кто собирался жить. Ночью здесь было прохладно и, как известно, темно, что позволяло передохнуть от изнуряющей жары, а заодно и обделать кое-какие требующие исключительной скрытности дела, как то: убийства, диверсии, захваты, кражи, грабежи, разбои, прелюбодеяния, допросы, размышления, азартные игры, нечестные и честные коммерческие сделки, самоубийства и мастурбирование, групповую любовь, любовь с козами и овцами, поедание утаенных продуктов, подслушивание под окнами и дверями, конфиденциальные разговоры, незаконные и законные аресты, побеги и погони и, конечно же, неправедные сны. (Если их можно считать делами.) Можно. То, что собирался сделать Нехов, попрощавшись с лысым телепатом, относилось, по всей видимости, к категории размышлений и, если быть более точным, размышлений об убийстве – в данном конкретном случае об убийстве полковника Сухомятова. А если быть еще более точным, то дело, которое этой ночью хотел сделать Нехов, относилось к категории размышления об убийстве полковника Сухомятова на месте совершения этого убийства, то есть в гостинице «Тахтар». Хотя, конечно, сейчас, пока Нехов ехал к гостинице, он не мог с достаточной определенностью сказать, будут ли эти размышления касаться только лишь убийства полковника. Не исключено, например, что он будет размышлять об убийстве как таковом вообще или, может быть, о сущности мироздания, или, может быть, о своем месте в этом мироздании, или, может быть, о месте мироздания в себе. А может быть, и вовсе он не будет размышлять о себе, а будет размышлять о ком-нибудь другом. А может быть, вообще, он не будет ни о чем размышлять и будет размышлять о том, почему он ни о чем не размышляет. Так что если быть уж совсем точным, то дело, которое он хотел сделать этой ночью, можно все же отнести к категории размышления о размышлении (если ему удастся, конечно, это сделать этой ночью). Вот об этом Нехов и размышлял, пока крутил баранку и гнал газик к гостинице. Хотя, когда он подъехал к гостинице, он, признаться, не мог с уверенностью сказать, размышлял ли он вообще о чем-либо или не размышлял, но был тем не менее твердо убежден, что, войдя в номер убитого прошлым утром полковника Сухомятова, обязательно начнет о чем-нибудь размышлять. Пока Нехов ехал к гостинице, город ему казался брошенным, покинутым людьми по каким-то неизвестным причинам. Так непонятно почему команда покидает посреди океана совершенно целехонький и безупречно функционирующий корабль. Но у гостиницы он, к своему удовлетворению, обнаружил кое-какие проявления жизни. Светились, хоть и неярко, окна в вестибюле. Двое солдат в бронежилетах, с автоматами прохаживались лениво у входа. Хоть так, хоть так… Не думая ни о чем другом, кроме как о приятном, о котором он не имел представления, но твердо зная, что приятное есть и что к нему надо стремиться, Нехов, ступив левой ногой на тротуар, а потом правой ступив туда же, покинул автомобиль Горьковского автозавода и, хлопнув металлической дверцей и мимоходом признав совершенство звука захлопываемой автомобильной дверцы, показал, незло улыбаясь, удостоверение решительно направившимся к нему серьезным молодым автоматчикам и вошел в светлый и музыкально насыщенный вестибюль гостиницы «Тахтар». Там, ни слова не говоря никому – ни портье, густо-смуглой женщине с белыми волосами, ни сонному швейцару в грязной чалме и сплюснутой офицерской фуражке, натянутой поверх чалмы, и ни всем остальным, которых не было именно в этом вестибюле именно в этот час, пересек вестибюль по каменному полу, отмечая негромкость и вкрадчивость своих легких шагов и, не пользуясь лифтом (пользоваться лифтом всегда опасно, даже в мирное время опасно, лифт штука ненадежная, он может остановиться не на том этаже, а может и вообще не остановиться, а может остановиться и между этажами, а может и вовсе упасть – случайно или по злому умыслу, зло умышляющих людей или, скорее всего, нелюдей, которых где бы то ни было не меньше, чем людей), поднялся на нужный этаж пешком, упруго и быстро перескакивая со ступеньки на ступеньку, держа автомат наготове, а глаза на прицеле, чтобы прицельнее было прицелиться, когда придет надобность, а если надобность не придет, когда придет надобность, а если надобность не придет, то и тренировка не помешает, так, так, так, так… По коридору, по тонкому ковру, оранжевому – сейчас, желтому. – днем, шаг за шагом, не бегом, любуясь своими тенями на крашенных стенках, он приблизился к той двери, за которой еще сегодня утром лежало бездыханное тело мертвого трупа полковника Сухомятова. Горестно сознавая, что их там сейчас уже нет – ни трупа, ни полковника, – Нехов содрал с двери и с дверной рамы скрепленные зеленой печатью веревки и, вынув из карманов несколько гнутых проволочек, постарался как можно ближе к тексту вспомнить лекции майора Кадра по технике отмыкания дверей без ключей. Вспомнил. После чего, матерясь (что было непременным условием отмыкания) и негромко похрустывая проволочками в чреве замка, отомкнул-таки дверь. Перешагнув порог, поблагодарил майора Кадра, а пуще всего свою блистательную память. За дверью было темно, как ночью в комнате, в которой погашен свет. Но Нехов все же различил окно, а за окном и небо со звездами и ясным месяцем. Привыкнув к темноте, увидел и кровать, и тумбочку, и славянский шкаф. На подоконнике заметил банку из-под пива. Нехов подошел к окну и взял одну из банок. Ну конечно, «Хайникен». Полковник не пил другого пива, как не пил никаких других крепких напитков, кроме спирта. Как и не ел ничего, кроме картофеля с мясом. Как и не носил ничего, кроме формы, даже тогда, когда форма могла повредить и вредила проведению оперативных мероприятий. А еще полковник пользовался только кольтом сорок пятого калибра и автоматом АК-47, жил только с собой и ни с кем больше (во всяком случае в других связях замечен не был; Нехова, как и многих других, опрашивали по этому поводу строгие ребята из особого отдела армии), курил только «Мальборо»; просыпаясь, где бы ни был, в гостинице, в палатке, в(госпитале, в тени под скалой, в раскаленной степи, говорил только одно слово: «Работаем» и начинал свой день. «Работаем». Разговаривал только по делу. Все остальное время молчал. Или отвечал односложно. Или произносил словосочетания, необходимые лишь для обозначения какого-то действия, например: «Пошли», «Я домой», «Хватит», «Не буду», «Подумаю» и тому подобное, и все! Все! И никто ничего больше о нем не знал. И Нехов не знал. Хотя, казалось бы, должен был. Он больше всего времени проводил с Сухомятовым. Но и он не знал. А может, так и надо, чтобы никто о тебе ничего не знал? Никогда и нигде. Так спокойней, комфортней. Так легче делать дело, которое делаешь. Ты весь в себе, копишь себя, сохраняешь, набираешь мощь, чтобы в один прекрасный день… Что в один прекрасный день? Кого-то удивить? Поразить? Воспользовавшись силой, кого-то подчинить, подавить? Зачем? Для того, чтобы получить роскошный кайф от работы, которую работаешь, полный кайф, высший кайф, который покруче самого крутого наркотика. Так, наверное. Нехов пожал плечами, вынул сигарету, закурил, подумал, что самое классное по этой жизни – это сознание того, что в любую минуту ты этой самой жизни можешь запросто себя лишить, рассмеялся негромко, сделал шаг-другой к кровати, повалился на нее, устроился поудобнее на спине, тянул сигаретку с удовольствием, вспоминая, кто среди его тутошних русских сослуживцев, знакомых, голубоглазенький, желтоволосенький, прелестненький, свежепопенький, нежненький, ароматненький, мать его е…! Под веками, как на экране, но не на белом, а темно-сером, зернистом и переливающемся, крохотными огоньками усеянном, возникали люди – один, второй, третий, сотый и тысячный… Отложил для работы троих. Одного посольского, одного старлея из саперного полка и одного придурка из штаба армии. Все трое, по всей видимости, были педиками – им были присущи характерные манеры, хотя старательно скрываемые: тормозящийся на тебе, игриво-оценивающий взгляд, смущенный, отсутствие дружеских связей, любовных историй, пьяных скандалов, драк, дуэлей и других непременных компонентов фронтовой жизни, выгодно отличающих настоящего мужчину от мужчины ненастоящего. Мог ли ненастоящий мужчина убить? Запросто. Для этого не надо, если судить по большому счету, отваги, смелости и профессионализма. Побудительными мотивами здесь могут служить и страх собственной смерти, и ревность, и шантаж, и даже просто грамотная психологическая обработка со стороны враждебных элементов, мать их. В силу ряда физиологических особенностей, гомосексуалисты часто бывают склонны к импульсивным необдуманным поступкам, нередко отличающимся жестокостью и даже садизмом… Хотя может быть, что все это мура, что наболтал Пукалка-Сахид, и убийца вовсе и не педик, а просто случилось так, что приглянулся он педику-Сахиду и Сахид в своих мечтаниях и наркотических снах уже трахал его не однажды, и ароматненький, и розовопопенький, и, вообще, не мужик. Но начинать с чего-то надо. Потому начнем все же с педиков, решил Нехов. Он закинул руки за голову и потянулся, расслабляясь. Неожиданно сквозь шуршанье одежды и собственное покряхтывание услышал, что где-то что-то булькнуло. Сначала он подумал, что это в голодном желудке его булькнуло. А потом вспомнил, что есть рядом с желудком еще одно местечко, где может что-то булькать. Это местечко было карманом пиджака, в котором лежала плоская фирменная фляжка, почти (если булькает, значит, не до отказа) до отказа наполненная дорогим виски «Чивас Регал» (двенадцать лет выдержки). Хватило бы ему, Нехову, на столько лет выдержки? «Хорошо», – пробормотал Нехов, Извлек фляжку из кармана, одним движением свинтил крышку, поднес горлышко фляжки к носу, принюхался, жмурясь, сосредоточиваясь, пытаясь увидеть какие-нибудь приятные картинки из своей жизни, этим запахом навеваемые. И увидел – себя, дрожащего, перекошенного, – одно плечо ниже другого, один глаз выше другого, – со слюнявыми занемевшими губами, молодого, совсем молодого, мальчишку еще, дрожащего дрожливой дрожью холодной в теплом подъезде у широкого подоконника перед высоким окном, с надеждой глядящего на потрескивающую сухо тусклую лампочку, будто она засветится сейчас ярче и все сразу кончится, все исчезнет – и подъезд, и подоконник, и двое мордоворотов, стоящих по бокам его и сама лампочка, вспыхнувшая и истаявшая вместе с подъездом и мордоворотами. Ждал звуков, умирая уже, – движущегося лифта, открывающейся двери, шагов на лестнице, спасительного окрика какого-нибудь отважного жильца. Но их не было. Не было, не было. И никогда уже не будет. И ничего уже не будет. И можно было бы уже успокоиться, раз ничего не будет. И все же вопреки всему жила надежда. Именно она мешала успокоиться. Это она вынуждала его дрожать дрожливой дрожью и перекашивать плечи и глаза. Мордовороты держали его за руки и за подбородок, и вливали, похохатывая, ему в рот противный горький, запрещенный в таком малом возрасте строгими родителями и взыскательными учителями крепкий спиртной напиток. Ох, крепкий! Желтый, прозрачный, с неожиданно смешным названием, которое на все лады повторяли красномордые лицевороты, остроглазые и фиксатые: «Виськи, виськи, сиськи, сосиськи…». Они поймали Нехова в подъезде, когда он возвращался от приятеля. Они стояли у подоконника и открывали бутылку, веселые и невкусно пахнущие. Увидев его, они заорали: «А вот и третий, а вот и третий, вдвоем западло, на х…, на то мы алкаши, на х…, мы наставники, наставники, на х…!» – «Бухал когда-нибудь?» – спросили его. «Что?» – промямлил Нехов. «Не бухал, значит, – радостно заключили они. – Будешь учеником, на х…, и придет время, на х…, и мы подарим тебе на х…, бутылку с надписью, на х…: «От побежденных, на х…, учителей, победителю, на х…, ученику». Придет это время, товарищ, верь, на х…!» Нерусский напиток, огрызаясь, просочился-таки в желудок, а оттуда, достигнув наконец-то желаемого (ведь для этого он и создан, чтобы просачиваться в желудок, это его единственное достойное предназначение на этой земле), успокоился и принялся привычно распределяться по совсем молодому еще, а потому чрезмерно восприимчивому и чрезмерно отзывчивому организму Нехова. Организм действительно отозвался – фантастично и сокрушающе. Нехов вмиг успокоился, повеселел, заблестел глазами, зашевелился теплыми губами, терпкую влагу с них слизывая, поставил плечи ровно, свои, не чужие, вздохнул со вкусом, оглядел мордолицых, красивых, достойных, нежных, неожиданно для себя ощущая к ним неподдельную сыновью любовь, и даже благородность, и более того, с каждой секундой необузданную страсть, протянул к ним руки, по дался сам к ним, обнял их за плечи, не свои, чужие, и, плача от умиления и путая слова и их значение и назначение, громко и визгливо стал им рассказывать о том, как он счастлив, что они, прекрасные и сильные боги, повстречались на его пути, что теперь он никогда не расстанется с ними, что он станет их тенью, что они будут жить все вместе в этом самом подъезде, самом чудесном из всех подъездов в мире, что они будут много работать и много зарабатывать, и заработанные деньги будут раздавать по квартирам этого подъезда – всем, всем, всем, – что все женятся на одной женщине и она родит им троим троих ребят» и они будут их тоже любить, и те их будут тоже любить, и они, то есть он и прекрасные боги, будут ходить по квартирам этого подъезда и показывать всем своих потрясающих ребят, и все будут этому радоваться, и они тоже будут радоваться, и все будут радоваться, потому что будет нельзя не радоваться, когда так радостно только оттого, что они есть, что они живут, что они любят друг друга… Запнулся от избытка всего, что его переполняло, включая, конечно, чувства. Стесняясь, кокетливо попросил дать ему еще пару глоточков классного напитка со смешным названием и, не дожидаясь ответа, запросто вытянул бутылку из рук одного из замерших в оцепенении богов, глотнул несколько раз, вытер губы, шумно выдохнул и между делом заметил, что неплохо бы мальчикам угостить его сигареткой, мать их, непонятливых, е…! Затянувшись не раз, бросил сигарету и, восторженно глядя на богов, стал расстегивать ширинку, от всего сердца предлагая скрепить их любовь скрещением интимных струй. Видя, что прекрасные боги не делают никаких попыток к скреплению любви, стал хватать их за ширинки, пытаясь расстегнуть их, необузданный, и одновременно распевая древнегерманскую строевую песню, которую он недавно слышал во сне и в нем же и записал ее для дальнейшего ее изучения и классификации… Он был счастлив, как никогда до этого и никогда после. Ошалевшие боги бежали, оставив ему недопитую им же бутылку виски. А он еще долго ходил по этажам, звонил в квартиры и тем, кто открывал двери, искренне предлагал поделиться счастьем. Дошел до чердака. Там и уснул. А под утро, новый и просветленный, вернулся домой. С тех пор он стал учиться только на «хорошо» и «отлично». Это так. …Недопитого счастья еще было много во фляге. Но сегодня Нехову хотелось другого счастья, как, впрочем, и вчера, и позавчера, и месяц назад, и второй, и третий, и еще хрен его знает какой, счастья, которое пусть будет недолгим, пусть мимолетным, но естественным и осознанным, самим им, Неховым, подготовленным, его умом, его талантом, его волей, а потому гораздо более сильным, глубоким, острым, сжигающим, чем счастье, приносимое бутылкой виски и сигареткой с марихуаной. Но как и что надо для этого сделать, не имел ни малейшего представления, НЕ ЗНАЛ и был мучим этим незнанием, как партизан гестаповским следователем. Незнание точно так же, -как и коварный гестаповец, вгоняло ему студеные иглы под ногти, вязало морские узлы на члене, до хруста стискивало голову металлическим обручем, вырывало зубы, с шипеньем выжигало свои невидимые, но ощутимые и болезненные знаки на языке, мощными и прицельными ударами по ребрам тормозило бегущее сердце. «Как хорошо, Господи, что я могу в любую минуту, когда захочу, именно когда захочу, а не когда захочешь ты, уйти из этого чудесного мира навсегда, с сожалением или без сожаления, неважно, но МОГУ… САМ!» – опять подумал Нехов… А может быть, осознание того, что он МОЖЕТ и САМ, и есть то, что он ищет? То самое счастье, которое глубже и острей. Надо только осознать это, осознать, мать вашу!… Никто не издавал никакого шума в номере над номером полковника Сухомятова, не топал по полу, не передвигал мебель, не бил, разбивая, бьющиеся предметы. И за стенками, и за одной, и за другой, в номерах соседних никто не включал ванных кранов, не спускал воду из бачка над унитазом, никто не ругался, не матерился, не вскрикивал, и не стонал в эротическом экстазе, не сопел, не сморкался и даже не храпел во сне или наяву. Никто не открывал и не закрывал двери, не звенел ключами и не хрустел замками. Никто не шел по длинному гостиничному коридору, и не бежал, и не крался, -и не полз, и не хлопал крыльями, пролетая… Так странно и так грустно. Будто все спали. Или будто никого не было в номерах. И в гостинице, вообще. Только он подумал об этом, прислушиваясь и как всегда прищуриваясь, как к радости своей услышал легкий шум легких шагов в коридоре и едва различимый шорох, исходящий от тщательно смазанных и потому не скрипучих дверных петель. Дверь открылась наполовину, и он увидел блекло-желтую полоску света на полу номера, в котором лежал, курил, размышлял. И еще увидел очертания фигуры в узком просвете между дверью и ее братом косяком. Фигуры женской. И очень привлекательной. Худой и стройной. Длинноногой и тонкорукой. Несколько мгновений женщина не двигалась, замерев на пороге. И все-таки вошла. Сделала один маленький шажок. Затем второй. Закрыла дверь, за собой неслышно. Выдохнула с едва слышимым стоном, спрятала руку за спину, отступила назад, прижалась спиной к закрытой двери, замерла опять. – Виски? – предложил на местном языке Нехов. – Нет, – ответила женщина тихо. – Коран не позволяет? – спросил Нехов. – Да, – ответила женщина. – Вам много чего Коран не позволяет, – заметил Нехов. – Да, – ответила женщина. – Я знаю, что он не позволяет женщине одной приходить в дом к одинокому мужчине, – сказал Нехов. – Да, – ответила женщина. – Но ты же пришла, – констатировал Нехов. – Да, – ответила женщина. – Виски? – не поворачиваясь к женщине, он протянул флягу в ее сторону, размышляя и покуривая. – Нет, – ответила женщина. – Да, – без нажима сказал Нехов. – Да, – ответила женщина. И слабой ногой ступила вперед, и слабой рукой флягу взяла, холодными пальцами горячих пальцев Нехова коснувшись, вздрогнула, нежно зажмурившись от плеснувшего в глаза огня, изошедшего от точки соприкосновения их рук, секундного, мгновенного, только ей видимого, а ему, Нехову, невидимого, потому что он в этот миг не на женщину смотрел и не на пальцы ее и свои, а перед собой смотрел, в темноту, в ничего, и умиротворен был, и задумчив, и слегка пьян – как никогда приятно! Женщина сделала глоток бесшумный, второй, отняла флягу от губ, дыша порывисто, рот, губы, носоглотку и гудящий от непривычного ожога пищевод остужая. Не поперхнулась, не закашлялась, не стошнила и слюну не пустила, сильная. – Еще, – подсказал Нехов, безмятежно улыбаясь в темноте. – Нет, – ответила женщина. – Да, – не согласился Нехов. – Да. – Да, – согласилась женщина. И опять из фляги глотнула, быстро и много и без прежнего страха. Колеблясь незаметными колебаниями, присела на край кровати покойного (беспокойного) полковника Сухомятова. На спинку спиной оперлась, флягу рядом положила. Виски пролилось на одеяло, чуть-чуть. Нехов не видел, сколько, но хотел надеяться, что чуть-чуть. Потому что если не чуть-чуть, то он повел бы сейчас, после того как виски пролилось на одеяло, по-другому, он не знал, как, но по-другому, наверное, менее приветливо, наверное. – Я так благодарна Аллаху, – тихо сказала женщина, – за то, что произошло у нас с тобой сегодня утром. Я так хотела этого и я так боялась этого. Днем я молила Аллаха об этом, а вечером плакала и просила, чтобы он никогда не допустил этого, а ночью опять молила, и утром опять, и днем, а вечером я снова боялась, а ночью опять молила… И он сделал это, слава ему, слава Всевышнему… – Это сделал не Аллах, – возразил Нехов, – это сделал я. – Мне было четырнадцать лет, когда я увидела, как это бывает, – рассказывала Зейна. – Отец послал меня разносить булочки в один богатый дом. В этом доме у отца все время покупали булочки, он делал очень вкусные, сладкие и соленые, и всякие разные другие булочки, и богатые люди их очень любили, и ели с удовольствием. Я дам как-нибудь тебе попробовать эти булочки, они тебе понравятся. И ты расскажешь всем в своей стране, какие это вкусные булочки. И может быть, кто-нибудь в твоей стране захочет покупать наши булочки большими партиями… А ты получишь комиссионные… Нехов подумал. А подумав, согласился. – Комиссионные – это хорошо, – сказал он. – Ну так вот, – говорила Зейна, удовлетворенно посмеиваясь, – в одной квартире дверь была открыта. Я постучалась и вошла. В коридоре никого и на кухне никого, а в комнате… – Зейна поднесла пальцы – все, сколько у нес было, – к губам. До сих пор стеснялась увиденного тогда. – Двое белых мужчин разложили на кровати небелую женщину – ярко выраженную красавицу нашей независимой республики – и терзали ее, кричащую и стонущую и бьющуюся не больно о мягкую кровать многими частями тела, и мяли ее, и кусали ее, и целовали, урча, покрикивая и закатывая глаза, все голые, как один, голые все. Сначала я подумала, что мужчины хотят се убить, что это грабительские воры, а потом услышала, как женщина говорит им, задыхаясь, что она их любит, что ей очень нравится, что они с ней делают, и что она хочет этого еще, еще и еще, и поняла, что это не убийство и не драка, а что-то другое. Очень и очень приятное. Им всем троим. И даже мне приятное. Потому что, когда я смотрела на них, то почувствовала, как у меня зажегся низ живота и там сделалось щекотно, а потом еще ниже живота стало тоже щекотно, и мне захотелось это место, которое еще ниже живота, потрогать рукой, и не просто потрогать, а помять и потискать, чтобы стало еще приятней и, глядя на них во все глаза и не отрываясь, я стала себя там гладить, а потом мять, а потом тискать, и совсем скоро ощутила удовольствие, какое не получала никогда до этого в своей недолгой девичьей жизни. И я испугалась этого нового и неожиданного приятного чувства, и попятилась назад, и невольно выронила на пол горячие ароматные булочки, и, не подобрав их, о чем потом горько очень жалела, убежала из квартиры и бегом бежала до дома, совершенно даже не пользуясь муниципальным транспортом. И, дрожащая и мокрая, примчалась домой, залезла под одеяло и долго-долго клялась себе, что никогда больше со мной не произойдет эта необъяснимо приятная страшность. А потом заснула и проспала до следующего утра. А когда проснулась, то первым делом вспомнила о вчера увиденном, и поняла, что опять хочу испытать это ощущение, да так сильно хочу, что даже заплакала. Я плакала и от остроты желания, конечно, но больше всего от того, что знала, что само это желание было грехом. У меня двое старших женатых братьев и две старшие замужние сестры. Я пятая, и надеюсь, что не последняя. Я спросила у своих сестер, смущаясь и оглядываясь, что это такое, что я видела, приятно ли это, не говоря им, конечно, что мне было очень приятно, и зачем вообще все это нужно. Они, хихикая, ответили, что ничего этого нет и что мне все привиделось. Я спросила тогда у своих братьев то же самое. И они, побледнев, сказали мне, что если я еще раз спрошу их об этом, они побьют меня. Я спросила об этом у родителей. Маме тотчас стало плохо, а отец на три дня ушел в горы и пришел оттуда похудевший. Я спросила об этом у соседских девочек, и они сразу перестали играть со мной и потом заплакали, будто я их чем-то обидела. Но я не отчаивалась, я должна была знать это. Я понимала, что не смогу уже жить, как прежде, если не узнаю что-нибудь про это. И я пошла в магазин, где торговали книгами. В магазине работала девочка, которая была правнучкой английского офицера. Она хорошо умела читать и писать по-английски, и наверное, что-то знала об этом. И девочка показала мне тайно журналы, которые она доставала из помойных контейнеров гостиницы «Амбассадор». В журналах я увидела такооое… – не спрашивая у Нехова, Зейна взяла флягу и отпила еще глоток, -…после чего я поняла, что действительно уже не смогу жить, как прежде. Как можно продолжать жить, как прежде, когда знаешь, что есть такое. В помойных контейнерах гостиницы «Амбассадор» я нашла огромный портрет красиво по пояс обнаженного известного французского артиста Алена Делона. По ночам я поднималась на чердак, зажигала свечу, вешала портрет Алена Делона на стену и целовалась с ним, с портретом, с Аленом Делоном, трогала его, гладила, касалась его наиболее чувствительными частями моего молодого и отзывчивого тела и вновь, и вновь испытывала то же, что и тогда, когда увидела двух белых мужчин и одну небелую женщину, горящих и сияющих. Я была счастлива. Но мне хотелось большего. Мне хотелось настоящего. Жизнь превратилась б восторг и муку. Я расцветала и увядала одновременно… – Так бывает, – глубокомысленно подтвердил Нехов, покуривая и вспоминая. – Несмотря на то, что я постоянно была под неусыпным надзором родственников и общества, наверное, все же можно было бы как-то исхитриться и сделать это. Но из встречающихся мне мужчин мне никто не нравился, никто, и это вопреки огромному, день ото дня растущему во мне желанию. Никто не нравился. Не было настоящего. А я интуитивно понимала, что нельзя начинать с ненастоящего… И вот сегодня я увидела тебя и чуть не умерла прямо там, у телефонного пульта. Когда ты пришел снова, я чуть не умерла во второй раз. А когда ты стал делать ото, я чуть не умерла в третий раз… Ты не похож на Алена Делона, – Зейна посмотрела в сторону Нехова, пожала плечами неуверенно. – А может быть, и похож. Нет, ты лучше, – воскликнула она и тотчас понизила голос. – А может быть, и хуже. Но в тебе есть то же, что и в нем. – Что? – спросил Нехов. – Я не знаю, – просто ответила женщина. – Но что-то, что мне очень и очень нравится. Нехов представил себе, что перед ним зеркало, и открыто посмотрелся в него. Внимательно разглядев себя, он вынужден был согласиться с Зейной. В нем было. – Ты получила удовольствие от того, как это было утром? – спросил Нехов, мысленно пряча зеркало под подушку. – Я получила удовольствие от того, как это было утром, – ответила Зейна. – И ты хочешь испытать это еще раз? – спросил Нехов. – И еще раз, – призналась женщина. – И еще раз, и еще раз» и еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще много, много раз… – Я не вижу препятствий, – сказал Нехов. – А я вижу, – ответила женщина. – Не понял, – сказал Нехов. – Твои брюки и мое платье, – объяснила Зейна. – Ты святая, – прошептал Нехов по-русски, – Как жаль, что я не смогу полюбить тебя. Полчаса они уже занимались тем, чем им и следовало заниматься после такого щекотливого и откровенного разговора, какой состоялся у них на широкой кровати покойного полковника Сухомятова полчаса назад, Нехов показывал класс, зная, что показывает класс, и оттого класс его был еще выше, чем мог бы быть, если бы он не знал, что показывает класс. Над любовью не надо хихикать, когда ее делают всерьез и надолго. К ней надо относиться с уважением и почтением, с полной и безотчетной отдачей и с искренним стремлением к совершенству. Первые признаки совершенства – это временное безумие, слезы, неконтролируемый словесный поток, недержание мочи; слюны; цветные галлюцинации; выпуск газов; упивание кровью от искусанных губ и других, не менее приятных частей человеческого тела; срыв голосовых связок; наслаждение от боли, и своей и чужой; грязные ругательства; угрозы сделать еще приятней; нестерпимое желание еще одного партнера, а может быть, и нескольких; желание того, чтобы как можно больше людей наблюдало за тем, как вы делаете столь чудесное дело под названием любовь; и еще всякое другое и разное – исключительно. Бесчестно. Перечисленные признаки, несомненно, занимали свое законное место в любви Зейны и Нехова. До совершенства им было рукой подать. Но Нехов не подал. У него были на этот раз иные задачи. Когда очередной раз (третий) туго и скользко и радостно он вошел в женщину и она закричала и забилась ягодицами о его бедра, он спросил ее сквозь дыхание, снизу вверх глядя на нее, дергающуюся на нем: – Ты никогда раньше не слышала тот голос? Она, как и следовало ожидать, не поняла его вопроса. Занята была – лишь на одном сосредоточена. И кровь шумела в ушах бурно. И крик обжигающий метался с грохотом по перепонкам, и Нехов повторил свой вопрос – громче: – Тебе не был уже знаком тот голос?! – Что? – задыхалась Зейна. – Не понимаю… Потом… Я хочу еще.,. Не останавливайся… Белые птицы плывут по глазам и щекочут ресницы. Как хорошо… Как хорошо… Не останавливайся… – Ты помнишь тот голос? – Нехов перестал двигаться, мертво прижал бедра женщины к своим. – Нет, – мотала головой женщина. – Не помню… Потом… – Ты помнишь, – настаивал Нехов. – Этот гад наверняка звонил и раньше Сухомятову! – Нет, – хрипела женщина. – Нет… – Он говорил по-русски, – настаивал Нехов. – Я сейчас скажу тебе несколько фраз по-русски, Ты слушай… – Нет. – Зейна попыталась шевельнуться, но Нехов удержал ее. Она застонала обреченно. Капля горячей слюны из ее рта упала Нехову на грудь. Точно на левый сосок. Ощущение Нехову понравилось. Он отметил это. Запомнил. И только потом продекламировал: И начинает понемногу Моя Татьяна понижать, Теперь яснее – слава Богу – Того, по ком она вздыхать Осуждена судьбою властной: Чудак печальный и опасный. И тряхнул Зейну, и заорал: – Вспоминай! Вспоминай! – Я хочу еще, еще, – стонала женщина, зубы зубами кусая. Из-под таинственной холодной полумаски, – четко и ясно выговаривал Нехов, Звучал мне голос твой. Отрадный, как мечта, Светили мне твои пленительные глазки - И улыбалися лукавые уста. Вспоминай! – с угрозой проговорил Нехов на языке Зейны и добавил по-русски: – Этот пидор должен был звонить раньше. Должен был! Я чувствую!… – Нет, – измученно выдавила из себя Зейна. И встрепенулась вдруг, глаза широко раскрыв и Нехова отразив, красивого, обнаженного. – Да, – выдохнула женщина. – Я помню. Он все время говорил это слово: «Пыдр», «Пыдр». Я помню. Да, он говорил по-русски. Очень зло и отрывисто, звеняще, высоким баритоном, командно. «Пыдр», «пыдр». А полковник разговаривал с ним мягко и как-то радостно, по-свойски, снисходительно. Я помню, он звонил вчера. Два раза. Утром и днем. И раньше звонил. Кажется, неделю назад. Я помню этот голос!… – Хорошо, – тихо сказал Нехов по-русски. – Умница, – и резким движением втолкнул себя в женщину, взрыкнув сам и услышав, как зарычала благодарная Зейна. – Вспомни! – Нехов снова приклеил к себе Зейну. – Ты никогда не видела его?! – Я не хочу… – скривилась Зейна, почти плача, распаренная, девичьим еще соком пахнущая, знобко дрожащая от нетерпения. – Представь себе его по голосу, – проговорил упорный Нехов. – Каким он мог быть, этот пидор? Давай! Давай! – Молодой, – через силу ответила Зейна. – Лет двадцать пять. Худой. Высокий. Не знаю, не знаю. Нехов шевельнулся легонько. Женщина вздрогнула, напряглась. – Представь себе его снова, – сказал Нехов быстро. – Какие у него волосы? Темные, светлые? Не думай, не думай! Отвечай! – Светлые, – выкрикнула Зейна. Помедлила, понизила голос. – Нет, темные… Нет, все-таки светлые. Такими голосами говорят светловолосые… – Он мог разговаривать и на другом языке, – продолжал Нехов. – Например на английском. Здесь ведь знают английский язык. Вот послушай, как звучит этот язык… – Нет, – мучаясь и страдая, ответствовала категорически неудовлетворенная Зейна. – Я не помню. – Тогда на французском, – твердил свое потный Нехов. – Нет… – ежилась от желания Зейна. – Послушай, – и Нехов процитировал Бодлера. – Нет, – истекала истомой Зейна. Нехов несильно подтолкнул ее снизу бедрами. Зейна вскрикнула болезненно-радостно, закатив свои черные глаза, и прохрипела, себе удивляясь, удивленная: – Я видела его! – пальцем ткнула себе в закаченный глаз. – Я видела его. Он стоял у стойки портье, с офицером Ругалем. И они говорили на том же языке, на котором говорил сейчас ты, на французском. Он красивый, бледный, голубоглазый. О Аллах, это он… Высокий, короткостриженный, светлый. Он военный. Он был в русской военной форме, молодой. Как же я забыла. – Зейна двумя руками терла глаза. – Я видела его и потом. Еще один раз. Кажется. Да, видела… Или не видела… – Вот так, – Нехов стер пот с лица, расслабленно откинул голову на подушку. – Вот так… Хорошо. Хорошо. Умница. Подожди пока. Успокойся. Ты самая лучшая. Самая, самая, верь мне. Самая умная, самая красивая, самая сексуальная, верь мне. Тебя невозможно не хотеть. Только посмотришь и сразу хочешь. Только посмотришь, и все. Это так. Нехов притянул женщину к себе, провел языком по ее губам и втянул вдруг их в себя больно, ударил одновременно бедрами по ее ягодицам. А потом еще. И еще. Зейна вздрогнула крупно, задергалась исступленно в его руках, в его губах, в его зубах – в чем была, в том и задергалась, счастливая. Но вот Нехов отнял свои жаркие уста от измятых губ женщины и тотчас сомкнул их, причмокнув невольно, послевкусием наслаждаясь, и отомкнул снова, чтобы изречь следующее, нежное: – Дорогая, а сколько звездочек у него было на погонах? – Ах, – сказала Зейна. – Ох, – сказала Зейна и заплакала, обиженная, влагообильно и достаточно шумно. Нехов недовольно кривился от ее писклявого вдруг голоса, смахивал со своего лица, груди и плеч ее теплые слезы, но не отступал, нет, «раскручивал» Зейну дальше. Делать бы пули из этих парней… – А где ты видела его, второй раз? – крадущимся голосом говорил Нехов и поглаживал женщину по взбухшим, отвердевшим соскам груди. – Где? – Не помню, – мотала головой Зейна, волосы вокруг себя разбрызгивая. – Не помню. – Плакала. Терлась о Нехова ягодицами. Стонала. Стонала и плакала. Кончала. Улице! – закричала неожиданно, своим же голосом захлебываясь. – На какой улице? – Почти около своего дома. На улице Камаля. Рано утром. – Он был один? – Один! – В форме? – Нет, в светлом костюме, в белой рубашке, без галстука, в коричневых туфлях с рантом, без шнуровки, в мокасинах, в белых махровых носках. Волосы у него были мокрые. Блестели. – Потрясающе, – Нехов с восхищением смотрел на Зейну, нахмурился вдруг, переспросил. – Мокрые волосы? – Да. – А лицо? – быстро спросил Нехов. – Такое же было бледное? – Нет, – Зейна слизнула слезы с верхней губы. – Не бледное. Но и не загорелое. Покрасневшее немного. Розовое. – А руки? – Руки!… Кажется, тоже розоватые, кажется. – Что он делал? Просто шел по улице? – Он садился в машину. – Машину помнишь? – Помню. Белый «Датсун», двухместный, маленький, с красными сиденьями. На переднем зеркальце – нанизанный на цепочку патрон. – Я восхищаюсь тобой! Ты самая лучшая женщина в мире! Во сколько это было? – В половине девятого. – А в какое время дня ты видела его в гостинице? – Это было в другой день, раньше… – Я помню. Так во сколько? – Я вышла к портье… в начале десятого утра. Да, в начале десятого. – Лицо его, ты говорила, было тогда бледное, не такое, как на следующее утро? – Не такое. – Волосы сухие? – Да… по-моему. Но зачесанные так, как после душа, назад, волосок к волоску… Да, почти сухие. Высыхающие, так вернее. – Хорошо. А руки? Какого цвета были руки? – Нет, рук я не видела. Я находилась за стойкой. Я видела его только начиная от груди. – Ладно. Теперь вернемся ко вчерашнему дню. Во сколько он первый раз звонил полковнику? – В девять. – А второй раз? – Уже из номера? – Да. – В двенадцать. – Прошло три часа между звонками. Разницу в тембре его голоса ты не ощутила? – Утром, по-моему, голос был низкий и легкий, и чистый. А в двенадцать, голос был более высокий, чуть придушенный, что ли, тихий. – Утром, сразу после сна и еще некоторое время после, голос у большинства мужчин всегда ниже, чем обычно. – Я знаю, как говорят мужчины утром, после сна. Они говорят с едва заметной хрипотцой, чуть лениво, с удовольствием прислушиваясь к своему мужественному тембру, но они знают, что низкая тональность скоро исчезнет и не появится снова до следующего утра, и в голосе оттого читается сожаление об этом и одновременно надежда, что, может быть, хотя бы на сегодня голос останется именно такой, какой есть сейчас. И потому мужчины немного напрягаются – «держат» голос, опасаясь, что в любую секунду он может стать выше. Они его контролируют. И потому произносят слова всегда с не свойственным им в другие часы дня модуляциями. И всегда, всегда голос утром несвободен, так как голосовые связки еще не разработаны и необходим более крупный поток воздуха, заставляющий их вибрировать в нужной тональности, И благодаря этому я всегда слышу в их голосах усилие. А у того голубоглазого русского офицера, я повторяю, голос был чист, хоть и низок, но чист, чист, свободен, естествен, будто он… – Будто он… – Надышался… – Надышался… – Горячим… – Горячим… – Паром. – Паром! – Я нашел его! – прервал Нехов женщину. Шептал, повторяя слова. Закрыл глаза, из темноты в темноту погрузившись. – Я нашел его! – Лежал без движений под осиной, не тутошний уже, запредельный. – Я нашел его! – Где? Где? – испуганно спрашивала Зейна и озиралась, нервничая, вокруг. – О, я удивлю его! – цедил Нехов сквозь неулыбчивую улыбку. – А меня? – с надеждой спрашивала Зейна, склоняясь над лицом Нехова, стараясь взгляд его поймать. – А меня? – О, я сотворю с ним такое!… – твердил возбужденно Нехов, гася одну улыбку и зажигая другую – не менее неулыбчивую. – А со мной?! – в отчаянии восклицала Зейна, и подпрыгивала на неховских бедрах, тонко подпискивая. – Это утро станет лучшим в его жизни! – не унимался Нехов, и скрипел угрожающе сомкнутыми веками, все улыбки по очереди гася. – А в моей?! – Зейна рыдала и терзала его уши. – А в моей?! – Потому что оно будет для него последним! – рычал Нехов, до крови раздирая горло. От его рыка дрожали стекла в окнах. А в соседнем номере кто-то упал с кровати. – Ты не любишь меня?!! – забилась в истерике Зейна. Пустила густую слюну с обеих сторон пухлых губ. – Не любишь! Не любишь! Не любишь! Нехов с недоумением посмотрел на женщину, взял се за плечи, тряхнул несильно, спросил настороженно: – Ты кто? – Я – Зейна, – изумленно вскидывая брови, ответила женщина. – Спасибо тебе, Зейна, – строго сказал Нехов, машинально продолжая отпихивать от себя женщину. – Но… – больше не нашлась, что сказать, вконец измученная Зейна. – Ах, э т о… – догадался таки Нехов. – Конечно. Вне всякого сомнения. Я заслужил. И позволил смуглой красавице сделать с собой все, что она хотела, и четвертый раз, и пятый, и шестой, и был этими разами даже очень доволен, но к рассвету все-таки притомился немного и поэтому от седьмого раза вежливо отказался, сославшись на то, что ему предстоит сложный и очень важный в его жизни день и ему, конечно, надо было бы хоть сколько-нибудь отдохнуть. Зейна закапризничала поначалу, но потом все-таки согласилась с его доводами, улеглась рядом с ним и заснула с целомудренной улыбкой на искусанных устах, мирная и теплая. И Нехов тоже поспал, конечно. В семь часов Зейна проснулась, оделась, поцеловала сонного еще Нехова туда, куда ей в голову взбрело, и ушла сдавать свою телефонную смену, напевая и пританцовывая, облегченная и негордая. После ее ухода Нехов тоже встал. Взбодрился под душем, тоже оделся. Закурил. Проверил наличие оружия. Пересчитал боеприпасы. И с решительной решимостью отправился туда, где его не ждали.МИР
Со стороны, если кому-то я рассказал бы то, что со мной происходило последние несколько дней, могло бы показаться, что мне приходится очень тяжело. Драки, стрельба, преследования, общение с такими, ну, скажем мягко, непростыми (я усмехнулся) людьми, как Ника и Рома, и не всегда обычное к тому же общение, непривычное, идущее по незнакомым доселе мне каналам. Все перечисленные факты, конечно, могли бы вызвать у меня, как и у любого более или менее нормального человека, и скверное настроение, и утомление, и раздражение, и я не знаю, что там еще, головную боль, по всей видимости, или ломоту в конечностях, или жжение в желудке, или дрожь в руках и ногах, и ушах, и, возможно даже в зубах. Но не вызвали. Вот получилось так, что я и не утомился и не задрожал зубами, и у меня не заболела голова, да и настроение мое, собственно, оставалось достаточно ровным. Видимо, все дело было в том, что драки, стрельба, преследования являлись для меня относительно привычными атрибутами жизни, и я реагировал на них автоматически, без аффекта, имея уже издавна иммунитет к таким ситуациям. А общение с Ромой и Никой по большому счету доставляло мне даже удовольствие. Чем дальше и глубже я проникал в сознание того и другого, тем больше тот и другой напоминали мне самого себя. А разве можно утомиться или обрести скверное самочувствие и настроение от движений родственной души? Уверен, что нет. Точно так же, как и Рома, я понимал и чувствовал смерть. И я осознавал ее неизбежность, именно осознавал, в отличие от многих, многих и многих, которые только знают, что она существует, но существует где-то там, невероятно далеко от них. И меня тоже, как и Рому, воспоминание о смерти иногда приводило к такому сокрушительному падению духа, что, лишь пройдя через чудовищные страдания, я мог подняться и обрести прежнюю форму. Однако в отличие от Ромы я не бежал от смерти,я шел ей навстречу. И это было, пожалуй, единственным и коренным отличием моего отношения к смерти от Роминого. Попробую расшифровать, что я имел в виду под словами «я иду ей навстречу». Твердо и четко понимая, что мне никуда не деться ни от смерти, ни от старости – раньше, позже, неважно, – я пытаюсь сейчас, именно сейчас, а не год, не два назад (год или два назад я просто-напросто еще не пришел ни к каким заключениям), хоть чем-то достойным заполнить тот отрезок жизни, что мне остался. И я знаю, что если я заполню свою жизнь чем-то, чем, я еще не решил, но чем-то очень важным, нужным, необходимым, тем, без чего никогда никому нельзя будет обойтись, я приму смерть без страха и сожаления, как нечто само собой разумеющееся, как Истину. Возможно, этим «чем-то необходимым» станет любовь. А возможно, она уже и стала этим «чем-то». Ведь я действительно люблю. Я люблю Нику Визинову. Может быть, слова мои и звучат декларативно, потому как у меня еще не было повода и возможности доказать ей самой и всем тем, кто хотел бы в этом убедиться, что я на самом деле искренне, по-настоящему ее люблю, но тем не менее это так – я люблю ее. Я люблю в первый раз в жизни. Люблю так, что одни только звуки ее имени доставляют мне несказанное удовольствие и наслаждение. Ника, Ника, Ника, Ника, Ника, Ника, Ника, Ника, Ника, Ника, и так до бесконечности. Ника, Ника, Ника… Да, Ника не любит меня. Она любит своего старшего брата. Но не его самого, как такового. Не нынешнего, взрослого. А еще того, четырнадцатилетнего, кудрявенького, беленького, красивенького, нежного, мягкого, еще пахнущего грудничком, еще пахнущего пеленками и маминым молоком. Любит. И ничего тут не поделаешь. И я не ревную. Разумеется. И не переживаю. Мне не так уже необходима ее ответная любовь. Я просто очень хочу, чтобы она была счастлива. И все равно с кем. И все равно как. Лишь бы счастлива. Я люблю. И тем самым я, возможно, уже делаю что-то достойное. Как жаль, что Рома и Ника не могут читать меня так же, как читаю их я. Как жаль… Звонок, насквозь – снизу доверху – прошивший дачу, заставил нас вздрогнуть. Всех. Мы вздрогнули и посмотрели друг на друга вопросительно. Но не испуганно. «Муж?» – быстро спросил я. Ника отрицательно покрутила головой. «Кто?» – спросил Рома. Ника пожала плечами. Я встал и осторожно вышел в коридор. Глазка у двери, к сожалению, не было. И никакого оконца рядом с дверью тоже не было. Я вернулся в гостиную и поманил Нику к себе, и снова вышел в коридор. Ника подалась за мной. Я показал ей пальцем на лестницу, ведущую на второй этаж. Ника согласно кивнула. Она поняла меня. Она догадалась, что на звонившего в дверь можно было посмотреть из окна спальни. Ника вернулась через несколько секунд. Прошла в гостиную, сказала: «Я открою. Это сосед. Нормальный мужик. Он, наверное, видел, как мы въехали на территорию. Если я не открою, это ему покажется странным». Я одобрительно покачал головой и сказал Роме: «Пошли, Рома, посидим в гараже» – «Что?» – спросил Рома и покрутил слуховой аппарат и пошевелил ушами, прислушиваясь. Я грубо вынул у него из уха наушник и рявкнул отрывисто: «В подвал!» Рома пожал плечами, выдернул, в свою очередь, у меня из руки наушник, вставил его обратно в ухо и сказал: «Я ни хрена не понял, что ты здесь орал. Но если надо в подвал, пошли в подвал». И мы спустились– в подвал – вернее сказать, в подземный гараж. Сели в машину Ники. Закурили одновременно. Струйки дыма слились в одну. И превратились затем в мутный клубок. Клубок неслышно ударился в лобовое стекло. Оттолкнулся мягко от лобового стекла. Поднялся к потолку. Завис под потолком. «Смотри, смотри, – Рома показал на клубок дыма и засмеялся. – Как похож. Вот те на, – покачал головой. – Как похож!» «На кого?» – спросил я равнодушно. «И ручки, и ножки, и головка, – Рома продолжал тихонько смеяться. – И головка. Бог мой! И пиписка… Ты смотри!… Я пошевелил бровями, прикидывая, недоумевать или погодить. Решил погодить. «Иди сюда, маленький, иди», – Рома сразу двумя руками поманил к себе клубок дыма, и зачем-то расстегнул плащ – верхние его пуговицы. (Впервые за все те дни, пока мы общались.) Под плащом у Ромы я увидел грубую зеленую ткань американской армейской куртки. Я изумленно выругался про себя. Значит, под плащом Рома носит американскую армейскую куртку, такую же, как у меня. Так вот почему у Ромы такие неестественно огромные плечи и будто обтянутая бронежилетом грудь. А я-то думал, что это у Ромы такой фасон плаща. Клубок дыма рассеялся» и Рома погрустнел и медленно застегнул плащ. Усмехнулся, сказал – наверное не мне, наверное себе или еще кому-то, наверное, тому, кто нас всегда слышит, но не всегда понимает, или понимает, но не хочет, чтобы мы знали об этом, – сказал: «Если бы у меня был ребенок, ничего бы этого не произошло – «Чего этого?» – как можно добродушней спросил я. Рома развернул ко мне свои очки, ухмыльнулся. «Ухудшения зрения. И уменьшения слуха», – спокойно ответил он. «Аааа…» – протянул я. Я устроился поудобней в кресле автомобиля, закурил еще одну сигаретку и представил, что у меня есть ребенок. Часть меня, часть моих клеток, моих молекул, моих атомов и чего-то там еще, чего я не знаю, как называется, и не хочу знать, как называется, потому как не важно, как называется, а важно то, что это есть и это чувствуется и понимается, сначала чувствуется, а потом понимается. Я представлял себе своего ребенка и таким, и эдаким, большеротым и большеглазым, черненьким и беленьким, маленьким и большим, мальчиком и девочкой, с содранными коленками и подстриженного под полечку (или под чего там еще нас стригли в нашем детстве), в сандалиях или в кедах, сопливого и смеющегося, пахнущего мною и пахнущего куриным бульоном, прыгающего через скакалку и катающегося на самокате (сейчас, правда, по-моему, на самокате никто не катается, жаль), отвечающего урок по истории и лапающего хорошеньких девочек, или мальчиков (если ребенок девочка), играющего с щенком или котенком, или купающегося в ванной, какающего и писающего, блюющего и плюющего, стонущего в скарлатинном бреду, и декламирующего стихи моим гостям, играющего в футбол и избивающего одноклассника (одноклассницу), сосущего соску или матерно с ножом в руке угрожающего своему отцу (то есть мне), шлепающего по весенним лужам и молящегося в храме… До барабанного перестука в висках представлял я себе своего пока не существующего ребенка, до боли в ушах, до рези в глазах (так старательно я старался) и не мог представить. Не видел я его. Я не мог (как ни хотел) нарисовать себе его внешности. И картинки его жизни, которые я сочинял, были блеклыми, неясными, неконкретными и обозначались они только моими словами: «А теперь мой сын писает… А теперь моя дочь прыгает…» И вряд ли (я даже уверен в том) что-либо в моей жизни изменилось бы к лучшему, если бы у меня был ребенок. Просто ребенок. Ты не прав, Рома. Ребенок сам по себе ничто. Он обретает значение в твоей жизни только тогда, когда рожден самым дорогим тебе на свете, самым любимым тобою человеком. Так. Только так. И никогда не было и никогда не будет по-другому. Я услышал легкий шум, за дверью гаража кто-то спускался по лестнице. Это могла быть Ника. И, скорее всего, именно она это и была. Но спускаться также мог и кто-то еще по лестнице. Например тот, кто пришел. И я знал, как никто другой, и Рома тоже, конечно, знал, как никто другой, что при наличии самых что ни на есть благоприятных обстоятельств, даже самая что ни на есть безобидная ситуация может вдруг резко и на первый взгляд беспричинно обернуться своей противоположностью. И чтобы подобное стремительное изменение не являлось для нас, то есть людей, неожиданностью, мы, то есть люди, то есть все без исключения, должны быть к такой внезапной перемене готовы. Всегда готовы. Как некогда пионеры. Всегда… Я несильно толкнул Рому локтем. И Рома тотчас бесшумно выбрался из машины. Вынул пистолет, щелкнул затвором. Быстро подошел к двери. Встал спиной к стене слева от двери. Дверь отворилась, и вошла Ника. Рома спрятал пистолет под плащ. Лицо Ники сияло. И Ника смеялась. Я не знал, я не видел, что Ника может так смеяться – чисто, мягко, заразительно, счастливо, будто она уже умерла, и теперь знает, что ей не надо больше умирать. Ника взяла меня за руку, а потом взяла и Рому за руку, и сообщила нам, держа нас за руки, что приходил сосед и попросил ее, пока он съездит в город по делам, посидеть с его мальчиком. Он обычно летом оставлял мальчика одного. Но летом было другое дело, вокруг на всех дачах жили люди, а сейчас он боится оставлять мальчика, потому что в поселке в это время года живет не очень много дачников, и в дом может зайти кто-то посторонний и, не дай Бог, напугает мальчика, а может, гляди, и еще чего сделает пострашней с мальчиком. Сейчас столько жестоких людей вокруг. Ника сказала, что она отнекивалась и отказывалась, как могла, она сказала, что она сотни причин назвала, почему она не может сидеть с соседским мальчиком, но сосед был так жалок и так трогателен что Ника не сумела ему отказать и согласилась чтобы тот привел мальчика. И тот привел. Мальчик, сообщила Ника, отпустив наши руки и прижав льды к еще пылающим щекам, такое чудо. И хотя ему всего девять лет, как и ее Паше, но он уже мужчина. И красив фантастично. Большеглазый, полногубый, стройный. А волосы у него длинные, волнистые, светлые… Рома вынул снова из-под плаща пистолет, за ворот платья притянул Нику к себе и приставил пистолет к ее левому глазу. Ника вскрикнула неожиданно – хрипло и жалко. «Рома хочет сказать, – проговорил я, сдерживая зевок, – что ты поступила неправильно». Рома отвел ствол пистолета от глаза Ники и приставил его ствол к моему подбородку. «А теперь Рома хочет сказать, – я пожал плечами, – что и я поступил неправильно, сначала познакомив тебя с ним, а потом притащив нас всех на твою дачу» Ника, заикаясь, повторяясь и запинаясь, объяснила нам, что она, мол, предупредила соседа, что она не одна, что она с друзьями и что она приехала сюда по секрету от мужа, и что не следовало бы о том, что она здесь, на даче, не одна, кому-либо говорить. Сосед заверил ее, что он никому ничего не скажет, конечно… Рома повернул пистолет к себе и приставил его к своему виску. «Рома хочет нам сообщить, – заметил я, – что скоро всем нам крышка» – «И я во второй раз пожал плечами и предложил: «Пойдем в лес, Рома. Построим шалаш и станем в нем жить. А Ника будет приносить нам воду и пищу». Рома ударил Нику по щеке, потом еще раз и еще. «Ты сумасшедший!» – съежившись, крикнула Ника. Я сделал движение, чтобы остановить Рому, но Рома опять направил на меня пистолет и проговорил тихо: «Ты меня знаешь!» И я отступил. Ника плакала. Я погладил ее по волосам. Поцеловал со в затылок. Прижал Нику к себе. Рома ткнул Нику пистолетом в плечо и выцедил вязко: «Никогда не называй меня сумасшедшим! Никогда! Никогда!» Мальчик был действительно симпатичный. Голубоглазый, длиннобровый. Гладкокожий. Он поздоровался с каждым из нас за руку. И со мной, и с Ромой. Представился. И мы назвали себя. Я заметил, что лицо у Ромы побелело, когда он здоровался и знакомился с мальчиком. Рома пожал мальчику руку и тотчас отдернул ее. Отошел быстро в сторону, куда-то в угол гостиной, а потом шагнул к окну, а потом ступил к двери. Мальчик наблюдал за Ромой. Он смотрел на него во все глаза. С изумлением, восхищением, со страхом. Я и Ника уже привыкли к Роминому облику, а для нового человека, ни с кем из нас и с Ромой, само собой, не знакомого (коим в данный момент и приходился нам мальчик по имени Миша, девятилетний, голубоглазый, красавчик), упомянутый Рома Садик являл, конечно, собой диковеннейшее зрелище. Ростом метр девяносто, в огромном, длинном, по щиколотку, черном плаще, застегнутом снизу доверху, глухо, как в непогоду, с огромными квадратными плечами, с выпирающейся вперед грудью, с короткими волосами, стоящими ежиком, в больших темных, совершенно непроницаемых очках, с допотопным наушником слухового аппарата в левом сейчас ухе – было отчего, несомненно, бедному розовощекому, невинному, о Великой Жизни еще не ведающему, стеснительному, в ужас прийти. Чтобы маленького не перекосило окончательно и чтобы он, занимательный, не сделался тут у нас заикой в одночасье, я поспешил объяснить девятилетнему, кто есть кто, а вслед зачем и почему… Я сказал юному, что дядя Рома человек далеко нездоровый, и можно даже сказать, окончательно больной. Краем глаза я заметил, что при этих словах Рома остановил свой бег по комнате, вытянулся, напрягся и засунул невольно-непроизвольно руку под плащ, чтобы пистолет достать, видимо, а может быть, просто вспотевшую грудь почесать – наверное. Дело в том, продолжал я свой рассказ, что дядя Рома долгое время жил в Африке. Очень долгое время. И потому, естественно, привык к се жаркому и душному климату. И привык настолько, что температура меньше двадцати пяти градусов по Цельсию кажется ему ужасающим морозом. И именно потому, и только потому, дядя Рома сейчас ходит в таком теплом плаще. Мальчик чуть расслабился и понимающе кивнул. А еще я рассказал, что однажды во время охоты на львов дядя Рома сцепился в смертельной схватке с вожаком львиной стаи и что дядя Рома, конечно, вышел победителем, но коварный лев тем не менее повредил дяде Роме глаз, и с тех пор дядя Рома ходит в очках. Мальчик сочувственно покачал головой, и я увидел, что он чуть не заплакал. Но на этом африканская история дяди Ромы не кончилась, предупредил я, подняв многозначительно вверх указательный палец. Спроси по всей стране, расставив руки, вопрошал я, кто лучший из всех певец, плясун и застрельщик шальных хороводов, и ответят тебе, нелюбезные, кто сможет, если сможет, говорил я, что звать такого не иначе как Рома. Слава у Ромы была высока и широка и длинна. Ах, как счастлив был Рома… Но вышло так, что на очередной африканской охотам в Африке называется простым русским «сарафан» или «сафаран», не помню, отмахнулся я, не имеет значения, как-то ночью по палатке, где почивал плясун, певец и застрельщик, прошло стадо слонов, и все те слоны, как один, наступили дяде Роме на уши, на все сразу и по отдельности тоже. И с тех пор у дяди Ромы нет слуха, будто слон ему на ухо наступил. И болят теперь у него уши, будто много слонов ему на ухо наступило, и, вообще, уши теперь просто плохо слышат, словно еще, мать его, миллионы слонов затоптали их внутрь… «Медведь», – подсказал осторожно мальчик. «Что медведь?» – не понял я. «Медведь на ухо наступил, – сказал мальчик. – Так, по-моему, говорят, когда у человека нет слуха» – «Вот те на, – всплеснул я руками, – Ну, подумай сам, откуда в Африке медведи…» – «Все не так, – вдруг закричал Рома, – все не так!» Подбежал к нам. Оттолкнул меня. Наклонился к мальчику, взял его за руку, улыбнулся ему, рот от уха до уха растянув, заговорил быстро. Рассказывал. Да, он, конечно, не раз один на один дрался со львами и вообще со многими разными животными, включая пернатых, рыб и различного вида пресмыкающихся. Но никто из них, никогда, ничего ему не повредил. И потому совсем он и не больной, а очень и очень даже здоровый, такой здоровый, каких вообще на этой земле и не бывает. Он самый здоровый из всех наиболее здоровых. Вот так. И плащ он носит совсем не потому, что он мерзнет, а потому, что он до следующей африканской охоты должен сохранить свой африканский запах. Это необходимо для того, чтобы как можно ближе подбираться к животным, за которыми охотишься, и бить их, пакостников, уже наверняка. А очки Рома носит только для того, чтобы не портить свое уникальное зрение, которое он натренировал с помощью могущественных африканских колдунов. Зрение его развито так, что он видит то, что никто не видит. Он видит далеко, как, как другой такое только в бинокль самый наимощнейший может различить. Соринку Рома видит в глазу у капитана корабля, что на самом горизонте по океану у черных африканских берегов проплывает. А в Москве, вот тут, в городе родном, ему такое зрение и не так и необходимо, именно потому он, соответственно, как человек осторожный и дальновидный, и хранит свое волшебное зрение под темными очками. То же самое, продолжал Рома, и с его слухом. Он тоже уникален до безобразия, и потому здесь Рома предохраняет его с помощью слухового аппарата, который смягчает звуки города и делает их не такими резкими и острыми. Вот так, значит, говорил Рома. Он. Рома, например, может отличить по звуку, какие волосы, допустим, на зебре в данную конкретную минуту быстрее растут, белые или черные. «Между прочим, о зебрах, – заметил Рома. – Ты, наверное, знаешь, Михаил, что существует несколько разновидностей этих чудесных, красивых и вообще просто удивительных полосатых животных?» Мальчик, завороженный, покрутил головой – отрицательно. «Ну, так слушай», – важно сказал Рома и принялся рассказывать про зебр. Выяснилось, что Рома знал про зебр все. То есть просто все, вплоть до частоты их мочеиспускания в разных районах африканских заповедников, А еще Рома все знал про носорогов. И про гепардов Рома тоже все знал. И про бегемотов Рома также знал такое, что я даже и вообразить себе не мог. Ну, например, что бегемот каждое утро внимательно обследует свой… Хотя не надо, наверное, об этом. Не совсем прилично такое поведение бегемота. Хотя девятилетний слушатель такую привычку животного одобрил. Миша сообщил даже, что он сам такое иногда по утрам проделывает. Многое также мы – мальчик, Ника и я – узнали и об образе жизни, о биологическом строении, о характере и рационе питания жирафов – и самца, и самки, и детенышей. А еще… Я не помню уже, о каких еще животных рассказывал мальчику Мише старый солдат Рома Садик, но рассказывал он много, с азартом, со страстью, интересно, занимательно-захватывающе и подробно, то и дело сбиваясь на специальные научные термины и ссылаясь на книги зарубежных авторов. И чем дальше рассказывал Рома свои рассказы, тем крепче сжимал ему руку мальчик Миша и тем восторженней становился взгляд мальчика, и тем шире открывался его розовый рот, и тем краснее делались его аккуратные уши. Рассказывая, Рома смотрел в упор на мальчика. Правой рукой гладил мальчика по его податливым шелковистым длинным волосам и забирался пальцами под волосы, и касался шеи мальчика, ласкал его хрупкую шею, осторожно сжимал его несильную шею, неосторожно сжимал его мягкую шею… Я видел слезы на щеках Ромы… Мальчик вскрикнул удивленно. Видимо, Рома слишком сильно сдавил ему шею. Я встал тотчас с кресла, на котором сидел. И Ника поднялась в тот момент. И опередила меня. Ухватила Рому за руку и отвела ее от мальчика. И сказала мальчику; «Дядя Рома сегодня устал. Дядя Рома хочет отдохнуть, – и, повернувшись к Роме, спросила Рому: – Правда, дядя Рома?» – «Да, – не колеблясь, согласно кивнул Рома, – конечно. Надо отдохнуть. Я сейчас пойду и отдохну» И пошел на самом деле. Даже не пошел – побежал. Перескакивая через несколько ступенек, взобрался по лестнице на второй этаж. Затопал грохочуще по полу. Тот, топ, топ, бум, бум, топ, бум, топ, бум, топ, топ, бум, бум, топ – вот так топал и грохотал чем-то Рома на втором этаже. Он, как мы слышали, заходил в ванную и включал воду на полную мощность. Затем выключал воду и выходил из ванной. И топал в спальню. Там скакал, прыгал, бил по: полу каблуками, передвигал что-то. Кричал, как мы слышали (или нам так казалось). И, наконец, затих, скрипнув кроватью. И как только он затих, молчащая до этого Ника – она сидела на диване рядом с мальчиком, прижав его к себе, – сказала: «Тебя зовут не Миша. Тебя зовут Мика. Так красивей. Правда. Правда. Мика. Тебя зовут Мика. А меня зовут Ника. Мы с тобой будем как братик и сестренка. Ты Мика, а я Ника…» При словах «братик и сестренка», произнесенных Никой, я вздрогнул невольно и поежился, будто кто-то мне в спину прицелился. Будто. Я обернулся. Никто не целился, слава Богу. Ника смеялась, обнимая юного. Мне показалось (опять показалось, но креститься я не стал), что смех Ники похож на звук пенящейся водопроводной воды в сливном бачке в туалете моей брошенной (может быть, навсегда) квартиры. Очень нежно, я помню, и женственно журчала вода в сливном бачке. Очень нежно и женственно. И мелодично. Иногда, сидя на стульчике, я подпевал мелодичному журчанью. А однажды даже сочинил песенку, вернее, мотив песенки, хотя нет, целую песенку, со словами, И был невероятно счастлив, что сумел сочинить наконец музыку. Мне ведь так хотелось сочинять музыку. Однако и на этот раз композитором мне не суждено было стать. Через день – через два, я не помню, я услышал свою мелодию, сочиненную мною в туалете на стульчике, под журчанье сливного бачка, по телевизору. Оказалось, что эта мелодия давно, мать ее, уж сочинена и принадлежит она композитору по фамилии Микаэл Таривердиев, а слова, оказывается, принадлежат поэту А. Пушкину или поэту М. Лермонтову, или поэту Р. Рождественскому. Обидно мне было несказанно. (А я никому об этом и не сказал. Переживал я долго. Минуты две. Маялся, Рвал рубаху на груди. Стонал. Кричал. Часто опорожнялся. И по-малому. И по-большому. И по-всякому другому. По-разному. Ну что поделаешь. Ушедшее не вернуть…) И вот сейчас вновь, слушая журчащий смех Ники, мне захотелось напеть какую-то мелодию, которую рождал во мне смех Ники – нежный и женственный. И я напел. Вот так звучал мой напев. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Неплохая мелодия, кстати, оценил я. И еще раз я ее напел. И что-то мне в ней вдруг показалось знакомым. (Так уже было однажды.) Где-то, по-моему, я уже слышал такую мелодию. Опять я украл у кого-то мелодию! Ах! Я ударил что есть силы себя кулаками по коленям. Силы были. И колени мои заболели. Чтобы не поддаваться вновь соблазну сочинять музыку под журчащий смех Ники, я решил уйти из комнаты. Покидая комнату, медленно и печально, я заметил, что, смеясь журчаще, Ника пощипывает девятилетнего легонько за щеки, за уши, за лоб, за виски, за ляжки, за шею, за коленки, за бока, за ягодицы, за икры, за пятки, и вновь за ягодицы. И выше, и выше, и выше. Я на кухне не стал сигаретку курить. Не хотел потому как. Бутерброд себе соорудил вместо того американский, в полбатона, с ветчиной, с майонезом, с консервированным перцем и с горчицей иностранной. Вкусно. Жевал, жевал. И опять вкусно. Жевал и слушал, как в комнате Ника Мику развлекает всякими глупостями, Сначала Ника хотела Мику сказками развлечь. И стала ему про трех богатырей рассказывать. А Мика отвечал, что знает он эту сказку. Наизусть. Мол, он и сам ей рассказать ее может. Тогда Ника принялась невзрослому про мальчика-с-пальчика рассказывать. И от той сказки Мика-Михаил отмахнулся. Ника не сдалась и начала про Насреддина истории пересказывать. И на это мальчик что-то недовольное пробурчал. Ника не стерпела и додумалась, по такому случаю, «Декамерон» мальчику наизусть читать. Мальчику, как я понял, Дж. Боккаччо пришелся, – в цвет попал. Куда надо въехал. «Мне нравится этот мальчик», – отметил я. Я дожевал бутерброд. Запил его газированным боржомом. Довольно облизнулся и подумал, а почему бы мне не подышать свежим воздухом. Благо, что за окном я видел сад. Природу. Не Москву. Загород. Из кухни на улицу вела дверь. Черный выход, так называемый. Дверь выходила во Двор, я остановился на пороге, осторожно огляделся, осмотрелся. Спереди забор, заросший густыми зарослями каких-то кустов, наверное, малины, и каких-то деревьев, наверное, сирени, а может быть, акации, а может быть, кипариса, а может быть, секвойи. Одним словом, с другой территории меня было не видно. Вот так. А до забора справа и слева расстояние замечалось приличное. И потому слева и справа тем более меня никто увидеть не смог бы. Я ступил на траву. Затворил за собой дверь. Направился к увиденной под яблоней маленькой лавочке. Смахнул с нее дневную влагу. Сел с удовольствием, вдохнул глубоко, раз, другой, посмотрел на небо, голову задрав, щурился от пробивающегося сквозь жидкие тучи солнца, то и дело пропадающего, и вновь возникающего, тихого, спокойного, нежаркого, скромного, усталого, почти спящего. Во саду ли в огороде, однако, не зябко. Понизу, над землей и под деревьями тепло скопилось, парное, мокрое, приятное, летнее – хотя и осень уже с ветки на ветку скачет. Тепло меня обнимало по-родственному, терлось по-кошачьи о разные части моего большого тела, мурлыкало что-то… А мне было, собственно, глубоко наплевать на него, на тепло. Да хоть бы и студеная колючая зима сейчас на улицах стояла, мне и на нее плевать было бы. Мне, вообще, сейчас, вот в ту минуту, про которую я говорю, на все плевать было. Плевать наплевательски. Тьфу, и все тут, мать вашу. Не хотел я ныне даже ни о Нике, ни о Мике и ни о Роме думать-гадать. Не хотел также и в их тягучее сознание внедряться. Отчего я в такое состояние впал, не знаю. Но попробовал себе объяснить. Наверное, думал я, столько усталости у меня за все годы последние, несколько, десять, примерно, скопилось – и душевной, и физической, – что вот сейчас как раз настал тот момент, когда психика моя, предохранялась от того, чтобы не сломаться окончательно, выбрала вот такой вот путь безопасности и самозащиты – на какое-то время (уверен, что не навсегда) поставила между мной и миром прозрачный чистый барьер. Вот там, мол, мир, а вот тут, мол, я, и друг другу мы, к нашему всеобщему счастью, не касаемся. И в ближайшее время касаться не хотим. И мысли мои сейчас текли свободно. Неконтролируемо. Разные. …Наверное, вот мое предназначение – садоводство. Возьму лопату, тяпку, грабли, надену старые спортивные штаны с вытянутыми коленками, резиновые сапоги, кепку затруханную, дедовскую еще, и стану копаться в земле, сажать, подрезать, удобрять, растить и радоваться плодам. Так хорошо! Так хорошо! Солнце. Воздух. И вода. И никого рядом. Один. И можно ни о чем не думать. Никогда… …Все Никины трусики, которые я снимал с нее в те редкие разы, когда мы занимались с ней любовью, я вижу во сне каждую ночь. Во сне они живые. С ножками и ручками. Они водят хороводы и поют сексуальные песенки… …Дуракам везет, я слышал с детства, говорят. Неправда все это. Дуракам никогда не везет. Они же дураки. …Я на войну, помню, пошел затем, чтобы посмотреть, кто я такой, И зачем я. При всей трусости моей природной, как я мог на войну решиться? Изумлен до сих пор. При всей трусости моей природной отваги мне не занимать. Неужели такие противоположные вещи могут уживаться в человеке? Трусость и отвага. Борясь друг с другом, они разрушают человека. Или, может быть, наоборот, делают его крепче, сильнее, мужественнее? Черт его знает! Черт его знает!… …Будь я богат, как Крез, как кардинал Спада, как английская королева, как нефтяной арабский шейх, имея я дома и квартиры по всему миру, я жил бы только здесь, в этой стране. И я работал бы только на эту страну. Но… до тех пор, пока у нее не все в порядке. А как только она сравнялась бы, допустим, с той же Францией или Италией, например, можно было бы подумать и о том, чтобы поехать в Сан-Тропез и отдохнуть там годок-другой… …Почему-то после того, как я вернулся с войны, мой покойный отец больше не приходит ко мне по вечерам, по ночам. Он поднялся выше? Перебрался в другой информационный слой? Мне часто не хватает твоей защиты, отец… …Прав Ницше: если знаешь, ради чего, то можно победить любую жизненную неурядицу, преодолеть любую преграду. Любую! Ницше знал. А я не знаю… …Я заметил, что многие люди не любят жить, но боятся умирать. Парадокс… …Я не сожалею, что за свою жизнь я убил не один десяток человек. И дело даже не в том, что эти люди являлись моими врагами и могли убить меня. Просто с недавних пор я приказал себе никогда ни о чем не сожалеть… …Еще недавно совсем, вот-вот на днях, вчера, позавчера, неделю назад, месяц, недавно еще мне казалось, что Для того, чтобы ощутить радость, удовлетворение, удовольствие, счастье – сегодня, надо быть уверенным, что завтра тебя ждет прекрасный, легкий, спокойный день. Ожидание хорошего завтрашнего дня и есть счастье сегодня. Но сейчас я так уж не думаю. Вернее, не чувствую, что это так. тому что осознал вдруг, и самое удивительное, что не на войне, а вернувшись уже к мирной жизни, осознал, что завтрашнего дня у меня может и не быть. И поэтому мне нечего ожидать. Я обязан жить и радоваться жизни сейчас, в данную секунду, в данный момент, в данное мгновение. Потому как следующего мгновения у меня может не случиться. …Не надо бояться страданий. Страдания дают нам силу. Страдание – это прежде всего преодоление себя. Страдание – это последний этап на пути к счастью. У кого как, правда. Но тем не менее все равно не надо бояться страданий. После них придет или счастье, или смерть. …Я часто рассуждаю о людской зависти, хотя знаю, что не имею права о ней говорить. Потому что сам никогда не испытал ее. Зависть не всегда вредна. Нередко она способствует прогрессу, эволюции, созиданию. Бывают минуты, когда мне очень хочется кому-то позавидовать. Я прилагаю все силы в те минуты, чтобы вызвать у себя чувство зависти. Пока безуспешно… …Никогда, никому и ничему не давать оценок – вот к чему мне надо себя приучить… …Я часто слышу, что никогда не надо задаваться вопросом, зачем ты живешь. Мол, любой ответ на этот вопрос не принесет ничего, кроме дурного настроения. Я раньше и сам так думал. Сейчас я думаю иначе. Вся моя прошедшая жизнь говорит мне, что я должен думать иначе. Для того чтобы мне нормально и комфортно жить дальше, я должен четко знать, зачем мне жить дальше… Я так, может быть, еще долго разгульно распускал бы свои мысли и не вспоминал, что одиноко сижу на лавочке под яблоней, в тепле, под жухлым солнцем, с редким сердцебиением, успокоенный, как если бы не испуганный крик, пронесшийся сквозняком по даче и выскочивший через черный ход на улицу, если бы не крик, я бы не встрепенулся и не вернулся к себе, и не встал бы скоро и не помчался к даче, если бы не крик. В гостиной я застал такую картину. Мика и Ника лежали на диване. Мика снизу, Ника сверху. Мика кричал. «Мика, Мика, не кричи, – громким шепотом успокаивала Ника Мику. – Ты же мой братик. Я ничего тебе плохого не сделаю. Я только поглажу тебя, Я только потрогаю тебя. Я только поцелую тебя. И все. И все…» Я остановился в двух шагах от дивана, за спинкой его. Сунув руки в карманы джинсов, наблюдал за тем, что происходит. В сложившейся ситуации мне не виделось угрозы ничьей жизни. А потому разрешить эту ситуацию надо было корректно. И поучительно. …Я мог ведь плюнуть на все и уехать с этой дачи в конце концов. И ни для кого не секрет, и для меня тоже, что я нашел бы себе место, где сумел бы отсидеться тихо, без забот. Меня научили выживать. (И к тому же одному мне, конечно, было бы гораздо спокойней, чем вот в такой вот компании.) Но я знал, что не плюну и никуда не уеду. Потому что я ведь отвечал, как ни крути и не верти, за этих двух людей. За этих самых близких и самых дорогих мне людей… Мне оставалось одно – для начала выключить телевизор возмущенно. На телевизионном экране два здоровенных мужика, ярясь и с каждой секундой стервенея, отчаянно трахали худую, маленькую, но крупногрудую девицу. Все трое стонали, хрипели и рычали. При иных обстоятельствах я бы с удовольствием досмотрел бы до конца эту кассету. Нечасто в порнографических лентах я видел такую отдачу от актеров. Но сейчас пока я обязан был возмутиться. Я подошел к телевизору и выключил его. Потом шагнул к Нике, цепко ухватил се за плечо и потянул женщину вверх. Ника вздрогнула, оторвала губы от испуганного до смерти мальчика и подняла на меня ошалевшие от похоти глаза – серо-голубые, вспотевшие, прозрачные, яркие, светящиеся, нечеловеческие, неземные, инопланетные. Мне, когда я в глаза ее вгляделся, разом расхотелось кричать на нее, обвинять ее, учить ее, расхотелось вообще что-либо и плохого и хорошего говорить ей. И пропало желание также что-то делать с ней – допустим, встряхивать ее, толкать ее или бить ее. Я видел, я понимал, что сейчас она счастлива, как никогда. Она вернулась. Она снова любила Брата. Чисто и искренне – по-детски, как не смогла бы уже любить никогда. Сейчас она заново переживала те истинные минуты счастья, которые каждый из нас, хоть однажды испытав подобное, хочет повторить, хотя бы раз, хотя бы наяву, хотя бы в воображении, но чтобы ощущение было, что все-таки как наяву. Жестоко с моей стороны сейчас было бы укорачивать эти ее минуты. Но еще более жестоко было бы оставить все как есть. Хотя, собственно, что мне этот мальчик? Кто он мне? Обыкновенный чужой мальчик. Я вообще не очень люблю детей, а тем более чужих… Ника неожиданно укусила меня за руку, которой я сжимал ее плечо. Тогда другой рукой я взял Нику за горло и легонько сдавил его, прижав саму Нику к спинке дивана. «Ему всего девять лет, – сказал я, улыбнувшись и кивнув на мальчика. – А не четырнадцать. И инстинкты у него еще не развиты. Пока. И поэтому вот это, – я указал пальцем свободной руки на телевизор, – сейчас может принести ему только вред. Происходящее на экране может вызвать у него испуг, шок. А страх в таком возрасте, как правило, подавляет развитие сексуальной активности. Страх приводит к тому, что секс начинает казаться подростку чем-то неестественным, неприятным и даже преступным. – Я улыбнулся еще шире и чуть ослабил хватку своих пальцев на шее Ники. – Я понятно говорю? Повторять не надо? Хорошо. – Я одобрительно кивнул. – Теперь второе. Ты ошиблась объектом. Я понимаю, это произошло случайно, независимо от твоей воли, но тем не менее произошло. Ты забыла, что твой основной на сегодняшний день сексуальный объект – это я. Все, что ты хочешь найти в мужчине, ты найдешь во мне. Силу. Нежность. Умение. Страсть. Красоту. Ум. Опасность. Исключительность. Выносливость. Обаяние. Жизнестойкость. Остроумие. Усмешливость. Смех. Слезы. Искусство. Походку». В то время, пока я произносил такие завлекательные, на мой взгляд, для любой женщины слова, я успел снять свои пальцы с шеи Ники, взять Нику обеими руками под мышки, бережно приподнять ее и поставить ее на ноги возле дивана. Я пригладил затем ее спутавшиеся волосы, провел рукой по ее щекам, улыбаясь и заглядывая ей в глаза, добро и мягко, и говорил, говорил: «Я не плохой и не хороший, – однажды охарактеризовал себя Наполеон Бонапарт, – я надежный». И с полным правом я могу отнести к себе его слова. Я не плохой и не хороший, дорогая моя Ника, я надежный. А еще я честный. А еще я трудолюбивый. А еще я упорный. А еще я… Черт подери, да я просто ходячий сосуд всевозможных достоинств. Может быть, все-таки попробуешь полюбить меня. – Ника потерлась лбом о мой небритый подбородок, погладила меня по затылку. Я засмеялся. – Подожди, малыш, – сказал я сидящему на диване и с испугом глядящему на нас мальчику Мике. – Мы сейчас». Я обнял Нику за талию и осторожно подтолкнул ее. И мы пошли. На кухне, как только я закрыл за собой дверь, выдохнув веско, я прижал Нику всем своим телом к той самой только что закрытой мною двери и впился своими губами в се влажные губы, руками одновременно гладя, с усилием, быстро, женщину по талии, по бедрам, по ягодицам, под платье забираясь, шелковые трусики, маленькие, приспуская. Как ни вертела Ника головой, не удалось ей от моих губ оторваться. И она притихла, присмирела и даже прижалась сама ко мне и ответила с приглушенным хрипом на мои поцелуи. Но только через несколько минут уже, когда я посадил ее на кухонный, разделочный стол и стал свои джинсы расстегивать, тяжело дыша и приговаривая: «Сейчас, сейчас, сейчас…», только тогда Ника что есть силы оттолкнула меня и крикнула: – Нет! Не надо! Подожди! Потом!» И заплакала и ударила меня кулачками по плечам и по груди. И тогда я по щеке се без замаха несильно шлепнул – по одной и наотмашь еще слабее – по другой. Ника встряхнула головой, Поморщилась. И вдруг обняла меня крепко. Горячей мокрой щекой к моим открытым глазам прижалась и что-то зашептала неразборчиво и быстро и, обращаясь, наверное, не ко мне, а к кому-то другому, кто сидел рядом с нами или стоял рядом с нами, или лежал рядом с нами, или летал рядом с нами. И Ника и Рома, я заметил, когда находились возле, меня и должны, казалось бы, были рассказывать что-то только мне и никому другому, потому что вокруг никого больше не было, иногда, нередко и даже очень часто свои рассказы неясные и, как правило, невнятные адресовали совсем иному собеседнику – невидимому, неслышному и неизвестно, вообще, существующему ли. Может быть, они обращались к духам умерших родителей, друзей, возлюбленных, детей. Или они обращались к Богу. И может быть, и это, конечно, было бы очень лестно для меня, я являлся для Ники и Ромы тем самым проводником, который и осуществляет их связь (как им казалось, конечно) с Высшими силами. А может быть, я подмигнул сам себе, так оно и есть на самом деле? Я засмеялся от этой мысли. Ника сжала мою голову руками, посмотрела мне в глаза, спросила тихо: «Ты правда любишь меня?» И я почему-то смутился тотчас, отвел глаза, отнял от своего лица руки Ники, поцеловал руки – и одну, и другую и сказал весело: «Я хочу есть, дорогая. Пора». Ника сварила много макарон. Открыла две банки с консервированной датской колбасой, ароматной, острой, пахнущей настоящим копченым мясом. А я открыл еще две банки болгарских помидоров. Когда все было готово, я поднялся на второй этаж позвать Рому. Рома лежал на полу, одетый, рядом с кроватью, сложив руки на груди, как покойник. «Иду», – сказал Рома, едва шевеля губами. Он не спал. И не дремал. Он просто лежал. Со сложенными на груди руками. Как покойник. Ели мы молча, Я слышал, как летали комары у окна, вялые, незлые уже. Не комары уже. Ника с мальчиком вместе не села, казенно улыбаясь, меня вместо себя подсадила, а сама чуть поодаль за столом примостилась, за которым мы обедали, все четверо, разные. И потому именно мне пришлось за маленьким ухаживать, пищей его, капризного, потчевать, рот ему, слюнявому, подтирать, – а он, благодарный, не отбрыкивался, как должное все принимал – и заставлять его съесть побольше для того, чтобы таким, как мы с дядей Ромой, стать, высоким и крепким. Смотреть несмышленого на Рому не надо было приглашать. Он и так на Рому глядел, и украдкой и открыто, и снизу, и сбоку, и с таким выражением глаз, будто не на Рому смотрел, а на птицу невиданную, заморскую, гигантскую, золотоперую, да еще по-человечьи разговаривающую. Смотрел. А на Нику ни разу так и не взглянул, я приметил. Будто и не было Ники как таковой на самом деле, будто там, где сидела Ника, не сидел никто. И Ника, в свою очередь, тем же отвечала, то есть тоже в сторону недоросшего ни одного взгляда не бросила. (И ни одного слова даже, ни доброго, ни злого, за весь обед ему не сказала.) Рома сжевал последнюю макаронину. Утер салфеткой губы. Поблагодарил Нику. Поднялся. И тут мальчик Мика жалобно попросил, решившись, чтобы дядя Рома рассказал ему еще что-нибудь про охоту в Африке, про тот самый «сарафан» или «сафаран». (Мне показалось, что в глазах у Мики промелькнула усмешка, когда он говорил про «сарафан».) Я сказал, что дяде Роме необходимо сейчас отдохнуть. Он устал. Он плохо себя чувствует. Он болеет. И Рома тотчас возразил, что нисколько не устал и уж тем более совершенно не болеет и поэтому он с удовольствием расскажет мальчику Мике об охоте в Африке. И Рома поведал, и юному, и нам всем, кто был в гостиной, как он на веревочные силки ловил взбесившихся слонов, как вскакивал верхом на носорогов и гонял их по саванне до тех пор, пока они не валились с ног от усталости, и тогда он делал с ними все, что хотел (я чуть было не спросил Рому, а что же все-таки он, Рома, с ними делал, но не стал уточнять, потому как подумал, посмотрев на Рому, что ничего дурного и срамного он, конечно, с носорогами не делал), как ловил ядовитых змей, приманивая их своим открытым ртом, – змеи полагали, что Ромин рот это уютная норка и с радостью ныряли туда, а Рома в мгновение, хрясть, и откусывал глупым змеюкам головы, как, надев на себя шкуру самки гепарда, подкрадывался к гепарду-самцу и в момент, когда тот подходил ближе, привлеченный запахом и видом шкуры, набрасывался на гепарда, заламывал ему лапы за спину и надевал на доверчивого стальные наручи… то бишь стальные налапники, как, летая над саванной на легком и бесшумном планере, обыкновенным сачком ловил редких птиц, как однажды стал вожаком обезьяньей стаи… С каждым рассказанным эпизодом из своей африканской жизни Рома становился все уверенней, а голос его звучал все тверже. Рома размахивал руками, топал ногами, вертел головой, крутил плечами, а в самых напряженных местах грохал огромным кулаком по столу. Смеялся и плакал, жил… Мальчик выбрал удобный момент – сумел втиснуться в короткую паузу – и спросил Рому, а что же он потом делал с поверженными животными. И Рома ответил, что съедал их всех к чертовой матери, всех, на хрен, чтоб не повадно было. (Но что не повадно, не уточнил). И мальчик Мика опять спросил. Он спросил так: «Что самое страшное для охотника – убивать животных, есть их или снимать с них, теплых еще, шкуры?» Вопрос застал Рому врасплох. Он повернул свои очки к мальчику и некоторое время молча изучал его. Потом сказал негромко, что страшнее всего, конечно же, снимать шкуру, вынимать внутренности – не неприятнее, а именно страшнее. И мальчик тогда попросил. Он попросил, а пусть дядя Рома покажет, как он снимал шкуры с убитых животных. «Ты очень этого хочешь?» – глядя на свои руки, лежащие на столе, поинтересовался Рома. «Очень», – просто ответил мальчик Мика. И Рома тогда взял со стола большой мясницкий нож, которым мы только что резали датскую колбасу, умело и привычно устроил его у себя на ладони, повернулся к мальчику и, слабо шевельнув жесткими напряженными губами, проговорил: «Обычно я начинаю с горла». И стремительно вдруг вытянул руку с ножом в сторону мальчика и приставил острие ножа Мике к горлу, и улыбнулся, увидев капельку крови на шее мальчика… «А затем я делаю так», – сказал Рома и быстро провел острием ножа вдоль тела мальчика, от горла до пояса. Разрезанная рубашка обнажила белое тело. От шеи до пупка тянулась алая царапина – кровоточа чуть. Мастером слыл Рома и был таковым и не забыл, как я понял, своего мастерства – явно тренирован был. Мальчик Мика без испуга, не моргая, напрягшись, смотрел на Рому – прямо, – не отводя глаз, точно в его поблескивающие очки, не шевелясь. Даже на рубашку и на тело под ней свое не взглянул – за ненадобностью. Рома не долго взгляд Мики выдержал, засмеялся вдруг деланно, неестественно громко, встал резко и шумно, едва стол не опрокинув, оттолкнув, с места его сдвинув, стул ногой от себя отшиб назад, а рукой правой нож отшвырнул дерганным движением в сторону и крупными шагами очень скоро двинулся к выходу из кухни, дверь закрытую ногой пнул, почти не остановившись, пошел, пошел, сразу же, не мешкая, вниз, в подвал, в подземный гараж, – не наверх, не в спальню. «Бежать захотел? Уехать решился?) Ника поднялась, направилась вслед за Ромой. «Я посмотрю», – сказала. Я пожал плечами. Не спеша допил чай. На мальчика Мику не смотрел. Чтобы не смущать мальчика Мику. Но через минуту все же не выдержал,взглянул. Теперь глаза его не были сухими. Я заметил в них слезы. Мальчик плакал бесшумно. Не морщился, не кривился, не всхлипывал. Только лишь глаза выдавали то, что он плачет. Слезы блестели на ресницах, темнели на щеках, текли по подбородку. Я вытер мальчику лицо, грубо, сильно. Пальцами выдавил остатки слез из глаз. Мальчик не сопротивлялся. Я взял его за подбородок, повернул его лицо к себе, посмотрел Мике в глаза, сказал, улыбнувшись: «Ты станешь великим, малыш. Поверь мне». Вернулась Ника, сообщила: «В гараже подсобка есть. Маленькая. Три на три. Камера. Он там. Изнутри заперся. Бормочет без остановки что-то. Я не поняла. – Ника откинула волосы со лба назад, добавила тихо: – Он сумасшедший». Я не услышал осуждения в ее голосе. Хотел услышать. Но не услышал. «Мальчику пора спать», – сказал я. «Да, да, конечно, – кивнула Ника. – Он ляжет в комнате рядом с нашей спальней. Стенка в стенку». Мальчик деловито разделся. Забрался под одеяло. Выходя из его комнаты, уже на пороге, я предупредил: «Если что, кричи. Громко» – «А что, если что?» – резонно спросил мальчик. «Ну, мало ли, – я усмехнулся. – Спи». Я снял с Ники платье, не спеша, предвкушая удовольствие. Целовал Нику, пока снимал платье, везде, где мог. Когда платье Ники оказалось на полу, я сбросил с себя рубашку, кроссовки, джинсы, трусы. Не забыл снять и носки. Это чрезвычайно важно – не забыть снять носки. Осторожно и нежно уложил Нику в постель. Ласково шепча ей на ухо самые сладкие непристойности. (В постели любые непристойности обретают, как ни странно, совершенно иное значение – они становятся желанными, необходимыми и сладкими… Да, чуть не забыл, и еще они становятся целомудренными.) Я приспустил с Ники трусики, коснулся языком мягких губ ее влагалища. Но во второй раз Ника не позволила мне коснуться себя, оттолкнула мою голову двумя руками. «Прости, – сказала громким шепотом. – Я не могу. Пожалуйста, потом. Хорошо?» – «Хорошо, – сказал я. А что я мог еще сказать? – Хорошо». Я лег на спину, заложил руки за голову. Закрыл глаза. Я решил вспомнить весь сегодняшний день. Подробно. Концентрируясь на деталях. Через минуту, через две понял, что мне что-то мешает. Ну, конечно же, мне мешала Ника. Поток чувств, идущий от нее, был необычайно силен. Я мог бы, наверное, заставить сейчас себя поставить с помощью волевого усилия защитный барьер между собой и Никой, мне казалось, что я уже немного научился это делать, но тем не менее делать этого не стал. Я хотел как можно больше знать о Нике, и совершенно не имелось у меня страха от того, как в случае с Ромой, допустим, что я что-то эдакое растакое о Нике могу разведать, что меня от нее отвратило бы, а самого меня в печаль-тоску загнало бы, и отрезало бы все возможные и невозможные пути к отступлению. Или наоборот. Да, так сложилось уже за эти дни, короткие, но заметные, что я от Ники ничего не хочу, мне надо, чтобы только она была, и всего лишь, и чтобы только позволяла на себя смотреть и себя слушать и, если повезет, заниматься с собой любовью, а там уж дальше как пойдет. Не прав, вероятно, я. И кое-кто может меня осудить, заявив на такие мои слова, если бы услышал, что же ты, мол, парень, как девка бесперспективная себя ведешь, борись, мол, за свою любовь, за свое счастье, за жизнь добрую и незлобливую. А если ей любви моей не надо? Зачем тогда мне, ее любящему, ломать ее, жизнь ей портить, топтать се, в пыль изводить? Я бы так сумел. Кто бы сомневался. Но не хочу… Разумеется, Ника не могла заниматься со мной любовью, когда рядом, там, через стенку, совсем близко, так близко, что тепло его она ощущала и дыхание слышала, и Даже сны его – догадывалась – смогла бы вместе с ним -увидеть, спал тот, который был так похож, как две капли воды, на ту РАДОСТЬ единственную, что в жизни ее случилась, на брата любимого, божественного. Ника улыбнулась тихо, про себя, блаженно и умиротворенно. Ведь сложись по-иному, она не сомневалась в том нисколько, и у них с братом все пошло бы, как им хотелось, и вместе бы они оказались, то никогда и ни в какие времена ей никто уже, кроме него, не был бы нужен, да и не взглянула бы она ни на кого никогда и уж тем более не позволила к себе никому прикоснуться, не говоря уж даже о дружеских поцелуях и тем более не говоря уже о постели. Чур, чур, меня! Зачем? Если у нее все есть – все, все, все, – о чем только можно мечтать. Есть ТОТ, ради которого она живет. И есть ТО, ради чего люди и рождаются на этот свет – ЛЮБОВЬ. И не было бы, конечно, можно и не повторять, у нее в жизни стольких мужчин и стольких женщин. Незачем. Незачем. Если и появлялось у нее к кому-то какое-то чувство (после того, как стали тихнуть воспоминания о брате), так то только от безнадежья и отчаяния ожидания. И чаще благодаря воображению и фантазиям неудержимым – хотелось ведь, ну, конечно же, хотелось, тепла и участия, и уюта. Ну, а кому же не хочется? То-то и оно. И еще много и много чего не было бы в се жизни, того бесполезного, что время отнимало, но ничем его отнятое не восполняло. Шесть лет, может быть, больше, а может быть, меньше, она его ждала. Надеялась на чудо, – а вдруг встретит она его на улице, или в кинотеатре, или во дворе, или в музее (например, в музее народного творчества), или в туалете на площади Маяковского, или на пляже в Серебряном бору, или там, где двадцать восемь героических панфиловцев отстояли Москву, или в пионерлагере на Пахре, или в ночь выпускного бала на смотровой площадке на Ленинских горах, или в лесу за деревом, или на рынке за прилавком с помидорами, в плоской блинообразной кепке, с усами и металлическими зубами впереди, или неожиданно обнаружит его у себя в кармане, укромно и секретно там затаившегося, или в поликлинике в белом халате и докторской белой же шапочке, или пьяного вдрызг, выползающего из соседней пивнухи, или безногого, побирающегося в переходе на Калининском проспекте, или в милицейской форме, полосатым жезлом регулирующего движение возле самого Кремля. Ну, а потом, как водится, жизнь приглушила воспоминания, ослабила ожидание. Да ко всему прочему еще та фотография странная и бесцветное письмецо в конверте.,. А она, Ника, уже привыкла подгонять время. Больше – торопить время стало ее натурой. Гон секунд, минут, часов, дней глубоко внедрился ей в подсознание, быстрее, быстрее. Лет в семнадцать произошел перелом, крутой, незаметный для окружающих, но чересчур явный для нее самой. Ныне время стало подгонять ее. Ника теперь боялась чего-то не успеть в жизни. Ей надо было попробовать всего или, во всяком случае, попробовать как можно больше за тот короткий временной промежуток, отпущенный ей на жизнь. И мальчики тут пошли через нее косяками, разные, молодые и старые, тупые и умудренные, умытые и непричесанные, лихие и слабосильные, глазастые и очкастые, пришибленные и блудливые, всякие. И через дам, так вышло, она также удовольствие не без интереса познала. Любопытно было и боязно, как ни верти, и стыдно даже с непривычки. И неизмеримо противно прежде чем. Поначалу с соседкой, детской врачихой, тридцатилетней, миловидной проказницей полизали они друг друга, покряхтев, порычав. А затем та, которая, как оказалось, не только по медицине спец, свою мужевидную подругу привела, дискоболку мускулистую, чемпионку разных игр, и… пошло-поехало, пошло-поехало, трам-тара-рам. Принюхалась, обтерлась. Со временем научилась. И через недолго уже заводилась с пол-оборота, стоило только кому до нес коснуться. (Ну, не абы кому, конечно, а тому, кто ей все же хоть как-то нравился.) И что умелицей даже заделалась, да такой, что врачиха, та теперь у Ники училась, следила за ней внимательно, повторяла за ней вес, что Ника делала. Партнеров они меняли часто. Попадались и мужчины. И не всякие, разумеется, а только ооооооооочень крутые. И тогда, конечно, кайф-то приходил посолидней, чем тот, что от партнеров-дам являлся. Мужики-то все же есть мужики, особенно те, у которых с крутизной асе в порядке. Ах, как славно все перепуталось в ее стремительной жизни. Секс, примерная учеба в институте, вино и домино, мальчики и девочки, влюбленности и измены, вдохи и выдохи, дожди и моча, снег и сперма, клятвы верности и угрозы убийства, кровавые, далеко не женские драки и счастливые сны… Да, да, драки. Во время одного совокупления, например, на квартире у кого-то из сокурсников, они со своей подругой Дашей не поделили чей-то там рот. Через не сколько секунд они голышом уже выкатились в коридор и продолжали биться, разъяренные, на лестнице, срывая своей страстью и умением аплодисменты высыпавших на лестничную площадку соседей… На спор она прыгала в Москву-реку с Крымского моста. Вырывала не однажды сумочки из рук разных женщин, неосторожно бредущих краем тротуара, вихрем пролетая по мостовой на мотоцикле, управляемом каким-нибудь молодым и дерзким другом. Так было. Забралась как-то, выпив вина излишне, на один из куполов храма Василия Блаженного. А когда хмель сошел, сообразила, что спуститься не может. Но на помощь не стала звать, что-то не позволило – то, для чего пока у нее не было названия. Так и окоченела бы и свалилась, и разбилась, кто против, насмерть, если бы кто-то из сотрудников спецслужб, Кремль охраняющих, не заприметил ее. Снимали ее с помощью пожарной машины; В отделении ей, дуре, за дело нос расквасили, а потом пять суток вкатили. В камере ее дежурный по отделению, симпатичный молодой старлей, поимел – неумело и растерянно – но приятно. Наркотики на нее тогда же легли – мутно. После сигаретки с марихуаной она уехала подальше, чем кто-либо другой, кто в первый раз такую сигаретку попробовал. Где была она, никто, естественно, не знает, да и она сама едва ли помнит, но после той поездки она поняла, что есть другой мир, совершенно, ну просто совершенно отличный от того, в котором она и все, кто ее окружает, живут. Хуже тот мир был или лучше – не имело значения, главное, он был другой. Ника испугалась такого своего открытия и обрадовалась ему одновременно. Через неделю она, не выдержав сравнения столь разных жизней и столь отличных миров, наглоталась снотворного, много, и легла умирать. Не умерла. Мать вовремя заподозрила неладное и взломала с помощью соседей дверь к Нике в комнату. Спасла ее… Много рисовала. Много. Не умом понимала – нутром чувствовала, что в творчестве тот же риск, та же опасность, нет, больший риск и большая опасность, чем в прыжках с мостов, чем в грабежах одиноких женщин, чем в сексе и наркотиках. Но зато риск и опасность там созидательные, полезные. Чувствовала, но пока не понимала… Муж, тот, от которого у нее родился единственный ребенок Паша, очень вовремя в те дни-месяцы у нее объявился. Он ли ее из ямы, в какую она сама себя старательно погружала, вытянул или не он, трудно сейчас сказать. И так и эдак можно повернуть. Вроде как и он вытянул, а вроде как и жизнь просто сама по себе так распорядилась. Но, однако же, что ни говори, он помог ей. Она, когда его встретила, если и не полюбила, то во всяком случае уважением к нему прониклась – впервые в жизни к мужчине. В нем явно угадывались порядочность, честность, отзывчивость, желанность, преданность. Что-то другое, неуловимое что мужчину мужчиной делает, в нем отсутствовало, но все те перечисленные качества у него имелись, это точно. Вот и ладно, с успокоением подумала Ника, когда он предложил ей выйти за него замуж, вот и кончились мои побегушки. И верно, кончились. Через год она ребенка родила. Да, да, того самого Пашеньку. Год-другой-третий в счастии пребывала. Как во сне волшебном. Не верилось даже. Брат Божественный совсем на периферию сознания передвинулся. Когда Паше четыре года исполнилось, она начала понимать, что не хватает ей еще одного ребенка. Сказала мужу. Тот стал уговаривать забыть о втором ребенке. Мол, не надо в семье более одного ребенка иметь, не интеллигентно, да и финансовые возможности и перспективы карьерные того не позволяют, и не надо, мол, и не думай, и просто-напросто забудь. К шести Пашенькиным годам Ника окончательно заскучала. А по ночам ей только и снились, что стаи ее детей– красивых, веселых, шумных, пестро одетых, непоседливых, любящих. На работе в Доме моделей на Кузнецком мосту, где она по распределению работала художником, она вместо официальных заказов только и занималась тем, что рисовала своих неродившихся детей, придумывала им фасоны модной одежды, раскрашивала рисунки яркими красками и сосредоточенно думала, работая, от кого бы ей все-таки родить пару-другую маленьких. В шутку. Несерьезно. Конечно, она могла бы и не сходя с места найти того, кто помог бы ей зачать еще одного ребенка, и еще одного, и так дальше, и до бесконечности. Каждого, кого захотела бы, пальчиком бы, любым, что мизинцем, что указательным, а то и вовсе средним, тонким, правой ноги, поманила бы, и всякий побежал бы к ней не раздумывая. Но вот такому развитию происходящего как раз и противилась ее суть, та, которая, видимо, натурой называется, или душой, или тем самым внутренним моральным законом зовется, который нас издавна с Иммануилом Кантом удивлял, помимо, конечно, еще звездного неба, что распростерлось у нас над головами, – не могла она принести ни в чем, собственно, не виноватому, милому, доброму человеку, своему мужу, чужого ребенка. Нет, конечно, если бы так случилось, если бы понесла она от кого чужого, случайно, не специально, то избавляться от дитятки, разумеется, не задумалась бы, а так, нарочно, все просчитав, нет, не могла. Дура? Наверное. Но тем не менее, И вот как раз в те самые дни (как судьба подгадывает, будто знает что) в се Дом моделей заявилась Бойницкая, вроде как для ознакомления, а на самом деле для того, чтобы художников отбирать для своего только-только организующегося предприятия. В Нику она, длиннолицая, влюбилась тотчас, как увидела ее, как взглядом наткнулась, когда в мастерскую к художникам вошла, окруженная свитой, состоящей исключительно из мускулистых бесстрастных молодых мужчин, влюбилась на раз, запала, узкокостная. В конце рабочего дня будто случайно Нику в коридоре встретила, вызвалась домой ее подвезти в иностранном автомобиле, а на самом деле к себе домой Нику повезла, извинилась за бесцеремонность, со смехом пригласила подняться. В роскошной, просторной, свежей, скупо, но со вкусом обставленной квартире Ника растаяла, а после часового разговора с Бойницкой и двух стаканов бурбона, позволила новой подруге сделать с собой все, что та захотела. Нике думалось, что она уже начисто забыла и чувства, которые вызывали у нее женщины – ее партнерши, и то, как надо действовать, чтобы получить максимум удовольствия. А оказалось, что не забыла. Бойницкая была в восторге. Она плакала от наслаждения… Одним словом, вышло так, что в Бойницкой Ника нашла то, что не могла все эти годы найти в муже и в других мужчинах, с которыми она изредка спала. Долго билась Ника над тем, как ей словами обыкновенными определить, что же все-таки такого имелось в Бойницкой, что исключительно поразительно отсутствовало в том же муже и иже с ним иных мужчинах. Понимала, не спрашивая никого, что такое, без сомнения и угрызения, только лишь чувствовать надо, и только, и только. Но тем не менее, естественно, как всякому родившемуся от человеческой особи, ей хотелось отчаянно, чтобы все в мире словами все-таки обзывалось и чтоб четко и ясно все представлялось в голове, без мутоты и туману. Наверное, перво-наперво, что в Бойницкой ее привлекало и радовало, – это то, что худосочная знала твердо и бесстрашно, что она хочет в этой жизни. Что же? Пожалуйста. Она хочет примитивно простого, но неоценимо весомого – власти, денег, секса и опасности, и как можно больше всего этого, больше, больше… Знала и хотела, и, что не менее важно, а может быть, и более важно, и добивалась, всеми силами, кои только имелись. И коих только у нес не было. Ведь для достижения цели можно использовать и бессилие. Как? Да вот так – отдыхать в то. время, когда тебя посещает бессилие. (Я засмеялся громко, развеселившись от такого открытия. И Ника резко повернулась ко мне, испуганная. Я сказал ей, что мне приснился анекдот про Чапаева и Долорес Ибаррури. Несмешной.) Нике нравилось, как Бойницкая командовала своим Домом – жестко, жестоко, не выслушивая ни от кого ни оправданий, ни объяснений, но вместе с тем, с точки зрения Ники, и справедливо. Бойницкая действовала по старому, как тот самый пресловутый мир, принципу. Я плачу – ты работаешь. Ты не работаешь – я не плачу. Когда Ника окончательно осознала, что в ближайшее время другого мужа – классного, и только классного, ей не ожидать (ах, почему Бойницкая не мужчина), а значит, и детей других, естественно, тоже классных, суперклассных, не видать также, она ощутила, как время снова стало подгонять ее – вперед, вперед, быстрее, быстрее… После месяца обучения Ника получила право прыгать с парашютом. После первого прыжка приземлилась пьяная, ошалелая до одурелости, до немоты, до грудничкового мычанья, искрящаяся, как бенгальский огонь над новогодним столом, и счастливая, как после секса с двумя, нет, тремя самцами-профессионалами. Через минут пятнадцать-двадцать отошла, отъехала и запросилась снова на борт. И часто прыгала еще потом. Пробовала любовью с инструктором своим в затяжном полете заниматься – не получилось, до сокровенных мест добраться через экипировку было сложно, да и воздушный поток чрезвычайно мешал в нужное состояние войти – непрекращающийся, упругий. А на земле инструктор ей, к сожалению, совсем не нравился, вот в воздухе – да, а на земле… Скучный. Зато инструктор по вождению автомобиля, которого ей Бойницкая нашла, был малый не промах, глуповатый, правда, но симпатяга, смуглый, скуластый, крепкий и веселый. Херню, надо сказать, все время какую-то нес, но забавную. Так что с инструктором по вождению любовь у них завязалась отчаянная. Но только в автомобиле. И только. В постели прославленный гонщик и раллист терялся отчего-то. Вернее, оттого, что не слышал там привычных запахов бензина, масла и пота, а никоем образом не заменяла ему родной рев моторов тишина уютной квартиры или гостиничного номера… Обученная скуластым спортсменом, Ника гоняла на автомобиле мужа не хуже, чем сумасшедшая, – каждый раз надеясь, что куда-нибудь наконец вмажется, круто, до оглушительного костяного хруста. Не вмазывалась. Везло. Аж противно. Марихуану теперь Ника считала детской забавой. Бойницкая познакомила ее с более тяжелыми препаратами. И они, эти препараты, и Ника приглянулись друг другу. Тесно общаясь с новыми друзьями, Ника узнала, что есть не только другой мир, помимо того, в котором мы все существуем, а имеются еще и иные измерения. И не только четвертое, а и пятое, и шестое, и десятое, и двадцать первое… А ей хотелось еще побывать и в тридцатом, и в сорок втором… Дальше, дальше, быстрее, быстрее. Наркотиков в доме Бойницкой было вдоволь. Будучи доверенным лицом хозяйки Дома, Ника теперь узнала, что Дом являлся одной из крупнейших баз распространения наркотиков в городе, а также, что Бойницкая, используя банковский счет Дома и его доходы от коллекций, ателье и магазина, отмывает деньги нескольких областных группировок, и что сама она, Бойницкая хоть и не имевшая никогда раньше отношения к преступному миру), на свой страх и риск занимается поборами нескольких местных товариществ и компаний, короче говоря, занимается рэкетом. На недоуменный вопрос: «Зачем?» Бойницкая ответила Нике, пожав плечами: «Для удовольствия» и, усмехнувшись, предложила: «.Попробуй. Потом расскажешь». Ребята Бойницкой взяли однажды Нику на акцию, как они называли свои разборки. Директор одного товарищества не отдал за последний месяц положенных трех тысяч долларов. В четыре утра ребята взорвали дверь его квартиры и влетели туда с пистолетами наголо. Большеголовый, толстоногий мужик, голый, как каждый из нас без одежды, не успел даже минуты две сообразить, что к чему. А пока соображал, его уже привязали к стулу и несколько раз саданули по губам, в кровь. Нике наказали смотреть за его женой и детьми. Ника заперла их в туалете. Мужику сунули включенный кипятильник в нос. Ника услышала запах горелого мяса. Мужик послал ребят Бойницкой на х… и еще на х… и еще, и затем еще много куда посылал их некоторое время… И Нике неожиданно захотелось его убить. Вот просто так взять у кого-то из ребят пистолет и выстрелить этому тупому и наглому ублюдку прямо в лоб, и наблюдать затем с удовольствием, как летят в разные стороны осколки его черепа и ошметки его желто-бурого мозга. Ника вытащила из туалета сына директора, подвела его к отцу, взяла мальчика, пятилетнего, за шею длинными белыми пальцами и сдавила ее. Мальчик закричал, выпучив глаза. А Ника давила, давила… Мужик потерял сознание. Ребята завернули его в ковер и уволокли в машину. И детей его и жену забрали с собой. В подвале Дома Бойницкая сначала хотела по-хорошему поговорить с директором. Но когда тот в очередной раз послал всех, невзирая на угрозы и ему, и его жене с ребенком, Бойницкая решила, что по-хорошему не получится. Она кивнула, мигнула, свистнула тогда ребятам, и те, двое, качки, готовые уже, ждали будто, нетерпеливые, охочие, незлобливыми шутками перебрасываясь, деловито расстегнули свои брючата дорогие, костюмные, достали члены небывалые, а затем раздели дитенка и жену мужика, а самого мужика связанного на пол посадили, смеясь, озорники, и одновременно, предварительно приблизившись каждый к своему объекту, вставили свои громоздкие орудия туда, где их не ждали. Такого крика неземного Ника еще не слышала. Первым заголосил мальчик, бедный, посиневший весь, судорогой сведенный, потом жена… Муж молчал. Но крика и тех двоих хватило для Ники. Она прислонилась спиной к стенке и сползла по ней на пол, сидела, не отрываясь глядела на происходящее. Не отрываясь. Возбужденная Бойницкая с неморгающими влажными, ярко блестящими глазами, часто и шумно дышащая, с сухими дрожащими губами, подходила то к одной группе, то к другой и, подняв длинную юбку и спустив трусики, мочилась – сначала на жену мужика, потом на самого мужика, потом на мальчика, стонала, кряхтела, трясла головой, наслаждаясь. Затем пошла по второму кругу, по-крупному теперь испражняясь, и на жену, и на мужика, и мальчика, задыхающегося, собственной слюной захлебывающегося; и лицо при этом так кривила, так скалилась страшно, что Ника не выдержала и все-таки отвернулась, и закрыла глаза. И открыла их только тогда – от испуга – когда Бойницкая завалила ее на пол и, хрипя, принялась разрывать ней одежду, обезумевшая, не человек, не животное, то-то иное, неизвестное еще; что-то нечто, нечто… а на следующий день Ника узнала, что и директор и его семья остались живы, так как директор согласился отдавать теперь в месяц по четыре тысячи долларов. Но для Ники этот факт уже, собственно, ничего не означал. После бессонной ночи, она решила завязать с наркотиками. Для начала. А потом и с Бойницкой – поэтапно. В тот же день она нашла через знакомых квалифицированного врача, и тот взялся ее лечить. Абстиненция проходила у Ники не так тяжело, как можно было предположить – наркотики еще не полностью оккупировали ее организм. Слава Богу. Так что Ника была уверена, что соскочит. Бойницкой она сказала, что легла в клинику лечить придатки – секретность врачи соблюдали. Через месяц Ника уже смеялась над собой и над своей горячей привязанностью к белому, похожему на обыкновенный тальк порошку. Зачем он? Когда и так, и без него можно все в этой жизни решить – с помощью ума и воли. Нет проблем. На послебольничный отдых дома Бойницкая Нике еще неделю дала. «Потом отработаешь», – сказала сука медовым голосом. «Отработаю», – пообещала Ника, с трудом скрывая недобрую усмешку. Муж, сутулый, порхал возле нее, с бормотаньем, пришептыванием и оханьем, из ложечки буквально кормил, обстирывал, обглаживал, пальчики целовал. Раньше, еще до больницы, секс с мужем доставлял ей еще какое-то удовольствие. Сейчас никакого вовсе. Ну то есть вообще никакого. Ни намека даже на самое легкое возбуждение она не испытывала – ни тогда, когда он ласкал ее, ни тогда, когда входил в нее. Нике было жалко его. Но если бы он вот прямо сейчас умер, жалость се исчезла бы тут же. И уступила бы место, наверное… радости, или, если не радости, то уж во всяком случае облегчению точно. А секса ей хотелось. Да еще как. Если у такой чувственной женщины, как Ника, отнимают все – хорошее и плохое, неважно, – что наполняло ее прежнюю жизнь, то остаются только две вещи – секс и дети. …Она отчаянно мастурбировала, когда муж отправлялся на работу. …Она подходила к спящему сыну и долго смотрела на него, пытаясь разобраться, что она чувствует, когда смотрит на своего сына. И разобраться не могла. Хотя нет, одно чувство она все же выделяла в себе точно – долг. Она явственно ощущала перед сыном долг. И вроде как больше ничего. «Ну что ж, – невесело усмехаясь, говорила она себе, – и это неплохо». Однажды мальчик порезал себе палец перочинным ножом. Заплакал от боли. Увидев кровь, заплакал еще сильнее, громче. Услышав его плач и крики, Ника задышала часто и прерывисто, все тело ее, все без исключения, вспыхнуло возбуждением. Без силы не удержаться. А силы где взять? Они как в землю ушли. И в тот же миг отчетливая картина ясно перед глазами всплыла: морщащийся, посиневший мальчик, ртом воздух кусающий, визгом кашляющий; мокроголовый – от того, что сидящая над его головой и стонущая Бойницкая льет на него вялую, но толстую струю своей прозрачной мочи. И картина та еще больше нечаянно возбудила Нику. И она невольно шаг в сторону комнаты мальчика сделала, и еще шаг. Не хотела, но шла. Открыла дверь. Увидела повернутое к ней лицо, залитое слезами, страдающее, жалкое… Развернулась стремительно, прикусив губы, сжав кулачки, и побежала вон, на улицу, на воздух, на свободу… Взялись, выходит, все же откуда-то силы. …Она ворвалась в кабинет Бойницкой. Заперла дверь за собой. Разделась. Три часа, не прекращая, ласкали они друг друга, истово, не зная усталости, насыщаясь силой друг от друга, искренне любящие друг друга в тот момент, несчастные и счастливые. Теперь Ника молила Бога каждый день, каждую ночь, каждое утро, каждый вечер, каждый час, каждую секунду, чтобы не плакал, не кричал, никогда, никогда ее мальчик. Если она снова увидит его плачущим… Секс с Бойницкой снимал напряжение. И поэтому Ника занималась с ней любовью без исключения каждый день. Как правило, у Бойницкой в кабинете. Искала она и любовников – мужчин, приводила их к себе, когда муж уезжал в очередную командировку. Записывала весь процесс скрытно на видео. Потом смотрела пленку, пытаясь возбудиться сильней, чем с Бойницкой. Ничего не получалось. Ничего. Ничего… Пыталась покончить с собой, наглотавшись снотворного. Надеялась, что умрет во время секса – красиво. Но любовник спас ее… Мальчик все же заплакал. В тот день, когда на него напал в парке некто – предполагаемо маньяк. В первые мгновения, как она увидела его выбегающего с криком из-за деревьев на аллею, заплаканного и дрожащего – привычное возбуждение рефлекторно тотчас охватило ее, и воображение услужливо подсунуло ей ту самую картину с мокрым мальчиком и мочащейся Бойницкой… И вцепилась она сыну крепко в плечи, притянула к себе, принялась целовать быстро, жадно, задыхаясь, лицо, шею, расстегивала курточку, рубашку, целовала грудь. И, пересилив себя, со стоном оттолкнула мальчика, переводя дыхание! спросила, мол, что случилось. Рассказ сына заставил ее забыть на какое-время о только что испытанном ею чувстве. Она видела как будто на экране, как, оглядываясь, подходит к мальчику высокий, широкоплечий человек в длинной матерчатой куртке – лица не видно – говорит разные слова мальчику, всякие глупости, но доброжелательным тоном, тихим, ласковым голосом… Садится на корточки перед ним, улыбается, треплет мальчика по щеке, по плечу… Затыкает ладонью рот, начинает быстро, матерясь, срывать с мальчика одежду, спускает штанишки… Ника не видит лица человека, но она видит его глаза… Глаза горят, сияют, блестят… Это глаза счастливого человека… Ника хотела бы отдаться такому, как тот, кто срывал штанишки с ее сына… Когда она встретила Антона (я напрягся, еще больше сосредоточился), она была уже готова в каждом красивом, высоком, мускулистом мужчине увидеть того, кто пытался убить или изнасиловать ее сына. Она была уверена, что Антон именно тот, кто напал на ее сына… После разговора с Антоном в ресторане и после того, как они там замечательно занимались любовью (и действительно замечательно, потому что впервые за последние несколько лет Ника смогла удовлетвориться, совокупляясь с мужчиной), она стала сомневаться в том, что Антон и тот, кто напал на ее сына, одно и то же лицо. Но чувство, которое она испытывала к Антону, не исчезло, как она боялась. Оно, может быть, теперь иным обернулось, меньше животным и больше человеческим, но не исчезло. Она лучше никого не встречала, чем Антон, дивилась Ника. В нем есть то, что она всегда искала и что отсутствовало в других и что имелось в Бойницкой, хоть она и женщина, – стержень, суть, стремление познать, сомнение и уверенность, страх и умение его преодолеть, злость и добро, постоянная усмешка и постоянная грусть… Как она обрадовалась, когда Антон явился в Дом моделей. Она знала тогда уже, что сегодня, именно сегодня, она вырвется из объятий Бойницкой. И Антон поможет ей. Она знала. Так оно и случилось. …Рома Садик заинтересовал ее. Она волновалась, когда видела его, когда разговаривала с ним, когда просто смотрела на него. Нет, он был не красавец. Хотя выглядел достаточно привлекательно. Высок, строен, видимо, силен. В лице его Нике нравились его достаточно полные, но не рыхлые, а, наоборот, твердые губы, жесткий прямой нос, высокий лоб. Глаз, жалко, он так ни разу и не показал, а без глаз ведь нет лица. Но не внешность Ромы, как она понимала, волновала ее… …Когда Антон рассказал ей о том, как во время посещения Нины Запечной Рома напал на девочку, переодетую мальчишкой, она нашла объяснение своему волнению – Рома был убийцей. Может быть, это он убивал детей. И может быть, это он напал на ее сына. А может быть и нет. Не в этом дело. Рома, вообще, по сути, был убийцей. …Ника очень хотела его. …А еще больше она захотела его после того, как Рома поведал им свою историю любви. И как поведал… …А потом появился этот мальчик, которого она назвала Мика и который был так похож на ее брата, на любимого брата, на святого брата, на того, подобного которому никогда не было и не будет. И он вот сейчас там, за стенкой. Рядом, Можно пойти и дотронуться до него… Можно пойти и убить его… Ника закричала, И я закричал вслед. Мы сидели на кровати, прижимаясь плечами друг к другу, кричали, жестко сдавив пальцами свои головы… Я и Ника. Я и Ника во мне. Мы. Вдвоем. Как один человек. Мы сидели рядом. Совсем. Тесно. Тесно-тесно. Ее тепло вливалось в меня. И вместе с моим теплом возвращались обратно к ней. Вот как. Я прижимал Нику к себе. Крепко. И. мне казалось, что это я сам себя обнимаю крепко. Сам себя своими руками. Свое тело, свою грудь обхватив – крест-накрест. Сдавив дыхание. Нет, мне так не казалось. Так было на самом деле. Я и Ника – это я один, да, да, именно так… Я покрутил головой, как пес, который только то вылез из реки или из лужи, или из канавы, или из унитаза. Я встряхнул головой, сбрасывая волосы на лоб. Я отогнал дурацкие мысли. Я отогнал далеко, насколько возможно. Конечно же, я – это я, а Ника – это, Ника. Нас двое. И только двое, и никак иначе. Я и Ника. Ника и я. Мы. Я отодвинулся от Ники. На сантиметр, на два, на метр. Я прилег на подушку, закрыв глаза. Разглядывая темноту под веками, подумал, что хорошо было бы сейчас съесть копченой осетрины или севрюги с белым хлебом и помидором, и свежим огурцом, с горячей картошкой с маслом, и с кинзой, и с укропом, и запить то, что съел, холодным апельсиновым соком, и потом выйти в сад, на дачный участок, свежий и влажный и пройтись вприсядку вдоль забора, со свистом и улюлюканьем, а потом выскочить в калитку и бежать, подставляя лицо ветру, до самой станции, сесть в электричку, зеленую и душную, пахнущую поролоном, дерматином, потом и отработанными газами, ходить по вагонам туда-сюда и говорить грустно всем и каждому: «Так хочется в Москву, господа, так хочется в Москву, А еще хочется новой счастливой жизни, господа. И чтобы эта жизнь была наполнена работой, любовью и покоем. Мы должны работать, господа, да, да, да, истово, до изнеможения, бескорыстно, полностью отдаваясь избранному делу… Работать, работать до изнеможения, все, что есть у нас, отдавая людям… Так хочется в Москву, господа…» Я открыл глаза. Ники нигде не было. В комнате. Я сел на кровати. Потер руками лицо. Поднялся нехотя, вышел в коридор, заглянул в комнату мальчика, в комнату Ромы, вернулся обратно. Закурил сигарету. Сел на пол. Сплевывая табачные крошки, заглянул под кровать. Ника, конечно же, была там. Она в упор смотрела на меня. Взгляд ее был серьезен и решителен. «Я люблю тебя, братик», – строго сказала Ника, не отрывая щеки от пола. «Хорошо», – кивнул я, затянувшись. «Я не могу без тебя жить, братик». Я опять согласно кивнул. «Я умру без тебя», – продолжала Ника. «Ага», – покорно ответил я. «И ты умрешь, если бросишь меня», – сказала Ника. «Ну уж…» – попытался было возразить я. Но Ника вытянула в мою сторону свой длинный тонкий палец, наманикюренный густо: «Сначала ты сделаешь со мной то, что я люблю, а потом я убью тебя. А затем… А затем я срежу твои длинные белые кудри и вырву с корнями твою штучку, ну, ту самую, которой нет у меня, – Ника захихикала вдруг. – И сожгу их в печке, и кудри, и штучку…» Я пошевелил бровями, соображая, что мне ответить. И ничего не сообразил и поэтому не ответил. Я сказал, только тихо, почти про себя: «Твою мать!»… И закурил еще одну сигарету. А еще через полминуты бросил ее, недокуренную, на пол, придавил ее отчаянно голой пяткой и ринулся под кровать. Матерясь, достал оттуда Нику, вялую, несопротивляющуюся, швырнул ее на кровать и остановился перед кроватью в нерешительности, даже не представляя себе, что предпринять. А Ника смотрела на меня и плакала. «В Москву, – прошептал я. – В Москву…» Я присел рядом с лежащей Никой. Я замахнулся, чтобы ударить Нику по щеке. По одной, по второй. И положил ей руку на щеку и сказал женщине нежно, улыбаясь, искренне: «Ника, – и еще, – Ника, – и еще, – Ника». Я склонился ниже, поцеловал се глаза, нос, губы и все шептал: «Ника, Ника…» И что-то еще шептал, что шепчут всегда детям, когда хотят их успокоить. Шептал. Ника закрыла глаза. И улыбнулась. И уснула. …«Надо зашить Мике рубашку», – сказала Ника, как только открыла глаза, проснувшись через сорок минут. «Надо», – согласился я, улыбаясь. Ника засмеялась мне в ответ, выспавшаяся, – красивая. Чудовищно красивая. Катастрофически красивая. …Я плохо играл в шахматы. Я, собственно говоря, совсем не играл в шахматы. Не умел. Не научился. Я знал только, как ходят фигуры: конь – буквой «г», офицер – по диагонали, ладья – по горизонтали и вертикали, ну и так далее. А мальчик Мика и того не знал. А хотел. Он увидел доску с шахматами и заявил мне безапелляционно: «Если умеете, научите». «Да, да, – согласился я. – Конечно. Почему бы и нет. Садись». Я расставил фигуры и показал мальчику, как они ходят, и еще рассказал ему, что нам вообще нужно от шахмат – шах и мат. Мика кивнул и переспрашивать не стал. Ника сидела неподалеку на диване, забравшись на него с ногами, и тщательно (я видел, что тщательно) зашивала мальчику рубашку. Пока мы двигали ферзями и пешками, я попытался настроить себя на мальчика. Ради интереса. Ради любопытства. Смогу ли? Я очень хотел. Правда. И не увидел ничего. Хорошо, сказал я себе. Значит, я просто не очень этого хочу. Мне надо захотеть по-настоящему. Надо. Мне… Мне показалось на мгновение, что блеснул песчаный пляж и сине-зеленая лагуна, и огромный истории про Африку. А также про Америку. И про Индию. И про Австралию. Какими бы неправдивыми ни были истории про эти континенты, я всегда очень хочу им верить. И я верю» – «Ну, хорошо, – кивнул я. – Ну, а слезы. Слезы были действительно искренними? Или ты нарочно их выдавливал из своих глаз?» Мальчик рассмеялся. «Я же маленький, – сказал он. – И поэтому я обязательно должен плакать. Иначе вы не поверите, что я и вправду маленький» – «Ну, допустим, допустим, – не унимался я. – А помнишь, ты сжимал руку дяди Ромы? Помнишь?… Ты лицемерил, конечно» – «Почему лицемерил, – не согласился Мика. – Я был исключительно честен. Я честно хотел сделать ему приятное. Человеку ведь очень нужно, чтобы кто-нибудь когда-нибудь делал ему приятное. Хоть кто-нибудь, хоть когда-нибудь…» В дверь позвонили, «Это отец, – сказал мальчик, вставая. Я посмотрел на часы. Прошло ровно шестнадцать минут. Мика воспитанно поблагодарил Нику, меня, А я все же сделал еще одну попытку напоследок…Мика догнал мяч и, теперь играл с ним на пляже. Я поднялся и поплелся к берегу. Увидев меня, Мика подмигнул мне и принялся что-то писать на влажном песке. Когда он закончил, я прочитал: «Надеюсь, вы знаете, что делаете». Я поднял глаза на мальчика. Мика смеялся, широко раскрыв рот и обнажив стерильно чистые, словно лакированные зубы… Мика в аккуратно зашитой рубашке стоял перед выходом из гостиной и смеялся, широко раскрыв рот и обнажив свои стерильно чистые, словно лакированные зубы. Я вяло помахал мальчику рукой. Ника проводила его до дверей – я слышал, как отец Мики благодарил Нику и выражал надежду, что в случае необходимости она, возможно снова поможет ему. Так много нехороших людей вокруг, так много вокруг. Ника смеялась, соглашалась и говорила: «Конечно, конечно, искренне и с охотой. Мика такой чудесный ребенок, красивый, умный, способный к языкам и шахматам, ласковый и трудолюбивый, любопытный и веселый и вообще просто исключительный». «Да, да, я знаю», – почему-то печально вздыхал в ответ отец. «Я приготовлю ужин», – сказала Ника, вернувшись. Ника отправилась на кухню. А я спустился в гараж. Я постучался в маленькую дверь, за которой, по словам Ники, находился Рома – если он еще там находился. Рома – мальчик непредсказуемый. Я постучался снова. Но не услышал за маленькой дверью ни ответа, ни вообще какого-либо шума. «Рома, – позвал я. И громче позвал я еще: – Рома! Рома! Рома! – Я саданул по двери ногой. – Открой, мать твою!» Когда мой голос затих, мелким эхом пробежавшись по гаражу, я услышал за дверью приглушенный стон. «Тебе плохо, Рома? – громко спросил я, приложив губы к самой двери, – Ты мне скажи, Рома. Ты не скрывай, Рома. Легче станет, Рома. Ну! Давай, Рома!» И снова стон. И даже всхлип. Неужели Рома плачет? Я никогда не видел, как Рома плачет. Разве такое возможно?… Нет, нет, я вру, однажды я видел, как Рома плачет, однажды. Это было давно. Там, на войне. …Мы вышли к кишлаку в точно запланированное время – в три десять утра. Семеро мастеров и я – кое-чему обученный переводчик. Рома тщательно осмотрел кишлак в бинокль и сказал: «Двадцать минут – на отдых, а потом пойдем постреляем». Зевнул, лег на спину и закрыл глаза. Отключился. Посты сняли из арбалета. Стрелы вонзались нерусским бойцам в шеи, и бойцы падали беззвучно на камни. Только кровь с неожиданно громким бульканьем выплескивалась из ран. Или мне так только казалось. В три сорок пять мы были уже на окраине кишлака. Нам нужен был Архун. Около года он командовал народной милицией в округе. А месяц назад сдал весь свой отряд в количестве семисот человек крупному полевому подразделению душманов, сука. И сам же после перехода опять возглавил этот отряд. Молодой, сука, двадцать пять лет. Красивый, сука. Я видел его фотографии. Он был похож на Эррола Флина, сука. Мы должны были убить его. Сфотографировать труп и заснять его на видео. По агентурным данным мы знали, что Архун приехал в кишлак к сестре и что с ним не больше десяти человек. Для семерых мастеров десять человек – забава. В кишлак мы просочились тихо и легко. Отыскали нужный дом. Двое ребят заложили заряд под угол дома. Мы укрылись неподалеку. Грохнул взрыв. И трети дома как не бывало. Остервенело стреляя перед собой (и матерясь не менее остервенело), мы влетели в дом. Ошалевшие злодеи метались по задымленному, только что взорванному дому, как злодеи, которые мечутся по задымленному только что взорванному дому. Грохнул еще один взрыв рядом. И посыпались выстрелы вслед. Это трое наших крошили архуновских людей, часть которых спала в соседнем доме. Отброшенная выстрелами, упала женщина. Еще одна. Рома метнул гранату. Мы повалились на пол. Поднялись. Стреляли, ярясь. Мне было страшно. Но я уже привык бояться. Пули визжали слева, справа. Плевать на пули. Как будет, так и будет, даже если будет наоборот. Не прошло и двух минут, и все было кончено. Хороший бой всегда короток. И кровав. Среди трупов Рома отыскал Архуна. Мы сфотографировали его. И засняли на видео. А потом… А потом Рома отрезал Архуну голову. Сережа Квашнин, капитан, спец из ГРУ, заорал, когда увидел голову в руках Ромы: «Я расстреляю тебя, мать твою так растак! Под трибунал пойдешь, урод! Ты же русский, мать твою! Ты же русский? Офицер, мать твою!» А Рома смеялся в ответ и поигрывал головой, как мячиком. Квашнин передернул затвор автомата и направил ствол на Рому. Рома отбросил голову тогда в сторону, подбежал к трупу Архуна и вырезал из груди сердце. Я снял с пояса флягу с виски и сделал несколько глотков. «Ну, все…» – тихо проговорил Квашнин. «Ты не сможешь убить меня», – весело выкрикнул Рома и, ощерившись по-собачьи, откусил большой кусок от шевелящегося еще и еще дымящегося сердца, теплого, остывающего, и, чавкая, быстро-быстро стал жевать кусок. Кровь выкрасила Ромины губы и подбородок – не в красное, в бордовое, в черное. Квашнин сморщился и отвернулся. Я шумно выдохнул и сделал еще несколько глотков виски. «Теперь в меня вселилась еще одна жизнь! – прожевав наконец мясо, заключил Рома. – Теперь я бессмертен! Теперь я буду жить вечно! И никто никогда не сможет убить меня! – Он в упор посмотрел на Квашнина. – Ну, давай, давай, стреляй. Рискни. Я не умру!»… И Квашнин рискнул бы. Он был малый решительный и быстрый, И он уже положил расслабленный палец на спусковой крючок. Но нажать не успел. Упал, прошитый автоматной очередью – снизу доверху… Услышав выстрелы, я сильно толкнул Рому и упал сам. Тотчас откатился, укрывшись за крупным, полметра на метр примерно, куском стены развороченного дома. Выглянул. В узком проулке стоял американский армейский «форд». Он был пуст. Те, кто приехал на нем, спрятались теперь за его кузовом и стреляли оттуда в четыре ствола. Я слегка приподнялся и осмотрелся. Кроме Квашнина, в песке лежали еще двое наших, неподвижные, тихие, лицами вниз, в землю. Мертвые. Или тяжело раненые. Несколько пуль с грохотом отбили крошку с камня, за которым я находился. По звуку я определил, что выстрелы эти донеслись не со стороны грузовика. И я снова осторожно выглянул.В другом проулке, по правую теперь от меня руку, стоял точно такой же «форд» и из-за него тоже стреляли. Неожиданно выстрелы прекратились. «Ты жив?» – спросил меня Рома. Он лежал в полутора метрах от меня. «Если отвечу, значит жив», – сказал я. «Ты ответил», – сообщил мне Рома. Я улыбнулся. «Значит, так, – сказал Рома, – х…чь что есть силы одновременно по обеим машинам, а я попробую добраться до гранатомета, он рядом с Охрименко. Видишь?» Я видел. «На счет «три» начинай», – сказал Рома. Я слышал, как Рома вдохнул несколько раз глубоко и после пробормотал что-то недоброе и начал считать. «Три», – отрывисто бросил Рома. И я тотчас вынырнул из-за камня, и, взяв в каждую руку по автомату, принялся беспорядочно палить в сторону автомашин. Трах-тах-тах-тах-тах-тах-тах-тах-тах-тах-тах-тах-тах-тах-тах-тах-тах! Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум! …Все патроны расстрелял к чертовой матери. Упал за камень, на теплое еще, мною же нагретое место, судорожно дыша, потное лицо о сухой песок вытирая. Встряхнулся. Посмотрел туда, где должен быть Рома. Он там был. С гранатометом в руках. Успел. Я сменил рожки в автоматах. Рома подполз ко мне, укрылся за моим камнем. «Бей сейчас по левой тачке, – переводя дыхание, сказал Рома. – А я пока другую раздолбаю». И снова я высунулся из-за камня, но уже теперь не сверху него, а сбоку, и начал стрелять… Когда пуля пробила мне левую ногу, я понял, что не до конца обученному в таких переделках делать нечего. В азарте боя я перестал контролировать себя и практически полностью открыл для поражения всю левую часть своего тела, мать мою… Я закричал от боли и снова откатился за камень. Тем временем грохнул взрыв. Правый «форд» вспыхнул разом. Рома сплюнул и сказал мне негромко: «Ну ты, мудак…» Я закрыл глаза. Мне было очень больно. Очень. И чем сильнее становилась боль, тем быстрее, как мне казалось, немела голова. Я перестал чувствовать губы, веки, щеки, нос… Снова прогромыхал взрыв, и вслед тотчас затрещал автомат, и еще через минуту я услышал голос Ромы – над самым своим ухом: «Убил я их, Антоша. Всех. Все мертвые. Даже противно смотреть» «А ты не смотри», – пробормотал я и потерял сознание. Когда очнулся, было уже темно. И прохладно. Наверху, на небе, на самом-самом небе, высоко, горели звезды, много, маленькие, дрожащие, ясные, тихие, бесстрастные, холодные, но тем не менее чрезвычайно манящие – атавистически манящие, – как вода, как женщина, как дом. Как ДОМ. «Закурить хочешь?» – спросил Рома. «Нет», – ответил я. «Рана неопасная, – сказал Рома. – Пробита мышца. И вес. Я продезинфицировал и перевязал ее. Рана неопасная, но кровавая, мать ее. Так что крови ты потерял столько, сколько ты даже не знаешь, а я могу только догадываться, и как честный человек тебе не скажу, о какой цифре я догадался, так как эта цифра может быть неточной, а я не хочу тебя обманывать, потому как еще в далеком детстве папа и мама наказывали мне, ври, ври да не завирайся, и вот потому именно завираться-то я и не буду…» Я засмеялся. «Ты пытаешься меня развеселить?» – спросил я Рому. «Я пытаюсь тебя развеселить, – усмехнулся Рома, – Но, как видишь, у меня это плохо получается. Я всего лишь остроум-любитель. Не профессионал…» Я приподнялся на локтях, огляделся. Мне показалось, что вокруг одна только равнина. И горы вдалеке. Но мы же ведь находились в кишлаке – днем, Я спросил Рому. Рома рассказал мне, что он унес меня из кишлака. Там было опасно. Все наши убиты, рассказал еще Рома. Их застали врасплох. Как и нас, впрочем. Агент разведки соврал (или не знал) – охраны было в два раза больше, чем он сообщил. Другие десять человек на двух машинах стерегли подступы к кишлаку со стороны ущелья. Они не предполагали, что мы подойдем со стороны гор. И, услышав выстрелы, они, естественно, бросились на помощь. Но мы-то ведь не знали, не знали, что имеются у нас за спиной еще эти десять человек. Рация разбита, поведал также еще мне Рома, и поэтому вызвать вертолет мы не смогли. Рома полдня нес меня на спине. Он хотел уйти подальше от кишлака. Подальше. «Вот б…!» – только и сказал я, выслушав Рому, Рома подогрел на маленьком костерке воду, сварил мне кофе, потом еще дал мне антибиотиков и две тонизирующие таблетки. Минут через двадцать я почувствовал себя бодрым и почти здоровым. «Пора», – сказал Рома. Он взвалил меня на плечи и понес. …Через каждый километр, примерно, он останавливался, клал меня на землю, ложился рядом и закрывал глаза, тихий, и отдыхал. И через пятнадцать минут вставал, забрасывал, кряхтя, меня на спину, и двигался дальше. Молча. Молча. И только молча. На очередном привале, водя, что сил у него уже просто нет, – исчезли они, истаяли, ушли,. – я сказал Роме: «Иди один, мать твою. Я подожду. Иди один. И пришли за мной вертолет. Так будет проще, Так будет легче. Мать твою!» Рома выслушал меня – молча. Или не выслушал меня – молча. Встал, хрипло дыша, посадил меня на спину и пошел. И мы еще прошли километр, а может быть, три или даже пять, а может быть, и сто. (Я перестал ощущать время. Я потерял счет дням, ночам.) И когда Рома в который раз уже, я не помню, взвалил меня на плечи, я что есть силы укусил его за ухо. Рома закричал от неожиданности, сбросил меня на землю, и несколько раз ударил меня по щекам, приговаривая что-то матерное, скалящийся. «Иди один и вызови вертолет, – как заведенный, повторял я. – Так будет легче. И тебе. И мне, И мы оба выживем, мать твою! А так, мать твою, помрешь, в горах, мать твою! И я вслед помру, мать твою! Мудозвон хренов, мать твою! Людоед хренов, мать твою!…» Рома больно двинул меня кулаком по. зубам и прорычал мне в самый нос: «Да, я людоед, и потому я бессмертный. – Он ударил себя в грудь, прокричал срывающимся голосом: – Я буду жить вечно! Понял? Понял?! Я никогда не умру! Никогда!» Я выругался. Но кивнул согласно. У меня уже не было сил возражать. Я чувствовал, что теряю сознание. Очнулся я на спине у Ромы. Рома едва двигался. Его шатало из стороны в сторону. И наконец он упал. И я вместе с ним… Рокот вертолетного двигателя я услышал первый. Я толкнул Рому в плечо, и показал ему на «вертушку». И вот тогда Рома заплакал. Он плакал, не стесняясь. Обильно. И долго. Он перестал плакать только тогда, когда к нам подбежали десантники, спрыгнувшие с вертолета. «Мы здесь с дружком погулять вышли, – с трудом раздвигая губы в улыбке, сказал Рома ребятам, – и заблудились видать». Десантники мне рассказали потом, что Рома пронес меня на плечах ровно восемьдесят два километра. Рома Садик, мать твою… Закрытая дверь, конечно же, остановить меня не может. Я вот только не знал, надо ли Роме, чтобы я вскрывал эту дверь. Может быть, ему там хорошо. Лучше, чем нам с Никой здесь. Может быть. Я спросил: «Рома, ты не будешь возражать, если я открою дверь?» Я услышал, как Рома что-то сказал – громко, но невнятно, а затем услышал, как Рома загудел, как раздосадованный слон, и наконец я снова услышал всхлип. Нет, и вправду он плачет. Я поднялся наверх и спросил у Ники, где запасной ключ. Ника отыскала его в буфете на кухне. Давая его мне, спросила про Рому – обеспокоенно, с дрожью в глазах, слабым голосом, предчувствуя иной ход событий, чем предполагала, чем желала, обессилевшая вдруг, побледневшая, потухшая; хотя, собственно, пока еще ничего, во всяком случае из того, что я видел и знал и ощущал, не предвещало дурного. А глядя на Нику, можно было подумать, что уже все произошло. Я вытянул указательный палец в сторону Ники и устало сказал: «Без истерик. Я не люблю истерик. Я наказываю за истерики. Непредсказуемо и сурово. Я такой». Я снова спустился вниз, в гараж. Вставил ключ в скважину. Ключ входил лишь наполовину. Ему мешал другой ключ, торчавший с внутренней стороны. «Без истерик», – сказал я себе и не спеша прошелся по гаражу. Нашел кусок стальной проволоки. Взятыми с полки плоскогубцами согнул крючком кончик проволоки. Вернулся к двери, вставил крючок в скважину. Покрутил им туда-сюда. Через секунды какие-то недолгие наконец услышал звон упавшего на цементный пол ключа. Скважина была свободна. Я открыл дверь. Темно. Я отыскал выключатель. Зажег свет. Рома сидел на полу у противоположной от двери стены, прикованный наручниками к трубе парового отопления, проходящей параллельно полу, сантиметрах в двадцати от него… А ноги Ромины опутывала белая бельевая веревка, намотанная щедро и крепко, от щиколоток до коленей. Рома зажмурился, когда я включил свет, сморщился и что-то прошептал вздрагивающими губами. Я присел рядом с Ромой, вынул пачку «Кэмела» без фильтра, спросил у Ромы: «Закурить хочешь?» Рома отрицательно покрутил головой. «А зря», – сказал я и, пожав плечами, закурил сам, И снова спросил: «Где ключ от наручников?» Рома кивнул куда-то в угол. Я встал на колени, внимательно оглядел пол и действительно в самом углу, почти у двери нашел ключ. Я поднял его, вернулся к Роме, потянулся к наручникам. Рома неожиданно отпрянул, прижался к стене испуганно, открыл глаза, глотнул шумно, шевеля ноздрями, как необъезженная лошадь при приближении объездчика, и спросил, хрипя: «Он ушел?» – «Кто?» – не понял я, «Мальчишка, мальчишка! Ну, тот мальчишка…» – «Ушел», – сказал я. И посмотрел на связанные Ромины ноги и подумал: «Твою маааать…» А вслух сказал: «Ушел. Конечно. А что ему тут делать? С нами. Приехал его отец и забрал его. И он ушел от нас. Мальчик. Маленький мальчик. А может быть, и не мальчик вовсе, – я хмыкнул. – И совсем не маленький. Другой. Другой и все. Новый. Непривычный. Странный. Я думаю, он из тех, кто сделает страну совершенной. А может быть, и землю цели-. ком. Он из тех. Я уверен. Он рассказал, что таких, как он, уже много. – Я говорил и, сузив глаза, внимательно, не моргая, следил за прозрачным слоистым дымом, подымающимся медленно и с достоинством к белому чистому потолку. – И я очень рад тому, что их уже много. Я счастлив, что их уже много…» «О чем ты? О чем ты?! – заволновался отчего-то Рома. – Я не понимаю. О чем ты?!» Я все-таки вставил ключ в наручники и отомкнул их, легко и быстро. Рома принялся отчаянно массировать запястья, а я тем временем развязал веревку у Ромы на ногах. Отбросил веревку в сторону и посмотрел Роме в лицо, в непроницаемые его очки, улыбнулся ему приветливо, кивнул. Рома отвернулся. Я решил пока его ни о чем не спрашивать – ни о наручниках, ни о веревке. Захочет, сам расскажет, не захочет – все равно узнаю, что произошло. Узнаю. Я поднялся с пола, отряхнул джинсы, сказал Роме: «Пошли». Рома выставил в мою сторону палец, попросил: «Подожди. Хорошо? Давай посидим» – «Давай», – согласился я и опять опустился на пол. Прислонился спиной к стене, закрыл глаза… И очень захотел, очень-очень захотел узнать, что же происходит с Ромой… …Вспыхнуло все вокруг красным. Вокруг – кровь. Это кровь так вспыхнула. Словно это и не кровь, а пламя. Задымилась. Густо, обильно. На мгновение мелькнул чей-то открытый рот, обрезанный, кровоточащий язык, мелькнуло лицо ребенка, разорванная клетчатая рубашка и красно-черная яма на месте груди. Неожиданно воздух прошил Ромин крик, И все исчезло тотчас. …На войну Рома пошел добровольцем. Он решил, что там случится с ним одно из двух – или он погибнет, или забудет о своем страхе смерти, даже не о страхе смерти, нет, а о страхе, порождаемом безостановочным движением времени. Он боялся времени. Да. Но не боялся вступить с ним в борьбу. Он пошел не на войну с контрреволюцией. Он по-на войну со временем. Если время не остановить, рассуждал он, то во всяком случае можно – и это точно, в человеческих силах – сократить период ожидания конца. Накладывать на себя руки он не желал. Во-первых, это было противно инстинкту. А во-вторых, в нем, как и в миллиардах других, жила надежда, а вдруг что-то да случится и, например, кто-то изобретет, какой-то умник, средство от смерти, лекарство бессмертия, или эликсир вечности. Знаешь, естественно, что такого не произойдет – уж наверняка – при твоей жизни, а надежда вес равно тлеет где-то там глубоко-глубоко, и едва слышно шепчет: «А вдруг, а вдруг…». И выходит, что кончать жизнь самоубийством даже противно самой смерти, а уж о надежде и рассуждать не приходится. Но тем не менее мы говорим и рассуждаем.) И сознавая, что надежда та тщетна и не менее исключительна, смерть свою он все-таки ожидал не от себя самого, а от пули или клинка сторонних, а может, и от снаряда или от гранаты, или от вертолетного винта. Ожидал. И никак не дожидался. Пули летели мимо. Или задевали лишь легко – раз, другой. Впрочем, однажды задели сильно. Прошибли плечо, бедро, раскололи кусок ребра со стороны сердца. И в беспамятстве к нему пришел он сам, только постаревший, немощный, ссохшийся, сморщенный, беспомощный, уродливый, жалкий, плачущий, беспрестанно испражняющийся под себя, зловонный отчаянно. Не человек уже. Что угодно, но только не человек. И, очнувшись – в студеном поту, – Рома понял, что теперь он другой, чем был раньше. Он теперь знал, что делать. Он хохотал от радости всю ночь до утра, до самого рассвета, пока не вкололи несколько кубиков транквилизатора. Проснувшись, решил следующее – сделать все от него зависящее, чтобы никогда не постареть, сделать все, чтобы стать бессмертным, А что, такое возможно, он поверил сразу, как только подумал об этом еще во сне, когда увидел себя дряхлого и немощного. Его могут убить – здесь, на войне, или где-то еще. Он прекрасно это понимал и мирился с этим. Но если не убьют, он сделает так, что никогда не будет болеть и никогда не станет старым и никогда не умрет сам. Как он достигнет бессмертия, он еще не знал, но был уверен, что скоро узнает, очень скоро, догадывался, что ему будет дан сигнал или знак оттуда, свыше. Как действовать дальше, ему, скорее всего, подскажет голос. А может быть, он увидит свое будущее во сне. Да, да – во сне. Конечно. И нет никаких сомнений, что это самое наиважнейшее сообщение в его жизни будет передано ему во сне… …Он верил в сны. Так вышло, что и Антошку Нехова (то есть меня) он тоже увидел во сне. Увидел еще задолго до того, как познакомился с ним. Он хорошо помнил тот сон. Дело было так – во сне, разумеется. Рома плавал верхом на утке по тихому пруду в горах Боливии, играл на флейте и пел народные боливийские песни, веселился, радовался и покрикивал изредка на рыб, которые кусали его за голые пятки – небольно, но щекотно. В который раз, не жмурясь, поглядел он на солнце и на сей раз заметил на солнце пятно. Пятно увеличивалось и увеличивалось и вскоре, через минуту, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, он различил красавца кондора, длинноклювого и голубоглазого. Сложив крылья, кондор камнем падал на Рому. Но самое любопытное было то, что верхом на кондоре сидел Антошка Нехов, и не просто сидел, а выкрикивал еще, кривясь, что-то злое и угрожающее. Еще секунда, третья, десятая, и вопьется суровый кондор в мягкую уточку… И тут встретился Рома взглядом с Антошкой. И увидел Рома, что Антошкины глаза подобрели и что черты лица его разгладились и мягче сделались. И за метр буквально, оставшийся до столкновения, Антошка ухватил кондора за шею обеими руками, что есть силы, и потянул шею на себя, как рычаг управления в самолете, и кондор, со свистом рассекая воздух, снова пошел ввысь, недовольный, задыхающийся, хрипящий раздосадованно. Антошка повернулся в сторону Ромы и, улыбаясь, помахал ему рукой… А через год, примерно, Рома встречает Антона на войне. Его, того самого, который снился ему, точь-в-точь его, один в один. И когда Рома увидел Антона, у него даже дыхание перехватило, как у девушки, которая своего избранного наконец встретила. И он подумал тогда: «У меня никогда не было друзей. Я никогда не хотел друзей. Я и сейчас не хочу друзей. Но этот парень будет мне другом. Настоящим другом. Я знаю. Был знак». Впервые в жизни, к превеликому своему изумлению, Рома кого-то полюбил. Это было, чрезвычайно приятное чувство. Оно ласкало и успокаивало и в то же время делало Рому сильным, уверенным, исключительным. Он заботился об Антоне, как о брате, как о сыне, как об отце. Он оберегал его от несправедливостей начальства, от насмешек опытных фронтовиков и от него самого, поначалу настороженного и боязливого. Он учил его всему, что знал сам, учил, как мог, как умел, – тактике и стратегии боя, стрельбе, рукопашному бою и, главное, умению сжиться и смириться с собственным страхом, главное… Свою любовь к Антону он не показывал, конечно, открыто, скорее, наоборот, он был даже жесток в обращении с Антоном, и суров, и требователен, и совершенно не добр, и ни чуточки не ласков. На занятиях по рукопашному бою он бил Антона в кровь и лишь смеялся нехорошо, когда Антон падал на землю от очередного профессионального удара, обессиленный… Иногда Рома просыпался раньше подъема и смотрел на спящего Антона с детской чистой улыбкой, думая о том, как же хорошо, что он встретил этого парня. Как хорошо! И хмурился потом. И морщился досадливо. И твердил себе, морщась, что он должен сделать все, все-все-все, чтобы этот парень вернулся домой живым, мать его, живым!… Черт! Черт! Черт! Мне сделалось определенно скверно и муторно сейчас. Очень скверно. И очень муторно. Я знал, видел, понимал, что Рома очень хорошо относится ко мне, но чтобы до такой степени, мне и в голову этого не приходило. Черт! Черт! Черт! Я очень люблю тебя, Рома. У меня нет ближе друзей, чем ты, правда. И совершенно ничего не означает, что мы виделись с тобой так редко после войны, Я не знал… Да и не в этом дело, собственно. Знал, не знал, какое это имеет значение… Проста жизнь моя так складывалась… Я все хотел сам, сам, понимаешь… Прости меня, Рома. Я очень прошу, прости… …Роме было четыре года, когда ему приснился один сон. Ему снилось, будто он спит и совсем не видит снов. Спит себе и спит совершенно без снов. И он даже уже начал бояться, что ему так и не приснится сон, когда сон все-таки начал сниться. Роме снилось, что он слышит какой-то шум, и что он от этого шума просыпается. Но он пока не открывает глаза и тихо лежит. И слышит он дыхание и стоны и даже крики – и не одного, а двух человек – и еще слышит какие-то слова, и еще слышит шум возни и скрип кровати. Привлеченный этим шумом и напуганный этим шумом, Рома встает со своей кровати и идет по слуху на шум и подходит к кровати, где спит его мама, и видит… И Рома видит, что на кровати не только его мама, но и еще какой-то человек. Рома видит, что этот человек голый и что он лежит на его тоже голой маме и качается вместе с ней на скрипучей кровати и одновременно хрипит и: стонет и что-то говорит его маме грубое и незнакомое… Рома хочет крикнуть и не может, рот его не открывается и язык не шевелится. Рома хочет развернуться и побежать опять к своей постели, но и этого он сделать не может. Он не в силах оторвать глаз от того зрелища, которое открылось перед ним. Зрелище пугает его и манит его. И тем, что манит его, оно еще больше пугает его. Рома понимает, что то, что он сейчас видит, плохо, отвратительно, грязно и страшно, страшно… И ему хочется ударить так противно копошащихся на кровати людей, сильно и зло, и ему хочется расцепить этих людей, и ему хочется убить того, кто прыгает так истово на его маме. Он не жалеет маму, нет, он понимает, что маме нравится то, что с ней делает этот голый человек, и именно потому, что маме это нравится, Рома хочет ударить и се и голого человека, и именно потому ему хочется, под видом защиты мамы прекратить все, что здесь происходит. Ему очень не нравится, что мама смотрит на него и улыбается, улыбается… Но вот рот ее кривится, и она закрывает глаза и кричит, уже не стесняясь… И Роме, маленькому, становится совсем нехорошо, и он падает и засыпает… Рома с матерью жили вдвоем в однокомнатной квартире, на Башиловке. Отца Рома не знал. Мать говорила, что он был милиционером и погиб в схватке с уголовно-преступным элементом. Может быть, так оно и было. До самой смерти матери Рома так и не сумел выпытать у нес, кем же на самом деле являлся его отец. Он наводил справки о своем отце и потом – после смерти матери. Безрезультатно. Так что, думал Рома, может, мать и не врала, и отец его был действительно работником милиции, и именно от отца, может быть, Роме досталась такая способность к оперативной работе. Смешно. Смешно… Проснувшись утром, четырехлетний Рома, конечно же, думал, что ему приснился страшный сон, конечно же. Но днем под маминой кроватью он нашел вонючий мужской носок… Через неделю, а, может быть, через две, Роме снова приснился тот же самый сон. Почти тот же самый. Только теперь он не сам проснулся, теперь мать позвала его. И когда, сойдя с кровати, он приблизился к ворочающимся голым телам, вдруг зажегся свет и мать заорала дурным голосом: «Смотри, смотри, как мы… Смотри!…» и Рома смотрел какое-то время, а потом закричал громко, отчаянно, зверино… А еще через неделю, а может быть, через две или через три, мать опять требовала: «Смотри, смотри!…» И Рома снова плакал и кричал и думал, что ему снится очень страшный сон. Один и тот же всегда. Этот сон снился ему целый год. И сниться он прекратил только тогда, когда они с матерью переехали жить к деду. Рома никогда ни с кем не дружил, ни в школе, ни в училище, ни с мальчишками, ни с девочками. В десятом классе ему понравилась одна девочка из соседней школы. Он даже один раз сходил с ней в кино. Сидя рядом с ней в темном кинотеатре и ощущая запах девочки, и глядя на ее коротконосый нежный профиль, Рома вдруг ощутил желание, и член его вздрогнул и напрягся… Придя домой, Рома изрезал член бритвой. Истекая кровью, сумел добраться до поликлиники… Потом он, конечно, спал с женщинами, чтобы не выглядеть дефективным в глазах окружающих. Спал, да. И по прошествии какого-то времени даже с удовольствием и удовлетворением. Но и с отвращением. С отвращением к себе. Когда он занимался любовью, ему тотчас начинало казаться, что от него пахнет вонючими носками и что на него кто-то смотрит, и вообще, что он препакостнейший и наимерзейший негодяй, подло и исподтишка, обманным путем, или с помощью угроз и издевательств, совершающий наизлейшее в этом мире дело – унижение человека, унижение женщины. «Даже если женщина этого и очень желает, и даже если и получать от этого наивысочайшее наслаждение, он как Человек, не зверь и не пернатый, и не пресмыкающийся, и не в крайнем случае насекомое, скользкое, мокрое и отталкивающее, не имеет права тем не менее надругиваться над женщиной, жестоко вгоняя в ее чистое и невинное тело стыдный, срамной и оскорбительно воинственный, до краев налитый кровью и спермой мускул…) Так он думал, когда занимался любовью. Проводив женщину или вернувшись от нее домой, он тотчас шел в ванную и долго-долго и тщательно мылся, с мылом и мочалкой, натирался затем спиртом, ложился в постель, укутывался, и начинал плакать и кричать, как тогда в детстве, точь-в-точь, – когда смотрел, как его мать занимается любовью с голым человеком, голая сама4 его мать, мать его… Чтобы не быть так отвратительным себе, – размышлял Рома, видимо, надо кого-то полюбить, и тогда секс наверняка тотчас приобретет иное значение, и он станет лишь частью чего-то целого, без чего просто нельзя обойтись. Или нет, даже не так, секс станет выражением и подтверждением истинного, чистого-чистого чувства, которое он будет к кому-то испытывать. И тогда (как хотелось бы в это верить) он перестанет чувствовать запах непростиранных носков, ощущать взгляд со стороны и считать себя законченным, премерзейшим и наипакостнейшим негодяем… И Рома поставил перед собой задачу в кого-нибудь влюбиться, И через какое-то время достаточно успешно справился с этой задачей. Девушку звали Люся. Она была худенькой, стройной, длинноволосой и полногубой, и в отличие от многих провинциальных девушек неплохо говорила по-русски. Рома познакомился с ней на вечере в училище. На четвертом курсе некоторые его ровесники уже завели семьи. Пора уже было думать о гарнизонной жизни, говорили они. Не женишься в училище, еще говорили они, там, на месте дислокации твоего подразделения, можешь и не найти себе жену. А жена нужна – и для борьбы со скукой, и для морального облика, и вообще, и вообще.,. Рома подумал и пришел к выводу, что именно вот так и надо. И тоже решил жениться. Он сообщил об этом Люсе. И Люся, конечно, тут же согласилась. И он чуть было действительно не женился, Рома Садик. Но не женился. Нет. Лежа как-то на Люсе, у нее дома на шатком и валком диванчике и занимаясь с Люсей любовью, он, будучи в достаточно сильном возбуждении, и, пребывая, можно сказать, в предоргазменном состоянии, дурачок, в порыве необузданного чувства повернулся в сторону и неизвестно зачем открыл глаза (то ли защипали они от пота, то ли ресница в какой-то глаз попала). Открыл, одним словом, он глаза и увидел себя с Люсей совершенно голых в зеркале, которое было вставлено в дверцу шкафа, напротив дивана стоявшего, себя, голого совершенно, на совершенно голой Люсе. Люся улыбалась и облизывала губы мокрым языком, мокрые… А потом рот у Люси скривился и Люся закричала, страстная… И тут силы Рому оставили, все, все до единой, и Рома сполз с Люси. И заплакал, не стесняясь, и закричал, не сдерживаясь… И еще потом Рома влюблялся, я помню, он сам об этом рассказывал. Та женщина, ради которой он убил четырех человек, была действительно хороша. Мне такие нравятся. Я люблю заниматься с такими сексом. Она была красивая, неприступная и развратная одновременно, предпочитающая любовь и секс чему-либо другому, отягощенная только одной заботой – получить удовольствие от чего бы то ни было – от стрекота цикад, от скрипа мельничного колеса, от запаха новенького автомобиля, от собственных умных слов, от вида пистолета системы Пьетро Беретты, от розового гладкого члена, от неудавшегося романа, от солнечного зайчика, пущенного проезжающим велосипедистом или от вида, например," собственного разгоряченного, прерывисто дышащего, стонущего от наслаждения мужа, который на твоих глазах трахает малознакомую тебе женщину, или… И прочая, прочая, прочая… Она упала со скалы и умерла. И ей, наверное, действительно не надо было бы жить после того, что произошло. Разве могла бы она любить потом Рому? Нет, конечно. Разве мог бы жениться на ней потом Рома?… Нет. Понятное дело. И не осталось бы у Ромы ярких и чрезвычайно волнующих воспоминаний, если бы она не умерла. А так ему кажется, что он на самом деле любил эту женщину. Единственную женщину. Истинно. Пусть кажется… (Ну и совсем Роме легко стало – он это отметил, и он этому порадовался, – когда он вдруг понял, взглянув на себя в зеркало после секса с какой-то женщиной, что секс его старит, да еще как. Легче стало. Стало. Стало, Теперь не нужно было думать о любви и не нужно было озабочиваться удовлетворением хоть и изредка, но все же возникающей похоти, Любовь теперь казалась вредной. А похоть и вовсе исчезла. Как и не было. Все просто…) …Но я не знал, что волнующие и яркие воспоминания о погибшей женщине связаны у Ромы не только с сексом и с его острым и сильным любовным к ней чувством. Не только. Случилось тогда и еще кое-что. …Рома не все нам с Никой рассказал про тот день, когда погибла эта женщина… После того как она упала в воду, произошло следующее. Рома некоторое время стоял еще на уступе, глядя вниз, на море, недвижный, одеревенелый, чуть согнутый, с протянутой к морю рукой, к тому месту в море, куда только что упала она, с широко раскрытыми глазами, не дыша, совсем не дыша. Он не мог сделать вдоха, он не мог сделать выдоха. Он тоже, казалось, умирал и он был бы очень благодарен судьбе, если бы он взял бы да и умер сейчас от удушья. Однако сработала все же в организме система самозащиты, и судорога, которая свела его горло, отступила, и Рома сумел вдохнуть и выдохнуть. Рома выругался хрипло, выпрямился, продышался, насыщая организм кислородом, отступил от края, на шаг-другой и, неожиданно для самого себя, прыгнул вдруг с уступа вниз головой, не зная, конечно, и не догадываясь даже насколько близко или далеко дно, там, под скалой; под уступом, с которого он, Рома, прыгнул так самоубийственно-героически. Он вошел в воду без характерного шлепка и практически без брызг, мастерски, профессионально. (Наверное, даже получше, чем некоторые прославленные прыгуны с вышки.) Он добрался до достаточно все-таки близкого дна, оттолкнулся от него руками, и огляделся. ЕЕ нигде не было. Он не видел ЕЕ. Он вынырнул, вдохнул и снова ушел под воду. Поплыл вправо, потом влево. Увидел наконец меж двух огромных кусков скалы ее шевелящиеся ноги, добрался до женщины, потянул ее на себя, ухватил ее за талию, поплыл вверх… Ярясь и стервенея, он сделал ей искусственное дыхание, вскрикивая и плача. Слабым фонтанчиком выплеснулась вода у нее из горла. Она открыла глаза. Она посмотрела на него с ненавистью и страхом. Кровь обильно заливала ей правую сторону лица. «Я люблю тебя», – тихо сказал Рома. Женщина закрыла глаза и открыла их вновь. Страха в ее глазах уже не было. Осталась одна ненависть. «Я люблю тебя», – повторил Рома громче. «Ты умрешь, – прошептала женщина. – Ты скоро умрешь…» – «Я не умру, – закричал Рома. – Слышишь? Я никогда не умру. И не смей! Не смей!!» Рома стер воду со своего лица, покрутил головой туда-сюда, словно в нервном тике, а потом медленно оглядел женщину, улыбнулся чему-то и неторопливо стал снимать с нее платье, затем трусики. А затем разделся сам… Он входил в нее с хрустом и ревом. Он терзал ее, истекающую кровью, как злой ребенок любимую игрушку, он раздирал ее на части, он наслаждался, он умирал… Кончая, он поймал ее последний вздох. Губами. Ртом. Он вдохнул его в себя, ее последний вздох. Оторвавшись от ее губ, он ощутил себя здоровым, сильным, властным, счастливым. Он стоял, смотрел, не жмурясь, на солнце и смеялся прямо ему в глаза – бесстрашный и единственный.,. Рома оттащил тело женщины к воде, привязал платьем ей камень на шею и бросил тело в воду. Выпрямился, напевая. Сделал шаг и замер вдруг, почуяв опасность, стремительно оглянулся и увидел парня лет восемнадцати, с ужасом взирающего на него. Откуда он появился? Парень, наверное, купался где-то рядом. Волосы и лицо У него были мокрыми. По всей вероятности, он купался за скалами. На этом участке пляжа много скал. Парень один? Или с ним кто-то есть, кого Рома сейчас не видит? Надо проверить. Рома улыбнулся широко. Кивнул приветливо парню, шагнул ему навстречу дружелюбно – голый, с неуспокоившимся еще, раскрасневшимся крупным членом. Парень, тонконогий, розовогубый, попятился непроизвольно. Споткнулся. Упал. Открыл рот, пытаясь крикнуть. Только пытаясь. Рома теперь смеялся. Он весело поднял парня, ухватив его за ворот рубашки. Потащил его за собой за скалу, чтобы проверить, есть ли там кто, нет ли там кого, убедиться, удостовериться. Никого. Обрадовался. Подпрыгнул, отбил на камнях неслышную чечетку голыми пятками. Успокоившись немного, деловито обыскал парня. Пусто было у парня в карманах. «Я ничего не видел», – опрометчиво заявил парень, обретя, наконец, способность говорить. Рома улыбался. «Честно, – сказал парень. – Я ничего не видел. Честно» – «Чего ничего?» – поинтересовался Рома, внимательно разглядывая парня с ног до головы, медленно. «Ничего. Ничего, – быстро заговорил парень. – Ну то есть вообще ничего» – «Значит, ты не видел, и как я тут убил человека и выбросил его труп в море? Так выходит?» – серьезно полюбопытствовал Рома. «Нет, конечно, нет», – едва не плакал парень. Рома покачал головой, будто размышляя. «Сколько тебе лет?» – спросил Рома. «Шестнадцать, – ответил парень, поперхнувшись. Прокашлялся и повторял: – Мне шестнадцать». А Рома опять засмеялся. «Хорошо, – сказал он, – хорошо». И погладил нежно парня по волосам. И ударил его коротко в середину живота, и еще, и еще. Когда парень согнулся, выпучив глаза, Рома прихватил его голову резко, слева направо. И тотчас хрустнули позвонки – как сухие палки, когда их ломают, прежде чем бросить в костер. Рома осторожно опустил парня на землю и, облизнув свои губы и хрипя от возбуждения, стал на колени, склонился и прижался дрожащим ртом к губам умирающего. И поймал-таки его последний выдох. Шумно втянул воздух в себя, раздувая ноздри, хищно открывая рот, насыщаясь, наслаждаясь, полной грудью, зажмурив глаза. Встал легко, пружинисто, покатал мышцами под загорелой кожей, взглянул опять на солнце, не моргая и не щурясь, сказал тихо – только ему и солнцу слышимое: «Я бессмертен!»… Я неожиданно ощутил боль в висках, острую и яркую, как вспышка. Когда боль прошла, я увидел, опять как и тогда, когда только что сел рядом с Ромой покурить сигаретку, бездонную, черную пропасть на разорванной груди ребенка, кричащий рот без языка. И затем ничего. Ничего. Белое блеклое полотно экрана. Ничего. А еще через секунду, а может быть, и через две, или, может быть, наоборот, через долю доли мгновенья на экране явственно и рельефно проступило лицо Ромы. Рома посмотрел на меня и пошевелил губами. Наверное, он сказал что-то, но я не услышал, что. И опять боль, как вспышка… Я открыл глаза и прямо перед собой, перед своим лицом, сантиметрах в двадцати, наверное, увидел, вздрогнув от неожиданности, лицо Ромы. Рома смотрел на меня какое-то время без всякого выражения, а потом сказал вполголоса: «Не мешай мне»… Выпрямился после и неторопливо вышел из комнатки, в которой мы находились. Ужинали мы молча. Все как один. Все молчали. Только однажды Ника хотела что-то спросить Рому и даже уже открыла рот и даже уже издала какой-то неопределенный звук, но, взглянув на Рому, а потом на меня, передумала и ничего не спросила. За окном шумела тишина. И светилась ночь. Запах свежего влажного воздуха говорил нам, что завтра опять будет день (и послезавтра, и послепослезавтра тоже), а после него – ночь, а после опять день. Мы ели жаренную во фритюре картошку, голландские консервированные приконченные сосиски с чешской горчицей, корейскую острую морковку, кислую капусту производства Луховицкого консервного завода, болгарские консервированные томаты, ароматные анчоусы с маслинами и тонко нарезанную баночную ветчину югославского изготовления. И запивали мы все это виски «Чивас Регал» двенадцатилетней выдержки и французской минеральной водой «Эвиан». На Нике была надета маленькая, обтягивающая ее узкие бедра черная эластичная юбка и короткая розовая майка, а ноги Ники украшали розовые босоножки, как всегда, на высоком каблуке. Ника закинула ногу на ногу, и я заметил, как под юбкой мелькнули белые трусики. «Я хочу ее, – подумал я. – Я безумно хочу ее. Сейчас мы встанем из-за стола, и я уволоку ее наверх, и буду трахать ее до самого утра». Я пристально посмотрел на Нику, и почувствовал, что сегодня она вряд ли ответит на мое желание. А почему так? Я постарался настроиться на Нику… Ника думала о своем сыне. Да, тогда, конечно, усмехнулся я про себя. Когда женщина думает о своих детях, в мыслях ее не остается, как правило, места для секса, как правило… …Ника представляла себе своего мальчика, и с удивлением отмечала, что воспоминания о нем совершенно не волнуют ее. Она не получала от тех воспоминаний ни удовольствия, ни тепла, не ощущала ни трепета, ни беспокойства. «Я не люблю его, – с внезапным испугом подумала Ника. – И никогда не любила». Господи!… Ника вспомнила, как она рожала его. И снова никаких эмоций. Рожала обыкновенно, как все. Достаточно тихо и без особой боли. И когда увидела его, сморщенного, почувствовала только жалость. И все. «Нет, нет, – Ника постаралась отогнать от себя эти мысли. – Нет. Я, конечно, люблю его, Просто сейчас я попала в очень неожиданную сложную ситуацию. И поэтому воспринимаю мир немного искаженно. Когда все уладится и успокоится, я пойму, что я, конечно же, люблю своего мальчика, своего, своего… Как его зовут? Как зовут моего сына?… Господи, как же его зовут?…» – Ника сдавила виски пальцами, съежила лоб. Она сходит с ума! Она забыла, как зовут ее сына!… После ужина Рома, не говоря ни слова, быстро поднялся наверх и заперся в своей комнате. Я и Ника все так же молча помыли посуду. И тоже поднялись наверх. Молча. Не раздеваясь, Ника легла на кровать и уткнулась лицом в подушку. «Его зовут Павлик, – доставая из… тумбочки кассеты, которые мы с Ромой с таким боем добыли в доме Нины Запечной, подсказал я Нике. «Я не хотела его так называть, – тихо проговорила Ника в подушку, тихо и глухо, едва слышно. И подушке, и мне, и самой себе. Но я услышал. – Мне не нравится имя Павел. Мне вообще не нравятся никакие имена. Ни женские, ни мужские. Я не хотела никак его называть. Я хотела, чтобы он рос без имени. Совсем без имени. Совершенно без имени. А окликала бы я его каждый раз по-разному. Ну, например, мальчик. Или, например, глазастый. Или, например, тонконогий. Или, например, умненький. Или, например, сладенький. Или, например, упрямый. Или игривый. Или заводной. Или веселый. Или верный. Или мой кусочек. Или не мой кусочек… А когда бы он вырос, я бы звала его бравый. Или огненный. Или грустный. А может быть, я бы звала его слабоумный. Или хваткий. Или хитрый… Каждый раз по-разному. В зависимости от того, каким бы он мне казался в то мгновение, в какое бы мне захотелось окликнуть его, или обратиться к нему, или сделать ему замечание. – Ника тяжело отняла голову от подушки, повернулась ко мне, убрала волосы с глаз, посмотрела на меня, спросила, изучающе вглядываясь в меня. – А откуда ты знаешь, что его зовут Павел?» Я встал коленями на постель, наклонился к Нике, погладил нежно и легко ее по голове, склонился ниже, поцеловал Нику в щеку, в висок и еще не в бровь, а в глаз, в один, а затем во второй и сказал Нике, улыбаясь мягко и искренне: «Спи… – и повторил с нажимом, хотя еще очень слабым: – Спи. – И повторил уже более требовательно: – Спи, – и приказал затем, не оставляя ей надежды на выбор: – Спи!» И Ника закрыла глаза и опустила вновь голову на подушку. Задышала ровней, невесомей, ритмичней и тише. И уснула. Уснула. А я сполз с кровати, подхватил пакет с кассетами и, стараясь не производить шума, вышел из комнаты. И, конечно же, не забыл закрыть за собой дверь. Выпивку не стал доставать, да и сигареты вроде как и не годились для того дела, которое я, неуспокоенный, задумал. Потому как выпивка мозги, и без того мутные, еще чище мутит, а сигарета сбивает столь необходимое для того самого дела – исподволь, не нарочно, и велико полезное для внутренней гармонии и появляющееся откуда ни возьмись возбуждение. Я, любя и вожделея, вставил кассету в видеомагнитофон. Торопясь, включил телевизор. И уселся, нетерпеливо облизывая сухие губы, в глубокое кресло, которое предварительно подвинул поближе к телевизору. На экране объявился я – без единой одеждочки. Голый. Но в часах, в тех самых, что на мне сейчас, в «Роллекс», конечно, старом, трофейном. (Снял с какого-то полудурка, белого, несмелого, которого застрелил во время очередного рейда – в тот самый момент застрелил, когда он, урод, большую нужду на дворе справлял.) Я был, судя по моему лицу, злой, недовольный и раздраженный – верхняя губа у меня дергалась, а глаза искрились, как бенгальские огни. «Двадцать четвертое, мать твою, апреля, – хрипло произнес я, – двадцать один сорок шесть… («Хо-хо, – подумал я, – всего пять месяцев назад. Недавно».) Я один у себя в квартире. У себя дома. Один. Хотя, намеревался провести сегодня вечер с дамой. Я намеревался сегодня заняться любовью, мать твою. Я очень хотел сегодня заняться любовью. Желание жгло меня со вчерашнего вечера и жжет с неистовой силой и до самых нынешних пор, мать твою… Ни одна из трех моих постоянных женщин сегодня не смогла ко мне приехать. Одна заболела. У дочери другой, сегодня, именно сегодня, мать их, сегодня день рождения, а третья стала канючить, болтать какую-то ерунду по поводу любви и семьи и я, конечно, послал ее на хрен… Ну не идти же мне на улицу, снимать там девок в конце концов!… Суки траханные! Хоть мастурбируй отвязанно, с криком и слезами»., – Я собрал слюну и плюнул в объектив. Не попал, И тогда я заорал отчаянно, раскрывая рот до отказа. (Даже слышно было сквозь крик, как трещат мои губы.) Я, нынешний, засмеялся, покачивая головой из стороны в сторону. Мне было смешно. Изображение на экране пропало. Экран потемнел. Но ненадолго. Вот снова появилась картинка. Конечно же, на экране снова я. Теперь, слава Богу, одетый и никак не голый, В светлых брюках, в рубашке, в ярком красном тонком свитере. Печальный, усталый и сам себе не нужный: «Восьмое мая, – проговорил я и взглянул на часы (тс самые «Роллекс»). – Девятнадцать десять. Только что поговорил по телефону с матерью. Накричал на нее. Не знаю, зачем. По привычке. По мудовой своей привычке. Понятное дело, мы не можем с ней разговаривать на одном языке. Ее язык раздражает меня. Мой раздражает се. Мы злимся. Даже не так. Я злюсь. Только я злюсь. А она уже, по-моему, смирилась. Раньше злилась, сейчас нет. Хотя, казалось бы, следовало, чтобы происходило наоборот. Это я, как человек иного, более сильного интеллектуального и энергетического заряда, должен был бы смириться. ан нет. Мудак. Когда не вижусь с ней, когда не говорю с ней, мне ее жалко. Жалко, вплоть до того, что слезы навертываются на оба моих светлых глаза. Почему жалко? Оно понятно. Я же люблю ее. Так ведь по всему выходит. И поэтому я жалею, что она уже такая старенькая и такая морщинистая, и такая пугливая, и такая стеснительная, и говорящая невпопад, и плохо слышащая… И еще я жалею, что жизнь ее, собственно, прошла впустую. Ну, если исключить, конечно, рождение и воспитание меня. Это весьма благородное и достойное дело, кто бы спорил, – я усмехнулся, потер пальцем переносицу и заморгал неожиданно – чаще чем надо. – Нет, – сказал я, – я не заплачу, хотя страшно хочется… Она так смешно бегает и так суетливо ухаживает за мной, когда я редко, очень редко захожу к ней… Я понимаю, конечно, что я единственный, единственный, ради кого она еще держится за эту землю… Когда умер отец, я плакал неделю… Я очень хочу, чтобы ты жила долго, мама…» По экрану побежали пестрые помехи, потрескивая и попискивая. И затем снова возникла картинка. Картинка такая. Я пытался подняться с пола. И не мог. Падал. Бормоча что-то невнятное, глухо и, по-моему, не по-русски. На мне был вольный шелковый пиджак стального цвета, зеленая майка, черные просторные брюки. Я был бледен и небрит. Глаза мои запали. Вокруг них стремительно вращались черные круги. Я был знаком себе до неузнаваемости. Я был сам собой красив до отвращения. Я был. Наконец я поднялся, и вытянувшись вдоль стены, застыл, замер, закрыв глаза и улыбаясь. С первыми моими словами веки мои разомкнулись и тотчас заиграла незатейливая музыка, такая, какая играет, когда открываешь старинную музыкальную шкатулку: «Я пьян второй раз за сегодняшний день… Да, кстати, сегодня двадцать девятое мая, три часа одна минута… – Музыка прекратилась (если она и была), и голос мой теперь раздавался четче и яснее. – С утра, с того, с которого начался день, не с другого, нет, я еще был жив и здоров. Я поехал в аэропорт Домодедово. Я дал немного денег каким-то ребятам, которые стояли у служебного выхода на летное поле, и они пропустили меня. Много часов я сидел накаком-то ящике, на поле, и встречал и провожал самолеты. Самолеты оглушающие гудели, и от них валил жар. От них пахло металлом, керосином и электричеством. Они были большие и сильные, и очень красивые. В иллюминаторах я видел людей. Некоторые из них приветливо махали мне руками. И я благодарно отвечал им. Солнце светило мне в самую макушку. Наверное, я загорю, с удовольствием думал я. Я даже не курил. Там мне было хорошо. И совершенно не хотелось выпить. Так мне было хорошо. Я был частью большого и интенсивного движения. Взлет. Посадка. Взлет. Посадка. И полет. Полет. Я осознавал необходимость, обязательность такого движения. Без возможности передвижения жизнь, я уверен, постепенно стала бы угасать на этой земле. Понимают ли пилоты и диспетчеры и изобретали самолетов, что они делают работу, сравнимую с работой Бога? Или они просто работают, не задумываясь над тем, что они делают. Просто работают, и все. Потому что надо как-то зарабатывать на хлеб? Если не понимают, то им надо это объяснить. Просто. Доходчиво. И убедительно. Надо собрать Всероссийское совещание работников авиации и рассказать им, ЧТО они делают. Объяснить и доказать, И показать наглядно. На примерах. Привести высказывания авторитетных историков, философов, физиков, врачей… А потом, подумал я, глядя вдаль застилаемыми благородной слезой глазами, – надо также собрать и Всероссийское совещание железнодорожных работников, и объяснить им, ЧТО они делают. Да, да, именно так. Я даже вскочил от возбуждения, и стал расхаживать вбок и вперед по чистому полю подмосковного аэродрома. Да, да, конечно. Дальше – больше. Надо также организовать совещание и работников автотранспорта и не каких-то там отдельных представителей, а всех работников, всех, всех, всех, включая уборщиц и сантехников, и разъяснить им всем, ЧТО они делают. Черт побери, эти мысли достойны воплощения! Несомненно, в дальнейшем надо будет созвать также и совещание работников… – И я задумался тогда, прикидывая, кому бы отдать предпочтение в первую очередь, кто важнее по этой жизни, связисты или милиционеры, врачи или учителя, сотрудники собеса или электромонтеры, плотники или академики, уроды или красавцы, дети или старики, горы или реки, деревья или трава… А потом подошли те самые ребята, которым я дал денег, чтобы пройти на взлетное поле, и сказали, что на поле идет начальство и мне неплохо было бы сейчас уйти… Еще какое-то время я сидел в зале ожидания в здании аэропорта, смотрел по сторонам. Иногда вставал и помогал подносить кому-то вещи. Я также укачивал детей. Делал бутерброды, открывал бутылки с газировкой. Будил спящих, подсказывал время. Шутил, смеялся. Рассказывал невыдуманные истории… Пришли сумерки, И я понял, что устал. Пора было уезжать. К стоянке такси было не подступиться. Подступиться к частникам было можно. Лица их были похожи на лица злодеев из американских фильмов. Мне очень захотелось чем-нибудь сильно и больно ударить по этим лицам. Я вернулся в здание аэропорта и долго бродил по нему и наконец нашел то, что мне нужно. Я нашел пустую коробку из-под компьютера. Я набил коробку подобранными у мусорных контейнеров кирпичами и, навесив на свое лицо маску наивного полудурка, кряхтя, поволок достаточно тяжелый даже для меня ящик на улицу… Ребята со злодейскими лицами минуту приглядывались ко мне, охающему и стонущему, а потом один из них подошел и спросил, куда мне. Я ответил. Он назвал цену. Я тут же согласился. «Лишь бы уехать, – сказал я. – Лишь бы уехать». Тогда он сморгнул своими тусклыми глазами, почесал подбородок и сказал, что ему надо бы найти еще пассажира. Чтобы побольше заработать, объяснил он. Да, да, сказал я, преданно глядя ему в глаза, да, да. Через минуту он привел такого же, как и сам, мутноглазого и узколобого. Мы сели и поехали. Долго ли коротко мы ехали, но только километров через десять остановились. Шофер сказал, что хочет пописать. И пассажир сказал, что хочет пописать. И я с радостью сказал, что тоже хочу пописать. Мы вышли. Подошли к деревьям. И тут шофер вытащил ножик и сказал, чтобы я не орал, и приказал затем пассажиру меня обыскать. Ох, если бы ты знал, Антоша, как в тот момент я обрадовался. Я вздохнул восторженно и пропел на выдохе: «Ну, п…ц вам, братцы!» Я саданул шофера ногой в промежность, а пассажира кулаком в горло. Пассажир упал сразу, а шоферу мне надо было еще добавить, чтобы он тоже упал. И он упал. Еще несколько минут я их бил, лежачих, ногами, приговаривая: «Это за маму, это за папу, это за дядю Гагарина, это за Валю Терешкову, это за Маяковского, это за академика Вавилова, это за любовь, это за страдание, а это за мое хорошее настроение…» Утомившись, присел рядом с ними, стонущими и кричащими, и прочитал им лекцию о вреде уголовно-преступной деятельности. Один из них, кажется, шофер, грубо послал меня на х… И я сломал ему руку. Напополам, об колено. Потом подумал и второму сломал руку. Чтоб не повадно было. Потом я обыскал их. Забрал у них все деньги, которые у них имелись, много денег, взял ключи от машины и обыскал и машину. Нашел в бардачке виски, правда, дешевое – «Учительское». Выпил оставшиеся полбутылки, и веселый, и довольный, пьяненький и свеженький помчался на «жигуленке» с ветерком и сквозняком – в Москву. Бросил машину где-то в центре города. И пешком, почти протрезвевший, добрался до Тверской, спустился вниз по переулку к Театру юного зрителя, прошел еще несколько метров и очутился возле рыбного ресторанчика. Рыбки мне что-то захотелось. Я, конечно, поел рыбки и выпил еще виски, и снова опьянел и, разогнав музыкантов, вышел на сцену и громко потребовал, чтобы встали работники авиации, железнодорожного и автомобильного транспорта. И принялся обнимать поднявшихся работников, целовать их и раздавать им деньги. А потом заснул где-то за сценой. Проснулся. Из ресторана в этот час уходили уже последние повара. «Ээээээх!» – крикнул я и прошелся вприсядку по кухне. Повара зааплодировали и налили мне стакан, а затем другой, а затем третий… И вот я здесь, дома, едва держащийся на ногах, но соображающий и неплохо говорящий, рассказываю тебе эту историю. Рассказал…» – Я спустился по стене на пол, встал на карачки, подполз к объективу и выключил видеомагнитофон. По экрану побежали полоски. Но через несколько секунд я вновь предстал перед объективом. Теперь я стоял за мольбертом и водил кистью по полотну, сосредоточенный, осунувшийся, непричесанный, л» естественно, небритый, в рубашке и джинсах – сверху.донизу раскрашенный разнообразного цвета красками, Внимательно приглядевшись ко мне и к моей одежде, можно было подумать, что запачкался я так не случайно – во время работы, а что я специально так раскрасил себя зачем-то, старательно и даже с душой. Красками – желтой, красной и синей – было выкрашено даже мое лицо, от ямочки на подбородке до корней волос… Я смешивал краски, и писал, писал, менял кисти, одну на другую, третью и работал, работал, нервничая и матерясь… И вот, наконец, швырнул кисти в сторону от себя, крикнув что-то невнятное, но, судя по моему выражению лица, недоброе и грубое, и даже не пытаясь успокоиться, повернулся к объективу, и заговорил громко, возбужденно, то и дело срываясь на крик: «Пятый по счету день, твою мать, я пробую скопировать картину Иеронима Босха «Сад наслаждений», пятый день, мать вашу… Сегодня семнадцатое июня… Да… И ни черта не выходит. Такая роскошная картина и такой роскошный я… Но ни черта не выходит. Я купил лучшие кисти. Я купил лучшие краски, Я заказал лучший холст. Мне грунтовали его профессионалы. Я смешивал краски в нужных пропорциях. И твердой рукой наносил их на холст. И мне казалось, что я наносил их именно там, где надо. Я сделал, конечно, предварительные эскизы. Точь-в-точь, миллиметр в миллиметр как у Босха. Я работал часами беспрерывно, воодушевленно и возбужденно, покрываясь потом и часто и прерывисто дыша от волнения и азарта… И ничего! – кричал я. – Ничего! Ах! – я по-девичьи или по-бабьи всплеснул руками. – Неужели я не смогу скопировать картину Иеронима Босха? Неужели? Такого не может быть. Ведь это Я! Я! Посмотри на меня, Господи! Ведь это я. Я! Я должен ВСЕ уметь, я должен ВСЕ делать лучше всех… Ты спрашиваешь, почему? Ха, ха! Не лукавь. Ты же знаешь, почему. Потому что я избран тобой. Именно поэтому… Я знаю… – Я усмехнулся. – Ну, хорошо. Я должен делать ВСЕ если не лучше других, такое, наверное, невозможно, но во всяком случае я должен делать все, за что бы я ни брался, хорошо, даже если раньше я этого никогда не пробовал делать. Разве не так? – Я резко вскинул решительное лицо к потолку. – А? Ответь мне?! Я повалил ногой мольберт и заорал, ярясь, громко и истерично. – Разве не так? – Я в ярости топтал мольберт, колет и отвратительно нарисованную на холсте картину. – Вот, мать твою, сука! – остервенел я. – Вот, вот! – Я не успокоился, пока не расколотил на куски деревянный мольберт, не изорвал в клочья картину и не разбросал куски полотна по комнате. После чего я сел на пол, закурил сигаретку и молча сидел так, не могу сказать, сколько, курил, одну сигаретку за другой. И бросал непотухшие окурки на пол. Они робко потрескивали и вяло дымились. А затем я поднял глаза к объективу камеры и сказал спокойно: – Я буду копировать эту картину до тех пор, пока не скопирую так, что не отличить от подлинника. А теперь, – в заключение сказал я себе, сидящему на даче мужа Ники, – пошел-ка ты на х…» Я, сидящий на даче, только ухмыльнулся, услышав такие свои слова, и доброжелательно кивнув своему изображению на экране, сообщил ему, не таясь: «Ты мне нравишься!» И спросил его: «А я тебе?» И, не услышав ничего в ответ, не расстроился и даже не огорчился, потому что слова, коими могло бы мне ответить (или не могло) мое изображение, не имели для меня совершенно никакого значения, потому что я и так знал ответ, а спросил свое изображение всего лишь для того, чтобы создать видимость диалога, а то как-то скучно без диалога, Монологи все да монологи… Что я, один, что ли? Нас ведь много. Я и я, и я, и я, и я, и я, и я, и я, и я, и я, и я. Воооот сколько. Да и то тут не все. На самом деле меня еще больше. Послав себя на х…, я с экрана исчез. И через небольшую паузу, конечно же, возник снова. На сей раз я был в черной куртке, черных брюках и белой рубашке, застегнутой наглухо. («Хорошо!» – я даже поцокал языком от восхищения.) За спиной своей я увидел, далеко внизу, дома, дома, дома, маленькие, с маковыми зернышками окон, замутненные тонкой белесо-прозрачной, наверное, утренней дымкой. Да, Я стоял на крыше дома, на самом ее краю. Объектив видеокамеры был расположен чуть выше моей головы, и поэтому достаточно широко брал в кадр расстилающийся внизу город. Ветер шевелил мои волосы и трогал мои ресницы. Я так стоял минуту, а может быть, две, щурясь, привыкая к ветру и близкому солнцу, и наконец заговорил: «Сегодня второе июля. Утро. Шесть часов девять минут. Прекрасное утро. Чудесное утро. Волшебное утро. Доброе утро… Доброе утро, – я приветственно кивнул в объектив. – Я стою на крыше своего дома. До земли больше шестидесяти метров. Мало. Хотелось бы, чтобы было еще больше. Мне хотелось бы, чтобы было больше. И я обязательно поднимусь в самое ближайшее время на самую высокую точку в городе. Просто так заберусь, для удовольствия. Ну, а пока для иллюстрации того, что я намерен сейчас сказать, меня устраивает крыша и моего дома… Однако начну по порядку. Мне всегда, с детства, сколько себя помню, нравилось переходить дорогу, по которой очень плотно и очень быстро сдут автомобили. Наверное, меня привлекало чувство опасности. Не исключаю, конечно. Но сейчас понимаю, что не только. Имелось и еще кое-что. Как назвать это «кое-что», я пока не знаю. Надо подумать. Вернее, нет, знаю. Но такое название будет не совсем точным. Оно не до конца отражает то чувство, которое владеет мной и которое ведет меня. Одним словом, действительно надо подумать. Я вычленил это чувство совсем недавно, может быть, месяц назад, может быть, полтора, я не помню сейчас точно, хотя эту дату, конечно же, следовало бы запомнить, чтобы потом ее торжественно отметить. Ну так вот. Месяц или полтора назад я переходил Садовое кольцо, кажется, где-то возле Добрынинской. Я дошел до середины.полосы, когда обратил внимание на то, что полоса перед светофором еще не полностью занята автомобилями, и они подъезжают и подъезжают, заполняя первую шеренгу, они подъезжают и застывают совсем близко от меня – слева, справа, передо мной, в метре, в полутора, в двух. Я остановился… За первой шеренгой выстраивалась вторая, за второй третья. А машины все прибывали и прибывали. Я невольно повернулся к ним лицом. Я встал перед ними открыто, расправив плечи и, как перед дракой, привычно расставив ноги и расслабившись. Я, конечно же, не собирался драться с автомобилями, замершими сейчас на Садовом кольце возле метро «Добрынинская», но ощущения, которые у меня возникли, были очень схожими с ощущениями, появляющимися перед боем или перед большой дракой. Тут смешивались и страх, и оцепенение, и решимость, и предвкушение боли, и радость от осознания своей силы, и восторг от масштаба предстоящих событий… Хотя нет и не будет здесь на Садовом кольце никаких событий. И я это прекрасно понимал. Я просто перейду мостовую и пойду своей дорогой. Автомобили сорвутся с места после того, как на светофоре загорится зеленый свет, и помчатся тоже своей дорогой. Но вдруг я услышал, поведя носом по-собачьи, дрожа ноздрями, шевельнув верхней губой, дерганно, вроде как скалясь, что воздух сделался чистым, свежим и душистым, и почувствовал затем, что этот чистый свежий и душистый воздух заполняет мой рот, мой нос, мои бронхи и мои легкие, мою кровь, мои руки, мои ноги, мою голову – все мое тело, и понял, что сейчас могу взлететь над остановившимися автомобилями и над домами, и над людьми, и над городом, и я даже привстал на мыски, и я уже оторвался от земли… И в тот момент взревели двигатели машин, готовясь двинуться с места. И я опустился снова на пятки. И не потому, что испугался шума, или испугался взлететь, или испугался упасть, взлетев, или испугался, что не взлечу вообще, нет. Просто когда взревели двигатели, я, как мне показалось, неожиданно начал догадываться, что это такое за чувство, которое заставило меня остановиться и с восторгом взирать на тормозящие передо мной автомобили. Это было чувство того, что во мне открывается какой-то ранее скрытый от меня же самого резерв и что в этом резерве таятся силы, о коих я даже и не имею представления, даже и не могу вообразить. Вот что это было за чувство… Я стоял перед машинами, и они не трогались с места. На светофоре уже давно горел зеленый свет. По встречной полосе уже несколько десятков секунд как мчались машины. А машины, находившиеся передо мной, стояли. Двигатели их свирепствовали и безумствовали, а автомобили стояли… И поехали они только после того, как я отвернулся от них и не спеша направился к середине шоссе… – Я усмехнулся, прищурившись, будто дым от сигареты попал мне в глаза или будто я решил заплакать, я повел подбородком, продолжая усмехаться, вроде как сам себе удивляясь, и затем заговорил снова: – Я всегда очень дискомфортно чувствовал себя, когда вокруг много людей, когда вокруг толпа. Или когда, например, надо было выступить перед большим скоплением народа, я начинал волноваться, и скажу, более того, я начинал просто бояться, чего, сам не знаю, но бояться. Но теперь все изменилось. Я больше не боялся толпы. Я не ощущаю сейчас дискомфорта, когда я нахожусь рядом с толпой или в толпе, и.у меня не появляется, как раньше, желание бежать, как можно дальше от того места, где собралось так много людей. Более того, однажды у меня возникло ощущение, что я могу управлять этой толпой, что я могу мощно и неотвратимо воздействовать на нес, и, почувствовав это в первый раз, я пришел от такого нового, неизведанного и неисследованного мною ощущения в звериный восторг. Звериный, именно звериный восторг… На какие-то мгновения, а может быть, даже и минуты, я стал зверем. Сильным и необузданным и подчиняющимся только своим инстинктам зверем… Это случилось на стотысячном стадионе в Лужниках, в начале июня, когда играла наша сборная. К удивлению всех, стадион оказался заполненным до отказа. Такого не случалось, я помню, с семидесятых годов… Я сидел на тридцать седьмом ряду… И вот, когда игроки начали неспеша покидать поле после предматчевой разминки и стадион зашевелился и зашумел, провожая команды, я откликнулся на зов, который я услышал тогда впервые и поднялся с места, и, знающе усмехаясь, чуть лениво, стал спускаться вниз по каменным ступенькам стадиона. Я перепрыгнул через ограждения и очутился на беговой дорожке. Никто из солдат и милиционеров, сидевших и стоявших в оцеплении, не преградил мне дорогу и даже не окликнул меня. Они смотрели в мою сторону и молчали. Я дошел до середины поля, остановился в центре круга и повернулся медленно на месте, оглядывая готовый взорваться от безумного восторга стадион. И неожиданно поднял руки, просто поднял руки, приветствуя сидящих… Оглушительный рев был мне ответом… Люди не знали меня. Люди никогда не видели меня. Люди никогда не слышали меня. И тем не менее они подчинялись мне, они преклонялись передо мной… – Тут я, экранный, усмехнулся. – К сожалению, я не знал, что делать дальше. Я еще какое-то время стоял с поднятыми руками. Потом, конечно, опустил их и, глупо улыбаясь, направился обратно к трибунам. Но на свое место я не вернулся. Я не мог вернуться. Потому как понимал, что теперь, если бы я сидел на трибуне, все внимание стадиона было бы обращено на меня. Разумеется. А я не мог позволить, чтобы люди, ради которых, собственно, и собрался стадион в Лужниках, оказались бы здесь сегодня лишними… Я уходил под аплодисменты и приветственные крики, под слезы и истеричные объяснения в любви… – Я на экране неожиданно развернулся, быстро подбежал к краю крыши, легко впрыгнул на опоясывающий крышу по периметру неширокий, залитый битумом бордюр, и свободно и спокойно прошелся по нему, улыбаясь и что-то напевая. Я сделал ласточку. Я сплясал что-то типа летки-енки. Я крутанулся на одной ноге вокруг себя, как Михаил Барышников. Я сделал стойку на самом краю и поболтал в утреннем воздухе ногами. – Это же так просто, – сказал я, вернувшись к камере, – что даже не верится. Вуаля!… Это так приятно, что даже не верится. Это так не страшно, что даже не верится… – Я отбил лихую чечеточку, сосредоточенно и довольно грамотно, и сказал, подняв лицо к камере: – Так что, как видишь, не война с ее многолюдьем, грохотом и кровью излечила меня от страха перед толпой. А всего лишь широкое шоссе и нетерпеливо дрожащие автомобили на нем. Но я знаю, что не было бы и шоссе, и дрожащих автомобилей на нем, если бы не война… Нут вот, собственно, и все, что я хотел тебе сообщить. Надеюсь, ты понял, почему я снимался сегодня на крыше, на высоте шестидесяти метров от земли. Ты понял, я знаю. Ведь это так просто…» И снова, в который раз уже за нынешний вечер, на экране помехи, и негромкое шипенье и слабое потрескивание. И вслед за помехами, как обычно, появляюсь я. На сей раз я одет в темный двубортный костюм, белую рубашку и пестрый галстук, на ногах у меня ботинки «инспектор с разговорами» и белые носки, сам я серьезен и вдумчив, с зачесанными назад блестящими волосами, и, как всегда, в трехдневной щетине. Я сижу спиной к зеркалу. В зеркале видны установленная на треноге видеокамерами, конечно же, моя спина, и мой затылок, и торец сиденья полированной декоративной табуретки, доставшейся мне еще от отца. Я говорю: «Я недаром сижу перед зеркалом, хоть и спиной к нему. Недаром. Отражение – часть нашей жизни. Но это только одна из причин такого моего выбора места. Имеется и еще одна. Я не буду сейчас говорить, что это за причина. Ты сам поймешь это из моего рассказа. Рассказ будет сбивчивым и, наверное, путанным. Но ты поймешь, я знаю. – Я аккуратно провел рукой по волосам и после паузы продолжал: – Я мог бы, конечно, говорить последовательно, логично и, наверное, убедительно. Но тогда, естественно, снизился бы эмоциональный уровень моих слов. то так. Поэтому я не буду следить за последовательностью и чрезмерностью логики. Я не буду выстраивать речь. Я буду говорить первое, что приходит в голову… Но на одну тему. Скоро ты все поймешь. Я уверен, ты все поймешь. Слушай… Сегодня четырнадцатое сентября, шестнадцать тридцать три. Я просмотрел сейчас все записи, которые имеются на этой кассете. И, просмотрев их, я долго думал. Я не могу сказать, что я придумал что-то новое, нет. Просто я, наверное, впервые сейчас все сумел оформить словесно. Да, вот еще что. Я не требую сейчас от тебя терпения. Потому как рассказ мой будет короток. Но вместе с тем я требую внимания и сосредоточенности. Это, между прочим, две чрезвычайно важные вещи по этой жизни – внимание и сосредоточенность. Так что прислушайся ко мне… Я злюсь. Я плачу. Я смеюсь. Я хандрю. Я тоскую. Я радуюсь. Я скучаю. Я люблю. Я ненавижу. Я жалуюсь. Я жалею. Я убиваю, Я убиваюсь. Я ругаюсь. Я обороняюсь. Я желаю. Я насилую. Я бью. Я страдаю. Я преодолеваю. Я борюсь. Я подавляю. Я освобождаюсь. Я разрываюсь. Я собираюсь. Я терплю, Я боюсь, Я восторгаюсь. Какой набор! А! И он далеко не полон. Сколько эмоций и сколько слов, обозначающих эти эмоции. И все я один. Какой тяжелый и, казалось бы, неподъемный груз я несу в себе. Несу. И живу. И живу. И не просто как трава, мать вашу, совершенно не осознавая, что живу, а именно понимая и осознавая, что живу, живу, дышу, вижу, слышу, и злюсь и плачу, и смеюсь и страдаю, и тоскую… и так далее, и так далее. И думаю постоянно о том, что живу, думаю много, до ломоты в глазах, до боли во всем теле… Вопросы и ответы. Вопросы без ответов. Вопросы как ответы. Ну почему, скажи мне, почему, когда мне плохо, я все равно знаю, что мне хорошо?! Когда я страдаю, я знаю, что мне хорошо?! Почему, когда мне не хочется жить, я знаю, что живу, и буду жить, и буду жить хорошо? Почему? Нет. Не надо. – Я вытянул палец в сторону объектива. – Не говори пока. Я попробую сам объяснить. Я попробую. Дело в том, что я состою из миллионов маленьких «я» и из одного только настоящего Я. Неизменного Я. Бесстрастного Я. Тихого и спокойного Я. И именно это единственное Я не дает мне исчезнуть, раствориться, пропасть. Я осознал это. Но я понял также, что сам еще не добрался до него, до своего настоящего и единственного Я. Я знаю только, что оно есть. Но я еще не познакомился с ним близко. А познакомиться желаю. Да так, что нетерпением весь горю. А как то совершить? Какие имеются для того дороги? Неодинаковые и непростые. Понимаю, у каждого своя. Так какая же у меня? Я видел несколько. Я вижу не меньше. Необходимо сделать правильный выбор. Я выбрал, И я знаю, что я выбрал правильно. – Я, сидящий перед телевизором, внимательный и сосредоточенный, как я себя и просил, уловил в голосе себя, экранного, неожиданное волнение. – Для того, кто так долго решал, что ему делать -на этой земле, и нужно ли вообще что-либо делать на этой земле, установить, верный или неверный ты сделал выбор, не так уж сложно. Если выбор неверен, ты просто начинаешь себя скверно чувствовать. Приходят головные боли, возникают неполадки с желудком, ты начинаешь чаще и скорее уставать, ну и так далее. Но когда выбор твой правилен, ты обретаешь здоровье и легкость, неограниченность мышления и свободу передвижения. Ты плачешь, как смеешься, а смеешься, как летаешь… Теперь слушай еще внимательней. Для того чтобы добраться до того своего настоящего и неизменного, ты обязан делать четко и безукоризненно все, что ты делаешь. Непонятно? Я объясню. Например, ты сидишь за столом. Ешь. Допустим, обедаешь. Ты должен, во-первых, сидеть вольно, свободно, и обязательно красиво. Движения твои должны быть отточенными и законченными, и, конечно же, оптимальными, – ничего лишнего, ничего ненужного. А жевать пищу тебе необходимо тщательно, насколько возможно. А глотать ты ее должен с предельным осознанием того, что ты ее действительно глотаешь. Или… Ты купаешься в ванной. Твои действия в ванной должны быть точными и оптимальными, законченными и – непременное условие – красивыми. Красивыми. Красивыми даже, когда ты находишься наедине с самим собой. Или… Ты спишь. Вот уж где, казалось бы, ты не можешь осуществить никакого контроля над собой. Ты же спишь! И тем не менее ты обязан контролировать свои сны. А также и глубину сна, А также и свое положение в постели… И ничего лишнего, ничего лишнего. Только то, что необходимо для лучшего исполнения той или иной функции. Надеюсь, ты понял меня, – Я на экране вытянул ноги и сгорбился, потирая колени. – Даже убивать ты должен совершенно, насколько можешь. – Я улыбнулся мягко. – Даже насиловать женщину ты должен красиво и предельно хорошо. И никогда… – Теперь улыбка моя превратилась в неприятную усмешку. – Никогда ты не должен терять контроль над собой, вот, например, как потерял сейчас его я, сев вот так некрасиво и неудобно… – И я снова принял достаточно элегантную и удобную позу. – Я знаю, что меня будет преследовать страх. Страх неизбежен. Я не был бы человеком, если бы внутри меня не жил страх. Я знаю. Но я знаю так же, что только таким путем, о котором я только что говорил, я могу добраться до себя настоящего… Мне будет очень тяжело, чрезвычайно тяжело жить точно, оптимально, безукоризненно, и я стану сомневаться в правильности сделанного выбора. Тем более… Тем более, что нужных результатов я, естественно, быстро не добьюсь. Потому как процесс близкого знакомства со своим настоящим долог и длится годами, а может быть, и десятилетиями… И мне необходимо будет тогда преодолеть страх. И теперь остается вопрос вопросов. Как же преодолеть страх? С помощью аутотренинга, физических упражнений, правильного питания, интенсивных размышлений и углубленного изучения философии, математики, физики? Наверное. Да, это все необходимо, но не как главное оружие против страха, а как вспомогательное оружие. А главное оружие – это дело, которое я умею делать лучше других дел, и которое именно потому, что я умею его делать лучше других дел и доставляет мне истинное и ничем не заменимое удовлетворение. Главное оружие – это дело. ДЕЛО. – Я легко и непринужденно закинул левую ногу на правую. Моя новая поза смотрелась, как и прежняя, очень элегантно и привлекательно. – А вот теперь мы с тобой подходим к самому наиважнейшему вопросу моей жизни. Это даже не вопрос вопросов, это, можно сказать, вопросище вопросищев, мать его. – Я усмехнулся невесело и на несколько секунд отвел глаза от объектива камеры. – Так какое же дело я могу делать настолько лучше других дел, где я получал бы наслаждение, удовлетворение и удовольствие? Разве можно назвать таким делом мою суету с дурацкими и никому, собственно, не нужными переводами? Смешно. Нелепо. Глупо. Я мог бы быть солдатом. У меня эта работа неплохо получалась. Но не лучше, правда, чем у других. И она, честно говоря, не доставляла мне удовлетворения. Ни разу за четыре года. Даже тогда, когда нашел и убил убийцу полковника Сухомятова. А может быть, моя работа – это секс? – Я рассмеялся. – Я достаточно умело это делаю. И только… – Я развернулся резко на табурете и сел лицом к зеркалу. Теперь я видел свое лицо в отражении. Я подмигнул себе. – Так что, как ты понимаешь, пока я не найду ДЕЛА, я вряд ли доберусь до себя настоящего… – Я достал пачку «Кэмела» без фильтра, закурил. Долго сидел молча, в упор разглядывая себя в зеркало. – Ты, я надеюсь, понял, почему я, снимаясь, сидел рядом с зеркалом?…» Я выключил видеомагнитофон. Запись, где я беседовал с собой, сидя перед зеркалом, обаятельный и дорого одетый, была последней на этой кассете. Дальше на кассете имелась только пустота. Чистая и невинная. Нераспечатанная. Иногда столь необходимая и даже желанная, а сегодня раздражающая и утомляющая. (Я давно заметил, что люблю смотреть на пустой белый экран, освещенный светом проектора, или на мерцающий выхолощенный экран телевизора, или даже на полоски, которые бегут по экрану телевизора, когда крутится пустая кассета.) Сегодня любая пустота раздражала и утомляла меня. Наверное, потому, что я ощущал пустоту в себе. Не в мышлении, нет. У меня не было сейчас пустоты в мышлении. Мозг мой судорожно являл мне самые разнообразные картинки и слова, и быстро, быстро, быстро. Я ощущал пустоту в своей жизни. Или, скажем так, я ощущал пустоту своей жизни. Остро и больно. Я неожиданно захотел заплакать. Но не заплакал. Я усилием воли подавил в себе такое дурацкое желание. В отместку самому себе, я засмеялся; «Хахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха-хахахахахахахах ахахахахахахахахахахахахахахахахахаха». Перестав смеяться, подумал: «Если бы все было так просто, как ты говоришь, милый мой Антоша, то я, наверное, давно бы явился бы миру как запланированный гений, ни больше, ни меньше. – Я вынул кассету и сунул се обратно в бумажный пакет. – Хотя, нет, не так, – возразил я сам себе. – Наверное, все действительно просто. Именно так, как я и говорил. Вывод, заключение всегда просты. Просты предельно, просты так, что понятны даже ребенку, несмышленому и необученному. Только чтобы прийти к этим выводам, надо много узнать и много пережить, более того, перестрадать. И тогда простой вывод будет восприниматься не как обыкновенные слова, а как словесное выражение твоего опыта, – Я встал и скоро прошелся по гостиной из угла в угол, из угла в угол. – Я все вру про пустоту внутри себя. Вру. Я просто хочу привычно пожалеть сам себя. Привычно. Атавистически. Мы все привыкли с незапамятных времен не стремиться делать свою жизнь лучше и счастливей, а привыкли жалеть себя. Нет, конечно же, не пусто внутри меня. Нет. И я знаю, знаю, что у меня есть Дело. Не чувствую, а знаю. ЗНАЮ!!! И знал всегда, с тех самых пор, как родился. И именно поэтому я выжил, и именно поэтому живу и буду жить, …Мальчик Мика стоял в полуметре от меня и, вытянув Руку, нажимал указательным пальцем мне на нос. Мой нос сплющивался и хрустел. Мне было больно и в ушах у меня звенело. Дзиииииииинь. Мика отпустил руку. И звон, а вместе с ним и боль исчезли. Я вздохнул облегченно. А Мика снова надавил мне на нос, и мне опять было больно, и звон вновь трепал мои перепонки. «Что же ты делаешь, мальчик Мика, я же твоя мать», – сказал я мальчику. Мальчик оторвал палец от моего носа и засмеялся, запрокинув голову. Сквозь смех проговорил: «Врешь. Моей матери нет в живых. Она умерла, когда мне был всего год. Она не выдержала измены отца. Она очень любила его. Она без предупреждения приехала на дачу к подруге и увидела, как отец занимался с подругой любовью. В тот же миг мама заболела. И умерла через год. День в день, час в час». И Мика в который раз уже нажал мне на нос, и в ушах у меня в который раз зазвенело, конечно же. «Что же ты делаешь, Мика, – чуть не плача, упрямо повторил я. – Я же твоя мать!…» И Мика тогда еще сильней нажал мне на нос. Звон пробил мне перепонки. И вонзился прямо в мозг… И я проснулся. Проснувшись, выругался, грубо и громко. Звон, который, казалось бы, исчез вместе со сном, вновь пугающе вторгался в мои уши и в мой мозг, и в мои глаза, и в мои зубы, черт бы его побрал. Кто-то звонил в дверь. Звонил уже долго. И терпеливо. Я отнял лицо от подушки. Пощупал нос. Кончик саднило. Приподнялся. Ники рядом не было. На тумбочке с ее стороны кровати стояла почти опорожненная бутылка виски. Я встал, натянул джинсы, рубашку, надел кроссовки, вышел из спальни, позвал тихо: «Ника, Ника…» Зажмурившись, прислушался к звукам дома. Открыв глаза, решительно направился к туалету. Ника спала возле унитаза. Голая. А из самого унитаза кисло несло блевотиной. Я взял Нику под мышки, поднял ее, прислонил ее к стенке, встряхнул. Она открыла глаза, сказала, пристально вглядываясь в меня: «Не прыгайте с подножки, берегите ваши ножки!» И добавила через паузу, вяло: «Оп-ля!». Я взвалил Нику на плечо, и отнес ее, голую, в спальню. Выплеснул остаток виски в стакан и вылил дорогой напиток ей в рот. Ника замычала, закашлялась, выпучив свои длинные глаза, затем встряхнула головой, проморгалась, спросила меня строго: «Ты меня любишь?». И ухватила меня за ворот рубашки, с силой притянула к себе, заглянула в глаза, до затылка моего добралась взглядом, выкрикнула требовательно: «Ну же?!» – «А как же!» – ответил я, улыбнувшись от уха до уха, как Буратино в мультфильме. «Ну же!» – не удовлетворившись моим ответом, повторила Ника. «Я люблю тебя!» – на сей раз серьезно ответил я. И я не лгал. Ведь так оно и было на самом деле. «Я вижу. – Ника отпустила ворот моей рубашки. – Я верю. – Ника погладила меня по щеке пальцами. – Я хочу, чтобы ты жил долго. И чтобы, пока жил, всегда любил меня. Даже когда меня не станет, я хочу, чтобы ты все равно любил меня. Ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь, – возбужденно вдруг заговорила Ника, приблизив свое лицо к моему, – я очень много могу тебе дать. Даже больше, чем ты сумел бы себе вообразить. Правда. Правда. Внутри меня столько скопилось нерастраченного счастья, что я могу поделиться им с тобой. Я могу тебе отдать его все. На, бери, пользуйся. – Ника протянула к моему лицу правую руку. Ладонью вверх. Будто в ладони что-то лежало. – Мне больше не надо». В глазах у Ники вспухли слезы, плотные и скользкие. Зазвенел звонок, и мы оба вздрогнули. «Кто это?» – Ника испуганно посмотрела мне за спину. Я пожал плечами. «Открывать?» – спросила Ника. «Я думаю, да, – ответил я. – Слишком долго человек звонит. Значит, уверен, что внутри кто-то есть… Может быть, это отец Мики. Пошли». Я помог Нике встать, накинул на нее халат, и мы вышли из спальни. В окошко второго этажа, сверху я разглядел серую милицейскую фуражку и погоны старшего лейтенанта. Ника вскрикнула, когда я сообщил ей об этом. Я постарался успокоить ее: «Скорее всего, это участковый. Обычная проверка по ориентировке. Расслабься. Еще два дня назад ты ничего не боялась. Вспомни, ты же ничего не боялась». «Это было так давно». – Ника усмехнулась неуверенно, вздохнула и обреченно отправилась вниз. Я видел, как она спускалась, медленно, туго, словно шла по воде. Затылок ее был красив и печален. Ника знала, что я смотрю на нее. Ступив на последнюю ступеньку, она, не оборачиваясь, помахала в воздухе рукой, Я ободряюще качнул головой, будто Ника могла видеть это мое движение. Когда Ника скрылась из моего поля зрения, я развернулся и зашагал в комнату Ромы. Прежде чем войти, я постучался. Рома не отвечал. Я толкнул дверь. Она открылась. Рома лежал на полу в плаще и черных ботинках. На сей раз он лежал не на спине, а на животе, лицом вниз, уткнувшись носом в пол. Поза была настолько неудобной, что я, например, вряд ли сумел бы, вот именно так расположившись, заснуть. Но Рома спал. Спал, на самом деле. Я переступил порог. Не понимая еще зачем, подошел к окну. И только тогда обратил внимание, что солнце за окном светит не по-утреннему. Дневное уже солнце сейчас за окном, дневное. Я выматерился сквозь зубы, и рубанул рукой по воздуху! Непрофессионально. Неграмотно. Да и вообще, просто плохо, и мне непростительно. Я всегда фиксирую время того или иного события, любого события, которое более или менее заслуживает моего внимания. Время суток – это очень важная штука. В зависимости от времени суток события могут обретать остроту или вялость, а также скорость или неповоротливость. Не имеется четких правил, конечно, на этот счет. Но есть ощущение, есть инстинкт, есть интуиция. Я довольно часто ощущаю, в какое время тот или иной человек может совершить что-либо, или стоит, например, или не стоит принимать в расчет то или иное событие, если оно произошло, допустим, в семнадцать тридцать… А сейчас, мать мою, я забыл надеть часы! Я вообще просто даже не подумал о том, сколько было времени, когда я проснулся! Мне очень захотелось ударить себя – сначала в промежность, а затем в основание носа, резко, коротко, концентрированно. Но потом подумал, что от таких ударов я могу и отключиться, и довольно надолго, и тогда одним стволом в обороне будет меньше. И я не стал себя бить. Но обматерил отчаянно. Я присел возле Ромы. И хотел уже разбудить его. Но тут увидел нечто, что заставило меня на какое-то время отменить свое решение. Из кармана плаща Ромы высовывались уголки нескольких фотографий. Я видел, что это именно фотографии, а не что-либо другое. Я осторожно вынул их из кармана Роминого плаща. На каждой из фотографий а их было ровно пять штук, были запечатлены дети разных возрастов – примерно от пяти до десяти лет. Все мальчики. Один сидел на качелях, улыбался, другой показывал язык кошке, третий – писал прямо в сторону объектива, четвертый – изображал обезьяну, надув щеки и руками оттопырив уши, пятый – просто спал, спал на сухой летней лавочке, положив маленькие кулачки под мягкую щеку. Я покрутил головой, поморщившись. Сукин ты сын, Рома! Черт бы тебя побрал, Рома! Но ты мой друг, Рома. И я люблю тебя, Рома… Положив фотографии обратно на место, я тихонько тронул Рому за плечо. И тотчас отпрянул к стене. И правильно сделал. Так как в противном случае, если бы я остался на месте, то рисковал бы оказаться со сломанной рукой. Потому как через секунду-другую после того, как я коснулся его, Рома автоматически, не отдавая себе отчета, еще с закрытыми глазами, рубанул воздух правой своей рукой, пытаясь ухватить руку того, кто его тронул, и одновременно перевернулся, чтобы пустить в ход и другую свою руку, Ловок и тренирован был Рома Садик. «Что тебе?» – хмуро спросил Рома, усевшись на полу и сонно уставившись на меня. «Внизу милиция» – «Что?» – спросил Рома, привычно вертя ручку слухового аппарата. Я повторил. «Они знают, что мы здесь?» – спросил Рома, доставая сигарету из-за пазухи. Тошнотворным ароматом немытого тела пахнуло нечаянно от Ромы. Я съежил нос и перестал им дышать на какое-то время. «Не они, а он, – поправил я Рому. – Там один старлей. По-моему, участковый. Но, как ты понимаешь, надо быть готовым ко всему, Пошли». Я встал. «Сядь», – Рома махнул рукой. «Не понял», – удивился я, «Пусть все будет как будет», – сказал Рома просто. Я озадаченно хмыкнул и присел опять на пол рядом с Ромой. «Объясни», – попросил я. «Чего-то я устал, Антош… – пробормотал Рома. – Чего-то я устал» – «Может, поговорим?» – предложил я Роме и взял у него из пачки сигарету. Рома поднес к кончику моей сигареты зажигалку. После того как я прикурил и затянулся, Рома, к моему тихому недоумению, горящую зажигалку не убрал. Он, наоборот, приблизил ее к моему лицу, к самому подбородку. Я не отшатнулся, не отпрянул. Я сидел, курил, смотрел на Рому в упор. Я даже улыбался. Или мне так только казалось. Огонь зажигалки опалил подбородок. Мне сделалось больно. От подбородка боль добралась до висков, колющая и пугающая. Рома резко отшвырнул зажигалку в сторону. «Может, поговорим? – предложил я, теперь уже точно улыбаясь, дружелюбно и приветливо. – Тебе надо поговорить со мной. Я знаю. Тебе надо и ты хочешь. Давай, Рома, давай поговорим. Я же ни о чем до сих пор не спрашивал тебя. А спросить, как ты понимаешь, было о чем… Ну, например, хотя бы о твоих экзекуциях с наручниками или о фотографиях в твоем правом кармане…» Я не закончил. Рома замотал головой, как в приступе зубной боли, сдавил белыми пальцами виски и завыл, завыл, как волк в полнолуние, завыл, качаясь из стороны в сторону. Я курил и молчал и ничего не предпринимал. А что я, собственно, мог предпринять? Вой перешел в шипенье, шипенье – почти незаметно в шепот, шепот – в бормотанье. Я сумел разобрать только отдельные слова: «Он отдает мне свет», «заходите за мечтами», «носок, ты потерял носок», «не с миром, но с мечом», «у меня нет ни матери, ни земли», «я пью твою жизнь, я слышу, как бьется сперма, как кровь бурлит в волосах»,, «уходи, уходи, я не хочу слышать тебя, я не хочу видеть тебя, я не люблю тебя». Бормоча, Рома отмахивался от кого-то или от чего-то. Рома, бил руками по воздуху. Ромины очки были повернуты в мою сторону. И я понял, что Рома смотрел на меня. Смотрел, но не видел меня. Он видел кого-то другого вместо меня. Он видел что-то другое вместо меня. Рома согнул ноги, прижал их к груди, обхватил их руками и захныкал, как ребенок, И снова я поморщился от зловонного запаха, исходящего от Ромы. «Неужели Нике мог нравиться такой запах?» – вскользь подумал я. «А давай сыграем в города, Рома, а?! – внес я новое предложение, закуривая новую сигарету. – А, Рома, – я толкнул Рому в плечо. – А, Рома?» Я посильней толкнул Рому в другое плечо, а затем потрепал его за ухо и еще за другое ухо, а затем пощекотал.его между его белыми пальцами. Я счастливо смеялся и полной грудью вдыхал исходящий от него запах дерьма, мочи и настоявшегося пота, и цокал языком от удовольствия, и хлопал глазами от наслаждения, и почмокивал губами от удовлетворения…, «Давай», – согласился Рома, медленно поднимая голову и сурово выглядывая из-под бровей. «Москва», – начал я… Мы играли до тех пор, пока я не запнулся на названии очередного города России, начинающегося на «А». «Ты проиграл кольт – весело сообщил мне Рома. Я молча кивнул, а потом попросил Рому отыграться. Рома нехотя принял мое предложение. Теперь мы играли в города, расположенные вне пределов России. И я опять проиграл. И очень разозлился по этому поводу. Гордый Рома протянул ко мне руку и сказал: «Давай кольт и австралийский нож» – «Не отдам, – мрачно ответил я, поднимаясь с пола, – кольт и нож мне самому нужны» – «Но ты же проиграл», – возмутился Рома. «Я не помню», – сказал я и шагнул к двери. Рома выстрелил мне вслед из своей мощной «Беретты». Крупнокалиберные пули с треском вонзились в косяк двери справа от меня. Я открыл дверь и вышел – так и не обернувшись – и закрыл за собой дверь. Хлопнул еще один выстрел, и пуля, прошив дверь, чиркнула мне по волосам на темечке и впилась в противоположную стену. Дверь за моей спиной распахнулась, и я услышал раздраженный хриплый натужный голос Ромы: «Я не знаю, почему я не могу убить тебя, я не знаю, мать твою, сука!» – «Там внизу, по-моему, должен находиться участковый», – напомнил я Роме. «Да в рот я имел твоего участкового», – рявкнул Рома. «Ты замечательно слышишь, между прочим», – усмехнувшись, я повернулся к Роме лицом. «Что?» – переспросил Рома. – Я не понял. – И он, как обычно, принялся вертеть ручку настройки. – Повтори, я не понял». Я засмеялся и погрозил Роме своим длинным указательным пальцем. Мне было почему-то сейчас очень легко и весело. Некоторое время подскакивая на цыпочках, я изображал танец Серого Волка, предвкушающего скорую встречу с Красной Шапочкой, а потом, заметив, что бедный Рома все еще возится с капризным слуховым аппаратом и в силу этого, конечно, не может полюбоваться моим танцем, я все также на цыпочках поскакал к лестнице, ведущей на первый этаж. Я опасливо вытянул шею и посмотрел вниз. Хо-хо, гостиная была пуста. Я стал тихонечко спускаться, гримасничая и имитируя руками волчьи хватательные движения (имитируя так, как, конечно, я представлял себе волчьи хватательные движения). Наконец я ступил в гостиную. Огляделся. Никого. «Ника, – позвал я негромко. – Ника, – позвал я вполголоса. – Ника, – позвал я обыкновенным голосом. – Ника! – позвал я,повысив голос. – Ника!!!!!!!!!!!!!!!!» – заорал я, как подстреленный охотником Серый Волк… «Он такой красивый, стройный, сильный, – услышал я голос Ники, откуда-то из угла, из того угла, где стояла черная тумбочка с черным телевизором, – У него ровные ногти и выстиранные носки. Он носит форму, как истинный кавалергард. Он умен и мужествен. От него пахнет кожей и гуталином…». Я подошел к телевизору и заглянул за тумбочку. Ника сидела на полу и, распахнув халат, мастурбировала. Она негромко кряхтела и едва слышно постанывала, а в перерывах между кряхтением и постаныванием наклоняла голову к своему аккуратно выстриженному лобку и слабым голосом говорила: «Он чисто выбрит и хорошо причесан. У него нежная и гладкая кожа. У него мускулистые руки и ноги. У него накачанный пресс и маленькие и упругие ягодицы. Я видела, как он смотрел на меня. Я видела, как он хотел меня. Он очень хотел меня. Он не отрывал взгляда от меня. Он заикался и мял пальцы, когда разговаривал со мной. Голос его дрожал. А ресницы его трепетали…» – «Ника», – позвал я, перегнувшись через телевизор. Я протянул руку и коснулся затылка Ники. Женщина вздрогнула, подняла лицо и закричала, увидев меня: «Он все знает про нас. Слышишь, он все знает! Он ходил в гараж и осматривал машину. Он снимал грязь с се колес. Он расспрашивал меня о моих друзьях и знакомых и очень хитро и усмешливо смотрел на меня. Он понимал, что я вру. Но не по; давал вида. Он все знает… Он стройный и сильный. Он высокий и плечистый. – Ника неуклюже поднялась с Вытянулась и развернула плечи, показывая, какой новый высокий и плечистый. – Он смелый и решительный… И он хотел меня. Его звали Саша, а может быть, Петя, а может быть, он был дворник, а может быть… Я не помню, как его звали… Я не помню, зачем он ко мне приходил», – Ника наморщила лоб и, беспомощно посмотрев на меня, протянула ко мне руки, как ребенок, который просит, чтобы его взяли на ручки. И я взял Нику на руки. Я прижал се к себе. Ника целовала мое лицо и смеялась. Я повернулся к дивану, шагнул к нему и положил аккуратно и осторожно на него Нику. Скрипнула лестница. Спускался Рома. Видимо, он, наконец, справился со слуховым аппаратом. «Он ушел?» – спросил Рома равнодушно. Я кивнул. «Жалко», – Рома недовольно скривил губы. «Он все знает! – неожиданно закричала Ника. – Я вспомнила. Он все знает. Я боюсь. Я не хочу так бояться… Я боюсь! Так больно бояться. Так холодно бояться. Так скользко бояться… Иди сюда, – Ника энергично, двумя руками поманила меня. – Иди. Возьми меня. Сейчас. Грубо и бесстыдно. Иди. Но сначала помочись на меня. Смой с меня страх. Смой с меня грязь, которая накопилась на мне. Смой с меня слизь, которой я покрыта. Ну же, ну же, скорей! – Ника едва не плакала. Да нет, Ника плакала. – Я прошу тебя, я умоляю тебя! – Ника плакала и кричала. – Или я умру сейчас же… Помочись на меня!» – У Ники вздернулись судорожно плечи и мотнулась голова влево, вправо, да так быстро, что я услышал даже, как се волосы со свистом рассекают воздух. Я несколько раз ударил Нику по лицу. Ника закричала еще громче. Я растерянно посмотрел на Рому. «Сделай, что она просит», – тихо сказал Рома. Я дернул подбородком, выругался витиевато и громко, но снял брюки, рубашку, трусы, подошел к Нике ближе и направил на женщину струю своей мочи. И Ника халат шелковый, свой, не чужой, раздвинула – распахнула, сняла и "подставила, сладкое лицо сотворив, под мою упругую прозрачную струю свою грудь, выгнувшись навстречу мне воодушевленно и с наслаждением, и еще затем круче выгнулась и живот свой мне подала – на, бери, – руками себя растирая, будто мылась, – ото лба до пяток, со стоном, вздрагивающе. А через мгновение или через два, или через три, перевернулась скоро и ягодицы гладкие, манящие мне отдала. Дышала неровно, шипя, задыхаясь. Зад поднимала, опускала, будто совокуплялась уже со мной, или с собой, или.с кудрявым братиком, или с Ромой, или с мужем, или с участковым милиционером. Когда иссяк мой источник и когда Ника поняла это, она завизжала истерично: «Ну войди же в меня! Трахни меня! Ну сделай, сделай это!» Я выругался в который раз уже за сегодняшний день, но решительно шагнул к Нике, ухватил ее за бедра, тесно прижался к ним и с хрипом натянул их на себя. Ника закричала оглушающе и затем впилась зубами крепкими своими, костяными, личными, теми, которые выросли, а не теми, которые она купила, в спинку кожаного дивана, с ревом и надеждой, и выдрала кусок кожи, большой, неровный и, урча, принялась энергично жевать его, с хрустом, писком и сладострастием. Рома осуждающе покачал головой и пробормотал досадливо: «Такая мебель!» И безнадежно махнув рукой, поспешил к двери на кухню. «Не уходи! – выплюнув недожеванный кусок кожи, закричала вслед ему женщина. – Подойди сюда! Я прошу!» Рома пожал флегматично плечами, но вернулся, подошел к Нике. Ника быстро ухватила его за плащ и принялась суетливо расстегивать его. «Нет!» – Рома попытался отступить. Но Ника держала его крепко, двумя руками, грудью опираясь на обгрызанную спинку дивана. «Дай мне его! – умоляюще попросила Ника. – Дай. Я прошу. Я хочу…» Я сам сейчас был так возбужден, занимаясь столь яростно с Никой любовью, что, к своему неподдельному изумлению был бы не прочь посмотреть, как Ника делает минет моему другу Роме Садику. Более того, я отметил, что мне этого просто хочется. «Давай, Рома, давай, делай, что она просит», – глухо выкрикнул я, сдерживая судорожное дыхание. А Рома снова рванулся назад, скривившись в отвращении и побледнев еще больше, и встряхивая головой, как необъезженный конь при виде наездника. Но у Ники благодаря тому, что я находился внутри у нее, силы, конечно, удвоились, и я увидел, как проткнули ткань плаща ее острые тонкие пальцы и как держали они этот плащ цепко и неотвратимо. «Давай, Рома, давай, – кричал я. – Делай то, что она просит, мать твою!» Но мой друг Рома Садик все же оказался сильнее, чем моя женщина Ника Визинова. Хоть и удвоены были с моей помощью ее силы, смысла, вообще, все наши действия на этой земле и в этой жизни. Значит… А значит вот так. Действие ради процесса самого действия. Не ради результата, который бессмыслен, и нецелесообразен (потому как жизнь все равно кончается смертью), а ради удовлетворения от безукоризненно выполненного действия. Вот именно так надо жить. И только так. Наверное… Я быстро, упруго и деловито расхаживал по комнатам и коридорам, и лестницам дачи. Я захаживал даже в туалеты и ванные. Я не забывал, конечно, и гаража, и маленькой подсобки в гараже. Я шагал, как заведенный, как автомат, как робот, и думал, думал… Понятие «действие ради действия» и впрямь очень органично сочетается с понятием безукоризненности, чистоты и точности исполнения любого твоего поступка. (Например, похода в магазин, мытья в бане, езды на велосипеде, прыжков через скакалку, секса, подбора одежды, выбора прически, работы над походкой, жестами, мимикой лица, над речью, тембром голоса и так далее.) Если ты пришел к выводу, что в жизни ты действуешь не ради какой-то цели, а только ради самого действия, ты невольно станешь тогда оттачивать все свои действия, делать их мастерскими, законченными, совершенными, и причем оттачивать невольно, не насилуя себя, с удовольствием. «…Хорошо, – думал я. – Хорошо, хорошо, хорошо… Остановимся на какое-то время. Пусть эти мысли отлежатся. Пусть остынут. И я постараюсь теперь специально не вспоминать о них. Я уверен, они придут ко мне сами…» Очередной раз проходя за спиной у неподвижного Ромы, я решил настроиться на него. Мне захотелось узнать, что сейчас с ним происходит. С Ромой ведь что-то происходит. Но как я ни тужился, как ни силился, какое напряжение внутри себя своей внутренней электростанцией ни вырабатывал, все было впустую. Так и не попал я под оболочку Ромы Садика, так и не смог я настроиться на его восприятие мира, не смог попасть в тональность его звуков и слить свою вибрацию с его вибрацией. Одним словом, не смог я сейчас стать Ромой Садиком и не смог в связи с этим узнать, разумеется, что же все-таки с ним происходит, с Ромой Садиком. Расстроенный, я попробовал тогда переменить объект своего внимания и направил свои усилия на Нику. (Так, на всякий случай. Ника, собственно, сейчас была не нужна мне. Я уже и так много знал о ней.) Но результат был точно такой же, как и в случае с Ромой Садиком, то есть никакой. Да, я огорчился, конечно, что все так произошло. Но тем не менее к неудавшимся попыткам отнесся без трагизации и аффекта. Я знал, отчего так происходит. Так происходит оттого, что я постоянно двигаюсь и поэтому не могу как следует, как необходимо сосредоточиться, не научился пока. И еще… Я же ведь не просто так хожу. Что-то меня толкает. Что-то мною движет, мать мою! Тревога, беспокойство, недоброе предчувствие. Так, наверное. Конечно, так. И именно эти вот совершенно бесполезные для человеческой жизнедеятельности эмоции и мешают мне сконцентрироваться, сконцентрироваться так, как я делал это (сначала случайно, а потом сознательно) еще несколько часов назад. Я очередной раз спустился на первый этаж. Но, войдя в гостиную, не обнаружил там сидящего перед окном примерного Рому Садика. Я двинулся тогда к кухне. Дверь в кухню была закрыта. Я толкнул ее. Открыл. Ника висела, как обезьяна, на Роме Садике и пыталась поцеловать его в губы. Рома успешно уворачивался, одновременно морщился и кривился и старательно пытался стряхнуть с себя отчаянную женщину. Я отступил на шаг, на два в глубь коридора и вернулся опять затем к первой исходной позиции. Через секунду ушел вбок и опять вернулся к двери в кухню. Ступил затем налево, и в третий раз вернулся к кухне. Я не мог устоять на месте, честное слово! Не мог. Ника тем временем вцепилась зубами Роме в нос. Рома вскрикнул и ударил Нику в живот кулаком. Однако, не смотря на сильный и профессиональный удар, Ника не расцепила рук, а только всхлипнула громко и прокричала, захлебываясь воздухом и собственными звуками: «Ну почему?» – «Я ненавижу женщин, – прохрипел бедный Рома. – Они убивают меня!» – «Но раньше ведь ты любил их», – бросила Ника в самое лицо Ромы Садика. «Раньше я не знал, не чувствовал, что они расходуют мои силы, – оглушительно шипел Рома Садик, – что они изнашивают мое сердце, что они портят мою кожу, что они вытравливают Цвет моих волос!» А Ника опять плакала. «Ну разочек, ну хотя бы один разочек, – вздрагивая всем телом, как в эпилептическом припадке, умоляла Ника. – Ты такой красивый, сильный, плечистый. У тебя такая нежная кожа, у тебя такие крепкие мускулы. У тебя такие белые волосы. Ты так вкусно пахнешь подкисшим молоком и свежим потом. Ты такой мааааааленький и сладенький. – Ника неожиданно захихикала и на какие-то мгновения прекратила вздрагивать. – Ты такой сладенький, что мне ужасно хочется тебя съесть». Но вот Ника расцепила наконец руки и попыталась забраться Роме под плащ. Плечи ее продолжали вздрагивать, а голова моталась из стороны в сторону, как у лошади, отбивающейся от мух. Рома ударил Нику чуть выше груди, под шею. И Ника отлетела к стене кухни. Но поднялась тотчас и молча опять направилась к Роме, улыбалась блаженно, словно прося, смиренная, ну ударь еще, ударь, ударь, мне будет приятно… За кухонным окном я увидел двух голых, совершенно безволосых мужиков. Они висели в воздухе и выкаченными фиолетовыми глазами заглядывали в кухню. Они смотрели на Рому и Нику и качали головами – то ли осуждающе, то ли одобряюще. Губами не шевелили и не переглядывались. Потом они заметили меня. В тот момент я очередной раз приблизился к кухонной двери, – слева… или справа, или сзади, не помню. Кажется, сзади. Я приветствовал их, махнув рукой. Мужики кивнули мне понимающе и исчезли. Рома еще раз ударил Нику. Теперь кулак его попал женщине в лоб. Она упала, словно срубленная. Но, упорная, поднялась через какие-то секунды и снова пошла к Роме, сгибаясь, как под ветром, под его черным стеклянным взглядом, руками за воздух хватаясь и отталкиваясь от него, словно плывя сноровисто распространенным стилем под названием «брасс». Ноги Ники скользили по крашеным кухонным доскам, халат ее развевался розовым шелковым знаменем, ноздри волновались яростно, – как у голодной собачки в предвкушении телячьего шницеля, – пальцы как пластилиновые скручивались-перекручивались, друг с другом переплетались-склеивались, а тяжелая грудь ухающе поднималась и опускалась от движения, распространяя вокруг тугие воздушные волны. Одна такая волна толкнула меня в кадык, и я поперхнулся, и закашлялся, и зашатался, и несколько раз туда-сюда опять прошелся, не способный пока на месте стоять – не шевелиться. И опять затем, как и несколько секунд назад, к кухонной двери вернулся. А Ника все шла к Роме, все так же чуть согнувшись и выставив вперед свою прекрасную голову, сопротивляясь взгляду, который был, как ветер, тихая сейчас, но настойчивая, воздушная, но могучая… Голые мужики подлетели ко мне с разных сторон, посмотрели мне в уши (по-прежнему фиолетово) и кивнули, вроде как здороваясь, бесстрастные. Я тоже кивнул, собственно. И, кивая, попристальней на мужиков посмотрел. У каждого из них на спине, я заметил, росли крылья. Несколько. Кажется, четыре. Прозрачные, как у стрекоз. И эти крылья работали сейчас энергично – сухо шурша. Я видел. Я слышал. Мужики чуть стронулись с места и приблизились вплотную к моим ушам, и заговорили одновременно громким шепотом, каждый свое: «Смотри, смотри внимательней, и на него и на нее, – говорил один из мужиков, тот, что висел у левого моего уха. – И еще внимательней смотри и еще внимательней. На руки на их посмотри, и на ноги, и на уши обязательно и непременно, и на ногти, конечно, не забудь. И, посмотрев внимательно, углубись дальше, проникни в их тела, скользни по пищеводу, проскочив двенадцатиперстную, и окунись в желудок, потрогай печень, посиди на селезенке, подпрыгни до сердца, проплыви вокруг него вместе с кровью несколько раз, и устремись ввысь, к мозгу, и ворвись в него, как дерзкий разбойник, и допроси его, как опытный сыщик. И я знаю, он расскажет тебе много интересного… И беги затем из этого тела, и проникни в другое и сделай то же самое, и ты будешь очень удивлен в конце пути, очень, очень… Окажется, что эти два существа и ты – это один человек. Понимаешь, это один человек, один человек, один человек. Нет ни Ники, ни Ромы, есть только ты, Антон Нехов… Есть только ты…» А другой мужик говорил вместе с первым. Он говорил: «Тебе жалко их, двоих. Ты хочешь помочь им, двоим. Ты боишься их, двоих. Ты любишь их, двоих. Тебе будет плохо без них, двоих. Ты хочешь отдать им все, что у тебя есть, им, двоим. Чтобы только им было хорошо, им, двоим. Ты впервые в жизни узнал, что такое любовь. И поэтому ты благодарен им, двоим, за то, что они предоставили тебе такую возможность – узнать, что такое любовь… Ты больше всего на свете хочешь помочь им, двоим… Но не делай этого. Они счастливы. Очень и очень счастливы, эти двое. Они сейчас счастливей тебя, эти двое. Посмотри, с какой страстной жизненной силой они делают все, за что им приходится браться. Посмотри… Да, они пока счастливей тебя… Пока…» Я бы, может быть, и слушал их дальше, этих крылатых мужиков, и они, может быть, и продолжали рассказывать мне свои любопытнее рассказки, эти лысые мужики, если бы не грохнул выстрел в самый неподходящий момент. Мужики вздрогнули и отпрянули от моих ушей, и, ни слова не говоря больше, разлетелись в разные стороны. «Хорошие вы мужики, – крикнул я им вслед. – Но не орлы!» И только тогда, когда крикнул, обратил внимание, что я стою. Спокойно и не шевелясь. Вот оно как. Оказывается, что все то время, пока мужики сухо шептали мне на ухо свои странные слова, я стоял и не шевелился. Зуд движения, значит, прошел. Гон остановился. Страх ударил меня под горло изнутри и сказал с ненавистью: «Сегодня ты победил меня. Но уж завтра я расквитаюсь» – «Пошел-ка ты на хрен», – беззлобно ответил я страху и шагнул в кухню. Сначала я увидел стоящую на горящей газовой конфорке чугунную сковородку и жарящееся на сковородке мясо – несколько неровных, толстых и, наверное, очень мягких кусков, (На глаз я определил, что на сковородке жарилась телятина. Кажется, та самая, которую Ника взяла с собой из дома, из холодильника, из морозильника. Кажется, та самая. Я, по-моему, не ошибся. Да, собственно, даже если и ошибся, это сейчас не имело совершенно никакого значения.) Со сковородки я переместил свой взгляд на кипящий, плюющийся из носика брызгами горячей воды, чайник. С чайника на маленький столик, приткнутый вплотную к плите. Потом на разделочную доску. А потом на лежащие на доске куски белого и черного хлеба. «Ха, ха, – подумал я. – Тут готовится чрезвычайно вкусный обед. Ах, как хочется есть! Ах!» А чуть позже я еще поглядел на подоконник, уставленный пустыми стеклянными банками и пустыми коробками из-под шоколада «Спикере». Я посмотрел также, конечно, и за окно кухни, надеясь увидеть там голых летающих мужиков. Но не увидел, разумеется. Испугались мужики выстрела и сиганули, Трусливые, кто куда… Выстрел. Да, ведь случился выстрел. Как же я мог забыть! Неужели кого-то убили? Вспомнив о выстреле, я, конечно, вспомнил и о человеке, который этот выстрел мог произвести. И я, без сомнения, посмотрел на Рому Садика. Рома, по моим предположениям, находился в этот момент здесь же, в кухне, вместе, между прочим, с моей любимой женщиной Никой Визиновой. Так оно и оказалось. Они тут и находились. И Ника, и Рома. Ника, я увидел, стояла перед Ромой на коленях, молитвенно сложив руки на груди, с закрытыми глазами и слабо улыбалась, одухотворенная, верующая. А сам Рома одной рукой держал ее за волосы, собранные им в кулак, а другой рукой приставлял к виску Ники Визиновой пистолет системы Пьетро Беретты. «Ну хорошо, – благодушно подумал я, – значит, никого не убили, значит, Рома стрелял не в Нику и не в себя, значит, Рома стрелял мимо – куда-то. Может быть, даже в крылатых мужиков стрелял Рома, может быть». Или нет, я рассмеялся радостно от пришедшей на ум мне догадки. Рома стрелял для того, чтобы отпугнуть от себя назойливую Нику. Конечно же, так оно и было. Только почему Рома так громко и так недобро кричит. Почему и зачем? Послушай-ка, Рома, не надо кричать, не надо никого оскорблять. Ну зачем же ты, Рома, такими скверными словами называешь такую дивную, такую славную женщину. Она не заслуживает этого, так же как и ты не заслуживаешь своего крика, Рома. Ну же, Рома, успокойся и дай мне, Рома, свой большой пистолет системы Пьетро Беретты. Вот так Рома, вот так, молодец, Рома. Ай браво, Рома, ай браво. И не кричи. Лучше пой, Рома, лучше пой. Вот так, правильно, сойдут и «Подмосковные вечера»… Какой горячий пистолет у тебя, Рома. Ты нагрел его своей ненавистью к женщинам, Рома? Ты нагрел его своей ненавистью к себе, Рома? Я вижу, я понимаю… Ты правильно сейчас сделал, что отдал мне свой пистолет, Рома. Хотя, собственно, ты не мог мне его не отдать. Ведь я так хотел, чтобы ты мне его отдал. Так как же ты, Рома, мог мне его не отдать?… Как же? Мне хорошо сейчас, Рома, если бы ты только знал. Меня ничто не заботит, Рома. Мне ничто не мешает, Рома. Ты понимаешь, Рома, я совершенно ничего не боюсь, Рома… Что случилось? А? Что? Ты все еще держишь Нику за ее чудесные волосы? Ну так что же ты, Рома. Ай-яй-яй, так отпусти, отпусти. Молодец! Ай браво, Рома, ай браво, отпустил, хороший мальчик… А пистолет, смотри, так и не остывает… Пошли, Рома, пошли, поговорим. Тебе есть, что мне сказать, и ты мне это скажешь, Рома. Пошли, мой хороший, пошли… Не надо, Ника! Не надо! Зачем ты рвешь ему плащ? Ему же не в чем будет ходить. Прекрати, Ника, любимая, прекрати. Ты все равно не сможешь заставить его сделать то, что ты просишь. У него не получится. Он не сумеет… Бог мой, что это?… Это фотографии. Но это не те фотографии, которые я видел раньше. Те фотографии лежали в правом кармане твоего плаща, Рома, а эти выпали из левого. Что же это за фотографии?… Почему ты так порозовела, Ника? Чему ты так радуешься, Ника? Дай мне, дорогая, тоже посмотреть, что там запечатлено, на этих фотографиях. Дай, я тоже хочу порадоваться вместе с тобой… Цветные… Страх был прав, мать его, предупреждая меня, что расквитается со мной. Он ошибся только на один день. Он расквитался со мной уже сегодня, сукин сын. Увидев снимки, которые мне протянула смеющаяся Ника, я ощутил, как страх привычно занял свое место под сердцем, поближе к желудку. И через мгновение, ни слова не сказав, наглый, грубо ткнул меня в диафрагму, больно. Я схватился руками за живот, унимая боль и сдавливая страх. Мне удалось. Сукин сын, кривясь, отвалил к спине… Я взял в руки фотографии. Пальцы мои тотчас испачкались чем-то красным. Я повертел пальцы одной руки перед глазами, понюхал и пальцы другой руки тоже оглядел и тоже понюхал. Кровь. Явно кровь. Кровь стекала с фотографий – из запечатленных на фотографиях разрубленных детских грудин, из вспоротых животов, из пустых глазниц… На всех пяти фотографиях были сняты трупы детей. Трупы были изуродованы до такой степени, что не походили уже даже на останки людей. Только части одежды – носочки, сандалии, порезанные шортики, брючки, черные от крови маечки и рубашки – указывали, что эти куски мяса с костями принадлежат или, вернее, принадлежали – недавно еще – человеку. «Дай мне, ну дай мне, я хочу еще посмотреть, – канючила Ника и протягивала ко мне свои тонкие белые руки. – Дай, дай». «Ага, – сказал я, – угу, – сказал я. – Хм-гм, – сказал я, – Кхе-кхе, – сказал я, – Ну-ну, – сказал я, – Так-так, – сказал я, – Значит все-таки это ты, сука! – сказал я. – Значит, это не кто-то из наших ребят. Значит, это ты, сука! – сказал я. – О как я не хотел в это верить, сука! – сказал я, – Я вырывал у себя эту мысль с мясом и кровью, сука, – сказал я. – Я повторял себе, это не он, нет, не он, ну, конечно же, это не он. Разве Рома, мой любимый Рома, сможет сделать такое! Разве моему дорогому Роме может прийти такое в голову?!» – сказал я. Сказал я. Сказал я. Сказал я. Сказал я. Сказал я. Сказал я. Я подался к Роме, нехорошо улыбаясь; нехорошо, недобро, очень плохо улыбаясь, я подался к Роме. Я молча взял Рому за горло, сильно, сильнее, чем мог, и сильнее, чем когда-либо смогу еще, и сжал Роме горло, и толкнул Рому, и прижал его спиной к стене. Рома не сопротивлялся. Он не сделал ни одного движения. Его, казалось, парализовало. Он, казалось, умер. Я испуганно отдернул руку. Рома сглотнул громко и сухо выдохнул. И пошевелил наконец рукой. Он поднес руку к шее и потер кадык и помассировал мышцы шеи справа, слева, сзади. Он хотел что-то сказать, но вместо звуков его голоса, я услышал птичий клекот. Рома потряс головой и неожиданно крикнул. Низко и трудно, и во весь свой сломанный голос, как мог. Кричал, кричал… Вдыхал и опять кричал. И Ника подхватила его крик и тоже закричала – весело, смеясь и подпрыгивая на месте, как маленькая девочка, которой папа наконец-то подарил противозачаточные таблетки. Кричала, кричала. И я тоже тогда закричал – для самого себя совершенно внезапно и, можно сказать, совершенно вдруг. И кричал очень старательно, с руладами и переливами и громче всех, напрягаясь и надуваясь, сжав кулаки и согнув руки в локтях, и чуть присев, словно собираясь пустить зловонные газы в сторону гипотетических своих недугов. Я обнял за плечи Нику, я обнял за шею – теперь нежно – Рому. И мы склонились голова к голове, прижались друг к другу. Стояли и кричали. Я устал. Я больше не мог кричать. Я выдохнул последнюю порцию воздуха и умолк. Затем закашлялся Рома и тоже замолк. Услышав, что мы молчим, перестала кричать и Ника. Она перевела дыхание и осуждающе посмотрела на нас. Я убрал свои руки с Ромы и Ники, улыбнулся, пожал плечами и повернулся, чтобы выйти из кухни. «Когда это произошло, я сейчас не помню уже, – у порога я услышал голос Ромы. – Пять лет назад или четыре. Но только он снова пришел ко мне. Как приходил уже однажды, когда я был ранен, там, на войне, когда я умирал. Он пришел и, показывая на себя, сказал мне, смотри, как я стар и некрасив, смотри, как мне плохо, смотри. Смотри, я умираю. Смотри я умираю, страдая. Мне больно, больно, да-да, мне больно, сказал он. Чем я могу помочь тебе, спросил я смиренно, подскажи, я все сделаю. Я сделаю все для тебя, ты же знаешь. Ведь ты же мой Бог. И он сказал мне. Вот что он сказал, да. Я никогда никого не любил так, как тебя, я люблю тебя, как себя, ты это знаешь, и поэтому то, что я тебе прикажу, ты будешь делать и для меня и для себя, для себя как для меня, и для меня как для себя… Да, да, говорил я согбенный, как прикажешь, ведь ты мой Бог. Мой Бог, мой Бог… Ты должен, сказал мой Бог, ты должен, ты должен, для того чтобы я был здоров и счастлив, чтобы я не старился, для того чтобы я не умер, ты обязан находить молодую жизнь и брать ее себе, и передавать ее потом мне. Молодую жизнь. Жизнь мужчин – уже не детей, но еще не юношей. Такие мужчины уже обрели жизненную силу, и еще не растратили ее. У них безукоризненные сердца и чистая печень. У них девственные почки и не обмакнувшиеся еще в грязь члены. Ты должен, ты должен, сказал мне мой Бог, приказал мне мой Бог, съедать их жизнь и, переварив, отдавать ее затем мне. Да, именно так он и сказал…» Ника снимала со сковородки недожаренную телятину и, не отрывая от Ромы настороженного взгляда, быстро-быстро, даже, кажется, не замечая того, что она делает, поедала истекающее розовой уже кровью мясо. «…Я хотел отказаться сначала, но он сказал, что я ведь буду делать это для себя самого. Только для себя самого. Ну и для него, конечно, тоже, но ведь я и он, говорил он, Это ведь… – Рома закашлялся, закрыл рот руками. Ухал, давясь, вздергивал вверх плечи, притоптывал ногами, крутился на одном месте. Откашлявшись, продолжал: – И все-таки я отказался. Да, я отказался. И тогда Бог сказал, что я об этом пожалею, и очень скоро. И я пожалел. Я начал быстро стариться. Очень быстро…» – «Между тем ты неплохо выглядишь, – неосторожно заметил я. Рома замолчал, повернул ко мне свои очки и резким движением сорвал их с глаз. – Мать твою!» – только и смог сказать я, увидев то, что таилось под черными Ромиными очками. Бессчетное количество мелких, но глубоких морщин окружали глаза Ромы. Кожа в этих местах уже начала пигментировать и, казалось, была выкрашена в рыже-коричневый цвет. Но сами глаза, я заметил, еще не обрели старческую стертость. Не поникли, не смирились с тем, что будет – и будет неизбежно. Они смотрели вокруг, и на меня, в частности, и на Нику, и на недоеденное Никой мясо, и на раскиданные по полу фотографии, и за окно, и на потолок, и на расшитые кухонные полотенца – живо и с любопытством. Однако, вместе с тем, во взгляде Ромы еще читались и жесткость, и скука, и смятение, и решительность одновременно. Я видел. Я попытался вспомнить прежние Ромины глаза. И, вспомнив, конечно, заметил, что между теми глазами и глазами нынешними существует разница. Какая? Я сначала не мог определить. Точно. Не мог. И наконец догадался – другого цвета были просто теперь глаза у Ромы. Из бледно-голубых они превратились в густо-карие. И казалось, а может, так оно и было на самом деле, совершенно исчезли из них точечки зрачков, точечки слились по цвету со всем зрачком, как у собаки (или у кого-то еще, у какого-то иного животного…». «Показать еще?» – поинтересовался Рома. «Покажи, – не отказался я. – Отчего же не показать». Рома задрал правую штанину, и я увидел усыпанную вспухшими. синими жилками тощую, снежно-белую ногу, и я увидел вялую кожу на ней, сухую и шершавую. «Вот таким, – Рома опустил палец к ноге, – было все мое тело. Я не послушался его, своего Бога, и стал стареть…» – «Этого не может быть, – пробормотал я. – Не может быть, потому что не может быть никогда. Неужели не прав был классик?» Рома усмехнулся мимоходом: «И тогда я решил подчиниться своему Богу. И убил мальчишку. Хорошенького. Очень.симпатичного мальчишку. Энергичного, веселого, здорового, умненького. Такого, которого надо. Которого просил мой Бог. Я долго выбирал. А затем долго следил. И убил. А что мне оставалось делать! Ну что? У тебя есть другие предложения? Я съел его сердце, его печень и его почки, я съел его член…» – «И тебе было приятно?» – неожиданно спросила Ника. «Что? – не понял Рома. – Что приятно?» – «Делать вес, – Ника развела руки в разные стороны, – все, что ты делал. Искал. Следил. Готовился. У.бивал. Вскрывал грудную клетку. Разваливал живот… Ел… Ел… Запивая пережеванное кровью. Все это было приятно тебе?» – «Я не понимаю, о„чем ты,» – наморщил лоб Рома. «Все ты понимаешь. Все. – Ника подошла к Роме, посмотрела на него в упор. Во взгляде ее явно читался неподдельный интерес и искреннее желание услышать ответ (наверное, правда, -только тот, который она хотела услышать). – Приятно было, да? Ты чувствовал возбуждение. Ты ощущал полыхание огня в груди. Ты слышал, как звенит мир вокруг. Ты понимал… Нет, ты знал, что вот еще немного, и ты сможешь оторваться от земли и полететь.– Ты сам был Богом, да? Ты ощущал власть не только над этим маленьким мальчишкой, ты ощущал власть над миром, над Вселенной. Ты мог творить чудеса в тот момент. Ты мог раскрутить земной шар на пальце – как футбольный мячик… еще ты кончил? Правда? Ты кончил? Ведь так все было? Ведь, так? Скажи…» Рома ударил Нику ладонью по лицу. Рома бил не сильно, но в сердцах. (И еще ко всему прочему Рома был профессионалом.) И Ника потому отлетела к плите, той самой, на которой стояла сковородка, та самая, в которой еще лежали, и никуда не исчезли пока, недоеденные Никой куски недожаренного мяса. А Рома, опустив руку, повернулся ко мне и проговорил, несколько раз предварительно сглотнув слюну – с трудом, давясь: «Мне нужна была только жизнь. Неужели вы не понимаете? Это так просто. Иначе бы я состарился. И очень скоро умер. Мой Бог требовал жизни. И я не мог ему ее не дать… – Рома отчаянно покрутил головой. – Я не понимаю, о каком возбуждении и о каком полете она говорит. И почему я должен был кончать, когда убивал мальчишек. Я же не трахал их, я убивал… Мне их было жалко, да. Мне их было очень жалко. Правда, поверь мне, Антон. Но что я мог поделать? Бог требовал от меня отдавать ему жизни… Иначе ты видишь, что бы он сделал со мной…» Я не знал, что мне ответить Роме. Как ни старался я найти какие-то слова, чтобы хоть что-то сказать Роме, хоть что-то, но так и не нашел. Наверное, надо было успокоить Рому, тихим, но твердым голосом заверив его, что он действительно ни в чем не виноват, и что во всем виноват его Бог, и что он, Рома, только оружие в его руках. Нет, не так, всего лишь пешка в его руках, так будет вернее, надо было погладить Рому по его жестким волосам, обнять его, поклясться ему в вечной дружбе и сообщить ему, что я нисколько его не осуждаю, и что на его месте так поступил бы каждый, ну и так далее. Наверное. Но я тем не менее ничего такого не сказал и ничего подобного не сделал. Не смог. Хотел. Но не смог. Хоть и другом настоящим был мне Рома. И любил я его искренне, и желал ему исключительно счастья, но не смог. Может быть, не будь тех фотографий, или хотя бы не находись они так близко от меня, может быть, тогда… Конечно, я не сдам Рому в контору. Кто бы сомневался. Конечно, я не брошу его и постараюсь, насколько возможно, дольше скрывать его от закона. Конечно, я теперь буду заботиться о нем. Конечно, я буду теперь следить за каждым его шагом. За каждым. За каждым. Конечно. Конечно же, мы будем с сегодняшнего дня повязаны с Ромой навсегда, до смерти кого-либо из нас. И, конечно же, я стану его тенью… Но, к великому моему сожалению, я уже теперь никогда не смогу к нему относиться так, как раньше. Это и понятно. Это и естественно. Но все же мне было очень жаль… Вот, мать твою, сукин сын! Я даже почувствовал, как слеза подползает к моему левому глазу от таких мыслей. Или к правому… Ника снова, как я заметил, собралась с мыслями или с чем-то там еще, с чем обычно собираются женщины, которых бьют бывшие офицеры спецподразделений, и снова отважно шагнула к Роме, и заговорила, точно так же напористо, как и несколько минут назад: «Ты думаешь, я тебе поверила? Да какой дурак может поверить всем этим твоим жалостливым рассказкам. Его Бог его заставил… Ха-ха-ха, как бы не так! Это ты вон Антону можешь вешать такую чушь. Он твой друг. Он поверит. Он захочет поверить. А я не захочу и не поверю. И даже твой жалобный тон не даст мне повода не сомневаться в твоих словах. Конечно же, ты хотел власти. Господства. Могущества. Осознания своей важности, исключительности, избранности. Ты бился в истерическом восторге в предвкушении убийства. Ты со слезами счастья сжимал свои пальцы на тонких хрупких шеях мальчишек. Ты ощущал себя единственным и самым сильным в этом пока только одном известном тебе мире… И ты получал кайф. Ты. получал удовлетворение. И семя извергалось из тебя, как огонь из вулкана…» И Рома снова ударил Нику. Только теперь резче и мощней. Удар опять отбросил Нику к плите. Женщина чуть не сломалась пополам, завалившись спиной на конфорки. Я сделал шаг и встал между ними. Между налитым злобой Ромой и лежащей на плите, вернее, на сковородке с недоеденным мясом, Никой. (Лицом к Роме, спиной к Нике.) «Уйди, Антон! – услышал я за спиной умоляющий крик Ники. – Пожалуйста, уйди! Мне надо, чтобы ты ушел. У нас с ним свой разговор!» – «Он же убьет тебя», – усмехнувшись, негромко сказал я. «Все, что захочешь, я сделаю для тебя, только уйди, Антон!» – продолжала просить меня Ника. «Не уверен, что через пару минут ты вообще сможешь двигаться…» – заметил я. «Сделай, что она говорит», – сказал Рома бесстрастно. Я пожал плечами и ступил в бок. Ника оттолкнулась от плиты, выпрямилась, сняла халат, бросила его на пол. «Ну, возрази мне, – обнаженная Ника протянула к Роме руку. – Поспорь. Ну, хотя бы скажи, что я не права. – Ника засмеялась, – Молчишь. Конечно, а что ты можешь сказать? Меня-то ведь ты не обманешь. Я-то ведь точно такая же, как и ты. Точь-в-точь. И я знаю все, что ты чувствуешь или чувствовал, или будешь чувствовать… Ты считаешь, что ты самый гениальный, самый великий человек на этой земле, самый, самый, самый… – Ника, голая, поразительно красивая, сделала шаг к Роме. – А на самом деле ты ничто. Убийца. Маньяк. И все. И все. И еще ты урод. Точно такой же, как и я. Ага. Ты такой же урод, как и я». Теперь Рома действовал исключительно грамотно. Он двинул Нике под дых, потом без паузы впечатал ей в лоб. Ника свалилась на пол и, лежа у ног Ромы, кричала: «Еще! Еще! Я хочу еще! Мне так приятно, когда ты бьешь меня…» А Рому и просить не надо было. Он всегда был готов к бою. И всегда доводил дело до конца. Он быстро, почти одновременно, во всяком случае мне так показалось, ударил мыском ботинка Нику спереди по шее под подбородком и сбоку по уху. Ника вздрогнула и затихла. И закрыла глаза. Нет, она не умерла, конечно. Рома знал, как бить и куда бить. Он был мастером. Он был лучшим из нас. Ника просто на несколько секунд или несколько минут, а может быть, и всего лишь на одну минуту потеряла сознание. «Она так громко кричала, – вроде бы как оправдываясь передо мной, но в то же время и не глядя на меня, проговорил вполголоса Рома, – что даже мой аппарат заклинило, – и Рома машинально покрутил ручку настройки аппарата. – Вот. – Рома смущенно хмыкнул. – И ничего и не слышу…» Я взял со сковородки недоеденное Никой мясо, откусил кусок и стал жевать. Не прожевав, сказал Роме, ухмыльнувшись вредно: «А я ведь знаю, Рома, твоего Бога. Я его даже видел. Хочешь скажу, кто он, твой Бог?» Рома никак не среагировал на мои слова. Он продолжал упорно и сосредоточенно крутить ручку настройки слухового аппарата. Я хотел было уже повторить то, что сказал, но только теперь уже прожевав мясо, но не успел, потому что Рома победно вскрикнул и повернулся ко мне: «Починил, – весело сообщил он мне и потом еще добавил все так же весело: – Ты, наверное думаешь, друг Антон, что аппарат в моем ухе – это трюк, розыгрыш, дурачество, и не более. – Он вздохнул. – А вот и не так… Пять лет назад у меня начались проблемы и со слухом. Да-да, я стал глохнуть. Я действительно плохо слышу и сейчас. Но все-таки сейчас несколько лучше, чем тогда…» Я верил Роме и не верил Роме. Так быстро стареть, как постарел Рома, если судить по его рассказам, наверное, возможно на этой земле, возможно. И я, как человек образованный и достаточно начитанный и любопытный, слышал о таких феноменах. (Я слышал о том, что некоторые люди полностью проходят свой жизненный цикл не за семьдесят – восемьдесят лет, как подавляющее большинство населения нашей замечательной планеты, а за тридцать, а то и за двадцать лет. И к этим годам они уже выглядят так, будто им действительно восемьдесят, и не меньше. И в такие Ромины рассказы можно, конечно, было поверить.) Но вот чтобы из стариков люди вновь превращались в молодых и чтобы морщины у них исчезли, и их сухая жухлая кожа становилась опять розовой, гладкой и сверкающей – такого я не слышал. Никогда. Это так. Но в этом мире все может быть – ВСЕ. И чудо, и волшебство… И я верю, что на земле водятся великаны, и что где-то живут драконы, и что человек может летать, и что человек может превращаться в тигров, собак и ужей, и что существуют параллельные миры, и что инопланетяне живут среди нас, и что я могу стать президентом Соединенных Штатов, а то и мира (если такое понадобится, конечно, и, конечно, если я этого захочу), и что дельфины разговаривают, и что у меня будет одиннадцать детей, и что с помощью телепортации мы сможем передвигаться в любую точку Вселенной, и что нет оружия более сильного, чем человеческая воля, и что не только любовь, голод и страх смерти движут человеком, а еще и желание созидания, стремление к совершенству, и чувство, что ты все можешь… Однако, мне кажется, что происходившее и происходящее с Ромой объясняется не чудом и не волшебством. Скорее всего, сработал эффект так называемой ложной беременности. В какой-то момент Роме показалось, что он начал стареть. И он так испугался этого, что поверил в свое быстрое старение. Действительно поверил. И в его организме на самом деле стали проистекать процессы, напоминающие процессы нормального старения человеческого организма. Я думаю, что случай с Ромой – явление психосоматического характера. И именно поэтому, когда он нашел путь к спасению и (опять-таки) поверил в этот путь, его сущность вновь перестроилась, и организм начал понемногу возвращаться в свое прежнее состояние. Наверное, так. Наверное. А может быть, и нет. Я не врач. И не учении. И я могу ошибаться. «Теперь ты все знаешь, – сказал мне Рома. И я снова отметил, что Рома смущенно мыкнул. – и ты вправе поступить, как сочтешь нужным, можешь сдать меня в милицию. Или можешь сделать меня инвалидом. У тебя же есть кулаки и сноровка, И ты меня сейчас можешь, наконец, зарезать тем тонким и длинным столовым ножом, что лежит на кухонном столе. Это твое право. И я это понимаю. И я не посмею осудить тебя…» Ника застонала и шевельнула левой ногой и перебрала всеми пятью пальцами, быстро и энергично. Мы с Ромой участливо посмотрели на Нику и вновь вернулись к своему разговору. Рома продолжал: «Но я хочу, чтобы ты знал. Я буду драться. И я одержу победу, – Рома опустил глаза к полу и сильно потер виски, кривясь как от острой мигрени. – Я не хочу стареть, – выговорил после паузы -Рома. – Я не хочу умирать». Я мог бы, конечно, ответить сейчас Роме, что ты, мол, Рома, дорогой мой дружочек, совсем не прав, и даже более того, не прав решительно, ибо я и думать не гадал, мол, дорогой Рома, сдавать тебя в контору. Наоборот, я уже смирился с мыслью, что свою оставшуюся жизнь посвящу тебе, Рома, что буду за тобой ухаживать, что буду о тебе заботиться, что буду следить за каждым твоим шагом, чтобы ты, не дай Бог, больше ничего скверного не натворил, и что буду тебя, Рома, усиленно лечить. Я мог бы все это сказать. Но я не сказал. Я понял, что действительно искренние эти мои слова сейчас вот, в данный конкретный момент, были бы в нашем разговоре исключительно неуместны. Они прозвучали бы как оправдание, как реакция на испуг, в который якобы вогнал меня Рома своими угрозами. И потому я только пожал плечами и вообще не произнес потом ни единого слова – до того самого момента, пока в дверь не позвонили. А в дверь позвонили где-то минуты через две после того, как Рома закончил говорить и я пожал плечами. За это время я привел в чувство Нику (с помощью холодной воды и несильных похлопываний по щекам), посадил ее на табурет, надел на нее халат и несколько раз поцеловал ее, уже пришедшую в сознание, но еще не пришедшую в себя. А Рома в это время, громко чавкая, доедал оставшееся на сковородке недожаренное мясо. «Я пойду открою», – сказала Ника, когда зазвенел звонок. «Конечно», – кивнул я. «Ты посмотришь, кто это?» – спросила Ника, стараясь не глядеть на Рому. Я устало усмехнулся: «Зачем?» «Ну… на всякий случай», – заметила Ника. «Нет, я не стану смотреть, кто звонит к нам в дверь, – сказал я. – Пусть все будет, как будет». Ника вышла. Рома наконец доел мясо. Вытер губы. Услышав в гостиной веселые голоса, я решил выйти из кухни и посмотреть, кто же все-таки пришел. На пороге я услышал как Рома тихо проговорил мне вслед: «Останови меня, Антоша…» Пришел мальчик Мика. Я обрадовался, увидев Мику. И Мика обрадовался, увидев меня. Мы поздоровались. Ника сообщила, что отец Мики снова должен до позднего вечера работать в городе, и Мика опять остался один. Через какое-то совсем короткое время – я даже еще не успел и парой слов перемолвиться с Микой – моя радость достаточно быстро и решительно перетекла в огорчение и досаду. Мне теперь очень не нравилось, что пришел мальчик Мика. После того что я сегодня узнал, мне очень не нравилось, что у нас в доме находится симпатичный девятилетний мальчишка. Не нравилось – это еще мягко сказано. Ха-ха! Но не выгонять же мальчика Мику на улицу. Значит, теперь мне придется быть очень внимательным, чрезвычайно внимательным. Как на войне. Первым делом Ника сообщила мальчику, что она его очень любит, и добавила, что может даже показать, как она его любит. Она обняла мальчика, прижала его крепко к себе и сказала, что вот так она его любит и что даже крепче, чем так. Мне показалось, что на ресницах Ники мелькнул блеск густой и вязкой влаги… Мика отнесся к словам и действиям женщины крайне спокойно и, я бы сказал, даже бесстрастно. Но он был воспитанный мальчик и поэтому ответил Нике с любезной улыбкой: «Спасибо. Вы мне тоже очень приятны» – «Правда? – вскричала Ника. – Ты не обманываешь меня?. Я так рада слышать твои слова. Так рада! Ты себе даже не представляешь, как я рада!» И Ника позвала затем мальчика с собой на кухню. Она будет готовить обед, сказала Ника, и, чтобы не скучать на кухне одной во время готовки, она бы очень хотела видеть рядом с собой мальчика Мику. Я подсказал Нике, что у нее есть с кем провести время на кухне. Ника заморгала часто-часто, словно сдерживая слезу, после моих слов, но ничего не сказала больше, И молча ушла на кухню. Как только она скрылась за дверью, я выматерился про себя. Я совсем забыл, что, помимо охраны Мики, мне следовал бы еще заниматься и охраной Ники. И я сказал Мике, чтобы онпосидел в гостиной и подождал меня, а я пойду сейчас и кое о чем поговорю с дядей Ромой, и что я буду отсутствовать недолго и чтобы Мика не скучал без меня. И тогда Мика сообщил мне – уверенно и спокойно, – что дядя Рома уже уходит с кухни и направляется в свою комнату. Я с удивлением посмотрел на Мику и хотел уже было ему возразить, как услышал скрип открывающейся двери кухни и затем увидел Рому, который скоро пересек коридор и, не заглянув в гостиную и даже не повернувшись в нашу с Микой сторону, ступил на лестницу и стал спешно подниматься наверх. «У тебя отличный слух», – сказал я мальчику Мике. Мика согласно кивнул и очень серьезно подтвердил: «Да, у меня отличный слух». Некоторое время мы сидели молча, и потом я предложил Мике: «Давай сыграем в города» – «Не стоит», – ответил Мика. «Почему?» – поинтересовался я. Мика пожал плечами и повторил: «Не стоит» – «Ну почему же все-таки?» – не уступал я. «Потому что я все равно обыграю вас, – ответил Мика. – Я знаю названия всех городов, которые расположены на земле», «Всех-всех?» – недоверчиво спросил я. «Всех-всех», – ответил Мика. «Шахматы?» – подсказал я. «Игра в одни ворота», – сказал Мика. «Ну хорошо, – я почесал висок. – Карты?» – «То же самое», – сказал Мика. «И все-таки давай попробуем». «Давайте», – нехотя согласился Мика. Я взял лежащую на тумбочке возле телевизора колоду карт и перемешал ее. «В очко», – уточнил я. Мика кивнул. Я сдал ему карты. Мика сказал: «Хватит, себе». Я набрал девятнадцать. Мика открылся. У него было двадцать одно. Теперь Мика сдавал. Когда я набрал восемнадцать, я остановил Мику. Мика открыл свои карты. Он набрал двадцать. Мы сыграли еще. И снова выиграл Мика. И мы сыграли еще, и опять Мика набрал больше, чем я. «Такого не может быть, – поразился я. – Это же карты. Это случайность». Мика снова пожал плечами. «Нееет, – упрямо покрутил я головой. – Этого не может быть. Давай еще». И опять Мика выиграл у меня. И в двадцатый раз выиграл и в тридцать первый… «Как? – спросил я Мику, в сердцах бросив карты на стол. – Система? Тренировка? Как?» – «Да никак, – ответил Мика. – Просто я хочу, чтобы у меня было больше, чем у вас. Вот и все!» – «Так просто?» – не без иронии спросил я. «Так просто», – без всякой иронии ответил Мика. Я, усмехнулся и откинулся на спинку кожаного дивана. Мальчик удивлял меня все больше и больше. Если он действительно говорит правду о себе, то он уникален. Он может все, что захочет. Я внимательно посмотрел на Мику и попробовал настроиться на него. Я теперь уже, по-моему, научился без прежнего напряжения и без прежнего страха настраиваться на того, на которого мне надо. Я просто знал, что у меня получится… И у меня получилось… Мика сидел у края моря на мокром песке и что-то лепил из этого самого песка. Он лепил из песка дом. И этот дом был очень похож на тот, в котором мы сейчас находились. Очень похож. Вплоть до деталей. Двухуровневая крыша. Две трубы. Три этажа. Крыльцо с длинным козырьком. Возле дома рядом с крыльцом Мика воткнул четыре палочки-веточки. Одну маленькую и три побольше. Потом он вытащил две большие палочки и перенес их подальше от дома, взял маленькую и установил ее между двумя большими, а третью большую палочку он поставил чуть поодаль от тех трех. Тщательно пристроив палочки, он дотронулся пальцем до маленькой и затем тем же пальцем указал на себя, мол, маленькая палочка – это он. Потом он дотронулся до большой палочки, которая находилась поодаль от других трех, и указал пальцем туда, откуда я на него смотрел, то есть – по всему выходит – на меня. Дотронувшись пальцем до двух других больших палочек, он махнул рукой куда-то вбок. Видимо, они обозначали Нику и Рому. Показав, кто есть кто, или что есть что, Мика сложил пальцы пистолетиком и выстрелил несколько раз в сторону трех палочек, которые обозначали его, Нику и Рому, а после неожиданно повалил все три палочки и засмеялся весело, повернувшись в мою сторону… Я помотал головой – и вернулся. Мика смирно сидел в кресле и дружелюбно поглядывал на меня. «Ты любишь море», – скорее утвердительно, чем вопросительно сказал я. «Очень, – ответил Мика. – Я очень люблю море». – «А что ты любишь больше моря?» – «Больше моря, – серьезно сказал Мика, – я люблю воздух. А больше воздуха я люблю Землю, а больше Земли я люблю солнце, а больше солнца я люблю море…» Я улыбнулся. «Значит, ты хочешь сказать, – проговорил я, – что в нашей жизни все важно в равной степени, и ничему нельзя отдать предпочтение. Все важно. Так?» – «Так, – с некоторым удивлением взглянув на меня, подтвердил Мика. – Именно так» – «Ну хорошо, – согласился я. – Тогда скажи мне, а что ты хочешь больше всего?» – «Жить, – просто ответил Мика. – Больше всего я хочу жить. И ощущать эту жизнь. Каждое мгновение. Оценивать и осознавать каждое ее проявление. Чувствовать каждый свой шаг и осознавать каждое свое движение… И радоваться…» – «Радоваться чему?» – спросил я. «Всему, – сказал Мика. – И прежде всего радоваться тону, что живу» – «А чем ты хочешь занятье» в этой жизни? – поинтересовался я. – Ведь чем-то надо будет тебе заниматься. Ведь ты же не будешь целыми днями сидеть или лежать и думать о том, как жизнь прекрасна и как ты ей радуешься?» – «Я займусь тем, – ответил Мика, – что у меня будет лучше всего получаться» – «Ага, – кивнул я. – Ага. Ну допустим, ты очень любишь музыку и очень хочешь стать композитором, и тебе очень и очень нравится сочинять музыку, а лучше всего и легче всего у тебя тем не менее получается выпиливать лобзиком» – «Я буду выпиливать лобзиком, – сказал Мика. – Музыка будет моим увлечением, а моей работой станет выпиливание лобзиком. И со временем выпиливание лобзиком будет приносить гораздо больше удовлетворения, чем занятия музыкой» – «А как ты собираешься искать то дело, которое у тебя лучше всего получается?» – я достал сигареты, закурил. «А я не собираюсь, – пожал плечами – Мика. – Я уже ищу» – «Ну как, как?» – не отставал я. «Каждый день я. делаю то, что мне не хочется», – ответил Мика. «Не понял», – удивился я. «Мне не хочется делать зарядку а я ее делаю, – сказал Мика. – Мне не хочется идти в душ, а я иду. Мне не хочется сидеть дома, а я сижу. Мне не хочется драться с мальчишками, а я дерусь. Мне не хочется разговаривать с отцом, а я разговариваю. Мне не хочется ехать в летний лагерь, а я еду. Мне не хочется, – Мика засмеялся, – заниматься музыкой, а я занимаюсь. Мне не хочется учить языки, а я учу их… И понемногу я начинаю понимать, что я могу владеть собой, что я могу руководить собой, что я становлюсь свободным… А свободный человек уже может точно понять и узнать, и осознать, что у него получается лучше всего…» – «Да, наверное, это так, – я медленно покачал головой. – Наверное, ты прав, но…» – «Это так, – подтвердил Мика. – И только так» – «Но… – продолжил я, – уж как-то все в твоей жизни чересчур рационально, что ли, чересчур разумно и оттого холодно как-то» – «Не уверен, что холодно. Наоборот, – не согласился Мика. – Я объясню. Просто большинство людей ленивы. Они боятся поступков. Они не хотят и не умеют работать, И они исключили из своего лексикона слово «действие». И именно они, те самые ленивые, и придумали для оправдания своей лени, что от осознанного и точного подхода к жизни веет холодом и скукой, а не жаром и радостью, – что есть на самом деле. Внутренний огонь зажигается именно тогда, когда ты точно знаешь, что делаешь. Он разгорается еще сильнее, когда ты понимаешь, что делаешь только то, что надо, и что ты не производишь никаких лишних, а значит, бесполезных и пустых действий,… Даже движения твои должны быть скупы и просчитаны. Ничего лишнего, ничего…» Я неуверенно усмехнулся и помассировал шею, – сильно, в смятении – и взял еще одну сигарету. «Черт! – сказал я, – ты опередил меня, малыш… Только на тридцать пятом году жизни я стал понимать то, что ты понял уже в девять лет. – Я глубоко затянулся, шумно выдохнул дым. – Ты, наверное, читал книги по дзену, буддизму? Ты читал Евангелие, Библию, да? Сознайся, ведь читал, да?» – «Нет, – покрутил головой Мика, – я еще не читал ни одной религиозной книги, ни одной книги по философии. Я считаю, что не пришло еще время мне читать эти книги. Оно скоро придет, я знаю, но еще не пришло. Я читаю Александра Дюма, Майн Рида, Карла Мая, Толстого, и Льва и Алексея, Стивена Кинга, Михаила Булгакова, Томаса Хэрриса, Федора Достоевского, Стефана Цвейга, Михаила Лермонтова, Шарля Бодлера, Милана Кундеру и Милорада Павича» – «И все, о чем ты мне сейчас рассказал, ты вычитал в этих книгах?» – спросил я. «Нет, конечно же, нет, – сказал Мика. – Я просто знал это. Я просто знаю, как мне жить. Я не понимаю, откуда это знание, но оно есть. Я с ним родился, наверное. Наверное…» – «Наверное», – повторил я. Меня позвала Ника. И мне пришлось подняться и пойти к ней. Мне очень не хотелось прерывать разговор с мальчиком, но меня звала НИКА, и я, конечно, встал и пошел. Ника попросила меня, чтобы я принес консервы и овощи из гаража. Я принес консервы и овощи. Я открыл банки и помыл огурцы и редиску. Я сказал Нике, что она великолепно готовит и что она самая лучшая девушка во всей многовековой истории человечества. И еще я что-то ей сказал, что, не помню, но хорошее и, может быть, даже очень, что-то о ее голосе, и о тепле, исходящем от него, что-то о ее взгляде и ее глазах, и о благотворных лучах, ими посылаемых, не помню, что-то об ароматном ее дыхании, которое пьянит и возбуждает, и что-то о ее коже, не помню, которая манит, притягивает и не отпускает, стоит только дотронуться до нее, не помню. После разговора с мальчиком Микой мне страшно хотелось сказать кому-нибудь что-то приятное. И замечательно, что первым, кто попался мне на глаза, оказалась Ника (а ведь это мог быть и Рома, ведь мог бы, правда?), и что все, что я сказал, я сказал ей, а не кому-нибудь другому. Я, собственно, и не придал значения своим словам, особого, большого, не придал, потому что не думал над ними, они сами слетели у меня с языка, и поэтому был до чрезвычайности удивлен реакцией Ники, что последовала за ними. Я уже собрался выйти из кухни, как почувствовал прикосновение руки Ники у себя на затылке. Я повернулся. Ника смотрела на меня. Она разглядывала меня так, будто долго не видела меня и сразу не узнала, а потом все-таки узнала, и очень обрадовалась тому, что узнала. Да, да, именно так она меня и разглядывала. И еще, помимо узнавания, в ее взгляде я прочитал благодарность, волнение и… любовь. Любовь, мать вашу черт побери! Или я ни хрена не понимаю в женских взглядах. (А женщин я знавал многих, оооочень многих.) Ника положила мне руки на плечи и потянулась ко мне и поцеловала меня, горячо и сладко, в губы. Можно было умереть от ее поцелуя. Можно было. Но я выжил. Ника взяла в руки мое лицо и долго вглядывалась в него, долго-долго, внимательно-внимательно, а потом сказала мне: «Спасибо». Я хмыкнул неопределенно и спросил: «За что?» – «Просто спасибо, и все», – очень серьезно сказала Ника. Я промолчал и только смущенно улыбнулся. Продолжая улыбаться, я заглянул Нике в глаза. …И увидел. …Ника в коротком махровом халатике склонилась над ванной и стирала. От запаха грязных носков ее тошнило, а вид серо-желтых пятен на белых трусах мужа понуждал ее брезгливо морщиться и недовольно жмуриться, и тихо, но скверно ругаться, а еще также и плеваться, и в сердцах мотать головой из стороны в сторону, как в нервном тике, случившемся по причине ожесточенной вражеской бомбежки. Каждый раз, когда она по утрам стирала трусы и носки. мужа, она морщилась, жмурилась, ругалась, а также мотала головой. Конечно, можно было бы отдавать такие вещи в прачечную, но муж не хотел, он говорил, что после прачечной трусы надевать не будет и придется их выбрасывать и покупать новые, а денег у них на такое расточительство нет. Нет у них на такое расточительство денег, так он говорил. Можно, конечно, было бы дать мужу в морду, сильно и больно, за такие его слова, но тогда бы он уже не был бы ее мужем, и у нее тогда бы уже точно не было бы денег, а у ее славного сыночка Паши не было бы папы. Хотя кто его знает, может быть, если бы она и вправду двинула мужу в лицо, умело и со вкусом, то у нее тогда как раз и появилось бы больше денег, а мальчик Паша приобрел бы гораздо более неординарного папу, нежели он имеет теперь. (Или б прежний изменился, или б новый появился.) Кто его знает. Ника тыльной стороной ладони вытерла пот с лица, выпрямилась, переводя дыхание. В прихожей послышался шум. Ника повернулась в сторону шума. Дверь в ванную отворилась, и на пороге Ника увидела мужа. Вид он имел заспанный и недовольный. Длинные пестрые, желто-красные трусы оттеняли нездоровую белизну его сытого тела. Он зевнул во весь свой толстогубый, большой рот и уныло поздоровался с Никой. Затем ступил в сторону и зашел в туалет. Ника слышала, как он нукает, как падают в унитаз его грузные фекалии и как тихо и жалко журчит моча, вытекая из его пообмятого после сна невеликого члена. И еще Ника чувствовала, как незаметно, но упорно в ванную проникает вонь от его испражнений. Ника зажала нос и застонала, и выругалась про себя – грубо, длинно и витиевато. А когда муж спустил за собой воду и Ника услышала шум низвергающегося из сливного бачка потока, а потом услышала еще шелест бумаги, которой муж вытирал свой нечистый зад, Нику и вовсе затрясло. Затрясло, затрясло… И вот от этой тряски она такой сильной сделалась, что в один момент порвала (сама от себя такого не ожидая) двое мокрых мужниных трусов, – с треском и брызгами, рук не жалея, и стирального порошка, и водопроводной воды, и самого что ни на есть владельца тех трусов, то есть своего мужа. Ах, заплакать бы! Не получалось. И без того влажная, Ника бросила разорванные трусы в ванную и подумала, что неплохо было бы и мужа своего туда же бросить вслед за трусами и утопить его там, вонючего, обкаканного и описанного. Ника представила, как муж барахтается в воде и лупит по ней ручками и ножками, в то время как она держит изо всех сил под водой его круглую, как мяч, голову. И засмеялась, представив. И настроение ее тотчас улучшилось, и она в который раз подумала, что, конечно, надо было бы уйти поскорее от него, от мужа. Но все-таки она уйдет не сегодня. Не сейчас и не сегодня! Она еще немного подождет. Вот в командировку, в Америку, они съездят, денег заработают и тогда уж завсегда, пожалуйста… Минуя ванную, и потому, конечно, не помыв рук, муж прошел в кухню и, как был в пестрых трусах (с намечающимся уже, но еще достаточно слабым серо-желтым пятном на уровне его мягкого члена), сел за стол и сказал с явным недоброжелательством в голосе: «Ну и где завтрак?!» Ника выключила воду в ванной и вышла на кухню. Она налила мужу кофе, нарезала бутерброды с докторской колбасой. Муж скучно прожевал один бутерброд, запил его кофе и ноющим голосом стал рассказывать, что у него сегодня тяжелый день и что сегодня у него то-то и то-то, и что еще у него то-то и то-то, а еще то-то и то-то, и что из всего этого «того-то и того-то» ничего не получится, как не получалось ни вчера, ни позавчера, и год назад, и два, и три, и пять, и десять. И в который раз уж муж стал плакаться, как жалко, что нет уже в живых отца, он бы помог, конечно, он бы помог. Вот оно как, вот… Ника тем временем нарезала еще колбасы и, положив ее на тарелку, повернулась к большому кухонному столу, за которым как раз и сидел ее муж, ноющий и в трусах. А он, между тем, как можно было бы подумать, ныть не перестал, а еще пуще прежнего тем самым нытьем залился. И ныл, и ныл, и ныл… Ника длинный нож столовый, тонкий, отточенный, с необычайно острым концом над головой мужа занесла высоко-высоко, выше некуда. Стояла так, дрожала, от пяток до зубов, не в состоянии ни опустить руку вниз, обратно, и ни мужа ударить, хоть и очень хотелось. Стояла, стояла, губы кусая, и кровью из них, растерзанных, заливаясь, и рубанула наконец-то долгожданно. Но нож мимо головы мужа просвистел и прямо самой Нике меж ребер с левого бока вонзился и пропорол кожу, нежную, чистую. Но внутрь не проник. Нет, слава Богу! Голова у Ники закружилась, и она стала падать на кухонный, аккуратно подметенный ею недавно, но почему-то липкий пол. Падая, очень жалела, что не попала себе в сердце, как метила, очень жалела… …Я вспомнил, что действительно у Ники есть небольшая белая полоска под левой грудью. Я думал, это след от обыкновенной царапины, полученной в далеком детстве, а оно вон как оказалось. «Следи за супом и за картошкой, – сказала мне Ника, – а я пойду приведу себя в порядок» – «Конечно, – сказал я, – иди и приведи себя в порядок. А я послежу за супом и за картошкой». И я следил. И мне было очень приятно это делать – следить. За супом и за картошкой следить действительно гораздо приятней, чем, допустим, за Ромой и Никой. И я подумал сначала, что было бы вот так крайне замечательно, если бы мне в моей дальнейшей жизни нужно было следить только за супом и за картошкой, ну или там за жарящейся свининой, или за макаронами, или за кошками и собаками, или за порядком в квартире, или за детьми, но никоим образом не следить за людьми, чтобы они, не дай Бог, ничего не наделали дурного, не побили никого и не убили никого – например, того, кто рядом, или, например, себя. Но так я подумал только поначалу, сразу после того, как присел на подоконник и начал следить за супом и картошкой. А вот по прошествии какого-то времени, долгого ли, короткого ли, не посчитать, на часы не смотрел, к совершенно иным выводам пришел, исключительно противоположным. Почему, подумал, что-то одно должно быть хорошо, а что-то другое плохо? Почему это, интересно, одно должно быть мне приятно, а что-то иное до боли противно и отвратительно? Раз таким образом чувствую и думаю, размышлял я, значит, рассчитываю на нескончаемую, можно сказать, вечную жизнь. Ведь так? Значит, есть время у меня на то, чтобы что-нибудь не любить, и чего-то ненавидеть, и к чему-то относиться с раздражением, страхом, брезгливостью и недоброжелательностью, или в крайнем случае с равнодушием. Но ведь неверно это. Нет у меня на такие чувства и мысли ни времени, ни сил. Ни сил, ни времени. И потому все, что со мной и вокруг меня происходит, я должен, я обязан принимать с радостью, воодушевлением и с решительным настроем извлекать пользу из любой своей эмоции и из любой сложившейся ситуации. Главное – окончательно поверить, что ты не бессмертен. Это очень трудно, как ни парадоксально, очень трудно. Но надо. Тогда все в этой жизни встанет на свои места. Само собой встанет, без дальнейших усилий и трудностей. Так что почему бы мне и не последить за Никой и Ромой. Замечательное занятие. Ей-богу, не вру. Картошка сварилась. И я слил воду. Попробовал суп, и он тоже был готов. Я выключил плиту и закурил сигарету. Дым показался не незнакомым, горьким и тошнотворным. Я затушил сигарету и, морщась, сплюнул в приоткрытое окно. Странно. Я всегда очень любил сигарету «Кэмел» без фильтра. Во все времена вкус его отличался стойкой медовой сладостью и необычайно мне тем нравился. Но вот сейчас что-то произошло. Что-то незаметное на первый взгляд, но безусловно важное… Я смел надеяться, что организм мой.сейчас подсказал мне (после всех моих размышлений о времени, силе и бессмертии), что курение дело бесполезное, а значит, ненужное, и его надо исключить из своей жизни, чтобы освободить время и силы для чего-то необходимого, а значит, гораздо более значительного, Я смел надеяться. Скрип лестницы и перестук каблучков по ней отвлек мое внимание. Спускалась Ника. Это было ясно по цоканью железных подковок на ее дорогих туфлях. Мне очень нравились эти ее туфли на железных подковках. Каблук на них был фантастически высок и тонок. Как Ника удерживалась на таких каблуках и не падала и не катилась кубарем с лестницы, и не ломала себе ноги и руки, шею и позвоночник, ребра и переносицу, и не выбивала себе о ступени и перила зубы и глаза, являлось для меня чистейшей загадкой, разгадку которой знала только она сама, Ника, и еще те немногочисленные женщины, да и мужчины, собственно, тоже, кто рисковал передвигаться по нашей Земле на таких поразительных каблуках. Я стремительно выскочил из кухни. Мне необыкновенно хотелось посмотреть, как Ника спускается по лестнице. Я раньше даже и не представлял, как это великолепно, когда женщина спускается по лестнице. Не простая, конечно, женщина спускается по лестнице. Не простая, конечно, женщина, а красивая. И не просто, конечно, спускается, а медленно, с достоинством, и с улыбкой, уверенная, что на нее смотрят, и уверенная, что ее хотят. (Очень важно, что хотят.) Короткое тонкое розовое платье плотно облегало ее фигуру (на удивление много имелось у Ники таких коротких облегающих платьев – и черное, и белое, и красное, и сиреневое, и вот вам, пожалуйста, розовое, и голубое, и лиловое, аж, всех не перечислишь, много, очень много), выставляя напоказ высокую грудь, аккуратный животик и четкие очертания вызывающе узеньких трусиков. От Ники исходил аромат и свет. Аромат издавали, по-видимому, духи, а вот где в Нике был запрятан источник света, определить было трудно. Выглядела Ника, конечно, потрясающе. За все дни, что я се знал, я еще ни разу не видел ее такой. Понятие «женщина» сейчас не подходило ей. Богиня – вот так с некоторой долей условности можно было бы назвать ее. Но только с некоторой долей условности, потому что я уверен, что таких роскошных богинь во Вселенной пока не имелось. С Никой хотелось заниматься любовью, прямо сейчас, здесь, безудержно и нескончаемо. Нику хотелось любить страстно и до ярого поклонения. С Никой хотелось быть всегда вместе, рядом каждый час, каждую секунду, хотелось восхищаться ею и наслаждаться ею. С Никой хотелось завести дом, семью, заиметь бессчетное количество детей и прожить с нею долгую-долгую жизнь и умереть с ней в один день. Вот такая сегодня была Ника. Моя Ника. Ника спустилась с лестницы. Одарила меня сияющей улыбкой. И прошла мимо. Мимо. Ника переступила порог гостиной и сказала громко: «Мика, я хочу пригласить тебя на танец. Сегодня ты будешь моим кавалером. Ты согласен, Мика?» Ника сделала несколько шагов к магнитофону. Включила его. Запел неувядающий Хулио Иглесиас. Ника приблизилась к сидящему Мике и сделала книксен. Мика поднялся с кресла и протянул к Нике руки. Ника взяла его руки в свои и поцеловала – одну и другую, – чуть склонившись, и затем положила руки Мики себе на узкие бедра, и обняла Мику за плечи, прижала его к себе, постояла так какое-то время, наверное, с полминуты, чуть покачиваясь из стороны в сторону, и с неожиданной решимостью повела Мику в импровизированном вальсе… Я улыбнулся, глядя на них, затем нарочито тяжело вздохнул, развел руками, и, опустив их, повернулся к лестнице и заспешил наверх. Пора было приглашать Рому к обеду. Рома лежал на полу. Только на сей раз он не спал. Он лежал с открытыми глазами и с открытым ртом, и с лицом, мокрым от пота… Он хрипло дышал, мелко вздрагивал и остервенело бил об пол левой рукой. Только одной левой рукой. Правой он бить об пол не мог, так как правая рука его была прикована к радиатору отопления. Я сел на кровать рядом с Ромой и спросил его буднично: «Опять?» Рома кивнул. «Уже проходит, – сказал он, – я успокаиваюсь. Все нормально. Еще минута, и все будет хорошо» – «Тебе, наверное, не надо спускаться вниз, – сказал я. – А то увидишь его, и все начнется снова» – «Нет, нет, – возразил Рома, облизывая сухие губы. – Я смогу. Это как приступ, знаешь… Приступ, а потом пауза, расслабление. И довольно долгая пауза… Мой Бог – он добр и справедлив. И он дает мне возможность отдохнуть. И я благодарен ему за это…» – «А ты мне не хочешь рассказать, кто он, твой Бог? – спросил я Рому, – А? Может быть, он примет и меня? – Я толкнул Рому в плечо, засмеялся как можно непринужденней. – Вдвоем-то веселей! А, Рома…» …Я увидел, как Рома бежит по широкой улице. Глаза его разинуты до отказа, а рот его разинут на пол-лица. Никому не слышно, как Рома стонет и кричит. Но Рома стонет и кричит. Очки его давно уже потеряны. А слуховой аппарат вырван из уха и растоптан. Рома бежит по широкой улице. Бег его непрофессионален. Он уже забыл, как надо бегать. Он бежит как нетренированный, слабосильный старичок. Но он бежит изо всех имеющихся у него сил. И это видно. Его толкают, на него матерятся, в него плюют. Губы у Ромы в трещинах. А из трещин льется кровь. Язык у Ромы обкусан и кончик его разорван. Вслед Роме свистят милицейские свистки, вслед Роме гудят и милицейские сирены… Рома покидает город. Он бежит по утонувшему в грязи полю. Ноги у Ромы вязнут в густой бурой жиже. Но Рома вырывает их с громким чавканьем и ковыляет дальше. Падает и встает. Падает и встает. Идет. И бежит. Изо всех сил. Как может. Вот он мчится по лесу, и мокрые ветки хлещут его по лицу, по раскрытым глазам, по обсохшим зубам, по лбу, по шее, по ушам. Больно, больно, больно… И вот теперь Рома стонет и кричит во весь голос. Он захлебывается стоном. Он давится криком… Он падает обессиленный. Умирающий, тихий, разгоряченный, холодный… Дышит хрипло. Чуть отдышавшись, он шепчет: «Ушел, ушел, ушел, мать твою!…» И плачет. И смеется. И катается по влажной траве, как молодой конек на выпасе… Но вот из-за дерева, из-за ближайшего, кажется, из-за сосны, я не вижу, нет, кажется, из-за осины выходит трясущийся, грязный, слюнявый старик. Подходит к Роме, склоняется над ним, прищурившись. И я различаю в лице старика знакомые черты. Да, да, это Рома, Рома, только постаревший, очень сильно постаревший. Ну вот он, конечно, вот он, Ромин Бог. Бог говорит, строго глядя на лежащего Рому: «Ты не должен убегать от меня. Ты должен спасать меня. И тем самым спасать себя, Неужели ты не понимаешь этого, глупец? – Старик вытягивает куда-то в сторону, видимо, туда, где, по его мнению, есть жилье, дороги, люди, веснушчатый костлявый палец и говорит величаво: – Ступай и принеси нам жизнь. Ступай и принеси нам жизнь. Ступай и принеси нам жизнь…» И Рома опять кричит, закрыв лицо руками. «Нет, нет! – кричит Рома. – Я не могу! Я не хочу! Я умоляю тебя, отпусти меня! Ну отпусти же меня!» – «Ступай и принеси нам жизнь, – вскинув подбородок, упорно повторяет старик. – Ступай и принеси нам жизнь. Ступай и принеси нам жизнь! Ступай и принеси нам жизнь! Ступай и принеси нам жизнь! Ступай и принеси нам жизнь! Ступай и принеси нам жизнь! Ступай и принеси нам жизнь! Ступай и принеси нам жизнь! Ступай и принеси нам жизнь! Ступай и принеси нам жизнь! Ступай и принеси нам жизнь! Ступай и принеси нам жизнь!» Рома вскакивает с земли и снова бежит. Подошвы скользят по мокрой траве. Рома то и дело припадает к земле, но бежит, бежит. Настороженно выглядывают из-за деревьев звери, разные – и волки, и лисы, и зайцы, и обезьяны, и львы, и верблюды, и коты, и мышки, и змеи и гиппопотамы, и барсуки, и бобры, и дельфины, и киты, и лошади, и бизоны, и скунсы, и мангусты, и дикобразы, и бронтозавры. Из-за деревьев также выглядывают и снежные люди, и несколько разновидностей инопланетян, и тройка крутых ребят из параллельных миров, и царь морской, и пара потливых водяных, и пьяный леший, и бледная русалка, и десяток нимф в мини-юбках, ну и многие, многие другие. На Рому они смотрят хоть и настороженно, но сочувственно. Они не знают, что происходит с Ромой, но им его жалко, потому что они видят и чувствуют, что ему плохо. «Помогите! – кричит Рома, обращаясь к ним. – Я прошу вас, помогите!» И тотчас, словно получив команду, – откуда-то, откуда, мы не знаем, – звери и все остальные приходят в движение. Звери прыгают, лязгают зубами, кусаются и размахивают лапами, инопланетяне палят из бластеров, нимфы поднимают юбки, снежный человек крушит деревья, русалка пускает пузыри, леший отчаянно матерится и молотит кулаками воздух, царь морской хлещет из брандспойта, водяные кидаются лягушками. Старика не брали бластеры и ему было глубоко наплевать на истошно квакающих лягушек. Он нисколько не боялся беснующегося лешего, и удары резких ребят из параллельного мира не доставляли ему больших неприятностей. А от зверей-то он просто отмахивался, как от надоедливых мух. И звери летели кувырком в разные стороны, и на север, и на восток, и на запад, и на юг. Все летели – и львы, и тушканчики, и слоны, и дикобразы, и пантеры, и муравьеды, и лошади Пржевальского, и дикие поросята, и слезливые крокодилы, и карликовые пинчеры, и все, все остальные, кто тоже не умел, да и не хотел летать. Но тем не менее такая массированная атака, конечно же, немного задержала старика, и тем самым дала возможность Роме уйти на некоторое расстояние… Рома бежал по долинам и по взгорьям, по оврагам и холмам, по балкам и по кочкам, по полям и перелескам. Задыхался, падал, полз, поднимался и снова бежал. Рома бежал на ногах. Рома бежал на руках, когда уставали ноги. Рома бежал на ушах, когда уставали и руки ноги. Рома бежал на бровях, когда уставали ноги и руки и уши… И на чем только не бежал Рома, даже стыдно сказать. П О Б Е Ж А Л!!!!!! Вот река преградила ему путь. И Рома, не раздумывая, бросился в воду. И тотчас пошел ко дну. Он разучился плавать. Раньше он слыл отличным пловцом. Но сейчас он разучился плавать. Он же уже был почти стариком, И он устал. И еще он очень и очень хотел убежать. И поэтому он разучился плавать. «Может, оно и к лучшему, – на удивление спокойно подумал Рома, барахтаясь между землей и воздухом, может, тогда мой Бог оставит меня. Может быть…» Но кто-то другой, не он, другой, кто жил в нем вместе со всеми остальными, кто-то давно-давно уже прячущийся где-то глубоко-глубоко, тот, с кем он был еще достаточно дружен во время войны, не захотел умирать. Он возмутился. Он разозлился. Он заставил Рому подняться к поверхности воды. Рома глотнул воздуха и, окончательно обессиленный, снова ушел под воду. И когда открыл глаза, там, под водой, то увидел своего Бога. «Ступай и принеси нам жизнь», – громко сказал Бог. И Рома очень изумился, что не побежали кверху пузыри изо рта старика… И тогда Рому озарило. «Значит, он не настоящий, – подумал Рома. – Значит, он всего лишь фикция, – подумал Рома. – Значит, он обыкновенная галлюцинация, – подумал Рома. – Значит, я могу просто плевать на него, – подумал Рома. – Значит, я могу просто не обращать на него никакого внимания», – подумал Рома. И Рома оттолкнулся ногами и поплыл наверх, с восторгом замечая, что он вдруг совершенно ясно вспомнил, как надо плавать. Рома почти уже добрался до поверхности реки, как кто-то схватил его за ноги. Рома недоуменно опустил голову и увидел, что это старик держит его за ноги. Рома скривился и туго помотал головой. «Значит, это не галлюцинация и старик настоящий», – грустно отметил Рома. И неожиданно для самого себя Рома изо всей силы ударил старика ногой по голове. И еще, и еще. И бил до тех пор, пока старик не отпустил руки. И тогда Рома перевернулся и нырнул на глубину. Он подплыл к старику, ухватил его за шею и стал отчаянно душить своего Бога. Он сжимал его горло все сильней и сильней. Старик барахтался и бил как мог Рому руками и ногами… Запас воздуха у Ромы кончился. И Рома не выдержал и вдохнул в себя воду… Очнулся он на берегу. Рядом с ним сидели несколько загорелых мужиков. Они участливо глядели на него и курили папироски. Неподалеку горел маленький костерок. Пахло дымом и жареным мясом. «Вернулся, – обрадованно воскликнул один из мужиков. – И то ладно. А то когда ты всплыл, мы-то грешным делом решили – мертвяк уже…» Рома смотрел на небо и думал, что все равно никуда ему не деться, и, конечно, ему надо исполнять все, что требует от него его Бог. Он проиграл и он должен смириться с этим. …Я не стал больше ни о чем спрашивать Рому. Я уже знал ответы на все мои вопросы. Почти на все мои вопросы. «Пошли обедать, Рома, – сказал я, – Ника приготовила нам отличнейший обед. Собирайся, мы ждем тебя внизу», – добавил я, отмыкая Роме наручники найденным на полу, там, где мне и показал Рома, – у входной двери, – коротеньким ключиком. Я спустился вниз. В гостиной все так же пел Хулио Иглесиас. И Ника и Мика все так же кружились в нарочито медленном вальсе. Но что-то все-таки изменилось. И через несколько мгновений, не очень, как мне показалось, длинных, да, недлинных совсем (но это, конечно, смотря с какой стороны на них глядеть, а я сейчас, например, на них смотрел сверху, я, можно сказать, думал о них свысока), я разобрался, в чем дело или, иначе сказать, что к чему, и по какому поводу. Вот как можно было обозначить те изменения, что бросились мне в глаза, когда я объявился на пороге гостиной, спустившись со второго этажа после пространнейшего разговора с Ромой Садиком. …Кто-то играл Брамса на пиле… И пахло свежими стружками. …Неожиданно пропал цвет. Я огляделся вокруг. Мать мою! Черно-белое кино… …С потолка сыпались птицы. Падали на пол бездыханные. …Загремело небо и воткнулось в окно. Я потрогал небо руками. На ощупь оно было как материал «болонья». Шуршало… …Кто-то пукнул и запахло нарциссами… …Под столом сидел мужик со стрекозиными крылышками и показывал мне язык. А второго мужика со стрекозиными крылышками я так и не увидел. …Хулио Иглесиас поднялся с кресла. Роскошный. Дорогой. Улыбчивый, Подошел ко мне и поцеловал меня. Сел на место. Все подмигивал, подмигивал. …Из камина вместо огня выплескивалась какая-то густая жидкость. Мне показалось, что это была кровь. А может быть, и не кровь, а просто какая-то обыкновенная густая жидкость. …Воздух царапал мне лицо. Царапины причиняли мне боль. Очень сильную боль. Просто непередаваемую боль. Мне показалось, что я могу потерять сознание от такой боли… Когда вновь вокруг меня появился цвет, я забыл, зачем я пришел в гостиную. Я посмотрел на танцующих Нику и Мику и через несколько мгновений, скорее, опять коротких, чем длинных, понял, что с момента моего ухода что-то изменилось также и в Нике и в Мике. Я пригляделся внимательней и наконец догадался, в чем дело. Я заметил, что движения Ники стали быстрей и энергичней, а движения маленького Мики сделались совсем медленными и вялыми. Мика едва волочил ноги. Можно сказать, он попросту висел у Ники на руках. Ника носила его, как перышко. Одна рука Ники была просунута Мике под мышку, а другая сжимала мальчику шею со стороны затылка. (Да так крепко, по всей вероятности, сжимала, что пальцы на сжимающей руке до того побелели, что стали походить на длинные и тонкие школьные мелки. Исключительной силы женщина.) Не раздумывая больше, я кинулся вперед, подхватил ребенка и яростно оттолкнул от него блаженно улыбающуюся Нику. Ника попятилась, зацепилась каблуком о ковер и упала на диван. Продолжая улыбаться, она открыла глаза и сказала сонно: «Я так люблю его…» Я усадил мальчика в кресло и приподнял за подбородок его лицо. Румянец с Микиных щек исчез и уступил место синеватой белизне. Рот его был полуоткрыт. Белесые губы мелко тряслись. Из уголка рта сочилась обильная слюна, Я присел перед креслом и несколько раз ударил Мику по щеке. И вот мальчик резко и глубоко вздохнул и открыл глаза. Увидев меня перед собой, он улыбнулся и сказал тихо и хрипло: «Холодными, твердыми, будто металл, пальцами она сжала мне шею сзади. Я несколько раз, разумеется, попытался вырваться, и наконец почувствовал, что перед глазами все плывет. А потом откуда-то от затылка пришла темнота. – Мика с трудом проглотил слюну, поморщился, спросил меня просто: – Она хотела убить меня, да?» – «Не думаю, – ответил я. – Не хочу так думать, во всяком случае» – «Я так люблю тебя», – сказала Ника за моей спиной, совсем близко от меня. Мика вздрогнул и поднял глаза. Я обернулся. За моей спиной действительно стояла Ника и слезящимися глазами рассматривала Мику. Потом сказала еще: «Я сейчас накормлю тебя. Я очень вкусно тебя накормлю». И засмеялась вдруг, и нарочито меленькими и изрядно кокетливыми шажками заспешила затем к кухне – что-то себе напевая и себе же подмигивая, утренняя, не вечерняя, тонкая и легкая, открытая и доступная. На пороге гостиной остановилась, голову вниз опустила, нахмурившись, губами шевельнула – беззвучно. И вскинув голову, через плечо обернулась после – ко мне – и мне же сказала, вопрошая, не утверждая: «Ты меня толкнул, да? Грубо и сильно. И я упала на диван. И я ударилась больно затылком о спинку… Это так, или мне почудилось, приснилось?… Я не помню… Но все-таки мне кажется, что ты действительно меня толкнул. И если правда толкнул, то почему? Почему? Объясни, объясни». Лицо у Ники выражало искреннюю обиду, не взрослую – детскую, не злую, не злобную, не мстительную, просто обиду, обиду маленькой девочки, которую мама (или папа, что опасней) не поцеловала на ночь. Я оставил мальчика и подошел к Нике. Встал совсем близко к ней, погладил ее по щеке, проговорил мягко и шутливо: «Я просто приревновал тебя к мальчику Мике. Чересчур долго ты с ним танцевала. Уж слишком ты была увлечена и не замечала ничего и никого вокруг. Не замечала и меня… С тех пор как ты, переодевшись к обеду, спустилась вниз, ты ни разу не посмотрела на меня. Ни Разу…» Прикрыв глаза, я коснулся своими губами Никиных губ. Женщина ответила с готовностью. Я с трудом отнял у нее свои губы. «Прости», – сказал я Нике. За обеденным столом я сидел напротив Ники, а Рома сидел напротив мальчика Мики. Они все устроились в креслах а я с удовольствием остался на диване. Принесенная с кухнимной и Никой всякая и всяческая еда полностью и до отказа заполнила стол. На единственном свободном, но не занятом посудой с едой месте стояла пепельница, пустая. Никто не курил. Я-то, понятное дело, не хотел курить. Дым сигарет казался мне горьким и неприятным в отличие от дыма Отечества. А почему не курил Рома, я не знаю. Но как воспитанный человек не стал я озадачивать Рому уместными вопросами, а просто взял да и не обратил на то внимания, на что хотел, а принялся запросто есть ту пищу, что приготовила нам Ника Визинова. Было вкусно. Мы быстро покончили с рыбным супом и откинулись на спинки – кто кресел, а я – дивана. Пребывая в добром расположении духа и желудка, мы молчали. И не глядели друг на друга. А глядели на все, куда ни кидала взгляд Вот тут-то я и услышал и увидел, как Рома полез в карман и как достал из кармана пачку сигарет, и как протянул эту пачку мне. И я тогда на протянутую пачку посмотрел и помотал головой и сказал, что теперь без тревоги могу жить без сигарет и очень даже тому обстоятельству не огорчаюсь. Ах вот оно как, заметил Рома, сладко зажмуриваясь и пуская сизые колечки, ах вот оно как, и заметил также, что он тоже какое-то время назад бросил и курить и пить и даже колоться всякого рода наркотиками, потому как думал, что таким образом он сможет продлить жизнь, а может быть, даже избавиться и от разного рода болезней. Но оказалось, продолжил Рома, что вес происходит иначе. Я поинтересовался. И Рома ответил, что он знает другие, гораздо более эффективные способы не умереть. Я поинтересовался. И Рома ответил, что не сигарета, вино или наркотик ведут нас к смерти, мы умираем лишь потому, что просто иссякает отпущенный нам жизненный ресурс, и для того чтобы не умереть, надо просто научиться пользоваться жизнями других людей. Очень весомо и веско, очень уверенно и безапелляционно произнеся эти слова, Рома вдруг посмотрел куда-то вбок и нахмурился, и даже, по-моему, испугался, потому что губы его ни с того ни с сего задрожали, и он виновато улыбнулся и закивал головой, вроде как соглашаясь с кем-то и вроде как покорно подчиняясь кому-то, и, повернувшись к нам, сказал, что он, конечно, пошутил насчет жизней других людей и что курить и выпивать ему просто очень нравится и он не хочет лишать себя такого удовольствия, тем более что истинного удовольствия нам так мало достается в нашей жизни. И сказав все, что сказал, Рома посмотрел на меня – вроде как испрашивая моего одобрения, что я, собственно, ему и показал, согласно кивнув и дружелюбно улыбнувшись. Закончив разговор таким образом и никаким.иным, мы приступили ко второму блюду сегодняшнего обеда. Отварной картофель, обильно политый маслом, и поджаренная немецкая баночная ветчина были чрезвычайно питательны и несказанно приятны на вкус. И на ощупь. Рома съел уже половину своей немаленькой порции, когда ему захотелось оставшуюся половину порции пообильней посолить, и он попросил мальчика Мику, чтобы тот передал ему соль. Мика не передал соль. Он вообще будто ничего и не слышал. Рома повторил свою просьбу. А Мика ел и причмокивал. Я протянул руку за солоничкой и поставил ее перед Ромой. Рома дернул подбородком, будто ему мешал слишком тесный воротник рубашки, взял соль и, перегнувшись через стол, поставил ее снова рядом с Микой. «Я хочу, чтобы соль мне передал Мика», – с вызовом проговорил Рома. Но Мика даже и глаз не поднял. Я мысленно похвалил Мику за его выдержку. «Почему ты не хочешь передать мне соль? – спросил Рома, не отрываясь, глядя на жующего Мику. – Я не нравлюсь тебе? Или, может, ты обиделся за вчерашнее? Ну, тогда прости. Нет, правда, прости. Я не желал тебе ничего дурного. Я всего лишь хотел показать тебе, как обычно я снимаю шкуру с убитых мною животных. И все. – Рома с грохотом отодвинул от себя тарелку. – Ну посмотри на меня. Ну посмотри. Я прошу тебя. Мне очень хочется, чтобы ты посмотрел на меня и поговорил со мной. Ты не представляешь, Мика, как мне этого хочется…» – «Посмотри, Мика, пожалуйста», – не выдержал я. Я догадывался, что сейчас происходит с Ромой. Он борется с собой. И он хочет сейчас, чтобы Мика стал ему ближе, ближе, хоть чуточку, чтобы Мика не был для него обезличенным, деперсонифицированным ребенком – здоровым, красивым человеческим детенышем, он хочет, чтобы у детеныша было имя, история, чувства и чтобы этому Детенышу нравился Рома Садик… «Мика, Мика, – не унимался Рома, – я очень прошу, прости меня. Я больше так не буду, не буду, честно. Честное офицерское… Смотри, смотри, что у меня есть. – И Рома достал из кармана маленький фонарик, зажег его, погасил, зажег, погасил. – На, возьми, он твой, я дарю тебе его». Но Мика упорно не поднимал головы и не отводил сосредоточенного взгляда от тарелки с картошкой, с маслом и ветчиной. «О, я знаю, то тебе понравится, – засмеялся Рома и вытащил из-за пистолет «Беретта». – В любое время, когда тебе рассудится, ты можешь поиграть с ним. – Рома подкинул пистолет на ладони. – Можешь хоть сейчас». И Рома внезапно бросил пистолет в сторону Мики. Я не ожидал, конечно, что Рома кинет пистолет, и потому реакция моя была запоздалой, и я схватил рукой только воздух. Но Мика, к моему изумлению, поймал пистолет – цепкой правой рукой, – за мгновение до того отпустив из руки вилку. Я выругался и грубо рявкнул: «Ну-ка, дай его сюда!» Но Мика не слушал и меня. Он даже не взглянул в мою сторону. Он быстро и умело вынул из пистолета обойму, проверил наличие в ней патронов, вставил обойму на место, легко передернул затвор, навел – теперь уже двумя руками – пистолет на Рому и спросил Рому спокойно, с тенью легкой улыбки на губах: «Ну и как ты собираешься пользоваться другими жизнями? Скажи нам». Рома неторопливо провел руками по лицу, помассировал морщины вокруг глаз, посмотрел зачем-то внимательно на кончики своих пальцев и толькопосле этого произнес лениво, с полуусмешкой: «А если не скажу?» – «Тогда я убью тебя», – сказал Мика. «Господи!» – выговорила Ника и выронила на стол вилку с ножом. И съежила лицо, и заскулила тихо, как щенок, которого заперли в чулане. «Не получится, – заметил Рома и усмехнулся шире, – не получится. Ты еще не знаешь, что такое убивать». И Рома привстал, и перегнулся через стол, и протянул руку за пистолетом. Мика чуть дернул вверх стволом «Беретты» и выстрелил над головой у Ромы. Пуля, расщепив лакированную доску, вонзилась в стену над окном – за спиной Ромы. Рома отшатнулся и рухнул обратно в кресло. Мне захотелось курить. Я взял сигарету со стола и закурил. Дым был горек и неприятен. Но я курил. «Ну скажи, скажи, – настаивал Мика. – Как ты собираешься пользоваться жизнями других людей? И сколько раз ты уже пользовался?» Рома молчал. Он тяжело смотрел на Мику и молчал. Я постарался незаметно подвинуться по дивану поближе к Мике. Но Мика заметил мое движение. Он тотчас навел на меня пистолет и сказал с извиняющейся улыбкой: «А ты сиди, пожалуйста, и не шевелись. Ладно?» Я сказал: «Окей». И миролюбиво выставил руки вперед, и даже дал себе возможность улыбнуться ободряюще, мол, делай, Мика, что делаешь, я мешать не буду, раз уж ты делаешь то, что делаешь… «Так ты ответишь, – повернув ствол в сторону Ромы, сказал Мика, – или мне стрелять?» Ника перестала скулить и начала охать. Охая, подняла голову, которую до этого держала опущенной и открыла глаза, которые до этого крепко закрывала клейкими веками, и посмотрела на Мику – с ужасом, – и захотела ему что-то сказать, но только булькнула ртом, будто сдерживала рвоту, и, булькнув, машинально сделала резкое движение, – вытянула руку в сторону Мики, как бы прося у него помощи. И Мика тотчас направил пистолет на женщину. «Не дергайся! – выкрикнул Мика угрожающе и более спокойно добавил: – У этого пистолета легкий спуск…» Ника, морщась и жмурясь, проглотила слюну… И когда она опять открыла глаза, то страха в них уже я не нашел. Глаза будто заменили. Они сделались круглыми и наивными. Не в первый раз я уже замечал такую подмену в выражении глаз у Ники, и поэтому сейчас не удивился произошедшему, и более того, я с интересом решил понаблюдать даже за тем, как будет себя вести Ника и что она будет говорить – теперь, – в который раз уже, как по сигналу, опять в кого-то перевоплотившись. В кого? Да скорее всего, опять в себя маленькую. Мозг защищается от сегодняшней пугающей реальности и отправляет себя в путешествие по миру детства, туда, где ему еще жилось спокойно и беззаботно. Я оказался прав. Так оно и было. «Ты что-то путаешь, братик, – тонким, совсем высоким голоском заговорила Ника. – Это не ты меня должен убивать. А я тебя. Да, да, это я должна тебя убивать. Я. Чтобы ты больше никогда, никогда не мучил меня… Нет минуты, нет секунды, чтобы я не думала о тебе. Нет минуты, нет мгновения, чтобы я не хотела тебя. Ночью ты приходишь ко мне во сне, а днем – наяву. Я всегда разговариваю с тобой, всегда, даже когда не вижу тебя… В шуме ветра я слышу твое дыхание, в каплях дождя я чувствую вкус твоего пота. Когда пригревает солнце, мне кажется, что это твои руки ласкают меня… А твой голос вообще приходит ко мне отовсюду. Все дикторы по телевизору говорят твоим голосом. Все певцы поют твоим голосом. Все актеры в фильмах произносят слова тоже твоим голосом. И я сама говорю твоим голосом. Да, да это правда. Ты слышишь?» – И Ника действительно вдруг изменила голос, и он стал похож теперь, очень похож на голос мальчика Мики, Я вздрогнул, когда услышал первые звуки этого голоса. «А в мыслях моих, – продолжала Ника голосом мальчишки, – с тех пор как я родилась, не было места никому и ничему, кроме тебя… Ты всегда был моим вторым «я». Ты всегда был моим первым «я». И я хочу освободиться теперь от тебя. Я не могу так больше жить. Я не могу…» «Я не понимаю, о чем она говорит!» – изумленно произнес Рома и повернулся ко мне и вопросительно посмотрел на меня. Я пожал плечами. Зачем я буду что-то объяснять Роме? Роме это ни к чему. А мне – работа. «Я не сделаю тебе ничего дурного, – с неожиданной лаской в голосе проговорил Мика. – Я просто хочу, чтобы ты пока сидела спокойно и не мешала мне. Мне-то нужен вот он. – И Мика показал стволом на Рому. – И только он один». Ника замолчала, улыбнулась Мике застенчиво, взяла с тарелки кусочек хлеба и стала тщательно и серьезно жевать его, увлеченная. «Сколькими жизнями ты воспользовался? – спросил Мика Рому, и тотчас опять заговорил сам. – Не надо, не говори, я сейчас сам узнаю. – И Мика некоторое время смотрел Роме прямо в глаза и сказал затем: – Ты убил двадцать семь человек. Из них двадцать три были дети. Старшему только исполнилось тринадцать, младший полгода не дотянул до восьми. Я вижу их искаженные страхом и болью лица. Я вижу, как ты им, еще живым, вспарываешь животы и желудки, как вырываешь сердца и печень и поедаешь их, заливаясь кровью, вскрикивая и плача от восторга и удовлетворения. Я вижу, как бьется твой член в штанах, извергая из себя бурные потоки спермы. Я вижу, как сотрясается все твое тело, словно в конвульсиях. Я вижу, как ты обливаешься обильным кипящим потом. Я вижу, как душа твоя отлетает от тела и мечется вокруг тебя, не желая возвращаться обратно… Но возвращается, потому что пока ей некуда больше деваться… – Мика облизнул сухие губы и тягуче проглотил слюну. – И я вижу себя. Я вижу, как ты душишь меня, как втыкаешь нож в мою грудь, как хочешь добраться до моего сердца. – Мика поднял пистолет на уровень Роминых глаз. – Смотри на меня. Я тот, кто пришел остановить тебя. – Мика прищурил один глаз, прицеливаясь, и пробормотал тихо: – Ты должен умереть, и ты умрешь…» И в тот момент я стремительно ринулся к мальчишке и ударил снизу по пистолету в его руках. Грохнул выстрел. И вторая пуля расщепила еще одну доску над окном. Краем глаза я ухватил, как за мгновение до выстрела Рома упал на спину вместе со стулом и, кувыркнувшись, сел на полу, сжимая уши. А я сам тем временем схватил пистолет и вырвал его у мальчишки. Мика по инерции поднялся за мной и обвалился затем грудью на заставленный всякой и всяческой пищей стол. «Я же пришел остановить его, – бормотал Мика, глядя на пистолет в моей руке. – Он же должен был умереть. Ты ничего не понял. Мне очень жаль тебя…» Я сунул пистолет за пояс, встал и поднял Мику. «Пошли, – сказал я ему. – Тебе не надо здесь оставаться. Пошли скорей». Мальчик покорно пошел за мной. «Мне очень жаль тебя, – повторял Мика, пока мы долго, очень долго шли до двери. – Мне очень жаль тебя…» Мы уже вышли в коридор, когда я услышал усмешливый голос Ромы: «Ты зря это сделал, малыш. Мы могли бы стать друзьями». Я закрыл за собой дверь. «Поднимайся наверх, в мою комнату, – сказал я мальчику, – я заберу Нику и вернусь» – «Не ходи, – Мика сжал пальцами.мой локоть. – Пожалуйста. С Никой все будет в порядке. Правда. Я знаю» – «Нет, – я осторожно убрал от себя руку мальчика. – Я не могу оставить ее. Поднимайся». Я развернулся и шагнул к двери в гостиную. «Ты все знал о нем?» – в спину спросил меня Мика. Я кивнул, продолжая идти. «И ты не хотел убивать его, потому что ты любишь его?» – снова спросил меня Мика. И я опять кивнул. «Хорошо, – сказал Мика, – тогда иди. А я поднимусь наверх. И буду ждать тебя. Даже если ты не придешь, я все равно буду ждать тебя». Я обернулся, еще не успев открыть двери. «Что это значит?» – спросил я. Мальчик ничего мне не Ответил. Он уже поднялся на второй этаж. Может быть, он не услышал меня? Я вошел в гостиную. Рома стоял у окна и смотрел в сад. Он не шелохнулся, услышав, что я открыл дверь. Я шагнул к Нике, склонился над ней и сказал ей тихо и ласково; «Я хочу, чтобы ты пошла со мной. Я уложу тебя в постель. – Я погладил Нику по волосам, как маленькую девочку, как свою дочку, снисходительно, покровительственно, любя, тяготясь и завидуя всем, кроме себя. – Я дам тебе много мягких игрушек. И мишек и зайчиков, и обезьянок, и слоников, и жирафиков. Я расскажу тебе сказку, страшную, но веселую, как сама наша жизнь. И ты уснешь. Конечно же, уснешь. И завтра утром проснешься радостной, здоровой, свободной. Так будет» – «Я не люблю тебя, папа, – просто сказала Ника. – Я люблю братика», – просто сказала Ника. И я услышал, как она всхлипнула. И я увидел, как слезы потекли по ее бледным щекам… И больше ничего я не услышал и не увидел. Потому что в тот момент голова моя взорвалась, будто начиненная тротилом, или нитроглицерином, а может быть, даже и ядерным зарядом, и не исключено, что также и еще каким-то неизвестным мне взрывчатым веществом. И тотчас круги закружились перед глазами, и забегали звездочки разных размеров, и засверкали бенгальские огни. И даже красочный салют расцвел перед глазами – красный, желтый, зеленый. А потом голову пронзила боль. А потом и затылок пронзила боль. А потом боль охватила всю голову разом. А потом все пропало – и кружочки, и звездочки, и салют, и боль, и свет, и даже темнота. Все пропало. Будто и не было ничего. Ни Земли. Ни Луны. Ни меня.ВОЙНА . СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД
Погода сидела отменная, как и всегда в этой стране в это время года – золотилось солнце и воздух был. Машина стояла там, где стояла, когда Нехов сел в нее и хотел уехать. Он ее завел, конечно, и покатил до улицы Камаля, до которой было ногой подать, где он и очутился, возвышаясь над четырьмя крутящимися колесами, что перестали вертеться там, где и заказано было, ровно на улице Камаля. Над горлодраной толпой, стояще-снующей вдоль асфальта в целях обмана, торговли, наживы, хорошей новости и доброго слова, за их спинами и по бокам их боков, именно там, где и перестала дышать машина Нехова, полукруглился серебристый купол – прямо над землей без видимого фундамента и какого-либо этажа, одного или половины. К двери в купол вела лестница, идущая вниз девятью ступеньками, подсчитанными Неховым потом, когда он спускался по этой лестнице, а до этого случилось интересное. На три метра не подойдя к двери, Нехов уловил движение сбоку. Кто-то из сидящих там и сям вскочил неподалеку и поспешил Нехову поперек его пути себя не положить, но поставить – унылый бородач с тяжелыми плечами, с первого взгляда видно, что немытый и нестиранный и не желающий, видно, делать этого никогда ни под каким видом и ни за какую валюту, но зато с автоматом Калашникова за спиной. Он спросил, едва рот раскрывая: «Пропуск!» – «Чего?!» – с вызовом сощурился Нехов. «Пропуск!» – повторил немытый и угрожающе сбил корку грязи с носа. «Ха, ха, ха, ха… – рассмеялся Нехов, тыча в бородатого наодеколоненный палец, – ха, ха, ха, ха, ха. Он сумасшедший. В баню – пропуск!» И, оглядываясь по сторонам, призывал посмеяться корточно-сидящих, тех, кто вокруг, – замечая, строго пальцем тряся, назидательно: «Это тебе не ЦК ВЛКСМ, это учреждение совсем иного свойства!» – и опять смеялся, беснующееся в нем веселье не сдерживая. Смеялся, смеялся, а потом достал пистолет и трахнул бородатого рукояткой по лбу, тот упал, не успев задуматься (если умел), а Нехов снял с него автомат, раскрутил его над головой и закинул далеко-далеко, только его и видели – все, кто вокруг был, хотя и видели, как он летел несколько минут, даже уже тогда, когда Нехов в баню вошел и зашагал по цветному коридору, зная, куда идти. И спустя три шага он попал в круглый зал, не темный, подсвеченный снизу вверх – со стен, разноцветно раскрашенных кем-то, к потолку, бело выбеленному кем-то, что наглядно показывало, и не только Нехову, а любому, кому доводилось когда-либо бывать тут и здесь, как кто-то ревностно и любовно следит за всем тем, что вокруг. Кто бы это мог быть? – задумывался любой, но не Нехов (Нехову было некогда), и отвечал, благодушно улыбаясь, – это очень хороший человек, если, конечно, это человек, – улыбаясь благодушно. Пахло мытьем и женским духом, который, дух, вскоре и материализовался, – пока Нехов принюхивался, раздирая ноздри, – в двух молодых женщин, одну белую и одну небелую, скромно одетых в маленькие трусики и в узкие босоножки на каблучках, которые возбуждающе цокали, когда женщины шли по каменному полу, промытые и обольщающие, и, перестав цокать, остановились, все еще возбуждая предчувствием и ожиданием последующего цоканья. «Цок, цок, цок… Даже в самом написании этого словечка есть секс!» – глубоко дыша, подумал Нехов и стал дышать мельче. Ни слова не говоря, женщины приблизились к Нехову с обеих сторон и стали его гладить и покусывать и, между делом, постанывать и покряхтывать. Может быть, если бы Нехов и не был бы сегодня шесть раз с Зейной, он бы отнесся к симпатичным разномастным, что очень приятно, женщинам более благосклонно и, может быть, даже и дружелюбно, но те разы с Зейной, отличавшиеся высочайшим качеством и фантастической длительностью, давали сейчас о себе знать, выразившись в спокойствии, умиротворенности и контроле над собой, поэтому Нехов и сказал со вздохом сожаления: «нет, нет, мои дарлинги, в следующий раз» – на русском, на английском и на местном, самом трудном. Но дамы вроде как и не слышали, вроде как под глухих косили, суки, и ухом не поведя, продолжали тискать его и пощипывать, чего Нехов не стерпел и оттолкнул дам от себя, стыдя их взглядом и словами: «Ай, ай, ай, ай… – говорил. – Ай, ай, ай, ай…» – говорил. Но дамы-то были не промах. Одна из них подсекла Нехова тренированно, а другая одновременно ему по горлу ребром ладони стукнула. Нехов падал, слезами обливаясь, потому что было больно и обидно, больно потому, что от удара кадык у него сдвинулся и какое-то время с другой стороны решил торчать, а обидно, потому что завалили его не кто-нибудь, а бабы, бабы! Мать вашу! Но вот он упал. Постарался на бок. И постарался прямо меж них, меж баб, как-никак тоже малость обучен был, да и практику имел неплохую. И значит, когда бабы насладились уже победой, ножками затопали и ладошками захлопали, Нехов ножницы сделал, то есть, лежа на боку, резко и сильно разбросал ноги свои в разные стороны и одной бабе мыском подъема по каблукам дал, а другой пяткой и подошвой тоже по каблукам дал, бабы – хлоп и попадали, на попках упругих запрыгали, ошарашенные, и от шараха молчаливые и задумчивые, а Нехов тут как тут, пистолеты из-под куртки выхватил и бабам, и белой и небелой, стволами холодными прямо меж ног ткнул и сказал хрипло, но не страшно: «Вместо себя, мои дарлинги, я предлагаю вам вот этих двух парней, они быстро вас удовлетворят, потому что в отличие от меня у них всегда стоит, желают они того или нет. Хотите?!» – и по-русски это произнес, по-английски и на местном, самом нелегком. «Нет, нет, нет», – тотчас на всех языках ответили бабы, «которые все-таки женщины», – нежно подумал Нехов, с удовольствием разглядывая кружева на маленьких трусиках и чувствуя, как кадык медленно, но верно возвращается на место. «Красота – это великая сила», – ласково подумал он вдогон первой мысли, а вслух сказал: «Не хотите? Тогда снимайте трусы!» – «Нет!» – опять завопили женщины. «Да! Так вашу растак!» – прогремел Нехов. «Да», – всплакнули женщины и с изящной грациозностью, а также с грациозным изяществом стянули трусики со своих замечательных ножек. После чего Нехов показал одной неодетой женщине, как трусиками надо завязать руки другой неодетой женщине, а той, которая осталась, он завязал руки трусиками сам, а затем приблизил двух измученных женщин друг к другу и связал их головами, то есть волосами, крепкими узлами, и надежно, чтоб не развязались сами. А сам пошел дальше, не думая, зачем идет. Вот так, не думая, и влез без мыла в мыльный зал (предварительно узкий темный коридор минуя), где мыло, ему померещилось и мыльная пена и намыленные старухи, содрогнулся, тотчас закрыл глаза и воображение, а они все равно мерещились да мерещились, и выходит, что не мерещились, а на самом деле там были, только не сейчас, а когда-то раньше – скользкие и пенные, опутанные водой, по глубоким морщинам стекающей, грязной, зловонной, душной, – когда-то были – раньше, – не сейчас, сейчас их образ лишь жил здесь, чистый, пропаренный, с венчиком и без оного; жили – там были и намыленные старики, подозрительно в поисках чего-то нового свои съеженные тела оглядывающие, в особенности усохшую мошонку и перекрученные.члены, и желтые треснутые, уже растущие обратно ногти, вздыхая и печалясь, в анальной дырке ковыряясь, с незнанием ожидая грядущий день, грядущий час, ближайшее мгновение; и чуть дальше, когда из крохотного коридорчика едва-едва вот и выступил бы, голубоглазенький, белобрысенький, розовотеленький, спортивненький и голенький, вдруг померещился он был здесь раньше, есть, никогда уже не будет), понял тогда Нехов, что знает его, видел когда-то недавно совсем, вот-вот час назад, два, три, восемь, где видел?– прихмурился, с силой – тряхнул памятью, воспоминания к глазам ссыпая, и почти вспомнил, да, почти, потому что до конца не хотел вспоминать, потому что страшно ему стало, вернее, полустрашно, а если бы до конца вспомнил бы, то совсем страшно стало бы, а так, когда полустрашно, то не особо и страшно, когда полустрашно; и когда наконец выступил из метрового коридорчика, пропали, конечно, и старухи и старики и, конечно же, розовотеленький, но полустрах остался, и это было сейчас особенно не нужно, и Нехов помыслил, что надо бы от полустраха избавиться, попутно мыльный зал озирая, оглядывая и осматривая – круглый, полированный миллионами тел, натертый мылом, мылом, мылом, с нишами в стенах, с лежаками каменными в них – сейчас пустыми; надо бы от полустраха избавиться, опять подумал, и, к смертельной радости его, такой случай прямо тут, здесь, на этом самом месте ему представился. Одна из трех дверей (их было и вправду три – направо пойдешь… прямо пойдешь), не средняя, как можно было предположить, а всего лишь крайняя слева, которая от входа была, открылась и закрылась, выпустив в мыльный зал несветлую полоску света и мускулистого тигра метра полтора высотой, метра два длиной, нетолстого; по недовольным глазам, по сухим губам и нетерпеливым зубам, видать, голодного. Тигр неслышно и посторонее прошелся вдоль дальней от Нехова стены, не глядя на Нехова, а потом вдруг неожиданно взглянул на Нехова, с сожалением и с сожалением от сожаления того, что. сейчас может произойти с Неховым, дернул ушами, моргнул глазами и, принюхиваясь носом к чему-то сбоку, обреченно направился в сторону Нехова. Нехов вынул пистолеты; тигр остановился, увидев предметы в руках Нехова, и принюхался теперь уже к чему-то впереди себя, там, где стоял Нехов (учуял знакомый запах, верно, металла, пороха и масла), а Нехов усмехнулся, не забыв о том, что хотел побороть. страшный полустрах, а когда же его бороть, как не теперь, самое время, и Нехов демонстративно вынул обоймы из пистолетов и положил и пистолеты и обоймы на пол перед собой, из автомата «узи», который извлек из-под куртки, тоже обойму вынул и тоже все это дело на пол перед собой положил и сам на пол вслед опустился, сел по-турецки, как у нас говорят (у них говорят по-другому), вынул пачку «Кэмела» и закурил, затянулся, дымок к потолку выпустил, спохватился, тигру пачку протянул, угощая, тигр сигарету не взял и не поблагодарил даже, но и с места не сдвинулся, смотрел на Нехова настороженно, дышал слышно, голову чуть к полу пригнув. – Ты видишь, что я сделал, да? – сказал Нехов, показывая руками на разложенные на полу пистолеты и автомат. – Все понятно, да? Стрелять я в тебя не буду, что бы ни случилось, как бы ты себя ни повел и как бы я себя ни повел, договоримся мы или нет. Теперь послушай! Мне от тебя ничего не надо, это понятно. А вот тебе от меня надо, и я знаю что – мясо, потому что ты голоден, и это тоже всем, конечно, присутствующим понятно. Понятно? А почему ты голоден? Потому что тебя не кормят. А почему тебя не кормят? Вот теперь мы подходим к самому главному. Тебя не кормят, чтобы ты был злее, и чтобы ты хватал таких, как я, то есть говоря проще, тебя используют. Тебя, царя, силача, умнягу, используют как последнюю сявку, как несмышленого котенка! А ты же ведь могуч! И красив. Не забывай, милый котик, что ты красив, а они вон даже не моют тебя, и ты теряешь свою роскошную расцветку, и не расчесывают тебя, и у тебя портится шерсть, и не дают тебе витаминов, и шерсть твоя мякнет и теряет блеск. Тебя держат за дерьмо, понимаешь, за дерьмо. Ведь и девок наверняка не приводят, а? Я прав? По глазам вижу, что прав. Все! Все! В глаза не смотрю, знаю, что это вызов, знаю. Но вызывать я тебя не собираюсь, уж во всяком случае на бой. Точно не собираюсь, я тебе уже сказал, я тебе уже пообещал, а я обещания свои держу, об этом многие знают, спроси людей и зверей вокруг, они расскажут тебе об этом. Так не водят девок? Да? То-то. И после всего этого ты им служишь, выполняешь любую их прихоть. И это не уязвляет твою гордыню, твое самолюбие? – Тигр внимательно слушал Нехова, и, слушая, склонял голову все ниже к полу, вроде как к прыжку готовился, а потом лег на пол вообще, не отрывая глаз от Нехова, ушами и усами вздрагивая, когтистой лапой нервно по полу поскребывая, вот как, вот как. – Вспомни, ведь они грубят тебе, тыкают тебе в бок палкой, а то и не только в бок, а и в морду и в другие какие места. Вот, вот, я опять прав. Но только не ворчи, не ворчи; Не я же в этом виноват, верно? Ха-ха-ха, – засмеялся вдруг Нехов. – И вообще они отвратно пахнут, точно? От меня ведь лучше пахнет, ей-богу. Ну понюхай, понюхай, не стесняйся. Вот видишь, лучше… Ты думаешь, что я сейчас с тобой так говорю, потому что за свою жизнь борюсь? Хрен-та! Я бы еще минуту назад прибил бы тебя как щенка из двух стволов, и точка. Нет, дорогой мой, я так с тобой разговариваю, потому что ты мне очень-очень понравился, правда, мне очень и очень хочется тебе помочь, как никогда в жизни, как никому другому, понял? Нет? У меня идиосинкразия к несвободе, к чьей-либо – все равно, особенно к несвободе бессловесного – не хочу называть тебя животным, – зверя, да еще такого классного и красивого, как ты, понял? Да? И я тебе помогу, чего бы мне это ни стоило. Я тебя вытащу отсюда. Я отправлю тебя на твою родину, в лес, в горы, в поля и равнины. В жизнь. Понимаешь – в ЖИЗНЬ! Я могу это сделать сейчас, вот сейчас прямо и могу это сделать. Вот сейчас подойду к двери и выпущу тебя. Вот подхожу и выпускаю. – Нехов шагнул уверенно в сторону входной двери, глубоко не задумываясь, а только соображая, что может не произойти. Сообразить не успел, а только догадался чуть раньше, чем тигр встал и мягко скакнул к двери, угрожающе грудью гудя и дверь собой закрывая, что тигр через мгновение встанет, скакнет и загудит: «Р-ррррррррррр-хр-хр-хр»… Нехов шею потер, улыбаясь вымученно, кивнул, соглашаясь, заметил: Может, ты и прав. Что там в городе тебе одному делать без меня? Опять тебя свинтят, в клетку посадят, на цепь, мучить начнут; издеваться. Правильно. Мы должны вдвоем отсюда выйти. Ты и я. Я и ты. А выйти я с тобой не смогу, пока все дела свои здесь и тут не сделаю. Я, знаешь ли, привык все свои дела до конца доводить. А я в отличие от многих люблю жить спокойно и легко, так что ты прав, прав, – Нехов кивал, кивал, – прав, прав, ага. Так что я сейчас пойду, дела доделаю, а ты подожди тут, подожди, – Ив обратную сторону Нехов шагнул, к противоположной двери, к одной из трех, интуитивно к средней, шагнул, ступил, прошел. И уже близок к цели был, как зверь, который животное, который тигр, громко что-то сказал не очень раздельное и двумя прыжками к средней двери перелетел, сел возле нее, сощурился, взрыкнул, пригнулся. Сейчас прыгнет, ведь прыгнет, мать его… – Мать твою! – всплеснул Нехов руками и заорал, не сдерживаясь, горячей слюной брызгая: – Ты что, блядь, козел е…й, не понял, ни хера, пидор гнойный, сука, гад, гнида! Я тебя выдрать из этого дерьма хочу, а ты, вонючка, меня все подрезать норовишь. На, мудоеб х…в, режь, режь, чего ждешь! – Нехов., гордо вскинув подбородок, рванул рубаху на груди – шелковую, темно-зеленую, от Макгрегора, расстегнув, конечно, ее заранее, – Режь, если свобода тебе не дорога, кривох… безмозглый. Мотал головой, тряс волосами, закатывал глаза, ломал рот, похлопывал ушами, скрежетал зубами, плевался и бледнел – одновременно. И потому поначалу и не заметил, просто не смотрел в ту сторону, куда надо было, как взор тигра помутнел, как глаза его тягучей влагой покрылись, как он безвольно завалился на бок, а потом, витиевато мяукая, расслабленно перекатился на спину и застыл так с разбросанными в стороны задними лапами и поднятыми вверх полусогнутыми передними лапами, как смотрел потом на Нехова сквозь слезы нежно, как вздрагивал, поеживаясь, после каждого неховского топа, хлопа, тряса, скрежета и плевка – одновременно. И только когда Нехов подустал немного и умолк на сколько-то времени и посмотрел на тигра с угасающей уже свирепостью, только тогда и увидел; как тигр плачет и вздрагивает, отдаваясь эмоциям и ни о чем не жалея. – Ай, браво! – вполголоса проговорил Нехов, тихо улыбаясь. – Ай, браво, – застегивая рубашку. – Ай, браво, – приглаживая волосы. – Ай, браво, – растирая глаза кулаками. – Ай, браво, – долго и обильно мочась в одной стороне мыльного зала. – Ай, браво, – подойдя к зверю и став перед ним на колени и обняв его, разомлевшего, крепко и с удовольствием. – Ай, браво, – оглаживая тигра меж ушей. – Спасибо тебе, ты очень помог мне. Теперь мне не страшно, и даже не полустрашно и даже не четверть страшно, совсем никак не страшно – поднялся, колени не отряхивая, спросил у тигра, лежащего, подмигнув ему ободряюще: – Где он? Тигр закрыл глаза и показал носом на среднюю дверь. – Я так и думал, – раздумчиво кивнул Нехов. – Пойдем?! – позвал за собой тигра. Тот, не поднимаясь, проурчал о чем-то громко. – Что? – переспросил Нехов, одним ухом к тигру прислушиваясь. – Что? – повторил более требовательно, другим ухом к тигру прислушиваясь. – Я не вижу, о чем ты говоришь. Отчаялся, перестал прислушиваться, даже ногой топнул, сердясь. А как топнул, так и увидел сей секунд, о чем тигр говорил, – средняя дверь распахнулась, будто кто ее отворил грубый и невоспитанный, и в мыльный зал вынырнули двое – в. полосатых халатах, густо небритые, в туго затянутых красных косынках на головах и с автоматическими винтовками М-16 в волосатых руках, ах! Прежде чем наставить на Нехова винтовку, они с недоумением осмотрелись, вопросительно переглянулись, с опаской на тигра покосились, и вновь взорами к Нехову вернулись и изумленно на него уставились, не веря, что он живой, и предполагая, что он Федя Протасов. Не имея желания менять имя и фамилию, Нехов хоть и поднял руки, увидев, дырки в стволах, но тем не менее, пока вновь прибывшие приценивались, что почем, сделал два мелких шажка назад к своим пистолетам и автомату, бесполезно лежащим на мытом полу мыльного зала. Маневр удался. Но толку от него было мало, более того, никакого – ни один крутой, даже Нехов, если он таковым и был не только в своем воображении, но и в реальности, не сумел бы под прицелом двух скорострельных и точных винтовок подхватить с пола пистолет или автомат, успеть вставить в тот или другой обойму и желательно первыми выстрелами завалить двух умеющих обращаться с оружием гостей, которые были наверняка даже хуже, чем мы знаем кто. И Нехов подумал конечно, хреново все то, что сейчас происходит, тем не менее он не боится, ему не было страшно, ни сколько, просто он понимал, что ситуация хреновая, и ему было очень жаль, что ситуация такая хреновая. Просто жаль, и все. И только. – Твою мать! – громко и смачно выругался Нехов, заключив этим достойным выражением свои нерадостные размышления. А тигр словно бы и ждал этих слов. Лежащий до того, словно в дреме, на спине, он неожиданно оттолкнулся лапами от пола, вскочил и, не издав ни звука, мощно прыгнул на бородатых гостей. Расставил в полете широко передние лапы и в конце прыжка опустил их на головы нежданных – вновь прибывших. Те рухнули на пол, винтовки безвольно из волосатых рук выпустив, и еще в падении потеряв сознание и подсознание, и некоторую часть умственных способностей, а также потенцию и умение любить. Не обращая внимания на отсутствие стонов и криков, тигр быстро и со знанием дела, можно сказать, профессионально, и даже более того, мастерски, и даже более того, следуя врожденным инстинктам (а именно отсюда и профессионализм и мастерство), перегрыз горло и тому и другому злодейскому злодею и был этим очень доволен, что и было написано на его сияющем шерстяном лице. – Ай, браво! – лениво похвалил зверя Нехов, сидя на полу и вставляя обоймы в пистолеты и автомат. Тигр тем временем разорвал беззлобно одежду одного из неживых гостей, распорол резцами ему живот, по бархатные ушки запачкавшись кровью и чем-то зеленым, выдрал у него печень – темно-бордовую, тяжелую на вид, скользкую, дымящуюся и, зычно чавкая, съел ее без остатка, после чего мелодично помурлыкав и не умывшись даже, тоже самое проделал и со вторым неживым и с его дымящейся печенью, и затем, насыщенный, повалился на бок, рыгнул удовлетворенно, и только тогда стал умываться, не забыв промурлыкать предварительно победительную песенку. – А мне и не страшно, – приговаривал Нехов, равнодушно наблюдая за тигровой трапезой. – Вот ни капельки и ни чуточки. Вот оно как бывает-то. Надо же, – удивлялся все, – надо же… – курил, вспоминая Родину, отчий дом, первый поцелуй, прогулки: при луне и вздохи на скамейке, своим отражением в подтекшей к нему под ноги кровавой лужице любуясь. Из ниши запахло. И нос у Нехова вздрогнул. И через две ноздри несвежий воздух втянули. И через секунду Нехов догадался, что это так его моча пахнет. А догадавшись, пожурил себя, что не то ест, мол, что не то пьет, что не с теми спит, что не то курит, что вообще не то делал и делает ни вчера, ни завтра, ни тем более сейчас. Подпрыгнул легко, арабеску сотворил "стройными ногами – одну, вторую, третью. Подумал, удовлетворившись своим мастерством, что ничего не поделаешь, раз решил что-то сделать, сделай. Только так настоящие большие дела и делаются, решил – сделай. И никаких дел. По-деловому, короче, надо жить в этой жизни, не по-бездельному, что он, собственно говоря, и сделал – поставив себя на свое место, когда встал, встав с пола, и с него же поднявшись, одновременно от него отрываясь, когда выпрямлялся, на ноги становясь, вытягиваясь во весь рост, расправляясь. К двери пошел, как к постели после пятых суток недосыпа. Шагая, звенел возбуждением и содрогался от жары и от горячего пота, и от аромата, расползающегося по полу, погладил дверную ручку, привычно почувствовал щекотанье в паху и, не оборачиваясь, сказал тихо: – Ты со мной? – и пятками догадался, что пойдет не один, и подумал, что пятки давно уже не мешало бы пропарить и помыть, сиять нечистые наслоения, обнажить девственную розоватость, смыть страхи и сомнения, что, собственно говоря, одно и то же, и тем самым стимулировать их, пятки, к еще большей догадливости и догадаемости. Сосредоточенно думая о пятках, не увидел, как тигр, подойдя уже было к двери, вернулся туда, откуда пришел. Некоторое время, не моргая– и не шевеля усом и ухом, всматривался в неодухотворенные лица обглоданных гостей, а потом вдруг лизнул губы одного и другого шершаво, глаза стискивая до сахарных выделений, и опять побежал к Двери, к Нехову. – Только без сантиментов, – поморщился Нехов, хотя ничего и не видел, дверь раскрывая. И они вошли. О, да! В недлинный коридорчик, с лампочкой у потолка. В конце коридорчика имелась еще одна дверь и еще одна дверная ручка, за которую Нехов взялся, как всегда ощутив легкую приятность в горячем паху. И они вошли. О, йес! Там стоял свет и была комната, просторная и приветливая, с окнамиу потолка, с белыми лампами на каменных стенах, с массажными столами и с глубоким синим бассейном, и с людьми., двумя, которым некуда было бежать, когда вошел Нехов с приятелем, и которые и не собирались бежать, когда вошел Нехов с приятелем, потому что ни ухом, ни чем другим не слышали, как вошел Нехов с приятелем, – увлечены были массажем, беседой, хорошим настроением, недурственной перспективой и удовлетворением от выбранного ими. жизненного пути. Тот, кто лежал на массажном столе, был гол. А тот, кто массировал лежащего на массажном столе, был толст и тоже не одет, мать его. Он пыхтел, потел и пукал, сердечно отдуваясь и отплевываясь при каждом движении, когда вошел Нехов с приятелем. Штука, конец которой висел у самых что ни на есть колен толстого, раскачивалась грузно и угрожающе и со звонкими шлепками лупила его по жирным ляжкам, помогая ему забыть нелегкое азиатское детство и первую неудачную любовь, и вторую неудачную любовь, и третью, и четвертую… и сколько их там было еще в его недолгой жизни, этих самых неудачных любовей. Тот, кто лежал на массажном столе, глубинно постанывал под руками того, кто его массировал, и даже вскрикивал, и даже взрыкивал, и даже не плакал от чего-то там, что чувствовал под руками того, кто его массировал. А еще тот, кто лежал на массажном столе, в такт движениям того, кто его массировал, терся животом о массажный стол, извиваясь и клубясь, обхватив руками массажный, стол и не думая о прошедших годах. Нехов ткнул толстого массажиста стволом автоматической винтовки М-16 под мышку, и когда тот повернулся к нему с пьяноватым испугом на отекшем лице и посмотрел на него, все понял в одночасье и кивнул согласно, Нехов несколько секунд провозился, чтобы вытащить из толстого кончик ствола, который цеплялся и цеплялся мушкой за телесными складки и все никак не хотел выбраться. – Еще, еще, – просил тот, кто лежал на массажном столе, пока Нехов возился с винтовкой (придавленно кряхтя и про себя матерясь). – Еще, еще, сильней, давай, еще, еще, еще… – шипел змеино, отрешенный, почти неземной. Нехов жестом приказал толстому отойти в сторону, а глазами тигру, чтобы тот охранял его. Тигр ничего не понял, но охранять согласился, грустный, правда, почему-то и совсем невеселый, – лег на полосатый половичок неподалеку от массажного стола и, приглашая толстого, постучал мускулистой лапкой по запотевшему полу возле себя, коготки отточенные выпустив, док, док, цок, вздыхая и вяло облизываясь – с отвращением (видимо, к съеденному) и с жалостью (видимо, к съеденному – соотечественники ведь, можно сказать, как-никак, никак-как, рос он все-таки среди них, воспитывался среди них, то, се, пятое, десятое, а теперь вон оно как обернулось – нескладно), цок, цок по влажному полу, иди, мол, сюда, иди, толстенький, будешь под лапой тут у меня, под глазом, да и под зубом, сиди отдыхай, толщину набирай до следующего указания, если которое последует, должно, собственно говоря, лежи и лежи, и не спорь с теми, кто сильнее, а если хочешь поспорить, то не лежи, вставай, беги и дерись, если сумеешь встать из-под лапы, которая на мягком трясущемся бугре твоего живота покоится. Толстый лежал, конечно. Лежал. Нехов, думая, что неплохо было бы искупаться в синем бассейне; поплавать и понырять в удовольствие,– повизгивая и пофыркивая, себя не стесняясь и никого более другого, до дна темечком достать и вперед пятками впрыгнуть, положил лениво холодные пальцы на загривок лежащему на массажном столе, сжал их крепко раз-другой, движения толстого, того, кто массировал лежащего, повторяя. Лежащий вздрогнул, перестав шипеть, икнув, насторожившись, замерев, натянувшись, спросил приглушенно, мокрыми губами гладкой поверхности массажного стола касаясь: – Кто ты? – Ты знаешь… – усмехнулся Нехов, продолжая манипулировать пальцами на загривке лежащего– на массажном столе, нельзя же «прервать сеанс вот так резко – вредно. А Нехов всегда с большою любовью и уважением относился к окружающим его людям и никогда не хотел без причины наносить им вред. Это все знали, все, и прежде всего он сам! – Нашел-таки, – выдохнул лежащий на массажном столе, желая голову повернуть, на массажиста своего посмотреть, голову поворачивая, и на полпути поворота вис-. ком в жесткий неховский палец упираясь, – Это было несложно, – сказал Нехов, переходя с загривка на спину. – Я ведь искал тебя с удовольствием, А дело, которое делаешь с удовольствием, всегда несложно, как бы сложно оно ни было. – И где я ошибся? – Когда… – подсказал Нехов, сосредоточенно растирая позвоночник лежащему на массажном столе. Когда? – принял подсказку лежащий на массажном столе. – В тот самый день, когда родился. – Нехов неторопливо приступил к размятою копчика, высунув кончик языка. Работал. – Я это понял, когда увидел твою фотографию. У тебя лицо идиота. – Лежащий на массажном столе дернулся, но Нехов быстро прижал его голову к столу. – Ты не должен был родиться. Но ты родился. Значит, это ошибка. Твоя. Это же ведь ты захотел родиться, когда не должен был. Не должен ведь был, нет, взял да вылез, настырный. Тормознул бы себя там, в утробе, и помер бы. Вот это был бы поступок! Ведь я понимаю, каждый из нас уже там знает свое назначение. И ты знал его, знал, сука, я уверен, знал, и вылез! Трус! Дерьмо! Не мужик! – Лежащий на столе опять дернулся, и снова Нехов его лицо к столу придавил, губы и нос лежащего расплющил больно. – Не мужик, нет. И это не обсуждается. Ты знаешь, кто ты, лучше меня. Потому и не дергайся и не возмущайся, ты же понимаешь, что я прав, – Нехов опять терзал лежащему на столе спину. – Рассказать тебе, почему ты папашку своего замочил, гнида, рассказать? – Расскажи кому-нибудь другому, только не мне, – усмехнулся лежащий на массажном столе. – Только не мне. Вон выйди сейчас на улицу, найди кого-нибудь, кто ни о чем ничего не знает, и расскажи ему в правое ухо, нет, лучше в левое, ближе к сердцу, мать твою, хоть я не знаю, может, у него сердце будет с правой стороны, ну тогда в два уха расскажи, мать твою… Другому, понимаешь, мать твою, только не мне. Что ты, который ни хера обо мне не знает и знать не может, хочешь мне же обо мне же рассказать, мать твою, что?! Ты мне расскажешь, как я жил, где я жил, с кем дружил, в какую школу ходил, как мне ставили двойки и единицы, в то время как на самом деле я знал все предметы на «четыре» и «пять». А может быть, расскажешь, почему мне ставили единицы и двойки. Ты не знаешь! Ты не знаешь! Расскажешь мне, как моя мать читала мне Кафку и Джойса вместо того, чтобы читать мне чистые и светлые, и добрые русские сказки… А я так просил, так просил, «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве, жили-были…» А она плакала, но не читала. Расскажешь о том, как я стремился к настоящей большой и ясной любви, как я с распростертыми от души объятиями спешил навстречу своим одноклассницам… Расскажешь, как они зло и коварно смеялись надо мной, зло и коварно, как они нагло и дерзко лезли ко мне в трусы, и как ловко они воровали моих кукол. Расскажешь, как желая крепкой мужской дружбы, я предлагал свое сердце самым красивым и сильным мальчишкам своего класса… а они издевались надо мной, наряжая меня в девчонку и заставляя меня показывать им бесстыдный и развратный стриптиз. Расскажешь мне, как меня и мою старшую сестру поймали поддатые офицеры из штаба округа, как напоили нас и как заставили меня надругаться над моей же собственной шестнадцатилетней сестрой. Или про славные денечки, проведенные в училище, можешь мне рассказать? Как я два дня, например, висел привязанный руками к крюку в потолке в каптерке за то, что отказался отсосать одному пидору, шеф-повару нашей столовки, тоже мне можешь рассказать? – Господи, страсти-то какие, – пробормотал Нехов, жестко и часто пощипывая лежащему на массажном столе сыну полковника Сухомятова спинные мышцы, и добавил громче: – И ты до сих пор еще не понял, что твое рождение это твоя самая большая ошибка?! – Но ведь кто-то меня любил, любил, я знаю, – массажный стол остервенело бил сына полковника Сухомятова. – Меня любил отец. Я знаю. И я его любил, больше всего на свете любил. И значит, мое рождение не совсем ошибка, а? – Ошибка, ошибка, приятель, – подтвердил свои слова Нехов. быстрыми движениями разогревая сыну Сухомятова мышцы его молодых ног. – Ты посмотри, чем кончилась ваша любовь. Так что ошибка! Точно! – Я восхищался им. Он был сильный, смелый, красивый. – Сухомятов-младший, верно, и не слышал, что сказал ему Нехов, с собой разговаривал, не с Неховым. – Независимый. И как его за эту независимость били, мать твою, как били! Помню, однажды я застал его в ванной голым, с пистолетом у виска. Я заорал, как резаный, и тем спас его тогда. Вот так. Я любил его трогать, целовать. Любил смотреть, как он занимается зарядкой, мускулистый, гладкий, свежий. Любил смотреть, как он моется, любил разглядывать его мокрого, когда вода ручьями бежит по смуглому блестящему телу и кажется, что каждый кусочек тела живет сам по себе, живет своей отдельной жизнью. Когда наша армия вошла в эту страну, в свободную страну, красивую и добрую, я заплакал. И плакал еще три дня и три ночи. А потом, когда я узнал, что отец тоже уехал туда воевать, да еще добровольцем, я умер на три дня и три ночи. И вернулся к жизни уже другим. Теперь я ненавидел моего отца, моего Бога. Он – единственный, кого я любил, единственный, кем я жил, предал меня. Он оказался подлецом. Он оказался мерзавцем, он оказался сучьей тварью, он оказался недое…м ублюдком, он оказался крутомирлатухийским пиздотравкером сумуратобанным. – Сухомятов-младший раздавил губу о зубы и красной кровью теперь с нескрываемым неистовством пачкал массажный стол. – Он не должен был сюда приезжать. У него была иная миссия в этом мире. Он должен был созидать. А он убивал. Убивал людей. И не только местных, но и своих соплеменников, своих сослуживцев. – Он убивал предателей, – поправил его Нехов, массируя теперь лежащему пятки. – И я убил предателя, – просто сказал Сухомятов-младший. – Но не предателя Родины, а предателя жизни, предателя нравственности, предателя добра, любви… и предателя себя и всех и вся и всяческого всякого и себя еще раз и еще и еще и еще и еще не единожды и даже очень много-много раз. Он не должен был сюда приходить, в эту страну, добровольцем и угнетателем, и более того и еще более того, грязным и отвратительным убийцей. У него было другое предназначение в этой жизни – быть примерным, достойным подражания, быть добрым, сильным, благородным, справедливым Богом. И в то же время быть просто человеком, беззаветно и обильно и одновременно бескорыстно любящим меня, того, кого никто и никогда, кроме него, не любил и любить не будет. Не спорь, я знаю, и ты знаешь, и ты знаешь. Хотя, наверное, ты и не собирался спорить, потому что ты и вправду это знаешь. И знаешь лучше меня, что не будут любить, не любить будут… Да, да, да. И еще он предназначался для любви моей – высокой и возвышенной – совсем не низкой и не низменной, – той, которая ведет к счастью и подвигу, которому всегда, как ты знаешь лучше меня, есть место в жизни… – И чтобы оправдать себя перед собой, – Неход душевно похрустывал ступней Сухомятова. – Что, мол, не месть руководит тобой, не страх и не обида, а стремление к высшей справедливости, стремление к освобождению угнетенного народа, ты встаешь под знамена местных сопротивленцев и делаешьперед собой вид, что борешься с угнетателями вообще, а не с отдельным человеком конкретно. – Я не делал вид! – возмутился Сухомятов-младший, не соглашаясь ни с кем, и тем более с собой. – Я так думал и я так думаю. Я боролся за свободу. Я боролся за независимость маленькой, но гордой страны, а отец – это лишь эпизод, да! – А может, все было иначе, проще и грубее? – Нехов приступил к работе над пальцами на ногах Сухомятова-младшего. – Ты еще в детстве испытывал к отцу странное чувство, которое не мог себе тогда еще объяснить и которое тогда еще умел подавить. С каждым годом это чувство прогрессировало. И на каком-то определенном возрастном этапе это чувство оформилось и приобрело конкретные очертания, и в конце концов ты понял, что же это такое за чувство, и с тех пор, как ты это понял, подавлять тебе это становилось все труднее и труднее. Помимо твоей воли, вопреки твоей воле, оно овладевало тобой все больше и больше, и в один прекрасный день ты сделал попытку сблизиться с отцом, сексуально сблизиться, проще говоря, ты не смог устоять перед страстным и обжигающим желанием трахнуть своего отца… – Нет, нет! – закричал Сухомятов-младший, прожигая дыханием массажный стол. – Нет! Нет! Нет!… – С изумлением, страхом и болью отец, конечно, отверг твои домогания, – продолжал Нехов, не прекращая растирать Сухомятову-младшему пальцы его ног. – Отверг, несмотря на твою мольбу, твои слезы, твое унижение и наконец твои угрозы. И ты озлобился. Ты налился ненавистью и одновременно нечеловеческой решимостью вопреки всему совершить то, что требовал твой изначально испорченный организм, И ты приехал сюда вслед за отцом. И тоже добровольцем, как мы с тобой знаем. Я подчеркиваю, тоже добровольцем. Это важно. Если ты не готовился сделать то, что сделал,, то почему ты пришел сюда добровольцем? Ты же,.как ты только что говорил, презираешь вторгшуюся в эту страну армию, а тем более служащих в ее составе добровольцев. Так почему? – Нет! Все не так! Не так! – стонал Сухомятов-младший и крошил зубами край массажного стола. – Все так, – печально кивал головой Нехов и бережно, едва касаясь ладонями кожи, гладил от макушки до пяток сильное и мускулистое тело Сухомятова-младшего, таким образом завершая массаж. – Все так. В заднем проходе полковника Сухомятова патологоанатомы обнаружили сперму… Ты пришел к нему вчера и вновь потребовал близости, и он вновь отказал, ужаснувшись, и ты убил его. А меня ты вызвал только для того, чтобы работавшие на Сахида люди из контрразведки республики не сообщили ему, что ты убил отца только для того, чтобы трахнуть его, Сахид ведь был патриотом настоящим. Ты сказал Сахиду, что хотел убить и меня. Но тебя спугнули. – Нет! Нет! Нет! – визжал Сухомятов-младший, сплевывая изо рта щепы и стружку. – Я не есть такой. Это все навет. Скандал. Грязные измышлишки. Куда ни кинь взгляд – везде прах и смута, и мута, и хута, и бута, и дута. Я честный и чистый – кричал, кричал, кричал, раскаленный до красного, и дымился и пах. – Доннерветтср! Вашу мать! Никто не видит то, что надо видеть, а все видят то, что не надо видеть, матка боска! А ведь я не тот, что все, – другой, хуже, лучше, Готт его знает, но другой. И я никогда не прятал себя. Да! Я раскрывался и показывал. Но никто опять не видел и не желал видеть! Твою мать! И я печалился. И забывая о хорошем, засыпал во сне, принимая не все как есть, а как я хочу. И это было неверно! И это было не так! Надо было искать путь, на котором хорошо, на котором спокойно, на котором не думаешь о смерти, а если и думаешь, то не страдаешь от того, что она будет, просто знаешь, что она будет, и все. И тогда жизнь как жизнь. Смеешься с удовольствием, злишься с удовольствием, плачешь с удовольствием," унижаешься с удовольствием, в закрытую дверь бьешься с удовольствием, и когда она открывается, думаешь: «Какое счастье!» Я теперь только понял, что надо так, надо от нутра своего, от себя чистого отталкиваться надо, да, а не от мыслишек-мудишек и не от эмоций, не от радости, печали, страха, скуки и всякого другого, которого не перечислить, хотя перечислить хотелось бы. И не от х… своего рыжего и непослушного, никак не от него, никак, никак. А как? А как?… – кричал, кричал, кричал, раскаленный до белого. – А трахал я отца своего убиенного или нет, это установить не трудно. Но я тебе скажу прямо – не знаю. Не то чтобы не помню, просто не знаю! Нет! – Я не испытываю ненависти к тебе, – Нехов осторожно погладил Сухомятова-младшего по коротковолосому влажному затылку. – И более того, даже не осуждаю тебя. Ведь то, что случилось, уже случилось. И мы не можем уже вернуть те мгновения и предотвратить то, что случилось. Ведь так? А потому, какими бы ты мотивами ни руководствовался, я не могу их ни осуждать, ни восхищаться ими. Это бессмысленно и глупо, и нелепо. Мне просто надо было знать их. Как факт. Без эмоций и без оценок. – Нехов с неохотой убрал руку с затылка Сухомятова-младшего. – И тем не менее я должен убить тебя. – Нехов не без труда достал из-под руки свой тяжелый отбойный револьвер. – Ты понимаешь это? – Да, – тихо ответил Сухомятов-младший, грустно хлопнув ушами. – Должен, – повторил Нехов с нажимом. – Да, – еще раз подтвердил Сухомятов-младший, звучно царапнув ресницами подгоревший массажный стол. Нехов взвел курок. – Просьбы, – предложил буднично. – Пожелания. – Я хочу увидеть твое лицо, – попросил Сухомятов-младший, позвенев ноздрями. – Нет, – ответил Нехов. – Что-нибудь еще? – Это моя последняя просьба, – Сухомятов-младший поцеловал массажный стол, прощаясь с ним. – Это мое последнее желание. Дай мне посмотреть на тебя, Я совсем не помню твоего лица. Сделай это, – он усмехнулся неожиданно. – Прояви добро, если оно тебе по силам. Ну, если не добро, то сострадание по крайней мере. – Я проявил, – заметил Нехов, на мгновение приложив холодный ствол револьвера к своему лбу. – По-моему, тебе грех жаловаться на свои последние минуты. Я квалифицированно отмассировал тебя. Дал тебе возможность выговориться. Уверен, что упрекнуть меня не в чем. – Лицо! – взмолился Сухомятов-младший, выдыхая из-под себя невесомый пепел от все еще тлеющего массажного стола. – Нет! – сказал Нехов. – Но почему? – Сухомятов-младший зубами выгрыз углубление в столе и устроил в этом углублении свой нос. – Прощай, – Нехов быстрым движением приставил ствол к затылку Сухомятова-младшего и выстрелил. Верхняя часть лица Сухомятова-младшего оторвалась от его головы, взлетела к потолку, потом покружилась какое-то время по комнате, расплескивая кровь и мозга по сторонам, и упала наконец на пол, развалившись на полу на несколько неровных грязно-бурых кусочков – где брови, где глаза, где переносица – не понять… Нехов стоял, как был, и не думал ни о чем таком, что сейчас смогло его стронуть с места, заставить что-то делать, месить, допустим, лицо, которое он не хотел показывать Сухомятову-младшему и не показал как случилось, или заламывать, к примеру, руки, защищаясь от собственной силы и от исключительности совершившегося или пасть на колени и просить прощения у Великой Жизни, которая так же могуча, как и Великая Смерть, или пустить из глаз соленую мокроту, в которой скопится все то, от чего организму так необходимо избавиться в данную конкретную минуту, или, например, опорожниться по большому и малому счету, тем самым создав себе условия для легких и необременительных тело– и других движений, или еще для чего-то другого, о чем он и не подозревал до той самой секунды, пока это не произошло бы, или подрыгнуть и сделать лихую арабеску, которую он изредка в самый неподходящий момент любил делать, или в конце концов сделать что-то еще, о чем он мог только догадываться или непосредственно мечтать не в самых смелых своих мечтах. Нет, Нехов просто стоял, как был, и ни о чем таком не думал… И потому, конечно, не видел, когда стоял и ни-о-чем-таком-не-думал, как тигр, который в это, прошедшее с минуты его прихода с Неховым в массажную комнату и взятия под охрану толстого массажиста, время обыкновенно лежал и вовсю глядел, не моргая, на толстого массажиста, чтоб тот не шевельнулся, не крикнул и не пукнул, вдруг, после того как раскололась на полу верхняя часть лица Сухомятова-младшего, закрыл глаза секунды на полторы, что-то проворчал тяжело и хрипло, рта зубастого не раскрывая, а потом снял лапу со вздрагивающего живота толстого массажиста, подтянул этой самой лапой брошенную Неховым неподалеку лежавшую американскую армейскую винтовку М-16, уже взведенную и готовую к бою и, неуклюже манипулируя беспалыми лапами, поднял ее, сунул ствол ее себе в рот и, нащупав коготками спуск, нажал его. Ба-бах! Вошедшая в рот пуля вылетела у тигра меж ушей – из скользкой бордовой, размером в полураскрытый тигриный рот, дырки – и ушла со свистом в потолок, откуда вскоре и посыпались Нехову на непокрытые его волосы мелкие осколки каменного потолка, и именно точь-в-точь, как ни странно, о того места, куда как раз и попала пуля, вылетевшая из мертвой уже на тот момент красивой тигриной головы, И Нехов, удивительно, тотчас, как только осколки посыпались на него и он это почувствовал, перестал не думать ни-о-чем-таком и подумал о том, что за хреновина тут такая произошла, и кто стрелял, мать вашу? Так прямо и подумал, мать вашу! И обернулся, конечно, тренированно, во время поворота сгибая пружинисто колени и приседая к полу. И обнаружил за спиной всего лишь только мертвого тигра с американской винтовкой в лапах, а не кого-то там другого – более разумного, – кто мог бы в него, в Нехова, стрелять, и если так суждено было бы, то и попасть в него, в живого. Присев возле тигра, Нехов пощупал у него пульс и, убедившись, что тигр действительно лишил себя самого важного, что составляло его жизнь, то есть самой жизни, сказал тигру, и очень искренне и неподлинно горячо, морщась, и зачем-то придавливая сухими пальцами веки, сказал, что ему очень жаль, очень жаль, жаль очень, что так вышло все паршиво и что он не может совершенно понять, почему тигр принял такое для себя решение, и что же послужило поводом для этого, что, что, что, что, что, что? Сказал, а потом поблагодарил его или. его дух, который, конечно, еще присутствовал неподалеку, за то, что тигр очень здорово помог ему сегодня, и вообще помог и на будущее, Нехов был в этом уверен, хотя чем помог он, еще не знает, еще не разобрался, но то, что помог, был точно уверен, точно. Прежде чем подняться, Нехов поцеловал тигра в висок и закрыл ему глаза и пасть. Встал, выпрямляясь, решая, искупаться ему все-таки в манящем синем бассейне или погодить, на завтра оставить это удовольствие. Пока решал, наблюдал за толстым массажистом, который тем временем, пока Нехов решал, медленно, но упорно, испуганно вскрикивая, полз в направлении бассейна. «Эй!» – позвал его Нехов, чем еще пуще подстегнул того, и тот быстрее заработал руками и ногами и через совсем короткое время с отчаянным стоном свалился в бассейн, нырнул затем на самое дно, сел там и, повернувшись к Нехову, стал смотреть на него водянисто и без осуждения. Нехов же, обеспокоенный, подошел к краю бассейна и принялся звать массажиста, иди сюда, мол, иди, чего ты, не трону, мол, тебя, на хрена ты мне нужен. А массажист все сидит и сидит на дне и только жиром шевелит, то там, то тут, то тут, то там. Нехов жестами тогда стал его звать. Показывал, шуруй ко мне, мол, видишь, Руки у меня пустые. А массажист ни в какую – упорный, только белками краснеет, измученный. Нехов, конечно, в какое другое время нырнул -бы в бассейн, чтобы массажиста спасти, нырнул бы точно. Но сегодня он решил в бассейне не купаться. А от решений своих он никогда, как ему казалось, не отказывался. Потому и не стал он нырять бассейн, чтобы массажиста спасти. А тот уже совсем загорается – глаза пьянеют, волосы в узелки завязываются и довершение всего язык уже вываливаться из-за губ на чал. И тут только Нехов догадался, что ему просто уйти надо из комнаты, и тогда массажист выйдет, конечно же, из бассейна, и не надо его будет спасать совсем. Сам себя он спасет, как любой обыкновенный(,утопающий. И Нехов отвернулся от бассейна и массажиста и, подхватив американскую винтовку из холодеющих уже лап жизнелишенного тигра, пошел к двери скоро и не торопясь. У порога уже услышал шум за спиной в бассейне. Оглянулся. И к скорби своей непередаваемой увидел всплывшего толстяка, И подумал, в который раз уже, глядя на мертвого массажиста, что страх хуже смерти, так. И не знать этого нельзя, хотя не осознавать можно. Жизнь без страха, наверное, не жизнь, подумал после. Но жизнь со страхом – смерть. В чем он сегодня в который раз и убедился. Не вздыхая, вышел в мыльный зал. Распотрошенные бородатые не произнесли.ни слова, пока он пересекал зал. И вслед ничего не сказали, скромные. А в раздевальном зале его ждали те, о которых он уже забыл, но которым обрадовался, когда их увидел. И не просто обрадовался, а взбодрился исключительно. Плечи расправив, глазом заблестев. Или ему так только показалось? Показалось, скорее всего. Конечно. Когда Нехов вошел в раздевальный зал, связанные им немного ранее по рукам и волосам и белая и небелая длинноногие и малоодетые женщины сидели спина к спине посреди зала, касаясь друг друга связанными затылками, и по очереди плевались в сторону соседки, вверх глубоко запрокинув лицо, то та, то другая. Одна плюнет – другая пытается увернуться, другая плюнет– – и первая пытается увернуться. Восклицали при этом после попадания или непопадания, или та или другая: «Двадцать шесть – двадцать четыре в мою пользу», – и на местном, конечно, языке, который Нехов, конечно, понимал. «Двадцать семь – двадцать четыре в мою пользу». Заплеванные плюющиеся были не сухие, но обольстительные. И Нехов, конечно, развязал им волосы и руки и, конечно же, расцеловав их обеих истово и затем разделся стремительно и, не позволяя им смыть плевки над питьевым фонтанчиком, свалился с женщинами на мягкий и низкий, и широкий диван, стоящий посреди зала, и, по-тигриному рыча и взрыкивая, удивляясь своего голоду и своей силе, возбуждая себя почему-то не применяемыми в официальных документах и газетах и журналах, но тем не менее совершеннейшими и исключительно необходимыми для русского человека словами, разрешил себе доставить, не забывая при этом и о разноцветных женщинах, самое высочайшее на земле наслаждение, по ощущениям чем-то отдаленно напоминающее наслаждение от в срок и профессионально выполненной любимой работы. Через продолжительное время он оставил измученных женщин отдыхать на широком и удобном диване, а сам, подойдя к фонтанчику, сполоснулся весь с головы до ног, тщательно смыв пот и плевки, оделся, разумеется, и через дверь, как полагается, вышел в свет, туда, где было солнце, небо, воздух, вода, вино, облака, комары, ветры, песок, змеи, божьи коровки, орлы и куропатки. – Сегодня отличный день для жизни, – сказал он, надевая темные очки.МИР
…Да, я вспомнил все. Все, до мельчайших подробностей, И слова. И жесты, и мысли. И чувства. И свои. И тех, кто был рядом. Свои – полностью. Не свои – только те, до которых умудрился добраться. Память наша способна вместить весь мир, Если только мы этого захотим. Я хочу. Я хочу обладать информацией всей Вселенной. Я хочу прожить миллиард жизней, Я хочу прожить свою жизнь. …С усилием, – с каким только мог, и на какое только был способен, и какое только себе представлял, когда спрашивал себя, что же я м о г у, – кряхтя, крича и плача, матерясь и свирепея, я сумел-таки протащить к себе, вперед, сцепленные за спиной наручниками руки, через свой зад, через свои ноги, поближе к глазам, поближе к сердцу, рыча и скуля, как подрубленный капканом волк. И не развязал – разорвал затем веревки на ногах, отбросил их с хриплым выдохом в сторону, и попытался встать… Встал, но удержался на ногах с трудом. Ноги затекли настолько, что забыли, что им надо делать, что забыли, зачем они выросли. Но это были мои итоги, и я должен был их заставить вспомнить. Я их массировал, я их бил, я стучал ими об пол. И они откликнулись, наполнились кровью, загудели, готовые к работе. Я отошел к дальней стене комнаты, сосредоточился и с разбега врезался в дверь. Дверь дрогнула, но устояла. «Я должен», – сказал себе. И снова набросился на дверь. Тщетно. Конечно, мне было трудна высадить се – дверь была крепкая, сантиметра четыре в толщину, как я помнил, и что самое скверное, открывалась она во внутрь, а не наружу. «Я должен», – снова сказал я себе. Дверь подалась наконец. Во всяком случае я не без удовольствия услышал, как хрустнул косяк Я опять отошел к стене и, собираясь, прислонился к ней пульсирующим болью затылком. «Чем это, интересно, Рома двинул меня? – подумал я. – Наверное, полупустой бутылкой виски». Точно, это было виски… Я вспомнил наконец, чем же пахло в комнате, когда я очнулся. Пахло виски. Ах, какой же ты, Рома, бесстыдный! Зачем ты ударил меня бутылкой виски? Мог бы ударить меня чем-нибудь другим. Вазой, например, или телевизором, или стулом или настольной лампой, или кулаком в крайнем случае, в конце-то концов. Но бить бутылкой виски – значит, совсем не уважать свое высокое звание российского офицера. …Я собрал всего себя в одну точку – в левом плече. Я оттолкнулся от стены. Я оттолкнулся от пола. И с криком «рванулся к двери. И дверь сдалась. Со звоном, стоном и треском, с писком и щенячьим подвыванием оторвалась она от стены и, вместе с частью косяка, с. той частью, в которую входил язычок замка, повисла на наполовину выдернутых петлях. Покачиваясь, как на ветру, я вылетел из комнаты и воткнулся головой в автомобиль Ники Визиновой. С сухим шипением разлетелось стекло боковой дверцы. За последние несколько часов что-то чересчур часто и крепко достается моей голове. Наверное, умный я очень, чрезмерно, гипертрофированно умный, сногсшибательно умный, и кому-то это не нравится. Я засмеялся, потирая лоб. Понравится, мать вашу! Или я не Антон Нехов… А я ведь на самом деле Антон Нехов. Так, теперь вперед, теперь наверх. Теперь спасать мальчишку. Я даже не хотел думать, что они успели уже с ним сделать. Я заставил себя поверить, что с ним все в порядке. С ним должно быть все в порядке. Иначе что-то изменится в этом мире, что-то нарушится, что-то разрушится. Потому что, я был уверен в этом я знал это), Мика – представитель качественно новой генерации, наделенной от природы возможностями, которые нам даже еще и не снились. Я не говорю о телепатии, ясновидении, я говорю о мировоззрении, о четком и ясном (уже в таком возрасте) понимании своего места в этой жизни и на этой Земле, а может быть, и не только на Земле, об умении влиять на людей, об умении подчинять их и об умении, заставлять их себя не только бояться, но и уважать и любить, я говорю о высшем знании, в которое, я уверен, уже посвящен мальчик Мика… Что-то разрушится в этом мире, если с Микой случится что-то скверное. Он должен жить. И он будет жить. Я не успел подойти к двери из гаража, как услышал выстрелы. Они раздавались не из дома, а с улицы. И еще я услышал шум автомобильных моторов и чьи-то возбужденные голоса. Я повернул голову к гаражным воротам; Сквозь щели пробивался свет. Видимо, автомобили фарами осветили дом. И я подался тогда к воротам. И прильнул к щели между стеной и железной створкой. Свет фар, направленный «а дом, слепил. Но, прищурившись, я все-таки разглядел кое-что. Во дворе дачи стояли три машины – два «Мерседеса» и одна «девятка». «Возможно, контора, – подумал я, – а возможно, и нет. А если не контора, то кто? Плохие ребята? Приехали на разборку и перепутали дачи? Бывает». Возле машин сновали люди. Я различил в их руках оружие – у кого пистолеты, а у кого, и автоматы, короткие, скорее всего, «узи», или «Скорпионы». Серьезная экипировка. И опять я услышал выстрелы. Стреляли из нашего дома. Люди, что были у машин, пригнулись, заметались и нырнули за автомобили, ответили несколькими короткими очередями. Но вот наконец все стихло. Слышно было, как стрекочет кузнец, устало и без охоты, как шевелятся пальцы у меня в кроссовках, как перешептываются тс, кто спрятался за автомобилями. «Ника, – остановив тишину, крикнули из-за машин, – Ника, ты там?» Женщина. Кричала женщина. «Кто бы это мог быть? – спросил я себя, – догадайся с трех раз». Я усмехнулся. А я уж надеялся, что больше не увижу тебя никогда. Суку. Значит, все-таки зря я тебя не замочил тогда, в твоем сраном Доме моделей. Значит, зря я пачкал свой нежный и тщательно вымытый член в твоем вонючем влагалище. Ни. хрена ты не поняла, пакостная, зловонная тварь! Бойницкая снова крикнула: «Ника, Ника, любимая, славная моя, ответь мне, не бойся, ответь, милая. Неужели ты забыла меня? Я не верю в это. Ника, Ника… А может быть, ты боишься этого подонка, который отнял тебя у меня? Так я скажу тебе, любимая, не надо его бояться. Мы убьем его. Мы изрежем его на кусочки. Мы изжарим его и съедим. – Бойницкая засмеялась нарочито громко. – Ника, Ника, ответь…» Это она про меня, сука. Подонок, который отнял у нее Нику, – это я. Ну, это понятно. Непонятно другое. Почему она так неграмотно ведет себя? Если бы она хотела действительно получить Нику, она бы никогда не стала бы заявлять, что убьет меня, она, уверен, предложила бы иной вариант. Она наверняка обратилась бы ко мне самому. Она сказала бы: «Отпусти Нику. И мы не тронем тебя». А она не сказала так. Значит, ей нужна была не только Ника, ей нужен был еще и я. А может быть, и в первую очередь, ей был нужен именно я. Только я, и никто другой. А на Нику она уже плюет. На Нике она уже поставила крест. И решив так, я почувствовал облегчение. Отвечать только за себя – вот чего всегда мне хотелось в этой жизни. Но никогда не удавалось. Мне всегда нужно было кого-то защищать, кого-то спасать, о ком-то заботиться, кого-то поучать, кого-то жалеть, кого-то поддерживать, кого-то подбадривать, кого-то любить… Но облегчение нынешнее, понятное дело, было временным – секундным. Разумеется, я не освободился от ответственности за других. Во-первых, я должен был вытащить из всего этого дерьма мальчишку. А во-вторых, я, конечно же, мог ошибаться относительно замыслов Бойницкой. И ей, конечно же, нужна была Ника. И совершенно не нужен я. Не исключено, что Бойницкая просто самая обыкновенная дура, и сама не понимает, что творит. Ничто не исключено в этом мире, даже самое исключительное. Мне смешно. И я смеюсь. Я всегда смеюсь, когда мне смешно. Я выбежал из гаража, поднялся в прихожую. Свет на первом этаже был погашен. Но тем не менее я мог различить все, что находилось вокруг – мощные автомобильные фары со всех сторон освещали дачу. В саду, как я понял, тоже стояла машина. Или машины. Крепко взялась за нас эта сука. Минимум четыре машины были задействованы в нападении. А это значит минимум двадцать человек сейчас работали против нас. Много, Но не настолько, чтобы заставить паниковать двух бывших боевых офицеров. Я вбежал в гостиную. Сухо протрещал автомат. С тонким звоном пули высадили стекло из окна. Я машинально рухнул на пол. Рядом с моей головой грохнулась огромная хрустальная люстра. Я услышал, как заматерился Рома и как он четыре раза олень быстро выстрелил из своей «Беретты». Кто-то там за окном заорал зверино, а потом захлебнулся своим же криком и запищал тонко и обреченно. А Рома захохотал торжествующе тогда и выстрелил еще разок, для острастки. И за окном в тот миг поднялся угрожающий вой. И громче всех заголосила Бойницкая. Видно, не ожидали Бойницкая и ее ребята, что первым в этом неравном бою падет кто-то из них. А следовало бы ожидать, когда собираешься иметь дело с профессионалами. Хотя, впрочем, откуда они могли знать, что мы с Ромой профессионалы? И откуда они, ко всему прочему, могли знать, что, кроме меня и Ники, здесь, на даче, еще наличествует и Рома? Не могли, конечно. Да… И откуда они вообще, собственно говоря, узнали, что мы с Никой именно здесь? Хотя, впрочем, получить такую информацию они могли откуда угодно. От Никиной тетки или от соседей, которые наверняка знали, что у Ники есть дача. Да и сама Бойницкая могла знать об этом. Я не уверен, что Ника не рассказала ей в порыве любовных чувств многое о себе. Рассказала, а потом забыла, что рассказала. Так бывает. Я знаю. Над моей головой зазвенели колокольчики. Совсем близко. Совсем рядом. Это в моих ушах, наверное, зазвенели колокольчики. Я настороженно хмыкнул. Видимо, я схожу с ума. Видимо, начались галлюцинации. Но не надо паниковать, приказал я себе. Сумасшествие – не всегда плохо. Иногда оно единственный выход из сложившейся ситуации, и не самый худший, как мне кажется. Я оттолкнулся руками от пола и сел. И засмеялся тихонько. Звенели не колокольчики, нет, звенели хрустальные подвески на полуразбитой люстре. «Значит, я пока еще нормальный», – без особой радости, но и без сожаления, слава Богу, подумал я. Быстро встал. Огляделся. Я увидел Нику на диване. Я увидел мальчика Мику, там же, на диване, – под Никой. Я перепрыгнул через кресло, через журнальный стол. Я схватил Нику за плечи и дернул ее на себя. Ника свалилась с дивана. Упав, она зашипела и ударила меня каблуком по щиколотке. Я вскрикнул от неожиданности. Я оттолкнул Нику ногой. Она отъехала от меня на полметра по лакированному полу, что-то зло бормоча и свирепо вскрикивая. Только сейчас я обратил внимание, что платье у Ники задрано до самой талии, и что на бедрах у нее отсутствуют трусики. Я перевел взгляд на мальчишку. На Мике тоже не было трусиков. На Мике вообще ничего не было. Мика лежал голым. Руки его были связаны. И ноги его были связаны. Глаза он закрыл, а рот, наоборот, открыл. Маленький член его свалился набок, а мягкая мошонка сморщилась, как от мороза. Член походил на крупного дохлого червя, и смотреть на него было противно. Я похлопал Мику по щекам. Но глаз Мика не открыл. И рта Мика не закрыл. Мика был без сознания. Что-то они с ним сделали, мать их. Что-то они с ним сделали. (Наверное, ударили, чтобы не кричал. Наверное.) Я прощупал у Мики пульс на шее. Сердце билось. Слабо. Но ритмично. Мика не умирал. Но был без сознания. В открытое окно впорхнула горящая тряпка. Большая. Воняла бензином. И горелой тряпкой. Я кинулся к тряпке и затоптал ее. Рома выстрелил ровно три раза в окно. В комнате стало темней. Рома, судя по всему, разбил три фары. Осталось еще три. В окно влетел камень, упал на пол. Я метнулся к камню, склонился над ним. Камень оказался обыкновенной лимонкой. Я хохотнул и отшвырнул лимонку ногой в коридор и, развернувшись, прыгнул на Мику и полностью накрыл его своим телом. «Ложись, Рома, мать твою!» – крикнул я. Громыхнул взрыв. Застучали осколки по стенам и по потолку коридора. Но вреда осколки нам не принесли – лимонка разорвалась за стеной. Я зубами развязал Мике веревки на руках и ногах. Развязывая, краем глаза ухватил, что ко мне приближается Ника. В руках у нее была большая, напольная ваза. Вот чем надо было бить меня, Рома, а не бутылкой с виски. Я повернулся к Нике и, не дожидаясь, пока она замахнется, коротко и резко ударил ее снизу в подбородок. Ника охнула и свалилась на пол. Ваза тоже упала. Не разбилась. Покатилась по полу. Стукнулась об остатки люстры. Снова зазвенели колокольчики. Простучала автоматная очередь. И еще одна, и еще. Я хотел подойти к Роме и сказать ему, чтобы он снял с меня наручники, но в тот момент в окно кто-то прыгнул, – кто-то здоровый с пистолетом в руках. Рома тотчас остановил его выстрелом. Человек начал медленно оседать. Я услышал, как еще кто-то карабкается в окно напротив. Рома крикнул мне: «Пригнись, мать твою!» Я пригнулся. Рома вытянул руки с пистолетом. Но выстрела не последовало. Глухо звякнул боек. У Ромы кончились патроны. Рома, не растерявшись, тотчас подхватил падающего человека и загородился им. Раздались два выстрела, и две пули ввинтились в повисшее на руках Ромы неподвижное тело. Из раны, блеснув маслянисто в свете фар, вяло плеснула кровь. Рома вырвал из руки своего импровизированного щита автомат и полоснул длинной очередью в сторону стрелявшего. Того отшвырнуло назад, будто кто очень сильный ударил его в грудь. И он упал на пол, грузно и неуклюже. Рома отпустил защищавшее его тело. И оно свалилось мешком Роме под ноги. Я поднялся и, вытянув вперед руки с наручниками, подошел к Роме. Рома достал из кармана плаща ключ и отомкнул мне браслеты. Я отшвырнул наручники куда-то вбок. Они тихо звякнули, ударившись о стену. «Как ты выбрался оттуда, мать твою?» – обильно сплюнув на лежащее под ногами тело, спросил Рома. Вместо ответа я без замаха, очень резко ударил Рому в основание носа. Голова у Ромы запрокинулась и сам он, едва удерживая равновесие, отступил на два шага назад. Остановился, схватился за нос, несколько секунд стоял так, зажимая ноздри пальцами, потом сказал вполголоса: «Их много. Долго не продержимся. Надо отдать им девку. И пусть откатывают». «Я люблю ее, Рома», -сказал я. «Ну и мудак», – определил Рома. «Она такая же, как и мы с тобой, Рома. Как ты и я. Она наша, Рома. Мы не можем отдать ее». Рома пожал плечами, помассировал ладонью нос, опять пожал плечами и сказал; «Тогда работаем, мать твою! – и добавил негромко: – Хотя я бы отдал ее…» Пока Рома перезаряжал свою «Беретту», я поднял мальчишку и понес его к выходу из гостиной. Я опустился вниз, в гараж, завернул Мику в найденный там брезент и положил все еще не пришедшего в сознание мальчика на заднее сиденье автомобиля Ники. Поцеловав Мику в лоб, я покинул гараж и побежал наверх, за своим любимым револьвером системы Кольта. Я вынул его из-под подушки, проверил в нем наличие боезапаса, достал из-под кровати спрятанные там две коробки патронов, высыпал патроны, в карманы куртки и джинсов и хотел было уже выйти из спальни и спуститься вниз – вернуться на помощь Роме и поработать, как подобает, как давно-давно не работал, вспомнить, что я кое-что умею, и неплохо, мать мою, умею это кое-что; хотел было уже выйти… И не вышел. Лишь ногу занес над порогом, лишь тело наклонил вперед, чтобы ступить на эту ногу… Оглушающий грохот раздался за моей спиной. Что-то влетело в окно или кто-то влетел в окно, разнеся стекло, как я понял, на мелкие куски. Я нырнул вперед и вниз – к полу. В нескольких сантиметрах от пола я развернулся и, держа револьвер двумя руками и еще не видя цели, выстрелил три раза – наугад, – туда, где, по моим представлениям, должно было находиться это что-то. Я попал. Я видел, что я попал. Человек (а это был все же человек) свалился прямо на меня. Выбив из моей руки револьвер, он плотно придавил меня к полу. Я быстро спихнул с себя тело, вскочил на ноги, огляделся в поисках револьвера, подобрал его и только тогда взглянул на того, кто упал на меня. Молодой, крепкий, черноволосый парень. Он был уже мертв. Одна из пуль моего Кольта пробила ему переносицу, ушла в мозг и оторвала часть затылочной кости. Я нахмурился и отвернулся. Много лет прошло с тех пор, как я почти каждый день видел такие раны. Открыв глаза, я метнулся к стене и, прижимаясь к ней, добрался до разбитого окна. Кончик длинного шеста торчал из окна. Сантиметров на пятьдесят выступал он над карнизом. Значит, мне не показалось, что убитый мной парень летел. Он действительно летел. Его забросили в окно с помощью этого шеста. Такой шест, как правило, применяют спецподразделения милиции или. армии при штурме многоэтажных зданий. Несколько человек с разбегу поднимают шест, и один из бегущих, уцепившись за самый конец шеста, подбирается к окну. Только на сей раз шест был применен неверно. Парень, насколько я понял, с помощью шеста не поднимался, а просто-напросто прыгал. Он летел. И я убил его в полете… Я оттолкнул шест и тотчас пригнулся. Автоматная очередь прошила стену напротив окна. Я почувствовал, как пот заливает мне глаза. Я смахнул влагу со лба. Я протер глаза. Я вообще вытер насухо все лицо – руками и рукавом свитера. Очень приятно, когда у тебя сухое лицо. Не в смысле сухое – худое, а в смысле – не мокрое. Когда у тебя сухое лицо, ты сразу же успокаиваешься и на происходящее начинаешь смотреть отстраненно, будто все, что с тобой происходит, происходит на самом деле не с тобой, а с каким-то твоим не очень близким знакомым, на которого тебе, собственно, глубоко плевать по большому счету. И тогда ты тотчас же начинаешь мыслить трезво, легко и очень быстро. Ты сразу представляешь, что тебе надо делать. Мне, допустим, сейчас надо спуститься вниз и провести с Ромой какой-нибудь нехитрый отвлекающий маневр – например, с помощью автомобиля Ники, – и забрав Нику и мальчика,.что есть силы бежать отсюда – куда угодно, хоть к чертовой матери, но бежать. Я вышел в коридор. А машину можно, например, использовать таким образом: поджечь ее, бросить в нее побольше патронов и выпустить ее на всех газах из гаража. Вот потеха будет. Я рассмеялся,… И замолк тотчас. Потому как услышал у себя над головой чьи-то шаги. Сукины дети, они уже добрались до чердака. Подняв револьвер к потолку, я двинулся вслед за шагами. Стрелять мне в потолок сейчас было бы бессмысленно. Насквозь не пробью. Слишком много дерева. Но если… если этот гаденыш ступит на люк, через который из коридора второго этажа можно попасть на чердак, я со спокойной совестью могу стрелять. Люк-то тонкий. Шаг, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Молодец! Ступил! Я выстрелил в люк три раза – похохатывая. Человек на чердаке вскрикнул отчаянно, и я услышал, как он упал, стукнувшись об пол, наверное, Или головой. Но и теперь мне не суждено было спуститься вниз. Кто-то разбил окно в Роминой комнате. Разбить его могли, конечно, и пули. Но ведь выстрелов не было. Значит, это человек. (Если, конечно, ребята Бойницкой не стали пользоваться, вдруг ни с того ни с сего, бесшумным оружием.) Конечно, за Роминой дверью находился человек. Вот скрипнул пол под его ногами. Раз, второй. Человек двигался осторожно. Но пол все равно скрипел. Человек не умел двигаться по скрипучему полу. Человек не был профессионалом. Но человек наверняка был с оружием. Непрофессионал с оружием менее, конечно, опасен, чем профессионал, но все же опасен, мать его! Человек подошел к двери. Замер. Затих. И начал через секунду другую потихоньку открывать дверь. Давай, давай, приятель открывай. Я хочу полюбоваться выражением твоих красивых глазок, когда ты увидишь черный зрак полковника Кольта, дружелюбно шлющего тебе приветы из ада. Я поднял револьвер… И тут вспомнил, что я расстрелял уже все шесть патронов, которыми был насыщен барабан моего револьвера. Я мотнул головой, усмехаясь, и сунул револьвер за пояс. Наконец человек открыл дверь. Я ринулся вперед и схватился за автомат, который человек держал в руках, повернул ствол его в сторону и рванул оружие на себя. Человек держал автомат крепко и поэтому, естественно, подался вместе с ним, И я ударил тогда нападавшего локтем в челюсть и одновременно подсек ему ноги. Человек упал, а автомат остался в моих руках, Я мог бы сейчас убить упавшего из его же оружия, но вместо этого я непроизвольно опустился на колено, быстро взял человека за голову и резким движением свернул ему шейные позвонки. Противно хрустнуло у человека под затылком. И он перестал дышать. Я встал с колена и выматерился. Надо было убить его из автомата, мать мою, а не пачкать руки! Но сработала, как я понял, память. За годы войны я не раз таким образом убивал людей. И руки сейчас сами сделали работу. И я тут ни при чем. Ей-богу, ни при чем. Но все равно противно. И я снова выматерился. Потом я перезарядил револьвер и сунул его обратно за пояс. Поднял автомат, вынул обойму и, покопавшись в карманах трупа, извлек новую и вставил ее в автомат, с сожалением поглядел на убитого и направился к лестнице. Я, конечно же, сейчас смотрел на себя со стороны. (У меня же было сухое лицо.) Но смотрел же я на себя. Впервые за пять лет я убил человека голыми руками, И очень скверно я сейчас себя оттого чувствовал. Хотя и не должен был. Или должен? Но теперь не время для углубленного анализа своих чувств и мыслей, если вообще для подобного анализа когда-либо должно быть время. Анализ прошедшего, я уверен, вряд ли способен дать нам точный рецепт, как жить дальше. Каждая следующая минута или секунда качественно отличается от предыдущей. У них другое пространство, другой цвет, другой запах, у них все другое, все-все. И если я, допустим, вчера поступил так-то и так-то и сей поступок принес мне отрицательный результат, это вовсе не означает, что сегодня я не должен поступать так же. Точно такой же поступок в отношении тех же самых людей может принести мне сегодня исключительно позитивный результат. Потому что сегодня на земле совершенно иной воздух, чем был вчера. На последней, нижней ступеньке я. уже забыл о том, что происходило наверху, на втором этаже, и думал теперь только о том, что ждет меня впереди. Я просто думал, но ни в коем случае не решал что мне делать. Потому как в такой ситуации нужно было надеяться только на свои инстинкты, но никак не на мысли. Инстинкт должен был меня защитить. Инстинкт должен был указать мне путь. Как на войне. На войне мы выжили только потому, что слушались инстинкта, а не следовали логике мысли. Как на войне. Я был сейчас на войне. И я был счастлив… В кухне горел свет. Я опешил. Когда я поднимался наверх, света не было. А сейчас он горел. Значит, кто-то проник в кухню. Я прыжком пересек коридор и прижался к стене около двери в кухню. Осторожно выглянул. Возле сервировочного столика стояла Ника и жадно поедала остатки нашего обеда – постанывала от удовольствия, облизывала пальцы, посмеивалась радостно и удовлетворенно. Что-то напевала, кажется, даже, по-моему, увертюру к «Нибелунгам» Вагнера или «Бессаме мучо», я не мог определить точно, – слишком тихо напевала Ника. Я подался чуть вперед, пошарил по стене рукой, нашел выключатель и выключил свет. «Включи свет, – очень спокойным и неожиданно твердым голосом проговорила Ника. – Пожалуйста. А то я не вижу, что я ем» – «Я не могу включить свет, дорогая моя, – сказал я. – Мы станем тогда отличной мишенью и в нас будет легко попасть. И нас могут ранить или даже убить» – «Убить, – повторила Ника раздумчиво. – Да, да, он мне тоже говорил об этом. Я помню – «Кто говорил?» – не понял я. «Братик, – ответила Ника. – Он и сейчас говорит мне об этом. Раньше он молчал, а сейчас стал говорить. Это так приятно, когда он разговаривает со мной. Он говорит, что мне делать, а что не делать, о чем думать, а о чем не думать. Ты знаешь, – Ника рассмеялась, – он так любил поесть… Просто ел и ел целыми днями. Вкусно ел. Аппетитно ел. Красиво ел. Я очень любила смотреть, как он ест. И вот сейчас он говорит мне, и ты ешь, ешь, ешь. Это такое наслаждение – есть…Только он очень не любил зеленые перцы. И я тоже их теперь не люблю… А в темноте я не могу отличить их от огурцов. Включи свет. Я не хочу есть перцы». Мне опять стало скверно. Будто я опять свернул кому-то шейные позвонки. И я понял, что меня сейчас вытошнит. Рвота подступила к самому моему горлу. И я не стал сопротивляться. Я склонился над кухонной мойкой, и меня вырвало. «Я не могу включить свет, – откашливаясь, сказал я. – Нас могут убить» – «Убить, – протянула Ника. – Он тоже сказал мне, что надо убить. Надо обязательно убить. Иначе он накажет меня. О, я знаю как страшно он умеет наказывать. Он наказал меня, я помню. Он привязывал меня к стулу и бил меня, бил… И смеялся, глядя, как я кричу и корчусь… Я боюсь! Я боюсь…» Я подошел к Нике, обнял ее, прижал к себе, поцеловал ее в затылок, в висок. Ника доверчиво прильнула ко мне, чмокнула меня в подбородок. «Ты не похож на братика, – прошептала Ника. – Но ты тоже очень хороший, очень, очень хороший…» После короткого затишья снова началась стрельба. С улицы ударила короткая очередь. Как от ветра колыхнулись задернутые шторы. Пули пробили в них дырки. Рома ответил тремя выстрелами. И еще тремя, И опять простучал автомат. А вслед за ним прокричала Бойницкая: «Ника, Ника, я жду тебя. Иди ко мне. Я так люблю тебя. Ты же знаешь, как я люблю тебя. Выходи, Ника, и я стану ласкать тебя, я стану целовать тебя. И вес будет как прежде. Как прежде». Я отпустил Нику, сделал шаг к середине кухни, подпрыгнул и разбил рукояткою своего Кольта висящую под потолком люстру и соответственно находящуюся в люстре лампочку. Затем я снял с сервировочного столика тарелки и поставил их на пол. «Ешь тут, – сказал я Нике. – Ешь на полу. Я слышал голос братика. Он велел тебе есть на полу» – «Ты слышал? – удивленно спросила Ника. – А почему я не слышала? Почему?» – «Потому что мы говорили секретно, – ответил я, – как мужчина с мужчиной» – «А, – кивнула Ника. – Тогда хорошо. Тогда ладно. Тогда я буду есть на полу». Рома выстрелил еще два раза. И опять, к моему удовольствию, кто-то завопил за окном. И тут же десятки пуль просвистели над нашими с Никой головами. Я грубо повалил Нику на пол и упал сам; Мы лежали несколько секунд – лицо в лицо, – прикасаясь друг к другу носами. «Я не пойму, что со мной происходит, Антон, – сказала Ника. – Такое было и раньше, но не так явно. Понимаешь? Вроде как я – это не я и в то же время все-таки я. А потом снова не я. Понимаешь?… И самое страшное, что сейчас мне вдруг захотелось совершать поступки, которые всегда вызывали у меня страх и омерзение. Но мне захотелось, мне ужасно захотелось. Ты понимаешь? Понимаешь?» Что я мог ответить ей? Я поцеловал ее глаза и ничего не сказал. «Я, кажется, слышала голос Бойницкой, – осторожно заметила Ника. – Я правда его слышала или мне все-таки показалось, как многое кажется последние дни?» – «Не знаю, – я помотал головой. – Не знаю. Я не могу сказать тебе ничего определенного. Может быть, да, а может быть, нет. Но я сам ничего не слышал. Ничего. А у меня, поверь, отменный слух». Если Ника так и не поняла, что нападали на нас люди Бойницкой, и что сама Бойницкая, соответственно, тоже присутствует неподалеку, вон там, там, только пулю протяни, то и не надо, пусть не понимает, пусть не знает ничего об этом. А то мало ли, какую реакцию у нее может вызвать сообщение о том, что Бойницкая пришла за ней. Хорошо, если Ника не захочет говорить с Бойницкой. А если вдруг что-то щелкнет у нее в голове и она с распахнутыми объятиями побежит навстречу своей бывшей возлюбленной? Я бы этого очень не хотел. Я поднялся, сказал Нике, что мне надо помочь Роме, и, пригнувшись и прижимаясь к стенам, направился к гостиную. Рома метался от окна к окну и стрелял, стрелял. Перезаряжал свою безотказную «Беретту» и снова стрелял. Действовал Рома четко и расчетливо. Он не делал ни одного лишнего движения, был быстр, точен и уверен в себе. Увидев меня, крикнул: «Они решили начать штурм, суки! Только не знают, как это делается. Дилетанты. Я держу их пока на земле. Но не знаю, сколько это может продлиться. Надо сваливать». Автоматные пули лупили по потолку, по стенам, по мебели. Мы с Ромой то и дело пригибались или вовсе припадали к полу. Я указал рукой на окно, выходящее в сад, и крикнул: «Я возьму то окно. Потом поменяемся». Рома кивнул вместо ответа, и мы разбежались каждый к своему окну. Я сразу жесделал несколько мелких очередей в сторону машины, и лишь только после этого решил осмотреть находящуюся перед окном часть сада. Фары на машине Рома, судя по всему, разбил – они не горели, Зато горел мощный прожектор, установленный, как я понял, на крыше машины. Я выстрелил прицельно по прожектору. Прожектор потух. «Как просто», – подумал я. Но не тут-то было. Через несколько секунд после нешумной возни вспыхнул другой прожектор. Ну и ну, у них, сук, там целый запас прожекторов. Я усмехнулся и выстрелил в новый прожектор и, конечно же, снова погасил его. В темноте я услышал, как что-то упало на пол. Наверное, опять лимонка. Я закрыл глаза и мгновенно сконцентрировался. И «увидел» ее. Она лежала возле кресла. Я метнулся к этому месту, взял лимонку и что есть силы кинул ее в окно. Лимонка разорвалась прямо на машине… Машина вспыхнула. Люди, стоявшие рядом с ней, бросились в разные стороны. Я ударил по ним из автомата. Люди рассыпались по кустам. Я отступил к стене, перевел дыхание. «Вот что значит дилетант, – подумал я. – Он даже не знает, что граната взрывается не сразу, а через несколько секунд после того, как выдернута чека. Или знает, но боится задержать гранату ненадолго, боится, что она взорвется у него в руке. И граната летит ко мне и падает на пол и молчит. И у меня есть время, чтобы подобрать ее и швырнуть обратно… Мать мою, как мне нравится эта работа!» …Из машины выскочил горящий человек. У него горела одежда. Пока только одежда. Человек закружился на одном месте, вопя, а затем вдруг сорвался стремительно в сторону дома. Он бежал ко мне. Он бежал прямо к окну, возле которого я стоял и смотрел, как бежал он к окну, возле которого я стоял и смотрел, как он бежал к окну… Пламя, охватившее его, хлопало на ветру, как сохнущее, на улице белье. Нет, пламя, охватившее его, хлопало, как крылья птеродактиля, который по случаю или по пьянке залетел в наш дачный поселок. Залетел и теперь не знает, как выбраться, и потому все мечется и мечется по запущенным садам и непрополотым грядкам. Человек ударился грудью о карниз окна. Охнул. Вскрикнул. Простонал безнадежно. Закрыл – открыл глаза. Закрыл – открыл глаза. Закрыл и открыл. И посмотрел на меня. Да. Глаза, которые он открыл, были круглые и жидкие. Когда-то они, наверное, были продолговатые и твердые. А вот сейчас стали круглыми и жидкими. Когда-то эти глаза, наверное, были равнодушными и невыразительными, а сейчас в глазах наконец-то появились мысль и страсть. И чем больше огонь обжигал тело человека, тем больше мысли и страсти обнаруживал я в его глазах. Человеку было лет двадцать пять – двадцать шесть. Это был молодой человек. У него были крупные руки, крупные плечи и крупное лицо. Он вообще был очень, крупный. И он, наверное, будет долго гореть, подумал я, раз он такой крупный. Да, именно так я подумал. У молодого человека уже горели и брюки и рубашка. И также начинали гореть волосы. «Пламя освещало мое лицо. И наверное, освещало очень ярко. Но я тем не менее не видел его. Хотя должен был видеть его. Я должен был видеть внешним зрением, как видит свое лицо любой нормальный человек. Я помню, что я перестал видеть свое лицо еще на войне. Помню. Но все же каждый раз надеюсь, что а вдруг вот сейчас, именно сейчас мне повезет, и я, к своему превеликому счастью, вновь увижу его…) Молодой человек опять закричал истошно. А потом прекратил кричать и сказал мне срывающимся голосом, глядя на меня теперь уже неглупыми и исключительно ясными глазами: «Убей меня! Я все равно умру. Но я не хочу, умирая, так страдать. Мать мою! Мать мою! Мать мою! А если я даже не умру, то я не смогу никогда показаться перед своей любимой женщиной… Никогда, никогда, никогда!… Убей меня! Я умоляю тебя!» – «Ерунда, – сказал я молодому человеку, глядя в его уже постаревшие глаза, – такие, как ты, не могут страдать. Такие, как ты, не знают, что такое страдать. Такие, как ты, не могут любить. Такие, как ты, не знают, что такое любить. Такие, как ты, даже не представляют, что такое любить и страдать. Я не верю тебе…» – «Ты ошибаешься, – закричал молодой человек. Огонь уже опоясал его голову, и желто-красные языки плясали возле расплавленных глаз. – Любить могут всякие. И страдать могут разные. И белые, и красные, и черные, и синие, уроды и шизофреники, убийцы и насильники, косые и хромые, пятнистые и полосатые, убогие и нелюбимые, бесчеловечные и плоскостопие, лысые и гнилозубые, нахальные и шестипалые, люди и недоумки, люди и нелюди, люди и все остальные… Убей меня! Ну, убей же меня скорей!» Я совершенно не хотел курить, ну просто действительно, как никогда я не хотел курить, но я тем не менее вынул сигарету, вставил ее в рот и, потянувшись к молодому человеку, прикурил от его полыхающей рубашки. Затянулся, выдохнул дым молодому человеку в лицо и сказал негромко: «Я не верю тебе. Нет, не верю». Молодой человек закричал снова. Теперь уже совсем не так, правда, как еще несколько секунд или минут назад. Он теперь закричал не по-человечески. Уже не он сейчас кричал. Это свой голос подавала смерть. Молодой человек еще какое-то время держался руками за карниз окна и потом отпустил руки, и упал на траву, под окно, и все кричал, кричал. И горел. И кричал. И наконец перестал кричать. Наверное, умер. Или потерял сознание. Или все-таки умер. И если и не умер, то совсем недолго осталось ждать его смерти. Хотя, может быть, он уже и умер. Да, скорее всего, конечно, умер. Вот так. Я прислонился спиной к стене. Закрыл глаза. Конечно, он врал, этот умирающий от своей же гранаты молодой человек. Такие, как он, не умеют любить. Если бы он умел любить, он никогда бы не занимался тем, чем занимался. В угоду своей корысти делать зло другому и в то же время кого-то любить, и в то же время любить женщину – невозможно. Эти два понятия, эти два действия несовместимы. Они никогда не уживались, не уживаются и не будут уживаться в одном человеке. Я убежден в этом. И именно поэтому я не поверил молодому человеку, пытающемуся доказать мне, что он кого-то видите ли, любит… Да. Я открыл глаза. А с другой стороны, станет ли человек врать перед смертью? А почему бы и нет? Конечно, станет. Хотя бы для того, чтобы, умирая, выглядеть лучше в своих глазах, чтобы умереть уважаемым собою человеком. Чтобы умереть, испытывая к себе чувство почтения и преклонения. Я усмехнулся. Между прочим такое стремление говорит о незаурядности горящего сейчас под окном дачи молодого человека. И вправду, добить его, что ли. Я сплюнул в окно. Нет, не стоит тратить на него пулю. Сам умрет, если еще не умер. И к тому же я ему все-таки не верю. Мне не нужно было, конечно, закуривать сигарету, потому что курить, как оказалось, мне было чрезвычайно противно. Дым щипал небо и язык. Можно было подумать, что у меня обнаружился натуральный стоматит. И к тому же дым горчил, и тем самым вызывал искреннее и неподдельное желание сплюнуть. И я плевался. И не раз. И не выдержав затем, я бросил наконец сигарету. На пол. И затоптал ее каблуком. На полу. Но вместе с тем я понимал, что мне надо было тогда закурить. Мне крайне необходим был тот жест – прикурить от горящего синим пламенем молодого человека. Этот жест придавал некую законченность возникшей ситуации. А законченность – это всегда безукоризненность. Я усмехнулся. Во всяком случае, мне так кажется. А Рома, как я видел и слышал, продолжал вовсю палить в окно. И в его сторону тоже палили. Из всех видов оружия, которые имелись у людей Бойницкой, – из пистолетов, револьверов и автоматов различных систем. На стенах гостиной не осталось живого места от пуль. Хорошо, что кожаную мебель еще не особо повредили. Во всяком случае ее можно было восстановить. А вот люстре-уже, я думаю, каюк, и камину тоже – раздробили верткие пули вес его мраморное обрамление. Жалко. А впрочем, плевать. И я опять сплюнул. Не успел мой плевок, как мне показалось, коснуться пола, как я услышал тонкий крик. Тонкий-тонкий. Жалобный. Сегодня вокруг кричали, собственно, много. И я уже, разумеется, привык ко всяким и всяческим крикам. Но крик, который прозвучал сейчас, заставил меня вздрогнуть, а затем и испугаться, а затем и ужаснуться, а затем и оцепенеть, а затем, усилием воли сбросив оцепенение, сорваться с места и понестись что есть силы в сторону кухни. Кричала Ника Визинова. Из десятков миллионов криков я всегда, без единой вероятности ошибки, смогу узнать ее крик. ЕЕ. Одним словом, я застал такую картину. (Шторы на кухонном окне уже не висели. И поэтому свет фар обильно освещал помещение.) Ника лежала на полу около тарелок с едой. На спине. На Нике сидела Бойницкая. (Я узнал се сразу, хоть и увидел ее только со спины.) А из шеи у Бойницкой торчал длинный и широкий столовый нож с деревянной рукояткой. А сама рукоятка гладкая, отполированная тысячью прикосновений разнополых и разновозрастных рук, пряталась в ладони Ники Визиновой. Ника раскачивала нож в ране сидевшей на ней Бойницкой и тонко-тонко кричала. Бойницкая, у которой из шеи торчал нож, молчала, а Ника Визинова кричала. Тонко-тонко кричала Ника Визинова и очень даже негромко, но слышно всем и повсюду, и в первую очередь мне. Мелькнула тень за окном. А затем и в самом окне показались чьи-то голова и плечи. В окно влезал человек. Молодой мужчина.– И тоже крупный и невыразительный, как и тот, который горел сейчас под окном гостиной. Я быстро поднял автомат и выстрелил. Молодой человек без слов и вскриков обвалился на подоконник и замер. Я шагнул ближе к женщинам и сильно ударил ногой Бойницкую в плечо. Бойницкая тихо и мягко упала на бок. Так вот почему она не кричала. Ника убила ее одним ударом. Бойницкая была уж мертва, когда я вошел в кухню. Она была уже мертва, когда я услышал тонкий-тонкий крик Ники. Я склонился над женщинами. К своему удивлению, я не обнаружил ножа в шее Бойницкой. Нож, оказалось, остался в руке Ники. Я попытался отобрать нож у Ники. Но Ника не отпустила нож. Она вырвала у меня свою руку, стремительно вскочила на ноги и, подняв нож над самой головой, кинулась на меня. Я перехватил руку Ники и отвел ее в сторону. «Это я, – сказал я Нике, приблизив к се глазам свое лицо. – Это я, Антон». Ника очень внимательно оглядела мое лицо и, видимо, удостоверившись, что это, действительно, я, сказала мне по-детски капризно, вроде как жалуясь: «Она хотела отнять меня у братика. И тогда братик приказал мне убить ее. Никто и никогда не сможет отнять у меня братика, – Ника неожиданно попыталась выдернуть свою руку из моих пальцев и через несколько секунд, убедившись в тщетности подобных попыток, прошипела злобно и угрожающе: – И ты никогда не отнимешь меня у него. Никогда, слышишь?» – «Я и не собираюсь этого делать, – проговорил я миролюбиво. – Наоборот, хочу помочь и тебе и твоему братику. Я хочу, чтобы вы были счастливы и чтобы вы никогда не расставались». Ника засмеялась и захлопала в ладоши и запрыгала на месте, потянулась ко мне, чмокнула меня в нос и опять запрыгала как девочка – маленькая, в гольфиках, в бантиках и розовых трусиках, пахнущая мылом и утренней травой. «Я знала, я знала, – говорила Ника, – что ты хороший. Вот и сейчас, вот и сейчас, – Ника прищурила глаза, внимая, – он говорит, что ты очень-очень хороший». Я прислушался. Но голос, который я услышал в следующее мгновение, не принадлежал, как я сразу догадался, братику Ники. Во-первых, потому, что он исходил с улицы, во-вторых, потому, что он был многократно усилен мегафоном, а в-третьих, потому, что владел им не ребенок и даже не подросток, а абсолютно взрослый человек. Абсолютно взрослый человек начал с того, что прежде всего сообщил следующее: «Прежде всего хочу сообщить следующее. Данный поселок оцеплен специальными подразделениями милиции. Поэтому бежать некуда, мать вашу! Только на пулю. Если есть желание. Уверен, что такого желания ни у кого нет. Посему предлагаю подходить ко мне и сдавать оружие. Я – полковник милиции Данков. – Данков засмеялся. – Можете не любить и не жаловать. Не требуется. Требуется подчинение…» Я не могу сказать точно, любил ли я кого-нибудь из них по этой жизни – лесбиянку Бойницкую или милиционера Данкова. Не могу. Но с уверенностью и, конечно же отдавая полный и искренний отчет своим словам, я могу заявить, что я без всякого сожаления распрощался.бы навсегда и с той и с другим, и никогда бы больше с ними, во всяком случае в этой жизни, не увиделся бы с удовольствием. (С Бойницкой уже распрощался, слава Богу.) А любил ли я кого-нибудь все-таки из них? Отвечу лишь недоуменным пожатием плеч, и вопросительным взглядом в свое отражение в изрубленной пулями стене напротив, в стене сбоку, и в темном ночном воздухе, который за окном. Но теперь, вот сейчас, вот в данное мгновение и в ту же секунду, на момент, который я стою на кухне, посреди нее, обняв Нику, и пьянея от того, что она есть, и восторгаясь тем, что есть я, на тот момент, когда Бойницкая, одна из славной парочки (лесбиянки и милиционера) уже не дышит, что говорит о том, что она мертва, Бойницкая мертва, теперь я точно и не знаю, как я к ней относился. И сейчас мне начинает казаться, что очень даже и хорошо я к ней относился, может быть, даже и с симпатией. Потому как в противном случае даже в исключительной горячке и смертельном возбуждении не стал бы я ее, суку, трахать, суку… Но не будем о мертвых плохо. О мертвых лучше ничего… А милиционер Данков вот еще жив, и даже здоров, и голос у него освежающе бодр и властен. И судя по голосу и судя по интонации, а точнее, судя по моей интуиции, основанной на восприятии голоса милиционера Данкова, на восприятии его интонации, очень хочет со мной увидеться, в отличие от меня – в этой жизни, – очень хочет. Нет у меня ненависти к милиционеру – я понимаю и осознаю такой факт, – как нет у меня и любви к нему, как нет у меня и никаких иных чувств и эмоций в отношении полковника. Есть полковник или нет полковника, мне, соответственно, все равно… (После смерти Данкова, наверное, как и в случае с Бойницкой, я начну испытывать что-то похожее на сожаление, потому как, наверное, все же, мне так будет казаться, я некоторым образом питал все же к нему определенную приязнь, – но не сейчас.) Да, с точки зрения чувств и эмоций или чего-то другого – глубокого и необъяснимого, мне все равно, но с точки зрения обстоятельств, а также с точки зрения вреда или пользы, как то ни прискорбно, всем, и мне в том числе, далеко не все равно, есть ли полковник или нет полковника и где он, собственно, далеко или не очень, лучше бы чтобы далеко, тогда бы была бы польза, но он не очень, и оттого может быть вред – и мне и Роме. И потому я сказал Нике, что мы с Ромой сейчас уходим, что нам с Ромой нет более смысла оставаться тут, на даче мужа Ники. Все, и те, и другие, кому надо и не надо, уже знают, что мы тут, и нам, как ты понимаешь, если ты еще что-то понимаешь, нет никакого резона оставаться на этой даче, и поэтому мы уходим. А ты, еще сказал я Нике, должна остаться тут, с мальчиком, и ждать милицию. Тебя сказал я Нике, никто ни в чем не обвинит, потому что тебя совершенно некому и не в чем обвинить, ты чиста, как солнечный свет, и невинна, как солнечный зайчик. «А где мальчик, а где мальчик?» – стала спрашивать меня Ника. И мне не нравилось, как пристрастно и возбужденно спрашивала меня Ника. И я не решился сообщить ей, где мальчик. Я сказал, что мальчик в доме, и что, когда придет милиция, она его обязательно найдет. «А где? – и заглядывала в кухонный шкафчик, и в кухонные тумбочки, и под стол, и под табуретки, и в духовку газовой плиты, гремела кастрюлями и опрокидывала чашки. – Где, где, где, где, где?…» С Ремой мы столкнулись в коридоре. Он шел ко мне из гостиной. «Уходим», – сказал Рома. «Уходим», – ответил я. «А где мальчишка?» – спросил Рома. «Зачем нам мальчишка?» – удивился я. «Его найдет контора» – «И пусть его найдет контора. Это даже хорошо, что его найдет контора» – «А если его найдет не контора? – возразил Рома. – А если его найдут эти уроды, которых мы пока еще не всех перебили, хотя стреляли мы метко и дрались умело» – «Не успеют, – сказал я. – Они сейчас уже, наверное, бегут» – «Нет, – опять возразил Рома. – Послушай и посмотри. Они никуда не бегут». И я послушал и посмотрел. На улице трещали автоматы и хлопали пистолеты. На улице шел бой. Я слышал крики раненых и молчание убитых, а видел летящие пули и отброшенные в траву гильзы, в мой нос проникали запахи пота и французских дезодорантов. Но я знал, кто кого. Я знал, кто выиграет и кто проиграет. И нисколько не сомневался в том. И поэтому я упрямо повторил: «Не успеют». Сказав эти слова, я положил руку на плечо Роме и подтолкнул его к гостиной. Но Рома отдернул плечо и спросил веско и с угрозой даже: «Где мальчишка?» – «Пошли, Рома, – ласково позвал я за собой своего старого боевого товарища. – Пошли, мой хороший». И вынул из-за пояса револьвер системы Кольта и демонстративно почесал его стволом свою бровь. Рома засмеялся, оценив мой жест. Он запрокинул голову и схватился за бока, и смеялся, и смеялся… Я вошел в гостиную. Я хотел посмотреть, не блокирован ли выход из дома. А для этого мне надо было пройти гостиную, и еще маленький коридорчик. В гостиной я выругался. С сопротивлением и без обычного удовольствия. Тот самый парень, что лежал и полыхал под окном гостиной, выходящим в сад, поджег своим пламенем наш дом, сукин сын. Пламя охватило уже оконную раму, подоконник, шторы и обои, часть мебели. Я понимал, что ни мне и никому другому уже не погасить жадное веселое пламя, и не было никакого сомнения, что дом скоро сгорит. И, матерясь, как водится, я развернулся и кинулся вон из гостиной. Рома все стоял в коридоре и смеялся, запрокинув голову и держась за бока. Я скатился вниз в гараж, бросился к автомобилю, открыл двери. «Антон, – прошептал лежащий на заднем сиденье мальчик Мика, – что со мной? Почему у меня так болит горло и голова? Почему? Я не помню, что случилось?» Когда-нибудь я расскажу тебе, мой дорогой мальчик Мика, что с тобой произошло и почему произошло, почему терзали твой маленький беспомощный член… Когда-нибудь. Не сейчас. «Ты можешь идти?» – спросил я Мику. «Не знаю», – ответил Мика. Я взвалил тогда мальчика на плечо и, тяжело ступая по бетонному полу, побежал к воротам гаража и заглянул в щель между створками. Перед воротами метались люди – туда-сюда, кто падал, кто вставал, не все стреляли, одни ползали, другие лежали, некоторые кричали, иные молчали. Видимость была отличная, будто светило светило. Но оно не светило. Просто горела одна из трех машин «Мерседес». Машина занялась уже полностью – от начала и до конца, и давала свет всей ближайшей округе, и ближайшим людям, и ближайшим трупам. Конечно, понятное дело, здесь выйти я не мог. Те, кто метался там, на улице, перед горящей машиной – каждый из них независимо от их принадлежности к какой-либо из сторон, были моими врагами. Вот оно как. Мне не нравилось такое положение вещей. Но изменить я ничего не мог. Я снова поднялся наверх. Увидев мальчика у меня на плече, Рома тотчас перестал хохотать и протянул к нему руки и сказал, волнуясь: «Дай, дай мне его. Я понесу. Я». Я ничего не ответил Роме. Я отвел от себя и от Мики его руки, ступил вбок и, заглянув на кухню, сказал Нике: «Пошли, моя любимая. Мы должны уйти отсюда вместе» – «Так ты берешь меня с собой?!» – обрадовалась Ника и славно запрыгала и захлопала в ладоши, маленькая, в гольфиках, в розовых трусиках, пахнущая… «Да, – ответил я, улыбаясь, – я беру тебя с собой…» Только теперь Ника заметила лежащего на моем плече мальчика. Она подошла и дотронулась до Мики рукой, прижалась к мальчику и сказала мне: «Дай мне его. Я понесу его. Я сильная…» – «Идите за мной, – попросил я своих друзей, – и делайте, как я. Я попытаюсь спасти нас. Я попытаюсь. Но прежде чем я начну, я хочу сказать вам, что я очень люблю вас, очень. И тебя, Рома, и тебя, Ника. Очень. Вы самые близкие мне люди. Вы – это я. А я – это вы». Я шагнул в гостиную. Посмотрел на окно справа. Затем на окно слева. Левое горело. Правое нет. Я направился к левому. К тому, под которым пламенел тот самый парень, что уверял меня, будто любить могут всякие. (Врал, конечно.) «Будем выходить здесь, – сообщил я своим друзьям. Никто не думает, что мы можем выйти здесь. Сад пустой. Мы прыгнем сквозь огонь, И он не обожжет нас, он лишь коснется нас, потому что мы прыгнем быстро, мы прыгнем стремительно, мы прыгнем так, как не прыгали никогда еще в нашей жизни. Там, за окном, – я махнул на окно, на огонь, на треск, на жар, на запах горящего мяса, – нас встретит неухоженный, но по-прежнему еще красивый сад. Он будет рад нам. Он примет нас как самых близких своих друзей, как я бы принял вас, как вы бы приняли меня. Там будет только он – сад. И больше никого. Ни людей, ни зверей. Он укроет нас. Он поможет нам бежать. Он задержит врагов. Так будет. Я знаю. – Я покачал головой, улыбаясь удовлетворенно. – Я знаю», – повторил я и попятился спиной, пятками, ягодицами, затылком к правому, не горящему, совершенно пустому окну. Метра, наверное, не доходя до него, остановился. Собрался. Сосредоточился. И ринулся что есть силы к горящему окну… Огонь царапнул мои щеки, виски. И на мгновение обнял меня красно-белыми обжигающими лапами, успев за это время высушить пот на моем теле. И только. Подпалил в нескольких местах мою одежду и брезент, в который был закутан мальчик Мика, отчего одежда и брезент задымились, когда мы упали на траву. И только. Я лежал на траве радом с недоуменно моргающим мальчиком Микой и смеялся – весело и безмятежно. Все произошло так, как я и говорил. Огонь пропустил нас. А сад принял нас. Я не приглядывался к саду все эти дни, что провел на даче мужа Ники Визиновой, я не «видел» его, хотя изредка и смотрел в окно, но я знал, что он чудесен, что он ясен, что он совершенен и что он единствен, хотя и неухожен. Так оно и было. Я не являлся специалистом в садоводческом деле. Я не являлся даже любителем. И поэтому я, естественно, не мог определить породы деревьев, росших в саду. Но мне кажется, что здесь находились все самые красивые деревья, которые только случаются на земле, – и секвойи, и пальмы, и пихты, и кипарисы, и дубы, и сосны… Кем и когда были посажены эти деревья, я, конечно, не имел никакого представления. Возможно, отцом мужа Ники Визиновой, а возможно, еще и тем человеком, который продал отцу мужа Ники Визиновой этот участок. Интересно, кто был тот человек. Мужчина или женщина, молодой (молодая) или старый (старая); Интересно, кто он (она) был (была) по профессии. Любопытно, отличался ли (отличалась ли) красотой, имел ли (имела ли) детей и любовниц (любовников), хотел ли (хотела ли) чего-либо большего от жизни, что имел (имела), жил (жила) или проживал (проживала), Я видел лежащие на земле чуть подгнившие уже, а вернее, совершенно сгнившие бананы и кокосовые орехи, апельсины и лимоны, плоды манго и киви, ананасы и яблоки, вишню и бузину, рябину и сливы, а также отлично сохранившиеся куски черного, красного и белого дерева, а также голубого, фиолетового, лилового и буро-малинового в серую тонкую полоску или в крапинку, или в клеточку, или в кружочек… Из огня вылетела Ника – с растопыренными руками, с развевающимися волосами, с закрытыми глазами, с полуоткрытым ртом, с сухими зубами, с длинными ногами, в коротком платье, легкая, неземная, божественная. Я вскочил тотчас на ноги и подхватил Нику. Я не дал ей упасть. Я смягчил ей приземление. Я обнял Нику и поцеловал ее, не сдержавшись, в губы – полно, мокро, смакуя, пламенея, задыхаясь, захлебываясь. Рома приземлился в полуметре от нас. Даже не упал, чтобы притушить удар при соприкосновении с землей. Выпрямился после того, как приземлился. Довольно крякнул. Огляделся. Увидев лежащего на земле мальчика Мику, ни слова не говоря, решительно направился в его сторону. Я уловил краем глаза движение Ромы и с нежеланием, а потому с усилием оторвавшись от Ники, склонился над мальчиком и, выдохнув, вскинул его себе на плечо. Его – мальчика Мику, сына не знакомого мне человека, ребенка, пришедшего в мир уже с тем запасом знаний, который некоторые из нас обретают только в зрелые годы, а остальные не обретают вообще и вовсе, маленького человека, обладающего способностями, превосходящими мои (исключительно мои) представления о способностях людей следующего за мной поколения, одного из тех, коих, судя по его же словам (а я ему верю), на земле уже очень и очень много… Я устроил мальчика поудобней у себя на плече и молча двинулся в глубь сада. Рома и Ника побрели за мной… О, как же я хотел бы жить, когда на смену нам придут такие, как Мика! Я шел и видел, очень ясно, как наяву, я видел их красивые умные, доброжелательные и одновременно решительные, мужественные и строгие лица, я видел, как ходят эти люди, как они говорят, я даже слышал, то они говорят, я видел, как трепетно и беспрекословно подчиняются им окружающие, я чувствовал, что люди не боятся их, нет, а подчиняются им просто потому, что понимают, потому что осознают, что те знают, ЗНАЮТ… Я видел роскошные, ухоженные поселки, деревни, населенные пункты; цветные, мягкие, душистые города, я видел счастливые улыбки, веселые глаза, здоровые зубы, загорелые лбы, я слышал смех, стоны наслаждения, крики оргазма, шепот любви, я ощущал соленый запах труда, сладость вдохновения, свежий аромат движения… За нашими спинами прострочила автоматная очередь. Мы невольно пригнулись. Но пули не добрались до нас. Обступавшие нас деревья защитили нас. И Мику, и Рому, и Нику, и меня. Я знал, что так будет. Так оно и случилось. Мы ускорили шаг. Мы попросту побежали. А вслед нам все стреляли и стреляли – автоматы, пистолеты и револьверы. Кто держал в руках это оружие, я не знаю. Может быть, оставшиеся в живых люди Бойницкой, а может быть, и милиционеры. Но суть не в этом, сейчас было неважно, кто именно нажимал на спусковые крючки. Так вышло, что все вокруг, все, и тс и другие являлись сегодня нашими врагами. Пули откалывали целые куски от защищавших нас деревьев, срезали на них ветки, напрочь срубали тонкоствольный молодняк. Но ни одна пуля еще не долетела до нас. Впереди я увидел забор. Невысокий. Мы без труда преодолеем его. Очень ведь просто преодолеть такой забор. Я знаю. Мы подбежали уже вплотную к тому забору, когда неожиданно для меня, знающего, что сад защищает нас и помогает нам, неожиданно прогудела, или даже просвистела пуля над нашими головами. И вслед за тем и еще одна пуля тоже прогудела – просвистела. Я понимал, конечно, – это случайность. Не все же ведь пули могут остановить деревья. Пуль больше, чем деревьев. И потому, конечно же, раз я все понимал, мне не надо было поворачиваться на звук выстрелов – в сторону, откуда летели свистящие пули, и стрелять туда из револьвера системы Кольта. Не надо было. Но я все же выстрелил. Раз, второй, третий. Одна пуля, кажется, судя по раздавшемуся воплю, достигла цели, а две другие в то же время сломали по самой середке молодую сосну, или молодую ель, или молодую пихту, или молодой кедр. Верхняя половина дерева упала на траву – с шумным вздохом и тихим стоном. Я поморщился. Я скривился. Я в сердцах тряхнул головой. Я расстроился. Я расслабился. Я подумал, что так нельзя. Отвернулся я. Повернулся я. Не хотел смотреть, хотя должен был. Рома подсадил Нику. Ника подтянулась и спрыгнула легко на другой стороне. На чужой территории. На соседнем участке. И Рома вслед за Никой без усилий перепрыгнул забор. Оставались лишь я и Мика. «Дай мальчишку, – крикнул Рома. – Дай!» Я отрицательно покрутил головой и взялся за верхний край забора. Подтянуться не успел. Пуля ударила меня в левое бедро, чуть выше колена. Меня качнуло к забору. И я больно ткнулся головой в доски. Я выругался – длинно и отвратительно. И опять попытался подтянуться. Но левая нога онемела. И я не мог ею оттолкнуться. Я бы, конечно, перелез через забор, если бы у меня на плече не было бы Мики. Я бы оттолкнулся правой ногой и подтянулся бы. Конечно. Если бы не Мика. Я несколько секунд раздумывал и, наконец, решившись, снял мальчика с плеча и поднял его к краю забора. «Возьми мальчика», – сказал я Роме. Рома с энтузиазмом тотчас подхватил Мику. «Ты ранен?» – спросил Рома. «Немного, – ответил я. – Ерунда. Уверен, что мне это только кажется!» – я попробовал рассмеяться. Получилось. «Ты ранен, – утвердительно проговорил Рома. – И я не знаю сейчас, хорошо это или плохо» – «О чем ты говоришь, Рома? – спросил я, ежась от боли. – Что ты имеешь в виду?» Я не видел лица Ромы, как не видел и других частей его крупного тела, потому что его скрывали не редкие, но и не частые доски, хоть низкого, но все же достаточно высокого забора, и еще потому, что на улице давно уже стемнело, и вечер, а может быть, даже и ночь красила в серое не только кошек, но и моих любимых людей. Если бы я видел лицо Ромы, то я, наверное, мог бы определить по Роминым глазам, по Роминым родинкам, по Роминым волосам и уж, конечно, по Роминым ушам, что он, Рома, имеет в виду. А так как я не вижу его лица, я должен Рому об этом спрашивать, я должен пристрастно выпытывать у него, что же он имеет в виду, говоря, что он не знает, хорошо это или плохо, то, что я ранен. «Скажи, Рома, скажи», – настоятельно требовал я ответа; А Рома не отвечал. Как так? Почему? Да потому, что Ромы уже не было рядом с забором, с той, другой, противоположной его стороны. Рома к тому времени, когда я спрашивал его о том, что же он все-таки имеет в виду, уже бежал с Микой на плече и бок о бок с моей Никой – куда-то, через чужие территории, по грядкам и огородам, по садам, через Малину и крыжовник, через смородину, и красную, и белую натыкаясь на яблони, спотыкаясь о яблоки, куда-то… Так что же ты все-таки имел в виду, Рома?… …А я, тот самый Антон Павлович Нехов, нескольких десятков годов от роду, заревел тогда, как боевая машина десанта при подъеме на крутой склон, ухватился снова за верхний край забора, подтянулся, оттолкнувшись правой ногой, подпрыгнул и перевалился через забор и упал уже на другой, на чужой, на не нашей территории. Конечно поднялся тотчас, и пошел, пошел, едва ступая, но все же ступая на раненую ногу. Воздух казался мне густым и вязким. И еще клейким. И еще горячим. Я плыл по нему, как по кипящему машинному маслу. Шаг, шаг, шаг, шаг, шаг, шаг, шаг, шаг, шаг, шаг, шаг, шаг, шаг и еще шаг, и еще.-… Я не знал, куда мне идти, я не видел ни Рому, ни Нику, ни Мику, и я представления не имел, в какую сторону они сейчас направляются, но я шел. Я шел. Я двигался. Я преодолел уже два забора. Целых два, не считая того, который огораживал участок дачи мужа Ники Визиновой. И тс два забора отличались от первого высотой, да еще и колючей проволокой, натянутой поверх краев тех великолепных заборов. Кому-нибудь, наверное, известно, как я перелезал через заборы, но только не мне. Я знал, что перелез через них и даже не особо повредил себя, перелезая, но как это происходило, сказать не могу. Потому что не помню, как это было. Потому что в те мгновения работал не разум, а исключительно инстинкт, тот самый, который так часто и так вовремя нас выручает. А потом где-то, на каком-то огороде, я упал. И не смог подняться. Я лежал в клубнике или в помидорах и смотрел на небо, которое висело, и на звезды, которые не горели. Я мог бы заплакать. Я знал точно, что мог бы. Но не стал,. Потому что, если бы я заплакал, я бы потерял время. (Когда плачешь, ведь трудно думать). А мне никак нельзя было сейчас терять время. Я вздохнул несколько раз, успокаивая чрезмерно сильно и часто бьющееся сердце, и попробовал настроиться на Рому. …Мелькнуло мое лицо, искаженное болью, злостью, досадой, сухое, жестокое, оскаленное, неприятное, потом лицо Ники, плачущее, сломанное, потом лицо Мики, смеющееся, чистое, гладкое, и холодное, и льдистое одновременно. Я сначала не понял, почему мы все такие некрасивые, а потом догадался, мать вашу, догадался – нас такими видит Рома Садик. Я все-таки сумел настроиться на Рому. Сумел! Сумел!… Все вокруг было черно-черно – черные дома, черные деревья, черная трава, черная земля, черный воздух. Однако через какое-то время я различил вдалеке крохотную белую точку. Точка стремительно приближалась. И теперь я различал уже человеческую фигуру, полностью белую, снежную, ослепляющую… И вот передо мной уже плыл, улыбаясь, седой длинноволосый, морщинистый старик. Черты лица его показались мне знакомыми. Да, это был Рома Садик, постаревший Рома Садик, старик Рома Садик. Он смотрел мне в глаза, улыбался и говорил негромко: «Иди и принеси нам жизнь. Мы должны жить. Мы не должны умирать. Мы вечны. Мы единственные. Мы избранные. Иди и принеси нам жизнь…» И я увидел бурое, скользкое, истерично бьющееся сердце в разверзнутой груди, желтый, студенисто трепещущий мозг на кровавом осколке черепа, шевелящийся, закручивающийся, будто половинка разрубленного дождевого червя, морщинистый член в траве…, Я едва сдержал крик. Ну где ты, мать твою, Рома?! Я не вижу никакого знака, который помог бы мне узнать твое местонахождение. Никакого. Мать твою!… Я открыл глаза и усилием воли ушел из Ромы. Так. Теперь на очереди Ника. Может быть, ты поможешь узнать мне, где вы находитесь. Я вспомнил лицо Ники. Я вспомнил ее глаза. Я сосредоточился на глазах. Я нырнул в эти глаза. …Парень был крепкий, жилистый, сильный. Я видел его голову, волосы, уши, шею, грудь, длинные руки и стройные ноги, я видел его клетчатую рубашку и его тертые синие джинсы, но я не видел его лица. Я не видел лица, потому что лица не было. Может быть, для кого другого оно, конечно, и существовало, но для меня нет. Вернее, не для меня, а для Ники, для моей Ники, потому что все, что я сейчас видел, я видел глазами Ники, моей Ники… Ни слова не говоря, парень ударил меня. Широко размахнувшись предварительно. Одной рукой. Второй. Парень бил мне в живот, бил в лицо, бил между ног. Я защищался как мог. Я выставил вперед тонкие белые ладошки с ярко накрашенными длинными ногтями. Но разве мои руки, нет, руки маленькой Ники, преграда для такого крепкого и тренированного парня? «Не надо, братик, не надо, – говорил я голосом маленькой Ники. – Не надо. Я же так люблю тебя. Не надо». И я опять открыл глаза. Я не смог больше находиться в икс. Мне сделалось нехорошо. У меня заболел живот. У меня заболела голова… У меня так болела нога… Я вынул из кармана джинсов маленький перочинный ножик, раскрыл его, разрезал джинсы в том месте, где была рана, наклонился и попробовал осмотреть ее. Темно. Ни черта не видно. Тогда я прощупал рану. Кость не задета. Не задета, слава Богу! Я отрезал кусок материи от нижней части рубашки и перетянул ею ногу чуть выше раны. Задыхаясь, откинулся на спину, на землю, на помидоры. Или на клубнику. Невесело усмехнулся, мимоходом подумав о том, что сегодняшняя пуля попала точь-в-точь в место одного моего военного ранения, того самого, после которого Рома тащил меня, обессиленного, восемьдесят шесть километров по степи и по горам. Но сейчас не время об этом размышлять. Не время. Сейчас я должен был увидеть Мику. …Мика сидел на пляже, возле разрушенного песчаного домика и хныкал, и, хныча, махал мне призывно рукой, мол, иди сюда, иди, и помоги мне, помоги мне скорей, помоги как можешь и чем можешь, но только помоги… Я выдохнул хрипло и горячо и разлепил теплые веки, и обнажил холодные, не согретые даже веками, глаза. Да, именно так – моим глазам было холодно, да, мои глаза мерзли, они стыли от холода, они болели от холода. Я вздрогнул, услышав голоса неподалеку. Я ждал, конечно, что скоро сюда придут люди, и я знал, что это будут милиционеры. Но все равно вздрогнул, когда они пришли. Лучики милицейских фонариков скользили по земле, по деревьям и по ногам самих милиционеров, В лучики еще попадала трава, камешки, муравьи, желтые и красные листочки, гусеницы, дачные дома, качели, мокрые гамаки, клочки газет, брошенные ведерки, совочки, щербатые грабли, использованные презервативы, смятые пачки из-под, сигарет, влажные зубы, рваные ботинки, и не рваные ботинки, дохлые мыши, юркие коты, кусочки стекла, окурки, винные и не винные бутылки, куриные кости, человечий помет, изящная паутина, стреляные гильзы, застиранные трусы, вспученные от влаги книги, обручальные кольца, кольца от бочек, плюшевые игрушки, скомканное письмо из собеса, треснутый автомобильный руль, ребро Адама, щель для проникновения, свежесть первого поцелуя… Я перекатился под кусты малины. Там, в густоте ветвей, меня могли и не заметить. Могли. Вот двое из милиционеров остановились. Метрах в десяти от меня – пятнадцати, двадцати, тридцати. Осветили фонариками свои лица. Я узнал Данкова и Атанова. До меня долетели их голоса. Я увидел, как шевелятся их губы. Но я не смог разобрать, о чем они говорили. Я попробовал настроиться на Данкова. Я вспомнил его лицо. Я представил его глаза… Я очень, очень, очень, очень захотел узнать, о чем он думает. (Может быть, он уже знает, где сейчас Рома, Ника и Мика.) Я очень, очень хотел… Ничего не получилось. Ничего. Данков был мне недоступен. Неужто он так силен? Или попросту я так слаб? И я попробовал тогда внедриться в Атанова. Я до мельчайших деталей представил себе его лицо. Но не такое, которое мы обычно рисуем себе в воображении, когда хотим представить кого-то – не неподвижное лицо, не мертвое – наоборот, меняющееся, живое, излучающее тепло, творящее выражение. Лицо моргало. И глаза его блестели. Губы шевелились. А нос искал, чтобы понюхать. Я видел косичку, которая вздрагивала. И я слышал, как в уши милиционера втекали звуки. Атанов был мой. Я сумел добраться до него. До Данкова не добрался, а с Атановым вроде как получилось. Получилось. Пока. Я чувствовал. Я понимал. Я понимал. Я чувствовал. Но я так и не смог проникнуть в него. Мать его, сукиного сына! Я мог все рассказать о нем. Все-все. Когда он родился, где учился, на ком женился, в кого влюблялся, когда начал мастурбировать, любил ли родственников, сколько раз подставлял товарищей и почему отказывался от взяток. Но проникнуть в него я не смог. Обессиленный, я вновь лег на спину, раскинул руки, и закрыл глаза. Пахло малиной и мокрыми ветками. Хорошо пахло. Выходит, что только двух людей на этой земле (я предполагаю, я предполагаю) я могу ощутить и осознать, точно как себя, – Рому и Нику, и только, и на большее, значит, я не способен. Но, предположив такое, я не расстроился. Мой дар так неожиданно обрушился на меня, что я даже не успел ощутить полностью его вкус. И уверен, что не огорчусь, если лишусь его вовсе. Это не так просто, между прочим, – проживать жизнь за других, ну, скажем так, часть жизни, не целую жизнь, – часть… Но все равно. Надо еще будет попробовать на ком-то, конечно, свои таланты. Может быть, Данков и Атанов – особый случай. Особый. Клинический. Исключительный. Может быть. Но что то мне подсказывало (наверное, все же инстинкт, который мы частенько называем чутьем, или нет, интуиция, которую мы действительно называем чутьем), что особый случай-то как раз не Данков с Атановым, а Рома и Ника. Ника и Рома. Что-то мне подсказывало, что ничью жизнь я не смогу прочувствовать так, как жизнь Ромы и Ники. Наверное, потому, что они были частью меня. Рома и Ника. А я был частью их. Наверное, потому, что я их очень любил. Конечно, все просто. Я их очень любил. И не надо мне больше выдумывать никаких объяснений. Я их очень, очень любил. «А мальчик Мика? – спросил я себя, лежа на мокрой траве, под мокрым кустом малины. – Как быть с мальчиком Микой? Укладывается ли мальчик Мика в ту схему объяснений по поводу моего дара, которую я себе сейчас предложил?» – «Бесспорно, укладывается, – ответил я сам себе. – И никакого нет в том сомнения. Мальчик Мика был мальчиком необычным, он был мальчиком исключительным. Он сам обладал даром. Он сам был наделен. И поэтому чувствовал, естественно, любое вторжение в свою психику, или как там еще называют – в свое биополе. И он мог пустить того, кто вторгается, а мог и не пустить. А мог и просто пошутить, делая вид, что пускает, и не пуская на самом деле. Меня он, например, не пустил. Он поиграл со мной, пошутил дружелюбно, но не пустил. Он даже на мгновение не дал мне почувствовать себя мальчиком Микой. Так что в случае с мальчиком Микой, – говорил я себе, – моя любовь к нему или нелюбовь к нему не имели никакого значения. (Мальчик Мика мог так повести себя с каждым, даже с тем, кто не наделен даром. Дара Мики хватило бы на двоих.) Да я, собственно, и не могу сказать, что полюбил его за эти дни. Да, он был очень обаятельный, очень симпатичный мальчик. Незаурядный мальчик. Наверное, гениальный мальчик. И я был очень рад тому, что он есть и что есть, вообще, еще такие, как он. Но и только. Но и только – и я улыбнулся себе, и я подмигнул себе. – Так что, по-моему, я себе все очень даже верно объяснил по поводу своего дара. По-моему…» А милиционеры тем временем ушли. И не оставили никаких следов в темноте. Не оставили ни звука, ни запаха. И даже белые фонарные лучики забрали с собой. Милиционеры исчезли, так же внезапно, как и появились. И они действовали верно. Таких, как мы с Ромой, нахрапом, напором, излишними эффектами и шумом не возьмешь. С такими, как мы, надо действовать именно так, как они и действовали – тихо, точно, осторожно, перепроверяясь, не поддаваясь эмоциям, не принимая ничего на веру, довольствуясь тем, что есть, хотя и желая гораздо большего. Только так, и никак иначе. И меня они не нашли только по чистой случайности. Они обязаны были найти меня – там, под кустом душистой малины. Но что-то им помешало. Случайность им помешала. Или мое мастерство. Я сухонько засмеялся. Под кустами малины мне было покойно и уютно. И даже тепло (хотя осенний воздух каждую ночь уже угрожающе начинал дышать холодом). Я мог бы даже уснуть сейчас, одурманенный запахами и успокоенный теплом. Мне казалось сейчас, что и нога-то у меня перестала болеть. Да, да, перестала. Я вздохнул глубоко и удовлетворенно, радостно улыбаясь, и что-то напевая лирическое, и рывком… и рывком, приложив все силы, которые мог, оторвался от земли, встал сначала на колено, а потом и поднялся полностью. Мокрые листья малины коснулись моего лица, оставив на нем прохладную влагу. Я огляделся. Над тем местом, где, по моим предположениям, находился дом Ники Визиновой, я увидел в небе розовые отблески. Крепко, наверное, сейчас горел дом мужа Ники Визиновой. Когда мы уже уходили, он едва-едва занимался, а сейчас, верно, уже пожар достиг своего апогея. Я ухмыльнулся – не повезло мужу Ники Визиновой. Нога у меня все-таки болела. Да еще как. Боль при любом движении уходила в сердце, а потом в плечо и дальше в голову. Я едва сдерживался, чтобы не кричать. А я очень хотел кричать. Очень. Я вздохнул и выдохнул несколько раз, собираясь, готовясь, и наконец сделал шаг. И земля подо мной не помчалась вперед и не покатилась назад, и не стала раскачиваться, и не стала подпрыгивать. Нет, наоборот, мне показалось, что она помогла мне, затормозив на какое-то время свое движение по космическому пространству. Я должен был идти. И я пошел. Куда я шел, я не имел никакого понятия, но я шел. И я знал, я твердо знал, что главное – идти. И я знал, что если я буду действительно все время идти и идти по тому пути, который явыбрал, я обязательно приду туда, куда направлялся, независимо от того, в какую сторону я шел. Я шел. Ноги путались в траве. Руки то и дело натыкались на стволы деревьев, на дома, на заборы. Я шел. Я обходил дома. Я преодолевал заборы. Я шел. Человека, вставшего на моей дороге, я узнал не сразу. Как я догадался, он вышел из-за дерева, потому что других мест, где бы он мог прятаться, поблизости я не приметил. Когда я наконец доковылял до человека и в упор взглянул на его лицо, нога у меня заболела еще сильнее, а обожженное болью сердце прыгнуло к самому горлу. «Как ты здесь оказался, Касатонов? – прошептал я. – Что ты здесь делаешь? Ведь ты третий год уже лежишь в психушке. Я знаю. Я сам навещал тебя там». …Касатонов служил в той же роте разведки, что и я. Он был снайпером. В роте все профессионально стреляли. Ну, может быть, за исключением меня (инструкторы особо не наседали на переводчиков), но Касатонов стрелял лучше всех. Он даже из тяжелого АКМ все пули до одной клал точно куда хотел. Фантастика. Но так было. Иногда он с позволения начальства уходил в свободный поиск. Закидывал винтовку и автомат за плечи и уходил. Приходил денька через два, небритый, усталый, отдавал командиру снятую фотопленку и заваливался спать. А мы тотчас проявляли пленку и по очереди рассматривали фотографии. Фотографии были такие. На одной бандит еще живой. На другой уже труп. Интересные фотографии. Мне нравились. И всем нравились. Скольких людей убил Касатонов, он нам не рассказывал. Но по подсчетам нашего командира, выходило, что больше полутысячи. В Москве у Касатонова оставалась жена, которую он очень любил. (Это было видно, что он ее любил. Видно, и все тут. Он даже во сне ее имя шептал. Я слышал. Он ночью ее фотографию целовал. Я видел. Он писал ей письма каждый день. Я был свидетелем тому.) Трудно судить о человеке, вернее, о его внешности, по фотографии. Фотография может сделать некрасивого красавцем, а красавца уродом. Но из такой красавицы, как жена Касатонова, я был твердо убежден, не красавицу сделать было невозможно. Она и вправду была очень красива. Жены часто уходят от воюющих солдат. Это так, И от Касатонова вот тоже ушла его красавица жена. Когда он вернулся с войны, квартира его уже была пуста. Нет, он не пошел убивать свою бывшую жену. Он не пошел убивать и ее любовника. Нет. Он на месяц заперся в квартире (еду ему приносила соседка, но она не видела его, когда приходила, она оставляла продукты на кухне и забирала лежащие там деньги), а потом через месяц, вымытый, чисто выбритый, прекрасно одетый, благоухающий, пошел-поехал по стране искать похожую на свою жену женщину. Занял денег у друзей и поехал. Через полтора года я узнал, что он лежит у нас здесь в Москве, в психиатрической лечебнице. Я навестил его там, я поговорил в докторами. Оказалось вот что. Касатонов исколесил всю нашу страну в поисках женщины, похожей на его жену. Точь-в-точь такую же он, конечно, не мог найти, и не нашел, понятно. Но всем женщинам, которые хоть отдаленно напоминали его жену, он пытался, насколько возможно, сделать добро. Он дарил им цветы и конфеты, он приглашал их в кино и рестораны, он писал им стихи и рисовал их портреты, и он дрался с их мужьями, братьями, отцами, если считал, что они не очень хорошо относятся к той женщине, которой он в данный момент делал добро. Его забирали в милицию. Но потом отпускали. И он ехал дальше… В Ленинграде, отчаявшись, он как-то ночью просто пошел по квартирам выбранного им дома. Ему показалось, что женщина, похожая на его жену, по каким-то причинам сидит где-то в квартире и никогда не выходит на улицу… И Касатонова опять забрали в милицию. А потом отправили в психолечебницу… Под конец нашей с ним встречи он сказал мне: «Возьми фотоаппарат и снимай всех людей подряд и приноси мне. Может быть, я все-таки еще найду ее…» «Как ты оказался тут, Касатонов?» – повторил я. Касатонов ничего не ответил мне. Он только немного повернулся вбок и вытянул руку в темноту, словно указывая, куда мне идти, «Они там? – спросил я Касатонова. – Они там?» А Касатонов снова не ответил. А потом и вовсе исчез. Опять, наверное, зашел за то дерево, из-за которого появился минуту назад. Я не стал искать Касатонова. Я не стал звать его. Я как можно скорее поковылял в ту сторону, в какую он мне указал. И снова я топал по грядкам, продирался сквозь кусты, перелезал через заборы. Но конца пути пока не видел. Долго я шел, долго… Дверь одной из неосвещенных дач отворилась, и на порог вышла женщина. Но на сей раз я уже не вздрогнул, внутренне я уже был готов к странным встречам. Я приблизился к дому. На крыльце стояла моя одноклассница Лена Самонина. Она уже несколько лет живет в ЮАР, и за эти несколько лет так ни разу и не приехала в Россию, не хотела, не желала. Так что вряд ли она сегодня могла объявиться здесь. Но после встречи с Касатоновым я уже ничему не удивлялся. Лет пять назад, а может быть, и шесть, нет, все-таки; пять, я уже полгода, помню, как пришел с войны, Лена Самонина влюбилась. Смертельно. Увидела его, мать ее, и влюбилась, дура. С первого взгляда, с полувзгляда, с полуслова, с полунамека, В спину его влюбилась, в затылок, и даже в скошенные каблуки его недорогих ботинок. А когда он подошел к ней знакомиться (это было на международной конференции по проблемам экологии питания, кажется), она, дура, едва в обморок не свалилась. Но не свалилась, дура. Они, конечно, гуляли по ночной и утренней Москве. Они пили вино в ресторанах, они кутили в мастерских знакомых художников, они тусовались на презентациях и других достойных мероприятиях, и все было хорошо, и все было замечательно, если бы дело не дошло до секса. Вот тут-то и вышел конфуз. Мало того, что возлюбленный Лены был негром, но еще к тому же оказался и гомосексуалистом, даже не бисексуалом, а чистым-чистым гомиком, мать его… Лена ему, конечно, очень нравилась, и он, наверное, ее даже любил, но как подругу любил, а не как партнершу, не как женщину, а как нечто абстрактное, как человека… Они плакали, они рыдали, они едва не покончили с собой, вернее, Лена едва не покончила со своим возлюбленным и с собой, сначала с возлюбленным, а потом с собой, едва, едва… Но потом она нашла выход. В экстремальной ситуации всегда находишь выход. Использовав все свои связи, Лена легла в специальную клинику и сделала себе операцию. Она лишила себя груди, и ей пришили мужской половой орган. Радости негра не было предела, Он тут же предложил Лене руку и сердце и увез ее к себе на родину, в ЮАР. Я слышал, что Лена там очень счастлива. Очень счастлива… «Где они?» – просто, даже как-то буднично спросил я у Лены, (Лена была одета в классный мужской черный костюм, она была коротко острижена, и во взгляде ее я прочитал неженскую твердость и уверенность.) Лена вытянула руку и указала мне путь. Я кивком поблагодарил Лену и пошел прочь от дома. Я весь в поту, весь, от пяток до макушки. Пот заливает глаза. Пот заливает рот. Я сплевываю пот на траву, и темне менее немного пота все равно остается у меня на губах и его вкус вызывает у меня тошноту… А потом мои плечи вздрагивают, а вслед за плечами вздрагиваю и я весь, а потом и просто начинаю дрожать, и начинаю мерзнуть, и мой пот холодеет, и мой пот леденеет, а после мне еще начинает казаться, что я снежная баба, слепленная мною самим несколько десятилетий назад, когда-то, когда я еще был… И тотчас, как только я принимаюсь думать о том, что я был, меня бросает в жар, и пот мой превращается в расплавленный металл, который прожигает насквозь мою кожу, забирается внутрь и трогает сердце… Я вижу качающуюся на качелях женщину. Женщина качается и неотрывно смотрит на меня. Я нахожусь совсем рядом от нее. Я узнаю ее. Мы работали с ней в одном институте. Она занималась средними веками и имела ученую степень кандидата исторических наук. Я хорошо помню ее. Она была умная женщина. И очень привлекательная женщина. Почему была? Она есть. Она жива. Ее зовут Лида. А фамилия ее была, нет, есть, есть, сейчас вспомню, Москитова, да, да, Москитова, такая у нее фамилия. Я не удивляюсь, что она тут, в дачном поселке, ночью, да еще качается на качелях. Я знаю, что ее не должно быть здесь, что она сейчас сидит в тюрьме, но тем не менее я не удивляюсь. …Лида вдруг стала во сне видеть одного и того же человека. Мужчину. Красивого. Обаятельного. Умного, Дорого, со вкусом одевающегося. Доброго. Не пьющего. Не курящего. Преданного. Заботливого. Мужественного. Одинаково хорошо владеющего утюгом и пистолетом. Богатого. Решительного. Целеустремленного. Высокого. Спокойного, Уверенного. Настоящего. Каждую ночь она видела его. Каждую ночь говорила с ним. О разном. И об истории тоже. И о кулинарии. И о звездах. И об июльских бабочках. И об Уильяме Блейке. И о Гийоме Апполинере. И об Оливере Стоуне. И о Джоне Уэйне. И о видах на урожай. И о теории относительности, И о Наполеоне. И… вообще, о жизни. Но вот Лида просыпалась и видела в своей постели своего мужа. И ей не хотелось вставать. И ей хотелось спать дальше. Но надо было вставать, И кормить мужа. И провожать его на работу. А потом и самой идти на работу. И она вставала. Кормила. Провожала. И уходила. Прошло время. За того, который являлся к ней во сне, Лида уже вышла замуж, и завела с ним детей – шестерых. И все у них там было хорошо, во сне. И все было славно. Так не бывает, наверное, в жизни. Или бывает. (Только вот у Лиды Москитовой не бывало.) Там, во сне, все было хорошо, а тут, наяву, опять надо было вставать, кормить. И бежать на работу. Однажды тот муж, тот, который приходил к ней во сне, вгляделся в нее внимательно и произнес осторожно: «Мне кажется, ты изменяешь мне…» И утром Лида Москитова убила своего реального мужа. Она несколько раз ударила его по голове молотком для отбивки мяса. В тюрьме, рассказывали мне сослуживцы, навещавшие Лиду, она все время спит. И днем. Стоя. Или сидя. Работая, или отдыхая. Сослуживцы рассказывали мне еще, что Лида говорила им, что нет никого на целом свете счастливее ее… «Я рад тебя видеть», – сказал я Лиде. Честно говоря, я не знаю, действительно ли я был рад ее видеть. Но надо было что-то сказать, и я сказал, что рад ее видеть. Вместо ответа Лида указала мне рукой направление, в котором я должен двигаться. Я улыбнулся Лиде и, не говоря больше ни слова, отправился в путь. Теперь у меня болела не только нога, теперь у меня болело все тело. Как удавалось мне идти, я не знаю. Но я шел. Шел, и не кричал, и не стонал, и не кряхтел. Я шел тихо. Молча. Я боялся спугнуть Рому и Нику. И маленького Мику. А они находились где-то здесь, рядом. Только бы не упасть, только бы не упасть, говорил я себе; если упаду, то, наверное, уже больше не поднимусь… Я ломал кусты, я переползал через заборы. Я обнимал деревья, высасывая из них силы для себя. Дмитрий Иванович Молотовников сидел на лавочке за летним столиком и внимательно читал газету. Что он там мог видеть в темноте, мне было непонятно, но факт остается фактом – он сидел и ч и т а л в темноте газету. Может быть, очки, которые висели на его носу, были инфракрасными? Дмитрий Иванович дружил с моим отцом. После смерти отца я не раз навещал Дмитрия Ивановича. Я знал, конечно, хорошо и его жену, Марию Степановну, Машечку, как называл ее Дмитрий Иванович. Машечка умерла от редкого для женщин инфаркта. Я помню, на поминках ее я безбожно напился. Я помню. После смерти жены в жизни Дмитрия Ивановича мало что изменилось. Мало. Дело в том, что для него Машечка продолжала жить. Он будил ее по утрам, он готовил ей завтрак, он гулял с ней по городу. Он уезжал с ней на дачу. Я знаю, так часто бывает у людей, которые долго прожили вместе. Тот, кто не умер, тот, кто остался в живых, не может смириться со смертью любимого, и ему или ей кажется, что он или она живы. У кого это проходит, у кого нет. У Дмитрия Ивановича такое состояние не прошло и через три года. Я помню, как-то приехал навестить его на даче, а он, вместо того чтобы ухаживать за мной, все бегал вокруг стула, где якобы сидела Машечка. Я не обиделся, конечно. А вот сам Дмитрий Иванович обиделся. Ему показалось, что я пренебрежительно поздоровался с Машечкой, и он попросил меня, чтобы я исправил свою ошибку. «Пойди, – сказал он строго. – И поцелуй Машечке руку». Я улыбнулся, и кивнул согласно, и встал, и подошел к стулу, где якобы сидела Машечка, и хотел было уже сымитировать, что я целую Машечке руку, как, к ужасу своему, почувствовал чье-то прикосновение к своей руке… Я почувствовал, что кто-то невидимый кладет свою холодную руку мне в ладонь. Я едва сдержал крик страха. Сжав зубы, я склонился и поцеловал то, что лежало у меня на руке. Я ощутил губами холодную кожу… Я отнял губы и нащупал пальцы… Я вытянул другую свою руку и наткнулся еще на что-то. Я пробежался пальцами по предмету, и понял, что это лицо. Судя по всему, действительно лицо Машечки. Глаза у Машечки моргали, а губы были влажными и теплыми… И тут я окончательно понял, что со мной что-то не в порядке. Я обернулся к Дмитрию Ивановичу. Старик смотрел на меня и улыбался, и успокаивающе покачивал головой. Нет, со мной, конечно же, все было в порядке. И с Дмитрием Ивановичем тоже все было в порядке. Дело в том, что Машечка действительно была рядом с ним. Он очень хотел, чтобы она была рядом – хоть и невидимая – хотел, чтобы ее можно было поцеловать. Вот она и пришла. Дмитрий Иванович поднял глаза и посмотрел поверх газеты через свои инфракрасные очки. Увидев меня, он разжал пальцы, и газета мягко упала на стол. И я услышал, как она зашуршала, падая на стол, – по-настоящему. Я протянул руку и ухватил газету и быстро протянул руку к Дмитрию Ивановичу. Дмитрий Иванович отпрянул от моей руки. Дмитрий Иванович не хотел, чтобы я дотрагивался до него. Я помню, да, Дмитрий Иванович никогда не любил, чтобы до него кто-либо дотрагивался, кроме Ма. Дмитрий Иванович даже здоровался неохотно, и поскорее отдергивал пальцы, когда кто-то, приветствуя Дмитрия Ивановича, пожимал ему руку. Так что мне, наверное, так и не придется узнать того, что я хотел узнать сейчас о Дмитрии Ивановиче – а конкретно, есть ли сейчас тут на самом деле Дмитрий Иванович или сто тут нет, и он мне только видится, и он мне только кажется, и он мне только грезится. Дмитрий Иванович снял очки (инфракрасные они или нет, в сей момент уже было неважно), повертел их в руках, наморщил лоб, словно решаясь на что-то, и потом нехотя поднял руку и указал мне пальцем направление, в котором я должен идти, и затем тряхнул головой, вроде как даже жалея о том, что уже сделал, и быстро опустил руку, и снова надел очки, и нагнулся за газетой, которая лежала теперь под столом, на траве, поднял ее и принялся внимательно ее читать – в темноте – с помощью своих обыкновенных инфракрасных очков. Я кивком поблагодарил Дмитрия Ивановича и захромал в ту сторону, в какую он указал. Я слышал вой ветра, я слышал топот муравьев, я слышал звон лесной паутины, я слышал рев раненого единорога, я слышал молитву умершего Ромео, я слышал грохот тысяч танковых гусениц, я слышал шорох летящих облаков, я слышал треск разламывающихся льдин, я слышал тарахтенье собственных мыслей, я слышал гудение земного огня, я слышал шепот всех, кто любит меня, я слышал тех, кто ненавидит меня, я слышал пульсацию Вселенной, я слышал, я слышал, я слышал, я слышал… Но когда, сухо прошелестев в воздухе, вверх взлетели три белые слепящие ракеты и когда они осветили все вокруг, все, все, все, что было и здесь, и там, и впереди, и сзади, и слева, и справа, и под ногами, и над головой, звуки, которые я слышал ранее, мгновенно исчезли, будто их и не было вовсе – тишина раздавила их, разом, без излишней суеты и без всякого шума. Случилось так, наверное, потому, что вся моя энергия теперь (после того, как попали на небо осветительные ракеты) – переключилась со слуха на зрение, полностью, без исключения. Я слышал теперь только себя – собственное дыхание и шипенье двигающейся по телу крови, мягко-упругий стук сердца и еще, кажется, легкое урчание в желудке и еще, кажется, слабое бульканье слюны во рту и пищеводе, и еще, кажется, что-то такое, чему не могу сразу дать определения. Когда в небо ворвались осветительные ракеты (милиционеры, как я понял, отчаялись найти нас в темноте), я в ту же секунду увидел Нику, Рому и Мику. Всех троих. Они находились метрах в пятидесяти от меня, в дальнем углу дачной территории, на которой я сейчас пребывал, возле обглоданных осенью смородинных кустов. Или малиновых. Мика лежал на земле – я видел. А справа и слева от него стояли на коленях Рома и Ника. В поднятых над головой руках Ромы я заметил нож, обыкновенный десантный, с широким лезвием. Лезвие Роминого ножа – я видел – было в крови. Я споткнулся и упал. Выматерился глухо, в землю… Ника тоже держала нож – я видел. И на лезвии ее ножа, – того самого столового, которым она убила Бойницкую, – тоже блестела кровь. Я встал на одно колено и затем, кряхтя, и сдавленно вскрикивая, поднялся на ноги. Я вынул револьвер из-за пояса. «Я разнесу к чертям твои больные мозги, Рома, – громко проговорил я, – если ты сейчас хоть чуть пошевелишь руками, мать твою!…» Они повернулись ко мне одновременно – и Рома, и Ника, и когда я увидел их лица, я едва сдержал крик изумления. Рома и Ника были сейчас похожи друг на друга, как брат и сестра, как близнецы. Их лица были неотличимы друг от друга – бледные, высохшие, морщинистые, неподвижные, безжизненные, стариковские. Только в глазах у них я заметил какое-то подобие жизни. Глаза их пока блестели и зрачки их, как мне показалось (с того расстояния, которое отделяло нас), еще двигались. Видимо, не все еще успели сделать на этой земле Рома и Ника… Господи, дай мне силы, я же ведь так люблю этих людей! Если бы ты только знал, как я их люблю!… Рома, как мне показалось, даже и не обратил внимания та направленный на него револьвер, он только лишь недолго посмотрел мне в лицо, затем снова повернулся к Мике. И Ника вслед за ним повернулась к Мике. Руки Ромы дрогнули. «Не сметь! – что есть силы заорал я. – Не сметь, сука! Я убью тебя! Не сметь!» Но как только затих звук моего голоса, Рома обрушил нож вниз. И тогда я выстрелил. Голова у Ромы дернулась конвульсивно и обессилено откинулась назад. И Рома упал. Он лежал на спине и не двигался. Так и не дошедший нескольких миллиметров до тела мальчика Мики нож валялся в жухлой траве. Рома лежал и не двигался. Мертвый. Я знал, что Рома мертвый. Я знал, что убил его. Когда Рома умер, звуки снова вернулись ко мне, и я услышал, как хрипло зарычала Ника, и я услышал даже, как хрустнули от напряжения ее руки, сжимавшие нож. И еще я услышал, как лопнули вздувшиеся в ее глазах слезы, И еще я услышал, как Ника прошептала мое имя. И мне это не показалось. Так оно и было на самом деле. Да, она прошептала мое имя. Я сделал шаг к Нике – с трудом – я протянул к ней руку, ту, в которой не было револьвера системы Кольта. «Ника, – сказал я Нике, – я люблю тебя, Ника! Я очень люблю тебя, Ника! Да, – сказал я, – это так. Это именно так. Поверь мне!» Но Ника, наверное, не слышала меня. Потому что она все ниже и ниже опускала руки с зажатым в них столовым ножом, все ниже и ниже, все быстрее и быстрее… «Ника, Ника, постой, Ника! – сделал еще шаг к Нике и еще один, и все тянул руку к Нике, тянул, тянул, – Ника, Ника…» Я не ожидал, что Ника ударит мальчика, нет. Совсем не ожидал. Но она ударила. Нож наполовину вошел Мике в грудь. Достаточно сильный удар нанесла женщина. И я закричал тогда протестующе и замахал руками. А Ника выдернула нож и снова подняла его… И в тот момент я выстрелил. Пуля попала Нике в висок. Взметнув руками, Ника упала в мокрую траву. На траве уже вздрогнула всем телом, вытянулась напряженно и замерла. Я отбросил револьвер в сторону. Он мне показался очень тяжелым, Он мешал мне идти. Доковыляв до Мики, я упал перед ним на колени. В небо ушло еще три ракеты. Я поднял глаза к небу и одобрительно кивнул. На груди у Мики, на его клетчатой рубашке, темнело большое неровное бордовое пятно. Я разорвал рубашку и вслед за ней вымоченную в крови майку. Не испачканной частью майки стер кровь с груди мальчика. Три раны зияли в груди. Ни одна из них не находилась точно против сердца, но я все равно знал, что по крайней мере две из этих ран смертельны. На войне я не раз видел такие раны. Я пощупал у Мики пульс на шее, приложил ухо к его груди и для перепроверки пощупал еще пульс на руке, нет, сердце не билось. «Так, – сказал я. – Так». Опершись двумя руками на грудную клетку мальчика резко надавил на нее. И еще. И еще. Я понимал, что при таких ранениях я не имел права делать массаж сердца. Но что-то ведь надо было делать. Нет! Нет! Я все делаю не так. Я все забыл. Все забыл. Ведь сначала надо было перевязать рану. Да, да. Я разорвал рубашку мальчика на длинные полосы, затем снял с себя куртку и свитер, а потом и рубашку и тоже разорвал ее на длинные полосы. Я связал куски рубашек и принялся таким импровизированным бинтом перевязывать мальчика. «Так, – говорил я. – Так». Наконец я перевязал Мику. Туго. Перевязка, как мне хотелось надеяться, остановила течение крови. Теперь можно снова приниматься за массаж сердца. Я когда-то умел это хорошо делать. Умел. Я помню. «Не шевелись, сука! – услышал я громкий напряженный голос за спиной. – Или я раздолбаю тебе башку, сука!» Я осторожно, пытаясь особо не поворачиваться, посмотрел по сторонам. На поляне слева и справа я увидел нескольких работников милиции в форме, и еще нескольких людей в штатском. «Теперь руки за голову, – проговорил тот же голос. – И медленно. Медленно!» Я подчинился. А из-за моей спины тем временем вышел Атанов с пистолетом Стечкина в руках. Улыбаясь, он сунул мне ствол в нос и сказал: «Ну что, сейчас тебя завалить, сука, или подождать, пока ты в штаны нассышь?!» – «То, что ты меня полюбил с первого взгляда, – сказал я, – я это понял давно. Но то, что ты получаешь кайф еще и от запаха моей мочи, об этом я узнал только сейчас. Мне очень лестно, милый». И я сухо рассмеялся. Атанов замахнулся на меня пистолетом, но ударить не успел – вытянутой рукой я двинул ему по сгибу коленей. И когда он упал, ошеломленный, я выхватил у него из руки пистолет, приставил ствол пистолета к его глазу и крикнул остальным: «Не двигаться, а то я убью этого дурака. – И, взглянув на испуганного Атанова, сказал ему: – И я действительно убью тебя, если ты сейчас будешь мешать мне делать мою работу. Видишь, вон лежит мальчик, – я кивнул в сторону Мики, – он уже мертв. Минуту или две. Он мертв. Но я хочу попробовать хоть что-то предпринять. Хоть что-то…» – «Атанов, делай, что он говорит», – услышал я над головой чей-то низкий голос. Я поднял глаза. Метрах в десяти от меня стоял полковник Данков. Я отпустил Атанова и отдал ему пистолет. Атанов сунул пистолет в кобуру, встал и молча пошел к Данкову. А я повернулся к мальчику, положил ему руки на грудную клетку и снова надавил на нее. Раз. Другой склонился над лицом мальчика. Прижал свои сухие, пергаментно шуршащие губы к его уже холодным и уже твердым губам, к его уже застывшим и уже покрытым ледяной коркой губам, и выдохнул в него длинно весь воздух, который был у меня в легких. Освободился. Отдал. Насильно. Грозно. Разгневанно. Взволнованно. Требуя возвращения. Умоляя о принятии. И снова, сосредоточившись и собравшись – мгновенно, секундно вспомнив все, чему учили, забыв обо всем, что помнил, превратившись из человека в реанимационный аппарат, я надавил Мике на грудь. И еще. И еще. И еще. И метнулся вслед ко рту мальчишки, вдувая в него насыщенный моей жизнью воздух…Сколько раз я тормошил его сердце и впихивал в Мику жадно забранный мною воздух, я не могу сказать, не считал. Много, очень. И я бы продолжал делать то, что делал еще час или два, или день, или месяц, пока не упал бы, обессиленный, нет, пока не умер бы, наверное, именно так, если бы не остановил меня, мягко, но требовательно взяв меня за плечи, полковник Данков. «Все, – сказал он. – Хватит. Ты же видишь. Он мертв. Бесполезно. Ты ничего не сможешь. Не получится…» И я взревел тогда, свой голос не узнавая, и что есть силы отпихнул Данкова, так что тот отпрянул и сделал по инерции несколько шагов назад и даже едва не упал. «Не получится?! – хрипло выцедил я. – Значит, не получится? Значит, я не смогу? Так ты говоришь, да? Не смогу, значит?! Мать твою. Не получится, да?!!!!» И я закрыл глаза, и я стиснул зубы, и я вдавил голову в плечи, и я склонился к своим коленям, и я лег на них своей грудью. Я ощутил тогда, когда наконец сжался в твердый напряженный гудящий комок, каждую часть своего тела, каждую крохотную его часть. Я чувствовал себя всего, полностью, целиком. И когда я это осознал – а это случилось мгновенно, – то внутри меня тотчас вспыхнул Свет. Настоящий свет, белый яркий, ослепительный. Дала, так оно и было. Я смотрел в себя и видел, что я весь состою из света, что я – сгусток ярчайшего, неземного света. Не отдавая себе отчета, что я делаю, я потянулся руками к мальчику Мике. Глаз своих я так и не открыл, но тем не менее я видел, как мои светящиеся руки легли мальчику на грудь, видел, как вытекший из них свет медленно потек по телу Мики, видел. Сначала он влился в сердце, затем в легкие, затем в печень, затем… «Смотри, Антон, звезда падает, – услышал я слабый шепот. – Падает…» И в тот момент свет внутри меня потух, будто кто сделавший свое дело выключил его, и я открыл глаза, протер их пальцами, посмотрел на небо и сказал мальчику Мике устало и нехотя: «Это не звезда. Это обыкновенная армейская осветительная ракета» – «Жаль, – прошептал Мика. – А я уже желание загадал»! Я достал сигарету и закурил. Дым пах горелыми тряпками и почему-то рыбьим жиром. Но я все равно курил. Привычка. «Какое желание?» – спросил я Мику. Мика подумал немного и сказал, усмехнувшись: «Я пожелал, чтобы ты бросил курить». Я кинул сигарету на траву и придавил ее каблуком. «Твое желание исполнилось, – сказал я. – Я бросил». И мы рассмеялись. Я и Мика. Мика и я. Я выпрямил спину и потянулся с удовольствием. И огляделся, потянувшись. Я увидел Атанова, с открытым ртом глядящего на Мику. Я увидел Данкова, растирающего рукой свою грудь, будто у него болело сердце. Я увидел вокруг множество людей с застывшими в изумлении лицами. И еще… И еще я увидел слезы на щеках полковника Данкова. Вот забавно, подумал я, крутой полковник Данков плачет. Плачет и не стесняется. Или нет, все же стесняется. Стесняется. Вот он поймал мой взгляд, отвернулся тотчас и заорал зверским голосом: «Вертолет сюда с медиками! Передайте, что у меня тут двое раненых! Быстро, мать вашу! Быстро, суки бездельные, или всех повыгоняю, мать вашу, уроды!» А вслед за Данковым, я услышал, стали материться и все остальные – все разом – и милиционеры в форме, и милиционеры в штатском, все разом – громко, открыто, отчетливо, веско. А еще они стали смеяться. Они просто заходились от хохота. И отсмеявшись и отдышавшись, они опять продолжали материться – с еще большей настойчивостью и силой, чем до того, как засмеялись. А еще они кричали. «Аааааааааааааааа!» – они кричали. «Оооооооооооо!» – они кричали. А некоторые, я слышал, еще и пели. Песни были залихватские и совершенно мне не знакомые. Вот как. Кто-то подошел ко мне, я не видел, кто, и обнял меня, стоящего на коленях в траве, а кто-то просто потрепал по голове, а кто-то хлопнул по плечу, а кто-то и поцеловал даже, крепко, в самые губы. Я кивал подходившим, улыбался и говорил: «Спасибо», И они говорили мне тоже: «Спасибо». «Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо», – говорили мы друг другу. Все подходили ко мне и говорили мне; «Спасибо», И я говорил им в ответ: «Спасибо». И Атанов тоже подошел ко мне и спросил меня: «Выпить хочешь?» Я сказал, что, конечно, хочу. И Атанов достал из кармана куртки флягу и дал мне. Я отвинтил крышку и сделал глоток. Это было виски, да, да, самое настоящее виски. И я, зажмурившись от удовольствия, сделал еще один глоток и еще один, и отдал флягу Атанову. Атанов тоже сделал глоток и передал флягу кому-то из милиционеров. Милиционеры делали по глотку и передавали флягу своим товарищам. Очень жалко, что на всех была только одна фляга. А потом кто-то выстрелил в воздух. И вслед задним вес стали стрелять в воздух. Из пистолетов и автоматов. И Данков закричал тогда: «Перестаньте палить, вашу мать, ублюдки. Вертолет собьете!» И милиционеры грохнули в ответ дружным смехом. Все как один, все как один. И я тоже засмеялся. И Мика тоже засмеялся. Нам было весело, и потому мы смеялись. Ко мне подошел смеющийся Данков и крикнул, перекрывая грохочущий смех. «Сейчас подойдут ребята с носилками и отнесут парня к машине. Вертолет уже в пути. Но здесь он вряд ли сможет сесть, деревья вокруг. Мы нашли поляну, – он махнул рукой, – там, метрах в трехстах» – «Нет, – сказал я, перестав смеяться. – Не надо носилок, я сам отнесу его в машину» – «Но твоя нога», – хотел было возразить Данков. «А она уже не болит, – сказал я. – Нисколечко не болит. Правда-правда». И, не вставая пока с колен, я склонился над Микой, подсунул под него руки и поднял его. Когда я брал Мику на руки, я нарочно не смотрел на убитых мною Нику и Рому. Я не хотел видеть их мертвые лица, Я хотел, чтобы в моей памяти остались их живые лица. Только живые их лица, и никак не мертвые лица. Я видел, как Ника и Рома упали после моих выстрелов. Но и все. Я не смотрел на них, лежащих, когда подходил к Мике. И я не хотел смотреть на них и сейчас, когда находился совсем близко от них, совсем рядом с ними. Я не хотел. Не хотел. Нет. Я оперся о землю ступней правой нога и рывком поднялся. Боль прошила все внутренности. Вонзилась в голову. Но я не скривился. Я даже глаза не закрыл. Я только прикусил нижнюю губу, да и то не крепко, не до крови. Я глубоко вздохнул, с напором выдохнул и сделал первый шаг. Я должен был идти. И я шел. «Ты правильно поступил, что вернул меня», – серьезно сказал лежащий у меня на руках Мика. «Я знаю», – сказал я. «У меня тут еще много дел», – сказал Мика. «Я знаю», – сказал я. Поврежденная нога подогнулась, и я упал. Я рухнул на согнутые локти, но Мику из рук не выпустил. Мика завис в моих руках сантиметрах в пяти над землей. Лежал тихий смотрел на меня спокойным уверенным взглядом. «Ты встанешь», – сказал он, едва шевельнув губами. «Я знаю», – сказал я. Я подтянул здоровую ногу, оперся на нее, приподнялся, встал, сдерживая крик боли. Мика весил теперь намного больше. Намного больше. Я качнулся вперед, шагнул. Шедший сзади и чуть сбоку Данков попытался поддержать меня, Я рявкнул на него из оставшихся сил. Он отстал. Меня шатало из стороны в сторону. Боль раскалывала печень, легкие, сердце и ногу и, конечно же, ногу… Но я шел. Шел. «Ты дойдешь», – сказал Мика. «Я знаю», – прошептал я. Я кое-как положил Мику на сиденье автомобиля и свалился рядом. Не дышал. Или дышал. Но мне казалось, что не дышал. Мне казалось, что уже умер. Или я умер на самом деле? Мне казалось, что я умер и что я рождаюсь вновь. Мгновение назад умер, а сейчас рождаюсь. Пока только рождаюсь. Но еще не родился. Я понял, что я еще не родился, потому, что я еще не видел своего лица. А я должен был видеть свое лицо. Любой ЧЕЛОВЕК видит свое лицо. Автомобиль остановился. Я открыл дверцу и выполз наружу. В десяти метрах от автомобиля громыхал вертолет, ревел двигатель и винт стегал воздух. Вертолет показался мне огромным, выше деревьев, выше облаков, выше неба… Я не удивился. Так и должно было быть. Ведь я еще не родился. И все вокруг представляется мне совершенно иначе, чем тому, кто родился, чем любому другому, кто еще не умер. Не умер и не родился. Я вытянул Мику из автомобиля, прижал его руками к груди и заковылял к вертолету. А когда машина оторвалась от земли, я увидел свое лицо. Увидел без зеркала. Впервые с тех пор, как пришел с воины. И это действительно было мое лицо. И оно мне понравилось.Николай Псурцев Разные роли капитана Колотова - Крутой парень -Супермен - Петух

Разные роли капитана Колотова

— Он еще и издевается, — сказал Лаптев и указательным пальцем выщелкнул в окно окурок. — Вот гад кривоногий… Мокрый окурок расползся на лобовом стекле «Волги»-такси, проезжающей мимо. Побагровевший таксист принялся сигналить, грозить кулаком и что-то выкрикивать яростное и страшное. — Да иди ты! — махнул рукой Лаптев и чуть притормозил, чтобы «Волга» проехала. — Я тебя выгоню, — тихо сообщил Колотов. — А че такое, че такое? — встрепенулся Лаптев, опять нажимая на акселератор. — Гад, он и есть гад и издевается еще. По всему городу за ним мотались, и только за-ради того, чтоб он нас обратно в управление привел. Так могли бы сидеть у окошка да и ждать. Ну? Правильно? Ну? — За рот твой слюнявый выгоню, — уточнил Колотов. — Постовым поставлю к урне на вокзале. Будешь гражданам указывать, куда окурки кидать. Заодно и сам поучишься. С заднего сиденья хихикнули. — На площадь-то не выезжай, — Колотов пальцем принялся разминать слегка затекшие ноги. — Тормозни на углу. Поглядим, зачем Гуляй сюда пожаловал. — Он либо наглец, — подался с заднего сиденья Скворцов, — либо одурел, балбес, от самогона и прет неизвестно куда, дороги, понимаешь ли, не разбирая. — Я думаю, он сдаваться идет, — серьезно заметил Зотов. — Пил, гулял, воровал. А вот утром сегодня проснулся, и так нехорошо ему стало, так муторно, ну просто невмоготу. Пошто же жизнь свою молодую поганю, подумал, пошто не живу как все, чисто, светло, на одну зарплату? Расплакался, надел штаны «вареные», итальянские, «Феруччи», и пошел сдаваться. — Не, — отозвался Лаптев. — Он дразнится. Засек, что его ведут, понял, что все, кранты, не деться никуда, и фасонит теперь, изгаляется. Ща потопчется возле управления и в прокуратуру нас потащит, а потом в филармонию Шульберта слушать, и будет там какой-нибудь пиликалка два часа нам уши чистить. Мы уснем, а он скок и был таков… — Ну как не стыдно, — Зотов помотал головой в знак своего искреннего душевного огорчения. — Только плохое в людях видим. Ну осталось же в нем что-то святое? — Нет, датый он, точно датый, — не отступал Скворцов. — Ишь как озирается! Очухался и никак не сообразит, куда попал. — Все, тихо, — Колотов наклонился вперед. — А вот и Питон. Молодец Нинель. Скинемся, флакончик «Фиджи» ей купим. Кривоногий Гуляй был большим модником. Кроме «вареных» джинсов на нем была еще и черная лайковая куртка и жокейская кепочка с длинным козырьком и с какой-то нерусской надписью на тулье. И он, видимо, очень радовался, что он такой модный, хоть и кривоногий. И впрямь, как приметил Скворцов, он все озирался по сторонам, но, верно, не из-за того, что не понял, куда попал, а из-за того, чтобы поглядеть, какой эффект его «варенки» производят на девочек, девушек и дам. Но девочкам, девушкам и дамам было, судя по всему, как до лампочки, до модного Гуляя, и он был этим явно расстроен и что-то говорил обидное им вслед, особенно громко в спину самым худеньким и хрупким. Бог их знает, женщины разные бывают, иная, что покрепче, глядишь, развернется и саданет Гуляя по загривку, и покатится по асфальту его нерусская кепочка, и затопчут ее равнодушные и невоспитанные пешеходы своими добротными отечественными башмаками, а иная и крикнет громово и порекомендует ему, где и в каком месте свои словесные изыски выказывать, а какая, глядишь, и милиционера кликнет. Всякие девочки, девушки, дамы бывают… А милиция, она близко, в десяти шагах. На красной вывеске возле дверей так и написано: «Управление внутренних дел». Но нет, не особо боится Гуляй милицию. Вон вышел дородный капитан, с козырьком на лоснящемся лбу, а Гуляй к нему скок и эдак развязненько, как в кинофильмах про двадцатые годы: «Разрешите прикурить, товарищ красивый милиционер». — Сволочь, — заявил по этому поводу Лаптев. — Мается он, мается, не знает, к кому подойти, — констатировал Зотов. — Беляк пришел, — догадался Скворцов. — Ща крокодильчиками кидаться начнет… Но вот Гуляй насторожился, оборвал вертеж свой по сторонам, уставился, чуть пригнувшись, в одну точку на краю площади. Этот его взгляд и проследил Колотов. Питона он еще не видел ни разу, но узнал его тотчас. Когда кого-то очень ждешь, когда очень жаждешь с ним встречи, когда по ночам снится он тебе без лица, с черным прогалом вместо него, тогда вмиг разглядишь долгожданного, даже в таком безмятежном столпотворении, что случилось сегодня на площади по поводу, видимо, прозрачно-воздушного, солнечно-синеватого сентябрьского дня. Питон был высок, крепок, черноволос, по-монгольски скуласт. Шагал он уверенно, сунув руки в карманы бананистых брюк, откинув назад полы свободного, почти бесформенного пиджака. — Он вооружен, — сказал Колотов. Видите?.. — Левый внутренний карман чуть провисает, — подтвердил Зотов. — Шеф, позволь, сниму гада с одного выстрела, — Скворцов угрожающе потянулся к кобуре под мышкой. — Я все понял, — Колотов засмеялся. — Во дураки-то мы. Подружка-то Гуляя не соврала. Все четко. — Что? — У Зотова вдруг вспотели ладони, и он незаметно вытер их о куртку. — Питон встречу назначил на площади у помойки, — Колотов обернулся и посмотрел на своих спутников. — Ну, — поторопил его Скворцов. — У помойки, — повторил Колотов. Никто не реагировал. — Вот тупые-то, — Колотов дернул головой. — У помойки, у мусорской конторы, значит. У нашей с вами, значит, конторы. — У-у-у-у, тварь, — злобно протянул Скворцов. — Не вынесу этого, шеф! Дай стрельнуть, дай! — Здесь задерживать нельзя, — Колотов потер подбородок. — Народу тьма. Гуляй и Питон наконец встретились. Пожали руки друг другу, как порядочные. Огляделись, как им показалось, незаметно и бодренько направились прочь от «помойки». Лаптев завел двигатель, и «жигуленок» выкатил на площадь. Посреди площади расположился овощной базар. Пестрые ларьки с меднолицыми, горластыми деревенскими кооператорами за прилавками. А вокруг веселые, гомонящие покупатели, затаившие от восторга дыхание, взирающие на обилие овощей и фруктов. Дождались все-таки. Спасибо областным властям, соблаговолили наконец, потрафили покупателю, позволили витаминов вкусить по сходной цене, недешевой, но не рыночно-гангстерской! Слава богу! Колотов заприметил каких-то ребят с фотоаппаратами среди толпы, с магнитофонами «Репортер» наперевес. Сегодня вечером по радио трезвон будет, а то и по местному телевидению, ну а завтра подборочка в областной газете, это уж точно. Пока объезжали базар по краю площади, на несколько мгновений потеряли из виду модную парочку, а когда наконец обогнули последний павильон, оказались от них метрах в десяти. Те преспокойненько поджидали автобус на остановке. — Плохо, — сказал Колотов. — В такси было бы проще их брать. Что у них, бабок нет, что ли?! — Экономят, — Зотов опять обтер ладони о куртку. — Денежка счет любит. Копеечка к копеечке… На остановке возле парочки томился тот самый дородный милиционер, у которого Гуляй прикурить попросил. Он нервно притоптывал ногой. Невтерпеж ему было. Спешил, видать, куда-то. — Лобенко сменился, — хмыкнул Скворцов. — Домой мчится. Его там диван ждет и щи тещины, жирные, густые. Она у него в столовке работает. Он на тещу два раза бэхээсников напускал. Стращал. Она его теперь и вовсе на убой кормит. Успокоился… А Лобенко словно учуял, что о нем говорят, вперся взглядом в машину, а потом заулыбался, залоснился, руки распахнул, словно Гуляя с Питоном обнять захотел. Те шарахнулись в сторону, побледнев мигом, а Лобенко уже бежал к машине, топая по-слоновьи. — Идиот! — процедил Колотов. — Чему учили?! Давай, Митя, жми, пока он нас не спалил. Машина рванулась, будто ей кто доброго пинка дал, ввинтилась в поток на улице Коммунаров и через несколько метров вильнула в проулок. — Эй, Колотов! — донеслось сзади зычное. — Погодь! И растаяло умирающим эхом: «Погодь… погодь… погодь…» — Все, — сдавил сильно виски Колотов. — Опять придет ночью, только теперь с лицом. — Кто? — не понял Зотов. — Кто? — не поняли остальные. — Да это я так, — Колотов махнул рукой и повернулся к Скворцову. — Давай, Миша, ищи такси. — А я? — обреченно спросил шофер. — Отгонишь машину в управление, срисовали ее, Митя. Повезло. Не прошло и минуты, как к Колотову подкатила салатовая «Волга» с горделиво восседающим в ней Скворцовым. Колотов опасливо заглянул в кабину — не тот ли водила там правит, которому Лаптев неприятность на стекле сотворил. Чем черт не шутит. Нет. Шофер был другой, добродушный, пожилой, с хитрованским глазом. Подбежал наконец Зотов. Выдохнул: — Сели. На двенадцатый. По коням! Шофер весело развернулся, врубил третью скорость, гикнул что-то удальское и ухарски ворвался на улицу Коммунаров. — Куда теперича? — Он по-молодецки крутил баранку тремя пальцами. — В «Комету», «Якорь» или «Былинку лесную» на пятнадцатый километр? Колотов оглянулся на «оперов». И впрямь «фарцмадуи» какие-то, а не сотрудники — курточки, джинсики, цепочки на шеях, патлы уши покрывают, только по кабакам и шастать. А его самого шофер небось за основного принял — костюмчик деловой, добротный, рубашечка с булавкой в воротнике (шею трет, где жена ее купила?). Самому тридцать пять, а на вид все сорок дашь. Короче, те двое — «шестерки» на подхвате, а он — «деловик». Не угадал хитрованский папаша. Колотов вынул удостоверение и сунул его под нос шоферу. — За тем автобусом и держись. Только не плотно. Сечешь? Расстроился шофер, обмяк сразу, загрустил. Деревню свою вспомнил, матушку, знатную во всей округе певунью, дом на косогоре, курочек суетливых. Неужто это было? Чуть не расплакался… Гуляй с Питоном вышли из автобуса у вокзала. Глянули на часы, на расписание, что над главным входом двухэтажного длинного вокзального здания висело, и не спеша двинулись к перрону. Зотов и Скворцов направились вслед. А Колотов аккуратно вывел на путевке грустного шофера несколько слов, записал номер удостоверения и расписался. — Куплю дом в Заречье. — сказал шофер. — Дельный такой пятистенок, корову заведу, наймусь механизатором в колхоз. И гори оно все синим пламенем. Колотов вздохнул мечтательно: — Лес. Луга заливные. Навозцем тянет. Раздолье. Хорошо. Пригласишь? — А приезжай! Колотов вышел, мягко закрыв за собой дверцу. Шофер развернулся и покатил к стоянке. Увидел страждущую толпу на тротуаре и стал прикидывать, как бы облапошить распорядителя с повязкой на рукаве и набрать денежных «лохов» для поездки в аэропорт. О пятистенке он уже забыл.
Колотов догнал сотрудников, распорядился, чтобы Зотов нашел любого вокзального милиционера и попросил того связаться с работниками из отдела охраны — нужна помощь, по инструкции троих маловато для задержания вооруженного преступника, — а сам соСкворцовым поспешил за «модниками». Гуляй с Питоном тем временем резво взбежали на перрон и скорым шагом двинулись вдоль зеленого состава, который уже едва заметно подрагивал и глухо гудел, исподволь копя силы, чтобы вскорости отклеиться от перрона, от временного своего пристанища, и с шумной радостью умчаться, куда фары светят. «На юга ломятся, соколики, — отметил Колотов, глянув на табло перед перроном. — Без вещей? Бегут? Или их кто ждет там у вагона?» — Через три минуты, шеф, — Скворцов поправил кобуру под мышкой. — Вижу. Уезжающие и провожающие уже суетливо обнимались, жали руки, обещали горячо, что мол, «непременно, непременно… Как только… Ты же знаешь, я не по этому делу… Для меня только одна женщина… Ты единственный…» и так далее… Колотов несколько раз оглянулся, но Зотова так и не заприметил. У шестого вагона «модники» остановились, поозирались привычно, и только тогда Питон полез в карман и вынул билет. Проходя мимо, Колотов скользнул по его рукам взглядом. Один билет. Значит, Гуляй остается. Но в вагон они влезли оба. — Ну что? — Колотов остановился резко и хрустко помял пальцы на левой руке. — Пошли, — неуверенно подсказал Скворцов. — Давай подождем малость. — Минута, — Скворцов расстегнул молнию на куртке и тотчас застегнул ее обратно. — Лучше расстегни, — посоветовал Колотов. — Ага, — согласился Скворцов, но не расстегнул. Забыл. — Где их черти носят?! — Колотов ослабил галстук, потом и вовсе развязал его, снял и, скомкав, сунул в карман. Скворцов оттянул рукав куртки, посмотрел на часы. — Все, — сказал Колотов. — Давай. Маленькая проводница с унылым лицом встрепенулась с недоброй готовностью. — Куда? — За кудыкину гору, — процедил Колотов и взялся за поручень. — Билет! — выкрикнула проводница и схватила Колотова за руку. — Мы провожающие, — зло бросил Скворцов. — Нельзя! — лицо проводницы оживилось, загорелось радостным ожесточением. — Милиция, — едва сдерживаясь, тихо проговорил Колотов и вынул удостоверение. На мгновение проводница убрала руку. Колотов скользнул в вагон. — Ой, напужал! Ой, напужал! — пришла в себя проводница. — Милиция. Подумаешь, а без билету все равно нельзя! — Дура! — Скворцов оттолкнул ее в сторону и взлетел по железным ступенькам. — Оскорблять, да? Оскорблять?! — взвизгнула маленькая злобница. Ей было хорошо, только ради этих минут стоит жить. А так скука смертная. Колотов уже миновал тамбур, купе проводницы, с ходу врезался в необъятную даму с тихим лицом, локтем ощутил ватную мягкость груди, на миг взглянул в тоскующие глаза — провожающая — и наконец прорвался в коридор. Первое купе там уже едят, пахнет пирогами, быстро освоились; второе купе — кто-то суетливо убрал бутылку под стол; третье — радостно вскинулись дети, самый маленький вскрикнул: «Папочка…» — Я вот сейчас начальнику поезда! Я вот сейчас в Совмин напишу!.. Самому напишу! Подумаешь, милиция! — яростно горланила за спиной проводница. Из купе в середине вагона неожиданно выскочил Гуляй. Глаза растопырены, кепочка на боку. Остолбенел на миг от испуга. Мгновения достаточно. Колотов коротко ткнул его мыском правой ноги в пах. Гуляй охнул и переломился надвое, качнулся к стене и стал медленно оседать. Колотов рванул пистолет из кобуры, прыгнул к двери купе, выставил вперед руку с оружием, крикнул что есть силы: — Лицом к окну! Руки за голову! Не шевелиться! Две женщины средних лет с застывшими глазами, субтильный юноша с тонким галстучком, телом и руками их укрывающий. Смелый малый. И Питон, конвульсивно бьющийся у окна. Не открыть, голубчик. Иные теперь окошки делают, чем раньше. Удар по копчику, для острастки по затылку, правую руку на излом и Колотов шарит уже у Питона за пазухой — вот она, игрушечка, любовно телесным теплом нагретая. Колотов услышал шум сзади, глухой удар, вскрик… — Что?! — гаркнул он, обернувшись. В коридоре у окна, держась за нос, стоял Скворцов. Колотов все понял. — Держи этого, — рявкнул он. — Держи крепче. И волоки на выход. — Он рванул Питона на себя — тот завопил от боли в руке — и потащил в коридор. Скворцов помотал головой, вроде оклемался, и перехватил у Колотова руку Питона. Проводница, точно как Скворцов секунду назад, стояла у окна, прижав ладонь к губам. В глазах плескались растерянность, страх, мольба о прощении… Она в последнем усилии вжалась в стенку, срослась с ней, когда Колотов, хрипло выдыхая, будто простуженный, пронесся мимо. …Она отлипла от стены, нахмурилась, съежила лоб: что-то кольнуло под сердцем. Она потерла это место, закрыла глаза и тотчас увидела Олечку, большеглазую, кругленькую, светящуюся. Такой она была год назад… Господи, она не видела дочь уже целый год. Зачем рожала, одна, без мужа? Дура! А потом испугалась, что замуж никто не возьмет с ребенком, и отвезла девочку к матери… Целый год! Стрелять надо таких, как она! Все. Как только состав придет обратно, отпуск за свой счет и к дочке — заберу с собой, крошечку… Из купе вышел пузатый дядька со стаканом в руке. — Сдурели, что ли?! — прикрикнула она. — Какой чай, когда поезд еще не отошел! Ну я вам устрою! Она пошла в свое купе и стала придумывать разные разности, которые она устроит пассажирам во время долгого пути. На перроне у самых ступеней, припав на колено и вдавив руки в живот, корчился Зотов. Колотов яростно ругнулся, спрыгнул на колдобистый асфальт, поднял Зотову лицо: — Что?! Зотов крутил головой, скривился, выжал из себя: — Ножом… Больно… Обойдется… Оторвал от живота руку, махнул в сторону головного вагона. — Туда… — Кто-нибудь! — заорал Колотов. — Помогите ему! — и сорвался, как спринтер со старта, краем глаза уловив на перроне приближающиеся фигуры двух милиционеров. Гуляя он увидел сразу. Это было несложно — в сутолоке провожающих образовался коридор. Люди жались к краям перрона. Они словно боялись ступить на то место, где только что пробежал Гуляй. И через несколько секунд Колотов понял почему — в руке Гуляя был нож. — Сука! — вырвалось у Колотова. И затем зычный голос его пронесся над путями: — Возьму! Слышишь, возьму! Через сотню метров перрон кончился. Гуляй ловко спрыгнул на землю и помчался по рельсам, высоко вскидывая локти. Еще сотня метров, и Колотов понял, что отстает. Паршиво. А тот так и прет к пакгаузам, знает: там спасение. Там среди десятков мелких строений, заборов, тут и там набросанных рельсов, шпал ему скрыться как нечего делать. — Не дури! — закричал Колотов. — Сзади поезд! Раздавит! Гуляй споткнулся, замедлил бег, нервно завертел головой по сторонам. А Колотов мчался, не снижая темпа. На ходу он снял пиджак, скомкал его и, когда до Гуляя осталось метра три, бросил пиджак Гуляю под ноги. Тот с размаху повалился ничком. Колотов прыгнул на него и придавил коленом позвоночник. Сзади и с боков по путям бежали люди.
Некоторое время он курил возле входа в отделение милиции при вокзале. Затягивался жадно, как школьник, которого мать гоняет за курение. Гуляя и Питона уже рассадили по разным кабинетам. Надо было их допрашивать, пока не остыли. Зотова увезла «скорая». Рана, слава богу, была неопасной. Зотов заплакал, когда его клали в машину. Колотов остановил санитаров, нагнулся к Зотову и поцеловал его. И тот вдруг улыбнулся сквозь слезы. Еще затяжка, сигарета затрещала сухо и полетела в урну. Коридор в отделении был узкий, темный, с голыми, недавно крашенными стенами, с чистым, мытым скрипучим полом. Однако все равно стойко пахло табаком, потом — что делать, вокзал. «Тяжко ребятам каждый день дышать таким духом. Чертова работа». В квадратном кабинете четыре стола впритык друг к другу. Тесно. Колотов знал организации, в которых бездельники роскошествуют чуть ли не по одному в гораздо большем просторе. Питон сидел на табурете у стены и безучастно смотрел в окно. Там, постукивая, проходил состав. Вот бы сигануть сейчас, и ищи ветра в поле… Напротив стоя курил оперативник из отделения, худой, костистый, с неожиданно румяным лицом. Колотов кивнул, подошел к столу. Там горкой были свалены золотые украшения, посверкивали камни в тяжелых оправах. — Будь другом, — попросил Колотов. — Составь опись. — Еще денег четыре куска, — оперативник подвинул пачку сторублевок. — Хорошо, — Колотов взял билет, повернулся к Питону. — В Симферополь, значит, намылился, дружок? Ну-ну… Питон не реагировал. Он все еще ехал в проходящем составе. Колотов повернулся к оперативнику: — Оставь нас. Оперативник принялся сгребать в ящик стола драгоценности и деньги. Когда закрылась дверь, Колотов сказал: — Хочешь на волю? Питон напрягся. — Я спрашиваю, — Колотов повысил голос. — Ну?! — А кто ж не хочет? — осторожно усмехнулся Питон. — Правильно, — согласился Колотов. — Соображаешь. — И добавил неожиданно: — Я тебя отпускаю. Только чтоб потом меня не привлекли за преступную халатность, это все надо грамотно разыграть. Так? Питон шумно сглотнул слюну и кивнул. — Значит, — продолжал Колотов, — ты сейчас дверь на замок, мне в челюсть, табуретом в окошко и был таков, а я золотишко себе в карман, будто это ты его с собой, понимаешь, и за тобой. Бабки нужны, понимаешь? И Питон поверил. Покрутил мелко головой, шею потер, привстал, исподлобья глядя на Колотова. — Ну-ну, — подбодрил его оперативник. Питон вдруг обвалился, выдохнув, на табурет, ощерился, с ненавистью глядя на Колотова, просипел: — А ты меня в затылочек при попытке к бегству! Пух, пух! На-кось выкуси, сволочь! Колотов рассмеялся, потом перевел дыхание, обтер уголки губ, заметил просто: — И это верно. Понятливый. — Лицо его вдруг отяжелело, веки налились, нависли грузно над глазами. — Я бы удушил тебя, если б можно было… Хотя, — и лицо его немного прояснилось, — ты и так не жилец. — Это почему? — насторожился Питон. — Да потому что через день-другой я найду Стилета и кой-кому стукну, что это ты его заложил, и мочканут тебя в зоне как пить дать. — У-у-у-у-у! — Питон только и сумел, что завыть на такие некрасивые слова. — Отдай Стилета. И договоримся по-хорошему. Пока следователь не приехал. А он приедет, у нас все как полагается, чистосердечное признание, то-се… — Ну ты гад! — задыхаясь от негодования, проговорил Питон. — Ну ты гад! — Ну и ты не лучше, — отозвался Колотов. — Давай про Стилета. А обо мне не надо. Я фигура невеликая. — Хрен тебе, а не Стилет! — выкрикнул Питон, захлебываясь слюной. — Тебе его искать и искать! — Найду, — Колотов коротко и сильно потянулся, почему-то захотелось спать. — Найду и стукну… Питон низко опустил голову, замычал, как корова перед дойкой, провел ладонями по коленям, будто втирая в них какое-то чудотворное снадобье, и неожиданно выхватил из-под себя табурет, легко, словно это и не табурет был, а корзинка какая-то плетеная, поднял его над головой и хотел обрушить на Колотова, но тот опередил Питона, по-боксерски ушел влево, одновременно правой рукой ударив «модника» в живот. Питон охнул, привалился к стенке, табурет с грохотом вывалился у него из руки. А Колотов тем временем схватил его за ворот рубахи, прижал к стене и зашипел, горячо и влажно дыша Питону в лицо: — По самый твой гроб я о тебе заботиться буду! Крестничек ты теперь мой! Ни сна у тебя не будет, ни покоя, ни радости, ни удовольствия! Запомни! Запомни! — Колотов! Прекрати! — раздался сзади жесткий голос. — Отцепись от задержанного! Колотов с трудом разжал побелевшие пальцы, оторвался от Питона, обернулся. В дверях стоял начальник уголовного розыска города Доставнин, маленький, с острым лисьим лицом, с непропорционально широкими ладонями длинных, тонких рук. — Что тут у вас? — Он стремительно прошел, сел на стул. Лицо у него было недовольное, верхняя губа чуть приподнята. — Рукоприкладство? Колотов посмотрел на открытую дверь. В коридоре маячил румяный оперативник из отделения. — Никак нет, — четко отрапортовал Колотов. — Попытка нападения со стороны задержанного. Я принял меры самообороны. — Хорошо, — сказал начальник и тоже покосился на дверь. — Результаты? — Двое по делу о квартирных разбоях у Мотовой и Скарыкина задержаны. Но мне нужен Стилет. — Мне тоже, — сказал начальник. Он жестом поманил румяного оперативника. — Отведите его в изолятор. Питона увели. — Я помешал? — спросил начальник. — Да нет, — Колотов махнул рукой и устало опустился на стул. — Он еще какое-то время фасонить будет. Дурак. — Ну ты хорошо его к стенке, — Доставнин засмеялся. — Лицо у тебя было зверское. — Так он вправду на меня с табуретом. — Ну понятно, понятно, — недоверчиво согласился начальник. — Мне позвонил Скворцов, сказал, что ранен Зотов. — Неопасно, — сказал Колотов. — Не рассчитали малость. Затренькал телефон, пискляво и настойчиво. Раз, второй, третий. — Возьми, что ли, — начальник кивнул на аппарат. — Телефон, — тихо протянул Колотов и повторил: — Телефон… Доставнин вопросительно посмотрел на него. — Пошли, — Колотов встал. — Ща поглядим. Телефон продолжал звонить. Они торопливо прошагали в конец коридора и очутились в точно таком же кабинете. Гуляй сидел за столом у окна и, обхватив двумя руками дымящийся стакан, шумно хлебал чай. Куртка его была застегнута наглухо, кепочка надвинута по самые уши, но он дрожал, будто с заполярного морозца сюда ввалился. Скворцов примостился напротив. Он мрачно глядел на Гуляя и нетерпеливо барабанил пальцами по столу. Ох, как хотелось, наверное, Скворцову отомстить этому кривоногому пакостнику за свой так по-глупому разбитый нос. Но невероятным усилием воли Скворцов сдерживался. Он был дисциплинированным сотрудником и пока еще чтил социалистическую законность. — Значит, так, — с усмешкой с порога начал Колотов. — Дружок твой поумней оказался и настоятельно просил тебя не откладывая позвонить Стилету, как и договаривались. Пусть он думает, что все в порядке и Питон уехал. — А зачем? — глупо уставился на него Гуляй, стакан он не отпускал. — Так надо, — сказал Колотов. — Для твоей же пользы. Или ты думаешь, дешево отделаешься за вооруженное нападение на сотрудника милиции?! — Так все равно Питона встречать там будут, — взгляд его стал еще глупее. Колотов расслабился. Он все угадал. — Давай, давай, работай, — с довольной ухмылкой поторопил он Гуляя. Гуляй снял кепочку, в раздумье взъерошил волосы возле лба и стал похож на двоечника, решающего у доски трудную задачку — сколько же будет два плюс три. Потом пожал плечами и нехотя потянулся сухими, плоскими пальцами к телефону. Колотов встал за его спиной и вперился взглядом в аппарат. «Три… Семь… Один… Четыре… Девять…» — повторял он про себя. Не успел диск завершить свое кручение, а Колотов, нависнув над Гуляем и прижав его животом к столу, уже надавил на рычажки. — Понятно, — удовлетворенно проговорил он. — Как в аптеке. Будет тебе, Гуляй, большая награда от всего нашего дружного коллектива. — Он повернулся к Скворцову. — Триста семьдесят один сорок девять. Быстро установи адрес, и погнали, ребята! — Как?.. Это ж… — Гуляй удивленно смотрел то на Колотова, то на Доставнина. Доставнин хищно улыбался. Глаза у Гуляя сделались по-рыбьи круглыми и дурными. Если бы он не всадил чуть ли не по самую рукоятку несколько минут назад нож в пах Зотову, у кого-нибудь из присутствующих в душе, может быть, и шевельнулось что-то похожее на жалость, глядя на него. А так… — Трудно жить с пустой башкой-то, — засмеялся Колотов. — А, Гуляй? Гуляй сморщился, будто вместо водки керосина хватанул, шмякнул кепку об пол, зачастил тихо, безнадежно: — Порежут меня, суки поганые, порежут… Ой, сестреночка моя Машенька, что я наделал, пес беззубый… — Совесть — великая вещь, — подняв палец, громко провозгласил Колотов. Он выглядел величественным и немного суровым. — Я верю, на волю он выйдет честным… — Петровская, четырнадцать, — оторвался от телефона Скворцов. — По коням! — Колотов будто шашкой рубанул рукой воздух. Он был возбужден от предощущения предстоящего, по всей видимости, непростого задержания, и поэтому ему хотелось много говорить, много и громко смеяться, и он уже заготовил несколько, по его мнению, изящных словес, чтобы выдать их под лихое щелканье проверяемого пистолета, но вспомнил Зотова, положил пистолет обратно в кобуру и говорить ничего не стал. — Вы двигайте на моей машине за Стилетом, — сказал Доставнин, открывая дверь кабинета. — Только пограмотней там, без сегодняшней ерундистики. Ясно? А я в управление, свяжусь с Симферополем, попрошу, чтобы местные поглядели, кто придет встречать Питона. Все. До встречи. Он шагнул за порог и чуть не столкнулся с полным щекастым мужчиной в мундире работника прокуратуры. Тот, не глядя ни на кого, поздоровался. Доставнин был явно задет таким небрежным обращением и с деланно-ленивой усмешкой тихо заметил: — Какая честь, сам следователь Трапезин. — Я бы не приехал, — сказал Трапезин и мрачно засопел простуженным носом, — но уж очень просили ваши быстрые сыщики. Приезжай, говорили, мы тут твоих волчар подловили, по горячим следам допросишь. Но не дождались, сами постарались. Костоломы. — Ты о чем? — не понял Колотов. — О нарушении соцзаконности, — веско проговорил Трапезин, — о старозаветных методах работы. Без кулака обойтись не можешь? А потом и нас, и вас в одну кучу валят. Все плохие. Все морды бьют. — Ну-ну, — вступил в разговор Доставнин. — Ты поосторожней, милый. Я про тебя сейчас такого нагорожу… — Кого сейчас сажали в изолятор? — Питона… — медленно произнес Колотов. — Савельева Александра Васильевича… Мы его… — Вот-вот, мы его, — перебил Трапезин. — Два пинка в живот, а потом головой о стену. — Это он тебе наговорил? — спросил Доставнин с улыбкой. — А ты веришь? Нехорошо. При мне беседа была. Тихая беседа была, вежливая. И чаем его, бедолагу, напоили, вон как этого. — Он кивнул на съеженного на стуле Гуляя. — И папироску дали. Все по-человечески. Мы ж грамотные, мы ж законы изучали, дипломы за это изучение получали. Так? Нет? — Доставнин повернулся к своим сотрудникам. Те строго покивали головами. — Ну а что касательно заявления, — с серьезной ласковостью продолжал Доставнин, — то у нас здесь в дежурке двое общественников без дела томятся. Так они в один момент подтвердят, что следователь городской прокуратуры Трапезин, встретив в коридоре отделения задержанного Савельева, завел его в камеру, треснул последнего по голове от озлобления на его несговорчивость. Простите, я не сложно излагаю? — Доставнин чуть подался вперед, преданно заглядывая Трапезину в глаза. «Во шпарит, — подумал Колотов. — Школа…» Трапезин несколько раз, будто в нервном тике, дернул верхней губой, обвел тяжелым взглядом радушно улыбающихся оперативников, повернулся резко, насколько позволяла комплекция, и вышел из кабинета. Доставнин вздохнул и сказал негромко: — Вот теперь по коням. В квартире на Петровской проживала пожилая фасовщица из центрального гастронома. Она подтвердила, что Василий Никанорович квартировал у нее неделю, но с час назад как собрал вещички и съехал, сказал, позвонит, она верит, что позвонит. Им было так хорошо. Вечерами — чай, тихие беседы, телевизор. Тепло и уютно. Дом. Впервые за десять лет дом. Надоело суетиться, просчитывать, озираться, подозревать. Хочется просто жить. Фасовщица плакала и курила длинные иностранные сигареты. Колотов оставил на квартире засаду и поехал в управление. На площади возле входа в управление стояли большая тупорылая машина с голубым фургоном и забрызганный осенней грязью автобус. От машины к дверям управления тянулись толстые черные провода. Задние дверцы фургона то и дело раскрывались, оттуда выходили и через какое-то время входили обратно неряшливо одетые люди с деловитыми лицами, из фургона они тащили в управление маленькие прожекторы на длинных ножках и мотки провода, обратно возвращались вялые, с сигаретами в зубах. Внутри фургона что-то гудело и сизо светилось, и пахло оттуда дешевым табаком и горелой изоляцией. Колотов постоял с минуту, наблюдая за происходящим, потом пожал плечами и, перешагнув провода, вошел в управление. — Эй, Колотушка! — крикнул из дежурки белобровый капитан Мильняк. — В кино хочешь сыматься? Могу сосватать. Я теперь большой кинематографист. — А… Кино, значит, — пробормотал Колотов. — Этого только не хватало. Работать надо. На лестнице горячо спорили две симпатичные девушки, они говорили непонятные кинематографические слова, но друг друга явно понимали. Колотов мрачно попросил разрешения пройти. Девушки умолкли, расступились и через мгновение захихикали ему в спину. «Унылый красавец», — различил он тихий голосок. — Балаган! — не сдержался Колотов и быстро зашагал по коридору. Теперь ему вслед хохотали уже откровенно. Доставнин был в кабинете не один. На кресле развалился вальяжный малый в джинсах и тертой кожаной куртке. Он внимательно слушал Доставнина и ногтем большого пальца поглаживал черные аккуратные усы. Доставнин извинился перед гостем, повернул лицо к Колотову, спросил нетерпеливо: — Ну? Колотов кивнул на малого. Доставнин махнул рукой, мол, не мешает. — Глухо, — сообщил Колотов. — Свалил, поганец. То ли позвонил ему кто кроме Гуляя, то ли сам на вокзале был. Надо криминалиста направить, пусть пальцы снимет. Затем фоторобот Стилета сделать. Немедленно. — Хорошо, — быстро кивнул Доставнин. — Я распоряжусь. И вот еще что… — Он оборвал себя, улыбнулся гостю, показал рукой на Колотова. — Простите, я не познакомил вас. Это наш лучший сыщик. Колотов Сергей Викторович. Он только что с трудной операции, задерживал опасных преступников. Там ранили нашего товарища. Но, слава богу, не опасно. А это, — гость встал, с воодушевлением протянул руку, обаятельно заулыбался, — кинорежиссер Капаров Андрей Владимирович. — Очень рад, — поставленным баритоном заговорил режиссер. — Уважаю вашу профессию. Уважаю и благоговею, — черные влажные глаза режиссера весело ощупывали тяжелую фигуру оперативника. Колотов качнул головой, улыбнулся скупо, ему хотелось скорее пойти в свой кабинет, запереться там и вволю накуриться, а потом начать работать. — Вы видите жизнь наоборот, как сказал поэт, — продолжал режиссер. — Это страшно. Но далеко не каждому дано видеть изнанку и не черстветь, не костенеть, а достойно делать свое дело. Именно поэтому вы благородны и прекрасны… — Последние слова он произнес для обоих собеседников. — Ну это вы уж, пожалуй, чересчур, — смущенно заулыбался Доставнин и неожиданно лихо закинул ногу на ногу, совсем как режиссер минуту назад. Колотов с глупым видом уставился на начальника. Доставнин кашлянул и ногу убрал. — Андрей Владимирович снимает кино про будни уголовного розыска, — сказал Доставнин. — Чтобы все было как в жизни, он хочет воспользоваться на некоторое время нашим зданием. — Кино — важнейшее из искусств, — сказал Колотов. — Ладно, — Доставнин махнул пальцами, — иди работай. К концу дня напиши подробный рапорт о задержании, и особенно подробно о причинах ранения Зотова. Колотов, довольный, развернулся и направился к двери. — Погодите, — остановил его режиссер. Он подошел к оперативнику, несколько мгновений смотрел ему в глаза, потом произнес смачно: — Сволочь! — И резко от бедра ударил Колотова в живот. Но тренированный Колотов оказался быстрее, он почти машинально выставил блок, отвел в сторону коснувшуюся уже его пиджака руку, жестко ухватил ее за кисть и крутанул снизу вверх. Капаров вскрикнул тускло и обреченно и согнулся, будто решил истово кланяться Доставнину за хорошее его отношение. А Колотов уже по инерции взял руку режиссера на излом, ухватил его голову за волосы и со словами: «Что ж ты делаешь, гад!» — придавил растерзанного кинематографиста к мягкой спинке кресла, стоящего в углу кабинета… «Плохо, — подумал Капаров. — Что же мне так плохо-то?» Он вспомнил ее губы и ноги, ее сладкий, такой волнующий голос, вспомнил, как вчера держал ее за руку, уже чужую, холодную, и бил сам себя по щекам, каясь, а она мотала головой и вырывалась, вырывалась… Колотов почувствовал, как Капаров обмяк, ватной и податливой стала рука, голова отяжелела, и Колотову показалось, что он держит полузадушенного куренка, которого надо обезглавить к воскресному обеду, а этого он сделать никогда бы не смог. Он убрал руки, и Капаров рухнул в кресло. — С ума сошел, медведь?! — брызгая слюной, заорал над ухом Доставнин. На багровом лбу его родничками бились синие жилки. — Не надо ссориться, все нормально, — Капаров грузно поднимался. С силой массируя руку, он тряхнул красиво стриженной головой и улыбнулся. — Все просто отлично. У вас замечательная реакция и почти актерская пластика. Я это сразу заметил и решил проверить на деле. Я беру вас сниматься, — он хотел бодро, по-дружески ткнуть Колотова в плечо, но пошевелил бровями и передумал. — Проверка, — повторил он. — Ну и методы, — заметил Доставнин. — Вы большой профессионал, — сказал Колотов. — У нас есть одна роль, — продолжал режиссер. — Прямо для вас. Я уже наметил актера, но вы будете достоверней. Я хочу правды, — он вскинул голову, — настоящей правды! — Да, да, — Доставнин потрогал лоб, — сейчас это очень важно. — Мне работать надо. — Колотову уже все надоело, и он понемногу пятился к двери. — Я вас умоляю, — режиссер приложил руки к груди и, сделав плаксивые глаза, посмотрел на Доставнина. Начальник не устоял: кинематограф — великая сила. Он приказал Колотову: — Поступаешь в распоряжение товарища режиссера. На какое-то время замкни свою группу на меня. Все. — Да я не могу, — Колотов растерялся. — Мне нельзя. У меня мениск, я корью болел…
Просторный кабинет на первом этаже, где располагались розыскники ГАИ, на несколько дней отдали киношникам. Они там не стали почти ничего менять — все должно быть как в жизни, — только вместо маленького портрета Дзержинского повесили большой, а на противоположную стену портрет Ленина — тоже большой. Гаишники кабинет оставили стерильно чистым, как и полагается дисциплинированным работникам, а Капаров, наоборот, оглядев помещение, распорядился набросать на столы бумаги, папки, скрепки, вымытые пепельницы наполнить окурками, а шторы и вовсе велел снять — для большей сухости кадра. — Достоверно? — спросил он Колотова, показывая ему кабинет. — Вам видней, — дипломатично ответил Колотов. — Я хотел, чтобы вам было видней, — настаивал режиссер. — А мне все видно, — отозвался Колотов. — Здесь светло. — Н-да, — неопределенно заметил Капаров. — Ну, хорошо, — он подозвал ассистента, вертлявого парня в мешковатой куртке, взял у него розовую папку. — Вот сценарий, вот ваш герой, ваш текст, — он раскрыл папку. — Ваша роль эпизодическая, с основным действием почти не связана. Просто в одной из сцен герой картины входит в кабинет и застает там своего коллегу, то есть вас, за допросом жулика, угнавшего автомобиль. Жулик не хочет сознаваться и называть сообщников, а вы его раскалываете. Понятно? Читайте. Я скоро приду. Возбужденный, шумный, он вернулся через полчаса. — Ну как? — спросил он, блеснув творческим зарядом в черных глазах. — Это неправда, — Колотов отодвинул от себя сценарий. — Что значит неправда? — опешил режиссер. — Мы так не говорим, — сказал Колотов. — А как вы говорите? — Творческий заряд в глазах Капарова растаял, появился нетворческий. — По-другому. — Точнее. — Ну, по-другому, и все, — Колотов безнадежно заглядывал в открытую дверь. Там по коридору ходили счастливые коллеги. — У нас консультанты из центрального аппарата. Они что, дилетанты? — В глазах режиссера появилось точно такое же выражение, как некоторое время назад, когда он задумывал ударить Колотова в живот. — Нет, конечно, — устало ответил Колотов. — Но все равно это неправда. — Что конкретно? — Ну вот смотрите, — Колотов наклонился над папкой и зачитал: — «Вы будете говорить или нет? — Петров пристально и сурово посмотрел задержанному в глаза. — Лучше признавайтесь сразу. Это в ваших интересах. Суд примет во внимание ваше чистосердечное признание и смягчит наказание. В противном случае ваша участь незавидная. Наш суд строг с теми, кто не хочет осознать своей вины…» — Ну и что здесь неверного? — Капаров с сочувствием учителя к нерадивому школьнику посмотрел на Колотова. — Да нет… вроде все верно… — Колотов потрогал лоб, он почему-то был в испарине. — Но… неверно… — Господи, — режиссер вздохнул, — а как бы сказали вы? Колотов пожал плечами и посмотрел в окно. В «Волгу» быстро усаживались ребята из БХСС. Везет же людям — работают. — Ну подумайте, вспомните, — режиссер присел на краешек стола перед Колотовым. — Как вы допрашиваете? Какие слова произносите? Каким тоном? Как это было в последний раз? Колотов вспомнил, как он говорил с Питоном, а потом с Гуляем, вспомнил и усмехнулся — хорошо говорил, действенно. — Вспомнили? — обрадовался Капаров, заметив тень усмешки на лице Колотова. Колотов кивнул. — Сейчас попробую, — сказал он и сосредоточился. — Ну, — поторопил режиссер. — Ну представьте, что я преступник. Колотов встал, посмотрел на Капарова недобро, открыл рот, обнажив влажные крепкие зубы, и замер так, потом выдохнул и сказал: — Бриться надо каждый день, у вас щетина быстро растет. — Да? — Режиссер испуганно вскинул руку к подбородку. — Действительно. Замотался, не успел… Колотов сел и насупился. — Ну? — опять занукал режиссер. — Что же вы? Колотов молчал и смотрел в окно. Режиссер потрогал еще раз щеки и встал. — Хорошо, — он сунул руки в карманы, повел плечами, будто озяб. — Это пока терпит. Съемку я назначил на послезавтра. Подумайте, как это можно сделать правдиво, запишите, и послезавтра встретимся. Идет? …Он все-таки исполнил свою мечту, поднялся в кабинет, заперся и накурился вволю. Повеселев, с удовольствием поработал с документами — скопилось много переписки. Потом съездил проверить засаду на Петровской. Оперативники играли с фасовщицей в «дурака» и тоже курили длинные иностранные сигареты. Никто не приходил и не звонил — впрочем, это и ожидалось. И только после этого поехал домой. Маша и пятилетний Алешка смотрели программу «Время». Алешка очень любил эту программу, и вместо вечерней сказки он насыщался на ночь последними новостями. — Королева странно ходит, — сказал он, не отрываясь от телевизора. — Наверное, что-то у нее с ногами. — Подагра, — сказал Колотов, снимая пиджак. — Вернее, остеохондроз, — поправил Алешка. — Тебе видней, — согласился Колотов. — Котлеты будешь? — Маша поднялась и направилась на кухню. — Все равно, — ответил Колотов и посмотрел ей вслед. Халат прилип к ее ногам. «Она тоже странно ходит, — только сейчас заметил Колотов. — Но до этого самого хондроза еще далеко — слишком молодая. А почему так ходит?» — Устала? — спросил он, садясь за стол. Красная кухонная мебель утомляла глаза. Зачем он согласился ее покупать? — Есть немного, — не глядя на Колотова, Маша расставляла тарелки. Косметику она смыла, и лицо казалось теперь очень бледным, особенно на фоне красной мебели. Все-таки зря они купили этот гарнитур. Маша села напротив. Стянутые назад волосы приподнимали тонкие выщипанные брови и придавали лицу слегка удивленное выражение. — Все боремся, — она подула в чашку с чаем и сделала осторожный глоток. — Шеф рассчитал наконец сегодня молекулярную цепочку волокна, а Похачев через полчаса уже докладывал директору института, что его гипотеза подтвердилась, хотя никакой гипотезы не было и в помине. Сочинил на ходу, но ему верят. И шеф опять на вторых ролях. — Бывает, — сказал Колотов, жуя котлету. — А что у тебя? — Маша скатала из хлебного мякиша шарик. — Работаем, — ответил Колотов, добирая картошку. — Много дел? — спросила Маша и придавила шарик, сделав из него маленькую лепешку. — Хватает, — Колотов чувствовал, что не наелся, но котлет больше не хотел, они отдавали жиром. — Спасибо. Очень вкусно. — Наши продули, — сообщил Алешка, когда Колотов вошел в комнату. — Бывает, — Колотов встал у окна, сладко потянулся. «Скорей бы лечь. — Темнело. Беспорядочно зажигались точечки окон в соседних домах, заходящим солнцем слоисто высвечивались тучи. — Ночью будет дождь. Наверное. А может быть, не будет». — Я пошел спать, — сказал Алешка. — Молодец, — похвалил Колотов и подумал: «Хороший мальчик, дисциплинированный. Только в кого такой белобрысый?» С высоты своего третьего этажа он увидел во дворе белые «жигули», а возле машины красивую соседку Ирину. Что-то приятное шевельнулось в груди. Едет красивая Ирина по своим красивым делам. Неплохо было бы сейчас сесть к ней в теплый автомобиль, вдохнуть тонкий дурман французских духов, рассказать ей по дороге что-нибудь глупое и веселое, а потом завернуть в уютный, полутемный ресторан… — Алешку отведи завтра в сад, — Маша помыла посуду и вернулась в комнату. — Я уйду очень рано. — С удовольствием, — отозвался Колотов и со вздохом подумал, что опять не выспится, опять по пути надо будет отвечать на неожиданные Алешкины вопросы, на которые и ответов-то нет, радушно улыбаться толстой угрюмой воспитательнице. — Какой фильм сегодня? — Колотов отошел от окна и уселся в кресло. — «Идущий следом». — Что-то интересное, я слышал, давай посмотрим. — Лучше концерт по первой, — Маша закинула ногу на ногу, матово блеснула гладкая, тяжелая коленка. «Поправилась, что ли?» — подумал Колотов и уставился в телевизор. Что-то томное и страдательное запел на экране курносый, чернявый певец. Он, как на ходулях, передвигался по сцене, делал волнообразные движения свободной от микрофона рукой и, наверное, думал, что он очень обаятельный. — Девки по нему с ума сходят, когда видят, — констатировала Маша, удобней устраиваясь в кресле. — Я тоже, — сказал Колотов. — Что тоже? — не поняла Маша. — С ума схожу, когда вижу, — ответил Колотов. — Очень остроумно, — Маша вынула из кармана халата сигареты. — Не кури, пожалуйста, — попросил Колотов. Маша кинула пачку на журнальный столик, она скользнула по полированной поверхности и упала на пол. Поднимать ее никто не стал. — Алешке пальто надо на зиму, — сказала Маша. — Купим, — Колотов облокотился на столик и подпер голову кулаком. — Попроси своих бэхээсников, может быть, дубленочку достанут, — добавила Маша. — Сделаем, — Колотов нажал пальцем на правый глаз, и изображение на экране раздвоилось. Теперь певец пел дуэтом сам с собой. Но вот наконец певцы завершили страдания и, горделиво приосанившись, ушли за кулисы. Колотов отпустил защипавший глаз. На сцену вышли жизнерадостные ведущие. Две симпатичные дикторши и один диктор с лицом исполкомовского работника областного масштаба. Улыбка ему не шла, и трудно было поверить, что он на самом деле такой веселый. Одна из дикторш очень нравилась Колотову. Она появилась недавно и заметно отличалась от других. У нее были нежные, пухлые губы и длинные завлекательные глаза, Колотов видел такие лица в зарубежных, не совсем приличных журналах. Дикторши что-то прощебетали, а потом камеры показали зал. В зале стояли столики, на столиках настольные лампочки, бокалы на длинных ножках и бутылки боржоми. А за столами сидели мужчины и женщины в приличных костюмах и платьях. Зал выглядел уютным и праздничным. И Колотов представил, что вот он тоже сидит в дорогом костюме за одним из столов поближе к сцене, чуть усмешливо улыбается, перебрасывается незначащими словечками с соседями, потягивает боржоми, а может, чего и покрепче для поддержания тонуса и многозначительно переглядывается с красивой дикторшей. Встретив его взгляд, она невольно улыбается и опускает глаза. А потом, объявив номер, подходит к его столику, садится. «Привет», — говорит она. «Привет», — отвечает он и наливает чего-нибудь ей в бокал. Розовое платье у нее тонкое, облегающее, и ему приятно смотреть, как оно натягивается на бедре женщины, когда она аккуратно закидывает ногу на ногу. «Сегодня у авангардиста Матюшкина соберутся интересные люди, — говорит она. — Пойдем». «Конечно», — отвечает он. «Тогда в одиннадцать у выхода со студии», — говорит она, кивает ему, чуть прикрыв глаза, поднимается и идет на сцену. С соседних столов внимательно разглядывают Колотова. Но он не обращает ни на кого внимания. Пустое… А потом у Матюшкина — разговоры, споры, смех, влажная духота, ощущение приподнятости. Он не стесняется, не робеет, он вполне нормально может держаться в любом обществе. Правда, острит немного тяжеловесно. Но это нравится… А потом поиски такси под шутки провожающих, ее тихая, теплая квартирка… И вообще, а если бы она была его женой? Он работает, она понимает. Она работает, он понимает. Вот наконец они вместе. Как хорошо им! И вокруг друзья, много друзей и добрых, и злых, и равнодушных. Но больше добрых, занятых своей творческой, нелегкой работой. Он занят своей работой, они своей, им есть о чем поговорить… — Пойду мясо потушу на завтра, — проговорила Маша и тяжело поднялась. Колотов вздрогнул и с удивлением посмотрел на жену. — Да, да, — сказал он. — Конечно. А на сцену уже вышла певица в балахонистом коротком платье и стала петь о том, как ей было хорошо, когда она была школьницей, и что она вообще так до сих пор и осталась школьницей, и что до самой смерти именно в этом состоянии она и будет пребывать. «Похоже на то», — отметил Колотов, разглядывая недоразвитое лицо певицы. На кухне что-то грохнуло, зазвенело металлически. Покатилась грузно по линолеуму то ли сковорода, то ли кастрюля. — Что случилось? — громко спросил Колотов. Ответа не было — Маша, — позвал он. Тишина. — Раз, два, три, четыре, пять, — сказал Колотов, — я иду искать. Он оторвался от кресла, пошлепал в великоватых, еще отцовских тапочках на кухню. На полу валялась опрокинутая кастрюля, бурыми комочками темнели рассыпавшиеся на линолеуме котлеты. Маша сидела у окна, отрешенно глядела на кастрюлю. — Ну что такое? — Колотов нагнулся, поднял кастрюлю, поставил ее на стол, потом, не зная, что делать с котлетами, сел на корточки и стал их задумчиво разглядывать. — Понимаешь, котлеты упали, — наконец едва слышно пробормотала Маша. — Я их в холодильник, а они вырвались, и упали, и разбежались кто куда, как живые. Понимаешь, я хотела их в холодильник, а они разбежались, — лицо у Маши сморщилось по-детски, и она заплакала, тихо, безнадежно, стараясь подавить плач пальцами, сжимающими горло. — И что страшного? — мягко произнес Колотов, поднявшись. — И бог с ними, с котлетами. Мы сейчас с тобой мясо тушеное сделаем. Я помогу, хочешь? — он шагнул к Маше, протянул руку к ее голове, пошевелил пальцами в воздухе, колеблясь, и наконец погладил по волосам. Маша отпустила горло и уткнулась лицом в его ладони. Голова ее мелко подрагивала под колотовскими пальцами. Он непроизвольно убрал руку и подумал: «Женский цикл начался. Точно. Хотя раньше такой реакции не было». Теперь Маша плакала громко, казалось, она поперхнулась и сейчас откашливается. Колотов не знал, что делать. Он огляделся, взял с полки стакан, налил воды из-под крана, постоял так со стаканом какое-то время, раздумывая, как дать Маше попить (лицо закрыто руками): отрывать руки или не надо. Решив не отрывать, поставил стакан на стол, пощелкал пальцами в поисках выхода и опять присел на корточки, только теперь уже не перед котлетами, а перед женой. — Машенька, милая моя, хорошая, — он стал гладить ее колени. — Не надо, прошу тебя. Все хорошо, все отлично. У нас дом, ребенок, замечательный ребенок, замечательный дом, и мы с тобой оба замечательные. И плевать на эти дурацкие котлеты, с кем не бывает. Ну подумаешь, упали. Разве это горе? Он полуобнял ее за плечи, поцеловал пальцы, скрывающие лицо, потом поцеловал волосы, прильнул губами к горячему порозовевшему уху, зашептал: — Ты моя хорошая, хорошая… Маша раздвинула пальцы, с надеждой взглянула на него из-под потемневших взбухших век, спросила невнятно, потому что все еще сжимала ладонями щеки: — Ты меня любишь? — Я?.. — Колотов всеми силами старался смотреть ей прямо в глаза. — Конечно. Конечно, люблю. Очень люблю. А как же иначе?.. — Это правда? — Маша, зажмурившись, потянулась к нему лицом. — Правда-правда, — поспешно сказал Колотов. Он быстро чмокнул ее в губы, раздвинул локти жены и прижал лицо к ее груди. Халат горько и душно пах подгоревшим жиром, захотелось вскочить и бежать прочь из кухни, но Колотов прижимался все сильней и сильней и шептал яростно: — Правда, правда, правда!..
Утром Колотов справился о дактилоскопическом запросе на Стилета (ответ запаздывал) и потом поехал со Скворцовым допрашивать Гуляя. За время, проведенное в камере, Гуляй посерел, потух — как-никак в первый раз «залетел», — потерял интерес к окружающему, на вопросы отвечал вяло, невнятно, но подробно, по всей видимости, на какое-то время потерял самоконтроль, обезводился. Так бывает. Оперативники это знают. Знали, естественно, и Колотов со Скворцовым, поэтому и пришли пораньше в изолятор. Гуляй рассказал, где и когда он познакомился с Питоном, рассказал о его связях, местах «лежки», назвал адреса, которые знал, поведал о замечательных «делах» Питона, на которых был вместе с ним на подхвате, «на шухере». Сообщил кое-что интересное о Стилете. Лет сорока пяти, появился в городе недавно, но деловые кличку его знают, слыхали о кое-каких его шалостях. То ли разбой, то ли бандитизм, неизвестно, но «крутой» дядька, в авторитете. Дает «наколки» и имеет чистые каналы сбыта. А это очень важно. На дела сам не ходит. Веселый, разгульный, в меру грузноватый, нравится женщинам. Колотов выяснял каждый шаг Стилета, по нескольку раз заставлял Гуляя рассказывать одно и то же, и вот наконец… Гуляй вспомнил, что два раза ждал Стилета в такси, сначала в Мочаловском переулке, затем на улице Октябрьской, когда тот встречался с каким-то «мазилкой», как говорил Стилет, и во второй раз случайно Гуляй его увидел — красивый, лет сорока, но уже седой… «Мочаловский и Октябрьская совсем рядом. «Мазилка», вероятно, художник, — размышлял Колотов. — Уже кое-что. Он илитам живет, или работает, или мастерская у него там». Возвратившись к себе, Колотов тут же озадачил местное отделение. Срок два часа. Позвонили раньше, через час сорок три участковый Кулябов доложил, что на его территории имеется мастерская художника Маратова. Он седой, красивый, одевается броско, ездит на «Волге». Есть заявления соседей, что в мастерской устраиваются пьянки, играет музыка, приходят девицы и лица кавказской национальности. Участковый Кулябов докладывал об этом начальнику отделения отдельным рапортом. И, кстати, дополнил участковый, Маратов сегодня с утра был в мастерской. Работал. — Теперь так, — сказал Колотов Скворцову. — Бегом в картотеку. Составь списочек краденых в последнее время икон. Все не перечисляй, штук тридцать хватит. На машинке отстукай, на отдельных листочках, с подробным описанием.
Через час на отдельском «жигуленке» они уже катили в сторону Мочаловского переулка и Октябрьской улицы. Лаптев небрежно крутил баранку, не вынимая сигареты изо рта, дымил в окно и щурил узкий азиатский глаз. — Колотов повернулся к Скворцову, спросил: — У Зотова были? — Были, — ответил Скворцов и, хмыкнув, посмотрел на затылок Лаптева. — Как он там? — Рана не опасная, но крови потерял много. Ослаб Валька. Бледный. Мы пришли, чуть не заплакал… — А в его палате еще двенадцать человек, — подал голос шофер. — И все друг на друге лежат, и все балабонят, дышат, стонут, одним словом, создают неприемлемую обстановку. — Почему не в госпиталь положили? — разозлился Колотов. — Мест нет, — сообщил Скворцов. — Но ты не переживай, начальник. Теперь все путем. — То есть? — Ну, пошли мы поначалу к завотделением. Он как раз дежурил вчера вечером. Говорим, мол, товарищ наш нуждается в особом уходе, в отдельной палате, ну и так далее. А он говорит, мол, все нуждаются, мол, не он один, мол, все одинаковые люди. Ну, мы спорить не стали и пошли по палатам. И в отдельной палате нашли одного хмыря, кавказца, с холециститом, понимаешь ли, лежит. Роскошествует и в городе нашем не прописан. — Так надо было к главврачу! — закипел Колотов. — Надо было кулаком по столу!.. — Поздно, шеф, девять вечера, зачем шуметь. Мы просто к этому кавказцу зашли, поговорили. Ну и он сам запросился в общую палату. Заскучал, говорит, хочу с народом пообщаться, да так разнервничался, что чуть не в слезы. Завотделением его успокаивать стал, слова разные добрые произносит, отговаривать начал. Мол, зачем вам общая палата, неспокойно, мол, у меня на сердце, когда вы, дорогой товарищ, в общей палате. А тот разбушевался, хочу, говорит, принести пользу советской милиции, уж очень, говорит, я ее уважаю. — Поговорили, значит? — Колотов покачал головой. — Ага, поговорили, — Лаптев повернул к нему невинное круглое лицо. Всю оставшуюся дорогу Колотов сумрачно молчал. …Мастерская находилась в старом тихом четырехэтажном доме, на чердаке. Они быстро поднялись по крутым высоким маршам, остановились перед обшарпанной дверью. Колотов позвонил и отступил по привычке в сторону, прислонившись к холодным железным перилам. — А если Стилет там? — прошептал Скворцов и сунул руку за пазуху. — Кто? — голос за дверью прозвучал внезапно, ни шагов не было слышно, ни движения какого, и оперативники замерли от неожиданности. Колотов взглянул на сотрудников, обтер пальцами уголки губ, кивнул им и заговорил громко: — До каких пор вообще ты безобразничать будешь, понимаешь ли?! Спокойно жить, понимаешь ли, нельзя! То музыка грохочет, то воду льешь, все потолки залил, поганец, понимаешь ли! Житья нет, покою нет, управы нет! Я вот сейчас в милицию, я вот в ЖЭК! — Тише, тише, не шуми, — забасили за дверью — ща все уладим. — Защелкали замки. — Ты что-то перепутал, сосед. У меня ничего не льется. Дверь открылась, и в проеме возник темный силуэт. Колотов метнулся к нему, встал вплотную, чтоб лишить седого красавца маневренности, выдохнул ему в лицо чеканным шепотом: «Милиция», — и только потом поднес к его глазам раскрытое удостоверение. Маратов сказал: «Ой», — и отступил на шаг. Колотов шагнул вслед, а за его спиной в квартиру втиснулись оперативник и шофер и, стараясь ступать неслышно, поспешили в комнату. Колотов упер палец в живот художника и порекомендовал, обаятельно улыбаясь: «Не дыши!» Сначала, когда Колотов сказал про милицию, у Маратова застыло лицо, когда Колотов показал удостоверение, у художника застыли глаза, а теперь застыло дыхание, а вместе с ним и все его большое тело, и стал художник похож на скульптурный автопортрет, очень талантливый и правдивый. — Чисто, — доложил из комнаты Скворцов. — Вернее, пусто, — поправил Лаптев. — Что касается чистоты, то сие проблематично. — Слова-то какие знаешь, — позавидовал Скворцов. — На счет три можете выдохнуть, — сказал Колотов, — и почувствуете себя обновленным. Колотов сделал несколько беспорядочных пассов руками, затем замер, направил на Маратова полусогнутые пальцы и, насупив брови, произнес загробным голосом: — Раз, два, три! На счет «три» благородное, слегка потрепанное лицо живописца налилось злобой, глаза подернулись мутной пеленой, как перед буйным припадком, и он выцедил, прерывисто дыша: — Сумасшедший дом!.. Произвол!.. И на вас есть управа! — Новый человек! — восхитился Колотов. — Вы ответите! Это просто так не пройдет, — продолжал яриться седой художник. — Меня знают в городе!.. — Вы достойный человек, никто не оспаривает, — заметил Колотов. — Но наши действия вынужденны, — Колотов широко и добро улыбнулся. — Сейчас я все объясню. Он захлопнул входную дверь, с удивлением обратив внимание, что изнутри она богато обита высшего качества белым, приятно пахнущим дерматином. Да и прихожая в мастерской, как в квартире у сановного человека, отделана темным лакированным деревом. На стенах причудливые светильники, пестрые эстампы, два мягких кресла, стеклянный прозрачный столик, плоский заграничный телевизор с чуть ли не метровым экраном. «Замечательная жизнь у отечественных живописцев. А все жалуются…» Колотов прошел в небольшую квадратную комнату. Маратов, нервно одернув длинный, заляпанный краской свитер, деревянно шагнул за ним. «И здесь неплохо. Цветные, узорчатые обои, стереоустановка, опять же картины и эстампы. Только вот прав был Лаптев, не совсем чисто». Две полукруглые кушетки со спинками опоясывали маленький столик с остатками вчерашнего, видимо, бурного ужина — грязные тарелки, пустые бутылки, окурки повсюду, на полу и даже на кушетках. «…Сегодня у авангардиста Матюшкина соберутся интересные люди, — вспомнил Колотов. — Споры, разговоры, смех, вкусные напитки, влажная духота и завлекательная дикторша по левую руку, рядом, вплотную, можно ласково коснуться невзначай…» Колотов провел по лицу ладонью, повернулся к Маратову: — Интересная у вас жизнь, Андрей Семенович, выставки, вернисажи, премьеры, банкеты, много знакомств, много замечательных людей вокруг… — Неплохая жизнь, — угрюмый художник стоял у окна, крепко скрестив руки на груди. — Да не вам судить. — Но много и случайных знакомств, — Колотов не реагировал на такие невежливые слова. — Кто-то подошел в ресторане, кого-то привели в мастерскую друзья. Так? Художник молчал, неприязненно глядя на Колотова. — И разные бывают эти знакомые, и плохие и не очень, честные и нечестные, — с простодушной улыбкой продолжал Колотов. — Всем в душу-то не влезешь. — Что вы хотите? — нетерпеливо спросил Маратов. — Помогите нам. Вспомните одного занятного человечка. Лет сорока пяти — пятидесяти, высокий, дородный, радушный, хорошо одевается, ходит вальяжно, глаза серые, нос прямой, чуть прижатый внизу, зовут Василий Никанорович, иногда кличут… Стилет. Маратов сунул ладони под мышки и покрутил головой. — Не знаете? — уточнил Колотов. Художник опять покрутил головой, разжал руки и стал тщательно слюнявым пальцем стирать пятно охры, въевшейся в свитер, видать, не один год назад. — У меня есть человек, — сказал Колотов, разглядывая карандашные городские пейзажики на стенах, — который подтвердит, что видел вас вдвоем. Два раза! — Да мало ли их, с кем я встречаюсь! — опять взъярился Маратов. Седые волосы встопорщились на висках. — Пети, Саши, Мани… — Я про это и говорю, — Колотов сделал светлое лицо и заговорил с художником как с дитем. — Вспомните, вспомните… — Он указал на дверь, расположенную напротив входной. — Что там? — Рабочее, так сказать, помещение, — словно декламируя стихи на торжественном вечере в День милиции, проговорил Скворцов. — Убежище, так сказать, творца. Короче говоря, мастерская. Скульптуры, картины, мольберты и кисти… Колотов посмотрел на дверь, на Скворцова, потом опять на дверь. Скворцов хмыкнул, жестом позвал с собой Лаптева. — Пойдем понаслаждаемся, — сказал он. — Доброе помещение, — заметил Колотов, повернувшись к художнику. — Вторая квартира. Не многовато, а? На одного? — Не понял?! — вскинул голову Маратов. — Я по закону. От исполкома. Мне положено. За свои деньги! — Притон, — коротко квалифицировал Колотов и кивнул на заплеванный стол. — Дружеская встреча по поводу… — Антиобщественный образ жизни. Система. — Да уверяю вас, это не так. — Заявления соседей… — Завистники… — Связь с уголовно-преступным элементом, совращение малолетних, наркотики… — Да нет же, нет!.. Глухо грохотнуло в мастерской, мелко задрожал пол под ногами. Маратов посмотрел затравленно на безмятежного Колотова и кинулся в мастерскую. Не добежал. В дверях перед ним вырос Скворцов. Он сокрушенно качал головой. Лицо у него был расстроенное и виноватое, в глазах искренняя мольба о прощении. — Случайно, — тихо проговорил он. — Не нарочно. Я такой крупный, плечистый, а у вас так там всего много. Тесно. Задел ба-альшой бюст, — он, вздохнув, показал руками, какой был большой бюст, — какого-то толстого, ушастого дядьки… — О боже! — прозудел Маратов и защемил себе висок. — Это же директор универ… — Он махнул рукой. — А там еще остался Лаптев, — пожаловался Скворцов и указал пальцем себе за спину. — А он тоже немаленький. Маратов тряхнул головой, как лошадь после долгой и быстрой дороги, повернулся к Колотову. — Знаю я этого Василия Никаноровича, — негромко сознался он и, помедлив, раздраженно повысил голос: — Знаю! Знаю! — Вот так бы сразу, — заулыбался Колотов. — Иезуиты! — не сдержался художник. — Оскорбление при исполнении? — справился Скворцов у Колотова. — Кто-то привел его ко мне, не помню кто. — Художник мыском ботинка загнал под стол валявшуюся на полу пробку. — Мы сидели выпивали. Народу было много. Шум, гомон. Музыка. Я был пьян. Познакомились. Он мне понравился. Широкий дядька. Я ему тоже вроде. На следующий день он пришел. Работы мои посмотрел. Купил кое-что. Дорого дал. Я отказывался, а он — нет, мол, бери, ты, мол, настоящий художник, ну и так далее. Потом раза два встречались. Он мне заказы делал. Пейзажики разные… Я писал. — Все? — спросил Колотов. — Все. — Маратов приложил руки к груди. — Как вы связывались? — Он звонил. — Как его найти, не знаете? — Нет, нет, нет. Из мастерской вышел Лаптев. Он был весел. Маленькие глазки его возбужденно блестели, как перед долгожданной встречей с любимой. Он хитро подмигнул, показал себе за спину, закатил глаза и покачал головой из стороны в сторону. — Там такое… — наконец подал он голос. — Ну, — поторопил его Колотов. — Три стопочки икон за мольбертами, среди хлама. Красивые. У бабки моей, русской крестьянки, — зачастил шофер, — были менее сверкающие и симпатичные. Они были скромные и это… непритязательные. А она ведь была трудовая женщина, не бедная… — Как вы смеете? — Лицо Маратова обострилось, появился неровный румянец на скулах. — Вы не имеете права обыскивать. Покажите ордер!.. — Это случайность, — успокаивающе проговорил Колотов. — Товарищ Лаптев любовался картинами и вдруг увидел необычные предметы и в порядке дружеского общения сообщил нам. Так? — повернулся он к Лаптеву. — Конечно, — Лаптев развел руками и с осуждением посмотрел на художника: мол, как ты можешь меня, такого симпатягу, подозревать в чем-то непотребном. Художник с силой сжал руками полы длинного свитера, потянул его вниз, повел подбородком, зло ощерился. — Я буду жаловаться! — сквозь зубы веско проговорил он. — Ладно, хватит! — отрезал Колотов. — Закончили наши игры. Давай все как есть, живописец. Начал говорить, говори до конца. — Колотов извлек из кармана листок. — Вот опись похищенных икон. Если хоть одна из них найдется среди твоих… …Маратов перестал тянуть свитер, посмотрел в окно. Пасмурно. Но видно, что еще тепло. Осень, конец сентября. Нижние окна соседних домов отливают желтым — это деревья смотрятся в них, смотрятся и грустят о прошедшем веселом лете. Он вспомнил другую осень, подготовку к первой выставке, суматошную суету, радостное возбуждение, предощущение чего-то значительного, великого, светлое пятно Наташиного лица, укрытого мраком ночи, холодный фужер с шампанским, прижатый ко лбу, и как он шептал в маленькое, нежное ее ушко: «Это мой шанс, я чувствую, мы уедем к черту из этого городишки, мы будем жить в Москве, она падет ниц передо мной, как не пала перед Наполеоном…» — Картины не приносят большого дохода, — негромко проговорил он. — Здесь нет истинных ценителей. А за реставрацию икон он платил очень прилично. Самое главное, что я не спрашивал, откуда они. Я и вправду не знал, откуда они. Вы верите? — он заглянул в глаза Колотову. — Верите? Колотов молчал, безучастно разглядывая Маратова. — Он звонил сегодня утром, — продолжал погрустневший художник. — Сказал, какие-то неприятности у него, сказал, что позвонит завтра после двух и заедет за товаром, в смысле за готовыми досками… — Наши сотрудники останутся у вас, — сказал Колотов. — Придется не выходить никуда, покуда он не придет. Потерпите. Ну а потом подумаем, что с вами делать.
Весь оставшийся день, весь вечер и даже часть ночи — никак не мог заснуть почти до трех — он старался не забыть, как он разговаривал с художником, пытался поточнее вспомнить выражения, которые употреблял в допросах Питона и Гуляя, восстанавливал эмоциональное состояние, в котором пребывал в те моменты — нельзя же осрамить великий милицейский клан перед этими фасонистыми киномолодцами, — и утром уже четко знал, что и как будет говорить на допросе с киношным жуликом. В управление он вошел веселым, бодрым, подтянутым, несмотря на то, что спал-то мало — хотя в его возрасте это пока не столь важно. Возле кабинета, предоставленного съемочной группе, остановился, пригладил волосы, одернул пиджак, слегка рукава подтянул, перед дракой словно, и только тогда потянулся к двери. Но не открыл ее, не вошел, пальцами только рассеянно помял скользкую металлическую ручку, пальцы горячие, влажные, а потом и вовсе руку отнял, оглядел ладонь с подозрением, обтер ее о пиджак, старательно, от плеча до пояса, будто и не учили его в советской школе светским манерам и хорошему тону. Почему не вошел? Сдвинул брови, размышляя, механически вынул сигарету, закурил. «Ну и войду, — подумал, — а дальше?… … А дальше так. Капаров тоже был сегодня бодрый и подтянутый. Он обрадовался, увидев Колотова, заспешил навстречу, белозубо улыбаясь. — Ждем, ждем, — заговорил он, учтиво беря Колотова под локоть. — Осматривайтесь, осваивайтесь, обживайтесь. — Он рукой обвел кабинет. По углам, как солдаты на утренней поверке, вытянувшись изо всех сил, на тонких ножках стояли еще сонные слепые прожекторы с «ушками» по бокам, на полу беспорядочно громоздились деревянные и железные ящики, удавами извивались толстые провода, тенями по кабинету сновали люди с деловыми лицами. Какой-то молодой парень в наушниках прилаживал к штативу длинный, похожий на батон сырокопченой колбасы микрофон. А посреди кабинета на треноге замерло средоточие всего этого странного действа, предмет, ради которого расставлялись маленькие прожекторы, ящики, протягивались провода, прилаживался колбасовидный микрофон — камера. Короткий, с раструбом, как у старинных ружей, ствол ее был направлен на стул, где должен был сидеть и произносить правдивые слова Колотов. — Хотя, впрочем, чего вам обживаться, — добавил режиссер. — Вы в этом кабинете небось каждый день бываете. Колотов машинально кивнул, не сводя глаз с черного зрачка камеры. Капаров поймал его взгляд, хмыкнул. — Она еще не работает, — сказал он. — Я вижу, — Колотов постарался произнести эти слова сухо и безразлично. — Для начала прорепетируем. Хорошо? — Капаров все время улыбался и делал доброе лицо, будто разговаривал с малышом. — Репетиция — залог хороших съемок. Согласны? Колотов поудобней расположился за столом. — Расслабьтесь, — посоветовал режиссер. — Забудьте о камере, о дигах, о людях, обо мне… Постарайтесь забыть. Люди вашей профессии должны это уметь, уметь отключаться. — Я отключился, — неуверенно произнес Колотов. — Вот и прекрасно, — заключил Капаров. — Начнем. Представьте, что задержанный я. Вот я сажусь напротив, — режиссер сел. — Я расстроен, мрачен, весь замкнут на себя, — режиссер поджал губы, с нехорошим прищуром покосился на Колотова. — Импровизируйте, — осиплым в студеных застенках голосом проговорил он. Колотов обтер уголки губ, вольно откинулся на спинку стула, постучал пальцами по столу, поднял глаза на режиссера, открыл рот, набрал воздуха, застыл так на мгновение и выдохнул, помотав головой. — Ну что? — тихим, терпеливым голосом спросил режиссер. — Сейчас, — Колотов переменил позу. Он оперся на стол руками и подался вперед, набрал воздуху… — Вы будете говорить или нет? — вдруг произнес он слабо и едва слышно текст сценария и по инерции продолжил: — Лучше признавайтесь сразу… Режиссер сочувственно посмотрел на него и негромко засвистел незатейливый мотивчик из телефильмов про знатоков. — Так, — сказал он, когда закончил насвистывать. — Что случилось? Колотов молча пожал плечами и закрыл глаза. Он увидел Питона, его смуглое, брезгливое лицо, его большой, тонкий рот, кривящийся в усмешке… — Сейчас, — сказал он. — Минуту. — Может быть, создать обстановочку? — поинтересовался Капаров. — Вы тогда соберетесь. Знаете, как бывает в экстремальных ситуациях? — Он крикнул за спину: — Саша, Володя, Семен, давайте свет, звук, готовьте камеру. Ударили белым диги. Под веками защипало. Колотов зажмурился. — Сейчас привыкнете, — из темноты успокоил Капаров. На какое-то время все словно забыли о Колотове. Режиссер громко и раздраженно отдавал указания, шумно засуетились люди из съемочной группы, оператор ругался с помощником из-за какой-то кривой бобины. Колотов тем временем курил и настойчиво сосредоточивался. — Все! — крикнул наконец режиссер. — Работаем. — Он снова сел на стул, сделал бандитское лицо, сказал Колотову с хрипотцой, нажитой в жестоких карточных спорах: — Сегодня снимаем только вас. Я подыграю за актера. Давайте. Приготовились, — крикнул он, выпятив челюсть. — Хлопушка! Мотор! Начали! Застрекотала камера, затихли в темноте киношники. Колотов опять обтер уголки губ. Губы были горячие, будто их только что подпаливали на костре. Колотов сначала откинулся на спинку, некоторое время пристально смотрел на Капарова. «Хорошо», — подбадривая, прохрипел режиссер. Потом Колотов стал угрожающе наклоняться вперед, пальцы его побелели, вдавливаясь в стол. Он открыл рот, вздохнул… — Вы будете говорить или нет?! — рявкнул он громово. — Лучше признавайтесь сразу!.. — Стоп! — скучно приказал режиссер. — Довольно. Пленка у нас в стране дорогая… Оператор снял кепочку, провел рукой по волосам. Потухли диги, медно мигнув напоследок. Капаров помассировал шею, медленно поднялся, подошел к неподвижно сидящему Колотову, положил ему руку на плечо. — Не расстраивайтесь. Ерунда, — сказал он. — Мы найдем актера. Ассистенты и рабочие, переговариваясь и прикуривая друг у друга, потянулись к двери. Взгляд Колотова упал на руку. Пальцы крепко сжимали тлеющую сигарету… Он поднес руку к губам, но курить расхотелось, и он бросил сигарету в сторону урны. Не попал. Сигарета сиротливо лежала на вымытом полу и обиженно дымилась. Колотов сделал шаг, нагнулся, чтобы поднять ее и отправить к обугленным сестренкам. Капаров отчетливо кому-то сказал: «Ты что, дурак?» Колотов выпрямился, резко развернулся, выскочил из комнаты и побежал по коридору. Прыжками преодолел лестницу. На втором этаже замедлил шаг. Вымученно улыбаясь и сдержанно кивая сотрудникам, дошел до своего кабинета. Вставил ключ в скважину. Вошел. Закрылся. Оперся горячей спиной о сейф. Постоял так с полминуты. Холод успокоил. Колотов улыбнулся. «Сегодня я возьму Стилета, — подумал он, — и все будет хорошо».
Супермен

Часть первая 20–26 июля
Сегодня тихо и безветренно, покойно и солнечно с самого утра. Днем в каленом сизо-белом небе висели два-три облачка, дырявые, косматые, да и те обречены были, растаяли к вечеру. А еще ночью шел дождь, злой и студеный. И вчера он шел, и позавчера. Тяжелый, он побил цветы, кустарник, издырявил, а затем и зацементировал пляжи, жестоко разогнал пригревшихся отдыхающих, выхолодил прибрежную кромку моря, изувечил дороги глубокими обширными лужами. И конечно, берег в этот день был пустынный и скучный, и не отливал песок золотом слепяще и весело, и не томилось в нем большое тепло, такое желанное и уютное, был он серый и мокрый и утрамбованный почти до твердости заезженного проселка. Все ждали, когда он размякнет, высушится. Когда это будет? К ночи? Завтра? …Вдоль пляжа неслась машина, ревела сердито, мощь свою выказывая. Ружин гнал «Жигули» почти на предельной скорости. Неожиданно затормозил, вывернул вбок, так, чтобы закрутилась машина волчком, веером высекая из-под колес мокрый песок, завертел восьмерки на полном ходу; подбадривая себя хриплыми вскриками, вдруг врезался в воду, въехал как на амфибии по самые дверцы, развернулся по дну, бешено вспенивая бегущие к берегу волны, и погнал вдоль пляжа, с шипеньем рассекая воду.Лера охала, вскрикивала, то и дело зажмуривалась в испуге; вдруг хваталась за руль, а при резком повороте опрокидывалась на Ружина, непроизвольно обнимая его. — Умница. Не надо скрывать своих потаенных желаний, — объявлял Ружин и добавлял, веселясь: — Еще разок, пожалуйста, — и снова на предельной скорости клал машину в вираж. Они не видели, как бесшумно, выключив мотор на спуске, катил по шоссе вдоль пляжа сине-желтый милицейский мотоцикл с коляской и со старшим сержантом в седле. Одной рукой старший сержант держался за руль, другой расстегивал шлем, стирал со лба пот. Жарко, а старший сержант в теплом кителе, и галстук тугой петлей сжимает его горло. Приказали позавчера по случаю дождей и холодов в кителе на смену заступать, а сегодня не отменили, вот и парится старший сержант, не смея пуговку расстегнуть — дисциплинированный, сознательный, примерный. Остановил он мотоцикл там, где кусты погуще, чтоб со стороны пляжа трудно заприметить его было, снял шлем, подправил влажные короткие волосы и принялся бесстрастно наблюдать за ружинскими кренделями. — Я больше не могу, — сказала Лера, мертво вцепившись в сиденье. Ружин сделал очередной вираж, крутой, с рисковым креном. — Я умру, прямо здесь. И тебя посадят. Убийца. — Меня оправдают, — возразил Ружин. — Я докажу, что ты нимфоманка и садомазохистка. У нас этого не одобряют. — Дурак, — сказала Лера. — Хо-хо-хо, — отозвался Ружин. — Не любишь правду… — Я тебя ненавижу, — почти не разжимая губ, проговорила Лера. — Раз так, — Ружин пожал плечами, — я могу выйти. — Он вдруг бросил руль, открыл свою дверцу. Лера вцепилась в него, закричала испуганно: — Не надо, Сереженька! Ружин захлопнул дверцу, положил руки на руль, заметил удовлетворенно: — Значит, все-таки я тебе нужен? — Конечно же нет, — Лера отвернулась к окну, хмурясь. — Нет? — переспросил Ружин. — Нет, — подтвердила Лера. — Тогда смерть, — сказал Ружин. — Для обоих. Я давно мечтал об этом. Она соединит нас навечно. — Он разогнался с ревом, мощно. — До скорого свидания! Машина неслась на темную, мокрую скалу, с острой верхушкой. Лицо у Ружина недвижное, маска, глаза без выражения, прозрачные, солнце бьет в лобовое стекло, и стекло оттого белое, будто молоком залитое. Лера закричала истошно, обреченно. Высокий, звенящий голос сорвался на хрип. Ружин вдавил педаль тормоза. Машина, качнувшись, застыла перед самой скалой. Лера обхватила руками голову, сморщилась некрасиво, заплакала, тихо, безнадежно. — Ну зачем? — сказал Ружин скучно. — Зачем, а?
Старший сержант сплюнул, проследил за полетом плевка, внимательно рассмотрел место падения, аккуратно засыпал плевок и, обтерев со лба пот рукавом кителя, надел лежавшую в коляске фуражку. Лера достала сумку с заднего сиденья, вынула косметичку, смотрясь в зеркальце, платком вытерла щеки, промокнула глаза, выпятив нижнюю губу, подула на них. — Ты за что-то мстишь мне? — спросила она. — За что? Ружин оживился. — Мщу, — кивнул он. — За тех добрых и порядочных парней, которых ты совратила и обесчестила. — Он повысил голос, заговорил торжественно-обличающе: — За тех, кто поверил тебе и которых ты обманула! Я мщу за поруганную честь, за отцов-одиночек… — Я не шучу, — перебила его Лера. — А я шучу, — ухмыльнулся Ружин. — Шучу, понимаешь? Я веселый. Ты не замечала? — Поехали, — сухо сказала Лера. — Поехали, — согласился Ружин. Машина тронулась и покатила к шоссе, почти к тому самому месту, где хоронился старший сержант в кителе и с мотоциклом. Скрипуче пробуксовывая на отлогом подъеме, автомобиль наконец выбрался на шоссе. Сержант надвинул фуражку на лоб, перегнулся, достал из коляски жезл, ударил им, будто дубинкой, несколько раз по ладони левой руки и неторопливо пошагал навстречу. Когда машина была метрах в двадцати, он махнул жезлом. — Ну вот еще, — сказал Ружин и прибавил газу. Сержант невольно отпрыгнул в сторону. Опомнившись, засвистел что есть силы, мелко подергивая головой от напряжения. — Во соловей, — усмехнулся Ружин, взглянув в зеркальце заднего обзора. — Ща фуражка слетит. — Кто придумал эти дурацкие свистки? — сказала Лера. — Звук у них неправильный, истеричный, безвкусный. От него хочется бежать, а не останавливаться. Глупые люди. Вот если бы ГАИ флейты дали. — Или в крайнем случае горны, — заметил Ружин. — Нет, флейты лучше, — мотнула головой Лера. — Они нежнее, мелодичней… — А горны громче, — не отступал Ружин. — Их лучше слышно. — Дело не в громкости, — разозлилась Лера. — А дело в отношении к людям… Флейта говорит: «Остановитесь, пожалуйста, дорогой товарищ, к моему глубокому сожалению, я должен проверить у вас документы…» А горн, что и свисток: «Стоять! Документы давать! Всех расстрелять!» — Нет, — не согласился Ружин, — у горна все-таки звуковой оттенок более уважительный и солидный, чем у свистка… — Он взглянул в зеркальце и подивился: — Резво шпарит. Ну-ну, — сказал он и надавил на акселератор. Шоссе ушло в сторону от моря, потянулось в гору, вдалеке замелькал серпантин. Ружин уверенно и красиво вписывался в повороты. Сержант стал отставать. На втором витке он съехал с шоссе и двинул напрямик, по грязи, камням, мокрой траве. Мотоцикл ревел, буксовал, выбрасывая из-под колес комья мокрой земли, и наконец завалился набок, придавив сержанту ногу. Сержант заорал, и лицо у него сделалось свекольным. Но вот, вдоволь наизвивавшись и набранившись, неразборчиво и невнятно, но чрезвычайно грубо и зло, сержант выбрался все-таки из-под мотоцикла и, держась за фуражку, спотыкаясь, помчался наверх, к шоссе. Успел-таки. Замызганный, свирепый, выбежал на середину дороги, расставил ноги, расставил руки, залился визгливым свистом, задрожал от победной радости. Лера скривившись, закрыла уши руками, а Ружин, ухмыляясь, метрах в двадцати от сержанта резко надавил на тормоз. Заскрипели колодки, зашипели колеса, машину повело слегка юзом, и остановилась она возле самого сержанта. Бампер уперся прямо ему в ноги. Ружин открыл дверь, но выходить не стал. — Угости сигареткой, — попросил он. — Что? — оторопел сержант. — Целый день за рулем, — Ружин помассировал шею. — А ни одной сигаретки так и не выкурил. Хочется, понимаешь ли, до смерти… — Ружин удивленно уставился на сержантовы галифе: — А чего грязный-то такой? — спросил сочувственно. — Документы! — вскипая, выцедил сержант. — Документы? Ну давай, показывай, — добродушно улыбнулся Ружин и протянул руку. — Твои документы! — сержант слабо шевельнул закаменевшими от злобы губами и вдруг заорал: — Быстро! Давай быстро! Ружин вылез из машины, успокаивающе выставил ладони, зачастил бархатно: — Тихо, тихо, тихо… — Извлек из кармана куртки документы, протянул сержанту. Тот нетерпеливо вырвал их и стал жадно рассматривать, одновременно мстительно восклицая: — Въезд в заповедную зону! Неповиновение работнику милиции! Превышение скорости!.. Дорого заплатишь! — Сержант, сержант, — миролюбиво проговорил Ружин, — послушай, здесь такое дело… — Он наклонился к уху милиционера и что-то энергично зашептал. Шептал долго. Лицо сержанта понемногу прояснилось, губы размягчились, запунцовели, он то и дело поглядывал сквозь стекло на Леру, наконец, кивнул головой, и тогда Ружин вынул из кармана сиреневую купюру и протянул ее сержанту, тот опять кивнул и положил деньги в карман. Получив документы, Ружин кинул их через открытое окно на сиденье, затем опять полез в куртку и вынул оттуда красную книжицу. Раскрыл ее, показал сержанту, представился: — Капитан милиции Ружин. Старший оперуполномоченный уголовного розыска. Теперь твоя очередь, — Ружин протянул руку. — Документы. Удивительные порой процессы происходят в человеческом организме, все вроде уже дотошные врачи объяснили, ан нет, все равно изумляешься, когда видишь, как лицо человека в мгновенье меняет цвет, как в мультфильме. Был сержант бурачковый, а стал сержант крахмальный, даже глаза обесцветились. — Нет, — сказал он. — Да, — сказал он. — Хотя нет, — сказал он. — Хотя не знаю, — сказал он и стал тереть глаза, как ребенок, а потом сказал: — Я больше не буду, простите, — а потом сказал: — Я не местный, и в армии отличником боевой и политической подготовки был, музыкальным ансамблем руководил, пользовался авторитетом… Ружин сунул удостоверение сержанта в карман, вскинул голову, проговорил негромко, но весомо: — Такие, как ты, ввергают отечество в хаос. Такие, как ты, способствуют хозяйственному развалу и моральному застою. Ты тот самый бракованный винтик в механизме, который мешает этому механизму нормально работать, а вам, этим винтикам, имя легион, вас сотни, тысячи, миллионы. — Десятки миллионов, — обиженно подсказала Лера из машины. — Десятки миллионов, — подтвердил Ружин. — Такие, как ты, позорят, компрометируют, дискредитируют само звание — советский милиционер. — Ружин вытянул к небу указательный палец. — Это же высочайшее, это святейшее звание — советский милиционер… Ты зачем пошел в милицию? А? Чтобы форму получить? Чтобы деньги получить? Чтобы власть получить? Чтобы восполнить свою ущербность, неполноценность? Чтобы отомстить кому-то? Чтобы что-то доказать кому-то? Или чтобы избавить общество от мерзавцев и негодяев? Сержант какое-то время моргал, прикусывал губы, а потом ответил: — Эта… Чтобы избавить… Ружин просунул голову внутрь машины: — Он идиот, — сказал он Лере. — Открой бардачок. Достань лист бумаги. Ружин выпрямился, положил бумагу на капот, извлек из нагрудного кармана ручку, подал ее сержанту. — Пиши, — сказал он. — Что? — обреченно спросил сержант. — Я продиктую. Сержант согнулся над капотом. — Начальнику управления внутренних дел… — диктовал Ружин. — Я такой-то такой-то, такого-то числа, в таком-то месте получил от такого-то владельца автомашины такой-то деньги в сумме двадцати пяти рублей за нарушение своих должностных обязанностей. — Сержант бросил писать и испуганно поднял голову. — Пиши, пиши, — спокойно сказал Ружин. — Или можем разобраться прямо сейчас, в управлении. Поехали, — предложил он. — Или об этом будут знать только я и свидетель, — он указал на Леру. Сержант опустил голову. — За нарушение должностных обязанностей, — продолжил Ружин, — кои выражались в отсутствии наказания водителя такого-то за въезд в заповедную зону, превышение скорости, неповиновение работнику милиции. С красной строки. Я все осознал. И больше такого в моей профессиональной практике не повторится. Число, подпись. Ружин все добросовестно прочитал, кивнул, сложил бумагу, сунул ее в карман. Протянул руку, сказал коротко: — Деньги, — и деньги положил в карман, а взамен отдал сержанту документы. Сел в машину. — Бывай здоров, — сказал на прощанье. Машина тронулась, и Ружин рассмеялся: — Как он вдумчиво мне внимал, ты видела? — Я видела, как ты упивался, — ответила Лера. — Ты несправедлива, — возразил Ружин. — Я работал. Авось когда-нибудь эта бумажка и пригодится. — Он машинально посмотрел в зеркальце — на шоссе сзади никого не было — и опять заговорил: — Однажды старый еврей пришел к Гришке Распутину и дал ему сто рублей. «Зачем?» — удивился Гришка. «Может, вспомнишь когда», — ответил еврей. Вот так. — Какой ты ушлый, — усмехнулась Лера. Ружин искоса посмотрел на женщину. — Дальновидный, — поправил он. …Когда они въехали в город, стало смеркаться. Грустное время, и уже не день, и еще не вечер, и не ночь, так, не поймешь не разберешь, словно вне жизни существуешь в этот час, без опоры, без определенности, мысль не может ни за что зацепиться спасительное… Так не у всех, наверное. Да конечно же не у всех. А у Ружина так… Город готовился к вечеру, засветились неоновые буквы на отелях, засветились окна в кафе и ресторанах. Густо потек народ с пляжей. Надо быстро поужинать. И приодеться — для прогулок и развлечений. — Уже темно, — сказал Ружин. — Может, прямо к дому? — Нет, — ответила Лера. — Останови тут. Старухи в твоем дворе, как кошки. Им что ночь, что день… Ружин притормозил. Лера вышла. — Через пять минут жду, — сказал Ружин ей вслед и мягко тронулся с места. В своем дворе он припарковал машину, вышел, любезно поздоровался с глазастыми старушками, поднялся на третий этаж, вошел в квартиру, закрыл дверь, прислонился к ней спиной, с силой провел пальцами по лицу, зашел в ванную, включил свет, намочил под краном руки, опять провел ладонями по лицу, взглянул на себя в зеркало. — Зачем? — спросил он себя. — Зачем, а? В комнате он снял куртку, бросил ее на диван, расстегнул рубашку, потянулся с усилием, взял сигарету, прикурил, массируя шею, подошел к окну, нагнулся, рассеянно вглядываясь в темный провал его, пробормотал что-то и, неосторожно подавшись вперед, ткнулся лбом в стекло. Стекло треснуло сухо, задрожало, глухо прогудев, и два крупных клинообразных куска обвалились со звоном, раскололись меж рамами. — А-а-а, черт! — взвыл Ружин, смахивая кровь со лба. Входная дверь распахнулась, вошла Лера, она бросила сумку и ключи на кресло и только после этого заметила разбитое окно и кровь на лице у Ружина. Подбежала, заохала, разглядывая; помчалась в ванную, принесла мокрое полотенце, стерла кровь… — Ерунда, — сказала. — Ссадина. Залепила ранку пластырем, провела прохладной ладонью по щеке Ружина, по губам. Он улыбнулся, поцеловал ее пальцы. — Как не вовремя, — сказал он. — С такой мордой я распугаю весь ресторан. — Отлично, — смеясь, проговорила Лера. — Я хочу поскорее посмотреть, как это будет. Представляешь, — она сделала свирепое лицо, сдвинула брови и выпятила челюсть, — ты входишь первый, со ссадиной. Крик ужаса, все срываются с места и, опрокидывая столики, мечутся по залу. И тут появляюсь я. В белом платье. Удивление. Восторг. Обмороки. — Инфернальная парочка, — содрогнулся Ружин. Лера посмотрела на часы. — Пора собираться, — сказала она, держась за Ружина, расстегнула туфли, небрежно скинула их и босая прошлепала в ванную. Ружин сел на мягкую квадратную кровать, покачался на ней несколько раз, с веселым любопытством прислушиваясь к томным вздохам матраца, потом потянулся к телефону, стоящему на тумбочке, набрал номер. — Это я, — сообщил он, когда ему ответили. — Ну как?.. Наверное, он дозвониться не может, вы там, балаболки, висите на телефоне… Ну хорошо, еще полчаса я дома, потом минут двадцать в дороге и примерно до часу буду в «Кипарисе», звони туда, спросишь метра, Михалыча, он позовет. Все. Шум воды в ванной стих. Появилась Лера. Она никак не могла справиться с просторным и длинным ружинским халатом, он волочился по полу, путался в ногах. Сделав шаг, чуть не упала, хихикнула. Лоснящееся от крема лицо было расслабленным, умиротворенным. — Хочется жить, — сказала она и добавила, подумав: — Я останусь у тебя после ресторана. Плевать на все. — Я всегда верил в тебя, — сказал Ружин. — И не ошибся. — Он поднялся. — Какой костюм надеть? — Бежевый, — откликнулась Лера, — французский. Мой любимый. Ружин вышел из комнаты. Лера закрыла глаза, вздохнула глубоко, решительно подошла к телефону, сняла трубку и вдруг заколебалась, потерла трубкой висок, посмотрела в окно. Под черным небом насыщенный жизнью и электричеством волновался город. — Наймусь юнгой и уйду в Сингапур, — сказала Лера. — Там бананы. Она набрала номер, ласково заулыбалась трубке. — Мишенька, ты уже дома? — тихо спросила Лера. — Молодец. Ты у меня примерный. Есть суп, есть картофельные котлеты… А, уже поел… Ну, посиди, почитай или поработай. Приду поздно, наверное, ночью… Не сердись. На мне сейчас два индивидуала из Бельгии. Ленка заболела, другого переводчика не могли найти, как всегда, под руку попалась я, надо их проводить, а до этого покатать по ночному побережью. Программа… Ну, не сердись… Целую… Повесив трубку, невесело усмехнулась и сразу стала набирать другой номер. — Ленечка, — нежно проговорила она. — Слава богу, что сам подошел. Ты прости, мы увидеться не сможем. Надо побыть дома. Опять напряженка с Мишей. Он, по-моему, догадывается… Нет, нет, не о тебе, вообще… Злой, по телефону всем отвечает, что меня нет… Хорошо? Ну, до завтра. Ружин быстро и умело завязал перед зеркалом темно-бордовый узкий галстук, поправил воротник рубашки, осторожно провел пальцами по аккуратно уложенным волосам, надел пиджак. В зеркале увидел Леру. Она стояла на пороге комнаты в белом платье, коротком, почти прозрачном — тонкие ноги, длинные, золотистые от загара, рот приоткрыт нарочито, с вызовом. — Я раньше никогда никуда не опаздывал, — сказал Ружин, не оборачиваясь. — Но, как появилась ты, я делаю это регулярно. Он снял пиджак, швырнул его в кресло, не отрывая взгляда от женщины, жадно рассматривал ее в зеркале. Она вошла в комнату, встала рядом, дурачась, чуть наклонилась, тряхнула головой, волосы закрыли лицо, густые, ни глаз не различишь, ни губ. — А я тебя вижу, — сказала Лера, смеясь. Ружин неожиданно быстро притянул ее к себе, поцеловал. — Платье, — слабо выдохнула Лера. Ружин мял ее как куклу, судорожно шарил руками по телу. Затем, не выпуская из объятий, настойчиво потянул женщину за собой и толкнул на кровать. Лера покорилась. — Сейчас, — прерывисто зашептал Ружин. — Сейчас… — Он суетливо развязывал галстук… Затренькал телефон. Ружин расстегнул рубашку. Телефон звонил. — Идите вы к черту! — выругался Ружин и внезапно замер. — Минуту, — сказал он Лере, поднялся и взял трубку. — Да, — выдохнул нетерпеливо. — Позвонил-таки. То, что надо. Когда? Где? Отлично. Через двадцать минут в управлении. Все. Он повернулся к Лере. — У нас в запасе десять минут. — И принялся расстегивать брюки. Лера резко и легко выпрямилась. — Все, — тихо и сдержанно сказала она. — Я ухожу. — Не дури, — засмеялся Ружин. — Десять минут тоже на дороге не валяются. — Он опять обнял ее. Лера брезгливо отпрянула. — Пошел ты знаешь куда… — она встала, нервными движениями поправила платье. — Как вы мне все надоели, если б ты только знал… — И много нас? Лера нашла сумку, скомкав, побросала туда свои джинсы, рубашку, белье, осмотрелась — не забыла ли чего — и направилась к двери. — У меня же работа, — мягко заметил Ружин. Он приладил под мышкой пустую кожаную кобуру от пистолета, надел пиджак, тоже вышел в прихожую. — Да разве в этом дело, — Лера усмехнулась и открыла входную дверь. — Больше не звони. — Эй! Постой! — Ружин перестал улыбаться. — Брось! Не надо! — Он выбежал на лестничную площадку, крикнул: — Ну прости ты меня! Прости! — и тут же замолк, настороженно огляделся и шустро шмыгнул в квартиру.
В управление приехал не переодевшись, как и был в бежевом костюме, бордовом галстуке. Кивнул дежурному, с кем-то поздоровался в коридоре, сильно и легко взбежал наверх, с ходу открыл дверь кабинета, она отлетела, как от порыва ветра, ударилась о стену, задрожала, загудела гулко. Навстречу ему поднялись двое молодых людей одного возраста, стройные, крепкие, чем-то похожие, по-современному одетые — джинсы, курточки. — Ты так красив, шеф, — восхитился Лахов. — Я бы влюбилась, — манерничая, проговорил Горохов. — Если б умела… Ружин невесело улыбнулся в ответ. Загремел ключами, открыл сейф. — Всю малину испортили, да? — сочувственно спросил Лахов. — Еще как, — Ружин достал из сейфа пистолет, привычно щелкнул затвором, вставил обойму, вложил оружие в кобуру. — Впору запеть «Ментовские страдания». Ну что? — он посмотрел на сотрудников. — Погнали! Рафик несся по городу. На нем никаких опознавательных знаков, ни проблесковых маячков, и сирена не глушила пронзительными звуками и тревогой беспечный курортный народ. Кроме троих оперативников в автобусе сидели еще трое сотрудников в форме. — Смешно, — сказалЛахов, глядя в окно. — Море ненавижу, а столько лет живу здесь. — Уезжай, — лениво порекомендовал Горохов. — Уеду, — привычно легко отозвался Лахов. — А я его и не замечаю, — офицер в форме протянул всем сигареты. — Вода и вода. Чего говорить? Нет, здесь хорошо. Я вон в Мурманске служил. Холодно. — Да, да, конечно, — согласно закивал Лахов. — Надо всегда сравнивать с худшим. — Ты еще заплачь! — неожиданно резко сказал Ружин. Все посмотрели на него. Он затянулся и закашлялся, поперхнувшись дымом. Горохов хватанул его по спине. Ружин громко ойкнул, но кашлять перестал. Офицер засмеялся.
Автобус притерся к тротуару. Водитель выключил мотор. Стало тихо. — Все как обычно, — заговорил Ружин. — Поднимаемся, звоним условным звонком… — А мы его знаем? — спросил офицер. — А то, — весело откликнулся Ружин. — Сыщикам слава! — офицер хлопнул в ладоши. — Понятых, естественно, надо, — продолжал Ружин. — Вы, — он указал пальцем на одного из милиционеров, — организуйте, пожалуйста. Милиционер кивнул и вышел из автобуса. — Сколько их? — спросил офицер, надевая фуражку. — Рафика хватит? Ружин пожал плечами, сказал неопределенно: — Упакуем, чай не баре… — Ну, ладненько, — кивнул офицер. — Поработаем. Давно в деле не был. Заела, понимаешь ли, канцелярия. — А кого не заела? — вздохнул Ружин и вытянул средний палец. — Гляди, мозоль от ручки. — А лучше бы от курка, — с деланным тяжелым хрипом в голосе заметил Горохов. Офицер опять засмеялся. Все происходящее ему очень нравилось. В стекло постучали. Милиционер привел понятых, двух настороженных мужичков пенсионного возраста. — Теперь быстро, — сказал Ружин. Оперативники и милиционеры торопливо пересекли двор, вошли в подъезд, застучали каблуками по лестнице. Лампочки светили вполнакала, медно, да и то не на каждом этаже. Был холодно и сыро, словно и не на юге. Лахов поскользнулся, чуть не упал. — Вот дерьмо! — выругался. — Дерьмо, — негромко засмеявшись, подтвердил Горохов и посветил на лестницу фонариком. Лахов шевельнул ноздрями и сморщился. Начал старательно о лестницу соскабливать неприятность с подошвы. — Потом, — толкнул его Ружин. Наконец поднялись. Встали перед дверью. Дверь обшарпанная, давно не крашенная, но с тремя замками, добротными, новыми. Ружин оглядел коллег, потянулся к звонку. Позвонил два раза длинно, три раза коротко. Не открывали долго. Кто-то из милиционеров вздохнул: «О, господи». Но вот защелкали замки, один, второй, третий. Дверь приоткрылась. Ружин сильно толкнул ее ногой. За дверью вскрикнули, и она открылась больше чем наполовину. Ружин шагнул первым. Лахов тоже переступил порог и закашлялся. — Дурь, — определил Горохов и зажал нос. В темной узкой прихожей кто-то корчился у стены. Видно, тот, кто открывал. Ружин подтолкнул его вперед, чтобы не оставался за спинами. Парень выругался, но заковылял покорно. По пути Ружин открыл дверь в ванную. Там горел свет. Голый малый тискал голую девчушку, совсем молоденькую, беленькую, худую. Горохов дернул малого за руку, тот повернулся, в белесых глазах муть, тупая ухмылка. Накачанный. Девчонка захохотала и стала чесаться. Со всей силы. В кровь. Кто-то выскочил в коридор из комнаты, грузный, растрепанный, потный. Разглядев погоны, крикнул: — Менты! — забегал шальными глазами в поисках выхода, метнулся к кухне. Ружин не останавливал его. Куда он денется, третий этаж. Но милиционеры все-таки двинулись в сторону кухни. Ружин толкнул дверь в комнату. Теперь и он закашлялся. Дым, музыка, стол с закусками, от двери до окна «стенка», дорогая, матовая. Ворсистый ковер на полу, не наш — привозной, ворс с пол-ладони, и совсем не к месту три кровати панцирные, на каждой лежат мальчишки, рты полуоткрыты, лица заостренные, как у мертвецов, на столе среди закусок шприцы, под подошвами хрустит — осколки ампул. На бархатном диване под роскошным абажуром торшера двое кавказцев, скорее всего грузины, небритые, мордатые, подняться нет сил, глядят сумрачно, пьяно. Один все-таки сумел встать до того, как Ружин к нему приблизился, нетвердо, но резво шагнул к низкому шкафчику, просунул руку между ним и стеной, вынул двустволку, не целясь выстрелил, попал в потолок, посыпалась штукатурка. Офицер присел, закрыв уши руками, фуражка упала с его головы, покатилась. Ружину мешал стол. Через него до парня не дотянуться, а тот уже прилаживался, целился. — Сука! — крикнул Ружин и с грохотом опрокинул на него тяжелый стол — зазвенела посуда неожиданно мелодично, нежно, — затем ногой двинул его в пах, отвел левой рукой стволы, а правой коротко ткнул в основание носа. Парень, удивленный, упал. Теперь им занялись Горохов и Лахов. Ружин поднял фуражку, потряс офицера за плечо, отнял его руки от ушей, протянул фуражку, обронил: — Не теряй. Дверь в кухню забаррикадировали изнутри. Милиционеры в два плеча пытались освободить себе путь. На кухне истошно вопили: — Хрен вам, падлы! Хрен моржовый! Не взять меня! Не взять! Никого не взять!.. — Хрен! Хрен! Хрен! — вторил ему еще один голос, молодой, звенящий от напряжения, страха и собственной отваги. — С водицей уйду, примет она меня, холодная, чистая, и понесет в своем чреве навстречу счастью, любви и покою… Из-под двери проворно поползли тонкие ручейки. — Воду на всю катушку включил, шизик, — переводя дыхание, усмехнулся один из милиционеров… — Пусти, пусти меня, водица! — вопил «шизик». Но вот голос стал глуше, послышалось бульканье… — А-а-а-а-а-а! — заорал молодой. — Давай! — выкрикнул Ружин, и втроем они навалились на дверь. Еще, еще… Дверь подалась… Еще… Ружин протиснулся в щель. Дверь оказалась подпертой буфетом, плитой, столом… Грузный лежал на полу, хрипел, изо рта текла вода. Молодого нигде не было. Ружин изумленно обвел глазами кухню. Увидел открытое окно, выглянул. Под самым окном палисадник, кусты. В кустах кто-то шевелился. Вот поднялся, побежал, прихрамывая, худой, долговязый. Ружин покрутил головой: — Редкий паренек, — и сорвался к двери. Догонял бесшумно, без предупреждающих окриков — люди вокруг, зачем их пугать. Паренек сначала не оборачивался, но потом, видно, почуял что-то, обернулся, разом вычислил Ружина, заулыбался недобро, повернулся, заковылял навстречу, вынул из-за пазухи нож. Вскрикнула женщина, несколько человек шарахнулись в стороны. — Зря, — с сожалением сказал Ружин. — Не надо было, — подошел ближе, вдруг повернул голову вбок, словно увидел кого, махнул рукой, крикнул: — Давай! — Прием старый, как мир, но действует. Паренек дернулся невольно вбок, а Ружин тем временем ударил ногой его по руке — нож вылетел, — потом перехватил руку, взял на излом, завел за спину. Кто-то из прохожих подал Ружину нож. — Спасибо, — сказал он и повел паренька к дому.
Офицер бил малого, стрелявшего из двустволки. Тот лежал на полу, безумно таращил глаза, вскрикивал, обильно брызгал слюной, а офицер пинал его, как футбольный мяч, хрипя, матерясь, умело… Лахов прихватил офицера поперек туловища, попытался оттащить в сторону, но офицер, литой, чугунный, отцепил руки, сбросил Лахова, оскалясь, и снова к лежащему. Один из милиционеров стоял у двери завороженный, отрешенно глядел на мелькающие сапоги. — Рехнулся, подонок? — Ружин оттолкнул милиционера, вошел в комнату. Офицер был занят, он не услышал, опять слетела фуражка, опять покатилась. Ружин сплюнул. Вдвоем с Лаховым они заломили офицеру руки. Он неожиданно покорился, сел на стул, протянутую Ружиным фуражку не взял, глянул только на оперативника, не скрывая неприязни. В комнату заглянул загорелый молодой мужчина в белом халате — врач «Скорой помощи». — А вот и мы, — приветливо сообщил он. — Ну-с, кто больной? Ружин жестом указал на кровати. — Совсем дети, — врач вздохнул, раскрывая чемоданчик. Ружин вышел в коридор, распорядился: — Остальных в автобус. Паренек сидел в коридоре на полу, безмятежно курил. — Имя, отчество, фамилия? — Ружин положил ручку на стол, неторопливо поднял руки вверх, потянулся упруго, глаза сразу стали сонными. — Нанюхался вчера вашей дряни, — он лениво посмотрел на сидящего напротив паренька. — Всю ночь птицы в окна бились, а за дверью кто-то стоял и ковырялся, гад, в замке, и ковырялся… — Мало нанюхались, — ухмыльнулся парень. — Кайф не словили. Кайф классный, чё больше хочешь, то и видишь… — И что ты видишь? — Да всякое… — парень помял пальцы, посмотрел в окно. Там солнце, море, женщины, девочки, все в ярком, красивые, все это видно из окна. — Всякое… — повторил он. — Ну, ладно. — Ружин взял ручку. — Значит, как тебя? Колесов Алексей? — Андреевич, — подсказал Колесов. — Год рождения… Учишься, работаешь? — Учусь, пятьдесят второй интернат, десятый класс. — Вот как? Не врешь? — Ружин откинулся на спинку стула, пошевелил бровями. Колесов засмеялся. Ружин улыбнулся ответно. — Феленко Александра Степановича знаешь? — А как же? Замдиректора. Зануда, бу, бу, бу-бу, бу, бу, и все о чем-то заумном, высоком, уши вянут. — Понятно, — Ружин покачался на стуле, спросил: — Ну, что делать будем, Леша? — А что? — Колесов преданно вперился в Ружина. — Сажать тебя надо. — За что? — протянул Колесов, продолжая поедать Ружина глазами. Ружин встал из-за стола, не спеша, улыбаясь, подошел к пареньку, сказал ласково: — Сам знаешь! — И неожиданно двумя растопыренными пальцами ткнул Колесову в преданные глаза. Пальцы не дошли до лица сантиметров двух, но Колесов испугался, отпрянул, взмахнул руками, не удержал равновесия, свалился навзничь вместе со стулом. Упал неуклюже, жалко. Ружин вздохнул, но попытки помочь не сделал, смотрел сверху, холодно, жестко, выстукивал ногой такт. Колесов встал не сразу. Не поднимая головы, раскорячась, отполз в сторону, как краб. Прислонился спиной к стене возле окна. За окном, далеко, на набережной, играла музыка. Ружин сунул руки в карманы брюк, прислушался, затем внезапно сделал лихое па, крутанулся на одном месте, подмигнул Колесову, наклонился, поднял стул, аккуратно поставил его возле стола, обошел стол, сел на свое место. И вот теперь Колесов поднялся, молча, глядя перед собой в пустоту, выпрямился вдоль стены, сказал тихо: — Домой хочу. Без стука вошел Рудаков, начальник уголовного розыска, опрятный, добродушный, с мягким морщинистым лицом, добрый сказочник Оле-Лукойе, вставший под ружье по всеобщей мобилизации — Родина в опасности, воруют… — Колесов? — спросил доброжелательно. Тот кивнул. — Садись, что встал, — махнул рукой, приглашая, и вполголоса Ружину, деловито: — Как беседа? Сам демократично взял стул от стены, устроился по-стариковски, поерзав, хотя не старик еще, пятьдесят пять, но выглядит старше, и ему нравится это — отец, дед, опекун. Колесов не сел, остался стоять. — Ну, стой, раз хочется, — разрешил Рудаков. — Ну, так хоть посмотри на меня, чтоб я лицо твое увидел. Ну! Глаза! Дай глаза твои разглядеть, — повернулся к Ружину вопросительно, тот невинно пожал плечами. — Боишься? Боишься. Чуешь, какой взгляд у меня, куда хочешь проникнет, в любые потаенки твои. Чуешь, поэтому и прячешь глаза. Да и бог с ним, я и так все вижу, по рукам, по жилке, что на шее бьется, по испарине, что на лбу под волосами… Когда потреблять начал наркотик, в восьмом? В девятом? В десятом, значит. Кто дал? Ну? Одноклассники? Знакомый на пляже? Сосед?.. Ладно, неважно. Сейчас у кого берешь? Другие вот сознаются, а ты будешь молчать, тебе по полной катушке, им скостят… — Стул скрипнул, Рудаков опасливо схватился за стол, помял бумаги, сбросил ручку; кряхтя, сгорбился, переломился, выставил зад, брюки натянулись, нашарил ручку на полу, побагровевший, положил ее на место, в глазах блеск, слеза от напряжения. Ружин старался не смотреть в его сторону, не конфузить. Рудаков перевел дыхание, поморщился — не от усталости, от осознания момента — непривычно, все сам, новый стиль работы, — рекомендуют. Ничего, скоро все кончится. Заулыбался, папочка, все понимающий, исполненный простоты, благодушия, продолжил: — У меня сын есть. Взрослый уже. Когда маленький был, заболел. Тяжело. Операцию делали. Потом еще одну. Чтоб боли унять, наркотик давали. Долго. Он привык. Галлюцинировать начал, меня не узнавал, в окно кидался… Я поседел, сколько слез пролил. Понимаешь? Ты понимаешь? Сначала кайф, а потом горе. Понимаешь? Страшно. Твои сверстники гибнут. Ты гибнешь… Скажи, у кого брал ширево? Ты не предаешь, спасаешь… Колесов молчал. Бездумно глядел перед собой, не двигаясь. — Как остальные? — одними губами спросил Ружин. Рудаков развел руками, встал, пошел к двери, задержался возле Колесова, мимоходом проговорил: — Красивый мальчик. Девчонок любишь, а? Дверь хлопнула. Ружин встал, стремительно подошел к Колесову, прижал его рукой к стене, крепко, кисть побелела, заговорил быстро, веско: — Забыл, как с ножичком шел на меня? А я помню. Отлично помню. Напал, хотел убить. Никто не знает об этом, кроме тебя, меня и свидетелей!.. Выбирай!.. Подошел к двери, открыл, позвал милиционера: — В камеру.
Ружин и Феленко шли по набережной. Асфальт выбелен солнцем, каменные парапеты седые от соли, каленые; кусты, деревья остро контрастируют и с асфальтом, и с парапетами — до боли в глазах — изумрудные, сочные. Шумно. Вокруг люди, шагу не сделаешь, чтобы не задеть кого-нибудь рукой. На пляже еще гуще, но весело, смех, музыка. — Ты похудел, — сказал Ружин и добавил неопределенно: — По-моему. — Работа, — ответил Феленко. Лицо у него чистое, сухое, глаза невеселые, высокий, ростом с Ружина. — Здание ремонтируем. Беготня. — Не звонишь, — заметил Ружин. — Я же говорю — работа. — Мы виделись весной, — Ружин подумал и добавил неуверенно: — А до этого осенью вроде. Хотя рядом все… — Не помню, когда загорал, — Феленко остановился, поднял ногу, задрал штанину. — Во какая нога белая, как вата, тьфу… Ружин потянул его за собой, смеясь. — Ты всю жизнь белый, сколько тебя помню, со школы… Подошли к турникету, возле него табличка на ножке «Пляж гостиницы „Солнечная”». Дежурный с повязкой, в кепочке, потный, вислощекий, расплылся перед Ружиным, проводил взглядом, уже без улыбки. Феленко хмыкнул: — Я как-то в мае хотел пройти, чуть морду не набили. Над пляжем на набережной — кафе, столики под зонтиками, белые стулья, легкие, с резной спинкой, все аккуратно, со вкусом — салфетки, бокалы. Почти все столики заняты. Слышится иностранная речь, и не только… Много рослых ребят с простецкими, но холеными лицами, девицы, яркие, модные. Все раскованны, улыбаются. Подошел официант, кивнул Ружину, показал на стол. Сели. — Марину видишь? — спросил Феленко, устраиваясь. — Перезваниваемся, — неохотно ответил Ружин. — Иногда. — Как она? — Работу бросила. По субботам покер. Она в длинном платье, принимает. Муж на черной «Волге». Как и мечтала. — Ничего не меняется, — Феленко вынул «Дымок». — Люблю «Дымок», — сказал. И демонстративно стал открывать пачку. — Не желаете? — протянул раскрытую пачку подошедшему официанту. Тот оторопело глянул на него, покосился на Ружина, справился-таки, заулыбался: много на свете чудаков, оригинальничают (в таком месте «Дымок»), вежливо отказался, положил на стол меню. Ружин пошевелил в воздухе пальцами: — Убери. Принеси как всегда. — У меня старые штаны, — Феленко горестно покачал головой. — Шестой год ношу, штопаные. Показать где? — и с деланной грустью добавил: — Все, наверное, тут смотрят на меня, смеются. Тебя в неловкое положение ставлю, нет? Ружин, казалось, не слышал, равнодушный, расслабленный, разглядывает женщин, то и дело сдержанно кому-то кивает, с достоинством. Отпил глоток «Боржоми», сказал: — Времени в обрез. Зачем звонил? Колесов? Защищать будешь? Характеристику наверняка припас, просьбу директора. Так? — Ничего не меняется, — повторил Феленко, усмехнулся рассеянно. Подошел официант, принес заказ, расставил тарелки, улыбнулся, ушел. — Господи, — вздохнул Ружин. — Ты о чем? — Обо всем, — Феленко развел руки, поглядел по сторонам. — Обо всем. Кричим, много кричим, пишем, усиливаем. Но… все равно там одно, — он махнул рукой в сторону общего пляжа, — здесь другое, там одно, — он показал пальцем вверх, — там, — палец его переместился к полу, — другое. Устал. Сердце болит. Директор просил, поезжай, похлопочи, у тебя дружки там, надо парня выручать. А я тебе другое скажу — сажай, сажай, Сережа, — сжал салфетку, смял, выкинул, — по самой по полной по катушке. Он не плохой парень, не злой, модный, при деньгах, — Феленко повел подбородком. — Ему все разрешают, директор за руку здоровается, по мускулистой шейке треплет, в кабинете кофеек с ним распивает… А вся наркота в интернате от него. Фактов нет, но я знаю… Милиционера избил — пожурили… — Я не слышал, — насторожился Ружин. — Когда? Кто занимался? — Весной. Никто не занимался. Директор. Разобрались. Милиционер был доволен. — Я поинтересуюсь. — Поинтересуйся, — согласился Феленко. — Такие, как Колесов, развращают, настраивают детей на анархию, на безответственность, на зло. Посади его, Ружин. — Он сирота? — Сирота. — Богатые родственники? — Да. — Кто? — Разное говорят. — Хорошо. Все? — А как прояснится хоть что-нибудь с Колесовым, я буду валить директора. Продажная тварь. Хватит. Пора действовать. Начнем с малого… Кто-то окликнул Ружина, он оглянулся, тяжелый, длиннорукий парень, в просторных голубых штанах, в теннисной майке от Фреда Перри, черные волосы, влажные, зачесаны, блестят, на руках перстни, один, два, три… С ним девица, тонкая, на шпильках. Ружин встал, пожал протянутую руку, дал потрепать себя по шее, по плечу. — Рад тебя видеть, — улыбнулся. — Позвоню, — сказал малый. — Дело есть. Не прогадаешь. Феленко внимательно посмотрел на Ружина, проговорил тихо, себе: — А потом и до тебя доберемся… Двурушник! Сытый двурушник! — Доедай, — садясь, Ружин все еще улыбался. — Пора.
* * *
…Темный двор, глухой. Колодец. Один только въезд, через арку. В конце арки, на улице, все кажется белым от солнца, люди, деревья, дома и «Волга», что въезжала во двор. Въехала. Нет, совсем не белая, черная, строгая. Мягко остановилась возле сине-желтого милицейского рафика. Настороженно подошли дети, заглянули внутрь, без детского любопытства, внимательно, с ожиданием. Тихие дети, опрятные, не похожие на привычных — горластых, шебутных, южных. Открылась задняя дверца, кряхтя, вылез Рудаков, оправил пиджак, брюки, только сейчас заметил детей, улыбнулся было добро, но потом улыбку убрал, некоторое время они разглядывали друг друга. Потом Рудаков пожал плечами и зашагал к подъезду. Дети бесшумно разошлись кто куда, исчезли. Шофер открыл окно, крикнул вполголоса: — Эй! На третьем этаже дверь в одну из квартир была открыта. Рудаков вошел. По комнатам сновали люди. Увидев Рудакова, вытянулись, поздоровались. Рудаков махнул рукой. Криминалист, перезарядив фотоаппарат, невесело усмехнулся: — Старика кондратий хватит, как узнает: иконы, пятнадцатый век, посуда, раритеты… — Еще не сообщили? — спросил Рудаков. — Найти не можем. Где-то бегает. Рудаков прошел в комнату. На кровати вытянулась маленькая женщина лет шестидесяти пяти, халат задрался, ноги худые, бледные, в выпуклых синих жилах, большие, не по размеру, тапочки. Рядом на полу, на корточках Ружин. Поднял голову, вставать не стал, сказал: — Только-только пришла в себя. Сейчас разберемся. На голых руках женщины кровавые полосы. Ружин поймал взгляд Рудакова, объяснил: — Связывали, проводом. Сначала кулаком в переносицу, потом проводом. Соседка увидела дверь открытой, сообщила. — Я в курсе, — Рудаков огляделся, взял стул, сел рядом. Женщина открыла глаза, поморгала. — Как вы себя чувствуете? — спросил Ружин. — Голова болит, руки… — с тихой тоской проговорила женщина. — Все болит, — приподнялась на локтях с трудом, кривясь, спросила с тревогой: — Где Максим? Ружин взглянул на Рудакова, потом перевел взгляд на женщину: — Он давно ушел? — Вспомнила, — женщина с облегчением легла на подушки. — Он у Дазоева, тоже коллекционера, антиквара, да, да, скоро придет, бедный. — Расскажите все подробно, сначала, — попросил Ружин. — Позвонили в дверь, я открыла, двое, ударили в лицо. Я потеряла сознание. Пришла в себя, связана, слышу шум, голоса, во рту тряпка. Открывать глаза не стала. Страшно. Перед уходом опять ударили. — Узнаете их? — Наверное, да… — Что они говорили? — Что брать, что не брать… — Что еще? — Не помню. — Вспоминайте, вспоминайте, что еще? — Не помню… — Надо, надо, надо… Как называли друг друга? Акцент? Названия улиц, городов? Цифры какие-нибудь? — Не помню, не помню, — женщина сдавила виски, сморщилась, замотала головой. Рудаков остановил Ружина, придержал за руку, заметил категорично: — Хватит. Ружин встал, развел руками. — Один говорил про рейс на Тбилиси, дневной, — вдруг спокойно заговорила женщина. — Мол, к шести буду дома и ищи ветра в поле. — Приметы. — Ружин стремительно нагнулся. — Приметы!…Возле здания аэропорта — не большого и не маленького, стекло, бетон, обычного — на стоянке такси бранились пассажиры. Две толстые женщины пытались влезть в машину впереди двух обалдевших от жары, крепких низкорослых мужичков, — провинциалы, в растопыренных глазах растерянность, в руках по чемодану, озираются ошалело, но стоят насмерть, закрывают машину грудью. Бабы побросали сумки и в драку, за волосы мужичков. Лахов стоял неподалеку, наблюдал сначала с ухмылкой, потом нахмурился, хотел ринуться разнимать, но вовремя опомнился, огляделся, не заметил ли кто его порыва. Послышался милицейский свисток, сквозь толпу пробирался сержант. Лахов опять ухмыльнулся, покачал головой, не спеша побрел к зданию. Вошел, заметил в буфете у столика Ружина и Рудакова, кивнул им едва заметно, пошел к газетному киоску. — Как Колесов? — спросил Рудаков, отпивая кофе. — Расколется, — Ружин внимательно просматривал зал ожидания. — Сирота, — скорбно заметил Рудаков. — Болел в детстве. С десяти лет в школу пошел. Судьба нелегкая. — Откуда информация? — Я оперативник или нет? — Рудаков отечески заулыбался, мол, учись. Добавил просто: — Отпускать его будем. Ружин забыл о зале, оторопело глянул на Рудакова. — Да, да, — сказал Рудаков. — При нем ничего не нашли. Ну, покурил травку, случайно. Верно? А что касается других, то за них он не в ответе. Ружин отрицательно мотнул головой: — Я же на квартиру не просто так пошел, было сообщение, один наркоман рассказал, что на Юбилейной улице… — Знаю, — перебил его Рудаков. — Ну и что? — улыбнулся. — Нет, — сказал Ружин, — не пойдет. Он мне нужен. Он много знает. Это моя работа. — И моя работа, — Рудаков положил ладонь на руку Ружина. — И моя. Ничего противоправного делать не надо. На нем же нет ничего. Хлопочут очень хорошие люди. Сережа, в первый раз, что ли? Зачем нам ссориться? — Пока не расколется, не отдам его, — жестко повторил Ружин, покрутил головой медленно, весомо. — Тогда я отстраню тебя. — Рудаков сделался некрасивым, заморщинился. — Прикажу. — Не отстраните, — Ружин посмотрел в глаза Рудакову, засмеялся беззаботно. — Мы слишком много знаем друг о друге. Лахов у киоска уронил журнал. Ружин пробежал глазами по залу, толкнул Рудакова, показал кивком. Сутулый, коротконогий кавказец, усатый, насупленный, с чемоданом и сумкой, подходил к регистрационной стойке, в метре сзади шел губастый парень в «варенках», в цветастой майке, глазел по сторонам, посмеивался… — Тряхну стариной, — сказал Рудаков. Лицо у него было злое, отяжелевшее, темное. Усатого взяли быстро и четко и почти незаметно для пассажиров. Ружин и Лахов подошли с боков, когда он ставил чемодан на весы, с хрустом завели руки за спину, Ружин прижал ему горло сильными пальцами, чтоб не верещал. А вот губастый вырвался у Горохова и Рудакова, кинулся к выходу, поскользнулся, упал, когда поднялся, понял, что не уйти, принял оборонительную стойку. Рудаков жестом остановил Горохова, пошел к губастому сам, выпрямясь, с усмешечкой, руки в карманах. — Это судьба, сынок, — сказал ласково. Губастый тряхнул руками, сплюнул, дернув лицом, уселся прямо на пол. Идти отказался. До комнаты милиции его несли на руках. — Здорово, — сказал Ружин Рудакову, когда они поравнялись. — Я волновался. В комнате милиции вещи обыскали. Нашли краденые иконы, посуду. Все нашли. А за подкладкой одного из чемоданов обнаружили еще и белый порошок, наркотики. — Грабеж перекроет по сроку статью о наркоте, — сказал Ружин губастому. — Признавай не признавай, ну а ежели поможешь следствию, скостишь отсидку. Думай. — Что надо? — сказал губастый. — Откуда порошок? — Ружин надорвал один пакетик, попробовал на язык, сплюнул. Губастый почесал щеку, розовую, нежную, волосы не растут, наконец сказал тихо, покосившись на кавказца, тот сидел далеко, повизгивал, отнекивался, занят собой был: — Улица Юбилейная, пятый дом, квартиру не помню, могу показать. Зовут Леша, молодой такой, красивый, высокий… Ружин повернулся к Рудакову, тот безразлично ковырял в зубах спичкой. — А? Что? — сказал, сделав вид, что в глубоких раздумьях обретался и вот только сейчас с трудом вернулся к реальности. — Порошок-то фирменный, — сказал Ружин и протянул Рудакову пакетик. — Ну, хорошо, разбирайтесь, разбирайтесь, — протянутый пакетик Рудаков не взял, посмотрел на часы, добавил: — Я в управление. Доложишь.
Уже сумерки. Город в ожидании веселого вечера, а может быть, и ночи, курортникам на работу не вставать, можно ложиться под утро. Веселые пестрые блики бежали по капоту ружинской машины. Гирлянды разноцветных лампочек висели прямо на деревьях, тянулись меж фонарных столбов. Сюрприз этого сезона, знатоки рассказывают, что не хуже, чем в Ницце… Две пестрые симпатичные девчонки голосовали на самой середине шоссе, радостные, пьяноватые. Ружин не спеша объехал их, показал язык, девчонки захохотали, погрозили кулачками. Увидев указатель «Гостиница «Солнечная», свернул направо. Гостиница была видна еще с шоссе, огромный, светящийся изнутри корабль, носом упирается в море, еще немного — и покатится со стапелей. Ружин подрулил к стоянке, махнул дежурному с повязкой, тот указал, где встать. Швейцар улыбнулся добро, еще из-за стеклянных дверей, продолжая улыбаться, с почтением пожал протянутую руку, когда Ружин вошел. В холле тонко пахнет духами, зарубежными сигаретами и кофе — д о р о г и м пахнет. Много женщин и мужчин, снуют, сидят, что-то пьют, болтают, не различишь, где наши, где ихние… Но вот несколько девиц как бы невзначай отвернулись, увидев Ружина, какой-то малый, весь «вареный», жеманный, оторвался от небольшой пестрой группки, спешно засеменил к лестнице. Ружин усмехнулся: не надо меня бояться, у меня сегодня своих забот хватает. На лифте доехал до третьего этажа, прошел в конец коридора, очутился в квадратной комнате с креслами, диванами, низким столиком. Навстречу поднялась женщина с ухоженным лицом, улыбнулась: — Проходите, — открыла тяжелую дубовую дверь. И здесь, диваны, кресла, ковер, ворсистый, мягкий, просторно, у огромного окна изящный тонконогий стол, не наш, не советский, чересчур игривый, не деловой. За столом мужчина лет сорока, лицо узкое, загорелое, короткая стрижка, с боков седина, светлый костюм, черный галстук — Кадаев, директор гостиницы. Он встал, застегнул пиджак, улыбнулся приветливо, протянул руку: — Здравствуйте, Сережа, рад, что не отказали, пришли. Я соскучился. Суетишься, суетишься, а поболтать по душам и не с кем. Вы как спасение. — Спасибо, — сказал Ружин. — Садитесь. Кофе? Коньяк? Водка? Ружин покрутил головой. — Вы чем-то расстроены? Ружин пожал плечами, сказал неопределенно: — Работа. Кадаев подошел к стене, открыл бар, вынул початую бутылку чего-то дорогого, налил в крохотную рюмку и повернулся к Ружину: — Я вот по утрам просыпаюсь, и страх охватывает, знаете, прямо пальцы стынут, умирать скоро, а собой и не жил, понимаете? Собой, нутром своим, душой своей, чтобы почувствовать, что живешь именно в данную минуту, в это мгновение и что жизнь — самое замечательное, что может быть. Понимаете меня? Ружин усмехнулся, закурил, не спросясь, затянулся, продекламировал: — Я хочу быть кумиром вселенной, я хочу ничего не хотеть… Подавите желания и ощутите жизнь. Способ один, других нет. Кадаев сделал глоток: — Чересчур за многое и за многих я в ответе — жена, дети, родственники, друзья, постояльцы в конце концов. Допустим, я начну жить по большому счету, а что будет с ними? Кстати, о друзьях… Ружин опять усмехнулся: — Легкая интеллектуальная разминка, а теперь о деле, верно? Так учил Дейл Карнеги. Я правильно произношу? Кадаев засмеялся: — Я вас люблю, Сережа. Вы все понимаете. — Он присел на краешек стола, запросто, по-свойски, улыбку убрал, заговорил доверительно: — Да, о деле. Вот какая штука. Вы на днях задержали одного мальчишку, дурак-несмышленыш. — Колесов? — Да. Он сирота. Тяжелое детство. Я принимаю в нем кое-какое участие. Он родственник одного моего близкого друга. — Кого? — Ах, Сережа, разве это имеет значение… — грустно улыбнулся Кадаев. — Втемную не играю, — Ружин затушил сигарету, встал. — Сыщик есть сыщик, — скорбно вздохнул Кадаев. — Брат жены Лавинского. — Директора «Югвино»? — Замечательный человек. Жена — красавица, молодая. Вы меня понимаете? — Кадаев положил Ружину руку на плечо, добавил, понизив голос: — Квартира, на которой вы задержали мальчишку, ее. Как не хотелось бы, Сережа, чтобы квартира фигурировала в документах. Ружин покрутил головой медленно, шея напряглась. — Вы же однажды помогли нам… мне, — вежливо настаивал Кадаев. — Заткнули глотку этой дуре, которая болтала, что я получал доход с проституток, что именно я-то и продаю их фирмачам… Забыли? — Ну, во-первых, вы мне симпатичны, — вновь садиться Ружин не стал, стоял, глядя в окно, неожиданно безразличный. — Во-вторых, я не моралист и не считаю проституцию большим злом. Но здесь наркотики, а это я считаю злом. Кадаев усмехнулся: — Дело, наверное, не только в симпатиях и убеждениях. — Он сделал еще глоток. — Были причины и другого характера, верно? — Нет, — весело возразил Ружин. — Неверно. Я принял от вас японскую видеоустановку, тоже исходя из своих убеждений. Сыскная работа незаслуженно мало оплачивается в отличие от других видов человеческой деятельности. — Он поклонился в сторону Кадаева. — Надо соблюдать пропорцию. Кадаев печально покачал головой, встал, поставил рюмку в бар, сказал сухо: — Мы можем обойтись и без вас. Это просто. Но я знаю, что вы полезете в драку и на каком-то этапе успешно, вас ценят, у вас имя. Значит, война. А это создаст неудобство, я не люблю неудобства, я люблю комфорт. — Он, сузив глаза, оценивающе посмотрел на Ружина. — У меня есть прелестный домик в двадцати километрах отсюда, маленький, правда, но каменный, вокруг ни души. Предоставляю кредит. Ружин не ответил, опять взглянул в окно, оно выходило на хоздвор гостиницы, увидел подъехавшую машину, человека, вылезающего из нее, засмеялся неожиданно, повернулся к Кадаеву, сказал: — Я хочу ничего не хотеть… Развел руками и торопливо вышел. Направился не к лифтам, а к черной лестнице, спешил. Внизу в дверях столкнулся с Рудаковым. Тот от изумления застыл. — А ведь я поверил поначалу, что у вас есть сын, — сказал Ружин, — что он был наркоманом, что слезы вы лили, что маялись. Потом проверил. Нет, все же только дочь, одна дочь, благовоспитанная, музыкант, в вашей чистой биографии. А жаль, что не было сына, жаль, что слезы не лили, не маялись… Не ожидая ответа, вышел. В машине лег грудью на руль, проговорил тоскливо: — Зачем? Зачем, а?
…Ружин и Колесов вышли во двор управления, встали у машины Ружина. Колесов щурился — два прожектора ярко освещали двор, у гаражей два милиционера возились с мотоциклом, беззлобно ругались, подвывала овчарка в вольере, протяжно, тоскливо. Колесов поежился, сделал несколько энергичных движений, разминаясь. В дверях показались Лахов и Горохов. Горохов остановился, посмотрел на горящее окно на третьем этаже, сказал, ни к кому не обращаясь: — Сто третий, сто третий, как слышишь меня? Прием. На груди у него, под курткой, глухо зашуршала рация, пробился низкий голос: — Слышу нормально. Порядок. Из окна высунулся мужчина в белой рубашке, крикнул: — Будь спокоен, не подведет! — Я тебе уже не верю, — пробормотал Горохов. — Самоделкин… Подойдя к машине, добавил, обращаясь к Ружину, обиженно, жалуясь: — На прошлой неделе это старье принимало «Маяк» вместо базы. — Разберемся, — пообещал Ружин, посмотрел на часы. — Все. Время. Прежде чем сесть в машину, Колесов сказал: — Еще одно условие… — Условие? — удивился Ружин. — Ну… просьба, — Колесов дернул щекой. — Мне надо выпить. Ломает… Ружин вздохнул, произнес искренне: — Несчастный мальчик. Посмотрим. — Он подтолкнул Колесова к дверце. В машине Колесов уточнил еще раз: — Сначала в «Кипарис». Он там бывает чаще всего. — Ох, шеф, глухой номер, — посетовал Горохов. — Он давно уже где-нибудь… тю-тю, в Барнауле водку пьет. — Нет, — возразил Колесов. — Он здесь. Он ничего не боится. Он говорил, что его никто никогда не тронет, именно здесь не тронет. Ружин промолчал. Он смотрел на дорогу. Лицо его было злым, несколько раз вздернулась верхняя губа — нервно. — И к тому же парень не знает ни его фамилии, только имя, да и то туфтовое наверняка — Альберт, ни телефона, ни адреса, — поддержал Колесова Лахов. — Тот сам его находил. Верно? — Он повернул голову к Колесову. Тот кивнул, облизнул сухие губы, потер глаза, слезились.
В «Кипарисе» обычный галдеж, сутолока, пестрота. Зал полутемный в красно-фиолетовых тонах, музыка негромкая, официанты быстрые, много иностранцев. Посидели за угловым столиком минут двадцать, пили кофе, пепси-колу. Колесов умоляюще смотрел на Ружина: — Ну дайте хоть соточку… — Потом, — коротко ответил Ружин, посмотрел на часы. — К полуночи опять сюда заедем.
Другой ресторан — «Морской», цвета соответствующие, зал бирюзово-голубой, пастельный, глаза отдыхают. На сцене варьете, девушки в тельняшках и черных клешеных юбочках, ноги длинные, стройные, Лахов залюбовался, не заметил, как остальные поднялись в кабинет директора, спохватился, помчался по ступеням. В кабинете окно в зал. Зал виден весь. Директор суетился, предлагал кофе, коньяк, заглядывал в глаза. Колесов сглатывал слюну. — Потом, — опять сказал Ружин, и они двинулись дальше.
На окраине города, на взгорке среди деревьев грузинский ресторан под открытым небом «Мцхета». Один зал под навесом, деревянные дощатые столы, грубо сколоченные стулья, стилизация; несколько круглых столиков с пеньками вместо стульев прямо среди деревьев. Столики скрыты друг от друга густыми кустами, это затрудняет задачу. Машину поставили на стоянке, с трудом нашли место. Возбужденные голоса, грустная грузинская мелодия, музыканты играют прямо на улице, между крытой площадкой и открытыми столиками в полумраке тенями снуют официанты, посетители, вокруг ламп слоится тонкий дымок от мангалов, сигарет… Ружин и Колесов прошли вдоль площадки, потом обратно. Колесов крутил головой по сторонам. Ружин махнул рукой стоявшим поодаль Лахову и Горохову, показывая, что они с Колесовым идут к открытым столикам… За одним громкая компания перебивает друг друга тостами, за другим две пары озираются с любопытством, за третьим две яркие раскрашенные девицы, три крепких парня. Парни вскинули глаза, посмотрели трезво, хотя сидят, видно, давно, пьют, напитков на столе в избытке. Колесов поспешно зашагал назад. Ружин догнал его, дернул за руку: — В чем дело? Колесов помял кадык, сглотнул: — Там… один из его горилл, самбист, Петя, Петруччо. Он узнал меня, мне кажется… — Какой? — Ружин спрашивал быстро, отрывисто. — Белобрысый, в полосатом свитере. — Та-а-ак, — протянул Ружин, спросил с надеждой: — А может, не узнал? Колесов пожал плечами: — Обычно он передавал мне порошок. Как не узнать… — Пошли, — Ружин потянул его за собой. Подойдя к оперативникам, сообщил: — Там один из его людей, белобрысый, в полосатом свитере. Будем пасти. Ружин подтолкнул Колесова к Лахову: — Отведи его в машину и побудь с ним. — Но… — возмутился Лахов. — Давай, давай, — махнул рукой Ружин. Он был возбужден: начиналось дело. Расстроенный Лахов, взяв Колесова под локоть, повел вниз, к стоянке. Ружин и Горохов не спеша, прогулочно, с флегматичными физиономиями двинулись к открытым столикам. Музыка кончилась, оборвалась разом, только еще какие-то мгновения ныла флейта, едва слышно, тоскливо, через мгновенье ее заглушил ресторанный шум, неровный и веселый. — Мы очень строгие, — сказал Горохов. — От нас дамы шарахаются. Они таких не любят, давай улыбаться. Он обаятельно, белозубо заулыбался. Высокая девушка в белом узком платье, идя навстречу, засмеялась ответно, прошла мимо, оглянулась несколько раз. Ружин расправил плечи, пошарил ищуще глазами по сторонам. Зацепил взглядом группку из трех смеющихся мужчин. Те покосились, смех оборвали, вытянули лица мрачно. Через несколько шагов оперативники попали в круг света, растянули губы еще шире. Несколько танцующих неподалеку пар остановились, настороженно уставились на них. Продолжая улыбаться, Ружин процедил Горохову: — Ты идиот. Шагнул в темноту, сплюнул, вытащил сигарету. — Шеф, я хотел как лучше, — Горохов невинно растопырил глаза. — Чтоб мы не отличались от них… Опять послышался звук флейты. Ружин осмотрелся, музыкантов не было. — Ты слышал? — спросил он. — Что? — не понял Горохов. — Будто музыка… Показалось… — Ружин затянулся, потер висок. — Показалось, — повторил Горохов. За кустами кто-то громко выругался, истерично вскрикнула женщина, мужчина опять выругался, заорал, что он кого-то убьет, послышался звук удара, возня, опять женский вскрик. Ружин кинулся на звук, за ним Горохов. Около столика, где недавно сидел Петруччо, дрались. Двое парней, сцепившись, катались по земле. Одна из девиц, вопя, пыталась их расцепить. Петруччо нигде не было. Что-то неестественное было в этой драке, через секунду Ружин понял — парни даже и не пытаются встать, словно им чрезвычайно нравится вот так обнявшись кататься по траве. — Туфта, — бросил он Горохову и прямо через кусты ринулся к выходу. Полосатый пуловер Петруччо они увидели сразу, как только выбрались за заборчик ресторана. Он, согнувшись, энергично размахивая руками, несся к стоянке автомашин. Ружин и Горохов побежали вслед. Гравий горстями летел из-под подошв. Их крепкие тренированные ноги оказались быстрей, Петруччо еще возился с ключами возле дверцы, а оперативники уже влетели на территорию стоянки. Ружин на ходу вынул пистолет. — Стоять! Не шевелиться! — крикнул он хрипло. Петруччо метнулся за машину, и через мгновенье раздался выстрел. Оперативники повалились на асфальт. Еще выстрел, пуля шваркнула перед лицом Ружина. Он перекатился на несколько метров, укрылся за колесом «Волги», крикнул громко: — Брось, Петруччо, бесполезно! У меня рация, уже перекрывают город… В ответ опять выстрел. — Ты дурак! — заорал Ружин. Горохов возился с рацией, Ружин слышал, как он повторял: — Сто третий, сто третий, как слышите меня?.. — Ну что? — нетерпеливо выкрикнул Ружин. — «Голос Америки», — жалобно ответил Горохов. — Что? — озлобился Ружин. — Вместо базы она принимает «Голос Америки», — Горохов нервно хихикнул. Ружин ударил кулаком по асфальту и притворно заплакал, постанывая. — Завтра, рано-рано утром, — сказал он, — напишу рапорт. Министру. Он будет слезный и горестный, он будет правдивый и поэтому нелицеприятный, он вызовет раздражение и злобу, но я все равно напишу. — Правильно, — отозвался Горохов. — Наддай жару. Никто работать не хочет. — И про тебя напишу, — заявил Ружин. — Я многое знаю. А потом переведусь в участковые, в дальний район, там море, добрые люди, виноград, курочки-хохлаточки… — Про меня не надо, шеф, — попросил Горохов. — Я еще молодой… Перспективный… — Курочки-хохлаточки… — мечтательно проговорил Ружин. — А он не рванет с той стороны? — встревожился Горохов. — Там обрыв, — печально пояснил Ружин. — Пусть рванет и рвет себе, и рвет… Ружин услышал топот, подтянулся на руках, выглянул из-за колеса — вдоль ряда машин бежал Лахов, в руке он держал пистолет. — Ложись! — гаркнул Ружин, и в то же мгновение грохнул выстрел. Лахов рухнул с кряканьем, неуклюже, гулко ударился о бампер «Волги», завыл — значит, живой. Он сделал движение — и опять выстрел, Лахов застыл, почти умер. — Где Колесов?! — рявкнул Ружин. — В машине, — Лахов перевел дыхание, сплюнул. — Куда он денется? — С кем я работаю… — простонал Ружин. — Не стреляй, не стреляй! — закричал кто-то с той стороны, откуда появился Лахов. Голос звучал тонко, чрезвычайно напряженно и оттого, казалось, сдавленно. — Они не сделают тебе ничего плохого! Только поговорят… Не стреляй! Но Петруччо все-таки выстрелил. Колесов закрутился волчком на месте, упал ломанно, по частям, медленно, как в рапиде, покатился по пыльному асфальту… Какое-то время Ружин наблюдал за ним без выражения, как за курочками-хохлаточками, снующими в загоне, потом привстал, бросил Горохову отрывисто, зло: — Прижми его выстрелами, чтоб не смел высунуться, гад! За багажником «Волги» он перескочил металлический заборчик, мимоходом оглядел толпу на взгорке, у ресторана, музыка уже не играла, никто не шумел, было тихо… Бегом обогнул стоянку и очутился у обрыва, вдоль которого расположился длинный ряд машин. За одной из них прятался Петруччо. Ружин прошел вдоль автомобилей еще несколько метров, бесшумно, крадучись. И, когда до Петруччоосталось метров двадцать, свистнул, — Горохов принялся беспорядочно стрелять, — потом вскочил на капот одной из машин, едва не поскользнувшись, перепрыгнул на крышу и, стремительно перескакивая с крыши на крышу, помчался к Петруччо. Он обвалился на него всем телом, ухнув, прижал к земле, перехватил руку с пистолетом, расслабленную от неожиданности, саданул ее два раза о металл машины, пистолет выпал. Ружин привстал, вынул оружие, стволом надавил Петруччо на испуганный, помутневший глаз, заорал яростно, визгливо, имитируя истерику: — Альберт, где Альберт?! Адрес? Адрес?.. Глаз вышибу!.. Петруччо что-то прохрюкал, от ужаса почти теряя сознание, захлебываясь слюной, потом все-таки выговорил трудно различимой скороговоркой: — Ракитная шесть, квартира восемь… Ружин встал. Горохов надел на Петруччо наручники. Подошел Лахов, а за ним и Колесов. Ружин с радостным удивлением вскинул брови. — В руку, — сказал Лахов мрачно. — Кость не задета. — Хорошо, — сказал Ружин, повернулся к Горохову: — Беги, вызывай группу, дождемся их и на Ракитную…
Рудаков сидел выпрямившись, словно школьник на первом уроке. Руки на столе, напряженные, жесткие, как деревяшки, пальцы давят плексиглас, веки тяжелые, смотрит поверх голов, не моргает, сдерживаясь. Напротив него на стульях Ружин, Горохов, Лахов. Ружин устроился свободно, как за праздничным столом, уверенный, бесстрастно смотрел в окно. Горохов и Лахов нервничали — то кисти помнут, то поерзают, скрипя стульями. — Будем назначать служебное расследование, — наконец заговорил Рудаков. — Ситуация безобразная. От кого, от кого, а от Ружина не ожидал. Опытный, грамотный, и такое дилетантство. Начальник управления в бешенстве. Звонки сыпятся со всех сторон. — Он помолчал, сжал пальцы, затекшие, разминая. — Значит, так. Первое. Неквалифицированно проведенное задержание, стрельба в общественном месте, то есть угроза жизни третьим лицам. Второе — преступная халатность, ранение задержанного. Ко всему прочему, задержанного вывозили без согласования с руководством… Горохов и Лахов, плохо скрывая удивление, посмотрели на Ружина. Тот пошевелил бровями шутовски, усмехнулся. — Да, да, — продолжал Рудаков, — без согласования… Третье — незаконное задержание и арест Гарабова Альберта Александровича на Ракитной. Заподозрить Гарабова в сбыте наркотиков, — Рудаков развел руками, покрутил головой, удивляясь, — нелепость. Подняли пожилого человека с постели, растревожили весь дом, уважаемый человек, заслуженный юрист, юрисконсульт межколхозной заготконторы… — Две машины, «Мерседес» и «Волга», — в том же тоне неожиданно подал голос Ружин, — дача с подземным гаражом, пять сберкнижек на предъявителя. — Молчать! — побагровев, крикнул Рудаков, хлопнул ладонью по столу, отдышался, вытер пот со лба белым чистым платком, аккуратно сложил его, разгладил ладонями, любуясь, чуть склонив голову, слабо улыбнулся чему-то, посмотрелся в круглое зеркальце на подставке, которое стояло на столе возле лампы, поправил волосы, повернулся влево, вправо, остался доволен, ясно взглянул на сотрудников, опять заговорил: — Петруччо, он же, судя по дактилоскопии, Боркин Алексей Васильевич, живший по подложным документам и разыскиваемый за квартирные разбои в Нальчике и Таллине… — Поэтому и стал палить, как бешеный, — тихо заметил Лахов. — Поэтому, — согласился Рудаков. — И еще потому, что вы вели себя как первогодки… Так вот, Боркин отказался от показаний на допросе у следователя… Ружин подался вперед, сдвинул брови, следя за движением губ Рудакова. — …Он пояснил, что назвал первый попавшийся адрес, потому что думал, что Ружин убьет его. — Чушь! — вскинулся Ружин. — Гарабова опознал Колесов. — В шоке, — улыбнулся Рудаков. — В состоянии нервного расстройства… Без понятых, приватно. Ружин откинулся на спинку стула. — Вот так, значит, — сказал. — Я понял… Я все понял. — Давно пора, — отозвался Рудаков. — Но, естественно, версию о причастности Гарабова мы тщательно проверим, у нас есть два дня… Ну а Колесова придется выпустить и извиниться. Вы не против? — не скрывая иронии, спросил он Ружина. Ружин промолчал, дернул подбородком непроизвольно. — Оформляйте, — приказал Рудаков. — И с сегодняшнего дня до окончания служебного расследования будете работать в организационно-аналитическом отделении. Все. Сейчас я буду сам допрашивать Гарабова. Оперативники вышли молча, не глядя друг на друга. По коридору милиционер вел задержанного, руки сцеплены сзади, утренняя щетина, холеное полное лицо осунулось, потемнело, но в узких черных глазах ни тени подавленности, напротив — злая усмешка. На Гарабове дорогой светлый костюм, мягкие мокасины, держится с достоинством — ни дать ни взять пожилой ловелас, спешащий поутру домой… Проходя мимо оперативников, замедлил шаг, глянул в упор на Ружина, сказал негромко, без выражения: — Я вас запомню. Ружин неожиданно оскалился, сделал шаг к Гарабову, замахнулся пятерней, Горохов перехватил его руку, потянул на себя. Ружин вырвался, пошевелил в ярости губами, быстро пошел к выходу. А Гарабов, казалось, и не заметил ничего.
* * *
…Ружин свернул направо, в сторону моря. Фары высветили «кирпич», он был больших размеров, чем обычно, свежо фосфоресцирующий, по-видимому постоянно обновляемый, заботливо, любовно. Через несколько метров еще один знак, прямоугольный щит на двух крепких ногах, всего два слова, буквы крупные, стерильно белые: «Запретная зона». Не проехав и километра, Ружин нагнал «Волгу». Машина ехала солидно, не спеша, поблескивая полировкой кузова, заднее стекло затемнено. Ружин сморщился: чересчур медленно, он такой езды не любит, но по асфальту не обгонишь, узко; мигнул фарами, пошел на обгон слева по траве, но тут и «Волга» прибавила скорость, без усилий, запросто. Ружин чертыхнулся, опять выехал на асфальт, «Волга» снова притормозила, Ружин сплюнул в открытое окно, пристроился в хвост, поплелся. Но вот наконец цель пути, забор вдалеке, освещенные ворота, два маленьких прожектора подсвечивают створки с земли, ворота выкрашены в белое, кажутся невесомыми, возле них двое мужчин в светлых костюмах, крепкие, высокие, с гаишенскими жезлами в руках. Перед «Волгой» ворота бесшумно открылись, машина проехала, перед Ружиным створки сошлись, пришлось резко тормозить. Ружин, сдерживаясь, крепко сжал руль, казалось, разломит его. Подошел один из мужчин, большеголовый, бесцветный, стукнул жезлом по крыше. Ружин высунулся в окно. Мужчина сказал: — Вам сюда, — и указал жезлом в сторону от ворот. Ружин повернулся, увидел импровизированную стоянку — несколько машин. — Я приглашен, — сказал Ружин. — Вам сюда, — повторил большеголовый. — А мне надо туда, — с нажимом проговорил Ружин и махнул рукой вперед. — Туда пешком, — бесстрастно произнес большеголовый. — А машину сюда. Ружин неожиданно выбросил руку, ткнул кулаком большеголовому в живот, тот охнул, хватанул зубами воздух. — Живой, — засмеялся Ружин. — А то уж я подумал — говорящее дерево. Большеголовый замахнулся жезлом, но Ружин ловко вывернул машину направо и, смеясь, покатил к стоянке. Когда он проходил через калитку, большеголовый даже не повернулся в его сторону.Маленькими прожекторами освещался с земли и вход в большой, трехэтажный, по-южному белый особняк. На плоской крыше мелькали тени, там же наверху играла музыка, громко, весело, оркестр. На широкой многоступенчатой лестнице, ведущей к распахнутым дверям, и возле лестницы, и дальше, под деревьями, густыми, раскидистыми, небольшими группками, и поодиночке, и парами стояли и расхаживали мужчины и женщины, одетые по-вечернему, ярко, у всех бокалы в руках, пьют. Ружина узнали, и он узнал кое-кого, кивал сдержанно, пока шел. Его окликнули. Он повернулся. К нему спешила молодая женщина, улыбающаяся, в огненно-красном коротком платье, узком, с полукруглым глубоким декольте. Стучали высокие каблучки, длинные глаза светились влажно. Остановилась, разглядела его со всех сторон. — И не надеялась, — сказала. — Изумлена. По этому поводу я закажу фейерверк, искристый и пенистый как шампанское… Кстати, надо выпить. Какой повод… — Она посмотрела по сторонам, пошевелила в воздухе пальчиками. — Мы в течение года ежемесячно присылаем ему приглашения, а он брезгует. Своей бывшей любимой женой брезгует. — Она говорила чересчур быстро, возбужденно. Пьяна? — Как тебя угораздило на сей раз? Ружин пожал плечами, слабо улыбнулся, сказал тихо и скорбно: — Пришел звать тебя обратно домой. Хватит. Пора. Марина засмеялась, чуть запрокинула голову, взбила с боков длинные белые волосы, протянула к нему руки. — Ты прелесть. Как всегда, красив и остроумен. Ружин отступил на шаг, проговорил еще более скорбно и печально: — Пусто без тебя. Везде. И в спальне, и в кухне, и на улицах, и в машине, и солнце теперь другое, темное, и ночь холодная и враждебная… — Он склонил голову, уставился в землю, вздохнув. Марина опустила руки, перестала улыбаться, провела языком по губам, всмотрелась в Ружина внимательней. — Если ты серьезно, — сказала она, — то лучше уходи. Уходи сейчас. Прямо сейчас поворачивайся и уходи… Ружин спрятал лицо в ладонях, дернул плечами, словно заплакал. — К черту! — кричала Марина. — Убирайся к черту! Не порть мне жизнь хоть теперь! Я забыла о тебе и не хочу вспоминать! Они были довольно далеко от людей. Но громкий, низкий ее голос услышали, гости стали тревожно поворачиваться к ним. Ладони Ружина поползли вниз. Лицо открылось. Он смеялся, искренне и весело, как давно не смеялся. Какое-то время Марина смотрела на него, порывисто дыша, пытаясь собраться с мыслями, потом процедила недобро: — Подонок! Я тебя ненавижу! Ненавижу! Она повернулась и, некрасиво ссутулившись, побрела к дому. Ружин, все еще смеясь, прислонился спиной к дереву. Затем выдохнул шумно. Вместе с воздухом вышел и смех. Весь. Без остатка. Он поднял правую руку, ударил себя кулаком в челюсть. Сильнее. Еще. Еще… Потом закурил, сделал несколько глубоких, жадных затяжек, бросил сигарету и решительно направился к дому. В доме празднично, светло, как днем, все двери настежь, в громадной прихожей бархатная мебель, низкая, стелющаяся, причудливые растения в кадках, на столиках разноцветные бутылки, маленькие, большие, совсем крохотные, везде гости, удовлетворенные улыбки, разговоры. В гостиной стол с закусками, длинный, без стульев, подходи, бери, что хочешь, ешь, где хочешь, фуршет, никаких ритуалов, свободно… В конце стола Ружин увидел Рудакова с толстенькой хохотушкой, пожилая, крашеная, молодится, жена. Рудаков провел взглядом по Ружину невидяще, повернулся к хохотушке, засмеялся деланно. Ружин хмыкнул, неторопливо приблизился к Рудакову, хлопнул его по плечу, сказал по-свойски, улыбчиво: — Привет, — подмигнул хохотушке, у той смех завяз в горле, Рудаков стал наливаться багровой тяжестью, а Ружин уже бодро шагал к лестнице, ведущей наверх… На квадратной, просторной крыше веранда, солярий, азотея, по-разному ее можно назвать, импровизированная сцена, музыканты, одни гости танцуют, другие любуются вечерним морем, прохаживаются, вдыхая солоноватый воздух. Веранда обильно освещается, и лица у людей белые, неживые, с прозрачными глазами, с растянутыми в обязательной улыбке губами. — Бог мой, какой сюрприз, — услышал Ружин голос, повернулся. К нему легким шагом шел высокий мужчина с чистым правильным лицом, крепкий, спортивный, лет сорока — сорока пяти, протянул руку. — Искренне рад. Жаль, что почти не видимся, а вы мне симпатичны, и я нисколько не ревную и не ревновал, уверяю вас. Все приглашения — это моя инициатива. Мариночка только одобряет и подписывается. Так что в нашем доме вы желанный гость. — Он по-приятельски взял Ружина под руку, повел к плетеному столику в углу веранды, заговорил вполголоса, доверительно: — Знаете, есть категория людей, их ничтожно мало, с которыми просто можно поговорить, просто так, о всякой глупости, ерунде, нелепице, и они поймут тебя, не рассмеются открыто или втайне, не разнесут по всему свету, что, мол, вот этот тип такую должность занимает, председатель исполкома, мэр, а какой-то странный — о любви, о добре, потаенных души порывах беседы ведет. Бредит? Вот вы как раз из той невероятно малой категории людей, мне так кажется. Приходите чаще, будем говорить. Они подошли к столику. Копылов сам открыл бутылку с джином, плеснул Ружину, себе, торжественно поднял стакан: — За вас! — Спасибо, — ответил Ружин. Пока пил, с интересом разглядывал Копылова. Копылов поставил стакан на столик, сжал Ружину локоть, сказал тепло: — Отдыхайте, развлекайтесь, в конце вечера я вас найду. — Юрий Алексеевич, — задержал его Ружин, — я бы хотел посоветоваться, и именно сейчас. Уделите немного времени. Я вряд ли останусь до конца. — Хорошо, — сказал Копылов. — Через несколько минут я буду в кабинете. Спускайтесь туда. Это из прихожей направо по коридору. Копылов быстрой, ладной походкой направился к лестнице, улыбался налево-направо, строил веселые гримасы. На ступеньках он нечаянно столкнулся с какой-то дамой в белом коротком платье. Галантно расшаркался, шутейно поцеловал руку, весь изогнувшись, сладкий, медовый, пожал руку ее спутнику, строго, с достоинством, рассмеялся, побежал вниз. Дама с мужчиной поднялись. Это была Лера. Видимо, с мужем. Белобрысый, стройный малый, скованный, нечастый гость на фуршетах. У Лерки не разбалуешься. Интересно, под каким соусом она здесь. Лера оглянулась, проводила взглядом Копылова. Ружин усмехнулся, вспоминая…
Небольшое открытое кафе на набережной, несколько столиков, навес от солнца и от дождя, за прилавком на вертелах вертятся румяные куры, видны блестящие от пота, смуглые лица поваров. Вокруг шумно — гомонят отдыхающие, нетерпеливые, суетливые, горланят ошалевшие от моря и солнца дети. Напротив Ружина сидит мужчина с блеклым, болезненным лицом, он в рубашке с короткими рукавами и совсем не к месту в галстуке. — У Копылова есть любовница, — тихо говорит он и откусывает кусок белого мяса. — Валерия Парвенюк, молодая, красивая, переводчица, муж инженер в порту, — мужчина усмехается. — Не успел Копылов жениться на вашей бывшей супружнице и уже… — Что еще?! — обрывает его Ружин. Лицо у него бесстрастное, жесткое. Мужчина вытирает руки салфеткой, продолжает: — Встречаются, как правило, на Морской, шестнадцать, я их сам там видел, выходили из подъезда, вот квартира какая, не знаю. Обычно в среду и пятницу, с четырех до шести… — он опять усмехается. — Здоровый бычок, на двух молодок работает… Ружин встал, бросил деньги на стол, обронил, уходя: — Понадобишься, позвоню…
Ружин сидит в машине, курит, внимательно поглядывает на подъезд четырехэтажного довоенного дома метрах в пятидесяти впереди от себя. Переулок тихий, тенистый. Кто-то высунулся в окно. Женщина, пышнотелая, в огромном халате, крикнула что-то, мальчишка, катающийся на велосипеде, посмотрел наверх, помахал рукой. Из подъезда выходят Копылов и Лера. Ружин напрягся, вгляделся пристальней. Копылов что-то говорит ей, будто оправдывается. Она не смотрит на него, губы плотно сжаты. Копылов машет рукой. Она одна идет по переулку. Копылов сворачивает в проход между домами. Машину, видимо, оставил на другой улице. Конспиратор. Ружин трогается с места, сначала едет медленно, бесшумно, крадучись. Лера сворачивает в проулок, и тут Ружин не церемонится, давит на акселератор, двигатель радостно поет, и автомобиль летит по переулку. Ружин на полном ходу вписывается в проулок, настигает женщину и только в метре от нее тормозит, чуть вывернув руль в сторону. Машина двигается этот метр по инерции, шипя колесами, легко задевает крылом Леру и останавливается мертво. Опасные игры, но все рассчитано до миллиметра. От неожиданного толчка Лера вскрикивает, подается вперед, припадает на одно колено. Ружин стремительно выскакивает из кабины, склоняется над ней. — Кретин, — цедит Лера, поднимаясь. — Болван, — соглашается Ружин, подавая ей руку. — Слепой, что ли? — Лера брезгливо отмахивается. — Ослеп, — разводит руками Ружин и сокрушенно качает головой. — Право слово, ослеп. Такое нечасто увидишь, на фоне солнца, в контражуре, казалось, Венера плывет обнаженная… Легкая, точеная, будоражащая… — Вы еще и наглец, — усмехается Лера и с невольным любопытством смотрит на Ружина. Он улыбается широко, открыто, ну, просто само обаяние. — Нисколько, — говорит он. — Просто восторженный человек. Люблю все красивое… — И дамский угодник, — добавляет Лера и тоже улыбается. — Я хочу искупить свою вину за ваш испуг, — говорит он. — Позвольте вас подвезти… Машина тормозит у порта. Ружин записывает телефон Леры, который она ему диктует, потом целует ей руку, она выходит, сообщает на прощанье: — Завтра все утро я дома. Ружин некоторое время смотрит ей вслед, улыбается, потом поворачивается назад, грозит кому-то кулаком, говорит удовлетворенно: — Ты у меня, а я у тебя, конспиратор.
…Лера наткнулась взглядом на Ружина, нахмурилась на мгновенье, лоб зашевелился, съежился, кивнула равнодушно, как малознакомому, чинно направилась с мужем к оркестру, мужчины оборачивались, слишком короткое платье… Ружин спустился по лестнице, опять попал в гостиную. Рудакова и толстушки здесь уже не было, у стола горячо спорили несколько мужчин. Ружин узнал прокурора. Прокурор приветственно помахал ему рукой. Он свернул в коридор справа от прихожей. В коридоре полумрак, горело только бра. Несколько дверей, за какой из них кабинет? За ближайшей дверью раздался голос. Ружин невольно остановился. — Он ублюдок! Ублюдок! Ты слышишь?! — это была Марина. — Вышвырни его отсюда! Слышишь?! — она заплакала. Ружин поморщился, заторопился сделать несколько шагов, заметил под следующей дверью полоску света, толкнул дверь. Кабинет. Пустой. Темная мебель, дорогая, массивная, книги, много книг. Он подошел к окну — там море, темное, тяжелое, густое… — Как вам мой дом? — Копылов плотно закрыл за собой дверь, посмотрел на часы, остановился возле стола. — С размахом, — сказал Ружин. — Неужто осуждаете? — Копылов поднял брови. — Напрасно. Так надо. Представительствую. Один из самых популярных курортов страны. Делегации. Иностранные гости. Надо показывать лучшие стороны. Кстати, вы знаете, что этот фуршет благотворительный. Да, да, не удивляйтесь. В ногу со временем. В конце вечера разыграем лотерею. Дорогую, но престижную. Стоимость билетов до пятисот рублей. Перестраиваемся. Время такое пришло. — У богатых свои привычки, — усмехнулся Ружин. — Зачем вы так? — поморщился Копылов. — Смотрите шире. Только невежественный обыватель думает, что жизнь у нас праздная и богатая. А мы представительствуем, представительствуем. Мы — лицо общества, самые достойные. На нас смотрят, равняются. А разве можно равняться на убогих, нищих?.. — Блестящая логика, — восхитился Ружин. — Вы не согласны? — Это долгий разговор. — Ну хорошо, что у вас там? — неохотно сказал Копылов. Он взял со стола отточенный толстый карандаш, рассеянно оглядел его, положил на место, подавил зевок, вздохнув. — Во время рейда по наркоманам мы задержали некоего Колесова… — Я в курсе, — перебил его Копылов. — Колесов указал нам на Гарабова как на распространителя наркотиков в городе… Я задержал его. — Подняв стрельбу, — опять перебил Ружина Копылов, — и нарушив социалистическую законность… — Я за это отвечу, я уже отстранен от оперативной работы… Речь не об этом. На каком основании отпустили Колесова и собираются отпустить Гарабова? — Начальник управления докладывал мне, что задержание Гарабова досадная оплошность. Случайный наговор какого-то бандита. — Но Колесов опознал… — Колесов несмышленый мальчишка, напуганный камерой и допросами, он сам сознает, что ошибся… Но причастность Гарабова проверят, обещаю вам. Хотя человек он достойный, авторитетный… — Копылов подошел к Ружину, улыбчивый, мягкий, полуобнял его. — Ну а Колесова я знаю лично, глупый мальчишка, но добрый, милый. Неужели вы хотите испортить ему жизнь тюрьмой? Он только озлобится, превратится в настоящего рецидивиста… Я сам займусь его судьбой. Он ведь родственник моих друзей. Обещаю. Ружин отступил на шаг, высвобождаясь из рук Копылова, поежился, как с холода вошел, зябко, неподдельно. Нервный был, злой, не мог сосредоточиться, не знал, чего хотел, чего ожидал. Все не так. Копылов смотрел на него весело, снисходительно. Ружин отвернулся, взгляд упал на застекленные полки, за стеклами книги, перед ними фотографии, большие, маленькие, какие-то люди на них, мужчины, женщины, дети. А вот Копылов в теннисных шортах, с ракеткой, держит под руку полного темноволосого мужчину. Знакомое лицо. Не может быть! Гарабов! Ружин чувствовал, что Копылов смотрит ему в затылок. Обернулся торопливо, вдруг страшно стало. Копылов стоял рядом, смотрел в упор. Потом он вдруг развернулся, быстро пошел к столу, открыл ящик, сунул в него руку, не отрывая глаз от Ружина, пошарил там. Ружин привычно напружинился, разминая кисти, пошевелил пальцами. Копылов наконец вынул руку. В ней были фотографии. — У меня еще есть, — сказал он, усмехнувшись. — Не желаешь взглянуть? Вот мы с Гарабовым на пляже, вот на яхте… Мы знакомы, я полгорода знаю по работе, по делам… А Ружин неожиданно для себя расслабился, рассмеялся, свободно тоже перешел на «ты», спросил: — А фотографий голой Лерочки Парвенюк, которые ты делал на Морской, там не завалялось? Копылов швырнул снимки на стол: — Пронюхал-таки, сыскарь чертов! Дурак, кто тебе поверит? Развратная девка, алкоголичка, она что хочешь наболтать может. Напугал, ох, напугал… Тупица, этим меня не возьмешь, на мне знаешь какие люди завязаны, — Копылов говорил прерывисто, задыхаясь от негодования. — Кто ты такой, чтобы мне грозить?! Щенок, шантрапа, холоп! Раздавлю!.. Ружин слушал молча, не шевелясь, стылый, заледеневший, умереть впору. Плохо, все катится к черту, не за кого спрятаться, один. Сделал шаг к столу, неуверенный, второй крепче, на третьем силу обрел — не все потеряно, встал вплотную к столу, протянул руку. Копылов невольно отшатнулся, загородившись локтем. Ружин собрал снимки, аккуратно, в стопочку, все так же молча; затем к шкафу подошел, и ту, где Копылов и Гарабов в шортиках, вынул, тоже к стопочке присоединил, сунул в карман, направился к двери, возле самого порога остановился, сказал тихо, себе: — Зачем? — вынул снимки, бросил их на пол. Попорхав, рассыпались они беспорядочно, неряшливо — мусор; потянул дверь на себя, вышел. Коридор. Прихожая. На него оборачивались, смотрели настороженно, враждебно: незнакомый, нездешний, другой, теперь это стало видно явно, и присматриваться особо не надо. Вышел на улицу, расслабил галстук, огляделся, заметил мелькнувшее белое платье среди деревьев, двинулся туда. Лера с каким-то рослым малым — не муж — пьют, смеются. Ружин подошел, взял ее за руку, сказал: — Пойдем. Малый оторопел, но смолчал, не шелохнулся, инстинктивно сообразил, что безопаснее не встревать. Лера дернула рукой, но вырваться не смогла, выплеснулось шампанское из бокала, подчинилась, пошла, посеменила за ним, спотыкаясь, бокал выпал, покатился по траве. Возле густых черных кустов Ружин остановился, раздвинул их, сказал: — Не здесь, — потащил ее дальше. — Больно, — проговорила Лера плачуще. Вышли на пляж. Ружин заглянул в квадратную глухую кабинку, поморщился: — Не здесь. Через сотню метров отыскал подходящее место, мягкий рыхлый песок, еще теплый от дневного солнца, с трех сторон деревья, низкие, густые, снял пиджак, бросил перед собой, встал на колено, потянул женщину за собой, лег рядом, стал целовать, жадно, задыхаясь. — Ты сильный, сладкий… — сдаваясь, бормотала Лера.
Он сидел за столом у себя в кабинете, что-то писал, необычно громко скрипела ручка, подходили сотрудники, что-то говорили, присаживались, улыбались, хлопали по плечу, показывали какие-то бумаги, а он не слышал ничего, кивал и писал, писал; одна страница, другая, третья и на всех строчках предложения из двух слов: «Я есть. Я есть. Я есть…»
Ружин вошел в гостиничный вестибюль. Здесь ничего не меняется, все так же заискивающе застывает в полупоклоне бесцветный швейцар, снуют вечно смеющиеся голосистые иностранцы, крутятся шустрые мальчики, строят из себя благовоспитанных сеньор размалеванные девочки… Лифт поднял его на этаж. В коридоре полумрак, тишина, спокойствие, вдалеке глухо стрекочет машинка. В приемной навстречу поднялась миловидная секретарша в чем-то узком, блестящем, гибкая, как змейка, что-то хотела сказать упреждающее, но Ружин уже открыл дверь. Кадаев резко вскинул голову. Рядом с ним сидела светленькая девушка в белом халате и, высунув язычок, подпиливала ему ногти на руке, маникюрша. — В чем дело? — сухо спросил он. — Маленький домик на побережье, — сказал Ружин, разваливаясь в кресле свободно, без стеснений. — Уютный, комфортабельный, вокруг ни души, тишина. Это сейчас как раз то, что мне надо, устал. — Вы это о чем? — лениво спросил Кадаев и скупо пошевелил пальцами, отсылая маникюршу. — О кредите. — Не понял… — лицо бесстрастное, сонное, проводил взглядом стянутую халатом девушку, глаза оживились. — Я отпустил Колесова, — сообщил Ружин. — Как и договаривались. Уговор дороже денег. — Его отпустил закон, — наставительно заметил Кадаев и, усмехнувшись, добавил: — И Рудаков… — Но у меня есть человек, которому Колесов продавал… — Он опознал мальчика? — перебил Кадаев. — Нет. Но я знаю, что на него надавили, и я могу… — Вот видите, — опять перебил его Кадаев и развел руками, улыбнулся учтиво, сочувственно: — Поздно. Я решил оставить домик себе. Чудное местечко. — Посмотрел на часы, охнул, объявил вежливо: — Время. Спешу. — Машина уже не новая, барахлит, менять надо, — не унимался Ружин, протянул руку, вопрошая, ерничая. Кадаев встал, застегнул пиджак, открыл кейс, принялся складывать бумаги. — Квартирка тесная, жениться хочу, — Ружин обе руки протянул, как нищий на паперти к проходящему отцу святому. — Особнячок бы о два этажа, как у вас… Кадаев надавил кнопку звонка к секретарше. Она вошла, ладная, мягкая. — Проводите товарища, — попросил Кадаев. — Он запамятовал, где выход. Ружин легко поднялся, разочарованно покачал головой, почесал затылок. — Вот так, за все хорошее, — сказал. — Вот она, монаршья благодарность. Вот так. Шагнул к секретарше, улыбнулся обаятельно, неожиданно шлепнул ее по блестящему заду, громко шепнул ей, оторопелой: — Позвоню, не переживай. — И, смеясь, направился к двери. Коридор, как туннель черный, мрачный, сырой, никакого тепла, уюта, как раньше, машинка бьет звучно, жестко, тупо в голове отдаваясь. Ружин шел, рукой касаясь стены, разбитый, вдруг стал опасаться, что упадет невзначай. Скверно. Вышел в вестибюль. Здесь светло, шумно, улыбки. Осмотрелся. Все вымученным, фальшивым показалось. Но все-таки жизнь. Взбодрился. Среди хаоса звуков различил музыку, веселую, бесшабашную. Это в ресторане. Уходить расхотелось. За окнами мрачный, враждебный вечер, дома тоска. Зашагал к ресторану. Тепло. Привычные запахи. На лицах отдохновение, плевать, что пьяное, ненастоящее. В зале полумрак, серебристо-фиолетово поблескивают вертящиеся светильники под потолком. Подошел к стойке бара, взобрался на табурет. Бармен тут как тут. Молодой, холеный, руки белые. — Отдыхаем? — спросил как родного. — Ищу истину. — А истина, как известно, в вине, — засмеялся бармен. — В коньяке, — уточнил Ружин. — Понял, — откликнулся бармен. Ружин выпил, жестом показал повторить. Посвежело в груди. Все ерунда. Разберемся. Надо жить. Еще выпил. Совсем хорошо. Много интересных женщин в зале. Просто россыпь. Такое не часто бывает. Надо воспользоваться. Расправил плечи, нацепил насмешливую полуулыбочку, сразу почувствовал, заметили, поглядывают игриво, кошечки. Можно выбирать. Зацепил взглядом одну. Хорошенькая. Носик короткий. Рот большой, пухлый, движения нежные, естественные. В компании, но вроде как и одна, без кавалера. То что надо. Сейчас музыка заиграет, и надо идти. Он элегантно и проворно проберется между столиков, раскованный, спортивный, шагая, будет ловить ее взгляд, она непременно его заметит, как только начнет он свой путь, и будет поглядывать чуть настороженно, скрывая любопытство и зарождающийся интерес… Его опередили, кто-то полный, черноволосый, в белом костюме, с сытой самодовольной спиной, склонился над милой женщиной, толстые ручки протянул, перстни сверкнули призывно, она замялась, улыбнулась робко, но все-таки встала, воспитанная, да и без кавалера к тому же. Черноволосый выпрямился, повернулся боком, взяв женщину под локоток, и Ружин узнал его. Гарабов. Уже на воле. Уже водку пьет. Уже на молоденьких девочек потные глазенки растопыривает. Когда они его отпустили, интересно? Днем? Под вечер? Расторопные ребята… Гарабов привычно прижимал к себе женщину, терся о нее крепеньким своим кругляшом-животиком, поедал ее сладкими замутневшими глазками. Женщина улыбалась вымученно, откидывала то и дело голову назад, когда Гарабов особо назойливо тянулся к ее шее мокрыми губами. Может быть, все это было и не так. Может быть, Гарабов был сдержан, учтив и обаятелен и вальсировал легко и умело, как на занятиях в танцевальном классе, пристойно шутил и не делал гнусных предложений. Но Ружину виделось иначе, вот виделось, и все тут, а может, не просто виделось, а так оно и было на самом деле… Женщину он уже не замечал, не до нее, взгляд держался только на Гарабове, губы дергались нервно, и пальцы на руках ломило от холода. Почему так? Жарко же в зале. Музыка кончилась. Гарабов повел женщину к столику, все так же под локоток, говорил что-то, глядя ей в ухо, совал в руки какой-то маленький белый сверточек, она покрутила головой, не взяла, села наконец. Ружин слез с табурета, кинул деньги на стойку. Бармен откликнулся тут же: — Нет, нет, за счет заведения. Как всегда. — Я не против, — ответил Ружин и сгреб бумажки. Он вышел в вестибюль и увидел, как за Гарабовым закрылась дверь туалета. Ружин двинулся следом. Возле умывальников сидел старик швейцар. Он подавал полотенце тем, кто умывал руки, на тех, кто не умывал, а их было большинство, шипел матерно, но тихо, под нос, нарывался уже пару раз на крепкие тычки врагов гигиены, теперь осторожничал, но сдержаться не мог. Он щербато заулыбался, завидев Ружина, тот кивнул, сдвинув брови для устрашения, приказал: — Встань у двери. Никого не пускай. Скажи, вода прорвалась. Сплюнул звучно, нетвердо прошел к кабинкам, прислушался, шагнул к крайней, рванул дверь на себя, она открылась, щеколда повисла на одном тощеньком гвоздике. Гарабов, стоя спиной, мочился, вздрогнул, втянул голову в плечи. — Ты обещал запомнить меня, — скалясь, сказал Ружин. — Смотри. Я это или не я?.. Гарабов не поворачивался, застыл, волосок на голове не шевельнулся. Ружин ухватил его за воротник замечательного импортного пиджака, с силой потянул на себя, вытащил его, обмякшего, из кабинки, ширинка расстегнута, штаны меж ног намокли, жалкий. Гарабов заверещал высоко, срываясь: — Меня отпустили. Ваш начальник. Сказал, все кончено. Что вам надо?! — Ты зачем девушку мою трогал? — дружелюбно спросил Ружин. — Какую девушку? Я ничего не знаю. — С которой танцевал… — Я не знал, что она ваша… — Надо знать, — назидательно и строго произнес Ружин. — Надо было видеть… Подошел бы и спросил. А я бы не разрешил. — Я не знал, я ничего не знал. Поверьте, — Гарабов приложил руки к груди. — Надо знать, — с пьяноватым упорством повторил Ружин. — Бред какой-то, — пробормотал Гарабов. — Оскорбляешь? — осведомился Ружин. — Что вы, что вы… — зачастил Гарабов. — Никогда. — Что ты ей предлагал? — спросил Ружин. — Ничего плохого. Встретиться… Но я же не знал. — Наркоту предлагал? — грозно навис над ним Ружин. — Бог с вами… — И ее, милую, чистую, втянуть хотел, как и Колесова, как и мальчишек из интерната… Дети ведь они ж… — Ружин сокрушенно потряс головой. — А ты им… Сволочь! Наркоту ей предлагал! Я знаю! — заорал он и оттолкнул Гарабова от себя. Тот сделал два неловких шага, споткнулся и, пытаясь удержаться, угодил рукой в заполненный мочой писсуар. Достал платок, морщась и отворачиваясь, вытер руку, платок кинул в угол. — Я вам все расскажу, — успокоившись, проговорил он. — У меня уже все написано. Я покажу. Он полез во внутренний карман пиджака и вынул маленький никелированный подарочный пистолет. — А теперь руки на стену! — сказал он Ружину. — Ноги назад. Пьяный идиот! Ружин тряхнул головой, задышал часто, кровь кислородом наполняя, как некстати этот коньяк, стал поворачиваться медленно. Когда оказался боком к Гарабову, резко выкинул правую ногу, вышиб пистолет пяткой, той же пяткой ткнул Гарабова в грудь, тот шатнулся, упал на кафельный пол. Начал подниматься, но тут Ружин опять опрокинул его сильным ударом: — За мальчишек! — сказал он. Поднял Гарабова за плечи и опять в подбородок, коротко. — А это, чтоб знал, — есть Закон! Опять схватил его в охапку, а дальше… все произошедшее дальше вспоминается с трудом. Отпихнув швейцара, влетели в туалет молодые парни, двое, рубашки трещат на плечах, и умело, молча, только посапывая, повалили Ружина, пнули в живот, раз, другой, третий, потом к голове кроссовками литыми приложились, а потом Ружин потерял сознание и потому уже не видел, как в руку ему вложили никелированный пистолетик.
Часть вторая 1–3 ноября
…Ружин припарковал машину. Несколько минут не выключал двигатель, сидел, греясь. Автомобилей на стоянке мало, два-три, усыпанные стылой осенней росой, с порожков и бамперов лениво падают капли, как после дождя. Сонно вокруг, сыро. Раннее утро. Гостиница «Солнечная» поблекла, стекла не блестят, мутные. Ружин наконец выбрался из машины, с трудом, кряхтя; снимая «дворники», задел плащом крыло, измазался бурой грязью — машина неухоженная, потеряла цвет, вместо белой темно-серая — даже не заметил, поднял воротник, запахнул плащ, длинный, мятый, сутулясь, валко взбежал вверх по ступенькам, к набережной. На набережной скоро засеменил к решетчатой калитке открытого кафе, в котором они как-то летом были с Феленко. Сквозь решетку видно, что на открытой площадке столиков нет, но дальше крытый павильон, и из-за его двери доносится приглушенно музыка, над дверью надпись: «Кафе «Русалка». Ружин дернул на себя решетчатую калитку. Бесполезно. Замок на цепи, грузный, ржавый. Ружин потряс прутья, крикнул: — Эй!.. — И еще: — Эй!.. — И опять: — Эй! Из павильона вышел швейцар, старый знакомый, Ружину ручку жал, скалился тогда летом… Не спеша приблизился, спросил, равнодушно жуя: — Чего надо? Ружин приветливо заулыбался, проговорил бодренько: — Ты чего, Степаныч, не узнаешь? — Чего надо? — повторил швейцар, облизнул сальные губы, проглотил, что жевал. — Поесть бы, — Ружин приблизил лицо к решетке, заулыбался еще приветливей. — В такую рань только у вас поесть-то и можно. Степаныч поморщился, когда Ружин дыхнул на него, сказал брезгливо: — Визитную карточку давай. — Степаныч, это же я, Ружин. — Вы пьяны, — сказал швейцар. — Это со вчерашнего, — сказал Ружин, хихикнув. — Набрался, как стервец, башка трещит. Войди в положение. — Не положено, — швейцар повернулся, двинулся обратно. Ружин протянул руку, успел ухватить Степаныча за воротник, подтянул к себе, выцедил зло: — Обнаглел, толстомордый! Открывай! А то припомню кой-чего, посажу! Швейцар с неожиданной ловкостью крутанулся на месте, вырвался, ощерился: — Не посадишь, гад! — взвизгнул. — Кончилось твое время! Теперь ты дерьмо! Тьфу! — сплюнул, затопал к павильону. Ружин вцепился в решетку, тряхнул ее, зазвенела цепь, забухал замок, заорал, багровея: — Прибью, мерзавец! Ты меня не знаешь, жирный болван! Я тебя достану! Отбивные сделаю из твоей свинячьей задницы! И сам схаваю под водочку холодную! Открывай! — голос сорвался, Ружин всхрипнул, закашлялся, кашляя, все грозил кулаком. В дверях кафе показались два малых, краснолицые, с борцовскими шеями, ковыряя в зубах, скучно посмотрели на Ружина. Ружин сгорбился, держась за горло, кашель все еще бил его, махнул рукой, повернулся и побрел к стоянке, подрагивая плечами. Парни и швейцар посмеялись и скрылись в кафе. Ружин опять гонял машину по пляжу, как тогда летом. Только теперь рядом ни Леры не было, которая так смешно жмурилась от страха и повизгивала тонко, как озябшая собачонка, и никого другого не было. Некому было сидеть на соседнем сиденье. Вот так вышло. Песок был смерзшийся, темный, как по асфальту неслась машина, с визгом завалилась на вираж, с жестким шипеньем взметала из-под колес влажные песчинки, крутилась волчком на месте и вдруг срывалась стремительно, присев на мгновение на задние колеса аж до самых бамперов. И на шоссе опять милицейский мотоцикл желтел, а возле него гаишник курил — но другой уже, не тот, который летом за Ружиным гонялся — постарше, позлее — и с тяжелой непримиримостью взирал на ружинские выкрутасы. Ружин заметил его, усмехнулся, на полном ходу выскочил на шоссе, помчался, не сбавляя скорости. Гаишник прыгнул в седло, поспешно затарахтел следом, засвистел запоздало, прокричал что-то в рацию, замахал жезлом. Но куда там, Ружин уходил все дальше и дальше. Как и предшественник его, гаишник тоже наперерез помчался по выбоинам, по камням, по жухлой, мокрой траве. Грязи не было, и поэтому мотоцикл пробрался-таки; ревя и буксуя, выпрыгнул на шоссе, перегородил дорогу перед самым почти носом Ружина. Милиционер соскочил с седла, подбежал к машине, придерживая болтающуюся на боку рацию, постучал в закрытое окно. Ружин не реагировал, сонно смотрел в окно, недвижный. Гаишник дернул на себя дверцу, и Ружин вывалился наружу, мешком, прямо на асфальт, вяло перекатился на другой бок, забормотал что-то. Милиционер отпрянул опасливо. — Вот те на, — сказал, приглядевшись внимательней, нагнулся, принюхался, добавил удовлетворенно: — Вдрызг, скотина. Ружин зашевелился, подполз к дверце, держась за нее, поднялся, мутно глянул на милиционера, заговорил невнятно: — Перед заходом солнца… слалом очень полезен, когда трамваи не ходят, вот так, понял?.. Я за зубной щеткой еду, понял? Вот так… — Понятно, а как же, — сказал гаишник, кладя планшетку на капот. Сейчас мы почистим тебе зубки и без зубной щетки. Давай документы. Ружин хитро хихикнул и достал из кармана двадцать пять рублей. — Во мои… эти документы. Проверяй. Сержант сузил глаза, нажал тангенс рации, проговорил в микрофон: — Сто второй, сто второй, докладываю, владелец автомобиля ноль, ноль, шестьдесят восемь предлагает мне взятку в количестве двадцати пяти рублей. Сильно пьян. Ружин с неожиданной резвостью прикрыл микрофон, заговорил, улыбаясь: — Ты чего, парень. Пошутил я. Я трезв, как стекло. Скучно просто, вот и веселюсь. Извини, если что… — Документы! — губы у сержанта задрожали от напряжения и злости. — Да брось, пошутил я, — Ружин отступил на шаг, занес ногу, чтобы забраться в кабину. — Поеду я… Гаишник крикнул угрожающе: — Стоять! — для пущей острастки схватил Ружина за плечо, рванул на себя, да так сильно, что тот едва устоял на ногах. — Что ж ты делаешь?! — проговорил Ружин и машинально, не отдавая себе отчета, коротко ткнул сержанта в живот, затем для надежности еще раз, так же стремительно и коротко. Сержант согнулся, выкатил глаза. Ружин оттолкнул его от машины. Милиционер не удержался, упал неуклюже. Ружин поморщился, сел в кабину и тут услышал ноющий голосок сирены, из-за поворота показалась милицейская «Волга». — Идиот, — сказал себе Ружин и устало откинулся на спинку сиденья…— Ружин, — окликнул его дежурный из-за барьера, капитан лет за сорок, тихий, раздумчивый, когда говорит, глядит в глаза, что-то ищет там, в глазах. Это редкость, когда за барьером и ищет. Ружину он понравился. Он вскочил, подошел поспешно, склонил голову выжидательно. — Ружин, — сказал капитан, почесав переносицу. — Мы вынуждены задержать вас до выяснения обстоятельств. Скоро приедет дознаватель, я уже позвонил. Сопротивление работнику милиции при исполнении — дело нехорошее, знаете ли. — Да пошутил я, — Ружин прижал ладони к груди. — Разыграть решил сержанта. Я сам бывший сотрудник, начальник отделения отдела уголовного розыска города. Вы должны знать меня. — Бывший, — вздохнул капитан. — Да что вы, ребята, — Ружин вернулся к трем суровым обветренным офицерам ГАИ, стоявшим неподалеку, заулыбался просительно. — Все же свои… Офицеры не дрогнули, не тронуло сочувствие их свекольные лица. Крепкие ребята, сто лет им жить. — Были свои, — грустно заявил капитан и опять вздохнул. — Было время. Была работа. Все по-другому теперь, все по-другому. Иные дуют ветры, никакого благодушия, никакого кумовства, все — строго по закону… — Вытянул шею, сказал кому-то вбок: — Отведи его в третий кабинет, он пустой, пусть подождет. Откуда-то появился молоденький милиционер, строго указал Ружину, куда идти. Уже у порога капитан остановил его: — Если желаете, можете позвонить, сообщить, что вас задержали, а то искать будут. Ружин растерялся. Сообщить? Кому? Кто его будет искать? Даже смешно, и он усмехнулся. — Если некому, — сказал капитан, — тогда идите. Ружину показалось, что желторотый милиционер хмыкнул. — Как так некому? — он круто повернулся. — Это почему же некому? — он возвратился к барьеру, шаг быстрый, уверенный, кивнул капитану: — Спасибо, — набрал номер, подождал. — Феленко? Ружин. Здравствуй. Неподалеку я тут от тебя…
В кабинете столы, стулья, грязно-желтые в трещинах, с нечищенными металлическими бляшками на боках «МВД 1964 г.», давно срок износа вышел, а все служат, бережливые люди у нас, экономные, есть чему иностранцам поучиться, холодный сейф в углу, стены голые, на окнах занавески, на занавесках чернильные пятна, застиранные, но не отмытые. Безлико здесь. Никак. В окно сигануть хочется. Ружинраздвинул занавески, прижался лбом к выстуженному осенью стеклу. Под окном на лавке сидел маленький пожилой милиционер и строгал перочинным ножом палочку. Выстругает одну до размера спички, бросит под ноги, другую возьмет… Заскользил Ружин лбом по стеклу, вниз, скрипуче, ткнулся головой в руки, покоящиеся на подоконнике…
Колыхнулись занавески, вздрогнуло стекло, Ружин поднял голову, огляделся рассеянно, лицо сонное, хотя и не спал вовсе, и не дремал даже, мерещилось что-то зыбкое, причудливое. В проеме раскрытой двери увидел Феленко и за его плечом еще кого-то в милицейской фуражке. Знакомое лицо, тоже обветренное, огрубелое, как и у всех здесь. Ружин встал, растирая лоб, шагнул навстречу. Феленко протянул руку, сказал: — Все в порядке. Пошли, — плащ на нем короткий, штопаный, с желтыми пятнами от неумелой глажки. — Я приехал с трассы и услышал, как ваш приятель объясняется с дежурным, — сказало знакомое лицо в милицейской фуражке. — Фамилию я вашу тогда летом хорошо запомнил, крепко, — и лицо криво усмехнулось. Ружин, узнавая, покачал головой — тот самый старший сержант-гаишник, который гонялся летом за ними с Лерой и которого он заставил явку с повинной на себя писать. Веселые были времена. — Я все уладил, — сказал сержант. — Считайте, что ничего не было. — Спасибо, — поблагодарил Ружин. — Хотя, наверное, не стоило беспокоиться. Я уже свыкся с мыслью, что я преступник, даже интересно. В жизни так мало интересного. Право, не стоило… — Не дури, — Феленко ухватил его за рукав, потянул за собой, повернувшись к сержанту, с виноватой улыбкой объяснил: — Он немного не в себе, перенервничал. — Я понимаю, — кивнул сержант. Дежурный встал, увидев Ружина, протянул руку через барьер, улыбаясь: — Рад, искренне рад, что все обошлось. Мы были не правы. Клеменко покаялся, что все сочинил, лицо ему ваше не понравилось. Мы его накажем… Друзья наших друзей — наши друзья. Ружин протянутой руки не заметил, погрозил пальцем. — Никакого благодушия, — сказал назидательно и важно зашагал к двери. — Перенервничал, — развел руками Феленко.
Пока Ружин открывал машину, сержант топтался за его спиной. Ружин отворил дверцу, не спеша повернулся к нему. — Мы вроде теперь в расчете, — осторожно проговорил сержант. — Протокол задержания, рапорт Клеменко у меня. Можем обменяться. — Чудесный ты парень, сержант, — Ружин сел в машину привычно, с удовольствием. — Жить тебе при коммунизме. Позвони на днях, обменяемся. — Вот и все, — сказал Ружин, когда они отъехали. — Жалко. — Что все? — спросил Феленко. — Что жалко? — Теперь опять всем наплевать, в каком году я родился, — сказал Ружин, — какое у меня образование и что я могу показать по существу заданных мне вопросов… — последние слова произнес жестко, по-прокурорски, как на суде. — Не понял, — Феленко с подозрением покосился на Ружина. — А показать я могу много, до черта я могу показать, только спросите. Но теперь опять никто не спросит. Ты знаешь, — сказал он, глядя на дорогу, улыбнулся отрешенно, — это кайф, когда кому-то интересно знать, кто ты. Вроде как в детстве, играли в прятки, тебя не нашли, забыли, разбежались, а ты сидишь один и вроде как нет тебя, вроде как и не родился еще, а потом раз — нашли, случайно, и счастье… Какое-то время ехали молча. — Деловой сержантик, — Феленко решил сменить тему. — Пошушукался с дежурным, к начальству сбегал, вернулся, опять пошушукался и все путем. Приятель? — Почти родственник.
Машина свернула под «кирпич», на узкую асфальтовую дорогу. По бокам деревца, черные, мокрые, асфальт тоже мокрый, испятнан лужами, и в обочинах вода, зеленая, томится, бродит. Вскоре за реденьким перелеском увиделись здания, сначала одно, белое, с серыми подтеками, буквой П, типичное школьное строение, затем поодаль, правее, другое — одноэтажное, длинное, вроде казармы, вокруг голо, бурая трава, вместо деревьев стенды с наглядной агитацией, длинная мачта с флагом, верхушка покачивается под ветром. Флаг, как только что выстиранная простыня, обвис, съеженный, не шелохнется. — Сурово, — заметил Ружин. — Обыкновенно, — отозвался Феленко. — Это не санаторий. Это место, где люди учатся жить, — помолчав, добавил негромко: — Где я их учу жить. Ружин поднял брови, но ничего не сказал. Обогнули школьное здание, въехали во двор. Во дворе около десятка ребятишек разных возрастов под командой чернявого крепыша занимались зарядкой. Лица истомленные, пот по щекам, голые ноги в грязи. Крепыш выкрикивает что-то коротко, как кнутом щелкает. Ружин заметил среди ребят двух девчонок. В глазах набухли слезы, но подчиняются. — Поздновато для зарядки, — Ружин посмотрел на часы. — Это не зарядка, — Феленко внимательно разглядывал детей. — Это наказание. Я не сторонник внушений и экзекуций. Только спорт. Здоровее будут. — И в чем они провинились? Изнасиловали учительницу? Подожгли интернат? Феленко пожал плечами: — Кто за что. Кто болтал на уроке, кто без команды есть начал, кто девчонок лапал… — Ты шутишь? — тихо сказал Ружин. — Я никогда не шучу, — Феленко открыл дверцу и вылез из машины. — Три-четыре! — скомандовал крепыш. — Добрый вечер, товарищ директор! — проскандировали ребята. Феленко чуть качнул головой. — На сегодня хватит, — обронил он. — Директор? — удивился Ружин, тоже выходя из машины. — Пока исполняющий обязанности, — сказал Феленко. — Прежнего на пенсию отправили. — Он ухмыльнулся. — Я отправил. Они сидели в комнате Феленко за квадратным столом. Перед каждым стакан чая, печенье, варенье в розетках, алое, прозрачное, вкусное. За окном сумерки, небо серое, низкое, давит. Задернуть бы шторы и не видеть его. Ружин встал, задернул. — Что? — спросил Феленко, повернувшись резко. — Включи свет. — А-а, — Феленко включил. Абажур зелено засветился изнутри, старенький, мягкий, с бахромой, кое-где щербинки. Строго в комнате и скучно, будто временно здесь человек живет, хотя это его дом уже столько лет. Шкаф, кровать, тумбочка, стол, стулья. Все. — Останешься? — спросил Феленко. — На работу теперь тебе не спешить. — Останусь, — сказал Ружин. — А может, и вообще поживу. — Поживи, — согласился Феленко. — Полезно будет. — Кому? — спросил Ружин. Феленко задержал взгляд на Ружине, не ответил. — Встаю я рано. И тебя приучу, — он медленно лил кипяток из чайника в стакан, с рассеянной полуулыбкой наблюдал, как от жаркой влаги запотевают тонкие стеклянные стенки. — Рассвет встречаю на море. Каждый день. — Мазохист, — хмыкнул Ружин. — Жизнь катастрофически коротка. Сон — расточительство. И наши с тобой чаи расточительство. И наша суета в ГАИ расточительство… Немного сна, немного еды, и работа, познание, дальше, дальше, дальше… — он перевел дыхание. — Без перерыва я вколачиваю в их податливые головки знания, каждый час, каждую минуту, секунду. Не терять ни мгновения. Я выращу качественно новый отряд интеллектуалов, они перевернут страну. Они вышибут мерзавцев, лентяев, глупцов, они создадут… — А если, — прервал его Ружин, — а если кто-то не способен или кто-то просто хочет подурачиться, поиграть, побеситься или сбежать с уроков в конце концов… — Во двор! И приседать, приседать… — он оборвал себя, прикрыл глаза, потер их пальцами, сильно, до красноты, поднялся, сказал с легкой усмешкой: — Не радуйся, не поймал. Я не фанатик. Просто больно смотреть вокруг. Пойдем, я покажу тебе комнату. В коридоре полумрак, тихо, бледные проемы окон, вздрагивающие тени на стенах, на полу. Возле одного из окон Феленко задержался, замер. — Дрянь, — выцедил. Ружин тоже посмотрел в окно, увидел вдалеке, у перелеска тонкую девичью фигурку в светлом длинном плащике. — Ну и что? — спросил. — Левее, — подсказал Феленко. Ружин посмотрел левее. Различил высокий силуэт. Парень. Он приближался к девушке. — Колесов, — сказал Феленко. — Она, сучка, к нему ковыляет. — Ух ты, — отозвался Ружин, вгляделся внимательней. — Откуда он? — Из города, — Феленко повысил голос. — Я же сказал ему, ни ногой сюда, бандит! И ее предупредил, увижу еще раз — выгоню! Сдохнет ведь под забором, проститутка! — Он круто развернулся, двинулся в обратную сторону, к выходу из школы, махнул Ружину. — Пошли! Шли быстро, шумно, с хрустом давили гравий, потом шагали по траве, она скрипела под подошвами, мокрая. Ружин поскользнулся, упал на руки тренированно, отряхиваясь, чертыхался, грязными ладонями еще больше испачкал джинсы, свитер. Ветер резкий, впивается в глаза, холодно, тревожно. Девушка толкала Колесова, беги, мол, чего ждешь, дурачок. Но тот стоял недвижно, только кулаки сжал, то ли от холода, то ли от злости или чтоб смелости прибавить; прищурившись, смотрел неотрывно на приближающихся. — Когда ты пришла ко мне, голодная, в слезах, без копейки за душой, — Феленко вытянул длинный палец в сторону девушки, — я сказал тебе: живи, работай. Я помогу. Я сделаю тебя чистой, светлой, настоящей!.. Ты станешь человеком будущего! Только надо этого очень хотеть! — Я не хочу, — тихо сказала девушка. Ружин едва расслышал ее голос. — Что?! — Феленко опустил палец. — Она сказала, что не хочет, — медленно, отчетливо проговорил Колесов, он разжал кулаки, обтер ладошки о куртку и снова сжал пальцы. — Вон, — спокойно сказал Феленко. — Немедленно. — Он дернул плечами, пробормотал что-то, повернулся, зашагал к школе, сутулый, сникший, казалось, он вымок и с него капает вода, с волос, с пальцев, с плаща. Ружин догнал его. — Послушай, — попытался остановить за руку. — Так нельзя. Куда им сейчас идти? Поздно. Не сходи с ума. Они же дети… Феленко вырвал руку, неприязненно, брезгливо, смотрел перед собой отрешенно. — Грязь, грязь, везде грязь, — говорил невнятно под нос. — Она сильнее, пока сильнее, но кто-то должен начать, — остановился вдруг, повернулся к Колесову и девушке, закричал, не сдерживаясь: — Чего стоишь?! Убирайся! Собирай барахло и убирайся!
Чай в стаканах еще дымился, и варенье по-прежнему светилось рубиново. Тепло, хочется спать. Ружин надел плащ, завязал пояс. Феленко некоторое время молча смотрел на него, потом спросил: — Вернешься? Ружин не ответил, потянулся к столу, взял пачку сигарет, сунул в карман. — Ты ничего не понял, — сказал Феленко. Он сел на кровать. Строго, по-солдатски выправленное одеяло встопорщилось. — Может быть, — Ружин пожал плечами. — Я от многого отрекся ради них, — с горечью проговорил Феленко. — И еще от большего отрекусь. — Наверное, — сказал Ружин, он внимательно оглядел комнату, не забыл ли чего. — Чистота помыслов и взглядов не дается просто так, — Феленко безуспешно пытался поймать взгляд Ружина. — За них нужно бороться, иной раз жестоко. — Тебе видней, — Ружин был уже у двери. — Ничего ты не понял, — Феленко тряхнул головой. — Постой, — он выдвинул ящик тумбочки, вынул деньги. — Здесь восемьдесят рублей. Это зарплата Светы. Она провалилась в институт, и я взял ее уборщицей. Ружин взял пачку, пересчитал. — Точно, — сказал. — Восемьдесят. Повертел бумажки в руках, положил на стол. Феленко усмехнулся. Ружин вышел. Через какое-то время за окном послышался его голос: «Забирайтесь, ребята», — потом заработал двигатель, зашуршали шины по гравию, и все стихло. Феленко встал, аккуратно поправил постель, гладко, без морщинок, снял плащ, сел за стол, сделал глоток из стакана…
— Здесь? — спросил Ружин, притормаживая. — Здесь, — сказала Света. — Останавливайтесь, ну что же вы? Теперь чуть назад сдайте, вон к той кадке. — К какой кадке? — Ружин переключил скорость, повернулся назад. — Я ни черта не вижу. Вокруг вязкая темнота, южная, хотя, если пообвыкнуть, приглядеться, можно угадать силуэты заборов, деревьев за ними, кубики домов. Кое-где справа, слева в окошках свет, тусклый, в двух-трех домах, остальные безжизненны, слепы. Свет и в доме, который они искали. Он далеко, в сотне метров впереди, левее, там много света, и не только в окнах, но и во дворе, яркие лампы отливают серебром и на деревьях в саду, и слышится музыка со двора, и плавная, и мощная одновременно, знакомая — вальс. — Только бы сигнал она услышала, — сказала Света. — Какой сигнал? — не понял Ружин. Света приложила ко рту две сложенные горстками ладони и дунула в них. Вытек странный ноющий звук, отдаленно напоминающий сирену. Ружин покрутил головой. — Как в фильме про разведчиков, — сказал он. — А мы и есть разведчики, — серьезно ответила девушка. Она выдохнула решительно и открыла дверь. Ружин глядел ей вслед, пока она не исчезла в темноте. — Симпатичная девушка, — сказал он. — Красивая, — не сразу отозвался Колесов. — Послушай, — произнес Ружин, не поворачиваясь. — А ты почему тогда под пули бросился? Нас защищал? Совесть проснулась? — Себя защищал, — хмыкнул Колесов. — Если бы он вас тогда подстрелил, и мне бы срок навесили. Наверное. — Ну, по крайней мере, честно, — кивнул Ружин. Некоторое время сидели молча, а потом Ружин сказал: — Пойду пройдусь. — Не надо, увидят, — возразил Колесов. — Я осторожно, — сказал Ружин, щелкнув замком. — Те два грузина, на квартире, — проговорил Колесов, — раздели меня донага, проворно, веселясь, и я веселился, хорошую дозу себе вкатил. Но когда один сзади пристроился и пыхтеть начал, вот тут кайф соскочил, не весь, но мне страшно стало, заледенел, закричал, вывернулся, одежду в охапку, и тут вы… Я с тех пор на порошок смотреть не могу. Лицо мерзнет. Ружин ничего не ответил, кивнул, вылез из машины. Он пошел вдоль заборов, грязь чмокала под ногами, дотронулся до досок, они холодные, осклизлые, расставив руки, балансируя, как на канате, двинулся по оставшейся полоске увядающей травы. Вальс приближался, щедрые звуки его вселяли спокойствие, радость, Ружин умиротворенно заулыбался. И вот совсем уже он близко, он шагнул к забору… На утрамбованной, круглой, просторной площадке, сбоку от дома, под светом двух белых ламп кружилась пара, умело, гибко, легко, он во фраке, стройный, с пышной шевелюрой, сосредоточенным длинным лицом, она в бальном платье, открытом (Ружин поежился), большеглазая, улыбчивая… Ружин уловил движение сбоку, напружинился и расслабился тут же, спросил вполголоса: — Машину закрыл? Колесов протянул ключи. — Красиво, — сказал он, не отрывая глаз от пары. — Как в театре. — Ветер сильный, — заметил Ружин. — Как бы не простудились, глянь, какая шейка-то у нее тоненькая… — Это Светкина мать. — Мать ее!.. — Ружин покачал головой. Тут они услышали знакомый звук, ноющий, тонкий. Переглянулись, замерли. Звук повторился, еще, еще… Ружин заметил, что женщина тоже различила сигнал, она сузила глаза, приподняла подбородок, прислушиваясь. Партнер еще не услышал ничего. Вот женщина оступилась, танец прервался, женщина засмеялась, что-то сказала, захромала к дому. Партнер ее продолжал кружиться один, прикрыв глаза, — покой на лице, счастье. Ружин видел, как, зайдя за дом, женщина перестала хромать, постояла с полминуты, обхватив себя за плечи, осень все же, прислушиваясь и оглядываясь то и дело опасливо, и решилась наконец, засеменила торопливо по асфальтовой узкой дорожке к забору, к калитке в заборе. Блестели глаза, переливались радужно блестки на платье, стучали каблучки меж выстуженных грядок — фея приусадебных хозяйств обходила свои владения… Партнер остановился посреди площадки, раскинув руки, обнял небо со звездами и луной и стайкой крикливых птиц, пролетающих над домом, и, потирая ладони, меленько побежал к дому. У крыльца сунул руку под лавку, вынул бутылку, пол-литровую, ополовиненную, огляделся, крякнул и закрутил винтом жидкость в глотку… — Дуры, — сказал Колесов, скривив лицо. — Все же слышно. Голосишки-то писклявые у обеих. — Он занят, — усмехнулся Ружин. — Не учует. Учуял. Сделал стойку, как спаниель на утку, повел носом, левее, левее, вот теперь горячо, ощерился, отшвырнул бутылку с силой. Высверкнула она дугой и приземлилась у забора совсем рядом с Ружиным и Колесовым. — «Лучистое», розовое… — прочитал Колесов.
Кончился вальс, и после паузы зазвучал фокстрот… Партнер сделал непроизвольно несколько па под музыку, фалды фрака взметнулись по-ласточьи, и, пригнувшись, смешно запрыгал к забору. — Ой-е-й-ей, — только и сказал Колесов. — Ой-ей-ей! — ответствовала ему Светкина мать, только громче и безнадежней, сорвался голос, запетушил. — Ой-ей-ей! — вторила ей Светка жалобно и просяще. И вот показались они трое среди грядок. Мужик во фраке волок мать и дочь за волосы к дому. — Не потерплю, — кричал, — непослушания! — И матерился. — Не потерплю, — кричал, — предательства! — И грозил смертью всем, кого знал, с кем роднился, с кем дружил и с кем еще познакомится когда-нибудь… — Говорил же тебе, — кричал, — забудь ее, иначе все! Крышка! — И опять матерился, а потом стал бить женщин. Сначала Светку хватанул по носу, и та свалилась беззвучно в грядки, затем за мать ее принялся, основательно, умело, привычно. Она визжала, а он в рот ей, в рот… Колесов дернулся, всхрипнув, но Ружин удержал его, раздумывая, стоит ли ввязываться. — Не могу-у-у-у! — выл Колесов, извивался судорожно, пытаясь вырваться. — Пусти, гад! Ружин цыкнул зубом, сплюнул, вздохнул, отпихнул Колесова подальше, чтоб не опередил тот его, не наделал глупостей, и перемахнул через забор, одним прыжком, ловко. Еще два прыжка, и он возле мужика, только руку протяни, и он протянул, за волосы мужика, потом по почкам, раз, другой, взвыл мужик, закатил глаза, а Ружин в живот ему, но не попал, опытный мужик бедро подставил и тут же отработанно в зубы Ружину. Ружин отпрянул, попятился, удивленный. Мужик в стойку встал, сопя двинулся на Ружина. Так и есть, боксер, мать его… Ружин влево метнулся, мужик за ним подался, и Ружин ногой в пах ему, попал-таки, браво, мужик согнулся, взрыкнув, а Ружин по глазам ему двумя ладонями, чтоб ориентацию потерял, мужик закрутился на месте, больно… Ружин перевел дыхание, огляделся, возле Светки Колесов склонился, а матери ее нет нигде… Тут опять мужик на него двинулся, и Ружин опять его в пах. — Уйди от него, мразь! — услышал он сзади истеричный голос, женский, писклявый. Ружин обернулся вмиг и оторопел. В руках Светкина мать держала двустволку. Красивая, пылающая, в бальном платье длинном, плечи белые, нежные, и черное тяжелое ружье от бедра, пустые зрачки стволов, и впрямь только крови не хватает до истинной гармонии… Ружин дернулся в сторону, и тут выстрел, оглушающий, мимо, сзади в щепы разнесло доску в заборе. Медвежьим жаканом бьет, милая барышня. Ружин вправо теперь, прыжком, и в жухлую траву ничком, второй выстрел, мимо, теперь яблонька пострадала, тихая, безвинная. Ружин вскочил рывком, теперь ружье отобрать надо… Она держала его в опущенной руке, смотрела перед собой отрешенно, потом повела плечом, отпустила двустволку, брякнулось ружье на асфальт, прогудели пустые стволы, жар выдыхая… И вслед Светкина мать на дорожку опустилась, обессиленно, обезволенно, как пластилиновая, заплакала сухо… — Мамочка! — взвилась Светка. — Не умирай! Вскочила разом с грядок, где, придя в себя, лежала, хоронясь, голову руками обхватив как при бомбежке, рванулась к матери. Ружин удержал ее, обвил рукой поперек туловища, потянул за собой к калитке, приговаривая: — Потом, потом, все потом… — Что потом? Когда потом?! — вырывалась Света. — Они уезжают завтра, насовсем уезжают, слышишь ты, защитничек?! Пусти! — горланила, отбиваясь. — Пусти! А Ружин говорил ей что-то тихое и нежное на ухо, улыбался, целовал ее в щеку, в нос, и она утихла, покорилась, повисла на его руке, побрела, куда повели. Колесов шел за ними, съеженный, напуганный.
Ружин вел машину по пустой серой улочке, фонари горели вполнакала, скупо. В салоне он был один, дымилась сигарета меж пальцев. Впереди из-за поворота вывернула машина. Точечки фар увеличивались. Встречный водитель включил дальний свет. Ружин поморщился и усмехнулся. Поравнявшись с Ружиным, машина притормозила. Ружин заметил удивленное лицо водителя, открытый рот, расхохотался. Не торопясь, проехал еще с полсотни метров и свернул направо. Эта улица повеселей, светлая, людей побольше, гуляют вольно. Завидев машину Ружина, останавливаются, разглядывают с удивлением, кто-то пальцем показывает. — Держись! — крикнул Ружин кому-то в окно и увеличил скорость. Вот он заметил справа на доме над открытой дверью три светящиеся буквы «БАР», а возле двери человек десять ребят, пестрые, галдят, курят. Тусовка. Ружин резко свернул вправо, прямо на тротуар, проревел двигателем мощно, для солидности и под восторженные крики ребят притормозил резко возле самой двери, передок уперся в дверную раму. — Колесо прикатил! — завопил кто-то. — Хай-класс, чувак! — запрыгала, хлопая в ладоши, какая-то раскрашенная девчонка. На крыше «Жигулей» гордо восседали Колесов и Света. Ружин курил и улыбался. Колесов осторожно ступил на капот и спрыгнул прямо в дверной проем, следом спрыгнула Света. Колесов подхватил ее на руки, поцеловал, пока ставил на пол. Ребята обступили машину. Чья-то «панковая», с волосяным гребешком голова всунулась в салон. — Отец, — пискляво обратилась голова, — дай порулить. Ружин открыл дверь, вышел, сказал писклявому: — Припаркуй у тротуара, ключи принесешь. Тусовка завопила. Ребята полезли в машину. — Не боись, отец, — прогнусавил «панковый». — Я супердрайвер. Ружин вздохнул, махнул рукой, мол, давай отваливай. Машина резко отскочила назад. Ружин покрутил головой — никакой ты не супердрайвер — и вошел в бар. Колесов и Света уже оккупировали столик и болтали налево-направо. Ружин сел. Грохнула музыка, он вздрогнул. После первых тактов стал оглядываться. На площадке не протолкнуться, плотно, дымок не просочится. А они довольны, прыгают, трутся друг о друга, потные, хохочут. За площадкой светится стойка бара, череда бутылок на полках. Соки. Культурно. Крепенькое небось с собой приносят. Хотел спросить Колесова. Обернулся. Их нет. Танцуют. Музыка кончилась. Колесов, раскрасневшийся, подвел Свету к столику, усадил, сам пошел куда-то в угол зала, с одним поговорил, с другим, пошептался с длинным белобрысым, что-то взял у него, положил в карман. К белобрысому еще кто-то подошел, тоже что-то взял у него, в карман сунул, потом еще один, потом белобрысого загородили. — Спасибо вам, — прокричала ему в ухо Света. — Что? — проорал в ответ Ружин. — Спасибо вам, — повторила Света, опять приблизив к его уху теплые губы. — Не надо было, — Ружин морщился и крутил головой. — Зря. Жалею. Подошел Колесов. Сел. В руке тлела сигаретка. Он порывисто затягивался, выдыхал, прикрыв глаза. Огонек вспыхивал необычно ярко. Ружин покосился подозрительно на сигаретку. — Я не об этом, — Света чуть отстранилась, проговорила опять громко, стараясь перекрыть шум: — Спасибо, что вы есть вообще. А мелодия оборвалась в этот момент, и слова ее отчетливо и ясно прозвучали в наступившей паузе. Она смутилась, засмеялась неестественно. Колесов посмотрел на нее в упор, прищурился от дыма, усмехнулся слабо, с деланным равнодушием принялся глядеть по сторонам. Ружин опять увидел белобрысого. Тот склонился над соседним столиком, что-то сунул здоровому, обритому наголо парню, пошел к выходу. Ружин неторопливо встал, показал Свете и Колесову жестом, мол, сейчас вернусь. Белобрысый вышел в узкое, темное фойе, заполненное курящими ребятами, свернул за раздевалку. Ружин прошагал за ним. Белобрысый пил воду из-под крана, большой, рукастый, обнял раковину, будто хотел оторвать ее и уволочь с собой. Ружин ухватил его за волосы и включил воду на полную мощь. Белобрысый завыл с клекотом, дернулся инстинктивно. Бесполезно. Ружин держал его руку на изломе. Белобрысый закашлялся, и тогда Ружин потянул его вверх, отбросил к стене, прижал локтем подбородок, сказал, дыша в лицо: — Давай травку! Все, что есть, дерьмо! Белобрысый ошалело закрутил головой, зачастил: — Какая травка, какая травка? Не понимаю… — Сейчас поймешь, — улыбнулся Ружин и правой рукой полез к белобрысому во внутренний карман куртки, нащупал там что-то, вынул, посмотрел удивленно, бросил на пол, полез в другой карман, опять глянул на ладонь, вскинул брови, нехотя отпустил парня, спросил недоуменно: — И ты этим торгуешь? — Дефицит, — белобрысый разминал руку, испуг сошел с его длинного, сухого лица. — Тем более фирменные. Наши презервативы ненадежные. А эти и для слонов сгодятся. — Ах, ну да, — догадался Ружин. — СПИД. — Он самый, — подтвердил белобрысый. — Сначала вроде как всем по фигу, а теперь вот закопошились. — Извини, — Ружин коснулся его плеча. — Извини, ошибся. — Чего там, — отмахнулся парень, — бывает. Ружин повернулся к двери, прежде чем выйти, остановился. — А откуда ты их… — начал было, но оборвал себя. — Ладно, бог с ним, отдыхай.
Ружин сел за стол, кивнул Колесову: — Дай затянуться. Колесов внимательно посмотрел на него, протянул остаток сигареты. Ружин затянулся, раз, другой… Хмыкнул удовлетворенно, отдал чинарик обратно. Колесов снисходительно усмехнулся. Света коснулась плеча Ружина. — Пойдемте потанцуем. — Да я так не могу, — Ружин дернулся несколько раз, показав, как он не может. — А мы обычно, — сказала Света. — Здесь никто никого не неволит. На площадке он осторожно прижал ее к себе, легкая, податливая, дыхание шоколадом пахнет, лицо вдруг серьезное, сосредоточенное стало. Она словно со стороны на себя смотрела, боясь неверное движение сделать, взглянуть как-нибудь не так, чересчур нежно или чересчур сердито, или притворно-равнодушно, или вообще никак. Нет, никак не смогла бы… — Отец умер, когда я еще маленькая была, — заговорила Света. — Мама года три ни с кем не общалась, ни подруг, ни знакомых, работа, дом, работа, дом. Но молодая ведь еще, красивая, мужики на улице оборачиваются, пристают, оттаяла, отошла… Два года назад этого Валеру отыскала, влюбилась по уши, как дура, как девчонка, а он условие поставил, что если, мол, любит она его, то жить они должны без меня, новую семью создавать, своих детей рожать, а со мной встречаться раз в два месяца, и меня в интернат отдали, терпеть он меня не может, а потом у них ребенок родился, а Валерка выпивает, а мать его любит, а завтра они уезжают к нему на родину, в Рязань, все к Москве ближе, он в Москву хочет. А у меня больше никого нет… Я спать хочу… Ружин погладил ее по щеке, и она потерлась о ладонь ответно. — А Алексей? — спросил Ружин. — Алексей? — улыбнулась Света. — Это Алексей. С ним я не одна. А Ружин все гладил ее щеку. Колесов все, конечно, видел, хотя и делал вид, что с дружками разговаривает и на площадку совсем не смотрит. Ружин понял это по его лицу, по глазам, когда к столику подходил. А за столиком «панковый» сидел и еще один паренек, рослый, голова бритая, на темечке серп и молот нарисованы. «Панковый», ухмыляясь, ключи от машины протягивал: — Спасибо, отец, все путем, тусовка довольна. — Безмерно рад, — сказал Ружин. Он сел, покосился на Колесова. Тот сосредоточенно смотрел в пустой стакан из-под сока, пальцы облепили стакан плотно, белые от усилия, еще немного — и лопнет стакан, вопьются осколки в ладонь, кровь потечет, струйки тонкие, быстрые, яркие… Нет, не лопнул. Отставил Колесов стакан, сказал, глаз не поднимая: — Я послезавтра в армию ухожу. Сбор в восемь ноль-ноль. — Ой! — вскрикнула Света и руку к шее поднесла, сжала ее пальцами. — Мы вот с ребятами, — Колесов кивнул на «панкового» и того, который с серпом и молотом на темечке, — в Афганистан попросились. Берут. — Нет, — сказала Света. — Так не может быть. — Надо было что-то делать. Понимаете? — сказал тот, у кого серп и молот на темечке. — Выйти на улицу с плакатом «Нет войне в Афганистане!»? Бесполезно. Тогда уж лучше там… Там. Если я буду хорошо воевать, может, все это быстрее кончится? А? Колесов оторвал руку Светы от шеи с трудом, пальцы были как железные, а она тогда зажала ладонями уши. — Читали про наших пленных в Пакистане? — «панковый» повернулся к Ружину. — Захватили склад боеприпасов и взорвали себя вместе со складом. Я на следующий день в военкомат пошел, у меня отсрочка была, я сказал, что не хочу отсрочки… Нас тогда двадцать восемь человек пришло… — Я сейчас, — сказал Ружин, встал, пошел быстро в сторону бара, шагал напрямик, через площадку, его толкали, кто-то плюнул вслед, кто-то выругался. Уселся на табурет, облокотился на стойку, увидел себя в зеркале, зеркала внутрь каждой полки с бутылками были вправлены, стал рожи корчить и так, и эдак, то веселую, то плаксивую, то зверскую делал. Бармен шею вытянул, его разглядывая. Ружин попросил сок, выпил, еще попросил, еще выпил, закурил, пошел назад, опять его толкали и ругались в спину. Пришел, опустился на стул молча. Света все так и сидела, сжав уши ладонями. Колесов поднялся, потянул Свету за собой, она подчинилась. И Ружин поднялся, и ребята вслед. Ружин подал ребятам руку, побрел к выходу.
Он остановился возле своего дома, повернулся к Колесову и Свете, они сидели обнявшись, как два зайца на льдине. Ружин протянул Колесову ключи. — Третий этаж, восьмая квартира, — объяснил он. — Шуруйте. Я у приятеля переночую. Колесов взял ключи молча, благодарно кивнул, вылез, вытянул Свету, съеженную, безучастную, гладил ее по волосам, по плечу, пока к дому вел, она шла смирно, руки вдоль тела опустив, кулачки сжаты, маленькие… Ружин тихо проехал вдоль дома, завернул за него, там гаражи, пять-шесть, остановил машину возле гаражей, разложил сиденья, завернулся в плащ, устроился кое-как, мотор не выключал, холодно.
Утро белое, безветренное, совсем не осеннее. Солнце слепит окна, желтые, острые клинья рассекают лестницу, перила, стены. Ружин надавил на кнопку звонка, держал, пока не открыли. Колесов в трусах, жилистый, тонконогий, одним глазом смотрит, не проснулся. — Подъем! — по-молодецки гаркнул Ружин. — Быстрый сбор и на рынок. Пир готовить будем!
…Вроде и не сезон, а рынок многолюдный, гомонливый, будто все отдыхающие, что есть в городе, по утрам здесь собираются. Да и местные, видать, по привычке заглядывают: может, сегодня не так, как вчера, побогаче, подешевле. Болтались втроем вдоль рядов. Приценивались, торговались. Веселились отчего-то. Потому что утро, наверное, потому что солнце, потому что завтра день будет, и послезавтра, и еще много, много дней будет… И Света улыбалась, не вымученно, легко, выспавшаяся, умытая, совсем не сравнить с той, какой вчера была. Ружин любовался ею. И помидоров купили, и огурцов, и капусты квашеной, фруктов каких-то, зелени, мяса. — Хватит, а? — дернул Ружина за рукав Колесов. — Уж больно поистратились. — Ерунда, — отмахнулся Ружин. — Я видео продал, деньги есть. — Повернулся к Свете: — Выбирай, девочка, что еще хочешь. — А еще, — сказала Света и в который раз уже стала оглядывать рынок. — А еще мы купим… — Стоп, — вдруг остановил ее Ружин. — Стойте, как стоите. Я сейчас. В мою сторону не смотреть. Держи, — он протянул Колесову сумку и не спеша двинулся в сторону выхода. — Что-то случилось? — встревожилась Света. Колесов пожал плечами. Ружин замедлил шаг, свернул к одному из рядов, возле которого особенно густо столпились покупатели, попытался через головы посмотреть, что продают, не вышло, с другой стороны зашел, и здесь народ копошится, опять на старое место вернулся, на цыпочки поднялся, шею вытянул: — Почем? — спросил. — Почем? И в тот же миг метнулся влево, резко, стремительно, прихватил какого-то парня курчавого за запястье, сжал заученно ему пальцы, чтоб не вывалилось из руки курчавого то, что он уже в ладони держал. Обомлевший парень даже не пикнул, только губами шевелил и, растопырив глаза, глядел на Ружина, как на чудище заморское. — Гражданин! — громко обратился Ружин к низенькому большеголовому мужчине, который все никак не мог в толпу у прилавка втереться, все вертел задом, вертел. — Повернитесь. Тот услышал, повернулся испуганно, а вместе с ним еще несколько человек повернулись. — Ваше портмоне? — Ружин дернул парня за руку, подтягивая его к самым глазам низенького. — Вроде мое, — низенький опасливо покосился на курчавого. А курчавый оклемался уже, сплюнул, сказал беззлобно: — Козел… Низенький заискивающе улыбнулся: — А может, и не мое, — пожал плечами. — Ваше, ваше, — подтвердил Ружин. — В заднем кармане у вас лежало. Я видел. Задний карман, чужой карман… Пошли в комнату милиции, здесь рядом. Комната милиции действительно рядом, в дальнем углу рынка, в одноэтажном, куцем зданьице с зарешеченными окнами. Здесь тихо, народ сюда не заглядывает, уютный уголок, сонный. На двери мелом написано: «Милиция». Лейтенант, без фуражки, заспанный, плосколицый, ел дыню, когда Ружин, курчавый и потерпевший вошли в комнату. Он вздрогнул, вскинул голову, сладкий сок вяло тек по подбородку. — Что? — спросил, повернулся к курчавому. — А ты чего?.. — осекся. Оторвал кусок газеты, вытер губы, подбородок, щеки, потянулся за фуражкой, надвинул ее глубоко, встал, проговорил строго и требовательно: — В чем дело? — Карманная кража, — сказал Ружин и поднял руку курчавого с портмоне. — Задержан с поличным. Мною. — Так, — произнес лейтенант, суетливо выбрался из-за стола, подошел ближе, на портмоне взглянул, потом на курчавого, неодобрительно головой покачал: — Свидетели? — Меня и потерпевшего достаточно. — Жалко, нет свидетелей, — лейтенант почесал щеку. — Я свидетель, — повторил Ружин с нажимом. — А вот потерпевший. Этого достаточно. — Чего достаточно, а чего недостаточно — не вам решать, — перебил его лейтенант. — Ну хорошо, пишите заявление, объяснения, — он достал бланки из ящика стола. Ружин отпустил курчавого, тот сразу скинул портмоне на пол. Ружин, усмехнувшись, поднял портмоне, положил аккуратно на стол, подвинул стул, сел, принялся писать, потерпевший тоже уселся и тоже писать стал, вздыхая.
…Лейтенант взял у Ружина объяснение, прочитал. — Значит, временно не работаете? — спросил. — Временно не работаю, — ответил Ружин. — Понятно, — сказал лейтенант. — Можете идти. Когда надо, вызовем. — Давно в городе служите? — в свою очередь поинтересовался Ружин. — Больше месяца. Из района перевели. А что? — насторожился лейтенант. — Нет, нет, — миролюбиво улыбнулся Ружин. — Ничего. Любопытствую просто. Всего доброго.
Колесов и Света ждали его там, где он их оставил. — Здорово вы его! — восхитилась Света. — Раз, два и готово. — Очень не люблю, когда воруют, — заявил Ружин. — Не в бровь, а в глаз, — отметил Колесов. — Если воруешь, отвечай, — продолжал Ружин. — Гениально, — Колесов развел руками. — Я буду вашим биографом.
Дверь, на которой написано мелом «Милиция», распахнулась, из нее вышел потерпевший, вслед за ним лейтенант. Они поулыбались друг другу, вежливо пожали руки, и потерпевший ушел. Через какое-то время дверь снова приоткрылась, из темноты высунулся лейтенант, оглядел внимательно дворик, затем пропустил вперед курчавого, подтолкнул его в спину, сказал вдогон: — Не попадайся, дурак! Курчавый засеменил прочь. Лейтенант вынул из кармана горсть смятых денег, помял их пальцами, сказал: — Тьфу! — а потом и действительно сплюнул.
— Значит, так, — сказал Ружин, когда они подъехали к дому. — Жарьте, парьте, короче, готовьте стол. Он должен быть роскошным. Я вернусь к вечеру. Он остановил машину возле четырехэтажного белого здания. Над фасадом нервно трепыхался красный флаг. Ружин поднялся по ступенькам, толкнул массивную стеклянную дверь, сбоку от которой висела бордовая стеклянная доска: «Исполнительный комитет…» Он поднялся по широкой, покрытой ковром лестнице, прошел по тихим, безлюдным коридорам, остановился перед дверью «Приемная», помассировал шею, выдохнул шумно и только после этого вошел. После полутемного коридора в приемной ослепительно светло. День щедро сочится сквозь огромное, почти во всю стену, окно. Ружин сузил глаза, вскинул ладошку к бровям козырьком, пригляделся: два посетителя сидят на стульях, ожидают приема, мужчина и женщина, похожие, бесцветные. Лица незнакомые, а может, и знакомые. Ружин кивнул на всякий случай, не убирая козырька, шагнул к секретарше — пожилая, сухощавая, старомодный пучок на затылке, — сказал, кивнув на окно, доброжелательно: — Солярий. Загорать можно… — Что такое? — с вызовом проговорила секретарша и расправила плечи, готовясь к отпору. — Мне к председателю, — ласково улыбнулся Ружин и убрал руку от глаз. — Срочно. — Но у него… — начала секретарша. — Скажите, Ружин пришел, очень просит, — перебил ее Ружин. — Вы разве меня не узнаете? Секретарша нерешительно развела руками: — Я попробую. Она нажала на кнопку селектора, сказала в микрофон: — К вам Ружин. — Я занят, — ответил селектор голосом Копылова. Секретарша посмотрела на Ружина, добавила, поморщившись: — Ему очень срочно. Слышно было, как Копылов усмехнулся, потом сказал небрежно: — Подождет, не рассыплется… Ружин повел подбородком, растянул губы в резиновой улыбке, произнес тихо: — Так. — Шагнул в сторону двери, снова повторил: — Так. — И еще несколько шагов сделал, взялся за ручку, приоткрыл дверь, потом резко захлопнул ее, быстро подошел к стульям, сел, уставился в окно, что-то напевая себе под нос, будто ничего и не произошло.
Море было тихое, гладкое, но по-осеннему темное, волны грузно шлепались на песок. Ружин сидел на мокром, черном валуне, курил и наблюдал за одиноким рыбаком. Его лодка покачивалась в полусотне метров от берега. Удочки торчали с бортов. Рыбак то одну выдергивал, то другую, то третью, но лишь пустые крючки выныривали из воды. Но рыбак не отчаивался, он снова насаживал наживку и закидывал леску в море, ждал какое-то время и в который раз выдергивал удочки… Ружин помогал ему, в унисон взмахивая руками, подбадривающе вскрикивал. Но бесполезно, крючки, как и прежде, оставались пустыми…
Стол был уже разорен наполовину. Все сидели сытые, разомлевшие, довольные, а Ружин, давясь от смеха, рассказывал анекдот. — Пятачок и Винни-Пух нашли бочонок меда. Пятачок говорит, нехорошо лапами есть, я за ложками сбегаю. Прибегает, а бочонок уже пустой… — Ружин откинулся на спинку стула. — Я не могу… А бочонок пустой и Винни-Пух рядом лежит с огромным пузом. А Пятачок и говорит обиженно: «Что ж ты мне половину-то не оставил?» А Винни-Пух ему отвечает: — «Уйди, свинья, мне муторно!..» Колесов улыбался вежливо, ну а Света хохотала громко и отчаянно, как и Ружин. Только смех ее чуть опаздывал. Как только Ружин начинал смеяться, тут и она подхватывала, там где Ружин, там и она… Ружин отсмеялся наконец, встал, включил магнитофон — сладко запели итальянцы, — сказал: — Я сейчас, — и пошел на кухню. Он стоял у окна, курил, лицо усталое, темное. Он слышал, как вошла Света, краем глаза уловил, что она встала рядом. — Я понимаю, что помочь вам ничем не могу, — тихо сказала она. — Но все же… Мне очень больно, когда вы смеетесь вот так… Он повернулся все-таки. Она поймала его взгляд, смотрела долго, потом подняла руку, осторожно провела пальцем по щеке, сказала шепотом: — Колется… Ружин притянул ее к себе, прижал, потянулся губами к ее глазам и тут же тряхнул головой, сказал громко и весело: — Значит, так, дети мои, а теперь я вас вновь покидаю до утра. У меня есть еще одно очень важное дело. Света отстранилась, улыбнулась слабо, но ответила так же громко и так же весело: — Мы будем вас ждать. Не забудьте, сбор в восемь ноль-ноль. Колесов смотрел рассеянно, как Ружин топтался в коридоре, надевая куртку, приглаживая волосы, а когда Ружин за порог ступил, махнул рукой тихо.
Шоссе пустое, одна-две машины прошли навстречу, пока ехал, а сзади и вовсе никого не было, никто не спешил вслед, лишь темнота сзади вязкая, городские огни исчезли уже из виду. Высветился знак поворота, Ружин свернул налево, и теперь фары уперлись в знакомый уже дюжий щит «Запретная зона», через мгновенье и щит шагнул в темноту. Ружин проехал еще с полсотни метров и погасил фары, остановился, чтобы глаза пообвыкли. Едва различимо проступила серая змейка дороги, можно ехать. Как только очертились контуры забора и дома за ним, притормозил, осторожно свернул в сторону, с хрустом въехал прямо в кустарник, остановился, выключил двигатель, открыл дверь, шепотом чертыхаясь, вытянув руки перед собой, выбрался из кустарника. Дальше направился пешком. Дойдя до забора, с полминуты стоял, прислушиваясь. Море и ветер, и больше ничего, и дом безмолвный, непроницаемый, ни огонька, будто брошенный. — Так, — сказал Ружин, решившись, ухватился руками за кромку забора, подтянулся, перекинул ноги, спрыгнул бесшумно, помчался к дому стремительно, с разбегу вспрыгнул на карниз окна первого этажа, оттолкнулся от него энергично, уцепился за основание балкона, секунды две висел, болтая ногами, затем сильным рывком закинул одну ногу на балкон, ухватился рукой за перила и вторую ногу закинул, а потом и весь через перила перевалился. Вовремя. Отчаянно, срываясь на хрип, залаяла собака, совсем рядом, за углом. А вот она уже и под балконом, ревет так, что стекла дрожат на балконной двери. Ружин постучался. Приложил руки к двери рупором, выкрикнул глухо: — Марина, это я, Ружин. Открой! Она ведь сейчас балкон отгрызет! — Распахнулись шторы, за ними Марина, белое пятно лица, белые пальцы скользят по стеклу, никак не найдут задвижку. Ружин видит, как рот ее кривится от усилий. — Зачем? — говорит себе Ружин тоскливо. Но вот дверь открылась, с сухим треском, будто отклеилась, и Ружин проскользнул в комнату. — Марина Сергеевна, — раздался встревоженный голос снизу, из-под балкона. — Что случилось? — Господи, — простонал Ружин. — Она еще и разговаривает. — Ты кретин! — процедила Марина. — Это сторож, — и, наполовину высунувшись из двери, прокричала: — Все в порядке, Валентин, простодушно стало, я балкон открыла, а Пальме что-то не понравилось. Все в порядке. — Ну и слава богу, — отозвался Валентин и рявкнул на собаку: — Замолчи, дура, прибью! И собака замолчала понятливо, кто его знает, может, и вправду прибьет. — Ты ненормальный, — Марина прижалась спиной к двери, — или опять набрался… — Даже в темноте ты красива, — сообщил Ружин. — И еще этот белый пеньюар. — Голубой, — машинально поправила Марина. — Это неважно, — заметил Ружин. — Что ты хочешь? За окном над забором загорелся фонарь, тускло, медленно. А потом они услышали, как сторож возвращался к дому, как выговаривал что-то собаке и как та ворчала в ответ. — Тебя, — сказал Ружин, снимая куртку и вешая ее на стул. — Раньше надо было этого хотеть, — усмехнулась Марина. — Опомнился. — Я и раньше хотел, — Ружин остановился в двух шагах от женщины. В глазах его красновато отсвечивал фонарь. — Не замечала, — Марина обхватила плечи руками. — Ты странно смотришь на меня. Почему ты так смотришь?! — Конечно, не замечала, — Ружин сделал шаг. — А кого было замечать? Мента поганого, не очень денежного, скучного, не светского, не шикарного, вечно усталого?.. И Ружин сделал еще шаг. — Не подходи! — Марина вжалась в стекло, вот-вот лопнет оно. — Я закричу! — Ну а сейчас все в порядке, да? — Ружин протянул руку, погладил женщину по плечу, по груди. — Все как хотела, да? — Я надену халат, — Марина осторожно ступила в сторону. — Не надо, — сказал он. Ружин удержал ее. — Я же совсем голая, — тихо проговорила Марина. — Не совсем, — не согласился Ружин. — На тебе пока пеньюар. Он вдруг протянул руки и прижал женщину к себе. — Уходи, — выдохнула Марина. — Сейчас приедет Копылов. — Он не приедет, — мягко возразил Ружин. — Сегодня он улетел в Ленинград. Я знаю. Он наклонил голову и поцеловал Марину. Она ответила. — Как все плохо-то, Сереженька, — прошептала Марина. — Как все плохо…
Ружин протянул руку к тумбочке, пальцы наткнулись на ключи от машины, на записную книжку, на какие-то бумажки, наконец нащупали часы. Ружин попытался ухватить их в горсть, но они выскользнули из руки, упали на пол, клацнув коротко. Ружин чертыхнулся под нос, свесился с постели, стал шарить обеими руками по полу. Рядом шевельнулась Марина. — Что случилось? — сонно спросила она. — Часы упали, — ответил Ружин. — Нашел? — Нет, — недовольно отозвался Ружин. — Как сгинули. — Позвать собаку? — Марина зевнула. — Не надо, — поспешно ответил Ружин. — Уже нашел. — И действительно, в этот миг пальцы коснулись часов. — Сколько? — спросила Марина. — Почти пять, — Ружин надел часы на руку. — Я так и не заснула, — сказала Марина. — Ты не одинока, — заверил ее Ружин. — Ты придешь еще? — осторожно поинтересовалась Марина. — Не знаю, — после паузы ответил Ружин. — Не знаю… — По крайней мере честно… — Мои слова, — усмехнулся Ружин. — Что? — не поняла Марина. — Ты все время употребляешь мои выражения. — Ну, такое не забывается, — не скрывая иронии, произнесла Марина. — Не злись, — попросил Ружин. Свет фонаря шел скупой и зыбкий, и пыльный какой-то, а еще фонарь дрожал, от ветра, наверное, мелко-мелко, и казалось, все предметы в спальне шевелятся, и не просто шевелятся, а неотвратимо надвигаются на постель — и стулья, и кресла, и пуфики разномастные, и трельяж… Ружин тряхнул головой, но мебель все равно шевелилась. А потом открылась балконная дверь, медленно, плавно, будто кто тихонько подталкивал ее. Ружин приподнялся, вглядываясь. Марина обхватила его, прижалась, вздрагивая. Дверь захлопнулась рывком. Сквозняк. — Я вчера был у Копылова, — заговорил Ружин. — Я сказал, что хочу работать на любой должности, в розыске. Это мое, понимаешь? Это единственное, что я умею и люблю делать. Это как наваждение. Где бы я ни был, тут же я вычленяю воров, фарцовщиков, наркоманов, гомиков… Я профессионал. Я устал без работы. Марина убрала руку с его груди, села, подогнув колени и опершись на спинку кровати. — И что Копылов? — скучно спросила она. — Пообещал, что все решится положительно, — ответил Ружин и заметил с почти искренним воодушевлением: — Он совсем неплохой малый, твой муж. Мы с ним мило поболтали, умен, эрудирован, болеет за город… Вот так. — Значит, следствие прекратят? — осведомилась Марина. — Прекратят. — И суда не будет? — Не будет. — И тебе не грозит пять лет? — Не грозит. — И забудется то, что ты был арестован за покушение на убийство Гарабова и просидел в тюрьме два месяца? — Забудется. — И все потому, что ты теперь будешь паинькой и опять станешь верно служить? — Потому что буду опять верно… — Ружин осекся, проговорил зло, с нажимом: — Потому что хочу работать, потому что не могу без этой работы жить, потому что… — Врешь, — усмешливо перебила его Марина. — И мне врешь, и себе врешь. Но я тебя понимаю. У тебя нет выбора. Понимаю. — Чушь, чушь, чушь! — замотал головой Ружин. — Чушь! — он вскинулся с постели, стал одеваться, быстро, суетливо, из карманов со звоном сыпалась мелочь. — Потому что я хочу работать! — прерывисто дыша, говорил он: — Потому что я профессионал! Пусть они все, что угодно, делают там, наверху, а я буду ловить жуликов, уголовников. Понимаешь? Уголовников! Он сорвал куртку со стула, ступил к окну, надевая ее на ходу; надевал нервно, дерганно, раза два промахнулся мимо рукава, на третий раз, разозлившись, втиснул кулак с такой силой, что материя затрещала, сопротивляясь. Привалился к балконной двери, стал вертеть ручки двумя руками, чтоб уж наверняка, и злился легкости, с какой они поддавались. И тут опять услышал, как затрещала куртка на плечах, звук показался громким, долгим. Ружин нахмурился, замер, затем стремительно сорвал ее с себя, вывернул подкладкой наружу, принялся внимательно разглядывать ее сантиметр за сантиметром, когда добрался взглядом до шва вверху рукава, помял шов пальцами, нащупал что-то. Дырка. Надо же… Большая. Как же так? Он сморщился, обиженно поджал губы. Проговорил, не поднимая головы: — Нитку с иголкой… Марина зашуршала за его спиной, а он все мял-мял шов пальцами и качал головой сокрушенно. Марина протянула ему иголку со вдетой уже ниткой. — Что это? — спросил Ружин. — Нитка с иголкой, — тихо сказала Марина. — Зачем? — удивился Ружин. — Ты же просил, — Марина все еще тянула к нему руку. — Не помню, — сказал Ружин, съежив лоб, — не помню… Он не спеша надел куртку, подошел к балконной двери, легко распахнул ее, сделал еще шаг, перекинул ногу через перила балкона. — Сережа! Не надо! — сдавливая крик, проговорила Марина. — Я же пошутила! Я не хочу одна! Я все время одна! Я не хочу! Не хочу! Не хочу!.. Она видела, как он добрался до забора, перемахнул его, как бесшумно бежал по низкому, слоисто стелющемуся над увядающей травой туману.
…Двери в автобусах уже закрылись, но машины пока не отъезжали, дымили скупо, грелись, ждали команды. Вокруг каждого автобуса, а их было четыре, родители, друзья, невесты, жены. Обступили так, что казалось даже, когда сдвинутся машины с места, не пустят их, вцепятся в окна, колеса, впереди встанут и не разрешат дальше ехать, все знают, куда они едут, все знают… Парни держатся достойно, браво улыбаются, острят, балабонят горласто из окон, в который раз руки жмут и своим, и незнакомым. Колесов тоже старался улыбаться широко и безмятежно. Ружин и Света видели его через стекло, он не вставал, не высовывался в опущенные фрамуги, просто сидел и улыбался, широко и безмятежно. И Ружин губы растягивал и беззаботное, веселое лицо делал, и Света тоже веселое лицо делала, только у нее плохо получалось, как у танцоров-любителей к концу долгого выступления. Но вот команда. Вздрогнули машины, заголосили люди, неожиданно тонко, безнадежно, — женщины. Один из офицеров яростно выругался в мегафон, и голоса стихли, присмирели люди, и вправду, не на похоронах же. Автобусы уехали. Стояли еще долго. Ружин и Света двинулись первыми. Двор призывного пункта был голым, чистым, серым и тоскливым, после отъезда машин это увиделось ясно, теперь хотелось скорей уйти отсюда. — Ружин, Сергей! — услышал Ружин низкий голос за спиной. Обернулся. К ним спешил моложавый белобрысый подполковник. Подойдя, он протянул руку, сказал радостно: — Сто лет тебя не видел. Как ты? Все обошлось? — Нормально, — Ружин пожал плечами. — Может быть, лучше было бы там, а? — подполковник нахмурился, внимательно вглядываясь в Ружина. — Кто знает, где найдешь, где потеряешь, а? Два раза тебе предлагали. Приехал бы героем. — Наверное, — пробормотал Ружин. — Я через неделю опять туда, — сказал подполковник. — Позвони. Приходи проводить… — Обязательно, — кивнул Ружин. — Я позвоню. Обязательно. Всю дорогу ехали молча, не смотрели друг на друга, будто разругались, а теперь вот поостыли, но не смирились, ждут, кто первый начнет, чтобы опять в крик, без причины, без злобы, а просто потому, что скверно, все, все не так, все против. Когда он случайно коснулся девушки, она вздрогнула, а он одновременно руку отдернул, словно током по пальцам шибануло, он пробормотал «Извините» или еще что-то в этом роде, а она и вовсе не ответила, только отодвинулась к двери ближе. Ружин подрулил к подъезду, притормозил, выходить первым не стал, сидел, положив руки на руль. — Я заберу вещи, — сказала Света, не глядя на него. — Да-да, конечно, — согласился Ружин. Они вышли, все так же молча вошли в подъезд, поднялись по лестнице. Ружин открыл дверь, пропустил девушку вперед, остановился на мгновенье, прищурился, потянул воздух носом, шагнул вперед, мягко отстранил Свету, приложил палец к губам. Она, не понимая, насупила брови, хотела что-то сказать, но Ружин был быстрее, зажал ей рот ладонью, улыбнулся успокаивающе, другой рукой по волосам погладил, Света расправила лоб, потерлась непроизвольно об его руки. Ружин подмигнул ей, шагнул к двери в комнату, открыл ее. У окна на кресле сидела Лера, курила, ухоженная, яркая, в пестром коротком халатике, который намеренно не скрывал загорелых ног. — Наконец-то, — сказала она, длинно улыбаясь. — Я чуть не заснула. А ты бродишь где-то, ранняя пташка. — Что случилось? — растерянно спросил Ружин. — Ничего не случилось, — обиженно ответила Лера. — Ты забыл, как я люблю э т о утром, когда ты еще сонный, теплый?.. — Ой! — выдохнула за спиной Ружина Света. Ружин обреченно покачал головой, устало провел рукой по лицу. — А это еще что за чудо? — Лера подалась вперед, притушила сигарету, встала, оглядела Свету, усмехнулась: — Переквалифицировался на детей или предпочитаешь теперь заниматься этим втроем? — она развязала пояс, встряхнула волосами. — Ну что ж, я согласна. Она намеренно медленно стянула с плеч халатик, и он бесшумно упал у ее ног. — Эффектно, — оценил Ружин и полез за сигаретами. — Но я вторую неделю полы не мою. Жалко вещь. А потом он услышал дробный стук каблучков в коридоре, тяжелый удар входной двери, веселый невесомый звон цепочки. — Дура! — искренне и со вкусом заявил он Лере и ринулся к двери.
Света была уже в конце улицы, когда он выскочил из подъезда, бежала, ссутулившись, прижав локотки к телу, каблуки то и дело соскальзывали, подгибались, и девушка, в испуге взмахивая руками, припадала то на одну ногу, то на другую. Ружин улыбнулся, по-молодецки присвистнул ей вдогонку и побежал следом. — Стоп! — строго скомандовал он, оказавшись перед Светой, и предупреждающе вытянул руки. Она замедлила шаг, побрела обессиленная, опустив голову. — Чего ты испугалась? — спросил Ружин. — Никогда не видела женского тела? Оно точно такое же, как у тебя. Хотя нет, — поправил он себя. — У тебя в миллион раз лучше. — Откуда вы знаете? — Света испуганно вскинула глаза. Ружин расхохотался. Света дернула плечом и пошла быстрее. — Но я, наверное, опять не прав, — Ружин поравнялся с девушкой. — Ты ревнуешь. — Ну вот еще! — фыркнула Света. — Ревнуешь, ревнуешь, — подзадорил ее Ружин. — Было бы к кому, — возмутилась Света. — К вашему сведению, у нее зубы вставные. — Она энергично тряхнула головой. — Вот так! А Ружин снова расхохотался, весело ему было и хорошо, что вот так искренне она возмущается и встряхивает головой, как ретивая молодая лошадка. — Да, да, да, — запальчиво проговорила Света. — Вот тут два и тут. — Она поднесла палец ко рту и показала, где у Леры вставлены зубы, и губы при этом свои нарочито широко растянула, чтобы Ружин мог видеть, какие у нее зубки ровные, гладенькие, и все свои, да еще головой повертела туда-сюда, смотри, мол, сравнивай. Ружин хохотал, не останавливаясь, и повторял сквозь смех: — Как заметила-то, а? Как заметила?! Какое-то время Света смотрела на него насупленно, обиженно, а потом хмыкнула неожиданно для себя, потом руку ко рту поднесла, подступающий смех сдерживая, но поздно, вздрогнули плечи, и она засмеялась вслед за Ружиным, легко, без смущения, как давно не смеялась, как в детстве… — Я хочу есть, — сказал Ружин, отнимая ладони от щек. — Я зверски хочу есть. — И я хочу есть, — переводя дыхание, заявила Света. — Только еще зверистей. — Как? Как? — не понял Ружин.
Они неторопливо шли по ресторанному залу, круглому, пустому, разноцветные скатерти, белые, голубые, красные, форсистые стулья, спинки круто выгнуты, ножки тощие, ниточки, как лапки паучьи. Впереди метрдотель, в темном костюме с бордовой бабочкой, высокий, тонкорукий, голова чуть назад откинута, вышагивает как манекенщик, вольно, слегка подпрыгивая, за ним Света озирается со скрытым любопытством, а за ними Ружин, руки в карманах, вид беспечный, но это напоказ, а самому не по себе, вроде как окрика ждет, мол, нельзя сюда, мол, кончилось твое время, в пельменной, мусорок, похаваешь… Но нет, вот остановился метрдотель, указал на стол, сказал вежливо: — Пожалуйста. — И при этом во второй раз уже на Ружина внимательно посмотрел, глаза черные, словно подведенные, брови высокие, будто заново нарисованные, и оттого взгляд у метрдотеля печально-скорбный, как у Пьеро. — Не узнаешь? — спросил Ружин, усаживаясь. — Почему не узнаю? — легко откликнулся метрдотель. — Узнаю. Как не узнать. Гуляли славно, громко. Любимое место ваше было после «Солнечного». Так? — Так, — кивнул Ружин. — Все верно ты говоришь. Про мои дела слыхал? — Болтали что-то. — Мог бы и не пустить, — усмехнулся Ружин. — Почему пустил? — Кто знает, как жизнь повернется, — философски заметил метрдотель. — Я в людях разбираюсь. Глаза у вас не потухшие, устремленные, на борьбу нацеленные. Ружин удивленно вскинул брови, покрутил головой, хмыкнул. — Пришли-ка официанта, — попросил он. — Я зверски хочу есть, а вот дама моя, — он кивнул на Свету, — еще зверистей. — Что? Что? — наклонился метрдотель.
— А она не останется? Уйдет? — осторожно спросила Света, аккуратно отрезая кусочек мяса. — Кто? — поинтересовался Ружин и разлил по фужерам минеральную воду. — Ну эта, которая с зубами… — А, — ухмыльнулся Ружин. — Конечно. Она же все поняла. — Насовсем уйдет? — Света, не поднимая глаз, сосредоточенно кромсала мясо. — Наверное, — Ружин пожал плечами. — А если и придет, мы ее не пустим. — Мы… — растерянно повторила Света. Ружин замер, фужер так и не донес до губ, но и смотрел он не на Свету, а куда-то за нее, поверх ее плеча, улыбался. Она медленно обернулась. Сбоку от эстрады темнела дверь, маленькая, неприметная, и возле нее стоял Горохов, он придерживал дверь, чтобы она не закрылась, и что-то говорил неизвестно кому, тому, кто за этой самой дверью находился, говорил почтительно, тихо, чуть подавшись вперед, словно вышколенный официант в дорогом ресторане. Потом он мягко прикрыл дверь, повел плечами, распрямился и направился в зал, с ленцой, вразвалку, другой человек, раскованный, знающий себе цену, Ружин встал. Горохов уловил движение, повернулся в его сторону, застыл на полушаге, быстро обернулся назад, на дверь, потом по залу глазами пробежался цепко, профессионально и только после этого сотворил улыбку на лице, приветливую, у з н а ю щ у ю. Ружин усмехнулся. — Я рад тебя видеть, — сказал он. — Я тоже, — бодренько отозвался Горохов. — Не ври, — сказал Ружин. — Мне не надо врать. Я умный. — Я помню, — кивнул Горохов. — Помню. — И все равно я рад, — Ружин протянул руку. Горохов торопливо пожал ее. — Как ребята? Все живы? Здоровы? — Да, — радостно ответил Горохов. — Все живы-здоровы. — Ну и замечательно. — Конечно. Это самое главное, когда все живы и здоровы… — Я вот тут завтракаю. — Ружин махнул рукой за спину. — Давно не бывал. — Да, здесь неплохо, — согласился Горохов. — Уютно. Кухня хорошая. Я вот тоже решил, дай, думаю, позавтракаю. Вкусно. — Уже уходишь? — Да не совсем, — поспешно откликнулся Горохов. — Еще кофе… Ружин увидел, как неприметная дверка возле эстрады открылась и кто-то вышел из нее, двое. Ружин узнал Рудакова и прокурора Ситникова. — Не будет тебе кофе, Горохов, — сообщил он. Горохов оглянулся и опять превратился в вышколенного официанта, развернулся суетливо, плечи упали, подтаяли словно, голова вперед подалась, навстречу. — Что с тобой? — искренне удивился Ружин. Горохов вздрогнул, но не обернулся. — Не знаю, Серега, — сказал он тихо. — Не знаю! Что-то случилось, а что и когда, не знаю. Жить, наверное, спокойно хочу. Два дня назад Рудаков стал начальником управления. Вот так. — Как же это?.. — растерялся Ружин, он похлопал себя по карманам, ища сигареты, не нашел, деревянно повернулся, сделал шаг в сторону своего столика, не заметив стула, стоящего перед ним, споткнулся о ножку, не удержался и, вытянув руки, повалился на сервировочный столик, уставленный грудой тарелок и бокалов, тарелки посыпались на пол, раскалываясь с сухим треском, один за другим захлопали по паркету пузатые бокалы, и вилки потекли со стола, и ножи, — серебряный водопад. — Кто это там? — поморщился Рудаков. — Ружин? Опять пьяный? Видите? — грустно сказал он прокурору. — Я был прав. Нечистоплотным людям не место в милиции. Они неторопливо направились к выходу, сбоку мелко семенил Горохов и что-то вполголоса говорил, то и дело показывая рукой на Ружина, строгий, непримиримый.
…Ветер дул порывами, то вдруг закручивал яростно в невесомые воронки песочную пыль, тонко обсыпавшую смерзшийся уже пляжный песок, выдавливал снежно-белую пену «барашков» из черного морского нутра, и был он тогда холодным и злым, хлестал по лицу мокро и колко, впивался в глаза, мешал дышать, остро выстуживая ноздри, губы, и Света кричала тогда, отчаянно дергая Ружина за рукав: «Уйдем, уйдем! Мне холодно! Мне страшно! Я не хочу! Зачем?! Зачем?!»… То вдруг стихал мгновенно, разом, будто кто-то выключал его, не выдержав и в сердцах опустив рубильник, и оседала грустно песочная пыль, не дали ей порезвиться, покружиться вволю, и таяли «барашки», как льдинки под летним солнцем, и предметы вокруг приобретали ясные и четкие очертания, и цвет приобретали, виделись уже объемными и весомыми, а не плоскими, призрачными, как минуту назад, это свою природную прозрачность восстанавливал вычищенный влагой воздух… Ружин сидел на песке и рассеянно с тихой полуулыбкой смотрел на море, Света рядом переминалась с ноги на ногу, озябшая, съеженная, теребила машинально его плечо, повторяла безнадежно: «Уйдем, уйдем…» Ружин посмотрел на часы. — Они уже в аэропорту, — определил он. — Шутят, веселятся, громко, гораздо громче, чем обычно, тайком ловят взгляды друг друга, может, кому-то так же паршиво, как и мне, и я не один такой, трусливый и мерзкий выродок… Нет, вон у этого на миг потемнели глаза, и у того, и у того… Нет, не один, значит, я не самый худший, значит, это норма… и я с м о г у, и я с д е л а ю все, что потребуется. Надо! — Ружин потер руками лицо, посмотрел на ладони, мокрые, он усмехнулся, это всего лишь водяная пыль, море. — Помнишь того подполковника белобрового? Он правду сказал, мне два раза предлагали туда. И два раза я находил причины, чтобы не ехать. Не потому, что видел, что война эта зряшная. Боялся. Если бы ты знала, как долго и упорно я ломал голову, чтобы найти эти причины. Здесь на нож с улыбочкой шел, а туда боялся. Там шансов больше, понимаешь? Понимаешь? Я был бравым и смелым сыщиком, считал себя элегантным, красивым парнем, правда, правда, а когда меня арестовали и я попал в камеру, понял, что я вовсе это играл только, играл и ничего больше, я дрожал как заяц, когда меня вызывали на допрос, я перестал бриться, мне было совершенно наплевать, как я выгляжу, мне, наоборот, хотелось быть маленьким, страшненьким, незаметным. — Он поднял глаза на Свету, усмешку, презрение ожидал увидеть на ее лице, но нет, она будто и не слышала его, по-прежнему подрагивают посеревшие ее губы, томится прежняя мольба в глазах, и бессильным голосом она повторяет: «Уйдем, мне холодно, холодно…» Ружин неожиданно рассмеялся, непринужденно, искренне: — А знаешь, чего я еще всегда боялся? Холода. Обыкновенного холода. Я всегда боялся простудиться, до чертиков боялся простудиться. Не пил холодную воду, где бы ни был, закрывал окна и двери, чтобы не было сквозняков, начинал купаться в море только в июне, а заканчивал в начале августа. Интересно, правда? Ружин вдруг быстро встал, покопался карманах куртки, не глядя на девушку, протянул ей ключи, бросил отрывисто: — Уходи! — А ты? — потянулась к нему Света. Он оттолкнул ее и крикнул, зажмурив глаза: — Уходи! Света невольно попятилась назад, остановилась, растерянная, готовая заплакать. — Я прошу тебя, — проговорил он, сдерживаясь. — Мне надо побыть одному. Она сделала несколько шагов назад, потом повернулась к нему спиной, побрела, ссутулившись, вздрагивали плечи, длинный плащ путался в ногах. Ружин подождал, пока она отойдет подальше, скроется за деревьями, курил жадно, потом бросил сигарету, разделся, не суетясь, оставшись в плавках, пробежался до кромки воды, остановился на секунду, выдохнул шумно и ступил в воду. Он плыл быстро и уверенно. Все дальше, дальше. Опять задул ветер, тот самый, злой и колкий, с готовностью вынырнули «барашки», понеслись неудержимо друг за другом. «Давай! Давай!» — вскрикивал Ружин, отфыркивался и, истово вспенивая вязкую воду, короткими сильными гребками толкал себя вперед.
Петух

Посреди улицы сидела кошка. На мостовой. Умывалась. Ночной туалет самый важный. Именно ночью и начинается настоящая кошачья жизнь. И поэтому с наступлением темноты надо быть особенно красивой. Улица черная. Без огней. Но кошку видно. Потому что кошка белая. Крупная. С тяжелой круглой головой. С толстыми лапками. Трет мордочку лапками, жмурится, урчит, подрагивает от удовольствия, счастливая… Из ближайшей подворотни неслышно вывалилась стая псов. Худые, нервные. С низко опущенными головами. Рысцой двинулись в сторону кошки. Остановились в нескольких метрах. Молчали. Скалились беззвучно. Кошка насторожилась, подняла мордочку. Два пса пошли влево, два — вправо, остальные продолжали стоять. Через несколько секунд все как один сорвались с места, не тявкают, не рычат, только щерятся слюняво. Кошка метнулась в сторону. Поздно. Сгрудились собаки над ней и расступились тут же. Один из псов держал в зубах обвисшее безжизненное тельце. В глазах восторг. Взрыкнув, отшвырнул с силой кошку в сторону от себя, на тротуар. Сел на асфальт, гордо подняв голову. И остальные псы тоже сели. Поперек мостовой. Цепочкой. Ждут. В начале улицы показалась машина. Ярко светили фары. Автомобиль низкий, бока блестят полировкой, стекла темные. Иномарка. Фары высветили псов. Заголосил клаксон. А псы сидят как ни в чем не бывало. Зевают лениво. Машина подошла вплотную. Опять пробасил клаксон. — Что они хотят? — спросил по-английски один из пассажиров, сидящий на переднем сиденье. — Наверное, то же, что и все в этой стране, — тоже по-английски ответили с заднего сиденья. — Есть. — У меня где-то были конфеты, — по-русски сообщил шофер. — «Маска». — Вынул конфеты из кармана, прошуршал бумажками, кинул конфеты в окно. Они рассыпались перед собаками, но те не шелохнулись. Один из иностранцев выругался. — Сейчас, — проговорил женский голос, опять-таки по-английски, зашелестели бумажки. — Итальянские помадки. Очень вкусные. Махнула рукой в открытое окно. Псы с алчным ревом кинулись на конфеты. Машина двинулась дальше. — Суки! — выругался шофер. — По-моему, это кобели, — на ломаном русском заметил пассажир, сидящий рядом.
Наконец выехали на освещенное место. Одноэтажное здание. Крыльцо. Лесенка. Над дверью светящиеся буквы: «Кафе «У камина.» КООП». Разноцветно высвечиваются окна. С трудом нашли место на стоянке. Машин много. Вышли. Две женщины, двое мужчин. В вечерних туалетах. Улыбчивые. Сытые. Позвонили в звоночек. Дверь отворилась. Послышалась музыка. Громкая. Ритмичная. Молодой парень, стоящий в дверях, жестом пригласил иностранцев войти. Войти не успели. Расталкивая всех на пути, из кафе выбирался крепкий высокий малый с брезгливым рябоватым лицом. За собой он волок тонконогую девицу в коротком белом платье. Девица не сопротивлялась, напротив — хохотала весело и приплясывала на ходу в такт музыке. Увидев иностранцев, проговорила радостно: — Ой, какие славненькие, — и, томно прикрыв глаза, ухватила одного из иностранцев за брючину между ног. Иностранец от неожиданности отпрянул назад, толкнул стоящую сзади свою даму, та в свою очередь толкнула двух других иностранцев, и те два других иностранца упали, и сама дама тоже не удержалась и упала, и тот иностранец, которого схватили за брючину, потеряв опору, тоже упал. Девица захохотала громче и опять стала приплясывать в такт доносившейся музыке. Рябой малый с силой впихнул ее в белую «Волгу». Отдуваясь, уселся за руль. Девица вцепилась в его плечо. — Почему ты не захотел трахнуть меня в кафе?! — крикнула она. — Почему? Почему?.. Рябой сплюнул в окно и ничего не ответил. Девица терзала его плечо: — Ты не хочешь меня? Не хочешь? — Хочу, — сказал Рябой, сумрачно глядя перед собой. — Очень… — Тогда сейчас, — выдохнула девица и с привычной томностью зажмурила глаза. — Прямо здесь. В машине. Чтобы проходящие видели, как мы трахаемся!.. Она впилась Рябому в губы — он и вздохнуть не успел. Просунула руку меж его ног, нашла под сиденьем рычажок, нажала его и толкнула Рябого назад. Спинка откинулась, а вместе с ней и Рябой. А вместе с Рябым и девица. Падая, она успела еще зажечь свет в салоне. Шустрая. — Ку-ку, — сказал кто-то, проходя. — Хо-хо, — сказал кто-то, проходя. — Да пошел ты на…! — сказал Рябой, с силой оттолкнул от себя девицу, с ревом поднялся и высунул кулак в открытое окно. — Поехали ко мне, — сказал он, отдышавшись. — Нет, — решительно заявила девица. — Или здесь, или нигде. — Тогда там, — малый махнул рукой в сторону темного проулка. — Фу, — девица скривила губы. — Там темно и пусто. И никто не увидит, как ты меня трахаешь… — Обиделась. Рябой завел двигатель. Машина прыгнула с места, покатила к проулку. Рябой задом загнал машину в темноту. Она приткнулась к переднему бамперу мирно отдыхающего микроавтобуса-«рафика». — Нас никто не увидит, — с тоской проговорила девица, опять зажгла свет в салоне и стала стаскивать с себя платье. В кабине «рафика» вдруг вспыхнул огонек. Зажигалка. Сидящий на месте водителя мужчина шумно втянул в себя сигаретный дым. Толстые щеки затвердели на секунду и мягко обвисли вновь. Не отрывая взгляда от светящегося салона «Волги», толстый протянул зажигалку другому мужчине, соседу по кабине. И тот в свою очередь тоже прикурил и, прикуривая, тоже во все глаза разглядывал «Волгу». — Стыд, — наконец сказал толстый. — Срам, — поддержал его сосед. — Стыд и срам, — подытожил толстый. Молчали. Курили прерывисто, быстро, будто в последний раз. В квадратное окошко перегородки, отделяющей кабину от салона, просунулась чья-то голова. В зубах сигарета. — Симуков, дай огню, — сказала голова. А потом голова уставилась на «Волгу». И забыла про огонь. Напрочь. — Чёй-то? — спросила удивленно. Догадалась: — Трахаются… Втянулась опять в салон, проговорила с радостным возбуждением: — Мужики, там в тачке мужик бабу… Появилась вновь в окошке с биноклем, восхитилась: — Ух ты!.. Задняя дверь автобуса открылась. Из салона выпрыгнули трое. Сухо клацнули бронежилеты, надетые поверх курток и пиджаков. На цыпочках подошли к «Волге», стояли, хихикали. — Назад! — злобно шипел из окна «рафика» Симуков. — Назад, козлы! Троица не слушалась. Кайфовали. Симуков взял микрофон рации: — Сто первый, — сказал он. — Как слышите?
Голос Симукова глухо прошелестел в салоне синих, а ночью и вовсе черных «жигулей», стоявших в соседнем переулке метрах в пятидесяти от автобуса. — Да замечательно я тебя слышу, — без особого энтузиазма отозвался Вагин. Он сидел на переднем сиденье, рядом с водителем. На голове черная вязаная шапка, натянутая на самые глаза, на плечах кожаная куртка, короткая, блестит в отсветах неоновой рекламы, длинные ноги в кроссовках устало покоятся на передней панели, перед лобовым стеклом. Комфорт любит Вагин, везде и во всем. И спутники его тоже комфорт любят. Развалились на заднем сиденье, посвистывают, песенки мурлычит, а шофер, так тот вовсе спит, сопит, всхрапывая то и дело… — Тут такая, значит, штука, — шелестел Симуков. — Тачка перед нами. А в ней это… как ее… мужик с бабой трахаются… — Сто пятый, — строго прервал его Вагин. — Не засоряйте эфир. — Так я и говорю, — возмущенно продолжал Симуков. — Тачка эта нам выехать не даст, ежели чего… А мужик этот с бабой, ну так они тра… Вагин хмыкнул и толкнул шофера в плечо. — Подай чуток вперед, — сказал. Машина тронулась, прошла несколько метров. Вагин увидел «Волгу» и автобус. Вынул из бардачка бинокль. Загляделся. Улыбался. Причмокивал. — Эта, — подал голос Симуков. — Тут наши, того, в бинокли наладились глядеть, балдеют, онанисты, мать их!.. Вагин оторвал бинокль от глаз, построжал вновь, кинул бинокль обратно в бардачок, сказал в микрофон: — Не засоряйте эфир, сто пятый, — помолчал. — Сейчас разберемся. Открыл дверцу, ступил на тротуар, не спеша направился к «Волге». Подошел. Посмотрел. Шикнул на троих в бронежилетах. Те тотчас убрались. Опять посмотрел. Покачал головой раздумчиво. И наконец постучал в стекло. Еще. И еще. Рябой оторвался от девицы. Рубашку он не снимал, брюк тоже. Транспортный вариант. Повернулся к Вагину, глаза остервенелые, губы мокрые, дыхание со свистом. Открыл окно наполовину, рявкнул: — Пошел на…! Вагин улыбнулся ласково: — Послушайте, дружище, — сказал он, — не могли бы вы поставить машину в другое место. Мой автобус, — он жестом показал в сторону «рафика», — не сможет выехать… — Пошел на…! — проревел Рябой и замахнулся на Вагина. — Вам, наверное, меня просто не слышно, — продолжал улыбаться Вагин. — Мы слишком далеко друг от друга. Он быстро выставил вперед руку, ухватил Рябого за ухо и с силой подтянул его к себе. Рябой взвыл от боли. Кулак его судорожно долбил по рулю. — Как ты смеешь, сволочь? — завопила девица и попыталась вцепиться Вагину в лицо. Вагин левой рукой ударил ее по щеке. Крепко. Девица отпрянула назад и замолкла испуганно. — Теперь слышно? — в самое ухо Рябому нежно проворковал Вагин. Рябой кивнул очумело. Вагин отпустил его ухо, прошипел, озлясь вдруг: — Пошел на…! — и в сердцах саданул ногой по автомобилю. Нетвердыми руками Рябой завел двигатель и, не взглянув больше в сторону Вагина, с грохотом сорвался с места. Вагин сунул руки в карманы джинсов и побрел обратно к своим «жигулям».
Иностранцы толпились у зеркала. В фойе. Разглядывали себя, пальцами друг на друга показывали и хохотали звонко и пронзительно. В полный голос. От души. Так, что номерки на свободных вешалках раскачивались и перекликались сухим и беспорядочным стуком. Пластмассовым… У одной иностранной дамы платье в черной пыли, у другой и вовсе порвано — зацепилась за щепку на перилах, — нижнее белье белеет. У мужчин спины перепачканы и ягодицы, на лицах ссадины, волосы всклокочены. Вокруг них малый, что при гардеробе, суетится, мягкой щеточкой их обмахивает. Иностранцы отбиваются от него и хохочут, хохочут… Хохоча и в зал двинулись. Зал небольшой, уютный. Много зеркал. Витражей. Пестро. Приглушенный свет. Красно-синий. Зал полон. Только один столик не занят. Переступив порог, трое иностранцев тотчас погасили смех, серьезные лица сотворили, а один, беловолосый, мелкоглазый, все никак остановиться не мог, на него шикали, за одежду его дергали, а он все никак. За столик сели. Официант подошел. Заказ принял. А беловолосый глядит на официанта и пуще прежнего распаляется. С соседних столиков на иностранцев настороженно поглядывают, бармен через стойку перегнулся, хмурится. Три музыканта вроде как даже медленней играть стали, иностранца смеющегося рассматривают. Иностранцам неловко за своего товарища, они вполголоса, воспитанно, пытаются его успокоить. Бесполезно. И тогда одна из дам, та, у которой нижнее белье белеет сквозь дыру на платье, хлопнула беловолосого по щеке. Сноровисто. Привычно. А тот, ну просто теперь закатывается. Тогда она выдернула пробку из бутылки шампанского и содержимое бутылки ему на голову вылила. Беловолосый умолк тотчас, замер испуганный, удивленно стал товарищей своих разглядывать. И вот тут-то второй иностранец захохотал. На беловолосого пальцем показывает, за живот держится и гогочет басисто, во весь зал. Дамы лица руками закрыли, сидят недвижные. …Музыка умолкла. Танцующие пары остановились, с явным сожалением, потянулись к своим столикам. Сели. Из-за столика, стоящего возле сцены, поднялся мужчина, высокий, с полными округлыми плечами. Длинноволосый, усатый. Ступил на сцену, склонился к микрофону, проговорил негромко, улыбчиво: — Внимание!.. Прошу всех посмотреть в сторону входной двери! — Все повернулись. Как один. Тихие вмиг. В зал влетел парень, что при гардеробе. Споткнулся, едва не упал. За ним не спеша вошел мужчина, тоже длинноволосый и тоже усатый. Спортивный. Худой. В руке пистолет, черный, громоздкий. Зал вздохнул и выдохнул. И снова ни звука. Слышно, как сковородки шипят на кухне. — Теперь взгляните на дверь, ведущую в кухню, — сказал тот, что на сцене — Плечистый. Дверь распахнулась, и в проем втиснулись испуганные повара. За ними шествовал мужчина с автоматом Калашникова в руках. Мужчина тоже был длинноволосый и усатый. Но в отличие от своих коллег-брюнетов — рыжий. Рыжий, рыжий, волосатый, убил дедушку… и так далее. — А теперь посмотрите на меня, — попросил Плечистый и тоже вынул пистолет, тяжелый и длинный. — Все понятно? Сидящие в зале кивнули утвердительно, мол, все понятно. Только иностранец все хохотал, показывал пальцем на вооруженных мужчин и хохотал. Особенно Рыжий его веселил. — Ну замечательно, — одобрил Плечистый. — Теперь я пройдусь по залу и соберу деньги и драгоценности, которые вы сейчас положите на столики. Спрыгнул со сцены и действительно пошел по залу. — Отбивные горят, — сокрушенно покачал головой один из поваров. Чуть не заплакал…
— Все в цвет, — сказал Вагин, — не соврал нам стукачок-то наш. Они начали. Зашипела рация. — Сто первый, сто первый… Я вижу через окно, они согнали поваров в зал. У одного из них ОКМ, десантный. — Это Клюев, — объяснил Вагин оперативникам. — Они там с Берцовым у окна кухни. Ну что, мужики, с богом!.. — Нажал пульт рации, проговорил, сдерживая возбуждение: — Я сто первый! Пошли! Взвизгнул стартер «рафика», заныл двигатель — жирно, мощно, ширкнули громко задние колеса, по асфальту разок-другой прокрутившись, и ринулась вперед машина, со свистом воздух пронзая. Мгновение погодя и «жигули», в которых Вагин сидел, лихо с места слетели и тоже понеслись к кафе. «Рафик» притормозил мертво у самого крыльца, двери кабины раскрылись, и из нее черными комьями стали вываливаться люди с боевыми автоматами в руках. Несколько человек к входной двери бросились, остальные побежали за угол, ко второму выходу, к окнам кухни. С заднего сиденья «жигулей» выскочили оперативники с пистолетами, тоже помчались к кафе. Все было проделано быстро и бесшумно, как на тренировке. Вагин и шофер остались в машине. Курили. Вагин выкинул окурок в окно, сплюнул вслед, махнул рукой. И началось… С треском и грохотом вылетела входная дверь. Зазвенело разбитое стекло за углом. С двух входов, с главного и с кухни сотрудники милиции ворвались в зал. Двое-трое из работников заорали громко, зло, угрожающе: «Бросить оружие!.. Всем лечь! Быстро! Быстро! Брось пистолет! Башку снесу, сволочь!.. Всем лечь, вашу мать! Кому сказал!.. Убью! Убью! Брось пистолет!..» Рыжего прижали к стенке, придавили горло стволом автомата, оружие выпало из его рук. Второй, что у входной двери — худой, — так растерялся, что и шелохнуться не успел, его сбили с ног, саданули прикладами пару раз по затылку. Плечистый успел-таки выстрелить, в бронежилет одному из сотрудников попал, того отбросило назад, упал он на пол матерясь — все в порядке, значит, раз матерится-то… Второй раз усатый-волосатый выстрелить не успел. Пистолет из руки его вышибли, двинули прикладом по лбу, повалили наземь. Разом тихо стало. Только иностранец продолжал хохотать. Лежал на полу лицом вниз и смеялся безудержно. Вздрагивал. В зал не спеша вошел Вагин, снял вязаную шапку, длинные волосы закрыли лоб, уши, вынул сигарету изо рта, поискал глазами пепельницу, нашел на ближайшем столике, притушил окурок, сказал: — Прошу всех посетителей подняться, — усмехнулся. — Уже можно. Люди стали медленно вставать, отряхивались. Лица растерянные, испуганные. — Я старший оперуполномоченный уголовного розыска города, капитан милиции Вагин, — продолжал Вагин. — Простите нас за вторжение, за неожиданность нашего появления, простите за то, что причинили вам беспокойство, но сами видите, это было необходимо. — Улыбнулся обаятельно. — Пока прошу не расходиться. Мы должны записать свидетельские показания. Спасибо. Поклонился благодарно и направился в сторону сцены. — Симуков, — позвал на ходу, — старших групп ко мне!.. Услышал шум в углу зала. Остановился. Посмотрел через плечо. — Не трогайте меня! — срываясь на хрип, негодовала молодая женщина. Красное открытое платье. Темные волосы. Длинные. Большеглазая. — Не тыкайте мне в грудь своей железкой! Она холодная! — Да я… — пожал плечами работник милиции в бронежилете и неловко попытался убрать автомат за спину и, как нарочно, опять задел стволом женщину, мушка зацепилась за платье, платье затрещало. — Да уберетесь вы, наконец!.. — вскрикнула женщина и со всей силой толкнула сотрудника в грудь двумя руками. От неожиданности тот отшатнулся назад и неуклюже повалился на стол. Посыпались на пол фужеры, тарелки, покатились бутылки… Плечистому уже надели наручники на сведенные за спиной руки. Рыжему тоже. А Худому нацепить браслеты пока не успели. Оперативник склонился над Худым как раз в тот момент, когда большеглазая красавица оттолкнула работника милиции в бронежилете… Худой, еще лежа, выхватил у сотрудника милиции пистолет из поясной кобуры, кобура оперативная, открытая, ловко вскочил на ноги, со всей силы ткнул милиционера головой в живот, тот завалился назад, непроизвольно взмахнув руками, будто собрался на спине по воздуху поплавать; за те доли секунды, пока сотрудник милиции падал и все вокруг стояли, замерев, растерянные, успел взвести курок, выпрямиться, развернуться в сторону сцены, где больше всего людей в бронежилетах скопилось, и выстрелить. Два раза. Один за другим. Быстро. Почти без паузы. Бах! Бах!.. Обученные работники милиции ринулись на пол. С грохотом. Матерясь яростно… Раскололись витражи на стене за сценой. Посыпались вниз разноцветные стекла, гулко забарабанили по дощатой сцене… Вагин поморщился, услышав выстрелы, чуть втянул голову в плечи, но не повалился наземь, как милиционеры в бронежилетах. Рука его метнулась автоматически под куртку, выдернула из-за пазухи пистолет. Вагин крикнул что-то нечленораздельное, только ему понятное, и нажал на спусковой крючок. Грохнул выстрел. Худого отбросило назад. Он повалился на пол, звучно ударившись о паркет затылком. Из раны на шее слабо плеснула кровь. — Педераст… твою мать! — прохрипел Вагин и медленно опустил оружие. Забился в истеричном смехе иностранец. Заголосили женщины. Тонко. Громко… Оперативники стали подниматься один за другим… …На какие-то секунды о Плечистом забыли. Он вскочил на ноги. Одним прыжком забрался на сцену. Со сцены метнулся к двери кухни. Вагин увидел, что руки у него свободны. Браслет наручников блестел только на левом запястье… — Стоять, сука! Убью! — рявкнул Вагин и стремительно направил пистолет в сторону Плечистого. Поздно. Тот уже был за дверью. Работники милиции рванулись вслед. Иностранец хохотал. Женщины голосили. …Вагин спрыгнул с окна. Увидел Плечистого метрах в ста, в конце двора, у самой арки. Две женщины с колясками стоят посреди двора. Мальчишка — чуть в стороне от них — крепко прижимает к груди собачонку. Застыли словно. Не шелохнутся. Кто-то рядом с Вагиным взвел курок автомата. — Не стрелять, — сказал Вагин негромко. — Люди. К Вагину подбежал один из оперативников. Смуглый, губастый, волосы жесткие, вьются мелко. Почти негр. — Начальник, разреши?! — выдохнул он. — Я возьму! — Давай, Патрик Иванов, — кивнул Вагин. — Пошли! — крикнул Патрик Иванов. И работники милиции, грохоча каблуками, помчались вслед за ним. Вагин подошел к Худому. Убит. Вагин наклонился. Присвистнул, снял с трупа парик, а затем, чуть помедлив, и усы оторвал. — Так, — сказал Вагин. Поднялся быстро. Подошел к Рыжему. И с него парик сорвал и усы потом. Испуганное бледное лицо. Молодой. Ушастый. Пот на лбу. Вагин вынул пистолет.Поволок обезумевшего от страха Рыжего на кухню. На кухне опрокинул его на разделочный стол. Придавил стволом пистолета его нос. Больно. Заорал: — Кто? Фамилия? Имя? — Хамченко… Олег… Нет! Нет!.. Я не хочу! Я только второй раз!.. Не стреляйте! — Кто остальные?! — орал Вагин. — Кто? — Не знаю! Я второй раз!.. — Кто?! — орал Вагин. — Кто?! — и давил стволом на нос. Давил, давил… — Не знаю!.. Одного Птица зовут… Другого Пинцет… Не знаю! Мне звонил Птица! Он мне деньги давал! Сам меня находил!.. — Так, — сказал Вагин. Выпрямился. Потянул за собой обмякшего Рыжего-Хамченко. — Где сидел? — спросил. — В Усть-Каменске. — Хулиганка? — Да. Двести шестая, вторая. — Птица из блатных? — В законе. Три ходки. Сам рассказывал. — Парик? Усы? — Да. У него самого волосы короткие. Как у качков. — Залетный? Местный? — Местный. Первая ходка отсюда. Точно. — Хорошо, — сказал Вагин и подтолкнул Рыжего к двери в зал.
Большеглазая красавица упиралась, когда ее сажали в машину, визжала, дубасила кулачками работников милиции. Один из работников завел ей руку за спину. Поднажал. Большеглазая красавица присела невольно, прохрипела что-то жалобное. — Отставить! — сказал Вагин, спускаясь с крыльца. — Я сам. — Из-за нее все, из-за сучки, — недобро проговорил Симуков. — Окуну ее в ИВС. Пущай охолонется. — Отставить, — с нажимом повторил Вагин. — Я сам. — Ну-ну, — не стал спорить Симуков. Махнул работникам. Они отпустили женщину. Мимо провели иностранца. Он хохотал, а из глаз лились слезы. — Бедняга, — посочувствовал Симуков, — скучает, видать, по дому. — Простите, — сказал Вагин женщине. — Не прощу, — ответила женщина, расправляя свое короткое платье. Вагин с удовольствием разглядывал ее тонкие ноги. — Работа, — объяснил Вагин. — Кто-то должен. — Я бы лучше деньги отдала с побрякушками, чем такое видеть! — Женщина откинула волосы назад, посмотрела на Вагина с неприязнью. — Садисты!.. Дерьмо!.. У него кровь из горла. Он же совсем мальчик! — Успели заметить? — подивился Вагин. Женщина не ответила. Дышала часто. Зло. Нетерпеливо постукивала длинным каблучком об асфальт. Вагин какое-то время разглядывал женщину. Улыбался невольно. А потом тоже стал стучать об асфальт — одной ногой, другой, вроде как приплясывал. В такт рукой взмахивал, дирижируя. — О, господи, — вздохнула женщина, но постукивать каблучком перестала, покачала головой: — Моя милиция… — И тут же осведомилась жестко, с вызовом: — Я могу идти или я арестована? — Если б я только знал, — вдруг очень серьезно проговорил Вагин. От усердия даже брови насупил. — Что в этот вечер, в этом кафе, будете вы… Я бы никогда не посмел… я бы никогда не позволил себе сделать того, что сделал сегодня. Я бы воспротивился приказу, я бы воспротивился долгу, я бы воспротивился совести, я бы пошел под трибунал, я бы получил срок, я бы сидел в студеной зловонной камере. Голодный, больной, искусанный крысами и надзирателями… И вспоминал бы вас… — Вагин горько усмехнулся. Очень горько. — И был бы счастлив… Умолк, шмыгнул носом, потер пальцами глаза, попросил жалобно: — У вас не найдется платочка? — Что? — не поняла женщина. — А, да, да… — торопливо порылась в сумочке, обеспокоенная, протянула Вагину душистый платочек. — Спасибо, — поблагодарил Вагин, поднес платочек к носу и неожиданно высморкался с пугающим грохотом. Потом еще. Женщина вздрогнула. Вагин аккуратно, старательно, высунув язык, сложил платочек, полюбовался своей работой и отшвырнул платок в сторону. — Не отстирается, — объяснил деловито. Большеглазая красавица пялилась какое-то время на Вагина оторопело. А потом на платок уставилась. Нежный и одинокий. Покинутый. А потом опять на Вагина взгляд перевела. А потом опять на платок. А потом опять на… А потом хмыкнула, не сдержавшись, — плечи дрогнули. А потом еще. А потом расхохоталась в полный голос. Искренне, не стесняясь, зажмурив глаза, голову назад запрокинув, рот маленькой ладошкой прикрыв… Смеялась. На машину опершись, что позади нее стояла. Смеялась. И Вагин ухмыльнулся довольный. Шапку вязаную, черную аккуратно поправил, еще больше ее на глаза натянул. Почесал щеку. Опять ухмыльнулся. Женщина отсмеялась, покрутила головой, видимо, сама себе удивляясь, посмотрела на Вагина с неожиданным интересом, сказала: — Да снимите вы эту шапку дурацкую, наконец. Не идет она вам! Вагин кивнул понятливо. Тотчас стянул шапку с головы, швырнул ее на землю вслед за платком. Женщина усмехнулась. Спросила уже без прежней жесткости: — Так вы не ответили на мой вопрос, я могу уйти или я арестована? — Конечно, — ответил Вагин. — Что «конечно»? — Можете уйти. — Так я ухожу, — женщина с подозрением смотрела на Вагина. — Уходите, — пожал плечами Вагин. — Ага, — сказала женщина и осторожно ступила в сторону. Повернулась, пошла медленно. Шаг, другой. Все быстрее, быстрее. — Да, кстати, — Вагин щелкнул пальцами в воздухе. Женщина остановилась вмиг. Застыла. Не оглядывается. Около нее сотрудники ходят, переговариваются. Курят. А она стоит, не шевелится. И в воздухе ни дуновения. Тепло. Сухо. Ночь. — Кстати, — сказал Вагин, — уже поздно. Я провожу вас. — Не надо, — ответила женщина. — Не надо. — И все же, — Вагин неторопливо подошел к ней, легко коснулся ее плеча. Тонкое плечико напряглось. Затвердело. — Не надо, — сказала женщина. — Не надо. — И все же, — Вагин бережно повернул женщину к себе. Лицо ее непроницаемо. Глаза опущены. — Ваше право, — почти не разжимая пухлых мягких губ, проговорила женщина. — Вы сильней. — Да, — подтвердил Вагин. — Я сильней. Он повел ее к «Жигулям». Милиционеры смотрели им вслед. Ухмылялись. И Вагин ухмылялся. Радовался. Или смущался… Или притворялся… Или… И…
Политесно усадил даму, широким жестом открыв ей дверь, махнув рукой, кивнув, мигнув. Галантный. Обошел автомобиль. А губы все кривятся в ухмылке. Сесть за руль не успел. Калено ударили фары по глазам. Охнули тормоза. Вагин зажмурился, загородился рукой. Хлопнула дверца подъехавшей автомашины. Патрик Иванов ругался. Грубо. Очень грубо. Фары выключил. — Что? — всхрипнув вдруг, спросил Вагин. — Ушел, сука! — Патрик Иванов яростно встряхнул мертво сжатым кулаком. — У него, видно, на соседней улице тачка была!.. Как в воду!.. Дерьмо! Вагин упруго качнулся вперед, ухватил Патрика Иванова за ворот куртки, вскрикнув ожесточенно, зло, губы сломались, прижал оперативника к его автомобилю. Сильно. Голова Патрика Иванова откинулась назад. Он дышал тяжело, прерывисто. Молчали. Оба. В глаза друг другу смотрели. Не отрываясь. Вагин неожиданно сплюнул рядом с Патриком Ивановым — брезгливо — и наконец отпустил его. Стоял какое-то время, лицо пальцами мял. — Иди, — сдерживаясь, сказал потом Патрику Иванову. Патрик Иванов побрел к своей машине. Вагин быстро вернулся к крыльцу, поднял свою черную шапку, злясь, напялил ее на самые глаза. А потом и платок поднял, оглядевшись, сунул его в карман. А милиционеры курили и ухмылялись.
Вагин вырулил со двора. Спросил: — Куда? — Днестровская, — ответила женщина. — Хорошо, — сказал Вагин. Город темный. Бездонные провалы окон. Кое-где за стеклами свет — изредка яркий, чаще — скупой, скорбный. Многоэтажные дома тяжело нависают над мостовой, давят ее с боков. Женщина поежилась. Вагин посмотрел на нее. Ничего не сказал. Опять перевел взгляд на дорогу. Слабо пожал плечами. А вот теперь и женщина взглянула на него. Смотрела долго. Потом улыбнулась тихо. Женщина указала на дом. Вагин притормозил. Женщина взялась за ручку двери. — Минуту, — сказал Вагин. Повернул женщину к себе за плечи, склонился к ее лицу, потянулся к губам. Она сморщилась, отвернулась, уперлась рукой ему в грудь. Вагин откинулся на спинку своего сиденья. Выдохнул шумно. Покачал головой. — Все? — спросила женщина. Вместо ответа Вагин протянул ей пачку «Кэмела». Поколебавшись, женщина взяла сигарету. Закурили. Молчали. Вагин притушил сигарету в пепельнице. Усмехнулся. Стянул шапку с головы, кинул ее на заднее сиденье и снова склонился к женщине. Поцеловал в щеку, легко, нежно, в висок, в нос, приблизился к губам…. Женщина опять отвернулась, но без прежней уже решимости. Вагин повернул ее лицо к себе. Впился в губы. Обнял крепко. И женщина ответила. Положила руки ему на плечи. Ласково погладила затылок. Левая рука Вагина коснулась ее колен, поползла выше под платье. Женщина вырвала губы, яростно отпихнула от себя Вагина, толкнула дверь, торопилась выбраться наружу, словно воздуха хотела ночного глотнуть — свежего — после тесных «жигулей», после жарких вагинских рук, после его тяжелого дыхания. Торопилась. Плащ цеплялся за что-то, мешал. Тонкая ножка на длинном каблучке подогнулась, ступив на асфальт. И женщина чуть не упала. Чуть. Вагин следил за каждым ее движением. Завороженный. То и дело глаза вздрагивали. Мотнул головой. Выбрался тоже. Женщина быстро шла к подъезду. Вагин встал на ее пути, взял за руку. — Нет, — сказала женщина, тряхнула рукой, сбросила его пальцы, обошла Вагина, ступила к подъезду. Вагин двумя прыжками добрался до двери. Оперся спиной о нее. — Вот это уже лишнее, — сказала женщина. — Меня ждет муж. Вагин попробовал улыбнуться. — Замужние женщины в одиночку в рестораны не ходят, — сказал он. Добавил: — В кооперативные. — Позвольте, — женщина потянулась к двери. — Познакомьте меня с мужем, — вдруг попросил Вагин. — А? — Позвольте, — повторила женщина. Глаза воспалились. Влажные. Еще больше сделались. Ярче. — Нет, правда, познакомьте. — Вагин дернул губами в ревнивой усмешке. — Правда, правда… — Да уберетесь вы наконец! — туго выцедила женщина. — Бред, — Вагин беспокойно провел пальцами по лбу. — По-моему, я уже люблю вас… Неожиданно подался вперед, обхватил ладонями лицо женщины, притянул к себе, стал целовать, горячо, суетливо. Будто в первый раз. Она кричала сдавленно. Отчаянно отбивалась. Молотила по нему кулачками. А он насытиться не мог. Не мог. Вывернулась все-таки, скользнула вниз из-под его сильных рук, выпрямилась, ударила со всего размаха его по уху, а потом еще по щеке — с тонким и коротким звоном, летящим. Пылающее лицо торжеством сияет. Вагин опустил руки тотчас, закрыл глаза, открыл вновь, темный, потухший. — Хорошо, — сказал. Поднял руку, быстрым и ловким движением сорвал ремешок сумочки с плеча женщины, так что женщина и шевельнуться не успела, шагнул к машине, открыл сумочку, мягко желтым замочком щелкнув, вывалил все содержимое на капот машины, порылся в вещах, не торопясь, — ключи, ручки, записные книжки, карандашики, кошелек, косметичка, бумажки, справки, квитанции, паспорт. Паспорт. Женщина стояла не двигаясь. Горбилась. Дергалась щека болезненно. — Машева Анжелика Александровна, — прочитал Вагин. — Год рождения, место рождения… Отделение милиции… Серия… Номер… Адрес… Незамужем… Смахнул вещи с капота обратно в сумочку, застегнул ее, обернулся, кинул сумочку в сторону Анжелики Александровны, большеглазой красавицы, та едва смогла поймать ее, почти у самой земли, выпрямилась, на лице слезы блеснули. — Хорошо, — сказал Вагин, и, не глядя больше на женщину, сел в машину, завел двигатель, резво тронулся с низким воем. Анжелика Александровна Машева, большеглазая красавица, стояла какое-то время, ссутулившись, невидяще глядя вслед уехавшей машине, а потом вдруг скорчила непотребную гримаску и крикнула громко: — Мент понтярный!
Коридор узкий, без окон, двери по бокам, слева, справа. Плафоны с дневным светом горят через один — экономия, — да и те тусклые, синевато-серые, холодные. По коридору быстро шел Вагин, руки в карманах, лицо недвижимое. Рядом Патрик Иванов, он то и дело обгоняет Вагина, в лицо заглядывает, пытается взгляд поймать. А поймать трудно, потому что, во-первых, Вагин на Патрика Иванова и не смотрит, упорно перед собой глядит, а во-вторых, Патрику Иванову вообще сосредоточиться трудно — оперативники то в темноту окунаются, то на свет пыльный выныривают, то окунаются, то выныривают, то окунаются… Патрик Иванов говорит: — У этого, у здорового, у Птицы, браслет не защелкнулся, понимаешь? Кожу защемило, а ребята не заметили, а он это почувствовал, и когда лапищи-то рванул в разные стороны, браслет и слетел, понимаешь?.. Дай мне его повязать, дай, дай!.. Африканским своим папашкой клянусь, что повяжу, дай, дай! Вагин, не отвечал, шагал себе, будто один он во всем коридоре. Вот замедлил шаг, а потом и вовсе остановился возле одной из дверей, толкнул ее, вошел и закрыл ее за собой перед самым носом у Патрика Иванова. Патрик Иванов ощерился недобро. Стерильно белозубый. Выцедил: — Ален Делон хренов! Неспешно зашагал по коридору. Руки длинные, гибкие. Почти не двигаются в такт шагам. Вроде как и не его они. Вроде как поносить взял. По коридору навстречу два здоровых мужика — короткостриженные, в белых рубашках, в галстуках, с пистолетами в кобурах под мышками — волокли молодого крепкого парня. Губы у парня разбиты, в трещинах, из носа кровь стекает — две тонкие струйки, черные, блестящие, один глаз распух, закрыт, второй, наоборот, таращится изумленно, не моргает. Висит парень на руках у мужиков, обессиленный, ноги не идут — ползут по яркому веселому линолеуму. — Он убил свою маму, — печально сообщил один из здоровяков, проходя мимо Патрика Иванова. — И папу убил, — скорбно добавил второй. — И папу. Глаза его отсырели. Сейчас заплачет. И у Патрика Иванова тоже глаза сморщились. Повлажнели. Патрик Иванов потер их кулаками, жестко, сдержал-таки слезу. Молодец Патрик Иванов!
Окна в комнате зашторены. Полумрак. Желто светится небольшой экран. На экране мелькают носы, рты, волосы, бакенбарды, глаза, уши, подбородки, щеки, лбы, морщины, ямочки, складки, ресницы, брови, родинки, бородавки, усы, бороды, ноздри, зубы, переносицы. Лица. — Что? — спросил Вагин, присев на подоконник. — Не помню, — сказал Хамченко — он устроился на стуле перед экраном. — Не знаю. Не могу. Не умею. Не получается… Что-то с памятью моей стало, все что было не со мной, помню… — Что? — Вагин повернул голову к серьезному пожилому мужчине в очках, стоящему у проектора. — Мудозвон, — тотчас откликнулся, серьезный мужчина в очках. — Чистый мудозвон. — Ага, — подтвердил морщинистый сержант, стоящий у двери. — Точно. — Хорошо, — сказал Вагин. Спрыгнул с подоконника, раздернул шторы, с сухим хрустом открыл оконные рамы, они задрожали стеклянно, повернулся, подошел к съежившемуся вдруг Хамченко, взял его за шиворот, одной рукой потащил к окну — тот упирался, безуспешно отдирал от себя вагинскую руку, — повалил на подоконник, спросил вяло: — Какой этаж? — Четвертый… — с трудом выдавил из себя Хамченко. — Городухин и сержант подтвердят, что ты прыгнул сам, — сказал Вагин, полуобернулся к Городухину: — Городухин, подтвердишь? — А то! — с готовностью отозвался серьезный мужчина в очках. — Сержант?! — спросил Вагин. — Или! — лихо козырнул сержант. — Давайте сначала, — предложил Хамченко. И опять замелькали брови, носы, ямочки, уши, бороды, морщины… — Вот, — Хамченко тыкал пальцем в экран. — Вот, — нервничал, боялся, что не поверят. — Хорошо, — сказал Вагин, взял у Городухина наспех склеенный портрет и вышел из кабинета.
Шел по коридору, разглядывал портрет Плечистого-Птицы, улыбался удовлетворенно. Разглядывал и улыбался, разглядывал и улыбался… Проходящие мимо сотрудники вертели пальцами у виска и строили страшные рожи.
Вагин открыл дверь в кабинет. Просторный. Светлый. На столах компьютеры. Гудят, мигают, пощелкивают. Будто живые. За тремя компьютерами три девушки. — Я к тебе, — обратился Вагин к одной из них. Поколебавшись, добавил: — Оля… Оля медленно повернулась на крутящемся кресле — кресло крутилось неслышно, мягко, маслено — посмотрела на Вагина внимательно. Стройная, худенькая, длинноглазая. В тонком легком платье, коротком. Сидит, скрестив ноги, и рассматривает Вагина, с головы до ног рассматривает, с ног до головы. — Пора обедать, — заторопилась вдруг одна из девушек, полненькая, вся в сером, будто пыльная. У двери уже обернулась, со значением подмигнула Оле. — Пора, мой друг, пора, — подтвердила вторая, не полненькая, но тоже вся в сером, будто пыльная. — Я к тебе, — повторил Вагин, когда пыльные вышли. — С вещами? — усмехнулась Оля. — С вещами, — подтвердил Вагин. — Правда? — подивилась Оля. — И где же они? Встала, цокая длинными каблучками, прошла по кабинету, под один стол заглянула, под другой, стулья отодвинула, за шторой поискала. Встала, наконец, перед Вагиным, в глаза ему посмотрела, не скрывая иронии. — Где? — спросила вновь. — Вот, — Вагин протянул фоторобот. — Это не вещи, Вагин, — вздохнула Оля, взяла портрет, села к компьютеру. — Это работа. — Работа, — кивнул Вагин, опустился рядом на стул. — Словесный портрет, — Оля протянула руку. — Ах да, — Вагин вынул из кармана бумагу. — Где он судился? — спросила Оля. — Здесь, — сказал Вагин. — Иначе бы я не пришел. — Иначе бы не пришел… — с усмешкой повторила Оля. Оля нажала на клавиши. Компьютер радостно замерцал. — Я давно тебя не видела, — сказала Оля. — Я тоже, — сказал Вагин. Лениво посмотрел в окно. Там было лето. — Что тоже? — спросила Оля. Пальцы ее продолжали скакать по клавишам. — Давно тебя не видел, — объяснил Вагин. — Это естественно, — с легким раздражением проговорила Оля. — Раз я тебя давно не видела, значит, и ты меня давно не видел… — Ты думаешь? — Вагин зевнул. Оля вдруг бросила компьютер и стремительно повернулась к Вагину. — Вагин… — начала она. — Что? — невинно спросил Вагин. Оля какое-то время глядела на него молча, потом опять повернулась к аппарату, ответила: — Ничего… Компьютер попискивал по-кошачьи. — Ты не занят сегодня вечером? — спросила Оля. — Занят, — ответил Вагин. — А завтра? — Тоже. — Много работы? — Я не люблю, когда от меня убегают, — сказал Вагин. — Не люблю. — Я помню, — сказала Оля. — Ты найдешь его. — Найду, — подтвердил Вагин. — Ага! — неожиданно воскликнула Оля. — Что? — Вагин резко поднялся, впился в экран. — Сычев Леонид Владимирович, 1951 года, уроженец Перми, трижды судимый, тяжкие телесные, разбой, разбой, освободился в июне прошлого года, номера уголовных дел… прежнее место прописки… Клички: Сыч, Филин, Птеродактиль, Птица. — Хорошо, — сказал Вагин, выпрямился, улыбнулся. — Значит вечерами ты занят? — спросила опять Оля. — Занят. — А сейчас?.. — Оля запнулась на долю секунды. — А сейчас десять минут не найдешь для меня? — Десять минут? — повторил Вагин рассеянно. — Найду. Он говорил, а рука его уже тянулась к телефону. — Гостиница? — проговорил он в трубку. — Кобелькова, пожалуйста, администратора. Да… Оля тем временем подошла к двери, заперла ее. Возвращаясь, на ходу сняла платье, осталась в маленьких трусиках, швырнула платье на стул, присела перед Вагиным на колени, стала расстегивать его джинсы, руки ее дрожали, не слушались, верхняя губа вздрагивала нетерпеливо. — Леша, — говорил Вагин, — это я. Срочно. Сычев Леонид Владимирович. Откинулся прошлым летом. Разбой. Клички Птица, Птеродактиль, Филин, Сыч. Два дня сроку. Ищи. — Вагин осекся, вздрогнул, прикрыл глаза, проговорил тихо: — Ищи, Леша, ищи… — повесил трубку, опустил руку, погладил Олю по волосам, откинул голову назад, простонал тихо, лицо светлое, покойное.
Квадратный зал ресторана. Небольшой. Столиков на десять. Все заняты. Красные стены. Фонтан. Струя тугая, шумная. На стойке бара телевизор. Видео. Поет Патриция Кас. К стойке подходит Плечистый-Птица, опять в парике, опять с усами, решительно выключает телевизор, говорит громко: — Внимание! Прошу всех посмотреть в сторону входной двери. Все посмотрели. И посетители, и официанты. И метрдотель. И съежившийся за стойкой бармен. И даже сам Плечистый-Птица тоже посмотрел в сторону входной двери. Она резко и шумно отворилась, ударилась о стенку, загудела деревянно, отскочила от стенки, с размаху двинула по заду вошедшего уже в зал еще одного усатого-волосатого, тот не удержался, скакнул вперед, руки вытянув, чуть не упал, невысокий, ладный, хрупкий, удержался-таки, в маленькой кисти — длинноствольный пистолет, вздрагивает, тяжелый, крупнокалиберный. Птица ухмыльнулся, продолжал: — Теперь взгляните на дверь, ведущую в кухню… Взглянули. Там потные поварихи с бледными дрожащими лицами, вот-вот в обморок рухнут, но пока стоят, друг за дружку держатся, за ними — третий усатый-волосатый, большеголовый, грузный, пыхтит с посвистом, устал… В руках обрез двустволки, курки взведены. — Я не могу просто так сидеть и смотреть на все это, — сдерживаясь, вполголоса проговорил находившийся за одним из столиков черноволосый, аккуратно одетый мужчина. — Я не имею права просто так сидеть и смотреть… — Нет, — сказала сидящая рядом женщина, накрыла своей рукой его сжатый белый кулак. — Нет… — Я не могу, — повторял черноволосый мужчина — он тер пальцами висок. Что есть силы. Морщился. — Я не имею права… Я не могу… Я же работник милиции. Я же оперативник… Понимаешь?! Понимаешь?! — Нет, — говорила женщина, искала его взгляд, моргала часто. — Нет, нет, нет… — А теперь обратите взоры на меня, — весело сказал Плечистый-Птица и тоже вынул оружие — гладкий никелированный пистолет. — Все понятно? Посетители энергично кивнули, мол, все понятно. Только черноволосый мужчина не кивнул, сидел, выпрямившись, внимательно разглядывал хрупкого налетчика, потом сказал женщине, невесело усмехнувшись: — Справили рожденьице, мать твою!.. — Нет, — говорила женщина. — Нет, нет, — ее длинные алые ногти судорожно царапали его кулак, оставляя на нем четкие красно-белые борозды. — Нет… — Я очень рад, что всем все понятно, — одобрил Птица. — Теперь я пройдусь по залу и соберу деньги и драгоценности, которые вы сейчас положите на столики. — А хрен в задницу не хочешь, сука! — крикнул черноволосый и стремительно метнулся со стула в сторону хрупкого налетчика. Прыжок, другой… Черноволосый сшиб Хрупкого наземь, прижал коленом к полу руку с пистолетом, занес тяжелый круглый кулак над его головой. — Не надо! — тонко завизжал Хрупкий. — Я боюсь! — замотал головой из стороны в сторону. — Убери руки, — хрипло заорал Птица. — Убери руки! Убью! Убью! Вытянул пистолет в сторону черноволосого, переступал с ноги на ногу, нервно, дерганно. Черноволосый вдруг нахмурился, нагнулся над Хрупким, вгляделся ему в лицо, сорвал усы, выпрямился, ошарашенно взглянул на Птицу… — Так это… — выговорил растерянно. И только тогда Птица выстрелил. Пуля попала черноволосому точно в переносицу. Его швырнуло назад, он рухнул на пол, тяжело, с глухим коротким стуком, выгнул спину на мгновенье, обмяк, замер. Заголосила женщина, что сидела рядом с ним, повалилась грудью на стол, застучала кулачками по тарелкам, рюмкам, фужерам, руки мокрые от крови… — Уходим! — закричал Птица. — Уходим быстро! — попятился к кухне. За ним потянулся и Большеголовый. — Стоять! — фальцетом выкрикнул Хрупкий. Он уже поднялся, уже опять нацепил усы, стоял, безбровое лицо съежено — не прошел еще испуг, — цепко оглядывал зал. Поднял руку с пистолетом, выстрелил в потолок. Посыпалась сверху белая пыль. Хрупкий выкрикнул высоким голоском: — Деньги и драгоценности на стол! Посетители зашевелились, стали суетливо шарить по карманам, раскрыли сумочки, расстегнули кошельки, развернули портмоне. Птица и Большеголовый переглянулись, нехотя вернулись в зал. — Давай, милый, действуй, — устало сказал Хрупкий, сел на ближайший стул, закинул ногу на ногу, достал пачку сигарет «Марльборо», закурил, щурил левый глаз от дыма. — Пожалуйста, пожалуйста, — со всех сторон к Птице тянулись руки с деньгами, с перстнями, с кулонами, с цепочками, с бусами, с ожерельями, с подвесками, с брошами, с заколками, с серьгами. — Пожалуйста…
* * *
Ворота были железные, тяжелые, и поэтому отворялись долго и с натугой. Створки расползались нехотя, медленно и нудно скрипели. За воротами стоял хмурый милиционер, тер глаза, будто со сна, а за милиционером виднелся двор, и во дворе желтели милицейские машины-«газики», а за «газиками» блестели мытым стеклом большие двери, и на стекле было написано «Дежурная часть», а возле дверей стояли люди, и в штатском, и в милицейских мундирах, и все как один смотрели на ворота. Молчали. И не курили даже. Наконец, ворота открылись, и во двор въехали два автобуса и пыльный грузовик с глухим фургоном — «воронок». Из первого автобуса вышел Вагин. Он был в бронежилете, в руках держал десантный автомат. На лице пот, в зубах сигарета. — Ну? — спросил один из стоявших у дверей офицеров — розовощекий, упитанный майор. — Пятнадцать, — ответил Вагин, размял затекшие ноги, отшвырнул окурок в сторону. — Как минимум четверо в розыске. Остальных привязывать, будем. Кто-нибудь да опознает… Вымогатели, воры. Семь человек со стволами. На завтра надо выдернуть всех терпил. И «поджопных» тоже. — Терпил-то мы вызовем, — согласился майор. — Конечно. Мы обязаны, — после паузы заговорил громче, внятней. — А что касается тех, заявления которых, как ты выражаешься, якобы подложены под мягкое место наших сотрудников, то есть сокрыты, этих не получится, потому что такое безобразие, как сокрытие заявлений граждан, в нашем подразделении не имеет место быть… — повернулся к офицерам, заметил с усмешечкой: — Без году неделя в управлении, а туда же, в командиры… Резвый! Вагин, не торопясь, подошел к майору, ткнул ему в живот стволом автомата, сказал ласково, улыбаясь: — И «поджопных» тоже! — Хорошо, — кивнул майор, розоватость со щек пропала, появилась бледноватость. — Конечно…Задержанных вытаскивали из автобусов, из «воронка», и, подталкивая в спину прикладами автоматов, гнали бегом в «дежурку». Иногда кое-кто сопротивлялся и кричал примерно такие слова: «За что повязали, суки ментовские?! Требую прокурора, и адвоката, и иностранных журналистов!» Таких били. Не сильно, правда. Для острастки. Помогало…
Вагин стоял у деревянного барьера, за которым сидели дежурные офицеры, снимал бронежилет. Неподалеку, тоже возле барьера, откатывали «пальцы» одному из задержанных, здоровому мордатому малому. Малый был весь в коже — брюки, куртка, галстук — модный. Склонив к плечу голову, он сонно наблюдал за милиционером, который возился с его руками. Вагин снял, наконец, бронежилет, положил его на барьер рядом с автоматом, сказал офицеру, устало шевельнув пальцами: — Принимай. Малый повернулся в его сторону, усмехнулся, заметил негромко: — Зря ты так, начальник, со мной. Несправедливо. Я сидел в симпатичном кабачке, выпивал, закусывал. Не грабил, не убивал. А ты меня в контору. Несправедливо. Я очень не люблю, когда несправедливо. Когда по справедливости, когда с «поличняком», тогда другое дело, а так… — малый осуждающе покачал головой, добавил грустно: — Пожалеешь, начальник, ох, пожалеешь… — Ты кого пугаешь, шантрапа подзаборная? — не поворачиваясь к малому, очень учтиво и любезно проговорил Вагин. — Меня, офицера милиции? У тебя что-то случилось с головкой?! Да? — засмеялся. — Я сейчас приведу ее в порядок! Я умею! Сказал и тотчас стремительно сорвался с места, цепко ухватил малого одной рукой за ворот, другой за волосы; рыча, свирепея, потащил его к решетчатой двери камеры, за которой, прижавшись друг к другу, теснились задержанные, ударил малого лицом о решетку — задержанные испуганно отпрянули от двери, охнув разом, потом ударил еще, еще… Малый заныл тонко. Заголосили, оклемавшись, задержанные. Два милиционера повисли у Вагина на руках. Малый упал, выл по-собачьи, лицо в крови, черное. Вагин одним движением сбросил милиционеров, подошел к двери камеры, выговорил ясно и четко: — За убитого вчера старшего лейтенанта милиции Ходова я дал себе слово положить десятерых таких, как вы, — Вагин рукавом вытер пот с лица, сказал буднично: — И положу…
Он недолго постоял во дворе. Щурился на солнце, рассеянно наблюдал, как водители милицейских автобусов прибирали салоны машин. Курил без желания. Бросил сигарету. Поднял голову к солнцу. Глаза закрыты. Лицо ясное, мягкое. Потянувшись с удовольствием, как после доброй ночи, закинул руки за голову, вздохнул глубоко, медленно выдохнул… Открыл глаза, улыбнулся вяло, пробормотал едва слышно: — Ну и что?
Она сидела возле самого его кабинета. На стуле. Не на стоявшем рядом удобном диванчике, а именно на стуле. На стуле она, конечно, выглядела строже и официальней, чем могла бы выглядеть на диванчике — это точно. Но все равно на нее смотрели — все, кто проходил по коридору, — и сотрудники, и посетители, и уборщица со шваброй и громыхающим ведром и легким матерком, и электромонтер с чемоданчиком, в кепке и с лампочками в карманах. Кто в упор смотрел, кто искоса поглядывал, а электромонтер, чтобы еще раз ею подивиться, даже из-за угла высунулся, одна лампочка у него выскользнула из кармана, упала, но, что интересно, не разбилась, а покатилась по полу, по коридору, но электромонтер не пошел за ней, не поднял, застеснялся. Патрик Иванов несколько раз туда-сюда прошествовал, сначала без всего, с пустыми руками, потом, суровый, прошагал, пистолетом пощелкивая, вроде как проверяя его исправность, и наконец с десантным автоматом пробежал. Однако ноль внимания. Она даже не подняла на него глаз. Сидела в своем узком белом костюме, ногу на ногу закинув, тесная юбка почти до середины бедер задралась — ноги тонкие, туфли на шпильках длинных, — курила «Марльборо», чуть сощурив длинный глаз, губы нежные, слегка вспухшие, как после сна, нет, как после сладкой истомы ночной, как после любви. Как после любви. Он замедлил шаг, когда ее увидел, но только на мгновенье, а потом, наоборот, зашагал быстрее, и даже быстрее, чем следовало бы. Анжелика Александровна Машева. Большеглазая красавица. Она подняла глаза ему навстречу, улыбнулась скромно, отшвырнула сигарету за спину, сигарета, беспорядочно кувыркаясь, сделала дугу и упала точно в отверстие белой керамической урны, а вслед за сигаретой она кинула за спину смятую пачку дорогостоящих американских сигарет, которую до этого непроизвольно комкала в руках, и смятая пачка тоже описала дугу и тоже провалилась в черную дыру чисто вымытой недавно проходившей уборщицей урны. Из-за угла выглянул электромонтер в кепке и с лампочками в кармане и оценивающе покачал головой — он так не умел, а хотел бы, очень даже хотел бы. Вагин остановился перед женщиной, смотрел, тер щеку пальцами, морщился, как от света резкого, наконец ступил к кабинету, распахнул дверь, жестом указал в глубь кабинета. Она встала, поправила костюм, не глядя на Вагина, переступила порог. Вагин закрыл дверь за собой, приблизился к столу, сел, женщина продолжала стоять, Вагин пошевелил губами, потом бровями, тоже встал, провел ладонями по волосам, вышел из-за стола, взял стул от стены, придвинул его к женщине, и только тогда она села, Вагин обошел ее, осторожно опустился в кресло, выдохнул, постучал пальцами по гладким, полированным подлокотникам, потом вынул из кармана ключи, повернулся к сейфу, открыл его, долго рылся там, залез с головой, шуршал бумагами, гремел пустыми бутылками, наконец выбрался из сейфа, улыбался, довольный, положил на стол перед женщиной конфету в затертой обертке «Маска». Женщина кивнула, развернула конфету, положила ее в рот, жевала, Вагин какое-то время с удовольствием смотрел, как она жует, потом с грохотом, от которого женщина вздрогнула, закрыл сейф, бросил ключи в карман куртки. Женщина дожевала конфету, щелкнула замком сумочки, извлекла оттуда новую пачку «Марльборо», вскрыла ее острым коготком, взяла одну сигарету, протянула пачку и зажигалку Вагину. Вагин тоже вынул из пачки сигарету, прикурил, а пачку и зажигалку положил в карман куртки, зажигалка и ключи от сейфа весело звякнули, встретившись друг с другом. А женщина так и осталась с незажженной сигаретой, она недоуменно уставилась на Вагина, а Вагин тем временем сосредоточенно курил, пускал густой серый дым изо рта, из носа, на женщину не смотрел, смотрел рядом, смотрел мимо, на пустую стену напротив смотрел и поэтому не видел, как женщина высоко подняла брови, удивляясь, что он не дал ей зажигалку, чтобы она смогла прикурить. Тогда она встала, положила незажженную сигарету «Марльборо» в пепельницу, аккуратно вынула из пальцев Вагина — он не сопротивлялся — его почти докуренную сигарету и тоже положила ее в пепельницу. Осталась стоять. Вагин нахмурился, но тоже встал. Разглядывали друг друга. Разделенные столом письменным. Будто не виделись никогда. Разделенные столом чиновничьим. Стол широкий, длинный-длинный. Для начальничьего кабинета. В глазах радуга. Семь цветов. И у Вагина. И у женщины. Яркие до боли. Разделенные столом… Она подалась чуть вперед. Губы разомкнула. Влажные. Теплые. И он наклонился. Глотал слюну часто-часто, с трудом дыхание сдерживал. Глаза у нее взбухли вдруг. Будто заплачет сейчас. Еще немного, еще чуть-чуть, последний дюйм он трудный самый… Коснулись губы друг друга. Легко. Пухово. Невесомо. Как в сказке. В жизни так не бывает. Хоть застрелись из пистолета Макарова. Но вот вздрогнули губы — и у него, и у нее, — разомкнулись, затрепетали обеспокоенно… Это стук в дверь их вспугнул, настойчивый и громкий. Взлетели губы и опустились тотчас по разные стороны стола. Разделенные столом милицейским… — Ну?! — только и сумел выдохнуть Вагин. Дверь заскользила бесшумно на ухоженных петлях. Открываясь. На пороге — Оля, та самая, что из информационного центра, та самая, что с компьютером на пару Вагину фамилию злодея отыскала, та самая, что в коротком платьице и ничего из себя. Одна рука ее в дверной косяк уперлась, другая — в упругое бедро. Оля окинула взглядом посетительницу вагинского кабинета, усмехнулась едва заметно уголком розово-помадно-скользко-блестящих губ, мол, что это такое тут сидит. ЧТО ЭТО ТАКОЕ тут сидит? И пошла, покачиваясь на стройных ножках, к вагинскому столу, села на уголок, спиной к посетительнице, склонилась к лицу Вагина, открыла рот, чтобы сказать что-то, Вагин остановил ее жестом, повернулся к женщине, проговорил с трудом, предварительно откашлявшись тщательно: — Вы простите, — опять откашлялся, — Анжелика… — Лика, — с готовностью подсказала женщина. — Просто Лика. Для вас… — Простите, — повторил Вагин. — Ну? — поднял лицо к симпатичной Оле. Зашептала что-то Оля скороговоркой ему на ухо. Вагин кривил брови, вслушиваясь, кривил щеки, кривил лоб. — Ну и что? — спросил, так ничего и не поняв. Оля выпрямилась, потянулась сладко, выгнула спину, чтобы Вагин, а может, и не только Вагин грудь ее разглядеть сумел — очень трудно было эту грудь разглядеть — очень она крупная и очень тяжелая, — произнесла томно: — Ну хорошо. Потом. Вышла, гарцуя. Славная. Дверь закрылась особенно нежно, и особенно мягко, и особенно бережно, и особенно бесшумно, будто и не было этой самой двери, а вместо нее болтался на смазанных петлях толстенький матрасик от полутораспальной кровати. Так выражала симпатичная Оля свою радость по поводу появления в кабинете старшего оперуполномоченного уголовного розыска управления внутренних дел города, капитана милиции Вагина А. Н., большеглазой женщины по имени Лика. Славная. Так вот, как только закрылась дверь, Вагин встал нетерпеливо, не отрывал глаз от Лики, и даже не моргал. Так-то. И Лика поднялась, через мгновенье после него, через долю мгновенья, через тысячную долю мгновенья. И опять коснулись друг друга их губы. Разделенные столом оперуполномоченным… Вагин взял женщину за плечи, крепко. Цепко. Надежно. Держал. Целовал беспощадно. Захлебывался. Как тогда, в пятнадцать лет, под Одессой, в Коблеве, на пляже, ночью, тоненькую девочку по имени Марита. …Или Карина. …Или Лолита, ну да бог с ним, с именем… Главное, все повторилось! Волшебство. Хоть застрели из пистолета Макарова. Лика закинула одно колено на стол, затем второе, затем третье… нет, насчет третьего это, пожалуй, перебор, приблизилась вплотную к Вагину, еще сильнее впилась в его жадный рот, непроизвольно навалилась ладным тельцем своим на него. Он не удержался, рухнул вместе с Ликой в кресло, и кресло не удержалось и рухнуло вместе с ними на пол… Они лежали на полу рядом с креслом и хохотали безудержно, будто не было Жизни, будто не было Смерти. Из кабинета вышли серьезные, строгие. Друг на друга не глядели. Вагин запер кабинет, и они зашагали по коридору, быстро и деловито. Чуть впереди плохо сосредоточенная Лика, чуть позади хмуровато-рассеянный Вагин. У окна курила Оля. У окна курила Оля. У окна курила Оля. Уже у самых входных дверей, у дежурки, Лика коснулась руки Вагина, сказала: — Я сейчас… Вернулась туда, где курила Оля. Подошла вплотную, проговорила тихо, с явным сочувствием: — Он не любит небритых женщин. — Что? — Оля непроизвольно вскинула руку к лицу, провела по щеке. — Не любит, — вздохнула Лика, повернулась, пошла обратно, едва сдерживала смех. Оля растерянно трогала подбородок, шею…
«Жигули» неслись по городу. Вылетали на встречную полосу, ныряли под красный светофор, с бешеной скоростью проскакивали перекрестки. Офицеры ГАИ отдавали им честь.
Они мчались по широкому загородному шоссе. Солнце слепило. Ветер пьянил. Лика слепила. Лика пьянила…
Оля стояла перед зеркалом в туалете. Почти голая. В узких белых трусиках. Скомканная одежда — на полу. Нервно разглядывала себя со всех сторон. Сейчас заплачет, бормотала обиженно: — Ну где небритая? Ну где небритая?
А в конце пути была гостиница. Называлась она «Сосновый бор». И она действительно находилась в сосновом бору. Так что те, кто ее так назвал, нисколько не покривили душой, когда придумывали название. Хотя, конечно, могли ведь по невежественности своей назвать гостиницу и «Еловый бор», или там «Пихтовый бор», или того хлеще «Березовая роща», ан нет, молодцы все-таки оказались, видно, посоветовались со специалистом-биологом, видно, на место его вывозили, консультировались, какой же это все-таки бор, а он им раз так, сходу, и заявил, специалист как-никак, разбирается, мол, сосновый это бор, а не пихтовый, не кедровый, не еловый и даже, хлеще того, не березовая роща… Вот так и назвали эту гостиницу «Сосновый бор». Была она маленькая, уютная. Четыре этажа. Просторные широкие окна. Стекла чистые, прозрачные, как воздух, разноцветные занавески, в каждом окне разные, горшочки с домашними растениями на подоконниках. Впрочем, все, как в любой советской гостинице. Перед входом, во дворе сверкают на солнце идеальной полировкой нерусские машины, и даже не грузинские, и даже не узбекские. Неплохие машины… Вагин миновал низкие воротца. Ехал, лавируя меж нерусских машин. Навстречу ему спешил высокий мужчина в черном костюме, с маленькой аккуратной бабочкой у горла. Подошел. Загорелый. Улыбчивый. Пожал руку Вагину, воспитанно коснулся руки Лики, поклонившись, жестом позвал гостей за собой. Двинулся обратно к гостинице. Лика и Вагин — за ним. Держатся за руки. Как дети. Как в детском саду на прогулке. Швейцар им поклонился. Портье привстал, приветственно помахал рукой, лифтер поднял над головой сжатые замком ладошки — мир, дружба, пхай, пхай… Люди, что были в фойе, провожали их внимательными взглядами. Кто они такие, эти двое? Откуда? Зачем? Человек с бабочкой остановился перед высокими стеклянными дверями. Улыбался загадочно. И вот торжественно взмахнул руками, как дирижер перед оркестром, и опустил их плавно, и бесшумно открылись двери, и тотчас заиграла музыка — скрипки — и Вагин с Ликой переступили порог и попали в снежное царство: белые столы, белый потолок, белый пол, белые занавески, белые столики, белые стулья, белые тарелки, рюмки и фужеры словно изо льда, и белые цветы, и белые скрипки в руках музыкантов, и белые музыканты, и белые официанты… Только один метрдотель в черном. Так положено. Его должны видеть. Все. — Какой столик желаете? — спросил он Лику и Вагина. Склонился к Лике, добавил вполголоса: — Любой к вашим услугам. Они все заняты вами. — Какой столик желаете? — тихо-тихо повторило эхо. — Какой столик желаете? — подхватили официанты. Лика зажмурилась, крепче сжала руку Вагину, улыбалась безмятежно, открыла, наконец, глаза — светящиеся, — показала на столик у окна. Засуетились официанты, отодвинули стулья, смахнули с них невидимую пыль, усадили бережно единственных своих гостей, заспешили на кухню. К скрипкам подключился рояль, незаметно, легко, и слышно было, что они очень любят друг друга, скрипки и рояль. Шипело шампанское в льдисто-хрустальных бокалах, в сахарно-фарфоровых вазах сверкал изумрудом влажный виноград, розово светились бархатные персики, кровью отливала спелая вишня. Лика поцеловала ладонь, коснулась ею щеки Вагина. Смотрела на него. С Восторгом. И Болью. С Желаньем. И Страхом. Неужели правда? Неужели сказка сбылась? Этого не может быть. Этого не может быть. Хоть застрели из пистолета Макарова. Вагин не отпускает ее руку, целует, гладит ею свою щеку, губы, глаза. Одна бутылка шампанского уже выпита и унесена, на столе появляется другая, и снова шипит вино в бокалах. А закуска так и не тронута. Рдеют помидоры, масляно блестит икра, манит осетрина, и прочая, и прочая, и прочая… Нежатся в музыке скрипки с роялем. Черный метрдотель склоняется к самому уху Вагина, прикладывает руку к груди, что-то быстро показывая на дверь. Вагин не слышит поначалу, что ему говорит этот назойливый человек, он купается в ЕЕглазах. Потом морщится, начинает что-то понимать, кивает согласно. За стеклянными дверями, в фойе, толпится народ. Женщины, мужчины. Много иностранцев. Еще больше наших. Не иностранцев. Судя по виду, это фарцовщики, проститутки, рэкетиры, мошенники, воры, грабители, просто спекулянты и другие странные личности жуликовато-чиновничьего вида. Они галдят. Грязно ругаются. По-русски и по-английски, и на других разных языках, кто какой знает, стучат кулаками в стеклянные двери и вообще ведут себя неприлично. Лика и Вагин поднялись — и снова рука в руке — пошли за метрдотелем в сторону второго выхода. Двери, наконец, открыли. Толпа с гиканьем ворвалась в зал. Два официанта были сбиты с ног. Несколько столиков опрокинуты. Побиты тарелки, рюмки и фужеры. Ну а в целом все обошлось благополучно. Уже ночь. Уже светят звезды. Много звезд. Завтра будет славный день. Они лежали на траве и смотрели на небо. Долго смотрели. Так долго, что официант, который стоял неподалеку от них возле черного входа в ресторан, устал держать поднос с шампанским и, плюнув на приличия, поставил поднос на землю и закурил. Вагин повернулся к Лике, погладил ее лицо, поцеловал, прижал ее к себе, целовал сильнее, задыхался, ладонь его поползла по ноге женщины. Выше, выше… Она вскрикнула, не сдержавшись. — Погодь, — проговорил кто-то неподалеку. — Давай поглядим. Ща он ее трахать будет, — говорил с трудом. Язык тяжелый. Вагин, раздраженный, приподнялся на локте. За оградой стояли два мужика в расстегнутых белых рубахах и пялились на Вагина и Лику. — Не-а, — сказал второй, — не будут. — Будут, — настаивал на своем первый. — Я бы точно стал, — икнул. Вагин вынул пистолет и стал угрожающе подниматься. — Ааааа! — заголосили мужики и, спотыкаясь, убежали. — Ха-ха-ха! — посмеялся официант и закурил еще одну сигарету. Вагин сплюнул, сумрачный, недовольный, убрал пистолет, подал руку женщине.
Просторный гостиничный номер. Огромная кровать. Два толстых кресла. И повсюду свечи. Повсюду. На столике, на тумбочках, на шкафу, не телевизоре, на подоконнике. И все горят. Все. Вагин обнял женщину, расстегнул жакет на ней, коснулся ее груди, снял жакет, осторожно, медленно, прошуршал молнией юбки. Женщина осталась в одних белоснежных крохотных трусиках… За стеной кто-то застонал, громко, со сладкой истомой — женщина, потом проревел что-то мужчина, заныла кровать. Вагин скривился, злясь, оскалился, выдернул из кобуры пистолет, шагнул к двери. Лика повисла на нем. Смеялась. …Она опять не сдержалась, закричала, когда он вошел в нее. За стеной тотчас замолкли. Слушали. Пусть. Не надо стесняться радости. — Я люблю тебя, — сказал он потом. — Я люблю тебя, — сказала она потом. I love you. Je t’aime. Ti amo. Ich liebe dich. Uo te quieao.
Блеклый день. Будто пыль в воздухе клубится. Невесомо. Никак не осядет. Машина стояла у тротуара. По тротуару шли люди. Много людей. Очень. Тротуар был для них тесен. Они задевали друг друга плечами, руками, а некоторые даже умудрялись задевать друг друга и ногами. Поэтому самые нетерпеливые, а может быть, самые умные, спрыгивали с тротуара и шли по мостовой. А по мостовой ехали автомобили. Много автомобилей, хотя, конечно, меньше, чем людей на тротуаре. И эти самые автомобили иногда задевали людей, идущих по мостовой, и тогда самые нетерпеливые из людей, а может быть, и самые умные, вскакивали на тротуар и, помогая себе плечами, руками и ногами, решительно втискивались в плотный поток себе подобных… Они задевали друг друга руками, плечами, и даже ногами, и поэтому самые нетерпеливые из них, а может быть, самые умные, спрыгивали с тротуара и шли по мостовой… Машина стояла у тротуара. За рулем был Вагин. Он сидел, откинувшись на спинку сиденья, а ноги его располагались на передней панели, по обе стороны от руля. Так ему было удобно. Он вообще всегда стремился к тому, чтобы ему было удобно, и этим, в частности, отличался от подавляющего большинства людей, которые стремятся, чтобы им было неудобно. Вот такой был Вагин. Вот такой был. Вот такой. Вот. …Салон был до отказа набит сладкоголосым Томом Джонсом. Вагин слушал магнитофон. Громко. Семидесятые годы. «Естердей». Смотрел в одну точку перед машиной. Рассеянно. Стеклянно. Сигарета приклеилась к губе, висела невостребованно, слабо дымилась… А потом Вагин резко поднял руки, сдавил ладонями голову, съежил лицо, зажмурился, простонал коротко, стремительно выхватил из магнитофона кассету, с силой вышвырнул ее в окно. Чье-то равнодушное колесо наехало на кассету. Она хрустнула пластмассово. А Вагин оскалился, довольный, сказал: — Ха! В стекло кабины постучали легонько, ногтем. Вагин повернулся к тротуару, в окно заглядывал мужчина лет тридцати, весь джинсовый, в жокейской кепочке с длинным козырьком. Вагин открыл дверь, мужчина сел, сказал без особой радости: — Привет. — Здравствуй, Кобельков, — ответил Вагин, завел двигатель, тронулся с места. — Отчего так официально? — спросил Кобельков, посмотрел на себя в зеркальце заднего вида, натянул кепку поглубже. — Нравится мне твоя фамилия, Леша. — Вагин ловко влился в автомобильный поток. — Я бы с удовольствием и даже с гордостью носил бы такую фамилию. Она отражает нашу с тобой сущность. — Это точно, — согласился Кобельков. — Ты кобелек знатный. — Да и ты не промах, — весело отозвался Вагин. — Есть две вещи, ради которых стоит жить. Это работа и женщины. — И справедливость, — добавил Кобельков. — Несколько не из того смыслового ряда, — усмехнулся Вагин. — Но в общем верно. — Справедливость — это месть, — веско заметил Кобельков. — Так что из того ряда. Работа, женщины, месть. Вагин неожиданно затормозил. Машина замерла посреди мостовой. Автомобили загудели сзади, из окон высовывались водители, матерились. Вагин повернулся к Кобелькову, посмотрел на него внимательно, поискал что-то в лице его, неизвестно, нашел или нет, да неизвестно, что и искал-то, проговорил тихо: — Справедливость — это месть. Верно. Взялся снова за руль, включил передачу, поехал. Разогнался. Летел на сумасшедшей скорости. Смотрел вперед, хмурился туго, на скулах вдруг бугорки вспухли, побелели, руки крепко руль держали, очень крепко, пальцы словно высохли. С трудом отклеил ладони от руля, стер тонкий слой пота со лба, выговорил жестко: — Но месть — не всегда справедливость! — и крикнул вдруг, не сдержавшись: — Месть — не всегда справедливость! Ты понял?! Понял?! — Конечно, конечно, — опасливо косясь на Вагина, закивал Кобельков. — Конечно… Вагин сбросил скорость, вздохнул, выдохнул с шумом, морщась, потер рукой грудь, успокаиваясь, спросил коротко: — Ну? — Есть человек, который может вывести на Птицу, — начал Кобельков. — Кто? — Лева Дротик. — Слышал про него. Наркота? — Наркота, — кивнул Кобельков. — Но не только. Он помогает Птице сбывать рыжье и камни. — Хорошо, — одобрил Вагин. — Что на него? Кобельков вздохнул горестно: — Лучших дружков тебе отдаю… — Ну, ну! — торопил его Вагин. — Завтра Дротик принимает товар. Гастрольная команда из Харькова сдает. Героин. — Когда? Где? — В «Северном», часов в восемь. — Почему в кабаке? Почему не на хате? — Харьковские боятся, что Дротик их обует, стволы, каратисты, то, се… В кабаке безопасней. Народ. Менты. Да и оглядеться можно. — Хорошо, — сказал Вагин. Кобельков снова вздохнул. — Ну что еще? — Вагин полуобернулся к Кобелькову. — Ты его будешь брать? — Непременно. — Плакала моя доля… — запечалился Кобельков, пропел грустно: — Ах мой белый порошок, сладкие часочки… — Много? — спросил Вагин. — Тебе года на три роскошной жизни хватило бы. — Мне хватает и зарплаты, — сказал Вагин. — Дуракам всегда зарплаты хватает, — опрометчиво заметил Кобельков. И Вагин опять вдавил педаль тормоза. Застыл автомобиль в самой середине разгоряченного железного строя. Вагин ухватил Кобелькова за ворот куртки, притянул его к себе, выдавил, ярясь: — У меня материала хватит, чтобы вкатить тебе потолок. Но я этого делать не буду. Слишком жирно. Я пристрелю тебя. А труп сброшу в речку. С камушком на шее. И никто. Никогда. Тебя. Искать. Не станет! — Виноват, капитан, виноват, — испуганно зачастил Кобельков. — Вон! — тихо проговорил Вагин. Кобельков поспешно выбрался из машины. Гудели клаксоны. Неистовствовали водители. Подбежал «гаишник». Сухой. Строгий. Постучал жезлом по крыше, потребовал высокомерно: — Документы! — Да пошел ты на… — рявкнул Вагин и сорвал машину с места. С воем. И с визгом. Восхищаясь сам собой.
Вагин посмотрел на часы. Сощурился, что-то прикидывая. Потом сунул руки в карманы брюк. Огляделся. Тихая улица. Одинокие прохожие. И уж совсем редки автомобили. Проехали два-три, пока Вагин тут топчется. Зато много автомобилей у тротуаров. Стоят. Разные. Немало нерусских, и не узбекских, и не грузинских… Обыкновенные иностранные автомобили. Ничего особенного. Хотя и русских тоже хватает — «чайки», «жигули», «волги», «москвичи». «Запорожцев» нет. Владельцы автомобилей в ресторане. Ресторан называется «Северный». Он занимает два этажа старого толстостенного четырехэтажного дома. Широкая многоступенчатая лестница перед входом. Как перед дворцом каким. Влажно блестит — мытая. Тяжелые стеклянные двери. Прозрачные — ни пылинки. За ними просматривается фойе. Красные стены. Белые зеркала. Люди. И мужчины. И женщины. И все в вечернем, изящном, фирменном, складно сшитом, дорогом, в меру вольном, в меру строгом. Модный ресторан. Один такой во всем городе. И Вагин тоже модный. И, конечно же, один такой во всем городе. И он знает это. Сегодня он не в курточке, не в джинсиках, не в кроссовочках — нет. В темном, отлично посаженном костюме, в светлой сорочке, в дорогом галстуке. Голливудская звезда на вручении «Оскара». Да и только. Опять посмотрел на часы. Покрутил головой недовольно. И тут услышал приглушенное шипенье рации из микрофончика у воротника сорочки, а затем голосок, мужской: — Ты ждешь меня, дорогой? — Ты где? — тихо негодуя, выцедил Вагин. — Я спешу к тебе, милый! Лечу, лечу… — Не засоряй эфир, мать твою… — прогаркал Вагин. — Не засоряй эфир, мать твою, — эхом повторил голос. — Не засоряй… Вагин ухмыльнулся, не удержавшись. Через несколько минут возле Вагина тормознул «жигуленок». Вышел Патрик Иванов. В белом костюме. Ослепительный. С алым цветком в руках. Гвоздика. Улыбался снежно. Протянул цветок. — Это тебе, любимый! Это тебе! — Ты — душка, — хмыкнул Вагин. — Я знаю, — вздохнув, сказал Патрик Иванов. Оторвал у гвоздики длинный стебелек, пристроил цветок в петличке у Вагина. — Ты — душка, — томно заметил Патрик Иванов. — Я знаю, — не вздыхая, согласился Вагин. Они направились к ресторану. — Кстати, — Патрик Иванов остановился. Полез в карман, достал темные очки, несколько мгновений поколебавшись, надел их, проговорил, оправдываясь: — Чтоб не узнали. Вагин тоже полез в карман и тоже достал очки. Только не темные. С обычными простыми стеклами. Не колеблясь, надел их, проговорил, не оправдываясь: — Чтоб не узнали. Они посмотрели друг на друга и расхохотались. Патрик Иванов с легкой опаской, оглядываясь. Вагин без стеснения и без оглядки. Метрдотель был вислощекий и неповоротливый. Но обаятельный. — У вас заказано? — спросил оперативников как родных, встречая их у входа в зал. — У нас заказано, — ответил Вагин. — На фамилию Патрисов-Лумумбов. — Есть такая фамилия, — радостно воскликнул метрдотель, распахнул руки. — Прошу. Патрик Иванов обнажил крепкие влажные зубы: — Мальядец, мальчижка, карашо, ха-ха-ха! — потрепал метрдотеля по плечу. Метрдотель расплылся в ответной улыбке. Потом все вошли в зал. Зал был очень большой. Круглый. Красно-белый. Полутемный. С перегородками между столиками. С ярко высвеченной эстрадой. С просторной танцевальной площадкой перед ней. На эстраде играл оркестр и пела длинноволосая девица в сверкающем купальнике. На площадке танцевали пары, и мужчины, не отрываясь, смотрели на девицу в сверкающем купальнике. Метрдотель чуть отстал, коснулся локтя Вагина, кивнул на Патрика Иванова, спросил: — Из какой страны, если не секрет? — Какой уж тут секрет, — с готовностью откликнулся Вагин. — Из королевства на севере Африки. Идиотино-Дурко называется. Не слыхали, наверное? — Слыхал, а как же, — обиделся метрдотель. — Идиотино-Дурко, только вчера читал… Сели. Столик располагался в глубине зала. Как Вагин и просил. На двоих. Подошел официант. Высокий. Гнутый. С тонкими редкими усиками: — Водка, — сказал Патрик Иванов. — Зельедка. Икрушка. Черньяшка. И множко мьяска. — Он просит такую закуску, — сказал Вагин. — Селедку, икру, черного хлеба. И много горячего мяса. И водку, конечно. — Вы могли бы не переводить, — вежливо сказал официант, — я понял все, что он сказал. — Вы разговариваете по-африкански? — изумился Вагин.
Девица в купальнике бросила петь и принялась танцевать. Телодвижения ее были недвусмысленно призывны. Мужчины нервничали, топтали ноги своих партнерш. Вагин и Патрик Иванов разлили водку по стопкам, но пить не стали. Обошлись минеральной. Ели с аппетитом. Патрик Иванов вытер губы салфеткой. Закурил. — Теперь ответь, — сказал он, — почему мы пошли вдвоем? — Увидишь, — ответил Вагин. — Надо было брать бригаду… — Не надо, — сказал Вагин. — Я не понимаю, — злился Патрик Иванов. — Поймешь, — сказал Вагин. Улыбнулся кому-то. Тоже вытер губы салфеткой и тоже закурил. Опять улыбнулся. Патрик Иванов как бы невзначай обернулся. Заметил одну симпатичную даму, а затем и вторую за соседними столиками. Одна шатенка, другая брюнетка. Обе с мужчинами. Они улыбались Вагину. Не подозревая одна о другой. Заиграл оркестр. — Я сейчас, — сказал Вагин. Встал. Обе женщины поднялись ему навстречу. Вагин выбрал шатенку. Брюнетка села, смущенная. Патрик Иванов вскочил со стула, подошел к брюнетке, пригласил ее. — Я не танцую, — ответила она грубо. Мужчины за ее столом рассмеялись. Патрик Иванов прикусил губу. На деревянных ногах вернулся к своему столику. Вагин крепко прижимал к себе шатенку, что-то говорил ей на ухо. Она смеялась весело, откинув голову назад… Вагин опустился на стул, махнул рукой, сказал: — Наливай! Дротика пока нет. Патрик Иванов не шелохнулся. Тогда Вагин сам разлил минералку. — Моя мать была проститутка среднего пошиба, — сказал Патрик Иванов. — А отец негр. Занюханный, уродливый. Лентяй. Пьяница. И дебошир. Он бил мою мать, когда она была беременная. Хотел прикончить меня еще там, в утробе. Не удалось. Я все-таки родился. И вырос. И стал таким же уродом, как и папашка. — Он неожиданно подался вперед. Качнулась посуда на столе. — Я ведь не урод, Вагин, правда, ну скажи, правда?! Вагин сделал глоток минеральной, попросил: — Сними очки. Патрик Иванов покорно выполнил просьбу. Вагин внимательно оглядел его, заключил со всей серьезностью: — Ты очень симпатичный, — мягко накрыл своей ладонью его туго сжатый кулак. — Да пошел ты!.. — Патрик Иванов с силой отбросил вагинскую руку. На них обернулись с соседних столиков. — Тихо, — сказал Вагин, прищурившись и глядя за спину Патрику Иванову. — Они пришли. Лева Дротик был маленький, пухленький и носатый. Наверное, именно за этот нос, тонкий и длинный, вроде как у деревянного итальянского мальчика, веселые представители уголовно-преступного мира и нарекли пузатого Леву туземной кличкой Дротик. Костюм на Дротике был дорогой, но сидел плохо, галстук фирменный, но висел неважно, туфли из тончайшей кожи, но болтались на ступнях, как лапти на инвалидных костылях. Не умел Лева Дротик достойно носить приличный прикид. Но это, по всей видимости, нисколько не мешало ему самозабвенно любить себя. И он любил. Шествовал меж столиков, выпрямившись, с солидной неторопливостью, гордо вскинув нос. Важный. За ним вразвалку, ступая грузно и со значением, топали два здоровых парня. Плечи толстые, шеи короткие. Один начисто лысый, с простецким деревенским лицом, другой черноволосый, короткостриженный, широкоскулый, узкоглазый, то ли кореец, то ли монгол, то ли бурят, то ли… Телохранители. Подошли к шестиместному столику возле эстрады. За столиком трое. Загорелые, в светлых костюмах, пальцы в перстнях. Один из троих привстал, поприветствовал Дротика и его ребят. Руки не подал. — Видать, Дротик рассиживаться не будет, — заметил Вагин. — От водки отказался. От сигарет тоже. Возьмет товар и отвалит. Женщина за соседним столиком, та, с которой Вагин недавно танцевал, глядела на него во все глаза, улыбалась. Вагин ответил ей каменным взором. Женщина перестала улыбаться, обиделась, опустила глаза, заморгала часто. Как бы не расплакалась, глупая… — Нет, — возразил сам себе Вагин. — Уговорили-таки его на водку. Взял стопарь, стервец. Патрик Иванов не спеша обернулся, подтвердил: — Уговорили, — перевел взгляд на бутылку, стоящую перед ним, посмотрел на нее с сожалением, заметил резонно: — На водку кого хошь уговорить можно… — Я сейчас, — вдруг сказал Вагин. Поднялся. — Э!.. — Патрик Иванов попытался остановить его. Но Вагин уже шагал к двери. Вышел в фойе, отыскал глазами автомат. Направился к нему. Снял трубку. Набрал номер. — Это я, — сказал он. — Нет, — сказал он. — Ничего не случилось, — сказал он. — Просто так, — сказал он. — Я люблю тебя, — сказал он. Повесил трубку. Двинулся обратно в зал. Сел за стол. Налил минералки. Патрику Иванову и себе. Оперативники чокнулись фужерами. Выпили. — Попробуем обойтись без стрельбы, — начал Вагин. — Отсечешь бугаев. Коси под пьяного. Задерись. То да се. Как увидишь, что я Дротика поволок, отваливай как можно дальше. Через кухню, через сортир… Понял? Мне нужен только Дротик. Только он один. — Если только он сам понесет наркоту, — наконец разобрался в ситуации Патрик Иванов. — Понесет сам, — жестко проговорил Вагин. Потер щеку, морщась. — Должен. Наконец Дротик поднялся. А за ним и здоровяки. Сосредоточенные, хмурые. Шарят цепкими глазками по крепким харьковским ребятам, тщетно вычислить пытаются, не замыслили ли чего подлого эти чернобровые парубки против маленького Дротика. А харьковские знай себе улыбаются, пьют водочку и хвастливо перстнями сверкают. Дротик царственно кивнул им, прощаясь, пошел по залу. Здоровяки за ним двинулись. Вагин даже привстал, разглядывая Дротика и здоровяков. Опустился на стул с размаху, вскрикнул сдавленно, радуясь: — Сам несет! — добавил, подумав: — Сука!
Патрик Иванов никак не мог справиться со стеклянной входной дверью. Не поддавалась она ему, ослабленному алкоголем, куревом и несладкой негритянской жизнью. — Отойди, — брезгливо сказал один из здоровяков. — Вас ист дас? — по-иностранному поинтересовался Патрик Иванов. Лысый оттолкнул его. Патрик Иванов обиделся и ударил Лысого по носу. Коротко и сильно. Лысый отшатнулся. Едва удержался на ногах. — Вас ист дас? — продолжал кричать по-иностранному Патрик Иванов. Отбил один удар Корейца. Но только один — второй достал его. Патрик Иванов отлетел метра на два, упал на холодный кафельный пол. Но тут же вскочил, кричал истерично: — Я есть гражданин иностранной держафа! Лысый и Кореец медленно и неотвратимо надвигались на него. Патрик Иванов отступал. Лысый и Кореец надвигались. Патрик Иванов отступал… Лева Дротик замер у двери, бледный, напуганный, покинутый, жалкий. — Эй, — выдохнул он слабо, махнул рукой в сторону здоровяков. Бесполезно. Огляделся. Людей в фойе много. И все с любопытством за дракой наблюдают. И никому нет никакого дела до напуганного Дротика. Значит, не харьковские это балуют, значит, случайность, значит, просто пьяный негр безобразничает. Ох уж эти нахальные цветные!.. Дротик кивнул сам себе, открыл с легкостью, неподвластной Патрику Иванову, стеклянные двери и вышел на площадку перед входом, отыскал глазами свою машину, хотел ступить в ее сторону… Вагин сунул ему пистолет в глаз, ухватил руку с кейсом, сказал тихо: — Не рыпайся, Лева! Милиция! Пошли… Больно ткнул его стволом — Дротик сморщился плаксиво, засеменил покорно рядом с Вагиным.
…Патрик Иванов пяткой попал Корейцу в лоб — Кореец упал удивленный, — развернулся к Лысому. Поздно. Чугунный кулак Лысого опустился Патрику Иванову на самое темечко… Вагин не успел дотащить Дротика до своей машины. Сзади грохнул выстрел. Вагин повалил Дротика и сам упал рядом с ним. Обернулся. Выстрелил на звук. Быстро-быстро пополз с тротуара за машины. Тянул за собой визжащего Дротика. Выпрямился, используя как прикрытие новенький сверкающий «мерседес». Кореец несся по лестнице. Вниз. Тоже пытался добраться до машин. В руке пистолет. На тротуаре и на лестнице люди. Стоят. Недвижные. Заледенели. Онемели. — Всем лечь! — заорал Вагин. — Всем лечь! Выстрелил три раза подряд в Корейца. Попал. Корейца отбросило вбок. Он упал тяжело. Затих. Дротик непроизвольно, от испуга, попытался вырваться, Вагин двинул его рукояткой пистолета по уху. Дротик все понял. Успокоился. Вагин снова выглянул. Где же Лысый? Тот не заставил себя ждать. Со стороны двери грохотнул выстрел. Второй. Третий. Вдребезги разлетелись стекла «мерседеса». Лысый лежал на самом верху широкой лестницы, на площадке перед входной дверью, то есть он был метра на два выше уровня мостовой, на которой стоял Вагин. Пулей Лысого не достать. Но Вагин все же выстрелил для острастки пару раз. Мимо, конечно. Лысый ответил. С тонким металлическим звоном пуля прошила дверцу «мерседеса». Вагин пригнулся и, прячась за машинами, неуклюже двинулся в сторону своих «Жигулей». Дротик то и дело падал. Вагин, матерясь, тащил его за собой. Вот и машина. Вагин отпер дверцу, впихнул Дротика в кабину. Сел сам. Дротик, обезумевший, попытался открыть другую дверцу. Вагин снова трахнул его рукояткой пистолета по голове. Дротик обмяк. — Сто третий, — переводя дыхание, проговорил Вагин в микрофон рации. — Сто третий! Как слышите меня?! Патрик, как слышишь меня?! Эфир умер. Вагин завел двигатель, вырулил на тротуар, газанул мощно, погнал машину прямо в сторону лестницы. Глухо и тяжело ударились колеса о первую ступеньку. Машина полетела наверх. Дребезжала отчаянно. Лысый вскочил на ноги, выстрелил. Пуля с треском пробила лобовое стекло. Вагин придавил педаль к полу. Машина, как живая, прыгнула вперед, вбила Лысого в стеклянные двери. Стекло раскололось, посыпались осколки на каменный пол. Вагин выскочил из машины. Подбежал к Лысому. Огромный кусок стекла рассек Лысому горло. Кровь льет изо рта, из носа. Обильно. Глаза остановились, мутные. Вперились в Вагина, спрашивают: «Когда же твоя очередь, гад?!» Вагин вытащил из машины Дротика, ткнул его головой в мертвое лицо Лысого, просипел осевшим вдруг голосом: — Видишь, сука, как я умею! Видишь?! Дротик, зажмурившись, закивал головой. — Мне нужен Птица! Понял?! Птица! — Вагин вмял ему ствол пистолета в нос. — Он таится даже от меня. Я не знаю, где он дохнет, — вздрагивая, заговорил Дротик. — Но в воскресенье его ребята… Убери ствол, больно… Его ребята на Инвалидном рынке примут для него морфий… Ростовский… Я подскажу, как выйти на того, кто привезет, на этого ростовского парня. Птица только морфий уважает… Отпусти… Больно… Тошнит…
Вагин старательно расставлял деревянные фигурки на шахматной доске. Весь этому важному делу отдался. Ровнял фигурки чуть ли не до миллиметра, ставя их точно посередине клеточки, оглаживал их, словно живых, кивал одобрительно, что-то бормотал ласковое под нос, когда ладьи, ферзи и лошадки становились точно там, где он и хотел. Но ставил он их не в два ряда с каждой стороны, со стороны белых и со стороны черных — как это вообще-то водится, а в один ряд и белых, и черных — без пешек. Расставил-таки. Вздохнул свободно. Выпрямился. Выгнулся. Потянулся. И без подготовки упруго щелкнул пальцем по ладье. Фигурка, кувыркаясь, полетела вперед и с ходу снесла с доски три черные фигурки. Шахматы рассыпались по разным концам стола. Вагин радостно захлопал в ладоши. Дверь распахнулась шумно, и в кабинет быстро вошел высокий мужчина в форме подполковника милиции. Лицо длинное, бледное, волосы черные, короткие, приглажены один к одному, блестят, словно только что водой смоченные. Сел на угол стола, заговорил напористо: — Прокуратура разбирает вчерашнюю стрельбу. Недовольны твоим рапортом. Хреновый рапорт. Перепиши. Подробно, до минуты. С самого начала. И главное, почему задерживали вооруженных преступников вдвоем. Понял? Вагин щелкнул по коню, конь процокал по доске и сшиб еще двоих черных мерзавцев. Вагин опять зааплодировал себе. Веселился. Подполковник устало вздохнул, потер рукой лицо, будто умылся, произнес тихо: — Я очень благодарен тебе, Вагин, за сына. За то, что ты вытащил его тогда из дерьма. — Он подался вперед. — Но я уже отдал тебе долг! Отдал! Я не раз тебя выручал, но больше не могу. Не могу! Есть предел! — он соскочил со стола, прошелся по комнате, руки в карманах брюк. — Я понимаю, почему вы пошли с Ивановым, вдвоем. Ты хотел пострелять вволю, понимаю, хотел быстро расколоть Дротика, потому что при наличии группы захвата он бы находился под их защитой, как это ни парадоксально, и ты не смог бы тыкать ему пистолетом в нос и орать на ухо всякие ужасы. Понимаю. Но это не метод! Это черт знает что, но только не метод… Именно за такую работу тебя выгнали из Москвы. Понизили в должности. Именно за такую! А тебе хоть бы хрен! Ты всего лишь два месяца у нас, а уже… — подполковник не договорил, махнул безнадежно рукой. Вагин ферзем сбил еще двух черных гадов. Вскинул победно кулак вверх. Подполковник неожиданно склонился над столом и, задыхаясь от негодования, сбросил со стола шахматную доску. С деревянным треском доска грохнулась о стену. Подполковник поднес палец к носу Вагина, выдохнул тяжело: — Последний раз! Вышел, с силой захлопнув дверь за собой. Вагин откинулся на спинку стула, закрыл глаза, улыбнулся безмятежно.
В комнате полумрак. За окном светятся уличные фонари. Свет от них падает на стол. На столе бутылки. В них дорогие напитки. Вкусные. Виски. Джин. Несоветское шампанское. Несколько пачек иностранных сигарет. Почти нетронутая закуска. Икра. Икра. Икра. Икра… ' Конфеты. Тихо мурлычет Хулио Иглесиас. Интимно. Свет от уличного фонаря освещает и кровать, стоящую рядом со столом. На кровати двое. Целуются самозабвенно, возбужденно стонут, вскрикивают сладко, обнаженные, жаркие, истовые… Это Патрик Иванов и Оля. Та самая Оля, что работает в информационном центре, и которая Вагину злодея с помощью компьютера отыскала. — Еще! Еще… — в забытьи громко шепчет Оля. — Еще! Не останавливайся! Не останавливайся, Вагин! Не останавливайся, Санечка… Патрик Иванов замер тотчас. Приподнялся над Олей, спросил четко и ясно: — Кто? — ударил Олю по щеке. Женщина вскрикнула испуганно. Патрик Иванов поднялся. Потянул за собой Олю. Опять ударил ее. Сильнее. Оля заплакала. Патрик Иванов нашел ее одежду, швырнул женщине. Пока она одевалась, курил. Голый. Потный. Открыл дверь, вытолкнул Олю из квартиры. В ночь. Вернулся. Зажег свет. Достал из тумбочки кобуру с пистолетом. Вынул пистолет, взвел курок, подошел к кровати, направил ствол на подушку. — Вагин? — спросил вкрадчиво и, якобы услышав утвердительный ответ, приказал зло: — Поднимайся, гнида! Повел стволом, вроде как за поднявшимся Вагиным, скомандовал: — Лицом к стене! Приставил ствол к воображаемому затылку Вагина. Задрожал палец на курке. Патрик Иванов закрыл глаза, заморщинилось его лицо… Он откинул пистолет в сторону. Заныл тонко и протяжно…
Белое небо. Белые облака. Белое солнце. Белая река. Белый песок. Жарко. ЖАРКО. Лика и Вагин плывут рядом. Быстро. Умело. Они уже на середине реки. Останавливаются. Лика обнимает Вагина за шею, целует его. Вагин отвечает горячо. Прижимает крепко женщину к себе. Какие-то секунды они не могут удержаться на плаву и уходят под воду, с головой. Выныривают, отфыркиваются, хохочут. …На каленом сухом песке пляжа Вагин показывает Лике приемы рукопашного боя. Лика держится стойко, будто не в новинку ей все это. А потом и вовсе пытается лихой подсечкой сбить Вагина с ног. Вагин таращится на нее удивленно. Лика смеется. Опять ныряет в воду. Вагин за ней…
Уже сумерки. Город затих. Успокоился. Отдыхает в вечерней прохладе. Остывает от зноя. Остывают воспаленные дома. Остывают обожженные мостовые. Остывают расплавленные тротуары. Остывает вагинская машина. Остывает Лика. Остывает Вагин. Остывают гоп-стопники. Остывают марвихеры. Остывают щипачи. Остывают «отмороженные». Остывают паханы. Остывают проститутки. Остывают честные люди. Остывает земля. Остывает небо. Вагин остановил автомобиль у тротуара. Бесшумно. Плавно. Вышел, захватив сумки. Свободной рукой обнял Лику. Поцеловал ее в губы, нежно, наслаждаясь. Не стеснялся прохожих, соседей на балконах. Они вошли в подъезд. Поднялись по лестнице. Вагин отпер дверь своей квартиры. Пропустил женщину вперед. — Кофе? — спросил, кинув сумки в прихожей. — Чай? — Лед, — сказала Лика. — Лед. И еще раз лед… — Хорошо, — согласился Вагин и пошел на кухню. Лика вошла в комнату. Зажгла настольную лампу, стоящую на широком подоконнике. Огляделась. Подобрала с пола газеты, журналы, опустила их на журнальный столик, потом подняла пепельницу, полную окурков и ее поставила на столик, потом подхватила — тоже с пола — скомканные джинсы, аккуратно положила на широкую двухспальную кровать. Села на кровать, тут же рядом с джинсами, потом осторожно легла на спину — спина горит, болит, потом все-таки опять села, а потом и вовсе встала, подошла к столику, взяла пачку сигарет из сумки, закурила, присела на краешек кресла, чтобы обожженной спиной не касаться сиденья, а потом снова поднялась, подошла к письменному столу, взяла кассету из кассетника, вставила в магнитофон, нажала клавишу. Пел Том Джонс. «Естердей». Лика слушала какое-то время, тихо улыбаясь. Затем прокрутила кассету дальше. Опять «Естердей». Дальше. «Естердей». Лика перевернула кассету. «Естердей». Лика нахмурилась, потерла висок, будто боль унимая. Взяла из кассетницы еще одну кассету. «Естердей». Прокрутила дальше. «Естердей». Следующая кассета. «Естердей». Другая сторона. «Естердей». Четвертая кассета. «Естердей». Вторая сторона. «Естердей»… Лика сдалась. Стояла неподвижно, глаза рукой прикрыв. Слушала Тома Джонса. Крошилась сигарета меж пальцев. Но продолжала дымиться. Она не видела, как в дверях появился Вагин. Он тоже слушал. И глаза его тоже были закрыты, сжаты, сдавлены. Шевелились губы, ломко, дерганно. Вагин стремительно подошел к магнитофону, вырвал кассету, со всего размаха швырнул ее в окно, оперся руками на подоконник, дышал прерывисто. Лика подошла сзади, обняла его, положила голову ему на спину. — Мне было тогда двадцать два года, — сказал Вагин. — Я заканчивал филфак в Москве, в университете. После четвертого курса приехал на каникулы домой. Сюда. В наш город. Купался. Загорал. Гулял с барышнями. Как-то возвращался домой. Днем. Ехал в лифте вдвоем с соседом. Вышли мы на нашем этаже. Видим, из моей двери замок выдран и на косяке белеет скол. Большой. Длинный. Сосед говорит, я в милицию позвоню. Я говорю, давай, а сам в квартиру. Сосед держит меня, умоляет не входить. «Убьют», — шепчет испуганно, а я рвусь, чего мне бояться, говорю: «Я каратист». Молодой дурак, — Вагин слабо усмехнулся. — Вхожу. В гостиной стоит малый и запихивает в сумку хрусталь, магнитофон, еще чего-то. Увидел меня. Не испугался. Сумку не выпустил. «Хозяин?» — спрашивает. — «Хозяин», — отвечаю. — «Нескладно вышло», — говорит, сокрушенно головой качает. — «Да уж куда складней», — соглашаюсь я, — «уж куда складней». И тут мы рассмеялись. Понимаешь? Расхохотались. Ровесники почти ведь. Ну, года на четыре он постарше. Понравился он мне. Понимаешь? Сильный, обаятельный, красивый. Глаза добрые. Ну, понравился и все тут… Вор был высокий, стройный. На ногах джинсы тертые, на плечах светлая курточка. Студент да и только. Опустил сумку на пол, усмехнулся, сказал: — Понимаешь, старик, я только-только откинулся. Без бабок, без жилья. На работу не берут. Голодный. Сирый. Вчера кореш из петли вынул. Еще чуть-чуть, и кранты мне… — Вешался?.. — растерянно спросил молодой Вагин. Вор кивнул, провел рукой по глазам, словно слезу смахивая. — Я могу вам чем-то помочь? — спросил Вагин, засуетился вдруг: — Может, вы кушать хотите? Я сейчас. — Нет, старик, — остановил его вор. — Я пойду, пожалуй. Не успел. В дверях стояли два милиционера с пистолетами. — Это мой друг, — сказал Вагин. — Он пришел в гости. Позвонил. Меня нет дома. Толкнул дверь. Она сломалась. Вор с плохо скрытым удивлением посмотрел на Вагина. Повернулся к милиционерам, кивнул утвердительно, мол, так оно и было. — Он тебе друг, — сказали милиционеры с пистолетами, — но истина дороже. И повели Вагина и вора в отделение милиции… — Разобрались, — продолжал Вагин. — Оперативники качали головами. Твердили, что я дурак. Но парня — его звали Леша — задерживать не стали. Не было оснований… Я попросил отца устроить Алексея на работу к себе в институт, слесарем. Отец был тогда замдиректора НИИ. Он помог. Но через пару дней Лешка перестал ходить на работу.
…Забегаловка на берегу реки. Открытая. Столики под зонтиками. Ветер. Прохладно. За одним из столов расположились несколько человек. Среди них Вагин и Леша. Пьют. Едят. На столе всего полно. Водка. Коньяк. Пиво. Шашлыки. Леша обнимает Вагина, горячо говорит ему в самое ухо: — Ну не могу, брат, эту работу делать. Скучно. Не мое. А вокруг не люди — бараны. Смурные. Злючие. Я, брат, веселье люблю. И смелых ребят. Вот этих, таких, как эти, например, — он кивнул в сторону своей компании. А «ребята» все друг на друга похожи, словно из одной шкатулочки выскочили. Глаза шалые, но цепкие. Кривоватые ухмылочки… — Настоящий вор не должен работать, — сказал один «из шкатулочки», потряс пальцем назидательно. — Закон! Вагин поднялся, пошел прочь. — Дурак! — Леша замахнулся на говорившего. Тот отпрянул.
…Вагин лежал на диване. Читал. Из открытого окна послышался свист. Вагин встал. Подошел к окну. Внизу, во дворе — Лешка. Машет рукой. Мол, давай, спускайся. Веселый. Довольный. Улыбается во весь рот. Вагин неохотно собрался. Вышел. Рядом с Лешкой новенький мотоцикл. — Вот, — сказал Лешка и звонко хлопнул по сиденью мотоцикла. — Твой. — Ты с ума сошел, — отмахнулся Вагин. — Твой, — настаивал Лешка. Хмурился. Злился. — Не могу, — сказал Вагин. — Откуда такие деньги? Ты их… Не договорил. Лешка перебил его. — Обидеть хочешь? — подошел вплотную. — Лучшего друга обидеть хочешь?
…Мотоцикл несется по шоссе. Впереди за рулем Вагин. Сзади Лешка. Поет что-то блатное, разухабистое…
Вагин и Лика сидели в креслах. Друг против друга. — Я тогда с одной барышней встречался, — продолжал Вагин, — влюблен был. По уши. В первый раз. Лешка знал, естественно, об этом. И позвал нас как-то с Катей в одну компанию. Мы пришли… Квартира. Большая комната. Стол. Диван. Стулья. Магнитофон. Там был Лешка. Два брата Юдахиных и один шкет по кличке Комар. Сначала все нормально было. А потом они захмелели. Круто.
…Юдахины были похожи. Круглолицые. Широкогрудые. Рукастые. Лица вмятые, словно по ним кто-то упорно сковородкой молотил. Тот, что постарше, коротковолосый, тот, что помоложе, с волосами до плеч. На их фоне Комар выглядел жалко и смешно. Тощий, длинный, унылый. Лешка глянул на Катю мутно, невидяще, голова покачивается, словно с трудом держит ее некогда крепкая шея, цыкнул зубом, сказал: — Ну что, брат, у друзей принято делиться. Так? — сам себе ответил. — Так. Так что придется поделиться, девкой-то. А то я смотрю, ребята уже спермой исходят. — Спросил, полуобернувшись к братьям Юдахиным и Комару. — Исходите спермой-то? «Ребята» кивнули неровно. — Вот видишь, — удовлетворенно констатировал Лешка. — Исходят. Так что скажи девке, чтоб не рыпалась… Вагин вскочил со стула. — Да ты что, Леха? — крикнул. — Да ты что, брат?! — Сидеть! — рявкнул Лешка, грохнул кулаком по столу. Повалились бутылки и стаканы. Водка разлилась, потек тонкий ручеек со стола на пол, на кроссовки Вагину, на колени Кате. Девочка сидела, не шевелясь. Глаза открыты, застыли, ледяные, только побелевшие губы вздрагивают. — Лешка, ты что? Лешка? — повторял Вагин. Братья Юдахины поднялись, откинули стулья, обошли стол улыбаясь, стали приближаться к девочке. — Стоять! — рванулся вперед Вагин. Пяткой двинул Юдахину-старшему в грудь. Тот отлетел назад, споткнулся о стул, упал. Юдахин-младший в свою очередь ткнул Вагина кулаком в нос. Вагин не успел отреагировать. Взвыл от боли. Ответил двумя короткими ударами. Юдахин-младший вынул нож. Катя завизжала, закрыв ладошками уши. — Ладно, — сказал Лешка, допил свой наполовину наполненный стакан. — Справедливость превыше всего. Не хочет девкой делиться, не надо. Но тогда пусть сам ее заменит. Встал нетвердо. Решительный. Мрачный. — Что? — не понял Вагин, попятился к стене. Юдахин-младший стал расстегивать брюки. Дошло до Вагина наконец. — Так нельзя, — выдохнул он слабо. — Так нельзя… — вытянул руки умоляюще. — Так нельзя… Лешка засмеялся. А за ним и братья Юдахины, и Комар. Пел Том Джонс. Семидесятые годы. «Естердей». Плечом к плечу пошли «ребята» на Вагина. Вагин заорал зверино, слюной брызгая, рванулся вперед. Комар ударил его бутылкой по голове. Бутылка разлетелась вдребезги. Комар засмеялся тонко, радуясь. Вагин рухнул ничком на стол, вязкие черные ручейки потекли по его лицу. Лешка спустил с него джинсы, расстегнул свои брюки, чертыхнулся. — Не стоит, — проворчал, стал манипулировать руками у себя меж ног. Юдахин-старший рассмеялся. — На такую задницу и не стоит. Стареешь, Леха! У меня всегда готов. Сорвал брюки. Продемонстрировал. Комар хихикал и поглядывал на девочку. Катя раскачивалась из стороны в сторону, выла однотонно. — Оп! — выкрикнул Леха, навалившись на Вагина, стал тереться о его голые ягодицы, комментировал: — Сейчас, сейчас, сейчас… вот, вот… кончаю! — Стонал. Отступил назад, удовлетворенный. И тут же вперед кинулся Юдахин-старший. Приговаривая: — Какой чудный петушок! Какой нежный петушок! Комар задрал Кате юбку. — Убери лапы! — гаркнул Лешка. — Справедливость превыше всего. После Юдахина-старшего настала очередь Юдахина-младшего, а потом и Комар отметился, нехотя, морщась. А Леха выпил еще водки, прямо из горла. И тотчас взвыл отчаянно, перевернул стол, обломал стулья об пол, искромсал ножом диван. Только магнитофон не тронул. Пел Том Джонс. «Естердей». Леха лежал на полу, смотрел в потолок. Плевал вверх. Упадет слюна на лицо или мимо пролетит. Упадет — не упадет…
Вагин стучал кулаками по коленям. Истово. Больно. Говорил, с трудом сдерживаясь: — Я их ненавижу! Ненавижу! Всех! Всю уголовную мразь! Дерьмо! Ублюдки! Нелюди! Это нелюди! Никаких понятий чести! Честности! Любви! Дружбы! Их надо убивать! Убивать! Убивать!.. Лика села на пол перед ним, прижала его кулаки к своим щекам, поцеловала один, второй, разжала пальцы, поцеловала его ладони. Поднялась, забралась к нему на колени, прижала его голову к своей груди. Он перестал дрожать. Успокоился. Затих. И тогда Лика сказала негромко: — А представь, если бы я была… — не договорила, умолкла. — Что? — не понял Вагин. — Ничего, — сказала Лика, тихонько стучала костяшками пальцев себя по лбу, мол, дура я, дура, дура… — Ничего, — поцеловала его волосы, — ничего. Вагин погладил ее руку, коснулся гладкой кожи губами. — Ты знаешь, — серьезно сказал он. — С тех пор, как появилась ты, они мне больше не снятся. Ни Лешка. Ни Юдахины. Ни Комар. — Я знаю, — кивнула Лика. — Через несколько дней я уехал, — возвратился Вагин к рассказу. — Лешку убили осенью в пьяной драке. А Катя вышла за меня замуж. Но уже через полгода мы расстались. Она говорила, что никак не может отделаться от ощущения, что спит с женщиной. Лика целовала его лицо. Потом целовала грудь. Потом сняла с него рубашку, джинсы. Потянула за собой на кровать, повторяла: — Ты самый настоящий мужчина! Ты самый лучший мужчина! Ты самый красивый мужчина! Ты мужчина! Мужчина!
Ужинали они в кафе. Стены из прокопченного камня. На стенах свечи. Пианист за роялем. Скрипач бродит меж столиков. Официанты кивают Вагину. Знают его здесь. — Я очень долго тебя не видел, — сказал Вагин. — Целых два часа. — А мне повезло, — сказала Лика. — Я разглядывала тебя целых два часа. Ты очень красиво спишь. — Разве можно спать красиво или некрасиво? — Можно. Ты спишь красиво. — Я чувствовал тебя рядом. Но ты мне почему-то не приснилась. — Тебе снилась река. И ты плыл по ней. По течению. Без усилий. И тебе было легко и покойно. — Да. Мне снилась река. И я плыл по ней. А откуда ты знаешь? — А потом река влилась в море. Тихое, чистое, прозрачное. Бесконечное. А по морю шли корабли под парусами. Они бесшумно скользили по воде тебе навстречу. И на кораблях плыли твои близкие и друзья. На одном из кораблей была и я. Но ты меня не видел. — Не видел. Я знал, что ты там. Но не видел. Господи, откуда ты знаешь мой сон? Откуда? — А потом… Прости, но я буду говорить все, как было… Все, как видел ты. — Конечно. Говори все… — А потом корабли стали тонуть. Ни с того, ни с сего, как это бывает во сне. И люди кричали. Цеплялись за обломки. И ты спасал их. Нырял. Тащил их за одежду, за волосы. Кидал в шлюпки. Толкал к берегу. А берег далеко. Далеко. А потом ты проснулся. И я не могу сказать, спас ты их или нет. — И я не могу. Потому что я проснулся. Но откуда ты знаешь мой сон? Откуда? — Я лежала рядом, касалась твоей головы и видела его вместе с тобой. Не спала. Но все-все видела. Вагин заметил, что метрдотель делает ему какие-то знаки. Встал. Извинился перед Ликой. Подошел. — Ты необессудь, — сказал метрдотель. Розовощекий. Добродушный. — Я могу ошибаться. Но я уже видел эту даму. Тогда, когда нас грабили весной. Она сидела в зале. Одна. Без компании. Без спутника. А Боря-официант видел ее в «Комете» во время налета. Я прав? Вагин не ответил. Вернулся к столу. Сел. — Я люблю тебя, — сказал он. — Я люблю тебя, — сказала она. Я тебя люблю. Тебя я люблю. Люблю я тебя. Тебя люблю я. Люблю тебя я. Я. Тебя. Люблю.
Вагин небрит. Уже не день. Не два. Три. На щеках у него густая, черная щетина. Она ему идет. Она его красит. Жестче сделался рот, контрастней обрисовались глаза, уверенней взгляд, неуверенней взгляд, или, вернее, спокойней взгляд, беспокойней взгляд, или, вернее, так — что-то изменилось во взгляде. Что-то. За эти три дня, пока росла щетина? Нет, раньше. Чуть пораньше. Это точно. Ноги Вагина как всегда, когда он в машине и не за рулем, покоятся на передней панели. Он курит. Отдыхает. Расслабляется. Откинулся на спинку сиденья. Рядом за рулем Патрик Иванов. На заднем сиденье оперативник с боксерским лицом — нос перебит, губы расплющены, уши прижаты — все как положено. Машина таится в тихом переулке. Тенистом. Полутемном. Темном. А меж домами синее небо. Чистое. Далекое. Не допрыгнуть. В обоих концах переулка люди. Там двое. И там двое. Ходят. Стоят. Переговариваются. Это тоже оперативники. Коллеги Вагина и Патрика Иванова. — Ну, я пошел, — сказал Вагин. Но с места не сдвинулся. — Иди, — не возражал Патрик Иванов. — Пора, — сказал Вагин. Затянулся глубоко. — Пора, — кивнул Патрик Иванов. — Время, — сказал Вагин. Поерзал на кресле, устраиваясь поудобней. — Время, — согласился Патрик Иванов. — Без пяти восемь. — Ты все помнишь? — спросил Вагин. — Все, — ответил Патрик Иванов. — Я тебе не верю, — сказал Вагин. Патрик Иванов вздохнул нарочито тяжело, заговорил с нескрываемым неудовольствием, монотонно, заученно: — Если ты вернешься цел и невредим — замечательно. Мы пойдем с тобой пить водку. Если ты выйдешь с рынка не один и будешь без шапки — мы всех винтим. Если в шапке, но киваешь — мы всех винтим. Если в шапке, но не киваешь, а подмигиваешь, мы всех опять-таки винтим. Если ничего этого не делаешь, то мы никого не винтим, а тихонечко пропасаем тебя и всех остальных. — Вот теперь я верю тебе, — со всей серьезностью произнес Вагин. — Авантюра, — сказал Патрик Иванов. — Полицейская сказка. Американское кино с Мелом Джибсоном. Плюс ко всему тебя могут проколоть, несмотря на то, что ты всего два месяца в городе. Они ребята ушлые. Плотно пропасли бы их, и все. — Кого? — усмехнулся Вагин. — Кто приведет к Птице? Их может быть много. И каждого пасти? Бессмысленно. А так я хоть чего-то узнаю. Хоть чего-то. Закинул руки назад. Выгнулся. Потянулся, сказал: — Я пошел, — но продолжал сидеть. — Я пошел… — Иди, — не возражал Патрик Иванов. — Иди. Иди. Иди… Вагин наконец выбрался из машины. — Да, кстати, — остановил его Патрик Иванов. Вагин пригнулся, заглянул в кабину. — Мой человек шепнул, что Птица в этой команде не основной. Там верховодит баба. Всегда присутствует при налетах. Наблюдает. Иногда участвует. Кличка «Маркиза ангелов». Помнишь, была чудесная книжка «Анжелика — маркиза ангелов»? Вагин кивнул молча. Выпрямился. Побрел по переулку. Сутулился. Патрик Иванов, не отрываясь, смотрел ему в спину. Долго. Пока тот не скрылся за пыльным буро-черным каменным углом.
Рынок встретил гомоном и пестроцветьем. Голосили все, кому не лень, на разные лады и с удовольствием, и продавцы и покупатели, и воробьи и дети, и магнитофоны и милиционеры, и кошки и мышки, и букашки, и таракашки… На всех языках почти — аварском, шведском, суахили, командирском, грузинском, французском, зверячьем, древнегреческом и, что самое поразительное, даже на русском… Палатки красочные, продавцы в них яркие, все — в дорогом, по прилавку товары разложены, цветастые, манят. Покупатели тоже в дорогом, но не все — невеликая часть, остальные, а их, понятное дело, большинство, поплоше будут, но гордые, деньги не считают, когда достают, а достают редко, магнитофоны фирменные, милиционеры в мундирах, кошки в сером, рыжем, белом, в грязном; на собачках в основном гладкошерстные одежки, на мышках — бархатные, таракашки и букашки голяком шныряют, бесстыжие… Вагин отыскал телефон-автомат, вошел в будку, стал крутить диск. — Это я, — сказал. — Нет, — сказал. — Просто так, — сказал. Спросил: — Ты не одна? — спросил. — Ах, телевизор, — засмеялся. — Ах, ты рисуешь… — засмеялся. — Я люблю тебя, — сказал. Повесил трубку. Пошел дальше. Павильон «Картофель». Деревянный. Длинный. Закрыт. Наглухо. Засов. Замок. Теперь овощами-фруктами на этом рынке не торгуют. Торгуют на другом. Вагин встал возле закрытой двери. Огляделся. Из толпы вынырнул высокий крутоплечий парень. Тяжелолицый. Лобастый. Равнодушный. Остановился рядом с Вагиным, спросил тихо, лениво: — Кого-то ждешь? — Наверное, тебя, — ответил Вагин, тоже тихо и тоже лениво, смотрел на парня усмешливо, мол, захочу и скушаю тебя, мясистого и калорийного. Но пока не хочу. — Яша Черномор передает привет из славного города Ростова. — Пошли, — парень завернул за угол павильона, зашагал вдоль крашеной дощатой стены. Вагин поплелся следом. Парень остановился возле противоположного торца павильона. У маленькой дверцы. Постучался. Хитро. Три коротких, два длинных. Очень хитро. Дверца отворилась бесшумно. В глубине, в темноте — бородатый детина, пригибается, чтоб гостей разглядеть. — Это ты, Лоб? — прищурился. — Ты очень догадливый, Гном, — ответил Лоб. — Это я. — А это? — Гном указал пальцем на Вагина. — А это не я, — сообщил Лоб и подтолкнул Вагина вперед. Вагин переступил порог. — Не понимаю, — Гном насупил брови. Но посторонился. — Это и впрямь очень сложно для тебя, — заметил Лоб, открывая вторую дверь. За дверью, как и следовало ожидать, совсем и не картофель. И в помине нет. И ни намека. За дверью очень просторная комната. Стены обстоятельно мореными досками обшиты. Теми же досками и пол уложен. Ровный. Чистый. В одной стороне стулья и стол длинный, у стены напротив — диван, маленький столик, на столике ваза с цветами, в другой стороне — в углу — работает телевизор, видео, на кресле перед телевизором — мужчина, смотрит видео внимательно. Лоб подтолкнул Вагина к мужчине. Вагин подчинился, подошел ближе. На экране телевизора две голые женщины и один голый мужчина занимаются любовью. Стонут. Кряхтят. Наслаждаются. — Отвратительное зрелище, — не оборачиваясь, сказал мужчина. — Грязное. Бесстыдное. Для чего они совокупляются? Только для удовольствия. А это уже профанация сути природы. Кощунство. Оскорбление святого действа — продолжения рода. Так что же может получиться, если каждый захочет получать просто удовольствие и не более того? — Тогда рухнет стена веками возводимых запретов, — ухмыльнулся Вагин. — И человек освободится. А освободившись, станет неуправляемым. — Вот-вот, — согласился мужчина. — И я о том же. — Взгляда от телевизора не отводил. Там начиналось самое интересное: троица перестала стонать и кряхтеть и принялась кричать срывающимися голосами. Неистовствовала. — Но этого не произойдет, — веско продолжал Вагин. — Потому что есть мы! — Повысил голос, заговорил отчетливо, звонко, торжественно, как на сцене в сельском клубе. По-пионерски вскинул подбородок вверх. Глаза горели, за горизонт заглядывали. — Мы тоже приносим человеку удовольствие, почти такое же, как и секс, и человеку нравится получать это удовольствие, и со временем будет нравиться все больше и больше. Но наше удовольствие в отличие от секса не освобождает человека, а наоборот закрепощает, то есть делает его управляемым. Вот. Мужчина неожиданно поднялся с кресла. Немолод. Лет пятидесяти, сухое интеллигентное лицо, седые виски добротный костюм, свежая сорочка, галстук. — Вы неглупы, — отметил. — Я знаю, — без тени иронии согласился Вагин. — Петр Порфирьевич, — мужчина протянул руку. — Бонд, — представился Вагин, пожимая руку Петру Порфирьевичу. — Джеймс Бонд. — Не понял, — сощурился Петр Порфирьевич. — Кличут меня так, — объяснил Вагин. — Корешки мои ненаглядные кликуху мне такую придумали. — А вы похожи, — засмеялся Петр Порфирьевич. — Я-то посимпатичней, — обиделся Вагин. — Конечно, конечно, — кивнул Петр Порфирьевич. — Товар? — В машине возле выхода с рынка, — объяснил Вагин. — Там два моих корешка. Пусть кто-то из ваших пойдет. Без оружия. Скажет, что от меня, от Бонда, передаст бабки, возьмет ампулки. Петр Порфирьевич жестом показал Гному, мол, давай, выполняй. — Как поживает Яша Черномор? — спросил Петр Порфирьевич, когда Гном вышел. Опустился опять в кресло. Показал на стул возле себя. Вагин тоже сел. — Яков Александрович велели кланяться, — сказал Вагин. Встал со стула. Долго кланялся. В пояс. Рукой пола вскользь касаясь. Сел опять. Отдышался. — И просили кое-что передать Птице, — добавил. — Что? — спросил Петр Порфирьевич. — Просили передать лично ему. — Это сложно, — вздохнул Петр Порфирьевич. — Откололся от нас Птица. Пошел на поводу у бабы. И правит теперь эта баба и им, и его ребятами. Единолично и деспотично. А этого допускать нельзя. Это культ. Надо помнить уроки истории. — И маркизе Яков Александрович тоже велел кое-что передать… — Уж не знаю, не знаю, как вам и помочь, — раздумчиво покачал головой Петр Порфирьевич. — Связь у нас односторонняя. Отворилась дверь. Вагин повернулся на звук. Вошел Гном, принес кейс, кивнул, мол, все в порядке, потом склонился к Петру Порфирьевичу, что-то пошептал ему на ухо. Дверь опять отворилась. На сей раз Вагин не обернулся. А зря. Резким и сильным ударом из-под него вышибли стул. Вагин свалился на пол. Встать ему не дали. Юдахин-старший ткнул стволом пистолета ему в нос. — Ну что, Петушок, — проговорил, щерился, веселясь, зубы темные, в трещинах, короткие волосы совсем седые. — Опять ты к нам? Понравилось? Так бывает. Рассказывали петушки. Мужика, говорят, попробуешь и на бабу потом смотреть неохота. Противно. Тошнит. — А я думал, это и вправду Бонд, — разочарованно протянул Петр Порфирьевич. — Бонд, ха-ха, — сказал Юдахин-старший. — Менток это, Санька Вагин. Недавно из Москвы прискакал. И правильно. Здесь мужики-то покрепше, — захохотал. А вслед за ним и Гном и Лоб. — Ай-ай-ай, — сказал Петр Порфирьевич и, не удержавшись, ударил Вагина ногой по животу. А потом еще, еще… — Ай-ай-ай, — приговаривал. — Ай-ай-ай-ай-ай…
Вагин стоял лицом к двери. За его спиной Юдахин-старший, Петр Порфирьевич, Лоб, Гном. — Нам терять нечего, — сказал Юдахин-старший. — Ежели что, завалим сразу. Обернись. Посмотри. Вагин обернулся. В руках Юдахина-старшего и Гнома чернели пистолеты. — Выведешь нас с рынка, — продолжал Юдахин-старший. — Авось и жив останешься… — Авось… — проворчал Петр Порфирьевич.
Они медленно шли по рынку. Вагин отыскал глазами Патрика Иванова. Тот приценивался к помидорам. Наконец повернулся, увидел Вагина, встретился с ним взглядом. Вагин кивнул едва заметно. Но Патрик Иванов не шелохнулся. Тогда Вагин подмигнул несколько раз левым глазом. Патрик Иванов с интересом наблюдал за ним. Тогда Вагин сказал, отдуваясь: — Жарко, — и снял шапку. Патрик Иванов после этого только усмехнулся криво, а потом и вовсе отвернулся и стал опять торговаться с продавцом помидоров. Уже вечер, покраснело небо, но рынок не унимался. Галдел вовсю. И вечер ему нипочем. И ночь. Кому не спится в ночь глухую?.. (Эхо). Когда Вагин и сопровождающие его лица скрылись в толпе, Патрик Иванов заспешил к оперативной машине, сел, сообщил оперативникам: — Вагин передал, чтобы никого не трогали. А только пропасли его и злодеев. Но не плотно, — повторил, — не плотно. Провел по лицу ладонью, скрывая довольную ухмылку.
Ехали молча. За рулем Лоб. Рядом с ним Петр Порфирьевич. Сзади соответственно Вагин, и по бокам Гном и Юдахин-старший. — Молодец, Петушок, — нарушил молчание Юдахин-старший. — Ты заслужил лишнюю палку. Вагин локтем ударил его по губам. Стремительно. Сноровисто. Сильно. Юдахин-старший завыл. Петр Порфирьевич засмеялся. Юдахин-старший достал нож. — Не надо, — сказал Петр Порфирьевич и скинул на колени Юдахину-старшему наручники. На вагинских запястьях щелкнули браслеты. Лоб взглянул в зеркальце, объявил: — Пасут, — хмыкнул. — Кишка тонка. Ловко вильнул во двор, выехал на параллельную улицу, потом ушел под острым углом в незаметный переулок, потом опять нырнул в проходной двор. Пересек центральный проспект и загнал машину снова во двор. Остановился. Все вышли. Пересели в другой автомобиль, который стоял в том же дворе. Покатили дальше.
Город давно уже кончился. Дачные поселки. Деревеньки. Лес. Потом и лес оборвался внезапно. Степь. Машина свернула на проселок. Пологие холмы. Красно-желтые песчаные карьеры. И вот впереди показалось длинное, с полкилометра, четырехэтажное здание. Недостроенное. Бетонный остов. Кое-где есть стены, кое-где нет, возле здания бетонные плиты, трубы, кузов грузовика, деревянные времянки, трактор без гусениц. Накренившийся подъемный кран. Вот-вот рухнет. Подъехали ближе. Вагина вытолкали из машины. Он поежился. От здания несло сыростью и холодом. Ветер в нем выл плаксиво, капризничая. Бил в глаза, меняя направление. Глаза выстудились тотчас. Вагин жмурился подслеповато. Лоб загнал машину на цокольный этаж, через пролом в стене. Загородил пролом большим фанерным щитом. На первый этаж нужно было подниматься по узкому, грубо сколоченному деревянному трапу. Первым на него ступил Петр Порфирьевич. Затем Лоб. Трап скрипел и раскачивался под ними. Поэтому они шли, балансируя руками, как канатоходцы. Петр Порфирьевич ворчал матерно. Гном по трапу передвигался один. Потому что был тяжелый, почти такой же, как Петр Порфирьевич и Лоб, вместе взятые. Предпоследним на трап шагнул Вагин, а за ним Юдахин-старший. Вагин довольно скоро добрался до твердого бетонного пола первого этажа и, прежде чем вступить на него, упруго и сильно подпрыгнул на трапе. Юдахин-старший не удержался, накренился, и, ухнув, полетел на землю. Упал с тяжелым стуком. Вагин засмеялся. Юдахин-старший вскочил, секунду две-три-четыре-пять-шесть-семь погодя, взвыл жестоко, выхватил из-за пазухи маленький автомат системы «Узи» израильского производства, дал очередь поверх головы Вагина. Все, кроме Вагина, как по команде повалились на холодный бетон. А Вагин покрутил головой и сказал осуждающе: — Во дурак! — пнул ногой лежащего Гнома, спросил: — Куда идти-то? Все поднялись, отряхнулись. Юдахин-старший не решился больше передвигаться по трапу ногами, лег на него, пополз, пыхтя. Выстрелы встревожили ворон, воробьев, голубей, Юдахина-младшего и двух его сотоварищей. Они опасливо свесили головы со второго этажа. Вагин узнал сотоварищей, местные воры-наркоманы, отмороженные — Чуня и Вазелин. Чуня — толстый, поэтому Чуня. Вазелин — потный, рожа всегда блестит, как смазанная вазелином детская попка, поэтому и Вазелин. На второй этаж поднялись уже по лестнице. Здесь поуютней. Обжитое место. И стены есть, и подобие комнат. И мебель даже есть. Столы, стулья, лавки. Но холодно все же. Вагин поежился в который раз. — В ШИЗО его, — приказал Петр Порфирьевич. И Гном отвел Вагина в местный штрафной изолятор. Глухая комната с крохотным окошком под низким потолком. Через пол и потолок проходит черная невеликого диаметра труба. Гном расстегнул Вагину наручник, подвел его к этой самой трубе, толкнул Вагина на нее, Вагин невольно обнял трубу, а Гном тем временем опять застегнул браслет на вагинской руке. Так что теперь никуда Вагину от трубы не деться. Скверно. Гном сел в углу. Закурил. — Чего ждем? — спросил Вагин. Гном молчал. — Как тебя звать-то? — спросил Вагин. Гном молчал. Завороженно следил за тающим дымком от сигареты. — Послушай, Гном, — проговорил Вагин таинственным тоном, — я раскрою тебе один секрет. Ты должен знать это! Должен! Гном насторожился. — Я твой отец, — сказал Вагин. — Нас разлучили злые люди, когда ты был вот таким, — Вагин пригнулся, показал, каким был Гном, когда их разлучили. Всхлипнул. Гном встал, подошел к Вагину, внимательно всмотрелся в него, произнес медленно: — Мой батька сдох в тюряге. Как последний скот. Мне тогда второй годок шел. — Не сдох я, не сдох, — возразил Вагин. — Вот он я. Сынок. — Так ты моложе меня, — сообразил наконец Гном. — Какое это имеет значение? — искренне возмутился Вагин. Дверь отворилась. И вошел Птица. Сам. Опрятный. Чистенький. И на лицо ничего себе. Смуглый. Глаза светлые. Губы жесткие. Долго смотрел на Вагина. Долго. Долго. Долго. Долго. Вагину это надоело, и он спрятался за трубой. — Выходит, Менток, что бабы любят тебя больше, чем меня? — буднично спросил Птица. — Выходит, выходит, — Вагин высунулся из-за трубы, кивнул, соглашаясь. Птица повернулся, вышел из штрафного изолятора, сказал кому-то за дверью: — Убейте его! — Но сначала побалуемся, побалуемся, побалуемся, — захлопал в ладоши Юдахин-старший. Дверь за Птицей закрылась. — Эй, сынок, — позвал Вагин Гнома. В ответ Гном прорычал злобно, потянулся огромной рукой к горлу Вагина. — Шутки в сторону, — сказал Вагин, — дело серьезное. Я ошибся. Ты не мой сын. Я вспомнил, у меня была дочка. Послушай, послушай, — зашептал вдруг. Громко. Ясно. — У меня много бабок. С собой. Отпустишь — и они твои. Они у меня в полотняном поясе под брюками, на теле. При поверхностном обыске его трудно обнаружить. Там… — Вагин задумался. — Сто тысяч. Отпусти, и они твои. — Глаза у Вагина загорелись. — Ты богатый человек. Очень богатый! Гном подошел ближе. Рот полуоткрыт. Слушает. — Проверь, проверь, — попросил Вагин. Гном нагнулся, принялся расстегивать Вагину брюки. И тут Вагин ловко ушел вбок и цепью наручников стремительно прижал шею Гнома к трубе. Гном захрипел, вскинул руки, затопал ногами по бетонному полу. — Я не хочу тебя убивать, не хочу, — шептал Вагин на ухо Гному, — не хочу, не хочу, правда. Ты только пистолет свой вынь и на пол положи. И все. И все. Гном достал из кармана пистолет, бросил его на пол. Пистолет клацнул возле вагинских ног. — А теперь тихонечко давай-ка вниз, — ласково попросил Вагин Гнома. Ослабил хватку, стал опускаться на колени, потянул за собой Гнома. Затылок злодея заскользил по трубе. Чтобы поднять пистолет с пола, Вагин совсем отпустил шею Гнома. И тогда тот шустро выбросил руку вперед и накрыл ладошкой пистолет. Вагину пришлось снова рвануть Гнома на себя, снова придавить его шею к трубе. — Я же просил не дергаться, — укоризненно напомнил ему Вагин. — Дай слово, что не будешь рыпаться, и я ничего тебе не сделаю. — Даю слово, — пробормотал Гном. — Хорошо, — одобрил Вагин и вновь склонился к пистолету. Гном схватил его за ногу, дернул на себя. Вагин упал. Каблуком задел пистолет. Тот отлетел, в сторону. Вагин врезал цепь в кадык Гному. Изо всех сил прижал Гнома к трубе. Жмурился морщинисто. Обреченно. Крутил головой. Гном шипел, елозил ногами по полу. А потом затих. Навсегда. — Я же просил не дергаться, — сказал Вагин. Потянулся за пистолетом. Трудно. Далеко. За дверью послышались голоса. Юдахин-старший похохатывал, предвкушая забаву. Тоненько хихикал мордатый Чуня. Вагин попробовал достать пистолет ногой. Дотянулся. Повернулся ключ в замке. Вагин наконец зацепил пистолет мыском, подтолкнул его к себе. Поднял, взвел курок. Дверь отворилась. Вагин выстрелил. Толстого Чуню отшвырнуло назад. Он повалился на спину, раскинув руки. Юдахин-старший тенью метнулся в сторону, матерясь витиевато и громко. А Вагин, скривившись от напряжения, неестественно вывернул кисть правой руки и большим пальцем нажал спусковой крючок. Пуля перебила цепь наручников. Вагин содрал с плеч кожаную куртку. Бесшумно приблизился к двери, с размаху швырнул в нее куртку. И тотчас нырнул вслед за ней. Автоматная очередь прошила куртку еще в воздухе, а Вагин, целый и невредимый, кувыркнулся, приземлившись, и отпрыгнул вбок, под защиту бетонной колонны. Успел. Пули дробно простучали по колонне, взметнули облачко белой пыли. Сумерки. Скоро станет совсем темно. Это к лучшему. Вагин огляделся. Бетонный пол, бетонный потолок, несущие колонны — двести метров направо, двести метров налево, — наспех сложенные из красных кирпичей стены комнаток, чтоб зимой не мерзнуть, дощатые времянки от ветра, бочки, тряпки, толь, печки-буржуйки, железные бочки, кое-где деревянные, кое-где железные лестницы, наверху, внизу. Выход один — вниз, завладеть машиной. Машина — это спасение. Мелькнула тень справа. Впереди кто-то сделал короткую перебежку. Умело. Без шума. Метнулась чья-то фигура слева. Вагин выстрелил с двух рук. В ответ тоже выстрелили. Пули высекли искру возле вагинских ног. Он поднялся, приготовился, спружинившись, и кинулся со всех ног к следующей колонне, поближе к лестнице, два раза выстрелил на ходу. Упал за колонной. Застучал автомат. Проорал Юдахин, захлебываясь слюной: — Я все равно тебя в… сволочь петушиная! Вагин усмехнулся недобро, вытер рукавом рубашки пот с лица, приготовился еще к одному рывку. Вскочил, помчался. Скрылся за кирпичной стеной, миновал дощатую времянку. И вот квадратный люк в полу. Железная лестница. У основания лестницы — Лоб. Целится из двуствольного обреза вверх. Ждет Вагина. Вагин появился неожиданно, как чертик из шкатулки, и поэтому успел выстрелить первым. Одна пуля пробила Лбу грудь. Вторая попала в живот. Лоб рухнул навзничь. Заорал от боли. По щекам текли слезы. Одной рукой он держался за грудь, будто пытался остановить кровь, а другой грозил Вагину. Тряс пальцем. А потом лицо скривилось в пугающей гримасе, застыло. Рука опустилась бессильно на пол. — Я не хочу вас убивать! — закричал вдруг Вагин что есть мочи. — Не хочу! Дайте мне уйти! Вы же обречены, вашу мать! Мне нужен только Птица!! Только Птица! Кто-то навалился на него сзади, сшиб на пол, саданул лицом о студеный бетон, прохрипел, задыхаясь: — А мне нужен ты, розовожопенький! Юдахин-старший. Пистолет у Вагина выпал, скользнул в квадратный люк. Юдахин-старший занес над затылком Вагина автомат. А Вагин как почувствовал, увернулся. Юдахин шваркнул автоматом об пол, а Вагин цепко прихватил его руки, резко дернул. Юдахин-старший упал на бетон. Вагин ударил его лбом в лицо. Потом еще раз. Попытался вырвать из рук Юдахина автомат. Не вышло. Пальцы мертво вцепились в оружие. Неожиданно Юдахин пнул ногой Вагина в колено каблуком башмака, одновременно другой ногой зацепив его пятку. Вагин хлопнулся на ягодицы. Юдахин попытался встать. Не сумел. Вагин, охнув от усилия, влепил Юдахину в лицо ступнями сложенных вместе ног. Крепкий удар получился. Юдахин запрокинул голову, подался назад и, вскрикнув тонко и коротко, свалился в люк, покатился тяжело по крутой лестнице, постукивая по металлическим ступеням лбом, затылком, висками, челюстью и, конечно же, ботинками. Растянулся внизу, рядом со Лбом, глаза закрыты, тихий, не шелохнется, вроде как уснул. Вагин сунулся было на лестницу, и тотчас пули вжикнули у ног, он вспрыгнул обратно на пол, закричал опять: — Я не хочу убивать! — стискивал голову руками, кривил лицо. — Я устал! Я не могу больше так! Вспышки слева, справа. Выстрелы. Вагин упал, терся щекой о шершавый пол. Стрельба прекратилась, и Вагин услышал звенящий от злобы голос Юдахина-младшего: — А нам нужна твоя задница, Петушок! А затем услышал Петра Порфирьевича: — А Птичка-то улетела. Тю-тю! И парит теперь себе в высях небесных. Беззаботная. И не достать ее никогда Петушку нашему бескрылому. Не достать! Вагин простонал длинно и протяжно, как сирена, предупреждающая о предстоящей бомбежке во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., замолотил в бешенстве кулаками по безответному бетону, расцарапал о него щеку почти до крови, хорошо еще, щетину отрастил за последние три дня, а то бы содрал кожу к чертовой матери.
Человек ступал мягко, едва слышно, опасливо голову в плечи припрятав. Горбился. Одну руку вперед вытянул. В руке пистолет. Шел по краю этажа, в двух-трех метрах от конца бетонной плиты. Лицо блестит влажно — Вазелин. Он замедлил шаг. Встал. Огляделся. Двинулся дальше. Крадучись. Острые ушки расправив. Добрался до дощатой времянки. Стена ее белела справа от него, высокая, до потолка почти, неструганая, занозистая, зараза. Еще шаг. Вздрогнула вдруг стена, скрипнула негромко, как мяукнула. Вазелин остановился, оглядел ее, инстинктивно попятился. Поздно. Стена стала крениться угрожающе, а через мгновенье повалилась на бедного Вазелина. Вазелин закричал, убегая. Но стена достала его, саданула по затылку. Вазелин упал на пол, кувырнулся и, растерянно взмахнув кроссовками (пр-во фирмы «Найк»), полетел вниз на землю. А за упавшей стеной стоял Вагин, руки в карманах. Скучный. — Бывает… — сказал сочувственно. Сплюнул. …Петр Порфирьевич таится за колонной. Большой черный пистолет (ТТ? Стечкин?) в левой руке, согнутой у плеча. А правой рукой Петр Порфирьевич крестится. Где-то за другой колонной — Юдахин. Бесшумно мочится на доски. Покряхтывает… Встряхнулся. Застегнул ширинку. Вынул пистолет из-за пояса. Огляделся… Вагин стоял перед железной бадьей для транспортировки цемента. Бадья на колесах — широкая и тяжелая, потому что в ней осталось немного отверделого цемента — примерно треть. Вагин качнул ее. Она покатилась, легко скрипнув. Вагин перевел взгляд на сгрудившийся неподалеку черный табунчик бочек. Потом посмотрел на длинные толстые доски, лежащие рядом с бочками. Покачал головой. Сделал несколько шагов вперед. Остановился у квадратного проема в полу. Метра три на три. Или больше. Внизу под проемом в цокольном этаже глубокая яма с бетонными гладкими стенами. А в яме мусор, бумаги, коробки, деревянные ящики, разбитые и целые бутылки, пачки из-под сигарет, окурки, спички, пуговицы, пробки, солдатские погоны, разорванные подушки, пух, тухлая рыба. Дерьмо. …Вагин закричал отчаянно, пронзительно. Петр Порфирьевич встрепенулся, перестал креститься. Замер. Юдахин-младший собрался, спружинился, повел туда-сюда стволом пистолета. Вагин опять заорал. А потом послышался звук от падения тяжелого предмета. Тела? Петр Порфирьевич шагнул вперед. И Юдахин-младший тронулся с места. Осторожно, на мысках, вскидывая с непривычки локотки вверх, добрались они до края квадратного проема. Остановились. Юдахин-младший с опаской заглянул в проем. — Ни хрена не видно, — прошептал. — Но вроде гикнулся. — Вроде… — тоже шепотом ответил Петр Порфирьевич. Вроде… Вагин вместе с бадьей громоздился на черных бочках. С бочек к полу в сторону проема импровизированным трапом тянулись толстые доски. Как только Петр Порфирьевич и Юдахин-младший приблизились друг к другу, перешептываясь, Вагин с ревом толкнул тележку-бадью. С пугающим металлическим грохотом пронеслась она по трапу, коснулась пола и, подпрыгивая, помчалась на Юдахина-младшего и Петра Порфирьевича — те едва успели повернуться на шум — и столкнула их в проем, и остановилась у самого края, покачиваясь. Кегельбан да и только. И стало тихо. И в яме, и на этаже, и на другом этаже, и на третьем этаже, и на четвертом этаже, и за колонной, и в цементной бадье, и в бочках, и на небе, и на земле, и под землей, и слева, и справа, и у Вагина в голове, и в ушах, и в глазах, и во рту, и в зубах, и… И там тоже стало тихо. Вагин сжал ладонями голову, сдавил веки, встал медленно на колени — все еще на бочках был, не спускался, ушли силы — сгорбился, согнулся, плечи сжал, качался невесомо вверх-вниз, бормотал что-то себе под нос, слабенько, тоненько, бессвязно. Минуту. Две. Час. Больше. Меньше… Крик впорхнул под ладони, щекотнул перепонки. Вагин отвел руки от ушей, открыл глаза, поднял голову, огляделся, хмурился, не узнавая ни бочек, ни времянок, ни рук своих, ни ног… Но вот успокоился наконец взгляд. Окреп. Вагин спрыгнул с бочек, побрел к проему. Опять крик. Стонущий. Негромкий. Вагин взглянул в яму. Совсем темно. Видно скверно. Но вроде как Петр Порфирьевич лежит, за ногу держится, а Юдахин-младший по яме мечется, выход ищет. Безрезультатно. Вот поднял голову. Выстрелил тотчас. Раз, другой. Вагин отпрянул. Отступил на шаг. Вынул сигарету, зажигалку, прикурил. Затянулся с удовольствием. Стоял. — Ну иди, иди сюда, пидоренок! — фальцетом орал Юдахин-младший. — Иди. Побалуемся. Смотри, какой у меня большой! Смотри! Вагин поставил ногу на цементную бадью. Толкнул ее. Она упала с глухим тяжелым стуком. — Не попал, пидоренок! — орал Юдахин-младший. — Не попал! Вагин кинул сигарету под ноги, развернулся, пошел к бочкам, опрокинул одну, покатил к проему. — На бочке надпись, белая: «Мазут». Отвинтил пробку. Мазут полился в яму. Юдахин-младший принялся бешено палить. Мимо, конечно. Для острастки больше. Он Вагина не видит. Вагин хоронится за бетонной плитой. Вытек мазут. Вагин спихнул бочку вниз. Она стукнулась звучно об пол. Загудела. Вагин наощупь отыскал на полу кусок тряпки, вынул зажигалку, поджег тряпку. — Ты чего делаешь? — заволновался Юдахин-младший. — Чего, а? Тряпка занялась, и Вагин швырнул ее в яму. И вроде как взрыв случился в яме. Вскинулся вверх желтый огонь, острые ломкие пики его опалили края бетонного проема. А потом вспыхнула вся яма разом. И мусор, и подушки, и дохлая рыба, и дерьмо, и Петр Порфирьевич, и Юдахин-младший. И стало светло, как от мартена. Юдахин-младший носился факелом по яме, обреченно кричал. Не человек больше. А Петра Порфирьевича уже не было видно в пламени. Интересно, жив ли еще старый пакостник? Вагин смотрел стеклянно на огонь. Лицо восковое. Мертвое. Пальцы на руках скрючены конвульсивно. Не шевелятся. Пламя касается его ног. Обжигает. Но Вагин не двигается с места. Не может. Не получается. — Обернись, Петушок! — перекрывая дрожащий гул пламени, крикнул за спиной Вагина Юдахин-старший. — Посмотри, какой я красивый. Полюби меня. — Юдахин засмеялся безмятежно. Багряный в отсветах пламени. Громадные черные тени безумствуют сзади него, на потолке, на стенах, на полу. Вагин повернулся-таки. Деревянно. Робот. Не моргает. Глаза вспухли. Воспалены. Юдахин стоит, широко расставив ноги. Поигрывает крошечным израильским автоматом. — Ну? — говорит. Вагин сделал шаг ему навстречу. Другой. Ноги не гнутся. Но идут. — Не так быстро, — посмеивался Юдахин. — Я не сумею разглядеть, как плещется спермочка в твоих нежных глазках, петушок! Вагин не останавливался. С каждым шагом движения его делались уверенней. Вот и пальцы расправились. И расслабились ноги. Гнутся. Упругие. — Эй! — встревожился Юдахин. Выстрелил поверх головы Вагина. Вагин продолжал идти. Юдахин прицелился ему в ноги. Пули раскрошили бетон у самых вагинских кроссовок. Вагин продолжал идти. — Сука! — выдавил Юдахин и направил ствол в грудь Вагину, нажал курок. Металлический щелчок. Тихий, но звонкий. Юдахин засуетился, судорожно стал искать новый рожок. Нашел, наконец, в кармане брюк. Вставить не успел. Вагин ногой выбил автомат из его рук. И пяткой той же ноги ударил Юдахина в висок. Тот попятился, упал. Попытался встать. Вагин снова ударил его ногой. Сильно. Юдахин опрокинулся на спину. Подвывая боязливо, отполз назад. Встал. Встретил Вагина двумя короткими, прямыми. Второй удар Вагин не поймал. Голова его откинулась назад. Изо рта слабо плеснула кровь. Вагин улыбнулся нехорошо. Зубы черные от крови. И рот кажется щербатым. Страшным. Вагин неожиданно метнулся влево. Юдахин среагировал, и тогда Вагин достал его правой ногой. В самый низ живота попал. Юдахин согнулся. Не теряя преимущества, Вагин двинул его коленом снизу по лицу, добавил кулаками. Мощно. Умело. Юдахин рухнул на бетон безвольно, Вагин встал перед ним на колени, склонился, принялся расстегивать ему брюки. Расстегнул. Спустил их. Потом и с себя стянул джинсы. Рычал. Перевернул Юдахина на живот. Лег на него. И тут же скатился на пол. Выругался. Тер руками у себя между ног. Кривился. Убрал руки, обессиленный. Лежал на спине. Дышал прерывисто. Часто. Хрипло. Долго. Поднялся, застегнул джинсы. Ухватил Юдахина за ноги. Поволок к проему. Кричал, стервенея. У самого края проема отпустил вдруг Юдахина. Сел рядом. Закурил опять. Пламя ослабло. Вдвое уменьшился его гребень. Но жарит. Нестерпимо. Юдахин открыл глаза. Веки свинцовые. Разлепил сухие губы, проговорил едва слышно: — Полюби меня, Петушок… Вагин уперся в Юдахина ногами и, не торопясь, без видимых усилий столкнул его в яму. Вслед за Юдахиным в яму полетел и окурок. Вагин поднялся. Отряхнул джинсы. Ступил в сторону от проема. Поднял с пола автомат и полный патронов новый рожок. Сунул оружие себе за пояс. Поплелся к лестнице. Вдалеке выли сирены милицейских машин. Приближались. В лицо ударил слепящий луч прожектора. Вагин поморщился. Загородился рукой. — Это ж Вагин, — сказал кто-то. Прожектор потух. Нить накала еще какое-то время светилась рубиново. Вокруг — машины и люди. Машины с мигалками, люди в бронежилетах, с оружием. Подошел подполковник, тот самый приятель Вагина, тоже в бронежилете, заглянул Вагину в глаза, спросил: — Что? Вагин слабо махнул рукой, отстранил подполковника, шагнул мимо, побрел к машинам. Люди смотрели на Вагина. Только на него. Молчали. Не шевелились. Но нет. Кто-то повернулся бесшумно. Пошел в темноту. Вагин поймал взглядом движение. Вскинул голову. Зашагал быстрее, тверже. Догнал Патрика Иванова. Ухватил его за плечо, развернул к себе. Ударил его в живот, потом два раза в лицо. Патрик Иванов упал в грязь. Вагин поднял его за ворот, ударил еще раз. Патрик Иванов не сопротивлялся. Опять свалился на землю. Никто не вмешивался. Все терпеливо ждали. И Патрик Иванов терпеливо ждал. Падал, вставал, падал, вставал. Безропотный. И ждал. Дождался. Упал и не смог подняться. Вагин смял ему переносицу. Лежал, распростав руки, волосы, лоб в черной вязкой жиже тонут, подбородок к небу вскинут, дрожит. Патрик Иванов. Вздыхает неровно, хрипло, вот-вот забьется в болезненном жестоком кашле… И не остановить. Патрик Иванов — сын чужеземного студента и местной проститутки. Один. Без семьи. Без любви. У него никого нет в этой жизни. Кроме Вагина. И они знают об этом. Оба. А Вагин уже шел прочь, не оглядываясь. Какое-то время был еще виден в отсветах пламени. А потом исчез. Ночь. Без звезд. Без Луны. Темно. Он шел быстро, дороги не разбирая, высоко подняв лицо, как слепой, к небу, которое без звезд и без Луны, спотыкался, проваливался в ямы, ямки, ухабинки, ухабы, падал, не удерживая равновесия, на бок, на спину, на руки, часто; подполковник кричал в мегафон, звук бежал над степью, преградами не стесненный, влево, вправо, прямо, далеко: «Вагин! Вагин! Где ты? Сашка, милый, где ты? Где ты, черт тебя дери, полудурок хренов!». Вагин выбрался на шоссе, вышел на середину его, вынул из-за пояса автомат, вставил новую обойму, шоссе пустое, влажное, — ночная роса, наконец показались фары вдалеке, машина приближалась с ревом — грузовик, — остановилась перед Вагиным, осветила его бело — призрак, — Вагин вскинул автомат, подошел к кабине, открыл дверцу, влез на сиденье, сказал буднично: — Домой. — Хорошо, — тотчас отозвался водитель, молодой, большеротый. С неподдельным ужасом смотрел на автомат.
Вагин открыл дверь своей квартиры. Там темно. Ночь. Без звезд. Без Луны. Не решался переступать порог, вертел головой по сторонам, оглядывался вдруг резко, словно выстрела ждал, шагнул наконец в темноту, руки вперед выставил, наткнулся на стену, нащупал выключатель, щелкнул им, осветил прихожую, дальше двинулся и в комнате свет зажег — и люстру включил, и настольную лампу, и бра над кроватью, — заспешил на кухню и там огонь зажег и холодильник открыл, чтобы и оттуда свет шел, улыбался во все лицо, больше того — не хохотал едва, кинулся в туалет и там лампу включил, а потом и в ванной то же самое сделал, ходил по квартире скоро, из кухни в комнату, из комнаты в коридор, из коридора в кухню — радовался. Радовался… Очутившись в ванной, в зеркало взглянул, покачал головой, посмеиваясь, ну и рожа, мол, ну и рожа, сунул голову под кран, тер лицо мылом, охал, ухал, фыркал, напевал что-то веселенькое, выпрямился, вытерся, заторопился опять в комнату, сел на кровать, вынул из-за пояса автомат, осмотрел его тщательно, щелкнул затвором, взводя курок, открыл рот, поднес автомат к лицу, сунул короткий его ствол себе меж зубов, нащупал деревянным пальцем курок, нажал легонько, глаза зажмурил, крепко, морщился, а палец парализовало словно, а может, и вправду парализовало. Не двигается. Выстудился. Ледяной. Телефонный звонок. Вагин вздрогнул. Вынул ствол изо рта. Отплевывался. Прямо на пол. Водил ледяным пальцем по лбу. Смотрел на тренькающий аппарат, но трубку не брал. Телефон перестал звонить. И Вагин засмеялся неожиданно, отшвырнул автомат, протянул руку к телефону, погладил его, словно живого, словно котенка, словно цыпленка, словно зайчонка… Рука потеплела. Он снял трубку, потерся о нее щекой, поднес к уху, улыбался безмятежно, набирая номер, улыбался безмятежно, ожидая ответа, наконец, услышал ее голос, улыбался безмятежно. — Лика, — сказал он. — Лика, — сказал он. — Лика, — сказал он. — Лика… Лика сидит на полу, на роскошном ковре, в черном узком тонком платье, — искрятся бриллианты на шее, в ушах, на пальцах. Такой Вагин ее еще не видел. Никогда. Она, верно, только что пришла. Откуда-то. И откуда? С приема? С раута? С фуршета? Рядом, тут же на ковре, бутылка вина, наполовину наполненный фужер, пепельница, сигареты, те самые — «Марльборо». В комнате полумрак. Горит лампа на длинной тонкой ножке, тоже стоящая на полу. Едва видны очертания мебели вдоль стен и картин на стенах над мебелью. Яснее видны кресла и диван, обитые черной мягкой кожей. Комната большая, дальний конец ее и вовсе тонет во тьме. Ночь. Без звезд. Без Луны. Лика прижала трубку к уху. Сильно. Закрыла глаза. Слушает. — Лика, — говорил он. — Лика, — говорил он. — Лика… — Послушай, Вагин, — негромко сказала Лика. — Я хочу, чтоб ты все знал, ты должен… — Лика, — говорил он. — Лика, Лика… — Мне было десять лет, когда он взял меня из детдома. Он выбрал меня. Как выбирают коров, или коней, или щенков, или гусей. Но не людей, но не детей… Выбрал. Из двухсот четырнадцати девочек и мальчиков. Для этого нас утром, до завтрака, построили во дворе, в несколько рядов, и он ходил меж рядами в чищеных, зеркально сияющих сапогах, и выбирал, а директор и завуч ссутулясь, униженно семенили за ним. Всего-то навсего командир гарнизона, полковник, а городскую верхушку цепко за горло держал, вздохнуть не давал, кривоногий. Напрямую звонил Генеральному в Москву, был сыном его фронтового друга… Ткнул пальцем в меня, сказал: «Эта». Привел домой. Дом большой, богатый. А в доме он и сестра его, гладенькая и пугливенькая. Одевал меня, как королеву. Был нежен и добр. Сокрушался, что так и прожил всю жизнь холостяком. Не повезло, мол. А детей любит больше всего на свете. Поэтому и взял меня из детдома. Обещал выполнять все мои капризы и прихоти. И выполнял. С радостью. И я была счастлива… …Он вошел в мою комнату ночью, когда я спала. Голый. Сбросил одеяло, разорвал ночную рубашку и, урча от восторга, овладел мной. Трахнул, проще говоря. Я и дернуться не успела. Гумберт-Гумберт, мать его! Весь день меня трясло, мерещились огромные тени. Что-то зловещее шептали из осязаемой темноты голоса. А к вечеру я успокоилась и рассказала обо всем его сестре: «Тебе приснилось, деточка, — сказала она. — Приснилось». — Лика сухо засмеялась. — И все это снилось мне еще целых семь лет. А потом я влюбилась. Но его люди выследили нас. Парня раньше срока забрали в армию. А в армии за какой-то проступок его отправили под трибунал. В наш город он уже не вернулся. Я убежала из дому. Он нашел меня и долго бил. Я убежала еще раз. Болталась по стране. Пока меня не подобрал Локотов. Да, тот самый Локотов. Я влюбилась в него без памяти. И он любил меня. Я знаю. Локотова боялись и уважали. В его команде было двадцать четыре человека… Убийства, кражи, нападения на инкассаторов. Он был жестокий. Но честный по-своему. И очень красивый. И несчастный. И счастливый. Потому что он любил меня. Любил. Когда человек любит, он счастлив, несмотря ни на что. Ты не веришь, что он любил меня? Тогда зачем ему было убивать этого гада? Я рассказала Локотову, как он мучил меня семь лет. Локотов приехал в наш город и убил его. Теперь ты видишь, что он любил меня. Ведь так? А через месяц его арестовали, а через полгода расстреляли. А я… А я потом работала с фирмачами. Ты понимаешь, что я имею в виду? Я стала проституткой. А потом я решила заняться настоящим делом. Я же ведь уже не могла жить по-другому. Ты не хочешь спросить, каким делом? Не хочешь? Вагин молчал. — А потом появился ты, — сказала Лика. — И я увидела — вот оно, счастье! И я поняла — надо начинать все сначала. Увидела и поняла. Но не смогла. Я уже не могу по-другому, понимаешь?! Я не могу по-другому. …Лика сидит за столиком в ресторане. Она в легком открытом платье. Смеется. Рядом привлекательный мужчина. По виду не наш, не советский. Обнимает ее, наливает вина. — Я не могу по-другому… …Полутемная комната, большая кровать. Голая Лика. Голый иностранец. Стискивают друг друга в объятиях, катаются по кровати сладострастно, яростно стонут. Тела влажные, блестят… — Я не могу по-другому… …Лика перетягивает руку повыше локтя резиновым жгутом, правой рукой вводит иглу в вену, отбрасывает шприц, снимает жгут, озирается, веселея. Вокруг — женщины, мужчины, сидят, лежат, курят, пьют; несколько человек застыли на полу, не шевелятся, глаза закрыты… — Я не могу по-другому. …Деревянный барьерчик, за ним скамья подсудимых, на скамье Локотов, по бокам два равнодушных милиционера. — Ваше последнее слово, подсудимый Локотов, — говорит судья, румяная женщина с шестимесячной завивкой. Крепдешиновая блузка. Бантики. Рюшечки. Кружавчики… Локотов встает, молчит, смотрит в зал, на Лику. И Лика смотрит на него, глаза без слез, сухие губы шевелятся беззвучно. Зал неистовствует в восторге: «Даешь! Даешь!..» — Я не могу по-другому. …Сотрудник милиции Ходов срывает у лежащей Ликиприклеенные усы, поднимает в недоумении глаза на Птицу, говорит растерянно: — Да это же… Пуля пробивает ему лоб, и разрывается ткань над переносьем, крошится кость, взбухает и лопается между глаз кровавый пузырь. Ходов падает навзничь, вздрагивает, молотит ногой по полу… — Я хочу по-другому! — кричит Лика в трубку, стучит кулачком по колену. — Я хочу по-другому! — Я хочу по-другому, — тихо вторил ей Вагин. — Я хочу по-другому… — Я люблю тебя, — прошептала Лика, тряхнула головой, волосы упали на лоб, закрыли лицо. — Господи, зачем ты послал мне ее? — сказал Вагин. — Я потерял веру. Я обрел сомнения. Я всегда думал, что все делаю правильно. А теперь не знаю. Теперь я ничего не знаю. Я потерял силу. — Я люблю тебя, — шептала Лика. — Я люблю тебя… — Я ничего не понимаю, — говорил Вагин. — И не хочу ничего понимать. И мне хорошо от этого. И радостно от этого. Как никогда. Я потерял силу. Я обрел силу. — Это так, — шептала Лика. — Это так. Вагин обессиленно опустился на кровать, трубку от уха не отнимал, закрыл глаза, оглаживал пластмассу пальцами, нежно, бережно, как беззащитного маленького зверька, как котенка, как бельчонка, как цыпленка, как зайчонка… Лицо теплое, мягкое, разгладилось, на губах улыбка, непривычная, печальная, не его, легкое движение, и упорхнет, исчезнет. Тихо! Ти-хо!! Не будите спящего милиционера!
Гудки, гудки. Холодными змейками вползают в ухо. Короткие и бесконечные. Болезненные. Нервные. Вагин открыл глаза, нахмурился, приподнялся, трубка упала с плеча. Гудки ослабли, поистончились. Вагин улыбнулся. Нажал на рычажки и тотчас, не опуская трубку, набрал номер. Ждал. Покачал головой, нажал на рычажки, опять набрал номер — другой. — Здравствуй, — сказал, — Лика, Лика… — Добрый день, — сказала Лика. — Я знаю, что ты только что проснулся, и знаю, какой сон ты видел… — Я видел снег, много-много снега. Арктика или Антарктида. Торосы. Белые медведи. Синее небо… — А потом ты взошел на ледяной гребень и увидел растущую посреди снега пальму, а на пальме желтели бананы, ты срывал бананы и поедал, умирая от наслаждения… — Да, так, — подтвердил Вагин. — Откуда ты знаешь? — Я была рядом. Я всегда рядом. — Я хочу видеть тебя, — сказал Вагин. — И я хочу видеть тебя, — сказала Лика. — Сейчас, — сказал Вагин. — Вечером, мой милый. Вечером. Я же на работе. Скоро показ новой коллекции моделей. Много эскизов. Модельеры стоят за спиной. Надо срисовать, раскрасить. Я очень люблю раскрашивать. Я же рассказывала тебе. Поэтому я здесь и работаю. Белый, синий, охра, кобальт… — Сейчас, — сказал Вагин. — Вечером, — сказала Лика. — Я буду ждать. Она положила трубку. — Сейчас, — сказал Вагин. Сорвался с постели, рванулся в ванную. Душ. Тугой. Колкий. Кофе. Сигарета. И он готов. — Сейчас, — сказал Вагин. Кинул в сумку свитер, нечитанные газеты, поднял с пола автомат, повертел его в руках, усмехнулся чему-то и тоже отправил в сумку вслед за свитером. Стремительно скатился по лестнице. Впрыгнул в машину. Помчался. Начало дня. Мостовые забиты автомобилями. Вагин, не стесняясь, гнал по тротуарам, с ходу прошивал проходные дворы, вылетал на встречную полосу, приветственно помахивая ручкой парализованным от такой наглости «гаишникам». Возле Дома моды поехал тише. Успокаивался. Приближаясь, выискивал глазами окна мастерской, где работала Лика. Перевел взгляд на мостовую, а потом на тротуар, прикидывая, где бы припарковаться, и неожиданно навалился на тормоза. На противоположной от Дома моды стороне улицы, у закрытого газетного киоска он увидел Лику, а рядом с ней Птицу. Вагин тихонько подъехал к тротуару, остановился. Откинулся на спинку сиденья, покачал головой, зажмурившись, помассировал виски, вздохнул глубоко… Птица в ладном костюме, тщательно завязанном галстуке, как и тогда, когда Вагин увидел его в первый раз, ухоженный, сытый, говорит с достоинством, едва шевелит губами, веки полуоткрыты, сонный. Лика не отвечает ему, смотрит мимо бесстрастно. Вот Птица не выдержал, что-то громко проговорил, взял женщину за плечи, притянул к себе, попытался поцеловать. Лика уперлась руками ему в грудь, сломала лицо в неприязненной гримасе. Птица сделал еще одну попытку. Вагин схватился за ручку дверцы, взбешенный. Но вот Птица отпустил Лику, сказал ей что-то жестко, зло, ступил в сторону, подошел к машине, стоящей у тротуара, сел в нее, завел двигатель. Лика перешла мостовую, направилась в Дом моды, в узком летнем платье — пестром. Голова вскинута непримиримо, плечи чуть назад оттянуты, стройная. Как только она оказалась спиной к Вагину и, естественно, не смогла бы его увидеть, не обернувшись, он тронул машину с места и поехал вслед за Птицей. И все-таки она обернулась… У ближайшего светофора поравнялся с его машиной, заглянул в кабину, ласково улыбаясь. Птица сразу же почувствовал взгляд, повернулся резко, вперился в Вагина, щурился, д е р ж а л глаза, не отводил, напряженный, бледный. И вдруг, не дожидаясь зеленого сигнала, сорвал машину с места, задымились задние шасси, вхолостую провернувшись на асфальте. Вагин нагнал Птицу у бульвара. Тот заметил его и неожиданно свернул прямо на газон, машина прыгнула на парапет, врассыпную кинулись дети, заголосили мамы. Вагин повторил его маневр. Они пересекли бульвар и оказались на другой стороне улицы. Птица успел въехать в арку дома напротив, а Вагину перегородил дорогу длинный фургон трайлера. Вагин нажал на тормоза, машина пошла юзом, развернулась и шарахнулась задним крылом о фургон. Вагин заматерился яростно, нажал на акселератор, «жигуленок» зайцем скакнул вперед. Вагин объехал трайлер и, не обращая внимания на возбужденные гудки с визгом тормозивших автомобилей, пересек мостовую и влетел в арку. Носился по двору, отыскивая второй выход со двора. Двор огромный. Заборы. Гаражи. Метался меж гаражей, распугивая автолюбителей. Нашел-таки. Узкий проезд в бетонном заборе. Попал на набережную. И тут же в заторе у светофора увидел автомобиль Птицы. Вскрикнул победно, с ходу въехал на тротуар. Летел, не снижая скорости. Птица заметил его. Дал назад, развернул вправо, вспрыгнул на противоположный тротуар, объехал машины, стоящие позади него, и погнал навстречу движению. Вагин повторил тот же маневр. Развернулся и поехал за Птицей. Машины шарахались от них в разные стороны. Бились друг о друга, сшибали телефонные будки, с хрустом ломали деревья и кустарник, обрамлявшие дорогу. Птица все-таки выбрался на мост. Отчаянно сигналя, пересек его. А Вагин тем временем выбирался из гудящей, смердящей, потной, со страшной силой матерившейся автомобильной свалки. Выбрался. Миновал мост. Поздно. Птица исчез. Вагин орал, кривясь, в бешенстве молотил кулаками по рулю, метался, обезумевший, по набережной, по примыкающим к ней переулкам, проулкам, проездам… Он нашел машину Птицы во дворе одного из домов, стоящих на набережной, примерно в километре от моста. Птица знал, что делал, он поступил единственно верно — бросил машину. И Вагин знал, что делал — он поступил единственно верно, — он принялся искать машину. И нашел ее. Отыскав автомобиль, тотчас успокоился, откинулся на спинку сиденья, отдыхая. Закурил. Полез в бардачок, достал карту города, развернул ее, водил пальцем по бумаге. Наконец обнаружил, что хотел, усмехнулся, сложил карту, закинул ее обратно в бардачок, притушил сигарету, стал собираться. Прежде всего проверил исправность автомата. Вынул рожок, взвел курок, щелкнул затвором, выдавил на ладонь пару патронов из рожка, они сияли золотисто, гладкие, аккуратные, безобидные, прожал пружину рожка — крепка ли? не подведет? — втиснул патроны обратно в рожок, а сам рожок примкнул на место, положил автомат рядом, на сиденье, оглядывал его со всех сторон, любовался. Затем выбрался из машины, обошел ее, открыл багажник, извлек оттуда небольшой брезентовый мешочек, звонко хлопнул крышкой багажника, вернулся в кабину, открыл мешочек, там — ключи, много, отмычки, тонкие, никелированные, похожие на пыточный инструмент стоматолога, отобрал несколько ключей и две наиболее универсальные отмычки, сунул их в карман куртки, мешочек застегнул, бросил в бардачок. Повернул ключ зажигания. Двигатель мелко задрожал, заводясь. Вагин включил передачу. И машина неспешно двинулась с места. На улицу не выезжал, ехал по дворам, они соединялись арками, узкими проездами, незаметными сразу «дырками» в каменных заборах. Дворы были немые и пустынные. Все как один. Ни людей. Ни эха от гудящего двигателя. Ни шума самого двигателя. Будто он и не работает вовсе. Будто случайный ветерок гонит машину по двору. И темно во дворах. И холодно. Обвалился скол штукатурки из-под крыши одного из домов, второй, куски крупные, тяжелые, упали перед капотом, раскололись об асфальт бесшумно, взметнулась тотчас блеклая пыль. Пропала, тая. Таяла, пропадая… Таяли и стекла на окнах, на глазах трескаясь паутинисто; лопались беззвучно, стекали густо по стенам. А оконные проемы корчились в судорогах, в черные щели суживаясь, в щепы крушили оконные косяки, а за окнами метались тени, — в глубине квартир, комнат, коридоров, лестничных площадок — неясные, бесплотные… А потом стали разрываться стены, как листы бумаги, снизу доверху, сверху донизу… А потом Вагин выехал на улицу… Здесь было светло и жарко и вокруг было полным-полно всяких замечательных звуков, как-то: шуршание воробьиных крыльев, бульканье в животе у проходящего мальчишки, шепот растущих тополиных корней, топот крадущегося по карнизу кота (отменный, кстати, кот, большеголовый, толстый, вальяжный и очень благодушный), оглушающий свист радиоволн и т. д., и т. д., и т. д… Он остановил машину прямо у подъезда, у того самого, до которого провожал Лику в первый день своего с ней знакомства. Засунул автомат за пояс джинсов, застегнул молнию куртки, вытянул шею, посмотрелся в зеркальце, усмехнулся скупо и только после этого вышел из машины… Поднялся на третий этаж, быстро, легко, мягко кроссовками ступеней касался. Постоял у двери, прислушиваясь. Минуту, две… Осмотрел замки, вынул отмычки, поковырялся в замках осторожно, почти неслышно, и щелкнули замки, один за другим, открываясь. Вагин приотворил дверь. Но заходить пока не спешил. За дверью прихожая, вешалка, кресла, столик, телевизор. Никого. Вагин переступил порог, сделал шаг, другой, на ходу вынул автомат, изготовился, держал оружие двумя руками, стволом вверх. Еще шаг. На полу палас. Он глушит шаги, и без того тихие, почти невесомые. Вагин остановился у двери в комнату. Комната в этой квартире одна, потому что квартира однокомнатная, бывают квартиры двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнатные, пятикомнатные, многокомнатные, а эта — однокомнатная, маленькая, на одного человека рассчитанная, а может быть, на двух, а то и на трех, а в некоторых однокомнатных квартирах по шесть человек живут, вон оно как складывается иной раз… Ухо к двери повернул. Слушает. Губы в неуверенной усмешке кривит. Саданул по двери ногой, влетел в комнату, автомат перед собой выставил. Замер в шаге от порога. Прямо в лоб ему глядел неприветливый зрак пистолета. Пистолет держал Птица — обеими руками, как и Вагин свой израильский автомат «Узи». Стояли. Боялись пошевелиться. Любое движение сейчас — смерть. Пальцы на спусковых крючках томятся, дрожат. Ствол в ствол. Глаза в глаза. Молчат. Комната довольно большая. Прибранная. Женская. Пуфики. Салфеточки. На стенах фотографии Лики: в купальнике, без купальника, за рулем иномарки, с тигренком в руках. Черный кожаный диван, украшенный цветастыми подушками. И много цветов повсюду. На полках импортной стенки — парфюмерия, косметика, пачки «Марльборо», бутылки с несоветскими напитками, окна не зашторены, распахнута форточка, сквозняк шевелит цветы в вазах, они сгибаются с сопротивлением и с достоинством выпрямляются вновь, не комната — летний сад — живой, благоуханный. — Как ты вошел? — нарушил молчание Птица. — У тебя есть ключ? Вагин отрицательно покрутил головой. — Отмычка, — ответил коротко. Птица засмеялся удовлетворенный, констатировал: — Значит, у тебя нет ключа от ее квартиры. Вагин опять отрицательно покрутил головой. — Она не дала тебе ключ, — продолжал смеяться Птица. — Она не дала тебе ключ, она не дала тебе ключ… Зазвенел телефон в прихожей. Птица вздрогнул, осекся. Лицо напряглось, высохло вмиг, кожа натянулась на висках. Но не шелохнулся он, не отвлекся — ствол его пистолета упрямо смотрел Вагину в лоб. Опять молчали. За окном завыла милицейская сирена. Птица чуть качнул головой в сторону окна, слушая, но глаза от Вагина не отвел. И Вагин тоже слушал. С надеждой. Но милицейская машина проехала мимо. Вагин попытался сдуть капельку пота с носа. Не сумел. Сморщился. Засмеялся почему-то. Умолк. — Московское время пятнадцать часов, — сказал кто-то у Вагина за спиной. После перерыва включилась трансляция. Теперь вздрогнули оба — и Вагин, и Птица. Крепче сжали оружие. Ждут. — Прослушайте объявления и рекламу, — равнодушно сообщил диктор. — Сегодня во дворце культуры металлургов состоится конкурс-выставка кошек, организованная клубом любителей кошек «Союз». Вагин краем глаза уловил движение сбоку. Мелькнуло что-то темное за окном, отлетела форточка в сторону, до конца распахиваясь, зазвенела стеклами, упала тень на лицо Птице. Он непроизвольно повернул голову к окну. И тогда Вагин выстрелил. Очередью. Птицу отшвырнуло к стене. Уже мертвый, он сполз по ней на пол. Из-под раздробленной головы тотчас потекла кровь, вязкая, скользкая. Кот спрыгнул с форточки. Сел на паркет, уставился на Вагина с любопытством. — Спасибо, — сказал Вагин. — Не стоит благодарности, — ответил кот, почесал толстой лапкой за ухом, отрешенно глядя перед собой. Чихнул. Поднялся. Потопал из комнаты. Упитанный. Неторопливый. Хозяин. — Как звать-то тебя? — вслед ему спросил Вагин. — Чома, — не оборачиваясь, ответил кот. — Хорошо, — сказал Вагин. Снял салфетку с маленького столика, накрыл ею окровавленное лицо Птицы. Отступил назад и устало опустился на пол у стены, напротив трупа. Вынул сигареты. Закурил. Пускал изо рта невесомый дымок. Наблюдал рассеянно, как причудливо вьется он в воздухе, как слоями виснет под потолком, как исчезает на глазах, превращаясь в ничто. За первой сигаретой последовала вторая, затем третья… Прохрустел ключ в замке, поспешно, суетливо, скрипнула дверь, качнувшись на петлях, распахнулась, не захлопнулась потом как следовало бы, щелкнув металлическими язычками, и встревожил сквозняк цветы, они встрепенулись, зашевелились, волнуясь, все как один, в ожидании к двери обратились, замерли, внимая. Лика шагнула в комнату. Остановилась тотчас. Увидела лежащего Птицу, зажмурилась на мгновенье, тряхнула головой, на Вагина взгляд перевела. Вагин не вставал, все так же сидел на полу, ноги скрестив, курил, щурился от дыма, смотрел на Лику выжидающе. Она снова взглянула на Птицу, подалась вперед, сделала шаг, другой, присела возле трупа, потянула салфетку вверх с его головы, опять зажмурилась, отпустила салфетку, погладила Птицу по груди, по плечам, по рукам, разжала пальцы на правой руке, подняла пистолет, встала, направила оружие на Вагина… Вагин затянулся очередной раз, бросил равнодушный взгляд на пистолет, потом вскинул глаза на Лику, глядел на нее вопросительно, ну что дальше, мол? Упала рука с пистолетом, повисла безвольно вдоль тела, полетел вниз пистолет, грохнулся о паркет, Лика подогнула ноги, неуклюже села на пол напротив Вагина, вжала ладони в лицо, забормотала что-то несвязное, вздрагивала. Вагин какое-то время смотрел на женщину, бережно трогал взглядом ее струистые волосы, ее белые пальцы, ее прозрачные запястья, ее острые локотки, ее тонкие бедра, ее легкие ноги, согревал глазами ее, выстуженную, — ощутимо. Она почувствовала, перестала вздрагивать, перестала бормотать, ладони стекли с лица, она улыбалась тихо, глаза закрыты, лицо светлое… Вагин встал, взял с пола пистолет, вынул из кармана платок, вытер отпечатки с оружия, вложил его обратно в руку трупа, вернулся к стене, где сидел, подхватил автомат и его протер платком и, усмехнувшись, вложил его в другую руку Птицы, полюбовался проделанной работой, затем вытряхнул окурки из пепельницы и завернул их в клочок бумаги, сунул бумагу в карман куртки и из того же кармана достал красную книжечку — паспорт. Развернул его, прочитал вслух: — Альянова Елизавета Ивановна, — протянул паспорт Лике. Лика открыла глаза, машинально взяла паспорт, машинально открыла, увидев свою фотографию, тотчас захлопнула паспорт, подняла лицо к Вагину, вгляделась в него внимательно. Вагин подал ей руку, помог встать, поцеловал легонько в губы… Через несколько минут с двумя тугими пузатыми сумками и упитанным котом Чомой под мышкой она стояла в прихожей. Вагин напоследок еще раз оглядел квартиру и вышел прочь, с силой захлопнув за собой дверь.
Вагин остановил машину возле своего дома. Вышел. Один. Взбежал по лестнице. Очутившись в квартире, первым делом заспешил к письменному столу, вынул из ящика лист бумаги, почтовый конверт, ручку, написал на листе скоро: «Начальнику управления внутренних дел… Рапорт… Прошу уволить меня…» Расписался, поставил число, сложил бумагу, сунул ее в конверт, а сам конверт заклеил и написал на нем адрес и только потом принялся собирать вещи. Появился на улице с объемистой спортивной сумкой. Прежде чем подойти к машине, бросил конверт в почтовый ящик, что висел рядом с подъездом. — Послушай, — окликнула его Лика. Она стояла у автомобиля, опиралась на открытую дверцу. — А куда мы, собственно, едем? Вагин приблизился к машине. Пожал плечами: — Понятия не имею. — Хорошо, — сказала Лика, и снова забралась в машину, и захлопнула дверцу. Кончился город. По обеим сторонам дороги мелькали деревеньки, перелески, поля, коровы, комбайны, церкви, с о л н е ч н ы е л у ч и, бабочки, загорелые мальчишки, велосипеды, старики, цветы, жестяные ведра и, конечно же, коты — куда же без них, — и много всякого другого. Вагин вставил кассету в магнитофон. Том Джонс. Семидесятые годы. «Естердей». Слушал напряженно минуту, две, а потом улыбнулся, а потом захохотал. — Если б ты знал, как я счастлива, — сказала она. — Если б ты знала, как я счастлив, — сказал он. Машину догоняли, снижаясь, два желто-синих вертолета. — Я люблю тебя, — сказал он. — Я люблю тебя, — сказала она. — Они любят друг друга, — подтвердил Господь.


Внимание! Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения. После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий. Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Николай Псурцев Несколько способов не умереть Повести

Об авторе
Николай Псурцев родился в 1954 году в Москве. После окончания МГУ несколько лет служил в органах внутренних дел, работал в Московском уголовном розыске. В настоящее время — на литературной работе. Автор книг "Без злого умысла", "Перегон", "Супермен", "Петух". Две последние повести можно отнести к жанру "крутого" детектива.В КАПКАНЕ
 Недавно прошли обильные дожди, и дорога взбухла бурой густой кашицей, кое-где колеи не проглядывались вовсе. Тайга тяжелым коричнево-зеленым частоколом плотно стискивала дорогу с боков, не давая возможности объезжать глубокие лужи, очертаниями напоминавшие маленькие озера. Ломов и Бойко тряслись на громыхающем стареньком «иже» уже три часа, на каждом ухабе проклиная проселок и нежданные дожди. Но вот, к великой их радости, ямы и выбоины кончились, проселок выровнялся. Бойко поднажал газу, и машина пошла быстрей. Прохладный влажный лесной воздух нахально забирался под одежду. Сидевший в коляске Ломов поежился и наглухо застегнул свою коротенькую кожаную авиационную куртку.
Теперь Бойко не нужно выписывать рулем замысловатые крендели, чтобы миновать препятствия, и он вел мотоцикл спокойно и даже чуть небрежно. Несколько раз он хотел было заговорить с Ломовым, но в последнюю минуту сдерживался. Уж больно вид у капитана был сегодня какой-то непривычный — сонный и недовольный. Все-таки через несколько минут Бойко не утерпел.
— Товарищ капитан, как вы думаете, у них оружие есть? — перекрывая шум мотора, громко спросил он, стараясь при этом придать своему мальчишескому лицу равнодушное выражение, будто такие задания для него дело обычное.
Ломов ничего не ответил. Он весь еще был в своих мыслях.
— Если есть, то взять их будет очень сложно, — озабоченно продолжал Бойко, ничуть не обидевшись на такое пренебрежительное отношение со стороны капитана. — Этим мерзавцам терять нечего. Но я думаю, мы сначала должны осторожненько с местными жителями поговорить.
На худом, с выпирающими скулами лице Ломова промелькнула тень усмешки. Он знал, что сержант в серьезных переделках еще не бывал, и опытным глазом сразу определил, что тот боится сейчас показаться трусом и в то же время не хочет выглядеть новичком.
— Ты прав, конечно, — старательно скрывая улыбку, ответил Ломов. — Хотя я думаю, что Сенявин не такой дурак, чтобы соваться в Лиховку, когда ему до тракта считанные километры остались, но раз приказано проверить… Так что на месте разберемся. А пока вдыхай озон.
Капитан поудобнее устроился в коляске, закрыл слипающиеся после бессонной ночи глаза и мысленно вернулся к началу сегодняшнего дня.
Около трех ночи он отправил жену в роддом. На опустевшей кровати сон почему-то не шел. Он покурил, перечитал вчерашние газеты, с трудом заставил себя спать лишь под утро. Проваливаясь в зыбкое, тревожное забытье, вдруг отчетливо, словно наяву, услышал последние Наташины слова: «Ты побереги себя, нас теперь трое…»
В отдел Ломов пришел невыспавшийся, а поэтому выглядел взъерошенным и усталым, чем немало удивил своих коллег, которые привыкли видеть капитана всегда энергичным, подтянутым, чуть ироничным. Но это не помешало ему провести пятиминутку как обычно, обстоятельно и четко. Он расписал документы инспекторам на исполнение, зачитал суточную сводку происшествий по району. На сегодня в отделе было запланировано очередное профилактическое мероприятие — патрулирование по городу с целью предупреждения квартирных краж. Капитан подробно проинструктировал оперативников и приказал до пяти вечера в отделе не появляться. Когда кабинет опустел, он поднял телефонную трубку, набрал номер.
— Роддом? Доброе утро. Наталья Ломова сегодня ночью поступила к вам…
Капитан нахмурил брови — ответ ему не понравился.
— Это отклонение от нормы или такое случается? — спросил он. — Ничего страшного? Хорошо, спасибо.
Едва трубка, мягко притопив рычажки, легла на аппарат, как хрипло загудел селектор.
— Зайди, — громыхнул из динамика голос начальника райотдела. Ломов вздрогнул, он опять забыл вчера переключить динамик на отводную трубку. Положив документы в сейф, он поднялся на второй этаж, кивнул секретарше, спросил, указав на кабинет:
— Один?
Получив утвердительный ответ, открыл дверь.
Петелин стоял возле карты района и что-то тихонько приговаривал, прикладывая к карте линейку. Он повернулся, поздоровался с Ломовым и опять стал колдовать у карты. Был он низкого роста, с неправдоподобно широкими плечами. «Последствия чрезмерно усердного занятия штангой», — как однажды объяснил он друзьям.
Ломов со вздохом опустился в кресло.
— Что невесел? — спросил Петелин не оборачиваясь.
— Наташу сегодня ночью отправил, схватки начались.
— Поздравляю, — начальник райотдела повернулся и с улыбкой смотрел на Ломова.
— Не торопись, — усмехнулся тот.
— Не родила еще? — удивился Петелин.
— В том-то и дело. Дежурная сказала, что такое случается. Мол, не волнуйтесь. Скорее всего, к вечеру все будет в порядке.
— Она права, — подтвердил Петелин. — Заявляю как очевидец. У Нины моей то же самое было. Хочешь — позвони ей.
— И так верю, — кивнул Ломов. — Зачем звал?
Петелин подошел к окну, из красной папки, в углу которой жирно фломастером было выведено «срочно», достал бумагу.
— Помнишь ориентировку по нападению на квартиру неделю назад в Ачинске? — спросил он. — Хозяин еще был убит. Тогда же было установлено, что нападение совершил ранее судимый Егор Сенявин с сообщником. Сообщник пока неизвестен, но приметы его имеются. Так вот, позавчера вечером их обнаружили в соседнем районе, в Анофрине, но они словно почуяли что-то и успели скрыться. Есть данные, — Петелин подошел к карте, ткнул уголком линейки в крохотную точку, обозначавшую населенный пункт, — они направляются в Чугуново. Вероятней всего, идут к тракту, он им нужен. За ними следуют две поисковые группы. Они отстают от них на несколько часов. Вертолетный контроль пока ничего не дал. Тайга, сам знаешь, густая, слона укрыть можно. Теперь слушай. Вот здесь в тридцати километрах Лиховка. Ты ее знаешь. — Ломов утвердительно кивнул.
Лиховка — маленькая деревенька в ста десяти километрах от города. Кругом тайга, добираться сложно. Осенью и весной дороги такие, что километр преодолевается чуть ли не в полчаса. Большинство жителей деревню эту покинули, и в райкоме ее внесли в список неперспективных. Месяца два назад с Лиховкой еще была телефонная связь, потом что-то испортилось на линии. Но когда стало ясно, что люди из деревни уходят, исправлять повреждение не торопились. В Лиховкс осталось четыре семьи. Четыре крепеньких старичка, промышлявших охотой, и их верные жены.
— Живет там сейчас и знакомый тебе Степан Кравчак, — продолжал Петелин, — так вот, выяснилось, что этот самый Степан отбывал срок вместе с одним из преступников — Егором Сенявиным. Чуешь? Кто их знает, может, они к нему сунутся?
— Вряд ли, — возразил Ломов, — далекий и бессмысленный крюк.
— Однако проверить необходимо.
— Согласен. Но людей у меня нет, — Ломов развел руками.
— Все на патрулировании.
— Значит, сам поедешь, — сказал Петелин.
По тону, каким были произнесены эти слова, Ломов понял, что отказываться бесполезно.
— Возьмешь Бойко, он с мотоциклом, — добавил Петелин.
— Если в Лиховке все тихо, Бойко оставишь там, а сам назад. Установим пост. Роддом я возьму под контроль.
Ломов хмыкнул. До смешного казенно прозвучали последние слова: «Роддом под контроль».
…Они проехали еще с километр, и тайга вдруг расступилась, освобождая место отлогому зеленому холму. Мотоцикл мощно взбежал на него, и в какой-то миг Бойко даже растерялся, так неожиданно выпрыгнула из-за гребня маленькая уютная деревушка.
Здесь была одна-единственная улица, давно уже не езжен-ная, поросшая бурьяном и высокой травой, плотно облегающей полуразрушенные, почти черные и поэтому необычайно мрачные заборы домов.
В самом конце улицы, возле глубокого, с рваными краями оврага, в приземистом бревенчатом срубе обитал Кравчак, поселившийся здесь после отбытия последнего наказания. Сержант видел его один раз. Это было в тот день, когда Степан вернулся из колонии и пришел в отдел отметиться о прибытии. Мужик он был здоровый, кряжистый, говорил косноязычно, глядел исподлобья и время от времени хрустко мял друг о дружку огромные короткопалые кисти рук. В городе остаться не пожелал, хотя ему это было разрешено, а сказал только: «В Лиховку пойду, там батя жил когда-то». И ушел, перевесив двустволку через плечо, — тяжелый и молчаливый. Жил спокойно, охотился, и сведений о каких-либо преступных действиях с его стороны не поступало.
Натужно тарахтя, выплескивая из-под колес комья черной грязи, мотоцикл дотащился до середины улицы.
— К дому не подъезжай, — сказал Ломов, бросив потухшую сигарету, — неровен час, они там уже самогон хлещут, сверни-ка вон к той хатенке забитой. Порасспросим соседей Степана.
Пока он выбирался из коляски, Бойко потопал затекшими ногами, одернул китель, привычно похлопал по кобуре. Ломов повторил его движения, за исключением того, что вместо кителя одернул куртку, а рукоятку пистолета нащупал, сунув руку под мышку.
Тихо было в деревне, вольно как-то, дома ненастоящими казались, ветер в соснах шумел неназойливо, успокаивающе.
— Хорошо! Правда, товарищ капитан? — Бойко потянулся упруго, как после хорошего, доброго сна, и улыбнулся безмятежно, по-детски.
— Угу, — отозвался Ломов и, махнув сержанту рукой, неторопливо двинулся вдоль заборов.
Они не успели сделать и несколько шагов, как на противоположной стороне улицы увидели вышедших из-за заколоченного дома, видимо бывшего магазина, двух людей. Брезентовый плащ одного был наглухо застегнут, на голове его серела кепка. Другой, совершенно лысый, был без шапки. В руках он держал обрез двустволки, держал на изготовку, умело, чуть расслабленно. Лицо Лысого поначалу вытянулось в изумлении — вряд ли он ожидал увидеть здесь работников милиции, — но уже через мгновение по губам его заскользила злорадная улыбка.
«Лихо они сорок километров отмахали. Никто и подумать не мог», — машинально отметил Ломов.
Бойко вмиг замер, слегка согнувшись, скосил глаза на Ломова, увидел, как затвердело у него лицо, сузились глаза, сделались злыми, колючими. Бойко не испугался. Армия и работа в милиции приучила его не спешить в таких ситуациях, но ему вдруг почему-то стало жалко себя. «Не думай об этом. Никакой жалости, — несколько раз сказал он себе, — все обойдется. Мы выкрутимся… Надо думать о том, что предпринять. Только об этом. Так. Интересно, как эта лысая сволочь реагирует на движение».
Сержант чуть сдвинулся с места. Лысый вскинул обрез и сказал спокойно, даже весело:
— Не дергайся, мент, я с тобой потом на разные темы побеседую, когда вот дружку твоему — оперу жакан в кишки вставлю. Уж очень они, опера, вредные, так и жди от них в любой момент какой-нибудь бяки. Ой, а что же ты побледнел, а еще пиджак с погонами носишь…
«Откуда он знает, что Ломов опер, — подумал Бойко, — видел где-нибудь?»
— Да вы чего, — голос сержанта враз осип, — да не опер он, дружинник…
— Погоди, — остановил его Ломов. — Они знают, кто я, им Степан, видать, рассказал.
— Догадливый, — усмехнулся Лысый и смачно сплюнул под ноги. — Только догадливость при тебе и останется. Отловить нас, стервец, приехал? Выкуси, я еще не один годок поживу, пошумлю на шарике этом поганом. А вот ты, гад, получай за души наши загубленные…
Бойко опередил Лысого на долю мгновения, рванулся что есть сил вбок, в сторону от капитана. Он не думал в этот момент ни о чем, просто еще в армии в кровь и плоть ему впиталось строгое воинское правило — береги командира. И сейчас совершенно инстинктивно он отвлекал внимание Лысого на себя. Раскаленный кусок свинца разорвал ему грудь. Отброшенный страшным ударом, он рухнул наземь и, дрогнув, замер.
При звуке выстрела Ломов стремительно прыгнул вправо, и, выдернув пистолет из кобуры, повалился в густую упругую мокрую траву. Прыжок был для Лысого неожиданностью, поэтому он поспешил выстрелить еще раз, и пуля из второго ствола чмокающе вонзилась в тяжелый приземистый забор. А капитан, вытянув вперед руки с пистолетом, уже катился по земле, выстрел за выстрелом посылая в сторону бандита. Сейчас попасть в него было невероятно трудно. Лысый и не пытался этого сделать — перезаряжать обрез под огнем было глупо. Он и его напарник, пригнувшись и петляя, кинулись к заколоченному магазину. Ломов чертыхнулся, потом стремглав поднялся и выпрямился на какие-то секунды. Он хотел посмотреть, как там Бойко. И в десятке шагов от себя увидел застывшее в нелепой позе его тело, его глаза, удивленные, широко распахнутые, недвижные. Сухо щелкнул выстрел, и Ломов мгновенно повалился в траву.
— Брось обрез, или я стреляю! — ворвался в установившуюся вдруг мертвую тишину чей-то громкий звенящий голос. Он исходил откуда-то справа, сзади. Ломов повернул голову. Шагах в сорока от него в окне избы, фасад которой выходил на улицу, он различил крупного светловолосого мужчину в белой рубашке. В руках у него была двустволка. И тут словно в ответ на угрозу бабахнул выстрел, затем второй. Лысый стрелял, укрывшись за углом бывшего магазина. Человек в окне отпрянул и исчез из виду. «Убит», — подумал Ломов.
…Нет, человека в белой рубашке — Сергея Артюхина — не убили. Он просто отшатнулся, когда прозвучал выстрел. Медвежий жакан с сухим треском впился в оконную раму, и мелкие щепы полетели в разные стороны. Одна из них процарапала ему щеку. Он провел рукой по ссадине и выругался — на пальцах была кровь. Вновь приблизившись к окну, он осторожно выглянул. Стрелявший — лысый коренастый мужик — уже перевалился через забор соседнего с заколоченным магазином дома. Вслед за ним забор быстро и ловко преодолел его напарник. «Браконьеры?» — подумал Артюхин. Они люди злобные и отчаянные. Случается, что и счеты таким вот образом сводят. «Так, хорошо — рассуждал Артюхин, стоя посреди комнаты, — эти двое скрылись, но ведь в них кто-то стрелял. Где же те, другие?»
Он ступил в сторону и посмотрел налево, туда, где начиналась улица. Сначала ничего не увидел, но потом взгляд его наткнулся на неподвижно лежащего в траве человека. Можно было различить сверкающие на солнце сапоги, коричневую кожаную куртку «Готов», — подумал Артюхин. Но вот человек шевельнулся и медленно, как бы нехотя пополз в сторону его, Артюхина, дома. «Этого еще не хватало», — озлился Артюхин. Он поудобней перехватил двустволку и постоял немного в нерешительности. Досадливо поморщился, отставил ружье к стене, опять взглянул в окно. Прикинул на глазок расстояние до человека в кожаной куртке — чуть больше полусотни метров примерно, после чего, сунув руки в карманы, сделал несколько шагов по комнате, затем снова вернулся к окну. Человек приблизился ненамного. Полз он очень медленно — видимо, остерегался выстрелов с противоположной стороны улицы. «Зря, конечно, я влез в это дело, — пожалел Артюхин, — мог бы переждать, пока эти стрелки решили бы свои проблемы и убрались отсюда». Он опять прошелся по комнате, остановился перед дверью. За ней была мать. Интересно, слышала она эту дурацкую пальбу? Наверное слышала — охотничьи ружья гремят серьезно.
Он открыл дверь, вошел в соседнюю комнату. Там царил полумрак, ставни закрыли еще с утра. Матери мешал яркий свет. Маленькая, худая, жалкая, она лежала на высокой, с железными никелированными спинками кровати. В ее покрасневших запавших глазах таился испуг.
«Бог мой! Как она изменилась с тех пор, как я видел ее в последний раз, — тоскливо подумал Артюхин — Еще полгода назад, зимой, когда приезжала ко мне была энергичной, суетливой. Все по театрам меня таскала Я бы сам сроду не вырвался. Бегала, книжки любимые доставала и все никак городом надышаться не могла. Она же ведь горожанка, а вот полжизни в деревне прожила. Нет, совсем не она это, сухонькая, совсем крохотная…».
— Что за пальба там такая? — тихо спросила мать. — Ермолай балует?
— Да, Ермолай, — попытался улыбнуться Артюхин, — карабин пристреливает. Ты не волнуйся.
— Хорошо, — успокоилась женщина. — Ты когда уезжаешь?
— Когда ты поправишься, мы уедем вместе…
— Поправлюсь ли?
— Не сомневаюсь, — Артюхин беспокойно оглянулся на дверь. — Отдыхай, я буду рядом, — добавил он и вышел.
Теперь он знал, что надо делать. Пускай эти бандюги попробуют сюда сунуться, встреча будет достойная.
Первым делом он достал из-под шкафа коробки с патронами. Патронов было много, и это его успокоило. Стрелять-то он умеет отменно. Потом вышел в сени и закрыл входную дверь на массивную железную щеколду.
На столе в комнате он рассортировал патроны. Медвежьи жаканы отложил в одну сторону, дробь — в другую. Жакан, конечно, надежней, но там за окном не звери ведь — люди. Артюхин усмехнулся, переломил ружье, вынул жаканы, насытил стволы дробью.
Все. Сейчас можно сидеть и ждать, как будут разворачиваться события. Если эти вольные стрелки уйдут, прекрасно, ну а если пожалуют в гости, то милости просим, угощенье будет знатное.
Сперва он услышал глухие, далекие удары — кто-то барабанил в запертую калитку. Это, наверное тот, в кожаной куртке. Артюхин встал сбоку от окна, крепче сжал ружье.
— Иди своей дорогой, парень, — крикнул он отчетливо и зло, — тебя здесь не ждут.
— Моя фамилия Ломов, — голос отвечавшего был хриплый, придушенный. — Из милиции я! Прошу вас, откройте!
Артюхин изумленно поднял брови. Из милиции?.. Врет? Ну что ж, посмотрим. Рискованно, правда. А если действительно это милиционер?
Громыхнула щеколда. Артюхин взвел курки, толкнул дверь. К калитке он подходил осторожно. Песок отрывисто поскрипывал под сапогами.
— Слушай внимательно, — сказал Артюхин, привалившись плечом к забору. — Если оружие с собой, как я понял, у тебя пистолет, положи его в карман, чтобы руки были свободными, в противном случае не открою.
— Хорошо, — ответили за калиткой. — Открывайте, я готов.
В этот момент грохнул выстрел, где-то рядом взвизгнула пуля.
— Скорей! — крикнули за забором.
Артюхин ударил ребром ладони по щеколде и отскочил в сторону.
Калитка стремительно отворилась, и Ломов нырнул во двор. Затем он вскочил, быстро закрыл мягко вращающуюся на хорошо смазанных петлях дощатую дверь, кулаком вогнал щеколду в паз.
— Ну, наконец-то, — выдохнул он. Вымученно улыбаясь, он уселся прямо на землю.
Артюхин не спускал с непрошеного гостя глаз. Два ствола его ружья упрямо смотрели незнакомцу в грудь.
— Это еще не все, — сухо проговорил он. — Удостоверение? Вынимай медленно.
— Бдительный вы товарищ, — Ломов удивленно мотнул головой. Затем он медленно, как и просили, извлек из внутреннего кармана куртки красную книжечку и кинул ее Артюхину. Не опуская ружья, тот открыл удостоверение. Внимательно прочел, краем глаза наблюдая за Ломовым.
— Ну вот, теперь все, — сказал он, облегченно улыбнулся, приставил ружье к забору и протянул руку, — Артюхин, инженер.
— Ну что ж, будем знакомы, — сказал Ломов, поднимаясь и запихивая удостоверение в карман. Он с силой провел ладонями по лицу, кивнул Артюхину, мол, погоди немного, шагнул к забору, отыскал в нем щель, приник к ней.
— Задами им не уйти, — негромко заметил Ломов, — там овраг, отлогий и глубокий, значит, дворами пробираться будут и пройдут, видимо, к реке вправо, потому что слева место пустое, да магазин еще… влево не пойдут.
Артюхин встал радом с ним и заглянул в щель. Дом, куда ворвались бандиты, был совсем радом, метрах в тридцати. Резной ажурный флюгерок вольно вертелся на гребне крыши. Предназначался он, когда его сделали, наверное, не для этого дома. Потому что его изысканность никак не вязалась с тяжелой, угрюмой избой.
— Кто там живет? — спросил Ломов, перезаряжая пистолет.
— Дед Ермолай со старухой… Все здешние на промысле, а он дома — хворает.
Ломов повернулся к инженеру, разглядел его внимательно, машинально отметив, что парень он хоть и массивный и роста немалого, но двигается легко и уверенно.
— Откуда ты здесь? — спросил он.
— Четыре дня назад умер отец, — ответил Артюхин. — Вчера были похороны. Мать слегла. Вот жду, пока поправится, заберу ее к себе в Свердловск. Время терпит, в отпуске я.
— Ясно, — Ломов помолчал. — Ясно, — повторил он. — Один ты у нее?
Артюхин кивнул.
— Да, что поделаешь? Я своего отца восемь лет как схоронил… Крепись.
Артюхин благодарно улыбнулся.
— Так что ж произошло? — спросил он.
Ломов разъяснил ситуацию.
— Понятно, — задумчиво протянут Сергей. — Парня-то как жалко. А может, он еще жив? — с надеждой спросил он. Ломов отрицательно покрутил головой — он-то видел, как Леше разворотило грудь, — и вдруг совершенно неожиданно выругался. Артюхин положил ему руку на плечо, успокаивая.
— Я-то думал, браконьеры счеты сводят, — сказал он. — Тебя за одного из них принял. Ну, теперь все в порядке. Вдвоем-то мы отобьемся. Верно?
— Эй вы, фрайера захарчеванные, — вдруг услышали они громкий голос Лысого. Говорил он теперь не спокойно и весело, а сипло и раздраженно. — Разойдемся по-мирному, вы нас не видели, мы вас не трогали. Вас двое, нас двое, силы равные. Ломиться начнете — разотрем.
Лысый, видимо, понял всю сложность своего положения. Сзади овраг, слева пустое пространство, перебежать не успеешь — подстрелят. Справа, у соседнего дома, забор высоченный, пока перескочишь, собьют, как воробья из рогатки.
— Слушай, Сенявин! — крикнул Ломов и дослал патрон в ствол. — Погоди маленько, нам подкрепиться надо, а то мы с утра неевши… Потерпи чуток, еще поговорим, успеем.
— Ну гляди, кум, пожалеешь, сорвут с тебя погоны твои, ты, может, не знаешь, у нас тут дедуля с бабулей, может, их пригласить с тобой побеседовать, а?!
— Да, — Ломов скривил губы в невеселой усмешке, — положеньице. Помощи ждать нам неоткуда, да и послать некого, вот дела…
— Вот оно что, — как-то отчужденно проговорил Артюхин, и лицо его сделалось непроницаемым.
Он присел на стоявший рядом чурбак, вынул мятую пачку «Примы», закурил, несколько раз коротко затянулся. Ломов молчал. Он стоял неподалеку, сунув руки в карманы, и ковырял носком сапога в земле, попадавшиеся камешки резко отфутболивал к забору. Сергей поднял голову, посмотрел на него, встретив взгляд, быстро отвел глаза.
Ломов подошел к забору, наклонился к щели, вернулся обратно.
— Ты понимаешь… — начал было он.
— Я все понимаю, — оборвал его Артюхин, — но помочь тебе ничем не могу.
— Мне? — удивился Ломов. — Мне помочь? Ты в своем уме?
Артюхин молча курил. При затяжке щеки его глубоко втягивались, обостряя скулы. Потрескивал сухой табак в сигаретке.
— Ты знаешь, кто там? — тихо, но внятно произнес Ломов. Он махнул в сторону забора и наклонился к инженеру. — Тамубийцы.
— Уже слышал, — Артюхин растер докуренную сигарету каблуком. — Ты не думай, у меня здесь, — он сжал огромный кулак, — силы на троих хватит. Понял? Но нельзя мне.
— Нет, не понял, — Ломов налился злостью. — Ты что, девка на выданье? Ах, наверное, сердце у тебя очень нежное. Непротивление злу насилием. Или, может быть, все гораздо проще? Моя хата с краю. Пусть делают что хотят, лишь бы меня не трогали? Так, что ли?
— Нет, не так! — остервенело выкрикнул Артюхин, стремглав вскочив на ноги. — Мать у меня, одна она!
«А у меня жена рожает. Мне на своего ребенка, между прочим, взглянуть хочется», — чуть не вырвалось у Ломова, но он сдержался — ни к чему это, не к месту, не по-мужски как-то. Однако от этих непроизнесенных слов ему стало не по себе, разом пропало всякое желание что-либо делать и говорить. Он с недоумением обнаружил, что так крепко стиснул зубы, словно хотел смолоть их в порошок. Пересилил себя он с трудом, но достаточно быстро. Не прошло и нескольких секунд, как лицо его приобрело насмешливое выражение. Он кривенько ухмыльнулся:
— Все понятно. Любящий сын почтенных родителей.
— Ах ты гад! — угрожающе процедил Артюхин, хватая правой рукой Ломова за ворот куртки.
— Эй, начальники! — Сенявин орал во всю мощь, и голос его звенел от напряжения. — Времечко-то идет. Я долго ждать не намерен. Давайте скорей. Нам-то терять нечего…
Ломов сбросил с себя руку инженера, неприязненно посмотрел на него и презрительно усмехнулся.
— Мы думаем, думаем, Сенявин! — быстро и раздраженно прокричал он. — Обожди немного, не так все просто.
— Порешительнее надо быть, начальник, — хохотнул Сенявин. Он, видимо, уже успокоился.
— Слышал? — спросил Ломов, растягивая губы в ледяной улыбке. — Это про тебя.
— Отстань! — отрубил Артюхин. Он отвернулся, подошел к избе, провел пальцем по наличнику окна, посмотрел на ладонь — она была черная от пыли, отряхнул ее и, не говоря ни слова, вошел в дом.
И вдруг Ломов отчетливо осознал, что не то он говорит, совсем не то. Молчал бы лучше, зачем он так, зря только парню душу травит. Положение у него незавидное. Не нужен ему этот симпатичный малый. Он сам все сделает как надо. Он же в подобных переделках уже не раз бывал за восемь лет работы в милиции. Ломов сунул руку под куртку, нащупал флажок предохранителя, отвел его назад, усмехнулся чему-то и сделал первый шаг к калитке. Затем второй, потом пошел уверенней, но все равно со стороны движения его казались вялыми, неестественными. Калитка была совсем близко, когда он внезапно остановился. Он ясно понял, что за калитку не выйдет. Что-то мешало ему. Ломов глубоко вздохнул, мотнул головой… Надо же, сроду такого не было. Постояв с минуту, подошел к забору, опять прильнул к щели. Дом Ермолая выглядел мирно: ни за темными глубокими провалами окон, ни во дворе — часть его Ломов видел отлично — не было ни намека на движение. Надо идти, конечно, ждать больше нельзя. Надо идти, говорил себе капитан, надо идти и… не двигался с места. Он в сердцах со всего размаха хватил ладонью по забору, будто он был в чем-то виноват. Рассохшиеся доски гневно прогудели в ответ.
Дурацкий день. Сначала бандиты, появившиеся там, где по всем расчетам их быть не должно, потом Леша Бойко… а теперь эта непонятная, непривычная для него в такие минуты нерешительность. Ломов нервно осмотрелся, пошарил глазами по двору. Он не знал, что ищет. Но что-то надо было сделать, все равно что, но только не стоять вот так в бездействии. У него даже мышцы заныли призывно. Встряхивая руками, как боксер перед боем, он пружинисто прошелся по двору. У крыльца дома стремительно развернулся, словно на строевом смотре. Подошел к сараю и тут увидел чурбак, на котором колют дрова, а на нем топор, чуть покрытый ржавчиной, но мастерски отточенный. Он наклонился, взял топор, поиграл им в руках, словно примеряясь, привыкая к нему. Огляделся в поиске дров, увидел неподалеку поленце, шагнул к нему — и выскользнул тут топор из его рук, перевернулся в воздухе и шмякнулся топорищем прямо на ногу. Тупой болью ожгло пальцы. Не сдержавшись, носком сапога он поддел топор и яростно отшвырнул его к сараю. Тот пролетел с метр и с грохотом ударился о стенку. За тонкой перегородкой всполошенно закудахтали куры. Ломов внимательно посмотрел на сарай, потом на топор, потом перевел взгляд себе на ногу и вдруг рассмеялся…
…Артюхин никак не мог вспомнить лицо отца. Он не хотел смотреть фотографию, что под черным бантом висела на стене. Он силился нарисовать родное лицо в воображении и не мог. Никак не мог. После того как он увидел отца на столе в горнице — высохшего, окаменевшего, чужого — в одночасье стерлись в памяти его живые глаза, низкий усмешливый голос, тяжелая походка. Представить все это Артюхин уже не мог. Он просто знал, что у отца были живые глаза, низкий голос… За месяц до смерти, будто предчувствуя ее, он наказывал сыну в письме, написанном коряво, неровными строчками, но на редкость грамотно: «Если со мной случится что, всяко, сын, может быть, помни, что ты у нас один, и жизнь, и радость благополучия матери на твоей совести останется. Помни!»
Он все-таки поднял глаза к фотографии, проговорил тихо: «Я помню, отец». Он встал из-за стола, толкнул дверь в комнату матери.
— А я уж хотела звать тебя, — увидев сына, сказала женщина. Она сделала слабую попытку улыбнуться краешком губ, но не получалось. — Я плохо слышу, но мне кажется, я различала голоса. У нас гости?
— У нас гости, — ответил Артюхин, внимательно разглядывая мать, будто видел ее впервые.
Они помолчали с полминуты.
— Помоги мне выйти на улицу, — неожиданно попросила женщина. — Я устала все время смотреть в потолок.
— Тебе нельзя вставать, — ответил Артюхин. — К тому же у нас гости. Когда они уйдут, я вынесу тебя во двор.
Женщина закрыла глаза, повела подбородком:
— Сережа, не надо скрывать ничего от меня. У тебя это плохо получается. Кто там? Бандиты? Что они хотят?
Артюхин не ответил.
— Значит, я права, — горько усмехнулась женщина. — Раз ты молчишь. — Она вздохнула и продолжала после паузы: — Я не должна тебе этого говорить, ты сам волен решать, как тебе поступать, но все-таки скажу. Я всю жизнь боялась за отца. Он не умел беречь себя. Я не хочу, чтобы ты унаследовал это его качество…
Она недоговорила — Артюхин приложил палец к губам. Он услышал грохот, а потом паническое кудахтанье кур. Артюхин нахмурил брови, бросил матери: «Обожди!» — выскочил на крыльцо и увидел у сарая Ломова. Капитан стоял, сунув руки в карманы, и невесело усмехался.
— Эй, друг, ты чего? — осторожно спросил Артюхин. Ломов, казалось, не слышал. Артюхин подошел ближе:
— Что с тобой?
Ломов ответил не оборачиваясь:
— Разминаюсь.
— Да ты рехнулся! — Артюхин вдруг вскипел. — Ты где должен быть? У забора, у щели, — задыхаясь от негодования, выкрикнул он. — Ты за ними смотреть должен. У них же ствол в руках. Они же черт те чего понаделать могут! А может, они ушли уже?!
Ломов несколько раз глубоко вздохнул, вдыхая воздух резко, с шумом, рукавом рубашки отряхнул щепы и крошки с чурбана, присел на него. Поднял глаза на Сергея, и не было в них ни тени беспокойства, а затем внезапно крикнул во весь голос:
— Сенявин, как самочувствие?
— Плохо, начальник, — донеслось с другой стороны улицы.
— Тяготят меня стены. На волю хочу.
Ломов не дал ему закончить.
— Терпи, Сенявин, терпи! — усмехнувшись, крикнул он. — У меня сегодня с тобой долгий будет разговор.
— Пу меня тоже, — тихо добавил Артюхин.
…К магазину Ломов вышел вроде бы незаметно. Сначала двигался вплотную к заборам соседних дворов, затем стремительно проскочил метров пятнадцать пустого пространства от забора последнего двора к заколоченному бревенчатому срубу магазина. На мгновение опустился на землю, прямо в приютившиеся у завалинки громадные лопухи, вздохнул несколько раз глубоко, успокаиваясь, вынул пистолет, сдул зачем-то с него пылинки, пружинисто поднялся и осторожно выглянул из-за угла. Забор двора, где засели бандиты, был невысок, метра полтора, за ним чернел прокопченными бревнами добротный сарай, а дальше уже стоял и сам дом. Планировка, скорее всего, там обычная — сени, комната на три окна с печкой, непременным массивным столом, за ней еще одна комната, немного поменьше, там спят. Старики, наверное, в маленькой комнате, вряд ли Лысый будет подставлять их под пули. Невыгодно. Со стариками, видимо, его напарник, прикрывает тылы. Значит, прежде всего надо было проникнуть в комнату, где Лысый, обезвредить его, хотя, конечно, хорошо было бы взять этого подлеца живым. На шум должен выскочить второй, судя по физиономии он не настолько умен, чтобы остаться со стариками и держать их на мушке, хотя они были бы для него надежной защитой. Может быть, конечно, все произойдет и не так, как предполагал капитан. Может быть, бандиты действовали бы вопреки логике, черт их знает, что у них в голове. Но Ломов работал в милиции не первый год и достаточно хорошо представлял, как могут повести себя в такой ситуации преступники, во всяком случае большинство из них. Ничего нового они выдумывать не будут — времени нет, да и рискованно. Прошло минуты три, Артюхин молчал. «Что же он, не случилось ли чего?» — подумал Ломов. И тут вдруг почувствовал неудобство, будто кто-то смотрит на него со спины. Он замер, прислушиваясь, но только ветер шелестел в сосняке, и безмятежно пели птицы, затем ступил в сторону и, стремительно перевернувшись, упал на траву, вытянув руку с пистолетом. У того забора, откуда он пробежал к магазину, стоял Степан Кравчак. Ломов узнал его сразу. Был он в брезентовом плаще с капюшоном, на голове потертая ушанка. Степан, вытянув в сторону Ломова руку и насупив брови, выговорил с трудом:
— Ты это, начальник, не того, они пришли ко мне, я их прогнал. На кой они мене, слышь, начальник, я им, того, и пошамать не дал. Волки они, ружо отняли, стволы поотбивали, во, в зубы мене тычину дали… Я, это, адресок Егорке Сенявину от души дал, сказамши, как срок выйдет, приходь, угошшу… А он…
Ломов поднялся, отряхнул пыль с рукава, оглянулся, убедился, что из дома деда Ермолая их не видно, сказал, недобро усмехаясь.
— Шел бы ты отсюда, Степан. Сам понимаешь. Доверять тебе у меня нет оснований. Откуда я знаю, что ты не пальнешь ненароком мне в спину? Иди, потом поговорим.
— Слышь, начальник, — Кравчак из всех сил обминал друг об дружку мясистые ладони, — я ничего. Это… Там у Ермолая окно боковое, ну что на нас глядит, на сельпо, не закрывается оно, слышь, ты его, это, не разбивай, а пихни легонько, там крючка нет. Вот. И, это, Егорка Сенявин шмаляет шибко, здорово, ты, того, поосторожней… Он знает, кто ты. Это я сдуру вчера про тебя накалякал.
Кравчак замолчал, повернулся и, тяжело ступая, скрылся за углом. Ломов задумчиво посмотрел ему вслед.
Два выстрела подряд грохнули так неожиданно, что Ломов вздрогнул и невольно пригнулся. Артюхин безумствовал, как мог. Он истошно орал, поносил весь преступный мир на чем свет стоит, кричал, что сам попросится приводить в исполнение смертные приговоры, всячески обзывал Лысого и стрелял не переставая. «Он свихнулся, — подумал Ломов, — что он так орет-то?» Потом, вспомнив, что сам приказал Артюхину создавать побольше шума, усмехнулся — этот приказ инженер понял по-своему. Надо было только стрелять почаще, а он еще и голосил на всю округу. Ну да ладно, это тоже неплохо. Ломов выглянул из-за угла. Артюхин был совсем близко от дома и безостановочно палил в его сторону. Лысый выстрелил в ответ только один раз, да и то лить для острастки, потому что инженера скрывал забор дома деда Ермолая, невысокий, но внушительный, сколоченный из толстенных досок.
«Пора», — решил Ломов и, пригнувшись как можно ниже, стремглав пронесся до забора, перемахнул его, застыл на секунду и в два прыжка достиг дома. Боковое окно комнаты, откуда стрелял Лысый, приходилось Ломову на уровне подбородка. Он осторожно посмотрел сквозь стекло, но ничего не увидел, приподнялся на мыски, оперся ладонями о подоконник, подтянул на руках тренированное тело, это было очень неудобно, потому что правая ладонь стискивала пистолет, и с неимоверной силой перебросил свое тело через подоконник. Окно поддалось легко — оно действительно было открыто. Ломов упал на пол левым боком, стремительно перевернулся и, еще не видя Лысого, выстрелил два раза в сторону окна на фасаде, примерно туда, где Лысый должен был находиться. В ответ оглушительно прогрохотал обрез, и правую руку капитана отбросило назад, пистолет отлетел в дальний угол. Ломов вскрикнул от боли и только теперь увидел Лысого: он стоял почему-то на коленях и был окутан белесым пороховым дымом. Ломов стремительно вскочил на ноги. Прыжком преодолел расстояние, отделявшее его от Лысого, ударом ноги выбил обрез и навалился на него всем своим восьмидесятикилограммовым телом. Лысый зарычал по-звериному, попытался вывернуться, но не смог. И тут Ломов понял, что тот ранен, потому-то он и стоял на коленях. Левой рукой Ломов уперся Лысому в подбородок и крепко придавил его голову к полу.
Справа от окна треснул выстрел. И, круто обернувшись, Ломов увидел в проеме потное злое лицо Артюхина, двустволка лежала поперек подоконника, в следующее мгновение инженер мог сделать второй выстрел, но этого не понадобилось. Ломов приподнялся над Лысым, повернул голову в другую сторону и наткнулся взглядом на лежащего у двери бандита в черном, наглухо застегнутом ватнике и серой ушанке.
…Ломов вышел на крыльцо, вытер лицо и глухо вскрикнул от боли — правую ладонь будто ошпарило. Пуля попала в пистолет и выбила его. Удар был короткий и сильный. Он пришелся и по ладони. Теперь кисть начала постепенно синеть. Он поднес руку к глазам, усмехнулся и подумал: «Какая чепуха». С усилием переставляя ослабевшие ноги, он спустился с крыльца и присел на завалинку, прислонился спиной к стене, откинул голову, закрыл глаза и подставил лицо яростному июльскому солнцу.
— Пойду посмотрю, как там мать, — услышал Ломов голос Артюхина неподалеку. Хлопнула калитка. — Я скоро! — крикнул он уже с улицы.
Прошло минут пять, и Ломов почувствовал, что он не один во дворе.
— Это опять ты, Степан? — тихо спросил Ломов. Глаза он так и не открыл. До чего же хорошо было вот просто так сидеть и совершенно ничего не делать.
— Я, — отозвался Степан.
— Ну, теперь говори, что хотел.
— Это, Егорка-то жив?
— Жив, связанный лежит.
— Ага. Плохо он начал, вот и кончит плохо. Душегуб. Я счас сержанта твоего видел убиенного. Молодой совсем, ладный был.
Ломов промолчал.
— Мне чего будет за пальбу-то энту? — опять заговорил Степан.
— Допросим Сенявина, если все было, как ты рассказал, можешь жить спокойно.
— Ага, — Степан вздохнул.
Ломов наконец открыл глаза и первым делом уставился на огромный мешок, который лежал возле ног Степана.
— Это что же там у тебя? — поинтересовался он.
— Анструмент, — нехотя ответил Степан. В подробности он вдаваться не стал, оторвал мешок от земли, в нем что-то глухо лязгнуло, и двумя руками поднес его к окну.
— Ермолай! — гаркнул он в проем. — Ермолай, спишь, что ли?
— Чего тебе? — донесся из окна тихий старческий голос.
— Это… капканчики тебе свои принес. Справные они все, надежные, получше твоих отлажены. Вот. Они мне, того, не понадобятся. И еще, это, я избу заколачивать не буду. Коли чего нужно, бери, не стесняйся. Дровишки бери обязательно. Вот.
Ермолай молчал некоторое время, потом прогудел:
— И ты, значит, из Лиховки…
— Ага, Ермолай, и я.
…В райцентр Ломов вернулся к ночи. Отослал наряд в Лиховку, написал подробный рапорт, нашел в записной книжке адрес родителей Леши Бойко, хотел было пойти к ним сейчас, немедленно, дошел уже до двери кабинета, но переступить порог не смог как ни уговаривал себя. Вернулся к столу, опустился в кресло и долго сидел, отрешенно разглядывая потрескавшуюся полировку стола, и только после этого потянулся к телефону и набрал въевшийся в память номер.
— Что же вы так поздно справляетесь? — с доброй укоризной сказали ему. — Ох, мужчины, все гуляете. Дочка у вас родилась. Шестой час ей пошел…
Недавно прошли обильные дожди, и дорога взбухла бурой густой кашицей, кое-где колеи не проглядывались вовсе. Тайга тяжелым коричнево-зеленым частоколом плотно стискивала дорогу с боков, не давая возможности объезжать глубокие лужи, очертаниями напоминавшие маленькие озера. Ломов и Бойко тряслись на громыхающем стареньком «иже» уже три часа, на каждом ухабе проклиная проселок и нежданные дожди. Но вот, к великой их радости, ямы и выбоины кончились, проселок выровнялся. Бойко поднажал газу, и машина пошла быстрей. Прохладный влажный лесной воздух нахально забирался под одежду. Сидевший в коляске Ломов поежился и наглухо застегнул свою коротенькую кожаную авиационную куртку.
Теперь Бойко не нужно выписывать рулем замысловатые крендели, чтобы миновать препятствия, и он вел мотоцикл спокойно и даже чуть небрежно. Несколько раз он хотел было заговорить с Ломовым, но в последнюю минуту сдерживался. Уж больно вид у капитана был сегодня какой-то непривычный — сонный и недовольный. Все-таки через несколько минут Бойко не утерпел.
— Товарищ капитан, как вы думаете, у них оружие есть? — перекрывая шум мотора, громко спросил он, стараясь при этом придать своему мальчишескому лицу равнодушное выражение, будто такие задания для него дело обычное.
Ломов ничего не ответил. Он весь еще был в своих мыслях.
— Если есть, то взять их будет очень сложно, — озабоченно продолжал Бойко, ничуть не обидевшись на такое пренебрежительное отношение со стороны капитана. — Этим мерзавцам терять нечего. Но я думаю, мы сначала должны осторожненько с местными жителями поговорить.
На худом, с выпирающими скулами лице Ломова промелькнула тень усмешки. Он знал, что сержант в серьезных переделках еще не бывал, и опытным глазом сразу определил, что тот боится сейчас показаться трусом и в то же время не хочет выглядеть новичком.
— Ты прав, конечно, — старательно скрывая улыбку, ответил Ломов. — Хотя я думаю, что Сенявин не такой дурак, чтобы соваться в Лиховку, когда ему до тракта считанные километры остались, но раз приказано проверить… Так что на месте разберемся. А пока вдыхай озон.
Капитан поудобнее устроился в коляске, закрыл слипающиеся после бессонной ночи глаза и мысленно вернулся к началу сегодняшнего дня.
Около трех ночи он отправил жену в роддом. На опустевшей кровати сон почему-то не шел. Он покурил, перечитал вчерашние газеты, с трудом заставил себя спать лишь под утро. Проваливаясь в зыбкое, тревожное забытье, вдруг отчетливо, словно наяву, услышал последние Наташины слова: «Ты побереги себя, нас теперь трое…»
В отдел Ломов пришел невыспавшийся, а поэтому выглядел взъерошенным и усталым, чем немало удивил своих коллег, которые привыкли видеть капитана всегда энергичным, подтянутым, чуть ироничным. Но это не помешало ему провести пятиминутку как обычно, обстоятельно и четко. Он расписал документы инспекторам на исполнение, зачитал суточную сводку происшествий по району. На сегодня в отделе было запланировано очередное профилактическое мероприятие — патрулирование по городу с целью предупреждения квартирных краж. Капитан подробно проинструктировал оперативников и приказал до пяти вечера в отделе не появляться. Когда кабинет опустел, он поднял телефонную трубку, набрал номер.
— Роддом? Доброе утро. Наталья Ломова сегодня ночью поступила к вам…
Капитан нахмурил брови — ответ ему не понравился.
— Это отклонение от нормы или такое случается? — спросил он. — Ничего страшного? Хорошо, спасибо.
Едва трубка, мягко притопив рычажки, легла на аппарат, как хрипло загудел селектор.
— Зайди, — громыхнул из динамика голос начальника райотдела. Ломов вздрогнул, он опять забыл вчера переключить динамик на отводную трубку. Положив документы в сейф, он поднялся на второй этаж, кивнул секретарше, спросил, указав на кабинет:
— Один?
Получив утвердительный ответ, открыл дверь.
Петелин стоял возле карты района и что-то тихонько приговаривал, прикладывая к карте линейку. Он повернулся, поздоровался с Ломовым и опять стал колдовать у карты. Был он низкого роста, с неправдоподобно широкими плечами. «Последствия чрезмерно усердного занятия штангой», — как однажды объяснил он друзьям.
Ломов со вздохом опустился в кресло.
— Что невесел? — спросил Петелин не оборачиваясь.
— Наташу сегодня ночью отправил, схватки начались.
— Поздравляю, — начальник райотдела повернулся и с улыбкой смотрел на Ломова.
— Не торопись, — усмехнулся тот.
— Не родила еще? — удивился Петелин.
— В том-то и дело. Дежурная сказала, что такое случается. Мол, не волнуйтесь. Скорее всего, к вечеру все будет в порядке.
— Она права, — подтвердил Петелин. — Заявляю как очевидец. У Нины моей то же самое было. Хочешь — позвони ей.
— И так верю, — кивнул Ломов. — Зачем звал?
Петелин подошел к окну, из красной папки, в углу которой жирно фломастером было выведено «срочно», достал бумагу.
— Помнишь ориентировку по нападению на квартиру неделю назад в Ачинске? — спросил он. — Хозяин еще был убит. Тогда же было установлено, что нападение совершил ранее судимый Егор Сенявин с сообщником. Сообщник пока неизвестен, но приметы его имеются. Так вот, позавчера вечером их обнаружили в соседнем районе, в Анофрине, но они словно почуяли что-то и успели скрыться. Есть данные, — Петелин подошел к карте, ткнул уголком линейки в крохотную точку, обозначавшую населенный пункт, — они направляются в Чугуново. Вероятней всего, идут к тракту, он им нужен. За ними следуют две поисковые группы. Они отстают от них на несколько часов. Вертолетный контроль пока ничего не дал. Тайга, сам знаешь, густая, слона укрыть можно. Теперь слушай. Вот здесь в тридцати километрах Лиховка. Ты ее знаешь. — Ломов утвердительно кивнул.
Лиховка — маленькая деревенька в ста десяти километрах от города. Кругом тайга, добираться сложно. Осенью и весной дороги такие, что километр преодолевается чуть ли не в полчаса. Большинство жителей деревню эту покинули, и в райкоме ее внесли в список неперспективных. Месяца два назад с Лиховкой еще была телефонная связь, потом что-то испортилось на линии. Но когда стало ясно, что люди из деревни уходят, исправлять повреждение не торопились. В Лиховкс осталось четыре семьи. Четыре крепеньких старичка, промышлявших охотой, и их верные жены.
— Живет там сейчас и знакомый тебе Степан Кравчак, — продолжал Петелин, — так вот, выяснилось, что этот самый Степан отбывал срок вместе с одним из преступников — Егором Сенявиным. Чуешь? Кто их знает, может, они к нему сунутся?
— Вряд ли, — возразил Ломов, — далекий и бессмысленный крюк.
— Однако проверить необходимо.
— Согласен. Но людей у меня нет, — Ломов развел руками.
— Все на патрулировании.
— Значит, сам поедешь, — сказал Петелин.
По тону, каким были произнесены эти слова, Ломов понял, что отказываться бесполезно.
— Возьмешь Бойко, он с мотоциклом, — добавил Петелин.
— Если в Лиховке все тихо, Бойко оставишь там, а сам назад. Установим пост. Роддом я возьму под контроль.
Ломов хмыкнул. До смешного казенно прозвучали последние слова: «Роддом под контроль».
…Они проехали еще с километр, и тайга вдруг расступилась, освобождая место отлогому зеленому холму. Мотоцикл мощно взбежал на него, и в какой-то миг Бойко даже растерялся, так неожиданно выпрыгнула из-за гребня маленькая уютная деревушка.
Здесь была одна-единственная улица, давно уже не езжен-ная, поросшая бурьяном и высокой травой, плотно облегающей полуразрушенные, почти черные и поэтому необычайно мрачные заборы домов.
В самом конце улицы, возле глубокого, с рваными краями оврага, в приземистом бревенчатом срубе обитал Кравчак, поселившийся здесь после отбытия последнего наказания. Сержант видел его один раз. Это было в тот день, когда Степан вернулся из колонии и пришел в отдел отметиться о прибытии. Мужик он был здоровый, кряжистый, говорил косноязычно, глядел исподлобья и время от времени хрустко мял друг о дружку огромные короткопалые кисти рук. В городе остаться не пожелал, хотя ему это было разрешено, а сказал только: «В Лиховку пойду, там батя жил когда-то». И ушел, перевесив двустволку через плечо, — тяжелый и молчаливый. Жил спокойно, охотился, и сведений о каких-либо преступных действиях с его стороны не поступало.
Натужно тарахтя, выплескивая из-под колес комья черной грязи, мотоцикл дотащился до середины улицы.
— К дому не подъезжай, — сказал Ломов, бросив потухшую сигарету, — неровен час, они там уже самогон хлещут, сверни-ка вон к той хатенке забитой. Порасспросим соседей Степана.
Пока он выбирался из коляски, Бойко потопал затекшими ногами, одернул китель, привычно похлопал по кобуре. Ломов повторил его движения, за исключением того, что вместо кителя одернул куртку, а рукоятку пистолета нащупал, сунув руку под мышку.
Тихо было в деревне, вольно как-то, дома ненастоящими казались, ветер в соснах шумел неназойливо, успокаивающе.
— Хорошо! Правда, товарищ капитан? — Бойко потянулся упруго, как после хорошего, доброго сна, и улыбнулся безмятежно, по-детски.
— Угу, — отозвался Ломов и, махнув сержанту рукой, неторопливо двинулся вдоль заборов.
Они не успели сделать и несколько шагов, как на противоположной стороне улицы увидели вышедших из-за заколоченного дома, видимо бывшего магазина, двух людей. Брезентовый плащ одного был наглухо застегнут, на голове его серела кепка. Другой, совершенно лысый, был без шапки. В руках он держал обрез двустволки, держал на изготовку, умело, чуть расслабленно. Лицо Лысого поначалу вытянулось в изумлении — вряд ли он ожидал увидеть здесь работников милиции, — но уже через мгновение по губам его заскользила злорадная улыбка.
«Лихо они сорок километров отмахали. Никто и подумать не мог», — машинально отметил Ломов.
Бойко вмиг замер, слегка согнувшись, скосил глаза на Ломова, увидел, как затвердело у него лицо, сузились глаза, сделались злыми, колючими. Бойко не испугался. Армия и работа в милиции приучила его не спешить в таких ситуациях, но ему вдруг почему-то стало жалко себя. «Не думай об этом. Никакой жалости, — несколько раз сказал он себе, — все обойдется. Мы выкрутимся… Надо думать о том, что предпринять. Только об этом. Так. Интересно, как эта лысая сволочь реагирует на движение».
Сержант чуть сдвинулся с места. Лысый вскинул обрез и сказал спокойно, даже весело:
— Не дергайся, мент, я с тобой потом на разные темы побеседую, когда вот дружку твоему — оперу жакан в кишки вставлю. Уж очень они, опера, вредные, так и жди от них в любой момент какой-нибудь бяки. Ой, а что же ты побледнел, а еще пиджак с погонами носишь…
«Откуда он знает, что Ломов опер, — подумал Бойко, — видел где-нибудь?»
— Да вы чего, — голос сержанта враз осип, — да не опер он, дружинник…
— Погоди, — остановил его Ломов. — Они знают, кто я, им Степан, видать, рассказал.
— Догадливый, — усмехнулся Лысый и смачно сплюнул под ноги. — Только догадливость при тебе и останется. Отловить нас, стервец, приехал? Выкуси, я еще не один годок поживу, пошумлю на шарике этом поганом. А вот ты, гад, получай за души наши загубленные…
Бойко опередил Лысого на долю мгновения, рванулся что есть сил вбок, в сторону от капитана. Он не думал в этот момент ни о чем, просто еще в армии в кровь и плоть ему впиталось строгое воинское правило — береги командира. И сейчас совершенно инстинктивно он отвлекал внимание Лысого на себя. Раскаленный кусок свинца разорвал ему грудь. Отброшенный страшным ударом, он рухнул наземь и, дрогнув, замер.
При звуке выстрела Ломов стремительно прыгнул вправо, и, выдернув пистолет из кобуры, повалился в густую упругую мокрую траву. Прыжок был для Лысого неожиданностью, поэтому он поспешил выстрелить еще раз, и пуля из второго ствола чмокающе вонзилась в тяжелый приземистый забор. А капитан, вытянув вперед руки с пистолетом, уже катился по земле, выстрел за выстрелом посылая в сторону бандита. Сейчас попасть в него было невероятно трудно. Лысый и не пытался этого сделать — перезаряжать обрез под огнем было глупо. Он и его напарник, пригнувшись и петляя, кинулись к заколоченному магазину. Ломов чертыхнулся, потом стремглав поднялся и выпрямился на какие-то секунды. Он хотел посмотреть, как там Бойко. И в десятке шагов от себя увидел застывшее в нелепой позе его тело, его глаза, удивленные, широко распахнутые, недвижные. Сухо щелкнул выстрел, и Ломов мгновенно повалился в траву.
— Брось обрез, или я стреляю! — ворвался в установившуюся вдруг мертвую тишину чей-то громкий звенящий голос. Он исходил откуда-то справа, сзади. Ломов повернул голову. Шагах в сорока от него в окне избы, фасад которой выходил на улицу, он различил крупного светловолосого мужчину в белой рубашке. В руках у него была двустволка. И тут словно в ответ на угрозу бабахнул выстрел, затем второй. Лысый стрелял, укрывшись за углом бывшего магазина. Человек в окне отпрянул и исчез из виду. «Убит», — подумал Ломов.
…Нет, человека в белой рубашке — Сергея Артюхина — не убили. Он просто отшатнулся, когда прозвучал выстрел. Медвежий жакан с сухим треском впился в оконную раму, и мелкие щепы полетели в разные стороны. Одна из них процарапала ему щеку. Он провел рукой по ссадине и выругался — на пальцах была кровь. Вновь приблизившись к окну, он осторожно выглянул. Стрелявший — лысый коренастый мужик — уже перевалился через забор соседнего с заколоченным магазином дома. Вслед за ним забор быстро и ловко преодолел его напарник. «Браконьеры?» — подумал Артюхин. Они люди злобные и отчаянные. Случается, что и счеты таким вот образом сводят. «Так, хорошо — рассуждал Артюхин, стоя посреди комнаты, — эти двое скрылись, но ведь в них кто-то стрелял. Где же те, другие?»
Он ступил в сторону и посмотрел налево, туда, где начиналась улица. Сначала ничего не увидел, но потом взгляд его наткнулся на неподвижно лежащего в траве человека. Можно было различить сверкающие на солнце сапоги, коричневую кожаную куртку «Готов», — подумал Артюхин. Но вот человек шевельнулся и медленно, как бы нехотя пополз в сторону его, Артюхина, дома. «Этого еще не хватало», — озлился Артюхин. Он поудобней перехватил двустволку и постоял немного в нерешительности. Досадливо поморщился, отставил ружье к стене, опять взглянул в окно. Прикинул на глазок расстояние до человека в кожаной куртке — чуть больше полусотни метров примерно, после чего, сунув руки в карманы, сделал несколько шагов по комнате, затем снова вернулся к окну. Человек приблизился ненамного. Полз он очень медленно — видимо, остерегался выстрелов с противоположной стороны улицы. «Зря, конечно, я влез в это дело, — пожалел Артюхин, — мог бы переждать, пока эти стрелки решили бы свои проблемы и убрались отсюда». Он опять прошелся по комнате, остановился перед дверью. За ней была мать. Интересно, слышала она эту дурацкую пальбу? Наверное слышала — охотничьи ружья гремят серьезно.
Он открыл дверь, вошел в соседнюю комнату. Там царил полумрак, ставни закрыли еще с утра. Матери мешал яркий свет. Маленькая, худая, жалкая, она лежала на высокой, с железными никелированными спинками кровати. В ее покрасневших запавших глазах таился испуг.
«Бог мой! Как она изменилась с тех пор, как я видел ее в последний раз, — тоскливо подумал Артюхин — Еще полгода назад, зимой, когда приезжала ко мне была энергичной, суетливой. Все по театрам меня таскала Я бы сам сроду не вырвался. Бегала, книжки любимые доставала и все никак городом надышаться не могла. Она же ведь горожанка, а вот полжизни в деревне прожила. Нет, совсем не она это, сухонькая, совсем крохотная…».
— Что за пальба там такая? — тихо спросила мать. — Ермолай балует?
— Да, Ермолай, — попытался улыбнуться Артюхин, — карабин пристреливает. Ты не волнуйся.
— Хорошо, — успокоилась женщина. — Ты когда уезжаешь?
— Когда ты поправишься, мы уедем вместе…
— Поправлюсь ли?
— Не сомневаюсь, — Артюхин беспокойно оглянулся на дверь. — Отдыхай, я буду рядом, — добавил он и вышел.
Теперь он знал, что надо делать. Пускай эти бандюги попробуют сюда сунуться, встреча будет достойная.
Первым делом он достал из-под шкафа коробки с патронами. Патронов было много, и это его успокоило. Стрелять-то он умеет отменно. Потом вышел в сени и закрыл входную дверь на массивную железную щеколду.
На столе в комнате он рассортировал патроны. Медвежьи жаканы отложил в одну сторону, дробь — в другую. Жакан, конечно, надежней, но там за окном не звери ведь — люди. Артюхин усмехнулся, переломил ружье, вынул жаканы, насытил стволы дробью.
Все. Сейчас можно сидеть и ждать, как будут разворачиваться события. Если эти вольные стрелки уйдут, прекрасно, ну а если пожалуют в гости, то милости просим, угощенье будет знатное.
Сперва он услышал глухие, далекие удары — кто-то барабанил в запертую калитку. Это, наверное тот, в кожаной куртке. Артюхин встал сбоку от окна, крепче сжал ружье.
— Иди своей дорогой, парень, — крикнул он отчетливо и зло, — тебя здесь не ждут.
— Моя фамилия Ломов, — голос отвечавшего был хриплый, придушенный. — Из милиции я! Прошу вас, откройте!
Артюхин изумленно поднял брови. Из милиции?.. Врет? Ну что ж, посмотрим. Рискованно, правда. А если действительно это милиционер?
Громыхнула щеколда. Артюхин взвел курки, толкнул дверь. К калитке он подходил осторожно. Песок отрывисто поскрипывал под сапогами.
— Слушай внимательно, — сказал Артюхин, привалившись плечом к забору. — Если оружие с собой, как я понял, у тебя пистолет, положи его в карман, чтобы руки были свободными, в противном случае не открою.
— Хорошо, — ответили за калиткой. — Открывайте, я готов.
В этот момент грохнул выстрел, где-то рядом взвизгнула пуля.
— Скорей! — крикнули за забором.
Артюхин ударил ребром ладони по щеколде и отскочил в сторону.
Калитка стремительно отворилась, и Ломов нырнул во двор. Затем он вскочил, быстро закрыл мягко вращающуюся на хорошо смазанных петлях дощатую дверь, кулаком вогнал щеколду в паз.
— Ну, наконец-то, — выдохнул он. Вымученно улыбаясь, он уселся прямо на землю.
Артюхин не спускал с непрошеного гостя глаз. Два ствола его ружья упрямо смотрели незнакомцу в грудь.
— Это еще не все, — сухо проговорил он. — Удостоверение? Вынимай медленно.
— Бдительный вы товарищ, — Ломов удивленно мотнул головой. Затем он медленно, как и просили, извлек из внутреннего кармана куртки красную книжечку и кинул ее Артюхину. Не опуская ружья, тот открыл удостоверение. Внимательно прочел, краем глаза наблюдая за Ломовым.
— Ну вот, теперь все, — сказал он, облегченно улыбнулся, приставил ружье к забору и протянул руку, — Артюхин, инженер.
— Ну что ж, будем знакомы, — сказал Ломов, поднимаясь и запихивая удостоверение в карман. Он с силой провел ладонями по лицу, кивнул Артюхину, мол, погоди немного, шагнул к забору, отыскал в нем щель, приник к ней.
— Задами им не уйти, — негромко заметил Ломов, — там овраг, отлогий и глубокий, значит, дворами пробираться будут и пройдут, видимо, к реке вправо, потому что слева место пустое, да магазин еще… влево не пойдут.
Артюхин встал радом с ним и заглянул в щель. Дом, куда ворвались бандиты, был совсем радом, метрах в тридцати. Резной ажурный флюгерок вольно вертелся на гребне крыши. Предназначался он, когда его сделали, наверное, не для этого дома. Потому что его изысканность никак не вязалась с тяжелой, угрюмой избой.
— Кто там живет? — спросил Ломов, перезаряжая пистолет.
— Дед Ермолай со старухой… Все здешние на промысле, а он дома — хворает.
Ломов повернулся к инженеру, разглядел его внимательно, машинально отметив, что парень он хоть и массивный и роста немалого, но двигается легко и уверенно.
— Откуда ты здесь? — спросил он.
— Четыре дня назад умер отец, — ответил Артюхин. — Вчера были похороны. Мать слегла. Вот жду, пока поправится, заберу ее к себе в Свердловск. Время терпит, в отпуске я.
— Ясно, — Ломов помолчал. — Ясно, — повторил он. — Один ты у нее?
Артюхин кивнул.
— Да, что поделаешь? Я своего отца восемь лет как схоронил… Крепись.
Артюхин благодарно улыбнулся.
— Так что ж произошло? — спросил он.
Ломов разъяснил ситуацию.
— Понятно, — задумчиво протянут Сергей. — Парня-то как жалко. А может, он еще жив? — с надеждой спросил он. Ломов отрицательно покрутил головой — он-то видел, как Леше разворотило грудь, — и вдруг совершенно неожиданно выругался. Артюхин положил ему руку на плечо, успокаивая.
— Я-то думал, браконьеры счеты сводят, — сказал он. — Тебя за одного из них принял. Ну, теперь все в порядке. Вдвоем-то мы отобьемся. Верно?
— Эй вы, фрайера захарчеванные, — вдруг услышали они громкий голос Лысого. Говорил он теперь не спокойно и весело, а сипло и раздраженно. — Разойдемся по-мирному, вы нас не видели, мы вас не трогали. Вас двое, нас двое, силы равные. Ломиться начнете — разотрем.
Лысый, видимо, понял всю сложность своего положения. Сзади овраг, слева пустое пространство, перебежать не успеешь — подстрелят. Справа, у соседнего дома, забор высоченный, пока перескочишь, собьют, как воробья из рогатки.
— Слушай, Сенявин! — крикнул Ломов и дослал патрон в ствол. — Погоди маленько, нам подкрепиться надо, а то мы с утра неевши… Потерпи чуток, еще поговорим, успеем.
— Ну гляди, кум, пожалеешь, сорвут с тебя погоны твои, ты, может, не знаешь, у нас тут дедуля с бабулей, может, их пригласить с тобой побеседовать, а?!
— Да, — Ломов скривил губы в невеселой усмешке, — положеньице. Помощи ждать нам неоткуда, да и послать некого, вот дела…
— Вот оно что, — как-то отчужденно проговорил Артюхин, и лицо его сделалось непроницаемым.
Он присел на стоявший рядом чурбак, вынул мятую пачку «Примы», закурил, несколько раз коротко затянулся. Ломов молчал. Он стоял неподалеку, сунув руки в карманы, и ковырял носком сапога в земле, попадавшиеся камешки резко отфутболивал к забору. Сергей поднял голову, посмотрел на него, встретив взгляд, быстро отвел глаза.
Ломов подошел к забору, наклонился к щели, вернулся обратно.
— Ты понимаешь… — начал было он.
— Я все понимаю, — оборвал его Артюхин, — но помочь тебе ничем не могу.
— Мне? — удивился Ломов. — Мне помочь? Ты в своем уме?
Артюхин молча курил. При затяжке щеки его глубоко втягивались, обостряя скулы. Потрескивал сухой табак в сигаретке.
— Ты знаешь, кто там? — тихо, но внятно произнес Ломов. Он махнул в сторону забора и наклонился к инженеру. — Тамубийцы.
— Уже слышал, — Артюхин растер докуренную сигарету каблуком. — Ты не думай, у меня здесь, — он сжал огромный кулак, — силы на троих хватит. Понял? Но нельзя мне.
— Нет, не понял, — Ломов налился злостью. — Ты что, девка на выданье? Ах, наверное, сердце у тебя очень нежное. Непротивление злу насилием. Или, может быть, все гораздо проще? Моя хата с краю. Пусть делают что хотят, лишь бы меня не трогали? Так, что ли?
— Нет, не так! — остервенело выкрикнул Артюхин, стремглав вскочив на ноги. — Мать у меня, одна она!
«А у меня жена рожает. Мне на своего ребенка, между прочим, взглянуть хочется», — чуть не вырвалось у Ломова, но он сдержался — ни к чему это, не к месту, не по-мужски как-то. Однако от этих непроизнесенных слов ему стало не по себе, разом пропало всякое желание что-либо делать и говорить. Он с недоумением обнаружил, что так крепко стиснул зубы, словно хотел смолоть их в порошок. Пересилил себя он с трудом, но достаточно быстро. Не прошло и нескольких секунд, как лицо его приобрело насмешливое выражение. Он кривенько ухмыльнулся:
— Все понятно. Любящий сын почтенных родителей.
— Ах ты гад! — угрожающе процедил Артюхин, хватая правой рукой Ломова за ворот куртки.
— Эй, начальники! — Сенявин орал во всю мощь, и голос его звенел от напряжения. — Времечко-то идет. Я долго ждать не намерен. Давайте скорей. Нам-то терять нечего…
Ломов сбросил с себя руку инженера, неприязненно посмотрел на него и презрительно усмехнулся.
— Мы думаем, думаем, Сенявин! — быстро и раздраженно прокричал он. — Обожди немного, не так все просто.
— Порешительнее надо быть, начальник, — хохотнул Сенявин. Он, видимо, уже успокоился.
— Слышал? — спросил Ломов, растягивая губы в ледяной улыбке. — Это про тебя.
— Отстань! — отрубил Артюхин. Он отвернулся, подошел к избе, провел пальцем по наличнику окна, посмотрел на ладонь — она была черная от пыли, отряхнул ее и, не говоря ни слова, вошел в дом.
И вдруг Ломов отчетливо осознал, что не то он говорит, совсем не то. Молчал бы лучше, зачем он так, зря только парню душу травит. Положение у него незавидное. Не нужен ему этот симпатичный малый. Он сам все сделает как надо. Он же в подобных переделках уже не раз бывал за восемь лет работы в милиции. Ломов сунул руку под куртку, нащупал флажок предохранителя, отвел его назад, усмехнулся чему-то и сделал первый шаг к калитке. Затем второй, потом пошел уверенней, но все равно со стороны движения его казались вялыми, неестественными. Калитка была совсем близко, когда он внезапно остановился. Он ясно понял, что за калитку не выйдет. Что-то мешало ему. Ломов глубоко вздохнул, мотнул головой… Надо же, сроду такого не было. Постояв с минуту, подошел к забору, опять прильнул к щели. Дом Ермолая выглядел мирно: ни за темными глубокими провалами окон, ни во дворе — часть его Ломов видел отлично — не было ни намека на движение. Надо идти, конечно, ждать больше нельзя. Надо идти, говорил себе капитан, надо идти и… не двигался с места. Он в сердцах со всего размаха хватил ладонью по забору, будто он был в чем-то виноват. Рассохшиеся доски гневно прогудели в ответ.
Дурацкий день. Сначала бандиты, появившиеся там, где по всем расчетам их быть не должно, потом Леша Бойко… а теперь эта непонятная, непривычная для него в такие минуты нерешительность. Ломов нервно осмотрелся, пошарил глазами по двору. Он не знал, что ищет. Но что-то надо было сделать, все равно что, но только не стоять вот так в бездействии. У него даже мышцы заныли призывно. Встряхивая руками, как боксер перед боем, он пружинисто прошелся по двору. У крыльца дома стремительно развернулся, словно на строевом смотре. Подошел к сараю и тут увидел чурбак, на котором колют дрова, а на нем топор, чуть покрытый ржавчиной, но мастерски отточенный. Он наклонился, взял топор, поиграл им в руках, словно примеряясь, привыкая к нему. Огляделся в поиске дров, увидел неподалеку поленце, шагнул к нему — и выскользнул тут топор из его рук, перевернулся в воздухе и шмякнулся топорищем прямо на ногу. Тупой болью ожгло пальцы. Не сдержавшись, носком сапога он поддел топор и яростно отшвырнул его к сараю. Тот пролетел с метр и с грохотом ударился о стенку. За тонкой перегородкой всполошенно закудахтали куры. Ломов внимательно посмотрел на сарай, потом на топор, потом перевел взгляд себе на ногу и вдруг рассмеялся…
…Артюхин никак не мог вспомнить лицо отца. Он не хотел смотреть фотографию, что под черным бантом висела на стене. Он силился нарисовать родное лицо в воображении и не мог. Никак не мог. После того как он увидел отца на столе в горнице — высохшего, окаменевшего, чужого — в одночасье стерлись в памяти его живые глаза, низкий усмешливый голос, тяжелая походка. Представить все это Артюхин уже не мог. Он просто знал, что у отца были живые глаза, низкий голос… За месяц до смерти, будто предчувствуя ее, он наказывал сыну в письме, написанном коряво, неровными строчками, но на редкость грамотно: «Если со мной случится что, всяко, сын, может быть, помни, что ты у нас один, и жизнь, и радость благополучия матери на твоей совести останется. Помни!»
Он все-таки поднял глаза к фотографии, проговорил тихо: «Я помню, отец». Он встал из-за стола, толкнул дверь в комнату матери.
— А я уж хотела звать тебя, — увидев сына, сказала женщина. Она сделала слабую попытку улыбнуться краешком губ, но не получалось. — Я плохо слышу, но мне кажется, я различала голоса. У нас гости?
— У нас гости, — ответил Артюхин, внимательно разглядывая мать, будто видел ее впервые.
Они помолчали с полминуты.
— Помоги мне выйти на улицу, — неожиданно попросила женщина. — Я устала все время смотреть в потолок.
— Тебе нельзя вставать, — ответил Артюхин. — К тому же у нас гости. Когда они уйдут, я вынесу тебя во двор.
Женщина закрыла глаза, повела подбородком:
— Сережа, не надо скрывать ничего от меня. У тебя это плохо получается. Кто там? Бандиты? Что они хотят?
Артюхин не ответил.
— Значит, я права, — горько усмехнулась женщина. — Раз ты молчишь. — Она вздохнула и продолжала после паузы: — Я не должна тебе этого говорить, ты сам волен решать, как тебе поступать, но все-таки скажу. Я всю жизнь боялась за отца. Он не умел беречь себя. Я не хочу, чтобы ты унаследовал это его качество…
Она недоговорила — Артюхин приложил палец к губам. Он услышал грохот, а потом паническое кудахтанье кур. Артюхин нахмурил брови, бросил матери: «Обожди!» — выскочил на крыльцо и увидел у сарая Ломова. Капитан стоял, сунув руки в карманы, и невесело усмехался.
— Эй, друг, ты чего? — осторожно спросил Артюхин. Ломов, казалось, не слышал. Артюхин подошел ближе:
— Что с тобой?
Ломов ответил не оборачиваясь:
— Разминаюсь.
— Да ты рехнулся! — Артюхин вдруг вскипел. — Ты где должен быть? У забора, у щели, — задыхаясь от негодования, выкрикнул он. — Ты за ними смотреть должен. У них же ствол в руках. Они же черт те чего понаделать могут! А может, они ушли уже?!
Ломов несколько раз глубоко вздохнул, вдыхая воздух резко, с шумом, рукавом рубашки отряхнул щепы и крошки с чурбана, присел на него. Поднял глаза на Сергея, и не было в них ни тени беспокойства, а затем внезапно крикнул во весь голос:
— Сенявин, как самочувствие?
— Плохо, начальник, — донеслось с другой стороны улицы.
— Тяготят меня стены. На волю хочу.
Ломов не дал ему закончить.
— Терпи, Сенявин, терпи! — усмехнувшись, крикнул он. — У меня сегодня с тобой долгий будет разговор.
— Пу меня тоже, — тихо добавил Артюхин.
…К магазину Ломов вышел вроде бы незаметно. Сначала двигался вплотную к заборам соседних дворов, затем стремительно проскочил метров пятнадцать пустого пространства от забора последнего двора к заколоченному бревенчатому срубу магазина. На мгновение опустился на землю, прямо в приютившиеся у завалинки громадные лопухи, вздохнул несколько раз глубоко, успокаиваясь, вынул пистолет, сдул зачем-то с него пылинки, пружинисто поднялся и осторожно выглянул из-за угла. Забор двора, где засели бандиты, был невысок, метра полтора, за ним чернел прокопченными бревнами добротный сарай, а дальше уже стоял и сам дом. Планировка, скорее всего, там обычная — сени, комната на три окна с печкой, непременным массивным столом, за ней еще одна комната, немного поменьше, там спят. Старики, наверное, в маленькой комнате, вряд ли Лысый будет подставлять их под пули. Невыгодно. Со стариками, видимо, его напарник, прикрывает тылы. Значит, прежде всего надо было проникнуть в комнату, где Лысый, обезвредить его, хотя, конечно, хорошо было бы взять этого подлеца живым. На шум должен выскочить второй, судя по физиономии он не настолько умен, чтобы остаться со стариками и держать их на мушке, хотя они были бы для него надежной защитой. Может быть, конечно, все произойдет и не так, как предполагал капитан. Может быть, бандиты действовали бы вопреки логике, черт их знает, что у них в голове. Но Ломов работал в милиции не первый год и достаточно хорошо представлял, как могут повести себя в такой ситуации преступники, во всяком случае большинство из них. Ничего нового они выдумывать не будут — времени нет, да и рискованно. Прошло минуты три, Артюхин молчал. «Что же он, не случилось ли чего?» — подумал Ломов. И тут вдруг почувствовал неудобство, будто кто-то смотрит на него со спины. Он замер, прислушиваясь, но только ветер шелестел в сосняке, и безмятежно пели птицы, затем ступил в сторону и, стремительно перевернувшись, упал на траву, вытянув руку с пистолетом. У того забора, откуда он пробежал к магазину, стоял Степан Кравчак. Ломов узнал его сразу. Был он в брезентовом плаще с капюшоном, на голове потертая ушанка. Степан, вытянув в сторону Ломова руку и насупив брови, выговорил с трудом:
— Ты это, начальник, не того, они пришли ко мне, я их прогнал. На кой они мене, слышь, начальник, я им, того, и пошамать не дал. Волки они, ружо отняли, стволы поотбивали, во, в зубы мене тычину дали… Я, это, адресок Егорке Сенявину от души дал, сказамши, как срок выйдет, приходь, угошшу… А он…
Ломов поднялся, отряхнул пыль с рукава, оглянулся, убедился, что из дома деда Ермолая их не видно, сказал, недобро усмехаясь.
— Шел бы ты отсюда, Степан. Сам понимаешь. Доверять тебе у меня нет оснований. Откуда я знаю, что ты не пальнешь ненароком мне в спину? Иди, потом поговорим.
— Слышь, начальник, — Кравчак из всех сил обминал друг об дружку мясистые ладони, — я ничего. Это… Там у Ермолая окно боковое, ну что на нас глядит, на сельпо, не закрывается оно, слышь, ты его, это, не разбивай, а пихни легонько, там крючка нет. Вот. И, это, Егорка Сенявин шмаляет шибко, здорово, ты, того, поосторожней… Он знает, кто ты. Это я сдуру вчера про тебя накалякал.
Кравчак замолчал, повернулся и, тяжело ступая, скрылся за углом. Ломов задумчиво посмотрел ему вслед.
Два выстрела подряд грохнули так неожиданно, что Ломов вздрогнул и невольно пригнулся. Артюхин безумствовал, как мог. Он истошно орал, поносил весь преступный мир на чем свет стоит, кричал, что сам попросится приводить в исполнение смертные приговоры, всячески обзывал Лысого и стрелял не переставая. «Он свихнулся, — подумал Ломов, — что он так орет-то?» Потом, вспомнив, что сам приказал Артюхину создавать побольше шума, усмехнулся — этот приказ инженер понял по-своему. Надо было только стрелять почаще, а он еще и голосил на всю округу. Ну да ладно, это тоже неплохо. Ломов выглянул из-за угла. Артюхин был совсем близко от дома и безостановочно палил в его сторону. Лысый выстрелил в ответ только один раз, да и то лить для острастки, потому что инженера скрывал забор дома деда Ермолая, невысокий, но внушительный, сколоченный из толстенных досок.
«Пора», — решил Ломов и, пригнувшись как можно ниже, стремглав пронесся до забора, перемахнул его, застыл на секунду и в два прыжка достиг дома. Боковое окно комнаты, откуда стрелял Лысый, приходилось Ломову на уровне подбородка. Он осторожно посмотрел сквозь стекло, но ничего не увидел, приподнялся на мыски, оперся ладонями о подоконник, подтянул на руках тренированное тело, это было очень неудобно, потому что правая ладонь стискивала пистолет, и с неимоверной силой перебросил свое тело через подоконник. Окно поддалось легко — оно действительно было открыто. Ломов упал на пол левым боком, стремительно перевернулся и, еще не видя Лысого, выстрелил два раза в сторону окна на фасаде, примерно туда, где Лысый должен был находиться. В ответ оглушительно прогрохотал обрез, и правую руку капитана отбросило назад, пистолет отлетел в дальний угол. Ломов вскрикнул от боли и только теперь увидел Лысого: он стоял почему-то на коленях и был окутан белесым пороховым дымом. Ломов стремительно вскочил на ноги. Прыжком преодолел расстояние, отделявшее его от Лысого, ударом ноги выбил обрез и навалился на него всем своим восьмидесятикилограммовым телом. Лысый зарычал по-звериному, попытался вывернуться, но не смог. И тут Ломов понял, что тот ранен, потому-то он и стоял на коленях. Левой рукой Ломов уперся Лысому в подбородок и крепко придавил его голову к полу.
Справа от окна треснул выстрел. И, круто обернувшись, Ломов увидел в проеме потное злое лицо Артюхина, двустволка лежала поперек подоконника, в следующее мгновение инженер мог сделать второй выстрел, но этого не понадобилось. Ломов приподнялся над Лысым, повернул голову в другую сторону и наткнулся взглядом на лежащего у двери бандита в черном, наглухо застегнутом ватнике и серой ушанке.
…Ломов вышел на крыльцо, вытер лицо и глухо вскрикнул от боли — правую ладонь будто ошпарило. Пуля попала в пистолет и выбила его. Удар был короткий и сильный. Он пришелся и по ладони. Теперь кисть начала постепенно синеть. Он поднес руку к глазам, усмехнулся и подумал: «Какая чепуха». С усилием переставляя ослабевшие ноги, он спустился с крыльца и присел на завалинку, прислонился спиной к стене, откинул голову, закрыл глаза и подставил лицо яростному июльскому солнцу.
— Пойду посмотрю, как там мать, — услышал Ломов голос Артюхина неподалеку. Хлопнула калитка. — Я скоро! — крикнул он уже с улицы.
Прошло минут пять, и Ломов почувствовал, что он не один во дворе.
— Это опять ты, Степан? — тихо спросил Ломов. Глаза он так и не открыл. До чего же хорошо было вот просто так сидеть и совершенно ничего не делать.
— Я, — отозвался Степан.
— Ну, теперь говори, что хотел.
— Это, Егорка-то жив?
— Жив, связанный лежит.
— Ага. Плохо он начал, вот и кончит плохо. Душегуб. Я счас сержанта твоего видел убиенного. Молодой совсем, ладный был.
Ломов промолчал.
— Мне чего будет за пальбу-то энту? — опять заговорил Степан.
— Допросим Сенявина, если все было, как ты рассказал, можешь жить спокойно.
— Ага, — Степан вздохнул.
Ломов наконец открыл глаза и первым делом уставился на огромный мешок, который лежал возле ног Степана.
— Это что же там у тебя? — поинтересовался он.
— Анструмент, — нехотя ответил Степан. В подробности он вдаваться не стал, оторвал мешок от земли, в нем что-то глухо лязгнуло, и двумя руками поднес его к окну.
— Ермолай! — гаркнул он в проем. — Ермолай, спишь, что ли?
— Чего тебе? — донесся из окна тихий старческий голос.
— Это… капканчики тебе свои принес. Справные они все, надежные, получше твоих отлажены. Вот. Они мне, того, не понадобятся. И еще, это, я избу заколачивать не буду. Коли чего нужно, бери, не стесняйся. Дровишки бери обязательно. Вот.
Ермолай молчал некоторое время, потом прогудел:
— И ты, значит, из Лиховки…
— Ага, Ермолай, и я.
…В райцентр Ломов вернулся к ночи. Отослал наряд в Лиховку, написал подробный рапорт, нашел в записной книжке адрес родителей Леши Бойко, хотел было пойти к ним сейчас, немедленно, дошел уже до двери кабинета, но переступить порог не смог как ни уговаривал себя. Вернулся к столу, опустился в кресло и долго сидел, отрешенно разглядывая потрескавшуюся полировку стола, и только после этого потянулся к телефону и набрал въевшийся в память номер.
— Что же вы так поздно справляетесь? — с доброй укоризной сказали ему. — Ох, мужчины, все гуляете. Дочка у вас родилась. Шестой час ей пошел…
ПЕРЕГОН
 Он мог не пойти по этой улице. По ней редко кто ходил. За исключением, конечно, тех, кто там жил, кто обитал в этих серых, неуютных с виду домах-глыбах, домах-булыжниках. Если смотреть на них прищурившись, чтобы окна превращались в расплывчатые темные провалы, а карнизы и водосточные трубы в веревочки трещин, здания и впрямь напоминали огромные валуны, валявшиеся здесь тысячи, миллионы лет, еще с ледникового периода. Четырехэтажные, коренастые, угрюмые, они даже днем, даже солнечным разудалым утром нагоняли тоску, а вечером и ночью так уж и подавно. В каждом большом городе, наверное, есть такие улицы. И без сомнения, те, кто строил их, и думать не думали, что их творения будут представлять такую угнетающую унылость, а вот вышло так, хотели не хотели, а вышло, и все тут. И даже деревья, ютившиеся возле домов, чахлые были, поникшие, щербатые. По всему городу — яркие, мясистые, а здесь щербатые. А по вечерам на всю улицу лишь пара фонарей. Больше, может быть, и не надо, улица-то короткая, прямая, без ям, без выбоин, без коварных асфальтовых трещин, не споткнешься, не упадешь; туда, куда надо, наверняка выйдешь, к Звездному бульвару, к автобусам и троллейбусам, к свету, к толпам спешащих людей — так что, может быть, больше и не надо фонарей. Но все равно там редко кто ходил. К бульвару через другую улицу шли, параллельную, широкую, светлую, веселую, довольную собой, эдакую преуспевающую улицу, с широченными прямоугольниками магазинов, с кое-какой неоновой рекламкой, не совсем новую, может быть, даже ровесницу той, своей соседки. А если помоложе, то ненамного. Данин здесь бывал нечасто, когда необходимо было приехать в институтские архивы, когда без этого просто не обойтись или когда начальство требует, проверив вдруг книгу посещений и рассвирепев от лености и нелюбознательности своих сотрудников. Для кого-то архив этот наверняка представлял интерес. Там было много неизученных, занятных, очень редких документов, но того, что вот уже полтора года интересовало Данина, там не было. Для этого надо было ехать в Ленинград, в Москву, самому искать, самому копаться в архивах, потому что по запросу для тебя этого делать не будут, а если и будут, то так долго, что замаешься ждать. Правдами и неправдами два раза он уже вырывался в краткосрочные командировки, кое-что успел, но это был мизер, песчинка из того, что он хотел узнать. Так что и жизнь и деятельность начальника Петербургской сыскной полиции Николая Александровича Румянцева, его роль в раскрытии крупнейшего преступления начала века — ограбления Ростовского банка — еще оставалась для Вадима скрытой завесой не то чтобы уж неизвестности, но, скажем так, малой известности. А дело это было наинтсреснейшее. Правительство России привлекло к нему заморских специалистов, детективов из сыскного бюро Ната Пинкертона, а все равно раскрыл-таки его наш сыщик, отечественный, — полковник Румянцев. Руководство института и непосредственный начальник Вадима смотрели на эти его изыскания косо, с сомнением и недовольством, но пока не препятствовали, если это не мешало основному заданию группы, в которой работал Данин.
Вышел он в тот день из архива поздно, когда уже вежливо, но со старательно скрываемым раздражением, сонные, уставшие за день, похожие друг на дружку, как близнецы, пожилые дамы-архивариусы, чуть ли не в один голос попросили его доделать столь важную и неотложную работу завтра, с утречка пораньше, а сейчас домой, баиньки, нам еще, мол, все проверить надо, по местам разложить, под охрану сдать… Он с охотой согласился — самому опостылело уже заниматься тем, что мало тебя трогает, хотя и надо было доделать все до конца, чтобы не приезжать завтра. Вышел, вздохнул глубоко, в который раз подивился, порадовался сладости, свежести августовского воздуха, в котором еще остались ароматы лета, хотя и примешивались уже к ним едва уловимые запахи осенней свежести и прохлады. Вадим огляделся, людей почти не было — двое-трое на другой стороне переулка — вынул сигарету, хотел закурить, но раздумал; воздух нынешний, плотный, обволакивающий, показался таким благостным, умиротворяющим, что сигарета сейчас только помешала бы, инородной была бы, чужой. Вадим сунул руки в карманы брюк, поежился от удовольствия и зашагал по переулку, по самой мостовой, благо что машины тут ходят редко и к тому же сбавив скорость до минимума — в начале переулка для них висел знак. Переулок уходил вправо — он кривенький был, старенький, не одно десятилетие застраивался, а потом через полсотни метров раздваивался, как змеиный язычок. Вправо та самая светлая и преуспевающая улица шла, слева в зыбком, неестественном свете — будто сами дома тускло светились — виднелась пустынная ее соседка.
…Он мог бы и не пойти по этой улице, а уверенно и привычно двинуться вправо и выйти к бульвару. И уже дошел до начала, уже различил приветливый ее лик и тут подумал, а почему влево-то никто не идет? Там же ближе, наверное, скорее к бульвару можно выйти, правда, от остановки дальше, да ему, собственно, и остановка-то не нужна, он решил сегодня побаловать себя, на такси домой махнуть. А подумав так, вспомнил, что когда возвращался из архива с коллегами, с женщинами из института своего, они почему-то здесь шаг убыстряли и первыми всегда говорили, указывая равнодушно рукой на преуспевающую улицу, мол, там пойдем, там ближе. Что за страхи такие? Или просто людей всегда к светлому, более радостному, более красивому, преуспевающему тянет? Они, видя все это, лучше себя чувствуют, у них надежда появляется или не пропадает по крайней мере, если была. Вадим усмехнулся — доработался, о какой ерунде думает. Значит, на такси, значит, влево, там все-таки ближе. Он пошел быстро, потом замедлил шаг непонятно почему. Показалось вдруг, будто пахнуло сыростью, тяжелой могильной сыростью. Он мотнул головой — точно, вегетативно-сосудистая дистония, сейчас тени мерещиться начнут. Нет, теперь уж он точно пойдет, посмеиваясь, по этой улице; преспокойно выйдет затем на бульвар, возьмет такси или частника и через десять-пятнадцать минут он дома. И посмеиваться будет над теми, кто по непонятно каким причинам не решался идти по этой тихой, безлюдной улочке, а повинуясь какому-то инстинкту, направлялся туда, где люди, где много таких, как он, где терялся среди похожих на себя, спешащих, деловитых, сосредоточенных, становился неотъемлемой их частью, растворялся в них, исчезал… А он вот, Данин, не исчезнет, не растворится, он пойдет один, не как все, против всех, и от этого было немножко приятно, и еще приятно было от того, что, если он и ощущал хоть какие-то сомнения, крохотные, ничтожные, то преодолел их. Это было как игра, с детства, с юности. Когда идешь, например, по улице и впереди себя видишь пьяную компанию местных забулдыг-драчунов, а с ними своих же сверстников, смачно сплевывающих, с нагловатой ухмылкой задирающих прохожих, чувствуя свою безнаказанность, потому что слышат за спиной тяжелое пьяное дыхание защитников. И так и тянет перейти на другую сторону или вовсе вернуться и подождать, пока те не уйдут. Ты один, и никто тебя не осудит, но не переходишь и не возвращаешься, а, преодолевая слабость в коленках и знобкую дрожь в желудке и незаметно облизывая вмиг пересохшие губы, идешь прямо, стараясь держаться как можно непринужденней и спокойней. Потому что если не пойдешь, то потом так прескверно себя чувствовать будешь, — недолго, правда, наутро чувства притупятся, но осадок останется, и потеряешь уверенность в себе. И походка у тебя изменится, и голос вдруг станет тише, и в споре будешь обязательно проигрывать и, вообще, ни с того ни с сего вдруг жалеть себя станешь. Но зато уж, если переломишь себя, деревянным шагом пройдешь мимо, да еще ответишь осипшим голосом дерзостью на дерзость и даже, если просто промолчишь, то уж тогда ты другой человек. Страх уходит, и сердце успокаивается, и наваливается тихая приятная радость, и губы ты сжимаешь плотнее, и взгляд делается тверже, насмешливей, ты ощущаешь это, ты видишь это по реакции других…
Данин усмехнулся. Смешно все это. Мальчишество. Ерунда. И, конечно, совсем не потому он направился по этой улице, чтобы доказать себе, что он решительный и достаточно смелый мужчина. Обыкновенная улица, обыкновенные дома, и живут там славные и добрые люди. И совсем она не мрачная и унылая, а даже наоборот, вон даже кое-где в окнах милые кокетливые занавесочки висят, а из углового окна на четвертом этаже музыка льется ласковая, неспешная — кажется, Тото Кутуньо. А пошел он потому, что не хотелось тереться среди людей, устал за день, а во-вторых, поскорее хотелось домой, к себе в однокомнатную удобную квартирку. Там, правда, никто не ждет его, да и слава Богу, не надо отвечать на вопросы, почему-то всегда очень глупые ближе к ночи, даже если задает самая умная женщина на свете: «Почему так поздно? Почему не позвонил? Почему не голодный?» и т. д. и т. п.
Тото Кутуньо, наверное, пел про что-то очень хорошее, потому что голос у него был медовый, проникновенный. Захотелось подтянуть, запеть вместе с ним, и представилась вмиг красивая, с умными глубокими глазами женщина (а секунду назад так не хотелось, чтобы тебя ждали) в строгом, но соблазнительном вечернем платье, и сам он себе увиделся в смокинге, в белой рубашке, загорелый, чуть утомленный, с небрежно зажатой меж пальцев сигаретой, что-то вполголоса, усмехаясь краешком губ, рассказывающий своей очаровательной собеседнице… Он вздрогнул, вдруг явственно услышав женский голос:
— Хватит! Все! Пусти, пусти меня! Я закричу сейчас… — Она и вправду пока не кричала, но истошный режущий крик уже подбирался откуда-то изнутри к ее голосовым связкам, еще секунда, еще мгновенье… Вадим понял это так же отчетливо, как если бы сам оказался на ее месте. Он огляделся. Никого.
— Да стой же ты, дура! — Мужской голос был низкий, прерываемый дыханием, обладатель его, наверное, хотел говорить спокойно и усмешливо, но слова прозвучали надрывно и угрожающе: — Куда? Куда ты пойдешь? К мужу? Ну иди, сволочь! Иди…
А потом Данин услышал звук удара, глухой, пугающий, потом еще один, а потом голос, другой, тоже мужской, пониже, визгливый, испуганный:
— Ты что! Убьешь ведь! Она и так еле дышит! Заявит ведь!
— Не заявит… — Переводя хриплое дыхание, отозвался первый. — Не заявит, уж я-то знаю. Не заявишь, ведь правда? Молчишь?
И опять удар…
Вадим остановился, как врос в асфальт, ноги перестали слушаться.
— Тихая улица, — пробормотал он, стараясь сбить дрожь внутри. — Добрые люди…
Он зачем-то расстегнул еще одну пуговицу на рубашке, потом сделал шаг, ноги опять подчинялись. Уже дело. Назад? Бог с ними, сами разберутся. А если муж и жена скандалят? Твое-то какое дело, тебя же и обвинят. А если нет? Ну и что? Они же знакомые, явно, что знакомые. Зачем встревать? Другое дело, что он бьет, и сильно бьет, и он не один. Да черт с ними в конце концов! Испугался? Уйдешь? Как же ты потом будешь себя ощущать? Наверное, так же, как и прежде, ты же не маленький уже. И не будет у тебя, как тогда в детстве, походка меняться и голос глохнуть… И опять-таки никого нет ни на тротуарах, ни на мостовой. Ты и они. Они и ты. И тебя никто не видит. Они за углом где-то, во дворе… Да и к тому же, право слово, кто-нибудь да высунется, не пустой же дом, слышат же люди, найдется хоть один из них нормальный человек. А ты ненормальный? Ты же слышишь? И ведь знаешь, что спать не будешь, если уйдешь; паршиво тебе будет, если уйдешь. В конце концов силенка у тебя тоже есть, ты же теннисист.
Он ощутил, как каждая мышца налилась, эластичной стала, упругой, и дрожь под желудком утихать стала, и через мгновение он и вовсе перестал думать о чем-либо. Побежал бесшумно, благо в кроссовках был, притормозил у угла и стремительно выскочил перед темными фигурами, как чертик из шкатулки. Женщина лежала на земле, возле нее стояли трое. Значит, их трое. Внезапно кураж пропал, и навалилась тоска, щемящая, расслабляющая, именно тоска, а не страх. И в последнем усилии, не надеясь уже ни на что, он яростно вскрикнул:
— Всем стоять! Не шевелиться! Я из милиции!
Почему из милиции, сам не понял, наверное, потому, что в таких случаях это слово само на ум приходит, оно как спасательная соломинка, как избавление, как щит. И верно, эти трое застыли, кто как был, один с рукой поднятой, другой с отведенной чуть назад ногой, третий просто так, по стойке «смирно» замер. Вадим не видел их лиц, они были скрыты темнотой, одно лишь окно в этом доме со двора горело. Но очертания темнота не размывала, не скрадывала. Фигуры он видел отчетливо. А хорошо бы сейчас еще и лица видеть, поверили или нет, или просто в шоке находятся секундном, мгновенном. Если в шоке, то закрепить успех надо. Они тоже, наверное, его очертания видят, за каждым движением следят. Данин потянулся рукой к внутреннему карману куртки, медленно, но уверенно, будто за пистолетом, и добавил уже тише, пытаясь придать голосу твердость, чтобы чеканней его слова прозвучали:
— Стойте спокойно. Попробуйте не навредить себе. Одно движение — и будет худо.
Сказал и подумал: а что дальше, сколько они так стоять будут — минуту, час, два? До каких пор? Крикнуть, позвать на помощь? Сразу поймут, что он не тот, за кого выдает себя, и что тогда? Бежать? И опять тоска прихватила где-то внутри. «Зачем, зачем, господи?» — болью стучало в висках. Оцепенение прошло, фигуры зашевелились, чуть заметно без резких движений. Но положение их изменилось, один руку приспустил, другой подтянул ногу. Этого и боялся Данин. Они приходят в себя, они начинают думать. Что же делать теперь? И лежащая на земле женщина тоже чуть сдвинулась с места, приподнялась, оперлась на руку, светлое платье ее четко угадывалось в темноте.
Тот, что в середине был, и вовсе опустил руки, прокашляв, сказал тихо, вкрадчиво:
— Послушайте, товарищ, что вам угодно? Вы так напугали нас, так внезапно выскочили, что мы сразу толком-то и объяснить ничего не могли. — А голос подрагивал, причудливо менялась его тональность: не справился, видать, его обладатель еще с волнением, со страхом первоначальным. — Повздорили вот с девушкой, поспорили, а сами знаете, женщины — они неуправляемые, истерички, и пришлось вот успокоить, а вы сразу — не шевелиться, стоять… Вы уж простите, пошумели малость и разойдемся, правда, ребята?
Двое молча кивнули согласно, переступили с ноги на ногу, разминая напрягшиеся мышцы. Они уже успокоились, решили, что все обойдется. «А может, и впрямь уйти?» — вяло подумал Данин. Он жалел уже, что ввязался, не от страха жалел, а от того, что действительно не в свое дело влез, и ребята вроде не плохие, нормальные ребята, и тот, что говорил, видно, грамотный, интеллигентный малый, судя по речи во всяком случае. Да, можно и уйти. Совесть его чиста, он доволен, он будет спать спокойно.
Глаза пообвыкли, и теперь он яснее различал фигуры. Тот, что голос подавал, был худой и стройный; который справа от него — нескладный, громоздкий, с приспущенным левым плечом, в кепке, маленькой, клеенчато поблескивающей; у третьего Вадим успел разглядеть большую продолговатую голову и кривые ноги. Лица все так же тонули в чернильной темноте.
— Ну хорошо, — сказал Данин, — хорошо. Только девушку поднимите. И расходитесь.
Он сделал шаг назад, потом еще один, повернулся неторопливо, зашагал вразвалку, спокойно, чтобы не было видно, что хочет он уйти поскорее, что быстрее за угол зайти стремится. Но тут внезапно больно по ушам хватило — взвился безнадежный крик:
— Не-е-е-т! Не уходите! Они убьют меня!
И не думал он ни о чем, не решал ничего, не размышлял, развернулся автоматически, как по команде, как на тренировке, сорвался, словно с высокого старта, опять руку под куртку сунул, хотел уже гаркнуть: «Стреляю!» — понадсадней гаркнуть, пострашнее, но не успел, метнулись парни в стороны. Один через палисадник, другой к забору, к железным воротцам, а третий, тот, что уговаривал его, вдоль дома, а там за угол можно — и на улицу. Умело удирали, будто не впервой. Вадим кинулся за тем, третьим. Посмотрим, кто кого, уж с тобой-то одним я справлюсь.
Но не успевал за ним Данин, тот бегал отменно и, как показалось Вадиму, даже профессионально, не простой это любитель бега был, или, может, так ему только показалось. Парень сделал ошибку, когда перед углом дома уже, у освещенного окна повернулся, чтобы посмотреть, далеко ли успел пробежать его преследователь, и Данин разглядел его лицо, цепко разглядел, четко, как сфотографировал. Так только в минуты высочайшей собранности и напряженности бывает, как сейчас. Симпатичный парень был, даже можно сказать — красивый, но это потом уже Вадим отметил, когда вспоминал его лицо. И волосы его светловатые отметил, и широко расставленные глаза, и густые брови, и впалые щеки, и тонкие губы энергичного рта, и то, что парень этот не совсем и парень, а мужчина лет тридцати-тридцати двух… А пока Вадим бежал, с каждым метром отставая, а через сотню метров уже на улице просто споткнулся о неведомо откуда взявшийся кирпич, видимо, с машины упавший или мальчишками принесенный, и рухнул на мостовую вперед лицом. Только руки вытянутые и спасли. Упав, перекатился на бок, прервал дыхание, замерев на секунду, вскочил, огляделся, а парня уже и след простыл. Данин сплюнул, махнул рукой, потом усмехнулся такой искренней своей досаде и повеселел от этой усмешки. Вот тебе и приклю-ченьице. А что, славно вышло. Хоть разнообразие какое-то. А то все работа, дом, диссертация, случайные женщины, скучные беседы с друзьями, опостылевшие рестораны…
Обратно вернулся тоже бегом, волновался: что там с женщиной? Она уже поднялась и, опираясь на дерево, отряхивала платье. Движения ее были скованны, будто каждое из них ей давалось с трудом и болью. Увидев Данина, она выпрямилась, убрала набежавшие на лоб волосы назад, обратила лицо к нему. Он в темноте разглядел ее улыбку и сразу понял, почувствовал, каким-то другим зрением усмотрел, что она очень даже хороша. По всему это заметно было, и как руку поднимает, как поворачивает голову, как платье отряхивает. Вот сейчас ей не очень здорово, а все равно, глядите, как держится. Такое не отрабатывается перед зеркалом, с этим рождаются, как с голубыми или карими глазами, как с родинкой на щеке. Поскорее хотелось на свет ее отвести, рассмотреть, что же у нее за лицо, хотя он уже знал заранее: чудесное лицо. Ну просто роман какой-то. Бандиты, пленная красавица, рыцарь-избавитель — тоже недурен, высок, строен, независим, умен. Черт побери, как все чудно складывается. Вадим был в прекрасном расположении духа.
— Самочувствие? Жалобы? — улыбаясь, спросил он.
— Отвратительное! — Женщина тоже постаралась вновь улыбнуться. — Хочу домой.
Она оттолкнулась от дерева, качнулась и чуть не упала. Вадим подхватил ее. Чудесное, жаркое, ароматное тело. Данин почувствовал, что лицо его запылало. Вот еще не хватало, сроду не краснел. Она вежливо отстранила его.
— Сумочка, — проговорила растерянно, — не унесли же они ее! — Женщина, поморщившись, неловко обернулась, остановила взгляд на единственном подъезде. — Или у Митрошки она осталась?
Вадим тоже пошарил глазами вокруг, но ничего не увидел.
— Ну да Бог с ней, — женщина махнула рукой. — Там, собственно, и не было ничего, да и старенькая уже, Бог с ней.
— Да, извините, — она опять повернулась к Данину. — Спасибо вам огромное. Я думала уже все. Просите, что хотите. Ну что вы хотите?
— Я уже все получил.
— Не поняла.
— Слова благодарности. Вот что нужно благородному мужчине от женщины.
Она слабо усмехнулась:
— Пошли.
Ступала она еще нетвердо, но усилием воли заставляла себя держаться прямо, чтобы не дай Бог кто не увидел, что она не такая, как всегда, что у нее что-то не так. Иные женщины, наоборот, стараются выглядеть измученней, утомленней, чтоб пожалели их, приласкали, доброе слово сказали, а эта, видно, не из тех, у этой всегда все хорошо на лице, что бы ни случилось, макияж и улыбка, даже если не совсем веселая, но все же улыбка. Тускло-желтый, как кошачий глаз, фонарь высветил ее лицо с одной стороны — свет упал удачно, славное было у нее лицо при таком свете: мягкое, большеглазое, яркое. На такие лица оборачиваешься, взглядом провожаешь, жалеешь, что не с тобой эта женщина, помнишь ее некоторое время, даже если мельком вполоборота увидишь, все равно помнишь. Но все же был недостаток у нее, был — нос маловат, короток и ниже переносицы словно продавленный немного. А может, наоборот, достоинство это — ведь так гармонично смотрится все ее лицо. «Выглядит она замечательно, — подумал Данин. — Но за тридцать уже, за тридцать. Ну что ж, мне тоже без года тридцать. Самый раз». Подумал так, но знал, что ничего не будет, не станет он сейчас куражиться, ухаживать за этой прелестницей чуть насмешливо — снисходительно и по-мужски ласково в то же время, как умел. Знал потому, что не чувствовал в себе этой потребности. Чего-то не было в спасенной красавице того, что любил в женщинах, чего-то не хватало. «Щепетильным ты стал в женском вопросе, — усмехнулся он про себя. — Избаловали…»
— Вы и впрямь из милиции? — спросила она с едва заметной насмешкой и откинула голову чуть вбок, чтобы удобней было на него смотреть.
— Нет, — сказал Данин. — Не из милиции. Это я так, для острастки, для большей убедительности. Как увидел, что их трое, так и обмер. Задребезжали коленки-то, вот и сказал.
— Откровенно вы, — она повела подбородком, то ли одобрительно, то ли удивленно. — Немногие мужчины решаются говорить о своих страхах.
— Это я так, чтобы вам понравиться, — сказал Вадим. — Женщины любят, когда мужчины смело признаются им в своих нед остатках. Отд ельных, скажем так, нед остатках. Женщинам такие мужчины кажутся свободными от условностей, делаются ближе. Верно?
— Верно, — рассмеялась женщина. — Вы знаток. Теоретик или практик?
— Все понемножку.
Так и есть — исчез завод. Пропало желание знакомился, просить телефон. Что сбило его, он никак не мог понять. Нестерпимо хотелось домой.
Женщина вдруг снова качнулась, как тогда, у дерева, прихватила лоб руками, остановилась, задышала часто.
— Что, что с вами?! — Вадим поддержал ее за локоть.
— Сейчас, сейчас, — ослаб голос, и слова она будто выдохнула. Руки сползли со лба, опустились, коснулись живота, вжались в него пальцами. Женщина согнулась и выпрямилась тотчас. Данин нахмурился. Они были почти у бульвара, людей прибавилось. На них стали обращать внимание. Они снова пошли, только уже медленней.
— Знакомые ваши? — спросил Данин, всматриваясь в свою спутницу.
— Где? — испуганно огляделась женщина.
— Ну те, которые удрали?
Она замешкалась на мгновение.
— Да нет.
— Ну как же «нет»? Я же слышал разговор.
— Какой разговор? Что вы слышали? — Лицо ее обострилось, будто высохло. Взгляд, недобрый, колкий, метнулся к нему и опять ушел в сторону.
Вот те на. Не хочет говорить о своих знакомцах. Занятно.
— Ну как же, разговор про мужа, еще про чего-то там.
Это Вадим уже под дурака решил сыграть. Интересно ему стало.
— Не знаю, вам показалось. Поняли: показалось вам! — Она говорила раздраженно, с нажимом. — Случайные хулиганы пристали…
— Да не похожи они на хулиганов, — с добродушным упорством настаивал Данин. — Я того белобрысого разглядел, симпатяга. Мне лицо его знакомым даже показалось.
— Врете вы все, — всхлипнула женщина, — врете, никого вы не видели.
Данину стало скучно. Он пожал плечами. Ну не видел, так не видел.
— Дело ваше, — сказал он. — Где вы живете?
— Не провожайте, — женщина сморщилась неприязненно.
— Я сама доеду.
— Вот вам и благодарность. В кои-то веки доброе дело сделал.
— Оставьте адрес, — прервала она его, — я вам подарок сделаю, дорогой.
Вадим присвистнул. Лихая дама. Адрес, конечно, он не оставит и провожать точно не поедет после таких слов, но на такси хотя бы ее надо посадить.
Он посмотрел на часы, скоро полночь, а народ на бульваре гуляет, как днем. А впрочем, неудивительно, последнее тепло лето отдает. Он вышел на дорогу, поднял руку. Женщина встала рядом. Она поняла, что он ловит машину для нее.
— Не обижайтесь, — примирительно сказала она. — Нервы. Я испугалась…
Зеленые огоньки убегали, даже не притормаживая. Ехали в парк, на отдых или еще куда за денежным пассажиром. Хотя чем Данин не денежный пассажир, с виду хотя бы? Джинсы, кроссовки, модная коротенькая лайковая куртка — подарок мамы — ну просто преуспевающий молодой мужчина. Остановился наконец. Данин взялся за ручку дверцы и почувствовал вдруг, как на него наваливается сзади что-то тяжелое. Вадим неестественно вывернул голову — пытаясь ухватиться за него негнущимися пальцами, женщина медленно оседала на землю. Он развернулся проворно, подхватил ее под руки, и голова ее тут же запрокинулась, закатились зрачки на глазах. По-мертвецки жутко глядели на Вадима белые узкие щели. Придерживая женщину одной рукой, другой открыл заднюю дверцу и кое-как втиснул ее, вялую, обессиленную и показавшуюся почему-то невероятно тяжелой, на сиденье. Шофер удивленно вытаращился на них.
— Пьяная, — брезгливо сказал он, сморщив узенький лоб. — Не повезу, нагадит еще.
— Повезешь, — не поворачивая головы, перебил водителя Данин. — В больницу повезешь, ближайшую…
Ехали минут пять, больница совсем неподалеку оказалась. С километр по бульвару, потом направо и еще направо, на скромную улочку с милыми сердцу домами довоенной еще постройки — эркеры, внушительные каменные карнизы, балконы. Бывал Вадим здесь, ходил по этой улице, а так ни разу внимания и не обратил, что здесь больница имеется. Ее, правда, трудно было приметить — все корпуса там, в глубине, а на улицу только фасад трехэтажного желтого, украшенного тремя тоненькими колоннами здания выходит. У входа неприметная стеклянная дощечка с неброской тусклой надписью «Городская больница № 5». Пройдешь и глазом не ухватишь, поленишься прочесть, подумаешь учреждение какое-то, много их тут. А таксисты, они все про больницы и поликлиники знают, про больницы и милицию, их первым делом этому обучают, как в парк только они приходят. Подкатил прямо ко входу, притормозил мягко, повернулся, сказал совсем тихо, будто звук его голоса мог повредить больной:
— Здесь приемный покой, вы пойдите позовите кого, а я посижу, — и кивнул Вадиму по-дружески, будто не первый год его знает. Всего пять минут ехали, а уже вроде как знакомые — сближает беда, даже такая, не совсем уж, наверное, и великая.
Данин взлетел по ступенькам, толкнулдверь. Пухлая добродушная женщина с красным носом-пуговкой и румяными щечками выслушала его внимательно, набрала номер на телефоне, позвала санитаров с носилками, и когда те пришли — молодые, крепкие, практиканты, видимо, студенты, — сама встала из-за стола, хотя и тяжко ей было (Вадим видел, как поморщилась она, ступив на отекшие, больные ноги), и держала дверь до тех пор, пока не внесли санитары носилки.
Вадим расплатился с таксистом, тот даже руку протянул на прощание, удачи пожелал, утешил мимолетно, мол, всякое бывает, обойдется, и, опять съежив узкий свой лоб, который так портил открытое пухловатое его лицо, включил скорость.
Возле женщины остался только один санитар, угловатый, длиннорукий, с костлявым наивным лицом. Он старался держаться уверенно, профессионально, как учили, и от этого еще больше чувствовалась в нем растерянность, и лицо его приобрело совсем уж детское выражение. Когда Вадим вернулся, он мерил женщине давление.
— Откуда у нее синяки на шее и руках? — спросил санитар, снимая стетоскоп. — Свежие синяки.
Вадим пожал плечами.
— Я подобрал ее на улице, — сказал он. — Хулиганы пристали.
— Били? — сурово спросил санитар. Он хотел казаться взрослым, этот мальчик.
— Видимо, били, я появился уже после. Что с ней?
— Потеря крови. Тяжелое состояние.
— Потеря крови? — Вадим изумился. На теле он не видел ни единой раны.
— Схожу за врачом, — выпрямляясь, сказал санитар. — Только вы не исчезайте.
И опять в который раз за сегодняшний вечер пожалел Данин, что встрял в это совсем теперь уже непонятное дело. Лежал бы сейчас себе дома, смотрел телевизор или болтал с кем-нибудь по телефону. Спокойно, привычно, знакомо. А теперь вот больница, пугающие, нелюбимые с детства запахи, угнетающая тишина, неестественная неуютная чистота и ощущение поселившегося здесь навеки горя, беды.
Вадим подошел к носилкам, склонился над женщиной. И словно почувствовала она взгляд, дрогнули веки, разлепились с трудом. Удивление в глазах, страх, страдание…
— Что со мной?
— Это у вас надо спросить, — без всякого сочувствия ответил Данин. Потом спохватился, нельзя так резко, она не виновата, что он не дома.
— Вы потеряли сознание, и я привез вас в больницу, — добавил он мягче.
— В больницу? Зачем в больницу?
Испуг был самый искренний, неподдельный, будто не в клинику она попала, а в морг, на кладбище или живьем в могилу. Она была решительной женщиной — превозмогая себя, приподнялась, оперлась на локти, хотела спустить ноги с каталки; Вадим уже протянул руки, чтобы поддержать, но она рухнула со стопом навзничь и замерла, опять закатив глаза. Вскинулась из-за стола дежурная, хотела проковылять уже к ним, но Данин махнул рукой, и она опять села. Женщина вновь открыла глаза, посмотрела на него в упор — жалобно, просяще, — выдохнула сквозь пересохшие, дрожащие губы:
— Только не говорите никому ничего. Просто хулиганы пристали, ударили. Или нет, не так… — Она тяжело и звучно глотнула. — Умоляю, забудьте, что вы слышали наш разговор. Умоляю, прошу, отработаю потом, отблагодарю, отплачу. Вы их плохо видели, не разглядели, услышали мой крик, подошли, они бежать, и все. Слышите, и все! Ради всего святого! Ради жизни моей!..
Откинулась голова, расслабились мышцы на лице, и пустым оно стало, неживым, как маска, хотя глаза были открыты и глядели куда-то в пространство, невидяще и стеклянно.
Сколько мольбы вложила она в свою просьбу, сколько беспомощности и безнадежности было в ее голосе, Данину даже не по себе стало, он повел плечами, словно дрожь его била, потер лицо ладонями. И когда обрел прежнее более или менее нормальное свое состояние, в услужливо распахнутые санитаром двери вошел врач.
Он, видимо, ел, когда его потревожили, скорее нет, пил чай, обжигающий, прямо с огня, потому что горело полное, рыхлое его лицо, пылало жаром, а вокруг яркого, мягкого, не мужского рта было рассыпано множество беловатых крошек, видно, от пирожного.
Он был явно недоволен. Не один, наверное, пил чай, а в обществе хорошенькой сестрички. Вадим невольно улыбнулся.
— Чему вы улыбаетесь? — неприязненно спросил доктор, подойдя к нему. Вадим опять не сдержал улыбки и пожал плечами — в который раз за сегодняшний вечер. Вечер пожимания плечами.
— Вид ваш понравился, деловой, сосредоточенный, чуть притомленный, но стремительный, — сказал Вадим. — Так во время войны хирурги, наверно, выходили к раненому, к тридцатому за день.
Врач был, видимо, неглуп и необидчив. Он вздохнул, прикрыв глаза; снял шапочку, обнажив рыжие, жесткие, как медные проволочки, волосы. И лицо его помягчело, неприязнь сошла, ни следа от нее не осталось, он протер шапочкой лицо.
— Вадим заметил, как неодобрительно покачала головой дежурная, — шагнул к женщине, спросив предварительно:
— Кто вы ей?
— Никто. Прохожий. Ее били, я вступился. А потом ей стало плохо.
— Кто бил?
— Вот уж этого не знаю. Какие-то парни. Не видно в темноте.
— Хорошо, — врач держал женщину за руку и считал пульс.
— Как зовут ее, не знаете?
Вадим пожал плечами и чертыхнулся про себя, это уже походит на тик. «Домой, домой, отдыхать, спать, а завтра вспомнить, посмеяться, рассказать друзьям, а к вечеру забыть».
Доктор жестом приказал санитару отвезти каталку, а сам повернулся к Данину.
— Попрошу вас никуда не уходить. В таких случаях мы обязаны сообщить в милицию, что я сейчас и сделаю, и вы непременно понадобитесь. Так что обождите, хорошо? Отделение тут рядом. Они приедут скоро.
Данин кивнул обреченно, а что делать, не бежать же, хотя кто-нибудь другой на его месте именно так и поступил бы. Доктор ушел, а он присел на жесткую банкетку под плакатом о вреде переедания и уставился бездумно на голую стену напротив. Ругать и корить себя уже не хотелось, надоело. Чего уж там, раньше думать надо было, сейчас поздно, сейчас надо набраться терпения и ждать. А, собственно говоря, ничего страшного не произошло, ну потерял каких-то несколько часов, все равно ничего путевого в это время не сделал бы, а так хоть будет о чем вспомнить. Ладно, хорошо. Что же завтра ему предстоит? Прежде всего отоспаться, на работу придет часам к десяти, составит справку о сегодняшнем посещении архива, часов в пять заберет Дашку из детсада, погуляет с ней, недолго погуляет, потому что не хочет видеть потом, когда приведет ее, поджатые губы своей бывшей жены. Бывшая жена. Сочетание-то какое-то идиотское. Жена она или есть, или ее нет, это не звание, это не должность, это состояние души, это родственная связь. Почему, интересно, не говорят бывший брат или будущий брат?..
Задребезжала стеклами распахнутая дверь, отвалилась до отказа, пропуская молодого коренастого белобрысого парня в кожаном пиджаке, в полосатой сорочке и в полосатом галстуке. Он наклонился быстро к дежурной, та махнула в сторону Данина. Парень уперся в него взглядом, прищурился, будто сразу понял, кто таков этот субчик в лайковой куртке и белой расстегнутой почти до пояса рубахе. Хваткий парень, не сомневающийся парень, из молодых.
— Добрый вечер, — сухо сказал он, тяжело глядя Вадиму в глаза.
Данин этот взгляд выдержал, поднялся, вежливо улыбнувшись, сказал:
— Куда уж добрее. Добрее просто не бывает.
— Что так? — важно спросил парень. Все-таки осознание своей значимости ему не шло. Он извлек из кармана удостоверение. — Оперуполномоченный пятого отделения Петухов. Ваши документы, если имеются.
— Имеются, — сказал Вадим.
— Так… Институт научной информации по общественным наукам… так… младший научный сотрудник… Хорошо. Значит, так. Расскажите все подробно, до деталей, ничего не упускайте и не спешите, я буду записывать.
Данин рассказал все быстро. Даже с подробностями рассказ у него получился короткий — шел, услышал, побежал, а они в разные стороны… потом она упала, и я ее привез.
— Она не называла себя?
— Нет.
— Вы их не запомнили?
— Нет.
— Совсем-совсем?
— Совсем-совсем. Темно было.
— Ну хоть роста какого?
— Один пониже, другой повыше, третий тоже пониже…
— Издеваетесь?!
— Да бог с вами, и не думаю. Я же говорю, темно было, хоть глаз выколи.
— И вы не испугались, влезли в самый разгар?
— Да нет, почему? Испугался. Да неудобно как-то было пройти мимо.
— Перед кем неудобно?
— Да перед самим собой. Нормальному человеку всегда более всего перед собой неудобно, чем перед кем-либо.
— Ученые все, философствуют… А вот мне не верится, что вы на темной улице, услышав крики и шум борьбы, кинулись туда.
— Не понял.
— Вид у вас уж больно благополучный. Такие, как вы, обычно стороной проходят.
— Ну знаете! — Вадим привстал.
— Извините, я пошутил, — с сухой любезностью произнес Петухов. — Не уезжайте пока из города никуда, если это можно, вас скоро вызовут, — он помедлил, — в прокуратуру…
И, довольный эффектом, поднялся и, не кивнул даже, шагнул к дверям, ведущим в больницу. Но в тот момент они распахнулись, и снова появился доктор. Сейчас он действительно выглядел сосредоточенным, деловым, утомленным. Он пожал руку Петухову, повернулся к Вадиму:
— Еще минуту, хорошо?!
Потом отошел с оперуполномоченным подальше, чтобы Вадим не мог их слышать, и о чем-то горячо заговорил. Петухов качал головой и поглядывал на Вадима. Наконец доктор и Петухов закончили разговор и подошли к нему.
— Положение серьезное, — сказал доктор, — много повреждений и внешних и внутренних. Как она шла еще — удивительно, видимо, в шоке.
— И улыбалась, — вставил Вадим. — И шутила.
— И улыбалась, и шутила, — согласился доктор. — Это шок.
Петухов пристально разглядывал Данина. Вадим, в свою очередь, повернулся и стал точно так же смотреть на оперуполномоченного. Тот нисколько не смутился, просто отвел глаза. Доктор устало усмехнулся.
— Вот еще что, — добавил он. — Мы узнали ее фамилию и домашний телефон. Сейчас приедет муж. Он убедительно просил вас подождать.
— Да вы озверели! — рявкнул Вадим. — Сколько можно!
— Спокойней, товарищ, — чуть повысив голос, остановил его Петухов. — Спокойней.
Доктор сочувственно взглянул на Вадима.
— Муж ее на машине, — он улыбнулся — Так что до дома вас довезет.
Вадим вдруг улыбнулся доктору в ответ, и расхотелось ему ругаться, отнекиваться, твердить, что никто не имеет права его удерживать. Да его и не удерживали-то, собственно, его просили, а он сам волен был решать, уходить или оставаться. И, конечно же, он останется, подождет мужа. Если надо. Когда Вадима именно просили, а не требовали, и просили вежливо и доверительно, он почему-то обезволивался сразу и, взбрыкнув для виду, малодушно соглашался, даже если просьба нарушала его планы и желания и противоречила вообще всей логике последующих действий. Черт бы побрал его дурацкий характер! А ведь так неудержимо хотелось домой!
— Зачем я ему? — Вадим со вздохом уселся на скамью. — Премию вручить хочет, компенсацию за страх, награду за мужество? Или взглянуть, с кем это его женушка по ночам шляется?
Доктор нахмурился.
— Не кощунствуйте, — неодобрительно произнес он. — Она действительно попала в беду. Увечья серьезные.
— Это от двух-то ударов? — не удержался Вадим.
— Каких двух ударов? — сощурившись, встрял Петухов. — Вы же говорите, что ничего не видели.
— Это она так мне сказала, что ее ударили два раза, — любезно ответил Данин.
— Ладно, — доктор тронул Петухова за плечо, — пойдемте — и, кивнув Вадиму, добавил: — Вы ждите.
— Такова моя участь на сегодня. За добрые дела приходится расплачиваться, — горестно сказал Вадим.
…И снова вздрагивает дверь, но теперь уже не отлетает яростно, а приоткрывается лишь наполовину. Сначала показалось лицо, а потом узкие плечи, короткий торс в мешковатом пиджаке, затем острые колени. Вадим приметил широкий утиный нос, морщинистые дрябловатые щеки, жидковатые волосы, зачесанные от висков кверху. Прикрывает лысину? Похоже. Неужели это ее муж? Быть не может. Ему же за пятьдесят…
Вошедший огляделся опасливо, ответил на вопросительный взгляд дежурной:
— Недавно сюда Можейкину Люду доставили… Меня ждать должны.
Дежурная махнула в сторону Вадима и уткнулась в книгу. Интересно, что это за книга, которая так увлекла ее? Про любовь? Про счастливую семью?
Походка у него была осторожная, вкрадчивая, но не без достоинства, хотя и горбился слегка, а голову нес прямо. Или это манера держаться на все случаи жизни — чуть согнувшись в почтении, но голову вскинуть — мало ли кто перед тобой: если значительный человек — головку опустим, если не очень — спинку выпрямим. Вадим одернул себя: еще не знаешь человека, а уже ярлык привесил, нехороший ярлык, без знака качества. Ревнуешь? Не хочешь, чтобы такая красавица была нежна и ласкова с таким сереньким, гладеньким — никаким?.. «Опять! — Вадим вновь остановил себя. — Как же я хочу домой!..» Он поднялся навстречу, улыбнулся печально, сочувственно.
— Это вас я должен благодарить? — Можейкин оценивающе разглядывал Вадима. Он старался это делать незаметно, но не получалось, слишком любопытствующими были его прозрачные светло-серые глаза. — Спасибо вам огромное, от всей души спасибо. Вы герой. Таких истинных рыцарей редко сейчас встретишь. Люди приучились думать только о себе.
— Ну что вы, — Данин был сама скромность. — На моем месте так поступил бы каждый.
— Нет, нет, нет! — негодуя, замахал руками Можейкин. — Это свойственно лишь незаурядным личностям, уверяю вас. Вы и сами не догадываетесь, какой вы человек.
«Наблюдательный я человек», — подумал Вадим, видя, как распрямляется спина у Можейкина, как принимает лицо его снисходительно-покровительственное выражение.
— Давайте присядем, — предложил Можейкин и сел первый, уверенно и небрежно. И показалось Вадиму, что не такой уж он серенький и гладенький и что в нем есть сильное, скрытое, чего не ухватишь сразу, не рассмотришь с налета. Но симпатии от этого к нему у Вадима не прибавилось, он все еще помнил свою догадку о сгорбленной спине и вскинутой голове.
— Расскажите, как все было?
А мужу, интересно, может все рассказать? Об этом она не говорила. А впрочем, наверное, не надо, раз уж начал врать, надо продолжать дальше в том же духе, потом разберемся.
Он сообщил то же самое, что и оперуполномоченному, разве что приукрасил немного. Оказалось, что он просто храбрец, ни секунды не сомневающийся в себе и своих силах.
— Так, — задумчиво протянул Можейкин. — Вы и впрямь прекрасный молодой человек. Всю жизнь жалел, что нет у меня сына. Жена, знаете ли, дочь родила, а сына не успела, умерла…
Я, знаете ли, вдовец. Люда у меня вторая жена. Я как увидел ее три года назад, так и обмер сразу, понял, что влюбился, старый болван, на старости лет такое открытое, яркое чувство. Как она сейчас? Пришла в сознание?
Вадим пожал плечами:
— Можно узнать у дежурной, она позвонит в отделение.
— Да-да. — Можейкин поднялся, подошел к столику. Румяная женщина с усилием оторвалась от книги, вздохнула, набрала номер, спросила что-то тихо и так же тихо ответила Можейкину.
— Потеряла сознание, — грустно сообщил Можейкин. — Бедная, бедная. Так вы говорите, никого не разглядели?
— Никого.
— Ну вспомните, может быть, какая-то деталь всплывет.
Вадим покрутил головой.
— Как же теперь их найти, подлецов? Трудная задача. Молодые, говорите, были?
— По-моему, молодые…
— Трое?
— Трое.
— Ах, подлецы, подлецы…
— Точнее и не скажешь — подлецы.
Они посидели молча. Вадим молчал, потому что ему, собственно, не о чем было говорить с Можейкиным. Хотя, конечно, по привычке он мог бы сейчас с ним поболтать, порасспросить его, где работает, в каких условиях живет, не нервирует ли молодая жена, сколько лет дочери и так далее. Ни к чему не обязывающие вопросы, ни к чему не обязывающие ответы. Так, обычный треп малознакомых людей. Но побыстрее хотелось уехать домой. Только как подвести Можейкина к мысли, чтобы тот отвез его. Или не стоит? Поехать на такси? Их еще полно в городе. Да и не хотелось ему теперь отчего-то ехать с Можейкиным в одной машине — как гвоздь вколотилось в мозг: «Головку опустим, спинку выпрямим».
Вадим похлопал себя по коленям, поднялся неторопливо, расчетливо неторопливо, сказал с полуулыбкой:
— Ну пойду я…
— Ах, да, да, — встрепенулся Можейкин, словно Вадим неожиданно вывел его из задумчивости, вырвал из цепких скорбных мыслей о молодой жене. И задумчивость эта показалась Данину наигранной. Что-то многое ему сегодня кажется.
— Вот еще что, — Можейкин тоже встал, взял Вадима под локоть и, не глядя в глаза (взгляд его упирался ровнехонько в самое плечо Данину), спросил чуть медленней, чем следовало:
— Если не секрет… э… э… где работаете, кем? О, Бога ради, не хотите — можете не отвечать. Я понимаю, вы человек скромный, но писем писать не буду благодарственных, не буду, все понимаю, все понимаю. Ах, да, — он театрально хлопнул себя по лбу, — я-то сам не представился, Можейкин Борис Александрович, доцент экономического факультета нашего университета…
— Данин Вадим Андреевич, сотрудник Института научной информации по общественным наукам, — Вадим нехотя пожал протянутую руку.
— Знаю, знаю, — обрадовался Можейкин. — Директора знаю — Баринова Сергея Митрофановича, замечательнейший мужик и одаренный ученый, когда-то в годы далекой юности учились вместе в Ленинграде. И еще, еще… — Он нетерпеливо потер лоб костяшкой большого пальца. — Сорокина, да Сорокина Леонида Владимировича. Ну как? Ценят вас там, не зажимают, а? А то поговорю по старой памяти-то…
— Ценят, — ответил Данин. — Не зажимают.
— Ну и чудесно. И вот что… — Можейкин слегка замялся, и взгляд, уже переместившийся на лицо Данина, опять скользнул на его плечо. — Вы не рассказывайте никому об этом… случае. Знаете ли, мир тесен… Пойдут сплетни, жену Можей-кина избили… Кстати, ее наверное, сильно били?
— Видимо, так и есть, иначе она бы не потеряла сознание… Мужественная женщина.
— Изумительная, чудная женщина. Ну так вы согласны со мной? Не стоит распространяться об этом, правда? И знаете что, если вдруг чего там вспомните, детали какие, внешность бандитов, вы скажите мне сначала, прежде чем в милицию идти, хорошо? — Теперь Можейкин уже не просил, он требовал, хотя, казалось бы, ни в интонации, ни в лице ничего не изменилось, только вот в серых глазах на мгновение холод появился, жестокость едва уловимая промелькнула. — А Сергею Митрофановичу привет, как встретите.
Он с чувством и самой наимилейшей улыбкой пожал Вадиму руку и тут же сел на скамью и отрешился, словно ушел в свои мысли, — и серенький, не серенький, и гладенький, не гладенький, и сильный, не сильный, не поймешь какой человек. «И даже словом не обмолвился о том, чтобы до дома довезти», — вяло и безучастно подумал Вадим.
Он прошел мимо дежурной, которая что-то жевала, не отрываясь от книги, и шагнул за порог больницы.
А утром и впрямь все вчерашнее выдуманным, призрачным показалось, будто и не с ним все это произошло, будто в кино все увидел, не очень талантливом кино, сработанном сценаристом-поденщиком и режиссером-халтурщиком. И ни радости он не ощутил от ночного своего геройства, и ни того удовлетворения, которое на день, на два, на несколько дней приводит тебя в хорошее расположение духа, поднимает настроение, позволяет настоящим мужиком себя почувствовать, хладнокровным, уверенным, умным. И поэтому пробуждение его было вялым, неторопливым. Вчерашний день не принес ничего доброго, и сегодняшний тоже вряд ли принесет, все будет как обычно, знакомо, без неожиданностей.
Он пролежал минут десять, потом вскочил, отдернул шторы. Утро обещало теплый, может быть, даже жаркий день — дерется еще лето за свои права, как никогда сильно оно в этом году. Не стал Вадим стоять у окна, как обычно, не захотелось любоваться чудесным городским видом, который из него открывался (когда получил эту квартиру, радовался, как ребенок, что почти в самый центр попал, что каждый день теперь любоваться может тем самым настоящим городом, добрым, старым, разностильным, разнородным, веками строящимся, родным, милым его сердцу), прошлепал на кухню, выглотал большую чашку воды, будто с похмелья, вернулся в комнату и принялся за гимнастику. Энергично и остервенело даже ломал он свое тело, и с удовольствием принимало оно эту ломку, потому что молодело до упругости и сил в нем прибавлялось.
Уже под душем невольно вернулся ко вчерашнему дню, пожалел, что не спросил у доктора, отчего Можейкина потеряла много крови, раны-то он не приметил. Или носом кровь шла? Или горлом? А потом стерла женщина ее следы. Может, так. А может, ее изнасиловали? Ого, это посерьезней. Но те трое вроде как ее знакомые были, а не случайные подвыпившие мерзавцы. Да скорее всего, конечно, из носа или горла кровь шла, от ударов, вон ведь сколько синяков на теле. Ладно, вызовут в прокуратуру, как пообещал оперуполномоченный Петухов, там узнаем.
Улицу свою, тихую, зеленую, немноголюдную, прошел быстро, удивившись в который раз, что вот нет на ней ни предприятий, ни учреждений, здесь просто живут люди, отдыхают, хозяйничают, автомобильный шум сюда особо не долетает, а все равно четко угадываешь, какой сегодня день — будний или воскресный, даже если все дни перепутаются у тебя в голове, заболеешь, например, затемпературишь, а придешь в себя, выглянешь на улицу и точно скажешь, воскресный сегодня или какой другой день. Отчего так — непонятно? Надо будет подумать, тысячный раз промелькнуло в голове.
Соскочив на нужной остановке с троллейбуса, подался чуть назад к модерновому, стекло-металло-бетонному зданию с длинным, заостренным на конце козырьком над входом. Вахтер даже головы не поднял, даже на приветствие не ответил, так увлекся газетой — самая читающая страна в мире! Вчера дежурная в больнице, сегодня вахтер, в троллейбусе пассажиры через одного газету или книгу держат. Любопытно, а читают ли они дома?
Отвечая на приветствия, Данин прошел длинным, светлым от ламп дневного освещения коридором, открыл дверь в свою комнату. Слава Богу, на месте только одна Марина, как всегда, серьезная и тусклая с утра. Она опять постриглась, она каждую неделю стрижется коротко-коротко, как мальчишка. Ей идет, хотя Данин ни разу не видел ее с длинными волосами. Может быть, с ними лучше. У Марины иногда бывают нестерпимо красивые глаза, особенно если она их умело и не торопясь накрасит, или когда у нее что-то радостное случается в жизни, тогда и без туши и краски глаза блестят и светятся. Белое, нежное лицо ее портит нос, длинный и с горбинкой, а неплохую фигурку — слишком широкие бедра.
Данин и Марина — друзья. На работе. В этой комнате. А еще в коридоре и столовой. А как захлопываются за ними двери института, то вроде как просто знакомые. Так бывает — служебная дружба.
— Ой, Вадик, — Марина даже не поздоровалась, так не терпелось ей сообщить что-то важное и не очень приятное. — Тебя Сорокин с утра требует. Как придет, говорит, пусть ко мне мигом, и вообще, говорит, что это такое, когда хотят, тогда и приходят, будем ставить вопрос. Не в себе он сегодня с утра.
Из кабинета своего Сорокин выходил редко, и если все-таки выходил, то ненадолго, наведывался наскоро в комнаты к сотрудникам и спешил обратно к себе, в свое логово. Да и заглядывал-то он к подчиненным для проформы лишь — надо. Не приказами положено, не инструкциями, а традицией, жизнью, нынешним стилем руководства. Кого жаловал и симпатию питал, у того про успехи выспрашивал, про трудности, про личную жизнь, острил совсем не остроумно, но это тоже положено — вроде свой. Кого недолюбливал, на того смотрел каменно, полуприкрыв глаза свои тяжелыми веками. Указывал, отчитывал, каждый раз повторяя почти слово в слово: «Я к вам не предвзято отношусь, без пристрастия, а просто жалую тех, кто работает, отдает себя науке без остатка, кто инициативен и исполнителен. Талант талантом, а наши изыскания требуют труда, кропотливого и скрупулезного. Станете такими, будем друзьями». Слова-то уместные подбирал, но какая-то фальшь в них таилась, неуловимая, едва заметная.
К серьезным, хмурым и мрачным людям у него душа лежала, к тем, кто, не разгибаясь, за своим столом день проводит, плохо ли, хорошо ли работает, но старается или вид делает, что старается. Как-то на одном из собраний Сорокин заметил: «Я вот не раз уже видел бродящего по коридорам Данина. Идет, улыбается, фразочками легкомысленными на ходу со встречными перебрасывается. Ему что, делать нечего? Вон какая тема обширная у его группы. А он улыбается. О чем это говорит? О безответственности, о незагруженности. У работящего человека нет времени для улыбочек и шуточек».
Вадим ухмыльнулся, чтобы обиду не выказать, и обронил с места: «А с работой, значит, не справляюсь?» Сорокин прокашлялся, ответил тихо, с усилием, с неохотой слова выцеживая: «Справляетесь, но могли бы лучше, если бы вели себя поскромнее». Данин развел руками, оглянулся, коллег на помощь призывая: подтвердите, мол, что обыкновенно себя веду, как все, куда уж скромнее. Может, не похож просто на всех, да и только. Но немую просьбу его коллеги за обычное ёрничанье приняли и, конечно же, промолчали. Ну а уж когда Сорокин прознал, что Вадим собирается книжку издавать, тут желчи не было предела. Вызвал он его как-то к себе, когда Вадим исполнение одной справки затянул, и отчеканил, с трудом удерживая голос, видно было даже, как щеки его обвислые подрагивают: «Мне писатели не нужны, мне нужны работники исполнительные и дисциплинированные. А вы, гляжу, хорошо устроились, времени свободного у вас просто невпроворот, если умудряетесь еще и книжечки пописывать. Надо же, — он крутнул большой, лобастой головой. — Все в писатели рвутся, все Толстыми себя мнят», — и что-то затаенное услышал Вадим за этими словами, и голос даже изменился у Сорокина, больше на стон стал похож, но потом все прошло в мгновение, и добавил он жестко: «Я теперь лично за вами приглядывать буду. Увижу, что пустяками в рабочее время занимаетесь, — расстанемся».
…Вадим вошел в кабинет, и, едва только Сорокин рот открыл, он уже и вспомнил все. Точно. Тот тип из музея Кремля, из тех, кто жалуется. Полудурок пыльный. А Сорокину только дай повод нервишки ближнему потрепать. Было, не было — неважно. Раз жалуются — значит было. Тем более на него, на Данина, жалуются — значит, сто тысяч раз было… SOS! Помогите! Я ж ничего плохого никому не делаю в институте и уж тем более самому Сорокину. Никого не подсиживаю, ни на кого не капаю, в начальники не рвусь, работу выполняю от и до. За что?! «Заместитель коменданта Кремля, сам лично, человек уже немолодой, пришел сюда, чтобы высказать неудовлетворение вашим вчерашним поведением…» — кипел Сорокин.
Так вот, значит, в чем дело. Надо же как обернулось-то все до тошноты примитивно-подленько. А ведь должен был ты предвидеть такую перспективу. Мелкого наполеончика этого просить надо было, умолять униженно, они же любят, когда пресмыкаются перед ними, угодничают. А ты в лоб — давай, мол, и все. Но ведь по справедливости требовал, и не чужое ведь, свое. Но, оказывается, свое тоже надо уметь просить. Так что учись, учись спинку-то выгибать, бери пример со всем угодного и во всех отношениях приятного нового знакомца твоего Можейкина.
Ведь не раз бывало, не успеешь порог переступить, двух слов человеку сказать, а он уже смотрит на тебя колюче, с неодобрением, а иной раз с эдаким подозрительным прищуром. Как это называется? Антипатия — мгновенная неприязнь. Что же в тебе их не устраивает? Одежда твоя, глаза твои, манера держаться, вмиг разгаданное пренебрежение. Ведь есть же среди его знакомых люди, которым он изумляется искренне, — их любят все! Куда бы ни приходили они, что бы ни просили у самого злейшего-презлейшего, у самого черствейшего-пречерствейшего — и все им разрешают, все дают, да еще с добрым словом. Может, улыбаются они по-особому. Да нет, черта с два. И не улыбаются, и всегда говорят одно и то же. Но вот что заметил Вадим: они жалкими какими-то делаются, не просящими, не угодничающими, а именно жалкими, слегка убогими, жизнью покореженными. Наверное, в этом дело? Люди любят сострадать, сочувствовать, сопереживать. Преуспевающий радуется, что он не такой и может помочь, непреуспевающий видит своего собрата. Наверное, так. Хотя Вадим попробовал так однажды — прихватил сердце, зажал эмоции, унял сразу возникшую брезгливость к себе и попробовал. Не получилось, то есть вообще не получилось! Раскусили его, разгадали, с еще большей уже неприязнью отнеслись. Несвойственно ему это, значит. А посему плевать на всех, терять мне особо нечего. Принимайте какой есть. Без прикрас Так что не пример ему Можейкин.
История-то с Кремлем была незамысловатая. Года полтора назад приятель Данина, журналист из городской газеты, Женя Беженцев — лентяй и нытик по натуре, но отменно пишущий, когда очень этого захочет, тучный, развалистый, большеголовый, усмешливый — предложил Данину написать серию очерков о городе, об истории, об интересных памятных местах, о чем-нибудь необычном, интригующем, о чем еще никто не писал. Ухватился Вадим за идею, горячо ухватился, одержимо, махнул рукой на работу, хотя за это потом получил сполна, и за три месяца написал шесть очерков. Редактор был в восторге, придумал рубрику «Городские этюды» и стал публиковать материалы два раза в месяц, по воскресеньям. Через полтора года Беженцев вновь подкинул Вадиму идею, отдать материалы в издательство, может получится книжка. В издательстве Данина поддержали и включили книжку в план. И вот недавно Данину позвонили оттуда и попросили написать еще один материал о Кремле, чисто описательный, с красивостями, с пафосом, на открытие. Но в Кремль просто так не пускают работать, нужна соответствующая бумага с просьбой от организаций. Такая бумага у Вадима была, выданная ему еще в прошлом году институтом.
Встретил его заместитель коменданта, сухой, узкоплечий, в мешковатом, допотопном костюме. Посмотрел на него без выражения, хотя смотрел долго, но будто не видел его, довольного жизнью, небрежного, благоухающего импортным одеколоном, посмотрел-посмотрел, и все. То есть он мог бы дальше и не говорить ничего, все ясно было, что он скажет. И что письмо недействительно уже, мол, срок прошел, и что молоды больно, чтоб мне указывать, и что я, мол, на руководящей работе собаку съел, и что ежели всякого пускать, то черт знает что получится. Короче — клишированный такой наборчик. Карикатура. Может, для кого, конечно, и не карикатура, может, для кого, конечно, это уважаемый человек и превосходный работник, для Сорокина, например (по его меркам), ну а для Вадима — точно карикатура. Ну он его прямо так и спросил: вы, мол, не тот, про которых сейчас в газетах пишут, не бюрократ ли? Ох, ох, ох, что тут началось! Одним словом, когда Вадим захлопнул за собой дверь, косяк дрожал свирепо еще несколько мгновений.
А сам комендант оказался энергичным, коренастым, крепким мужиком лет пятидесяти, со смешинкой в узких восточных глазах. Держался он уверенно, подтянуто. Вадим сунул ему бумагу, тот поглядел на нее полминуты, потом наклонился к селектору и сказал секретарше: «Выпишите товарищу Данину разрешение. — И повернувшись к Вадиму, добавил: — Хотя не положено в общем-то, но ерунда».
… — Для своих личных целей вы используете бумаги института, — заключил Сорокин, понижая голос. Возбуждение его пошло на убыль, но верхняя пухлая, синеватая губа то и дело вздрагивала едва заметно. — Завтра принесите мне объяснительную.
— Что я должен объяснить? — безучастно осведомился Вадим.
— Все. И зачем ходили в Кремль с институтской бумагой, и как себя там вели. Бездушие и хамство должны быть наказаны. Мы разберем ваше поведение на профкоме. Идите.
Вот так, все просто. И не докажешь ничего, не переубедишь. Ему верю, вам нет, он старше и заслуженней, а все остальное демагогия. Интересно почитать его диссертацию. Какой он там?
Марина потянулась ему навстречу, даже со стула привстала, собрала аккуратно и осторожно напомаженные губы в кружочек, вопрошающе поглядела на него, и была в глазах ее, зеленых, длинных, глубоких, такая искренняя, серьезная забота, что Вадим не удержался, подошел к женщине и легко поцеловал ее в этот ароматный кружочек губ, провел ладонью по коротким волосам, потом присел на краешек стола, улыбнулся ласково и облегченно как-то, потому что почувствовал, что совсем улетучился, исчез щемяще неприятный осадок от разговора с Сорокиным, и разговор этот теперь представлялся ему смешным и нелепым, и спросил беззаботно:
— Почему же он так не любит меня? А?
— Ну что там, как там? — нетерпеливо дернула его за рукав Марина.
Данин рассказал. Даже не рассказал, а представил в лицах, без досады, без раздражения, а просто так, словно о чем-то очень забавном поведал.
— А может быть, тебе кажется? — предположила Марина. — Он ведь не только к тебе так, вон Лешку Корина тоже спокойно пропустить не может, все ему выговаривает. А может, у него характер женский, переменчивый, занудливый, сегодня так, завтра эдак? А может, он к вам с Лешкой неосознанно с неприятием относится? Вы такие красивые, молодые, женщины вас любят, все дается легко. Знаешь ведь, как бывает, одни любят в людях те черты, которыми сами не обладают, но хотели бы, другие эти черты ненавидят. Наверное, так?
Вадим неопределенно покачал головой, поболтал ногой возле Марининого стула и поймал вдруг себя на мысли, что опять хочет ее поцеловать, хмыкнул и сказал беззаботно:
— Может, так, а может, нет. Надо подумать. Ты докторскую его читала?
— Конечно, а ты нет? Прочти. Отменная работа. Просто на удивление. Я, когда читала, абстрагировалась от Сорокина, от личности его. И автор увиделся мне таким обаятельным, симпатягой, остроумным, широко мыслящим, размашистым…
— Парадокс, — заметил Вадим.
— Или мы чего-то не понимаем, — заключила Марина.
Потом Данин углубился в работу, искал, выписывал, сопоставлял, с радостью работал, с интересом, редко такое бывало в последнее время. И, ко всему прочему, не мешал никто. Начальство будто вымерло, а соседи по кабинету отбывали трудовую повинность. Лето. Сенокос. А колхозников не хватает. Они в городе за колбасой бьются. Вот бледнолицые чиновники и спешат на выручку. Взаимозаменяемость.
А когда передышку себе давал и закуривал, все порывался Марине про свои вчерашние подвиги рассказать, но не решился, что-то остановило его, непонятного было много в этой истории, опасностью вдруг зябко потянуло. Откуда она исходила, эта совсем необъяснимая опасность, и почему пришло такое чувство, он разбираться не стал, махнул рукой — прорвемся, мол — и постарался забыть.
Ровно без пятнадцати пять поднялся, потянулся, сообщил радостно:
— Пойду Дашку заберу.
— Привел бы как-нибудь, — сказала Марина, — посмотрели бы, что за чудо у тебя чудесное растет.
— К сожалению, не у меня.
— Но все равно твое.
— Зайду как-нибудь, — пообещал Данин.
Он уже был у двери, когда Марина тихо сказала ему в спину:
— А можешь зайти и один…
Он улыбнулся — вот так, как бы невзначай, как бы между прочим, она не в первый раз предлагает ему себя. Не оборачиваясь, он спросил:
— Алик прописался уже к матери?
— Да.
Ответила, как клинком по воздуху рубанула. Даже свист Данину послышался.
— Не жалеешь, что развелась? — осведомился он беспечно.
— Ты, кажется, куда-то шел, — сдержанно сказала Марина.
Данин ухмыльнулся и открыл дверь.
Думал ли когда-нибудь, гадал ли еще год, еще два года назад, что будет он так откровенно и безудержно радоваться встрече со своим ребенком. Со своим!.. На детей всегда смотрел ласково, добро, но без каких-то чувств особенных, хорошенькие они, конечно, маленькие, забавные, да и только. Хороши, когда не твои, когда там они, у кого-то, у твоих друзей и знакомых, хороши, когда на улице встретишь, чистеньких, аккуратненьких, в яркие броские одежонки упакованных. Но своих детей не хотел, и даже щемило садняще под сердцем, когда иной раз молодого папу с ребенком встречал — гуляющих. Виделся ему этот папа несчастным-разнесчастным, невыспав-шимся, уморенным домашними заботами, наплевавшим на все свои важные дела и думающим только о кашках, котлетках, сосках, погремушках, да о выстиранных пеленках. И когда родилась Дашка, принял он ее не сразу, смотрел подозрительно, трогал, удивлялся, чего жена в ней нашла, чего так хлопочет, чего светится так. И поначалу портилось у него настроение, когда просыпался ночью или утром, — почему-то казалось, что жизнь его кончилась и что стал он стариком. Ведь как оно получается, ежели без детей, то и до шестидесяти еще молодой, а с ребенком и в двадцать шесть старик. Плюс ко всему к тому времени уже и отношения с Ольгой стали не из лучших. Вечно недовольны они были друг другом, каждый требовал к себе внимания, помощи требовал, а сам отдавать не стремился, ждал, пока другой первым начнет. Думали они, что после рождения ребенка все заладится. Заладилось. С Дашкой у Ольги заладилось. А с ним никак. Не сблизил их ребенок, не сроднил пуще, отдалил наоборот, развел по своим углам. И жили они так, как большинство живет, для ребенка, по инерции. Кое-как. И домой уже в последний год он приходить ой как не хотел. Потерялась острота, попритих интерес друг к другу, и Дашка совсем не в удовольствие была, мешала только. Но вот случилось чудо (для него чудо, а так дело-то обыкновенное). Совсем немного времени прошло, и стал Дании понимать, что все больше к ребенку привязывается, незаметно, исподволь; какое-то особое благоговение на него находит, когда на руки ее берет, когда к сердцу прижимает, когда целует, когда рассказывает что-то. И спешил он домой теперь только ради неё, чтобы поглядеть на неё, погладить, за ручки мягоиькие подержаться. Ольга это видела и злилась почему-то. Обиженно плечиками вздергивала, норовила съязвить, задеть или замыкалась хмуро на день, на два. Отчего? Ревность? Непохоже…
Вот он, этот уютный и веселый дворик, затерялся среди старых, крепких довоенных домов; укрылась пестрая площадка с беседками, песочницами, каруселями за легкими, пушистыми, каждому ветерку покорными липами. Гомон стоит на площадке разноголосый. Не увели еще, значит, детей с прогулки. Это хорошо. Вадим любил смотреть, как Дашка гуляет, с приятелями и приятельницами своими играет. Он оперся плечом о дерево, закурил. Но вот увидела она его, ухватила острыми, зоркими своими глазками, побежала, бросив игрушки. Он перегнулся через заборчик, поднял ее, прижал к груди ее худенькое, теплое тельце, ощутил, как гулко и часто постукивает ее сердечко, — или, может, это его сердце так шумно стучит — услышал дыхание ее, прерывистое, счастливое, — к нему бежала, к отцу, — услышал запах ее рта, чистый, свежий, такой близкий и родной. И вроде как закружилась у Вадима голова, будто оторвался он от земли, будто летать научился…
А потом они гуляли. На бульвар пошли к памятнику Горькому, там тише, мало людей. И Дашка все рассказывала ему, рассказывала что-то, словно сто лет его не видела, хотя неделя для нее, наверное, и есть сто лет. Коротенький, кругленький носик ее морщился, светло-карие глаза (его глаза!) были так вдумчивы и серьезны, что Вадим едва сдерживался, чтобы не расплыться в умильной улыбке.
Наверно, стоило жениться хотя бы только из-за того, чтобы родилась такая вот Дашка. Кстати, а собственно, зачем он женился? (Боже, в который раз он спрашивал себя об этом.) Она настояла? Было дело. Но ведь не только из-за этого. Боялся больше не найти такую вот, казалось бы, тебя понимающую, такую вот живую, энергичную, общительную, такую вот, хорошенькую, ласковую, нежную? Но ему же с самого начала нежность эта, да и слова ласковые фальшивыми казались, не от души, не от сердца идущими, а от привычки капризничать. Так зачем же? Думал, что это просто сейчас так видится, мол, не привык еще, поживем, все по-другому будет?
А Дашка дергала его за руку, чтобы сплясал Вадим с ней танец, который они сегодня в саду разучили, и он притоптывал в такт ногой, а она держалась за его палец и крутилась под его рукой, самозабвенно и весело. И люди, что проходили мимо, даже шаг замедляли, хотя и так брели неторопливо, гуляли, — повнимательнее чтобы разглядеть их — таких счастливых, подивиться им, позавидовать.
А вот им с Ольгой никто не завидовал. Вроде на людях добры они друг к другу были, предупредительны, но близкие, друзья замечали, что не так у них что-то, наигранно и нарочито. Подруги ее — более бесцеремонные, чем его друзья, — говорили ей впрямую об этом. А она потом, злясь — не на них, а на него, — пересказывала ему их слова. А его друзья только спрашивали как бы между прочим: «Разводиться, что ль, будешь?» А он и вправду часто думал об этом, потому что в тягость ему эта жизнь была, не жил он, а как механизм какой-то функционировал. И, ко всему прочему, уже давно физического влечения к Ольге не испытывал. Но он был нерешительным и мнительным. Ему причина нужна была, веская и убедительная, чтоб не жалеть потом ни о чем. Он все реже и реже стал приходить (даже несмотря на Дашку), жил у мамы, а жена и не противилась, ну а ему-то и подавно вольготно было. Жизнь снова краски обрела, и он порхал, как мотылек, легкий и ничейный, развлекался шумно и весело, работал упоенно и всласть и совсем перестал задумываться, как будет, что будет? Как будет, так и будет…
Дашка бегала вокруг ушастого и игривого кокер-спаниеля и пыталась ухватить его за хвост, а он, видя, что это ребенок, не лаял, не огрызался, а только отмахивался лапой и отбегал обиженно в сторону. Дашка уже умудрилась свалиться пару раз на дорожку, сбила себе коленки, но не замечала ни ссадин, ни боли, хохотала, захлебываясь и распалившись, гонялась за собачонкой.
…И причина отыскалась, самая что ни на есть банальная и самая что ни на есть подходящая. К этому все и шло, видно, этим и должно было кончиться. Жизнь умнее нас. Все началось, как в плохоньком романе или заштампованном фильмике. Вадим и думать не гадал, что так в жизни бывает. Раздался звоночек как-то в квартире у мамы, где он жил, и когда он снял трубку, незнакомый женский голос проговорил спокойненько:
— Это Вадим? Здравствуйте. Имею вам кое-что сообщить. Если вас это заинтересует, конечно. Совсем неплохо было бы, если бы вы подошли в какой-нибудь из дней, завтра, допустим, к проходной организации, где работает ваша жена, в обеденный перерыв. Много любопытного увидите. Только в сторонке где-нибудь стойте, незаметненько.
Долго сидел он перед телефоном и трубку опустил только тогда, когда громкие и писклявые гудки стали в ушах иголочками покалывать. Конечно, он не пойдет, решил. Некрасиво это, неэтично. Он не из тех, кто за женой следит, каждый шаг еепроверяет: не дай Бог мужчина какой подвернется, понравится больше, чем он. Конечно же, не пойдет.
А на следующий день, ровно без пятнадцати час стоял он, прячась за табачный ларек, невдалеке от проходной городского бюро путешествий, где жена работала гидом. И вот в час с минутами подкатил к резным дверцам вишневый «Жигуль», вышел оттуда мужчина, невысокий, светлый, с лица незамет-ненький, стертый какой-то, под сорок уже, а может, и за сорок, изысканно и опрятно одетый; по виду знающий себе цену, чуть надменный. Он прошелся возле машины, закурил, а тут и Ольга выбежала, совсем как девочка, легкая, ловко накрашенная, в ярком платье. Подбежала к нему, поцеловала, по-свойски привычно, но и с порывом, а он чуть прижал ее к себе уверенной рукой, провел ладонью по щеке, и засмеялись они оба, радостно и беззаботно. А потом он дверцу для нее открыл, усадил в кабину, бережно поддерживая под локоток, и укатили они лихо неведомо куда, хотя нет, ведомо, наверное.
Поначалу только чуть пощемило в груди и прошло. И возвращался он на работу без особых волнений, и лишь монотонно твердил про себя: так и должно было случиться, так и должно. А к вечеру так скверно вдруг стало, так муторно, что решил забыть об увиденном, мол, черт с ним, всяко бывает. Но забыть не смог ни завтра, ни послезавтра. А потом пришел к Ольге и все выложил. Когда говорил, старался казаться беззаботным, но не вышло, и не сдерживал уже себя, говорил с горечью, но как о деле уже решенном. Она не оправдывалась, не уговаривала его, согласилась с его словами, и от этого ему еще горше стало, но отступать было некуда. Потом суд, потом хлопоты по размену квартиры. А потом облегчение, пришедшее как-то сразу, без каких-то там переходных периодов. Он быстро пообвыкся с мыслью, что холостой и что теперь вновь вся жизнь впереди, а то вроде как конченая была. И вообще все прекрасно. Только вот Дашка… Но Ольга не препятствовала их встречам, поощряла, даже может надеялась, что он вернется, она же заявила ему после суда: «Все равно придешь, где еще отыщешь такую…»
А Дашка уже бежала к дому, там мама ждет, по маме ведь тоже соскучилась. Нетерпеливо ждала его у лифта, торопила, вскрикивая: «Ну быстрей же, что ты как вареный, как утенок вареный».
Она встретила их, как и раньше встречала, с покровительственной полуулыбкой, кивнула Вадиму привычно и деловито, как будто он каждый день так приходит, запахнув кокетливый халатик — раньше у нее такого не было. А когда к Дашке наклонилась, потеплела лицом, подобрела, помолодела вмиг.
— Ой, коленки содрала, — развела она руками и колко глянула на Вадима, но тут же постаралась смягчить взгляд, подняла Дашку на руки и понесла в ванну. — Пойдем промою, йодом замажу.
— Не надо йодом, — захныкала Дашка.
— Как дела? — крикнула она из ванной.
— Спасибо, нормально. — Вадим прошел в комнату, обвел ее глазами. Знакомые, родные вещи, среди этих вещей он прожил пять лет. Стенка, диван, телевизор с оцарапанным боком, им оцарапанным, когда передвигал его с одного угла в другой, повредил этот бок; плед на диване, в который он закутывался, дурачась, изображая индейского вождя на совете старейшин.
Завизжала Дашка. Это действительно больно, когда йодом смазывают ранку. Она ворвалась в комнату со слезами на глазах, бросилась к Вадиму, обняла его ноги.
— Мама нехорошая, она меня не любит, — верещала она. — К тебе хочу, возьми меня к себе.
Ольга, посмеиваясь, стояла в дверях. Но смотрела не на Дашку, а на него смотрела, на Вадима. Он встретил ее взгляд, нахмурился, отвел глаза.
— Вот и уходи к своему папе, — сказала Ольга, проходя в комнату и усаживаясь на диване. — Ты мне больше не нужна.
Дашка замолкла, разжала ручонки; склонив голову набок, недоумевающе и жалко посмотрела на мать. Как же так? Она же пошутила, просто ей больно было. Ольга не выдержала, протянула руки.
— Да никому я тебя не отдам, моя ты, моя, и больше ничья! Дашка бросилась к матери и уткнулась лицом ей в живот. Ольга поправила волосы, провела ладонью по лицу. Она ждала его прихода, подкрасилась, надушилась едва уловимо чем-то французским.
— Мама звонит? — спросила она.
Родители Вадима год уже как жили в Москве, отца перевели в министерство начальником управления. Они звали его, но он ехать не собирался. Он любил свой город и чувствовал себя здесь гораздо лучше, чем где-либо.
— Звонит, — ответил Вадим.
— Как они там?
— Нормально.
— Поешь? — с надеждой спросила Ольга.
— Не хочу.
— Ты похудел.
— Тебе кажется.
— Нет, правда, ты похудел и осунулся, и потемнел, и неприкаянный какой-то сделался. Ты плохо питаешься?
— Обычно. Как всегда.
— Всегда я тебе готовила и кормила. А теперь некому. Некому, да?
Вадим неожиданно засмеялся.
— Некому, некому, — успокоил он. — Я живу один.
— Я не в этом смысле, — сухо заметила Ольга. Она не любила, когда ее уличают.
— Ав каком же? — спросил Вадим простодушно. Ольга промолчала, наклонилась к Дашке, поцеловала ее, и та убежала на кухню к ящику с игрушками.
— Ну да, конечно, я и забыла, — с легкой усмешкой сказала она и нервным движением поправила разъезжающийся на коленях халатик. — Ты же у нас одинокий охотник. Тебе никто не нужен. Ни я была не нужна, ни Дашка. Ты сам по себе. А меня будто и вовсе не было, так, ненужный придаток к твоей жизни. Вспомни, ты хоть куда-нибудь брал меня с собой? Я что-нибудь видела, а я женщина и не дурнушка к тому же!
— Далеко не дурнушка, — подтвердил Данин и принялся рассматривать ее, как живописец рассматривает завершенную работу, то отходя, то приближаясь, то наклоняя голову вправо и влево.
Ольга подняла на него глаза и, криво усмехнувшись, отвернулась.
— Все ёрничаешь, — тихо сказала она.
Тепло и уютно было в квартире и остро пахло домом. Да, да, именно домом. Бог его знает, из чего состоит этот запах, но в его квартире пахло пылью и застоявшимся табачным дымом, как в общественном туалете, а здесь домом.
— Я кое-что забрать хотел, — сказал Вадим. — Вырезки из журналов. Думал, не понадобятся, а вот понадобились. Найди, пожалуйста.
Ольга вскинулась, подошла к стенке. Оказывается, она давно уже все приготовила. Вадим опустился на диван, похлопал по ворсистому, упругому его боку, он спал на нем пять лет. Диван скрипнул дружелюбно.
Ольга разложила вырезки на пледе, принялась заворачивать в симпатичную оберточную бумагу. Она сейчас совсем близко от Вадима была, такая красивая, такая ароматная, такая желанная. Она словно почуяла что-то, потянулась к нему.
«А почему бы и нет? — подумал Вадим. — Почему бы и нет? Дашку можно отправить гулять». Но он отвернулся как бы невзначай, как бы не заметил ничего, чтобы не обидеть ее. Нельзя. Поздно. Лучше не будет, только хуже.
— Спасибо, — сказал он. — Я пойду.
И пошел к двери и не обернулся даже.
Объяснительную Вадим написал. Не сразу, правда. Три страницы покоились уже в мусорной корзинке. Когда рвал их, ухмыльнулся — злой и ироничной получилась первая объяснительная. Вроде бы серьезно поначалу читалась, а ощущение оставалось такое, будто насмехался он и над замкоменданта Кремля и над своим начальником. Не поймет Сорокин, обозлится только пуще. Так что во второй описал только факты. Сухо и кратко, без комментариев. Профком назначили через два дня, в пятницу, а в четверг вечером он получил повестку из прокуратуры. Предлагалось явиться в пятницу именно в тот час, на который был назначен профком. Вадима это позабавило. В пятницу утром, посмеиваясь, он дошел до комнаты, где сидел председатель профкома Алексей Ильич Рогов. У порога Вадим принял скорбный вид и, постучавшись, вошел. Высокий, угловатый, с тонким, аскетичным лицом, с аккуратной короткой бородкой, Рогов походил на дореволюционных интеллигентов, какими их показывают в кино. Он всегда был неулыбчив и молчалив. За пять лет ни с кем в институте близко не сошелся, и, собственно, никто к этому и не стремился. Но вот общественные обязанности свои исполнял старательно и умело. С личным временем не считался. Когда чувствовал несправедливость, был непреклонен в спорах даже с самым высоким начальством. Вадим протянул ему повестку.
— Ну и хорошо, — неожиданно весело сказал Рогов. — Перенесем профком на следующую неделю. А там Сорокин уедет в тур по Чехословакии, — он поднял на Вадима глаза и усмехнулся краешком губ.
Вадим от удивления даже не нашелся, что сказать, кивнул только. Рогов с Сорокиным во врагах вроде не ходили. Значит, прослышал что-то Рогов про историю в музее.
— Ав прокуратуру зачем, если не секрет? — спросил он.
— В качестве свидетеля. Драка, — лаконично ответил Вадим. Не стоит пока всего рассказывать.
Данин ни разу не был в прокуратуре. Не приходилось. Так случилось, что убережен он был от столкновений с законом, убережен даже от того легкого волнения, от той смутной тревоги, которую непременно ощущаешь, когда падает вдруг в руки из почтового ящика легкий прямоугольный листочек с таким знакомым и привычным, но почему-то так пугающим словом «повестка». Чист ты перед людьми, чист перед совестью, знаешь, что ничего такого зловещего с тобой не происходило, а вот все равно вздрагиваешь и судорожно, суетливо начинаешь копаться в памяти, а вдруг что-то было, а вдруг ты забыл о чем-то. И не найдя ничего, все равно не успокаиваешься, все равно ждешь чего-то плохого, подгоняешь время, поскорее бы уж этот день и час, когда все выяснится.
На сей раз Вадим, конечно, знал, по какому поводу его вызывают и почему в прокуратуру, оперуполномоченный-то предупредил. И понимал он, что волноваться-то не волнуется, а испытывает лишь легкое раздражение от вспомнившихся враз вкрадчивого тона и подозрительных глаз оперуполномоченного Петухова. Его подозревают. И в чем? В избиении женщины. Какая нелепость! Но Можейкина-то, наверное, пришла в себя и все рассказала, и в прокуратуре, несомненно, не дураки сидят, разберутся. Да, впрочем, и на Петухова обижаться нечего — у него работа такая, под девизом «Доверяй, но проверяй». Так что шагал Вадим легко и беззаботно, с удовольствием вспоминая едва приметную усмешку Рогова, когда увидел он его повестку. Неглупый, наверное, этот мужик Рогов, понимающий. Одна лишь деталька маленькая — вот эта вот усмешка и слова про поездку Сорокина, а как много говорит о человеке.
Он вышел на Строительную, где-то здесь должна быть районная прокуратура. Вадим знал эту улицу, ходил по ней часто, а вот даже и не догадывался, что у подъезда одного из этих невысоких, грязно-желтых домов должна висеть скромная неброская вывеска. Он достал повестку. Так, дом пятнадцать. Значит, по правой нечетной стороне. После тринадцатого дома обнаружился провал, а в провале сквер, надежно скрытый лиственной густотой. Жесткие кусты забором огораживают студенисто-подрагивающие кроны высоких деревьев. Вот поэтому-то и не видел он этого дома, упрятан он, не хочет напоказ себя выставлять.
Когда открыл дверь и вошел, подумал, ничего здесь нет такого особенного, как в обычном городском учреждении, коридоры, двери, за ними голоса, стук машинок. Вон какой-то маленький, тихий человек проскочил с папкой под мышкой, по виду бухгалтер, а на самом деле, наверное, следователь, сложнейшие убийства раскрывает или еще что-нибудь в этом роде.
Вот и нужная дверь, справа на стене маленькая табличка: «Следователи: Минин, Косолапов». Ему к Минину. Интересно, какой он, этот Минин? В узкой, как пенал, комнате едва уместились два стола, два сейфа, четыре стула. Сидящие за столами подняли головы. Один, что подальше у окна, смотрел недружелюбно, с раздражением, видимо, ему помешали. Был он остроплеч, узколиц, смугл, что-то кавказское в нем проглядывалось. Второй, крепкий, синеглазый, с крупным, как ломоть дыни, ртом, смотрел на него тоже без особой радости, но с любопытством. «Сейчас я вас разгадаю», — подумал Данин. Он поздоровался и положил повестку на стол второму.
— Я к вам, — сказал он, улыбаясь.
Тот взял повестку, приподнял брови, с легким удивлением глянул на Вадима, кивнул на стул. Вадим сел. Значит, угадал. Минин повертел повестку, отложил ее в сторону, достал из ящика стола большой белый бланк, посмотрел на Данина, но уже без удивления — с улыбкой, — сказал:
— Давайте знакомиться. Я следователь районной прокуратуры Минин Сергей Алексеевич. Позавчера мною возбуждено уголовное дело по факту преступления, совершенного в отношении гражданки Можейкиной. Вас я буду допрашивать в качестве свидетеля. Давайте запишем ваши данные.
Пока Минин заполнял протокол допроса, Вадим разглядел следователя и решил, что ему повезло. Этот получше, чем тот, что у окна, пораскованней, посимпатичней, к тому же, видимо, Вадимов ровесник, наверняка неглуп и с ним можно найти общий язык.
Следователь закончил писать, протянул ручку Данину, пододвинул к нему протокол:
— Распишитесь вот здесь, об ответственности за дачу ложных показаний.
Вадим невольно замер, на мгновение будто выстудилось нутро, а в лицо, наоборот, дохнуло жаром. И почему-то закостенели пальцы. Он знал, что по нему не видно, когда вот так обдает лицо жаром, не краснеет оно, но все равно неудобство почувствовал, будто высветили его одного в этой комнате, будто мощные прожекторы направили в самые его глаза. Ложные показания! Он будет давать ложные показания? Ну конечно. Его ведь просили об этом, умоляли… Он ведь помнил, как она просила, он видел глаза ее в тот момент, в них страх был, искренний, настоящий, она о смерти говорила, и он поверил ей и сейчас верит. Ложные показания… Нет… Это не ложные показания. Он ничего не соврет. Он просто не скажет кое чего. А может быть, и впрямь это кое-чего ему показалось. И зачем себя подставлять под удар, вызывать будут, дергать, зачем ввязываться не в свое дело, и так уже ввязался сдуру. Хватит. Ничего не случится, не преступление же он, в конце концов, совершает. Мало ли какие ссоры у знакомых людей бывают, сами разберутся и без помощи прокуратуры. А может, родственник ее этот белобрысый красавец, может, племянник любимый или братец двоюродный — ведь как она молила. И не дрожала уже рука, когда брал ручку, когда подпись свою, корявую, некрасивую, — почти до тридцати дожил, а так и не научился расписываться — выводил. И, отложив ручку, посмотрел на следователя прямо и открыто и не чувствовал вины за собой преждевременной за то, что расскажет сейчас, и за то, что не расскажет тоже.
Он говорил спокойно, неторопливо, изредка замолкая, припоминая детали. И о том, почему по этой улице решил пойти, рассказал, и о том, как голоса услышал, как испугался поначалу и уйти решил, но как пересилил себя и на помощь кинулся, рассказал, что темно было и что лежащее тело только углядел и еще три силуэта над ним, и о том, как находчиво слово «милиция» на помощь призвал и как рванулись неизвестные в разные стороны. Даже постарался припомнить, во что одеты они были, но за точность не поручился, мог и перепутать, ночью, как говорится, все кошки серы. Следователь записывал старательно, понятливо кивал головой, несколько раз с одобрением и с долей уважения даже посмотрел на Вадима. Хороший парень этот Минин, с ним легко.
— Значит, во дворе совсем темно было или горели какие-то окна? — спросил Минин, отложив в сторону ручку и массируя уставшие пальцы.
— Не помню… не помню, — Вадим подумал. — Или нет, горело одно или два, не помню, — и спохватился запоздало, значит, не так уж и темно было. — Но до нас свет не доходил. Хотя, когда один из них побежал, на мгновение влетел он в эту полоску света, спину я его увидел, неестественно белые кисти рук…
— Кисти рук… — повторил следователь и раздумчиво посмотрел на Данина. — Хорошо детали ловите. Пишете?
— Немного.
— По спине описать могли бы его? По тому, как бежал, как плечами и руками двигал, как ноги ставил? Короче, какой он?
— Я понимаю вас, — ответил Вадим. И, как на экране, увидел опять этого белобрысого — пружинистого, тренированного, расслабленного в то же время, пластичного, породистого, и лицо его увидел, живое, уверенное, чуть хищноватое, совсем не испуганное, а скорее досадливое. Припоминая, Вадим глядел на следователя и в какое-то мгновение понял, что поймал тот что-то в его глазах, что-то упрятанное, укрытое тщательно, недосказанное, потому что искорка недоверия промелькнула у Минина во взгляде, и насторожился он как-то вдруг, будто понял интуитивно, о чем думал Данин в эти секунды. И оборвалась враз протянувшаяся между ними с самого начала разговора ниточка взаимного доверия и взаимного понимания. Сначала оборвалась, а потом исчезла бесследно. Вадим отвел глаза, будто ненароком, случайно, как бы заслышав шаги в коридоре. И вопросительно посмотрел на дверь, и, когда та так и не открылась, вернулся взглядом к столу, к белому листу протокола, и, не поднимая уже больше головы, словно в задумчивости, повторил:
— Я понимаю вас. Праздный он, самолюбивый, уверенный в себе, разжатый, раскованный, трусоватый в то же время…
— Симпатичный? — быстро спросил Минин.
И хотел было уже Вадим вскинуть глаза, даже голова чуть дрогнула, дай бог незаметно, но напрягся вовремя и удержал себя, и продолжая смотреть на протокол, ответил ровно:
— Не знаю, не видел.
И подумал тут же: «Наверное, возмутиться надо было, мол, я же сказал, что темно было и лиц не видел. Не доверяете, оскорбляете подозрением! Но поздно, поздно уже».
— Ну что ж, — Минин деланно вздохнул, развел руками и, в упор, бесцеремонно разглядывая Вадима, лицо его, плечи, шею, руки, сказал: — Не видели, так не видели. Распишитесь.
Потом он убрал протокол в стол и вместо него извлек оттуда же тощую папку. Вынул из нее какие-то фотографии, несколько бумажек.
— Это фотографии и план места происшествия. Место происшествия установлено со слов Можейкиной…
— Она пришла в себя? — не выдержал Вадим.
— Да, в тот же день, — с едва заметной усмешкой ответил следователь. Не поднимая головы, он раскладывал снимки.
Вадим ощутил горечь в горле. От курева, наверное, от никотина, машинально подумал он. Так. А если Можейкина, придя в себя, все по-другому рассказала — всю правду? Может, она в шоке была, когда его, Данина, просила не рассказывать, что с этим белобрысым знакома? Ну и что? Чепуха все это. Он отказаться может, спокойно отказаться. Никто теперь не докажет факт того разговора. Вот, дурак, ввязался. Данин покривился. Урок теперь тебе на всю жизнь.
— Вы больны? — услышал он голос справа. Голос был низкий, тихий, участливый. Однако Вадим вздрогнул. Он быстро повернул голову и наткнулся на маленькие, черные глазки другого следователя.
— С чего вы взяли? — Вадим постарался беспечно улыбнуться.
— Глотаете с трудом, за горло рукой держитесь, морщитесь. Ангина?
— Нет, просто першит.
— А-а-а, — протянул следователь и снова уткнулся в бумаги. «Психологи доморощенные», — со злостью подумал Вадим.
И злость помогла. Одна она теперь только завладела им. И исчезли сомнения, исчезли страхи. Он смотрел на Минина теперь без волнения и даже с легкой неприязненной усмешкой.
Минин указал на фотографии и попросил:
— Покажите, как вы шли, где увидели Можейкину и этих троих.
Фотографии были цветные прекрасного качества, сделанные с помощью вспышки. Снимали, наверное, в ту же ночь. Данин все показал.
— Спасибо, — сказал следователь. — Давайте я отмечу повестку, и можете идти.
Когда Вадим уже был в дверях, Минин проговорил ему доброжелательно:
— Если что вспомните, приходите.
«Только не грохнуть дверью, — подумал Вадим, — как тогда, в Кремле».
До дома своего шел пешком, шел долго и только у подъезда вспомнил, что рабочий день еще не кончился и надо было идти в институт. Войдя в квартиру, сев в кресло и закурив, понял, что никуда не пойдет, видеть сегодня никого не хочет, что сегодня он будет один весь вечер.
А наутро все те вчерашние неприятные ощущения, которые вчера так мучили его, так досаждали, так раздражали и мешали поладить с самим собой, притупились, потеряли остроту, стали неясными, расплывчатыми, бесформенными. Хотя осадок остался. Он все помнил, что было вчера, четко помнил, в деталях, но неудобства или беспокойства больше не ощущал. И очень был этому рад, а еще был рад тому, что умеет вот так замечательно управлять собой, своими эмоциями, чувствами. Раньше вот не умел, а сейчас научился. Еще год назад, если бы случилось подобное, маялся бы и мучился долго-долго, мрачный бы ходил, дерганый, все из рук бы валилось, срывался бы, заводился с полуслова. А сейчас все в порядке. На душе ладно и спокойно. Правда, трудов он затратил на это немало — ворочался полночи, уговаривал себя, что чиста его совесть, что одно только им чувство руководило там, в прокуратуре, — человеколюбие, и что если уж дал слово, то надо держать его. А потом варианты просчитывал, каким образом недосказанность его, злосчастные эти ложные показания могут на нем негативно отразиться. Просчитал и убедился, что никаким. И еще одно очко в пользу душевного равновесия прибавилось. Одним словом, поднялся он с ощущением радостной уверенности в себе и с верой, что сегодняшний день будет не из самых худших…
И впрямь ему повезло. Как никогда хорошенькая, как никогда кокетливая в это утро, Марина с довольным и гордым видом, будто виновницей всему была она, сообщила, что рано-рано утром сегодня Сорокин уехал на неделю на семинар в Киев, — это директор срочно послал его вместо кого-то там заболевшего. Данин присвистнул восторженно, ринулся к своему столу, широким жестом вынул лист бумаги из ящика и скоро и размашисто написал на нем заявление об отпуске за свой счет. Самому Сорокину он не решился бы этот листок подсунуть, не разрешил бы он, воспротивился, остренькими буковками вывел бы в углу: «Возражаю!» А заместитель его большеголовый, лысенький, неуклюжий, похожий на обиженного медвежонка Ряскин подпишет вне всякого сомнения, подпишет, даже слова не скажет, даже не скривится недовольно, не пробурчит: «Очередной же ведь отгулял, и за свой счет в феврале уже брал…» И сегодня же, ну в крайнем случае завтра, в Ленинград, в архив, там работа, настоящая, его, там ему рады, там ждут.
…Едва в поезд сел, залихорадило от сладостного предчувствия скорой работы, даже стойкий, чуть горьковатый запах старой бумаги ощутил. И все улыбался, когда у окна стоял, курил и мелькавшие огоньки машинально провожал глазами. А потом пораньше спать улегся, чтобы прошла поскорее ночь. Уже засыпая, решил, что завтра первые полдня тоже спать будет, чтобы проскочило, пролетело время. Жаль, что на самолет билетов достать не мог, но обратно только на самолете — подольше в Ленинграде прожить надо, все возможное из своего отпуска выжать.
Как ни расчудесно и ни замечательно было в Ленинграде, как ни обласкан он был там добрыми, умными, все понимающими людьми, как ни прижился он за эти дни к такому далекому и близкому теперь городу, как ни радостно и хорошо ему было там, а когда, дрогнув, коснулся самолет серой клетчатой бетонной полосы, через несколько минут замер, все еще деловито гудя, легкость Вадим ощутил необычайную, непривычную умиротворенность, умильность даже какую-то почувствовал. Подивился поначалу. Что? Почему? Без беспокойства подивился, вяловато даже, а потом понял — домой прибыл, к своему. Конечно же, так и раньше бывало, когда возвращался, но там, откуда он приезжал, всегда было хуже, хоть чуточку, но хуже, чем дома, и дня через три нестерпимо уже хотелось в родной город, в уютную свою квартиру. А на этот раз, когда в Ленинграде был, и не вспоминал ведь о доме, и не тянуло, и не пощипывало сердце легонькой, едва ощутимой тоской, да и вообще уезжать не хотелось. На мгновение даже промелькнуло как-то: а не остаться ли навсегда? Ан нет. Как вот увидел сейчас стеклянную коробку аэропорта, так устыдился даже тому, что не рвался домой, что в мыслях даже почти предал его. Но со стыдом своим справился Данин быстро, привычно дав себе допуск, мол, человек я, не машина; и скоро уже ходко и весело вышагивал по бетонке. Выйдя из аэровокзала, узрел огромный хвост на стоянке такси и пошел справляться об автобусе. Оказалось, что тот уехал только-только, следующий будет через полчаса. Он не расстроился и не огорчился даже — есть ли причины? Он дома, он отлично поработал, он доволен собой. И углядел, наверное, в нем этакого преуспевающего, делового, знающего себе цену молодца один из леваков, которых всегда хватает в аэропортах и на вокзалах и которых не возьмешь вот так вот запросто — они себе клиента сами ищут, высматривают его зорко, прицениваются. Подошел он неторопливо, вразвалку, весь джинсовый, стертый, безволосый почти, спросил тихо: «Куда?» — как своего. Услышав ответ, назвал цену, Вадим непроизвольно провел по карману, а потом усмехнулся и кивнул: «Поехали».
Дорога разморила. Машина бежала плавно, едва ощутимо покачиваясь. В салоне было тепло и пахло новенькой обивкой, а магнитофон обволакивал чем-то итальянским, медовым и печальным. И все время дороги — ни слова. Это тоже чудесно, когда не тревожит тебя назойливо водитель, не расспрашивает тебя, не рассказывает о чем-нибудь своем, на его взгляд, интересном и занимательном, а ты киваешь с усилием и поддакиваешь невпопад. У подъезда Вадим расплатился и с легким сожалением вышел: с удовольствием вот так бы ехал и ехал еще. Взявшись за ручку двери, весело подмигнул своему отражению в стекле, вошел, привычно сунул ключ в скважину почтового ящика. Рухнула ему на руки кипа газет, смятых, силой просунутых почтальоном в узкую щель. Он подхватил их, посмеиваясь, донес до лифта, потом кое-как открыл свою квартиру, бросил газеты на маленький столик в коридоре и увидел посередине разбежавшихся веером листков знакомую квадратную бумажку. Вадим нахмурился, отставил кейс, поднес бумажку к глазам. Так и есть — повестка. Только теперь не в прокуратуру, а в милицию, на позавчера. Ну беспокоиться здесь не о чем, позавчера он, естественно, прийти не мог — причина уважительная: отпуск. Данин отбросил повестку и, на ходу снимая пиджак, пошел в комнату. Бросив пиджак на кресло, потянулся к магнитофону, посмотрел, что за кассета там стоит. Так, прекрасно, снова сладкоголосые итальянцы; нажал клавишу, достал из заднего кармана брюк сигареты, закурил, присел на диван, вздохнул глубоко, поежился, как после пробуждения в зимней нетопленной квартире, уставился бездумно в одну точку на противоположной стене, желая еще попребывать в безмыслии, продлить немного приятные минуты, проведенные в машине…
— Зачем!? — вдруг неожиданно для себя, вслух, громко сказал Вадим.
Потом подумал и добавил уже тише, но злее:
— К черту!
Потом еще подумал и тоскливо заметил:
— Дурак…
Он неуклюже вскинулся, с силой, большей, чем требовалось, притушил сигарету в пепельнице, поднялся, хлестко хлопнул по клавише магнитофона. Пуговицы на рубашке расстегивались с трудом — всегда нормально расстегивались, а сейчас вот почему-то с трудом — он едва сдержался, чтобы не рвануть полы в разные стороны. Рубашка полетела на диван, за ней брюки… В ванной горячий душ успокоил, опять появилась сонливость. С силой растирая себя полотенцем, он решил: завтра навестит Можейкину в больнице, если она еще там, или дома, если выписалась, а потом позвонит в милицию.
Проснуться пораньше, как с вечера еще решил, не удалось. Когда разлепил, когда с трудом почему-то оторвал голову от подушки, на часах уже десять с минутами было. Присел на постели, свесив ноги на пол, и подивился досадливо, а головато и впрямь тяжелая, словно не вчера он в самолете три часа провел, а сегодня, совсем недавно. Может, заболел, продуло где-нибудь? Даже самая легкая простуда порой много неудобств приносит. Как-то не так себя ощущаешь, каждое движение замечаешь, каждый жест фиксируешь, словно на чувствительность свое тело пробуешь. Но наплевать, переживем, это не самое страшное. Вадим поднялся с силой, принял привычную стойку и начал энергично разминать себя издавно отработанными упражнениями. Закончив, понял, что не простужен он, а голова отяжелела, видимо, от смены климата, давления или еще чего-нибудь атмосферного, температурного…
Приемный покой встретил тишиной, специфическими больничными запахами и пустотой. За столом дежурной сестры тоже было пусто, стоял на столе только стакан чаю, и настольная лампа просвечивала его до дна, и темная жидкость в стакане была похожа на расплавленный янтарь. Вадим направился уже к дверям, ведущим в больницу, когда его окликнули, властно и строго. Прямая, с величественно откинутой назад головой на него неприветливо взирала средних лет дама в белом халате. Данин поздоровался, спросил о Можейкиной.
— Три дня как выписалась, — сухо ответила сестра, усаживаясь.
— Адрес, телефон я могу узнать? — спросил Вадим.
— Таких справок не даем, — отрезала сестра.
Вадим усмехнулся.
— И правильно, — сказал он. — За разглашение государственной тайны — расстрел, — он наклонился к сестре и полюбопытствовал шепотом: — Давно в контрразведке?
Сестра отпрянула, поджала губы, бросила коротко:
— Не смешно.
— Смешно было две недели назад, когда я втащил ее сюда полуживую, — устало сказал Вадим. — Позовитс-ка мне того самого врача, кто ее тогда принимал. Это было четырнадцатого июля.
Сестра несколько мгновений смотрела на Вадима недоверчиво, потом кивнула и стала торопливо листать большую амбарную книгу. Потом потянулась к телефону, набрала номер, проговорила быстро:
— Доктора Тимонина в приемный покой.
— Спасибо, — сказал Вадим и пошел к банкетке, на которой сидел две недели назад, ожидая мужа Можейкиной.
Лицо у доктора сегодня было приветливое, чистое, словно отглаженное, и теней под глазами не угадывалось, и губы были не так плотно сжаты, как в тот день. И вообще, покруглее показалось Вадиму его лицо, чем тогда, особенно когда Тимонин повернулся к нему в фас, улыбнулся широко, насколько возможно, не деланно, не искусственно улыбнулся, а искренне, дружелюбно-уважительно. Приближаясь к Данину, он уже протягивал руку для пожатия и говорил чуть громче, чем следовало:
— Приветствую вас, отважный и добрый Робин Гуд. Вы не представляете себе, сэр, какой фурор вы произвели своим подвигом на юную часть нашего медперсонала. Меня просто одолели просьбами, чтобы я как бы невзначай, как бы случайно пригласил вас к нам.
Он был приметливый, этот доктор, он уловил, наверное, что-то нехорошее в глазах Вадима и умолк на полуслове, умело стер улыбку с лица, прикоснулся к плечу Вадима, как бы извиняясь и вместе с тем усаживая его этим жестом на банкетку. Внимательно посмотрев Вадиму в глаза и, видимо, удовлетворившись осмотром, присел сам и спросил просто:
— Чем могу?
— Адрес мне ее нужен, — сказал Вадим. — Поговорить хочу.
Он подумал вдруг, что доктор решил после этих слов, будто он за благодарностью пойти хочет, за ощущением своей значимости и благородности, и поэтому, помедлив, добавил:
— Уточнить кое-что надо, я не все толком помню. Стремительно ведь все произошло и в горячке, да и вообще…
— Верно, верно, — поддержал Тимонин, — сочувствие, вернее — участие ей сейчас не помешает, то, что нужно. Депрессия сильнейшая у нее была. Мы утешили, как могли. Но теперь лучше доктора для нее — время и дом. Пострадала она, конечно, крепко, очень крепко.
— Такие сильные были побои? — спросил Вадим. — Но ведь ее раза два-три только и ударили.
— Вот те на! — удивился Тимонин и даже чуть отстранился от Вадима и оглядел его, будто впервые видел. — Вас, что же, не вызывали еще в прокуратуру?
— Вызывали, — осторожно подтвердил Вадим, уже предчувствуя, что ему сообщат сейчас что-то недоброе.
— И что же, ничего не рассказали?
— Да нет, ничего, — нетерпеливо ответил Данин.
Тимонин пожал плечами и фыркнул, не сдержавшись.
— Ну и ну. Может, думали, что вы знаете… Странно. Короче, побои — это все чушь. Вреда большого они ей не принесли, и не из-за них она теряла сознание. Она была изнасилована. И причем жестоко. Понимаете? Как минимум два-три человека участвовало в этом. Все было проделано зверски, я бы даже сказал садистски. Возможно, пользовались и подручными предметами. Этого я тоже не исключаю… У нее были сильнейшие повреждения внутренней полости, и поэтому она потеряла много крови. Ко всему прочему, естественно, добавился сильнейший психический шок. Первую неделю просто-напросто не хотела жить. И даже пыталась покончить с собой…
Доктор говорил, а Вадиму казалось, что тело его деревенеет, что руки, ноги, голова, плечи становятся холодными и нечувствительными. И губы тоже немеют, и язык не хочет слушаться. И он боялся пошевелиться, боялся произнести хоть слово. А вдруг это не кажется, вдруг на самом деле. Он вздохнул, а вздоха не получилось, только клокотнуло что-то в горле, как у сытой хищной птицы.
— Что? — встревожился доктор, пристально всматриваясь Вадиму в глаза.
— Нормально, — сказал Данин, — все прошло. — Он звучно и длинно проглотил слюну и смутился и, чтобы скрыть смущение, спросил быстро: — Выходит, что ее изнасиловали еще до того, как появился я?
— Вы невероятно догадливы, — не сдержал ухмылку Тимонин.
Вадим не обиделся, даже хотел рассмеяться, но не получилось, на губах промелькнула только тень улыбки.
— Ну вот и чудесно, — сказал доктор. — Вы уже и улыбаетесь.
Он хлопнул Вадима по колену, поднялся, подошел к столу дежурной сестры, полистал ту самую толстую книгу, вырвал из своей записной книжки листок, что-то быстро записал на нем и вернулся обратно.
— Вот, — сказал он, протягивая Вадиму листок. — Ее адрес, телефон. Идите, навещайте. Передайте привет. Или нет. Не надо. О больницах и врачах лучше не вспоминать.
Вадим поблагодарил, пожал доктору руку и направился к выходу. Сестра кивнула ему на прощанье.
Когда захлопнулись за Вадимом двери больницы, он и не подумал даже, куда ему надо идти, даже на бумажку с адресом не взглянул — с первого взгляда не запомнил он название улицы, чтобы направиться в нужную сторону. Ноги сами его повели поближе к центру, повели к шуму, подальше от этой неприметной, спокойной улочки, от тишины ее умиротворяющей, но сейчас почему-то ненужной и нежеланной.
Он вышел на бульвар, прозрачно-изумрудный от зелени, красивый, почти такой же, как Гоголевский в Москве. И даже литая ограда и гранитные толстые, как бочонки, столбы были похожи на московские. И так же кучно и деловито машины тут сновали по мостовой… «А может, уехать? — вдруг подумал он. — В Москву уехать, к родителям. Работу там себе найду. В случае чего отец поможет. И с книгой вроде все уже в порядке. В случае чего прилетать буду. Всего-то два часа лету…» Он улыбнулся своим мыслям, такими радостными, такими спасительными они ему показались. А потом и засмеялся даже, только тихонько, про себя, остановился, сунул руки в карманы, огляделся вокруг. Как чудесно все, как замечательно! И люди все такие нарядные и симпатичные, и дома такие яркие, и лавочки уютно-заманчивые. А солнце-то, солнце, как сквозь сито, через листву густую просеивается и лучиками тоненькими ласкает твое лицо, не палит, не жарит, а именно ласкает. «Москва далеко, — опять подумал Вадим, — и там все забудется, все сотрется, выветрится все из памяти. А собственно, что такого я совершил? Да ничего. Ничего дурного».
На душе стало легко, и напряженность внутри исчезла, и скованность пропала, и он опять чувствовал себя легким, сильным, подвижным. И было приятно шагать по бульвару и едва заметно рисоваться вольной своей, раскованной походкой и открыто, чуть-чуть нахально смотреть в глаза проходящим женщинам — всем без исключения и красивым, и симпатичным, и совсем уж неприглядным. И приятно было ловить на себе их взоры, то строгие, то деланно-равнодушные, но всегда, как казалось ему, заинтересованные. А что? Он и впрямь парень ничего. Высок, строен, крепок, привлекателен лицом и одет не худо.
«Можейкина сама виновата, — успокаивал себя Вадим. — И издевательства над собой сама спровоцировала — ведь есть такая гипотеза, что жертва зачастую сама провоцирует преступника. А теперь не хочет говорить, кто это. Значит, ей так надо. И я здесь совсем ни при чем. Я поступил, как обычный порядочный человек, — он поморщился. Что-то не понравилось ему в этих рассуждениях, он никак не мог понять что. — Ну а в самом деле? Что, я милиционер, что ли? Что, это мой долг? Уж я-то скорей должен поступать по совести в таких случаях, а не по долгу».
И чтобы окончательно успокоиться, он решил, что надо все-таки действительно позвонить Можейкиной, а то и встретиться с ней, обговорить все еще раз. А вдруг изменилось что? Вдруг она сама уже хочет все рассказать? Так что же получиться может? Что это он, а не она преступников покрывает? И вновь пришло беспокойство, знакомое и нудное. Он остановился, поискал глазами телефонную будку. Обнаружил ее впереди метрах в сорока. Заспешил к ней. Но, пока шел, ее уже заняла приземистая коротконогая женщина с недовольным, потным лицом. Вадим встал возле будки так, чтобы женщина его видела. Она скользнула по нему взглядом и, казалось, даже не заметила. Неторопливо набрала номер, постояла немного, монетка так и не провалилась. Тогда она вынула из большой, плотно набитой и поэтому пузатой дерматиновой сумки бумажку, глянула на нее коротко и опять набрала номер. На сей раз монетка провалилась, и женщина произнесла громко и визгливо:
— Туфлей нету женских, австрийских?
Видимо, услышав отрицательный ответ, повесила трубку. Лениво достала еще монетку, опять посмотрела в бумажку и набрала номер:
— Алле, туфлей нету австрийских… Эй, обождика-ка, а дубленков? — выругалась и опять повесила трубку. И следующая монетка свалилась в железную утробу автомата:
— Эй, магазин… Ага. Белья нету постельного? Многа? Ага… — Она записала что-то на бумажке карандашом, предварительно послюнявив его, и опять полезла за двумя копейками.
Вадим отошел от автомата, но недалеко, чтобы опять не перехватили, обвел взглядом близлежащие дома, но телефонных будок больше не заприметил. Он вернулся обратно.
— Эй, магазин… Нету? Ага, — доносилось из кабинки.
Вадим вынул сигарету, прикурил. Дым показался противным и горьким. Сигарета полетела в урну.
Он наконец решился постучать в стекло кабинки. А в ответ только:
— Эй, магазин… Нету? Ага…
«Так сдвинуться можно», — подумал Данин и принялся нетерпеливо ходить взад-вперед. Потом остановился, вынул листок с адресом Можейкиной. «Ул. Блюхера», — прочитал он. Это недалеко, несколько остановок на троллейбусе. Надо подъехать поближе к дому и там уж позвонить, а то ждать здесь бесполезно. Он сделал уже несколько шагов в сторону остановки, когда скрипнула дверца кабины, и женщина наконец вышла из нее:
— Наглец, хулиган, — злобно прищурившись, процедила она и утиной походкой поковыляла прочь.
Хотел сказать ей вслед Вадим что-нибудь хлесткое, остроумно-обидное, чтобы разрядиться как-то, снять раздражение, чтобы поставить на место эту женщину-утку, а потом покривился и передумал. Поймет ли? Нет. Оскорбится только, еще злее станет, еще ненавистней на людей глядеть будет. Недобрала чего-то очень важного эта женщина в своей жизни. Радости, наверное, недобрала, ласки, благополучия. А теперь вот и злится на весь свет и сама не понимает почему. Злится, и все тут.
Вадим рывком открыл будку, ступил на поскрипывающий песком ребристый пол ее, отрывисто набрал номер. Ну конечно. Занято. Господи, как же мешают эти мелочи, как сбивают настроение! Он набрал номер еще несколько раз. Наконец-то!
— Алле? — Голос был тихий, потухший, испуганно-вопрошающий.
— Добрый день, Людмила Сергеевна. Это… вот даже не знаю, как представиться. Я вам, кажется, и фамилии своей даже не называл. Короче, я тот, кто в больницу вас отвез, в тот не самый, скажем так, удачный день нашей жизни. Вадим Данин.
— А-а-а, — без всякого энтузиазма протянула женщина. — Конечно. Помню. Мой спаситель. Добрый человек. — Вадиму показалось, что Можейкина тихонько засмеялась, и он недоуменно пожал плечами. — Я хочу еще раз поблагодарить вас. За все, что вы сделали для меня…
— Как вы себя чувствуете? Как настроение?
— Я? — переспросила женщина и сказала медленно и слабо, будто прошептала: — Неплохо, наверное. А может быть, плохо. Не знаю.
«Пьяна? Не в себе?» — подумал Вадим, а вслух сказал:
— Вас опрашивали? Следователь прокуратуры с вами говорил?
— Говорил. Давно уже. Симпатичный, молодой…
— Вы все помните, что отвечали ему?
— Я? Наверное, помню…
— Людмила Сергеевна, у меня просьба. Давайте встретимся. Опасаюсь, что по телефону нормального разговора не получится.
— Встретиться? Хорошо. Приходите… Хотя нет. Не надо. Скоро муж придет. Ко мне не надо. Лучше на улице. Хотя на улицу я не выхожу… А впрочем… На углу Блюхера и Тюринского переулка есть кафе-кондитерская. Можно там. Во сколько вы будете?
— Через двадцать минут.
— Хорошо.
Еще из будки Вадим видел, как к остановке подходит троллейбус. Повесив трубку, он выскочил из кабины и стремглав побежал к остановке. Успел в последнюю секунду. Двери едва не сдавили его с боков.
Улица Блюхера была оживленной, многолюдной и шумной. На первых этажах старых, еще довоенных громоздких домов располагалось множество магазинов, и манили эти магазины приезжих яркими своими витринами и рекламой самых разнообразных товаров. Такси, автобусы и «рафики» с загородными номерами, казалось, парковали здесь сутками.
Из дверей кафе-кондитерской выплывали теплые, сладкие запахи — запахи детства, беззаботности, безмятежности и беспричинной радости. Стоя у кафе, Вадим отыскал глазом дом, где жила Можейкина, ее подъезд — он выходил на улицу — и стал наблюдать за ним, делать все равно было нечего, он приехал немного раньше.
Он не сразу узнал ее, когда женщина вышла из дверей подъезда. В блеклом платьице она была, в неброском, матерчатом, каком-то мятом пиджачке. И вообще вся сама она была бесцветная и невыразительная. Чуть сутулилась, чуть покачивалась, как впервые поднявшийся после долгих дней, проведенных в постели, больной. Голова была опущена, и глаза на серо-бледном лице безжизненно смотрели под ноги. Она медленно подошла к переходу, остановилась на краешке тротуара, пропуская плотный, по-черепашьи движущийся поток автомобилей.
Вадим, собственно-то, не удивился. Все понятно, тяжелая травма, и физическая и психическая, даже самого сильного человека может выбить из колеи. Он не удивлялся, но почему-то уж очень муторно стало на душе. На мгновение ему подумалось, будто он и только он виноват в том, что вот эта, такая красивая, яркая и жизнерадостная женщина в одночасье превратилась чуть ли не в старуху, унылую, тусклую, сгорбленную. «Нет, — сказал он себе, — это мне только кажется, икажется из-за чем-то недавно вызванного и никак не уходящего раздражения».
Машины замерли перед светофором, а Можейкина так и не ступила на мостовую. Рядом с ней вдруг возник мужчина в маленькой кепке и короткой прорезиненной куртке. Он склонился к ее лицу и что-то говорил. Вадим видел, как меняется женщина в лице, как расширяются ее глаза, как кривится, приоткрывается рот, как рука в медленном испуге тянется к груди, к горлу. А парень что-то говорил и говорил ей. Теперь он даже держал Можейкину за плечо, и Вадиму почудилось, что длинные, крепкие пальцы его с силой впились в тело женщины. Машины снова поехали. Они мельтешили перед глазами и мешали сосредоточиться. А впрочем, и не надо было сосредоточиваться, надо было бежать к ней, бежать на помощь, как тогда. Потому что и сейчас там, на той стороне, происходило что-то нехорошее и злое. А еще через секунду он узнал этого парня, его фигуру, его повадку, очертания этой вот головы, втянутой в плечи, очертания этой вот крохотной кепочки. Он — один из тех трех, что били Можейкину. Не тот, за кем Данин гнался, а другой, тот, что стоял левее, и он даже что-то там еще говорил, кажется.
Вадим шагнул на мостовую. Пронзительный визг клаксона резанул по ушам, скрипнули тормоза, кто-то выматерился. Вадим отмахнулся и сделал еще несколько шагов.
Обозленно взвизгивая, застывали перед ним машины, едва не касаясь горячими своими мордами его ног, бедер. А Вадим, как слепой, толкался среди них, метался из стороны в сторону, изгибался, извивался, пытаясь выбраться из этого стального душного лабиринта. Под ноги он не глядел и на машины не глядел — лишь краешком глаза улавливал щель, куда можно проскочить, — он смотрел на Можейкину и на этого парня в кепке. Если что-то произойдет, он должен это хотя бы видеть, чтобы предотвратить, не дать ничему случиться, — как-нибудь, все равно как, хотя бы криком… Раздраженные вскрики клаксонов, тонкое повизгивание тормозов всполошили людей. Те, кто стоял у перехода, во все глаза смотрели на мостовую, и у ограды на тротуарах сгрудились кучки людей. И парня в кепке эти звуки тоже заставили повернуться. Он прищурился, будто почуял что-то неладное, еще больше сгорбился, напрягся, дернул губами, чуть оскалился, сверкнув ровным рядком зубов, стремительно повернулся к женщине, накрыл лицо ее ладонью, сжал его пальцами, сказал что-то, скривившись, оттолкнул ее голову и нырнул в толпу. Можейкина отпрянула назад и, теряя понемногу равновесие, мягко повалилась на бок. И тут автомобили, как по команде, словно вросли в землю — светофор преградил им дорогу. Сопровождаемый отборной бранью, выскочил Вадим на тротуар, бухнулся на колени перед Можей-киной, чуть встряхнул ее голову, несильно хлопнул два раза по щекам; и когда открыла она глаза — через мгновение открыла, через секунду — крикнул кому-то, кто рядом стоял: «Кто-нибудь, умоляю, отнесите ее к лавочке возле магазина. Я сейчас», — и кинулся туда, куда за несколько секунд до него побежал парень в кепке.
Он натыкался на людей, как недавно еще на машины, отталкивал кого-то, извинялся, кидался то вправо, то влево, отыскивая крохотный хотя бы просвет между ними. Он знал наверняка, что напрасна суматошная эта гонка его. Парень уже далеко, он свернул, наверное, в какой-нибудь переулок или подворотню или вбежал в ближайший подъезд или ближайший магазин, но все равно Данин пробивался сквозь толпу, потому что гнала его вперед неведомая ему сила, ему надо было сделать все до конца, чтобы не ругать потом себя, не упрекать, не корить, не терзать. Издалека теперь люди видели высокую фигуру его, решительное, чуть шалое от погони лицо, и за мгновение до того, как приближался он к ним, расступались они в стороны, давая ему дорогу. Вадим подался чуть вправо, к ограде тротуара, машинально взглянул вдоль нее и увидел парня. Тот бежал по мостовой, а не по тротуару, бежал, прижимаясь к отраде, чтобы не задели его проезжающие мимо машины. Вот оно как значит, не свернул он никуда — значит, стремится к определенной цели или просто дурак, ведь давно бы уже мог исчезнуть. Вадим прыжком перескочил ограду и тоже помчался по мостовой. Парень оглянулся, потеряв на этом несколько мгновений, и увидел Вадима, пригнулся еще ниже, и стремительней замелькали его ноги. Вадим тоже прибавил и понял, что нагонит парня, он бегает лучше, быстрее бегает, если бы еще не курил… Парень неожиданно перемахнул ограду, исчез на мгновение из виду, и потом Вадим снова увидел его кепку в толпе, она маячила светло-серым пятном среди темного моря голов, а затем исчезла. И Вадим догадался, куда она исчезла. Небольшой короткий переулок здесь был. Вадим достиг его — и ограда тут кончилась, и не надо было перескакивать ее — и снова различил парня, он подбежал зачем-то к табачному киоску, схватил какого-то малого, стоящего там, за плечо, и вместе они кинулись к припаркованной рядом машине, к такси. Малый влетел в кабину, на место водителя, парень в кепке нырнул в противоположную дверь, и тотчас сорвалась машина с места, чуть присев от толчка на задних амортизаторах. Автоматически скользнул Вадим взглядом по номеру, на всякий случай, может, пригодится, хотя вряд ли, зачем? А почему вряд ли, да хотя бы затем, чтобы преследовать сейчас эту машину. Он огляделся — ни одного автомобиля в переулке — пустой переулок, чистый, даже безлюдный, и не верится, что совсем рядом в двадцати шагах буквально, напористо катит такой густой и шумный людской поток. Он выбежал на улицу, встал на углу, выставил руку. Но он был здесь не один, много охотников и вперед и, и сзади него стояли, и всем позарез нужна была машина, и каждый спешил, а машины, словно дразнясь, посверкивали зеленым глазком и проезжали мимо…
Можейкина сидела на лавочке, опершись плечом на усталую дородную женщину с большим приветливым лицом, и невидяще смотрела перед собой. А женщина держала огромными толстыми пальцами кажущийся миниатюрным жестяной цилиндрик с валидолом и, пытливо глядя Можейкиной в глаза, вопрошала участливо:
— Ну как, милая, лучше? Лучше?
А Можейкина только покачивала головой, как китайский божок, и все. Вадим сел рядом, отдышался, улыбнулся дородной женщине, поблагодарил ее, взял Можейкину за плечи, повернул к себе.
— А-а, вы… — без выражения произнесла она.
— Я провожу вас домой, — сказал Вадим.
— Домой? Нет, не надо домой. — Можейкина нахмурилась, будто припоминая что-то, и взгляд ее стад осмысленным, она застенчиво улыбнулась, огладила платье на коленях; наклоняя голову то вправо, то влево, полюбовалась им, как девочка-подросток только что купленной обновой, и проговорила нормальным, твердым голосом: — Пойдемте съедим что-нибудь сладкое. Я так люблю сладкое.
Вадим изучающе посмотрел на нее, прищурился, раздумывая, потом поднялся и, поддерживая женщину за руку, помог встать и ей.
— Если что, я могу пособить, — басом предложила дородная доброжелательница.
— Спасибо, — еще раз поблагодарил Вадим. — Мы сами.
Можейкина шла довольно уверенно, но видно было, что уверенность эта дается ей с трудом, с усилием. Слишком правильно она шла, слишком прямо и слишком жестко. И глаза ее, широко раскрытые, не на улицу, не под ноги смотрели, а внутрь, в себя, она будто приглядывалась, оценивала каждое свое движение. Уловив состояние женщины, Вадим подумал, что опасения его, наверное, напрасны — с психикой у Можей-киной вроде все в порядке, раз так сосредоточенно вглядывается она в себя, прислушивается к себе. Просто не выздоровела, не пришла еще в норму после шока. Эти несколько шагов, пока шли до кафе, они молчали, молчали, и пока он столик подыскивал, где поудобнее расположиться, где поговорить можно без помех. В кафе было многолюдно, но не так чтобы очень. Приезжий люд любил поесть основательно, и поэтому в этот час обычные кафе и столовые были набиты битком, что не протиснуться, а в кафе-кондитерскую все больше горожане ходили, кофе попить, черный, крепкий, пирожное отведать — побаловать себя. А как только уселись за маленький столик возле окна, Можейкина проговорила неожиданно:
— Хамство какое, совсем распустились! — и посмотрела на Вадима.
Он не понял сначала, о чем это она, даже оглядел зал, полуобернувшись: потом догадался, но ничего не ответил, сделал вид, что разглядывает меню.
— Что я ему девочка, что ли, — продолжала Можейкина, но возмущения в ее голосе не чувствовалось. — Знакомиться на улице. Пристал и требует, чтобы я ему свидание назначила. Я отказалась, а он мне в лицо…
Только теперь Вадим поднял глаза и опять, ни говоря ни слова, посмотрел на нее в упор. Можейкина не выдержала нескольких секунд, отвела взгляд, нетерпеливо осмотрела зал, словно отыскивала официантку. Данин подвинул к ней меню.
— Спасибо, — сказала женщина. — Попросите официантку. Кофе хочется.
Но звать официантку не понадобилось, она уже спешила к их столику. Большими, желтоватыми, морщинистыми руками огладила скатерть — скорее по привычке, чем из-за желания быть приятной гостям, — произнесла без выражения:
— Говорите.
Он продиктовал заказ, и официантка ушла, унося с собой меню. Вадим потрогал вазочку с салфетками, поскреб ею по скатерти и спросил негромко:
— Они вам угрожают?
— Кто? — встрепенулась Можейкина, и глаза у нее сделались круглыми, как у птицы.
— Они вам звонят по телефону и угрожают, — не обратив внимания на восклицание Можейкиной, уже не вопрошая, а утверждая, продолжал Вадим. — Они караулят вас у подъезда в надежде, что вы выйдете прогуляться. А вы только в первый раз вышли сегодня с тех пор, как покинули больницу. Так?
Можейкина как-то обмякла в мгновение, словно подтаяла, как снежная баба в теплый солнечный день. Веки отяжелели, надавили сверху на глаза, обвисли щеки. Она прошептала, выдыхая:
— Я не знаю, о чем вы…
— Знаете, — жестко и тихо сказал Вадим. — Все вы знаете. Не делайте из меня дурака.
Он понимал, что ведет себя жестоко, что не должен он так говорить с больной, потерявшей интерес к жизни женщиной. Ему, наоборот, надо было сейчас жалеть ее, успокаивать, улыбаться, говорить ласковые слова… Но он хотел знать правду, ему невероятно хотелось знать правду.
— Кто они? — спросил Вадим. — И почему вы не хотите, чтобы их наказали? Они же чуть не убили вас. Они преступники… И я, болван, ничего не рассказал следователю. Но если вы не скажете сейчас мне, кто они, я немедленно пойду в прокуратуру и…
Она не дала Вадиму договорить, стремительно протянула к нему руки, сбив при этом вазочку с салфетками — она мягко покатилась по столу и звонко шмякнулась об пол, — цепко ухватила его руки пальцами и с силой замотала головой. Она хотела что-то сказать, но, наверное, перехватило у нее дыхание, и вместо слов Вадим услышал хрип. А потом худые, острые плечи ее задергались, словно в конвульсии, голова запрокинулась, закатились глаза, и пальцы еще сильнее впились в его руки. «Припадок, — тоскливо подумал Вадим. — За что же мне все это?..» В зале уже обратили на них внимание, многие осторожно оборачивались, а некоторые и попросту бесцеремонно разглядывали.
Женщина с мелким лицом, что сидела рядом, поморщилась брезгливо и прикрыла ладонью глаза маленькой девчушке, которая болтала ножками на стуле и, широко разинув ротик, разглядывала Можейкину. Какой-то низенький мужичок приподнялся было со своего места, наверно, чтобы помочь, но тотчас плюхнулся обратно, усаженный твердой рукой плотной, крутоплечей дамы. Вадим уловил все это краем глаза, пока вставал с места, пока наклонялся над Можейкиной, пока растерянно шептал ей что-то на ухо и, не зная, что предпринять, обмахивал салфетками ее бледное, покрытое испариной лицо. Вот он увидел официантку. Она уже стояла рядом и встревоженно наблюдала за ним и за Можейкиной. Поднос в ее руках дрожал, и чашки на нем ритмично позванивали. Вадим машинально схватил одну чашку, подул зачем-то на кофе, хотя он и так был не очень горячий — руку не обжигал, пальцами приоткрыл Можейкиной рот и влил туда полглотка, а через секунду еще столько же. Подействовало. Женщина перестала дрожать. Плечи ее обвисли, застыли. Можейкина вздохнула, покрутила вяло головой и закрыла глаза, а когда открыла через мгновение, лицо у нее уже не было таким отрешенным и безжизненным. Посетители теперь уже откровенно разглядывали их. И даже буфетчица, махнув рукой на очередь, перегнулась через стойку, во все глаза глядела на них и охала.
— Может быть, «скорую»…
— Врача, конечно, бы надо… Солнечный удар, наверно…
— Да вы с ума сошли, в помещении-то… — слышал Вадим голоса и чувствовал при этом неудобство и неловкость. И надо было поскорее выйти отсюда, забыть о Можейкиной, о прокуратуре, о насильниках. Выйти, подставить лицо солнцу и идти, куда глаза глядят…
— Людмила Сергеевна, все в порядке? — спросил он, разглядывая Можейкину.
— Да, все в порядке, — неожиданно радостно откликнулась она. — А что-нибудь случилось?
Вадим заглянул ей в глаза. Играет? Да вроде нет, слишком уж естественна она. Да и бледность имеется, и испарина, и побелевшие ногти на пальцах, и пульсирующие жилки на шее и у виска. Он, конечно, не врач, но в психиатрии разбирается немного, интересовался когда-то, читал, кое-что видел. Да и зачем ей играть? Чтобы отвлечь его от разговора о прокуратуре, о преступниках? Глупо. Наоборот, он станет любопытствовать еще больше.
— До дома дойдем? Здесь недалеко, я помогу. Хорошо? — Он говорил с ней сейчас, как с маленькой девочкой, которая упала и больно расшибла ножку, как его дочка несколько дней назад.
Можейкина кивнула согласно. Прежде чем встать, она расправила платье на коленях, опять полюбовалась им, наклоняя голову то вправо, то влево, а затем легко и непринужденно поднялась и встала рядом с Вадимом, улыбающаяся и беззаботная, как школьница. Данин расплатился с официанткой, взял Можейкину под руку, и они направились к выходу. На улице Можейкина зажмурилась от солнца, потянулась, как после хорошего сна, и замурлыкала что-то себе под нос. Вадим молчал. Он боялся сейчас говорить с ней, спрашивать ее. Возле подъезда женщина опять поглядела на свое платье, потом выпрямилась, поправила воротничок, горделиво посмотрела на Вадима, повернулась один раз вокруг себя и спросила:
— Хорошее платьице, правда?
Вадим машинально кивнул.
— Вот, — и Можейкина вдруг показала ему язык. — Это мне мама купила, на день рождения.
Повернулась и потянула на себя дверь.
— Вас проводить до квартиры? — растерянно предложил Данин.
— Это еще зачем? — обиженно произнесла Можейкина. — Я уже взрослая.
Вадим закурил, постоял некоторое время, раздумывая и хмурясь при этом, потом не спеша двинулся по улице.
Проснулся тяжело, с усилием приоткрыл глаза — веки будто приклеились друг к дружке, хмыкнул даже, вяло представив, как пальцами растопыривает их, как придерживает, чтобы не дай бог снова не потянулись они друг к дружке, не слиплись намертво. Обычно по утрам легкости особой он не ощущал, но тяжести тоже. А сегодня вот как-то вязко было, сонная вязкость тело его сковывала. И вставать не хотелось, и одеваться не хотелось, и завтракать, и на улицу выходить, и на работу бежать… И лень, не лень, а состояние такое, словно всю ночь проплакал горько, навзрыд, все силы на это выложив.
Когда вернулся вчера от Можейкиной, все места себе не мог найти, все слонялся по квартире, все порывался уйти снова, только не знал куда, где спокойствие обрести, кто поможет ему вернуть прежнее привычно-беззаботное состояние. Все прикидывал и проигрывал варианты и один за другим отбрасывал, морщась с досады, злясь на себя, жалея себя, — что вот не обрел он в жизни своей места такого, где мог от мыслей душных освободиться — да, пожалуй, и не от мыслей даже, а так от неудобства, от ломоты душевной; что и человека такого не нашел, которому без стеснения, без оглядки, разом, сбивчиво можно было бы поведать о непонятностях своих, — и никаких советов не надо было бы ему и сочувствия, а надо было, чтобы просто человек этот ему приятен был, его человек, да и крепкий к тому же, надежный, не нюня…
Читать не читалось, телевизор раздражал, сумерки за окном и вовсе тоску нагоняли, безнадежную какую-то, беспросветную. Он попытался о чем-нибудь приятном вспомнить. Завтрашний день представить. Не смог, не получилось, все радости и приятности и вчерашние, и завтрашние пустячными, безмерно мелкими виделись, мало того что мелкими — ненастоящими. Подумал, может, выпить. Есть вон в баре целый арсенал напитков различной крепости и окраски. Вон они стоят, манящие яркие бутылки с настоящим мужским лекарством — панацеей от всех бед и горестей. Потянулся уже в зеркальное нутро полированной тумбы, но замерла рука в воздухе на полпути — вспомнил, что странное действие на него в последнее время спиртные напитки оказывают — не бодрят и не дурманят, лишь сил убавляют, голову тяжелят, не контрастируют краски вокруг, как раньше, — так стоит ли?
Вадим выключил телевизор, и телефон выключил, автоматически отметив, что вот уже несколько дней боится он телефона, морщится болезненно, когда вдруг резко начинает вызванивать он, — разделся, бросил одежду на пол и повалился на диван…
Однако все, хватит. Надо идти на работу. И хорошо, что надо, просто замечательно, что надо, не будет там времени задуматься, копаться в себе, покончить с сомнениями — все дела, дела, может быть, и не нужные тебе дела, может быть, и попросту не твои дела, но все-таки дела — работа. И выхолостит беготня эта и суета все то, что исподволь тревожит его, и снова обретет он ту самую безмятежность, в которой так привык пребывать, в которой так хорошо ему всегда было, так сладостно — поменьше тревог, поменьше волнений. Мельтешение знакомых лиц, бессмысленная болтовня в коридорах, смешки, шуточки, десятки разных привычных мелочей — и он станет таким же, как и прежде, забудет обо всем, наплюет на все. Прочь неудобства, да здравствует душевный комфорт!
Окно во всю стену — как экран для широкоэкранного и широкоформатного показа. И треть города в него вмещается, если у самого окна стоять, а если к дальней стенке отойти, то четверть, а может, и того меньше. А может, и вообще только десятую часть видишь, где бы ни стоял. Но все равно картинка что надо — крыши, чердаки, темные провалы беспорядочных переулков, окна, осыпавшиеся карнизы, голуби и почему-то дым в двух-трех местах. Откуда? Неужто камины сохранились? А что за крохотная серебряная точка небо прошивает? НЛО? Мираж? Все проще — самолет. Скучно. Всего лишь самолет. Данин затянулся и выдохнул дымок на окно. Дымок растекся слоисто по стеклу, замер, будто задумался, и обреченно потянулся вверх. На стекле быстро исчезал мутный запотевший кружок… На семиэтажном доме крышу красят. Мужики в спецовках по самому краю ходят, полшага, и тю-тю. И не боятся, черти, как по тротуару шастают. Вон девчонка в окне дома напротив промелькнула, вроде хорошенькая. Ну-ка, покажись еще. Совсем ничего, свеженькая, глазастая. Только что-то с одеждой у нее не в порядке — блузка красная, юбка зеленая.
— Теперь так модно? — спросил Вадим, ни к кому не обращаясь.
Никто ему ничего не ответил.
— Хомяков, скажите, пожалуйста, — не оборачиваясь, опять подал голос Данин. — Вы тоже модный? У вас черные пуговицы к серому пиджаку красными нитками пришиты?
За спиной у Вадима фыркнули по-собачьи. А Хомяков и впрямь на пса похож — на пекинеса, противненького такого, со вмятой мордой. И Татосов тоже на пса этого похож, и на Хомякова. Татосов и Хомяков вроде как «двойняшки». «Ученые», — хмыкнул Вадим и обернулся. Левкин почему-то слишком поспешно отпрянул от Маринки, с которой сидел рядом и что-то ей объяснял с карандашом в руках. Целовались, что ли? Не… Если б целовались, то Татосов и Хомяков давно бы в обморок попадали, валялись бы сейчас и всхрипывали, и пришлось бы «скорую» вызывать, деньги на апельсины собирать… А Левкин мужик ничего, здоровый, громогласный, разухабистый, только уж больно хозяйственный, все свертки да сумки, колбаса да молочко. А когда на Маринку смотрит, у него глаза, как у коровы, делаются.
— Нет, правда, — сказал Данин. — Скажите, Хомяков, это вам кто подсказал или сами додумались, или в журналах заграничных углядели брюки по щиколотку носить, а под ними оранжевые носки? — Вадим сел за свой стол, почесал висок. — Ведь у вас же жена есть. Она что, не следит за вами?
Татосов вскочил с места и засопел, задыхаясь. Сколько ему лет? Пятьдесят три? Пятьдесят пять? Левкин с неохотой оторвался от Маринки, скрипнув стулом, поднялся и примирительно сказал Хомякову, предварительно погрозив Данину кулаком:
— Не обижайтесь, Анатолий Иванович. Вы у нас недавно и не знаете Данина, он так шутит. У него вот юморок такой. — Он многозначительно покрутил пальцами возле лба.
— Ну знаешь ли, — сказал Данин и сладко потянулся.
Хомяков пробормотал что-то про издевательство и не обсохшее на губах молоко, но послушно сел. А Татосов и вовсе голову не поднял, пока Данин, Левкин и Хомяков так занимательно беседовали.
Вадим поковырялся в бумагах, стал что-то писать, через пару минут отбросил ручку, подвинул к себе телефон, снял трубку. Она гудела, и Вадим тоже загудел вместе с трубкой:
— У-у-у-у-у-у-у, — в одной тональности тянул он.
— Это невозможно, — негодуя, хлопнул ладонями по столу Хомяков.
— А вас не спрашивают, — сказал Данин.
— Вадим, — зло одернул его Левкин. — Что с тобой? Ты сегодня особенно дуришь.
— Все, все, все, все, — сказал Данин, взял ручку, опять начал писать и чуть не заплакал…
А потом Данин пошел в буфет и взял себе кофе, томатный сок, ветчину и хлеб. Намазал ветчину горчицей и стал жевать. Вокруг ходили сотрудники, его коллеги, кивали ему, здоровались. И он кивал и здоровался. Кофе был горячий, и Вадим обжег язык, и он стал чувствительный и шершавый, и некоторое время теперь противно будет курить. «Тогда не буду курить, — решил Вадим. — Это полезно». Вокруг за столами тоже пили и ели, где-то смеялись, но в общем-то было тихо. В институте работали культурные люди. Вадим допил сок, взял пальцами стакан за кромку и крутанул его, стакан заплясал, дробно стуча гранями по столу. Вадим взял второй стакан и сделал то же самое. Два стакана гремели в два раза громче. Подошла уборщица, собрала стаканы и сказала, что Данину надо лечиться. Данин согласился, но сказал, что на пару у них это лучше получится. В буфет вошли Хомяков, Татосов и Левкин. Левкин нес сумку, большую, черную, хозяйственную, из дерматина. Проходя мимо Данина, Хомяков брезгливо отвернулся, а Вадим хотел подставить ему ножку, но не получилось, тот далеко был от стола. Оказывается, что очередь вдруг увеличилась. Вадим и не заметил когда. Кто-то за спиной сказал, что, оказывается, привезли колбасу. Но Хомяков, Татосов и Левкин упорно встали в самый хвост. Минут на сорок. Данин прошелся взглядом по очереди — тетки из бухгалтерии, линотиписты, уборщицы и вахтеры. Научных сотрудников раз, два и обчелся. И понятно, им работать надо. А Хомякову, Татосову и Левкину не надо.
— Левкин, — громко сказал Вадим. — В мясном на углу дают котлеты по тринадцать, тебе бы взять штук пятьдесят. Дешево, и готовить не надо. А в универмаге постельное белье арабское, пять комплектов в руки. Ага, Левкин, хорошее белье. А еще апельсины, а еще…
Левкин покраснел, но из очереди не вышел. Все смотрели на Вадима, и все его не любили. Особенно Хомяков и Татосов. Хомяков вполголоса сказал, что таких перевоспитывать поздно, их надо ликвидировать. Вадиму стало скучно, и он ушел.
Марина что-то увлеченно писала и, водя ручкой по бумаге, шевелила губами, как школьница, еще бы язык надо было высунуть и носом пошмыгать. Она красивая сегодня была. Она всегда была ничего, но сегодня особенно. В белом платье с голубой оторочкой. Уютная, домашняя. Старательная. Вадим подошел и сел рядом, на тот стул, на котором сидел Левкин, и стал смотреть, как она пишет. Марина подняла глаза, улыбнулась рассеянно и опять зашуршала по бумаге. Вадим смотрел. Затем наклонился и поцеловал ее под ухом. Марина по привычке хмыкнула, и замерла, и натянулась в струну, и не решилась на Вадима взглянуть. А Данин опять наклонился и поцеловал ее в щеку, а потом в уголок губ, а потом мягко взял ее за подбородок, повернул к себе, и, глядя в открытые ее глаза, поцеловал в губы. Они поддались поспешно и с горячностью. Ручка полетела на стол. Теплые ладошки обхватили его лицо и сжали, подрагивая. Наконец, задыхаясь, они разняли лица и посмотрели глаза в глаза, недоумевая и радуясь. И Вадим вдруг стал маленьким, и ему захотелось, чтобы его погладили, и погрели, и покачали, и побаюкали. И еще ему хотелось уткнуться в упругую Маринкину грудь и никого не видеть долго-долго. Он провел рукой по глазам и сказал себе: «Нет, нет! Я сильный, я держусь, я всем вам…» Показал Маринке язык, покривил губами, встал и подошел к окну. Он знал, что Маринка смотрит ему в спину, и знал, как смотрит.
К вечеру он выпросил у Рогова четыре отгула.
Митрошка. Что это? Имя? Прозвище? И кто этим именем-прозвищем назван? Женщина? Мужчина? Молодой? Старый? Но он точно помнил, что Можейкина сказала именно так — Митрошка. «Сумку потеряла, оставила, наверное, у Митрош-ки…» И где, интересно, эта диковинная Митрошка проживать может, на какой улице, в каком доме? Естественней всего, конечно, предположить, что именно в том доме, во дворе которого вся эта история и произошла. Но почему на улице тогда эти четверо отношения выяснять стали? Почему не в доме? Не в квартире? Но, впрочем, и это объяснить можно — там Можейкина в прострации находиться могла, в полуобморочном состоянии, а вышла на улицу — полегчало ей, прояснилась голова, вскипела злость… Ходил Данин по комнате упругими, быстрыми шагами, тер лоб, виски пальцами, потому что туго что-то соображалось, не виделось, как отыскать ему бесполого пока Митрошку, а с его помощью попробовать «дружков-приятелей» Можейкиной установить. Еще вчера он решил выяснить, кто же они такие? Где живут? Чем занимаются? Ему же легче, чем ребятам из уголовного розыска и из прокуратуры, он же больше знает. Он должен был сообщить им все это, но не сообщил, а теперь поздно. Он ведь расписался уже об ответственности за дачу ложных показаний, теперь если придешь и все по-новому расскажешь, не так, как прежде, привлекут к суду. А впрочем, привлекут ли? Надо бы с юристом посоветоваться, с юристом-практиком, со знатоком всяких там отношений с милицией, прокуратурой. Да вот нет у него такого юриста, знакомого, а в юридическую консультацию не пойдешь. Ну да ладно, завтра-послезавтра найдем и юриста, а пока нечего попусту растрачивать с таким трудом выхваченные отгулы. Все равно не пойдет он в милицию. Стоит только лицо Можейкиной вспомнить там, за столиком в кафе, и всякое желание отпадет туда идти, этой женщине и так досталось круто и без него, а с его помощью и вовсе худо станет. Пока подонков этих отловят, они многое способны с ней сделать — терять им нечего, не они сами, так из окружения кто… Хотя… хотя, кто его знает, в этих россказнях о мщении и тому подобном болтовни больше, чем правды, но все же рисковать не стоит. Нет, точно не стоит. Он сам способен их найти, наверняка способен, недаром жизнью и деятельностью такого замечательного российского сыщика, как Николай Румянцев, занимается. Пока читал о нем документы, воспоминания, и сам немного к сыску приобщился — методику розыска, последовательность хотя бы в общих чертах, но узнал.
Значит, основная задача такая — установить их и анонимку в милицию или там в прокуратуру забросить, и все, и миссию свою он считай выполнил.
Митрошка. Первый и основной пока пункт. Митрошка и сумка. А начнем, пожалуй, все-таки именно с этого дома, где все и произошло. Не надо ничего усложнять, все может оказаться предельно элементарным. А Вадим чувствовал шестым, седьмым, восьмым каким-то чувством, что связаны они все с этим домом — и Можейкина, и трос этих… Ну а если, как говорится, «прокол», вот тогда и будем думать, что делать дальше.
Все вокруг теперь иначе ему виделось: и люди, и дома, и деревья — праздничней, радушней. И солнце светило иначе, ярче, веселей, нежней для него светило: и воздух утренний именно тем самым казался, утренним по-настоящему, свежим, бодрящим — не городским — и упругим к тому же, его потрогать даже можно было, кончиками пальцев осязать можно было, до того хорош он, до того плотен и чист. И сам себе Вадим другим казался, совсем не таким, как вчера, позавчера или даже неделю назад.
Сегодня Вадим обрел прежнее состояние, когда каждую клеточку тела своего чувствуешь, когда все движения свои — походку вольную, уверенную, полуулыбку на крепком лице, будто со стороны видишь и со стороны оцениваешь. И осмотром этим доволен весьма, и оценку очень даже высокую выставляешь. Теперь он знал, что может, знал, что есть у него резерв, запас прочности есть. Правда, когда на Звездном бульваре из троллейбуса картинно-элегантно выпрыгнул, когда чуть небрежной — «делоновской» походкой по тротуару зашагал и взгляды женские заинтересованно-любопытствующие уловил, огорчился вдруг, неожиданно для себя подумав: а не играет ли он сейчас в сыщиков-разбойников? Не игра ли это для него? Серьезная, нужная, но все же игра… Но в хорошем он пребывал сегодня состоянии духа, и поэтому мысли эти долго не задержались. В конце концов, решил он, даже если и есть в начинании его элемент игры, то это тоже неплохо, значит, легче дело пойдет, уверенней он держаться будет…
И днем переулок этот таким же неприветливым и пониклым казался, как и ночью, будто тень со всего города здесь собралась, весь серый цвет на стенах домов-глыб сконцентрировался. И если ночью мрачноватость, унылость эта естественной казалась — темнота как-никак, а в темноте и самый развеселый дом неприглядным покажется, то днем он просто пугал настороженной угрюмостью своей, холодными, так ни разу и не угретыми солнышком стенами зданий, только что не осклизлыми они были, и небо виднелось над головой, а так полное ощущение, словно в погреб спустился. Поскорее пройти этот переулок хотелось, припуститься бегом, чтобы выйти побыстрее на светлые, опрятные, разгоряченные летней жарой улицы города.
Вот и дом, тот самый, злосчастный. Во двор Вадим заходить не спешил, прошелся — руки в карманы — по другой стороне переулка, улыбаясь, как бы любопытствуя, пробежался цепким взглядом по окнам — совсем непримечательные окна, глухие, отчужденные, наверное, и на быт живущих здесь унылость переулка отпечаток свой накладывает. Данин вразвалочку пересек мостовую, вошел в арку, темную, с низким сводом, чтобы только экипаж проехать мог, — совсем старенький дом, дореволюционный еще — и очутился в колодце двора. Ничего необычного, лавочки возле двух подъездов, бачки мусорные, детская площадочка крохотная, щербатым, низким заборчиком огороженная. И никого. Пустота во дворе. И немудрено, почти одиннадцать уже, на работе люди, кто не работает — домохозяйки, старики — по магазинам пошли. Жалко, что стариков нет, можно было бы поболтать о том о сем, невзначай про Митрош-ку спросить. Он, собственно, на это и надеялся. Не бегать же по подъездам, не звонить по квартирам и выспрашивать: «Где здесь некто такое проживает, Митрошкой называется?» Дети тоже помочь бы могли, они иной раз больше стариков про свой дом знают. Но и они отсутствовали — на каникулы разъехались кто куда ребята. Рано пришел Данин, но не мог терпеть более, поскорее, поскорее хотелось ему дом этот увидеть, разглядеть повнимательней, быстрее все выяснить хотелось, нетерпение его жгло. Ну как быть теперь? Что делать? Вадим вынул из заднего кармана какую-то бумажку мятую, потертую, с давно ненужными телефонами, посмотрел на нее внимательно, покачал головой недовольно, повернул обратно к арке. Это он на всякий случай проделал, кто его знает, может, этот самый Митрошка сидит сейчас у окна и за ним наблюдает, а так вроде человек не туда попал, куда нужно. Пошарил глазами по переулку, ни одного магазинчика, как назло, ни приемного пункта прачечной и ни сберкассы, ничего такого, что вот на таких маленьких улочках бывает в первых этажах стареньких домов. Он двинулся вверх по переулку к широкой и прямой, новыми, современными домами застроенной улице Ангарской. Он помнил, что там где-то неподалеку от переулка, на углу в не снесенном еще, но уже давно к этому подготавливаемом доме гнездилась маленькая, затхлая, грязненькая пивнушка, по недосмотру чьему-то еще уцелевшая. Все может случиться, может, и застанет он там кого, кто сообщит ему что-нибудь дельное.
Она там и находилась, в том самом трехэтажном, десятки раз крашенном в самые невероятные цвета стареньком доме. Последние года два цвет был приемлемый, зелено-желтый — не ласкал глаз, но и не раздражал. Уже на подходе к пивнушке кучками стояли завсегдатаи. Вялые с утра и дерганные одновременно, вздрагивающие от окрика, от шума неожиданного. Беседы здесь велись незамысловатые, все больше о спорте, о работе, о соседях. Пока еще негромко разговаривали, голоса были тусклыми, бесцветными, не подействовало еще пиво.
Вадим вошел внутрь, Кислым духом пахнуло, резким запахом подтухшей копчушки по ноздрям ударило. Глубокая тоска, написанная на отекших, небритых, бледных лицах, в глаза бросилась. Данин еще разок оглядел зальчик и около стойки справа от автоматов увидел, как ему показалось, то, что нужно. Трое мужчин там стояли. Основательно пили они огромными, в треть кружки, глотками — только кадыки судорожно елозили по шее, толстыми пальцами тщательно и сосредоточенно чистили рыбу. Но самое главное, что двое из них в шерстяных спортивных костюмах были, значит, живут совсем неподалеку, и лица у них были нормальные, чистые, свежие лица здоровых сорокалетних мужиков. Не тряслись они с похмелья, не кричали, перебивая друг друга, а разговаривали чинно, негромко. Вадим отыскал свободную кружку, пристроился рядышком. Мужики о каких-то своих делах заводских беседовали, рассудительно беседовали, обстоятельно. На Вадима внимание не обращали, много сейчас по городу таких ребятишек ходит — джинсы, курточки, кроссовки.
Контакт с ними Вадим установил быстро, попросил спички, хотя зажигалка у него в кармане лежала, угостил своими заморскими сигаретами «Винстоном» — в Ленинграде новые друзья подарили. Мужики взяли сигареты, затянулись с опаской, поморщились, но нового знакомого своего обижать не стали и принялись докуривать через силу. Они узнали, что Вадим инженер, работает тут неподалеку в одном управлении, а он, в свою очередь, узнал, что они с кабельного завода, а живут ну просто в двух шагах отсюда.
— О, так вы здешние, — обрадовался Данин. — Я же ведь тоже здесь жил раньше, ох, давно это было, лет пятнадцать назад. Хорошее раньше пиво, говорили, тут было. Всегда свежее, душистое…
Мужики закивали согласно, раньше все было лучше, а вина какие были, дешевые, вкусные, а колбаса, а рыба, да что говорить…
Вадим засмеялся. На него посмотрели с удивлением.
— Да вот вспомнил человека одного забавного. Не появлялся, интересно, здесь? Митрошкой называют.
Мужики пожали плечами. Один, постарше, с могучей шеей, попытался было вспомнить, но не смог.
— Да мы, собственно, недавно здесь живем, — сказал он. — И не знаем толком никого.
Вадим расстроился. Опять кого-то искать надо, болтать с кем-то о всякой ерунде.
— А ты знаешь, — добавил мужик после паузы, во время которой хватанул полкружки. — Ты у Долгоносика спроси, у этого, значит, Михалыча, Долгоносик — это кличка такая. Здесь его все так прозывают. Он в твоем переулке, сколько себя помнит, живет.
— А он здесь? — с энтузиазмом (совсем не показным) спросил Вадим.
— А вон, — мужик махнул рукой. — Пиво наливает.
Вадим обернулся. Нос у Михалыча действительно был долгий. Красный, пористый, отвислый, безвольно к верхней, пухлой губе припадающий; в кургузом заношенном пиджачишке мужичок он был, в коротких брючках, в стоптанных сандалиях на босу ногу.
— Эй, Михалыч, — гаркнул толстошеий мужик. — Поди-ка.
Михалыч глянул вяло, кивнул и, когда из кружки вспучилась пена, а потом потекла неторопливо по стенкам ее, Михалыч зашаркал в их сторону. Был он стар уже, и глаза его слезились, и от того трогательно-скорбный был у него вид.
— Чего? — стылым голосом спросил он.
— Да вот паренек знакомыми интересуется, говорит, жил здесь когда-то.
Долгоносик глянул на Вадима сначала безучастно, потом оглядел его с ног до головы, и в глазах блеснула искорка. Вадим понял, что мужик оценил его, сколько с него за хороший разговор кружек снять можно. Он вытащил рубль, огляделся, делая вид, что ищет что-то:
— Где бы разменять, размен-то закрыт?
Один из мужиков протянул руку:
— Это мы ща мигом. Давай, если доверяешь.
И умчался за дверь.
Глаза у Долгоносика подобрели.
— Где жил-то? — прошуршал он.
— В переулке, Каменном.
— Дом?
— Шестой.
— Не помню чего-то я тебя. — И в глазах у Михалыча снова безучастность. — А фамилия?
— Квашнины мы.
— Не помню, я здесь всех знал.
Вадим чертыхнулся про себя. За один миг все рухнуть может.
— У меня отец военный был, мы здесь недолго жили. Но я все помню, каждый день.
— Отец полковник?
— Ага, полковник.
— Припоминаю, припоминаю, — он сощурился. — Машина еще у вас была.
— Да, да, да, — расплескивая по губам довольную улыбку, зачастил Вадим.
— Но не Квашнин фамилия того полковника была. — Михалыч печально уставился на дно кружки. Там оставалось еще на полглотка.
— Да Квашнин, Квашнин, — с горячностью произнес Вадим.
— Да? — скептически глянув на него снизу вверх, спросил Михалыч.
Прибежал с двадцатками Леха. Схватил кружки, пошел к автомату.
— Я вот даже Митрошку помню, — радостно сообщил Вадим.
— А кто же ее не помнит, поганую эту старуху, все ее помнят, змеюку подколодную, кляузницу чертову. И на вас жалобы писала, что ль?
— Было дело, — горестно покачал головой Вадим.
— Змеюка, — повторил Михалыч. — А сейчас честных людей обирает. Квартиру сдает, чуть ли и не по сотне в месяц.
— Для студентов дорого…
— Да не студентам. Тоже молодому какому-то, но не студенту. Белобрысый такой, статный.
Вадим выдохнул неслышно задержанный на секунду воздух.
— Она в четвертом доме, кажется, жила, да?
— В каком четвертом, седьмом. Аккурат и в седьмой квартире, раздери ее качель!
— Да-а, — протянул Вадим и от радости выпил целую кружку. Пошло везение, теперь только не упустить, попридержать его, хотя бы на некоторое время, хотя бы на сегодня, чтоб с Митрошкой этой не сорвалось ничего.
А потом они о пустяках болтали. Михалыч разошелся, вспоминать детство принялся, юность нелегкую, войну, заплакал, кружку выронил, разбил…
Вадим вышел только через час.
Вышел, унося помойные, душные запахи пивнушки, непременные эти спутники любителей таких вот специфических заведений. Из хорошего бара пивного хлебный аромат свежего пива с собой уносишь, дымный запах шашлыка, приятное благоухание свежесваренных креветок, а отсюда вот только въедливый дым дешевых сигарет, тошнотворно-душноватые запашки подкисшего пива и копченой рыбки с «гнильцой». И долго еще прелести эти из твоей одежды выветриться не могут, крепко к ней пристают, мертво. Но разве такая мелочь, совсем безобидная, может сбить деловое твое настроение, когда все так благополучно складывается? Нет, конечно.
И вот Вадим снова у дома, снова ныряет в арку, торопливо пересекает двор…
А как в подъезд вошел, остановился, замерла нога на полушаге — он же ведь и не подумал, что бабке говорить будет, кем представится, а наобум, наудачу лезть глупо. Студентом представиться, ищущим квартиру? Ах, у вас занято? Посоветуйте тогда, к кому обратиться здесь поблизости, уж больно мне места эти нравятся… Можно и так, можно и так. Вполне пригодно. А как вести себя? Скромно, застенчиво или нагловато, разухабисто? Нагловато лучше, наверное. Разухабистые, развеселые, нагловатые меньше подозрений вызывают. Милиционеры-то они все серьезные, вдумчивые, во всяком случае, большинство именно так их представляет. Ну что, изготовился? Вдох глубокий, шумный энергичный, выдох — и вперед…
Дверь старая, одного возраста с домом, наверное, — неопределенного цвета краска давно уже облупилась, кое-где и просто отвалилась, внизу особенно, будто кто лежал под ней долго и скребся, скребся ногтями нестрижеными. Хрипловато тренькнул звонок, ответили на него мигом, гаркнули так же хрипло, только пониже тоном: «Счас!» Голос женский, бабкин, наверное. А если еще кто в квартире есть. Да ничего страшного. Ищу квартиру, и все тут.
И в мгновение ожгло Вадима страхом. А если там белобрысый или тот, в кепочке, что к Можейкиной возле дома приставал и за которым Вадим гнался? Но щелкнул замок, стала дверь приоткрываться понемногу, и отступать было уже поздно. С невероятным усилием выдавил Вадим из себя эдакую шалую, пьяноватую улыбочку, машинально ключи от дома с большим автомобильным брелком достал, стал поигрывать ими, чтобы руки успокоились, чтобы дрожь в них прошла. Блеснули в темном проеме настороженные глаза. Потом дверь открылась шире, и предстала перед Вадимом костлявая старуха лет семидесяти, а может, и восьмидесяти, а может, и девяноста, с большим, крепко поджатым ртом, с носиком коротким, остреньким, с глазами-кругляшками цепкими, спокойными. Застиранное платьице из сатина сидело на ее худосочных плечах неуклюже, как на вешалке.
Глянула она ему в глаза пристально, изучающе, потом с ног до головы взглядом окинула и опять в глаза уперлась. Льдистый был у нее взгляд, нехороший. Но вот глаза подобрели (с чего бы это?), усмешка в них появилась. Кивнула она на ключи, спросила надтреснутым, прокуренным — показалось даже, что дымок легкий из рта повалил — голосом:
— А че не Витька приехал?
Стоп! Его за кого-то приняли, за кого-то своего, но незнакомого. Осторожно! Соберись! Пока он старательно прикидывал, что ответить, бабка сама за него уже все решила.
— Не его смена, что ль? Сменщик ты его, что ль?
— Сменщик я его, бабуль, сменщик, — весело ответил Вадим. — Корешки мы с ним закадычные, из одной миски, бывало, хавали…
— Это где же это? — подозрительно спросила старуха.
— Есть места, бабуль, лучше не знать, — беззаботно заметил Вадим.
— Ну-ну, — прохрипела Митрошка. — Заходи, коли так. — И пошла сама в глубь квартиры, ворча на ходу.
— Эх, фраерки захарчеванные, присылают незнамо кого, молодые, НКВД на них нету…
Ну прямо как в кино — и старуха необычайно колоритная, и квартира у нее, больше на «малину» смахивающая, чем на обитель престарелого человека. Правда, на «малину» нынешнюю, не двадцатых годов, потому что обои здесь были импортные, обстановка — даже в прихожей, — тоже импортная, изящная. Но что-то здесь не так было, необжитокак-то, временно, словно с минуты на минуту приедут грузчики и снесут всю мебелишку в свой большой специальный автомобиль…
— Что это ты, бабулька, там про энкэвэдэ чирикнула, не накаркай беды-то, — Вадим сам себе удивился: откуда же слова-то такие находятся, как в книжках про уголовников, смешно, право слово. Ощущение — будто все это не на самом деле происходит, а понарошку, во сне…
Митрошка остановилась на пороге кухни, обернулась медленно, задумчиво уставилась на Вадима испросила, сузив глаза:
— А чей-то ты так быстро прискакал, ведь Леонид минут десять как звонил, а ты уже здесь? Как это я не сообразила…
«Знать бы, зачем он звонил, знать бы, зачем человека сюда послал, меня якобы…»
Вадим рассмеялся. Хороший у него смех получился, искренний, безмятежный. А потом остановил себя разом, похолодел взглядом, верхнюю губу приподнял презрительно. Чудеса! Откуда что берется? Процедил:
— Подозрительна ты, бабка, не по делу. Значит, так надо. У нас связь постоянная.
— Ага. Ага, — Митрошка вроде успокоилась. — Ну тады ладно.
Прошаркала на кухню — там тоже гарнитур был соответственный, югославский, не иначе. Интересно, сколько комнат в этой квартире? Потом Митрошка нагнулась к маленькой дверце под мойкой, там, где обычно помойное ведро ставят, пошуршала чем-то, наверное, мусором в ведре, и, когда с трудом распрямилась, в руках ее был сверток. Небольшой, в две ладони размером. Нехотя протянула она его Вадиму. Захрустела приятно оберточная бумага, пальцы нащупали что-то плотное, но податливое, когда посильнее нажмешь.
— Заветный сверточек, — усмешливо всхрипнула Митрошка. — Не потеряй смотри, из рук в руки передай. Скажи Леониду, что, мол, отработала свое бабка как полагается, ни словечка, ни полсловечка, а уж как хотелось, — она прищурилась озоровато, как школьница, задумавшая сбежать с уроков, — когда шастали здесь эти самые в штатском и все выспрашивали, выспрашивали, не видела чего, не слышала. Видеть-то я не видела, не было меня, а вот штучку эту нашла под софой, долгонько она там провалялась.
«Сумка, — промелькнуло у Данина. — Та самая сумка. Неужто больше двух недель она здесь провалялась?»
Дорого, видимо, сумочка неизвестному Леониду обошлась, бабулька-то эта непростая — многое перевидала и с блатными наверняка якшалась почем зря. Вспомнив про Леонида, Вадим спохватился. С минуты на минуту должен был приехать тот, кого Леонид послал, и если они встретятся…
— Ну лады, бабулька, — сказал он. — Покатил я, время — деньги.
И повернулся было, но бабка удержала его за рукав.
— Где таксу свою оставил?
— Там, — Вадим неопределенно махнул рукой.
— Там, где Витька ставил? Он сказал тебе, где ставить. Там, внизу, где будка эта самая электрическая стоит.
— Все я сделал, как надо, — самодовольно хмыкнув, сказал Вадим, — пошел я, бабуля, времени в обрез…
Но что-то он не успел сделать, что-то важное. Узнать побольше про Леонида — это ведь наверняка тот самый белобрысый. Но как, как? Что спросить? Он огляделся. Заметил по-хозяйски:
— Хорошая квартирка, жалко… Не видать теперь ее Леониду как своих ушей, — и понимал, что рискует, но так хотелось отработать все уже до конца, чтоб не мучиться потом, вот мог, а не сделал, что струсил, мол.
— У него других квартирок хватает, не беспокойся. Ты его еще мало, видать, знаешь, дружочек. Он молодой, да ранний. В мои годы такие ого-го чего творили… Ну да ладно, заболталась я с тобой, а знать тебя не знаю. Иди, дружок, иди…
Двор Вадим пересек быстро, миновал арку, вышел в переулок, огляделся. Никого. Перешел на противоположную сторону, зашел в подъезд дома № 6, в котором якобы жил когда-то, и только здесь отдышался.
Многих сил стоила ему эта дружеская беседа с Митрошкой, когда любое неосторожное слово, любой жест ей непривычный, любое движение, не свойственное именно тому типу, который он разыгрывал, могло эту старую, болтливую пройдоху на подозрение навести, заставить какие-нибудь шаги предпринять — и ведь неизвестно, какие шаги, самые непредсказуемые действия она могла совершить. К тому же где гарантия, что в комнатах никто не сидел и не слышал их. Это Данин сейчас знает, что там никого не было, а тогда… А если бы он с «курьером» от Леонида встретился? Кто знает, как могло бы дело повернуться? Но обошлось все, слава богу. Только пальцы все еще мелко подрагивали. Напряжение уже спало, дышалось легче, уверенней. Да, совсем непривычный он к этим занятиям человек, Вадим усмехнулся, дилетант. Но все равно он был доволен, что, может быть, не совсем профессионально отыграл свою роль, но, во всяком случае, неплохо. Он застегнул «молнию» куртки, сунул сверток за пазуху, чтоб рукам не мешал, для того дела, которое он задумал, руки должны свободными быть, — и через мутноватое, заляпанное грязными руками оконце в двери стал наблюдать за подходящими к седьмому дому. «Курьер» должен был прийти с минуты на минуту, и надо было его дождаться, посмотреть, как он поведет себя после того, как от бабки узнает о его, Вадима, приходе…
Он шел снизу, от Звездного проспекта. Собственно, оттуда Вадим его и ожидал. Он поставил, наверное, машину, как и говорила Митрошка, у трансформаторной будки и теперь пешком двигался к дому. Вадим хмыкнул: «Конспираторы». То, что в арку вошел именно «курьер», Данин не сомневался — одет он был модно, броско, как фарцовщик: джинсы-бананы, туфли белые, светлая куртка с погончиками, рукава закатаны до локтей; низкого роста он был, широкоплечий, рукастый, шел вразвалочку, с ленцой, лицо круглое, стертое, без выражения. Встречал Вадим таких в ресторанах, около гостиниц интуристовских, в валютных магазинах. Странно, на шофера он не похож. Хотя сейчас все смешалось, ярко выраженные профессиональные черты трудно теперь найти в человеке. Все теперь, помимо основной профессии, еще какими-нибудь делами занимаются, особенно таксисты.
А впрочем, может, это и не «курьер», а просто прохожий?
…Когда он вылетел из арки минут через пять, на лице уже появилось выражение — растерянность, страх и злоба одновременно. Он стоял, словно изготовившись к прыжку — чуть наклонившись вперед, и крутил головой то вправо, то влево, не зная, куда бежать. Все-таки «курьер» помчался было вверх по переулку и так близко от подъезда оказался, за дверями которого Вадим таился, что можно было открыть эти двери и коснуться плеча «курьера». Вадим непроизвольно вжался в стенку, отвел глаза, чтобы не почувствовал тот взгляда. Потом «курьер» рванул вниз по переулку, побежал пружинисто, скоро, умело, только локти чуть выше держал, чем положено. Вадим приоткрыл дверь, посмотрел вслед. Тот несся, не оглядываясь, решил, видимо, что Вадим к Звездному проспекту пошел, там людей больше, транспорта, такси…
Все кончилось до обидного просто. Покрутился «курьер» немного возле троллейбусных и автобусных остановок на проспекте, сплюнул в сердцах и, увидев, что к тротуару притерлось такси и из него выбираются люди, стремительно влез в машину, и она стремглав сорвалась с места, чуть присев на задних рессорах. Вадим, в свою очередь, тоже выбежал на проспект, вытянул руку, стоя одной ногой на тротуаре, другой на мостовой, но бесполезно, машины, даже с зелеными огоньками, словно не замечая его, пробегали мимо…
Опять он потерял душевное равновесие, опять неудобство странное, необъяснимое в нем поселилось — не неудовлетворенность, не раздражение, а именно неудобство, словно что-то невидимое мешало ему полноценным человеком себя ощущать, сосредоточенно и целенаправленно думать мешало, раздражаться мешало и даже усмехнуться мешало, хотя бы невесело, хотя бы печально. Он пошел домой пешком, надеялся, что пока дойдет, может быть, пройдет это состояние и появятся хоть какие-то мысли, как действовать, как поступать ему дальше, что с сумкой этой злополучной делать: дома оставить, в милицию подкинуть с запиской безымянной… Так. В милицию подкинуть… Ну хорошо, как потом докажешь, что сумка эта именно там, у Митрошки, была. Спросят они ее, а она сделает удивленные, наивные глаза, покривит губкой жалостливо и зачастит, убогонькую из себя разыгрывая, мол, ничего не знаю, ничего не ведаю, ничего не слыхала, ничего не видала. Ведь так и будет, точно так. Ладно, оставим пока сумку в покое, пока суть да дело, придется все равно у себя подержать. А теперь думай, думай, как Леонида искать. Что мы знаем о нем? Да только как его зовут и что таксист Витя у него на подхвате, да и в лицо мы Леонида этого знаем (но Леонид ли это на самом деле?..) и дружков его некоторых, например, того, что в кепке, и «курьера», хотя, может быть, «курьер» — это и есть тот самый Витя-таксист. Но это ничего не меняет. Как их искать — Вадим не имел представления.
Он вышел на Советскую площадь, многолюдную, суетливую, шумную, окруженную общепитовскими заведениями и кафе, тут имелись и столовые и закусочные, пожалуй, нигде больше в городе такого «объедального» места не было. Но местечка свободного тут ни утром, ни днем, ни вечером, как правило, не найдешь. Удивляться нечего — из многих городков районных, деревень каждый день люди сюда прибывают на город поглядеть, архитектурой его полюбоваться, к городской культурной жизни приобщиться, по магазинам побегать, а питаться ведь им тоже надо — весь день на ногах, силы теряются. Вот и стоят очереди многолюдные в кафе, закусочные и столовые. Таксистов здесь тоже немало скапливается, и не застаиваются они. Глядишь, стоит вереница «зеленоглазых» автомобилей, а стоит отвернуться и повернуться вновь — ан нет ее уже, словно растаяла машинная цепочка. Вадим привычно вышагивал в плотном людском потоке, сноровисто вышагивал, умело — горожанин как-никак в пятом колене — в такой тесноте невероятной умудрялся даже не задеть никого ни рукой, ни плечом, уворачивался машинально от бесцеремонно расталкивающих друг друга приезжих. Увидел две машины на стоянке. Подумал, а не махнуть ли домой на автомобиле, надоело уже по городу болтаться, а до дому ему путь еще неблизкий. Подошел к стоянке, заглянул в кабину первой машины, она была пуста, огляделся, выискивая глазами водителя, через мгновение увидел его, возвращающегося с несколькими пачками папирос в руках. И тут вспомнил враз — как за «кепкой» бежал, как в переулке такси увидел, вспомнил, как «кепка» шофера окликнул и тот сорвался бегом от табачного киоска, и номер той машины вспомнил…
Так. Интересно, интересно. А не Витя ли тем водителем был. Не тот ли самый Витя, что у Леонида на подхвате? А раз так, то его по номеру автомобиля найти можно будет. А через него на белобрысого выйти. Заулыбался Вадим идущему навстречу водителю. И глуповатая, наверное, у него улыбка была, потому что шофер воззрился на него с опаской, как на тронутого, потом сощурил глаза, узнавая, — может, из знакомых кто, — потом пожал неопределенно плечами и излишне резко рванул дверцу машины. Вадим спрягал улыбку, построжал лицом, сказал важно:
— На Ботанический переулок подвезете, товарищ? — А сам продолжал смеяться внутри — поднялось у него настроение, нашел он выход из положения. Игра продолжалась.
— Здравствуй, Женечка, ненаглядный мой, палочка выручалочка… — Вадим валялся на тахте, заложив ногу за ногу, и одной рукой приткнул к уху телефонную трубку. Как пришел в квартиру, скинул только куртку, снял кроссовки, так и завалился на тахту, подтащив предварительно за провод телефон к себе поближе. Он курил и ерничал, услышав в трубке строгий, деловой голос друга-журналиста, заведующего отделом информации областной газеты Женьки Беженцева. — Как дела твои, милый?
— Дела у прокурора, у нас делишки, — мрачно сказал Беженцев, — говорил он быстро, отрывисто, не вникая в суть сказанного: как всегда, запарка, как всегда, отдел информации затыкает слетевшую по вине какого-нибудь отдела тематическую полосу в номере. Он весь в работе, у него нет времени для болтовни. Если потрепаться хочешь, то вечером, вечером; если по делу, давай быстрей, у меня люди…
— Хорошо, — Вадим сменил тон и говорил теперь так же, как Беженцев, серьезно и деловито: — Дело не совсем обычное. Но, уверен, поможешь. Ты все знаешь, ты всех знаешь…
— Быстрее, быстрее, милый, — подгонял его Беженцев.
— Значит, так. Неприятность у меня вышла с одним таксёром. Но шагов пока предпринимать не хочу, и тебя об этом не прошу. Мне только узнать бы, в какую смену он сегодня, завтра и послезавтра работает.
— Давай номер машины, фамилию.
— Номер такой 21–14. Фамилии не знаю, знаю, как зовут. Виктор, Витя.
— Понял, сделаем. Ты дома? В течение часа позвоню.
— Женечка, ты только осторожно, зашифрованно. Не про одну машину узнавай, а про несколько, на всякий случай.
На том конце провода усмехнулись:
— Ишь сыщик. Знаю. Тоже детективы почитываем, грамотные. Все. Жди.
Вадим притушил сигарету, закинул руки за голову. Если Вити среди водителей этого такси не окажется — плохо дело. Никаких других зацепок у него нет. Из бабки вытряхнуть сведения про Леонида? Как и на чем ее взять? Ведь за просто так она ничего не расскажет. Деньги? Как в зарубежных детективах? Это мысль. В самом крайнем случае можно попытаться, в самом крайнем. А если все-таки один из водителей такси Витя? Подсесть в машину, в якобы случайной беседе постараться выяснить кое-что, ну и в крайнем случае проследить. Но тогда машина нужна будет. Опять к Беженцеву придется обращаться. Не обеднеет, хмыкнул Вадим.
Пунктуальным был парнем Беженцев, надежным, человеком слова был. Раз обещал в течение часа вызнать все и сообщить, так и сделал. Минут через сорок после их разговора затренькал телефон, и, когда Вадим схватил трубку после первого же звонка, без лишних слов продиктовал ему Беженцев все, что Вадиму было нужно: «Раткин Виктор Владимирович, на сегодня работу уже закончил, завтра с трех до одиннадцати вечера его смена, послезавтра выходной, в отгуле. Машина принадлежит девятому парку, адрес: улица Первопроходцев, дом четырнадцать. Все, милый, целую, вечером созвонимся…»
Вот так. Значит, Виктор все-таки — тот самый Виктор. Ну и расчудесно. Завтра, глядишь, и узнаем, что к чему, что за люди Леонид этот, «кепка», «курьер», Виктор. Спекулянты, фарцовщики, воры? Или просто гуляки, сынки богатых родителей, прожигатели жизни или как, как там говорилось-то раньше, «золотая молодежь»? Интересно все-таки быть сыщиком, это штука азартная, на охоту смахивающая. Как красиво звучит — одинокий охотник. Вадим засмеялся мыслям своим совсем уже не взрослым, совсем уже несвойственным здоровому двадцативосьмилетнему мужику, но не упрекнул себя в них, зачем? Они уверенности ему придают, неординарность какую-то, незаурядность свою ощутить помогают, так за что же себя упрекать? Игра.
День в разгаре. Хороший день, солнечный опять, ясный, чистый. Воздух свеж, словно не на пыли городской, не на автомобильных выхлопах, не на обожженном асфальте настоянный, а на пьянящем аромате утреннего, влажного еще леса. Странно, откуда этот воздух прибило к нам? Или все как обычно, и Данину просто кажется, что день сегодня необычный и воздух необычный. Ведь бывает такое, и нередко, многое ведь порой от настроения твоего зависит, от того, каким проснулся ты, что снилось тебе, какая первая мысль на ум пришла, когда глаза открылись… Вадим хорошо проснулся — разом, и словно и не спал, до того бодр был, и свеж, и силой заряжен…
Но вот, когда уже к таксопарку подходил, бодрость улетучилась и уверенность вместе с ней. Заволновался он что-то, не по себе стало, и пожалел уже, что пришел сюда, что вообще этим дурацким делом занялся. Поморщился — зачем действительно? Тоже мне сыщик! Сейчас бы работал себе спокойно, репортажики пописывал, попросил бы Беженцева, чтобы с дамой какой новенькой познакомил, ресторан, шампанское, холостяцкая квартира — замечательно.
Он попытался уговорить себя, что это, мол, все игра, а значит, интересно, а значит, не должно быть у него недовольства, но ничего не вышло — пропало настроение. И тут лицо у Данина вспыхнуло — он же боится, он просто боится там, в подсознании, не думая о страхе, все равно боится. Он расхохотался неестественно, натянуто, и прохожие повернулись к нему удивленно. Чушь все это, чушь! Ничего и никого он не боится, чего бояться-то?
Убить не убьют. А значит, и опасаться нечего. Вадим самодовольно усмехнулся, почувствовав, что уплывают, оставляют его сомнения и возвращается вновь уверенность и приходит ровное, спокойное настроение. Плотными кучками стояли притихшие, осиротевшие без водителей автомобили с зелеными глазками у ворот таксопарка. Можно было подумать, что гаражи и двор парка так забиты машинами, что тем, что за воротами, просто не повезло и не досталось им места за высоким бетонным забором. Но двор, просторный, слегка дымный, хорошо просматривался через приоткрытые ворота и был почти пуст, две-три машины белели посередине его, и все. Почему же столько скопилось автомобилей у ворот? Вадим глянул на часы — шесть минут третьего… К машинам, разумеется, он подходить не стал, остановился на противоположной стороне улицы у газетного киоска и порадовался удачному своему выбору — у киоска очередь, и, если понадобится, можно, не привлекая ничьего внимания, довольно долго наблюдать за выходящими машинами.
Он уже увидел знакомый номер и успокоился окончательно. Кабина такси пустовала. Виктор был, видимо, среди стоящих у ворот водителей, они громко говорили о чем-то, смеялись, курили. Лихие, энергичные ребята, громкие, большелицые, быстроглазые, разжатые, раскованные: с пассажирами язык общий всегда найдут, если надо будет, если захотят — вместе поболтают, вместе посмеются, вместе погрустят: профессия обязывает. Но что-то в последнее время разлаживаться стало в таксистской профессии, все больше и больше таких появляется, от которых и духом-то таксистским специфически-профессиональным не веет, «катаются» плохо, город не знают, слушают тебя равнодушно, а если уж и скажут, что так хоть стой, хоть падай, будто и в школе их не учили, и книжек они не читали, и в кино не ходили… Еще несколько лет назад почти любой таксист как монах-исповедник был: поговоришь с ним, и вроде легче на душе, чище, просветленней как-то. Сейчас таких мало. Жаль.
Только-только очередь у Вадима подошла, и он стал прикидывать, что же ему купить, как разом распалась плотная шумная группа шоферов, скорым шагом разошлись они по своим автомобилям, и заурчали радостно моторы, зажили настоящей своей трудовой жизнью, и казалось, весело и довольно от этого они шумели, переговаривались друг с другом, похвалялись радостью своей. Одна за другой стали разъезжаться машины. Элегантно они отъезжали, чуть с шиком, чуть с форсом. Приятно было смотреть, как они срываются с места, выруливают на мостовую. Вадим бросил, не глядя, монетку в тарелочку, киоскеру, обронил коротко: «Советский экран».
И увидел, как пошла машина Виктора, и забыл мгновенно и о журнале, и о деньгах, отбежал стремительно от киоска, прыгнул на мостовую, заголосовал отчаянно. Виктор его заметил и приближался теперь, замедляя ход. Вадим открыл дверь, но садиться не спешил, знал по опыту, что сначала лучше спросить, повезут ли его туда, куда ему надо, а то ведь у таксистов другие на эти часы могли быть планы — заказы и прочее. Он заранее уже приготовился, что сказать, какое место назвать — далеко, почти за городом, чтобы подольше ехать, чтобы время было человека этого разглядеть попробовать хотя бы чуть-чуть в сути его разобраться, угадать, как с ним себя вести надо.
— В Сосновое, — сказал Вадим, нагнувшись и заглядывая в кабину. Мятое, отечное и недовольное было лицо у Виктора. Он посмотрел на Вадима с таким видом, словно проглотил за секунду до этого что-то непонятное по вкусу — то ли горькое, то ли кислое, то ли, наоборот, сладкое, и сейчас вот прислушивался, сморщившись, к своим ощущениям.
— Можно, — ответил он, с усилием разгладив лицо. — Садись, земляк.
Сиденье зычно крякнуло под Вадимом, а потом смешно заухало и зашептало, когда он потянулся, чтобы закрыть дверь. Дверь звонко прихлопнулась, и в машине что-то задребезжало.
— Больно же, — мрачно сказал Виктор, хрустнув рукояткой скоростей.
— Чего? — не понял Вадим.
— Больно ей, — сказал Виктор, — когда бьешь…
— Это вы о двери? — спросил Вадим.
Таксист промолчал. А Вадим погладил стекло, потом обшивку двери, потом панель и попросил:
— Извини.
Витя покосился на него и ухмыльнулся. «Молодец», — сказал себе Данин.
Потом они еще минут десять крутились по переулкам, беспорядочным, мелким и пустынным. До Соснового было далеко, но Вадим решил, что пора начинать. Чтобы почувствовать себя свободней, он развалился на сиденье и закинул левую руку за спинку. Этого ему показалось мало, и он нацепил скептическую усмешку. Но сидеть стало неудобно, а усмешка показалась дубоватой. Он опять, скрипя, завозился на сиденье. Витя подозрительно посмотрел на него, а потом после паузы спросил:
— Закурить есть?
Вадим обрадовался, но виду не подал, неторопливо полез в карман. Витя поковырялся толстыми, волосатыми пальцами в пачке «Винстона», вытянул сигарету, спросил:
— Родные?
— Ага, — кивнул Данин. — Родные.
— Где берешь? Здесь? Привозные?
— Привозные. Подарок. Из Финляндии.
— Из Финляндии, — усмехнулся Витя и пошевелил губами, собираясь плюнуть, но не плюнул, а сказал: — Ну, ну…
— Что «ну-ну»? — беззлобно спросил Вадим. — Думаешь, вру?
— Нет. Молодость вспомнил, — ответил Витя, неотрывно глядя перед собой. (Данину показалось, что Витя смотрит не на дорогу, а на чистенький, не заляпанный еще капот. Как бы не вмазаться, подумал, и поежился).
— Понимаешь, земляк, — опять заговорил Витя. — Я же бывал в этой самой Финляндии. Два раза. Вот как.
— По туристической?
— Не…
— В командировке?
— Ага, — гордо сказал таксист.
— Ух ты! — восхитился Вадим и подумал, как бы не перегнуть.
— Это таксистов теперь в командировки за границу посылают? За опытом, что ли?
— Таксистов, — брезгливо усмехнулся Витя. — Таксиста посылают на… Кучер, он и есть кучер…
— Ну это ты чересчур, — вступился Данин за славных таксистов.
— Кучер, — упрямо повторил Витя.
— Так как же ты ездил? — Данин решил не спорить. — Другая профессия была? Что-нибудь дефицитное?
— Профессия такая же, при машинках, — сказал Витя. — Но там была работа, азарт, деньги и классные бабы. Мужицкая работенка была.
Вадим вдруг догадался:
— Гонщик? Раллист?
— Раллист, — сказал Витя и с достоинством посмотрел на Данина. Глаза у таксиста были мутно-розовые и почти без зрачков. «Как у борова. Пьет, верно, вглухую», — подумал Данин и отвел взгляд.
— Я вторым человеком был после директора. На автозаводе на меня молились. Я им престиж делал и знамена разные. На мне бабы гроздьями висели. Я жил, я дышал…
Витю прорвало. Он нес все подряд (бессвязно перескакивая с одного на другое): про трассы, по которым гонял, про города, где бывал, про гостиницы, где ночевал, про рестораны, в которых кутил, про тренеров, про женщин, про шмотки. Он пьянел от своего рассказа.
— А что потом? — прочувствованно спросил Вадим.
Витя отдышался и нехотя проговорил:
— Потом втюрился, как… Болел, аж температура была. Во как втюрился. А она… с другим. Я их застукал. Сначала жить не хотел, а потом того самого, — он щелкнул себя пальцем по горлу. — Ну и того… Короче, кучер он и есть кучер.
Когда таксист поднял руку, Вадим заметил на ней крап. Он видел уже такой однажды.
— Да, — протянул он, — и вверх тормашками потом все у тебя пошло. Знакомо. Бывает. — И опрометчиво добавил: — А потом сел, видать, по глупости, и вообще конец. Но ты не унывай, держись.
Витя шарахнул по тормозам, и Вадим рванулся вперед, едва успев руки выставить и упереться крепко в панель.
— Ты чего? — вытаращив глаза, рявкнул он.
Машина опять плавно поехала.
— Попридержи язычок, земляк, — с угрозой проговорил Витя. — Живешь и живи и не лезь куда не надо. Я тебе не кум, не сват, и не надо меня лечить…
— А я и не лечу, — сказал Вадим и подумал: «Шизофреник». А через мгновение спохватился и миролюбиво попросил: — Ты извини. Я ж как лучше хотел, не подумал просто. Хорошо?
Витя тяжело и обиженно сопел.
— Слушай, — заговорил Данин. — Есть у меня один корешок. Упакованный от и до. Тачку не берет, потому что водить боится аж до икоты. А по городу крутится как волчок. Понимаешь? Не подсобил бы, а? Твоя смена, ты у него на приколе. Тебе план плюс сверху. А?
— Нет, — глухо ответил Раткин.
— Ты знаешь, я, по-моему, где-то тебя видел, — медленно, словно припоминая, проговорил Данин.
— А я тебя не видел, — сказал Витя.
— Так почему нет? — вернулся к своему предложению Вадим.
— Ведь план плюс сверху!
— Нет, — отрезал Витя.
— Вспомнил, — сказал Вадим. — Я точно тебя видел. — Он нервничал, и лицо у него горело. — И не раз. Ты парня одного, симпатягу такого, блондина на Морском бульваре все время высаживал.
— Не на Морском, а… — машинально произнес Витя, и осекся, и вцепился яростно в руль, сощурился, потом скривился и неожиданно вывернул круто вправо, за обочину, к редкому леску, за которым серело несколько двухэтажных домов. Въехал в лесок и придавил педали.
— Ты чего? — удивился Вадим и отшатнулся. В тот же миг рука Виктора уже тянулась к его лицу, рот таксиста был перекошен, глаза заслезились, заполнились густой вязкой влагой.
Данин дернул на себя ручку, толкнул дверцу плечом и вывалился на густую упругую траву. Вскочил на ноги, отступил от машины на два шага, крикнул:
— Ты что, сдурел?
Виктор вытягивал из машины свое грузное, плотное тело с трудом, так лось выбирается из густого кустарника. И когда выкарабкался наконец, в руках у него поблескивала монтировка. Набычившись, он обошел машину и, мягко ступая сильными, толстыми, кривоватыми ногами, пошел к Вадиму. Тот отступил еще на два шага, вытянул руку, сказал:
— Угомонись, приятель, объясни, в чем дело…
— Объясню, — выдохнул Раткин. — Объясню. Это я вспомнил, а не ты, сука, я вспомнил. Это же ты, сявка, у старухи был и сумку забрал. И в тачку ко мне сел, чтобы вынюхивать носом своим поганым, а я-то перед тобой…
С каждым словом он наливался злостью, накачивалась в нем свирепость, глаза сделались совсем багровыми, и очертания зрачков уже почти невозможно было различить.
Раткин был уже близко. Вадим слегка согнул колени, покачался пружинисто на ногах, сделал едва заметно круговые движения плечами, потом отставил локти, покрутил ими, проверяя, свободно ли двигаются руки, потряс одной кистью, потом второй, сбрасывая излишнее напряжение, потом улыбнулся, нехорошо улыбнулся, недобро и поманил Раткина пальцами:
— Иди, приятель, иди. Разговаривать будем. — И сам на мгновение удивился себе, смелости своей, улыбке своей, словам даже удивился, как тогда, у Митрошки, откуда что берется?
Тот находился уже в метре от Вадима, когда сделал обманный удар левой, пустой рукой. Вадим чуть отклонился назад вправо, и кулак пролетел мимо. Можно было уже перехватить руку и дернуть Раткина на себя, но Вадим не спешил, такие стычки нужно заканчивать разом, одним-двумя ударами, это еще отец его учил, — в молодости инструктор по боевому самбо.
Раткин рыкнул с досады и сделал шаг вперед, и Вадим опять ушел влево — по наивности якобы, по незнанию. Этого-то и надо было Раткину. Он дернул правым плечом, давая начальную силу руке, высверкнула монтировка, и в тот же миг Вадим нырнул опять влево, под руку Раткину и хлестко и коротко ударил его два раза в солнечное сплетение, а потом, не дожидаясь, пока тот согнется, еще два раза в подбородок. Все. Раткин рухнул, как спиленный дуб, постанывая и поскрипывая, медленно и весомо. Вадим нагнулся, поднял монтировку, откинул ее к машине, присел рядом с Раткиным на траву, закурил. С минуту Раткин лежал спокойно, потом зашевелился, открыл глаза — страха в них не было, только злость:
— Сука, — сказал он, сплюнув.
— Ты тоже не лучше, — усмехнувшись, ответил Вадим и добавил: — Лежи тихо, я сейчас с тобой беседовать буду. — Он отбросил в сторону окурок. — Кто такой Леонид? Где живет?
Работает? Как найти его?
Раткин провел языком по губам, пощупал подбородок, потер его, поморщился от боли, опять сплюнул, не заметив, что плевок попал ему на рукав рубашки, сказал едва слышно, почти шепотом:
— Пошел ты…
Вадим засмеялся.
— Смелый ты парень, Витя. Но ненадолго. Сейчас отдохнешь немного, и я тебя в милицию отволоку. Вот там разговоришься.
Он протянул Раткину пачку сигарет:
— Кури. Небось охота.
Дернулся Раткин, помотал головой из стороны в сторону и вдруг закричал, страшно, надрывно, безнадежно. Вадим отпрянул, посмотрел на него испуганно. А Раткин набрал воздуха и заорал так, что в ушах зазвенело:
— Помогите! Помогите! Бандиты! Убивают!
— Ты что?! Ты что?! — Вадим заткнул уши руками. — Хватит, не ори!
Он поднялся, отошел в сторону, отнял руки от ушей, огляделся вокруг. И увидел, как от автобуса, что остановился на шоссе, метрах в двухстах, бегут люди, они что-то кричали, размахивая руками. Они слышали, наверное, как орал Раткин, и теперь спешили на помощь. Вадим отступил назад и чуть не упал, задев за выступавший из травы корень, потом опять отступил, повернулся и побежал в сторону от шоссе, от домов, в лес…
Первые метров пятьсот он пронесся как стайер-профессионал, потом, когда стихли крики, сбавил темп и, немного отдохнув, прибавил вновь. За несколько минут он добрался до параллельного шоссе, отыскал автобусную остановку и через час был уже дома.
Спал он и не спал и, казалось, видел сон, а может, попросту бредил наяву; мысли путались, сталкивались, скручивались, рассыпались, как в детском калейдоскопе, какие-то отрывочные перед глазами картины возникали, совсем не про сегодняшний день, совсем не страшные, но странные какие-то, то звери появлялись, то люди, незнакомые исчезали, с омертвелыми, голубыми лицами; женщины вдалеке маячили, призывно махали руками и исчезали. И все картины эти словно за пеленой мелкого пыльного дождя были скрыты. Усилием воли он собрался, тряхнул головой, огляделся, комнату свою узрел, привычные вещи на своих местах увидел и окончательно вышел из зыбкого, душного полусна. Оторвал голову от подушки, провел ладонями по лицу и ощутил на пальцах влагу — оказывается, он плакал в забытьи, оказывается, он еще не разучился этого делать. Резко приподнялся, сел, в голове застучало легкой болью. Обхватил виски, сжал их, повторил про себя несколько раз: «Надо собраться, надо собраться…». Да, надо собраться, несмотря на слезы, несмотря на боль в висках, несмотря на полусон дурацкий, надо собраться и все обдумать. Что же произошло? Что делать дальше? Он встал, потянулся, но не в удовольствие, а так, чтобы размяться, а то затекшими, чужими казались руки, ноги, шея. Потом снял пиджак, усмехнулся невесело, надо же, столько времени в пиджаке провалялся. А действительно, сколько времени прошло? За окном уже вечер, день ушел, но он еще напоминает о себе, похваляется, что главенствует он в эту самую чудесную для него пору, летнюю, и выбеливает начинающее темнеть уже небо.
Расстегивая рубашку на ходу, он побрел в ванную, подставил лицо под тугую холодную водяную струю, энергично потер его полотенцем, прислушался к ощущениям. Ага, и на том спасибо, гул в ушах унялся, и в висках пореже стучать стало. Он поднял голову к зеркалу, опасливо взглянул на себя, поморщился, отвернулся, не понравился он себе — лицо темное, осунувшееся, глаза тоскливые.
Он вышел из ванной, закурил, упал в кресло, устроился удобно.
Началось все у него отменно. Умело Митрошку отыскал, неплохо роль свою в квартире отыграл, узнал в общем-то все, что нужно было. И вот Витя. С Витей отвратительно вышло, грубо, глупо, скомканно, по-дурацки. Продумать сначала надо было разговор, а не на импровизацию надеяться, хотя бы отправные точки обозначить надо было. И вот вляпался в историю, расхлебывай теперь. А история недобрая может получиться. Его ведь и вправду в грабеже обвинить могут. Фактов против Вадима много — заявление Вити, люди, которые видели, как он убегал, — свидетели. И теперь — арест, допросы, тюрьма, и, может быть, уже знали, где он, кто он, где живет, и, может, именно в эту самую минуту останавливается сине-желтая машина у подъезда и выходят оттуда сосредоточенные молодые люди в темных костюмах, входят в подъезд, садятся в лифт. На лестничной площадке послышался шум, голоса, кто-то приехал. Вадим закрыл глаза, ожидая звонка. Но голоса быстро пропали, и вновь стало тихо. И Вадим засмеялся — вот дурак, трусливый мнительный дурак. Да вряд ли Витя заявлять будет. Он понимает, что тогда Вадим все расскажет, может быть, доказать ничего не сумеет — ни причастность Леонида и Вити к изнасилованию, ни то, что они наверняка темными делишками занимаются, но указать на них — укажет, и ими займутся, внимание на них обратят, а у него, у Вадима, есть что рассказать. Нет, не будет он заявлять, не такой он дурак, он сначала с Леонидом посоветуется, а тому подобные контакты с органами вряд ли нужны. Ну вот и хорошо, вот и замечательно, Вадим повеселел. Так что теперь? Продолжать делом этим заниматься или бросить?
Затренькал телефон. Старенький был аппарат, уж отживающий свое, но хорохорящийся еще, негромко, но позвякивающий.
— Да.
— Вадим Андреевич, — голос был мужской, усмешливый, низкий, незнакомый.
— Он самый.
— Вас беспокоит заместитель начальника пятого отдела милиции по уголовному розыску Уваров Олег Александрович…
Вадим закрыл глаза, ухватил трубку, но до боли прижал ее к уху, почувствовал, как вспыхнуло лицо, как ухнуло сердце мощно и как часто и тяжело забилось оно. Ну вот и все, нашли.
— …Вы меня слышите?
— Да… — сипло ответил он и откашлялся нарочито громко.
— Мы посылали вам повестку, но вы не пришли и не позвонили.
Вадим приложил похолодевшую руку ко лбу — значит, о Можейкиной разговор будет, а не о таксисте. Ну слава Богу.
Он вздохнул осторожно: чтобы там, на том конце провода, не услышали.
— Я был в командировке, — сказал он. — В Ленинграде. Могу удостоверить…
— Ну зачем же, я верю. Вы бы зашли завтра к нам.
— Во сколько?
— Часов в восемь, в двадцать ноль-ноль, — поправился Уваров. — Сможете?
— У вас такой долгий рабочий день?
Вадим был уже спокоен.
— Служба, — бесстрастно ответил Уваров.
— Хорошо. Я буду в восемь, — и со скрытой усмешкой добавил: — В двадцать ноль-ноль.
— До встречи.
Приятный голос говорил уверенно, со столичным акцентом. Москвич? Может быть. С таким милиционером одно удовольствие пообщаться, такой должен понять тебя, хотя бы постараться понять. Во всяком случае, не будет прислушиваться только к себе. Да, симпатичный, наверное, Уваров парень, не то, что этот Петухов с хитренькими, подозрительными глазками.
А что, если… это мысль! Вправду, а что, если осторожненько так намекнуть этому Уварову при встрече, что я, мол, кое-что припоминать начал. Тогда, на первом допросе, все забыл в шоке, а сейчас вот, по прошествии времени, всякие детали и подплыли в памяти. Но все, мол, пока неопределенно, надо подумать, повспоминать еще. А? Если такую удочку закинуть, посмотреть, как он отреагирует? Если скажет, конечно, с каждым бывает, мол, и это не ложные показания, просто вы человек, а человек не машина, не компьютер, все упомнить не может… Тогда хоть одну проблему с повестки дня снимем.
Звякнул телефон. Вадим поморщился: опять болтать с кем-то, опять ложным оптимизмом себя заряжать. Но трубку все-таки взял. Благодушничать и шутить — иным его и не должны знать. Зачем? У него все хорошо. Только так.
— Данин? — спросил коротко и отрывисто мужчина.
— Данин, — подтвердил Вадим.
— Плохо твое дело, Данин, — продолжили с сухим смешком. — Ты даже сам не знаешь, как плохо. Ты теперь преступник, Данин, и осуждать тебя будут по статье сто сорок пятой Уголовного кодекса. Ты знаешь, что это такое? Нет? Грабеж. Самый обычный. Ай-яй-яй, интеллигентный человек, на таксиста с монтировкой…
Вадим съежился в кресле, он все понял: «они». Но надо было что-то говорить, не молчать, а то «они» поймут, что он оцепенел, испугался, убедятся, в чем хотели убедиться, что слизняк он, дрянь человечишко. Вадим выпрямился, вскинул подбородок, взбадривая себя этим привычным движением, и отрубил смачно:
— Пошел ты!
И вот теперь действительно испугался и, уняв разом дыхание, прислушался настороженно.
Но в трубке только рассмеялись.
— Не хорохорься, приятель. Обложен ты со всех сторон. Заявление таксиста имеется? Имеется. Фамилии свидетелей тоже имеются. И их много, Данин, свидетелей-то. Тебя видели, могут опознать. Плюс ко всему ты убегал, ведь убегал, правда?
На том конце провода опять засмеялись. Весельчак попался. Озорник. — Но это еще не все. В твоей квартире сумка, а сумка принадлежит сам знаешь кому, а это улика. Против тебя улика…
Грамотно говорит невидимый абонент. Это наверняка не Витя, или «курьер», или тот, в кепке. Может, сам Леонид, или доморощенный какой адвокат.
— Выбрось сумку, Данин, от греха подальше. Это и в твоих интересах, и в наших… Это первое: теперь второе. Ежели соваться не будешь, никакие заявления в милицию не поступят. Соображаешь? Ты благоразумно себя вел поначалу, а потом начал в Мегрэ играть. Зачем? Ты же не глупый малый. Не суйся, этот грабеж еще цветочки, есть и другие средства, — не послушаешься, — покажу наглядно. Все!
Заныли часто и громко гудки в трубке, и когда в ухе стало покалывать от них, отвел Вадим ее от себя и опустил, не глядя, на рычажки. Жаль, что так ничего и не сумел он сказать им в ответ.
А надо было съязвить как-нибудь лихо, ввернуть что-нибудь ироничное. И вдруг странным показалось Вадиму, что так спокойно и безбоязненно думает он об этом разговоре и что исчез холодок под сердцем, что стихла суетливость, лихорадочность в мыслях. Почему? — спросил он себя и ответил сразу же. Потому что решать нечего теперь. Всё решили за него. В милицию теперь он ничего не сообщит — ни приятному, судя по голосу, Уварову, ни подозрительному, судя по лицу, Петухову. Никому. Кто поверит преступнику? Грабителю беззащитных таксистов? Допросят снова Можейкину: ничего не ведаю, — скажет она, побеседуют с Митрошкой — и та, в свою очередь, глазки потупит, невинную мину состроит, ну а Витя, тот просто заголосит: «Ой, бандиты, ой, ограбили! Ой, убили!…» Все! Сидеть теперь тихо и не рыпаться, на работу ходить, книжкой заниматься. Все! Взяли в клещи. А хорошая была игра, но ты ее проиграл. Вот так.
На троллейбус Вадим не поспел. На ходу, запахивая с собачьим подвывом свои двери-гармошки, тот отходил уже от остановки, когда Данин выбрался из подземного перехода и ступил на тротуар. Несколько человек, шедших за Вадимом, побежали к троллейбусу, размахивая руками в тщетной надежде, что водитель увидит их и остановится вопреки правилам, не побоявшись вертящегося на перекрестке хмурого деловитого милиционера.
Но куда там, троллейбус только сильнее еще поднатужился, рыкнул в полный голос и помчался к перекрестку с несвойственной этой машине прытью. Растерянные стояли у остановки теперь две полненькие женщины с усталыми, сероватыми лицами и коренастый верткий мужчина. И казалось, будто только что самых близких людей они проводили, а сами неприкаянные и осиротевшие враз остались на перроне.
Вадим прошелся взад-вперед возле остановки, потом остановился, заложил руки за спину, осмотрелся и направился к газетному киоску. Тот закрывался уже. Сухая костистая дама лет пятидесяти в очках с толстой черной оправой, дергаными, нервными движениями складывала непроданные сегодняшние книги, газеты и журналы. Они то и дело выскальзывали у нее из-под рук и весело шлепались на прилавок.
Спешила, наверное, дама, дел у нее было, наверное, еще много, помимо этого опостылевшего ей до смерти киоска. Вадим глянул на часы — без десяти восемь, потом перевел глаза на надпись на стеклянном окне киоска «…с 8 до 20 часов». Пожалуй, еще можно купить вечернюю газету, улыбнулся учтиво и легонько стукнул два раза по стеклу. Дама вскинула голову, да так резко, что старательно собранная ею стопка стала мягко заваливаться на бок и через мгновение, как ни пыталась дама корявыми, неловкими движениями удержать ее, — вовсе рухнула. И даже через толстое стекло Вадим услышал, как с глухим стуком падают на пол книги и как выкрикивает дама какие-то очень нехорошие слова.
Вот она выкрикнула последний раз и подняла сморщенное лицо, вперила в Вадима ненавидящий взгляд. Наверное, уйти надо было, не отвечать на ее взгляд, а если и ответить, то равнодушием, эдакой снисходительностью сильного к слабому. Но зазвенела в нем сейчас струнка уже знакомая, не единожды уже звеневшая, но раньше приглушенно, тихо, не солируя. А теперь вот она главенствовала, подминала под себя вес прочие. Нет, не даст он слабинку, не спасует перед этим неприязненным, брезгливым взглядом продавца, не смутится, не отступит в сторону, успокаивая себя тем, что, мол, зачем связываться, зачем нервничать, ты умнее, а значит, должен и отступить, должен разрядить ситуацию. Нет, ничего и никому он не должен. Это она вот мне должна — должна окошко открыть, рабочий день у нее еще не кончился, еще десять минут ей работать — и продать мне то, что я прошу, ведь незадолго до этого продала ведь кому-то журнал, я видел, так чем я хуже других? Ростом, может, не вышел? Или лицом? Или солидности во мне нет? Или видно по мне, что больше рубля в моем кармане и не бывало никогда?
— Откройте! — отрывисто бросил Вадим и еще раз стукнул по стеклу, но уже посильней, пояристей.
Женщина отпрянула, словно это он по ней кулаком ударил, отмахнулась, как от мухи надоевшей, крикнула с надрывом:
— Идите, идите, все закрыто, ничего не продам! — громко, наверное, крикнула, но только стекло утишило звуки, и показалось, что спокойно это произнесла, буднично.
Вадим холодно усмехнулся, отвернул манжет куртки и постучал ногтем по часам:
— Шесть минут еще, шесть. Откройте!
— Не открою, уходи! Милицию позову!
Вадим почувствовал, что начинает мелко дрожать, и понял, что еще немного, и не сдержится, размахнется и хрястнет по стеклу что есть силы.
И представилось ему уже, как разлетаются с тонким звоном в разные стороны осколки, дробно падают они наземь и уже без звона сухо бьются об асфальт и раскалываются на крохотные мутно-белые кусочки. И руку он свою увидел вытянутую, облитую густой кровью, струйками стекающую по запястью, по рукавам, и ошалевшая от ужаса продавщица эту картину дополняла; закрывшись руками, она скрючилась в углу и что-то кричала, кричала…
Вадим с ожесточением провел рукой по лбу, выругался вполголоса, злясь на воображение своенеуемное, на несговорчивую продавщицу, на прохожих, злясь на троллейбус, который так и не пришел и который тащится еще, наверное, лениво километров за пять отсюда…
А продавщица не обращала на него уже внимания и с деланным сосредоточием вновь неуклюже укладывала товар в стопку.
— Вы нарушаете постановление горисполкома, — гневно прорявкал Вадим и шлепком припечатал ладонь к стеклу. — Зовите милицию — будем разбираться!
Продавщица вздрогнула, и опять запорхали у нее из-под рук живчики журналы, замахали газеты тонкими, невесомыми крылышками. Она не смогла уже выдавить из себя ни звука, просто стояла, вытянувшись, и молчала каменно, и только глаза ее разговаривали, за толстыми стеклами очков полыхал неистовый пожар, и он готов был испепелить и Вадима и все, что находилось вокруг, такой силы он был. Данин вытерпел, не отвел глаза, нельзя ему было сдаваться, хоть здесь-то он должен был выиграть. Он ощущал, что победа даже в такой, совсем немужской игре необходима ему как воздух, иначе до удушья скверно станет… Его отвлек шум подъезжающего троллейбуса. Увесистый, глубоко просевший на рессорах оттого, что забит был до отказа, подвалил он почти вплотную к остановке. И так близко подкатил, что колеса ширкнули о бордюр тротуара и встали мертво, словно приклеенные к нему. Съежились двери, раскрываясь, и посыпался оттуда народ, по двое, а то и по трое сразу выскакивали люди на асфальт, и было написано облегчение на их лицах.
Уже вышли все, кому надо, уже карабкались в машину те, кто на остановке стоял, а Вадим все еще никак не мог решить, бежать ли ему к троллейбусу и проиграть эту игру, или остаться и дубово добиваться своего. Но вот прошуршал уже что-то динамик в троллейбусе, водитель называл следующую остановку, а это означало, что еще несколько секунд — и машина тронется, и Вадим отступил на шаг, все еще пристально и недобро глядя на продавщицу, потом еще на шаг и потом, сплюнув презрительно и смачно себе под ноги, помчался к троллейбусу, успокаивая себя на ходу: если бы я не опаздывал, если бы не троллейбус… Вскочил на подножку он ловко и умело, но протиснуться в салон оказалось нелегко, ни зазора, ни трещинки не было между телами, плотно они стояли, словно слиплись друг с другом навсегда и никакая сила уже не могла их разлепить… Саданув Вадима по спине, двери все-таки закрылись с трудом. Через остановку стало свободней, и Вадим протиснулся к заднему окну. Он оперся локтями о поручни, засмеялся вдруг негромко. Вспомнил, как добивался своей правоты у киоскерши. Придурковато, наверно, он выглядел со стороны — эдаким настырным чурбаном гляделся. Что на него нашло? Бывает, сказал он себе и подивился вдруг, потому что опять заклокотало что-то внутри, когда нарисовалось ему внезапно перед глазами искаженное злобой лицо киоскерши и подумалось на мгновение, что все-таки остаться надо было и довести все до конца, раз уж начал. А так получается, будто бежал с поля боя. «Довольно, — сказал он себе, пытаясь этим приказом подавить растущую неудовлетворенность. — Довольно! Мелочи все это. Чушь. Ерунда».
Надо подумать о чем-то другом, хотя бы о том, зачем его вызывают так поздно, о том, что предстоит ему пережить там, в отделении милиции, надо подготовиться к худшему, настроить себя, не распускаться и, что бы ни было, держаться достойно… Но не задерживались в голове мысли о предстоящем вечере, не мог он на них сосредоточиться, ловко ускользали они. И он стал вспоминать, чем занимался дома эти прошедшие сутки. Опять не смог сосредоточиться, обрывки какие-то лишь беспорядочно припоминались. Вот он лежит на диване, курит… и вот маме письмо пишет, рвет… вот бумагами, документами, справочниками обложился, репортаж хочет писать, и не идут слова в голову, и не знает он, о чем писать, и летят бумаги вместе со справочниками со стола… вот он снова на диване лежит, бездумно в телевизор уставившись… вот по квартире слоняется, разгоряченным лбом к прохладному стеклу окна прижимается… вот снова глотает он рюмку коньяку, и покойней ему становится, он улыбается даже, а потом вдруг разом всю картину с таксистом представляет, и как бьет его в живот, подбородок — верно, следы от ударов на подбородке остались — и как убегает… и бросается он в кресло, обхватив голову руками, и стонет, стонет…
Вадим крепко вцепился побелевшими пальцами в поручень. «Психопат, — обругал он себя. — Неврастеник». И затуманились воспоминания, отошли на второй план, и огляделся он по сторонам — люди в салоне, много людей. И почему-то тихо, невероятно тихо.
Не разговаривает никто, не шепчется, не смеется. Все молчат. И лица какие-то у всех неживые, унылые, сонные, словно по очень скорбным и печальным делам обладатели их направляются. И Вадим отвернулся к окну, к свету, но свет уже угасал и, притухая, краснел понемногу. И вроде бы еще отчетливо глаза различали и дома, и автомобили, и людей, но нереальными они уже казались, искусственными; очень реалистичными, но все же декорациями к какому-нибудь спектаклю на современную тему.
Утихал и гомон уличный, сумерки словно охладили людей, заставили их замедлить шаг, задуматься: «Зачем бежим? Куда бежим? Надо ли?» И люди шли теперь неспешно, успокоенно. Напряженные лица смягчились, расслабились, и все бы хорошо, но только вот улыбок не было на лицах, не находилось для них места, будто забыли люди, что же это такое — улыбка, или это только Вадиму сейчас так виделось, а на самом деле все иначе было, веселей, радужней.
На следующей остановке ему выходить. Когда проехали примерно половину пути, он учтиво осведомился у впереди стоящего, коротко стриженного мужчины: выходит ли он тут? Мужчина посторонился, давая ему пройти. Потом у женщины, приятно пахнущей французскими духами, то же самое спросил, и она, в свою очередь, сдвинулась вбок. И вот, когда троллейбус уже подъехал к остановке, оттеснил его неожиданно молодой черноволосый парень, продвинулся вперед, спустился на ступеньку и неожиданно обернулся к нему.
— Ваши билеты, граждане, — тихо произнес он, подавив ухмылку на смуглом восточном лице.
Вадим поначалу недоуменно воззрился на него, потом стал суетливо шарить по карманам, а потом вспомнил, что не взял билета, что даже не подумал о нем, не до этого было…
Неловко он себя почувствовал. Казалось, все смотрят на него, только что пальцем не показывают и не плюют в его сторону.
— Сколько с меня? — так же тихо, как и парень, спросил Вадим.
— Трояк, — весело ответил парень.
— Хорошо, — сказал Вадим. — Только на улице. Я выхожу.
Двери разбежались, и Данин вслед за парнем ступил на тротуар. За ними выпорхнули две молоденькие девчонки и шли теперь, то и дело оглядываясь на них, и похохатывали беззастенчиво.
Вадим полез во внутренний карман куртки и неожиданно подумал, а ведь он может сейчас просто взять и уйти. Он извлек несколько мятых бумажек, отыскал три рубля, сунул парню. Тот прихватил их двумя пальцами, спрятал в кулаке, другой рукой достал квадратные, пергаментно шуршащие листочки. Но Данин уже не видел этого, он повернулся, собираясь уходить.
— Эй, гражданин, — подал голос парень.
Вадим оглянулся. Парень сдвинул мохнатые брови и настороженно глядел на него.
— Возьмите талон, — парень протянул руку с хрустящей бумажкой.
И, как со стороны, Вадим увидел себя, аккуратно берущего талон, тщательно и любовно складывающего его, всовывающего между листками записной книжки. И что-то мелочное, унижающее, гаденькое углядслось ему в этой картинке. И он, усмехнувшись, махнул рукой и не спеша повернулся, зашагал по тротуару. Парень не помчался за ним, не стал его уговаривать. Он наверняка даже обрадовался — ни за что ни про что трояк заработал. Ну да бог с ним, пусть счастлив будет…
А ведь мог бы уйти, думал Вадим, шагая, запросто мог уйти, и ничего бы с ним этот густобровый не сделал бы, свидетелей-то нет. Еще пару месяцев назад Данин наверняка бы хохотнул парню в глаза и потопал бы, пританцовывая. А сейчас вот остался и трояк даже чуть ли не добровольно отдал.
— Благородный, — вслух едко проговорил Данин, поразмыслил с полминуты и добавил совсем уж ядовито: — Порядочный, — и, скучнея, заключил: — Мелкий праведник…
Вход в отделение выглядел скромно и даже бедновато. Пяток ступеней, истертых, искрошившихся; погнутые, давно не крашенные, а потому густо заржавленные перильца, тонкая легкая дверь — как здесь зимой? До инея, наверное, выстуживается коридор. Ан нет, за ней вторая дверь, покрепче, подобротней, так что шалишь, брат, работник милиции запросто так себя студить не станет. Дураков мало. Коридор казался необычайно длинным, и много дверных проемов угадывалось по стенам. Вадим даже удивленно брови вскинул, а он-то всегда думал, что отделения милиции совсем крошечные и смахивают на паспортный стол, где он получал и менял потом паспорт… Слева от входа, за огромной плексигласовой перегородкой (начиналась она примерно в полутора метрах от пола, как бы продолжая крепкий деревянный барьер, похожий на прилавок в магазине), он увидел какие-то пульты с мигающими лампочками, телефоны, белые, черные, красные; трех работников в форме, один возле пульта сидел, без фуражки, лысоватый, бесстрастный, с капитанскими погонами, двое других — сержанты — стояли у окна, лениво переговаривались. Капитан смотрел куда-то вверх — вперед. Вадим сделал еще шаг и увидел, что вся комната за плексигласом на две части разделена с помощью такого же прозрачного листа. И там, во второй половине, какие-то грязные, мрачные типы сидят, одни ёрзают беспрестанно, другие храпят, уснув прямо тут же на скамье, и еще он понял, почему капитан голову приподнял, — он с одним из этих грязных и мрачных разговаривал. Тот опирался на деревянный барьер и в окошко норовил голову трясущуюся всунуть. А капитан морщился и беззлобно выталкивал его рукой…
Один из милиционеров заприметил Вадима, наклонил голову, разглядывая, может, знакомый кто, прищурился, оттолкнулся от подоконника, подошел к перегородке; без всякого выражения на белобровом лице оглядел его, открыл дверцу, которую Вадим только сейчас и заметил, спросил буднично:
— Вам кого?
— Уварова, — ответил Вадим.
— Сейчас, — сказал милиционер, подошел к пульту и, нажав какой-то тумблер, сказал в микрофон, что рядом стоял:
— Олег Александрович, к вам пришли.
Хлопнула дверь в конце коридора. Показался мужчина — стройный, жилистый, в сером пиджаке, темных брюках. Пока тот шел, Вадим успел разглядеть лицо его, худое, открытое, улыбку доброжелательную, быструю.
Шагов за пять Уваров уже руку протянул. Сухой жесткой ладонью на долю мгновения сжал Вадиму пальцы. Убрав руку, сказал, не переставая улыбаться:
— Рад очному знакомству.
— Взаимно, — вежливо ответил Вадим.
— Таким вас и представлял.
— Каким? — спросил Вадим.
— Вот именно таким, какой вы есть, — не стал уточнять Уваров. — Только повеселей.
— А я весел, — сказал Вадим сухо. — Внутренне.
Сказал и сам подивился своей сухости, с чего это он так? Ведь понравился ему этот парень, и манерами своими, и походкой, и глазами живыми, цепкими, быстрыми, и даже прическа его понравилась: небрежная, удлиненная, так отличающаяся от стереотипа милицейских стриженных затылков. И он попытался улыбнуться так же приветливо, как и Уваров, и тут же понял по прищуренным внимательным глазам Уварова, что не получилась улыбка у него, губы только растянулись нехотя, и все.
— И верно, — сказал Уваров, сделав вид, что ничего не заметил. — Истинное, оно не напоказ, оно потаенное, но это только тогда, когда с собой ладить. Ладите?
— Что? — тупо спросил Вадим. Глаза этого милиционера смущали его. Или это профессия его приучила так на людей смотреть, чтоб сразу осознавали они четко и явственно, что не скрыть ничего им, не утаить, что как на ладони они, обнаженные и беззащитные?
Уваров не стал повторять вопроса, а только усмехнулся едва заметно, легонько приподняв краешек губ.
«А ведь маска это, — подумал Вадим, — маска, да и только». Просто он неглупый малый, вот и придумал себе такую маску. Потому что гораздо эффективней она, чем манера его коллеги Петухова. Тот, наоборот, раздражение вызывает, отталкивает настороженностью своей и подозрительностью безосновательной. Махнув в глубину коридора, Уваров сказал:
— Пойдемте.
«Маска, маска, — повторял Вадим, шагая. — И нечего мне его смущаться, и ничегошеньки он не знает. Он точно такой же, как и я, не хуже и не лучше. Нет, даже похуже, ростом меньше, сантиметров на пять». И Вадим улыбнулся.
— Дело вот какое, — говорил Уваров. — Мы тут решили следственный эксперимент провести. Восстановить все, что происходило в тот злополучный вечер.
Они остановились перед дверью с надписью «Ленинская комната».
— …Но я не рассчитал немного. Раньше времени вас позвал. Так что не обессудьте и не держите зла, подождите минут сорок. Хорошо?
Он говорил серьезно, а глаза все равно усмешничали, отдельной, самостоятельной жизнью жили на сухом загорелом лице. Но Вадима они больше не тревожили. Он был уверен, что разгадал их.
— Ну что вы, не извиняйтесь, конечно же, подожду, — любезно ответил он и едва сдержался, чтобы не склониться в учтивом полупоклоне. Уваров замешкался на долю секунды, что-то новое, видимо, углядев в Данине, и толкнул дверь.
— Вот здесь телевизор, какой-то фильм как раз сейчас идет. Можете курить. Я зайду.
Длинный, узкий, вытертый локтями стол, много стульев, наглядная агитация на стенах, радиоприемник, графин с водой, телевизор в дальнем углу. Здесь, наверное, проходят занятия, собрания, инструктажи.
Вадим включил телевизор, удобно устроился на стуле, закурил. Фильм шел уже давно, и поэтому не все было понятно. Но минут через пять Вадим все-таки разобрался, что к чему.
Молодой главный инженер некоего строительного треста — дерзкий и горячий малый, сразу же по приходе старался построить работу по-новому, это не совсем нравится начальнику треста, так трудиться он не привык и поэтому ставит молодому специалисту палки в колеса, затирает его перед руководством, компрометирует перед подчиненными. Но энергичный инженер не отступает и тем самым вызывает уважение коллег. Возлюбленная инженера прихотью судьбы — дочь того самого начальника треста, узнав о кознях папаши-консерватора, устраивает ему грандиозный скандал и гордо уходит из дома… А инженер тем временем упорно бьется за новые методы работы. И вот финал. Начальник прозревает, что выражается в его добром прищуре глаз, когда он смотрит в вслед идущим рука об руку инженеру и своей дочери. Конец.
Все просто и доходчиво, и никаких метаний и сомнений. Жизнь, оказывается, элементарна и назойлива, стой на своем, держись своих принципов, если они верные (хотя, кто знает, какие верные из них, какие нет), и все в твоей жизни пойдет как по маслу, и в награду тебе достанется богатая невеста.
Замечательное кино! Высший класс! Смотрите и учитесь. Лишь такие проблемы достойны нашего пристального внимания. Все остальное чушь и сопли. В наш стремительный, рациональный век мир перестраивают только такие твердые, ни в чем не сомневающиеся парни… А впрочем… впрочем, и от таких картин есть польза, и самая что ни на есть реальная и самая что ни на есть наглядная. И Вадим сам на себе ее ощутил. Приукрашенная будничность фильма, обыкновенные, ничего не значащие слова, порой примитивные до глупости ситуации, высказанные значительно и солидно, пустые фразы, и, главное, оптимистичный, безоблачный дух его подействовали на Вадима успокаивающе и умиротворяюще. И то, что тревожило его все эти дни, показалось надуманным, болезненно гипертрофированным, без явной причины заполнившим его воображение. И с легкостью какой-то он достал сигарету, и с явным удовольствием затянулся, будто после долгого-долгого перерыва впервые прикоснулся к табаку.
— Все, поехали, — на пороге стоял Уваров. Краешек губ все так же приподнят в привычной, незлобливой усмешке.
У выхода оперативник столкнулся с костлявым суетливым малым. Был тот в модной курточке, джинсах. На гладеньком лице независимость и презрение. Увидев Уварова, он неожиданно расплылся в подобострастной улыбке.
— А, Питон, — сказал Уваров. — Жду не дождусь тебя, крестничек. — Он полуобернулся к Вадиму. — Идите к машине. Я сейчас.
Неспешно открывая дверь и входя в тамбур, чтобы открыть вторую, ту, тощенькую, неказистую дверцу, Вадим услышал за спиной жесткий полушепот Уварова:
— Еще раз увижу, узнаю, услышу… северное сияние воочию разглядишь…
И слабый, винящийся голосок малого:
— Да я не хотел, я по пьянке…
Уваров вышел минуты через две, весело ухмыляющийся.
Вадим ждал его у машины. Когда оперативник подошел и взялся уже за ручку дверцы, Вадим неожиданно спросил:
— Вам нравится ваша работа?
Уваров нажал на ручку, но дверцу так и не открыл. Подумал недолго, разглядывая внимательно ручку, будто видел ее впервые. Потом вскинул голову и коротко рассмеялся:
— С чего это вы? А впрочем… Я умею ее делать, и неплохо. И это мне нравится. Садитесь.
До Каменного переулка доехали молча. Кроме Вадима, Уварова и водителя, в машине сидели еще два милиционера в форме, сонные и сердитые. При них продолжать разговор Вадим не решился. Пред самым домом, когда уже остановились, Уваров сказал:
— Следователь прокуратуры разрешил нам провести эксперимент без него. В исключительных случаях я имею такое право. Формальности соблюдены, если что…
— Если что? — спросил Вадим.
— Если жаловаться надумаете, — как всегда, усмехнулся Уваров, — или еще чего… Мало ли…
— Вы думаете, у меня будут основания жаловаться?
Уваров пожал плечами.
Их уже ждали. Трое. Они стояли в темноте, на углу того самого злосчастного дома-глыбы. Слабосильный фонарь был далековато, а тот, что вытянул свою лебединую шею возле дома, не горел вовсе, и поэтому Вадим догадался о присутствии людей только по трем крохотным сигаретным огонькам. Когда «газик» остановился, огоньки цепочкой двинулись навстречу. Уваров открыл дверцу, и тусклый свет из кабины осветил лицо подошедшего. Вадим узнал его. Петухов. И как-то сразу обмяк: уверенность, которая жила в нем до этой минуты, притухла, и ему показалось, что даже голос его, когда он начнет говорить, станет тише и выше тоном, и будет он отвечать невпопад, не так, как мог бы, как должен был. «Петухов. Все от него. Страх? Нет, нисколько, просто мы говорим на разных языках, — подумал Вадим, — он меня не поймет. Никогда. А я его. Плохо, что он здесь. Дурная примета».
Петухов улыбчиво кивнул вылезающему Уварову, заглянул в кабину, многозначительно и тяжело посмотрел на Вадима и вместо приветствия проговорил с нехорошим смешком:
— Ну вот и встретились. Рано или поздно все возвращаются на место преступления…
— Сергей, — резко оборвал его Уваров, и по напряженной спине зама по розыску Вадим уловил, что тот явно недоволен.
Данин молча вылез из машины и, стараясь не смотреть на Петухова, подошел к Уварову. Оперативник, прищурившись, озирался и был похож сейчас на кинорежиссера, оценивающего натуру будущей съемочной площадки.
— Хорошо-то как, — Уваров обернулся к Вадиму. — Тихо. Людей нет совсем. И воздух как после дождя. И ночь… И все это в центре города. Даже не верится.
Играет? Добивается расположения, чтобы вызвать на откровенность? Вот, мол, видишь, какой я, обыкновенный, такой же, как все, и даже немножко поэт… Вадим одернул себя. Чушь! Он действительно такой, хотя и в масочке иной раз. А ты становишься похожим на Петухова.
— И вправду хорошо, — подтвердил Вадим и добавил: — Тогда тоже хорошо было. Дышалось легко. Настроение невесомое было. Хотелось гулять всю ночь… — он усмехнулся. — Погулял.
Уваров только покачал головой, но ничего не ответил. Петухов стоял чуть сбоку. И вся фигура его, чуть согнутая, чуть подавшаяся вперед, и плоское лицо, напрягшееся, целеустремленное, выражали немедленную готовность к действию. Но Уваров повернулся не к нему, а к скромно стоящим в нескольких метрах двум мужчинам.
— Подойдите, пожалуйста, — позвал он.
Они были одинакового роста, пониже Уварова на полголовы, пожилые. Один покрепче, коренастый, с одутловатым круглым лицом, другой худосочный, со сведенными вперед, острыми плечиками, с яйцеобразной лысой головой. Лица у них были растерянные, держались мужчины скованно, двигались угловато. Но в глазах тощего Вадим уловил откровенное любопытство, зажегшееся и погасшее мгновенно.
— Это понятые, — пояснил Уваров Вадиму. И жестом позвал Петухова.
— Ребята на месте? — спросил он.
— Все здесь.
— Хорошо. Начинаем. — Он взял за плечи понятых и сказал: — Вы будете вон у того угла стоять, чтобы видеть и двор и улицу. И внимательно за всем наблюдать. Это только и требуется от нас.
— А от вас, Вадим Андреевич, — Уваров повернулся к Данину, — требуется нечто иное. А конкретнее — повторить все, что вы делали, как действовали в тот вечер. Вы встанете сейчас на то же самое место, с которого услышали крики, и дальше все как было. Постарайтесь, поточнее соблюдать расстояния. Это очень важно. И еще. Мы специально пригласили трех молодых людей. Они будут изображать преступников. Так что не удивляйтесь, когда увидите их во дворе.
— Хорошо, — сказал Вадим.
Он огляделся. Зафиксировал примерно то место, где донеслись до него злые резкие голоса, отошел туда, встал.
— Я готов, — сообщил он.
— И еще одна просьба, — попросил Уваров, — по ходу дела комментируйте свои действия.
…Все получилось почти как тогда. Вадим помялся немного, якобы услышав крики, потом ступил осторожно в сторону потом побежал; воскликнул: «Я из милиции», увидев трех парней, автоматически отметив про себя, что подставные «насильники» фигурами смахивают на тех, скрывшихся; затем в общих чертах повторил свой диалог с преступниками, подсказал, в какой момент самому высокому из подставных надо убегать, и в какую сторону, помчался за ним и только после этого услышал окрик Уварова:
— Стоп! Давайте еще раз.
И опять Вадим побежал, крикнул: «Я из милиции!»…И в этот момент Уваров остановил его. Вадим замер на месте, с трудом переводя дыхание. Уваров подошел к нему, за ним потянулся и Петухов. И в тот момент что-то очень не понравилось Вадиму в лице Петухова. Уж очень довольное, очень радостное оно было.
Уваров дружески взял Вадима под руку, помолчал немного, словно не решался заговорить, потом наконец сказал негромко:
— Значит, такое дело… Я не зря попросил вас повторить еще раз все сначала. Попросил для того, чтобы остановить вас именно на этом месте. Потому что… потому что мне показалось… А впрочем, вы сейчас все сами поймете, если уже не поняли, не поняли?
Вадим недоуменно покрутил головой, но внутренне уже собрался, готовый к самому худшему. Но только бы виду не показать, что он сжат до твердости, что сосредоточен предельно.
Уваров почему-то медлил, прищурившись, разглядывая Данина.
«Расслабься, расслабься, — сказал он себе. — А то, гляди, пальцы аж в кулачки собрались и побелели наверняка от натуги, хорошо что ночь».
— Посмотрите на этих троих, — наконец заговорил Уваров, махнув рукой в сторону фигур.
С самым безучастным видом Вадим чуть повернул голову. И все понял.
— Ну и что? — спросил равнодушно.
И добавил про себя: «Нет, не все кончено еще, Петухов!»
Уваров даже отступил в удивлении на шаг от Вадима.
— Вы же видите их, — осторожно произнес оперативник. — Точно так же, как и видели тех. Глаза быстро привыкают к темноте. А прошла уже почти минута. Достаточно…
Как вести себя сейчас? Оправдываться? Разыграть недоумение? Возмутиться? Да, возмутиться…
— Та-а-а-к, — со значением протянул Вадим. — Вы что же, хотите меня во лжи уличить? Хотите все это мне приписать?.. — Он повысил голос.
— Минуту. — Уваров протестующе выставил ладони. — Вы неверно поняли меня. Я надеялся, что вы вспомните их лица. Я надеялся, что воспроизведение той ситуации подтолкнет память, что сработает какой-нибудь механизм, ассоциативный или еще какой-нибудь там, и вы восстановите приметы. И вас ни в чем не подозревают…
Оперативник говорил серьезно и горячо, с возмущением даже, но глаза его при этом пытливо ощупывали каждый сантиметр лица Вадима. Неприятное это было ощущение, будто обыскивали тебя, только не одежду обшаривали, а голову в поисках мысли потаенной. Вадим не выдержал, отвел взгляд, пожал плечами, похлопал себя по карману, достал сигареты, закурил от учтиво поднесенной Уваровым зажигалки, пожал плечами, сделав вид, что успокоился. Потом окинул еще раз, взглядом двор, затем, едва заметно усмехнувшись, сказал:
— Окно.
— Что окно? — не понял Уваров.
— Тогда горело только одно окно, и в том конце дома, а сейчас три. Понимаете, три окна.
— Вот как, — сказал Уваров, и в голосе его звучало разочарование. — Это меняет дело.
Краем глаза Вадим уловил, как дернулся было в сторону подъезда Петухов, через мгновенье застыл в нерешительности.
— Что ты, Сергей? — спросил Уваров.
— Я сейчас попрошу, чтобы погасили окна, — глухо ответил Петухов. Он был явно расстроен.
— Не надо, — поморщился Уваров. — Все. Закончили.
Вадим повеселел. Обошлось. Недаром он чувствовал сегодня силу свою, уверенность.
— Вопрос можно? — обратился он к Уварову. — Это вы только из-за меня сей эксперимент затеяли? Чтобы уличить меня?
— Нет, — суховато ответил оперативник. Он, по-видимому, на какое-то время забыл о своей усмешливой маске. — Мы ни на грош не продвинулись в розыске и решили еще раз поработать с жильцами. И я хотел выяснить, слышал ли все-таки кто-то голоса. Один из милиционеров сейчас находится в подъезде у окна. Кстати, Сергей, — Уваров кивнул Петухову. — Позови Сабитова… И еще, по тому, как преступники убегали, я хотел уяснить, знают ли они эти места…
— Уяснили?
— Да. Один из них, тот, что слева, наверняка из местных. Он знал, что за забором проходной двор. Будем искать.
Устало ухнула дверь. Скорым шагом подошел один из хмурых сержантов.
— Слышно, — доложил он. — Плохо, но слышно. Особенно когда он кричал про милицию…
Все потянулись к машине. На улице было гораздо светлей. Прибавилось несколько горящих окон в домах. Петухов устроился в машине для составления протокола. Понятые стояли рядом и с интересом заглядывали в скупо освещенную кабину.
Вадим оперся о капот, сложил руки на груди и бездумно уставился на подъезд противоположного дома, в котором скрывался, когда поджидал «курьера».
Какая-то тень показалась в конце переулка.
— Ну вот и люди наконец, — послышался голос Уварова совсем рядом. Держа руки в карманах брюк, он неспешно приблизился к Данину. — А то уж я думал: как же они в дома попадают? По воздуху, что ли?
Некоторое время они молчали наблюдали за приближающимся темным силуэтом. Человек шел странновато. Подпрыгивал, покачивался, то и дело его бросало на пару шагов в сторону.
— Пьяненький, — почему-то обрадовался Уваров. — Интересно, дойдет?
— Дойдет, — сказал Вадим. — Автопилот работает.
Вот человек вынырнул из темноты, остановился, помотал головой и поковылял дальше. Что-то знакомое увидел в нем Вадим. Мелкого роста человек был, большеголовый, носатый, неряшливо одетый. Вадим прикрыл глаза, силясь вспомнить, где же он видел его.
— Эй, приятель, — позвал Уваров. — Поди-ка.
— Че? — коротышка с трудом повернул подрагивающую голову.
— Иди, иди, поговорить надо.
— Я… Я… спе… спешу, вот, — слова давались маленькому с трудом.
— Вам некуда больше спешить, — весело пропел Уваров. — Давай сюда, кому говорю.
Коротышка пригляделся, протер глаза, мазнул пустым взглядом по сине-желтой машине, по сержантам, стоящим неподалеку, протянул:
— А-а-а-а, — и, едва не рухнув после крутого виража, стал приближаться. И тут Вадим вспомнил — Долгоносик. Это Долгоносик. Тот самый, который в пивной рассказывал ему про Митрошку. Вадим чуть не выругался. Черт его дернул, алкаша, именно в этот час идти по переулку. Данин машинально поднес руку ко лбу, стараясь ладонью скрыть хотя бы пол-лица. Хотя вряд ли этот спившийся мужичонка сможет узнать его. Водка с портвейном не улучшают память.
— Кто такой? Где живешь? — спросил Уваров нарочито строго.
— Эта… здеся. — Долгоносик слабо махнул рукой в сторону дальних домов. — Васильков я… вот.
Он поднял голову и уставился на Уварова, потом медленно перевел взгляд на Вадима.
— Во, — сказал он, тыча в Данина пальцем. — Я тогда мужикам сказал, что ты мент, ха-ха, я все вижу, ха-ха, во…
— Вы знакомы? — удивился Уваров.
Вадим выдавил из себя улыбку:
— Что-то не припоминаю…
— Говорил, что жил здеся… во… а сам не жил. Я помню, я никогда не пьянею, я все помню. — Долгоносик горделиво выпрямился.
Вадим машинально пригладил волосы, сунулся за сигаретами, но не нашел их, чертыхнулся, потом отыскал пачку во внутреннем кармане рубашки, чиркнул спичкой, закурил, не заметив поднесенной Уваровым зажигалки. Он чувствовал, что оперативник внимательно наблюдает за ним, и старался не смотреть в его сторону.
— Так вы все-таки знакомы, — утвердительно проговорил Уваров.
Вадим пожал плечами.
— Не узнаешь? — подозрительно прищурился Долгоносик. — Кого на работу берут. Во… И про Митрошку… эта… не помнишь, во…
Данин полез за сигаретой, хотя во рту у него уже дымилась одна. Он повертел другую сигарету в пальцах и зачем-то бросил ее в сторону.
— Какой такой Митрошка, Вадим Андреевич, а? — К Уварову вернулась его прежняя усмешливость.
— Понятия не имею, — излишне поспешно ответил Вадим.
— Да во… — Долгоносик махнул рукой на дом-глыбу. — Здеся живет…
Он закачался от того, что долго глядел вверх, на высоких Уварова и Вадима, и у него, наверное, помутнело в голове, он икнул, шагнул вбок и снова чуть не упал. Подошли сержанты.
— Возьмем с собой? — спросил один из них.
Уваров пристально посмотрел на Вадима, коротко усмехнулся и сказал, не отводя от Данина глаз:
— Узнайте, где живет, а с собой не надо. Пусть дома ночует. Потом побеседуем. Перепутал он, наверное, вас с кем-то, Вадим Андреевич, да?
— Наверняка, — безмятежно ухмыльнулся Вадим. Сигарета чуть не вывалилась из его губ.
— Ну все, поехали, — скомандовал Уваров.
Ночь провел скверно. Старый диван, такой привычный и уютный, всегда покладистый и послушный, не скрипящий, не охающий, совсем бесшумный, — добрый друг и советчик, обозлился вдруг, стал бормотать ни с того ни с сего что-то, потрескивать, сделался жестким и неудобным, словно одеревенел, и будто бы выгнул спину и злорадно упирался горбом своим то в поясницу, то в живот, то, больно вдавливался в бока. Вадим провертелся полночи, так и не сумев заснуть, потом поднялся поспешно, потому что уж совсем невмоготу было. Ступив на пол, ойкнул, сморщившись, — заломило поясницу, и тяжело запульсировало в затылке, открыл окно, постоял, глубоко вдыхая ночной воздух, и, не думая ни о чем, потом закрыл глаза, помассировал шею и затылок. И когда чуть полегчало, завертелись в голове бессвязные картины: ухмыляющийся Уваров, полуживой Долгоносик, сощурившийся Петухов, безмолвный, мглистый переулок, таксист Витя в беззвучном оре разевающий рот, крохотная сумка Можейкиной, бабка Митрошка, почему-то сидящая в дежурной части в милиции… И Вадим сразу озяб, хотя ночь была теплой, душноватой даже и безветренной. Он обхватил себя руками и поковылял к враждебному теперь дивану, все еще видя Митрошку в дежурной части. Перекинул подушку на другую сторону, потирая поясницу, осторожно опустился на диван, закутался в одеяло и, постепенно согреваясь, стал проваливаться в зыбкое забытье.
Проснулся с головной болью, с пересохшим ртом и с отяжелевшими, неприятно давящими на глаза веками. Но боль не мешала, и налитые свинцом веки не мешали, а лишь отвлекали, а голова была чистой и ясной, думалось легко и свободно, и мысли четко выстраивались в логическую цепочку. Правда, сжавшийся внутри холодный комочек еще зудел болезненно, но он начинал теплеть и притихал понемногу. Вадим решил уже, что сегодня ему делать. Он не знал еще, правильно он поступит или нет, но главное решил, а там будь что будет.
На кухне он заварил кофе, не крепкий, только для того, чтобы вкус его почувствовать, чтобы взбодриться чуть и тикающую головную боль унять. Когда ощутил пронзительный, дразнящий запах напитка, проснулся аппетит — он совсем забыл, что надо что-то съесть. Вадим полез в холодильник, достал масла — крохотный кусочек желтел в масленке, — сыр, начинающий твердеть и крошиться. Все Вадим делал медленно, без обычной суеты и торопни, потому что надо было потянуть время, потому что на часах было только начало десятого, а Беженцев раньше десяти на работе, как правило, не появлялся. Кофе пил долго, смаковал, запивая обжигающими глотками сдобренный маслом, подсохший, но все еще вкусный сыр. Потом закурил, на мгновение обрадовавшись сладости первой утренней сигареты. И опять посмотрел на часы — без нескольких минут десять. Еще час. Он притушил в пепельнице сигарету, затем помыл кружку, убрал хлеб, залил водой масленку и вернулся в комнату. Тонкая, как клинок шпаги, полоска яркого света, пробивающаяся меж плотных штор, словно разрезала стол напополам, и казалось даже, что стол дымится. Вадим недоуменно поднял брови, затем все понял и усмехнулся. Это высвечивались, невидимые обычно, микроскопические пылинки. «Надо бы убраться», — лениво подумал он и оглядел комнату. Ковер сдвинут, сморщен, на полу книги, газеты, исписанные листы бумаги, журналы, стол весь в пятнах, потеках, телевизор на паркете, какой-то жалкий, исцарапанный, да еще, бедняга, придавленный толстенными справочниками и томами энциклопедий, на полке книги в беспорядке, стоят накренившись, чуть не падают, а иные и попросту лежат… Но что поделаешь — один живу. Один.
А уж как легко было, когда развелся, не сразу правда, не в те минуты, когда из здания суда вышел (тогда-то колотилось сердчишко бешено, и коленки мелко подрагивали, и лицо огнем полыхало), развод по суду тяжкое дело. Да не в этом суть даже, просто сразу вдруг как-то понял, что навсегда он потерял человека, с кем бок о бок пять лет прожил, от кого ребенка такого чудесного заимел. Навсегда. Возврата быть не могло, как ни крути. Неважно им жилось, лучше никак, чем так, а все равно остались ведь спайки какие-то, пять лет запросто не выкинешь. Он тогда купил себе коньяку и просидел у Бежен-цева в квартире весь день и весь вечер, глотая коньяк, как воду. Женька в командировке был. А утром проснулся и понял, что на душе легко, что замечательно на душе, что просто распрекрасно на душе. И целых полгода в сладостной эйфории пребывал. Работал, погуливая помаленьку, легким флиртом развлекался, победы считал и очень радовался всему этому. Дашка вот только все покоя не давала, снилась она ему чуть ли не каждую ночь, но он научился справляться с собой и отгонял днем умело от себя приближающуюся вдруг тоску по дочке, по тому, что не суждено стать ему человеком номер один в ее жизни. Спокойно и просто ему жилось эти месяцы, ни волнений, ни тревог, знай работай себе в удовольствие, занимайся любимым делом, да девчонкам несмышленым в кафе пыль в глаза пускай, и не нужно ему было никого. Одному хорошо — ни обязанностей, ни отчета. Одному и отдыхается лучше, один и сосредоточиваешься скорей, и сил растраченных набираешься интенсивней… Но теперь вот худо что-то одному, неуютно, холодно. И бог с ними, с обязанностями и отчетами, бог с ними…
«Прибраться, — подумал Вадим, — все-таки надо, сию минуту, немедленно, зачем откладывать?» Вскинулся со стула, устремленно и легко поднялся, почувствовал дело. И мышцы на руках заныли колко в предчувствии работы, и все мысли, сомнения, заботы прочь из головы вылетели, и комок у горла рассосался, и в груди разжалось что-то, дышать веселей стало. Ринулся Вадим к окну первым делом — освободить его надо, вырвать из гардинового плена. Свет в комнату! Больше света! Чтоб все углы высветил, стены выбелил, чтоб непорядок, неразбериху, неряшливость квартирную обнажил… Взялся крепко пальцами за ткань, отбросил руки в разные стороны, и грохотнуло тут что-то над головой, заскрежетало, отскочил Вадим назад в испуге, по ходу дела больно ударившись бедром об угол стола, и, стремительно подняв глаза, увидел, как валится медленно и устрашающе карниз, таща вслед за собой округлый, огромный кусок посеревшей от времени штукатурки. И не успел он рук подставить, как ухнула тяжелая никелированная труба о подоконник, затем о стол, зазвенели встревоженно кольца на ней, сухо треснувшись о подоконник, разлетелся на мелкие меловые кусочки грузный шмат штукатурки… Вадим зло вскрикнул, рубанул воздух рукой, раз, второй, третий, с размаху завалился на диван, вмял лицо в подушки, с огромным усилием подавив вскипающие слезы…
Через час он позвонил Беженцеву. Без предисловий и объяснений, скоро и по-деловому попросил его выяснить имя и фамилию напарника Раткина и когда он заступает на ближайшую смену.
Беженцев изумился, потом спрашивать что-то стал, не очень тщательно подавляя свое любопытство, но не услышав ответов на вопросы, обиделся немного и с деловитой суховатостью сообщил, что постарается, если будет время, узнать к обеду.
— Поторопись! — оборвал Данин и повесил трубку.
После чего, наверное, любопытство Беженцева разгорелось с еще большей силой.
Вадим подмел пол, аккуратно, чего совсем уж не ожидал от себя, завернул трубу в шторы, поставил до поры до времени в коридоре, покурил, выпил кофе, посмотрел телевизор. Прошел час, второй. И Вадим опять у телефона, Беженцев все выяснил. Смена у Цыбина начиналась сегодня в восемь, и работал он до четырех утра. Времени было навалом, и следовало все обдумать. Вадим рассуждал просто. И выглядело это так.
Он сядет в машину к Цыбину и постарается поговорить с ним, но не так неосторожно и непрофессионально, как с Раткиным, а задушевней, беззаботней, веселей. Если ж Цыбин ничего не знает ни о Лео, ни еще о чем-нибудь таком интересном, внимания заслуживающем, тогда Вадим возьмет машину у того же Беженцева и поездит денек-другой за Витиной «Волгой» — авось и зацепит кого или чего.
Вадиму повезло. Цыбин оказался добродушным, простоватым, очень словоохотливым малым. Был он большелицым, большеротым, круглоглазым, выглядел моложе Раткина лет на пять, и так оно, наверное, и было. Как закурили, сразу начал рассказывать, сколько выпил вчера и почему. Оказывается, приятеля его, таксиста, судили за подделку трудовой книжки, а корысти в подделке никакой не было, только чтобы в такси устроиться. А когда Вадим спросил, неужели так расчудесно в такси, Цыбин зацокал языком и стал подсчитывать деньги, кто какие из его знакомцев получает. Тогда Вадим осторожненько намекнул, что, наверное, можно и больше. Вот он, мол, слышал, что у одного «хозяина» таксист на приколе, он полтора плана вышибает. Цыбин с живостью отозвался на эти слова. Мол, бывает и такое, но сам он не пробовал, когда предлагали, побаивался, а вдруг жулик какой этот «хозяин», ведь такие «бабки» только жулики имеют, и будет он на моей машине всякие дела темные крутить. Нет. Ну а сейчас уже давно не предлагают, меньше, видать, их стало, «хозяев». Хотя, правда, у напарника его, например, Витька, имеется такой клиент. Молодой совсем, а при таких деньжищах ой-ой-ой. Когда Вадим спросил, откуда Цыбин знает, что клиент молодой, тот ответил, мол, подвозил его как-то домой, Витек просил, он заболел как раз.
— И в солидном доме живет? — спросил Данин, унимая колотящееся сердце.
— В хорошем, — ответил Цыбин, — в старом кирпичном, в Шишковском переулке, напротив «Диеты», серый дом такой массивный, там всякие «деловые люди» живут. — и Цыбин со значением покачал головой…
Шишковский переулок не чета Каменному был, посветлей, повеселей, поразудалей, хотя шириной особой не отличался.
Да и дома вроде одного возраста были, и той же архитектуры, основательной, громоздкой. Но открытыми они какими-то виделись, распахнутыми всем и каждому, добродушными и посмеивающимися. То ли солнце переулок щедрее одаривало, то ли прохожие многочисленные живее и теплее его делали, то ли жэковские работники пожизнерадостней были — светлыми, яркими красками дома обновляли, но нельзя было без удовольствия по нему пройтись, в каком бы настроении ни пребывал, какие бы заботы ни одолевали…
На сей раз Вадим по-другому себя приодел, чтобы узнать было трудно, если кто из недавних знакомцев встретится — Лео, Витя или тот, в кепке из кожзаменителя. «Ну прямо Шерлок Холмс какой-то», — усмехнувшись, подумал он, когда собирался. Был он в брюках вельветовых, старых, заношенных, пузырящихся на коленях; в просторной рубашке, линяло-голубоватой, с короткими рукавами, в кепочке с длиннющим козырьком из потертой джинсовой ткани, на глазах темные очки, «фирменные», модные. На шее висел фотоаппарат, под мышкой зажата тренога под него. Ну что ж, ни дать ни взять разухабистый, развязный «киношник» из мелких — ассистент какой-нибудь, помощник режиссера. Натуру для съемок подыскивает. Для начала он неторопливо прошелся по одной стороне, затем по другой, заинтересованно на дома глазея, то и дело экспонометр вынимая, — в роль входил. Потом в «Диету» зашел — чистенький прохладный магазинчик, вкусно пахнущий сыром и творогом; отметил, что тут имеется кафетерий и окно его прямо на ворота нужного двора выходит, — в случае чего можно воспользоваться. Выйдя из магазина, постоял, деловито озираясь, и решительно направился к этому, самому нужному ему дому. Миновал тяжелые, чугунные, тяжеловесные, с незапамятных времен, видать, установленные ворота и очутился в уютном, тенистом, аккуратном дворике четырехэтажного старинного особняка.
Лавочек возле подъездов не было, и это Вадима огорчило. План у него был простой и единственно, как ему казалось, возможный: попытаться заинтересовать, а потом разговорить завсегдатаев подъездных лавочек. Ему почему-то казалось, что именно в таких дворах стариков и старушек, вышедших в полдень погреться и подышать свежим воздухом, должно быть хоть пруд пруди, а здесь никого. Он поморщился недовольно, раздумывая, потер подбородок, повернулся влево, потом вправо и едва сдержал смешок облегчения. Нет, шалишь, брат, — все четко он рассчитал.
Кто-то да должен быть здесь. Вон за кустиками пышными, изумрудными скрытый ветвями густой липы мужчина в очках сидит. Местный? Или так, с улицы зашел, отдохнуть, жару переждать? Поближе подойти надо, рассмотреть повнимательней. Но не сразу. Вадим сначала приблизился к дому, прошел вдоль него, потом отступил на несколько шагов и так голову наклонил, и так, делая вид, чтопримеряется к чему-то, высчитывает, соображает. Потом бочком к кустам подошел, наткнувшись на них, чертыхнулся, обогнул их и оказался совсем неподалеку от мужчины. Улыбнулся, тронул кепку за козырек, сказал любезно:
— Здравствуйте.
— Здравствуйте, — на мгновение скривившись от боли или напряжения, живо отозвался тот и чуть подвинулся, место подле себя высвобождая. И тут только Вадим увидел, что у мужчины нет ноги и рядом на скамейке никелированно поблескивали аккуратно сложенные металлические костыли. Инвалид. Значит, местный скорей всего. Мужчина был молод, худ, бледен, вытянутое лицо обрамляла тщательно выстриженная шкиперская бородка. Он глядел на Вадима с интересом, словно ждал от него чего-то необычного и интригующего.
— Вот натуру для съемок ищу, — как бы оправдываясь, что потревожил мужчину, сказал Вадим.
— Вы из кино? — широко улыбнувшись спросил мужчина.
— Из кино, что на радость нам дано, — с легким самодовольством (как и полагается киношнику) подтвердил Вадим.
— Интересно там работать? — он встрепенулся. — Вы садитесь, давайте поговорим. Интересно работать, да?
— Очень, — улыбнулся Вадим, осторожно кладя треногу и усаживаясь.
— А вы кто, режиссер? Оператор?
— Ассистент режиссера. Я еще учусь на заочном.
— Вы счастливый. Кино — это чудо. Я давно бы умер без кино. Без кино и без книг. И без мамы, — сказал мужчина.
Вадим откинулся на спинку скамьи; чтоб неожиданную растерянность скрыть, провел по лицу ладонью и полез за сигаретами, за спасительными этими палочками-выручалочками. И пока лез, тщетно слова подыскивал, чтобы разговор продолжить, на другую тему его перевести. А мужчина уже смеялся, безмятежно, по-детски:
— Забыл представиться, вот как бывает. Я — Михеев Юрий, Юра.
Вадим замешкался на мгновение:
— Седов Александр, очень приятно.
— Я все подряд смотрю. Все картины и по телевизору, и в кино. В кино мы с мамой ходим. И вы знаете, мне кажется, что я сам могу кино делать. Я его выдумываю, каждый день, и утром, и вечером, и ночью иногда, когда уснуть не могу, совсем-совсем не могу… Когда шум за стеной, когда на улице смеются…
— Вы в этом доме живете?
— Да, в этом, — кивнул Михеев. — А еще я рисую кино.
— Рисуете?
— Ну как вам объяснить. Это не мультфильм, это другое. Ну что воображаю, что фантазирую, что выдумываю, то и рисую, понимаете. Иногда фильм вмещается в один рисунок, а иногда много рисунков надо. Хотите, покажу, принесу сейчас, хотите? — Он коснулся уже костылей.
Вадим смутился, но виду не подал, прокашлял, положил Михееву руку на плечо, по-свойски, по-дружески, улыбнулся как можно мягче, сказал:
— Времени маловато, в другой раз. Я как-нибудь зайду. Хорошо?
И растаяла радость за тонкими стеклами очков, притушился блеск, обмякло лицо, и шея заморщилась вмиг, и, подрагивая, сдвинулись плечи вперед:
— Не надо, — глухо сказал Михеев. — Вы, наверное, думаете: ах, еще один в кино хочет, авось повезет. Нет, не так все. Не в этом дело. Это трудно понять, для этого нужно быть, — он посмотрел на костыли и запнулся. — И рисую я плохо, ужасающе плохо. Я сам знаю об этом, и мама знает, только скрывает. Но я-то знаю. А что я еще могу? Что у меня еще есть? Кино, книги, мама…
— Не так уж мало, — глядя перед собой, сказал Вадим.
— А жизнь? — усмехнулся Михеев.
Вадим не ответил, не очень удачно сделав вид, что не расслышал последние слова. Помолчал, потом отбросил сигарету в сторону, сощурился, будто припоминая что-то, проговорил:
— Знакомый дом, чем больше смотрю, тем больше узнаю. Кто-то из знакомых в нем жил, а кто — не помню. Давно обитаете здесь?
— Нет, четыре месяца. Нас после капремонта второй половины дома заселили.
— Значит, ни с кем не знакомы?
— Ни с кем.
— Вспомнил. Одноклассник мой здесь жил, высокий, белобрысый такой, симпатичный…
— Знаю. Он во втором подъезде живет.
— Ха-ха, видите, какая память. А в какой квартире?
— Не знаю. Просто видел его несколько раз. В подъезд заходил, такой модный, надменный…
— Модный, надменный, — повторил Вадим. — Он всегда таким был. Во всяком случае, казался таким. Но тот ли? — засомневался он вдруг. — Имя не знаете его, не слыхали?
— Не слыхал ни разу. Хотя разов этих было два, три…
— Ну хорошо, пошел я. Не приглянулся мне этот дом. Франтоват, выхолощен. Нам бы попроще чего, подревней, чтоб пригнутым, сгорбленным был, но еще гордым, не сдающимся. Знаете, старики такие бывают? Да… Ежели одноклассника моего увидите, — как бы между прочим заметил Вадим, — не говорите, что со мной знакомы. Я его сам найду. Сюрприз преподнесу, дружили как-никак. Хорошо?
— Конечно. Я его вообще не знаю. И еще неизвестно, тут ли именно он живет. Да и вас-то толком тоже не знаю. Так что не беспокойтесь.
— И чудесно, — сказал Вадим. — А я зайду. Будет время, забегу, — рисунки поглядеть.
— Не надо. Ни к чему. Пообещаете, а я ждать буду, надеяться, а вы не приедете, закрутитесь, забудете. Да и кто я вам и зачем нужен? Такие, как я, нужны только мамам, да и то…
Идите. Прощайте.
— Ну это вы хватили, — Вадим постарался, чтобы возмущение его выглядело искренним. Даже руками резко взмахнул для правдоподобия. — Сильнее надо быть, Юра, поджать себя надо и научиться побеждать уныние, безысходность, страхи…
И осекся, оборвал себя на полуфразе, потому что понял, что не он должен это говорить, кто-нибудь другой, но только не он. Ненавидел всегда тех, кто поучает, правильные слова говорит, а для самих слова эти звук пустой, ни к чему не обязывающий, к самому себе не применимый никоим образом. И вот теперь уподобился им. Скверно.
Он поднялся, подхватил треногу, протянул руку Михееву, пожал ее крепко и пошел к воротам напрямик через кусты, упругие, жесткие, как проволока. Они сердито цеплялись за штанины, пока он продирался, кололись, опутывали ноги, словно не желали пускать. Когда выбрался на асфальт, услышал за спиной голос:
— Я научусь, я буду сильнее, вот увидите.
Что теперь? Ну узнал, что бывает он здесь, а живет ли? Как выяснить? Не идти же в ЖЭК домовые книги просматривать, не дадут, не позволят. Значит, одно остается — наблюдать. Как долго? День, два, неделю, а может, он и месяц не появится. Но все равно попытаться надо, а вдруг, а вдруг…
Магазин вновь встретил прохладой и сырным ароматом, а когда Данин вошел в кафетерий, сказочная кофейная горечь в нос ударила. И тотчас пришел голод, явственно ощутилась пустота в желудке. Вадим встал в очередь. Пока неспешно двигался к прилавку, то и дело поглядывал в окно. Дом будто вымер — никто не выходил со двора, никто не входил… Данин ухватил поудобней треногу, и в ту же секунду кто-то слабо ойкнул сзади. Вадим обернулся, но тренога зацепилась за что-то, выскользнула и рухнула с грохотом. Пожилая худенькая женщина, стоящая за спиной, испуганно завизжала:
— Ой, нога, нога!
— Простите бога ради, — сказал Вадим, поспешно наклоняясь за треногой. Какая-то старушка, кругленькая, чистенькая, стоящая еще дальше, укоризненно проговорила:
— Чего это вы, мужчина, людей своим зонтом тычете?
— Это не зонтик, — запальчиво выкрикнул белобрысый мальчишка лет пяти, сидевший со строгой мамой совсем рядом за столиком. — Это гарпун на кашалотов. Видите, заостренные концы.
— Совсем очумели, — румяная, щекастая продавщица всплеснула руками. — С гарпунами в магазин наладились. У нас нет рыбного отдела, товарищ!
— Хулиган! — пьяно ощерился из дальнего угла зальчика грязно одетый мужчина с жеваным, посиневшим лицом. Возле ножки его стола мутно зеленела на треть заполненная бутылка «Розового крепкого». — В тюрьму его надо.
— Это не зонтик и не гарпун, — сказал Вадим, обращаясь к нему. — Это отбойный молоток. Отбивает желание распивать спиртные напитки в общественных местах.
И Вадим сделал шаг в его сторону. Мужик вскочил из-за стола, насупился, набычился, сжал деревянно сухие, надтреснутые губы, злобненько сверкнул мутными, бесцветными глазками, шевельнул ногой, мятой обтрепанной штаниной укрывая бутылку. И прикосновение к равнодушному стеклу словно сил ему придало, он подобрался весь, уже зная, что ему делать, уже изготавливаясь к защите самого дорогого на свете, без чего и жизнь не жизнь, а так, чертовщина какая-то. И осмелел, ощерился, прошипел с ненавистью:
— Распустились, молокососы, сопляки, закона на вас нету!
Вот это уж совсем не понравилось Вадиму. Побледнел он и, сдерживая мгновенную ярость, развалисто, чтобы все видели, что он спокоен, двинулся к мужику, на ходу недобро процедил:
— Сейчас я разберусь с тобой, юрист!
У того мелькнул испуг в глазах, но исчез быстро, будто чуял он, что без поддержки не останется, что все, кто присутствует здесь, на его стороне. И вправду, не успел Данин дойти до него, как услышал за спиной раздраженный, визгливый голос продавщицы:
— Не троньте его, гражданин, не хулиганьте, он больной…
И через мгновение, обращаясь к алкашу:
— А ты лучше уходи, Ленька, от греха подальше, оштрафуют, а то гляди и в каталажку увезут.
Видно было, что отступать Леньке совсем не хочется, что он бы сейчас еще поговорил, высказал бы непримиримое отношение к новому поколению, тем более что при всех этот шкет в кепке не посмел бы его тронуть. Но, наверное, пользовалась авторитетом у местной братии щекастая продавщица, и поэтому, неприязненно кривясь и опираясь руками о стол, поднялся Ленька, посмотрел под ноги и, качнувшись, потянулся к бутылке. И в это мгновение Вадим, который был уже совсем близко, коротким и точным движением ноги сбил бутылку. Покатилась она, глухо позвякивая по кафельному полу, нехотя посочилась из горлышка красная маслянистая жидкость. За спиной охнули все разом, будто выдохнули, а Ленька и попросту завыл, как подраненный пес, жалобно и свирепо в то же время.
Вадим замер, оторопев на секунду. Что стонет этот поистертый, поизмятый мужичишка, что убивается, или припадок у него, язва, сердце схватило? Неужто из-за бутылки так горестно ему стало? Надо же, гляди, как скрутило, прямо перекорежило всего от широких косолапых ступней до лысеющей макушки. Ненормальный, или последний из алкогольных могикан?
— Я же говорила тебе, черт лохматый, что он больной! — с негодованием выкрикнула продавщица. — Припадочный он!
«Зачем? — вяло подумал Вадим. — Зачем мне это надо? Ведь не хотел скандалить. Пугнуть хотел, и все. И для чего бутылку сбил?»
И вдруг разом успокоился Ленька, поутих, пообмяк, устало по глазам провел и, пошатываясь, как слепой, побрел к выходу.
«Зачем?» — опять подумал Данин.
У дверей Ленька приостановился, обернулся, вытянул корявый палец в сторону Вадима, проговорил злобно, с придыханием:
— Еще встретимся, посчитаюсь я с тобой, падаль!
Вадим ухватил треногу правой рукой, потянул из-под мышки и качнулся к Леньке, но тот уже проворно скрылся в дверях.
Очередь презрительно сверлила Вадима взглядами, когда подходил он к прилавку, и явственно читалось в глазах: справился здоровый балбес с убогоньким, пожилым и больным, нашел перед кем ухарство свое показывать. И кто воспитывает таких? Пить преступно — это верно, а может, он помрет без этого. Но все молчали, щекастая продавщица молчала, и когда кофе ему наливала и сосиски в тарелку клала, но вот только в самый последний момент не сдержалась, бумажную упаковку с сахаром швырнула так, что она слетела с прилавка и шмякнулась об пол у ног Вадима.
Данин поднимать сахар не стал, усмехнулся только и пошел к столику. Кто-то сказал ему в спину: «Нахал».
Только устроился за столиком у окна и едва успел треногу и фотоаппарат на стуле аккуратно уложить и мельком на улицу взглянуть на дом — там все так же пустынно было, — как тронул его кто-то за руку, невесомо и осторожно, словно прохладный ветерок разгоряченной кожи коснулся. Уже готовый к новому отпору, Вадим неспешно повернул голову и выдохнул свободно, и улыбнулся. Мальчишка рядом стоял, белобрысый, глазастый, легонький, тот самый, что треногу за гарпун принял. Высокомерная длиннолицая мама крикнула ему, вскипая:
— Митя, иди сюда, иди к маме, я тебе говорю!
Но сама не встала, не подошла, не взяла мальчишку за руку, осталась сидеть, натянутая, прямая, недовольно буравя мальчишку и Вадима, ожидая от сына исполнения приказа.
— Сейчас, мама, — вежливо ответил мальчишка, не оборачиваясь, и смело посмотрел Данину в лицо. — А это правда гарпун на кашалотов?
— Что гарпун — правда, — сказал Вадим серьезно. — Но только не на кашалотов, а на акул. Сразу трех акул можно им загарпунить…
— Что вы ребенку голову морочите? — опять подала голос мама.
— А вы ловили акул? — спросил мальчишка, вытягиваясь и завороженно глядя на Данина.
— Ловил.
— А они страшные?
— Не все. Я знал одну очень добрую акулу. Однажды мы охотились на них в Карибском море, это такое море между Северной и Южной Америкой. В давние времена оно кишело пиратами, как теперь акулами. Так вот во время охоты я поймал вот этим гарпуном маленького акуленка. Он был такой беспомощный, такой жалкий, что мы решили его не убивать, хотя из него могла вырасти очень злая и жестокая акула. Но все равно никто не решился его убить. Мы сделали для него бассейн на корабле, подлечили его, и когда он совсем стал здоровым, выпустили в море. Очень долго он плыл за кораблем, прощался с нами, а потом отстал. Рыбаки нам рассказывали потом, что у побережья появилась удивительная акула, она спасает тонущих, отгоняет от одиноких лодок стаи своих сородичей, показывает дорогу заблудившимся кораблям. Понимаешь, эта акула ответила добром на добро. А ты можешь представить себе, как ей было страшно идти против своей кровожадной стаи? Другие акулы ведь могли съесть ее, но она не испугалась, потому что ею руководила благодарность, ею руководила совесть…
— Ну это вы загнули, гражданин, — надменно усмехнувшись, заметила мама. — Какая у акулы совесть?
«И верно, загнул, — улыбнувшись про себя, подумал Вадим, — про совесть акулью точно загнул».
— Все, хватит, Митя. — Женщина не выдержала, встала, потянула за собой сумки. — Довольно слушать всякую белиберду. Пошли.
— А она еще живет? — едва слышно спросил мальчишка и сжался в ожидании ответа.
— Не знаю, — сказал Вадим.
— А может, ее убили?
— Может быть.
Лицо у мальчика съежилось, глаза повлажнели, заблестев.
— Никогда не буду охотиться на акул, — прошептал он.
Женщина, негодуя, схватила мальчика за руку, дернула на себя, процедила, недобро глядя на Вадима:
— Довели ребенка до слез, как вам не стыдно!
Вадим улыбнулся, подмигнул мальчику и принялся за остывший кофе. Митя нехотя побрел за мамой к выходу, у дверей он обернулся и помахал рукой. Вадим допил безвкусный напиток, посмотрел в окно, затем оглядел зальчик. Все теперь взирали на него с сочувствием, его простили и даже больше того — пожалели. Неужели для того, чтобы снискать людское сочувствие, надо оказаться слабым и побежденным — неважно, какой ты на самом деле, хороший или дрянной, главное — слабым и беззащитным? Он скоро собрался и, не глядя ни на кого, вышел из магазина.
Часа полтора он еще просидел на лавочке в крохотном тенистом скверике чуть наискосок от предполагаемого дома Лео, пристально наблюдая за воротами. Но тщетно, знакомых лиц он так и не углядел. Потом вдруг стало прохладно, и он решил оставить свой пост до завтра.
А вечером был разговор с женой, бывшей женой. Такой же разговор, как и прежние, за этот неполный год со дня их развода, вяловатый, бесстрастный, ни о чем, обыкновенная телефонная беседа хорошо знакомых, но не близких людей. Позвонила она. Впрочем, как правило, она всегда звонила сама. Он набирал ес номер редко, только для того, чтобы узнать, как дочь и когда можно Дашку увидеть. Зачем она звонила? Раньше якобы всегда по делу, умело отыскивая различные поводы и причины, а в последнее время просто так: «Ну как дела?» И уже не стеснялась, как раньше, что звонит просто так, без дела. Говорила всегда то равнодушным, то излишне веселым тоном, иной раз как бы между прочим, как бы в шутку интересовалась, не завел ли кого он себе, не влюбился ли и, когда он, усмехаясь, неопределенно отвечал что-то, сама же себе и отвечала: «А собственно, кто еще тебя такого с твоим скверным характером полюбит!» Так, поразвлекаются, парень ты, мол, интересный, неглупый, и все. Мол, только я тебя и могла терпеть. Поразительная самоуверенность. Хотя и говорилось все это в шутливой манере, он знал, что она искренне убеждена в этом. Смешно. О своей личной жизни сообщала только намеками, мол, кто-то там есть и этих «кого-то» много — сразу и не выберешь. Присочиняла, наверное, а может, и нет, — женщина-то она красивая. А впрочем, ему было все равно, ну совершенно все равно. Он даже удивился, как ему все равно и как скоро он это почувствовал. В конце разговора сообщила, что послезавтра уходит в отпуск и неделю будет в городе, и если у него будет время, он может сколько угодно гулять с Дашкой — послезавтра в сад она уже не пойдет.
Положив трубку, Вадим вдруг почувствовал острую жалость к себе. И не только разговор этот поводом послужил, нет. Вся жизнь показалась ему какой-то темной, унылой, пугающей и в общем-то никчемной. Но совсем немного времени прошло, и сумел-таки он притушить и тоску безотчетную, и жалость эту дурацкую. Поужинал, принял душ и завалился спать.
Весь день проторчал в городской библиотеке. Для того чтобы писать о Румянцеве, нужно было почувствовать аромат того времени, вникнуть в его атмосферу, уловить температуру отношений между людьми той эпохи. И еще нужны были детали, как одевались, что ели, на чем ездили, сколько платили, как квартиры обставляли и т. д. и т. п. Много надо было знать, и он узнавал. Читал, практически только читал, лишь изредка делал заметки для памяти. Читал все подряд: книги, журналы, воспоминания современников.
Одуревший и туго соображающий, к семи часам выбрался наконец на улицу и спохватился тут же: ведь сегодня он хотел понаблюдать за тем домом, где бывал Лео. Побежал на автобус, но ни в первый, ни во второй не влез — плотными, без единого просвета и трещинки толпами втискивались уставшие люди в кренившиеся к тротуарам автобусы. Конец рабочего дня. Час пик. Отчаявшись, Вадим взял такси, и то с трудом — охотников было предостаточно. Откинувшись на расхлябанную, непрочно зафиксированную спинку сиденья, сказал шоферу: «Быстрее. Спешу!» А когда замелькали стремительно справа и слева люди, дома, машины, лениво подумал вдруг: «Куда спешу? Почему быстрее?…»
Вышел из машины в начале переулка, не доезжая до нужного дома примерно квартал. Уже шагая по тротуару, посмеялся невесело над собой — не отдавая отчета, машинально поступил, как герои милицейских книг: покинул «оперативный» автомобиль за квартал до «объекта». Надо было бы еще пару-тройку такси сменить, каждый раз называя другие адреса, прежде чем сюда добраться, совсем было бы весело. Конспиратор.
Без маскировки сегодня был, без кепки длинной, без очков, без треноги. Вспомнив вчерашние свои переодевания, опять посмеялся, таким нелепым и наивным показался ему вчерашний маскарад. И впрямь Шерлок Холмс доморощенный. Проходя мимо остывающих от дневного солнца витрин магазина, отвернулся автоматически, чтобы не узнала его вчерашняя продавщица, углядев знакомое лицо через стекла, хотя, наверное, наплевать ей на него, и забыла она уже о вчерашнем происшествии, но все равно не хотелось Вадиму привлекать ее внимание. Жаль, конечно, хорошее место для наблюдения было, а впрочем, долго там не просидишь — это же не ресторан или кафе, так, экспресс-закусочная. Так что на лавочке в крохотном зеленом сквере удобней.
Аккуратненький, неприметный, тесно вжатый меж крепких приземистых трехэтажных купеческих домов, скверик был пуст, тих и прохладен. Ну просто самое что ни на есть подходящее место для неспешных раздумий и размышлений, для принятия основательных решений, для благостного и умиротворяющего уединения. А вот думать как раз и не думалось, никак. Ни с сигаретой, ни без сигареты; и как ни садись — так или эдак, ногу на ногу положив или откинувшись на сухо поскрипывающую спинку. Не думалось, и все тут. Ни единой не было мысли, и ухватиться не за что было. Пусто. Непривычно пусто. Пугающе пусто. Устал. Или нет, скорее для другого дела уже изготовился, подобрался в ожидании. Потому что понял вдруг в какой-то неуловимый миг, что произойдет сегодня что-то, хорошее или плохое — неведомо, но произойдет.
Через час напряжение спало, и действительно прошла усталость. От курения першило в горле и горчил язык. Потом северный ветер принес прохладу, в одночасье выстудил пальцы, будто вовсе и не лето, а поздняя осень, а потом захотелось есть, и настроение испортилось вконец… А потом он увидел Можейкину, понурую, вялую, посеревшую, унылую, как старушка, одетую, поддерживаемую под руку мужем-доцентом Борисом Александровичем, теперь уже не вкрадчивым, не опасливым, не угодливо сутуловатым, а крепким, уверенным, надменно-брезгливо на жену глядящим. Казалось, жестко прихватив женщину за локоть, он волочил чуть не падающую женщину за собой. После девяти переулок обезлюдел, и некому было обратить на них внимание, кроме самого Вадима. И только сейчас он сообразил, что вышли они именно с того самого двора. У кого же они там были? Неужто у Лео? У знакомых его? Или просто случай, совпадение — обычное дело, повеселились немного в гостях и пошли домой? Интересный домик, занятный домик. Вадим приподнялся было, но остановился тут же. Сперва обдумать надо, как быть, — слишком уж неожиданно все. Подойти к ним, спросить, где они были? Глупо. Посмеются и пошлют его куда подальше. Идти за ними. Да он и так знает, где они живут.
Но вот подошли они к машине, к синим новеньким сверкающим «Жигулям», что в нескольких десятках метров от дома к бордюру тротуара притерлась, уселись в нее — Можейкин поспешно, чуточку суетясь, Можейкина, казалось, нехотя и недоуменно, упираясь даже, как капризничающий ребенок, — и решилась для Вадима задача его нелегкая, как быть, — рокотнула машина, как зверь голодный, рванулась лихо и помчалась по мостовой, нарушая недвижность и тишину переулка. Так у кого же они были все же? У Лео? Или в гостях у посторонних совсем людей? И что это даст в конце концов, если он узнает, к кому они приходили? А даст то, что станет ясно, что муж — доцент Борис Александрович в курсе дела. Значит, договорились, полюбовно все решили. И из-за чего же тогда весь сыр-бор он, Вадим, затевает? Не из-за чего. Теперь просто дознаться надо, у кого Можейкин здесь был. И вообще разобраться во всем, а то совсем запутался. Понять, каждому фактику свое место найти, иначе скверно будет, неспокойно, муторно, давить что-то непонятное будет, изводить, мучить. Он себя знает, не первый год к себе приглядывается. «Как чудно сказал, к себе приглядывается», — машинально отметил Вадим. А для этого крепко подумать надо, очень крепко. Вот сиди сейчас и думай, пока в состоянии таком возбужденном пребываешь, пока остро и ясно так все ощущается. Он поежился, совсем зябко стало, и курточка не спасала, хотя раньше и в осеннюю непогодицу никогда он не мерз в ней, а сейчас вот… А может, плюнуть на все и махнуть домой? Он-то здесь при чем, ему-то что надо? Живи спокойно, приятель, работай в удовольствие, развлекайся, люби, радуйся. Жизнь-το, она одна и такая короткая. «Вот покурю сейчас и пойду, — подумал, — успокоюсь и пойду». Вынул сигареты покрасневшими пальцами, с трудом закурил на ветру. Чертов климат, днем, как в Сахаре, к ночи по-северному выстуживается все. С рождения живет здесь, а привыкнуть не может.
А вот это уже совсем интересно! По другой стороне улицы, по тротуару, бодро и весело вышагивали двое. Вадим узнал их сразу, как только показались они из-за угла. Долговязый в кепке из кожзаменителя, чуть склонившись вбок, что-то рассказывал второму, черненькому, модненькому, в яркой курточке, белых кроссовках — «курьеру». Куда они шли, Вадим уже знал наверняка. Уж слишком все закономерно для случайного совпадения. Раз и эти персонажи на сцене появились, то направлялись они непременно в этот самый занятный дом. Теперь только не упустить их, успеть посмотреть, в какой подъезд они войдут, в какую квартиру. Сложно это будет, но надо, очень надо. Знобкая дрожь внутри, появившаяся после того, как Дании увидел их, унялась. Страха не было и вовсе, он не успел родиться, времени не было, или просто его перекрыли непонятно откуда взявшаяся злость и легкое возбуждение человека, долго настраивавшегося и уже изготовившегося к действию. Вадим был спокоен, собран, решителен. Парочка свернула во двор. Вадим, пригнувшись, чтобы ветви не били по лицу, бесшумно выскользнул из скверика, пересек мостовую, мягко и скоро ступая, дошел до ворот, огляделся по сторонам, — поблизости никого, только далеко, в начале переулка, маячил женский силуэт — и, осторожно высунувшись из-за кирпичной тумбы, осмотрел двор. «Кепка» и «курьер» уже входили в подъезд. Дверь пискнула и закрылась. Вадим стремительно пронесся до подъезда, остановился, прислушиваясь, чертыхнулся, добротно раньше подъезды мастерили, тамбур метра три, двери в три пальца толщиной, плотно, без щелочки к косякам пригнанные, — ничегошеньки не слышно. Значит, внутрь войти надо, посмотреть, в какую квартиру они постучатся, или по слуху хотя бы определить, на каком этаже они, с какой стороны лестничной площадки — слева, справа.
Первым делом тихонько и медленно приоткрыть, чтоб не визгнула, не скрипнула, не дай Бог, теперь вторую, эта попроще, полегче, из новеньких. Вадим замер, повел головой. Донесся звук шаркающих, неспешных шагов. Так, еще поднимаются, значит, на третий, последний этаж идут. А квартира? Какая квартира?! По-кошачьи невесомо, на цыпочках преодолел он один пролет, второй, третий, опять застыл, затаив дыхание. Шаги наверху оборвались. Стало тихо до звона в ушах, только едва различимо где-то мурлыкала музыка и мягко бились мухи об оконное стекло на площадке. Или это ему казалось? Почему эти двое не звонят в дверь? Чего ждут? Хоть подали бы голос. Вадим оттолкнулся от стены, сделал шаг к перилам, вытянул шею, взглянув наверх в лестничный пролет и увидел сощуренные глазки «кепки». Тот смотрел на него сверху, и можно было дотянуться рукой до него.
— Это он, сука! — приглушенно процедил «кепка». — Я же говорил, кто-то топает за нами. Давай вниз!
Голова исчезла, и дробно застучали две пары каблуков по ступеням. Вадим стремглав скатился с лестницы, неестественно высоко подпрыгивая, промчался еще по трем пролетам, не удержавшись, по инерции врезался с грохотом в подъездную дверь, настежь распахнув ее. Снабженная крепкой пружиной, она с силой потянулась назад и с размаху больно ударила Вадима по щиколотке. Снова дверь, и он на улице. Двор остался позади, теперь направо по переулку, к центру, к людям. Вадим коротко оглянулся. Парни, набычившись, неслись метрах в тридцати.
Держатся неплохо, часто им, видать, бегать-то приходилось, догонять, вот как сейчас, или убегать? Убегать, конечно, чаще, и во сне, и мысленно, и наяву, такие, как они, всегда, от кого-то убегают, всегда в постоянной готовности бежать. Ну и черт с ними, тренированными, их ненадолго хватит вот в таком темпе держаться, наверняка подорвано у них сердчишко-то водкой и куревом. Так, переулок кончается, теперь, чтобы путь к многолюдным улицам сократить, через пустырь надо, направо. Ширкнули кусты, цепляясь за брюки, бумажно прошелестела листва на обвислых тяжелых осиновых ветвях — и вот он, пустырь. Не совсем пустырь, правда, посреди почти до основания разрушенный дом стоит, чуть поодаль деревянные сараи, уже покосившиеся, а вокруг в радиусе метров сто, совсем пусто. Дома в отдалении, огоньки, темные очертания деревьев и кустарника. Вадим прибавил ходу, опять обернулся. Ты смотри, не отстают «бегуны», держатся! Ну-ка, еще подбавим, недолго осталось, скоро шумные центральные улицы, а там и милиция… Поравнявшись с сараями, Вадим снова глянул через плечо. Ну вот и хорошо, отстают мальчики, кончился запал. Краем глаза Вадим уловил движение возле сарая. Кто здесь может быть? По нужде кто завернул или просто свежим воздухом перед сном дышать вышел? Длинная тень отделилась от одного из сараев, метнулась навстречу Вадиму. В полутьме угасающего дня различил он знакомое лицо, но не успел вспомнить, кто это, — до высверка в глазах что-то больно ударило его по ногам, и он упал, но поднялся мгновенно. Ноги саднило, в рот забился песок. Он сплюнул, быстро взглянул на неожиданного противника и вот теперь узнал его. Ленька. Тот самый больной из кафетерия. Он стоял, чуть согнувшись, широко расставив ноги, а в руках его белела узкая доска метра два длиной.
Ей-то он и двинул Вадима по ногам. Подонок. И откуда он здесь взялся?
— Встретились все же, — нетвердо, со всхлипом проговорил Ленька, шмыгнул носом и добавил, глупо хихикнув: — Ща тебе разделаю, падлу! — Его повело в сторону вместе с доской, но он удержался. — Будто кто-то потянул меня сюда… Есть Бог!
Ладно, с тобой мы потом разберемся, а теперь бежать, мордовороты эти совсем близко. Два десятка метров до них, кряхтят, трубно, прерывисто дышат, будто у самого уха уже; грузно по-слоновьи вбивают ноги в песок. Вадим повернулся сноровисто, сделал несколько стремительных пружинистых шагов и застыл, будто в стену уперся, внезапно вдруг подумав: а почему он, собственно, убегает? Струсил? Испугался двух не особо крепких мерзавцев? Почему он бежит, поджавши хвост как заяц? Не оценил ситуацию, не разобрался, что к чему, а кинулся сломя голову прочь. Трус, конечно же, трус. Вадим круто развернулся, встал в привычную стойку и встретил «курьера» хлестким ударом ноги в голову. К великому Вадимову удивлению, тот ловко и умело увернулся, и ступня Вадима просвистела мимо его уха, в свою очередь, «курьер» отработанно выкинул правую ногу вперед, и Вадим согнулся от боли в паху. Профессионал. Справа почти в метре заметил «кепку» и тут же с силой отбросил от себя правую руку и костяшками кисти угодил «кепке» в нос. Тот завыл истошно и присел на корточки. «Курьер» выругался, встряхнул руками, сбрасывая напряжение, и медленно стал приближаться. По мере того как приближался, принимал фронтальную стойку.
Вадим ждал, напружинившись, собравшись, зорко наблюдая за каждым движением «курьера». Почти невидимо взметнулась нога. Вадим отбил, с трудом отбил, почувствовав острую, сильную боль в локте. Еще удар, он нырнул вбок и, в свою очередь, попытался дотянуться кулаком до «курьера». Удалось, не сильно. «Курьер» отскочил. Крепкий, обученный малый! «Не справлюсь ведь, — подумал Вадим и спохватился. — Вот считай, уже и проиграл, раз так подумал, ч-черт!» Удар по затылку был точный и аккуратный, падая, Вадим невольно полуобернулся и мельком увидел окровавленное, но ухмыляющееся лицо «кепки». Кто-то вскрикнул придушенно: «Ой, убивают, господи!», это Ленька, наверное. А потом Вадим стал проваливаться в пустоту.
Очнулся быстро через две-три секунды.
— Оклемался, — сказал кто-то. Голос был приятный, чуть надтреснутый. — А если бы убил, балбес? Камень не кулак.
— Так ему и надо, — отозвались обиженно. — Весь нос расхреначил.
— Это не работа, дурак.
— А если бы он тебя?
— На-ка выкуси, за себя беспокойся. Ладно, сколько ты этому алкашу дал?
— Четвертной.
— Смотри, если он вякнет где что…
Вадим напрягся, оттолкнулся локтями, встал на четвереньки, поднялся, но не так спешно, как хотелось бы, голова раскалывалась, перед глазами плыли цветные пятна. Его снова сбили с ног и молча, посапывая, принялись дубасить ногами. Сначала было больно, потом стало горячо, во всем теле, в голове, и над глазами что-то начало лопаться. Словно сквозь вату услышал.
— Брось ерундой заниматься, сявка, брось в сыщиков-разбойников играть. По-доброму тебя просили. Брось. Забудь обо всем. На перо нарвешься, не рад будешь… Пошли, камне — метатель.
— А можь того… бабки у него в карманах?
— Пошли, сказал…
Глуховато и отрывисто скрипнул песок под ногами, и растаяли скорые шаги, и стало тихо. А он лежал, не шевелясь, и даже не подумал, что надо подняться, что надо встать и идти, даже глаз не открыл. И совсем не боль мешала ему, хотя все тело была сплошная боль; и не обида, что так по-дурацки, так нелепо все вышло, что по-школярски наивно он действовал, что практически без схватки проиграл этот бой, не драку, а именно бой от начала до конца. Усталость ему мешала, самая обыкновенная усталость. Отползти бы сейчас куда-нибудь в уютное теплое местечко, в мягкую душистую траву и лежать без движений сутки, двое, трое, и чтоб не искал его никто, а если бы и искали, то не нашли, и чтобы не видеть никого и ничего, только звезды, только солнце, только небо черное, или голубое, или облаками увешанное. И замечательно, если б не думалось, чтоб голова была легкая и свободная, а если бы и приходили мысли — то простенькие, безмятежные, розовенькие, как в детстве…
Закряхтели, заныли подгнившие стены сараев, жестяно грохотнула разболтавшаяся крыша на доме, громким шепотом заговорили деревья вдалеке. Ветер. Упругий студеный поток воздуха обжег руки, лицо. Разгоряченное тело выхолодилось враз, и Вадим почувствовал, что дрожит. Дрожали и руки и ноги, дрожало внутри, дрожали голова и шея, и пересохло во рту, даже пропал тошнотворный привкус крови, и занемели губы… Надо идти. Надо пересилить себя, встать и идти. Ломало, словно по частям, он поднялся, постоял с закрытыми глазами, массируя осторожно затылок, и пошел, неуклюже ступая негнущимися пудовыми ногами. Через сотню метров стало легче, затылок перестал пульсировать, пришла тупая, но терпимая боль, и шаги сделались тверже, уверенней. Огни широкой улицы ослепили. Как в тумане, вышел он на край тротуара и вытянул руку.
А в институте все как и прежде, никаких изменений, важных, решающих, никаких случаев непредвиденных, непредусмотренных, незапланированных, никаких катаклизмов. Те же дела, те же заботы, те же разговоры, те же споры, те же ссоры, симпатии и антипатии. И ведь знаешь всегда, когда уезжаешь в отпуск или командировку, что вернешься, и все будет точно так же, как и было, умом понимаешь, а вот все равно чего-то ждешь, нового, неожиданного, значительного — вдруг по-другому к твоему приезду все повернулось, вдруг глаза у людей огнем зажглись, и перестали они с мелкими, незначительными заботами своими носиться. Взрыва ждешь, всплеска решительного, поступков. И хоть все прекрасно понимаешь, все-таки чуточку разочаровываешься, что ничего, что бы из тисков обыденности вырвалось, не произошло, тем более, когда у тебя самого… А может, и хорошо это. Войдешь в привычный знакомый ритм, навалится на тебя повседневная гонка, и забудешься, и отвлечешься, а когда вдруг остановишься, заглянешь в себя — и не таким уж серьезным и пугающим все покажется, и быстрее решение найдешь.
Пока шел по широкому светлому вестибюлю, пока в лифте поднимался, пока по коридору вышагивал, кто-то улыбнулся ему открыто, искренне, с доброй иронией о синяках осведомился, крепко руку пожал, полуобнял, сострив удачно или неудачно, — таких меньше; а кто-то кивнул сдержанно, кто и не заметил вовсе — таких больше, как и положено. Обычное дело. Коллектив. Перед дверью в свою комнату с запоздалым сожалением подумал, что всем: и тем, кого меньше, и тем, кого больше, отвечал он как-то по обязанности, что ли, скованно, нехотя, да и толком-то не различил, с кем здоровался.
А впрочем, неважно. Наплевать ему на них на всех. Кто они ему? Толпа!
Высветилось на миг лицо у Марины, когда она увидела его, и притухло тут же, будто усилием невероятным уняла она радость, только щеки продолжали гореть. Она улыбнулась болезненно, кивнула радушно, удивленно приподняла брови на миг, разглядев повнимательней его лицо, но не спросила ничего, оставив расспросы на потом или вообще решив ничего не выяснять. Зато Левкин загрохотал без стеснения: да что такое? Да что с тобой? Хулиганы? Бандиты? Или с поезда упал? Или от чужой жены в окно сиганул? Аль за честь дамы вступился? Рыцарь ты наш.
Посыпались звонки, частые заходы ухмыляющихся коллег, уже наслышанных о его помятой и побитой физиономии, — это же так интересно, хоть что-то случилось, есть повод для разговоров и предположений. Потом перед самым уходом на обед его вызвал Сорокин. Чистенький, выглаженный, он пристально взглянул на Вадима, непроизвольно дернув верхней губой, сухо и коротко поговорил с ним о совсем незначительных делах и отпустил. Выйдя из кабинета, Вадим только пожал плечами: зачем вызывал, разве что только для того, чтобы полицезреть его затушеванный синяк и вспухшую губу? В столовой он встретил предместкома Рогова. Всегда радушный и так искренне расположенный к Вадиму Рогов на сей раз мгновенно отвел взгляд и ограничился едва заметным кивком. Непонятно. А к концу рабочего дня и безразличие, и подавленность, и унылость понемногу исчезли. Мир окружающий краски обретать стал, Вадим похохотал даже, когда Левкин анекдот ему какой-то глупый рассказал. И вчерашний день в памяти как-то скомкался, уменьшился, спрессовался и не таким уж мерзким теперь казался — что ж, всякое бывает в жизни, что убиваться-то. Бессмысленно. Нецелесообразно. Решить он ничего не решил, да, собственно, и не хотел решать, и думать даже ни о чем не хотел. И он наваливался на эти мысли, уминал, с силой отталкивал тяжелый их груз подальше, подальше…
Поднимаясь неторопливо из канцелярии к себе на этаж, на площадке пролетом выше услышал голоса, женский и мужской. Женский — резкий, злой, мужской — тихий, оправдывающийся. Марина и Рогов. Вадим остановился прислушиваясь: понял, речь идет о нем. Марина говорила, едва сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик. Говорила про Сорокина, мол, как он смеет, кто он такой — и не ученый и не руководитель, так, мыльный пузырь, как он смеет клеветать на самого способного и умного во всем этом здании человека, Данина? Так мы каждого очернить можем. Надо же, придумали. Данин — пьяница, аморальный человек, буян, и к таким надо самые строгие меры принимать. Это еще доказать надо, что Данин выпивает, и откуда это, собственно говоря, взяли? Потому что синяк у него? Да бог мой, упал, расшибся, с кем не бывает. Робко подавал голос Рогов, мол, я все понимаю, Мариночка, мне не надо ничего объяснять, но такой у нас начальник, ему и доказательства не нужны, вобьет себе в голову что-то и свято верит в это. Мы-то, конечно, защищать Данина будем, на то и профсоюз…
Вадим нарочно громко застучал каблуками по ступенькам, голоса стихли, и, когда он добрался до площадки, Марина и Рогов мирно курили, поглядывая в открытое окно. Рогов опять, как и в столовой, отвел взгляд, но, коротко посмотрев на Марину, спохватился, повернулся к Данину, улыбнулся вымученно. Женщина затянулась очередной раз, поперхнулась — курила она редко, — закашлялась, смущенно постучала себя по груди, бросила, ни к кому не обращаясь: «Пора собираться» — и шагнула к лестнице. Вадим молча смотрел ей вслед. Красивая она все-таки и идет красиво, теплеет на душе, когда смотришь на таких женщин. Почему раньше не замечал красоту ее? Раньше и вообще много не замечал. Раньше. А когда это раныпе-то было? Три недели назад? Месяц?
— Здесь такая вышла, значит, история, Вадим, — подбирая слова, осторожно заговорил Рогов. — Мне попало за вас. Но вы не подумайте ничего такого, я не за себя волнуюсь, всякое, знаете ли, переживали. Все это не так страшно. А попало вот за что. Во-первых, за то, что решили как бы на тормозах все спустить и не разбирать вас на профкоме по поводу истории с Кремлем. Сорокин настаивает на суровом наказании. Не забыл. Во-вторых, за то, что я отпустил вас в отпуск; ну мои проблемы мелочи, разберемся. С вами посложней. Он, знаете ли, вам аморальное поведение в быту приписывает.
Вадим усмехнулся. Все одно к одному. Цепочка. Друг за дружку дела да случаи цепляются. И сейчас он даже не расстроился, и сам себе удивился, что никаких эмоций не испытал.
— Основания? — спросил он.
Рогов скривил губы и пожал плечами:
— Он просто мне сегодня сказал: приглядитесь, мол, к Данину, неправильный он человек. С женой не живет, ребенка бросил. Работник ленивый. Есть сведения, что выпивает, буянит. Но это, мол, проверить надо. Понимаете, какая штука? Все это было бы ерундой и чушью, если бы это говорил не Сорокин. Вы ведь его знаете. Он на полпути не остановится, будет копать. Но не отчаивайтесь. Мы вам поможем, даю слово. Я не верю во все это. А мы сила — профсоюз. И люди вас знают, и, — он запнулся на миг, — уважают, и работник вы все-таки неплохой.
Вадим, в свою очередь, пожал плечами, махнул рукой и ступил на ступеньку.
— Я поговорю с кем надо, — в спину уже сказал ему Рогов.
Проходя по коридору, Вадим подумал вдруг с улыбкой: «Маринка-то как меня защищала, как тигрица».
В комнате ее уже не было, стол был чист и прибран, и сумка не висела на спинке стула — значит, ушла. Вадим взглянул на часы — шесть. Пора и ему домой. Хрипловато забормотал телефон — опять кто-то приглушил звонкий его голосок. Вадим снял трубку, и обвалом обрушилось на него:
— Вадим, милый, приезжай скорей, несчастье у нас, такое случилось, такое… — Ольгин голос бился в трубке надсадно, надрывно, то срывался на крик, то на стон похож был, то на звериный рев. И еще слезы, слезы мешали говорить. Вадим, казалось, видел, как крупно и обильно текут они по щекам, видел влажное, потемневшее, обострившееся лицо бывшей своей жены. — Дашку, доченьку мою, забрали, Дашку украли… Они в машину ее — и увезли… мне девочки рассказали, я ее одну на десять минут только оставила, на десять минут… Ну кто-нибудь помогите, помогите…
Вадим ладошкой прикрыл глаза. Свет мешал ему, он слепил, он бил под веки.
— Успокойся, Оля. Это кто-то пошутил, из знакомых, слышишь, кто-то пошутил, — Вадим говорил с усилием, но отчетливо и спокойно. Сейчас надо быть спокойным, сейчас очень важно быть спокойным. — Я скоро буду, жди. И не делай глупостей. Это кто-то из наших так жестоко решил нас с тобой разыграть. Поняла? Какая машина? Цвет?
— Не… знаю… девочки не запомнили… светлая.
— Марка? Ну быстро, быстро!
— Ну не знаю, Вадик, не знаю, откуда…
— А девочки, что девочки говорили, неужто не заметили, какая машина? Где они? Ушли? С тобой?
— Одна здесь, Леночка здесь… Ах, господи, Вадик, какое это имеет значение, марка не марка… Дашенька…
— Имеет, Оля, имеет, — терпеливо, донельзя, до боли внутренней сжимая себя, говорил Данин.
И услышал вдалеке сквозь помехи тонкий детский вскрик:
— Зигули, Зигули…
— Все, — сказал он. — Еду.
Рука метнулась к аппарату, притопились рычажки, и вслед за этим резко и недовольно завертелся диск под срывающимися пальцами.
— Милиция? Моя фамилия Данин, двадцать минут назад из двора дома украли мою дочь. Машина«Жигули», светлая. Больше никаких примет нет. Адрес…
После бешеной уличной гонки, после бестолковой автобусной толкотни, после того, как разгоряченный, задыхающийся, едва сдерживающий дрожь, влетел он в подъезд, встретивший его сумраком и прохладой, и стремглав по крутым лестничным маршам одолел четыре этажа. У квартирной двери вдруг замер, дыша тяжело и порывисто. Передохнуть надо было секунду, в себя прийти, уверенный, спокойный вид принять. И надо было уже позвонить, но рука не захотела подниматься — хоть лбом в звонок тыкайся, благо вот он на уровне глаз прямо. Грузными, негнущимися руки стали. И охватил на мгновение страх: «А вдруг отнялись!» И тут же чертыхнулся, злясь на себя, на мнительность свою; нервно головой дернул, потянулся к звонку, надавил с силой на кнопку…
Некрасивым, съеженным, старым увиделось Ольгино лицо. Слез в глазах не было, и щеки сухими были, даже горячими на вид. Но все равно казалось, что она плачет, беззвучно, бесслезно, но плачет. Она выдохнула со стоном, когда его увидела, взяла крепко за руку, повела в комнату, тихо опустилась на диван, рядом с длиннолицей, испуганной, прозрачно-худенькой девчушкой лет шести и сжалась, вобрав голову и сведя плечи вперед.
— Это Леночка, — почти весело сказала она, улыбнулась болезненно и вмиг захлебнулась будто, и смялось ее лицо, собралось морщинками, и она заплакала, всхлипывая и подрагивая головой. И совсем ни к месту он вспомнил вдруг, как вот точно так же, привычно и совсем не жалко, плакала она, когда по телефону ее родители сообщили, что пропала их собака, убежала куда-то утром, а к вечеру так и не вернулась. Она металась тогда по квартире, неестественно скривив рот, обливаясь слезным потоком, и подвывала тонко: «Альмочка моя, Альмочка любимая, бедненькая, где же ты…» А потом оделась стремительно и, ни слова не сказав ему, удивленному неожиданной такой реакцией на пропажу собачонки, выбежала из дома искать Альму, забыв даже захлопнуть дверь. Собака потом нашлась, сама прибежала под утро, к великой радости ее хозяев, все обошлось. И вот сейчас так похоже… Вадим поморщился, сказал с нажимом, не глядя на женщину:
— Прекрати, Ольга, я позвонил в милицию, все будет в порядке…
— Милицию? Зачем милицию? — Женщина вскинула мокрое, покрасневшее лицо. — Значит, ты думаешь, что ее и вправду?..
И теперь зарыдала по-настоящему, вскрикивая и раскачиваясь из стороны в сторону.
Вадим опустился перед женщиной на колени, погладил ее по голове, поцеловал волосы, висок, прижался к пальцам ее похолодевшим:
— Хватит, моя милая, хватит, слезами делу не поможешь, — приговаривал он.
Когда несся сюда, Вадим смутно догадывался, в чем дело, и теперь осознал это четко. Это они. Это еще одна угроза. А раз они, то с девочкой ничего не сделают, будут ставить условия. И он примет их все. Все до единого. Черт с ними со всеми, Можейкиными, Лео, «кепками», «курьерами» и остальными, лишь бы с девочкой ничего не случилось. Но неужели так круто они взялись за него из-за этого изнасилования или там что-то посерьезней?
Звонок в дверь заставил его вздрогнуть, но он не поднялся, не пошел в прихожую, потому что не сразу дошло, что это к ним в квартиру звонят. Когда требовательно зазвонили во второй раз, он отстранил Ольгу и встал.
На пороге стояла полная молодая женщина с одутловатым, невыразительным лицом, в тесном, не по размеру джинсовом платье. Она решительно переступила порог и, не обращая внимания на Вадима, заметалась глазами по квартире. Увидела через дверной проем девочку, бросилась в комнату, облегченно приговаривая на ходу:
— Деточка моя, Ленусик, с тобой все в порядке? Да? Все в порядке? Почему ты не пошла домой, почему здесь сидишь?
Девочка вскочила с дивана, сморщила худенькое личико, будто собиралась заплакать, но не заплакала, а только шмыгнула носом, подбежала к матери, уткнулась в нее, обхватив тоненькими ручками-прутиками массивные мамины бедра.
— Ну и слава Богу, ну и слава Богу, — приговаривала женщина и крепко прижала дочь к себе широкими короткопалыми ладонями, словно огромная птица укрывала крыльями своего птенца от всех жизненных напастей сразу.
— Ведь это ж надо же! — повернулась она к Ольге. — Какие гады! Какие сволочи! Вот так живешь, живешь… И куда милиция смотрит? Неизвестно, чем занимаются, а здесь детей под носом крадут… Я слышала, что не первый случай, ты знаешь, и в Стремновском районе то же самое было, так и не нашли. Ты представляешь! Хоть на улицу детишек не выпускай.
Ольга опять спрятала лицо в ладонях и мелко затряслась. Женщина отступила на шаг и потянула дочку за собой:
— Пойдем, доченька, пойдем с мамой, — она, не отрываясь, глядела на Ольгу, только вместо жалости и сочувствия на лице ее были неприязнь, брезгливость, испуг. Так на заразных больных смотрят, на чумных, приговоренных. Надо было оборвать ее еще раньше. Вадим прищурился зло, когда она об ужасах тут же, на ходу придуманных, рассказывать начала — для того, чтобы, может быть, и неосознанно, но из-за какого-то неудержимого внутреннего стремления сделать ближнему больно, раздразнить его, насытиться его страхом. А уж теперь, когда взгляд он этот уловил и, когда все угадал в нем, тут уж сдерживаться больше сил не было. Он поджал уже губы, напрягся, шагнул в ее сторону. Но его на мгновение опередила девчушка Леночка. Она одринулась от мамы, вскинула на нее удивленное глазастое личико и произнесла тихо и твердо:
— Я не пойду, мамочка, Дашеньку надо искать. Мы подружки…
Так серьезно, так по-взрослому даже для матери она сказала это, что та даже опешила, недоуменно на Ольгу посмотрела, на Вадима, как бы ответа у них выспрашивая, как же это так, неужто это дочь моя, плоть от плоти, так говорит. И побледнела вмиг, и закостенела лицом. А потом выдохнула тяжело, чуть дернув щекой, внимательно оглядела дочь и выговорила неуверенно, словно за какую-то последнюю свою надежду цепляясь:
— А может быть, пойдем? А то мы мешаем тут. Да ты и не кушала.
Девочка упрямо помотала головой.
— Ну хорошо, — женщина нервно пожала плечами. — Оставайся. — Она повернулась к Вадиму. — Ничего, если она побудет здесь?
Он кивнул.
— Я скоро зайду.
И она пошла к двери, так и не взглянув больше на дочь, и только у самого уже порога остановилась, покачала головой и взялась за ручку. И в этот миг опять затрезвонил звонок и опять заставил Вадима вздрогнуть.
В дверном проеме он разглядел двоих. Один был в милицейской форме, высокий, сутуловатый, большерукий. Второй в хорошо сидящем синем костюме, с галстуком.
Он мимоходом поздоровался с Леночкиной мамой, сразу угадав, что это не хозяйка, что не с ней ему беседовать придется, спешно прошел в комнату, окинул ее быстрыми, чуть раскосыми глазами, изобразил печальную улыбку на смуглом скуластом лице, шагнул к Вадиму, пожал ему руку:
— Старший оперуполномоченный шестого отделения милиции Марушев.
Вадим тоже представился. Подошел и тот, что в форме, он по сторонам не глядел, словно стеснялся, что не так поймут. Сдержанно поклонился Вадиму, назвал себя:
— Участковый инспектор Спирин.
А Марушев уже к Ольге на диван подсел, уже о чем-то с ней мягко и улыбчиво беседовал. Он сразу понравился Вадиму, не то что Петухов. Марушев попросил извинения у Ольги, подозвал девочку, выразил удовольствие, что она здесь с мамой, подозвал и ее и добро и очень умело начал расспрашивать Лену. Что-то записал, погладил девочку по голове, повернулся к Спирину, приказал тому найти — Леночкина мама квартиры подскажет — Дашиных подруг и расспросить их подробно, и все записать и опять повернулся к Лене. Все быстро он проделывал, четко, легко, будто такие случаи для него дело плевое и он раскалывает эти загадки, как орехи.
Вадим с удовлетворением заметил, что и Ольга успокоилась. Лицо ожило, в глазах надежда появилась и вера, что помогут, не бросят, не оставят в беде, сделают все, что положено, и отыщут дочку. Не могут не отыскать. Милиция-то у нас ого-го какая! И зажег ее такой верой этот скуластый симпатичный парень, и это тоже немаловажной частью его профессии было — способность видом своим, словами расположить человека, убедить, что на таких бравых ребят можно во всем положиться. Ольга вновь ощутила себя привлекательной женщиной, и изредка изящным движением поправляла волосы, успокоенно и доверительно склонялась к Марушеву, когда отвечала.
— А вы что думаете? — неожиданно обратился Марушев к Вадиму.
Вадим ответил не сразу. Хотя был готов к этому вопросу. Сначала отошел от окна, возле которого стоял, чтобы не бил свет в глаза и не высвечивалось так ярко его лицо. Очутившись в прохладной глубине комнаты, сказал:
— Я не думаю, что это так серьезно, думаю, что пошутил кто-то.
— И можете назвать кого-нибудь, кто способен так шутить?
— С ходу — нет.
— Откуда же уверенность, что забавы ради?..
— Не уверенность, предположение.
— Допустим, но предположение тоже на чем-то основывается?
Вадим пожал плечами:
— Не Чикаго же у нас в конце концов.
— Жиденькое основание. Ну хорошо, — Марушев поднялся.
— Пойдем, Леночка, покажешь, откуда машина подъехала, где ты стояла в это время, пойдем.
— Кстати, — обернулся он уже у двери. — Всем постам ГАИ дано было указание по возможности проверять светлые «Жигули», если в них сидят дети. Но, сами понимаете, это чрезвычайно сложно. Пока никаких результатов.
И стоило только выйти Марушеву, как посерело у Ольги лицо, и пообвисли плечи, и сгорбилась она, как после многочасовой трудоемкой работы. Будто силы все свои потратила на то, чтобы так непринужденно и обаятельно держаться перед чужими людьми.
Ольга сдавила виски, зажмурилась, покрутила головой, потом резко отбросила руки, опершись на подлокотник, встала неловко, оправила привычно платье и, шаркая тапочками, побрела на кухню:
— Иди, чаю хоть попьем, — донеслось оттуда.
Данин устроился за столом, придвинул к себе чашку, потянулся за вареньем. Когда перекладывал его из банки в блюдце, задел ложкой о край банки, и две крупные Ягодины мягко шлепнулись на пол.
— Ты что, слепой! — вскинулась Ольга. — Уже совсем ни черта не видишь! Ты, что ли, здесь убираешь, вылизываешь все? Как придешь, так только бы нагадить. Руки-крюки. Ну что уселся? Иди за тряпкой. О, господи!
Вадим оторопело смотрел на Ольгу и никак не мог сообразить, кому она это говорит. Уже стерлись из памяти скандалы, взаимные унижения, начинавшиеся всегда именно с такого вот пустяка, забыл уже, как больно и беспощадно били слова о его беспомощности, неприспособленности, о никчемности, забыл, как огрызался неумело, как плакать хотелось нестерпимо, как убежать из дома хотелось. И вот теперь вспомнил все сразу…
Он вдруг ощутил, что его трясут за плечо, с силой, с остервенением. Так, что даже зубы у него клацкали. Он инстинктивно отстранился, дернул плечом, а когда вскинул глаза, Ольгино лицо увидел, перекошенное, чужое.
— Ты что, оглох? — выкрикнула она и затихла враз, что-то такое, видимо, прочтя в его взгляде, что заставило ее осечься, оборвать себя.
Заголосил звонок, на сей раз не пугающе, на удивление мягко и призывно. Он ожидаем был, этот звонок, и Вадим за секунду до него будто почувствовал смутно что-то хорошее и изготовился уже из-за стола встать, подойти к двери, к тишине коридорной прислушаться, не идет ли Марушев или Спирин. Он с легкостью подбежал к двери, щелкнул замками, распахнул ее, и возглас радости сорвался с его губ. Он нагнулся стремительно, подхватил поникшую, поблекшую, усталую, но все же улыбающуюся Дашку, прижал теплое ее тельце к себе, ткнулся носом в шею, застыл так на мгновение. А дочку уже рвала из рук Ольга, вскрикивая что-то и смеясь счастливо. Вадим осторожно передал Ольге девочку, обернулся к Марушеву, Спирину, Леночкиной маме, самой Леночке. Они стояли неподвижно возле двери и только улыбались удовлетворенно и облегченно. Стояли, чуть ли не прижавшись друг к другу плечами, как близкие люди, вместе сделавшие доброе дело.
— Как? Откуда? — только и спросил Вадим.
Оказывается, как объяснил Марушев, они увидели Дашку в тот момент, когда вышли с Леночкой из переулка, где стояла машина, на улицу. Даша, растерянная, заплаканная, стояла на перекрестке у светофора метрах в трехстах от них. Первой ее заметила Лена (как только она могла углядеть ее в такой толпе?) и закричала: «Дашенька! Дашенька!» — и побежала к ней со всех ног.
Короче говоря, два часа назад к Даше подошел «хороший дядя», сказал, что он друг папы и они сейчас поедут к нему, а маме позвонят. Когда подошли к машине, Даша все-таки испугалась, но было поздно, ее силой втащили в машину, потом пересадили в другую, покатали и отпустили на том самом перекрестке, указав при этом, в какую сторону ей идти, чтобы дом свой отыскать. А она забыла, растерялась, крутилась на одном место волчком и испугалась потом, и заплакала. Из комнаты доносилось счастливое щебетание Ольги, и Леночка уже была там, обхаживала Дашку, строго поучала ее чему-то, и Леночкина мама уже там была, все охала, все возмущалась «шутниками». Одним словом, все обошлось, самое время радостную легкость ощутить, вдохнуть свободно, распрямиться, улыбнуться. А Вадим вот посерьезнел наоборот, тревожно стало. Выходит, что условия они потом ставить будут, позже, может, уже сегодня или завтра утром, а это они силу свою просто показали, мол, видишь, как все легко нам удается, не подчинишься, гляди, брат. Вадим посмотрел на Марушева. У того тоже радости особой на лице не было, видно, что-то ему по-прежнему не нравится в этой истории.
— Странно, — произнес он, сунув руки в карманы брюк. — Зачем? — он посмотрел на еще больше ссутулившегося Спирина, потом на Данина. — А? Зачем? Я, признаюсь, в растерянности. Может, и вправду знакомые ваши? Если так, хотел бы я на них посмотреть… Или все же преступники? И чем-то Даша им не угодила, не по вкусу пришлась, не теми данными располагала или перепутали с кем-нибудь? Непонятно. Ладно, подумаем. Будьте здоровы. Пошли, Спирин!
Сотворив довольную улыбку, Вадим разглядывал, как кормит Ольга дочь, что-то пришептывая, посмеиваясь, оглаживая девочку по головке, плечикам, будто из далекого далека та возвратилась и сто лет там провела, а то и поболее. И снова звонок, в который раз уже. И на сей раз вздрогнули все, как по команде, так внезапен и нежеланен он был. Вадим поднял глаза к стенным часам — без двадцати десять. Он распахнул дверь и подобрался вмиг. С усталой улыбкой на него глядел Уваров. Совсем не к месту он, совсем не ко времени, он просто не нужен здесь сегодня. Но что делать, пришел человек, хоть и не друг, но знакомый, так что приглашай, зови его в дом, не выказывай своего недовольства, улыбнуться попробуй. Вадим жестом указал в глубь квартиры. Уваров поблагодарил вежливым кивком, вошел. Машинально Данин отметил, что очень похожи они с Марушевым, оба ладные, легкие в движениях, скуластые, симпатичные. Уваров сел на стул, огляделся, словно приноравливаясь к обстановке, чуть виновато улыбнулся Данину, заговорил:
— Незваным гостем я. Понимаю, что не ко времени. Вы уж простите. Но когда услышал сообщение дежурного по городу о похищении девочки, как-то не по себе стало, неспокойно. Решил, что обязательно заеду, помогу, чем могу. Но вот только сейчас вырвался. Я сегодня дежурный по отделению. Так что скоро назад. Машина внизу на парах. Но, к счастью, вижу, все в порядке. Девочка дома, заблудилась, видать, да?
— Вадим, кто там? — донеслось из кухни встревоженно.
— Это ко мне, — Вадим выглянул в дверь и закрыл ее за собой. Подошел к столу, но садиться не хотелось, лучше было бы стоять или ходить по комнате, но он все-таки сел, чтобы не подумал Уваров, что он волнуется. Устроился поудобнее и так, чтобы свет на него не падал. И только тогда рассказал все, как было, с самого начала.
— Занятно, — заметил Уваров. Облокотился на стол, раздумчиво посмотрел на Данина. — Что же за напасти вас такие преследуют? И все после этого злосчастного случая с Можей-киной. То поволтузили вас где-то лихо. Вон синячина какой и губа треснула. От кулака ведь, сознайтесь? И сегодня с дочкой, гляди, какая неприятность. А до этого небось еще что-то было. Ведь было, верно?
— Что было? О чем вы? Не понимаю, — как можно спокойней ответил Вадим и хотел было полезть за сигаретами, чтоб руки чем-то занять, но раздумал — под контролем себя держал.
— Мало ли, — сказал Уваров. — А впрочем, это я так, к слову.
— Не знаю, не знаю, — Данин попробовал усмехнуться. — Фантазируете все. Воображение у вас богатое. Для литератора это хорошо, но для сыщика… А синяк и губа от кулака. Верно. Здесь вы спец. Так то шальная компания. Шел вечером, попросили закурить. То да се. И началось. Едва удрал, а то бы, глядишь, и ребра поломали. Обычное дело.
— Ну да, конечно, это дело случая. — В глазах Уварова Данин разглядел смешливые огоньки, и это озлило его, и он импульсивно сжал кулаки под столом, а Уваров продолжал тем временем: — И девочку ради забавы в машине покатали. Добрые попались такие дяди. Или кто из приятелей пошутил? Да так оно и было, наверное. И к Митрошке вы тоже случайно забрели, шли вот так просто по улице и забрели…
Опалило жаром щеки, и под сердце будто током ударило, и глаза, показалось, сейчас заслезятся. Но долю секунды это было, переборол себя Вадим, невероятным усилием ослабил толчок страха и не отвел глаза от в упор глядящего на него Уварова. И несколько секунд так смотрели они друг на друга. Один расслабленно, даже весело, только чуть сузив глаза, другой — тяжело, хмуро, с трудом подавляя напряженность.
— К какой такой Митрошке? — наконец выцедил Данин, старательно делая вид, что закипает. — Что вы мне здесь опять фарс устраиваете?!
Уваров разочарованно покачал головой, еще раз окинул взглядом комнату, словно на сей раз уже запоминая, где что стоит, хлопнул себя по коленям, поднялся, сказал, поправляя пиджак:
— Как бы этот фарс драмой не обернулся, Вадим Андреевич. Мы ведь того мужичишку опросили, он и рассказал, что вы бабку Митрошку искали. Мы и Митрошку опросили…
Вадим невольно подался назад.
— И что?! — вырвалось у него. И тут же отругал себя, чертыхнулся беззвучно.
— Ну вот видите, — Уваров усмехнулся уже откровенно и развел руками.
— Что «видите»? — Вадим резко поднялся. — Что «видите»?
— Сами вы все прекрасно понимаете. Только я вот вас не понимаю, — Уваров неторопливо направился к дверям. — Ну да Бог вам судья. Если что, телефон мой знаете.
«Ну ничего, — думал Вадим, идя вслед за Уваровым, — ничего. Найду Лео и вот тогда все расскажу, только анонимно».
Уже у открытой двери, пожимая Данину руку, Уваров сказал вскользь:
— Все же подумайте. — И вышел поспешно.
Вадим захлопнул за ним дверь. Но в ту же секунду ему нестерпимо захотелось ее открыть. Открыть и броситься за Уваровым, остановить его, выспросить без всяких там предлогов о Митрошке, о том, что она поведать ему могла, рассказала про него, про Данина? Уже к собачке замка рукой потянулся, уже за холодный металл массивной старинной ручки взялся (на какой свалке, интересно, Ольга ее откопала), но не открыл, так и остался стоять, с протянутыми к двери руками, будто кто-то приказал ему «замри», как в детской игре, и он замер. А когда услышал шум разъезжающихся дверей лифта и потом ровное его гудение, будто очнулся. Ну что там Митрошка могла о нем сказать? Да и почему именно о нем, она о высоком парне могла каком-то сообщить, в куртке, в джинсах. А сейчас все в куртках, в джинсах и высокие. Если вообще она что-либо говорила. Эти бабки — народец закаленный и не таких сыскарей видывали. Пока ее не прижмешь крепко, она будет молчать, как камень. Так что поводов особых для волнений пока нет. А Уваров его просто, как говорится, «на пушку» решил взять. Если б хоть малейшая у него зацепка была, он бы так с ним разговаривать не стал. Другой бы был разговор, прямой и конкретный, и без усмешечек всяких, намеков и полутонов.
Высветилась красновато прихожая. Это приоткрылась дверь с кухни. Лена и ее мама уже собирались. Лена обняла Дашку, поцеловала в лобик. Мама, в свою очередь, с Ольгой прощалась, как с лучшей и самой близкой своей подругой. Когда и за ними захлопнулась дверь, Вадим решил, что ему тоже пора. Одному надо остаться, поговорить с собой, посмотреть на себя…
— Пойду я, — сказал он, кивнув Ольге и подмигнув Дашке.
— Подожди, — тихо сказала Ольга, прижимая к себе дочкину головку. — Если не ждет кто, останься, пожалуйста. Мне страшно и холодно… — и она вправду поежилась.
Какие-то давно забытые нотки он уловил в ее голосе — мягкие, нежные, любящие. А потом вдруг и увиделась она ему прежней, уже почти забытой, легкой, воздушной, открыто и искренне тянущейся к нему… И лицо необычайно красивым показалось, несмотря на круги под глазами, на болезненную бледность, на взгляд потухший. И он кивнул согласно и с появившимся внезапно волнением, уже наперед зная, что будет, и заранее радуясь этому, вошел в комнату.
Проснулся с рассветом и поначалу не понял, где он. Огляделся, увидел рядом с собой едва прикрытое легким одеялом гибкое, четко очерченное в рассветной полумгле Ольгино тело и сразу все вспомнил разом. Как изящная, душистая, соблазнительная вышла она из ванной, и как горечь он во рту ощутил, и как натянулся тетивой в ожидании, и как встала она перед ним на колени, как целовать принялась его руки, шею, губы, глаза, и как впал он в невесомое забытье, и как обдало его жаром с ног до головы, потом исчезло все, померкло вокруг, затуманилось. Вспомнил и не поверил, что с ним все это было. Он поморщился, с силой потерся затылком о подушку, потом, стараясь не шуметь, приподнялся, присел на кровати. «Бог мой, зачем?» — подумал мельком, посидел с полминуты, тихо поднялся, беззвучно оделся, зашел в смежную комнатку на Дашку взглянуть, осторожно прошествовал в прихожую, мягко открыл дверь и вышел.
Настойчивый, крикливый трезвон словно застыл в ушах, острыми студеными иглами бил он по перепонкам, с болью в мозг проникал, переполнял голову тонким, дребезжащим, назойливым своим голоском. А тот все выпевал и выпевал упрямо свои рулады. Вадим разъяренно вскочил с дивана, огляделся, узрев телефон, удивленно дернул подбородком, снял трубку:
— Как самочувствие приятель? — Вадим выдохнул разом и непроизвольно плюхнулся на диван. Все верно он рассчитал. Дождался-таки. Это они. Все тот же вкрадчивый, усмешливый баритон и словечки все те же: «Приятель». — Что молчишь? Это я. Узнаешь? Ну молчи, молчи, это хорошо, что молчишь, значит, страх есть. Правильно! Хоть чуточку, но есть. А где страх, там понимание. В первый раз ты от растерянности молчал, а сейчас от осознания, так сказать. Хвалю, хвалю. Как Дашенька? Все в порядке? Хорошая, красивая дочь у тебя растет, береги ее. Дети — это счастье, это продолжение жизни нашей. Вот так. Соображаешь? Вчера она просто так, прогулялась с нами, воздухом подышала, а ежели что… Ну что, будем в мире жить? Теперь хоть не молчи, а то вон как зубки-то сжал, судорогой, что ль, от ужаса свело? Ну что, будем?
— Я подумаю, — процедил Вадим.
— Недолго только, — голос вмиг стал жестким, отчужденным.
И когда запели пунктирно гудки, Вадим опустил трубку на рычажки. Растерянность после первого звонка была. Это верно, но вот страха после нынешнего он не испытал. Он прислушался к себе придирчиво. Может быть, ошибся, просто притаился страх где-то и не желает выдать себя до поры до времени, до того момента, когда он больнее всего ударить может? Видимо, так. Ну хорошо, потом разберемся, потом. И вдруг подумал: «А почему они мне только угрожают, а не пытаются купить. Так проще, как в детективах пишут. Или врут в детективах?! Ну хорошо, потом разберемся, потом. Ну ладно, после, на досуге». Так, сейчас половина восьмого. Значит, толком он сегодня и не спал, но ничего, зарядка и душ придадут сил, средство верное и испытанное. Из ванны вышел уже собранный, готовый к действию. Закурил, присел на ковер возле телефона, снял трубку:
— Прости, Оля, что так рано. Как откуда? От себя. А-а-а. Да надо было, дела. С утра сегодня много дел. А тебя будить не хотелось. А доехал на такси. Они между прочим круглосуточно работают… Ты послушай меня внимательно. И постарайся понять. Когда вы с Дашкой собираетесь к сестре, к Нине?.. Так, это значит, через три дня. Ты вот что, уезжай сегодня. Билеты я возьму. Да, сегодня. Именно сегодня. Никаких дел и встреч, Оля! Я умоляю тебя. Я на коленях тебя прошу, я сейчас на коленях стою. Нет, нет, ничего серьезного. Но надо, понимаешь, надо. Ради Дашки. Да, вот так, совершенно верно, связано со вчерашним. Не волнуйся, это временно. Да, да, шутки, только злые очень шутки. Я разберусь. Все. Днем завезу билеты.
Тяжело. Он ведь не объяснил ей ничего, а только напугал. Можно понять ее состояние. Но так будет лучше. Вернее, даже не лучше — это единственный выход, пока все утрясется. Сестра ее живет достаточно далеко, в маленьком, уютном тихом городке, в трехстах километрах отсюда. Пока кто вызнает, где они, если это, вообще, кому-либо еще понадобится, пройдет время, так необходимое сейчас.
День в институте прошел на редкость быстро и неутомительно, и не смотрел Вадим на часы каждые полчаса, как обычно, и не ловил себя на унынии и на сожалении усмешливом, что так тянутся часы и минуты. И с билетами для Ольги быстренько умудрился управиться, и успел их отвезти, опять ей толком ничего не объяснив, — да и что мог он объяснить? — а только умоляюще руки к труди прикладывая. Это хоть и озлило ее, но сумела она сдержаться и согласилась все же уехать, внутренним материнским чутьем чуя, что дочери ее что-то угрожает…
Рогов, каждый раз проходя мимо Вадима, кивал ему ободряюще, мол, не беспокойтесь, все будет как надо, а в конце дня остановил его даже в коридоре, сказал полушепотом: «Сорокин о нашем деле пока не говорит, а мы и не напоминаем, так что… А если спросит, я скажу, мол, проверили, хороший человек, выдержанный, достойный». Вадим едва не скривился в ответ, видя явную глупость ситуации — занятым людям приходится доказывать, что он, Данин, не делал того, чего не делал никогда. Бред. Но вовремя спохватился и вместо гримасы пренебрежения изобразил благодарную улыбку — как-никак добра ему Рогов желает.
Марина, казалось, весь день ему что-то сказать хотела, но никак не решалась, а он ей особого повода-то и не давал для длинного разговора, так все междометиями, хмыканьями отделывался, делая вид, что очень занят.
Около шести он уехал в управление культуры, завизировать письмо, а когда вышел оттуда, сообразил, что недалеко от Шишковского переулка обретается. Постоял недолго, раздумывая, а потом взял да и направился в его сторону пешочком, прогуливаясь и отдыхая. И вот удивительно, несмотря на то, что немало неприятных мгновений он пережил в этом переулке, никаких недобрых эмоций вид его не вызвал, не испортил ровного настроения и даже не изменил. Хороший признак? Добрая примета?
Тротуары были немноголюдны, и всего лишь две машины проурчали по мостовой, пока он шел, а двор за чугунными воротами и вовсе выглядел пустынным и сонным. Колебался перед калиткой Вадим недолго, неспешно огляделся лишь по сторонам и шагнул во двор. Первым делом посмотрел направо, там, где скамейка должна стоять, почти совсем скрытая от глаз тяжелыми, провисшими липовыми ветвями, и заулыбался, различив там знакомую фигурку и металлический блеск костыля на скамейке. И его тоже приметили и радостным восклицанием дали понять, что узнали.
— А я о вас вспоминал. И очень жалел, что не увидимся, наверное, никогда больше. — Михеев так и светился весь от удовольствия. И глаза его за тонкими стеклами излучали столько доброго тепла, что Вадим смутился даже, давненько уже никто не встречал его с таким радушием. Михеев оглядел его внимательно с ног до головы и добавил с легким удивлением: — А вы сегодня совсем не такой какой-то. Ну не такой, как тогда. Поскромней, что ли, построже…
— Углядели тогда нарочитость-то? — спросил Вадим, усаживаясь рядом.
— Ага. Что-то несвойственное вам, вашим глазам в вас было. Облик один, а глаза другие. Не вязалось как-то.
— Первым делом глаза изучаете?
— А как же? Они показатель всего. Что ты? Кто ты? Умен ли? Добр ли? Понятлив? Одержим ли? Имеешь ли страсть? Или же так, мотыльком летаешь? Всё они, глаза, рассказывают. Или я не прав?
— Правы, очень даже правы. К сожалению, далеко не все друг к другу так приглядываться умеют, и различать, и чувствовать.
— О, если бы умели или хотя бы захотели бы уметь, мы в одночасье лишились бы ну, по крайней мере, половины негодяев, властолюбцев, честолюбцев, завистников, самонадеянных тупиц…
— И куда бы они делись? — засмеялся Вадим.
— Они были бы просто-напросто отторгнуты обществом, — серьезно сказал Михеев. — Стали бы изгоями, никто бы с ними не общался, не принимал в расчет.
— Э-э-э, дорогой мой Юрий, — Вадим закурил, затянулся с удовольствием. — Здесь что-то не так. Они же ведь тоже люди, о двух руках, о двух ногах, плохие ли, хорошие, но люди. И, наверное, жестоко и безнравственно вот так избавляться от них. Это означало бы, что и те, кто изгоняет их, уже и сами не чисты, не человеколюбивы, не сострадательны.
— Да нет, как раз наоборот, это была бы гуманная мера, — изгнать, для того, чтобы поняли они, разобрались в себе, исправились.
— А если не поймут? А если не исправятся? А только сделают вид и будут внедряться и будут уже сознательно вредить. Утопия.
— Да вот и я к такому же выводу все время прихожу, — сразу согласился Михеев. Он вздохнул. — А что же делать?
Вадим опять рассмеялся, но не обидно, а мягко, по-дружески:
— Жить. И думать. Много думать и о многом. Сознавать скоротечность жизни…
— И сидеть сложа руки.
— Что? — не понял Вадам.
— Я говорю, значит, просто думать, и все, и ничего не делать, сидеть, значит, сложа руки.
— Нет, Юра, — хотел было Вадим хмыкнуть, но сдержал смешок, ни с того ни с сего интересный разговор получился, интересный и нужный, наверное, этому так ничего еще толком и не увидевшему в жизни парню с костылем. — Нет, Юра. Вот тут я совсем не согласен с вами. Тот, кто много думает, по-настоящему думает — мыслит, сидеть сложа руки не может, не умеет. Мысли его сами по себе к действию его призывают, и тогда он начинает работать много и одержимо. Ведь вы же рисуете, верно? Сначала для себя, а теперь хочется, чтобы люди увидели, так? И не тщеславия ради, а чтобы поняли: смотрите, я думаю, и это так прекрасно, попробуйте и вы, постарайтесь, научитесь… Ведь так?
— Так, — тихо сказал Михеев и, чуть прищурившись, внимательно посмотрел на Данина, а потом как-то сразу засмущался и отвел глаза.
— Так. Конечно, так.
Вадим хотел было уже попросить Михеева, чтобы тот сходил за рисунками и показал бы их, и подумали бы они вместе, как с ними быть, кому показать можно, но увидел тут сквозь подрагивающую, обеспокоенную теплым ветерком листву бесшумно въезжающий во двор автомобиль. Чистенькая, поблескивающая холеными боками черная «Волга» по-хозяйски солидно и значительно подъехала к подъезду и замерла возле него, чуть качнувшись на упругих рессорах. Сначала вышел водитель — приземистый, крутоплечий, в широкой, пообмятой на спине рубахе, затем с заднего сиденья — пассажир. Высокий пассажир был, ладный, немолодой уже, наверно, судя по морщинкам на шее, — лица Вадим не видел — тот все спиной к нему оказывался — в сером костюме. Пассажир повел худыми плечами, словно разминаясь, и зашагал к подъезду, предварительно что-то проговорив через плечо водителю.
— Знаете, кто это? — весело спросил Михеев.
— Нет, — насторожился Вадим.
— Это отец вашего школьного товарища. Ну про того, которого вы спрашивали, Леонида, кажется. Что-то, кстати, давно его не видно, Леонида. Мне мама про отца его рассказала, он какой-то начальник в городском строительстве. Симпатичный такой дядька, улыбчивый. Знаете, он как деловой американец, которых в кино показывают, уверенный, лощеный, с резиновой улыбкой.
— Как? — Вадим повернулся к Михееву.
— Ну резиновой. — И Михеев, не меняя серьезного выражения лица, растянул губы.
— А-а, — протянул Данин и опять перевел взгляд на машину. Шофер стоял, небрежно облокотившись на крышу автомобиля, и блаженно курил. Рубашку он так и не оправил.
— Вы с ним не знакомы? — опять заговорил Михеев.
— С кем? — не сразу спросил Данин.
— Да что с вами? — удивился Михеев. — Будто воздух из вас выпустили. Я спрашиваю, с отцом не знакомы?
— А-а, да нет, не пришлось как-то. Вы знаете, Юра, — Вадим с усилием подобрался и даже улыбку сумел изобразить беспечную. — Я сейчас оставлю вас, наверное. Устал чудовищно, весь день на ногах, туда-сюда, не присел ни разу… Но обязательно, просто непременно забегу на днях. Надо, наконец, рисунки ваши поглядеть, кому-нибудь из художников наших, студийных, показать. Согласны?
— Конечно, — Михеев изучающее смотрел на него. — Так вы все-таки в кино работаете?
— Да, — Вадим откашлялся. — А что?
— Да нет, так просто… А заходили, чтобы дом еще раз посмотреть?
— В общем-то… и да и нет. Одним словом, мимо шел, рядом был по делам, ну и забрел. До свидания, Юра.
И снова, как в прошлый раз, вцепились в брючины жесткие и упрямые, как стальная проволока, прутья кустов. Вадим и на сей раз не стал их обходить, а двинул напрямик, чтобы выйти поскорее со двора, скрыться за кирпичным забором, раствориться, исчезнуть в переулке, будто кто его гнал, будто подталкивал в спину… И одна только мысль вертелась в голове. Не встретить бы его, не наткнуться… А почему, Вадим и сам понять не мог. Отец-то здесь при чем? Какое он-то отношение к преступлению сына имеет? Хороший, наверное, человек, работящий, знающий, уважаемый. Только сын вот подкачал. Ухнула, содрогнувшись, подъездная дверь. Вадим невольно оглянулся. Отец Лео, остановившись между машиной и подъездом, поднял руку, подзывая шофера, и, видимо, что-то хотел сказать ему, но в это мгновение взгляд его уперся в Вадима. Гладкое белое лицо его стало неподвижным, мертвым, тонкие губы деревянно сжались. И никаких тебе резиновых улыбочек. И намека нет. И только со взглядом, устремленным из глубоких глазниц, он не справился. В одночасье промелькнули в нем и удивление, и вопрос, и ненависть, и жалость. У Вадима перехватило дыхание и на миг холодом ожгло пальцы на руках, и он непроизвольно сжал их в кулаки, согревая. И еще отчетливо он услышал слова, будто не сам себя он спрашивал, а кто-то другой, стоявший рядом, ему говорил; «Почему он так смотрит на тебя? Почему?»
Вадим на долю секунды прикрыл глаза, потом тихо выдохнул набранный воздух, не спеша с достоинством развернулся и медленно, очень медленно пошел к воротам.
Уже в конце переулка решил, что взгляд этот ему привиделся и что он прочел в нем совсем не то, что он выражал. А все потому, что устал, потому что черт его знает какой день уже в напряжении пребывает, вот и кажется всякая ерунда.
В киоске недалеко от дома купил газеты, целый ворох. Не раздеваясь, уселся на диване, настрогал буковок из заголовков и долго наклеивал их на лист бумаги. Получилось вот что: «К изнасилованию Можейкиной прямое отношение имеет один парень. Звать Лео. Живет в Шишковском переулке, дом… квартира…». Прочитал и порадовался, вряд ли кто из милицейских специалистов догадается, что писал анонимку грамотный человек, стиль не тот. Впервые за несколько недель Вадим почувствовал себя легко. Он встал, потянулся, скинул куртку и, дурашливо пританцовывая, пошел в ванную.
По утрам Вадим теперь просыпался с улыбкой, уже, казалось, во сне начинал улыбаться, вскакивал мигом, не нежась, не разлеживаясь; жмурясь от удовольствия, приникал лицом к льющемуся из открытого окна воздуху. И, к удивлению своему, столько оттенков аромата стал в утренних ветерках различать, даже считать их можно было и даже обозначать — пряный, обыкновенный, розовый, нежный… Так что же, значит, чтобы так остро испытывать радость, надо было столько пережить? И иначе, наверное, нельзя? А впрочем, и хорошо, что нельзя. И даже звонок Уварова его не смутил, не испортил легкого веселого настроения. Он поухмылялся даже, представив, как Уваров «колет» его на анонимку и как у него ничего не получается, и как он злится, и как уколоть, поддеть всё Вадима хочет, и как с бессильной, язвительной усмешечкой отпускает его, делая вид, что все он про тебя знает: «Подумайте, подумайте…»
Уваров просил прийти сегодня в конце дня, «если можете, конечно, если вас не затруднит». Да нет, не затруднит, отчего же, раз надо, какие могут быть разговоры. Ах, какой вежливый, какой учтивый, верно, бомбу готовит, верно, думает; ну сейчас я ему покажу, как работать надо, мигом из тебя все выпотрошу. А не тут-то было, ухмыльнулся Вадим, пока добирался до отделения, никак ко мне не подкопаешься, и не на чем тебе меня взять. А когда к отделению уже совсем приблизился, когда бело-голубой щиток над дверью разглядел, потускнел вдруг, помрачнел — только сейчас о Митрошке вспомнил. Одна-единственная она повредить ему может. И если все она о нем выложила, то поедет он на годы долгие за псевдонападение на Витю-таксиста. А впрочем, он же ведь думал уже об этом и ничего ужасного в этой ситуации с Митрошкой не обнаружил. Митрошка же не знает, что он — это он, и опознать его вряд ли сможет, старенькая она, подслеповатая, хитренькая, да еще уверена, что он не из компании Лео и, может, наоборот, подсадной какой, или как они там называют. Так что чушь и ерунда. И опять повеселел, расправил плечи, порог перешагнул, приветливо кивнул дежурному, небрежно спросил, как пройти к Уварову.
Уваров встретил его приветливо, как старого доброго друга; натягивая на ходу пиджак и поправляя сбившийся галстук, заспешил из-за стола, со словами: «Хорошо, что зашли, не пренебрегли приглашением» — крепко пожал руку, пригласил садиться, сигарет предложил, боржоми, запотевшая бутылка которого — видно, только из холодильника — на столе зеленела.
Искренен он был или играл, трудновато было поначалу уловить, но одно Вадим чувствовал четко (на первых порах смутно это ощущалось, а сейчас почему-то уверился): расположен к нему был Уваров, приятен ему был Вадим, что-то близкое, что-то родственное, словами не объяснимое он, казалось, в нем нащупал.
— Устал, — признался он, размягченно привалившись к спинке стула. — Нормальные люди отдыхают уже, газеты листают, кино смотрят, или что они еще там могут делать, а нам вот самая работа. Если в десять-одиннадцать уйду сегодня, за счастье почту.
— Жалуетесь? — спросил Вадим, вертя в руках взятую со стола тяжелую замысловатую зажигалку.
— Брюзжу, — засмеялся Уваров. — И ворчу. Гони меня сейчас отсюда, все равно не уйду. Тяжко, муторно, противно, а ничем другим все равно заниматься не могу. Парадокс, но факт.
— И верно, — Вадим прикурил. — Противно и муторно. Но сладостно, видимо, в то же время, когда после мук, неудач, победишь все-таки, сильнее окажешься, умнее, загонишь противника в угол. Уважать себя начинаешь, ощущение незаурядности появляется. Вот это и приносит удовлетворение. Так?
— Ну, в общих чертах, пожалуй, правильно. Но не совсем. Разоблаченное и наказанное зло приносит удовлетворение — это точно. Для этого и хитришь, и обставляешь…
— А если зло только подозревается, да и то смутно, безосновательно, на уровне «а вдруг»? А для этого «а вдруг» все равно тревожишь человека, дергаешь, от дел отрываешь, настроение портишь, ловушки дурацкие расставляешь…
Уваров опять рассмеялся, весело, по-свойски:
— Себя, что ли имеете в виду?
— Да нет. — Вадим пожал плечами. — Любопытствую просто.
— Ах, ну если просто… Что касается предполагаемого преступника, основания, они, знаете ли, всегда есть. Всегда имеется масса малюсеньких, крохотных деталек, что прямо или косвенно указывают на его причастность. А вот со свидетелем сложней. Как иной раз бывает. Чувствуешь, что человек недоговаривает, ты и так его, и эдак, и с одной стороны и с другой. И все в стенку упираешься. Ну, значит, думаешь, подвело тебя чутье, ошибся, переоценил себя, что ж, и такое случается, ничего страшного. А потом вдруг по ходу дела один аспектик появляется, совсем, казалось бы, незначительный, другой, и, глядишь, уже картина, правда расплывчатая еще, без явных штрихов даже, а потом вдруг со свидетелем этим самым какие-то странные вещи твориться начинают, то его там видели, то тут, то синяк поставили, извините, — Уваров вежливо поклонился в сторону Вадима, — то еще чего. Я не слишком туманно объясняю?
Вадим молчал, безо всякого выражения глядя на Уварова.
— Еще вопросы? — Уваров улыбнулся одними глазами. — Больше нет. Ну и замечательно. Значит, зачем я вас позвал. Тут к нам анонимка пришла. И, как голову ни ломали, никак не можем установить предполагаемого автора, — он тщательно скрывал иронию в голосе, но Вадим все равно уловил ее, и на мгновение почувствовал себя беспомощным и беззащитным. Уваров тем временем продолжал: — Но не в этом дело. Она пришла вовремя и подтвердила наши подозрения. Работу мои ребята провели колоссальную и в общсм-то уже вышли на предполагаемого преступника, одного из них вернее. Хотите узнать как?
Данин пожал плечами, опять показывая свое полное безразличие.
— Митрошка поведала…
Вадим нагнулся помассировать якобы затекшую ногу. Растирая мышцу, заставил себя собраться. Ну молодцы, раскрутили все-таки бабку.
— Какая Митрошка? — недоуменно спросил он и через мгновение сделал вид, что вспомнил. — А, ту, что вы мне приписываете, мол, заходил, беседовал?
— Ага, — подтвердил Уваров. — Та самая. Несговорчивая старушка, скажу я вам. Все отнекивалась, гримасы удивленные корчила, убогонькую, юродивую из себя строила, головкой даже мелко трясла. — Уваров показал, как она трясла головкой, — чтоб пожалели мы ее, оставили в покое. Но, видимо, сказался опыт многолетний, не впервой ей «малины» содержать, и уловила, поняла, что не в бирюльки мы с ней играть пришли. Ну и подсказала кое-что. Приметы тех, кто квартирку у нее снимал, особо хорошо основного описала, кто с ней дела вел.
— Уваров в упор посмотрел на Вадима.
— И этим основным оказался я, — чтобы скрыть неожиданную растерянность, излишне громко захохотал Вадим.
Уваров усмехнулся, сделал большой глоток из стакана с боржоми.
— Вовсе и не вы, — сказал он, аккуратно вытерев губы. — Вы-то их и знать не знаете, вы человек случайный… Попейте водички, холодная, что надо… Ну как хотите… Тот-то по виду вроде и похож на вас, тоже высокий, стройный, симпатичный, только волосы у него светлые, и зовут иначе, Лео. Леонидом значит, и фамилия другая — Спорыхин.
— Ну, слава Богу, — с деланным облегчением произнес Вадим. — Это действительно не я, а то уже думаю, что это вы так со мной себя странно ведете, все что-то выспрашиваете, всенамекаете, усмехаетесь загадочно…
— Издеваетесь? — с улыбочкой осведомился Уваров.
— Как можно? — сказал Данин добродушно.
— Ну хорошо. Теперь основное, зачем все-таки я вас позвал. Вы до сих пор точно уверены, что не помните никого из тех троих?
— Точно.
— А может, взглянете все же на фотоснимки. Чем черт не шутит, вдруг узнаете?
— Раз положено, давайте, — без всякого энтузиазма согласился Вадим и вмиг напрягся, подготавливаясь, чтобы не выдать себя ничем во время этой процедуры. Незаметно вздохнул глубоко, постарался расслабиться, сонный вид себе придать. И, неожиданно, глядя, как Уваров достает фотографии из сейфа, почувствовал омерзение к себе за то, что изготавливается так тщательно, чтобы правду скрыть, что лжет так спокойно и безболезненно. Что все время лжет и сегодня, и вчера, и позавчера, и неделю назад.
И нестерпимо захотелось, не говоря ни слова, встать и выйти из этого кабинета, и идти куда попало, бежать куда попало, куда глаза глядят, только подальше от Уварова, от Лео, от Можей-киной, от города подальше, от всех, от всего…
— Ну вот смотрите, — Уваров уже разложил снимки на столе.
— Внимательно смотрите, не торопитесь.
Данин провел потными ладошками по коленям и медленно склонился над фотографиями. Лео он увидел сразу. Лицо его выгодно отличалось от тех полудебильных, что были на других снимках. Тонкое, интеллигентное, запоминающееся, чуть надменное, чуть брезгливое, с тяжелым взглядом широко расставленных, немного прищуренных глаз. Выражение его словно говорило тому, кто снимал его: «Ну давай, работяга, скорей делай свое дело, я спешу, у меня работа поважнее». Вадим спохватился, что слишком долго рассматривает Лео, и перевел взгляд на другую фотографию, и так же долго и внимательно стал разглядывать и ее, потом пододвинул к себе еще один снимок.
В дверь робко стукнули два раза.
— Да, — недовольно отозвался Уваров, не отрывая взгляда от Вадима. И видя, что никто не входит, крикнул громче: — Да войдите же.
Дверь приоткрылась бесшумно. Вадим не спеша поднял голову и наткнулся на благообразное личико Можейкина. Он, как и тогда, в больнице, показывался из-за двери по частям, сначала голова, потом нога, потом рука, а потом и весь он появился в кабинете. Все так же спинка у него выгибалась в полупоклоне, и так же голову он прямо держал, верно, прикидывая, как всегда, выпрямиться или еще ниже поникнуть. Сейчас, видимо, решил, что надо поникнуть.
— Простите, что помешал, — он приложил руки к груди и беззащитно, чуть растерянно улыбнулся.
— Ну что же делать? — вздохнул Уваров.
— Здравствуйте, — Можейкин с протянутой рукой сделал шаг к столу.
— Здравствуйте, спаситель. — Он с почтением коснулся ладони Данина. Здороваясь, покосился на стол, и Вадим с удивлением заметил, как он впился глазами в снимки.
— Нашли преступника? — обратился он к Уварову.
— Ищем, — ответил тот, небрежно прикрыв фотографии сложенной вдвое газетой. — Ищем. Вы простите, мы сейчас закончим, а потом займемся с вами. Хорошо?
— Конечно, конечно, конечно, — зачастил Можейкин и, изобразив всем телом покорность, поспешно вышел из кабинета.
— Я его тоже вызвал, — пояснил Уваров. — Надо поговорить.
Вадим кивнул и вернулся к фотографиям. Вертя последний снимок, понял, что успокоился, что исчезло уже желание бежать отсюда без оглядки, и глаза теперь не выдадут его, и что можно уже поднять голову и, пожав плечами, сказать: «Нет, никого не знаю».
Он так и сделал. И глаза не выдали его. Во всяком случае, Уваров смотрел на него с плохо скрытым разочарованием.
— Жаль, — подтвердил он свой взгляд словами. — Жаль. Я, признаться, надеялся. Вы единственный, кто мог бы уличить подозреваемого. Единственный! — Лицо его неожиданно сделалось жестким и злым. — И почему-то не понимаете этого. А следовало бы. Пора. — Он мотнул головой. — Трудно с вами, скользкий вы и… — он в сердцах махнут рукой.
— Не знаю, чего вы добиваетесь от меня, — устало сказал Вадим. — Я же сразу сообщил вам, что не помню никого из них, не разглядел, темно было.
— А почему тогда?.. — Уваров чуть замешкался и опять потянулся к стакану.
— Где ваша дочь? — спросил он, сделав глоток.
— С женой, — недоуменно ответил Вадим. — У сестры, за городом, вернее — в другом городе.
— Спрятали, значит, — усмехнулся Уваров.
— Почему спрятал? От кого! — хотел было возмутиться Данин.
Но Уваров жестом остановил его:
— Перестаньте.
— Опять намеки, опять ловушки, — с вызовом произнес Вадим.
— Бросьте, какие намеки. — Уваров с силой потер виски. — Просто пытаюсь выяснить истину с вашей помощью. И все как об стену. — Он протянул руку и взял фотографию Лео, повертел ее пальцами: — Спорыхин исчез. Уехал. Взял отпуск и уехал. Куда — неизвестно. С Можейкиной тоже как-то странно получается. Никого она не помнит, говорит, что встретили ее на улице, а по всему выходит, что у Митрошки она в квартире тоже бывала, видели ее несколько раз в том дворе. Хотел, чтобы она посмотрела снимки, а муж, — он махнул в сторону двери, — говорит, что она больна, не двигается, с трудом узнает близких, какие уж тут опознания…
Уваров бросил снимок обратно на стол.
— … Если бы ему сумку найти…
— Какую сумку? — Данин натянулся, как струна.
— Митрошка сумку обнаружила в квартире, когда пришла на следующий день. Но кто-то ее забрал. Она сама не знает кто, она разглядела плохо, очки, дуреха, не успела надеть. И не из компании Спорыхина был человек. Кто такой — неизвестно, — Уваров без усмешки, серьезно и изучающе смотрел на Данина. — Обманом кто-то вынудил ее отдать сумку. Короче — пока мрак.
Данин стойко выдержал взгляд. Не отвернулся. И Уварову самому пришлось отвести глаза. «Я становлюсь завзятым лицедеем», — с тоской подумал Вадим, а вслух сказал:
— Да, тяжело.
— Ну что ж, — Уваров встал, — я вас больше не задерживаю.
Вадим тоже поднялся. Увидев протянутую руку, с трудом решился подать свою. Крепкое, искреннее рукопожатие вогнало его в еще большую тоску. Он подошел уже к двери и все медлил выйти, все никак не мог собраться с силами и дернуть за ручку. На какое-то мгновение ему показалось, что мастерски обитая коричневым дерматином дверь закачалась, завертелась перед глазами, он прикрыл веки и схватился одной рукой за лоб.
— Вам плохо? — услышал за спиной встревоженный голос.
— Нет, нет, — и Вадим рванул дверь на себя.
Можейкин вскочил, завидев его.
— Ну что там? Никаких перспектив? — спросил он. — Вы-то должны быть в курсе.
— Перспективы есть всегда, — с расстановкой, не глядя на Можейкина, сказал Вадим.
— Вот это хорошо, вот это хорошо, — Можейкин вплотную приблизился к Вадиму. — А что за снимочки там? Узнали кого, а?
Данин взглянул на него внимательно и тут вспомнил, как выходил Можейкин из дома, где живет Лео, как заталкивал жену в машину, словно мешок картошки, и смутная догадка мелькнула в мозгу и мгновенно испарилась, он попытался погнаться за ней, ухватить ее, ускользающую, но безуспешно.
— Не узнал, — тихо сказал Вадим. — Но, если надо, узнаю. Повернулся и устало зашагал к выходу.
Пальцами до пола спереди, пальцами до пяток сзади. Вниз… вверх… назад… вверх, вниз… назад, с силой, с ожесточением, с беспощадностью, без компромиссов. Зарядка — благое дело. И чтоб до пота, чтоб до боли, до усталости, до изнурения; чтоб не думалось, чтоб не мыслилось, чтоб пусто в голове было, до звона пусто. И не останавливаться, не поддаваться, не малодушничать, как привык за последние деньки. Хоть здесь-то себя уважать. Изнемог, истерзался… Так и что? Давай продолжай, ведь есть еще сила, не может не быть. Бум, бум, глухо бьются кулаки в измученную, помятую грушу. И вот она уже в испуге, уклоняется то влево, то вправо, убегает назад, просит пощады, но некуда ей бежать на крепком ремне она, сколько влезет охаживай ее, и никуда она не денется, крепко подвязана к потолку. Вот так и я. Мордуй меня, дубась, рви в клочья, а прочно подвязан я на ремешке… Опять?! Снова всякая дрянь лезет в голову. Прочь, вон, выкорчевать, выдавить, выцедить с потом… Бум, бум… теперь ногами ее, левой, правой, чтоб знала, чтоб все знали.
Тонкие жаркие струи остервенело впились в его кожу, будто только и ждали этого мгновения, чтоб вырваться из металлического плена и вцепиться в него, истомленного и одуревшего. А теперь рывками, рывками кран выкручивать, чтоб леденели плечи и согревались вмиг…
Из ванной Вадим вышел словно опьяневший, с шальными, невидящими глазами, едва переступая размякшими ногами, проковылял в комнату, остановился посреди нее, огляделся, будто впервые сюда попал, поморгал сонно, с усилием донес себя до кресла, плюхнулся едва не завалившись вместе с ним на спину, глупо хихикнул, затем длинно вздохнув, вытянул ноги и затих.
Он не спал, и не дремал, и глаз даже не прикрыл, хотя, устал и истома его одолела, и в самый раз было бы сейчас забыться на какое-то время, восстановить силы. Но глаза не закрывались, им было интереснее разглядывать свет, чем тьму. А потом истома прошла. Он взбодрился, стал яснее чувствовать, видеть. И тогда он прислушался к себе. И ничего не уловил из того, что мучило его вчера, сегодня и ночью, и утром. И обрадовался, и встал удивленный; сбросив на пол халат, насторожился и вновь ничего не ощутил. Вот и распрекрасно, хоть день отдыха. Он знал, что именно день, а может, и того меньше, завтра все снова навалится, и опять начнется беспощадная борьба с самим собой… Он знает, он уже изучил себя, он за эти недели жизнь прожил. А сегодня вот отдых, так вот вышло, и надо ловить эти мгновения, хоть мало их, но они есть, они существуют, они дадут ему возможность отвлечься, хоть как-то привести мысли в порядок. Итак, сегодня дома. Целый день, до ночи. Книги, телевизор, музыка…
Около пяти заливисто просигналил телефон. Без всяких недобрых предчувствий Вадим оторвался от книги, кряхтя, потянулся к аппарату, стоящему на полу, взял трубку и тут же пожалел, что взял, до слез пожалел. Надо было отключить его. Почему он забыл? Это была Можейкина. Она не поздоровалась и не спросила даже, он ли это, или кто другой, начала скорей тараторить слова, как показалось Вадиму, выученные заранее, или методично и упорно кем-то вдолбленные. И пока она говорила, опять проскочила и исчезла в мозгу расплывчатая, зыбкая догадка. О чем же он подумал? А говорила Можейкина вот что:
— Не забыли меня? Помните. Это я. Люда Можейкина. Вот. Чувствую я себя хорошо, все уже в порядке. А вы не забыли, о чем я вас просила? Пожалуйста, молчите. А то меня убьют. Видите, я же молчу. И вы тоже, ради меня.
— Кто убьет? — перебил ее Вадим.
— Вы их не знаете, и я не знаю, но они не остановятся. Они меня постоянно в поле зрения держат… Хм… Хм… — она, видимо, забыла, что говорить, в трубке щелкнуло, а потом пропали шорохи и посторонние шумы, будто трубку прикрыли ладонью, а потом опять заговорила Можейкина: — Меня допрашивать нельзя, я больна, и вы единственный, кто их, ну тех, видел. Умоляю вас. Ну что для вас сделать? Может, встретимся? — сказала она, жеманясь, как девочка, потом вскрикнула, и завыли нудные гудки.
«Сумасшедшая», — с невольным страхом подумал Вадим. И вновь все разладилось. Разом. В один миг. И Вадим понял, что отдыха сегодня не будет.
Вадим рывком подтянул к себе телефон за провод, снял трубку, и пальцы сами, на доли секунды опередив его мысли, стали набирать номер. Беженцев был на месте, и это была удача. Только бы он не спешил никуда, как всегда…
— Вадька, корешок разлюбезный! — Беженцев был возбужден и весел. Он был в порядке. У него все стояло на своих местах. — Вечер свободен? Вот и распрекрасно, вот и расчудесно. Значит, так, сегодня гуляем, отдыхаем, веселимся, и все такое прочее. — «Хоть здесь-то повезло», — вяло подумал Вадим. — … На Радищева, ежели ты в курсе, молодежный центр открыли. У меня дружок там директором. Понял? Там сегодня вечерок замечательный имеет место быть. И у меня для тебя дама припасена. Хо-рошая! — Беженцев причмокнул. — А я со своей Наткой буду. А… да ты ее не знаешь, ну познакомишься, она с областного радио. Короче — в семь, Радищева, двенадцать. Все.
Вадим любил эту улицу, хаживал по ней часто, и когда по делам спешил и нередко просто так, прогуливаясь, если выпадала вдруг возможность рядом с ней оказаться. Теплой и нежной она ему виделась, обаятельной и доброй. И люди, заполняющие тротуары, казались ему добрее и улыбчивее на фоне задумчивых, ох, как много повидавших, двух-трехэтажных старинных особняков.
К одному из таких неброских, не особо приметных, но явственно осознающих свой возраст и свою мудрость, а значит и значительность, Данин сейчас и приближался. В четырех окнах первого этажа он еще издалека заприметил пестрые витражи, окна второго были глухо зашторены. Зданьице выглядело веселым и в то же время таинственным. А потом он увидел и Беженцева, и двух девушек, стоящих рядом. Одна стройненькая, длинноногая, в чем-то белом и легком, прижималась к Женьке, — он держал ее за плечи, полуобнимая. Туалет второй издали походил на витраж нижнего этажа. Вадим хмыкнул — та, вторая, видимо, для него. Вадим еще шел в метрах двадцати, а лохматый, растрепанный (будто он причесывался всегда только пятерней) Женька уже приветствовал его радостными возгласами типа «ха-ха», «эгей», девушку в белом и легком — это оказалось перетянутое узким пояском тонкое платьице — он действительно держал одной рукой за плечи. Девушка внимательно и изучающе оглядела его из-под модной челки и только после этого вежливо улыбнулась. Вадиму на секунду показалось, что он где-то видел ее — на улице, в компании или во сне? Он даже чуть замедлил шаг, разглядывая ее, затем спохватился и озарился лучезарной улыбкой — трудновато далась она ему. Женька освободил девушку от своей опеки, шагнул навстречу Вадиму, обнял его, поцеловал. Он всегда так встречался с друзьями, даже если видел кого-нибудь из них только вчера. Он, видимо, считал, что так принято у творческих людей.
— Вечность мы не виделись, вечность, — истово размахивая руками, сообщил он девушкам. Вторая — та, что «а-ля витраж», смотрела на Данина без особого интереса и только учтиво приподняла краешек губ в полуулыбке. Ее огромным сероголубым глазам, наверное, всегда было скучно и противно. Они словно говорили: «Неужто мне, такой красивой, томной, в цветастой просторной безрукавке, с такими ультрасовременными, до плеч почти, сережками, в таких замечательных супермодных штанах, еще кто-то нужен?»
— Знакомьтесь, — Женька, как ему казалось, незаметно подмигнул ей, — Вадим, это Ира, а вот это, — он по-хозяйски притянул к себе ту, которую Данин где-то видел (все-таки во сне, усмехнувшись, решил он), — вот это Наташа.
Все трое почти хором сказали «очень приятно», и Женька захохотал довольный. Пока он смеялся, Наташа опять пристально посмотрела на Вадима и нахмурилась.
— Все, — заключил Беженцев. — Пора. Ирка, цепляйся к Вадиму, и пошли.
Вход в центр был со двора. Они прошли крошечным проулком и очутились возле открытой деревянной двери, по бокам ее, как атланты, застыли серьезные ребята с красными повязками на рукавах. Один из них, крепкий, короткошеий, преградил путь и строго спросил:
— Вы куда, молодые люди?
Будто сам был уже далеко немолодым.
Беженцев небрежно отстранил его, давая возможность пройти остальным, и через плечо бросил:
— К Корниенко.
Тесный вестибюль встретил полутьмой, духотой и ароматом импортных духов. Впереди совсем близко, сквозь строй декоративных канатов, свисающих с косяка дверного проема и заменяющих, по всей вероятности, дверь — дизайн! — они различили столики, много людей, услышали возбужденные, веселые голоса. Женька шел уверенно — видимо, не первый раз уже бывал здесь. Не доходя канатной двери, свернул направо, там оказалась неширокая и недлинная — ступенек семь-восемь — лестница, а дальше на площадке зеркало во всю стену, а над ним змеей распласталась трубка дневного освещения, неяркая, приглушенно-розоватая, как молоко с клубникой. И в этом зеркале Вадим увидел всех сразу — и себя, и своих спутников. И заметил, как деловито, будто к работе готовясь, оглядела себя Ира, как мазнула лишь взглядом по своему отражению Наташа, как Женька показал себе язык, и себя увидел, мрачноватого, с тяжелым взглядом, с плотно сжатыми губами. Вот почему, наверное, Ира отнеслась к нему без особого любопытства. Такие ей небось не по душе, ей разудалые нужны, беззаботные, смешливые, говорливые, а он вот и слова не вымолвил, пока шли…
А на втором этаже оказался уютный, со вкусом, разноцветно подсвеченный зальчик с крохотной сценкой и тоже с зеркалами и даже с пультом для диск-жокея. И здесь тоже, как и на первом этаже, было много людей — молодых ребят и девушек. Музыка не звучала, не настало, видимо, для нее еще время, а им и без музыки было радостно, они в приподнятом настроении пребывали, они отдыхать сюда пришли, а потому и говорили без умолку, знакомились тут же, без церемоний, хохотали взрывно.
Ира подобралась, расправила плечики, потянула носом, как охотничья собачка, дичь выискивая, заскользила взглядом по пестрой толпе. А нетерпеливый Женька тянул их уже за собой, в маленькую дверцу сбоку.
И там, в директорском кабинете, тоже люди были, много, на креслах сидели, на столе даже, стояли, привалившись к стенке. Здесь построже ребята были, посерьезней, в модных костюмах, в галстуках, аккуратно стриженные. «Секретари комсомольских организаций», — шепнул Женька.
За столом, выпрямившись как на собрании, сидел молодой мужчина с озабоченным лицом. Невыразительным оно Данину показалось, гладким и сытым, будто нет у этого человека никаких стремлений особых, и сомнений никаких нет, в себе во всяком случае, и все у него хорошо, и всем он доволен, и спится ему по ночам замечательно, и работается в охотку. «А на этом месте одержимый должен быть, истовый, — подумал Вадим и перебил тут же себя, пристыдил: — Нельзя по первому впечатлению вот так огульно, ничего не зная о человеке, судить. Может, все и не так у него замечательно и хорошо».
А тут и впрямь собрание проходило, только не подготовленное заранее, импровизированное. Спорили о молодежных театральных студиях, стихийно произрастающих в городе и, как правило, выпадающих из-под контроля комсомольских организаций. Корниенко слушал ребят с непроницаемым лицом и чуть наклонив голову. А когда поднял ее и увидел Беженцева, властным взмахом руки установил тишину, указал на Женьку и сказал, обращаясь ко всем:
— Вот пресса пришла. С ней мы сейчас и посоветуемся. Ей-то и предложим нам помочь… Маловато пишут о нас, дорогой товарищ Беженцев, и не знает городская молодежь о нашем центре, вот и группируются самостийно, вокруг всяких подозрительных личностей. Сделал бы статеечку, громадненькую, на полполосы. Такую, чтоб с проблемкой, с размышлениями, с высказываниями и театральных работников, и комсомольцев, и самостийных, чтоб мнения столкнуть…
— Сделаем, сделаем, Жора, все сделаем, — радостно отозвался Женька и стал протискиваться к начальственному столу. — Весной ведь дали уже заметочку…
— Вот именно заметочку, — перебил его Корниенко, — а нам статеищу надо, а то все «сделаем», «сделаем», уже пять месяцев, а все «сделаем», «сделаем», — передразнил он Беженцева. — В горком партии, что ли, обращаться, я там могу кое с кем перемолвиться, — сказал и незаметно окинул присутствующих, наблюдая, какой эффект его слова произвели. Потом добавил:
— Ну все, на этом закончим, остановимся пока на печати. И радио подключим. Идите, отдыхайте, расслабляйтесь, развлекайтесь. Сегодня замечательная программа, и у меня для вас сюрприз.
Когда все вышли и они остались впятером, Беженцев представил своих спутников. Корниенко, как истинный джентльмен, встал из-за стола, застегнул пиджак и только тогда воспитанно поклонился. На Ирину он посмотрел с нескрываемым восхищением, поцеловал ей руку и даже, как показалось Вадиму, пожал многозначительно кончики пальцев. Когда он наклонился, Ирина хмыкнула и передернула плечиками. «И этот ей не понравился», — позабавился Вадим. На Наташе взгляд его задержался дольше, и смотрел Корниенко на нее как-то странно, будто и не человек она вовсе, а зверь диковинный, будто и не видел он ничего подобного никогда. Женька недовольно свел даже брови, приметив этот взгляд. «А вот Наташка ему больше по душе пришлась, чем «а-ля витраж», — с легким удивлением продолжал наблюдать Вадим. Ему самому Корниенко подал руку с бесстрастным и безразличным видом. Так пожимают руки вахтерам.
— Какой такой сюрприз ты обещал? — спросил Беженцев, вольготно развалившись в мягком кресле.
— О-о-о, — Корниенко со значением поднял палец. — Ладно, вам так и быть скажу, как друзьям. Через… — он взглянул на часы, — минут пять-десять придет Ракитский…
— Ой, — воскликнула Ира, недоверчиво распахнув свои густо накрашенные глазищи. — Сам Ракитский! Бог мой! Вот мужчина! Я так мечтала познакомиться…
Корниенко как-то весь ужался на мгновение после этих слов. Но только на мгновение, и никто этого не заметил, кроме Вадима, и через секунду он уже самодовольно улыбался:
— Да-да, сам Володя Ракитский.
Вадим что-то слышал об этом актере. Поэт, музыкант и исполнитель своих песен, бард — одним словом. Схож, как говорили, с Высоцким, и голосом, и манерой. Слышал, что популярен Ракитский, что смел и независим, а на концертах бывать не приходилось, не случилось, а сам и не рвался никогда, все недосуг было. Ну что ж, посмотрим, что же это за такой любимец публики. Таков ли он, как о нем говорят?
Ира теребила сидящую рядом Наташу:
— Что ты, дурочка, сидишь, ведь Ракитский же?!
— Ну так что ж? — та усмехнулась. — Плясать, что ли?
Корниенко, перекладывая бумаги на столе, искоса взглянул на Вадима, как, мол, не задевает его Ирина болтовней. Ведь вроде с ней он пришел. Но ничего, видимо, не прочел на равнодушном лице Данина и расстроенно оттого, что ничего не углядел, поджал губы.
За дверью оживленно зашумели, Корниенко излишне торопливо выбрался из-за стола и ринулся к двери. Но она уже отворилась, и в проеме показался невысокий ладный парень лет тридцати, с длинным жестким лицом, крупным носом, тяжелым подбородком и тяжелым взглядом. Был он в темном свитере, в вельветовых черных джинсах, в белых туфлях, в руке держал футляр с гитарой. «А ведь и внешне похож», — удивился Вадим.
— Здравствуй, Володя, — расплываясь в самой благодушной улыбке, протянул к нему руки Корниенко, — ты вежлив, как король.
Ракитский устало кивнул ему и потянул за собой дверь. Но она не поддалась, за его спиной в полумраке светлело множество любопытствующих лиц. Корниенко замахал на них руками:
— Товарищи, товарищи, посторонитесь. Так же нельзя.
И опять наступила пора пожимания рук. Ракитский женщинам пальцев не целовал, пожимал только поспешно их ладошки и кивал учтиво. Ирина вся затрепетала, когда он улыбнулся ей, хотела что-то сказать, уже приоткрыла яркий полный рот, но решила, видимо, что еще не время, именно решила, а не замешкалась, не смутилась — и не сказала поэтому ничего, а только обольстительно улыбнулась в ответ. Данину показалось, что он услышал легкий запах спиртного перегара. Это от Ракитского, верно. Для храбрости выпил, для куражу?
— Мог бы опоздать, — низко, с хрипотцой проговорил Ракитский, раскрывая футляр и извлекая гитару. — На Октябрьской затор, по осевой не пускают, пришлось выйти, сказать кой-чего гаишнику, — он небрежно пробежал по струнам. — Пустил, куда денешься…
Наташа повернулась к Вадиму, и они встретились взглядами, и, кажется, все угадали друг про друга, и обрадовались оба этому.
— Сколько мне петь? — спросил Ракитский.
— Сколько сможешь, — Корниенко не переставал улыбаться и преданно глядеть на гостя.
— Много не смогу, — сказал Ракитский, перехватывая гитару за гриф правой рукой и опуская ее к ноге. — Полчаса.
— А может, побольше, Володя, — Корниенко умоляюще прижал руки к груди. — А то столько ждали.
Ракитский лениво помассировал шею:
— Час.
Корниенко и Вадим выходили из кабинета последними. Данин в дверях попридержал директора за локоть и полюбопытствовал:
— Если не секрет, сколько вы заплатите ему за выступление?
Тот остановился, развернулся всем телом, презрительно приподнял кончики губ, проговорил профессорским тоном:
— Не все меряется на деньги, молодой человек. Здесь Ракитский выступает бесплатно. Он будет петь для друзей, для своих сверстников, для своих младших товарищей.
— А-а-а, — протянул Вадим, — ну если для друзей, тогда понятно.
Места для них не хватило, на стульях, собранных со всего дома, сидели по двое, много ребят примостилось на полу перед крохотной сценкой. Женька попытался было вытащить кресло из директорского предбанника, но оно никак не пропихивалось в дверной проем и в конце концов выскользнуло из его рук и рухнуло ему на ногу. В зале загоготали, а уже взошедший на сценку Ракитский недовольно посмотрел в Женькину сторону и раздраженно дернул подбородком. Наташа кинулась помогать Женьке, что-то тихо и ласково выговаривая ему, а Данин тем временем поставил кресло на место. Так что пришлось им жаться возле самой сцены, в окружении таких же несчастных, как и они. Корниенко же по праву хозяина с важным видом присел на краешек сценки, в самом дальнем затемненном углу.
Два направленных со стен софита выбелили лицо Ракитского, и в контрасте с темным свитером оно виделось недвижной восковой маской. Актер утомленно прикрыл глаза, и лицо приняло совсем уж трагичный вид. В зальчике воцарилась тишина. «Зачем так ярко? — подумал Вадим. — Ведь можно поставить фильтры». Но когда Ракитский начал наигрывать грустную мелодию, понял, что все рассчитано, что так и было договорено, что отлажено все и отрепетировано заранее, и этот свет, и полузакрытые глаза, и замедленные движения. Ловок, бард!
Запел он тихо и низко, умело запел; во всяком случае, со слухом у него все было в порядке. Потом голос его окреп, стал громче, и только сейчас Вадим начал разбирать слова. Он внимательно и жадно вслушивался в них, боясь хоть чего-то упустить… А когда кончилась песня и грохнул зальчик аплодисментами, посмотрел по сторонам недоуменно: чему хлопают? Ведь песня ни о чем, и ритма в стихах нету, и духа авторского, и явно в подражании они написаны, в плохом, неумелом подражании. Так, набор штампов. Данин помотал головой, может, ему почудилось, может, ошибся, может, не понимает ничего, а это новое, значительное, не всеми — такими же, например, как и он, нечувствительными, — принятое. Скорее всего, успокоил себя Данин, это не совсем удачная песня, ведь и у гениев бывают чудовищные провалы. Надо слушать дальше и постараться проникнуться, попробовать слиться с автором, как сливается с ним восторженный зал. Но и вторая песня оставила ощущение пустой болтовни. И третья. А потом Ракитский запел о войне. Много было в стихах красивых и правильных слов, и вроде по правилам они рифмовались, и что-то он там об истомленных матерях пел, об убивающихся женах, о рвущихся на фронт детях… И все, казалось бы, хорошо, если б только в строчках этих что-то свое, истинное свое, неподражаемое было, чтобы откровение в них было, не для зала, для себя, чтобы сердце было, неспокойное, настоящее. А может, слишком высокие требования он к Ракитскому предъявляет? Может, для нашего города и такой хорош? Какой-никакой, а свой, и, несмотря ни на что, будем его восхвалять, возносить, восхищаться, будем убеждать себя вопреки всему, что вот это «высоко», как говорит «а-ля витраж». А потом он пел что-то беспомощное о театре: о дураке администраторе и хитреце актере, потом что-то про своих соседей… Между песнями лениво ронял слова, рассказывая последние сплетни о своих друзьях-коллегах, небрежно сообщил, что ему предложили главную роль на Свердловской киностудии, пытался острить, спрашивал, как зовут какую-то вмиг зардевшуюся девушку из первого ряда. Вадиму стало скучно. Он посмотрел на стоящую впереди Наташу, поморщился, увидев на ее плечах неизменную Женькину руку, полюбовался изящным изгибом ее шеи, стройной гибкой спиной, тонкими длинными ногами, потом попытался взглянуть на нее сбоку, и словно почувствовала она, что ее рассматривают, напряглась сначала, потом провела по волосам, изготавливаясь словно, и повернулась, и встретилась с Вадимовым взглядом, и нахмурилась вновь, а потом улыбнулась, кивнула легонько в сторону сцены и едва заметно обозначила пожатие плеч. И снова поняли они друг друга без слов. Вадим потоптался на месте, повертел головой по сторонам, уловил движение впереди себя, опять повернулся к Наташе. Это Ира наклонилась к уху подруги и громко зашептала, стараясь перекрыть звон гитары:
— Вот это парень, именно за таким хоть куда. Сильный, уверенный, не то, что сопляки наши, — она красноречиво посмотрела на Женьку, но так, чтобы Наташа не заметила. — И талантливый. Он кого хочешь за собой уведет, и никто не посмеет отказать.
— А ты? — тихо спросила Наташа, не поворачивая головы.
— Что я?
— Ты тоже не посмеешь?
— Может, и не посмею, — неопределенно ответила Ира, уловив насмешку.
Вадим прикусил губу, сдерживая ухмылку, шагнул ближе к девушкам, приблизил лицо к Ирине, спросил невинно:
— Ирочка, не хотите кофе? Из бара так вкусно пахнет, а здесь так скучно…
О, каким взглядом она его одарила, два огнеметных ствола уперлись в его лицо. Будь ее воля, он валялся бы уже весь обугленный посреди зала. Она неприязненно приподняла верхнюю губу, обнажив длинные, влажные зубы, процедила:
— Да ты что… — и, не договорив, отвернулась.
— Ну вот и славно, — сказал Вадим, — значит, мы уже на «ты». Ну как хочешь, дорогая, а я пойду.
Посмеиваясь, он повернулся и резко сбежал по ступенькам. Бар был пуст и тих, самое основное действие сегодняшнего вечера развертывалось там, наверху, для кофе и мороженого не настал еще час. Подходя к стойке, он несколько раз отразился в стенных зеркалах и подумал весело: «А ведь я посимпатичней».
Черноволосая, под мальчишку стриженная девушка с отсутствующим лицом подала ему кофе на стойку и небрежно сгребла мелочь. Наверху снова загремели аплодисменты, и Вадим отпил глоток. Кофе был безвкусный.
Он вынул сигареты. Интересно, можно здесь курить? Но спрашивать было не у кого, девушка с флегматичным лицом исчезла, и он закурил. Может, уйти отсюда? Не радует его этот дом. А свой дом порадует? И вообще, что его сейчас радует?
— Там и вправду скучно, — сказал кто-то совсем рядом. Вадиму даже не надо было поворачиваться, чтобы увидеть, кто это. Он почему-то был уверен, что именно так и произойдет. Может, еще и оттого захотелось ему уйти?
— Я вот тоже… — Наташа натянуто улыбнулась и закусила вдруг губу, мигом стерев улыбку: — Сядем… Что стоять?
— Сядем, — согласился Вадим, — Кофе?
— Нет, не хочу.
Они сели за ближайший столик, друг против друга. Помолчали. Наташа вздохнула, поудобнее устроилась на стуле, сказала с излишней серьезностью:
— Женя пошел звонить, а это надолго, а я вот не выдержала.
— Не понравился? — спросил Вадим.
— А такое может нравиться? Суррогат.
— Однако все в восторге.
— Ничего, скоро прозреют. Это внушение. Массовый психоз. Это проходит. Он очень цепкий и хваткий парень.
— Я заметил. Вы с ним знакомы?
— Нет. Слышала. Рассказывали коллеги. Он хотел записываться у нас на радио. Его слушали, но не отобрали. Там грамотные люди. Понимают, что к чему.
Он почувствовал себя свободней, контакт наладился. До этого лишь глаза говорили, а теперь надо было произносить слова. А это сложней, хотя на первый взгляд кажется наоборот.
— Ваша подруга тоже от него без ума.
— Это не моя подруга. Хотя мы знакомы давно. Это Женина коллега. Секретарь редактора. Женя привел ее для вас. А она на вас обиделась, да?
— Обиделась, — усмехнулся Данин, вспомнив гневное Ирино лицо. — А я всего лишь пригласил ее попить кофе.
— О-о, это оскорбление, — с веселой улыбкой сказала Наташа. — Сей замечательный бард — теперь кумир, и кто не проникся — первейший враг на веки вечные.
— Значит, все? Значит, враги? — Данин отринулся в шутливом испуге к спинке стула. — Значит, плакали мои надежды и не будет прощального поцелуя у подъезда?
— Значит, не будет, — рассмеялась девушка. — А какие планы! Сначала прощальный поцелуй, потом невинная просьба что-нибудь попить, мол, в горле пересохло. Затем интересный, умный разговор, может быть, даже горячий спор, чтоб время оттянуть. Потом якобы случайный взгляд на часы, всплеск руками, ох, как поздно, автобус не ходит, такси не достать, придется вам приютить меня. Так?
— Простите, — серьезно сказал Вадим. — Я не все запомнил. Позвольте, запишу. Представится случай, буду действовать по вашей разработке. Грамотно.
Наташа засмеялась, сведя плечики и прикрыв пол-лица ладошками, хотя ничего особо смешного, как ему показалось, он не сказал, так, сострил не совсем удачно. А она смеялась. И не его словам все-таки, наверное, смеялась. Просто ей было хорошо и весело…
— Ты давно так не заливалась, котенок, — нечесаная Женькина голова зависла над столиком. Беженцев старался всем видом показать, что у него прекрасное, беспечное настроение. — Это Данин так тебя развеселил? Мастер. Ты его бойся, Наташка. — Он раздвинул губы в самой беззаботной улыбке. — Опасный человек. Не успеешь глазом моргнуть…
Он подвинул стул ближе к Наташе, сел, тесно прижавшись к девушке, убрал у нее челку со лба, поцеловал в щеку. Наташа опустила голову, уперлась взглядом в кофейную чашку.
— Уже все кончилось? — Вадим вытащил еще одну сигарету, предложил Беженцеву.
— Здесь вообще-то не курят, — сказал тот и оглянулся. — Нет, не кончилось. Просто я потерял вас и решил поискать. А вы вот здесь веселитесь в уединении. Что убежали-то? На такой концерт не часто попадешь.
— Душно, — сказал Вадим. — Вентиляция плохая.
— И стоять я устала, — мельком глянув на Данина, объяснила Наташа.
— Да, и с вентиляцией, и с местами сидячими здесь не продумано, — озабоченно подтвердил Беженцев. — Надо будет помочь Жорке. А ушли вы зря. Гигант парень, верно?
— Нормально, — сказал Вадим. — Неплохо поет.
Наташа кротко посмотрела на него, и в этом взгляде он уловил благодарность. «Хорошая девочка, — с грустью подумал Вадим, — не хочет обижать своего… Как его назвать-то?»
— Неплохо… — слегка обиделся Женька. — Великолепно! А песни какие! — он опять оглянулся и полушепотом попросил Данина: — Дай затянуться.
… И будто хлынула напористым потоком шумливая вода по лестнице. Это плотной толпой, выкрикивая что-то громкое и веселое, спускались удовлетворенные, возбужденные слушатели. Скоро озеркаленный зальчик многоголосо гудел. Все столики были заняты, а у стойки выстроилась длинная, бурливая очередь.
Ракитский, Корниенко и Ирина спустились вместе, когда, по-видимому, никого уже не осталось наверху. Глаза у них загадочно поблескивали, и вид был заговорщицкий, будто объединяла их какая-то тайна. Ракитского все стали приглашать к своим столикам, но он только устало крутил головой и расслабленно следовал за Корниенко, небрежно, как на светском приеме, придерживая за локоток Ирину. Та счастливо сияла и с плохо скрытой жадностью ловила обращенные на нее взгляды. Корниенко остановился за Женькиной спиной, указал своим спутникам на столик, сказал: «Сейчас!» — и торопливо прошагав к стойке, скрылся за ней.
Через мгновение появился, нагруженный тремя стульями. И хоть тяжеловато ему было и неудобно, но вида не показывал, привычно-барственное достоинство сохранял. Шел, выпрямившись, не торопясь, со снисходительной полуулыбкой, словно не стулья тащил, а играючи нес вазочки с крем-брюле; только побелевшие пальцы и вздрагивающие локти выдавали усилие. Ракитский даже не шелохнулся, чтобы помочь; как должное заботу о себе воспринимал. Мастером, видать, себя ощущал, маэстро! Вадим дернул непроизвольно верхней губой, простучал пальцами дробь по столу, взглянул на Наташу, но она не перехватила его взгляда, она сейчас другим занята была — старательно крошку какую-то стряхивала с Женькиной губы. Данин сомкнул глаза на секунду, коротко помассировал лоб пальцами, — и вправду, уйти, что ли? Корниенко расставил стулья, потеснив Наташу и Женьку; жестом пригласил Ракит-ского и Ирину и, не садясь пока сам, властно крикнул, обращаясь к барменше:
— Нина, шесть двойных!
— И выпить бы что-нибудь, — томно подсказала ему Ирина, подвигаясь почти вплотную к Ракитскому.
— У нас не пьют, — с притворной строгостью заметил Корниенко. — Сухой закон.
— Ох, какие страсти, — Ирина поджала губы. — А как же наверху…
— Ты разве не поняла меня, девочка? — нехорошо улыбнулся Корниенко.
Ирина скорчила капризную гримаску и потерлась плечом о Ракитского. Тот слегка отстранился, но не нарочито, а так, будто ему не совсем удобно было сидеть. Он медленно обвел всех взглядом и остановился на Наташе. Приподнял краешек губ и спросил негромко, зная наверняка, что его услышат:
— А почему вы ушли? Вы так помогали мне работать. Ваши глаза помогали. Вам не по душе мои песни? Или я не по душе?
— А мои помогали? — с пьяноватой требовательностью спросила Ирина.
«Она-то когда выпить успела?» — изумился Вадим.
— Что твои? — не понял Ракитский.
— Мои глаза помогали?
— А-а, — протянул Ракитский и опять повернулся к Наташе, — помогали, помогали…
Ира хихикнула и приняла скромный вид.
— Так как? — переспросил Наташу Ракитский.
Бесшумно подошла барменша и аккуратно расставила чашечки. Ракитский даже не взглянул на нее.
— У вас хороший голос, — наконец сказала Наташа. Глаза ее уперлись куда-то в подбородок Ракитскому. — Вы профессионально держитесь.
— И все? — прищурился Ракитский.
— Вы ей страшно понравились, Володя, — подал голос сияющий Женька. — Это она смущается просто, — он, как ребенка, погладил девушку по голове. Наташа мягко отстранила его руку. — Она не может все сразу вот так сказать.
— Слов нет? — ухмыльнулся Корниенко.
— Вот, вот, — закивал Женька, — именно нет. А какие могут быть слова, одни эмоции. Я, как струна, был натянут, ни разу не расслабился. Слова, как шипы, в мозг вонзались, как гвозди, вколачивались. Очень сильно, Володя, очень ёмко, очень страстно. И вроде обычно на первый взгляд, как у всех, а приглядишься, нет, иначе все, по-другому, как-то особенно, специфично, что ли. — Он говорил громко и быстро, стараясь не останавливаться, не делать пауз, потому что видел, как недоуменно-осуждающе смотрит на него Наташа и все хочет сказать что-то, но не решается прервать его. — И зал можете держать в напряжении, а это искусство — покорять. Запросто можете с залом, а это тоже архисложно… И ещё, — он запнулся вдруг, — и ещё…
— Товарищи! — загремел, перебивая его, Корниенко. Он поднялся и, недобро глядя в глубь зала, застыл в гневе, как статуя командора. — Сколько раз говорить, здесь не курят! Вот вы, в синей курточке, выбросьте сигарету или покиньте зал!
Гомон в зале стих, все вдруг заговорили шепотом.
— Наглецы! — тихо процедил Корниенко, усаживаясь. — Дай им волю…
Женька сдвинул брови, силясь вспомнить, что же он еще хотел сказать, ища поддержки, посмотрел на Вадима, но, наткнувшись на его отсутствующий взгляд, повернулся к Наташе. Та мелкими глотками пила остывший кофе и смотрела куда-то между Ирой и Корниенко. Женька сморщился и в досаде щелкнул пальцами, но Ракитский даже не смотрел на него, тонко ухмыляясь, он в упор разглядывал Наташу. Потом вытянул палец в ее сторону и разомкнул губы, желая что-то сказать. Ему помешали. Двое ребят, парень лет восемнадцати, худой, большелобый, восторженный и хорошенькая крохотная девчушка, в модном коротком платьице, остановились возле него.
— Простите, — осевшим от волнения голосом произнес парень.
— Что еще? — недовольно повернулся Ракитский.
— Мы хотели спросить…
— Наверху надо было спрашивать, — встрепенулась поникшая было Ирина. — Сейчас мы отдыхаем.
— Простите… — растерянно повторил парень.
— Это вы магнитофоном щелкали? — поворачиваясь к ним и тяжело глядя снизу вверх, спросил Ракитский. — Вы знаете, что очень сложно работать, когда все время щелкают. Это отвлекает и рассредоточивает. Думаете, это запросто, вышел, спел? — он повысил голос. — А я три килограмма за выступление теряю. Вам понятно это?
И через мгновение вспышка угасла. Ракитский расправил напрягшееся лицо и вяло поинтересовался:
— Что вы хотели?
Парень был явно задет, восторженность исчезла из глаз. Он хотел было уйти, но девчушка удержала его.
— Вы сочиняете песни о войне. И, разумеется, сами не воевали. И родители ваши не воевали, как вы говорите. Значит, генетической памяти нет…
В зале все умолкли, даже шепоток торопливый стих, только звякнул кто-то кофейной чашечкой, кто-то стулом скрипнул…
— Но есть память сердца, — опустив веки, хрипло и ожесточенно как-то начал Ракитский. — Память людских глаз, память людских слез. Есть память ожогов и ран, память смерти на вздохе. Это память живет в моем народе, и мой народ питает меня этой памятью…
— Именно ваш народ? — вдруг громко спросил парень, сделав ударение на слове «ваш». Обида скривила его губы и выстудила глаза.
Ракитский горестно усмехнулся, но ничего не ответил парню, продолжал:
— … питает меня этой памятью. Не каждому дано так чувствовать свой парод. Мне повезло, я чувствую, я слышу дыхание его, слышу плач и смех, я улавливаю те, сорокалетней давности сигналы, не всегда, но улавливаю, и тогда отбрасываю все и пишу, пишу… И сам обливаюсь потом, и ощущаю, как душит меня страх, страх смерти, ощущаю, как льет из меня кровь, слышу стоны, и стрельбу, и взрывы, а потом начинаю слышать свой стон, страшный, протяжный…
Вадим удивленно мотнул головой и, сузив глаза, внимательней вгляделся в Ракитского. Профессионально вещает, бард…
— А еще, — Ракитский медленно повернулся, так же медленно, даже чересчур медленно, поднял глаза на парня. — А еще я не хочу, чтобы вновь кому-то, через двадцать, через сорок лет, пришлось опять чувствовать новую людскую боль, новую горечь! Я хочу, чтобы у таких, как ты, были другие воспоминания, другая была память, память радости, добра, безмятежности, но не праздной безмятежности, а безмятежности от счастья жить. И это мое страстное желание тоже вдохновляет, когда я работаю…
И тут грохнул зал аплодисментами, кто-то ликующе выкрикнул: «Спасибо!»
И поэтому благодарные слова девчонки утонули в неистовом шуме.
И стоило стихнуть аплодисментам, как в тот же миг обрушились сверху,казалось с самого потолка, мощные аккорды филадельфийского джаза.
Корниенко вскочил со стула, засиял лицом, раскинул руки, будто желая обнять всех здесь присутствующих, крикнул как завзятый конферансье на новогоднем бале:
— А теперь танцы!
Одобрительно галдя, ребята спешили к лестнице.
Ракитский с ленивой галантностью склонился перед Наташей:
— Разрешите пригласить вас?
— Первый танец я танцую с Женей, — сказала Наташа, собираясь пройти мимо.
— Ну что ты, Наташенька, — встрепенулся Беженцев. — Я могу уступить. Конечно, первый танец за вами, Володя. Вы сегодня герой дня.
Женя взял девушку за плечи и подтолкнул к Ракитскому.
Когда растаяла шумливая толпа, когда последние, те, кто потише, позастенчивей, уже покидали зал, украдкой косясь на Ракитского, тогда двинулись и они. Впереди чуть развалисто Ракитский, уверенно, по-хозяйски уже касаясь Наташиного локтя, затем улыбающийся им в спину Беженцев, потом Корниенко — прямой, горделиво откинув голову, — с тесно привалившейся к нему Ириной, а уж в самом конце он, Данин, ссутулившийся, с руками в карманах брюк.
— Жорик, выпить хочу, — Ирина, жеманясь, потерлась о плечо Корниенко.
— Помолчи, — цыкнул он.
— У тебя же еще осталось наверху…
— Помолчи! — остервенело уже рявкнул Корниенко и резко обернулся. Встретившись с усмешливым взглядом Вадима, скривил зло губы, но привел их в прежнее состояние и даже попробовал виновато улыбнуться, мол, ну что мне с ней, такой дурочкой, делать?
Маленький танцевальный зальчик преобразился теперь, когда музыка заиграла, когда разноцветные лампадки под потолком замерцали.
Остановившись сбоку от лестницы, Данин провел рукой по глазам, что-то все не так ему сегодня видится, все раздражает, утомляет, неудовольствие вызывает, непримиримость, доселе ему неизвестную. Вот Наташа только…
Она уже танцевала, чуть отстранясь от Ракитского и непроницаемо сомкнув лицо, всем видом давая понять, что по обязанности, а не по доброй воле, позволила она ему себя в объятиях сжать. «Молодец, — похвалил ее Вадим, — умница». Хотя, впрочем, ему-то какое дело. Он-то чего радуется? Женька стоял рядом, заложив руки за спину, едва заметно покачиваясь в такт музыке и все так же широко улыбаясь. Но в глазах веселья не было. Это Вадим углядел точно. Ирина и Корниенко, тесно прижавшись друг к другу, как истинные влюбленные, тоже кружились неподалеку. Диск-жокей пока медленную, томную музыку предлагал, верно, рассчитывая, что пусть поначалу все притрутся друг к другу, приноровятся, приглядятся повнимательней к партнерам.
Ракитский ближе привлек к себе девушку, теперь правая рука его почти полностью охватывала тонкую ее талию, чуть склонив голову, он шептал ей что-то на ухо. Губы его касались ее щеки, левая рука уже гладила плечо, пальцы трогали волосы, шею… Наташа откинула назад голову, что-то сказала ему, поморщившись. Он усмехнулся только и опять потянулся к ее уху. Девушка отвернулась в сторону и прикусила губу. Вадим недобро усмехнулся, посмотрел на переставшего улыбаться Женьку, сунул руки в карманы и, небрежно расталкивая танцующих, направился к Ракитскому и Наташе.
— Позвольте похитить у вас партнершу, — мило улыбаясь, сказал он, остановившись перед ними.
Ракитский посмотрел на него, как на нашкодившего малыша, потом кривенько ухмыльнулся, проговорил снисходительно:
— Ну, конечно же, не позволю и посоветую не мешать нам…
И, считая разговор исчерпанным, с улыбкой повернулся к Наташе.
Вадим протянул руку, не спеша ухватил Ракитского за запястье и, не меняя развеселого выражения лица нажал на кисть:
— И все же позвольте, — вежливо попросил он.
Ракитский скривился, побледнел, но девушку не отпустил, процедил только с усилием:
— Да я тебе сейчас…
— Тихо, тихо, тихо, — Вадим рассмеялся.
А Наташа сама, уже почти высвободившись, положила ему руку на плечо. Вадим тотчас отпустил Ракитского и бережно обхватил девушку. Быстро и злобно забегали желваки на скулах у барда, льдисто блеснули сузившиеся глаза. Однако он ничего не сказал, а отступил на шаг, повернулся и, ожесточенно раздвигая танцующих, пошел прочь.
— Я не прав? — спросил Вадим.
— Правы, но, может, не надо было так грубо, — сказала Наташа.
— Как могу, — Вадим вдруг помрачнел. Надо же, она еще его и защищает.
Ракитский хлопнул дверью в директорский предбанник. Покинув обескураженного Корниенко — он так и застыл с протянутыми руками, — вслед за бардом с возгласом: «Володя, постойте!», кинулась Ирина.
Без паузы загрохотала следующая мелодия, диск-жокей знал свое дело. Наташа приготовилась уже было танцевать, но Вадим взял ее за руку и повел за собой.
— Танцуйте, — сказал он, подведя ее к Беженцеву, — пойду покурю.
И вновь неладно на душе, вновь скверно, и что-то гудит внутри тонко и занудно, или это в ушах гудит, или в воздухе, вокруг — снизу, сверху, со всех сторон, будто противный писк комариный, едва различимый, едва угадываемый, но назойливый, непрекращающийся ни на миг. Опять накатило! Откуда? Почему? За что?
Он вышел в коридор, покопался в карманах, извлек пачку, сунул сигарету в рот, полез за спичками, в кармане брюк пальцы наткнулись на сложенную в несколько раз бумажку, он вытащил ее, развернул, увидел крупные цифры телефонного номера и размашистые буквы внизу: «Уваров». Он с озлоблением скомкал бумажку, швырнул ее в угол. Все из-за этого, все из-за этого! Не замечая двух пар изумленных глаз, прошел к выходу, рванул дверь на себя и окунулся в прохладный воздух. Рука с сигаретой вновь потянулась ко рту, но в пальцах остался только фильтр с рваным лоскутком папиросной бумаги. Когда он смял сигарету? И не заметил ведь. Домой? Нет, наедине с собой нельзя. Совсем плохо будет наедине с собой. Он тряхнул головой и вернулся обратно.
Блеснули неподдельной радостью Наташины глаза, когда увидели его. Она сморщила носик, кивнула ему сдержанно, не улыбаясь, потому что танцующий с ней Женька мог заметить светящееся ее лицо и подумать бог весть что. А он и впрямь ведь мог подумать, и это было бы не совсем неправдой. Или я льщу себе, невесело усмехнулся Вадим.
Корниенко гренадером стоял возле двери в предбанник и мрачно взирал на топчущиеся пары. Вот дверь отворилась, Корниенко вздрогнул, но не повернулся, удерживая любопытство. Из предбанника, посверкивая шалыми глазами, вышла Ирина, вслед за ней показался шатко ступающий Ракитский. Приплясывая, Ирина повернулась к нему. Он сдвинул брови, взглянув на нее, потом приблизился, шепнул на ухо, и она тотчас украдкой стерла с уголков губ размазавшуюся помаду. Узрев Корниенко, Ракитский шагнул к нему, сказал что-то, похлопал по плечу, подмигнул. Тот растерянно улыбнулся и покачал головой. Ступил в сторону и скрылся за дверью. А Ракитский с Ириной уже выделывали замысловатые па под ритмы в стиле «диско». Вадим наблюдал за ними, прислонившись спиной к стене возле самой сценки, и поэтому остался незамеченным ими. Развлекается Иришка, не с тем, так с этим, не с этим, так с тем, славная девчушка… А вот это действительно славная девочка, что направляется сейчас к нему. Идет и смотрит прямо в глаза, как в кино, право слово. Глазастая, белолицая, в свободных брючках, легкой блузке. Вот те на, она приглашает его танцевать. И надо же, он не отказывается. В кои-то веки сподобился. Ну да ладно, отвлечемся. Она была легкая и ладная, с крепкой гибкой спиной, с дразнящим ароматом, шедшим от тела и даже от глаз, трогательно смущенных такой своей смелостью. Невзначай Вадим углядел постро-жавшее, нахмуренное лицо Наташи. Она прекрасно видела, как весело он вытанцовывает с этой миленькой девчонкой. Ну и пусть видит, ему-то что. А когда смолкла музыка и появившийся Корниенко объявил, что вечер закончен, и девочка, сделав книксен и с надеждой взглянув ему в глаза, медленно направилась к выходу, он с удивлением вспомнил, что так и не спросил, как ее зовут, да и вообще ни одного слова ей не молвил. Бирюк. Медведь. Вадим чертыхнулся, но догонять ее было уже поздно, да и не к чему.
— Ну наконец-то, слава Богу, — театрально воздел руки к небу Корниенко, когда дом опустел и они остались вшестером в предбаннике, — избавились от этой хивы. Как они мне надоели… Садитесь, — он широким жестом указал на кресла. — Как надоели, кто бы знал! И хоть бы кто намекнул, а не надо ли тебе, Юрочка, помочь, не надо ли замолвить словечко перед кем? У некоторых из них такие папы, ой-ей-ей. Но ничего, — увидев, что все расселись, он тоже плюхнулся в кресло. — Я сам себе дорогу пробью. Ведь на эту должность без всяких связей поставлен был, за отличную работу, за то, что умею. Я еще им всем покажу, сынкам и дочкам…
С чего-то это он разоткровенничался так? Вадим удивленно поднял брови. Не пьян ли и он тоже? Уж слишком возбужден, слишком говорлив, слишком глаза притуманенные у него, хоть и быстрые, все видящие. И опять тошнотворная волна нахлынула, опять он изматывающий комариный писк услыхал…
— Теперь отдыхаем, — объявил Корниенко и вынул из кармана пачку сигарет. — Теперь можно и покурить и еще кое-что… — он загадочно прищурился. — Ирочка, посмотри там, в моем столике.
Довольная Ира вскинулась и заспешила в кабинет, вернулась оттуда, держа в руке на треть заполненную бутылку коньяку.
— Это не разговор, — увидев бутылку, заметил Ракитский.
— С таким запасом я долго не продержусь. Кто-нибудь сходите в мою машину, там кое-что имеется. — Он поискал глазами «кого-нибудь», — Женя, сходите-ка. Вот ключи. — Он швырнул их Беженцеву, даже не взглянув, туда ли кидает. Связка упала с мягким звоном у Женькиных ног. Тот стремительно наклонился, поднял их, встал, двинулся к двери.
— Стой, Женька! — вдруг услышал Вадим свой голос. — Ему надо, пусть сам идет. Ты что?
Это было так неожиданно — молчал-молчал, и вот на тебе, — что все воззрились на него. Только Наташа не повернулась, а прикрыла глаза ладошкой, как бы от яркого света.
— Да я… — Беженцев виновато улыбнулся, смущенно пошарил взглядом по лицам. — Да мне нетрудно. Я сейчас…
— Но-но, — Ракитский резко поднялся. — Поосторожней, приятель, если я один раз спустил вам, это не означает, что и во второй раз будет то же самое.
Мучительно остро впивался комариный писк в барабанные перепонки. Избавлюсь я от него наконец или нет? Это же так тяжело, так изнурительно, так больно, когда он, едва слышимый, но невероятно выматывающий, зудит и зудит вокруг.
— А давай, — сказал Вадим с тихой злостью и тоже поднялся.
— А попробуй. Если сможешь, если получится, если решишься, — Данин вызывающе усмехнулся. — Может, и очистишься тогда, смоешь грязь вранья с себя, хоть немножко смоешь, хоть чуточку. Ну, говори прямо, что хочется сейчас сказать, не ищи слова, пусть сами они выплеснутся, ну?
— Он сумасшедший! — Ракитский опасливо вытянул руку в сторону Вадима. Ищущий взгляд его скользил по лицам сидевших. — У него не все дома. О чем он говорит?
Изумленный поначалу таким неожиданным оборотом, Корниенко пришел в себя.
— Успокойтесь, друзья, — он примиряюще вытянул руки. — Зачем нам шум? Из-за чего сыр-бор? Вы плохо себя чувствуете э… э… э… товарищ?
— Он просто завидует, — фыркнув, заявила Ира.
— Да, завидую, — не оборачиваясь, подтвердил Вадим, — завидую удивительной способности договариваться с собой. Вот это талант. Когда лжешь и ладишь с душой. Лжешь и не чувствуешь при этом ничего, кроме удовольствия. Так чудесно жить. Я бы тоже так хотел…
— Замолчите! — оборвал его Корниенко. — Вы что, и вправду рехнулись?
— О какой лжи ты болтаешь? Наглец? — Обретя защиту, Ракитский почувствовал себя уверенней. Он даже мог теперь презрительно усмехнуться.
— Я сейчас все скажу, погоди, — тяжело произнес Данин. Надо было уйти. Надо было уйти раньше, когда впервые дурноту почувствовал, когда, туманя мозг, вонзился в уши настырный зуд. Бросить все, плюнуть и уйти, и скорым шагом отмерить полгорода, так, чтоб ноги не слушались, чтоб гудели они усталостью, а потом прийти домой и завалиться спать, не раздеваясь. А теперь поздно, надо продолжать, а то совсем худо станет, если на полпути остановишься, не выжмешь из себя все, что стучится так требовательно изнутри, что переполняет тебя. Вадим знобко поежился, будто ледяным ветром его обдуло, и заговорил отрывисто и зло:
— Лжешь, когда распинаешься в любви своей к тем, кто тебя слушает, спекулируешь на этой любви, на слове этом спекулируешь. А они, дурачки, верят. Но вот двое уже не поверили, те парень с девчонкой, что внизу к тебе подошли. И половина других в сомнении теперь пребывает. Уверен… Не сдержался ты, поперло естество. Терпеть ты их не можешь, они для тебя единая тупая масса, и единственное их достоинство, что порой с обожанием на тебя смотрят… Когда прожектором себя высвечиваешь, тоже лжешь; когда усталое лицо делаешь — тоже. Готовишься ведь, исподволь, заранее. Это в театре хорошо, и то не всегда, а здесь разговор откровенный, а откровенно ты беседовать не умеешь, вот и эффекты нужны… Врешь, когда поешь про войну, про выстрадавших ее людей, про измученную страну. Наплевать тебе на людей, на войну… Просто-напросто так надо, это приветствуется. А сердце твое спокойно и бьется ритмично, и нет там места для сопереживания. Пустота там и тьма. И вообще две у тебя правды. Одна для избранных, другая — для масс. А если их две, то, значит, ни одной, значит, это вранье все. Правда — она одна на все времена… И стихи твои холодные, и правильные, не согреваешь ты их, не получается, а значит, тоже они врут…
Вадим дернул болезненно щекой и умолк. Не о том он говорит и не так, и вообще зря. Хотя не им он говорил, не Ракитскому, не Корниенко, не Ире, а себе, самому себе, и все равно зря. Ну выплеснул, ну вытряхнул наружу, что не в силах удержать был. И что? Легче стало? Да где там!.. А они растерялись, даже ошалели немного, недоуменно уставились на него, как на диво диковинное, и все понять не могут, всерьез он или играет так мастерски? Заметалась, задрожала на петлях дверь. Женька, видно, ее ногой саданул, потому что руки заняты были. Три бутылки шампанского бережно, как детей малых, прижимал он к груди.
— Вот, Володя, — радостно сообщил он. — Я принес…
И Вадим услышал тихий сдавленный стон. Обернулся. И остальные тоже, наверное, его услышали и тоже повернули головы, уставились на Наташу. Это она, посмотрев на счастливое Женькино лицо, не смогла удержаться. Она глядела на него внимательно еще несколько секунд, потом, заметив, что скрестились на ней пять пар глаз, вздохнула, пожала плечами, откинулась на спинку стула, сказала ровным голосом:
— Сколько вам заплатили, Володя, за это шефское выступление?
— Мне… Что… — у Ракитского взметнулись брови, растопырились глупо глаза. С этой стороны он уж никак не ожидал удара.
— Кто вам сказал? — возмущенно начал Корниенко, он даже приподнялся над креслом.
— По-моему, сто, — все так же не глядя ни на кого, слабо усмехаясь, сказала Наташа.
— Ирка, дрянь! — Корниенко задохнулся от негодования. Медленно поднимаясь, он пепелил глазами застывшую в испуге Ирину. — Я же предупредил!
И не нашла слов Ирина, позабывала, порастеряла их все, вот сейчас, в один миг и порастеряла, когда такое страшное, ненавистью перекошенное лицо увидала перед собой. Пошевелила только губами беззвучно, заморгала часто-часто, словно внезапный ветер ей в глаза горсть пыли швырнул, и съежилась, и подняла локоть, защищаясь.
— Ты только об этом им говорила или еще о чем? — цедил Корниенко, занося руку над ней, как для удара. — Только об этом, ну?
Ира вскрикнула и закрыла лицо ладонями. И в одночасье Вадим холодок в кончиках пальцев ощутил, как всегда перед схваткой с отцом, когда упорно и терпеливо тот тренировал его, силу свою отдавая и умение. «И хорошо, — бегло подумал Вадим, делая рывок к Корниенко, — разомнемся». Нерастра-ченность, недосказанность после дурацкого разговора с Ракит-ским в нем жила. Он вскрикнул: «Стоять!», перехватил руку Корниенко и дернул на себя. Но не слаб тот оказался. С трудом поддалась его рука — тренированный директор, — и когда за спину ее решил завести, Корниенко и вовсе руку вырвал. Вырвал и крикнул осатанело:
— Не трожь! Гад!
Вадим услышал, как с глухим стуком попадали бутылки шампанского на прикрытый паласом пол, и голос испуганный Женькин услышал:
— Вы что, взбесились?!
Корниенко дернул голову в его сторону, и готово было сорваться с его мокрых губ что-то очень злое, унизительное, но не сорвалось. Уж как он сдержал себя — одному Богу известно и ему, но сдержал. Поднес руку к горлу, сжал его, давя звуки, давя желание. Настороженно озираясь, улыбнулся выстрадан-но, сказал хрипло:
— Что это мы? Как с цепи сорвались? — улыбка стала естественней, и он погрозил шутливо побелевшему, словно высушенному вмиг, Вадиму. — Все из-за вас. Не в настроении вы сегодня. Вот и заводите всех. Ай-яй-яй.
— И ты испугался? — покривив рот мрачной усмешкой, спросил Вадим. — Боишься в глаза мне сказать, что думаешь. Что обо мне думаешь? Ненавидишь ведь меня. С самого первого взгляда ненавидишь. И боишься. За должность, за карьеру опасаешься. Журналисты здесь, разнесут еще по всему свету, и конец твоей перспективе. А для тебя это смысл жизни, — Вадим опять наливался душной липкой злобой. И принимало все вокруг изломанное, искаженное очертание: и глянцевый рояль, и толстые кресла, и овальный низкий столик. Яркий, льющийся с потолка свет тускнел, как в кинотеатре перед сеансом. — Ты мошенник, ты бесчестный вредитель, ты такой же враль, как этот псевдобард. Ты не для этих ребят работаешь, кто к тебе приходит, а для машины персональной, для дачи служебной, для всего этого осязаемого дерьма. Для тебя люди тоже масса, серая и невежественная, а ты сверх, ты супер, ты их давить, ты их топтать можешь. Ты их придушил бы собственными руками… Тебя гнать надо, взашей гнать, на сотни километров к людям не подпускать… Мыльный пузырь, сволочь…
— Вадим, Вадим, хватит! — вклинился в его беспорядочную тираду срывающийся Наташин голос. — Пошли отсюда, пошли, милый. Тебе нехорошо, у тебя температура, ты заболел, гриппом заболел. Жар у тебя. Я вижу, я знаю… — Она кинулась, подлетела к нему, погладила по волосам, по щеке, взяла за руку, потянула за собой: — Пошли, милый, пошли…
И он пошел, наклонив голову, сдвинув плечи, не глядя ни на кого, тихий, постаревший.
— Топай, топай, правдоискатель, — вполголоса бросил ему в спину Корниенко. Деланно рассмеялся Ракитский. Но Вадим даже не обернулся — зуд прошел.
На лестнице их нагнал Женька. Спускаясь, он все повторял:
— Что случилось, что случилось? Я ничего не понимаю. — и лицо у него при этом было мальчишеское, обиженное.
Машина проворно скользила по ночному уже городу, и отражался причудливыми бликами на стеклах ее, на капоте неоновый свет вывесок и печатных реклам. Гудел мотор, ненатужно, тихо, успокаивающе; трогал лицо свежий, пронзительно вкусный воздух, и Вадиму казалось, что он еще маленький и что с отцом и матерью они едут воскресным вечером с дачи. Отдохнувшие и чуть утомленные этим отдыхом, они расслабленно молчат, каждый думает о своем, отец наверняка о работе, о приближающихся буднях, о звонках из Москвы, о несданных в срок объектах; мама — о том, что бы еще прикупить на рынке или где там она еще добывает продукты; а он — о школе, о том, что всю неделю надо рано вставать, учить уроки, волноваться, вызовут, не вызовут. Но все равно настроение у него замечательное, и ему хочется напевать, и он всех неимоверно любит: и маму, и папу, и дачу, и речку.
— Никак понять не могу, — вдруг сказал он с досадой. — Что на меня накатило? Ведь чушь нес, белиберду, истины банальные, ахинею, как школьник несмышленый, только-только лбом в жизнь долбанувшийся. — Он вздохнул, покрутил бессильно головой, уставился невидяще в окно.
— И верно, Вадим, — осторожно подтвердил повернувшийся с переднего сиденья Беженцев. — Почему ты так окрысился на них? Отличные ребята. Теперь всё, — он поморщился, — теперь мне путь туда заказан. Как я им в глаза глядеть буду? Ох, Вадик, Вадик…
— Нет, Женя, — тихо сказала Наташа. Она сидела, обхватив себя руками и плечом опираясь на дверцу. — Далеко не отличные. Совсем не отличные. Совсем наоборот. Лицемерные, подленькие и трусливые. Бездушные функционеры. И тот и другой…
— Но Ракитский артист, поэт, — неуверенно попытался возразить Беженцев.
— Все равно функционер, — упрямо повторила Наташа. — Артист-функционер, поэт-функционер. И нечего там делать. Лично мне нечего. Во всяком случае, до той поры, пока этот Корниенко там заправляет.
Вадим молчал, не отрывая взгляда от окна.
— Не знаю, — Женька нервно повел плечами, — не знаю. Странные вы какие-то. Оба. Что-то выглядываете, высматриваете, примериваете, усложняете. Проше надо быть. Принимает вас человек, рад вам — значит, хороший он, и нечего в глубинах потаенных копаться. Иначе свихнуться можно. Вон как Вадик…
Он осекся, сообразив, что не то что-то сказал, прихлопнул ладошкой губы, виновато посмотрел на Наташу. А Вадим опять промолчал, не заметив или сделав вид, что не заметил Женькины слова.
— Он не свихнулся, просто взбудоражен был сильно, взвинчен. Правда? — Наташа так ласково, по-матерински взглянула на Вадима, что Женька вмиг посерьезнел, сдвинул брови и отвернулся. — И поэтому так в лоб и получилось. Так нарочито и немножко по-юношески. Вы не обижаетесь на меня, Вадим? — она легонько коснулась его руки. Данин, не оборачиваясь, покрутил головой. — Если б вы были чуть спокойней, все по-другому бы получилось. Верно?
— Конечно, конечно, — Вадим безучастно покивал. — Но надоело. Не смог. Не смог, и все тут. А, ладно. — Он махнул рукой. — Забудем. Это уже история.
Такси остановилось, с шипением притершись покрышками к тротуару.
— Вот те на, — удивился Женька. — Я уже приехал. Ну что? До свидания, мои хорошие. Не в последний раз. Еще повеселимся.
Он взялся за ручку дверцы, потом, словно вспомнив что-то, опять обернулся, как-то странно посмотрел на Вадима, потом внимательно на Наташу, спросил у нее:
— Ты домой?
— Разумеется.
— Ага, я позвоню.
— Позвони…
— Ага, — он все никак не мог уйти, все клацал никелированной ручкой. Молчаливый, пожилой, большелобый шофер нетерпеливо заерзал на кресле, и оно отозвалось вмиг бесцветным старческим скрипом, видать, не новая была машина. Женька опять обернулся, ищуще оглядел Наташино лицо.
— Может, зайдешь?
— Нет, — Наташа старалась не встретиться с его глазами. — Устала. Домой хочу.
— Ага, — третий раз повторил Женька. — А ты, Вадик? Зайди, чайку попьем, поболтаем, обсудим все…
Вадим молча покрутил головой.
— Ну хорошо, — Беженцев чересчур резко толкнул плечом дверь. — До свидания.
Ехали в угрюмом молчании. Что-то нарушил Женька в их и без того еще зыбких, еще непонятных им обоим отношениях, пугающих неизвестностью, неопределенностью, но и притягивающих в то же время томительной сладостью этого страха. И на какое-то время ощутили они себя преступниками, еще не совершившими преступления, но целенаправленно уже готовящими его, каждый в одиночку, втайне, не сговариваясь, и которых изобличили одним махом, перед самими собой изобличили и друг перед другом тоже, вскрыли их сверхсекретные помыслы. И теперь до отчаяния неловко было даже находиться рядом, а не то что говорить или смотреть друг на друга. «Ну и пусть, ну и Бог с ним, — бодря себя, думал Вадим, по-прежнему приклеившись к окну. — Она выйдет, я кивну ей. И все, и домой, и спать».
И сорвется машина с места, и растворится тонкая девичья фигурка в ночной густоте, и он не обернется даже, не махнет ей на прощание рукой, и исчезнет она из его жизни навсегда. И хорошо, и замечательно. И забудет он о ней сразу же, как только сделают колеса автомобиля первые свои обороты. Заставит себя забыть. Она же видела, как он сорвался. Слышала, как истеричным голосом изрекал он то, о чем все нормальные люди прекрасно знают, но предпочитают молчать, или намекать только, или в конце концов делать, что задумали, но не болтать попусту, выставляя себя наивным, простодушным, хотя и задиристым дурачком.
И думает она, наверное, что он глуп, недалек, упрям и еще наверняка Бог знает чего о нем думает. А слова все ее ласковые — это от жалости, от обыкновенной женской, даже не женской, а самой обычной людской жалости к убогим и юродивым. А он не привык, чтоб так думали о нем, никто не жалует свидетелей своей слабости. Я знаю о них, и это достаточно. А для всех остальных я должен быть сильным, красивым, умным, находчивым, всегда побеждающим, а если и терпящим поражение, то по своей воле, забавы ради…
Посветлели и повеселели улицы за окном, зарябило в глазах от разноцветных магазинных витрин, хотя и пригашенных к ночи, уже помертвевших, холодных, но после полутьмы ослепляющих все же, заставляющих щуриться непривыкший глаз. Такси катило по самому что ни на есть городскому центру. Вадим оторвался от окна, прикрыл глаза, давая им возможность отдохнуть, провел осторожно пальцами по векам, вздохнул тяжело и тут же спохватился, как бы не услышала девушка еще одного подтверждения слабости его. Тоже мне, вздумал вздыхать, как меланхоличная гимназистка. Как бы невзначай полуобернулся к Наташе, осторожно взглянул на нее, сосредоточенную, ушедшую в себя, красивую, и будто мгновенный ожог ощутил в груди — видел он ее раньше, точно видел, и именно во сне видел, только там и ни в каком другом месте. Он тихонько улыбнулся и откинулся размягченно на спинку, которая откликнулась ему сдавленным мяуканьем. А может, и не думает она о нем ничего плохого, вон как подскочила к нему там, в молодежном центре, вон с какой истовостью, с каким участием гладить, ласкать его стала. И если объяснить ей, может, поймет она все. Ведь она умная. Он видит, что она умная, да что там видит — знает. Это в глазах у нее. У нее удивительные глаза. Конечно, конечно, надо объяснить. А то опять недосказанность, неудовлетворенность в нем будут жить. Незавершенность сегодняшнего вечера будет его мучить. Незавершенность, случившаяся не в силу каких-либо обстоятельств, а по его собственной вине… Да и дома так скверно сейчас будет одному. А значит… значит, он предложит ей сейчас, Вадим весело усмехнулся в темноте, ею же «разработанный» план, — угостите чайком, давайте поговорим…
— Вот здесь, пожалуйста, — Наташа коснулась плеча водителя. — Напротив арки.
Как так? Неужели все уже? Вадим с невольным недоумением взглянул на девушку. А он ведь так и не успел толком ничего сказать, даже разговор ему нужный не успел начать. И он наморщил лоб и лихорадочно стал соображать, как поступить, с чего разговор завести, чтоб непринужденно это было, ненавязчиво, как нечто само собой разумеющееся. Но испарились слова, улетучились мысли, и лишь только вертелось на языке тривиальное: «Мы не увидимся больше?» И загорелось лицо, от стыда перед самим собой, от беспомощности, от невесть откуда взявшегося страха. Хорошо, что темно, еще, что не видит она пылающих жаром его щек, его вдруг намокшего от пота лба… Он открыл дверь, неловко выкарабкался задом из машины, забывшись, в последнюю лишь секунду подал девушке руку и, стараясь не глядеть в явно ждущие каких-нибудь его слов глаза, сердито буркнул: «До свидания». Она прикусила губу, кивнула лишь и, поеживаясь от холода, то ли еще от чего, пошла к дому. А Вадим безвольно облокотился на крышу автомобиля, выдохнул шумно, потерся лбом о рукав куртки.
— Ну что, едем? — недовольно спросили из недр автомобиля.
Вадим не ответил, покачал только согласно головой, словно водитель мог видеть этот его жест, похлопал ожесточенно по звонкому металлу крыши и обернулся, чтобы посмотреть на нее, на тонкую ее фигурку в последний раз. А она еще не вошла во двор. Она стояла возле арки, сцепив внизу перед собой руки и вскинув аккуратную свою головку. Вадим радостно улыбнулся и приоткрыл было уже рот, чтобы сказать что-то, сейчас уже все равно что, неважно. Сейчас слова уже ничего не значили, главное было что-нибудь сказать. Но она опередила его:
— Чаю… чаю не хотите? — донеслось до Данина. — Не замерзли? В машине холодно?
— Хочу, — с готовностью отозвался Вадим. — Конечно же, хочу. В машине холодно, и я чрезвычайно замерз. Я просто продрог. У меня зуб на зуб не попадает.
Он вытащил из кармана скомканные деньги, нагнулся, не разглядывая, сунул какую-то бумажку шоферу, с силой хлопнул дверцей и стремительно зашагал навстречу девушке.
Он не обхватил ее нежно и игриво за талию, когда приблизился (как раньше бывало с прежними, со многими прежними, кто нередко зазывал его к себе, такого уверенного, раскованного, симпатичного, интересного, — кто смущаясь, кто, наоборот, гордясь своей смелостью), не заглянул с притворной страстью в глаза, не стал болтать всякую рисковую остроумную чепуху. С кем угодно так можно было, но только не с ней. Но настроение у него было приподнятое и чуть шаловливое, и поэтому все-таки не сдержался он и состроил лицо послушного мальчика, заложил руки за спину и покорно засеменил рядом…
Она никак не могла попасть ключом в скважину. Ключик, как муха о стекло, бился дробно о металл замка и ни в какую не желал протиснуться в предназначенную для него пустоту. Вадим мягко взял ключ из холодных Наташиных пальцев и быстренько справился с замком.
— Спасибо, — с легкой вдруг хрипотцой поблагодарила девушка, зажигая в передней свет.
— Одна живешь? — спросил Вадим, озираясь. Приглушенное бра на фоне темных заграничных обоев придавало прихожей вид пещеры, в которой спелеологи забыли фонарь с подкисающими батареями. Пахло чистотой, духами, недавно потомившимися в духовке пирогами. Домом пахло.
Наташа наскоро поправила волосы перед небольшим овальным зеркалом, прошла на кухню.
— Не одна, с мамой, — ответила она уже оттуда. — Она в отпуске. На Иссык-Куле. Она у меня эксцентричная и жадная до нового. Каждый отпуск в разные места ездит.
— И такая же красивая, как ты? — Вадим оперся на косяк кухонной двери. И на кухне было замечательно. Поблескивал металлической окантовкой белоснежный гарнитур, пестрела разноцветная посуда, столик был укрыт яркой полосатой белокрасной скатертью.
Прозвенели тоненько и беспорядочно Вадиму в ответ сверкающие белизной чашки и блюдца в Наташиных руках. Она с трудом удержала их, а то бы посыпались они, резвясь и дурачась, на темный линолеумный пол, покатились бы, прячась в укромные уголочки.
— Вот безрукая, — укорила себя девушка со смущенной улыбкой.
— Так красивая? — опять спросил Данин.
— Мама? Очень, — Наташа выпрямилась и, не взглянув на Вадима, повернулась к плите.
— Такая же, как ты?
— Мама красивая, — повторила девушка. — Очень красивая. А я так. — Она неопределенно пожала плечами. — Я не считаю себя красивой и даже особо привлекательной. — Она усмехнулась: — Обычная.
— Ну уж, — возразил Вадим с притворной строгостью. — Неужто не замечаешь, как на улице на тебя смотрят, мужчины смотрят, — уточнил он, — и оглядываются. Ведь оглядываются?
Она ничего не ответила и лишь улыбнулась слабо, взяла чайник со столика, поспешно поставила его на один из трех черных металлических блинов электрической плиты, но не послушался чайник, — изящный, с кокетливой крышкой, с ярко-красным цветком на боку, — соскользнул с блина, громыхнул глухо и начал крениться угрожающе. Наташа стремительно вытянула руку, поддержала его, потянула на место, тряхнула головой, досадливо прикусила губы, сдерживая недобрые в свой адрес слова, но выпорхнули они все равно, невольно:
— Неумеха, разгильдяйка…
И, глядя на нее, Вадим вдруг поймал себя на том, что улыбается мягко, ласково, будто дочке своей, и потом через секунду, через мгновение вдруг понял, что ему хорошо, ему просто хорошо. И не тянет саднящей болью под сердцем, и не давит душная безысходная тоска, и исчезла болезненная сонливость — она исчезла и раньше, внезапно, неожиданно, и тогда надо было куда-то идти, куда-то бежать, что-то делать, все равно что, лишь бы делать, но только не сидеть в бездействии, худо становилось в бездействии. А сейчас вот и сонливости нет, и бежать никуда не хочется, и делать ничего не хочется, только смотреть на нее, долго-долго, всегда… Наташа шагнула к двери, прошла мимо, боком, боком, стараясь не задеть его и хмурясь при этом. Оттолкнувшись от косяка, он двинулся вслед за ней, все так же улыбаясь, глуповато и довольно.
Опасливо мигнула и зажглась лампа в торшере с золотистым абажуром. Наташа привычно оглядела комнату, все ли убрано, все ли на своих местах. Не удивит ли его что-нибудь, не вызовет раздражения, не отвратит. Да нет, как будто все в порядке; низкий длинный столик чист, ни единой пылинки на нем, и кресла с достоинством оберегают его с двух сторон, и диван аккуратно, без морщинок укрыт цветастым закарпатским пледом, и в книжном шкафу все нормально — ровными рядками, без зазоров, стоят на полках книжки, и комнату неярко, тепло, уютно, доверчиво освещает торшер.
— Здесь я живу, — наконец сказала девушка. — Садитесь… — Она запнулась. — Садись.
Сказала и опять не взглянула на него, куда-то за спину слова эти произнесла, и, когда он ступил к креслу, прошла мимо, опять боком, опять боясь задеть, и опять сдвинулись тонкие дужки ее бровей. Она у двери уже была, когда он удержал ее за руку, легко, но требовательно коснувшись гладкой кожи. Она не обернулась, застыла, вздернув плечики, напрягшись. Он осторожно, боясь неловким, слишком настойчивым движением доставить ей даже легкое неудобство, взявшись за плечо, рукой повернул ее к себе. Податливо подчинилась она ему, но глаза не подняла. Вадим наклонился чуть, с удовольствием вдохнул свежий, пряный — так пахнет в лиственном лесу после дождя — аромат сс тела, коснулся подбородка, но девушка отвела голову, потянула на себя руку, робко, но настойчиво, и Вадим не стал упорствовать, отпустил ее, и Наташа наконец подняла голову, посмотрела ему в глаза, благодарно, ласково, будто погладила по щеке, потом стремительно поднесла пальцы к вискам, сдавила голову крепко, сказала отчетливо:
— Дура я!
И повернулась круто, и пошла к двери, и вдруг остановилась, испуганно замерев на полушаге, потому что призывно заголосил телефон. Девушка вновь осторожно обошла Вадима, приблизилась к столику, задумчиво глядя на аппарат, взяла трубку.
— Да, — сказала она.
— Я? — Она в упор посмотрела на Вадима, и не было в ее глазах растерянности или вопроса, жестким и твердым сделался взгляд, он словно сообщал Вадиму — вот смотри, я какая! — и она сказала небрежно: — Я одна. Ложусь спать. Спокойной ночи. Завтра созвонимся.
А повесив трубку, обмякла вмиг, съежилась, меньше ростом стала, вообще меньше стала, похудела словно, ненадолго хватило ее твердости. Обхватила плечи руками, как в машине, осторожно опустилась на краешек кресла, спросила тихо:
— Дрянь я, правда? Сама во всем виновата, всегда только сама. И с ним начала сама, и тебя зата… — привела сама. Господи, прости!
За окном влажно прошуршала запоздавшая машина. Наверное, дождь прошел за те недолгие минуты, пока они здесь. И верно, вот и на стекле крохотные посверкивающие прозрачные шарики. Дождь — это хорошо, Данин любит дождь. Особенно вечерний или ночной. Он будто смывает грязь, пыль, прилипшую за день к глазам, к мыслям, к языку. Дождь — это чудесно. Он прислушался к себе, а прислушавшись, хмыкнул удивленно — ему все еще хорошо, несмотря на Женькин звонок, несмотря на то, что Наташа поблекла, потускнела, поникла, как сорванный и брошенный за ненадобностью на асфальт цветок.
— У вас это серьезно? — спросил Вадим, устраиваясь в кресле. — Курить можно?
— Кури, — кивнула она. — Я собираюсь за него замуж.
— Ух ты! — сказал он, прикуривая. — Круто.
— Ты хочешь сказать, мерзко. И гадко, — она встряхнула волосами, пригладила их машинально, выпрямилась, скривив губы, то ли в неудачной улыбке, то ли в гримасе отвращения.
— Почему гадко? — Вадим пожал плечами. — Обычно. Все хотят замуж. Нет такой, которая не хочет этого. Это ваше предназначение. А ежели не хочет, больна, значит, неадекватна. — Он с удовольствием вытянул уставшие ноги. — Обычно.
— Но я же не люблю его, — сказала она ровно и буднично и тотчас умолкла, обмерев. И, удивляясь себе, посмотрела вопрошающе на Данина, вызнавая, выпытывая испуганными глазами, не он ли произнес эти слова, неужто это она сама, вот так, запросто, выдала потаенное, глубоко упрятанное, запретное. И Вадим видел, угадывал, знал, что помочь ей сейчас надо — словом, жестом, движением — все равно чем. Знал и молчал, и сидел недвижимый. Кончился вдруг кураж, мгновенно, разом. И неинтересно стало, и скучно. Все сделалось ясным и обыденным, и не надо было играть, очаровывать, соблазнять, как там, в молодежном центре, когда интерес подогревался близким соседством жениха и неизвестностью. И не такой уж красивой она теперь ему виделась, и не такой обаятельной. «Неужто всегда у меня так будет?» — с горечью подумал Вадим.
Нахально и протяжно засвистел чайник на кухне. Наташа вскинулась и, радуясь паузе, охая, побежала на кухню. Он посмотрел ей вслед и только сейчас заметил, как призывно и соблазнительно просвечивают узкие белые трусики у нее под платьем, как грациозно семенят ее стройные длинные ноги. Он усмехнулся мысленно, все в порядке… Он ей поможет.
Она что-то разглядела все же в нем, когда вошла, неся поднос с чашками и чайником, и расправилось ее лицо и улыбнулась она слабенько каким-то своим мыслям. Разглядела или все про него себе объяснила там, на кухне, когда сердитый кипящий чайник с плиты снимала, когда любовно чашки, розетки с вареньем, блюдце с печеньем на подносе расставляла. Пустоту, безучастность в его глазах объяснила, уж чем и как — неизвестно, но оправдательное это было объяснение. Женщина, если нравится ей мужчина, всегда даже самый непристойный его поступок оправдает, найдет подходящие причины, успокоит ноющее сердце. А то, что понравился ей Вадим, в этом не сомневался, слава богу, был опыт, да и ощущалось это в каждом движении ее, в каждом взгляде, в голосе, чуть подрагивающем, да и вообще чувствовал он это, и все тут…
Бесшумно и плавно, будто соскользнули с подноса, перескочили чашки, блюдца и розетки на квадратные, свежие, хрустящие матерчатые салфетки, устлавшие стол. Наташа замешкалась, прикидывая, куда убрать поднос, потом отставила его к стене, затем снова огляделась, словно что-то забыла, вспомнив, кивнула себе, шагнула к приземистой тумбочке у дивана, нажала клавишу магнитофона, что стоял на ней, и медленно присела на краешек кресла. Неспешно, интимно запел саксофон. Стало уютней. «Суетится, волнуется», — машинально, будто о ком-то, мелькающем на экране телевизора, подумал Вадим.
— Ты, наверное, неловко себя чувствуешь? Потому что я вроде как Женина дама. Да? Мол, обман все это, — не отрывая глаз от поднесенной ко рту чашки, осторожно и тихо спросила Наташа.
Ну вот, пожалуйста, так оно и есть. Она нашла самое простое объяснение так покоробившим ее, равнодушным его глазам. Неловко, мол, тебе, потому что… Тут Вадим даже дыхание остановил, так неожиданна была мысль, поразившая его. А ведь он даже и не вспомнил о Женьке, даже не подумал о нем. Будто и не было его. Вот те на, как же так? Это что же? Так чудесна эта женщина, что заставила его забыть о друге? Или ему просто наплевать на него, как и на многих других? Он недоуменно посмотрел на Наташу и помимо воли своей сказал честно:
— А получается ведь так, что забыл я о нем… Будто и не имеет он к тебе никакого отношения.
Он засмеялся вдруг, откинулся на спинку кресла:
— Славненько получается. Славненько…
— Правда забыл? — В голосе девушки Вадим уловил едва сдерживаемые нотки радости.
— Что? — Он не понял сразу вопроса (все удивлялся себе), только нотки эти приподнятые и уловил. — А… забыл, забыл. Амнезия, частичная потеря памяти… Какой сейчас год, месяц, число, — он дурашливо ухмыльнулся. — Меня зовут Авраам Линкольн, я наследник испанского престола, завтра берем Бастилию…
Наташа изучающе вгляделась в него, легонько нахмурилась, а потом успокоенная улыбка пробежала по ее губам — она опять все себе объяснила про него.
— А ведь, собственно, и нет никакого обмана, — сказала она, полупожав плечами. — Что предосудительного, если с его другом мы просто поболтаем, поговорим, о нем поговорим… Правда?
— Конечно, — с готовностью ответил Вадим. — Я с удовольствием поговорю о своем друге. Хоть всю ночь, хоть до утра. Ты мне друг, Платон…
— Он очень хороший, — перебила его девушка.
— Он замечательный…
— Он лучший из тех, кто окружал меня до сегодняшнего вечера…
— Да, сегодня он как-то сдал, — серьезно сказал Вадим. — Может, свинка у него?
— Что?
— Может, свинкой, говорю, заболел? Болезнь такая.
— Пожалуйста, перестань. — Девушка качнулась на кресле взад-вперед, опять приложила пальцы к вискам. — Не о том мы все, не о том. Время уходит, а мы не о том! — И, помедлив, добавила: — Надо было шампанского с собой взять у этих, у бардов. — Потянулась к пачке сигарет, повертела сс в пальцах.
— Ты только не перебивай. Мне двадцать семь лет. Много. И я никогда никого не любила. И думала, никогда не встречу того, чье лицо видела с детства, и во сне и наяву, когда представляла свою жизнь… Всегда кто-то был, звонили, приглашали, добивались встречи… но все не то, не то. Нет близкого человека, нет твоего, понимаешь, твоего, единственного, самого-самого. А в одиночестве женщина жить не может. Биологически ей нельзя жить одной. У нее должен быть объект приложения сил. Это банально, это все знают, это уже навязло на зубах. Но это так. Только так, и никак иначе. Должен быть дом, быт, уклад, должна быть защищенность, тогда будет смысл существования.
— она говорила вымученно, казалось, выжимала, выдавливала из себя слова. «Не мне она все это говорит, себе, самой себе, повторяет это уже не первый раз», — подумал Вадим, участливо разглядывая девушку. — Я вдруг устала решать все сама, я стала терять опору. Я оказалась не такой сильной, какой представляла. И нужен был кто-то надежный, добрый, любящий. И если уж не любимый, если уж не случилось так, то пусть хоть любящий. Надо было строить жизнь. Я встретила Женю, и он показался лучшим из всех, кто был у меня раньше, мне не надо было тратить силы, чтобы понравиться, не надо было напрягаться, он принимал меня такой, какая я есть, с ним было просто, он был наиболее приемлемым…
«В таком случае интересно посмотреть, что за монстры у тебя были раньше», — с усмешкой хотел сказать Вадим, но вовремя сдержался. И, сдержавшись, вмиг почувствовал к себе острую неприязнь. Что с ним такое?
— …Мы встречаемся почти год,втайне. Он ни с кем меня не знакомил из друзей. Боялся чего-то, может, что уведут, мне это было приятно. Вчера мы решили пожениться. Поэтому он решил снять этот запрет. И снял на свою голову, — она усмехнулась. — А месяца два назад мне вдруг стало страшно. Как же так, я проживу всю жизнь без любви, просто так, буду просто заботиться о нем, о детях, и все… Я просидела всю ночь на кровати и думала, думала… Может, все бросить, сказать ему все и уйти?.. Но тогда я своими руками сделаю еще одного несчастного. Я же приручила его. Понимаешь, приручила. Сама, методично и целенаправленно. Я готовила его для себя, для своего будущего, и я единственная, кому он стал доверять, доверять по-настоящему. Он же не верил ни одной женщине. Все бросали его, обманывали. Ты же знаешь, он два раза был уже женат. И они изменяли ему, насмехались над ним… Когда я его встретила, он был такой, такой… подозрительный, пугливый, застегнутый снизу доверху, замороженный. И вот оттаял, подобрел…
— Почему ты мне все это рассказываешь? — подавив зевок, спросил Вадим.
— Потому что… — Она деревянно свела губы и замолчала. И стало тихо, неожиданно тихо. И не оттого, что умолк ее голос, какие-то еще звуки исчезли из комнаты. Кто-то торопливо прошагал за окном гулко ухнула подъездная дверь. Наташа выпрямилась тоже удивившись, видимо, внезапной тишине. Затем догадавшись, в чем дело, подошла к тумбочке и мягко надавила на клавишу магнитофона. Вот оно что, это всего лишь магнитофон. Щелкнула, выскочив, кассета. Наташа махнула рукой и не стала снова включать аппарат. Ни к чему сейчас была музыка. Встав вполоборота к Данину, она привычно свела вперед гибкие нежные плечики, обхватила себя руками, сказала вполголоса, но твердо и ясно:
— Потому что тот, кто снился мне и кого видела я наяву, — это ты, твое лицо я видела. И теперь не знаю как быть. С Женькой я уже не смогу…
Вот так, Данин, все просто, ясно и неотвратимо. Признайся, ты этого не ожидал. Можно было предположить флирт, интрижку, приключеньице от скуки… А здесь вот объяснение в любви, и еще какое. И ведь оно серьезно и трагично, насколько может быть серьезным и трагичным истинное объяснение. Он это видел, знал, он это чувствовал, главное — чувствовал. И что же теперь?
Встать, подняться, обнять ее, поцеловать?.. Ведь это ей сейчас нужно. Но что он может сказать ей? Что? Он же не влюбился даже. И он сидел. Она ждала, а он сидел. Как приклеился. Ему показалось, что он видел ее где-то, всего-навсего показалось, и ничего больше… И это она объяснила — когда женщина любит… Повернулась, смело взглянула на него, подошла, опустилась медленно на колени, протянула руку к лицу его, погладила по щеке, по губам, по шее. А он сидел одеревенело и, не моргая, смотрел на нее. Она дотянулась губами до его губ, горячо и влажно коснулась их. Он ответил на поцелуй, машинально положил руки ей на плечи, притянул к себе. Задрожало, как в ознобе, тело под его пальцами… И он ощутил, что минуты затишья кончились, и заныло тоскливо в груди, и саднящая боль медленно вползла под сердце, и стало до того скверно, что захотелось орать диким зверем… И еще он понял, что не испытывает никакого желания. Перед ним красивая, душистая, соблазнительная, податливая женщина, а ему все равно, ничего он не испытывает, то есть совершенно ничего. И похолодели пальцы, и будто изморозью покрылось лицо, и глаза расширились от страха. Заболел?
— Не надо, — выдохнул он, отстраняя от себя женщину. — Ничего на надо.
И отвернулся. Он не хотел видеть ее глаз, он знал, какие могут быть у нее сейчас глаза. И не хотел слышать ничего и поэтому выцедил из себя:
— Только молчи, только молчи… и прости. Я ухожу.
Поднялся и пошел. Вот так просто поднялся и пошел, только в груди кололо, а так все нормально.
— Не уходи, — услышал он за спиной. — Я вижу, тебе плохо, я сразу увидела, что очень плохо тебе. Но мы справимся, я помогу. Не уходи…
Надо же, какая бабка-угадка, все она высмотрела, все углядела, в душу к нему забралась, в самую суть, в самую сердцевину прокралась и без спросу, без разрешения. А кто тебя просил, моя милая? Без помощников обойдемся, сами справимся, не маленькие. Плохо ему, видите ли! Да замечательно мне, прекрасно, славненько… Вот заболел только. И потому домой надо. Там страхи пройдут, там один он будет, там отлежится, и все в порядке.
— Славненько, славненько, — бормотал он, возясь с замками. Они озлились словно, обиделись на хозяйку свою, противились дрожащим пальцам его, норовили все наоборот сделать. Но вот нехотя, с брезгливым лязгом отомкнулись наконец… Теперь бежать, не оглядываясь. Домой! Домой!
Ночной воздух обжег холодом. И без того лицо, руки, ноги, спина словно в инее, так теперь и вовсе ледяной коркой покроются, застынут, омертвеют, и рухнет он где-нибудь в пустом черном проулке, жалкий, беспомощный, бездыханный. И опять страх сбил дыхание, прихватил горло. Но он с усилием подавил его. Чушь, ерунда! Это ему только кажется. Он крепкий, сильный, он в норме, приболел лишь немного. Завыть бы сейчас, яростно и протяжно!
Он шел быстро, насколько позволяли уставшие, гудящие, как после сотни приседаний, ноги, и в такт шагам ожесточенно лупил себя полуонем евшими руками по бокам, согреваясь, как вымороженный француз в студеных полях Смоленщины. Почему всем чего-то надо от него? Почему все ждут от него чего-то эдакого, необычного, не как у всех? Сначала учителя в школе ждали: «Ты же можешь больше, ты способный». Потом родители: «Отец в твои годы уже замдиректора был». Потом друзья, знакомые: «У тебя все есть, ты все можешь». Потом жена: «Ты не хочешь, чтобы мне было хорошо, ты не любишь меня». Потом женщины: Иры, Нины, Алены, Маши и прочая, и прочая, теперь вот Наташа: «Надо любить, надо жертвовать, надо уметь поступиться собой». Кому надо? Зачем надо? Почему ему ничего ни от кого не надо? Почему он ни от кого ничего не требует? Он что, и впрямь на всех непохожий, а может, сумасшедший? Тихий и безвредный, параноик от рождения? Или все вокруг сумасшедшие?!
Он вдруг заметил, что кто-то вторит его шагам. Он прислушался, вправду за спиной можно было различить глухие, осторожные, но скорые, торопливые, как и у него, шаги. Улица была мрачная, притихшая, тускло освещенная. Только мостовая, по которой он вышагивал, и была видна; тротуары и тяжелые многоэтажные дома боязливо прятались в темноте. Веселенькое местечко. Что же это за улица? Он резко обернулся. Какая-то тень шагах в сорока стремительно метнулась вбок. Вадим остановился. Тишина, да и только. И никаких шагов. Опять зазнобило.
Он опасливо ступил вперед. Шагов за спиной будто и не было никогда. Значит, показалось. Ему целый вечер сегодня кажется то, чего нет на самом деле. Он пошел быстрее. Выйти бы поскорее на нормальную улицу. Еще не так уж и поздно, около часа, автобусы и троллейбусы еще ходят. И снова поспешный топот за спиной. Наваждение. А если побежать? Вадим рванул с места что есть силы. За спиной побежали тоже, грузно, всей ступней шлепая об асфальт. Будь что будет — Вадим резко остановился и круто обернулся. Кто-то очень большой, округлый проворно шмыгнул к стенам домов. Теперь было совершенно ясно, что шли именно за ним. Вот так дела. Опять похолодели руки, пальцы, и в одну точку, под ложечку, стянулись все внутренности.
— Кто ты? — звеняще крикнул Вадим. Голос придал уверенности. — Что тебе надо? Покажись, поболтаем…
Но нет, опять тишина. Значит, делать с ним пока ничего не собираются. И на том спасибо. Вадим развернулся и, вобрав голову в плечи, двинулся к высвечивающейся уже невдалеке спасительной людной улице. Странный город, стоит отойти от центра — и будто в глухой деревне ночью. И домов хоть пруд пруди, и большие они, и современные, и днем светлые, улыбающиеся весело и приветливо, сотнями окон поблескивающие, доверчиво к небу тянущиеся. А к вечеру вот в меланхолию, в унылость впадают, чахнут, видать, без света яркого, как капризные, солнцелюбивые растения, и засыпают раньше времени, смыкая беспомощно в темноте свои глаза-оконца. Надо Женьке сказать, чтобы тиснул реплику в своей газете о скудном городском периферийном освещении. Бог мой, а может, это Женька за ним топает?! Позвонил Наташе, что-то не то в голосе ее почувствовал, решил проверить, сомнения свои унять, успокоиться. Может, и вправду он? Хорошо, ближе к свету сейчас надо, там разберемся…
Вот и Енисейская, голубовато витринами подсвеченная, чистая, влажная, умытая быстрым вечерним ливнем. Теперь можно и оглядеться. Странно. Сзади никого, справа, слева тоже. Растаял преследователь, растворился в ночи. А был ли он? Был, был, это Вадим может сказать с уверенностью. Но скорее всего случайный какой-нибудь. Полуночник, бессонницей мучимый, или любитель острых ощущений. Да мало ли кто может быть. Данин повеселел, заметил, что и озноб прошел. Вздохнул расслабленно, посмеялся, покрутил головой, зашагал к остановке. Вопреки его ожиданиям автобус подкатил быстро, почти бесшумно возникнув на свет откуда-то из укромных переулков. На остановке Данин был один. Но, когда машина, качнувшись, застыла перед ним, обдав его теплом и легким бензиновым ароматом, и когда распахнула трескучие двери, оказалось, что вместе с ним взбираются в салон еще трое: два молодых сонных парня в легких курточках и толстый пожилой дядька в тесном, кургузом, мятом пиджаке, надетом на линялую футболку. Два парня безразлично скользнули по Данину взглядами и уселись, тесно прижавшись друг к другу. Тот, что в пиджаке, прошелся по салону, выискивая, куда бы сесть, хотя автобус был пустой, потом повернулся, пошел обратно. Данин, стоявший на задней площадке, встретился с ним взглядом, и ему показалось, что водянистые глаза дядьки засмеялись недобро, и Данин почувствовал, как опять замерзли пальцы и выстудился лоб. Дядька постоял с секунду еще, глядя на него, неуклюже повернулся и, кряхтя, уселся на краешек сиденья спиной к Вадиму. Преследователь тоже быть низкий и толстый. Он? Подойти, спросить? Схватить за грудки, встряхнуть? Нет, я определенно рехнулся… Спокойно, Данин, спокойно. Ты устал, прихворнул немного, вот и нервничаешь. До своей остановки Вадим простоял, крепко вцепившись в поручни. Когда разъехались двери в разные стороны и надо было выходить, он с трудом оторвал пальцы от металлической трубки. Вадим спрыгнул на тротуар, двери потянулись друг к другу, а дядька даже и головой не повел. Не он! Вадим побрел к дому. Следующая остановка была рядом. С места, где стоял Данин, можно было видеть, как автобус опять остановился и дернул дверцами. Кто-то вышел из машины. Но кто — разглядеть было трудно. Ему показалось, что это был дядька в тесном пиджаке. Вадим побежал… Подъезд. Лифт. Недолгая суета с ключами. Наконец дом. Знакомые запахи. Успокаивающий свет. Ощущение крепостной стены, защищенности. Вадим медленно опустился на табурет возле вешалки, помассировал лицо, горячее, противно покалывающее, как после долгого дня на пляже. Устал. Зверски устал. В душ — и спать. Внезапно загудевший лифт заставил вздрогнуть. Вадим поднял голову, прислушался. Лифт спустился до первого этажа и двинул обратно. Остановился. На его этаже! Шаги, тихие, крадущиеся; дверь тонкая, не обитая, — слышимость преотличная. Вот они стихли совсем рядом. Кто-то стоял по ту сторону двери, всего в каком-нибудь метре от Вадима. Данин замер. Сердце неистово таранило грудную клетку. Затекла, онемела нога, но он не в состоянии был ею пошевелить. Он оцепенел. Время остановилось. Вдруг Данину показалось, что он поймал через дверь взгляд преследователя. Вадим чуть не вскрикнул от ужаса… И опять шаги, мягкие, едва слышные, удаляющиеся. Нудный гул в лифтовой шахте. Все кончилось. Вадим с трудом встал, боясь шуметь, осторожно, как индеец на тропе войны, прокрался в комнату, подошел к окну, но вовремя вспомнил, что оно выходит на улицу, — подъезда не видно. Тогда он повернулся, прошел на кухню, ухватил стоявшую у стены громоздкую гладильную доску — подарок мамы, — приволок ее в прихожую и подпер входную дверь. Потом бесшумно разделся в комнате, забрался в постель, натянул одеяло до подбородка и закрыл глаза. Через час он заснул.
Как скверно, что он проснулся так рано. Проспать бы весь день, Да что день, неделю, месяц пролежать бы в забытьи, как медведь в берлоге, не слышать и не видеть никого и ничего. А там, глядишь, решилось бы все и без него. Он накрыл голову подушкой, в ушах звенела тишина, но сон не шел. Он заставил себя думать о приятном: о работе, о Румянцеве, о книжке очерков, но тщетно. Мысли разбегались, и перед глазами настырно появлялись Лео, Можейкина, Уваров, дядька в пиджаке, протягивающая к нему руки Наташа, целящийся ему в голову гитарой Ракитский…
Он сбросил одеяло, вскочил, морщась от головной боли, сел на кровати, вздохнул глубоко несколько раз, поднялся, прошаркал в ванную…
Есть не хотелось, да и нечего было, кусочка хлеба даже не желтело в хлебнице. Он, кряхтя, оделся. Отставил гладильную доску от двери, опасливо вышел на лестничную площадку, внимательно осмотрел кафельный пол, словно надеясь увидеть следы вчерашнего гостя, вяло усмехнулся и нажал кнопку лифта.
Пока ходил по ближайшим магазинам, не покидало ощущение, что за ним наблюдают. Он неумело перепроверялся несколько раз, то глядел в отражение витрин, то резко разворачивался и шел в обратном направлении, то неожиданно припадал к кроссовке, якобы поправляя шнурок, но не заприметил никого. Один раз, правда, встретился взглядом с молодым узколобым парнем, и тот излишне быстро опустил глаза и юркнул куда-то за спины прохожих. Но это могло быть обыкновенной случайностью. Однако ощущение неудобства и неизвестно откуда исходящей враждебности не пропадало. Он зашел на почту, решил дать телеграмму Ольге, чтобы та позвонила. Как они там? Как Дашка? Уже написал адрес на бланке и текст, но спохватился вовремя — таким образом могут узнать, где его жена и дочь. Так что надо будет заказать телеграмму по телефону.
Открыв дверь в квартиру, распахнул ее, но сразу не вошел, постоял, прислушиваясь, — в кино частенько показывают, как герой переступает порог, а там его уже поджидают злорадно усмехающиеся недруги, — но в квартире было пусто и тихо. Вадим позавтракал и опять завалился на диван. Отдохнув минут двадцать, позвонил на почту и продиктовал телеграмму. До вечера им владела привычная уже, изнуряющая маета. Читать он не мог, писать тоже, мелькающие тени на телевизионном экране вызывали злобу. Он то лежал, то нервно мерил шагами комнату. Потом позвонил Женька и, как бы между прочим, будто это его совсем не касается, справился, не заходил ли Вадим вчера к Наташе в гости; если не заходил, то не зазывала ли она его. Вадим только отрицательно мычал в ответ. Тогда Женька равнодушным голосом сообщил, что во вторник они подают заявление в загс. «Поздравляю», — с усилием пробормотал Данин. Потом они еще помолчали, а потом Женька тускло сказал: «Звони», — и повесил трубку. Данин швырнул подушку в угол комнаты и накрыл голову одеялом.
Следующий день начался отвратительно. Едва успел он отхлебнуть первый утренний глоток густого, совсем небольно опаляющего язык и нёбо, кофе, затарахтел сорвавшимся вдруг голоском телефон. Неужто недобрые известия старый мудрый аппарат почуял и задребезжал так сипло от волнения. Нехотя, неслышно, для проформы решил посигналить, авось не услышат, авось не снимут трубку с его темени. Но услышан был слабенький, боязливый зов его.
— Не умеешь веселиться, приятель, — все тот же несмешливый, ровный голос. Они! Вадим безвольно опустился на диван. — Такую дамочку оставил позавчера, вкусненькую, уютненькую. Обидел, обидел. Пошто обидел-то, аль не мила тебе? — в трубке сухо хохотнули и проговорили нараспев: — И заспешил он в мерзлую ночь…
Ну, как тут не понять, на что намекала эта сволочь. Это их толстяк топал за ним! Пугают. Их толстяк… Да кто же эти «они», черт их драл бы, гадов?! Вдруг ярость накатила, заглушив и страх, и сомнения. Потом наверняка все вернется на свои места, но сейчас только ярость владела им.
— Да пошел ты на…, сука! — остервенело отчеканил Вадим.
— Фантомас доморощенный! Падаль, гнида! Окупится все это еще тебе и твоим дружкам, поплачете еще по волюшке в сырой-то камере, пожрут вас вши в колымских лагерях, наплачетесь еще, мерзавцы! Храбрые больно… А что, ежели телефончик сейчас твой уже установили? — Вадим зло засмеялся. — И спешат к тебе уже желтые машины с сиренами…
В трубке расхохотались:
— Ну, фантазер ты, братец. Я же все знаю, я каждый шаг твой знаю. И хвалю, хвалю… Пай, пай-мальчик ты. Да, кстати, Витюша-то заявление оставил в четырнадцатом отделении, с приметами, с примерными, правда, до поры до времени, конечно. И свидетелей уже опросили.
Ну вот и все. Вспышка прошла, послабела ярость, унялась, а через секунду и вовсе испарилась, усталость ее заменила. Усталость и безразличие.
— Ну что тебе надо? Что ты вызваниваешь все? — массируя затылок, медленно сказал Вадим.
— Чтобы ты молчал, — холодно и отрывисто проговорили в трубке. Время шутливого тона кончилось. Пришла пора серьезного разговора. И все-таки смешно все это, Вадим кисло усмехнулся, как в дешевом кино… Смешно, если бы не было так страшно. Надо будет узнать, действительно ли в четырнадцатом отделении есть заявление таксиста.
— Я и так молчу, — безучастно сказал Вадим. — Причем давно.
— Мне надо, чтобы ты не сорвался, пока все не утихнет.
— А мне надо, чтобы ты сдох, — вяло заметил Вадим.
— Ну это мы еще поглядим, кто раньше, — Данин впервые уловил в голосе нотки раздражения. — И еще. Не проколись на фотографиях.
Вадим крепко сдавил трубку. «Можейкин», — пронеслось в мозгу.
— Каких фотографиях? — удивление получилось почти естественным.
— Тех, что милиция предъявлять будет.
«Точно, Можейкин. Но почему?»
— Разберемся, — вслух сказал Вадим.
— Ну-ну. Теперь совет. Выкинь сумку. Не держи дома. Мало ли что, вдруг с обыском прикатят. Найдут — не отмоешься.
— С чего это мы такие добренькие?
— Ты еще понадобишься.
— И поэтому ты меня охраняешь с помощью одного толстого идиота. Убери его, а то я разобью ему его тупую рожу.
В трубке хмыкнули:
— Разберемся… А лучше уезжай. Увольняйся и уезжай.
И вслед писклявые гудки.
Вадим задумчиво потер трубкой лоб и только потом осторожно опустил ее на рычажки. Что-то не складывается во всей этой ситуации с изнасилованием, с Лео. Не логично как-то выходит. Получается так, что Можейкин с ними заодно. Но это же нелепо. Муж заодно с насильниками своей жены. Или Вадим ошибается в своих предположениях, и «Фантомаса» предупредил о фотографиях, об опознании кто-то другой. Но не сам же Уваров? А впрочем, мало ли людей в отделении трется, — как-то где-то случайно… Но почему тогда Можейкин и сама Можейкина приходили в квартиру Лео?.. Постойте, постойте, значит, они все друг друга знают. Можейкины, Лео, его отец… Его отец… Как он смотрел на меня, словно знал, кто я, словно на всю жизнь хотел меня запомнить. Та-а-ак. Понятно. Понятно, что ничего не понятно.
Вадим хлопнул себя по коленям, поднялся. Хватит думать об этом. Все. Забыли. Так и рехнуться можно. Пусть сами разбираются. Хватит! Господи, как ноет сердце. И как все скверно, скверно, скверно…
Не дал ему неспокойный аппаратик и шагу от себя ступить. Опять позвал, и опять не звонками, а всхрапами простуженными. Так и на работу опоздать можно. Сорокин не простит.
— Доигрались! — Голос у Уварова был возбужденный и злой. — Я предупреждал.
— Что еще? — И Вадим снова плюхнулся на диван.
— Исчезла Можейкина. Муж заявил. Только что ушел от меня. Утром в субботу пошла прогуляться, в тапочках и сарафанчике, и с тех пор как в воду…
— Боже… Но так ведь сам Можейкин… — Вадим прикусил губу.
— Что сам Можейкин?
— Нет, ничего.
— Что Можейкин? — рявкнул Уваров. — Договаривайте!
— Он… Он должен знать, что она немного того…
Вадим с трудом выискивал слова, а про себя ругался на чем свет стоит. — И нельзя было отпускать ее одну.
— Эх, вы, — в сердцах бросил Уваров, и Вадим машинально представил, как тот безнадежно махнул рукой. — Я-то, наив-ныи, думал, что вы решитесь.
— На что? — невинно спросил Данин.
— Вы же знаете что-то, может быть, даже главное, основное. Я же с самого начала видел, что знаете. Я же говорил вам: подумайте, подумайте. Зло должно быть наказано, иначе оно породит новое зло, иначе мы утонем в нем. Да что вам повторять банальные истины, сами все прекрасно понимаете, не недоумок же вы в конце концов?
— Не знаю, о чем вы? — упрямо сказал Вадим.
Уваров замолчал. Вадим слышал, как тот чиркнул спичкой, затянулся:
— Ну да ладно, вы сами себе судья, Вадим Андреевич, я думаю, гораздо более беспощадный, чем тот, что в суде народном. До свидания.
— Погодите, — спешно остановил его Вадим. — Погодите… Выяснили что-нибудь новое о насильниках, если не секрет, конечно?
— Ищем Спорыхина, — без особого энтузиазма ответил Уваров. — Его нет в городе. Но найдем, найдем, если он еще жив.
Вадим неожиданно поперхнулся на вздохе.
— Это что, так серьезно? — тихо спросил он.
— Серьезно, — жестко сказал Уваров. — Вы что, еще не поняли? Вы что думаете, и Можейкина просто заблудилась?
— Да что вы меня все пугаете, — Данин попробовал беспечно рассмеяться, будто ему рассказали забавный анекдот. — Или у вас метод такой?
— Извините, я спешу, — сказал Уваров. — До свидания.
И повесил трубку.
Преувеличивает Уваров, успокаивая себя, подумал Вадим, не может смириться, что так и не вытянул ничего из него, и вот теперь хитрит: то таинственный вид напускает, то повышает голос, якобы горячась, якобы болея всей душой за дело и вынуждая Вадима тем самым заразиться его стремлением к справедливости и рассказать ему в импульсивном порыве все, что знает. Ишь ты, «Если Спорыхин жив»… «Можейкина пропала не просто так…» Болтун! Вадим, вздохнув, поднялся, взглянул на часы, ужаснулся, увидев, что уже начало одиннадцатого, торопливо направился к двери, сорвал куртку с вешалки, суетливо погремел замками и вышел.
Это просто тебе так хочется, чтобы он был болтуном. Вадим вошел в лифт, нажал кнопку первого этажа, тебе так легче, спокойней, ты умеешь с собой договариваться, наловчился делать выводы, которые тебе выгодны, которые не трогают, не задевают тебя. А если это все правда, что говорил Уваров? И ему стало жарко в темноватом прохладном лифте и показалось, что даже пот скорыми обильными струйками потек по спине.
— Вы выходите или поедете обратно? — строго спросил его кто-то.
— А? Что? — не понял Вадим. Оказывается, двери уже отворились, и перед ним, не решаясь войти, стоял пожилой мужчина в белой, застиранной рубашке навыпуск. Лицо у него было распаренным, мокрым. В обеих руках, напрягшихся, со вздутыми венами, он держал авоськи, до отказа набитые апельсинами. Куда ему столько?
— Да, да, конечно, выхожу, извините.
Солнце ударило по глазам, и выбелилось на миг все вокруг, потеряв краски и очертания. И загудело в голове от раскаленного воздуха, и Вадима шатнуло в сторону. Вот что значит больше суток без движения просидеть в квартире. Захотелось пить. Магазин был рядом. Там, кажется, продавали соки в разлив. Вадим двинулся к нему. Глаза уже привыкли к свету, и видел он все отлично, но все равно каким-то образом умудрился наткнуться на худощавую, усталую женщину. Она вскрикнула и выронила сумку на асфальт.
Вадим поспешно нагнулся, извиняясь, подал ей сумку. Женщина слабо кивнула и пошла дальше. Вот тс на, а он и забыл про сумку Можейкиной. Вернуться? Взять ее с собой? Спрятать где-нибудь? Выкинуть? А где спрятать? Вадим невольно огляделся, будто где-то здесь рядом можно было найти место, где он смог бы надежно укрыть эту треклятую улику. Внезапно он поймал чей-то взгляд, напряженный, изучающий. Кто это был? Настолько мгновенно все произошло, что он не успел разглядеть обладателя таких пытливых глаз. Люди, люди вокруг, десятки, сотни. Как тут успеешь. Выходит, что опять за ним смотрят. Вадим выругался про себя. Все раздражало. Недобрыми и враждебными казались люди, угловатыми, неуклюжими дома, пропыленными, блеклыми деревья; машины выводили из себя ставшим вдруг невероятно громким, оглушающим рокотом моторов. Он не заметил, как очутился в магазине около прилавка с соками.
Толстая продавщица безучастно спросила:
— Что вам?
И он недоуменно посмотрел на нее. Какого черта ей надо от него? И вообще, что он тут делает?
— Как вас зовут? — вдруг спросил Вадим.
— Жанна, — с туповатым изумлением ответила продавщица.
— Очень красивое имя, — сказал Вадим, покачивая головой, потом повернулся и пошел к выходу.
Продавщица покрутила у виска пальцем.
Пожалуй, сумку пока лучше не выносить из дома. Что, если «Фантомас» сказал ему о ней специально, чтобы он, испугавшись, прихватил сумку с собой, а потом где-нибудь в темном переулке встретили бы его безликие парни… Может, вправду все чрезвычайно непросто? Подойдя к остановке автобуса, Вадим оглянулся на магазин. Зачем он все-таки заходил туда?
Войдя в гулкий, просторный и прохладный вестибюль института, порадовался, что не один он опаздывает. У лифтов скопилось с десяток нетерпеливо переминающихся сотрудников. Как всегда он кому-то кивнул в ответ на приветствие, с кем-то поздоровался громко, кому-то подал протянутую руку. А кому? С кем? Даже и не обратил внимания, даже и не различил физиономий. Все они были сейчас на одно лицо. А только ли сейчас? Ведь всегда он видел в коллегах только лишь похожие друг на друга одушевленные механизмы, когда справно, а когда и спустя рукава исполняющие свои обязанности. Как там у Чехова? «На тысячу глупых у нас приходится один умный». А кто сказал, что я умный? Я сам? Без устали, изматывающе ноет сердце. Надо как-нибудь сходить к врачу. Как-нибудь. Потом. Неизвестно, когда наступит это «потом».
Длинный коридор на его этаже безмолвствовал, отдыхал от утреннего топота и гвалта. За дверями глухо стучали машинки, монотонно бубнили что-то приглушенные голоса. Стеклянно вызванивала фрамуга на окне.
Вадиму показалось, что Марина вздрогнула, когда он вошел. Она улыбнулась ему и приветственно махнула рукой. Один из «двойняшек» — второй, как ни странно, отсутствовал — (который отсутствовал, Татосов или Хомяков, Данин так и не разобрался) — аккуратно наливал себе в чашку кипяток из электрического чайника.
— Где Левкин? — спросил Вадим, с удовольствием усаживаясь на стул.
— В отпуске, — сказала Марина. — С сегодняшнего дня, домик свой благоустраивать поехал. В Рытово.
— Понятно, — сказал Данин. — Садовод, значит. Нынче все садоводами заделались. Нынче мода такая, с землей чтоб на «ты» разговаривать. Клубничка, редисочка. Полезное дело. И радость-то какая, тишина, чистый воздух. И, главное, что свое, не чье-нибудь, а свое, кровное.
— И государству выгодно, — словно не замечая его тона, вставила Марина.
— Выгодно, — согласился Вадим, раскладывая на столе бумаги, папки, справочники. — И приятно. Вишь, какие развеселые, светящиеся в пятницу с работы срываются. Тянет их всех к земле. У большинства же кровь крестьянская. А какие понурые, мрачные по утрам к рабочему месту идут, будто тягачом волокут их, а они упираются, упираются… А скажи, живите, мол, товарищи, тут круглый год, выращивайте фрукты, овощи, раз нравится, раз радость этот труд вам приносит, возмутятся, загорланят, что же мы, крестьяне, что ли? Мы городские, мы антилехенты, у нас образование, и опять на ненавистную работу поволокут себя, кривясь. У нас, по-моему, больше половины института садоводы?! А? — обратился он к Марине.
— Больше половины, — всматриваясь в Данина, подтвердила Марина. — Ты чего злой? Ты вообще в последнее время злой и дерганый. Тебе надо отдохнуть.
— Вы тоже садовод? — Вадим повернулся к «осиротевшему» Татосову или Хомякову. Бесцветное гладенькое лицо того осталось непроницаемым, длинный тонкогубый рот звучно прихлебывал чай. И только в глазах Вадим уловил злорадство. С чего бы это?
— Вы садовод, — уверенно сказал Вадим. — И причем с детства. Вон руки какие широкие, короткопалые, темные от въевшегося чернозема. — Левая рука Татосова-Хомякова, та, что была свободна, стыдливо шмыгнула под стол. — И, приезжая на участок, вы сбрасываете с себя ненавистный костюм, с омерзением откидываете галстук, с умилением надеваете поношенные, просвечивающиеся, вытянутые на коленях тренировочные штаны, заштопанную на локтях рубашку, становясь собой настоящим, потирая руку, пьянея от восторга, напрочь уже забыв об опостылевшей работе, урча как голодный кот перед обильным угощением, прыгаете в огород…
— Вадим, — попыталась остановить Данина Марина, но он и не взглянул в ее сторону.
— Верно, товарищ Татосов?
— Я не Татосов, — гася ненавидящий взгляд, сказал Хомяков.
— Тем более, — Вадим хлопнул ладонью по столу. — Вы ведь не горожанин, Хомяков, — Вадим сузил глаза, как проницательный следователь на допросе рецидивиста. — Откуда вы родом?
— Вы меня уже спрашивали об этом, — процедил Хомяков, и желваки на скулах у него ретиво забегали.
— Да? — удивился Вадим. — Не помню. Но неважно. Так откуда же?
— Вадим, хватит! — крикнула Марина. — Ты что, пьян?
Хомяков хмыкнул и, помедлив, заметил с тихой вкрадчивостью:
— А ведь у вас самого, как мне известно, участок имеется…
— А вам какое дело?! — тут же вскинулся уличенный Данин.
— Успокойся, — сказала Марина обессиленно. — У тебя впереди еще куча всего. Мне надо сказать тебе кое-что важное.
— Говори, — безразлично произнес Вадим.
Марина едва заметно показала глазами на Хомякова.
— Пойдем в коридор, — предложила она, поднимаясь. — Там прохладно. И тихо. И никому мешать не будем.
— Там негде сидеть, а я устал, — капризно протянул Вадим и нарочито небрежно развалился на мягком стуле. — А почему бы товарищу Хомякову не оторваться от своей замечательной, тщательно оберегаемой чашечки. Вы, кстати, бы ее цепью к ножке стола приковали. Нет, лучше к радиатору отопления…
— Вадим, — опять оборвала его Марина и сделала осуждающую гримасу, легонько постучала себя пальчиком по лбу.
— И все же, товарищ Хомяков, — Вадим выпрямился и говорил теперь строгим, официальным тоном. — Соблаговолите покинуть помещение во избежание скандала и, не исключена возможность, отвратительной потасовки. — Он с трудом сдерживал смех, он давился им, и в уголке левого его глаза вдруг вспухла крохотная слезинка.
— Да что с тобой наконец? — не сдержалась Марина. — Что ты привязался к человеку…
— Не защищайте меня, Марина Владимировна, — подал голос Хомяков. Он деловито завернул в хрустящую пергаментную бумагу сполоснутую кипятком чашку, спрягал ее в стол и два раза крутанул ключиком. — Я сам могу постоять за себя.
— Ого, — сказал Вадим.
— А что касается того, что вы хотите конфиденциально сообщить товарищу Данину, так я уже в курсе. Все уже в курсе. Только один товарищ Данин не в курсе. Потому что он привык опаздывать на работу, потому что он думает, что ему все дозволено. Другим не дозволено, а ему — пожалуйста. — Хомяков дернул губами и опять с усилием пригасил взгляд. — И если вам, Марина Владимировна, не совсем приятно сообщать эту новость, то за вас это могу сделать я.
— Да нет, не надо, спасибо, — растерянно поблагодарила Марина.
— Ну-ка, ну-ка, давайте, любезный, — посмеиваясь, проговорил Вадим.
— Завтра состоится заседание месткома, — Хомяков сделал паузу, потому что больших усилий ему стоило впервые за все время знакомства не отвести взгляда и не опустить скромненько головку к груди. — Где будет разбираться поведение товарища Данина. Ко всем прочим его «геройствам» прибавилось и еще несколько достойных внимания фактиков. И порядочные люди не позволят себе пройти мимо них. И как ни прискорбно, заседание это может кончиться не просто внушением или выговором, но и кое-чем похуже.
Хомяков неторопливо встал, презрительно сжал губы, убийственно, как ему, верно, казалось, взглянул на Вадима, победительно вскинул голову, так что бросились в глаза густые кустики волос, торчащие из его ноздрей, и с достоинством покинул комнату.
Вадим, хмыкнул, показал вслед Хомякову язык и повернулся к Марине:
— Что за чушь он здесь нес?
— К сожалению, не чушь. — Марина тихо вздохнула и полезла в сумочку за сигаретами. — Так оно и есть. Помимо опоздания, помимо случая с Кремлем, помимо жалоб на твое не совсем учтивое поведение, появились еще и анонимки.
— Что за вздор? — Вадим медленно стер улыбку и брезгливо прищурился. — Какое поведение? Я никогда ни с кем, кроме как с улыбочкой, с шуточкой…
— Вот именно, с улыбочкой, с шуточкой, как сегодня…
— Анонимки какие-то, — Вадим пожал плечами. — Какие анонимки? О чем?
— О пьянстве и разгульной жизни…
— Что? — Данин подался вперед. — Да бог с тобой… Бред какой-то.
— Не бред, — возразила Марина, она затягивалась скоро, порывисто, как студент перед звонком на лекцию. — Просто тебя не любят.
— Не любят… не любят… — повторил Вадим, старательно выбивая пальцами дробь на столе. — А кого любят? Татосова? Хомякова? Сорокина? Кого любят? Да всех не любят, и тебя не любят. А? Нет?
— Не любят, но вреда не желают, а тебе желают.
— Но отчего, отчего?
— Потому что видят, что они для тебя ничто, потому что смеешься над ними, потому что ходишь вальяжно, да просто потому, что ты — это ты, а они — это они. Не такой. Непонятно?
— Понятно. И ты тоже?
— Что тоже?
— Ну не любишь?
— Вадим, я серьезно, — с неумелой строгостью сказала Марина.
— Уж куда серьезней.
— Тебе не обо мне сейчас думать надо, а о том, как защищаться.
— Фу, глупость. Да никак не защищаться. Да плевал я на них.
— Он ухмыльнулся, — а я не приду, я заболею…
— А потом ведь опять.
— Ерунда, обойдется, — он устало махнул рукой. — Разберемся. И хватит об этом, надоело, — но он все-таки досадливо дернулся. — Надо же… Праведники.
— Я уже кое с кем поговорила. — Марина нервно растерла недокуренную сигарету в пепельнице. — Есть достойные люди.
— А вот этого не надо, — Вадим вытянул вперед ладони. — Сами уже как-нибудь. Худо бедно, а головка имеется.
— Ну, хорошо-хорошо. Забыли до завтра.
В половине второго он оторвался от бумаг — работалось, как ни странно, в охотку — потянулся сладко, осмотрелся, комната была пуста. Вспомнил, что Марина говорила что-то про соседний универмаг. А коварный Хомяков, видимо, гуляет по бульварам с Татосовым. Они каждый обеденный перерыв гуляют по бульварам и, опасливо озираясь, вполголоса о чем-то беседуют. Строят планы грандиозного ограбления? Размышляют, как бы удрать в пампасы от постылой жизни? Желудок был пуст и, несмотря ни на что, требовал к себе внимательного отношения.
Вадим спустился на третий этаж, Приблизился к стеклянным дверям светлой огромной и, несмотря на величину, уютной, ухоженной столовой и неожиданно остановился. Сколько людей? Сидят, стоят, бегут, жуют, чавкают, глотают, потеют, спешат, говорят, хохочут. И почти половину из них он знает. И никому, то есть совершенно никому из них, нет до него дела, и ему нет дела ни до кого из них. Деревьям в лесу больше дела друг до друга, чем им.
— Да плевать я хотел, — пробормотал Вадим, невольно пятясь назад. — Разберемся, все будет славненько.
За полчаса до конца рабочего дня Марина засобиралась вдруг, вскинулась с двумя толстыми сумками, объяснила, смущенно улыбнувшись:
— Опаздываю, надо маме с проводницей продукты передать. Дефицит. Мама любит вкусно поесть, совсем как ты.
Вадим вспомнил, что Марина родом из поселка в двухстах километрах отсюда, там мать, сестра. Поравнявшись с ним, женщина наклонилась, прошептала скороговоркой:
— У меня в ванной с краном что-то. Зашел бы сегодня.
Вадим внимательно посмотрел на нее и неожиданно для себя кивнул:
— Зайду. В семь. Нет, в полседьмого.
— Правда? — выдохнула она недоверчиво.
Вадим опять кивнул.
Татосов с Хомяковым о чем-то пошептались, поглядывая в сторону Вадима, и через пятнадцать минут тоже ушли, хотя дисциплинированный Хомяков возражал и упирался. А без пяти шесть раздался голос «ворона» — черного местного телефона, сорокинского.
— Зайдите, — коротко обронил Сорокин.
Он вошел в кабинет спокойно, уверенно, с легкой, фатоватой ухмылочкой и напоминал сейчас себе храброго поросенка Наф-Нафа из известной сказки, который совсем не боялся волка и любил напевать про это песенку. Вадим, правда, песенку не напевал, но слова ее вертелись у него в голове, оттого, подойдя к столу, он ухмыльнулся шире: и, заметив такую наглую гримасу на лице подчиненного, Сорокин поморщился и решил начать сразу, не замазывая поначалу расплывчатыми фразами истинную суть предстоящей начальственной беседы. Вадим же без приглашения уселся на стул напротив, подвинул к себе газету и, не стесняясь, принялся изучать программу телевидения.
— Вы, наверное, уже все знаете? — начал Сорокин.
— О чем? — с готовностью отозвался Вадим.
— Завтра профком. Разговор будет идти о вас.
— Да, слышал краем уха. Болтал кто-то. Не помню.
— Разговор будет серьезный и нелицеприятный, — Сорокин сцепил пальцы в замок. — Вам будет очень и очень не по себе. Так же, как и всем нам. Очень много нелестного в последнее время говорится о вас. Поступают жалобы на вас и из других организаций. К тому же есть сведения, что вы замешаны в не совсем красивой истории с изнасилованием, что вами интересуются прокуратура и милиция. Есть сигналы, и половина из них уже проверена, что вы ведете аморальный образ жизни, пьете, встречаетесь с не совсем порядочными женщинами…
Вадим негромко рассмеялся. Конечно, можно было сейчас поспорить, постучать себя по груди, потребовать, мол, позвоните в прокуратуру, в милицию, узнайте, каким таким боком я замешан в изнасиловании, можно было бы настоять на установлении авторов анонимок, на самой тщательной проверке фактов, изложенных в них, и, кто знает, может, все и обошлось бы. Но он понял, что ничего этого не скажет. Не сможет. Не пересилит себя, не получится. Как ни старайся, а не получится.
— И зачем вы мне все это говорите? — без всякого интереса спросил он.
— Пока обо всем знают несколько человек. А завтра будет знать весь институт. Разнесут по городу. Вам трудно будет работать. И еще труднее будет найти другую работу.
— А-а-а, — протянул Вадим, словно догадался о чем-то. — Вы хотите, чтобы я написал заявление по собственному? Да?
У Сорокина втянулись щеки и несколько раз пропульсиро-вали желваки. Он промолчал.
— Ну что ж, — просто сказал Вадим. — Извольте. Бумажкой не подсобите?
— У вас в кабинете много бумаги, — глухо проговорил Сорокин.
— Ну нет уж, — весело отозвался Данин. — Я бы хотел здесь. Мне так удобней.
Данин запросто пошуровал на сорокинском столе, нашел чистый лист, вынул ручку, быстро написал заявление с завтрашнего дня, лучисто улыбаясь, подал его Сорокину. Тот, не глядя на Вадима, пальцами взял мелко вздрагивающую бумагу и тут же отложил ее на край стола.
— Все? — спросил Вадим, не переставая солнечно улыбаться. — У меня, простите, плохой почерк, но, думаю, поймете. Там всего одна фраза и подпись. А на чье имя написано, вы и так знаете. Могу идти? Или позволите все же в глаза вам взглянуть?.. Нет? Да? Не желаете. Ну, прощайте.
И Вадим поднялся, потянул пиджак за лацканы, чтобы сел плотнее, чтобы ощутили мышцы жесткую заморскую его ткань. Данин ловчее, свободнее себя чувствовал, когда вещи чуть маловаты были, когда чуть стягивали плечи, спину, когда слегка движениям мешали, потому что оттого движения четче, резче, красивей становились. И сейчас Вадиму очень важно было, чтоб уверенным, сильным, насмешливым он виделся. И так оно и было, наверное, потому что, настороженно скользнув по нему взглядом, Сорокин опять заговорил и теперь уже совсем тихо и с трудом:
— Нам с вами было бы тяжело работать, и чем дальше, тем хуже. Хотя, казалось бы, кто вы мне — один из многих. Но… — пальцы его подхватили карандаш и рьяно терзали его, словно хотели разодрать в щепы. — Плюс ко всему жалобы, письма. Да и вам самому ни к чему огласка…
«Оправдывается, — с легким удивлением подумал Вадим. — Впервые вижу и слышу. Тем более передо мной. Странно. Не укладывается в его характер никак. Или мы его плохо знаем? Или это не его решение? — Вадим, сузив глаза, внимательно вгляделся в Сорокина. — Не его решение… Не его решение. Чье же?»
— Вы Можейкина знаете? — недослушав Сорокина, отрывисто спросил Данин. Последние дни Вадим никак не мог определить, кого же ему напоминает Сорокин своей готовностью выпрямиться или же в нужную минуту подобострастно согнуться. А вот теперь вдруг вспомнил. Можейкина!
— Что? — выдохнул Сорокин. Толстенький карандаш вывалился из его пальцев и глухо шмякнулся о стекло. — Кого?
— Можейкина, — вкрадчиво произнес Вадим и наклонился, опершись руками на стол, попробовал заглянуть Сорокину в лицо.
— Не слышал, не знаю, — медленно, почти не раскрывая рта, произнес Сорокин. Веки его дрогнули, налились вмиг краснотой, отяжелели и, казалось, совсем скрыли глаза. — Не знаю, — повторил он с нарочитой неспешностью, взялся за какую-то папку на столе и положил ее перед собой.
— Правда? — выпрямляясь, почти искренне удивился Вадим. — А он рассказывал, что знает вас. Ошибся, наверное, перепутал…
— Наверное, — ответил Сорокин, весь, казалось бы, сосредоточенный на крепко завязанных тесемках папки.
— Я непременно скажу ему об этом. — Вадим предъявил свою самую наглую ухмылку, развернулся, сунул руки в карманы брюк и, не прощаясь, пошел к выходу.
В приемной весело и призывно почмокал губами и подмигнул некрасивой, широконосой секретарше Нине и, получив в ответ осуждающий взгляд, громко расхохотался.
В комнате улыбка в одночасье сбежала с его губ. Лицо словно высохло, омертвело. Он ощутил, как натянулась кожа на скулах, на подбородке. И ему захотелось выть, как бездомному, никому не нужному псу. И он не сдержался и рыкнул разъяренно и, наклонившись над столом, двумя руками снес все с него на пол; грузно обвалились папки, дробно простучали по полу карандаши и ручки; накренилась и не торопясь стала заваливаться настольная лампа; радуясь полету запорхали в воздухе бумаги. А вслед загромыхали, ударяясь об пол, ящики, которые он осатанело выдвигал и с наслаждением грохал об пол. А потом он устал и долго сидел на стуле, а потом пошатываясь вышел из кабинета и, лягнув за собой дверь, сгорбясь, зашагал по коридору.
Город встретил гомоном и суетой. И жарой. Но ослабевший уже, притомившийся от дневной неудержимости своей. На очереди был вечер, и посланец его — легонький,стеснительный, но настойчивый, прохладный ветерок — неторопливо и методично уже отгонял духоту. Гомон и суета вывели Данина из оцепенения, а игриво тронувший горячее лицо ветерок помог привести мысли в порядок. Насколько это было возможно, конечно, потому что голова была тупая и тяжелая, и думалось с трудом, и Вадиму чудилось, что он даже слышал, как шуршат мысли, не без усилий выстраиваясь ровным рядком. Можейкин с ними заодно. Теперь это ясно. Сначала информация о фотографиях, потом реакция Сорокина на его имя. Но почему? Что Можейкина связывает с ними? И вообще, кто же они? И что им нужно? И когда все это кончится? Это были первые вопросы, которые Вадим задал себе, когда в тенистом, притихшем к вечеру переулке отыскал лавочку и, кряхтя, опустился на нее. Но как ни силился, как ни пытался, как ни прикидывал все так и эдак, так и не ответил на них. Все было непонятно и запутанно. «А почему это я спрашиваю себя? — вяло подумал Вадим. — А почему бы мне не спросить… — он вдруг выпрямился, как охотничья собака, завидев дичь. — Почему бы не спросить Можейкина?!»
И вот он уже в телефонной будке, и пальцы, срываясь, крутят железный диск. И вот, лихорадочно постукивая ногой, он нетерпеливо ожидает, когда же наконец прервутся монотонные, безучастные гудки и любезный голос ответит: «Слушаю!»
— Слушаю!
— Это Данин.
— Рад, безмерно рад. Как самочувствие? Как настроение?
— В норме…
— А у нас несчастье, — Можейкин громко всхлипнул, будто чихнул.
— Я в курсе, — сказал Данин. — Куда вы сс дели? Убили?
— Что-о-о?!
— Труп-то вывезли из города? Или он все еще под кроватью подгнивает. Посмотрите, там он еще или нет. Я подожду.
— Да как вы… Да как… — Можейкин захлебывался, как утопающий. — Негодяй!
— Да будет вам, — усмехнувшись, сказал Данин. — Уж передо мной-то не разыгрывайте идиота. И попробуйте ответить на три вопроса. Если не ответите, я приеду и вытрясу из вас ответы лично. Первый. Что вы делали с женой у Спорыхи-на?..
— Второй. Кому и зачем вы сообщили, что мне в милиции предъявляли фотографии предполагаемых преступников? Третий. Какую цель преследовали, когда попросили Сорокина уволить меня с работы? Перестраховались?
— Глупец, — после паузы сказали в трубке, голос показался Вадиму чужим, жестким, чуть брезгливым. Несомненно, это был голос Можейкина, но совсем не того, которого Вадим знал раньше. — Мне жаль вас, — Совсем тихо произнес Можейкин, и тотчас заныли в трубке беспокойные гудки.
— Сволочь! — выругался Вадим и полез за монеткой. Но бесполезно. Трубку не брали. — Сволочь! — болезненно дернув щекой, повторил Вадим.
Ехать к нему? Не откроет. Вадим скривился и сплюнул.
Машинально он полез за сигаретами и, вынув уже пачку, стал похлопывать себя по карманам в поисках спичек, но, обнаружив их, извлекать не стал, потому что какое уж тут курение, когда рот такой сухой, что язык липнет к нёбу. Оказывается, это не просто литературный образ, а на самом деле так бывает — язык действительно липнет к нёбу. Вадим сунул пачку обратно, привычно заложил руки в карманы брюк, нахмурился, свел плечи, как обиженный ребенок, и побрел по переулку. На углу торговали квасом. Но не из бочки, а из ларька, там, внутри, вместо бочки стоймя были приспособлены баллоны, похожие на небольшие морские торпеды или авиационные бомбы. Ныне все больше из ларьков торговали квасом. И это было не так живописно, как-то буднично и обыкновенно. Желтобокие бочки всегда радовали глаз, а ларьки и не замечаешь-то толком. Очередь была небольшая, и Вадим встал, а то вот так походишь еще, и, когда доберешься до дома, язык от нёба руками придется отрывать. Дородная женщина в белой панамке над пористым рыхлым лицом, наклонившись, поила из крышки от бидона деловитую хитроглазую собачку. Лакая квас, та аж захлебывалась от удовольствия. Вадим видел, каких усилий пожилой женщине требовалось, чтобы стоять вот так, согнувшись, но она героически выдерживала эти муки, только лицо чуть исказила гримаса напряжения. «И не породистая даже, — грустно усмехнувшись, подумал Вадим. — Самая натуральная дворняжка. Маленькая, худенькая, хвостик крендельком, а, гляди ж, как ее любят, сколько испытаний претерпевают». В окошке ларька проворно мелькали багровые руки продавщицы. За стеклом, уставленным пачками сигарет, ее саму не было видно, и казалось, что руки принадлежат ларьку, что это не просто ларек, а ларек-робот. Вадим сунул три копейки этим рукам и поежился — так явственно он представил, что это не человеческие руки, а только очень похожие на них искусственные.
Квас был холодный и вкусный. И терпкий, и невозможно было от него оторваться. Широколицый, плечистый парень в майке с поблекшим олимпийским мишкой тоже никак не мог оторваться от кваса, только пил он не из кружки, а прямо из бидона. Кадык у парня ритмично елозил туда-сюда, и в горле утробно булькало. Парень оторвался от бидона, восторженно посмотрел на Вадима и сказал, выдыхая: «Квас — класс, особливо после этого дела!» — и заговорщически подмигнул. Вадим вежливо улыбнулся и поставил кружку на прилавок. Он не сделал еще и двух шагов от ларька, как вдруг ему стало не по себе, показалось, будто кто-то осторожно провел по затылку. Он резко обернулся. Парень, прищурившись, внимательно смотрел на него. Через мгновение, спохватившись, опустил глаза, лязгнул крышкой, закрывая бидон, и пошел по переулку.
«Я схожу с ума, — подумал Вадим, холодея, — мания преследования. Скоро начнут мерещиться террористы из красных бригад с динамитом под мышками». Но шутка не помогла, ощущение неудобства не проходило. Чудилось, что за ним наблюдают. Вадим провел двумя руками по лицу, глубоко вздохнул и двинулся, дальше. На улице Гоголя его любезно втянул в себя людской поток. Среди занятых своими мыслями, сосредоточенных людей он немного успокоился. Шагая к ближайшей остановке, он несколько раз оглянулся, но никого, кто бы мог наблюдать за ним, не заметил. Но почему же тогда так напряжена спина? Почему по затылку бегают колкие мурашки? Домой идти расхотелось. Да и что делать в пустой тихой квартире. Хорошо бы сейчас кому-нибудь поплакаться. Безалаберно и бессвязно выложить все, что наболело, все, что мучит, услышать доброе слово в ответ, увидеть участие в глазах, пусть мимолетное, пусть не совсем искреннее, но участие. Он остановился возле телефонной будки. Весь день будка пеклась на солнце, и теперь в ней словно застыла полуденная жара. Кому позвонить? Вадим вынул записную книжку, полистал ее. Вон сколько телефонов, а звонить некому. Женьке? Глупо. Володьке, школьному приятелю, у него своих проблем хватает, третьего родил. Наташе? Он не знает ее телефона. Да и зачем? Этому? А может, этому? А может, этой? А? Кому? Сколько приятелей, приятельниц, а будто и нет их вовсе. Чья вина? Жизнь такая суетливая, деловая? Или им всем просто наплевать друг на друга? Но с кого-то ведь это началось? С них? С него? Почему он в последнее время думает об этом? Мимо будки спешно с достоинством прошествовал высокий худой милиционер. Капитан. А в каком звании Уваров? Вот напасть, опять этот Уваров! И Вадим почувствовал, как жаром, большим, чем в будке, полыхнуло лицо, и он ударил с силой по стеклу. Несколько прохожих удивленно повернулись к нему. Данин спрятал книжку, достал монетку и принялся набирать номер.
— Марина, — сказал он, когда монетка провалилась. — Это Вадим. Сейчас зайду. Какой адрес? Ведь я ни разу еще не был у тебя.
Совсем недалеко от Центра, оказывается, она жила, в семи остановках от их института, от улицы Гоголя, в громоздком кирпичном, в форме буквы «П» доме. На первом этаже был магазин, и поэтому в мрачноватом холодном дворе было полно ящиков и пряно пахло бакалеей. И в темном сыроватом подъезде тоже пахло бакалеей. Он вышел из лифта на шестом этаже, нажал кнопку звонка. И тотчас мастерски обитая коричневым дерматином дверь отворилась, и широко улыбающаяся Марина предстала перед ним в тонком вишневом платье.
— Слесаря вызывали? — спросил Вадим, с удовольствием разглядывая женщину.
— Вызывали, давно вызывали, — сказала Марина, отступая в глубь квартиры и жестом приглашая его следовать за ней. — А он все не идет и не идет. Я уже решила пожаловаться в райисполком на такое безобразие.
Войдя, Данин, потянул носом и сделал удивленное лицо.
— По-моему, свинина с чесноком?
— Да, — со вздохом сказала Марина. — Вот только так и можно заманить нерадивого слесаря.
Прихожая сильно смахивала на Наташину, тоже эдакая пещерка, скупо подсвеченная настенным светильником. Мода, видно, нынче такая. Но неплохо. Смотрится. Вадим заметил, что Марина скользнула взглядом по его рукам. Он хлопнул себя по лбу.
— Идиот. Забыл цветы, шампанское. Я сейчас сбегаю…
— Ладно уж, — Марина слабенько усмехнулась и махнула рукой. Обойдемся и без ваших подарков.
«Не понравилось, — подумал Вадим. — А почему, собственно? Кто кого приглашал? Я не набивался».
— Снимай туфли, — Марина нагнулась и вынула из обувного ящика растоптанные, крупные, заносчивого вида тапочки.
— Что? — не понял Вадим, и брови его поползли наверх.
— Тапочки, тапочки надевай, — повторила Марина.
Вадам представил себя в модном бежевом пиджаке, в черных брюках и в тапочках, и ему стало смешно, и он на мгновение пожалел, что пришел сюда.
— Марин, — сказал он. — А ты так и не ответила на мой вопрос.
— Какой? — Марина нетерпеливо ждала, пока он снимет туфли.
— Все меня не любят. А ты?
Марина чуть склонила голову вбок и произнесла с усталой улыбкой:
— Ну не так же сразу. И не у порога.
— Именно сразу и именно у порога. Чтоб все было ясно.
Он качнулся вперед, ловко ухватил Марину за талию, привычно и сноровисто притянул женщину, напрягшуюся вдруг, одеревеневшую, к себе, склонил голову, хотел ткнуться мягко губами в полуоткрытый ее рот, но ускользнули плотно сжавшиеся, тугие ее губы, отвернулась Марина, запрокинула голову, уперлась руками ему в грудь.
— Ну так как, любишь, нет? — еще крепче, несмотря на сопротивление, прижимая к себе девушку, спросил Вадим.
— Пусти, — скривившись, потребовала Марина. — Пусти, больно.
И он убрал руку, резко, и, усмехнувшись, подался назад. Поправляя платье, Марина покрутила головой.
— Все сразу тебе подавай, привык, что девки на тебе виснут. Привык, что и обхаживать их не надо. Раз, два — и готово. Подошел. Поцеловал, как меня в институте. А я по-другому хочу, — она коротко взглянула на него, неуклюже как-то повернулась и пошла в сторону кухни.
«Капризничает, — подумал Данин, не без удовольствия понаблюдал за колыханием легкого платья и опустил взгляд ниже. — А ноги у нее полноваты», — отметил он.
— Тапочки надень, — через плечо бросила Марина.
Он развел руками и все-таки снял туфли и облачил ступни в мягкие, великоватые тапочки.
Первым делом в комнате стол в глаза бросился, уже сервированный разноцветным посверкивающим хрусталем, марочным коньяком и икрой; и хотя много на что в этой комнате посмотреть можно было: и на стенку дорогую с десятками ящичков и дверок, и на надменные золотистые кресла, и на диван, тоже золотистый, призывно манящий, и на пуфики разные, заграничные (от прежнего мужа все это осталось?), а вот стол был приметней всего: он ожил, словно такой сладкий груз на себя взваливая, в нетерпении друзей своих ожидая. «И когда успела-то?» — подумал Данин и удивился, что при этой мысли не ощутил теплоты и нежности к Марине. Он пожал плечами, хотел сесть за стол, но решил не нарушать пока его праздничный покой, шагнул к креслу, присел на подлокотник. Да, симпатичная квартирка, ухоженное гнездышко, богатенькое. И впрямь, видать, от бывшего мужа все досталось. Не злопамятный мужик, наверное. Вадим опустил голову, чтобы рассмотреть ковер, и глаза опять уткнулись в тапочки. Он чертыхнулся и, кряхтя, снял пиджак. Так будет лучше, все же по-домашнему как-то. А теперь надо бы и умыться, раз такое дело. Он прошел в ванную, чистую, душистую, с овальным зеркалом, с подзеркальником, уставленным пестрыми шампунями, дезодорантами, кремами. Чуть прищурившись, внимательно посмотрел на свое отражение и, не понравившись себе — бледный, угрюмый, потухший, — опустил голову и подставил руки под теплую струю. Вытираясь полотенцем, вдруг понял, что нестерпимо хочет домой.
— Что затих? Утонул? — донеслось из кухни через приоткрытую дверь. Голос был чуть с одышкой — от горячей плиты, от готовки, от торопни, но звонкий, веселый, даже чересчур веселый, эдакий пионерский голосок, мол, долой печаль, запевай отрядную! — Ты, часом, там не ванну принимаешь?
— Целую ванну тяжеловато, — пробормотал про себя Данин.
— Если б грамм сто пятьдесят принять…
А вслух сообщил:
— Примеряюсь к кранам, понимаешь ли. Я ж как-никак за ним делом приглашен был. За этим замечательным мужицким делом.
Он сидел на краю ванны и шевелил пальцами в просторных увесистых тапочках. «Зачем ей такие здоровые тапочки, — вскользь подумал он, опять посмотрев себе под ноги. — На вырост, наверное, купила или…»
— Чего? Чего? — послышалось с кухни. В интонации голоса уловил что-то новое. — Мужицкое дело? Ух ты мужик нашелся!
Марина хохотнула чересчур громко. — Мужчинка ты. Самый натуральный мужчинка. Ты и делом-то мужским никогда не занимался небось? А? Все игрушечки-финтифлюшечки.
Он в первые мгновения усмехнулся вяло и даже несильно махнул в сторону кухни рукой, не болтай, мол, попусту, подруга, а потом залился вдруг краской жарко, уродливо скривился, больно потер переносицу. «Это она мне? — подумал. — Дрянь!» — встал стремительно, замахнулся ногой и шмякнул один тапочек о стену, потом другой ногой замахнулся и второй тапочек шмякнул.
— Это она мне? — сказал вслух цедяще и угрожающе — внутри все кипело, бурлило, дымилось — саданул ладонью по двери, вышел, стремглав пронесся в комнату, схватил пиджак, а он ни в какую — зацепился за что-то — принялся рвать его, нервно и дергано и приговаривая: «Дрянь! Дрянь!» А потом стул накренился и пробалансировал мгновение на одной ножке, как циркач на канате, и неспешно стал заваливаться на бок, а потом упал с глухим стуком и затих, будто умер, — с измятым пиджаком на плечах. Данину что-то не понравилось во всем этом незначительном происшествии: то ли покойницкий вид стула, то ли еще чего, и ему не по себе стало, и он нахмурился и огляделся, проверяя, здесь ли еще, где был, или уже в другом месте очутился.
— Я болен, — тихо сказал он и в этот момент услышал, как катятся по непокрытому паркету где-то под диваном монетки. Одна за другой они звенели дробно и умолкали на полу. Данин присел, пошарил по карманам пиджака — точно, мелочи ни гугу. Ну что за черт! Как же без мелочи! Без мелочи просто никуда! Обидно — вот была мелочь, и теперь ее нету! Теперь она черт знает где валяется! Он встал на колени и принялся осматриваться. Гривенник нашел сразу, неподалеку от себя.
Так теперь вперед, за остальными…
В коридоре простучали каблучки, замерли на мгновение. Данин поднял стул, сел на него, кряхтя, и продлил теперь уже с высоты стула осмотр пола. Еще два раза щелкнули каблучки, и в дверях показалась Марина. «Красавица, — подумал Вадим и ничего не почувствовал. — Красавица, — с нажимом повторил он про себя и опять ничего не почувствовал, задержал дыхание, поднапрягся. — Крас… Ну и бог с ней», — подумал и стал опять разглядывать пол.
— Ты меня прости, — сказала Марина. — Я с тобой грубо. Это совсем не оттого, что ты думаешь, а совсем наоборот, от другого… Я сама не знаю, что со мной, у меня все из рук валится и все внутри дрожит. И мне хочется тебя унизить, себя унизить, и вообще все как-то не так.
— Конечно, — отозвался Вадим. Он теперь приметил пятак у ножки дивана и был очень этим доволен.
— Молодец, все понимаешь. — Марина слабо усмехнулась. — А я вот никак. Я думала, ты не придешь. А ты пришел. А я не ждала… Вернее — ждала, но не хотела, чтобы ты приходил. А вот ты пришел, и я захотела… Нет, не так…
— Так, так… — протянул Вадим и заглянул под диван.
— Нет, не так, совсем не так! — Марина приложила две ладошки к шее, будто они замерзли и она таким образом их грела. — Я, наверное, должна быть нежной и ласковой, раз ты пришел, раз я звала, и ты пришел. А я не могу. — она уже чуть не плакала. — Я столько раз тебя звала за эти годы, ты не приходил, я столько раз мечтала, представляла, даже помню слова, которые говорила… А теперь не могу… Вот с кем угодно сейчас смогла бы, а с тобой не могу… Уходи!
Данин последнего слова не расслышал, потому что был уже под диваном, он напал там на целую россыпь — и двугривенные, и пятнадцатикопеечные, и пятаки — здесь, видать, вся мелочь из его карманов затаилась. Данин собрал все аккуратненько и стал пятиться назад. Выбрался, отдышался, позвенел мелочью в ладошке, и тут взгляд его в угол дивана уперся, туда, где в этом самом углу примостилась какая-то игрушка…
— Уходи, — теперь уже жестко и решительно произнесла Марина. — Мы просто друзья. Если такое бывает…
Приговаривая: «Все бывает, все бывает…» — и не отрывая взгляда от игрушки, Данин немного привстал. Игрушечная собачка, грустная, жалкая, потертая. Сначала Вадим смотрел и не видел ее, так, комочек какой-то валяется пятнистый, чернобелый, а потом прищурился и приглядываться стал, а потом ближе подошел, осторожно дотронулся до собачки пальцем, по голове, по ушкам погладил, присел рядом, взял собачку на руки, осмотрел ее со всех сторон, покрутил удивленно головой и прижал собачку к груди с силой, будто вдавить ее в себя хотел, склонил голову, провел нежно подбородком по плюшевому ее тельцу. Он знает эту собачку, он преотлично ее знает, конечно, не эту именно, а точно такую же… Лет пять ему было. И он у кого-то вот такого песика увидел, грустного, жалкого, но забавного, и влюбился в него до смерти, живой щенок ему был не нужен, вот такого подавай и никакого другого. И где они с мамой ни были, весь город объездили — нет собачки. В горторг звонили, и на фабрику, и посчастливилось им: кто-то проникся, посмотрел по накладным, сообщил, что в Ушанов, что в полуторе сотне километров от города, таких собачек поставили. И поехали они с мамой туда, и купили там игрушку, и оба довольны были, словно великое дело сделали. Он гулял с ней, спал с ней, ел с ней, он ни на минуту не отпускал ее от себя. Он назвал ее Винни, как медвежонка из сказки, которую любил и которую знал наизусть. Ему уже четырнадцать-пятнадцать было, а песик нет-нет да оказывался в его руках, и он с ним разговаривал, делился, советовался… Остро и больно заныло в груди, он согнулся, свел плечи, прижал собачку к шее, закрыл глаза. Конечно же! К маме! И сейчас, и немедленно! Только там он самим собой станет, вновь каждому утру, каждому дню, каждому зайчику солнечному радоваться будет. Мама вылечит его, снимет боль эту дурацкую, эту проклятую, эту ненавистную боль — в груди, в голове, в ногах, руках, во всем теле, во всем нем…
Он поднял лицо и заулыбался, не открывая глаз: ощутил, как вольно, как легко стало. Ну вот и все, вот и нашел он выход. А теперь спешить. Он вскочил, не выпуская собачку из рук, кинулся к двери и наткнулся с размаху на Марину. Вадим посмотрел на нее недоуменно, мол, а ты кто такая? Откуда здесь? Потом вспомнил все вмиг, покрутил у нее собачкой перед лицом и весело сказал:
— Я у тебя забираю ее. Она теперь моя.
И хотел пройти мимо, уже боком встал, чтоб между косяком и женщиной протиснуться и чтобы только не задеть ее, не хотелось ему задевать ее. Она неуверенно удержала его, спросила сухо, вроде как для приличия:
— Может, выпьешь?
— Конечно, выпью, — сказал Вадим, и ему захотелось смеяться, словно он очень удачно сострил. Огляделся, взял коньяк со стола, запихнул его во внутренний карман пиджака и довольный повернулся к Марине. — Только не здесь. Где-нибудь в уютном местечке с хорошими людьми.
На сегодняшний московский билетов не было, и на завтрашний тоже, и на послезавтрашний. Только через неделю можно было уехать, да и то очередь отстоять требовалось, и не маленькую — раздраженную и крикливую. Лето. Отпуска. На столицу всем поглядеть охота, да и на другие города, ведь поезд до самой западной границы доходил. Но Вадим должен был уехать именно сегодня, ни часа, ни минуты промедления. И Вадим пошел по инстанциям, по местным вокзальным инстанциям. Он сердечно улыбался, требовал, грозил и каждый раз, когда ему отказывали, поглаживал в кармане собачку и приговаривал тихо, сквозь зубы: «Ничего, ничего…» Начальника вокзала он застал выходящим из дверей кабинета, его рабочий день уже давно закончился, усталый, сонный начальник вокзала безучастно смотрел на Вадима, пока тот тыкал ему в лицо удостоверение внештатного корреспондента и убеждал, что ему надо отбыть именно сегодня, ибо в противном случае сорвется важный материал, потом повернулся и обронил через плечо: «Пойдемте».
Через пятнадцать минут с билетом в кармане он уже сидел в зале ожидания и снова поглаживал собачку, и шептал довольно: «Ну вот видишь, я же говорил…» Поезд уходил в девять сорок пять, до отхода оставался час. Домой было ехать бессмысленно. Да и зачем. Все, что нужно, он найдет там, у мамы, и белье, и рубашку, и все остальное прочее. И он решил отдыхать, и даже почти задремал, и спохватился только, когда до отхода осталось десять минут. Сорвался с места и, не видя ничего вокруг, помчался на перрон. Вот так же, не смотря по сторонам, он ехал к вокзалу от Марины, так же бегал по мелким и крупным вокзальным чиновникам. И, конечно, не заметил, что всюду, от самого Марининого дома, от него не отставал толстый пожилой мужчина в рубашке навыпуск. Толстый проводил его до вагона и остался стоять неподалеку, ожидая, пока отойдет поезд.
Хмурая, дочерна загоревшая, будто только-только вернувшаяся с южного курорта проводница взяла билет, глянула на него краем глаза, потом посмотрела Вадиму на руки, приподняла густую лохматую бровь, слегка, видимо, удивившись, что он совсем без вещей, вернула билет обратно и тотчас забыла о Вадиме — мало ли каких пассажиров не бывает.
То и дело прижимаясь к стенке, он кое-как добрался до своего купе. Оно было до отказа забито женщинами в цветастых сарафанах, детьми; слышался и мужской басовитый говорок, даже два голоса мужских слышались, они перекрывали звонкий детский гомон и торопливую скороговорку женщин. Для одного купе народу многовато, значит, кто-то здесь провожающие. Вадим повернулся к окну, стал смотреть на перрон. Там, вдоль поезда, перед окнами выстроилась цепь жен, мужей, пап, мам, братьев, сестер, друзей. Мужчины, как обычно, строго молчали и лишь изредка кивали ободряюще, а кое-кто уже и забыл, зачем пришел сюда, равнодушно озирались они по сторонам, нетерпеливо ожидая, когда можно будет отправиться по своим делам.
Вот только женщины, как обычно, как всегда, не могли успокоиться и все что-то говорили, говорили в открытые окна, да с таким серьезным и обеспокоенным видом, будто только сейчас, уже перед самым расставанием, вспомнили самое важное. Вадима бесцеремонно толкнули в спину, и он чуть не протаранил лбом стекло. Он обернулся — из купе выходили дородные женщины в сарафанах, молодые, но уже угрюмые и недовольные. Их было трое, и они были очень похожи друг на друга, как сестры.
И ни тебе «разрешите пройти…», ни «извините»; подхватили вертлявых детишек — тех тоже было трое — и потопали по коридору, горласто переговариваясь. Вадим скривился в нехорошей усмешке, повел подбородком и шагнул в купе. И в этот момент поезд дрогнул едва заметно, и поплыли неспешно в окне вагоны, столбы, женщины в оранжевых жилетах…
Два парня, что сидели по обеим сторонам столика, тоже смотрели в окно, и мальчишка лет шести, встав ногами на нижнюю полку и оперевшись на крупного, крутоплечего белобрысого малого, тоже провожал глазами убегающие вагоны, кирпичные основательные строения, пыльные пакгаузы и бесконечное множество рельсов, столбов и семафоров. Вадим поздоровался, сел. Ему не ответили. Только мальчишка, повернув к нему треугольное озорное личико, посмотрел, прищурившись, потряс парня за плечо и, когда тот степенно оглянулся, топнул ногой и крикнул: «Я здесь буду спать!»
— Хорошо, — сказал парень и, увидев Вадима, без всякого выражения кивнул ему.
— А вот и нет, — вкрадчиво произнес мальчишка и опять потряс парня за плечо. — Я там буду спать. Мама сказала, здесь дует.
И он мигом перескочил на противоположную полку и ухватился за плечо второго парня, худого, носатого, тоже белобрысого. Но волосы у него курчавые, жесткие, спутанные. Он, верно, причесывался пятерней, а то и вовсе не причесывался.
— Хорошо, спи там, — не оборачиваясь, равнодушно сказал отец.
Мальчишка переминался с ноги на ногу и мял плечо носатого, ему явно было мало внимания. Он опять топнул ногой и громко крикнул:
— Нет, я буду спать здесь. — И ударил рукой по верхней полке.
— Здесь буду спать я, — негромко сказал Вадим. Мальчишка обиженно поджал губы, метнул на Вадима недобрый взгляд и вытянул палец к противоположной верхней полке:
— Тогда там, — и опять перескочил к отцу.
Носатый оторвался от окна и впервые посмотрел на Данина. Он, не стесняясь, разглядел своими чуть раскосыми глазами его лицо, потом пиджак, потом брюки, цыкнул, отвернулся к окну и, махнув рукой в сторону мальчишки, порекомендовал безучастно:
— Дай ты ему по шее.
— Сейчас я дам тебе по шее, — медленно разворачиваясь, проговорил парень-отец.
— А вот и не дашь, вот и не дашь, — мальчишка запрыгал на одеяле.
Отец лениво хлопнул его ладонью по лбу. Тот, изумленный, свалился и тут же заревел:
— Все маме скажу… все скажу, — захлебывался он. А потом похныкал еще немного и затих.
«Пытка какая-то, — печально подумал Вадим. — И так больше суток».
— Граждане, приготовьте билеты, — совсем рядом выкрикнула проводница.
Вадим поднялся, выглянул. Густобровая проводница стояла возле соседнего купе. Вадим вышел.
— Простите, — обратился он к ней. — Нельзя ли с кем-нибудь поменяться.
— Что случилось? — проводница без особой радости посмотрела на Данина. Она была еще молода и совсем не так некрасива, как показалось поначалу; и лохматые брови даже шли ей, а вот загар портил.
— Я устал и хочу отдохнуть, — объяснил Вадим. — А там ребенок беспокойный.
— У нас полон вагон детей. — Проводница нетерпеливо ждала, пока пассажиры в купе разберутся с билетами и дадут ей возможность двигаться дальше. — И все беспокойные. Где вы видели спокойных детей? — она пожала плечами. — Попробуйте договориться сами. Если кто согласится…
Вадим представил, как он шествует по вагону, заглядывает в каждое купе, с вежливой натянутостью улыбается и просительно предлагает обменяться местами, и ему вмиг расхотелось меняться, и он решил остаться на законном своем месте. «Черт с ними, — подумал он. — Перетерплю. В Москве отосплюсь». Он махнул рукой и пошел обратно.
Все трое в упор смотрели на него, когда он вернулся. Они все слышали. Но ни вопроса не было в их глазах, ни осуждения, ни одобрения, они просто смотрели, и все. Так на прохожего смотрят, который подошел прикурить попросить. А потом мальчишка отвернулся к стене — он все еще лежал, изображая оскорбленного и всеми покинутого — и тихонько захныкал. И парни тоже отвернулись и принялись опять смотреть в окно. Вадим сел у самой двери, легонько похлопал себя по коленям, потом достал сигареты, повертел пачку в руках, сунул обратно, нет, курить здесь нельзя, а в тамбур идти не хотелось. И поэтому тоже стал смотреть в окно. Там не было ничего интересного: деревья, дома, потемневшее небо. Довольно быстро уже мелькали километровые столбики — поезд набрал скорость. Смотреть в окно надоело. Вадим встал, неторопливо стянул пиджак. Когда вешал его на крюк вешалки, бутылка с коньяком глухо стукнулась о стенку. А он-то забыл о ней, все это время даже не ощущал ее тяжести. «Может, махнуть грамм сто пятьдесят? А впрочем, нет», — он чувствовал, что сейчас спиртное впрок не пойдет. По коридору уже бродили быстро освоившиеся, переодетые в халаты и спортивные костюмы пассажиры, и каждый непременно заглядывал в открытое купе. Следовало бы закрыть дверь. Спросить у парней? Может, им хочется свежего воздуха? Хотя Бог с ними, тоже мне господа, еще спрашивать у них. Он потянул дверь, она покатилась, лязгая, и закрылась, металлически щелкнув. В купе сразу потемнело. Вадим затылком ощутил на себе взгляды, но оборачиваться не стал, скинул туфли, ступил на нижнюю полку и, опершись руками на верхние, подтянулся и тотчас спрыгнул обратно. На его полке в беспорядке лежали вещи: две хозяйственные пузатые сумки и набитая свертками авоська. Вадим повернулся к попутчикам, протянул руку к полке и пошевелил в воздухе пальцами.
— Уберите-ка вещи, — не очень любезно проговорил он, глядя поверх голов парней.
Мальчишка уже, видать, забыл, что его хлопнули по лбу, и теперь сидел, чуть склонив голову набок, и, прищурившись, разглядывал Вадима.
— Дядя, у вас насморк? — вдруг спросил он.
— Что? — не понял Вадим.
— У вас такое лицо, будто вы чихнуть хотите, — и он сморщился, как бы приготовившись чихать.
— А, да-да, насморк, — не нашелся Данин.
Носатый лениво со вздохом поднялся, неспешно снял вещи, осторожно, словно они были начинены динамитом, положил сумки и авоську к себе на полку. Вадим во второй раз подтянулся и забрался наверх. Ноги упирались в стену — вагоны проектировались без учета его роста, — но все равно было замечательно. Просто сплошное удовольствие, вот так, расслабившись, лежать, ощущать движение, слушать успокаивающий перестук колес, вдыхать запах чистого купе — запах дороги, — и ни о чем не думать.
Все позади, буквально позади. Все осталось там, за тридцать, сорок — сколько они уже проехали — километров отсюда. И не надо больше ломать себя, изнурять и вымучивать, не надо вздрагивать от звонков, от шагов, от мыслей, от внезапных сомнений. Это все там, за спиной, и он не хочет оборачиваться. Зачем? Когда там так черно, дымно и душно. Город ему казался сейчас темным, грязным, смрадным. Он видел его весь целиком, сразу — с угрюмыми домами, с хищными, наглыми машинами, с враждебными, недобрыми людьми, — укутанный густым горьким маревом. А здесь, вот в этом купе и за окном, было чисто, светло и радостно. И в Москве тоже будет чисто, светло и радостно. И он может дышать полной грудью и улыбаться искренне, открыто и в удовольствие. Он освободился, он бежал. Он в бегах. Бежал, бежал… Ритмично и плавно покачивался вагон, и в купе стало еще темнее, за дверью кто-то тихо и монотонно говорил. Вот слова стали сливаться в один длинный, низкий звук. Вадим уснул… Высокая черная стена была перед ним, без единого зазора, без единой трещинки; справа и слева, и сзади белым-бело, а впереди стена. Ему стало страшно, и он побежал, а потом оглянулся и понял, что это не стена, а борт корабля, огромной бело-черной глыбы ледохода, он намертво врос в лед и стал словно памятник самому себе. И Вадим вспомнил, что плыл на этом корабле и что там были люди, много людей, и что он пытался с ними заговорить, а они не отвечали ему, не смотрели даже в его сторону, они бесшумно двигались по палубе и молчали. Он схватил кого-то за руку, но рука была твердая и холодная, и Вадим отдернул пальцы, словно дотронулся до мертвеца. И захотел уйти отсюда, все равно куда, лишь бы уйти. И нашел лестницу, спустился по ней и оказался на льду, и студеный колкий ветер сразу опалил его лицо, и шею, и руки, и ноги, а на корабле было тепло, тепло и уютно, вот только эти странные люди…
Он опять побежал, спотыкаясь и даже упав один раз. А потом корабль скрылся из виду, и вокруг белел снег и встопорщенные льдины, а над головой висело низкое серое небо, и, подвывая, как брошенная голодная собака, свирепо дул ветер, и Вадим почувствовал, что коченеет, руки и ноги перестали слушаться, а затвердевшие от стужи пальцы невозможно было разогнуть. Он повернул обратно, шел съежившись, обхватив себя одеревенелыми руками. Дрожь билась во всем его теле. Корабля нигде не было видно. Захотелось кричать, но он пересилил себя, сдержал крик, а потом захотелось плакать, он терпел некоторое время, а потом слезы потекли сами собой, и тут же на щеках они превращались в льдинки. И Вадим понял, что ему не спастись, что все кончено. Но он знал, что все это во сне и чтобы прекратился кошмар, надо проснуться, надо заставить себя проснуться…
Он открыл глаза. Пелена застелила белый, усыпанный крохотными дырочками потолок. В глазах стояли слезы. Он все-таки плакал, во сне плакал. А потом он осознал, что дрожит, и что ему невероятно холодно, и что в левый бок ему дует сильный холодный ветер. Вадим обнял себя, повернулся на бок, и ему стало теплее. Но успокоение и радость не пришли вместе с теплом, на душе было тоскливо.
В купе царил полумрак, в изголовьях двух нижних полок тускло горели лампочки. Скупой медно-желтый свет еще больше вгонял в печаль.
— Выбиться хочет, задается, — услышал Вадим низкий бас белобрысого. — На собраниях орет, что только он один вкалывает, и за это его не любят, а остальные все повязаны, и бригадный подряд их ничему не научил. И… это самое… они, мол, все делят не по справедливости, а по дружбе: кто у бригадира в шестерках — тому побольше, а он, мол, ни к кому не подлизывается, и ни с кем не пьет, и вообще он — трезвенник. Врет, гад, я его видел пару раз, еле топал. Сволочь!
— Сволочь, — подтвердил голос носатого. — И уходить не хочет. Я ему говорил, уходи, не доводи до греха, а он «Я вам еще покажу».
— Выбиться хочет, — повторил белобрысый. — Надо с ним по-крупному поговорить.
— Надо, — сказал носатый. — А у тебя с ним еще особые дела.
— Ты про Нинку? — спросил белобрысый. — Я ему ее не прощу… Это точно.
Простой разговор, простые слова, обычные житейские проблемы. Сидят двое и беседуют неспешно, и все понимают друг про друга, и все знают друг о друге, и им хорошо, было бы плохо, не поехали бы вместе в такую даль. Не в командировку ведь направляются, в отпуск, наверняка в столицу. И незамысловатый этот тихий разговор успокоил Вадима, и даже взбодрил его, и сил придал. И уверенности, что не все так скверно, как во сне привиделось, что течет вокруг нормальная человеческая жизнь и что всякое в этой жизни случается, и что в конце концов все решается, удачно или не совсем, но решается. Вот так он подумал, и поднялось у него настроение. И он был благодарен парням за этот разговор, и ему захотелось самому поболтать с ними, неторопливо, обстоятельно. Неплохие, видать, ребята.
— А может, это и хорошо было бы, — сказал после паузы носатый.
— Что хорошо?
— Ну ежели бы тогда, два года назад, Нинка к нему ушла. Все равно живете как кошка с собакой. Недобрая она все-таки.
— Опять ты об этом? — Голос белобрысого пригас, подустал словно, обесцветился. — Сколько можно? Я тебе сто раз говорил. Ведь сто раз. Как я без пацанят? Без этого оболтуса… О! Слышь, как гомонит… — И белобрысый тихонько и удовлетворенно засмеялся.
Мимо двери стремительно протопали, и затем уже вдалеке, в самом конце коридора продребезжало подобие паровозного гудка. Кто-то вскрикнул испуганно, вслед за этим раздался тонкий мальчишеский смех, а потом забубнили недовольные голоса. Мальчишка теперь терроризировал вагон. К концу поездки его наверняка будет знать весь состав. Вадим улыбнулся.
— А теперь еще Аленка маленькая, — грустно сказал белобрысый.
— Я тебя предупреждал, — носатый постучал пальцем по столу. — Не заводи второго, наплачешься…
— Ой, ой! Умник какой! — Белобрысый, видать, обиделся. — А сам-то, сам-то. У тебя будто лучше?! Твоя и шпыняет только тебя: туда не ходи, здесь не садись, тому не звони. Как малолетку.
— Ладно, закройся, — беззлобно проговорил носатый. — Такая судьба у нас, знать, пакостная…
— Это точно, — уныло согласился белобрысый. — А у Нинки новый заскок. В Москву хочет. У нее там вроде родственники есть. Хочу, говорит, в центре жить и культурно развиваться, чтоб театры, иностранцы вокруг были, чтоб Тихонова на улице можно встретить. А то жизнь проходит, а я так, мол, и проскучала в захолустье…
— Дура, — отозвался носатый.
— Во, во, и я о том. Какое ж у нас захолустье, в пятнадцати километрах от города живем. Я ей говорю, ну, давай, мол, в город переедем, нет, говорит, в Москву — или развод. У меня мол, есть с кем уехать. — Белобрысый поперхнулся, видно, понял, что сморозил что-то не то.
— У-у-у, — протянул носатый — Ты смотри. — И в голосе его заиграли угрожающие нотки. — Гони ты ее… У моей ежели такая мысля возникнет, я их вместе с этой мыслей, — и он, видимо, показал наглядно, что он сделал бы с супругой и ее мыслями. — Гони, Вовка, гони… Вот дура. Это же родина наша. Мы выросли здесь, и ни в какие столицы мы отсюда не поедем, ежели не позовут, ежели не понадобимся мы там позарез, верно?
— Железно, — тотчас подтвердил белобрысый.
«Чудесные ребята, — подумал Вадим, — ну просто отличные ребята». И ему нестерпимо захотелось сказать им что-то доброе, ободряющее, приятное, чтобы они увидели, что и он полностью на их стороне, что он их понимает. И еще захотелось рассказать о себе, что у него тоже не все гладко в жизни, что просто-напросто, вообще, все не гладко. И захотелось, чтобы беседа у них завязалась искренняя, свойская, дружеская. Ему нужна была сейчас эта незатейливая житейская беседа. Как согрела бы она его — до самого нутра промерзшего — теплыми голосами, теплыми словами, теплыми взглядами!
И Вадим вскинулся, свесил ноги с полки, спрыгнул, ойкнув, — нога слегка подвернулась, и остро прошило болью ступню (но это ерунда, это не страшно, это пройдет), — широко улыбнулся, сел на нижнюю полку рядом с носатым и, потирая лодыжку, повторил за белобрысым:
— Железно. Абсолютно железно. Вы очень правильно сказали. Вы замечательно сказали…
Вспыхнуло и исчезло тут же недоумение в глазах у парней. Его сменили холод и недоброжелательность. Ни один из них не сдвинулся с места, ни один не сделал попытку что-то сказать. Но Вадима это не смутило. Конечно же, не совсем приятно, когда посторонний человек неожиданно сваливается вам на голову и, не спросясь, врывается в разговор, в доверительный, интимный разговор.
— Вы простите, бога ради, — не переставая улыбаться, Вадим прижал руки к труди. — Что вот так, без разрешения, без предисловий. Проснулся и услышал ваш разговор, и понравилось, как вы рассуждаете. Да так понравилось, что не выдержал, решил словцо вставить, потому что точно так же думаю. Не обижайтесь, что ворвался, что нарушил вот так, не совсем учтиво, вашу беседу? Не обижаетесь, нет?
Он ищуще заглянул им в лица, одному, другому. Склонил даже голову чуть, как бы винясь, и улыбку свою, безоблачную, открытую, старательно превратил в смущенную, застенчивую. Даже не то, что в смущенную, а в заискивающую, льстивую. Само собой так получилось, невольно, он и не желал того. Как и не желал, чтобы и голосок у него, когда оправдывался, был такой мягкий, подобострастный. Просто вышло так, и все. И он вдруг откровенно не понравился себе. И парням он тоже не понравился, потому что ответили они ему не совсем приветливыми, даже чуть брезгливыми взглядами. Вадим согнал улыбочку с лица, кашлянул в кулак, будто поперхнувшись, и протянул было руку, но на полпути остановил ее, заколебавшись, кому первому подать ее.
— Вадим, — громко представился он.
Парни быстро переглянулись, как бы решая, отвечать им или погодить. По-видимому, основным в этом дуэте был носатый. Он и протянул руку первым, но нехотя, лениво.
— Михаил, — вяло сказал он.
— Владимир, — в тон товарищу сказал белобрысый. Он сжал кисть Вадиму несильно и тотчас через мгновенье отнял пальцы, и опять взглянул на носатого, но тот преспокойно уже смотрел в окно. Там ничегошеньки не было видно: густая чернота и редкие точечки огоньков. Но носатый вглядывался с таким вниманием, словно там показывали детектив с Бельмондо.
— Вы местные, как я слышал? Родились здесь, в области, да?
— после паузы спросил Вадим. Он силился понять, почему с ним так холодны и небрежны.
— Да, — коротко ответил Владимир, видя, что носатый не отвечает.
— В промышленности работаете или в сельском хозяйстве?
— Вадим спрашивал, будто не замечая недоброжелательства парней.
Владимир сказал:
— Э-э-э-э…
Потом пообмял губы друг о дружку и, глядя в висок носатому, ответил:
— В промышленности.
— И на каком заводе? Или на фабрике? У нас промышленность богатая.
Михаил наконец отнял взгляд от окна, хотя темнота там уже расступилась, и замелькали фонари и желтые окна в одноэтажных домиках. Медленно повернулся, посмотрел на Вадима, с едва заметной настороженностью, сказал нетерпеливо:
— На заводе, на заводе.
— На каком же?
Михаил завозился легонько на месте, словно ему стало неудобно сидеть. Устроившись, затих.
— На электромеханическом.
— Нравится работа?
— Нормально.
— А вам? — Вадим перевел взгляд на белобрысого. Тот кивнул.
— Это хорошо, когда работа нравится, — с улыбкой сказал Вадим. Почему они так скованны, зажаты? Почему настороженны? Потому что он посторонний? Или на шпиона похож? Вадим хмыкнул и добавил: — Тогда и живется лучше, радостней, и дышится легче. И невзгоды все переживаются проще. И проблемы разные бытовые решаются без особой головоломки. Даже ругань жены не так остро воспринимается. Правда?
Носатый сказал: «Да», а белобрысый опять кивнул.
За дверью залязгало, заскрипело что-то совсем близко. Вадим узнал характерный звук миниатюрной металлической тележки, на которых в поездах развозят продукты. И верно, вслед за скрипом зазвенел молодой задорный юношеский голосок:
— Сосиски, бутерброды, кефир, конфеты, пожалуйста. Есть минеральная и фруктовая вода. Все свежее, пожалуйста. Что вам?… Отлично, бутерброды, сосиски, три сосиски. Пожалуйста, три…
— Вот и замечательно, — обрадовался Данин. — Сейчас поужинаем. Самое время.
Он рывком откатил дверь, выглянул:
— Пожалуйста, сюда…
Узколицый малый с веселыми карими глазами — наверняка студент на трудовом семестре — лихо подкатил тележку к двери и, любуясь своей ловкостью и сноровкой, стал подавать Вадиму называемые им продукты.
— Бутерброды, пожалуйста, сосиски, кефир, пожалуйста. Что вам еще? Конфеты? Вот конфеты. С вас…
Вадим поблагодарил, расплатился, щелкнул дверью, сел и сосредоточенно зашуршал пакетами… Разобравшись, вывалил еду прямо на стол.
— Вот, — сказал он удовлетворенно, — угощайтесь.
— Спасибо, — поблагодарил носатый. — У нас с собой есть.
— Да это на потом, — Вадим махнул рукой. — На завтра, нам ехать-то еще сколько. Давайте, давайте…
— Спасибо, — повторил Михаил и положил руки на колени.
Дверь хрустнула и отъехалачуть-чуть. В проем просунулась голова мальчишки. Он, сощурившись, принюхался. Вадим ухватил пакетик с конфетами и, улыбаясь, протянул его мальчишке.
— Поешь конфетки, вкусные, шоколадные.
Мальчишка сморщился и закрыл дверь. Вадим растерянно посмотрел на парней. Те сделали вид, будто не видели ничего. Вадим швырнул пакет на полку, болезненно дернул щекой и с силой провел ладонями по лицу. Черт знает что! Пальцы белыми струйками стекли с его лица. Он наморщил лоб, сказал нерешительно.
— Может, выпьем, а? Грех не выпить под такую закуску… — Он вскочил, сунулся к пиджаку, суетливо стал отыскивать карман, где пряталась бутылка. (И вправду, неплохо было бы глотнуть.) Данин повеселел, сейчас он найдет с ними общий язык.
Наконец бурая бутылка возникла в его руках.
— Коньяк. Ароматнейшее зелье, — сказал он, с трудом находя место на столе для бутылки. — Давайте стаканы.
Парни не шелохнулись. Михаил так и остался сидеть со скромно сложенными руками на коленях, а белобрысый напряженно вытянул могучую шею и опять обминал друг о дружку мясистые губы. Вадим откупорил бутылку, повертел в пальцах пробку, выискивая местечко, куда бы ее положить, но не нашел и сунул ее в карман брюк.
— Давайте стаканы, — повторил он.
— Спасибо, — наконец промолвил Михаил. — Мы не хотим.
— Что совсем не пьете? — спросил Вадим с недоброй вдруг иронией.
— Иногда бывает, — Михаил повел подбродком. — Но сейчас не хотим.
— И этого не хотите. — Вадим мотнул головой и невесело усмехнулся. — Брезгуете, значит. — А почему? — Он вскинул глаза на носатого и голос его неожиданно зазвенел: — А почему, позвольте вас спросить? А? Почему? Я что, заразный, больной? Прокаженный? Или ублюдок какой? Убийца? Насильник? Инопланетянин, черт бы вас подрал?! Ну, ответьте, ответьте! Что языки прикусили? Или просто не такой как вы? Другой?
— Другой, — вдруг вырвалось у Владимира, и, сам не ожидая от себя таких слов, он беспомощно посмотрел на носатого. Тот промолчал и только пожал плечами.
Вадим обессиленно выдохнул, и злость угасла разом.
— Ну-ну, — сказал он и повторил, — ну-ну.
Владимир крепко потер шею и добавил, как бы оправдываясь:
— У вас лицо, словно вы чихнуть хотите. — И замер вот так с рукой на шее, в который раз спохватившись, что сказал что-то не так.
И втиснулась в купе тишина, глухая и тягостная. И только так и ненаполненные стаканчики робко бились друг о дружку и тонко позванивали. Неназойливо постукивали колеса на стыках, хлопали вконец распоясавшиеся занавески за окном. И всем было неловко. И никто не знал, что надо сейчас сделать, или что сказать, и все сидели, не шевелясь, боясь голову поднять, боясь вздохнуть громко. Или так Вадиму только чудилось, что парни боятся шелохнуться? Может, им просто на все наплевать. А если так, то…
— Ладно, — он хлопнул себя по коленям ладонями, поднялся, покряхтывая, несильно потянулся, как бы показывая, что происшедшее его нисколечко не тронуло, хватко взялся за ручку двери, отжал ее вбок, вышел в коридор и рванул дверь за спиной обратно, закрывая. Коридор обезлюдел — поздно, и мальчишка исчез куда-то. Инспектирует соседние вагоны? Пошел показать машинисту, как надо гудеть?..
«Другой». Не такой, как они. Хуже? Лучше? Если лучше, то чем? Что он такого сделал в этой жизни, чтобы быть лучше? Да ни черта не сделал. Профукал полжизни… Женился, разводился, гулял, спал с кем попало, даже не влюбился толком ни разу. Но ведь доволен был, и весел, и беззаботен… Ученым и публицистом себя мнил. Данин горько усмехнулся; бездельник и позер. На окружающих свысока смотрел, «будто чихнуть собирался», насмешничал, развлекался. «…Тебе никто не нужен, вообще никто», — сказала ему как-то жена. Он тогда порадовался этому определению, оно польстило ему. Истинному, стоящему мужчине никто не нужен, он сам по себе. Глупец! Он просто боялся людей, боялся ответственности за них. Зачем усложнять себе такую расчудесную, спокойную жизнь… Но нет, неправда. Есть человек, который ему нужен и которому необходим он. Дашка. Его дочь. О господи, Вадим сжал виски, я же так и не дождался их звонка. Послал телеграмму, а сам не дождался. Забыл! О самом важном забыл! Потому что опять о себе, о себе все помыслы. Негодяй!
— Негодяй, вот негодяй, — совсем близко, почти возле уха, раздался рассерженный женский голос. Вадим вздрогнул и обернулся.
— Позвольте пройти, — густобровая проводница крутила головой и морщилась, как от боли. За ней высился мощный мужчина в железнодорожном мундире и форменной фуражке. Тяжелое, квадратное лицо его было сумрачно.
«Небось мальчишка что-то натворил», — подумал Вадим и спросил:
— Что случилось?
— Обокрали гражданку, все украли: и вещи, и деньги… — мужчина в фуражке не дал договорить проводнице, положил ей руку на плечо, осуждающе взглянул ей в спину и легонько подтолкнул вперед. Это, видимо, начальник поезда.
Он прав, чего болтать-то зря. Ну, раз уж начала…
— В каком купе? — мягко спросил Вадим, обращаясь уже к начальнику. Тот махнул рукой назад и нехотя ответил:
— В предпоследнем.
И они прошли дальше. Вот напасть-то, не знаешь, что тебя ждет в любую секунду. Стоп! Но ведь поезд не останавливался. Значит, вор еще здесь!
— Послушайте, — крикнул он вдогонку проводнице и начальнику. — Поезд же еще не останавливался.
— Останавливался, — устало ответил начальник. — На полминуты в Рытове.
Рытово. Знакомое название, где-то он слышал его недавно. Ну, значит, теперь ищи ветра в поле. Проводница и начальник скрылись в тамбуре. Вадим потянул вниз окно и подставил лицо жадно ворвавшемуся в вагон терпкому ветру. Тусклый коридорный свет сквозь окна вырывал из темноты приземистые чахлые сиротливые деревца, ютившиеся рядом с полотном.
Громыхнула купейная дверь в конце коридора, и мгновенно вклинился в вагонное безмолвие безнадежный надрывный плач. Из купе высунулась испуганная молодая женщина.
— Вы не доктор? — крикнула она.
— Что? — удивился Вадим.
— Нужен доктор, человеку плохо. Спросите у себя в купе, там нет врачей.
Вадим отрицательно покрутил головой.
— У нас точно нет. Что с ней? — И он решительно направился к открытому купе.
Коротко стриженная курносая девушка инстинктивно запахнула халат.
— Истерика, — объяснила она. — Как бы припадка не было. Или приступа сердечного. Я однажды такое видела… Страшно…
В полумраке купе Вадим различил сидящих, тесно прижавшихся друг к другу мужчину и женщину. На противоположной полке, вздрагивая всем телом, полулежала женщина. Сатиновое платье было задрано и открывало похожие на пушечные ядра массивные колени и рыхлые мясистые ляжки. Вадим едва вступил в купе, как женщина опять заголосила. Кричала она, захлебываясь и всхлипывая.
— Это ее обокрали? — Вадим непроизвольно дотронулся до уха.
Девушка кивнула.
— Как ее зовут?
— По-моему, Екатерина Алексеевна…
— Найдите проводника, — сказал Вадим. — А я попытаюсь с ней поговорить. Лекарства есть какие? Ведь в дальний путь собрались как-никак.
— Ах, да, — девушка всплеснула руками. — Я и забыла. Тазепам.
— Замечательно, и никакого врача не надо. Давайте.
Вадим присел на корточки перед женщиной, осторожно погладил ее по жестким седым волосам, потом по шее, по плечам. Так собак гладят, когда ласкают их. Данин наклонился почти к самому ее лицу и проговорил почти шепотом:
— Тихо, тихо, тихо, тихо… Все в порядке, жулика найдем, деньги отберем у него и вернем обратно, обязательно найдем… — Он повернул лицо женщины к себе. Простое, ничем не примечательное лицо пожилой сельской жительницы. Глаза полуоткрыты, как у сомнамбулы, губы сложены в дудочку. Но она уже не кричит, только стонет надрывно. Вадим положил ладонь женщине под щеку, сунул в рот ей две таблетки, приподнял голову и поднес к губам стакан. Женщина глотнула механически. Вадим отпустил руку, поднялся, отдал стакан девушке.
— Я покурю, — сказал он, вышел в коридор, вынул пачку, извлек сигарету, закурил. Девушка встала рядом.
— Вот гад! — в сердцах сказала она. — Все они гады, преступники. Человек работает, копит, копит, сил не жалеет, месяцами, годами. А они приходят — и раз, одним махом, без труда… Гады! Я бы их! — она сжала кулачки…
Вадим отрывисто затянулся еще несколько раз и бросил сигарету в окно. Он был возбужден, напряжен и чувствовал, что делает дело, нужное и важное. Что все на него смотрят с надеждой и симпатией.
Вадим стремительно повернулся и зашагал к своему купе. Рывком открыл дверь. На верхней полке кто-то тихонько посапывал в темноте. Когда это мальчишка вернулся, интересно? Вадим снял пиджак с вешалки, вышел в коридор. На ходу натягивая пиджак, пошел обратно. Подойдя к купе, оперся на косяк, вынул из кармана скомканные деньги, протянул женщине.
Возьмите. На первое время хватит.
— Да что вы, — отмахнулась женщина.
Тогда он протянул визитную карточку (надо же, пижон, карточки себе понаделал).
— Появятся деньги, отдадите.
— Господи, — женщина пересчитала бумажки. — Пятьдесят шесть рублей. Это ж деньги.
— Все нормально, — сказал Вадим и повернулся к девушке. — Когда ближайшая остановка?
Совсем скоро была следующая остановка, минут через десять заскрипел, зашипел состав, притормаживая, содрогнулся потом всем многотонным своим металлическим телом и замер, отдуваясь, как бы отдыхая, вбирая в себя, разгоряченного, свежий и влажный ночной воздух. В тамбуре возле полуоткрытой двери стояла та самая густобровая проводница. И она тоже воздуху радовалась. Прижмурившись, вдыхала его глубоко и сладостно.
Вадим улыбнулся, берясь за поручень и опуская ногу на ступеньку. Проводница открыла глаза и с испуганным удивлением уставилась на него.
— Вы далеко? — осторожно спросила она. — Мы стоим всего минуту. — Она поднесла часы близко к глазам, — уже полминуты.
Вадим кивнул весело:
— Далеко. Обратно. Домой.
— Ну вы даете! — проводница покрутила головой. — Среди ночи-то.
— Утюг оставил невыключенным, — серьезно пояснил Вадим. — Боюсь, как бы пожара не было. Прощайте. — Он спрыгнул на колдобистый асфальт короткого перрона.
— Да, кстати, — обернулся он. Изумление в глазах проводницы до сих пор не исчезло. — Линейную милицию оповестили?
— Да, — проводница кивнула. — Конечно…
— Ну и славненько, — Вадим поднял руку со сжатым кулаком. — Счастливого пути вам.
По составу пробежал легкий лязгающий звук; затем другой, уже погромче, пожестче, снова пересчитал вагоны, и поезд лениво тронулся. Проводница махнула Вадиму и захлопнула дверь. «Митино», — прочитал Данин на здании станции. Ну Митино так Митино. Поезд постепенно затихал вдали. Становилось все тише и тише. Порывами вдруг задул ветер, и так же порывисто принялись перешептываться деревья. Шум ветвей, листьев, обеспокоенных стволов был густой, тяжелый и, казалось, шел со всех сторон. Вадим огляделся. По обеим сторонам колеи тянулся лес. Только за одноэтажным низким, словно придавленным башмаком великана домиком станции мерцали тусклые огоньки.
«Дыра, — поеживаясь, подумал Вадим. — Как есть дыра. Попал!» Лишь два из шести окон станции были освещены. Свет был слабенький, сероватый, будто расцветал там, за окнами, пасмурный унылый день. Вадим направился к двери станции. Под ногами его отрывисто захрустел нанесенный на асфальт песок. Чем ближе он подходил к двери, тем сильнее раздавался хруст. И Вадиму вдруг показалось, что за ним кто-то идет, он резко обернулся и хмыкнул. Никого. Но напряжение осталось. Вадим постарался расслабиться, несколько раз вздохнул и выдохнул. Однако дрожь внутри не исчезла. «Ладно, — поморщившись, сказал он себе. — Просто непривычная обстановка. Пройдет». Дверь открылась, потрескивая, будто влажные поленья запылали в костре. Пахнуло затхлостью и сыростью. Маленький, еле освещенный коридорчик, за ним длинная комната с лавками вдоль стен и с приткнутыми друг к другу облезлыми доисторическими стульчиками. Именно отсюда шел серый сумрачный свет. В углах комнатки сгустилась тьма, и поначалу Вадим различил, кроме стульев, еще только окошечко на противоположной стене, а над ним треснутую табличку «Касса». Замечательно! Вадим пересек комнату и постучал в хилую фанерку, которой было забрано оконце. Молчание. Он постучал громче. Показалось, что стук разнесся по всему зданию.
— Стучите громче, — вдруг услышал он за спиной и невольно сжался, боясь обернуться. Через мгновение сообразил, что голос женский, и это его успокоило. Он медленно развернулся. В дальнем, скрытом темнотой углу угадывались очертания сидящей женской фигуры.
— Стучите громче, — повторил голос. — Она спит.
— Спасибо, — сказал Вадим и поперхнулся. Откашлявшись, повторил: — Спасибо.
Дощечка задрожала под его ударами и неожиданно отвалилась. И тут же возникла за ней встрепанная крупная женская голова. Маленькие, заспанные глазки ошалело посмотрели на него и на миг опять закрылись. Лицо было рыхлое, мятое, толстое. Сбитый набок тяжелый пучок, казалось, тянул голову кассирши к столу.
— Чего? — хрипло сказала она.
— Здравствуйте, — улыбнулся Вадим. — Билет до города…
— Поезд только в семь утра. — Кассирша, не стесняясь, зевнула.
— Я подожду, — беззаботно сказал Вадим.
Кассирша почмокала губами, наслаждаясь зевком.
— Пять рублей, — наконец сообщила она.
— Хорошо, — кивнул Данин и полез в карман.
Удивленно хмыкнув, сунул руку в другой. Тоже ничего. Он стал шарить по карманам брюк. Пусто. Что за черт? Неужто, не глядя, он все деньги отдал этой самой Екатерине Алексеевне? Болван!
— Ну что, будете брать? — Кассирше нестерпимо хотелось спать.
— Видимо, нет, — с досадой сказал Данин. — Деньги в поезде оставил.
Не объяснять же кассирше, почему он их оставил.
— О господи, — недовольно выдохнула кассирша. — А еще будят по ночам…
И зашевелила губами беззвучно, вероятно, произнося не совсем любезные слова. Дощечка снова встала на место. Вадим скривился и покачал головой.
— Деньги потерял? — спросили из темноты.
— Можно сказать, что так, — хмуро ответил Данин.
— Ну ничего, завтра отобьете телеграммку. Деньги и пришлют. — Голос был молодой, звонкий, совсем не сонный.
Вадим с любопытством вгляделся в темноту. Но, кроме силуэта, опять ничего не углядел. Он неторопливо подошел ближе. Плотная статная девица там восседала. Она держалась прямо, слегка вскинув голову, и без тени страха или волнения смотрела на Вадима.
— Вы-то куда в такую поздноту? — устало спросил он, усаживаясь на стульчик напротив.
— В три двадцать проходящий идет. А мне до Хаврина надо. Посплю, к семи и приеду.
— А что на этот не сели?
— Так он там не останавливается. — Девушка улыбнулась полными губами.
Лицо у нее было круглое, нос кнопкой, над овальными светлыми глазами выгибались неумело подведенные дужки бровей. «Забавная, — подумал Данин. — Местная королева небось. Но без гонора, простенькая».
— Понятно, — сказал он, устраиваясь поудобнее. — Местная?
— Ага. — Девица привычно пригладила и без того гладко зачесанные и собранные сзади в игривый хвостик светлые волосы. Тонкое платьице натянулось, и обозначились под ним тяжелые объемистые груди. «Во мужики-то с ума сходят», — усмехнувшись про себя, подумал Вадим.
— Туточки, в Митине, и родилась.
Девица наклонилась. Возле ее ног стояли пузатые сумки. Она достала два яблока. Одно протянула Вадиму, второе тщательно и сосредоточенно обтерла и с хрустом откусила огромный кусок. Перемолотый крепкими крупными зубами, он стремительно уменьшился во рту…
— Прямо туточки при станции и родилась.
— Замужем?
— Была. — Она презрительно усмехнулась. — Разбежались, слава тебе господи.
— Сейчас одна?
— Набиваетесь, что ли? — Девица кокетливо повела плечом.
— Да нет, — Данин улыбнулся. Смешная женщина, приятно смотреть на нее. — Интересуюсь просто.
— Все вы просто интересуетесь. — Она опять отломила зубами чудовищный кусок. — А потом… Ой!
Девица вытянула шею, как потревоженная птица, и прислушалась. Вдалеке что-то надрывно и свирепо рокотало. Рокот нарастал с каждой секундой. Вадим догадался, что это мотоциклетный мотор без глушителя. Девица отбросила огрызок и засуетилась, приговаривая: «Господи, господи… узнал-таки, ирод! Убьет…»
— Кто узнал? Что узнал? — не понял Данин.
Девица раздраженно махнула рукой и не ответила. Встала, подхватила сумки и, ссутулясь, посеменила к выходу. Мотоциклы затихли, и тишина, звеня, впилась в перепонки. Девица не успела — загрохотали шаги в коридорчике, послышались отрывистые, громкие голоса, дверь распахнулась, и, переваливаясь, вошли двое парней в блестящих кожаных куртках. «Авиационные куртки, перекрашенные в черный цвет», — автоматически отметил Вадим. Ему стало не по себе. Вслед за первой парой зашли двое, в черных отглаженных «выходных» пиджаках. Девица успела метнуться в темный угол и теперь стояла не шелохнувшись. Один из парней, плечистый, рукастый, с брезгливым лошадиным лицом, мутно взглянул на Данина, сплюнул. Вадим отвел глаза. Такие типы свирепеют, когда им смотришь в глаза. Ладони у Данина мгновенно вспотели, и на спине он почувствовал холодные струйки. Но внешне он был спокоен и равнодушен. Рукастый прошел мимо к кассе, с размаху высадил фанерку. Кассирша вскрикнула.
— Что ты орешь, будто тебя режут? — поморщился Рукастый. — Давай, Степановна, билет до Хаврина. Санечку отправить надобно. — Он погладил плюгавенького по голове. Тот блаженно заулыбался.
— Чего не спится-то? — вздохнула кассирша.
— Гуляем, Степановна, Саньку пропиваем. Женится, сучо-нок, корешков бросает.
И, верно, в комнате густо запахло перегаром, луком и еще чем-то кислым.
Дверь заскрипела. Рукастый шустро обернулся. Глаза его широко распахнулись, налились злобой.
— А-а, — гаркнул он. — И ты здесь, паскуда…
И он стремглав кинулся к двери. Девицу он прихватил уже в коридоре и приволок ее, упирающуюся, хнычущую, в комнату. Плюгавенький присвистнул:
— Она, значит-ца, тебе завтра кой-чего обещала, — тонко пропел он. — А сегодня, значит-ца, ноги делать.
— Стерва, — процедил Рукастый и, гыкнув, замахнулся. Девица взвизгнула, сжалась, сумки выпали из ее рук.
— Давай, не дрейфь, — подначивал плюгавый Сашечка.
Рукастый наотмашь ударил женщину. Она закачалась и чуть не упала.
— Что ж вы делаете, гады?! — закричала кассирша. Плюгавый оттолкнул растопыренной ладонью ее лицо. Кассирша откинулась назад, часто моргая и хватая воздух губами, и неожиданно завизжала во весь голос, а потом в руке ее оказалась какая-то железяка короткая, она вновь высунулась из окна и изо всех сил стала лупить этой железякой Плюгавого, тот отскочил в сторону. Железяка грузно шлепнулась об пол, и кассирша обессиленно поддалась назад, приговаривая: «Хулиганье, подонки… Чтоб вам пусто было…» Вадим крутил головой, словно во сне все это видел, ему казалось, что не с ним этот бред приключается, с кем-то другим, а он за всем издалека, из окошка, наблюдает. Тягуче и муторно заныло в желудке, и тело налилось свинцом, и он не в силах был пошевелиться.
— Прости, прости, Толечка, милый! — съежившись, обхватив себя руками, захлебываясь слезами, причитала девица. — Я только на денек к сеструхе. Послезавтра б приехала.
— Хватит, — недобро оскалился Толечка. — Хватит, паскуда, меня за нос водить, я те не пацан!
— Во, во, Толик, не пацан, — радостно подхватил Плюгавый. Все происходящее ему явно доставляло удовольствие. — Ты мужик. Сказал — сделал. Пусть прям здесь, стерва, дает, что обещала. А мы отвернемся.
— Как… здесь? — падающим вдруг голосом спросил Рукастый и обернулся, неумело скрывая растерянность на длинном лице. «А у него красивые, незрелые глаза», — совсем не к месту промелькнуло у Вадима в голове.
— Почему здесь? — Толик неуверенно глядел на Плюгавого.
— Чтоб опять продинамить не смогла, — ухмыльнулся Плюгавый. — Али что, опять сдрейфил? — Саня кивнул парням: — Глядите-ка, описался король-то наш!
Рукастый опять метнулся к нему затравленным взглядом, потом оглядел парней (лица у них были слегка встревоженные, им не совсем понравилось, видать, предложение Плюгавого) и повернул вдруг голову к Вадиму. Данин опустил глаза. Ну вот опять. Опять втянули его в кошмар. Опять все сначала. Он тихо простонал, сжал зубы, сморщился, ногти впились в ладошки… Что же делать? Не сидеть же вот так сложа руки? Внутри все дрожало, мелко и противно. Девица вновь взвизгнула, послышалась возня, сдавленное дыхание. Вадим осторожно поднял голову. Толик обхватил женщину и лихорадочно пытался ее поцеловать. И Данин вдруг гаркнул разъяренно, вскинулся с места, в мгновение ока подлетел к Рукастому, цепко ухватился за его кожаное плечо, с силой рванул на себя. Тот от неожиданности отпустил женщину, очень удобно полуразвер-нулся к Вадиму, и тогда Данин ударил левой рукой, затем еще раз, посильней. Рукастый, охнув, согнулся. Вадим хлопнул его ладонями по ушам и, не теряя ни мгновения, впечатал ему в лицо правый кулак. Толик стремительно выпрямился и грузным мешком обвалился на пол. Девица истошно заголосила и неожиданно кинулась на Вадима с кулаками.
— Что ты лезешь не в свое дело, черт лохматый?! — Голос ее сорвался на хрип. — Ты же убил его…
Вадим неуверенно оттолкнул от себя женщину и отступил назад. Вот тебе раз. Они же все здесь свои, а ты чужак, пришлый, почти враг. Он криво усмехнулся. Женщина с размаху грохнулась на колени, приподняла голову Толику, погладила по лбу.
— Толечка, милый, ты живой, живой? — с надеждой ласково спросила она.
Толик открыл глаза и невидяще уставился на нее. Женщина засмеялась радостно и поцеловала его в висок. «Ни черта не поймешь…» Вадим не успел додумать, удар возле уха чуть не сбил его с ног. Он наклонился вбок, сделал два быстрых шага, выпрямился, огляделся. Один из сонных парней, улыбаясь, потирал ушибленный кулак. Вот это по ним, это дело — было написано на их лицах. Плюгавый полез за пазуху и вытянул черную металлически сверкнувшую змейку — велосипедную цепь.
Это уже серьезно. Второй парень тоже сунул руку за отворот куртки. Вадим шагнул к двери. Туда же стремглав метнулся тот, кто первый ударил его. Обложили. Вадим дернул головой — надо выпутываться, забьют ведь. Плюгавый с холодной улыбкой поигрывал цепью. Не поворачивая головы, Данин пошарил глазами вокруг. Дорога одна — окно во двор. Но оно закрыто. Если он прикроет голову руками… Данин внезапно дернулся вправо, в ту же сторону машинально отклонились и парни. И тогда Вадим сделал прыжок влево, к окну. Парни замешкались на мгновение, и Вадим, прикрыв темечко руками, с силой оттолкнувшись, крякнув, прыгнул в закрытое окно. Словно сквозь вату, он услышал звон, треск, отчаянные крики… Теперь бежать… Подальше от света. Он обогнул какие-то сараи, темные, угрюмые, наткнулся на забор, помчался вдоль него, мимо спящих домиков с белыми трубами. Недовольно загавкали собаки. Где-то отворилось окно, кто-то цыкнул сонно на собаку…
Когда он уже был примерно метрах в трехстах от станции, затарахтели мотоциклы. Долго ж они собирались. Теперь не догонят! Деревушка оборвалась внезапно. Сначала были кусты, упругие, задиристые; потом он чуть не свалился в овраг, затем выскочил на небольшое поле и стрелой пересек его. Мотоциклы тарахтели где-то слева, но достаточно далеко. Через несколько секунд он вбежал в лес. Промчался еще пару сотен метров и сбавил ход. Лес он знал плохо. Тем более сейчас ночь, и ничегошеньки не видно вокруг. Можно и заплутать, и выйти обратно к этому треклятому Митину. Значит, надо держаться ближе к полотну. Он опять услышал треск мотоциклов, только теперь почему-то немного впереди. Так, где полотно? Справа или… Да, справа. И он взял правее. Мотоциклы все тарахтели впереди. Эти наездники, наверное, сообразили, что единственный его путь — к железной дороге. Он же чужак, он ничего не знает здесь. Поэтому и гремят их мотоциклы впереди, видно, хотят перерезать ему отступление. «Надо же, термины-то военные, — мрачно усмехнулся Данин. — Перерезать, отступление… Но все равно, дорога — это спасение». И он побежал быстрее. Мокрые ветки секли по лицу, густая трава путалась в ногах. Он то и дело спотыкался о кочки, проваливался в невидимые ямки. Лес начал редеть, и, наконец, гладко блеснули рельсы. Он остановился. Прислушался. Было тихо. Мотоциклы уже не ревели. А он и не заметил, когда они замолкли. Так что же? Махнули «лесные братья» на него рукой? Или принялись искать его, спешившись? И опять пришел страх. Пока бежал, его не было, он словно испарился, превратился в жидкий дымок. А сейчас вот опять. А если найдут, если поймают… Вадим, пригнувшись, приблизился к дороге, посмотрел вправо, влево. Никого. Перескочил рельсы и так же, пригнувшись добежал до леса на той стороне. Через сотню метров остановился, отдышался. Покрутил головой с невеселой усмешкой, ну, прямо партизан. И только сейчас почувствовал боль на тыльных сторонах ладоней. Притянул их к глазам. Кровь. Порезал-таки о стекло. Но вроде неглубокие порезы. Он сорвал листья, стер ими густую черную жидкость. Кровь выступила опять. Он достал записную книжку, вырвал несколько страничек, послюнявил их, прилепил к рукам. Вздохнул несколько раз и вновь побежал.
Так, до ближайшей станции в сторону города километров пятнадцать. Это по самым скромным прикидкам. Часа за три он их одолеет. Данин перешел на шаг, изредка останавливался, прислушивался. Тихо. Значит, все-таки плюнули на него. Пьянь, мразь. Хотя… Если бы не водка, вряд ли бы этот Толик с красивыми глазами и те двое, сонных, стали бы выкадрючи-ваться. Когда трезвые, небось совсем неплохие ребята. Только плюгавый подонок, все подначивал. Жаль, не двинул я ему в его замечательное личико.
Страх все еще жил в нем. Теперь пугал лес, темный, холодный, враждебный. Любой шорох, треск, порыв ветра заставляли вздрагивать, сжиматься, заставляли беспрестанно крутить головой, нет ли кого или чего справа, слева, сзади. Он попытался думать о чем-нибудь другом, вспомнить о последних днях в городе, о том, как там хорошо, уютно, тепло. Но не смог. Заглядывая назад, он видел себя все время бегущим. Буд то куда-то мчался последние дни, не останавливаясь мчался, как сейчас мчится по лесу. И совсем ему было тогда неуютно, нехорошо и не тепло. Скверно ему было. Он уставал и задыхался. Но бежал, бежал, бежал…
Он и вправду стал уставать, дыхание сделалось прерывистым и шумным. Он перешел на быстрый шаг, а через несколько метров просто побрел ссутулившись. Отдохнуть бы где-нибудь хоть часок, хоть полчасика. Но где? Вокруг сыро и холодно.
Он замедлил шаг, а вскоре и вовсе остановился. Провел ладонями по лицу, оперся на дерево, огляделся. Небо слегка посветлело. Но где же отдохнуть? Он оттолкнулся от ствола и решил пойти ближе к полотну, там все-таки суше и веселей. Но, как только оставил он позади лесную кромку, принялся его обрабатывать выстуживающий предрассветный ветер. И всюду он умудрился забраться: и спину выхолодил, и грудь, и ноги. Вадим застегнул пиджак на все пуговицы, поднял куцый его воротник, сунул ладони в карманы брюк, с удовольствием ощущая сквозь тонкую ткань карманов теплоту бедер… Хоть в лесу и было теплее и тише, но туда он уже не пошел, отпугивал он его своей чернотой и непроницаемостью… Просто-напросто надо идти быстро, и тогда я согреюсь, решил он. И двинул вперед скорым, размашистым шагом. Вдоль полотна шел, в полуметре почти от шпал, по густой короткой траве. Почти час так шел, а потом разом вдруг понял — все, конец, больше не могу, устал чудовищно. Хотя с чего, казалось бы? Он и на большие расстояния хаживал. Лениво повел глазами вокруг и неожиданно, на радость свою, углядел аккуратный низкий стожок. На непослушных, негнущихся почти ногах он кинулся к нему, как к дому родному. Вот он, приют, душистый, теплый. Он ввинтился в стожок, как крот в землю. Вот только ноги никак не мог упрятать, бедноватый все-таки был стожок. Но вот и ногам он нашел-таки место. Тепло. Тихо. Остаться бы здесь и никуда больше не ходить. Все равно ничего хорошего его не ждет дома, и никто его не ждет дома.
Грохот и мелкая тряска его разбудили. Он открыл глаза, очумело повертел головой, никак не соображая, где он, а грохот все бил и бил по ушам и, казалось, громадная, свирепо лязгающая махина надвигается на него, подминает под себя. Он лихорадочно заработал руками, выгребаясь из сена, и наконец выбрался из совсем разрушенного уже стожка. Вдалеке мелькнул зеленый хвост поезда. Вадим сел на землю и рассмеялся…
Потом он шагал уже по шпалам, потому что рядом было идти трудно, с обеих сторон дороги, вдоль основания насыпи то и дело попадались прозрачные лужицы. Они отражали утреннее небо и издалека виделись синими, и ненастоящими. Два раза Вадим уступал дорогу поезду. Дети махали ему из окон и что-то кричали, и он махал им в ответ ладошкой с растопыренными пальцами. Не прошло и двух часов, как он почувствовал, что его одиночество скоро кончится. Запахло человеческим жильем, слабенько стали пробиваться какие-то посторонние, небесные звуки. А потом потянулись огороды вдоль насыпи, вслед за ними ветхие сарайчики, еще через несколько минут он увидел мужика, катящего на велосипеде по тропинке вдоль опушки. Вадим крикнул: «Это Рытово?» Но мужик даже не обернулся, а только поехал быстрее. И вот неожиданно на левой стороне отступил лес, и Вадим увидел домики, бревенчатые и дощатые. Дощатые были выкрашены в разные цвета — зеленый, голубой, бежевый. Всего домиков он насчитал пять штук, их окружали палисадники, и за заборчиками уже вовсю кипела жизнь. Вадим сошел с полотна и двинулся вдоль заборчиков. Пухлая женщина в цветастом халате, копавшаяся в огороде у зеленого домика, выпрямилась, заслышав шаги, и взглянула на Вадима с удивлением и опаской. Он хотел спросить, какая это станция, но не решился, это небось еще больше напугало бы женщину. Отойдя шагов на двадцать, Данин придирчиво осмотрел себя, снял несколько соломинок с пиджака и брюк, поправил рубашку, хмыкнув, провел по щекам и подбородку, скептически оглядел мятые брюки. В общем-то, конечно, было чему и удивляться и чего опасаться. Видок у него отнюдь не респектабельный. Наконец он увидел здание станции. Оно было попредставительней, чем в Митине, — светлое, свежевыкрашенное в желтое, двухэтажное, хотя и не модерновое, из довоенных. Под крышей он различил буквы «Рытово».
Взглянул на часы — без двенадцати девять. Молодец, скоренько добрался. Он приблизился к зданию. Станция, казалось, еще не проснулась, она тихонько посапывала, сладостно добирая остатки сна. Двое небритых стариков в кепках сидели на лавочке возле единственной двери. Они неспешно курили папироски и безучастно глядели перед собой. Трое мальчишек со сбитыми коленками бегали по перрону. И все. И больше никого не было видно вокруг.
И что теперь? Телеграмма? Нет. В связи с отсутствием присутствия финансов. А! Телефон. Конечно, как же он забыл о таком благе цивилизации, как телефон. У начальника станции наверняка должен быть телефон! Чудесно! Он позвонит… А кому, собственно, он позвонит? Женьке? Марине? Может, Сорокину? Данин усмехнулся. Скорее все же Женьке, да, да, именно Женьке. Он вошел в здание. Оно еще пахло недавним ремонтом. Еще не заполнили его запахи ожидания и дороги. На первом этаже буфет, кассы, значит, начальник на втором. Вадим поднялся, прошелся по пустынному коридору, нашел табличку, постучал, толкнул дверь. Закрыто. Ну конечно, как всегда. В соответствии с замечательным общечеловеческим законом. Ладно. Он сбежал вниз. Прошел сквозь здание и очутился на пристанционной площади. У автобусной остановки томилась жиденькая очередь, все больше женщины, в платках, с сумками. Пустой пыльный автобус с закрытыми дверями, без водителя стоял посреди площади. Угретая уже набравшим силу солнцем площадь тоже виделась заспанной и позевывающей. На противоположной ее стороне, во дворе одной из бревенчатых изб запоздало кукарекнул петух. Кукарекнул коротко оборвав себя на полувыдохе. В очереди негромко засмеялись. Откуда-то потянуло жареной картошкой, и Данину вдруг нестерпимо захотелось есть. Да так нестерпимо, что просто невмоготу стало. Он проглотил слюну и полез в карман брюк. Пусто. В левом кармане пиджака наткнулся на собачонку, вынул ее, разлохматил, подмигнул ей. В том же кармане пальцы наткнулись на монеты. Не может быть! Он вынул руку из кармана. На ладони поблескивали два гривенника. Кое-что. Жаль, буфет не работает на станции. Данин пересек площадь, прошел вдоль домов, цыкнул на кошку, что собиралась перебежать ему дорогу, завернул за угол и в конце короткой улочки со вздыбленным, растрескавшимся асфальтом разглядел что-то напоминающее прилавки — некоторые были даже укрыты навесами — и людей за прилавками, и много людей перед ними. Рынок. Вадим удовлетворенно улыбнулся, на двадцать копеек там можно чем-нибудь поживиться.
Имели место здесь и помидоры, и огурцы, и редис, и лук, и чеснок, и травки всякие, и желтые бока дынь он углядел, и слезящийся срез сала заставил его судорожно слюну сглотнуть. И яблоки здесь были, и груши. Богатый был рынок. Вдруг мелькнуло за одним из прилавков знакомое лицо. Вадим даже остановился. Почудилось, показалось… Каких таких знакомых он может здесь углядеть? Но все-таки глаза сами по себе стали искать это лицо. И опять оно мелькнуло и заслонилось чьей-то широкой спиной. Вадим осторожно подошел ближе. Мужчина в синем, аккуратно выглаженном халате и в мятой тесной шляпе на затылке, наклонившись, накладывал яблоки в миску. Перед ним стоял покупатель — шмыгающий носом, приземистый малый в растоптанных сапогах. Вот мужчина выпрямился, повернулся лицом, и Данин охнул. Мужчина скосил на него глаза, и миска с яблоками вывалилась из его рук, рот раскрылся и обвисли безвольно щеки. Левкин! У него тут то ли дом, то ли дача. «В жизни раз бывает встреча», — отстраненно пропел про себя Данин. Левкин зашевелил большими руками перед носом покупателя, заблеял что-то невнятно, потом замолк, опять посмотрел на Данина, выдохнул и беспомощно опустил руки на прилавок. «Растерялся, — усмехнулся Вадим. — Еще бы, член партии и на рынке торгует». Но усмешка не проявилась на его лице, он мысленно лишь хмыкнул, а напоказ улыбку выставил, добродушную, ободряющую. А иначе нельзя, иначе совсем того не желая, злейшим врагом своим этого человека сделаешь. И, урезав эту улыбку, Левкин разгладил лицо, тоже заулыбался, смущенно и потерянно, как бы извиняясь своей улыбкой за то, что вот в таком виде неприглядном его застали; кивнул Вадиму, поманил к себе, ловко подхватил миску, собрал в нее раскатившиеся яблоки, поставил на весы, покачал головой, уже не удивляясь, а уже играя в удивление:
— Как? Что? Откуда? В такой глуши… Фантастика! — заговорил он, высыпая яблоки парню в растянутую авоську.
Данин взял с прилавка краснобокое, твердое, наверное, очень вкусное и сочное яблоко, повертел его в руке.
— Ешь, ешь, — подбодрил его Левкин. — Не покупные, не ворованные, со своего сада.
— Спасибо, — сказал Вадим, но яблоко положил обратно. — Как попал, говоришь? А черт его знает. Глупо и нелепо. — Он хотел даже рассказать, почему здесь очутился, всю правду хотел рассказать, но вовремя удержал себя: зачем? Кто он ему, сват? брат? — От поезда отстал. В Митине письмо хотел отправить, выскочил и отстал, а в поезде вещи, деньги. К маме ехал. В Москву.
— Так ты же был в отпуске? — Данин видел, что Левкин все-таки чувствует себя неуютно, нервничает, суетливо все шарит руками по прилавку, тщательно укладывая горкой и без того аккуратно уложенные яблоки.
— Да, договорился, отпустили. — И про увольнение свое он почему-то тоже не мог сказать.
— А-а, — протянул Левкин. — Понятно. Так ты обратно? А как же вещи?
— Сообщил уже на станции. Снимут, перешлют.
— А-а, — опять сказал Левкин. — Понятно.
Он снял шляпу, положил ее на прилавок, пригладил волосы, машинально отер лоб, будто испарина на нем выступила. А может, и вправду выступила — Данин же не приглядывался.
— Так ты без денег? — неуверенно поинтересовался Левкин.
Вадим кивнул. Совсем непохож был на себя Левкин. Всегда говорливый, похохатывающий, разухабистый, большой, крутоплечий, крупноголовый, сейчас он казался унылым, серым, невысоким и худосочным. «Неужто от встречи со мной так его перекосило?» — спросил себя Вадим.
Левкин огляделся, поискал кого-то глазами, не среди покупателей, как отметил Вадим, а среди продавцов; увидев, видимо, кого надо, прикусил губу, потер шею, словно решаясь на что-то, потом выдохнул коротко, пошевелил пальцами в воздухе, бросил Вадиму: «Я сейчас», и пошел спешно к соседнему прилавку. Там склонился к уху какого-то пучеглазого мужичонки, стал говорить ему что-то, показывая себе на спину. Мужичонка понятливо кивнул, полез в карман, вынул мятые бумажки, отсчитал несколько, сунул Левкину, тот невольно огляделся и, приподняв полу халата, запихнул деньги в карман и зашагал назад. Данин уловил на его лице досаду и раздражение. Но выражение это исчезло, когда он подошел.
— Пошли, — сказал Левкин. — В гости ко мне заедем. Я яблоки оптом продал.
— Прогадал? — спросил Данин.
— Ерунда. Это ведь я так, в качестве развлечения. Несерьезно все. Не гнить же продукту. Жалко.
— Конечно, — согласился Вадим. — Обычное дело. К тому же поощряемое государством.
— Во-во, — Левкин болезненно улыбнулся. — И я о том. И ничего страшного в этом нет.
— Совсем ничего страшного, — подтвердил Вадим.
— Да и лишние деньги не помешают, — он явно оправдывался.
— Деньги никогда не мешают. А лишних, признаться, и не бывает-то толком.
Они свернули в тихий, тенистый, не сразу заметный с мостовой проулочек, прошли мимо заборов, стискивающих проход. Во двориках было тихо и уютно, и оттуда дразняще и аппетитно тянуло жареным луком и мясом.
— Небось есть хочешь? — спросил Левкин.
— Очень, — сказал Вадим.
Они вышли на другую улочку, точь-в-точь похожую на ту, с которой ушли, и асфальт здесь тоже был вздыбленный, развороченный и растрескавшийся. У заборчика напротив стояла машина, не машина даже, а корытце на колесах, залатанный, обшарпанный и растрепанный какой-то «Москвичок» старой модели. «Четыреста второй, кажется», — вспомнил Вадим. Левкин дернул губами в скупой улыбке, подошел к машине, повозился с дверью, кряхтя, залез в автомобиль, открыл другую дверцу Вадиму.
— Это так, для местных разъездов, — тихо объяснил он, когда Данин уселся. — От тестя остался. Не выбрасывать же. Если бегает.
Мотор затарахтел, зафыркал. Левкин неспокойно постучал по рулю, спросил, глядя перед собой:
— Поехали?
Щеки его на мгновение втянулись; вспухли и обмякли желваки на скулах. Он чересчур резко и сильно включил передачу, громко газанул, и машина, нервно прыгнув вперед два раза, покатила по дороге.
— Дом недалеко, — сказал Левкин.
— А удобно? — спросил Вадим. — Я не стесню тебя?
— Все нормально, — Левкин опять провел ладонью по лбу.
Остальную часть пути они молчали. Да и о чем говорить? Они и на работе-то мало общались. Служебные дела, анекдоты, вот и все темы для беседы. Через десять минут остановились возле высокого глухого забора, перед обитыми железом воротцами. Калитка отворилась бесшумно. Всполошенно загавкала собака где-то за домом. Весь участок занимали огороды и деревья. Только справа, метрах в пятнадцати от дома, под раскидистой яблоней Данин разглядел столик с лавочками. Когда-то давно сам дом был одноэтажный, потом его надстроили. И со вторым этажом он выглядел теперь не совсем привлекательно. Непропорциональным и неряшливым каким-то гляделся. Первый этаж добротный, бревенчатый, насупленный, а второй — из легкомысленных досочек сбитый, невесомый, ненадежный, того и гляди разлетится.
Вошли в переднюю, захламленную какими-то коробками, банками, пыльными тряпками. Переступив порог, Левкин словно сжался, еще меньше стал.
— Леля, Лелечка, — позвал он. — У нас гости.
Неожиданно впереди открылась дверь, и в проеме возникла невысокая женщина. Лица ее Данин сразу не разглядел, потому что свет от окна бил ей в спину.
— Что случилось? — быстро спросила женщина. — Почему ты так рано? Уже все сделал?
— Нет, не сделал, — виновато заулыбался Левкин. — Коллегу встретил. Я тебе рассказывал, — он показал на Вадима. — Данина. Он от поезда отстал. Голодный. Я оптом все продал. Ну и сюда. Покушать сготовь что-нибудь, а?!
Женщина вздохнула, обтерла руки о мужскую рубашку, что была на ней надета, протянула Данину руку:
— Леля, — без особого энтузиазма представилась она.
«Разве есть такое имя?» — подумал Вадим и тоже протянул руку. Глаза уже пообвыкли, и он разглядел ее лицо. Блеклое, с бледными губами, с тусклыми, бесцветными, без всякой косметики глазами. Волосы были гладко зачесаны и открывали непропорционально большой лоб. На вид этой самой Леле было под пятьдесят. Неужто она старше Левкина? Тому-то еще вроде сорок четыре. Руку-то Леля протянула, но в комнату не позвала, а, наоборот, захлопнул дверь в нее. Потом шагнула к Левкину, тронула его за локоть, сказала вполголоса:
— Идем, поговорить надо.
Левкин выдохнул шумно, как после стометровки, кивнул Данину.
— Ты… это самое… подожди, я сейчас, мы сейчас, — и, ссутулясь, пошел вслед за женой на кухню. Оттуда пронзительно пахло чем-то острым, овощным.
Забубнили приглушенные голоса. Вадим различил только несколько слов: «Почему так мало?» «Отправил бы его домой», «Пять рублей тоже деньги…», «Посылай тебя». А потом они стали говорить тише. Неловко стало Вадиму вдруг стоять здесь — в тесной, загроможденной ненужными, давно просящимися на свалку или во вторсырье вещами, прихожей, — будто он специально тут остался, чтобы подслушать вовсе не предназначенный для его ушей интимный, семейный разговор, добрый или осуждающий, но интимный, для двоих. Он потоптался на месте, без всякого интереса окинул еще разок переднюю, мельком подумав про Левкина: «А ведь он стесняется неухоженности вот этой, и жены стесняется…» — и направился к двери, на крыльце вздохнул с удовольствием и спустился по рассохшимся, ворчливым ступенькам на утрамбованную до каменной твердости дорожку. Позади в доме хлопнула дверь, послышался недовольный голос Лели, сказавшей что-то вроде: «Совсем рехнулся. Ты еще фрак надень…» И стих так же внезапно. И опять хлопнула дверь. «Интересно, — подумал Вадим. — Всегда она была такая? Любила ли его?» Застучали твердые шаги за спиной. Данин обернулся. На крыльце стоял Левкин. Другой Левкин. Преображенный Левкин. Почти прежний Левкин. В темном костюме, в начищенных туфлях, в чистойрубашке, правда, без галстука, с расстегнутым воротом, но он на даче все-таки, не на приеме. Зачесанные назад волосы влажно блестят, на лице широкая улыбка. Он поймал на себе внимательный взгляд Вадима и уловил, видимо, в нем легкое удивление и слегка смутился, ссутулился и неуклюже, чтобы скрыть смущение, быстро сбежал по ступенькам, полуобнял Вадима за плечи, сказал: «Пошли к столику, на воздухе потрапезпичаем», — и по-дружески подтолкнул его вперед.
И все-таки, несмотря на смущение, вид Левкина говорил: «Вот, смотри: мы тоже не промах, не хуже некоторых».
Когда усаживались, Левкин поставил на стол бутылку, большую, литровую, а Данин и не заметил ее у него в руках поначалу, так преображением бывшего коллеги изумлен был.
— Сидр, — пояснил Левкин. — Яблочный сок, но с градусом. Холодный — самое что надо к завтраку. Но не свой, покупной. Много его в сельпо. Однако вкусный, мне нравится. Можно изредка побаловаться.
Левкин поправил воротничок рубашки, положил широкие, сильные ладони на стол и, забарабанив пальцами по недавно выкрашенным доскам, нетерпеливо посмотрел на крыльцо.
— Как в институте? — спросил он.
— Все по-прежнему. — Данин достал сигареты. — Скука. Болтовня.
— Значит, никаких катаклизмов, — Левкин помял пальцы.
И опять взглянул на дверь.
«Зря я к нему пошел, — тоскливо подумал Вадим, закуривая. — Но жрать охота зверски…»
— Что Сорокин? — Левкин поджал губы, сузил глаза и уже не отрывал взгляда от двери.
— Руководит, — сказал Вадим.
— Леля! — вдруг гаркнул Левкин. — Мы заждались. И стаканы принеси. — Он развел руками и скупо, коротко улыбнулся. — Не все еще готово. Она не ждала меня.
— Ничего, — успокоил Данин и, помолчав, добавил: — А у тебя хорошо здесь.
— Правда? — тотчас отозвался Левкин. — Спасибо. Но много еще делать надо. Хозяйство как-никак.
Левкин в который раз посмотрел на крыльцо и наконец сообщил удовлетворенно:
— Ну вот и угощение идет.
Вадим скосил глаза и увидел Лелю с подносом в руках. Осторожно пробиралась среди огородов, кривилась и тихонько что-то говорила себе под нос. Она так и осталась в мужниной застиранной рубашке, в серой длинной юбке. Только губы подкрасила. И неуместно ярко краснели они теперь на ее бледном, безучастном лице. Она поставила поднос на стол, резкими, нервными движениями сняла с него тарелки, вилки и со звоном стянула поднос со стола.
— Спасибо, — вежливо сказал Данин.
Женщина устало кивнула и повернулась.
— Лелечка, а стаканы, — с мягкой укоризной заметил Левкин.
— О господи, — вздохнула женщина и, досадливо шевельнув плечами, направилась к дому.
Левкин ткнул вилкой в жареные кабачки, кивнул на дымящуюся картошку, проговорил:
— Бери, ешь, не стесняйся.
Вадим положил себе всего понемногу и принялся есть. Кабачки были замечательные, острые с поджаренной хрустящей корочкой, а картошка была жестковатая, чуть недоваренная, именно такая, какая нравилась Вадиму, а сладкие, сдобренные чесноком помидоры просто таяли во рту, и у него быстро поднялось настроение; теперь можно жить. Бесшумно подошла Леля, поставила стаканы на угол стола и зашагала обратно.
— А вы с нами? — предложил ей в спину Вадим.
— Спасибо, — не оборачиваясь, ответила женщина. — Не могу. Дел много.
Левкин тоже посмотрел на ее утомленную, вялую спину, задумался на мгновение, потом потянулся к бутылке, ловко откупорил ее, и разлил золотистую пузырящуюся жидкость по стаканам.
— Ну, со свиданьицем, — он поднял стакан и, не ожидая, пока Вадим возьмет свой, выпил залпом, жадно и удовлетворенно заглатывая легкое винцо. Выдохнул, заморгал часто и сразу налил еще.
— Пить хочу, — с оправдывающейся улыбкой объяснил он.
— С утра с самого. — И вновь с удовольствием прильнул к краю стакана. Оставил его, почмокал, привычно обтер невидимый пот со лба, хрустнул ароматным мелкозернистым нежным огурчиком, попросил Вадима:
— Дай сигаретку.
Данин протянул пачку. Левкин поковырялся, извлек из нее сигарету, прикурил, затянулся глубоко, с шумом, усмехнулся кривовато и, неожиданно навалившись грудью на стол, спросил, в упор глядя на Вадима:
— Думаешь небось, вот какая дерьмовая жена у Левкина?! — Лицо его заметно побагровело, забилась пульсом жилка у виска.
— А он, олух, у нее под каблуком…
— Да ничего я не думаю, — растерянно возразил Вадим.
— Думаешь, думаешь, — Левкин махнул рукой почти у самого его лица. — А зря, между прочим, думаешь. Жизнь у нее не сладкая была. Сечешь? Заковыристую очень жизнь она прожила. Ей ведь сорок всего, а ты небось подумал, что под полтинник. Мать у нее умерла, когда ей четырнадцать было. А через год отца удар хватил, парализовало напрочь, а у нее сестренка и братик младшенькие. Понял? Одна она их на ноги поставила. Я, когда встретил, она худющая была, дерганая, замкнутая, слова не вытянешь. А вот понравилась она мне. Поначалу жалко было, а потом понравилась. И у нас все не как у людей складывалось. Первый ребеночек умер в год. В год умер. Понял? — Он говорил тихо, сквозь зубы, взгляд был тяжелый, враждебный. — Слава богу, двое других живехонькие и здоровенькие остались. Мы много вместе пережили, много всякого вместе видели, и какая бы она теперь ни была, я до конца с ней. Вот так…
Он прикрыл глаза, отдышался, словно бежал долго, не стометровку уже, а марафонскую, долгую, изнурительную дистанцию. Притушил недокуренную сигарету, взял другую, прикурил от спички. Налил еще себе полстакана, поболтал в нем жидкость, отставил.
— Прости, — сказал он и невесело улыбнулся. — Сжались нервы сегодня в комок.
— Ничего, — сказал Вадим. — Бывает. Я все понимаю.
— Может быть, и понимаешь, — рассматривая кончик сигареты, проговорил Левкин. — Может быть. У меня много всякого за сорок пять годов-то было. И женщины были. Да, да. Много было. Но она для меня одна. Понял? — Он опять заулыбался, видно, вспоминая что-то, и размягченно откинулся на спинку скамьи. — Знаешь, какие у меня женщины были? Ого-го… Не поверишь, — он почесал подбородок, как бы прикидывая что-то, потом сказал: — Эх, раз такой разговор вышел, скажу тебе… У меня ведь с Мариной нашей связь была, долгая, почти полгода…
Вадим машинально ткнул вилкой в тарелку с остывшими уже, отвердевшими, покрытыми желтым масляным налетом кабачками, подцепил кружочек, понес его быстро ко рту, но кружочек сорвался строптиво с вилки и бесшумно свалился на дощатый стол. Вадим чертыхнулся, проткнул его посильней, положил к себе на тарелку, но есть не стал, бросил со звоном в тарелку и вилку. Ни с того ни с сего у него вдруг запылали уши, казалось, будто поднес кто-то к ним зажженные спички. Он невольно потрогал одно ухо и чуть успокоился, убедившись, что они прикрыты волосами и Левкин их не видит…
— А она ведь красивая, правда? — пристально глянув на него, спросил Левкин.
— Красивая, — как можно равнодушней отозвался Вадим, но на взгляд Левкина не ответил. Не мог.
— И молодая, — Левкин качнул головой и принялся сосредоточенно разминать очередную сигарету. — Все у нас было: и жаркие слова, и признания разные…
— И давно это было? — с выдавленной ленивой полуулыбкой спросил Данин.
— Давно. Ты только-только пришел, когда у нас началось.
«Значит, уже знала меня», — с неожиданной вдруг горечью подумал Вадим, и что-то царапнуло его изнутри, шевельнулось какое-то щемящее, непонятное, неясное и раздражающее этой своей неясностью чувство. И ревность не ревность — откуда, собственно, и — обида не обида, на что обижаться? Все в твоей власти было, а скорее всего осознание утраты, может быть, чего-то не очень большого и не очень важного, но порой необходимого ему для ощущения себя, для ощущения своей силы и уверенности.
— Все прекрасно было, — говорил Левкин, рассеянно тыкая сигаретой в пепельницу. — Но когда приходил к ней, когда видел ее, такую красивую, разнеженную, тотчас Леля перед глазами представала, грустная, усталая. И так больно становилось. Короче, не смог я. Вот так.
— И ты ушел, — сказал Данин только для того, чтобы что-то сказать.
— Да, — Левкин вытянул руки на столе и, внимательно глядя на ладони, сжал и разжал пальцы, будто разминал их после долгого писания, как в школе, в первом классе, «наши пальчики устали…». — Да. И вовремя. У нее новое увлечение уже появилось. Я чувствовал. Ты.
— Я? — безучастно переспросил Вадим. — Надо же…
— Передо мной-то не ерничай, — усмехнулся Левкин. — Я же видел, как ты с ней…
— Забавлялся, — Данин опять выжал беззаботную улыбку. — Хохмил…
— Ну вас ничего не было? — вдруг едва заметно напрягшись, быстро спросил Левкин.
— Ничего, — сказал Данин.
Левкин расслабился, и притаенное удовлетворение мелькнуло в его глазах.
За забором деловито бряцали посудой; слышно было, как шумно текла вода в открытом кране; женский голос громко и недовольно позвал: «Валька, иди домой, завтрак готов, иди, говорю!» Вдалеке неугомонно вжикала пила, и кто-то заводил, видимо, барахливший мотоцикл; он фыркал, тарахтел недолго и глох.
— Почему же я ничего не видел? — неожиданно для самого себя спросил Данин. — Не видел, — добавил он тише, — и не слышал…
Левкин все-таки выпил оставшуюся половину стакана.
— Почему? — выразительно хмыкнув, спросил он. — А потому, что ты вообще ни черта не видел, что вокруг тебя происходит. Все собой был занят, только на себя и глядел, а на остальных чихал.
— Мне просто нет дела до интриг и всякой там мышиной возни, — сухо возразил Вадим. — Кто за кого, кто с кем, группировки, коалиции, подсиживания и тому подобная чепуха меня не интересуют. Мне нечего делить. И терять нечего…
— Нет, не то, — поморщился Левкин. — Мне тоже наплевать на эту суету. Ты людей не видишь, не вглядываешься в них, не понимаешь их, не стараешься понять. Ну кто для тебя Хомяков, или Татосов, или Рогов, или Зерчанов? Функционеры, обыватели; едят, пьют, понуро ходят на работу, исполняют обязанности и спешат к телевизору, и тупо глядят в него… Так?
Данин пожал плечами.
— Так, так, — закивал Левкин. — А знаешь, что Хомяков четырнадцатилетним пацаном на фронт сбежал? Самый лихой разведчик у Плиева был, орден Ленина имеет, во! — Левкин поджал губы и поднял палец. — А уж о других орденах и говорить не приходится. Знаешь, нет? Не знаешь. А знаешь, где он в пятьдесят шестом был? В Венгрии, в самом пекле, уже капитаном. Потом ранение, потом два года неподвижности, стал заниматься наукой и одновременно верил, что встанет. Всего себя собрал в кулак и встал. А Рогов в тридцать лет был директором НИИ. И нашлись сволочи, которым успех его покоя не давал, закидали соответствующие органы анонимками, все извернули, пару провокаций подстроили. А другие недоумки испугались за свое место, пошли на поводу, лишили человека самой большой его радости — работы. А Рогов так и не пережил удар, сломался. Так и не поднялся, больше сил не хватило. Ну и что? Человек-то ведь порядочнейший. И про Маринку ты ничего не знаешь, и про меня. Все мы на одно лицо для тебя.
— Но не мог же я в личные дела смотреть, — потирая заломивший вдруг висок, негромко сказал Данин.
— А зачем дела? — удивился Левкин. — Общаться надо было, общаться. Ты понимаешь? — Он вдруг хлопнул несильно ладонью по столу. — Ведь многие догадывались о нашей связи с Маришкой: и Хомяков, и Татосов, — я видел, а ведь молчали, чуешь, молчали. Вот так.
— Замечательные люди, — вдумчиво, в тон Левкину сказал Вадим. — И преданные товарищи. Коллектив, одним словом. Круговая порука. Все за одного, один за всех. Корку хлеба — и ту пополам…
— Перестань, — покривив губами, оборвал его Левкин. — Не скоморошничай. Ведь дело говорю.
— Ты всегда говоришь дело. — Вадим подавил зевок, спать хотелось чудовищно. В сенце-то, конечно, распрекрасно покемарить, но не в отсыревшем стожке, в пяти метрах от «железки». — Ты умный. Я дам тебе медаль. Представляешь, такую замечательную медаль! За взятие Ума. Здорово, да?
— Дурак ты, — беззлобно сказал Левкин и махнул рукой.
Вадим опять потер нудно тянущий болью висок, потом расправил плечи, потянулся, прижмурившись, посмотрел на солнце, частыми лучиками просачивающееся сквозь листву яблони, сдержал готовый уж вырваться глубокий тягостный вздох, перевел взгляд на Левкина — причудливые, желтофиолетовые разводы почти совсем заслоняли его — слишком долго Данин на солнце смотрел. Сказал, как о деле решенном:
— Поеду я. Когда ближайший поезд?
— Уже? — Левкин притворно нахмурился, будто ему страсть как не хотелось, чтобы Вадим уезжал. — А то погостил бы, завтра бы и уехал. Устал ведь.
— Нет, Сережа, надо, очень, очень надо.
— Ну, гляди, — сказал Левкин — и крикнул: — Леля! Посмотри, когда ближайший поезд до города.
— Чего ж так скоро? — Леля вышла на крыльцо и, вытирая руки о фартук, неожиданно, впервые за сегодняшнее утро заулыбалась. И Вадиму совсем расхотелось здесь оставаться, даже на минуту, даже на секунду, потому что вдруг ясно понял, что плохо ли им тут или хорошо живется, улыбаются они друг другу или ругаются друг с другом, все равно у них уже все отлажено, все расставлено по полочкам, и им не надо ничего решать, нечем мучиться, кроме мелких бытовых проблем. И доживут они так до самой старости, тихо и не спеша. А вот он… Если б они знали, что ждет его, если бы он сам это знал. И так обидно ему стало, так тоскливо, что хоть плачь. И он торопливо стал подниматься из-за стола, чтобы поскорее уйти, выбраться из этого дурмана безмятежной и почему-то вдруг такой желанной жизни. Встал, потопал затекшими ногами, с усилием улыбнулся в ответ Леле, коротко пояснил причину своего ухода.
— Дела, знаете ли, неотложные, — и, чуть поклонившись, поблагодарил ее: — Спасибо за приют, за угощение. Было очень приятно.
— Я подвезу, — предложил Левкин, вставая.
— Не надо, — запротестовал Вадим. — Я дойду. Сам. Хочется прогуляться.
— Так когда поезд, Леля? — повернулся Левкин к жене.
— В десять двадцать.
— Через полчаса. — Вадим посмотрел на часы. — То, что нужно.
— Я все-таки подвезу, — Левкин неуверенно дотронулся до плеча Вадима.
— Спасибо, Сережа. Я правда хочу прогуляться.
— Учти, идти минут двадцать.
— Вот и хорошо.
— Пойдем, до ворот хоть провожу.
Вадим еще раз кивнул, поклонившись Леле, и зашагал к воротам. За ним, взглянув на жену и с легким недоумением пожав плечами, двинулся Левкин.
За воротами они остановились.
— Да, — спохватился Левкин. — Тебе же деньги нужны.
— А я и забыл, — Вадим, усмехнувшись, мотнул головой. — Сколько стоит билет?
— Четыре рубля, — ответил Левкин и, вытащив из кармана десятирублевую бумажку, протянул ее Вадиму.
— Много…
— Пригодится. Отдашь ведь.
Левкин замешкался на долю секунды, покусал мягко верхнюю губу и, не глядя в глаза Вадиму, проговорил вполголоса:
— Ты знаешь, какое дело… Я здесь тебе наболтал всякого. Ну в смысле про Марину. Хотелось бы, чтоб это между нами…
— Конечно. Не беспокойся. — Вадим уже с жадностью смотрел на дорогу, ему нестерпимо хотелось уйти. — Тем более, что я уволился.
— Что? — Левкин вскинул удивленные глаза. — Уволился?
— Потом, Сергей, все потом объясню, — сказал Данин. — Вот когда деньги отдавать буду, и объясню. Пошел я, пошел. Будь здоров.
И коротко пожав Левкину вялую его — от изумления, наверное, ослабшую — руку, зашагал прочь.
Он стоял в стылом, не угретом еще дневным теплом тамбуре, курил и смотрел в окно. Стеной тянулся лес. Он подступал почти вплотную к колее, к поезду, и казалось, что состав идет по тоннелю со стеклянной прозрачной крышей. А потом лес убегал вдруг от дороги. И мелькали золотисто высвеченные солнцем полянки. Уютными, манящими виделись Вадиму эти полянки, иные казались просто неправдоподобными, будто нарисованными восторженным художником. И нельзя было от них глаз оторвать. И хотелось даже спрыгнуть с поезда и пойти посмотреть, вправду ли это настоящая полянка, окруженная изумрудными деревьями, а не мираж, и если не мираж, завалиться в упругую, высокую, не скошенную еще траву и задремать, забыв обо всем. «Хватит, — остановил себя Вадим. — Не расслабляться. Нельзя мне расслабляться…» И он постарался думать о чем-нибудь другом. Сразу же вспомнил Хомякова и безрадостно усмехнулся. Вот как оно бывает. Боевой, и, наверное, добрый, и отличный мужик. А ты вот не увидел, не рассмотрел, некогда было, да и ни к чему. Обозначил его сразу для себя, как только увидел унылое, невыразительное его лицо, и ярлык повесил — «чайник», и больше не раздумывал уже. А он ведь тоже не дурак, увидел твою недоброжелательность и вмиг коготки выпустил, защищаясь. Опять выходит, что от тебя самого все идет, в себе причину всегда искать надо. И с Маринкой ведь так же получилось. Поплевывал ты на нее, вспомни, поплевывал ведь, с самого начала причем… Стоп! Она ведь и с Левкиным наверняка связалась, что ты равнодушен к ней был. Точно, точно. Какую-то фальшь чувствовал он в словах Левкина, горечь и изначальную зависть, когда тот о новом увлечении Марины говорил, словно не новое это было увлечение, а старое, с самого начала их связи Левкину известное. Но догадка не утешила его самолюбие, не стало ему легче. Ему вообще, видать, теперь не скоро станет легче. Он бросил сигарету в окно и пошел в купе, и просидел там в компании с тремя молчаливыми деревенскими женщинами до самого города и всю дорогу гнал, гнал от себя мысли, все боялся, что подточат, порушат они его решимость. А впрочем, решимость ли это была?
Город был прежним, и нисколько не изменился. Да и как он мог измениться — меньше суток ведь прошло, хотя Вадиму казалось, что отсутствовал он месяц, а то и два, а то и того больше. Стремительны и деловиты были люди, настойчивы и нахальны автомобили. Также шумно было и неспокойно.
Думал взять такси, но увидел чудовищную очередь, ужаснулся и махнул на излишнюю роскошь, побрел к автобусу. Втиснуться в салон автобуса не сумел (машину осаждала плотная, монолитная толпа), пожал плечами и побрел пешком до другой остановки. Двигался машинально, бездумно глядя перед собой, и оттого не заметил паркующийся у тротуара автомобиль и открывающуюся дверцу, выходящего из автомобиля мужчину и поэтому ткнулся неожиданно в его спину. Чертыхнулся, хотел сказать что-нибудь не очень лестное, но когда тот повернулся, разом забыл придуманные слова. Спорыхин-старший смотрел на него пристально и изучающе. Вадим подался назад, потом ступил вбок и оттянул лацканы пиджака, ловчее усаживая его на себе. Но в глаза Спорыхину глядеть не переставал, держал его взгляд. Лишь несколько секунд, как и тогда во дворе, всматривались они друг в друга, а потом отвели одновременно глаза и разошлись, каждый в свою сторону.
Пока проделывал неблизкий до дома путь (все-таки на автобусе, вытянувшись в струнку и затаив дыхание, а потом пешком), непрестанно лицо Спорыхина-старшего перед ним маячило, растянутое тонкой улыбочкой, холеное, словно умело выстиранное, отглаженное. Острые, с морозцем серые глаза его рассматривали Вадима в упор, не мигая, и мешали сосредоточиться, мешали выстроиться стройно мыслям, чтоб подвели они его к догадке, еще укрытой, пока клубящейся ватной пеленой, но пелена та рассеиваться уже начала, и едва видимые бреши в ней появились, и можно было что-то очень знакомое в них разглядеть, но если только очень-очень внимательно и долго приглядываться. А вот этого Вадиму никак и не удавалось.
У дома, у подъезда уже, с усилием отогнал он от себя это дурацкое болезненное видение, разумно сказав себе, что сейчас уже все равно, докопается он до сути или нет. Скоро он все узнает, ему расскажут, если не все расскажут, то хоть немного, а остальное он сам домыслит.
Хотя, впрочем, надо ли ему это будет? Он стиснул зубы и прикрыл глаза. Ухватившись за ручку подъездной двери, до боли отчетливо представил себе сырой сумрак камеры, а потом вдруг сразу без перехода, без паузы — съежившуюся от ужаса Дашку в руках безликого громилы…
В квартире было душно, пахло пылью, лежалой бумагой и застоявшимся табачным дымом, и еще чем-то приятным, очень близким, очень родным, свойственным только этой квартире — славному его жилищу.
Он со вздохом опустился на диван и, услышав привычное, знакомое покряхтывание и посапывание, чуть приподнялся и сел, и опять услыхал те же знакомые звуки. Вадим слабенько улыбнулся, огляделся, осмотрел со всех сторон стол, прищурился, разглядывая, что там лежит на нем, нахмурился, заметив царапину на дверце — интересно, когда она появилась? Надо замазать лаком. О господи, он сжал пальцами лоб, каким еще лаком? Зачем лаком?! Он крутнул головой, встал, опершись руками о колени, не без труда встал, как после высокой температуры, жаром изнуренный; осмотревшись, проковылял на кухню, поставил табурет перед антресолью, взобрался на него, держась за косяк двери, раскрыл створки, покопался в книжках, сто лет там лежавших в узлах, давно забытых, извлек из-под одного из них сумку Можейкиной, стер пыль с нее рукавом, спрыгнул с табурета, бросил сумку на стол, сумрачно усмехнувшись, несколько секунд разглядывал ее — даже ведь и не открыл ее ни разу, — и пошел в комнату, к телефону. Не успел руку протянуть, как звякнул деловито. И хоть тихий был у него голос, Данин вздрогнул — так неожиданно подал он свой сигнал. Он положил руку на аппарат и, подобравшись, через секунду снял трубку.
— Вадим! Сколько сейчас времени? Ты где? — Ольга задавала глупые вопросы и, задавая их, почти кричала, это чувствовалось по напряженному ее голосу, но звучал он тихо, слышимость была отвратительная.
— Сейчас половина четвертого, — сказал Вадим. — И я дома.
— Что? Я не слышу. Что случилось? Почему ты дал телеграмму? Я волнуюсь, слышишь, я ужасно волнуюсь…
— Все в порядке, — бодренько сказал он. — Я просто беспокоился, почему ты не звонишь.
— Ты что там кашляешь? Ты простыл?
— Нет, я здоров. Как Дашка?
— Нормально. Очень довольна. Мы скоро приедем.
— Не надо, — Данин повысил голос, — скоро не надо. Я уезжаю в командировку. Приезжайте недельки через две.
— Что-то еще произошло, Вадим? Да?
— С чего ты взяла?
— У тебя такой голос…
— У меня превосходный голос. Все, мне некогда. Прощай.
Прощай! Он сказал ей «прощай». Он никогда не произносил этого слова всерьез, только в шутку, только усмешничая; он боялся его, боялся его завершенности, конечности, его безнадежности. А теперь вот сказал невольно, не раздумывая. Оно вырвалось, вылетело из его уст, само по себе. Нет, не из уст, не с языка, а из самой глубины его, из той самой глубины, которая не всегда подотчетна тебе, не всегда управляема. Значит, все! Значит, так надо! Значит, отступать некуда! Он быстро протянул руку к аппарату, но тот снова, во второй раз, остановил его, зазвенев неожиданно, и Вадим даже почувствовал ладонью колебания воздуха вокруг него. Он сорвал трубку, поднес к уху, ответил. Тишина. «Я вас слушаю», — зло проговорил он.
И по-прежнему тишина.
А потом, через секунду, пульсирующие гудки. Вадим выругался про себя, нажал на рычажки и принялся набирать номер.
— Уваров. — Голос у оперативника был ровный, чуть притомленный.
— Это Данин, — с внезапной хрипотцой назвался Вадим. — Мне надо приехать. Необходимо поговорить.
— Хорошо, — с готовностью произнес Уваров. — Я вас жду.
Ни минуты теперь не медлить, ни секунды, ни мгновения. Он стремительно прошел в ванную, причесался, покривился, увидев на щеках суточную поросль. Ну да бог с ней, сойдет, там побреют. Торопливо прошествовал на кухню, схватил сумку, сунул ее за пазуху, на миг остановился, как-то разом, одним взглядом окинув квартиру: и комнату, и кухню, и коридор, — и, ссутулившись, поспешно шагнул к двери.
С хмурым, неприкаянным лицом он вышел на свет, на улицу, на солнце, потому что хмуро и неприкаянно было на душе. И как ни ласкало его зардевшееся, далеко послеполуденное, послабевшее уже солнышко, а не сумело разгладить черты, отогнать хоть ненадолго хмурь, а уж к сердцу-то тем более не смогло подобраться, не его там площадка для игр, не его там зона влияния. Он вышел на тротуар, прикидывая, как лучше ехать, и прохожие, снующие по асфальту, казалось ему, коротко осматривая его, шарахаются в сторону, от греха подальше, не дай бог заразит их этот странный тип томительной, душноватой своей тоской. Подойдя к краю тротуара, Вадим будто очнулся — неужто и вправду люди его сторонятся, обходят, боятся задеть, — сосредоточился, огляделся. Да нет, все вроде в порядке. Никому до него дела нет, у всех на лицах только свои заботы начертаны. Но все равно, все равно на такси надо ехать. Тяжко ему будет сейчас среди людей в общественном транспорте тереться, чужим он будет себе среди них казаться, выброшенным уже из их жизни он будет себе казаться. И он вытянул руку, не глядя на шоссе. Машин много, кто-нибудь да остановится, частник или такси, а может, и самосвал или фургон с надписью «Хлеб». Он и на самосвалах ездил, и на фургонах, и на «скорой помощи», и на поливалках. На чем он только не ездил. Господи, когда это было?! Голубенькое такси бесшумно подкатило к тротуару и плавно притормозило возле него. Вадим подергал переднюю дверцу, она не открылась. Тогда он увидел руку шофера, которая приподняла кнопку замка на задней двери. Вадим щелкнул ручкой, заглянул в кабину и хотел сказать, куда ему надо, но не смог, так и остался с открытым ртом. На сиденье водителя, привалившись боком к спинке, сидел Витя-таксист и неуверенно, чуть морщась, смотрел на него. Данин отпрянул невольно, но тут же уткнулся задом во что-то. А потом все произошло невероятно быстро. Его ударили сзади чем-то твердым по копчику. «Коленом», — безучастно отметил Вадим, ойкнув от боли. Затем с силой толкнули в спину, и он повалился руками вперед, на засаленное, взвизгнувшее в ответ сиденье. Тотчас отворилась противоположная дверца, и мелькнули ноги в синих джинсах. Обладатель их ухватил беспомощную, опирающуюся на сиденье руку Вадима, резко и умело подтянул за нее Данина к себе и заломил руку за спину. Вадим снова вскрикнул от боли, теперь уже громче, но никто, конечно, кроме сидящих в машине, его крика не услышал. Бесшумно выпала сумка из-за пазухи. Джинсовый присвистнул и стремительно поднял ее с сиденья. Сумка мягко шлепнулась за головой у Вадима, у заднего обзорного стекла. Потом его опять пихнули справа, и кто-то, грузный и сопящий, повозясь, устроился рядом. Дверцы хлопнули выстрелами одна за другой, и машина лихо сорвалась с места. Инерцией всех прижало к спинке сиденья, и хватка соседа слева ослабла. Вадим повернул голову. «Курьер». Чернявый «курьер» собственной персоной. Он смотрел на Вадима с сонной кисловатой полуулыбкой. Вадим отдышался, с усилием проглотил слюну. Холодный скользкий ком стоял в горле. Вадиму было страшно, страшно до боли, до рези в животе. Но он чувствовал, что страх не сковал его. Он все-таки соображает и может двигаться и говорить. Только что говорить?
— Ну что? — с всхрипом начал он. — В гангстеров играем? Детство сопливое вспомнили? А? Пусти, руку сломаешь! Если сломаешь, будешь мне по суду бабки выплачивать… — И бегло подумал: «Какую чушь я несу!».
«Курьер» ухмыльнулся во весь рот, но промолчал. Справа шумно хмыкнули и опять засопели. Неестественно вывернув шею, Данин посмотрел и туда. Это сопел толстяк в пиджаке, со стрижкой ежиком и багровым раздражением на лбу, — тот самый, которого Вадим заприметил в автобусе, когда возвращался от Наташи. Он неожиданно усмехнулся и тотчас сам подивился своей усмешке — это в сго-то положении!
Но усмешка приободрила и придала и сил и уверенности, что с ним ничего не случится. Плохого не случится.
— Ну что вам надо? — Он опять повернулся к «курьеру». У того хоть лицо не дебильное было, обычное смазливое личико центрового фарцовщика. — Зачем я вам? На мне что, свет клином сошелся?
— Куда сумку везешь? — спросил неожиданно «курьер» с беспечной мальчишеской улыбкой. Это хорошо, что он заговорил. Вадим уже решил, что они так и будут вглухую молчать — это хуже.
— Выбросить хотел, — сказал Вадим. — На кой она мне. Руки жжет.
— Врешь, — не убирая улыбки, мягко возразил «курьер». — В контору небось везешь, дружкам своим, ментам. А мы вот тут как тут. И только тебя и видели на этом шарике.
— Неужто убивать будете? — с легкой усмешкой спросил Вадим, а у самого вдруг неистово и невероятно громко заколотилось сердце. Он на мгновение только допустил эту мысль, и вспыхнул слепящий свет перед глазами, а потом темнота опустилась, и ворохнулось в темноте что-то причудливое, разноцветное; и знакомо заломило в висках, и он задышал часто.
— Вероятно, — звериным чутьем почувствовав, как ослабела, обмякла у Вадима воля, с удовлетворением подлил масла в огонь «курьер» и чуть разжал пальцы на запястье Данина, давая своей руке возможность отдохнуть.
А за окнами, как и сто, и двести, и триста лет назад, жил буднично и деловито город, и не было ему никакого дела до Вадима, до его страхов, сомнений, до его поломанной жизни.
Горожане беззаботно смеялись на тротуарах, освободившись наконец от служебных забот, сладостно впивались в мороженое, придерживали на ветру подолы легких платьев, ослабляли узлы галстуков, снимали пиджаки и перекидывали их через руку, заглядывали в магазины, ругались в очереди, нежно целовались, встречаясь у кинотеатра, у парка или просто на углу, и никто и думать не думал, и гадать не гадал, что вот рядом с ними, совсем в нескольких шагах, только сделай шаг, приглядись внимательней… происходит непоправимое.
Вадим опустил голову на грудь, прикрыл глаза, и такая злость вдруг вскипела в нем, на все и на всех, но больше на себя, на жизнь свою, на глупость, малодушие, трусость свою, и взревел он вдруг яростно, вырвал левую руку у ошалевшего «курьера», двинул со всей силы локтем ему по глазам, а потом без паузы метнул правый локоть туда, где сидел толстяк, и, всхрипнув глухо, ухватил Витю за подбородок и оттянул его голову на себя. Машина завиляла, пьянея словно, но не остановилась, продолжала катиться по инерции, чудом не задевая автомобили, бегущие справа и слева. А они гудели уже вовсю, призывая к порядку расшалившегося шофера…
Боль в правом боку он почувствовал не сразу, поэтому несколько секунд продолжал еще держать Витю за подбородок и отпустил ослабшие вдруг руки только тогда, когда буквально всем телом ощутил меж ребрами острый холод стального лезвия. Толстяк прерывисто сопел и силой вдавливал нож ему в бок, через плотную ткань пиджака, через рубашку… Данин вскрикнул от ужаса и обмяк. Мгновенно отлила кровь от лица и по щекам, по лбу, по шее, побежали колкие ледяные мурашки.
Витя крякнул, покрутил головой и судорожно вцепился в баранку.
— Убери нож, идиот толстый! — рявкнул неожиданно у Вадима возле уха «курьер». — Убери, говорю, рожа мясницкая… Тебе же двадцать раз повторили, чтоб осторожно, чтоб вежливо и любезно…
Толстяк перестал сопеть, отвел руку с ножом и, переведя дыхание, обиженно проворчал:
— А чего он…
Вадим отстраненно покосился на него. Толстяк туповато смотрел перед собой и неровно, с легким присвистом дышал. Короткопалая, мясистая кисть его свисала с колена, и пальцы крупно подрагивали, а лицо побагровело и покрылось мелкими капельками пота. Не из простых это, видно, занятие — втыкать в живого человека нож, даже для таких, как этот.
— «Курьер» громко вздохнул и цокнул языком. Вадим, как во сне, медленно повернулся к нему. Тот брезгливо и недовольно кривился и то и дело вздергивал подбородком.
— Вот так, — сказал он Вадиму незло и внимательно взглянул на него. — Так что, как видишь, мы не шутим.
Данин молча отвернулся и стал смотреть вперед, в окно. Думать он ни о чем не мог. В голове был вакуум, ни единой, даже самой захудалой, мыслишки не держалось в ней.
В зеркальце над лобовым стеклом он поймал взгляд Вити. По глазам его было видно, что таксист что-то сосредоточенно соображал, взвешивал, прикидывал. Ненависти, или хотя бы недоброжелательства, в его взгляде Вадим не уловил. Но ему было уже все равно. Бок пульсировал болью и напоминал о пережитых секундах. Вадим расстегнул рубашку, сунул под нее руку, пощупал ребра, вздрогнув, наткнулся пальцами на теплую вязкую мокроту и вынул руку. Пальцы были в крови. «За что?»
— слабея, спросил себя Данин.
— Эй, орлы, — впервые подал голос Витя, и звенел он испугом и тревогой. — А за нами хвост!
— Что?! — встрепенулся «курьер», но оборачиваться не стал — ученый. — Что ты мелешь? От испуга глюки начались?
Витя сплюнул в окно и проговорил ровно:
— Я — раллист. Мастер спорта международного класса. Пятнадцать лет за рулем. Я дорогу знаю, как свою ладонь, и знаю, как тачки себя ведут, я их чую, я каждого рулилу чую. Понял? Двенадцать восемьдесят четыре, «Жигули», красные, через машину за нами. Это хвост. Он пасет нас уже минут десять…
— Черт, — прошипел «курьер». — Откуда?
— От верблюда, — остроумно заметил Витя.
— Заткнись, — отрывисто бросил «курьер».
— Что-то осмелел ты последнее время, паренек, — заводясь, заговорил таксист. — Я ведь могу и поубавить твой пыл…
— Ну все, все, — примирительно улыбнулся «курьер». — Сейчас не время.
— Вот именно сейчас самое время, — Вадим заметил, что глаза у таксиста выстудились, даже под прищуром в них чувствовался лютый морозец.
— Ну ладно, Витенька, хватит, — ласково сказал «курьер». — Давай о деле. Кто это может быть? Менты?
— А кто же еще?
— Ну а если…
— Менты!
— Ты уверен? — и «курьер» все-таки осторожно обернулся, глаза засуетились, забегали. — Надо уходить. Как? Мы же почти за городом.
И вправду, мелькали уже пыльные, приземистые пригородные домики с небольшими заросшими участками.
— Вляпались, — мрачно сквозь зубы выцедил толстяк. И подумав немного, смачно выругался.
— Не каркай, — едва сдерживая ярость, врастяжку проговорил «курьер». Он нервно теребил пальцами нижнюю губу и, прищурившись, смотрел в одну точу на спине таксиста.
— Если они нас не повинтили сразу, — наконец сказал он.
— Значит, им надо только пропасти нас. Значит, надо отрываться, так?
— Ты очень умный, — сказал Витя, покосившись в зеркальце.
— Или остановиться, — подал голос Вадим. Судорожная пляска в груди унялась, и потеплели пальцы, будто в воду он их горячую окунул, войдя со стужи домой.
— Или порешить тебя, — без всякого выражения внес свое предложение толстяк.
— Давай, — спокойно согласился Вадим и не спеша повернулся к толстяку.
Толстяк пожал плечами и, кряхтя, полез в карман.
— Заткнись ты наконец, ублюдок! — Не выдержал «курьер».
Данин уловил в зеркальце мелькнувшую на лице таксиста тоскливую усмешку.
— А ты умерь свою отвагу, герой, — устало посоветовал «курьер» Данину. — Твои дружки далеко, а мы близко. Вот они мы, — он подергал пальцами свою куртку. — Потрогай…
Вадим не шелохнулся. Он вдруг подумал, что есть замечательный способ привлечь к себе внимание, что-нибудь такое сотворить возле первого встретившегося на пути поста ГАИ.
— Не гони, — попросил «курьер». Он сидел, вцепившись побелевшими пальцами в спинку водительского сиденья. — Не гони, — повторил он и, словно читая Вадимовы мысли, предупредил: — Скоро пост ГАИ. Объедем от греха подальше.
— Это как это мы объедем? — с ехидцей спросил Витя.
«Курьер» положил ему руку на плечо и надавил на него, проговорил вкрадчиво:
— Через полкилометра съезд будет. Ты его прекрасно знаешь. Бывало, вместе ездили. Забывчивый ты стал.
— Верно, — без особого энтузиазма согласился Витя. — Запамятовал.
И Вадим увидел, как досадливо дернулись у Вити уголки плотно сжатых губ.
«Курьер» оглянулся.
— И не отстают, и не приближаются. Значит, точно, только пасут. Интересно им, любопытно знать, куда это мы едем.
— А и вправду, куда это мы едем? — машинально спросил Вадим. Теперь надо было придумывать что-нибудь другое. Идея с ГАИ сорвалась.
— В гости мы тебя везли, в гости. — «Курьер» пристально вглядывался в правую сторону дороги — жидковатый лесок тянулся вдоль обочины, и ни единого строения, как назло. — С угощеньицем там тебя ждали, с водочкой, с кроваткой теплой… Вот здесь! — вскрикнул «курьер».
Машина резко ушла с мостовой, вздрогнула, въехав на неровный грунт, и, высекая из-под колес обмолоченный почти в крупу гравий, помчалась по проселку.
— Теперь гони! — крикнул «курьер». — Что есть силы гони!
Загрохотали, забряцали всполошенно какие-то железки в автомобиле, завыл от натуги мотор. Данин оглянулся. Красные «Жигули» отстали теперь метров на триста. Автомобильчик подпрыгивал на ухабах, как детский резиновый мячик. Чья-то голова высунулась из кабины и мгновенно исчезла. И Данину показалось, что он узнал того, кто высовывался. Слишком приметным и запоминающимся был оперативник Петухов. Но откуда взялась милиция?
— Через пару километров параллельное шоссе, — крикнул, перекрывая шум, «курьер». — Уходи вправо.
— Сам знаю, — отозвался таксист.
Посветлело впереди, деревья поредели, а потом и вовсе расступились… У пересечения проселка с шоссе желтела «Волга» с надписью «ГАИ» на дверце.
— Черт! — заревел «курьер» и хлопнул в сердцах по спинке сиденья.
— Надо останавливаться, — Виктор сбросил скорость. — Мы ничего не нарушили. Проверят документы и отпустят.
— Ты рехнулся, рехнулся! Не тормози! — «Курьер» вцепился таксисту в плечи и стал остервенело трясти его. — Этот тип не должен быть в городе! Он вообще не должен быть! Спорыхин убьет меня!
«Тип — это, наверно, я, — догадался Вадим и с отстраненным недоумением подумал: — Отчего же такие страсти?»
— И меня убьет! — продолжал орать «курьер», — и тебя, и Ежа. Он не простит… Не дури… Я же многое знаю про тебя, я все расскажу, я все ментам расскажу…
Таксист передернул с силой плечами, вырвался из цепких пальцев «курьера», подался вперед, надавил на акселератор. Машина скакнула и стремительно помчалась по проселку. Не доезжая до милицейской «Волги», Витя резко свернул влево и погнал по густой траве. Вслед пронзительно запели свистки. Туго ударившись колесами о стенку обочины, такси вылетело на шоссе. «Курьер», громко выдохнув, обессиленно откинулся на спинку. Вот теперь можно. И Вадим снова, как и в первый раз, повторил свой маневр. Только теперь локтями по глазам «курьеру» и толстяку он бил одновременно. Те ойкнули в один голос, а Данин в это время уже ухватил обеими руками голову таксиста. Машина завихляла, как и в прошлый раз, и беспомощно покатила под острым углом к обочине. И вот теперь толстяк не стал давить ножом, он просто им ударил. Но теснота мешала ему размахнуться и удар вышел несильным. Но все равно жестоким и болезненным. Вадим вскрикнул и отпустил руки. Толстяк снова замахнулся и на сей раз закричал Витя.
— Не сметь, сволочь, не сметь, довольно, поиздевались…
И резко дернул автомобиль вправо. Толстяк привалился к дверце, и нож выпал из его рук. Машина стала останавливаться. «Курьер» с истеричным надсадным воплем накинулся на Витю и сжал пальцами его шею. Предоставленная опять самой себе машина на скорости выкатила на встречную полосу. Мелькнул в окне огромный КрАЗ…
«Вот и все, а ведь только-только себя разглядел», — успел подумать Вадим.
А потом хруст дробимых металлических костей, сухой треск лопающегося стекла, чьи-то звериные, отчаянные вопли и темнота…
Так иногда бывает под утро, в конце крепкого сна. Будто спишь и не спишь одновременно. Еще снится сон, и мельтешат в сознании расплывающиеся силуэты, лица, которые уже не можешь узнать, но твердо уверен, что они тебе знакомы, и «та жизнь» еще не отпустила тебя, еще развивается, беспорядочно ее действо, но все равно чувствуешь уже, понимаешь, что «та жизнь» — это сон и что через мгновение ты проснешься окончательно и все исчезнет, растает, забудется; но в силу какого-то изначального инстинкта, несмотря на это, почему-то все-таки веришь, что «та жизнь» тоже настоящая, и тебе еще хочется узнать, что будет дальше и сможешь ли ты что-нибудь там изменить, если совсем станет плохо… Но пока все было лучше не придумаешь. Он видел себя, большого, нет не то что большого — огромного. Он шел по купающемуся в солнце городу и мог заглядывать на крыши пятиэтажек, а до последнего этажа коробок-башен мог запросто дотянуться полусогнутой рукой, люди останавливались, задирали головы, смотрели на него и что-то приветливо кричали и размахивали руками. Там, внизу, он увидел маму и отца, увидел и Дашку между ними, и очень обрадовался и засмеялся, нагнулся и подхватил их на ладонь. Они счастливо улыбались и добро кивали ему, а Дашка подпрыгивала и хотела дотянуться до его лица. Ему было хорошо, и он чувствовал, что все может. Он поднял лицо к солнцу, и слепяще высветилось под веками, и он подумал: «Сейчас проснусь», — и проснулся, хотя глаз не открыл, но просто пропал и город, и мама, и отец, и Дашка. И только белым-бело было в глазах и еще очень тепло было лицу, и опять заулыбался и наконец открыл глаза. Солнце в упор светило на него через чистые стекла большого, почти во всю стену окна. Он удивился: у него в квартире нет таких окон. Разве он не дома? Он хмыкнул подозрительно, но усмешки своей не услышал. Что-то с голосом. Ему стало не по себе, он хотел было повернуть голову, но острая и неожиданная боль пронзила правую часть головы, и плечо, и ногу, и он вскрикнул, тяжело и хрипло. А рядом, по правую руку, кто-то тоненько ойкнул в ответ и завозился возле него, и терпко и приятно пахнуло духами. Боль прошла так же внезапно, как и началась, и он заинтересованно подумал, кто бы это мог пахнуть такими замечательными духами. И увидел выплывающее справа лицо, сосредоточенное, свежее, девичье лицо; из-под донельзя накрахмаленной белой шапочки солнечными завитушками выбегали волосы.
Вадим закрыл глаза, морщась и вспоминая, потому что понял уже, что не дома он. Только вот где?
— Вам больно? — негромко и опасливо высоким голоском спросили его. — Вы меня слышите? Вам больно?
Вадим открыл глаза и весело, как ему показалось, прищурился. А у него и впрямь было хорошее настроение, он почему-то был уверен, что ничего плохого с ним не случалось, и вообще никогда не случится, потому что он сам хозяин самого себя, и может сделать все, что захочет. Он сильный и всемогущий, прямо как тогда, когда был великаном во сне.
— Как вас зовут? — отчетливо прошептал он. — А впрочем, пока это неважно, важно, что вы очень красивая, и сегодня в семь я жду вас у кинотеатра «Орион»…
Девушка засмеялась и, смеясь, совсем по-детски вжала голову в худые хрупкие плечики, туго обтянутые шелковистым белым халатом.
— Раз вы шутите, значит, вам ужене больно. Так? — с интересом глядя на него, произнесла девушка.
— Я совсем не шучу, — сказал Вадим, чувствуя, как пробивается, крепнет его голос. — Какие уж тут шутки, когда влюбишься, как школьник с первого взгляда. Раз и навсегда…
Он опять прикрыл глаза, потому что устал, слишком долго, показалось ему, он говорил.
Девушка подавила новый смешок и, бросив коротко: «Я сейчас!» — исчезла из его поля зрения. Он пошарил глазами вокруг и справа увидел длинную жердь штатива и прицепленную к нему стеклянную банку, и тонкую резиновую трубку, ниспадающую вниз. «Капельница», — догадался Данин и в первый раз нахмурился.
С ним, видимо, что-то серьезное, раз у кровати капельница.
А он-то сначала подумал, что больно ему оттого, что он отлежал шею и плечо.
И значит, он в больнице.
Почему? Он сморщился, вспоминая. Нет, бесполезно. Рыхлая вата в голове, и вязнут в этой вате мысли и воспоминания…
А потом приходил доктор — озабоченный, смуглый, молодой человек со всезнающими и всевидящими глазами. Он щупал Вадиму пульс, трогал лицо, водил пальцами перед его глазами, прижмуривался, что-то соображая, и задавал дурацкие вопросы: как Вадима зовут, сколько ему лет, где он живет, где работает. А потом Вадим спал, но уже без снов, словно провалившись в теплую черную яму.
А к вечеру опять приходил доктор и опять задавал те же смешные вопросы, и Данин, снисходительно улыбаясь, тихо на них отвечал, а потом ему сделали укол, и он опять уснул.
Утром он очнулся разом, как от удара, и почувствовал, что голова ясная и чистая и настроение приподнятое, и понял, что спокойно, без напряжения может думать.
И он стал думать. Когда пришел доктор, он остановился на том месте, когда приехал в город от Левкина и столкнулся со Спорыхиным-старшим. Доктор опять стал задавать свои вопросы и, удовлетворенно улыбаясь, выслушивать на них внятные, уверенные ответы, а затем вдруг за окном громко зарокотал мотор приближающейся машины и протяжно скрипнули тормоза, и хлопнули дверцы, и Данин все вспомнил и, вспомнив, ничуть этого не испугался, наоборот, ему даже полегчало оттого, что он все вспомнил, и, усмехнувшись, он сказал доктору:
— Все, доктор, хватит. У меня нет амнезии, или как вы там называете частичную потерю памяти. Я все помню. Сейчас все вспомнил. И такси, и его пассажиров, и водителя, и как мы вляпались в громадный грузовик, или тягач, или, Бог его знает, как его там величают. Сколько я пролежал?
Доктор помялся немного, почесал идеально прямой нос, ответил вполголоса:
— Неделю…
— Как остальные?
— Все живы, — доктор с вниманием посмотрел в окно.
— Так, — Вадим, конечно, не поверил ему. Но он все равно сейчас не скажет правды, опасаясь, как бы Данин не разволновался. Все точь-в-точь как пишут в книжках. — Мне немедленно нужно видеть одного работника милиции. Это очень важно.
— Еще не время, — покривился доктор.
— Самое время. Я буду лучше себя чувствовать. Вы сами увидите.
— Не Уваров ли фамилия вашего работника.
— Уваров, — не удивился Данин.
Доктор вздохнул.
— Вот и он тоже говорит, что вы будете лучше себя чувствовать после разговора. Но я… хотя, впрочем, если и вы, и он в этом уверены… Он здесь. Уже второй день обивает пороги и обхаживает меня. Ладно.
И он вышел.
Почти тотчас хлопнула дверь, и кто-то мягкими шагами подошел к кровати.
— Это вы? — спросил Вадим, не поворачиваясь.
— Я, — ответил Уваров. Он шаркнул по полу ножками стула, видимо пододвигая его ближе.
Вадим скосил глаза и увидел усталое сухое лицо оперативника.
— Вы осунулись, — сказал Данин.
— Много работы. Как вы себя чувствуете?
— Очень разнообразно, — сказал Вадим. — Тело плачет, а душа поет. Такое ощущение, что я очень одержимо и плодотворно потрудился и физически, и… — Вадим насупился, расстроившись, что никак не может найти нужного слова.
— Я понимаю, — сказал Уваров.
— Понимаете? — удивился Вадим. — Я сам-то еще ничего не понимаю…
— Я могу понять ваши ощущения. Не суть, а ощущения.
— Ну-ну, — усмехнулся Вадим и тотчас посерьезнел, вздохнул. — Но сейчас не об этом. Мне надо вам многое рассказать…
— Я не для красного словца сказал, что понимаю ваши ощущения, — сказал Уваров, отрывисто скрипнув стулом, наверное, плотнее сел, чтоб сноровистей и удобней было говорить. — Просто я все знаю.
— Все? — заинтересовался Вадим.
— Ну, если не все, то многое.
— Откуда? — Данин приподнял правый уголок губ, словно намекая на усмешку.
— Мы их арестовали. Всех.
— Всех? — Вадим уткнулся локтями загипсованных рук в жесткий, укрытый тощим матрацем панцирь кровати и приподнялся было, но тут же обессиленно рухнул на подушку. — Как Можейкина? Что с Можейкиной? — выдохнул он и сомкнул глаза, подавляя возникшую вдруг под веками резь.
— Все в порядке, — Уваров обеспокоенно вглядывался в Вадима. — Ее до поры до времени держали на даче, в Мелинове. Туда везли и вас. Она и вы очень опасны были для них…
— Для кого «для них»? — быстро спросил Данин, вздернув веками.
— Я все потом расскажу…
— Нет, сейчас, — повысил голос Вадим и нервно шевельнул плечами и так неудачно шевельнул, что опять ожгло болью и шею, и плечо, и руку. И заныли зубы, и слезинки вспухли в глазах. Но он не застонал. Нельзя. Он же теперь все может.
— Врача? — встревожился Уваров и с готовностью приподнялся со стула.
— Нет, — глухо и жестко возразил Вадим. — Почти прошло. Вы лучше скажите, как я выгляжу, чтоб я хоть представил себя. И что там поломано, погнуто, раздроблено.
Уваров привстал, смешливо оглядел Данина со всех сторон, словно не больного человека, а старинную скульптуру в музее рассматривал, потом сел, сказал бодро:
— Значит, так. Рука в гипсе, трещина ключицы. Левая нога — перелом, ушибы. Правая, как ни странно, не тронута. Ну и легкое сотрясение мозга.
— А почему я не чувствую правую ногу?
— Частично парализована. От шока. Такое бывает. Редко, но бывает. Все нормально у вас. Месяца через два встанете. Как новенький будете.
«И как новенький побреду в тюрьму. За таксиста Витю и за дачу ложных показаний», — подумал Вадим и с удивлением обнаружил, что эта мысль нисколько его не тронула.
Он улыбнулся и уставился в потолок. Трещины на штукатурке напоминали решетку из тонюсеньких прутьев.
— Значит, вы все знаете? — сказал он. — И про сумку, и про угрожающие звонки…
— И про псевдограбеж таксиста, — продолжил Уваров. — И про то, что Можейкина была прекрасно знакома с Лео, и про слежку за вами, и про ваше посещение Митрошки, и еще многое другое…
— Значит, Лео и те двое его дружков арестованы?
— Они арестованы, — Уваров сделал ударение на слове «они».
— Ну так объясните мне теперь. Почему? Почему? Почему я им был так нужен? Неужто все из-за изнасилования? Что-то верится с трудом.
— Хорошо, — Уваров опять пискнул стулом, закидывая ногу на ногу. — Хорошо. Я расскажу вам сейчас. Думал повременить, пока поправитесь. Но сам уж в нетерпении. Слушайте. Мы арестовали не только Лео и его дружков. Мы задержали еще и Спорыхина-старшего, и Можейкина, и еще несколько человек, вам неизвестных, — при этих словах Данин оторопело уставился на Уварова. — Можейкин и Спорыхин-отец старые приятели, еще со студенческих лет. Можейкин был способным математиком, а потом стал довольно незаурядным экономистом. Еще в молодости защитил очень интересную диссертацию. И поэтому до последних дней оставался главным консультантом у Споры-хина. Всю жизнь у Можейкина была одна страсть — нажива. Об источниках этой страсти мы сейчас говорить не будем. Это уж дело следствия и суда. Я рассказываю лишь суть. Одним словом, защитив диссертацию, Можейкин не пошел работать ни в НИИ, ни на преподавательскую работу, а направил свои стопы на производство. Работал на кожевенных, на ювелирных предприятиях. Чуете замашки? Один раз попал под следствие, но дело против него прекратили за недоказанностью. А вот восемь лет назад он вдруг круто повернул свою жизнь и устроился в университет. А произошло вот что. Спорыхин, тогда уже начальник городского строительного треста, профессиональным чутьем уловил какие-то махинации с документами, с отчетностью с финансами у себя в тресте. Посоветовался с Можейкиным. Тот предложил свои услуги, чтобы негласно, без ревизоров и БХСС провести проверку. Спорыхин согласился. Короче, Можейкин накопал там многое. Хищение, подлоги и так далее. Рассказал об этом Спорыхину и намекнул, что, если все вскроется, тот непременно сядет. Спорыхин испугался, страшно испугался. И тогда они с Можейкиным прижали тех четверых сотрудников, с которых вся эта преступная деятельность и началась, и, как говорится, вошли в долю. А доля была, я вам скажу, ой-ей-ей. Случайно, мы еще не знаем как, в это дело ввязался помимо воли отца и Лео, его сын. Он знал о махинациях не много, но для тюремного срока папаши вполне достаточно. Когда Можейкин женился на Людмиле, то через некоторое время она стала любовницей Лео. Лео к тому времени уже прилично пил. И вот в тот день, с которого все и началось, Можейкина пришла на свидание к Лео в квартиру к Митрошке — Лео снимал там комнату для таких встреч. А он был там не один, а с собутыльниками, уголовниками Ботовым и Сикорским. Он предложил ей предаться любви прямо в этой комнате, на диване, а ребята пока посидят. Она отказалась. Тогда Лео, озлобившись, взял ее силой и предложил дружкам сделать то же самое. Ну а те, озверевшие от водки, возбужденные зрелищем, и рады стараться. А потом он решил ее проводить. Они вышли на улицу. И опять начался скандал, который вы и слышали. Можейкина хотела скрыть свое знакомство с Лео сначала потому, что боялась мужа, а во-вторых, потому что Можейкин не раз ей говорил, что они со Спорыхиным одной веревочкой повязаны. И случись что, оба в небытие канут разом. Можейкина не вдавалась в подробности, что и как, но чувствовала, что отношения и дела у них нечистые. Ну а потом, когда Спорыхин-старший и Можейкин прознали про все, ее попросту довели до сумасшествия, почва для этого была благодатная, запугали, как хотели запугать и вас. В свою очередь, Лео, узнав о том, что изнасилованием занимается милиция, испугался и вышел к своему замечательному папаше с таким предложением: или ты любым способом меня выручаешь, или я закладываю тебя соответствующим органам. И Спорыхин занялся этим делом. Но занялся неумело, как дилетант, у него же не было уголовного опыта. Нанял каких-то подонков, чтобы запугивать вас и Можейкину, платил им по максимуму. Лео подключил к этому делу и своих дружков: и Витю-таксиста, и Ботова, длинного в кепке, и Сикорского…
— Значит, чернявый, который был со мной в машине, и толстяк — это люди Спорыхина-старшего?
— Да. Кличка толстяка Еж, зовут Сигаев, Дмитрий Иванович, трижды судимый. От рождения тупой и жестокий. На какой свалке Спорыхин нашел его — неизвестно. А второй, Федоров, обыкновенный фарцовщик, прельстившийся большими деньгами…
— Теперь все понятно. — Вадим вдруг ощутил, как горят у него щеки и лоб от возбуждения.
— Ребята из БХСС, — продолжал Уваров, — давно копали под Спорыхина. Когда мы вышли на Лео, то стали работать с ними в контакте.
— А как вы вышли на Лео?
— Работали… — улыбнулся Уваров.
Вадим устал. Слишком много он узнал за сегодняшний день.
Слишком много он узнал за все эти дни. Теперь надо было думать, долго думать.
Ему захотелось остаться одному. Но что-то он еще не досказал Уварову, что-то такое, чтобы заставило того отнестись к Вадиму хоть с крохотным сочувствием. Нестерпимо вдруг захотелось, чтобы Уваров его понял, чтобы хоть один человек его понял.
— Я хотел все рассказать, — неуверенно начал он. — Но не мог. Хотел, но не мог. Так вышло…
Уваров смотрел на него и молчал, и не шевелился, застыл словно.
— Не смотрите на меня так, будто вы лучше! — сказал Данин. — Не смотрите!
— Уваров дотронулся прохладной ладонью до его лба.
— У вас температура, — сказал он. — Я позову врача.
— Не надо, пожалуйста, пока не надо. Я хочу побыть один…
Уваров встал, поставил стул на место, к тумбочке.
— А Можейкин, мой бывший начальник, и Сорокин и впрямь знакомы? — вспомнил вдруг Вадим.
— Знакомы, — подтвердил Уваров. — Сорокин должник Можейкина. Крупная сумма за ним. Он отгрохал себе трехэтажную дачу…
— Значит, Можейкин все-таки просил его… — прошептал Вадим.
— Что? — не понял Уваров.
— Да нет, это я так, про себя…
— Ну ладно. — Уваров натянул на плечи спадающий то и дело халат. — Я пошел. Да… — Он остановился на полушаге. — Здесь ваша мама. Она сейчас отдыхает. Хотите, я позвоню ей.
— Да, пусть приходит к вечеру.
— И еще, внизу на улице, под окнами, ваша бывшая жена и дочь. И какие-то двое друзей. Мужчина и женщина. Позвать?
— Не надо, если только дочку. Но без всех. Вы знаете, пусть мама ее приведет.
— Хорошо.
— Меня буду судить? — тихо спросил Вадим.
— Выздоравливайте, — кивнул Уваров. И он ушел, ступая также мягко и едва слышно, как и вошел.
Данин лежал некоторое время, отдыхая и стараясь не думать ни о чем. Потом открыл глаза, прищурился, пробормотал еле слышно: «Ишь ты, через два месяца встану…» — плотно, до темноты в глазах стиснул зубы, вздохнул несколько раз глубоко и начал осторожно приподниматься. Жестокая боль ударила в шею, в плечо, но Данин не остановился, он продолжал подниматься, медленно, сосредоточенно, помогая себе словами: «Я все могу, я все могу…» К моменту, когда ноги его коснулись пола, глаза уже до рези разъел холодный, терпкий пот. Теперь оставалось сделать только один шаг. До окна. А там он сможет опереться на подоконник. Вдруг ощутил, что правая нога горит, нестерпимо пылает жаром, будто ее подвесили над костром. А раз он чувствует ногу, значит… Он пошевелил пальцами. Они двигались с трудом. С болью. Но двигались! Данин поднял ступню и с неожиданной боязнью вновь опустил на пол, и сразу ощутил равнодушный холод крашеных досок. Добрый знак. Он передохнул секунду и решительно отжался здоровой рукой. Нога, задрожав, разогнулась. Он встал и с размаху уперся в подоконник. Плечо стрельнуло яростной болью. Данин вскрикнул. Кровь отхлынула от головы, и завертелось все перед глазами.
«Я могу, могу…» — вслух повторил Данин и разлепил глаза. Вертящееся окно через несколько мгновений встало на свое место. Голова мелко и знобко дрожала. Ну и Бог с ней, сейчас это уже неважно. Он наконец взглянул вниз. Ольга, Беженцев и Наташа стояли рядом, лицом друг к другу, и о чем-то неторопливо говорили. Женька курил и то и дело машинально лохматил голову. Ольга все время терла глаза, а стоявшая спиной к Вадиму Наташа ежилась, обхватив себя руками. И только одна Дашка, подняв голову (как тогда в его сне), смотрела на окна. А потом она что-то закричала и, подпрыгивая, протянула к нему руки.
Он мог не пойти по этой улице. По ней редко кто ходил. За исключением, конечно, тех, кто там жил, кто обитал в этих серых, неуютных с виду домах-глыбах, домах-булыжниках. Если смотреть на них прищурившись, чтобы окна превращались в расплывчатые темные провалы, а карнизы и водосточные трубы в веревочки трещин, здания и впрямь напоминали огромные валуны, валявшиеся здесь тысячи, миллионы лет, еще с ледникового периода. Четырехэтажные, коренастые, угрюмые, они даже днем, даже солнечным разудалым утром нагоняли тоску, а вечером и ночью так уж и подавно. В каждом большом городе, наверное, есть такие улицы. И без сомнения, те, кто строил их, и думать не думали, что их творения будут представлять такую угнетающую унылость, а вот вышло так, хотели не хотели, а вышло, и все тут. И даже деревья, ютившиеся возле домов, чахлые были, поникшие, щербатые. По всему городу — яркие, мясистые, а здесь щербатые. А по вечерам на всю улицу лишь пара фонарей. Больше, может быть, и не надо, улица-то короткая, прямая, без ям, без выбоин, без коварных асфальтовых трещин, не споткнешься, не упадешь; туда, куда надо, наверняка выйдешь, к Звездному бульвару, к автобусам и троллейбусам, к свету, к толпам спешащих людей — так что, может быть, больше и не надо фонарей. Но все равно там редко кто ходил. К бульвару через другую улицу шли, параллельную, широкую, светлую, веселую, довольную собой, эдакую преуспевающую улицу, с широченными прямоугольниками магазинов, с кое-какой неоновой рекламкой, не совсем новую, может быть, даже ровесницу той, своей соседки. А если помоложе, то ненамного. Данин здесь бывал нечасто, когда необходимо было приехать в институтские архивы, когда без этого просто не обойтись или когда начальство требует, проверив вдруг книгу посещений и рассвирепев от лености и нелюбознательности своих сотрудников. Для кого-то архив этот наверняка представлял интерес. Там было много неизученных, занятных, очень редких документов, но того, что вот уже полтора года интересовало Данина, там не было. Для этого надо было ехать в Ленинград, в Москву, самому искать, самому копаться в архивах, потому что по запросу для тебя этого делать не будут, а если и будут, то так долго, что замаешься ждать. Правдами и неправдами два раза он уже вырывался в краткосрочные командировки, кое-что успел, но это был мизер, песчинка из того, что он хотел узнать. Так что и жизнь и деятельность начальника Петербургской сыскной полиции Николая Александровича Румянцева, его роль в раскрытии крупнейшего преступления начала века — ограбления Ростовского банка — еще оставалась для Вадима скрытой завесой не то чтобы уж неизвестности, но, скажем так, малой известности. А дело это было наинтсреснейшее. Правительство России привлекло к нему заморских специалистов, детективов из сыскного бюро Ната Пинкертона, а все равно раскрыл-таки его наш сыщик, отечественный, — полковник Румянцев. Руководство института и непосредственный начальник Вадима смотрели на эти его изыскания косо, с сомнением и недовольством, но пока не препятствовали, если это не мешало основному заданию группы, в которой работал Данин.
Вышел он в тот день из архива поздно, когда уже вежливо, но со старательно скрываемым раздражением, сонные, уставшие за день, похожие друг на дружку, как близнецы, пожилые дамы-архивариусы, чуть ли не в один голос попросили его доделать столь важную и неотложную работу завтра, с утречка пораньше, а сейчас домой, баиньки, нам еще, мол, все проверить надо, по местам разложить, под охрану сдать… Он с охотой согласился — самому опостылело уже заниматься тем, что мало тебя трогает, хотя и надо было доделать все до конца, чтобы не приезжать завтра. Вышел, вздохнул глубоко, в который раз подивился, порадовался сладости, свежести августовского воздуха, в котором еще остались ароматы лета, хотя и примешивались уже к ним едва уловимые запахи осенней свежести и прохлады. Вадим огляделся, людей почти не было — двое-трое на другой стороне переулка — вынул сигарету, хотел закурить, но раздумал; воздух нынешний, плотный, обволакивающий, показался таким благостным, умиротворяющим, что сигарета сейчас только помешала бы, инородной была бы, чужой. Вадим сунул руки в карманы брюк, поежился от удовольствия и зашагал по переулку, по самой мостовой, благо что машины тут ходят редко и к тому же сбавив скорость до минимума — в начале переулка для них висел знак. Переулок уходил вправо — он кривенький был, старенький, не одно десятилетие застраивался, а потом через полсотни метров раздваивался, как змеиный язычок. Вправо та самая светлая и преуспевающая улица шла, слева в зыбком, неестественном свете — будто сами дома тускло светились — виднелась пустынная ее соседка.
…Он мог бы и не пойти по этой улице, а уверенно и привычно двинуться вправо и выйти к бульвару. И уже дошел до начала, уже различил приветливый ее лик и тут подумал, а почему влево-то никто не идет? Там же ближе, наверное, скорее к бульвару можно выйти, правда, от остановки дальше, да ему, собственно, и остановка-то не нужна, он решил сегодня побаловать себя, на такси домой махнуть. А подумав так, вспомнил, что когда возвращался из архива с коллегами, с женщинами из института своего, они почему-то здесь шаг убыстряли и первыми всегда говорили, указывая равнодушно рукой на преуспевающую улицу, мол, там пойдем, там ближе. Что за страхи такие? Или просто людей всегда к светлому, более радостному, более красивому, преуспевающему тянет? Они, видя все это, лучше себя чувствуют, у них надежда появляется или не пропадает по крайней мере, если была. Вадим усмехнулся — доработался, о какой ерунде думает. Значит, на такси, значит, влево, там все-таки ближе. Он пошел быстро, потом замедлил шаг непонятно почему. Показалось вдруг, будто пахнуло сыростью, тяжелой могильной сыростью. Он мотнул головой — точно, вегетативно-сосудистая дистония, сейчас тени мерещиться начнут. Нет, теперь уж он точно пойдет, посмеиваясь, по этой улице; преспокойно выйдет затем на бульвар, возьмет такси или частника и через десять-пятнадцать минут он дома. И посмеиваться будет над теми, кто по непонятно каким причинам не решался идти по этой тихой, безлюдной улочке, а повинуясь какому-то инстинкту, направлялся туда, где люди, где много таких, как он, где терялся среди похожих на себя, спешащих, деловитых, сосредоточенных, становился неотъемлемой их частью, растворялся в них, исчезал… А он вот, Данин, не исчезнет, не растворится, он пойдет один, не как все, против всех, и от этого было немножко приятно, и еще приятно было от того, что, если он и ощущал хоть какие-то сомнения, крохотные, ничтожные, то преодолел их. Это было как игра, с детства, с юности. Когда идешь, например, по улице и впереди себя видишь пьяную компанию местных забулдыг-драчунов, а с ними своих же сверстников, смачно сплевывающих, с нагловатой ухмылкой задирающих прохожих, чувствуя свою безнаказанность, потому что слышат за спиной тяжелое пьяное дыхание защитников. И так и тянет перейти на другую сторону или вовсе вернуться и подождать, пока те не уйдут. Ты один, и никто тебя не осудит, но не переходишь и не возвращаешься, а, преодолевая слабость в коленках и знобкую дрожь в желудке и незаметно облизывая вмиг пересохшие губы, идешь прямо, стараясь держаться как можно непринужденней и спокойней. Потому что если не пойдешь, то потом так прескверно себя чувствовать будешь, — недолго, правда, наутро чувства притупятся, но осадок останется, и потеряешь уверенность в себе. И походка у тебя изменится, и голос вдруг станет тише, и в споре будешь обязательно проигрывать и, вообще, ни с того ни с сего вдруг жалеть себя станешь. Но зато уж, если переломишь себя, деревянным шагом пройдешь мимо, да еще ответишь осипшим голосом дерзостью на дерзость и даже, если просто промолчишь, то уж тогда ты другой человек. Страх уходит, и сердце успокаивается, и наваливается тихая приятная радость, и губы ты сжимаешь плотнее, и взгляд делается тверже, насмешливей, ты ощущаешь это, ты видишь это по реакции других…
Данин усмехнулся. Смешно все это. Мальчишество. Ерунда. И, конечно, совсем не потому он направился по этой улице, чтобы доказать себе, что он решительный и достаточно смелый мужчина. Обыкновенная улица, обыкновенные дома, и живут там славные и добрые люди. И совсем она не мрачная и унылая, а даже наоборот, вон даже кое-где в окнах милые кокетливые занавесочки висят, а из углового окна на четвертом этаже музыка льется ласковая, неспешная — кажется, Тото Кутуньо. А пошел он потому, что не хотелось тереться среди людей, устал за день, а во-вторых, поскорее хотелось домой, к себе в однокомнатную удобную квартирку. Там, правда, никто не ждет его, да и слава Богу, не надо отвечать на вопросы, почему-то всегда очень глупые ближе к ночи, даже если задает самая умная женщина на свете: «Почему так поздно? Почему не позвонил? Почему не голодный?» и т. д. и т. п.
Тото Кутуньо, наверное, пел про что-то очень хорошее, потому что голос у него был медовый, проникновенный. Захотелось подтянуть, запеть вместе с ним, и представилась вмиг красивая, с умными глубокими глазами женщина (а секунду назад так не хотелось, чтобы тебя ждали) в строгом, но соблазнительном вечернем платье, и сам он себе увиделся в смокинге, в белой рубашке, загорелый, чуть утомленный, с небрежно зажатой меж пальцев сигаретой, что-то вполголоса, усмехаясь краешком губ, рассказывающий своей очаровательной собеседнице… Он вздрогнул, вдруг явственно услышав женский голос:
— Хватит! Все! Пусти, пусти меня! Я закричу сейчас… — Она и вправду пока не кричала, но истошный режущий крик уже подбирался откуда-то изнутри к ее голосовым связкам, еще секунда, еще мгновенье… Вадим понял это так же отчетливо, как если бы сам оказался на ее месте. Он огляделся. Никого.
— Да стой же ты, дура! — Мужской голос был низкий, прерываемый дыханием, обладатель его, наверное, хотел говорить спокойно и усмешливо, но слова прозвучали надрывно и угрожающе: — Куда? Куда ты пойдешь? К мужу? Ну иди, сволочь! Иди…
А потом Данин услышал звук удара, глухой, пугающий, потом еще один, а потом голос, другой, тоже мужской, пониже, визгливый, испуганный:
— Ты что! Убьешь ведь! Она и так еле дышит! Заявит ведь!
— Не заявит… — Переводя хриплое дыхание, отозвался первый. — Не заявит, уж я-то знаю. Не заявишь, ведь правда? Молчишь?
И опять удар…
Вадим остановился, как врос в асфальт, ноги перестали слушаться.
— Тихая улица, — пробормотал он, стараясь сбить дрожь внутри. — Добрые люди…
Он зачем-то расстегнул еще одну пуговицу на рубашке, потом сделал шаг, ноги опять подчинялись. Уже дело. Назад? Бог с ними, сами разберутся. А если муж и жена скандалят? Твое-то какое дело, тебя же и обвинят. А если нет? Ну и что? Они же знакомые, явно, что знакомые. Зачем встревать? Другое дело, что он бьет, и сильно бьет, и он не один. Да черт с ними в конце концов! Испугался? Уйдешь? Как же ты потом будешь себя ощущать? Наверное, так же, как и прежде, ты же не маленький уже. И не будет у тебя, как тогда в детстве, походка меняться и голос глохнуть… И опять-таки никого нет ни на тротуарах, ни на мостовой. Ты и они. Они и ты. И тебя никто не видит. Они за углом где-то, во дворе… Да и к тому же, право слово, кто-нибудь да высунется, не пустой же дом, слышат же люди, найдется хоть один из них нормальный человек. А ты ненормальный? Ты же слышишь? И ведь знаешь, что спать не будешь, если уйдешь; паршиво тебе будет, если уйдешь. В конце концов силенка у тебя тоже есть, ты же теннисист.
Он ощутил, как каждая мышца налилась, эластичной стала, упругой, и дрожь под желудком утихать стала, и через мгновение он и вовсе перестал думать о чем-либо. Побежал бесшумно, благо в кроссовках был, притормозил у угла и стремительно выскочил перед темными фигурами, как чертик из шкатулки. Женщина лежала на земле, возле нее стояли трое. Значит, их трое. Внезапно кураж пропал, и навалилась тоска, щемящая, расслабляющая, именно тоска, а не страх. И в последнем усилии, не надеясь уже ни на что, он яростно вскрикнул:
— Всем стоять! Не шевелиться! Я из милиции!
Почему из милиции, сам не понял, наверное, потому, что в таких случаях это слово само на ум приходит, оно как спасательная соломинка, как избавление, как щит. И верно, эти трое застыли, кто как был, один с рукой поднятой, другой с отведенной чуть назад ногой, третий просто так, по стойке «смирно» замер. Вадим не видел их лиц, они были скрыты темнотой, одно лишь окно в этом доме со двора горело. Но очертания темнота не размывала, не скрадывала. Фигуры он видел отчетливо. А хорошо бы сейчас еще и лица видеть, поверили или нет, или просто в шоке находятся секундном, мгновенном. Если в шоке, то закрепить успех надо. Они тоже, наверное, его очертания видят, за каждым движением следят. Данин потянулся рукой к внутреннему карману куртки, медленно, но уверенно, будто за пистолетом, и добавил уже тише, пытаясь придать голосу твердость, чтобы чеканней его слова прозвучали:
— Стойте спокойно. Попробуйте не навредить себе. Одно движение — и будет худо.
Сказал и подумал: а что дальше, сколько они так стоять будут — минуту, час, два? До каких пор? Крикнуть, позвать на помощь? Сразу поймут, что он не тот, за кого выдает себя, и что тогда? Бежать? И опять тоска прихватила где-то внутри. «Зачем, зачем, господи?» — болью стучало в висках. Оцепенение прошло, фигуры зашевелились, чуть заметно без резких движений. Но положение их изменилось, один руку приспустил, другой подтянул ногу. Этого и боялся Данин. Они приходят в себя, они начинают думать. Что же делать теперь? И лежащая на земле женщина тоже чуть сдвинулась с места, приподнялась, оперлась на руку, светлое платье ее четко угадывалось в темноте.
Тот, что в середине был, и вовсе опустил руки, прокашляв, сказал тихо, вкрадчиво:
— Послушайте, товарищ, что вам угодно? Вы так напугали нас, так внезапно выскочили, что мы сразу толком-то и объяснить ничего не могли. — А голос подрагивал, причудливо менялась его тональность: не справился, видать, его обладатель еще с волнением, со страхом первоначальным. — Повздорили вот с девушкой, поспорили, а сами знаете, женщины — они неуправляемые, истерички, и пришлось вот успокоить, а вы сразу — не шевелиться, стоять… Вы уж простите, пошумели малость и разойдемся, правда, ребята?
Двое молча кивнули согласно, переступили с ноги на ногу, разминая напрягшиеся мышцы. Они уже успокоились, решили, что все обойдется. «А может, и впрямь уйти?» — вяло подумал Данин. Он жалел уже, что ввязался, не от страха жалел, а от того, что действительно не в свое дело влез, и ребята вроде не плохие, нормальные ребята, и тот, что говорил, видно, грамотный, интеллигентный малый, судя по речи во всяком случае. Да, можно и уйти. Совесть его чиста, он доволен, он будет спать спокойно.
Глаза пообвыкли, и теперь он яснее различал фигуры. Тот, что голос подавал, был худой и стройный; который справа от него — нескладный, громоздкий, с приспущенным левым плечом, в кепке, маленькой, клеенчато поблескивающей; у третьего Вадим успел разглядеть большую продолговатую голову и кривые ноги. Лица все так же тонули в чернильной темноте.
— Ну хорошо, — сказал Данин, — хорошо. Только девушку поднимите. И расходитесь.
Он сделал шаг назад, потом еще один, повернулся неторопливо, зашагал вразвалку, спокойно, чтобы не было видно, что хочет он уйти поскорее, что быстрее за угол зайти стремится. Но тут внезапно больно по ушам хватило — взвился безнадежный крик:
— Не-е-е-т! Не уходите! Они убьют меня!
И не думал он ни о чем, не решал ничего, не размышлял, развернулся автоматически, как по команде, как на тренировке, сорвался, словно с высокого старта, опять руку под куртку сунул, хотел уже гаркнуть: «Стреляю!» — понадсадней гаркнуть, пострашнее, но не успел, метнулись парни в стороны. Один через палисадник, другой к забору, к железным воротцам, а третий, тот, что уговаривал его, вдоль дома, а там за угол можно — и на улицу. Умело удирали, будто не впервой. Вадим кинулся за тем, третьим. Посмотрим, кто кого, уж с тобой-то одним я справлюсь.
Но не успевал за ним Данин, тот бегал отменно и, как показалось Вадиму, даже профессионально, не простой это любитель бега был, или, может, так ему только показалось. Парень сделал ошибку, когда перед углом дома уже, у освещенного окна повернулся, чтобы посмотреть, далеко ли успел пробежать его преследователь, и Данин разглядел его лицо, цепко разглядел, четко, как сфотографировал. Так только в минуты высочайшей собранности и напряженности бывает, как сейчас. Симпатичный парень был, даже можно сказать — красивый, но это потом уже Вадим отметил, когда вспоминал его лицо. И волосы его светловатые отметил, и широко расставленные глаза, и густые брови, и впалые щеки, и тонкие губы энергичного рта, и то, что парень этот не совсем и парень, а мужчина лет тридцати-тридцати двух… А пока Вадим бежал, с каждым метром отставая, а через сотню метров уже на улице просто споткнулся о неведомо откуда взявшийся кирпич, видимо, с машины упавший или мальчишками принесенный, и рухнул на мостовую вперед лицом. Только руки вытянутые и спасли. Упав, перекатился на бок, прервал дыхание, замерев на секунду, вскочил, огляделся, а парня уже и след простыл. Данин сплюнул, махнул рукой, потом усмехнулся такой искренней своей досаде и повеселел от этой усмешки. Вот тебе и приклю-ченьице. А что, славно вышло. Хоть разнообразие какое-то. А то все работа, дом, диссертация, случайные женщины, скучные беседы с друзьями, опостылевшие рестораны…
Обратно вернулся тоже бегом, волновался: что там с женщиной? Она уже поднялась и, опираясь на дерево, отряхивала платье. Движения ее были скованны, будто каждое из них ей давалось с трудом и болью. Увидев Данина, она выпрямилась, убрала набежавшие на лоб волосы назад, обратила лицо к нему. Он в темноте разглядел ее улыбку и сразу понял, почувствовал, каким-то другим зрением усмотрел, что она очень даже хороша. По всему это заметно было, и как руку поднимает, как поворачивает голову, как платье отряхивает. Вот сейчас ей не очень здорово, а все равно, глядите, как держится. Такое не отрабатывается перед зеркалом, с этим рождаются, как с голубыми или карими глазами, как с родинкой на щеке. Поскорее хотелось на свет ее отвести, рассмотреть, что же у нее за лицо, хотя он уже знал заранее: чудесное лицо. Ну просто роман какой-то. Бандиты, пленная красавица, рыцарь-избавитель — тоже недурен, высок, строен, независим, умен. Черт побери, как все чудно складывается. Вадим был в прекрасном расположении духа.
— Самочувствие? Жалобы? — улыбаясь, спросил он.
— Отвратительное! — Женщина тоже постаралась вновь улыбнуться. — Хочу домой.
Она оттолкнулась от дерева, качнулась и чуть не упала. Вадим подхватил ее. Чудесное, жаркое, ароматное тело. Данин почувствовал, что лицо его запылало. Вот еще не хватало, сроду не краснел. Она вежливо отстранила его.
— Сумочка, — проговорила растерянно, — не унесли же они ее! — Женщина, поморщившись, неловко обернулась, остановила взгляд на единственном подъезде. — Или у Митрошки она осталась?
Вадим тоже пошарил глазами вокруг, но ничего не увидел.
— Ну да Бог с ней, — женщина махнула рукой. — Там, собственно, и не было ничего, да и старенькая уже, Бог с ней.
— Да, извините, — она опять повернулась к Данину. — Спасибо вам огромное. Я думала уже все. Просите, что хотите. Ну что вы хотите?
— Я уже все получил.
— Не поняла.
— Слова благодарности. Вот что нужно благородному мужчине от женщины.
Она слабо усмехнулась:
— Пошли.
Ступала она еще нетвердо, но усилием воли заставляла себя держаться прямо, чтобы не дай Бог кто не увидел, что она не такая, как всегда, что у нее что-то не так. Иные женщины, наоборот, стараются выглядеть измученней, утомленней, чтоб пожалели их, приласкали, доброе слово сказали, а эта, видно, не из тех, у этой всегда все хорошо на лице, что бы ни случилось, макияж и улыбка, даже если не совсем веселая, но все же улыбка. Тускло-желтый, как кошачий глаз, фонарь высветил ее лицо с одной стороны — свет упал удачно, славное было у нее лицо при таком свете: мягкое, большеглазое, яркое. На такие лица оборачиваешься, взглядом провожаешь, жалеешь, что не с тобой эта женщина, помнишь ее некоторое время, даже если мельком вполоборота увидишь, все равно помнишь. Но все же был недостаток у нее, был — нос маловат, короток и ниже переносицы словно продавленный немного. А может, наоборот, достоинство это — ведь так гармонично смотрится все ее лицо. «Выглядит она замечательно, — подумал Данин. — Но за тридцать уже, за тридцать. Ну что ж, мне тоже без года тридцать. Самый раз». Подумал так, но знал, что ничего не будет, не станет он сейчас куражиться, ухаживать за этой прелестницей чуть насмешливо — снисходительно и по-мужски ласково в то же время, как умел. Знал потому, что не чувствовал в себе этой потребности. Чего-то не было в спасенной красавице того, что любил в женщинах, чего-то не хватало. «Щепетильным ты стал в женском вопросе, — усмехнулся он про себя. — Избаловали…»
— Вы и впрямь из милиции? — спросила она с едва заметной насмешкой и откинула голову чуть вбок, чтобы удобней было на него смотреть.
— Нет, — сказал Данин. — Не из милиции. Это я так, для острастки, для большей убедительности. Как увидел, что их трое, так и обмер. Задребезжали коленки-то, вот и сказал.
— Откровенно вы, — она повела подбородком, то ли одобрительно, то ли удивленно. — Немногие мужчины решаются говорить о своих страхах.
— Это я так, чтобы вам понравиться, — сказал Вадим. — Женщины любят, когда мужчины смело признаются им в своих нед остатках. Отд ельных, скажем так, нед остатках. Женщинам такие мужчины кажутся свободными от условностей, делаются ближе. Верно?
— Верно, — рассмеялась женщина. — Вы знаток. Теоретик или практик?
— Все понемножку.
Так и есть — исчез завод. Пропало желание знакомился, просить телефон. Что сбило его, он никак не мог понять. Нестерпимо хотелось домой.
Женщина вдруг снова качнулась, как тогда, у дерева, прихватила лоб руками, остановилась, задышала часто.
— Что, что с вами?! — Вадим поддержал ее за локоть.
— Сейчас, сейчас, — ослаб голос, и слова она будто выдохнула. Руки сползли со лба, опустились, коснулись живота, вжались в него пальцами. Женщина согнулась и выпрямилась тотчас. Данин нахмурился. Они были почти у бульвара, людей прибавилось. На них стали обращать внимание. Они снова пошли, только уже медленней.
— Знакомые ваши? — спросил Данин, всматриваясь в свою спутницу.
— Где? — испуганно огляделась женщина.
— Ну те, которые удрали?
Она замешкалась на мгновение.
— Да нет.
— Ну как же «нет»? Я же слышал разговор.
— Какой разговор? Что вы слышали? — Лицо ее обострилось, будто высохло. Взгляд, недобрый, колкий, метнулся к нему и опять ушел в сторону.
Вот те на. Не хочет говорить о своих знакомцах. Занятно.
— Ну как же, разговор про мужа, еще про чего-то там.
Это Вадим уже под дурака решил сыграть. Интересно ему стало.
— Не знаю, вам показалось. Поняли: показалось вам! — Она говорила раздраженно, с нажимом. — Случайные хулиганы пристали…
— Да не похожи они на хулиганов, — с добродушным упорством настаивал Данин. — Я того белобрысого разглядел, симпатяга. Мне лицо его знакомым даже показалось.
— Врете вы все, — всхлипнула женщина, — врете, никого вы не видели.
Данину стало скучно. Он пожал плечами. Ну не видел, так не видел.
— Дело ваше, — сказал он. — Где вы живете?
— Не провожайте, — женщина сморщилась неприязненно.
— Я сама доеду.
— Вот вам и благодарность. В кои-то веки доброе дело сделал.
— Оставьте адрес, — прервала она его, — я вам подарок сделаю, дорогой.
Вадим присвистнул. Лихая дама. Адрес, конечно, он не оставит и провожать точно не поедет после таких слов, но на такси хотя бы ее надо посадить.
Он посмотрел на часы, скоро полночь, а народ на бульваре гуляет, как днем. А впрочем, неудивительно, последнее тепло лето отдает. Он вышел на дорогу, поднял руку. Женщина встала рядом. Она поняла, что он ловит машину для нее.
— Не обижайтесь, — примирительно сказала она. — Нервы. Я испугалась…
Зеленые огоньки убегали, даже не притормаживая. Ехали в парк, на отдых или еще куда за денежным пассажиром. Хотя чем Данин не денежный пассажир, с виду хотя бы? Джинсы, кроссовки, модная коротенькая лайковая куртка — подарок мамы — ну просто преуспевающий молодой мужчина. Остановился наконец. Данин взялся за ручку дверцы и почувствовал вдруг, как на него наваливается сзади что-то тяжелое. Вадим неестественно вывернул голову — пытаясь ухватиться за него негнущимися пальцами, женщина медленно оседала на землю. Он развернулся проворно, подхватил ее под руки, и голова ее тут же запрокинулась, закатились зрачки на глазах. По-мертвецки жутко глядели на Вадима белые узкие щели. Придерживая женщину одной рукой, другой открыл заднюю дверцу и кое-как втиснул ее, вялую, обессиленную и показавшуюся почему-то невероятно тяжелой, на сиденье. Шофер удивленно вытаращился на них.
— Пьяная, — брезгливо сказал он, сморщив узенький лоб. — Не повезу, нагадит еще.
— Повезешь, — не поворачивая головы, перебил водителя Данин. — В больницу повезешь, ближайшую…
Ехали минут пять, больница совсем неподалеку оказалась. С километр по бульвару, потом направо и еще направо, на скромную улочку с милыми сердцу домами довоенной еще постройки — эркеры, внушительные каменные карнизы, балконы. Бывал Вадим здесь, ходил по этой улице, а так ни разу внимания и не обратил, что здесь больница имеется. Ее, правда, трудно было приметить — все корпуса там, в глубине, а на улицу только фасад трехэтажного желтого, украшенного тремя тоненькими колоннами здания выходит. У входа неприметная стеклянная дощечка с неброской тусклой надписью «Городская больница № 5». Пройдешь и глазом не ухватишь, поленишься прочесть, подумаешь учреждение какое-то, много их тут. А таксисты, они все про больницы и поликлиники знают, про больницы и милицию, их первым делом этому обучают, как в парк только они приходят. Подкатил прямо ко входу, притормозил мягко, повернулся, сказал совсем тихо, будто звук его голоса мог повредить больной:
— Здесь приемный покой, вы пойдите позовите кого, а я посижу, — и кивнул Вадиму по-дружески, будто не первый год его знает. Всего пять минут ехали, а уже вроде как знакомые — сближает беда, даже такая, не совсем уж, наверное, и великая.
Данин взлетел по ступенькам, толкнулдверь. Пухлая добродушная женщина с красным носом-пуговкой и румяными щечками выслушала его внимательно, набрала номер на телефоне, позвала санитаров с носилками, и когда те пришли — молодые, крепкие, практиканты, видимо, студенты, — сама встала из-за стола, хотя и тяжко ей было (Вадим видел, как поморщилась она, ступив на отекшие, больные ноги), и держала дверь до тех пор, пока не внесли санитары носилки.
Вадим расплатился с таксистом, тот даже руку протянул на прощание, удачи пожелал, утешил мимолетно, мол, всякое бывает, обойдется, и, опять съежив узкий свой лоб, который так портил открытое пухловатое его лицо, включил скорость.
Возле женщины остался только один санитар, угловатый, длиннорукий, с костлявым наивным лицом. Он старался держаться уверенно, профессионально, как учили, и от этого еще больше чувствовалась в нем растерянность, и лицо его приобрело совсем уж детское выражение. Когда Вадим вернулся, он мерил женщине давление.
— Откуда у нее синяки на шее и руках? — спросил санитар, снимая стетоскоп. — Свежие синяки.
Вадим пожал плечами.
— Я подобрал ее на улице, — сказал он. — Хулиганы пристали.
— Били? — сурово спросил санитар. Он хотел казаться взрослым, этот мальчик.
— Видимо, били, я появился уже после. Что с ней?
— Потеря крови. Тяжелое состояние.
— Потеря крови? — Вадим изумился. На теле он не видел ни единой раны.
— Схожу за врачом, — выпрямляясь, сказал санитар. — Только вы не исчезайте.
И опять в который раз за сегодняшний вечер пожалел Данин, что встрял в это совсем теперь уже непонятное дело. Лежал бы сейчас себе дома, смотрел телевизор или болтал с кем-нибудь по телефону. Спокойно, привычно, знакомо. А теперь вот больница, пугающие, нелюбимые с детства запахи, угнетающая тишина, неестественная неуютная чистота и ощущение поселившегося здесь навеки горя, беды.
Вадим подошел к носилкам, склонился над женщиной. И словно почувствовала она взгляд, дрогнули веки, разлепились с трудом. Удивление в глазах, страх, страдание…
— Что со мной?
— Это у вас надо спросить, — без всякого сочувствия ответил Данин. Потом спохватился, нельзя так резко, она не виновата, что он не дома.
— Вы потеряли сознание, и я привез вас в больницу, — добавил он мягче.
— В больницу? Зачем в больницу?
Испуг был самый искренний, неподдельный, будто не в клинику она попала, а в морг, на кладбище или живьем в могилу. Она была решительной женщиной — превозмогая себя, приподнялась, оперлась на локти, хотела спустить ноги с каталки; Вадим уже протянул руки, чтобы поддержать, но она рухнула со стопом навзничь и замерла, опять закатив глаза. Вскинулась из-за стола дежурная, хотела проковылять уже к ним, но Данин махнул рукой, и она опять села. Женщина вновь открыла глаза, посмотрела на него в упор — жалобно, просяще, — выдохнула сквозь пересохшие, дрожащие губы:
— Только не говорите никому ничего. Просто хулиганы пристали, ударили. Или нет, не так… — Она тяжело и звучно глотнула. — Умоляю, забудьте, что вы слышали наш разговор. Умоляю, прошу, отработаю потом, отблагодарю, отплачу. Вы их плохо видели, не разглядели, услышали мой крик, подошли, они бежать, и все. Слышите, и все! Ради всего святого! Ради жизни моей!..
Откинулась голова, расслабились мышцы на лице, и пустым оно стало, неживым, как маска, хотя глаза были открыты и глядели куда-то в пространство, невидяще и стеклянно.
Сколько мольбы вложила она в свою просьбу, сколько беспомощности и безнадежности было в ее голосе, Данину даже не по себе стало, он повел плечами, словно дрожь его била, потер лицо ладонями. И когда обрел прежнее более или менее нормальное свое состояние, в услужливо распахнутые санитаром двери вошел врач.
Он, видимо, ел, когда его потревожили, скорее нет, пил чай, обжигающий, прямо с огня, потому что горело полное, рыхлое его лицо, пылало жаром, а вокруг яркого, мягкого, не мужского рта было рассыпано множество беловатых крошек, видно, от пирожного.
Он был явно недоволен. Не один, наверное, пил чай, а в обществе хорошенькой сестрички. Вадим невольно улыбнулся.
— Чему вы улыбаетесь? — неприязненно спросил доктор, подойдя к нему. Вадим опять не сдержал улыбки и пожал плечами — в который раз за сегодняшний вечер. Вечер пожимания плечами.
— Вид ваш понравился, деловой, сосредоточенный, чуть притомленный, но стремительный, — сказал Вадим. — Так во время войны хирурги, наверно, выходили к раненому, к тридцатому за день.
Врач был, видимо, неглуп и необидчив. Он вздохнул, прикрыв глаза; снял шапочку, обнажив рыжие, жесткие, как медные проволочки, волосы. И лицо его помягчело, неприязнь сошла, ни следа от нее не осталось, он протер шапочкой лицо.
— Вадим заметил, как неодобрительно покачала головой дежурная, — шагнул к женщине, спросив предварительно:
— Кто вы ей?
— Никто. Прохожий. Ее били, я вступился. А потом ей стало плохо.
— Кто бил?
— Вот уж этого не знаю. Какие-то парни. Не видно в темноте.
— Хорошо, — врач держал женщину за руку и считал пульс.
— Как зовут ее, не знаете?
Вадим пожал плечами и чертыхнулся про себя, это уже походит на тик. «Домой, домой, отдыхать, спать, а завтра вспомнить, посмеяться, рассказать друзьям, а к вечеру забыть».
Доктор жестом приказал санитару отвезти каталку, а сам повернулся к Данину.
— Попрошу вас никуда не уходить. В таких случаях мы обязаны сообщить в милицию, что я сейчас и сделаю, и вы непременно понадобитесь. Так что обождите, хорошо? Отделение тут рядом. Они приедут скоро.
Данин кивнул обреченно, а что делать, не бежать же, хотя кто-нибудь другой на его месте именно так и поступил бы. Доктор ушел, а он присел на жесткую банкетку под плакатом о вреде переедания и уставился бездумно на голую стену напротив. Ругать и корить себя уже не хотелось, надоело. Чего уж там, раньше думать надо было, сейчас поздно, сейчас надо набраться терпения и ждать. А, собственно говоря, ничего страшного не произошло, ну потерял каких-то несколько часов, все равно ничего путевого в это время не сделал бы, а так хоть будет о чем вспомнить. Ладно, хорошо. Что же завтра ему предстоит? Прежде всего отоспаться, на работу придет часам к десяти, составит справку о сегодняшнем посещении архива, часов в пять заберет Дашку из детсада, погуляет с ней, недолго погуляет, потому что не хочет видеть потом, когда приведет ее, поджатые губы своей бывшей жены. Бывшая жена. Сочетание-то какое-то идиотское. Жена она или есть, или ее нет, это не звание, это не должность, это состояние души, это родственная связь. Почему, интересно, не говорят бывший брат или будущий брат?..
Задребезжала стеклами распахнутая дверь, отвалилась до отказа, пропуская молодого коренастого белобрысого парня в кожаном пиджаке, в полосатой сорочке и в полосатом галстуке. Он наклонился быстро к дежурной, та махнула в сторону Данина. Парень уперся в него взглядом, прищурился, будто сразу понял, кто таков этот субчик в лайковой куртке и белой расстегнутой почти до пояса рубахе. Хваткий парень, не сомневающийся парень, из молодых.
— Добрый вечер, — сухо сказал он, тяжело глядя Вадиму в глаза.
Данин этот взгляд выдержал, поднялся, вежливо улыбнувшись, сказал:
— Куда уж добрее. Добрее просто не бывает.
— Что так? — важно спросил парень. Все-таки осознание своей значимости ему не шло. Он извлек из кармана удостоверение. — Оперуполномоченный пятого отделения Петухов. Ваши документы, если имеются.
— Имеются, — сказал Вадим.
— Так… Институт научной информации по общественным наукам… так… младший научный сотрудник… Хорошо. Значит, так. Расскажите все подробно, до деталей, ничего не упускайте и не спешите, я буду записывать.
Данин рассказал все быстро. Даже с подробностями рассказ у него получился короткий — шел, услышал, побежал, а они в разные стороны… потом она упала, и я ее привез.
— Она не называла себя?
— Нет.
— Вы их не запомнили?
— Нет.
— Совсем-совсем?
— Совсем-совсем. Темно было.
— Ну хоть роста какого?
— Один пониже, другой повыше, третий тоже пониже…
— Издеваетесь?!
— Да бог с вами, и не думаю. Я же говорю, темно было, хоть глаз выколи.
— И вы не испугались, влезли в самый разгар?
— Да нет, почему? Испугался. Да неудобно как-то было пройти мимо.
— Перед кем неудобно?
— Да перед самим собой. Нормальному человеку всегда более всего перед собой неудобно, чем перед кем-либо.
— Ученые все, философствуют… А вот мне не верится, что вы на темной улице, услышав крики и шум борьбы, кинулись туда.
— Не понял.
— Вид у вас уж больно благополучный. Такие, как вы, обычно стороной проходят.
— Ну знаете! — Вадим привстал.
— Извините, я пошутил, — с сухой любезностью произнес Петухов. — Не уезжайте пока из города никуда, если это можно, вас скоро вызовут, — он помедлил, — в прокуратуру…
И, довольный эффектом, поднялся и, не кивнул даже, шагнул к дверям, ведущим в больницу. Но в тот момент они распахнулись, и снова появился доктор. Сейчас он действительно выглядел сосредоточенным, деловым, утомленным. Он пожал руку Петухову, повернулся к Вадиму:
— Еще минуту, хорошо?!
Потом отошел с оперуполномоченным подальше, чтобы Вадим не мог их слышать, и о чем-то горячо заговорил. Петухов качал головой и поглядывал на Вадима. Наконец доктор и Петухов закончили разговор и подошли к нему.
— Положение серьезное, — сказал доктор, — много повреждений и внешних и внутренних. Как она шла еще — удивительно, видимо, в шоке.
— И улыбалась, — вставил Вадим. — И шутила.
— И улыбалась, и шутила, — согласился доктор. — Это шок.
Петухов пристально разглядывал Данина. Вадим, в свою очередь, повернулся и стал точно так же смотреть на оперуполномоченного. Тот нисколько не смутился, просто отвел глаза. Доктор устало усмехнулся.
— Вот еще что, — добавил он. — Мы узнали ее фамилию и домашний телефон. Сейчас приедет муж. Он убедительно просил вас подождать.
— Да вы озверели! — рявкнул Вадим. — Сколько можно!
— Спокойней, товарищ, — чуть повысив голос, остановил его Петухов. — Спокойней.
Доктор сочувственно взглянул на Вадима.
— Муж ее на машине, — он улыбнулся — Так что до дома вас довезет.
Вадим вдруг улыбнулся доктору в ответ, и расхотелось ему ругаться, отнекиваться, твердить, что никто не имеет права его удерживать. Да его и не удерживали-то, собственно, его просили, а он сам волен был решать, уходить или оставаться. И, конечно же, он останется, подождет мужа. Если надо. Когда Вадима именно просили, а не требовали, и просили вежливо и доверительно, он почему-то обезволивался сразу и, взбрыкнув для виду, малодушно соглашался, даже если просьба нарушала его планы и желания и противоречила вообще всей логике последующих действий. Черт бы побрал его дурацкий характер! А ведь так неудержимо хотелось домой!
— Зачем я ему? — Вадим со вздохом уселся на скамью. — Премию вручить хочет, компенсацию за страх, награду за мужество? Или взглянуть, с кем это его женушка по ночам шляется?
Доктор нахмурился.
— Не кощунствуйте, — неодобрительно произнес он. — Она действительно попала в беду. Увечья серьезные.
— Это от двух-то ударов? — не удержался Вадим.
— Каких двух ударов? — сощурившись, встрял Петухов. — Вы же говорите, что ничего не видели.
— Это она так мне сказала, что ее ударили два раза, — любезно ответил Данин.
— Ладно, — доктор тронул Петухова за плечо, — пойдемте — и, кивнув Вадиму, добавил: — Вы ждите.
— Такова моя участь на сегодня. За добрые дела приходится расплачиваться, — горестно сказал Вадим.
…И снова вздрагивает дверь, но теперь уже не отлетает яростно, а приоткрывается лишь наполовину. Сначала показалось лицо, а потом узкие плечи, короткий торс в мешковатом пиджаке, затем острые колени. Вадим приметил широкий утиный нос, морщинистые дрябловатые щеки, жидковатые волосы, зачесанные от висков кверху. Прикрывает лысину? Похоже. Неужели это ее муж? Быть не может. Ему же за пятьдесят…
Вошедший огляделся опасливо, ответил на вопросительный взгляд дежурной:
— Недавно сюда Можейкину Люду доставили… Меня ждать должны.
Дежурная махнула в сторону Вадима и уткнулась в книгу. Интересно, что это за книга, которая так увлекла ее? Про любовь? Про счастливую семью?
Походка у него была осторожная, вкрадчивая, но не без достоинства, хотя и горбился слегка, а голову нес прямо. Или это манера держаться на все случаи жизни — чуть согнувшись в почтении, но голову вскинуть — мало ли кто перед тобой: если значительный человек — головку опустим, если не очень — спинку выпрямим. Вадим одернул себя: еще не знаешь человека, а уже ярлык привесил, нехороший ярлык, без знака качества. Ревнуешь? Не хочешь, чтобы такая красавица была нежна и ласкова с таким сереньким, гладеньким — никаким?.. «Опять! — Вадим вновь остановил себя. — Как же я хочу домой!..» Он поднялся навстречу, улыбнулся печально, сочувственно.
— Это вас я должен благодарить? — Можейкин оценивающе разглядывал Вадима. Он старался это делать незаметно, но не получалось, слишком любопытствующими были его прозрачные светло-серые глаза. — Спасибо вам огромное, от всей души спасибо. Вы герой. Таких истинных рыцарей редко сейчас встретишь. Люди приучились думать только о себе.
— Ну что вы, — Данин был сама скромность. — На моем месте так поступил бы каждый.
— Нет, нет, нет! — негодуя, замахал руками Можейкин. — Это свойственно лишь незаурядным личностям, уверяю вас. Вы и сами не догадываетесь, какой вы человек.
«Наблюдательный я человек», — подумал Вадим, видя, как распрямляется спина у Можейкина, как принимает лицо его снисходительно-покровительственное выражение.
— Давайте присядем, — предложил Можейкин и сел первый, уверенно и небрежно. И показалось Вадиму, что не такой уж он серенький и гладенький и что в нем есть сильное, скрытое, чего не ухватишь сразу, не рассмотришь с налета. Но симпатии от этого к нему у Вадима не прибавилось, он все еще помнил свою догадку о сгорбленной спине и вскинутой голове.
— Расскажите, как все было?
А мужу, интересно, может все рассказать? Об этом она не говорила. А впрочем, наверное, не надо, раз уж начал врать, надо продолжать дальше в том же духе, потом разберемся.
Он сообщил то же самое, что и оперуполномоченному, разве что приукрасил немного. Оказалось, что он просто храбрец, ни секунды не сомневающийся в себе и своих силах.
— Так, — задумчиво протянул Можейкин. — Вы и впрямь прекрасный молодой человек. Всю жизнь жалел, что нет у меня сына. Жена, знаете ли, дочь родила, а сына не успела, умерла…
Я, знаете ли, вдовец. Люда у меня вторая жена. Я как увидел ее три года назад, так и обмер сразу, понял, что влюбился, старый болван, на старости лет такое открытое, яркое чувство. Как она сейчас? Пришла в сознание?
Вадим пожал плечами:
— Можно узнать у дежурной, она позвонит в отделение.
— Да-да. — Можейкин поднялся, подошел к столику. Румяная женщина с усилием оторвалась от книги, вздохнула, набрала номер, спросила что-то тихо и так же тихо ответила Можейкину.
— Потеряла сознание, — грустно сообщил Можейкин. — Бедная, бедная. Так вы говорите, никого не разглядели?
— Никого.
— Ну вспомните, может быть, какая-то деталь всплывет.
Вадим покрутил головой.
— Как же теперь их найти, подлецов? Трудная задача. Молодые, говорите, были?
— По-моему, молодые…
— Трое?
— Трое.
— Ах, подлецы, подлецы…
— Точнее и не скажешь — подлецы.
Они посидели молча. Вадим молчал, потому что ему, собственно, не о чем было говорить с Можейкиным. Хотя, конечно, по привычке он мог бы сейчас с ним поболтать, порасспросить его, где работает, в каких условиях живет, не нервирует ли молодая жена, сколько лет дочери и так далее. Ни к чему не обязывающие вопросы, ни к чему не обязывающие ответы. Так, обычный треп малознакомых людей. Но побыстрее хотелось уехать домой. Только как подвести Можейкина к мысли, чтобы тот отвез его. Или не стоит? Поехать на такси? Их еще полно в городе. Да и не хотелось ему теперь отчего-то ехать с Можейкиным в одной машине — как гвоздь вколотилось в мозг: «Головку опустим, спинку выпрямим».
Вадим похлопал себя по коленям, поднялся неторопливо, расчетливо неторопливо, сказал с полуулыбкой:
— Ну пойду я…
— Ах, да, да, — встрепенулся Можейкин, словно Вадим неожиданно вывел его из задумчивости, вырвал из цепких скорбных мыслей о молодой жене. И задумчивость эта показалась Данину наигранной. Что-то многое ему сегодня кажется.
— Вот еще что, — Можейкин тоже встал, взял Вадима под локоть и, не глядя в глаза (взгляд его упирался ровнехонько в самое плечо Данину), спросил чуть медленней, чем следовало:
— Если не секрет… э… э… где работаете, кем? О, Бога ради, не хотите — можете не отвечать. Я понимаю, вы человек скромный, но писем писать не буду благодарственных, не буду, все понимаю, все понимаю. Ах, да, — он театрально хлопнул себя по лбу, — я-то сам не представился, Можейкин Борис Александрович, доцент экономического факультета нашего университета…
— Данин Вадим Андреевич, сотрудник Института научной информации по общественным наукам, — Вадим нехотя пожал протянутую руку.
— Знаю, знаю, — обрадовался Можейкин. — Директора знаю — Баринова Сергея Митрофановича, замечательнейший мужик и одаренный ученый, когда-то в годы далекой юности учились вместе в Ленинграде. И еще, еще… — Он нетерпеливо потер лоб костяшкой большого пальца. — Сорокина, да Сорокина Леонида Владимировича. Ну как? Ценят вас там, не зажимают, а? А то поговорю по старой памяти-то…
— Ценят, — ответил Данин. — Не зажимают.
— Ну и чудесно. И вот что… — Можейкин слегка замялся, и взгляд, уже переместившийся на лицо Данина, опять скользнул на его плечо. — Вы не рассказывайте никому об этом… случае. Знаете ли, мир тесен… Пойдут сплетни, жену Можей-кина избили… Кстати, ее наверное, сильно били?
— Видимо, так и есть, иначе она бы не потеряла сознание… Мужественная женщина.
— Изумительная, чудная женщина. Ну так вы согласны со мной? Не стоит распространяться об этом, правда? И знаете что, если вдруг чего там вспомните, детали какие, внешность бандитов, вы скажите мне сначала, прежде чем в милицию идти, хорошо? — Теперь Можейкин уже не просил, он требовал, хотя, казалось бы, ни в интонации, ни в лице ничего не изменилось, только вот в серых глазах на мгновение холод появился, жестокость едва уловимая промелькнула. — А Сергею Митрофановичу привет, как встретите.
Он с чувством и самой наимилейшей улыбкой пожал Вадиму руку и тут же сел на скамью и отрешился, словно ушел в свои мысли, — и серенький, не серенький, и гладенький, не гладенький, и сильный, не сильный, не поймешь какой человек. «И даже словом не обмолвился о том, чтобы до дома довезти», — вяло и безучастно подумал Вадим.
Он прошел мимо дежурной, которая что-то жевала, не отрываясь от книги, и шагнул за порог больницы.
А утром и впрямь все вчерашнее выдуманным, призрачным показалось, будто и не с ним все это произошло, будто в кино все увидел, не очень талантливом кино, сработанном сценаристом-поденщиком и режиссером-халтурщиком. И ни радости он не ощутил от ночного своего геройства, и ни того удовлетворения, которое на день, на два, на несколько дней приводит тебя в хорошее расположение духа, поднимает настроение, позволяет настоящим мужиком себя почувствовать, хладнокровным, уверенным, умным. И поэтому пробуждение его было вялым, неторопливым. Вчерашний день не принес ничего доброго, и сегодняшний тоже вряд ли принесет, все будет как обычно, знакомо, без неожиданностей.
Он пролежал минут десять, потом вскочил, отдернул шторы. Утро обещало теплый, может быть, даже жаркий день — дерется еще лето за свои права, как никогда сильно оно в этом году. Не стал Вадим стоять у окна, как обычно, не захотелось любоваться чудесным городским видом, который из него открывался (когда получил эту квартиру, радовался, как ребенок, что почти в самый центр попал, что каждый день теперь любоваться может тем самым настоящим городом, добрым, старым, разностильным, разнородным, веками строящимся, родным, милым его сердцу), прошлепал на кухню, выглотал большую чашку воды, будто с похмелья, вернулся в комнату и принялся за гимнастику. Энергично и остервенело даже ломал он свое тело, и с удовольствием принимало оно эту ломку, потому что молодело до упругости и сил в нем прибавлялось.
Уже под душем невольно вернулся ко вчерашнему дню, пожалел, что не спросил у доктора, отчего Можейкина потеряла много крови, раны-то он не приметил. Или носом кровь шла? Или горлом? А потом стерла женщина ее следы. Может, так. А может, ее изнасиловали? Ого, это посерьезней. Но те трое вроде как ее знакомые были, а не случайные подвыпившие мерзавцы. Да скорее всего, конечно, из носа или горла кровь шла, от ударов, вон ведь сколько синяков на теле. Ладно, вызовут в прокуратуру, как пообещал оперуполномоченный Петухов, там узнаем.
Улицу свою, тихую, зеленую, немноголюдную, прошел быстро, удивившись в который раз, что вот нет на ней ни предприятий, ни учреждений, здесь просто живут люди, отдыхают, хозяйничают, автомобильный шум сюда особо не долетает, а все равно четко угадываешь, какой сегодня день — будний или воскресный, даже если все дни перепутаются у тебя в голове, заболеешь, например, затемпературишь, а придешь в себя, выглянешь на улицу и точно скажешь, воскресный сегодня или какой другой день. Отчего так — непонятно? Надо будет подумать, тысячный раз промелькнуло в голове.
Соскочив на нужной остановке с троллейбуса, подался чуть назад к модерновому, стекло-металло-бетонному зданию с длинным, заостренным на конце козырьком над входом. Вахтер даже головы не поднял, даже на приветствие не ответил, так увлекся газетой — самая читающая страна в мире! Вчера дежурная в больнице, сегодня вахтер, в троллейбусе пассажиры через одного газету или книгу держат. Любопытно, а читают ли они дома?
Отвечая на приветствия, Данин прошел длинным, светлым от ламп дневного освещения коридором, открыл дверь в свою комнату. Слава Богу, на месте только одна Марина, как всегда, серьезная и тусклая с утра. Она опять постриглась, она каждую неделю стрижется коротко-коротко, как мальчишка. Ей идет, хотя Данин ни разу не видел ее с длинными волосами. Может быть, с ними лучше. У Марины иногда бывают нестерпимо красивые глаза, особенно если она их умело и не торопясь накрасит, или когда у нее что-то радостное случается в жизни, тогда и без туши и краски глаза блестят и светятся. Белое, нежное лицо ее портит нос, длинный и с горбинкой, а неплохую фигурку — слишком широкие бедра.
Данин и Марина — друзья. На работе. В этой комнате. А еще в коридоре и столовой. А как захлопываются за ними двери института, то вроде как просто знакомые. Так бывает — служебная дружба.
— Ой, Вадик, — Марина даже не поздоровалась, так не терпелось ей сообщить что-то важное и не очень приятное. — Тебя Сорокин с утра требует. Как придет, говорит, пусть ко мне мигом, и вообще, говорит, что это такое, когда хотят, тогда и приходят, будем ставить вопрос. Не в себе он сегодня с утра.
Из кабинета своего Сорокин выходил редко, и если все-таки выходил, то ненадолго, наведывался наскоро в комнаты к сотрудникам и спешил обратно к себе, в свое логово. Да и заглядывал-то он к подчиненным для проформы лишь — надо. Не приказами положено, не инструкциями, а традицией, жизнью, нынешним стилем руководства. Кого жаловал и симпатию питал, у того про успехи выспрашивал, про трудности, про личную жизнь, острил совсем не остроумно, но это тоже положено — вроде свой. Кого недолюбливал, на того смотрел каменно, полуприкрыв глаза свои тяжелыми веками. Указывал, отчитывал, каждый раз повторяя почти слово в слово: «Я к вам не предвзято отношусь, без пристрастия, а просто жалую тех, кто работает, отдает себя науке без остатка, кто инициативен и исполнителен. Талант талантом, а наши изыскания требуют труда, кропотливого и скрупулезного. Станете такими, будем друзьями». Слова-то уместные подбирал, но какая-то фальшь в них таилась, неуловимая, едва заметная.
К серьезным, хмурым и мрачным людям у него душа лежала, к тем, кто, не разгибаясь, за своим столом день проводит, плохо ли, хорошо ли работает, но старается или вид делает, что старается. Как-то на одном из собраний Сорокин заметил: «Я вот не раз уже видел бродящего по коридорам Данина. Идет, улыбается, фразочками легкомысленными на ходу со встречными перебрасывается. Ему что, делать нечего? Вон какая тема обширная у его группы. А он улыбается. О чем это говорит? О безответственности, о незагруженности. У работящего человека нет времени для улыбочек и шуточек».
Вадим ухмыльнулся, чтобы обиду не выказать, и обронил с места: «А с работой, значит, не справляюсь?» Сорокин прокашлялся, ответил тихо, с усилием, с неохотой слова выцеживая: «Справляетесь, но могли бы лучше, если бы вели себя поскромнее». Данин развел руками, оглянулся, коллег на помощь призывая: подтвердите, мол, что обыкновенно себя веду, как все, куда уж скромнее. Может, не похож просто на всех, да и только. Но немую просьбу его коллеги за обычное ёрничанье приняли и, конечно же, промолчали. Ну а уж когда Сорокин прознал, что Вадим собирается книжку издавать, тут желчи не было предела. Вызвал он его как-то к себе, когда Вадим исполнение одной справки затянул, и отчеканил, с трудом удерживая голос, видно было даже, как щеки его обвислые подрагивают: «Мне писатели не нужны, мне нужны работники исполнительные и дисциплинированные. А вы, гляжу, хорошо устроились, времени свободного у вас просто невпроворот, если умудряетесь еще и книжечки пописывать. Надо же, — он крутнул большой, лобастой головой. — Все в писатели рвутся, все Толстыми себя мнят», — и что-то затаенное услышал Вадим за этими словами, и голос даже изменился у Сорокина, больше на стон стал похож, но потом все прошло в мгновение, и добавил он жестко: «Я теперь лично за вами приглядывать буду. Увижу, что пустяками в рабочее время занимаетесь, — расстанемся».
…Вадим вошел в кабинет, и, едва только Сорокин рот открыл, он уже и вспомнил все. Точно. Тот тип из музея Кремля, из тех, кто жалуется. Полудурок пыльный. А Сорокину только дай повод нервишки ближнему потрепать. Было, не было — неважно. Раз жалуются — значит было. Тем более на него, на Данина, жалуются — значит, сто тысяч раз было… SOS! Помогите! Я ж ничего плохого никому не делаю в институте и уж тем более самому Сорокину. Никого не подсиживаю, ни на кого не капаю, в начальники не рвусь, работу выполняю от и до. За что?! «Заместитель коменданта Кремля, сам лично, человек уже немолодой, пришел сюда, чтобы высказать неудовлетворение вашим вчерашним поведением…» — кипел Сорокин.
Так вот, значит, в чем дело. Надо же как обернулось-то все до тошноты примитивно-подленько. А ведь должен был ты предвидеть такую перспективу. Мелкого наполеончика этого просить надо было, умолять униженно, они же любят, когда пресмыкаются перед ними, угодничают. А ты в лоб — давай, мол, и все. Но ведь по справедливости требовал, и не чужое ведь, свое. Но, оказывается, свое тоже надо уметь просить. Так что учись, учись спинку-то выгибать, бери пример со всем угодного и во всех отношениях приятного нового знакомца твоего Можейкина.
Ведь не раз бывало, не успеешь порог переступить, двух слов человеку сказать, а он уже смотрит на тебя колюче, с неодобрением, а иной раз с эдаким подозрительным прищуром. Как это называется? Антипатия — мгновенная неприязнь. Что же в тебе их не устраивает? Одежда твоя, глаза твои, манера держаться, вмиг разгаданное пренебрежение. Ведь есть же среди его знакомых люди, которым он изумляется искренне, — их любят все! Куда бы ни приходили они, что бы ни просили у самого злейшего-презлейшего, у самого черствейшего-пречерствейшего — и все им разрешают, все дают, да еще с добрым словом. Может, улыбаются они по-особому. Да нет, черта с два. И не улыбаются, и всегда говорят одно и то же. Но вот что заметил Вадим: они жалкими какими-то делаются, не просящими, не угодничающими, а именно жалкими, слегка убогими, жизнью покореженными. Наверное, в этом дело? Люди любят сострадать, сочувствовать, сопереживать. Преуспевающий радуется, что он не такой и может помочь, непреуспевающий видит своего собрата. Наверное, так. Хотя Вадим попробовал так однажды — прихватил сердце, зажал эмоции, унял сразу возникшую брезгливость к себе и попробовал. Не получилось, то есть вообще не получилось! Раскусили его, разгадали, с еще большей уже неприязнью отнеслись. Несвойственно ему это, значит. А посему плевать на всех, терять мне особо нечего. Принимайте какой есть. Без прикрас Так что не пример ему Можейкин.
История-то с Кремлем была незамысловатая. Года полтора назад приятель Данина, журналист из городской газеты, Женя Беженцев — лентяй и нытик по натуре, но отменно пишущий, когда очень этого захочет, тучный, развалистый, большеголовый, усмешливый — предложил Данину написать серию очерков о городе, об истории, об интересных памятных местах, о чем-нибудь необычном, интригующем, о чем еще никто не писал. Ухватился Вадим за идею, горячо ухватился, одержимо, махнул рукой на работу, хотя за это потом получил сполна, и за три месяца написал шесть очерков. Редактор был в восторге, придумал рубрику «Городские этюды» и стал публиковать материалы два раза в месяц, по воскресеньям. Через полтора года Беженцев вновь подкинул Вадиму идею, отдать материалы в издательство, может получится книжка. В издательстве Данина поддержали и включили книжку в план. И вот недавно Данину позвонили оттуда и попросили написать еще один материал о Кремле, чисто описательный, с красивостями, с пафосом, на открытие. Но в Кремль просто так не пускают работать, нужна соответствующая бумага с просьбой от организаций. Такая бумага у Вадима была, выданная ему еще в прошлом году институтом.
Встретил его заместитель коменданта, сухой, узкоплечий, в мешковатом, допотопном костюме. Посмотрел на него без выражения, хотя смотрел долго, но будто не видел его, довольного жизнью, небрежного, благоухающего импортным одеколоном, посмотрел-посмотрел, и все. То есть он мог бы дальше и не говорить ничего, все ясно было, что он скажет. И что письмо недействительно уже, мол, срок прошел, и что молоды больно, чтоб мне указывать, и что я, мол, на руководящей работе собаку съел, и что ежели всякого пускать, то черт знает что получится. Короче — клишированный такой наборчик. Карикатура. Может, для кого, конечно, и не карикатура, может, для кого, конечно, это уважаемый человек и превосходный работник, для Сорокина, например (по его меркам), ну а для Вадима — точно карикатура. Ну он его прямо так и спросил: вы, мол, не тот, про которых сейчас в газетах пишут, не бюрократ ли? Ох, ох, ох, что тут началось! Одним словом, когда Вадим захлопнул за собой дверь, косяк дрожал свирепо еще несколько мгновений.
А сам комендант оказался энергичным, коренастым, крепким мужиком лет пятидесяти, со смешинкой в узких восточных глазах. Держался он уверенно, подтянуто. Вадим сунул ему бумагу, тот поглядел на нее полминуты, потом наклонился к селектору и сказал секретарше: «Выпишите товарищу Данину разрешение. — И повернувшись к Вадиму, добавил: — Хотя не положено в общем-то, но ерунда».
… — Для своих личных целей вы используете бумаги института, — заключил Сорокин, понижая голос. Возбуждение его пошло на убыль, но верхняя пухлая, синеватая губа то и дело вздрагивала едва заметно. — Завтра принесите мне объяснительную.
— Что я должен объяснить? — безучастно осведомился Вадим.
— Все. И зачем ходили в Кремль с институтской бумагой, и как себя там вели. Бездушие и хамство должны быть наказаны. Мы разберем ваше поведение на профкоме. Идите.
Вот так, все просто. И не докажешь ничего, не переубедишь. Ему верю, вам нет, он старше и заслуженней, а все остальное демагогия. Интересно почитать его диссертацию. Какой он там?
Марина потянулась ему навстречу, даже со стула привстала, собрала аккуратно и осторожно напомаженные губы в кружочек, вопрошающе поглядела на него, и была в глазах ее, зеленых, длинных, глубоких, такая искренняя, серьезная забота, что Вадим не удержался, подошел к женщине и легко поцеловал ее в этот ароматный кружочек губ, провел ладонью по коротким волосам, потом присел на краешек стола, улыбнулся ласково и облегченно как-то, потому что почувствовал, что совсем улетучился, исчез щемяще неприятный осадок от разговора с Сорокиным, и разговор этот теперь представлялся ему смешным и нелепым, и спросил беззаботно:
— Почему же он так не любит меня? А?
— Ну что там, как там? — нетерпеливо дернула его за рукав Марина.
Данин рассказал. Даже не рассказал, а представил в лицах, без досады, без раздражения, а просто так, словно о чем-то очень забавном поведал.
— А может быть, тебе кажется? — предположила Марина. — Он ведь не только к тебе так, вон Лешку Корина тоже спокойно пропустить не может, все ему выговаривает. А может, у него характер женский, переменчивый, занудливый, сегодня так, завтра эдак? А может, он к вам с Лешкой неосознанно с неприятием относится? Вы такие красивые, молодые, женщины вас любят, все дается легко. Знаешь ведь, как бывает, одни любят в людях те черты, которыми сами не обладают, но хотели бы, другие эти черты ненавидят. Наверное, так?
Вадим неопределенно покачал головой, поболтал ногой возле Марининого стула и поймал вдруг себя на мысли, что опять хочет ее поцеловать, хмыкнул и сказал беззаботно:
— Может, так, а может, нет. Надо подумать. Ты докторскую его читала?
— Конечно, а ты нет? Прочти. Отменная работа. Просто на удивление. Я, когда читала, абстрагировалась от Сорокина, от личности его. И автор увиделся мне таким обаятельным, симпатягой, остроумным, широко мыслящим, размашистым…
— Парадокс, — заметил Вадим.
— Или мы чего-то не понимаем, — заключила Марина.
Потом Данин углубился в работу, искал, выписывал, сопоставлял, с радостью работал, с интересом, редко такое бывало в последнее время. И, ко всему прочему, не мешал никто. Начальство будто вымерло, а соседи по кабинету отбывали трудовую повинность. Лето. Сенокос. А колхозников не хватает. Они в городе за колбасой бьются. Вот бледнолицые чиновники и спешат на выручку. Взаимозаменяемость.
А когда передышку себе давал и закуривал, все порывался Марине про свои вчерашние подвиги рассказать, но не решился, что-то остановило его, непонятного было много в этой истории, опасностью вдруг зябко потянуло. Откуда она исходила, эта совсем необъяснимая опасность, и почему пришло такое чувство, он разбираться не стал, махнул рукой — прорвемся, мол — и постарался забыть.
Ровно без пятнадцати пять поднялся, потянулся, сообщил радостно:
— Пойду Дашку заберу.
— Привел бы как-нибудь, — сказала Марина, — посмотрели бы, что за чудо у тебя чудесное растет.
— К сожалению, не у меня.
— Но все равно твое.
— Зайду как-нибудь, — пообещал Данин.
Он уже был у двери, когда Марина тихо сказала ему в спину:
— А можешь зайти и один…
Он улыбнулся — вот так, как бы невзначай, как бы между прочим, она не в первый раз предлагает ему себя. Не оборачиваясь, он спросил:
— Алик прописался уже к матери?
— Да.
Ответила, как клинком по воздуху рубанула. Даже свист Данину послышался.
— Не жалеешь, что развелась? — осведомился он беспечно.
— Ты, кажется, куда-то шел, — сдержанно сказала Марина.
Данин ухмыльнулся и открыл дверь.
Думал ли когда-нибудь, гадал ли еще год, еще два года назад, что будет он так откровенно и безудержно радоваться встрече со своим ребенком. Со своим!.. На детей всегда смотрел ласково, добро, но без каких-то чувств особенных, хорошенькие они, конечно, маленькие, забавные, да и только. Хороши, когда не твои, когда там они, у кого-то, у твоих друзей и знакомых, хороши, когда на улице встретишь, чистеньких, аккуратненьких, в яркие броские одежонки упакованных. Но своих детей не хотел, и даже щемило садняще под сердцем, когда иной раз молодого папу с ребенком встречал — гуляющих. Виделся ему этот папа несчастным-разнесчастным, невыспав-шимся, уморенным домашними заботами, наплевавшим на все свои важные дела и думающим только о кашках, котлетках, сосках, погремушках, да о выстиранных пеленках. И когда родилась Дашка, принял он ее не сразу, смотрел подозрительно, трогал, удивлялся, чего жена в ней нашла, чего так хлопочет, чего светится так. И поначалу портилось у него настроение, когда просыпался ночью или утром, — почему-то казалось, что жизнь его кончилась и что стал он стариком. Ведь как оно получается, ежели без детей, то и до шестидесяти еще молодой, а с ребенком и в двадцать шесть старик. Плюс ко всему к тому времени уже и отношения с Ольгой стали не из лучших. Вечно недовольны они были друг другом, каждый требовал к себе внимания, помощи требовал, а сам отдавать не стремился, ждал, пока другой первым начнет. Думали они, что после рождения ребенка все заладится. Заладилось. С Дашкой у Ольги заладилось. А с ним никак. Не сблизил их ребенок, не сроднил пуще, отдалил наоборот, развел по своим углам. И жили они так, как большинство живет, для ребенка, по инерции. Кое-как. И домой уже в последний год он приходить ой как не хотел. Потерялась острота, попритих интерес друг к другу, и Дашка совсем не в удовольствие была, мешала только. Но вот случилось чудо (для него чудо, а так дело-то обыкновенное). Совсем немного времени прошло, и стал Дании понимать, что все больше к ребенку привязывается, незаметно, исподволь; какое-то особое благоговение на него находит, когда на руки ее берет, когда к сердцу прижимает, когда целует, когда рассказывает что-то. И спешил он домой теперь только ради неё, чтобы поглядеть на неё, погладить, за ручки мягоиькие подержаться. Ольга это видела и злилась почему-то. Обиженно плечиками вздергивала, норовила съязвить, задеть или замыкалась хмуро на день, на два. Отчего? Ревность? Непохоже…
Вот он, этот уютный и веселый дворик, затерялся среди старых, крепких довоенных домов; укрылась пестрая площадка с беседками, песочницами, каруселями за легкими, пушистыми, каждому ветерку покорными липами. Гомон стоит на площадке разноголосый. Не увели еще, значит, детей с прогулки. Это хорошо. Вадим любил смотреть, как Дашка гуляет, с приятелями и приятельницами своими играет. Он оперся плечом о дерево, закурил. Но вот увидела она его, ухватила острыми, зоркими своими глазками, побежала, бросив игрушки. Он перегнулся через заборчик, поднял ее, прижал к груди ее худенькое, теплое тельце, ощутил, как гулко и часто постукивает ее сердечко, — или, может, это его сердце так шумно стучит — услышал дыхание ее, прерывистое, счастливое, — к нему бежала, к отцу, — услышал запах ее рта, чистый, свежий, такой близкий и родной. И вроде как закружилась у Вадима голова, будто оторвался он от земли, будто летать научился…
А потом они гуляли. На бульвар пошли к памятнику Горькому, там тише, мало людей. И Дашка все рассказывала ему, рассказывала что-то, словно сто лет его не видела, хотя неделя для нее, наверное, и есть сто лет. Коротенький, кругленький носик ее морщился, светло-карие глаза (его глаза!) были так вдумчивы и серьезны, что Вадим едва сдерживался, чтобы не расплыться в умильной улыбке.
Наверно, стоило жениться хотя бы только из-за того, чтобы родилась такая вот Дашка. Кстати, а собственно, зачем он женился? (Боже, в который раз он спрашивал себя об этом.) Она настояла? Было дело. Но ведь не только из-за этого. Боялся больше не найти такую вот, казалось бы, тебя понимающую, такую вот живую, энергичную, общительную, такую вот, хорошенькую, ласковую, нежную? Но ему же с самого начала нежность эта, да и слова ласковые фальшивыми казались, не от души, не от сердца идущими, а от привычки капризничать. Так зачем же? Думал, что это просто сейчас так видится, мол, не привык еще, поживем, все по-другому будет?
А Дашка дергала его за руку, чтобы сплясал Вадим с ней танец, который они сегодня в саду разучили, и он притоптывал в такт ногой, а она держалась за его палец и крутилась под его рукой, самозабвенно и весело. И люди, что проходили мимо, даже шаг замедляли, хотя и так брели неторопливо, гуляли, — повнимательнее чтобы разглядеть их — таких счастливых, подивиться им, позавидовать.
А вот им с Ольгой никто не завидовал. Вроде на людях добры они друг к другу были, предупредительны, но близкие, друзья замечали, что не так у них что-то, наигранно и нарочито. Подруги ее — более бесцеремонные, чем его друзья, — говорили ей впрямую об этом. А она потом, злясь — не на них, а на него, — пересказывала ему их слова. А его друзья только спрашивали как бы между прочим: «Разводиться, что ль, будешь?» А он и вправду часто думал об этом, потому что в тягость ему эта жизнь была, не жил он, а как механизм какой-то функционировал. И, ко всему прочему, уже давно физического влечения к Ольге не испытывал. Но он был нерешительным и мнительным. Ему причина нужна была, веская и убедительная, чтоб не жалеть потом ни о чем. Он все реже и реже стал приходить (даже несмотря на Дашку), жил у мамы, а жена и не противилась, ну а ему-то и подавно вольготно было. Жизнь снова краски обрела, и он порхал, как мотылек, легкий и ничейный, развлекался шумно и весело, работал упоенно и всласть и совсем перестал задумываться, как будет, что будет? Как будет, так и будет…
Дашка бегала вокруг ушастого и игривого кокер-спаниеля и пыталась ухватить его за хвост, а он, видя, что это ребенок, не лаял, не огрызался, а только отмахивался лапой и отбегал обиженно в сторону. Дашка уже умудрилась свалиться пару раз на дорожку, сбила себе коленки, но не замечала ни ссадин, ни боли, хохотала, захлебываясь и распалившись, гонялась за собачонкой.
…И причина отыскалась, самая что ни на есть банальная и самая что ни на есть подходящая. К этому все и шло, видно, этим и должно было кончиться. Жизнь умнее нас. Все началось, как в плохоньком романе или заштампованном фильмике. Вадим и думать не гадал, что так в жизни бывает. Раздался звоночек как-то в квартире у мамы, где он жил, и когда он снял трубку, незнакомый женский голос проговорил спокойненько:
— Это Вадим? Здравствуйте. Имею вам кое-что сообщить. Если вас это заинтересует, конечно. Совсем неплохо было бы, если бы вы подошли в какой-нибудь из дней, завтра, допустим, к проходной организации, где работает ваша жена, в обеденный перерыв. Много любопытного увидите. Только в сторонке где-нибудь стойте, незаметненько.
Долго сидел он перед телефоном и трубку опустил только тогда, когда громкие и писклявые гудки стали в ушах иголочками покалывать. Конечно, он не пойдет, решил. Некрасиво это, неэтично. Он не из тех, кто за женой следит, каждый шаг еепроверяет: не дай Бог мужчина какой подвернется, понравится больше, чем он. Конечно же, не пойдет.
А на следующий день, ровно без пятнадцати час стоял он, прячась за табачный ларек, невдалеке от проходной городского бюро путешествий, где жена работала гидом. И вот в час с минутами подкатил к резным дверцам вишневый «Жигуль», вышел оттуда мужчина, невысокий, светлый, с лица незамет-ненький, стертый какой-то, под сорок уже, а может, и за сорок, изысканно и опрятно одетый; по виду знающий себе цену, чуть надменный. Он прошелся возле машины, закурил, а тут и Ольга выбежала, совсем как девочка, легкая, ловко накрашенная, в ярком платье. Подбежала к нему, поцеловала, по-свойски привычно, но и с порывом, а он чуть прижал ее к себе уверенной рукой, провел ладонью по щеке, и засмеялись они оба, радостно и беззаботно. А потом он дверцу для нее открыл, усадил в кабину, бережно поддерживая под локоток, и укатили они лихо неведомо куда, хотя нет, ведомо, наверное.
Поначалу только чуть пощемило в груди и прошло. И возвращался он на работу без особых волнений, и лишь монотонно твердил про себя: так и должно было случиться, так и должно. А к вечеру так скверно вдруг стало, так муторно, что решил забыть об увиденном, мол, черт с ним, всяко бывает. Но забыть не смог ни завтра, ни послезавтра. А потом пришел к Ольге и все выложил. Когда говорил, старался казаться беззаботным, но не вышло, и не сдерживал уже себя, говорил с горечью, но как о деле уже решенном. Она не оправдывалась, не уговаривала его, согласилась с его словами, и от этого ему еще горше стало, но отступать было некуда. Потом суд, потом хлопоты по размену квартиры. А потом облегчение, пришедшее как-то сразу, без каких-то там переходных периодов. Он быстро пообвыкся с мыслью, что холостой и что теперь вновь вся жизнь впереди, а то вроде как конченая была. И вообще все прекрасно. Только вот Дашка… Но Ольга не препятствовала их встречам, поощряла, даже может надеялась, что он вернется, она же заявила ему после суда: «Все равно придешь, где еще отыщешь такую…»
А Дашка уже бежала к дому, там мама ждет, по маме ведь тоже соскучилась. Нетерпеливо ждала его у лифта, торопила, вскрикивая: «Ну быстрей же, что ты как вареный, как утенок вареный».
Она встретила их, как и раньше встречала, с покровительственной полуулыбкой, кивнула Вадиму привычно и деловито, как будто он каждый день так приходит, запахнув кокетливый халатик — раньше у нее такого не было. А когда к Дашке наклонилась, потеплела лицом, подобрела, помолодела вмиг.
— Ой, коленки содрала, — развела она руками и колко глянула на Вадима, но тут же постаралась смягчить взгляд, подняла Дашку на руки и понесла в ванну. — Пойдем промою, йодом замажу.
— Не надо йодом, — захныкала Дашка.
— Как дела? — крикнула она из ванной.
— Спасибо, нормально. — Вадим прошел в комнату, обвел ее глазами. Знакомые, родные вещи, среди этих вещей он прожил пять лет. Стенка, диван, телевизор с оцарапанным боком, им оцарапанным, когда передвигал его с одного угла в другой, повредил этот бок; плед на диване, в который он закутывался, дурачась, изображая индейского вождя на совете старейшин.
Завизжала Дашка. Это действительно больно, когда йодом смазывают ранку. Она ворвалась в комнату со слезами на глазах, бросилась к Вадиму, обняла его ноги.
— Мама нехорошая, она меня не любит, — верещала она. — К тебе хочу, возьми меня к себе.
Ольга, посмеиваясь, стояла в дверях. Но смотрела не на Дашку, а на него смотрела, на Вадима. Он встретил ее взгляд, нахмурился, отвел глаза.
— Вот и уходи к своему папе, — сказала Ольга, проходя в комнату и усаживаясь на диване. — Ты мне больше не нужна.
Дашка замолкла, разжала ручонки; склонив голову набок, недоумевающе и жалко посмотрела на мать. Как же так? Она же пошутила, просто ей больно было. Ольга не выдержала, протянула руки.
— Да никому я тебя не отдам, моя ты, моя, и больше ничья! Дашка бросилась к матери и уткнулась лицом ей в живот. Ольга поправила волосы, провела ладонью по лицу. Она ждала его прихода, подкрасилась, надушилась едва уловимо чем-то французским.
— Мама звонит? — спросила она.
Родители Вадима год уже как жили в Москве, отца перевели в министерство начальником управления. Они звали его, но он ехать не собирался. Он любил свой город и чувствовал себя здесь гораздо лучше, чем где-либо.
— Звонит, — ответил Вадим.
— Как они там?
— Нормально.
— Поешь? — с надеждой спросила Ольга.
— Не хочу.
— Ты похудел.
— Тебе кажется.
— Нет, правда, ты похудел и осунулся, и потемнел, и неприкаянный какой-то сделался. Ты плохо питаешься?
— Обычно. Как всегда.
— Всегда я тебе готовила и кормила. А теперь некому. Некому, да?
Вадим неожиданно засмеялся.
— Некому, некому, — успокоил он. — Я живу один.
— Я не в этом смысле, — сухо заметила Ольга. Она не любила, когда ее уличают.
— Ав каком же? — спросил Вадим простодушно. Ольга промолчала, наклонилась к Дашке, поцеловала ее, и та убежала на кухню к ящику с игрушками.
— Ну да, конечно, я и забыла, — с легкой усмешкой сказала она и нервным движением поправила разъезжающийся на коленях халатик. — Ты же у нас одинокий охотник. Тебе никто не нужен. Ни я была не нужна, ни Дашка. Ты сам по себе. А меня будто и вовсе не было, так, ненужный придаток к твоей жизни. Вспомни, ты хоть куда-нибудь брал меня с собой? Я что-нибудь видела, а я женщина и не дурнушка к тому же!
— Далеко не дурнушка, — подтвердил Данин и принялся рассматривать ее, как живописец рассматривает завершенную работу, то отходя, то приближаясь, то наклоняя голову вправо и влево.
Ольга подняла на него глаза и, криво усмехнувшись, отвернулась.
— Все ёрничаешь, — тихо сказала она.
Тепло и уютно было в квартире и остро пахло домом. Да, да, именно домом. Бог его знает, из чего состоит этот запах, но в его квартире пахло пылью и застоявшимся табачным дымом, как в общественном туалете, а здесь домом.
— Я кое-что забрать хотел, — сказал Вадим. — Вырезки из журналов. Думал, не понадобятся, а вот понадобились. Найди, пожалуйста.
Ольга вскинулась, подошла к стенке. Оказывается, она давно уже все приготовила. Вадим опустился на диван, похлопал по ворсистому, упругому его боку, он спал на нем пять лет. Диван скрипнул дружелюбно.
Ольга разложила вырезки на пледе, принялась заворачивать в симпатичную оберточную бумагу. Она сейчас совсем близко от Вадима была, такая красивая, такая ароматная, такая желанная. Она словно почуяла что-то, потянулась к нему.
«А почему бы и нет? — подумал Вадим. — Почему бы и нет? Дашку можно отправить гулять». Но он отвернулся как бы невзначай, как бы не заметил ничего, чтобы не обидеть ее. Нельзя. Поздно. Лучше не будет, только хуже.
— Спасибо, — сказал он. — Я пойду.
И пошел к двери и не обернулся даже.
Объяснительную Вадим написал. Не сразу, правда. Три страницы покоились уже в мусорной корзинке. Когда рвал их, ухмыльнулся — злой и ироничной получилась первая объяснительная. Вроде бы серьезно поначалу читалась, а ощущение оставалось такое, будто насмехался он и над замкоменданта Кремля и над своим начальником. Не поймет Сорокин, обозлится только пуще. Так что во второй описал только факты. Сухо и кратко, без комментариев. Профком назначили через два дня, в пятницу, а в четверг вечером он получил повестку из прокуратуры. Предлагалось явиться в пятницу именно в тот час, на который был назначен профком. Вадима это позабавило. В пятницу утром, посмеиваясь, он дошел до комнаты, где сидел председатель профкома Алексей Ильич Рогов. У порога Вадим принял скорбный вид и, постучавшись, вошел. Высокий, угловатый, с тонким, аскетичным лицом, с аккуратной короткой бородкой, Рогов походил на дореволюционных интеллигентов, какими их показывают в кино. Он всегда был неулыбчив и молчалив. За пять лет ни с кем в институте близко не сошелся, и, собственно, никто к этому и не стремился. Но вот общественные обязанности свои исполнял старательно и умело. С личным временем не считался. Когда чувствовал несправедливость, был непреклонен в спорах даже с самым высоким начальством. Вадим протянул ему повестку.
— Ну и хорошо, — неожиданно весело сказал Рогов. — Перенесем профком на следующую неделю. А там Сорокин уедет в тур по Чехословакии, — он поднял на Вадима глаза и усмехнулся краешком губ.
Вадим от удивления даже не нашелся, что сказать, кивнул только. Рогов с Сорокиным во врагах вроде не ходили. Значит, прослышал что-то Рогов про историю в музее.
— Ав прокуратуру зачем, если не секрет? — спросил он.
— В качестве свидетеля. Драка, — лаконично ответил Вадим. Не стоит пока всего рассказывать.
Данин ни разу не был в прокуратуре. Не приходилось. Так случилось, что убережен он был от столкновений с законом, убережен даже от того легкого волнения, от той смутной тревоги, которую непременно ощущаешь, когда падает вдруг в руки из почтового ящика легкий прямоугольный листочек с таким знакомым и привычным, но почему-то так пугающим словом «повестка». Чист ты перед людьми, чист перед совестью, знаешь, что ничего такого зловещего с тобой не происходило, а вот все равно вздрагиваешь и судорожно, суетливо начинаешь копаться в памяти, а вдруг что-то было, а вдруг ты забыл о чем-то. И не найдя ничего, все равно не успокаиваешься, все равно ждешь чего-то плохого, подгоняешь время, поскорее бы уж этот день и час, когда все выяснится.
На сей раз Вадим, конечно, знал, по какому поводу его вызывают и почему в прокуратуру, оперуполномоченный-то предупредил. И понимал он, что волноваться-то не волнуется, а испытывает лишь легкое раздражение от вспомнившихся враз вкрадчивого тона и подозрительных глаз оперуполномоченного Петухова. Его подозревают. И в чем? В избиении женщины. Какая нелепость! Но Можейкина-то, наверное, пришла в себя и все рассказала, и в прокуратуре, несомненно, не дураки сидят, разберутся. Да, впрочем, и на Петухова обижаться нечего — у него работа такая, под девизом «Доверяй, но проверяй». Так что шагал Вадим легко и беззаботно, с удовольствием вспоминая едва приметную усмешку Рогова, когда увидел он его повестку. Неглупый, наверное, этот мужик Рогов, понимающий. Одна лишь деталька маленькая — вот эта вот усмешка и слова про поездку Сорокина, а как много говорит о человеке.
Он вышел на Строительную, где-то здесь должна быть районная прокуратура. Вадим знал эту улицу, ходил по ней часто, а вот даже и не догадывался, что у подъезда одного из этих невысоких, грязно-желтых домов должна висеть скромная неброская вывеска. Он достал повестку. Так, дом пятнадцать. Значит, по правой нечетной стороне. После тринадцатого дома обнаружился провал, а в провале сквер, надежно скрытый лиственной густотой. Жесткие кусты забором огораживают студенисто-подрагивающие кроны высоких деревьев. Вот поэтому-то и не видел он этого дома, упрятан он, не хочет напоказ себя выставлять.
Когда открыл дверь и вошел, подумал, ничего здесь нет такого особенного, как в обычном городском учреждении, коридоры, двери, за ними голоса, стук машинок. Вон какой-то маленький, тихий человек проскочил с папкой под мышкой, по виду бухгалтер, а на самом деле, наверное, следователь, сложнейшие убийства раскрывает или еще что-нибудь в этом роде.
Вот и нужная дверь, справа на стене маленькая табличка: «Следователи: Минин, Косолапов». Ему к Минину. Интересно, какой он, этот Минин? В узкой, как пенал, комнате едва уместились два стола, два сейфа, четыре стула. Сидящие за столами подняли головы. Один, что подальше у окна, смотрел недружелюбно, с раздражением, видимо, ему помешали. Был он остроплеч, узколиц, смугл, что-то кавказское в нем проглядывалось. Второй, крепкий, синеглазый, с крупным, как ломоть дыни, ртом, смотрел на него тоже без особой радости, но с любопытством. «Сейчас я вас разгадаю», — подумал Данин. Он поздоровался и положил повестку на стол второму.
— Я к вам, — сказал он, улыбаясь.
Тот взял повестку, приподнял брови, с легким удивлением глянул на Вадима, кивнул на стул. Вадим сел. Значит, угадал. Минин повертел повестку, отложил ее в сторону, достал из ящика стола большой белый бланк, посмотрел на Данина, но уже без удивления — с улыбкой, — сказал:
— Давайте знакомиться. Я следователь районной прокуратуры Минин Сергей Алексеевич. Позавчера мною возбуждено уголовное дело по факту преступления, совершенного в отношении гражданки Можейкиной. Вас я буду допрашивать в качестве свидетеля. Давайте запишем ваши данные.
Пока Минин заполнял протокол допроса, Вадим разглядел следователя и решил, что ему повезло. Этот получше, чем тот, что у окна, пораскованней, посимпатичней, к тому же, видимо, Вадимов ровесник, наверняка неглуп и с ним можно найти общий язык.
Следователь закончил писать, протянул ручку Данину, пододвинул к нему протокол:
— Распишитесь вот здесь, об ответственности за дачу ложных показаний.
Вадим невольно замер, на мгновение будто выстудилось нутро, а в лицо, наоборот, дохнуло жаром. И почему-то закостенели пальцы. Он знал, что по нему не видно, когда вот так обдает лицо жаром, не краснеет оно, но все равно неудобство почувствовал, будто высветили его одного в этой комнате, будто мощные прожекторы направили в самые его глаза. Ложные показания! Он будет давать ложные показания? Ну конечно. Его ведь просили об этом, умоляли… Он ведь помнил, как она просила, он видел глаза ее в тот момент, в них страх был, искренний, настоящий, она о смерти говорила, и он поверил ей и сейчас верит. Ложные показания… Нет… Это не ложные показания. Он ничего не соврет. Он просто не скажет кое чего. А может быть, и впрямь это кое-чего ему показалось. И зачем себя подставлять под удар, вызывать будут, дергать, зачем ввязываться не в свое дело, и так уже ввязался сдуру. Хватит. Ничего не случится, не преступление же он, в конце концов, совершает. Мало ли какие ссоры у знакомых людей бывают, сами разберутся и без помощи прокуратуры. А может, родственник ее этот белобрысый красавец, может, племянник любимый или братец двоюродный — ведь как она молила. И не дрожала уже рука, когда брал ручку, когда подпись свою, корявую, некрасивую, — почти до тридцати дожил, а так и не научился расписываться — выводил. И, отложив ручку, посмотрел на следователя прямо и открыто и не чувствовал вины за собой преждевременной за то, что расскажет сейчас, и за то, что не расскажет тоже.
Он говорил спокойно, неторопливо, изредка замолкая, припоминая детали. И о том, почему по этой улице решил пойти, рассказал, и о том, как голоса услышал, как испугался поначалу и уйти решил, но как пересилил себя и на помощь кинулся, рассказал, что темно было и что лежащее тело только углядел и еще три силуэта над ним, и о том, как находчиво слово «милиция» на помощь призвал и как рванулись неизвестные в разные стороны. Даже постарался припомнить, во что одеты они были, но за точность не поручился, мог и перепутать, ночью, как говорится, все кошки серы. Следователь записывал старательно, понятливо кивал головой, несколько раз с одобрением и с долей уважения даже посмотрел на Вадима. Хороший парень этот Минин, с ним легко.
— Значит, во дворе совсем темно было или горели какие-то окна? — спросил Минин, отложив в сторону ручку и массируя уставшие пальцы.
— Не помню… не помню, — Вадим подумал. — Или нет, горело одно или два, не помню, — и спохватился запоздало, значит, не так уж и темно было. — Но до нас свет не доходил. Хотя, когда один из них побежал, на мгновение влетел он в эту полоску света, спину я его увидел, неестественно белые кисти рук…
— Кисти рук… — повторил следователь и раздумчиво посмотрел на Данина. — Хорошо детали ловите. Пишете?
— Немного.
— По спине описать могли бы его? По тому, как бежал, как плечами и руками двигал, как ноги ставил? Короче, какой он?
— Я понимаю вас, — ответил Вадим. И, как на экране, увидел опять этого белобрысого — пружинистого, тренированного, расслабленного в то же время, пластичного, породистого, и лицо его увидел, живое, уверенное, чуть хищноватое, совсем не испуганное, а скорее досадливое. Припоминая, Вадим глядел на следователя и в какое-то мгновение понял, что поймал тот что-то в его глазах, что-то упрятанное, укрытое тщательно, недосказанное, потому что искорка недоверия промелькнула у Минина во взгляде, и насторожился он как-то вдруг, будто понял интуитивно, о чем думал Данин в эти секунды. И оборвалась враз протянувшаяся между ними с самого начала разговора ниточка взаимного доверия и взаимного понимания. Сначала оборвалась, а потом исчезла бесследно. Вадим отвел глаза, будто ненароком, случайно, как бы заслышав шаги в коридоре. И вопросительно посмотрел на дверь, и, когда та так и не открылась, вернулся взглядом к столу, к белому листу протокола, и, не поднимая уже больше головы, словно в задумчивости, повторил:
— Я понимаю вас. Праздный он, самолюбивый, уверенный в себе, разжатый, раскованный, трусоватый в то же время…
— Симпатичный? — быстро спросил Минин.
И хотел было уже Вадим вскинуть глаза, даже голова чуть дрогнула, дай бог незаметно, но напрягся вовремя и удержал себя, и продолжая смотреть на протокол, ответил ровно:
— Не знаю, не видел.
И подумал тут же: «Наверное, возмутиться надо было, мол, я же сказал, что темно было и лиц не видел. Не доверяете, оскорбляете подозрением! Но поздно, поздно уже».
— Ну что ж, — Минин деланно вздохнул, развел руками и, в упор, бесцеремонно разглядывая Вадима, лицо его, плечи, шею, руки, сказал: — Не видели, так не видели. Распишитесь.
Потом он убрал протокол в стол и вместо него извлек оттуда же тощую папку. Вынул из нее какие-то фотографии, несколько бумажек.
— Это фотографии и план места происшествия. Место происшествия установлено со слов Можейкиной…
— Она пришла в себя? — не выдержал Вадим.
— Да, в тот же день, — с едва заметной усмешкой ответил следователь. Не поднимая головы, он раскладывал снимки.
Вадим ощутил горечь в горле. От курева, наверное, от никотина, машинально подумал он. Так. А если Можейкина, придя в себя, все по-другому рассказала — всю правду? Может, она в шоке была, когда его, Данина, просила не рассказывать, что с этим белобрысым знакома? Ну и что? Чепуха все это. Он отказаться может, спокойно отказаться. Никто теперь не докажет факт того разговора. Вот, дурак, ввязался. Данин покривился. Урок теперь тебе на всю жизнь.
— Вы больны? — услышал он голос справа. Голос был низкий, тихий, участливый. Однако Вадим вздрогнул. Он быстро повернул голову и наткнулся на маленькие, черные глазки другого следователя.
— С чего вы взяли? — Вадим постарался беспечно улыбнуться.
— Глотаете с трудом, за горло рукой держитесь, морщитесь. Ангина?
— Нет, просто першит.
— А-а-а, — протянул следователь и снова уткнулся в бумаги. «Психологи доморощенные», — со злостью подумал Вадим.
И злость помогла. Одна она теперь только завладела им. И исчезли сомнения, исчезли страхи. Он смотрел на Минина теперь без волнения и даже с легкой неприязненной усмешкой.
Минин указал на фотографии и попросил:
— Покажите, как вы шли, где увидели Можейкину и этих троих.
Фотографии были цветные прекрасного качества, сделанные с помощью вспышки. Снимали, наверное, в ту же ночь. Данин все показал.
— Спасибо, — сказал следователь. — Давайте я отмечу повестку, и можете идти.
Когда Вадим уже был в дверях, Минин проговорил ему доброжелательно:
— Если что вспомните, приходите.
«Только не грохнуть дверью, — подумал Вадим, — как тогда, в Кремле».
До дома своего шел пешком, шел долго и только у подъезда вспомнил, что рабочий день еще не кончился и надо было идти в институт. Войдя в квартиру, сев в кресло и закурив, понял, что никуда не пойдет, видеть сегодня никого не хочет, что сегодня он будет один весь вечер.
А наутро все те вчерашние неприятные ощущения, которые вчера так мучили его, так досаждали, так раздражали и мешали поладить с самим собой, притупились, потеряли остроту, стали неясными, расплывчатыми, бесформенными. Хотя осадок остался. Он все помнил, что было вчера, четко помнил, в деталях, но неудобства или беспокойства больше не ощущал. И очень был этому рад, а еще был рад тому, что умеет вот так замечательно управлять собой, своими эмоциями, чувствами. Раньше вот не умел, а сейчас научился. Еще год назад, если бы случилось подобное, маялся бы и мучился долго-долго, мрачный бы ходил, дерганый, все из рук бы валилось, срывался бы, заводился с полуслова. А сейчас все в порядке. На душе ладно и спокойно. Правда, трудов он затратил на это немало — ворочался полночи, уговаривал себя, что чиста его совесть, что одно только им чувство руководило там, в прокуратуре, — человеколюбие, и что если уж дал слово, то надо держать его. А потом варианты просчитывал, каким образом недосказанность его, злосчастные эти ложные показания могут на нем негативно отразиться. Просчитал и убедился, что никаким. И еще одно очко в пользу душевного равновесия прибавилось. Одним словом, поднялся он с ощущением радостной уверенности в себе и с верой, что сегодняшний день будет не из самых худших…
И впрямь ему повезло. Как никогда хорошенькая, как никогда кокетливая в это утро, Марина с довольным и гордым видом, будто виновницей всему была она, сообщила, что рано-рано утром сегодня Сорокин уехал на неделю на семинар в Киев, — это директор срочно послал его вместо кого-то там заболевшего. Данин присвистнул восторженно, ринулся к своему столу, широким жестом вынул лист бумаги из ящика и скоро и размашисто написал на нем заявление об отпуске за свой счет. Самому Сорокину он не решился бы этот листок подсунуть, не разрешил бы он, воспротивился, остренькими буковками вывел бы в углу: «Возражаю!» А заместитель его большеголовый, лысенький, неуклюжий, похожий на обиженного медвежонка Ряскин подпишет вне всякого сомнения, подпишет, даже слова не скажет, даже не скривится недовольно, не пробурчит: «Очередной же ведь отгулял, и за свой счет в феврале уже брал…» И сегодня же, ну в крайнем случае завтра, в Ленинград, в архив, там работа, настоящая, его, там ему рады, там ждут.
…Едва в поезд сел, залихорадило от сладостного предчувствия скорой работы, даже стойкий, чуть горьковатый запах старой бумаги ощутил. И все улыбался, когда у окна стоял, курил и мелькавшие огоньки машинально провожал глазами. А потом пораньше спать улегся, чтобы прошла поскорее ночь. Уже засыпая, решил, что завтра первые полдня тоже спать будет, чтобы проскочило, пролетело время. Жаль, что на самолет билетов достать не мог, но обратно только на самолете — подольше в Ленинграде прожить надо, все возможное из своего отпуска выжать.
Как ни расчудесно и ни замечательно было в Ленинграде, как ни обласкан он был там добрыми, умными, все понимающими людьми, как ни прижился он за эти дни к такому далекому и близкому теперь городу, как ни радостно и хорошо ему было там, а когда, дрогнув, коснулся самолет серой клетчатой бетонной полосы, через несколько минут замер, все еще деловито гудя, легкость Вадим ощутил необычайную, непривычную умиротворенность, умильность даже какую-то почувствовал. Подивился поначалу. Что? Почему? Без беспокойства подивился, вяловато даже, а потом понял — домой прибыл, к своему. Конечно же, так и раньше бывало, когда возвращался, но там, откуда он приезжал, всегда было хуже, хоть чуточку, но хуже, чем дома, и дня через три нестерпимо уже хотелось в родной город, в уютную свою квартиру. А на этот раз, когда в Ленинграде был, и не вспоминал ведь о доме, и не тянуло, и не пощипывало сердце легонькой, едва ощутимой тоской, да и вообще уезжать не хотелось. На мгновение даже промелькнуло как-то: а не остаться ли навсегда? Ан нет. Как вот увидел сейчас стеклянную коробку аэропорта, так устыдился даже тому, что не рвался домой, что в мыслях даже почти предал его. Но со стыдом своим справился Данин быстро, привычно дав себе допуск, мол, человек я, не машина; и скоро уже ходко и весело вышагивал по бетонке. Выйдя из аэровокзала, узрел огромный хвост на стоянке такси и пошел справляться об автобусе. Оказалось, что тот уехал только-только, следующий будет через полчаса. Он не расстроился и не огорчился даже — есть ли причины? Он дома, он отлично поработал, он доволен собой. И углядел, наверное, в нем этакого преуспевающего, делового, знающего себе цену молодца один из леваков, которых всегда хватает в аэропортах и на вокзалах и которых не возьмешь вот так вот запросто — они себе клиента сами ищут, высматривают его зорко, прицениваются. Подошел он неторопливо, вразвалку, весь джинсовый, стертый, безволосый почти, спросил тихо: «Куда?» — как своего. Услышав ответ, назвал цену, Вадим непроизвольно провел по карману, а потом усмехнулся и кивнул: «Поехали».
Дорога разморила. Машина бежала плавно, едва ощутимо покачиваясь. В салоне было тепло и пахло новенькой обивкой, а магнитофон обволакивал чем-то итальянским, медовым и печальным. И все время дороги — ни слова. Это тоже чудесно, когда не тревожит тебя назойливо водитель, не расспрашивает тебя, не рассказывает о чем-нибудь своем, на его взгляд, интересном и занимательном, а ты киваешь с усилием и поддакиваешь невпопад. У подъезда Вадим расплатился и с легким сожалением вышел: с удовольствием вот так бы ехал и ехал еще. Взявшись за ручку двери, весело подмигнул своему отражению в стекле, вошел, привычно сунул ключ в скважину почтового ящика. Рухнула ему на руки кипа газет, смятых, силой просунутых почтальоном в узкую щель. Он подхватил их, посмеиваясь, донес до лифта, потом кое-как открыл свою квартиру, бросил газеты на маленький столик в коридоре и увидел посередине разбежавшихся веером листков знакомую квадратную бумажку. Вадим нахмурился, отставил кейс, поднес бумажку к глазам. Так и есть — повестка. Только теперь не в прокуратуру, а в милицию, на позавчера. Ну беспокоиться здесь не о чем, позавчера он, естественно, прийти не мог — причина уважительная: отпуск. Данин отбросил повестку и, на ходу снимая пиджак, пошел в комнату. Бросив пиджак на кресло, потянулся к магнитофону, посмотрел, что за кассета там стоит. Так, прекрасно, снова сладкоголосые итальянцы; нажал клавишу, достал из заднего кармана брюк сигареты, закурил, присел на диван, вздохнул глубоко, поежился, как после пробуждения в зимней нетопленной квартире, уставился бездумно в одну точку на противоположной стене, желая еще попребывать в безмыслии, продлить немного приятные минуты, проведенные в машине…
— Зачем!? — вдруг неожиданно для себя, вслух, громко сказал Вадим.
Потом подумал и добавил уже тише, но злее:
— К черту!
Потом еще подумал и тоскливо заметил:
— Дурак…
Он неуклюже вскинулся, с силой, большей, чем требовалось, притушил сигарету в пепельнице, поднялся, хлестко хлопнул по клавише магнитофона. Пуговицы на рубашке расстегивались с трудом — всегда нормально расстегивались, а сейчас вот почему-то с трудом — он едва сдержался, чтобы не рвануть полы в разные стороны. Рубашка полетела на диван, за ней брюки… В ванной горячий душ успокоил, опять появилась сонливость. С силой растирая себя полотенцем, он решил: завтра навестит Можейкину в больнице, если она еще там, или дома, если выписалась, а потом позвонит в милицию.
Проснуться пораньше, как с вечера еще решил, не удалось. Когда разлепил, когда с трудом почему-то оторвал голову от подушки, на часах уже десять с минутами было. Присел на постели, свесив ноги на пол, и подивился досадливо, а головато и впрямь тяжелая, словно не вчера он в самолете три часа провел, а сегодня, совсем недавно. Может, заболел, продуло где-нибудь? Даже самая легкая простуда порой много неудобств приносит. Как-то не так себя ощущаешь, каждое движение замечаешь, каждый жест фиксируешь, словно на чувствительность свое тело пробуешь. Но наплевать, переживем, это не самое страшное. Вадим поднялся с силой, принял привычную стойку и начал энергично разминать себя издавно отработанными упражнениями. Закончив, понял, что не простужен он, а голова отяжелела, видимо, от смены климата, давления или еще чего-нибудь атмосферного, температурного…
Приемный покой встретил тишиной, специфическими больничными запахами и пустотой. За столом дежурной сестры тоже было пусто, стоял на столе только стакан чаю, и настольная лампа просвечивала его до дна, и темная жидкость в стакане была похожа на расплавленный янтарь. Вадим направился уже к дверям, ведущим в больницу, когда его окликнули, властно и строго. Прямая, с величественно откинутой назад головой на него неприветливо взирала средних лет дама в белом халате. Данин поздоровался, спросил о Можейкиной.
— Три дня как выписалась, — сухо ответила сестра, усаживаясь.
— Адрес, телефон я могу узнать? — спросил Вадим.
— Таких справок не даем, — отрезала сестра.
Вадим усмехнулся.
— И правильно, — сказал он. — За разглашение государственной тайны — расстрел, — он наклонился к сестре и полюбопытствовал шепотом: — Давно в контрразведке?
Сестра отпрянула, поджала губы, бросила коротко:
— Не смешно.
— Смешно было две недели назад, когда я втащил ее сюда полуживую, — устало сказал Вадим. — Позовитс-ка мне того самого врача, кто ее тогда принимал. Это было четырнадцатого июля.
Сестра несколько мгновений смотрела на Вадима недоверчиво, потом кивнула и стала торопливо листать большую амбарную книгу. Потом потянулась к телефону, набрала номер, проговорила быстро:
— Доктора Тимонина в приемный покой.
— Спасибо, — сказал Вадим и пошел к банкетке, на которой сидел две недели назад, ожидая мужа Можейкиной.
Лицо у доктора сегодня было приветливое, чистое, словно отглаженное, и теней под глазами не угадывалось, и губы были не так плотно сжаты, как в тот день. И вообще, покруглее показалось Вадиму его лицо, чем тогда, особенно когда Тимонин повернулся к нему в фас, улыбнулся широко, насколько возможно, не деланно, не искусственно улыбнулся, а искренне, дружелюбно-уважительно. Приближаясь к Данину, он уже протягивал руку для пожатия и говорил чуть громче, чем следовало:
— Приветствую вас, отважный и добрый Робин Гуд. Вы не представляете себе, сэр, какой фурор вы произвели своим подвигом на юную часть нашего медперсонала. Меня просто одолели просьбами, чтобы я как бы невзначай, как бы случайно пригласил вас к нам.
Он был приметливый, этот доктор, он уловил, наверное, что-то нехорошее в глазах Вадима и умолк на полуслове, умело стер улыбку с лица, прикоснулся к плечу Вадима, как бы извиняясь и вместе с тем усаживая его этим жестом на банкетку. Внимательно посмотрев Вадиму в глаза и, видимо, удовлетворившись осмотром, присел сам и спросил просто:
— Чем могу?
— Адрес мне ее нужен, — сказал Вадим. — Поговорить хочу.
Он подумал вдруг, что доктор решил после этих слов, будто он за благодарностью пойти хочет, за ощущением своей значимости и благородности, и поэтому, помедлив, добавил:
— Уточнить кое-что надо, я не все толком помню. Стремительно ведь все произошло и в горячке, да и вообще…
— Верно, верно, — поддержал Тимонин, — сочувствие, вернее — участие ей сейчас не помешает, то, что нужно. Депрессия сильнейшая у нее была. Мы утешили, как могли. Но теперь лучше доктора для нее — время и дом. Пострадала она, конечно, крепко, очень крепко.
— Такие сильные были побои? — спросил Вадим. — Но ведь ее раза два-три только и ударили.
— Вот те на! — удивился Тимонин и даже чуть отстранился от Вадима и оглядел его, будто впервые видел. — Вас, что же, не вызывали еще в прокуратуру?
— Вызывали, — осторожно подтвердил Вадим, уже предчувствуя, что ему сообщат сейчас что-то недоброе.
— И что же, ничего не рассказали?
— Да нет, ничего, — нетерпеливо ответил Данин.
Тимонин пожал плечами и фыркнул, не сдержавшись.
— Ну и ну. Может, думали, что вы знаете… Странно. Короче, побои — это все чушь. Вреда большого они ей не принесли, и не из-за них она теряла сознание. Она была изнасилована. И причем жестоко. Понимаете? Как минимум два-три человека участвовало в этом. Все было проделано зверски, я бы даже сказал садистски. Возможно, пользовались и подручными предметами. Этого я тоже не исключаю… У нее были сильнейшие повреждения внутренней полости, и поэтому она потеряла много крови. Ко всему прочему, естественно, добавился сильнейший психический шок. Первую неделю просто-напросто не хотела жить. И даже пыталась покончить с собой…
Доктор говорил, а Вадиму казалось, что тело его деревенеет, что руки, ноги, голова, плечи становятся холодными и нечувствительными. И губы тоже немеют, и язык не хочет слушаться. И он боялся пошевелиться, боялся произнести хоть слово. А вдруг это не кажется, вдруг на самом деле. Он вздохнул, а вздоха не получилось, только клокотнуло что-то в горле, как у сытой хищной птицы.
— Что? — встревожился доктор, пристально всматриваясь Вадиму в глаза.
— Нормально, — сказал Данин, — все прошло. — Он звучно и длинно проглотил слюну и смутился и, чтобы скрыть смущение, спросил быстро: — Выходит, что ее изнасиловали еще до того, как появился я?
— Вы невероятно догадливы, — не сдержал ухмылку Тимонин.
Вадим не обиделся, даже хотел рассмеяться, но не получилось, на губах промелькнула только тень улыбки.
— Ну вот и чудесно, — сказал доктор. — Вы уже и улыбаетесь.
Он хлопнул Вадима по колену, поднялся, подошел к столу дежурной сестры, полистал ту самую толстую книгу, вырвал из своей записной книжки листок, что-то быстро записал на нем и вернулся обратно.
— Вот, — сказал он, протягивая Вадиму листок. — Ее адрес, телефон. Идите, навещайте. Передайте привет. Или нет. Не надо. О больницах и врачах лучше не вспоминать.
Вадим поблагодарил, пожал доктору руку и направился к выходу. Сестра кивнула ему на прощанье.
Когда захлопнулись за Вадимом двери больницы, он и не подумал даже, куда ему надо идти, даже на бумажку с адресом не взглянул — с первого взгляда не запомнил он название улицы, чтобы направиться в нужную сторону. Ноги сами его повели поближе к центру, повели к шуму, подальше от этой неприметной, спокойной улочки, от тишины ее умиротворяющей, но сейчас почему-то ненужной и нежеланной.
Он вышел на бульвар, прозрачно-изумрудный от зелени, красивый, почти такой же, как Гоголевский в Москве. И даже литая ограда и гранитные толстые, как бочонки, столбы были похожи на московские. И так же кучно и деловито машины тут сновали по мостовой… «А может, уехать? — вдруг подумал он. — В Москву уехать, к родителям. Работу там себе найду. В случае чего отец поможет. И с книгой вроде все уже в порядке. В случае чего прилетать буду. Всего-то два часа лету…» Он улыбнулся своим мыслям, такими радостными, такими спасительными они ему показались. А потом и засмеялся даже, только тихонько, про себя, остановился, сунул руки в карманы, огляделся вокруг. Как чудесно все, как замечательно! И люди все такие нарядные и симпатичные, и дома такие яркие, и лавочки уютно-заманчивые. А солнце-то, солнце, как сквозь сито, через листву густую просеивается и лучиками тоненькими ласкает твое лицо, не палит, не жарит, а именно ласкает. «Москва далеко, — опять подумал Вадим, — и там все забудется, все сотрется, выветрится все из памяти. А собственно, что такого я совершил? Да ничего. Ничего дурного».
На душе стало легко, и напряженность внутри исчезла, и скованность пропала, и он опять чувствовал себя легким, сильным, подвижным. И было приятно шагать по бульвару и едва заметно рисоваться вольной своей, раскованной походкой и открыто, чуть-чуть нахально смотреть в глаза проходящим женщинам — всем без исключения и красивым, и симпатичным, и совсем уж неприглядным. И приятно было ловить на себе их взоры, то строгие, то деланно-равнодушные, но всегда, как казалось ему, заинтересованные. А что? Он и впрямь парень ничего. Высок, строен, крепок, привлекателен лицом и одет не худо.
«Можейкина сама виновата, — успокаивал себя Вадим. — И издевательства над собой сама спровоцировала — ведь есть такая гипотеза, что жертва зачастую сама провоцирует преступника. А теперь не хочет говорить, кто это. Значит, ей так надо. И я здесь совсем ни при чем. Я поступил, как обычный порядочный человек, — он поморщился. Что-то не понравилось ему в этих рассуждениях, он никак не мог понять что. — Ну а в самом деле? Что, я милиционер, что ли? Что, это мой долг? Уж я-то скорей должен поступать по совести в таких случаях, а не по долгу».
И чтобы окончательно успокоиться, он решил, что надо все-таки действительно позвонить Можейкиной, а то и встретиться с ней, обговорить все еще раз. А вдруг изменилось что? Вдруг она сама уже хочет все рассказать? Так что же получиться может? Что это он, а не она преступников покрывает? И вновь пришло беспокойство, знакомое и нудное. Он остановился, поискал глазами телефонную будку. Обнаружил ее впереди метрах в сорока. Заспешил к ней. Но, пока шел, ее уже заняла приземистая коротконогая женщина с недовольным, потным лицом. Вадим встал возле будки так, чтобы женщина его видела. Она скользнула по нему взглядом и, казалось, даже не заметила. Неторопливо набрала номер, постояла немного, монетка так и не провалилась. Тогда она вынула из большой, плотно набитой и поэтому пузатой дерматиновой сумки бумажку, глянула на нее коротко и опять набрала номер. На сей раз монетка провалилась, и женщина произнесла громко и визгливо:
— Туфлей нету женских, австрийских?
Видимо, услышав отрицательный ответ, повесила трубку. Лениво достала еще монетку, опять посмотрела в бумажку и набрала номер:
— Алле, туфлей нету австрийских… Эй, обождика-ка, а дубленков? — выругалась и опять повесила трубку. И следующая монетка свалилась в железную утробу автомата:
— Эй, магазин… Ага. Белья нету постельного? Многа? Ага… — Она записала что-то на бумажке карандашом, предварительно послюнявив его, и опять полезла за двумя копейками.
Вадим отошел от автомата, но недалеко, чтобы опять не перехватили, обвел взглядом близлежащие дома, но телефонных будок больше не заприметил. Он вернулся обратно.
— Эй, магазин… Нету? Ага, — доносилось из кабинки.
Вадим вынул сигарету, прикурил. Дым показался противным и горьким. Сигарета полетела в урну.
Он наконец решился постучать в стекло кабинки. А в ответ только:
— Эй, магазин… Нету? Ага…
«Так сдвинуться можно», — подумал Данин и принялся нетерпеливо ходить взад-вперед. Потом остановился, вынул листок с адресом Можейкиной. «Ул. Блюхера», — прочитал он. Это недалеко, несколько остановок на троллейбусе. Надо подъехать поближе к дому и там уж позвонить, а то ждать здесь бесполезно. Он сделал уже несколько шагов в сторону остановки, когда скрипнула дверца кабины, и женщина наконец вышла из нее:
— Наглец, хулиган, — злобно прищурившись, процедила она и утиной походкой поковыляла прочь.
Хотел сказать ей вслед Вадим что-нибудь хлесткое, остроумно-обидное, чтобы разрядиться как-то, снять раздражение, чтобы поставить на место эту женщину-утку, а потом покривился и передумал. Поймет ли? Нет. Оскорбится только, еще злее станет, еще ненавистней на людей глядеть будет. Недобрала чего-то очень важного эта женщина в своей жизни. Радости, наверное, недобрала, ласки, благополучия. А теперь вот и злится на весь свет и сама не понимает почему. Злится, и все тут.
Вадим рывком открыл будку, ступил на поскрипывающий песком ребристый пол ее, отрывисто набрал номер. Ну конечно. Занято. Господи, как же мешают эти мелочи, как сбивают настроение! Он набрал номер еще несколько раз. Наконец-то!
— Алле? — Голос был тихий, потухший, испуганно-вопрошающий.
— Добрый день, Людмила Сергеевна. Это… вот даже не знаю, как представиться. Я вам, кажется, и фамилии своей даже не называл. Короче, я тот, кто в больницу вас отвез, в тот не самый, скажем так, удачный день нашей жизни. Вадим Данин.
— А-а-а, — без всякого энтузиазма протянула женщина. — Конечно. Помню. Мой спаситель. Добрый человек. — Вадиму показалось, что Можейкина тихонько засмеялась, и он недоуменно пожал плечами. — Я хочу еще раз поблагодарить вас. За все, что вы сделали для меня…
— Как вы себя чувствуете? Как настроение?
— Я? — переспросила женщина и сказала медленно и слабо, будто прошептала: — Неплохо, наверное. А может быть, плохо. Не знаю.
«Пьяна? Не в себе?» — подумал Вадим, а вслух сказал:
— Вас опрашивали? Следователь прокуратуры с вами говорил?
— Говорил. Давно уже. Симпатичный, молодой…
— Вы все помните, что отвечали ему?
— Я? Наверное, помню…
— Людмила Сергеевна, у меня просьба. Давайте встретимся. Опасаюсь, что по телефону нормального разговора не получится.
— Встретиться? Хорошо. Приходите… Хотя нет. Не надо. Скоро муж придет. Ко мне не надо. Лучше на улице. Хотя на улицу я не выхожу… А впрочем… На углу Блюхера и Тюринского переулка есть кафе-кондитерская. Можно там. Во сколько вы будете?
— Через двадцать минут.
— Хорошо.
Еще из будки Вадим видел, как к остановке подходит троллейбус. Повесив трубку, он выскочил из кабины и стремглав побежал к остановке. Успел в последнюю секунду. Двери едва не сдавили его с боков.
Улица Блюхера была оживленной, многолюдной и шумной. На первых этажах старых, еще довоенных громоздких домов располагалось множество магазинов, и манили эти магазины приезжих яркими своими витринами и рекламой самых разнообразных товаров. Такси, автобусы и «рафики» с загородными номерами, казалось, парковали здесь сутками.
Из дверей кафе-кондитерской выплывали теплые, сладкие запахи — запахи детства, беззаботности, безмятежности и беспричинной радости. Стоя у кафе, Вадим отыскал глазом дом, где жила Можейкина, ее подъезд — он выходил на улицу — и стал наблюдать за ним, делать все равно было нечего, он приехал немного раньше.
Он не сразу узнал ее, когда женщина вышла из дверей подъезда. В блеклом платьице она была, в неброском, матерчатом, каком-то мятом пиджачке. И вообще вся сама она была бесцветная и невыразительная. Чуть сутулилась, чуть покачивалась, как впервые поднявшийся после долгих дней, проведенных в постели, больной. Голова была опущена, и глаза на серо-бледном лице безжизненно смотрели под ноги. Она медленно подошла к переходу, остановилась на краешке тротуара, пропуская плотный, по-черепашьи движущийся поток автомобилей.
Вадим, собственно-то, не удивился. Все понятно, тяжелая травма, и физическая и психическая, даже самого сильного человека может выбить из колеи. Он не удивлялся, но почему-то уж очень муторно стало на душе. На мгновение ему подумалось, будто он и только он виноват в том, что вот эта, такая красивая, яркая и жизнерадостная женщина в одночасье превратилась чуть ли не в старуху, унылую, тусклую, сгорбленную. «Нет, — сказал он себе, — это мне только кажется, икажется из-за чем-то недавно вызванного и никак не уходящего раздражения».
Машины замерли перед светофором, а Можейкина так и не ступила на мостовую. Рядом с ней вдруг возник мужчина в маленькой кепке и короткой прорезиненной куртке. Он склонился к ее лицу и что-то говорил. Вадим видел, как меняется женщина в лице, как расширяются ее глаза, как кривится, приоткрывается рот, как рука в медленном испуге тянется к груди, к горлу. А парень что-то говорил и говорил ей. Теперь он даже держал Можейкину за плечо, и Вадиму почудилось, что длинные, крепкие пальцы его с силой впились в тело женщины. Машины снова поехали. Они мельтешили перед глазами и мешали сосредоточиться. А впрочем, и не надо было сосредоточиваться, надо было бежать к ней, бежать на помощь, как тогда. Потому что и сейчас там, на той стороне, происходило что-то нехорошее и злое. А еще через секунду он узнал этого парня, его фигуру, его повадку, очертания этой вот головы, втянутой в плечи, очертания этой вот крохотной кепочки. Он — один из тех трех, что били Можейкину. Не тот, за кем Данин гнался, а другой, тот, что стоял левее, и он даже что-то там еще говорил, кажется.
Вадим шагнул на мостовую. Пронзительный визг клаксона резанул по ушам, скрипнули тормоза, кто-то выматерился. Вадим отмахнулся и сделал еще несколько шагов.
Обозленно взвизгивая, застывали перед ним машины, едва не касаясь горячими своими мордами его ног, бедер. А Вадим, как слепой, толкался среди них, метался из стороны в сторону, изгибался, извивался, пытаясь выбраться из этого стального душного лабиринта. Под ноги он не глядел и на машины не глядел — лишь краешком глаза улавливал щель, куда можно проскочить, — он смотрел на Можейкину и на этого парня в кепке. Если что-то произойдет, он должен это хотя бы видеть, чтобы предотвратить, не дать ничему случиться, — как-нибудь, все равно как, хотя бы криком… Раздраженные вскрики клаксонов, тонкое повизгивание тормозов всполошили людей. Те, кто стоял у перехода, во все глаза смотрели на мостовую, и у ограды на тротуарах сгрудились кучки людей. И парня в кепке эти звуки тоже заставили повернуться. Он прищурился, будто почуял что-то неладное, еще больше сгорбился, напрягся, дернул губами, чуть оскалился, сверкнув ровным рядком зубов, стремительно повернулся к женщине, накрыл лицо ее ладонью, сжал его пальцами, сказал что-то, скривившись, оттолкнул ее голову и нырнул в толпу. Можейкина отпрянула назад и, теряя понемногу равновесие, мягко повалилась на бок. И тут автомобили, как по команде, словно вросли в землю — светофор преградил им дорогу. Сопровождаемый отборной бранью, выскочил Вадим на тротуар, бухнулся на колени перед Можей-киной, чуть встряхнул ее голову, несильно хлопнул два раза по щекам; и когда открыла она глаза — через мгновение открыла, через секунду — крикнул кому-то, кто рядом стоял: «Кто-нибудь, умоляю, отнесите ее к лавочке возле магазина. Я сейчас», — и кинулся туда, куда за несколько секунд до него побежал парень в кепке.
Он натыкался на людей, как недавно еще на машины, отталкивал кого-то, извинялся, кидался то вправо, то влево, отыскивая крохотный хотя бы просвет между ними. Он знал наверняка, что напрасна суматошная эта гонка его. Парень уже далеко, он свернул, наверное, в какой-нибудь переулок или подворотню или вбежал в ближайший подъезд или ближайший магазин, но все равно Данин пробивался сквозь толпу, потому что гнала его вперед неведомая ему сила, ему надо было сделать все до конца, чтобы не ругать потом себя, не упрекать, не корить, не терзать. Издалека теперь люди видели высокую фигуру его, решительное, чуть шалое от погони лицо, и за мгновение до того, как приближался он к ним, расступались они в стороны, давая ему дорогу. Вадим подался чуть вправо, к ограде тротуара, машинально взглянул вдоль нее и увидел парня. Тот бежал по мостовой, а не по тротуару, бежал, прижимаясь к отраде, чтобы не задели его проезжающие мимо машины. Вот оно как значит, не свернул он никуда — значит, стремится к определенной цели или просто дурак, ведь давно бы уже мог исчезнуть. Вадим прыжком перескочил ограду и тоже помчался по мостовой. Парень оглянулся, потеряв на этом несколько мгновений, и увидел Вадима, пригнулся еще ниже, и стремительней замелькали его ноги. Вадим тоже прибавил и понял, что нагонит парня, он бегает лучше, быстрее бегает, если бы еще не курил… Парень неожиданно перемахнул ограду, исчез на мгновение из виду, и потом Вадим снова увидел его кепку в толпе, она маячила светло-серым пятном среди темного моря голов, а затем исчезла. И Вадим догадался, куда она исчезла. Небольшой короткий переулок здесь был. Вадим достиг его — и ограда тут кончилась, и не надо было перескакивать ее — и снова различил парня, он подбежал зачем-то к табачному киоску, схватил какого-то малого, стоящего там, за плечо, и вместе они кинулись к припаркованной рядом машине, к такси. Малый влетел в кабину, на место водителя, парень в кепке нырнул в противоположную дверь, и тотчас сорвалась машина с места, чуть присев от толчка на задних амортизаторах. Автоматически скользнул Вадим взглядом по номеру, на всякий случай, может, пригодится, хотя вряд ли, зачем? А почему вряд ли, да хотя бы затем, чтобы преследовать сейчас эту машину. Он огляделся — ни одного автомобиля в переулке — пустой переулок, чистый, даже безлюдный, и не верится, что совсем рядом в двадцати шагах буквально, напористо катит такой густой и шумный людской поток. Он выбежал на улицу, встал на углу, выставил руку. Но он был здесь не один, много охотников и вперед и, и сзади него стояли, и всем позарез нужна была машина, и каждый спешил, а машины, словно дразнясь, посверкивали зеленым глазком и проезжали мимо…
Можейкина сидела на лавочке, опершись плечом на усталую дородную женщину с большим приветливым лицом, и невидяще смотрела перед собой. А женщина держала огромными толстыми пальцами кажущийся миниатюрным жестяной цилиндрик с валидолом и, пытливо глядя Можейкиной в глаза, вопрошала участливо:
— Ну как, милая, лучше? Лучше?
А Можейкина только покачивала головой, как китайский божок, и все. Вадим сел рядом, отдышался, улыбнулся дородной женщине, поблагодарил ее, взял Можейкину за плечи, повернул к себе.
— А-а, вы… — без выражения произнесла она.
— Я провожу вас домой, — сказал Вадим.
— Домой? Нет, не надо домой. — Можейкина нахмурилась, будто припоминая что-то, и взгляд ее стад осмысленным, она застенчиво улыбнулась, огладила платье на коленях; наклоняя голову то вправо, то влево, полюбовалась им, как девочка-подросток только что купленной обновой, и проговорила нормальным, твердым голосом: — Пойдемте съедим что-нибудь сладкое. Я так люблю сладкое.
Вадим изучающе посмотрел на нее, прищурился, раздумывая, потом поднялся и, поддерживая женщину за руку, помог встать и ей.
— Если что, я могу пособить, — басом предложила дородная доброжелательница.
— Спасибо, — еще раз поблагодарил Вадим. — Мы сами.
Можейкина шла довольно уверенно, но видно было, что уверенность эта дается ей с трудом, с усилием. Слишком правильно она шла, слишком прямо и слишком жестко. И глаза ее, широко раскрытые, не на улицу, не под ноги смотрели, а внутрь, в себя, она будто приглядывалась, оценивала каждое свое движение. Уловив состояние женщины, Вадим подумал, что опасения его, наверное, напрасны — с психикой у Можей-киной вроде все в порядке, раз так сосредоточенно вглядывается она в себя, прислушивается к себе. Просто не выздоровела, не пришла еще в норму после шока. Эти несколько шагов, пока шли до кафе, они молчали, молчали, и пока он столик подыскивал, где поудобнее расположиться, где поговорить можно без помех. В кафе было многолюдно, но не так чтобы очень. Приезжий люд любил поесть основательно, и поэтому в этот час обычные кафе и столовые были набиты битком, что не протиснуться, а в кафе-кондитерскую все больше горожане ходили, кофе попить, черный, крепкий, пирожное отведать — побаловать себя. А как только уселись за маленький столик возле окна, Можейкина проговорила неожиданно:
— Хамство какое, совсем распустились! — и посмотрела на Вадима.
Он не понял сначала, о чем это она, даже оглядел зал, полуобернувшись: потом догадался, но ничего не ответил, сделал вид, что разглядывает меню.
— Что я ему девочка, что ли, — продолжала Можейкина, но возмущения в ее голосе не чувствовалось. — Знакомиться на улице. Пристал и требует, чтобы я ему свидание назначила. Я отказалась, а он мне в лицо…
Только теперь Вадим поднял глаза и опять, ни говоря ни слова, посмотрел на нее в упор. Можейкина не выдержала нескольких секунд, отвела взгляд, нетерпеливо осмотрела зал, словно отыскивала официантку. Данин подвинул к ней меню.
— Спасибо, — сказала женщина. — Попросите официантку. Кофе хочется.
Но звать официантку не понадобилось, она уже спешила к их столику. Большими, желтоватыми, морщинистыми руками огладила скатерть — скорее по привычке, чем из-за желания быть приятной гостям, — произнесла без выражения:
— Говорите.
Он продиктовал заказ, и официантка ушла, унося с собой меню. Вадим потрогал вазочку с салфетками, поскреб ею по скатерти и спросил негромко:
— Они вам угрожают?
— Кто? — встрепенулась Можейкина, и глаза у нее сделались круглыми, как у птицы.
— Они вам звонят по телефону и угрожают, — не обратив внимания на восклицание Можейкиной, уже не вопрошая, а утверждая, продолжал Вадим. — Они караулят вас у подъезда в надежде, что вы выйдете прогуляться. А вы только в первый раз вышли сегодня с тех пор, как покинули больницу. Так?
Можейкина как-то обмякла в мгновение, словно подтаяла, как снежная баба в теплый солнечный день. Веки отяжелели, надавили сверху на глаза, обвисли щеки. Она прошептала, выдыхая:
— Я не знаю, о чем вы…
— Знаете, — жестко и тихо сказал Вадим. — Все вы знаете. Не делайте из меня дурака.
Он понимал, что ведет себя жестоко, что не должен он так говорить с больной, потерявшей интерес к жизни женщиной. Ему, наоборот, надо было сейчас жалеть ее, успокаивать, улыбаться, говорить ласковые слова… Но он хотел знать правду, ему невероятно хотелось знать правду.
— Кто они? — спросил Вадим. — И почему вы не хотите, чтобы их наказали? Они же чуть не убили вас. Они преступники… И я, болван, ничего не рассказал следователю. Но если вы не скажете сейчас мне, кто они, я немедленно пойду в прокуратуру и…
Она не дала Вадиму договорить, стремительно протянула к нему руки, сбив при этом вазочку с салфетками — она мягко покатилась по столу и звонко шмякнулась об пол, — цепко ухватила его руки пальцами и с силой замотала головой. Она хотела что-то сказать, но, наверное, перехватило у нее дыхание, и вместо слов Вадим услышал хрип. А потом худые, острые плечи ее задергались, словно в конвульсии, голова запрокинулась, закатились глаза, и пальцы еще сильнее впились в его руки. «Припадок, — тоскливо подумал Вадим. — За что же мне все это?..» В зале уже обратили на них внимание, многие осторожно оборачивались, а некоторые и попросту бесцеремонно разглядывали.
Женщина с мелким лицом, что сидела рядом, поморщилась брезгливо и прикрыла ладонью глаза маленькой девчушке, которая болтала ножками на стуле и, широко разинув ротик, разглядывала Можейкину. Какой-то низенький мужичок приподнялся было со своего места, наверно, чтобы помочь, но тотчас плюхнулся обратно, усаженный твердой рукой плотной, крутоплечей дамы. Вадим уловил все это краем глаза, пока вставал с места, пока наклонялся над Можейкиной, пока растерянно шептал ей что-то на ухо и, не зная, что предпринять, обмахивал салфетками ее бледное, покрытое испариной лицо. Вот он увидел официантку. Она уже стояла рядом и встревоженно наблюдала за ним и за Можейкиной. Поднос в ее руках дрожал, и чашки на нем ритмично позванивали. Вадим машинально схватил одну чашку, подул зачем-то на кофе, хотя он и так был не очень горячий — руку не обжигал, пальцами приоткрыл Можейкиной рот и влил туда полглотка, а через секунду еще столько же. Подействовало. Женщина перестала дрожать. Плечи ее обвисли, застыли. Можейкина вздохнула, покрутила вяло головой и закрыла глаза, а когда открыла через мгновение, лицо у нее уже не было таким отрешенным и безжизненным. Посетители теперь уже откровенно разглядывали их. И даже буфетчица, махнув рукой на очередь, перегнулась через стойку, во все глаза глядела на них и охала.
— Может быть, «скорую»…
— Врача, конечно, бы надо… Солнечный удар, наверно…
— Да вы с ума сошли, в помещении-то… — слышал Вадим голоса и чувствовал при этом неудобство и неловкость. И надо было поскорее выйти отсюда, забыть о Можейкиной, о прокуратуре, о насильниках. Выйти, подставить лицо солнцу и идти, куда глаза глядят…
— Людмила Сергеевна, все в порядке? — спросил он, разглядывая Можейкину.
— Да, все в порядке, — неожиданно радостно откликнулась она. — А что-нибудь случилось?
Вадим заглянул ей в глаза. Играет? Да вроде нет, слишком уж естественна она. Да и бледность имеется, и испарина, и побелевшие ногти на пальцах, и пульсирующие жилки на шее и у виска. Он, конечно, не врач, но в психиатрии разбирается немного, интересовался когда-то, читал, кое-что видел. Да и зачем ей играть? Чтобы отвлечь его от разговора о прокуратуре, о преступниках? Глупо. Наоборот, он станет любопытствовать еще больше.
— До дома дойдем? Здесь недалеко, я помогу. Хорошо? — Он говорил с ней сейчас, как с маленькой девочкой, которая упала и больно расшибла ножку, как его дочка несколько дней назад.
Можейкина кивнула согласно. Прежде чем встать, она расправила платье на коленях, опять полюбовалась им, наклоняя голову то вправо, то влево, а затем легко и непринужденно поднялась и встала рядом с Вадимом, улыбающаяся и беззаботная, как школьница. Данин расплатился с официанткой, взял Можейкину под руку, и они направились к выходу. На улице Можейкина зажмурилась от солнца, потянулась, как после хорошего сна, и замурлыкала что-то себе под нос. Вадим молчал. Он боялся сейчас говорить с ней, спрашивать ее. Возле подъезда женщина опять поглядела на свое платье, потом выпрямилась, поправила воротничок, горделиво посмотрела на Вадима, повернулась один раз вокруг себя и спросила:
— Хорошее платьице, правда?
Вадим машинально кивнул.
— Вот, — и Можейкина вдруг показала ему язык. — Это мне мама купила, на день рождения.
Повернулась и потянула на себя дверь.
— Вас проводить до квартиры? — растерянно предложил Данин.
— Это еще зачем? — обиженно произнесла Можейкина. — Я уже взрослая.
Вадим закурил, постоял некоторое время, раздумывая и хмурясь при этом, потом не спеша двинулся по улице.
Проснулся тяжело, с усилием приоткрыл глаза — веки будто приклеились друг к дружке, хмыкнул даже, вяло представив, как пальцами растопыривает их, как придерживает, чтобы не дай бог снова не потянулись они друг к дружке, не слиплись намертво. Обычно по утрам легкости особой он не ощущал, но тяжести тоже. А сегодня вот как-то вязко было, сонная вязкость тело его сковывала. И вставать не хотелось, и одеваться не хотелось, и завтракать, и на улицу выходить, и на работу бежать… И лень, не лень, а состояние такое, словно всю ночь проплакал горько, навзрыд, все силы на это выложив.
Когда вернулся вчера от Можейкиной, все места себе не мог найти, все слонялся по квартире, все порывался уйти снова, только не знал куда, где спокойствие обрести, кто поможет ему вернуть прежнее привычно-беззаботное состояние. Все прикидывал и проигрывал варианты и один за другим отбрасывал, морщась с досады, злясь на себя, жалея себя, — что вот не обрел он в жизни своей места такого, где мог от мыслей душных освободиться — да, пожалуй, и не от мыслей даже, а так от неудобства, от ломоты душевной; что и человека такого не нашел, которому без стеснения, без оглядки, разом, сбивчиво можно было бы поведать о непонятностях своих, — и никаких советов не надо было бы ему и сочувствия, а надо было, чтобы просто человек этот ему приятен был, его человек, да и крепкий к тому же, надежный, не нюня…
Читать не читалось, телевизор раздражал, сумерки за окном и вовсе тоску нагоняли, безнадежную какую-то, беспросветную. Он попытался о чем-нибудь приятном вспомнить. Завтрашний день представить. Не смог, не получилось, все радости и приятности и вчерашние, и завтрашние пустячными, безмерно мелкими виделись, мало того что мелкими — ненастоящими. Подумал, может, выпить. Есть вон в баре целый арсенал напитков различной крепости и окраски. Вон они стоят, манящие яркие бутылки с настоящим мужским лекарством — панацеей от всех бед и горестей. Потянулся уже в зеркальное нутро полированной тумбы, но замерла рука в воздухе на полпути — вспомнил, что странное действие на него в последнее время спиртные напитки оказывают — не бодрят и не дурманят, лишь сил убавляют, голову тяжелят, не контрастируют краски вокруг, как раньше, — так стоит ли?
Вадим выключил телевизор, и телефон выключил, автоматически отметив, что вот уже несколько дней боится он телефона, морщится болезненно, когда вдруг резко начинает вызванивать он, — разделся, бросил одежду на пол и повалился на диван…
Однако все, хватит. Надо идти на работу. И хорошо, что надо, просто замечательно, что надо, не будет там времени задуматься, копаться в себе, покончить с сомнениями — все дела, дела, может быть, и не нужные тебе дела, может быть, и попросту не твои дела, но все-таки дела — работа. И выхолостит беготня эта и суета все то, что исподволь тревожит его, и снова обретет он ту самую безмятежность, в которой так привык пребывать, в которой так хорошо ему всегда было, так сладостно — поменьше тревог, поменьше волнений. Мельтешение знакомых лиц, бессмысленная болтовня в коридорах, смешки, шуточки, десятки разных привычных мелочей — и он станет таким же, как и прежде, забудет обо всем, наплюет на все. Прочь неудобства, да здравствует душевный комфорт!
Окно во всю стену — как экран для широкоэкранного и широкоформатного показа. И треть города в него вмещается, если у самого окна стоять, а если к дальней стенке отойти, то четверть, а может, и того меньше. А может, и вообще только десятую часть видишь, где бы ни стоял. Но все равно картинка что надо — крыши, чердаки, темные провалы беспорядочных переулков, окна, осыпавшиеся карнизы, голуби и почему-то дым в двух-трех местах. Откуда? Неужто камины сохранились? А что за крохотная серебряная точка небо прошивает? НЛО? Мираж? Все проще — самолет. Скучно. Всего лишь самолет. Данин затянулся и выдохнул дымок на окно. Дымок растекся слоисто по стеклу, замер, будто задумался, и обреченно потянулся вверх. На стекле быстро исчезал мутный запотевший кружок… На семиэтажном доме крышу красят. Мужики в спецовках по самому краю ходят, полшага, и тю-тю. И не боятся, черти, как по тротуару шастают. Вон девчонка в окне дома напротив промелькнула, вроде хорошенькая. Ну-ка, покажись еще. Совсем ничего, свеженькая, глазастая. Только что-то с одеждой у нее не в порядке — блузка красная, юбка зеленая.
— Теперь так модно? — спросил Вадим, ни к кому не обращаясь.
Никто ему ничего не ответил.
— Хомяков, скажите, пожалуйста, — не оборачиваясь, опять подал голос Данин. — Вы тоже модный? У вас черные пуговицы к серому пиджаку красными нитками пришиты?
За спиной у Вадима фыркнули по-собачьи. А Хомяков и впрямь на пса похож — на пекинеса, противненького такого, со вмятой мордой. И Татосов тоже на пса этого похож, и на Хомякова. Татосов и Хомяков вроде как «двойняшки». «Ученые», — хмыкнул Вадим и обернулся. Левкин почему-то слишком поспешно отпрянул от Маринки, с которой сидел рядом и что-то ей объяснял с карандашом в руках. Целовались, что ли? Не… Если б целовались, то Татосов и Хомяков давно бы в обморок попадали, валялись бы сейчас и всхрипывали, и пришлось бы «скорую» вызывать, деньги на апельсины собирать… А Левкин мужик ничего, здоровый, громогласный, разухабистый, только уж больно хозяйственный, все свертки да сумки, колбаса да молочко. А когда на Маринку смотрит, у него глаза, как у коровы, делаются.
— Нет, правда, — сказал Данин. — Скажите, Хомяков, это вам кто подсказал или сами додумались, или в журналах заграничных углядели брюки по щиколотку носить, а под ними оранжевые носки? — Вадим сел за свой стол, почесал висок. — Ведь у вас же жена есть. Она что, не следит за вами?
Татосов вскочил с места и засопел, задыхаясь. Сколько ему лет? Пятьдесят три? Пятьдесят пять? Левкин с неохотой оторвался от Маринки, скрипнув стулом, поднялся и примирительно сказал Хомякову, предварительно погрозив Данину кулаком:
— Не обижайтесь, Анатолий Иванович. Вы у нас недавно и не знаете Данина, он так шутит. У него вот юморок такой. — Он многозначительно покрутил пальцами возле лба.
— Ну знаешь ли, — сказал Данин и сладко потянулся.
Хомяков пробормотал что-то про издевательство и не обсохшее на губах молоко, но послушно сел. А Татосов и вовсе голову не поднял, пока Данин, Левкин и Хомяков так занимательно беседовали.
Вадим поковырялся в бумагах, стал что-то писать, через пару минут отбросил ручку, подвинул к себе телефон, снял трубку. Она гудела, и Вадим тоже загудел вместе с трубкой:
— У-у-у-у-у-у-у, — в одной тональности тянул он.
— Это невозможно, — негодуя, хлопнул ладонями по столу Хомяков.
— А вас не спрашивают, — сказал Данин.
— Вадим, — зло одернул его Левкин. — Что с тобой? Ты сегодня особенно дуришь.
— Все, все, все, все, — сказал Данин, взял ручку, опять начал писать и чуть не заплакал…
А потом Данин пошел в буфет и взял себе кофе, томатный сок, ветчину и хлеб. Намазал ветчину горчицей и стал жевать. Вокруг ходили сотрудники, его коллеги, кивали ему, здоровались. И он кивал и здоровался. Кофе был горячий, и Вадим обжег язык, и он стал чувствительный и шершавый, и некоторое время теперь противно будет курить. «Тогда не буду курить, — решил Вадим. — Это полезно». Вокруг за столами тоже пили и ели, где-то смеялись, но в общем-то было тихо. В институте работали культурные люди. Вадим допил сок, взял пальцами стакан за кромку и крутанул его, стакан заплясал, дробно стуча гранями по столу. Вадим взял второй стакан и сделал то же самое. Два стакана гремели в два раза громче. Подошла уборщица, собрала стаканы и сказала, что Данину надо лечиться. Данин согласился, но сказал, что на пару у них это лучше получится. В буфет вошли Хомяков, Татосов и Левкин. Левкин нес сумку, большую, черную, хозяйственную, из дерматина. Проходя мимо Данина, Хомяков брезгливо отвернулся, а Вадим хотел подставить ему ножку, но не получилось, тот далеко был от стола. Оказывается, что очередь вдруг увеличилась. Вадим и не заметил когда. Кто-то за спиной сказал, что, оказывается, привезли колбасу. Но Хомяков, Татосов и Левкин упорно встали в самый хвост. Минут на сорок. Данин прошелся взглядом по очереди — тетки из бухгалтерии, линотиписты, уборщицы и вахтеры. Научных сотрудников раз, два и обчелся. И понятно, им работать надо. А Хомякову, Татосову и Левкину не надо.
— Левкин, — громко сказал Вадим. — В мясном на углу дают котлеты по тринадцать, тебе бы взять штук пятьдесят. Дешево, и готовить не надо. А в универмаге постельное белье арабское, пять комплектов в руки. Ага, Левкин, хорошее белье. А еще апельсины, а еще…
Левкин покраснел, но из очереди не вышел. Все смотрели на Вадима, и все его не любили. Особенно Хомяков и Татосов. Хомяков вполголоса сказал, что таких перевоспитывать поздно, их надо ликвидировать. Вадиму стало скучно, и он ушел.
Марина что-то увлеченно писала и, водя ручкой по бумаге, шевелила губами, как школьница, еще бы язык надо было высунуть и носом пошмыгать. Она красивая сегодня была. Она всегда была ничего, но сегодня особенно. В белом платье с голубой оторочкой. Уютная, домашняя. Старательная. Вадим подошел и сел рядом, на тот стул, на котором сидел Левкин, и стал смотреть, как она пишет. Марина подняла глаза, улыбнулась рассеянно и опять зашуршала по бумаге. Вадим смотрел. Затем наклонился и поцеловал ее под ухом. Марина по привычке хмыкнула, и замерла, и натянулась в струну, и не решилась на Вадима взглянуть. А Данин опять наклонился и поцеловал ее в щеку, а потом в уголок губ, а потом мягко взял ее за подбородок, повернул к себе, и, глядя в открытые ее глаза, поцеловал в губы. Они поддались поспешно и с горячностью. Ручка полетела на стол. Теплые ладошки обхватили его лицо и сжали, подрагивая. Наконец, задыхаясь, они разняли лица и посмотрели глаза в глаза, недоумевая и радуясь. И Вадим вдруг стал маленьким, и ему захотелось, чтобы его погладили, и погрели, и покачали, и побаюкали. И еще ему хотелось уткнуться в упругую Маринкину грудь и никого не видеть долго-долго. Он провел рукой по глазам и сказал себе: «Нет, нет! Я сильный, я держусь, я всем вам…» Показал Маринке язык, покривил губами, встал и подошел к окну. Он знал, что Маринка смотрит ему в спину, и знал, как смотрит.
К вечеру он выпросил у Рогова четыре отгула.
Митрошка. Что это? Имя? Прозвище? И кто этим именем-прозвищем назван? Женщина? Мужчина? Молодой? Старый? Но он точно помнил, что Можейкина сказала именно так — Митрошка. «Сумку потеряла, оставила, наверное, у Митрош-ки…» И где, интересно, эта диковинная Митрошка проживать может, на какой улице, в каком доме? Естественней всего, конечно, предположить, что именно в том доме, во дворе которого вся эта история и произошла. Но почему на улице тогда эти четверо отношения выяснять стали? Почему не в доме? Не в квартире? Но, впрочем, и это объяснить можно — там Можейкина в прострации находиться могла, в полуобморочном состоянии, а вышла на улицу — полегчало ей, прояснилась голова, вскипела злость… Ходил Данин по комнате упругими, быстрыми шагами, тер лоб, виски пальцами, потому что туго что-то соображалось, не виделось, как отыскать ему бесполого пока Митрошку, а с его помощью попробовать «дружков-приятелей» Можейкиной установить. Еще вчера он решил выяснить, кто же они такие? Где живут? Чем занимаются? Ему же легче, чем ребятам из уголовного розыска и из прокуратуры, он же больше знает. Он должен был сообщить им все это, но не сообщил, а теперь поздно. Он ведь расписался уже об ответственности за дачу ложных показаний, теперь если придешь и все по-новому расскажешь, не так, как прежде, привлекут к суду. А впрочем, привлекут ли? Надо бы с юристом посоветоваться, с юристом-практиком, со знатоком всяких там отношений с милицией, прокуратурой. Да вот нет у него такого юриста, знакомого, а в юридическую консультацию не пойдешь. Ну да ладно, завтра-послезавтра найдем и юриста, а пока нечего попусту растрачивать с таким трудом выхваченные отгулы. Все равно не пойдет он в милицию. Стоит только лицо Можейкиной вспомнить там, за столиком в кафе, и всякое желание отпадет туда идти, этой женщине и так досталось круто и без него, а с его помощью и вовсе худо станет. Пока подонков этих отловят, они многое способны с ней сделать — терять им нечего, не они сами, так из окружения кто… Хотя… хотя, кто его знает, в этих россказнях о мщении и тому подобном болтовни больше, чем правды, но все же рисковать не стоит. Нет, точно не стоит. Он сам способен их найти, наверняка способен, недаром жизнью и деятельностью такого замечательного российского сыщика, как Николай Румянцев, занимается. Пока читал о нем документы, воспоминания, и сам немного к сыску приобщился — методику розыска, последовательность хотя бы в общих чертах, но узнал.
Значит, основная задача такая — установить их и анонимку в милицию или там в прокуратуру забросить, и все, и миссию свою он считай выполнил.
Митрошка. Первый и основной пока пункт. Митрошка и сумка. А начнем, пожалуй, все-таки именно с этого дома, где все и произошло. Не надо ничего усложнять, все может оказаться предельно элементарным. А Вадим чувствовал шестым, седьмым, восьмым каким-то чувством, что связаны они все с этим домом — и Можейкина, и трос этих… Ну а если, как говорится, «прокол», вот тогда и будем думать, что делать дальше.
Все вокруг теперь иначе ему виделось: и люди, и дома, и деревья — праздничней, радушней. И солнце светило иначе, ярче, веселей, нежней для него светило: и воздух утренний именно тем самым казался, утренним по-настоящему, свежим, бодрящим — не городским — и упругим к тому же, его потрогать даже можно было, кончиками пальцев осязать можно было, до того хорош он, до того плотен и чист. И сам себе Вадим другим казался, совсем не таким, как вчера, позавчера или даже неделю назад.
Сегодня Вадим обрел прежнее состояние, когда каждую клеточку тела своего чувствуешь, когда все движения свои — походку вольную, уверенную, полуулыбку на крепком лице, будто со стороны видишь и со стороны оцениваешь. И осмотром этим доволен весьма, и оценку очень даже высокую выставляешь. Теперь он знал, что может, знал, что есть у него резерв, запас прочности есть. Правда, когда на Звездном бульваре из троллейбуса картинно-элегантно выпрыгнул, когда чуть небрежной — «делоновской» походкой по тротуару зашагал и взгляды женские заинтересованно-любопытствующие уловил, огорчился вдруг, неожиданно для себя подумав: а не играет ли он сейчас в сыщиков-разбойников? Не игра ли это для него? Серьезная, нужная, но все же игра… Но в хорошем он пребывал сегодня состоянии духа, и поэтому мысли эти долго не задержались. В конце концов, решил он, даже если и есть в начинании его элемент игры, то это тоже неплохо, значит, легче дело пойдет, уверенней он держаться будет…
И днем переулок этот таким же неприветливым и пониклым казался, как и ночью, будто тень со всего города здесь собралась, весь серый цвет на стенах домов-глыб сконцентрировался. И если ночью мрачноватость, унылость эта естественной казалась — темнота как-никак, а в темноте и самый развеселый дом неприглядным покажется, то днем он просто пугал настороженной угрюмостью своей, холодными, так ни разу и не угретыми солнышком стенами зданий, только что не осклизлыми они были, и небо виднелось над головой, а так полное ощущение, словно в погреб спустился. Поскорее пройти этот переулок хотелось, припуститься бегом, чтобы выйти побыстрее на светлые, опрятные, разгоряченные летней жарой улицы города.
Вот и дом, тот самый, злосчастный. Во двор Вадим заходить не спешил, прошелся — руки в карманы — по другой стороне переулка, улыбаясь, как бы любопытствуя, пробежался цепким взглядом по окнам — совсем непримечательные окна, глухие, отчужденные, наверное, и на быт живущих здесь унылость переулка отпечаток свой накладывает. Данин вразвалочку пересек мостовую, вошел в арку, темную, с низким сводом, чтобы только экипаж проехать мог, — совсем старенький дом, дореволюционный еще — и очутился в колодце двора. Ничего необычного, лавочки возле двух подъездов, бачки мусорные, детская площадочка крохотная, щербатым, низким заборчиком огороженная. И никого. Пустота во дворе. И немудрено, почти одиннадцать уже, на работе люди, кто не работает — домохозяйки, старики — по магазинам пошли. Жалко, что стариков нет, можно было бы поболтать о том о сем, невзначай про Митрош-ку спросить. Он, собственно, на это и надеялся. Не бегать же по подъездам, не звонить по квартирам и выспрашивать: «Где здесь некто такое проживает, Митрошкой называется?» Дети тоже помочь бы могли, они иной раз больше стариков про свой дом знают. Но и они отсутствовали — на каникулы разъехались кто куда ребята. Рано пришел Данин, но не мог терпеть более, поскорее, поскорее хотелось ему дом этот увидеть, разглядеть повнимательней, быстрее все выяснить хотелось, нетерпение его жгло. Ну как быть теперь? Что делать? Вадим вынул из заднего кармана какую-то бумажку мятую, потертую, с давно ненужными телефонами, посмотрел на нее внимательно, покачал головой недовольно, повернул обратно к арке. Это он на всякий случай проделал, кто его знает, может, этот самый Митрошка сидит сейчас у окна и за ним наблюдает, а так вроде человек не туда попал, куда нужно. Пошарил глазами по переулку, ни одного магазинчика, как назло, ни приемного пункта прачечной и ни сберкассы, ничего такого, что вот на таких маленьких улочках бывает в первых этажах стареньких домов. Он двинулся вверх по переулку к широкой и прямой, новыми, современными домами застроенной улице Ангарской. Он помнил, что там где-то неподалеку от переулка, на углу в не снесенном еще, но уже давно к этому подготавливаемом доме гнездилась маленькая, затхлая, грязненькая пивнушка, по недосмотру чьему-то еще уцелевшая. Все может случиться, может, и застанет он там кого, кто сообщит ему что-нибудь дельное.
Она там и находилась, в том самом трехэтажном, десятки раз крашенном в самые невероятные цвета стареньком доме. Последние года два цвет был приемлемый, зелено-желтый — не ласкал глаз, но и не раздражал. Уже на подходе к пивнушке кучками стояли завсегдатаи. Вялые с утра и дерганные одновременно, вздрагивающие от окрика, от шума неожиданного. Беседы здесь велись незамысловатые, все больше о спорте, о работе, о соседях. Пока еще негромко разговаривали, голоса были тусклыми, бесцветными, не подействовало еще пиво.
Вадим вошел внутрь, Кислым духом пахнуло, резким запахом подтухшей копчушки по ноздрям ударило. Глубокая тоска, написанная на отекших, небритых, бледных лицах, в глаза бросилась. Данин еще разок оглядел зальчик и около стойки справа от автоматов увидел, как ему показалось, то, что нужно. Трое мужчин там стояли. Основательно пили они огромными, в треть кружки, глотками — только кадыки судорожно елозили по шее, толстыми пальцами тщательно и сосредоточенно чистили рыбу. Но самое главное, что двое из них в шерстяных спортивных костюмах были, значит, живут совсем неподалеку, и лица у них были нормальные, чистые, свежие лица здоровых сорокалетних мужиков. Не тряслись они с похмелья, не кричали, перебивая друг друга, а разговаривали чинно, негромко. Вадим отыскал свободную кружку, пристроился рядышком. Мужики о каких-то своих делах заводских беседовали, рассудительно беседовали, обстоятельно. На Вадима внимание не обращали, много сейчас по городу таких ребятишек ходит — джинсы, курточки, кроссовки.
Контакт с ними Вадим установил быстро, попросил спички, хотя зажигалка у него в кармане лежала, угостил своими заморскими сигаретами «Винстоном» — в Ленинграде новые друзья подарили. Мужики взяли сигареты, затянулись с опаской, поморщились, но нового знакомого своего обижать не стали и принялись докуривать через силу. Они узнали, что Вадим инженер, работает тут неподалеку в одном управлении, а он, в свою очередь, узнал, что они с кабельного завода, а живут ну просто в двух шагах отсюда.
— О, так вы здешние, — обрадовался Данин. — Я же ведь тоже здесь жил раньше, ох, давно это было, лет пятнадцать назад. Хорошее раньше пиво, говорили, тут было. Всегда свежее, душистое…
Мужики закивали согласно, раньше все было лучше, а вина какие были, дешевые, вкусные, а колбаса, а рыба, да что говорить…
Вадим засмеялся. На него посмотрели с удивлением.
— Да вот вспомнил человека одного забавного. Не появлялся, интересно, здесь? Митрошкой называют.
Мужики пожали плечами. Один, постарше, с могучей шеей, попытался было вспомнить, но не смог.
— Да мы, собственно, недавно здесь живем, — сказал он. — И не знаем толком никого.
Вадим расстроился. Опять кого-то искать надо, болтать с кем-то о всякой ерунде.
— А ты знаешь, — добавил мужик после паузы, во время которой хватанул полкружки. — Ты у Долгоносика спроси, у этого, значит, Михалыча, Долгоносик — это кличка такая. Здесь его все так прозывают. Он в твоем переулке, сколько себя помнит, живет.
— А он здесь? — с энтузиазмом (совсем не показным) спросил Вадим.
— А вон, — мужик махнул рукой. — Пиво наливает.
Вадим обернулся. Нос у Михалыча действительно был долгий. Красный, пористый, отвислый, безвольно к верхней, пухлой губе припадающий; в кургузом заношенном пиджачишке мужичок он был, в коротких брючках, в стоптанных сандалиях на босу ногу.
— Эй, Михалыч, — гаркнул толстошеий мужик. — Поди-ка.
Михалыч глянул вяло, кивнул и, когда из кружки вспучилась пена, а потом потекла неторопливо по стенкам ее, Михалыч зашаркал в их сторону. Был он стар уже, и глаза его слезились, и от того трогательно-скорбный был у него вид.
— Чего? — стылым голосом спросил он.
— Да вот паренек знакомыми интересуется, говорит, жил здесь когда-то.
Долгоносик глянул на Вадима сначала безучастно, потом оглядел его с ног до головы, и в глазах блеснула искорка. Вадим понял, что мужик оценил его, сколько с него за хороший разговор кружек снять можно. Он вытащил рубль, огляделся, делая вид, что ищет что-то:
— Где бы разменять, размен-то закрыт?
Один из мужиков протянул руку:
— Это мы ща мигом. Давай, если доверяешь.
И умчался за дверь.
Глаза у Долгоносика подобрели.
— Где жил-то? — прошуршал он.
— В переулке, Каменном.
— Дом?
— Шестой.
— Не помню чего-то я тебя. — И в глазах у Михалыча снова безучастность. — А фамилия?
— Квашнины мы.
— Не помню, я здесь всех знал.
Вадим чертыхнулся про себя. За один миг все рухнуть может.
— У меня отец военный был, мы здесь недолго жили. Но я все помню, каждый день.
— Отец полковник?
— Ага, полковник.
— Припоминаю, припоминаю, — он сощурился. — Машина еще у вас была.
— Да, да, да, — расплескивая по губам довольную улыбку, зачастил Вадим.
— Но не Квашнин фамилия того полковника была. — Михалыч печально уставился на дно кружки. Там оставалось еще на полглотка.
— Да Квашнин, Квашнин, — с горячностью произнес Вадим.
— Да? — скептически глянув на него снизу вверх, спросил Михалыч.
Прибежал с двадцатками Леха. Схватил кружки, пошел к автомату.
— Я вот даже Митрошку помню, — радостно сообщил Вадим.
— А кто же ее не помнит, поганую эту старуху, все ее помнят, змеюку подколодную, кляузницу чертову. И на вас жалобы писала, что ль?
— Было дело, — горестно покачал головой Вадим.
— Змеюка, — повторил Михалыч. — А сейчас честных людей обирает. Квартиру сдает, чуть ли и не по сотне в месяц.
— Для студентов дорого…
— Да не студентам. Тоже молодому какому-то, но не студенту. Белобрысый такой, статный.
Вадим выдохнул неслышно задержанный на секунду воздух.
— Она в четвертом доме, кажется, жила, да?
— В каком четвертом, седьмом. Аккурат и в седьмой квартире, раздери ее качель!
— Да-а, — протянул Вадим и от радости выпил целую кружку. Пошло везение, теперь только не упустить, попридержать его, хотя бы на некоторое время, хотя бы на сегодня, чтоб с Митрошкой этой не сорвалось ничего.
А потом они о пустяках болтали. Михалыч разошелся, вспоминать детство принялся, юность нелегкую, войну, заплакал, кружку выронил, разбил…
Вадим вышел только через час.
Вышел, унося помойные, душные запахи пивнушки, непременные эти спутники любителей таких вот специфических заведений. Из хорошего бара пивного хлебный аромат свежего пива с собой уносишь, дымный запах шашлыка, приятное благоухание свежесваренных креветок, а отсюда вот только въедливый дым дешевых сигарет, тошнотворно-душноватые запашки подкисшего пива и копченой рыбки с «гнильцой». И долго еще прелести эти из твоей одежды выветриться не могут, крепко к ней пристают, мертво. Но разве такая мелочь, совсем безобидная, может сбить деловое твое настроение, когда все так благополучно складывается? Нет, конечно.
И вот Вадим снова у дома, снова ныряет в арку, торопливо пересекает двор…
А как в подъезд вошел, остановился, замерла нога на полушаге — он же ведь и не подумал, что бабке говорить будет, кем представится, а наобум, наудачу лезть глупо. Студентом представиться, ищущим квартиру? Ах, у вас занято? Посоветуйте тогда, к кому обратиться здесь поблизости, уж больно мне места эти нравятся… Можно и так, можно и так. Вполне пригодно. А как вести себя? Скромно, застенчиво или нагловато, разухабисто? Нагловато лучше, наверное. Разухабистые, развеселые, нагловатые меньше подозрений вызывают. Милиционеры-то они все серьезные, вдумчивые, во всяком случае, большинство именно так их представляет. Ну что, изготовился? Вдох глубокий, шумный энергичный, выдох — и вперед…
Дверь старая, одного возраста с домом, наверное, — неопределенного цвета краска давно уже облупилась, кое-где и просто отвалилась, внизу особенно, будто кто лежал под ней долго и скребся, скребся ногтями нестрижеными. Хрипловато тренькнул звонок, ответили на него мигом, гаркнули так же хрипло, только пониже тоном: «Счас!» Голос женский, бабкин, наверное. А если еще кто в квартире есть. Да ничего страшного. Ищу квартиру, и все тут.
И в мгновение ожгло Вадима страхом. А если там белобрысый или тот, в кепочке, что к Можейкиной возле дома приставал и за которым Вадим гнался? Но щелкнул замок, стала дверь приоткрываться понемногу, и отступать было уже поздно. С невероятным усилием выдавил Вадим из себя эдакую шалую, пьяноватую улыбочку, машинально ключи от дома с большим автомобильным брелком достал, стал поигрывать ими, чтобы руки успокоились, чтобы дрожь в них прошла. Блеснули в темном проеме настороженные глаза. Потом дверь открылась шире, и предстала перед Вадимом костлявая старуха лет семидесяти, а может, и восьмидесяти, а может, и девяноста, с большим, крепко поджатым ртом, с носиком коротким, остреньким, с глазами-кругляшками цепкими, спокойными. Застиранное платьице из сатина сидело на ее худосочных плечах неуклюже, как на вешалке.
Глянула она ему в глаза пристально, изучающе, потом с ног до головы взглядом окинула и опять в глаза уперлась. Льдистый был у нее взгляд, нехороший. Но вот глаза подобрели (с чего бы это?), усмешка в них появилась. Кивнула она на ключи, спросила надтреснутым, прокуренным — показалось даже, что дымок легкий из рта повалил — голосом:
— А че не Витька приехал?
Стоп! Его за кого-то приняли, за кого-то своего, но незнакомого. Осторожно! Соберись! Пока он старательно прикидывал, что ответить, бабка сама за него уже все решила.
— Не его смена, что ль? Сменщик ты его, что ль?
— Сменщик я его, бабуль, сменщик, — весело ответил Вадим. — Корешки мы с ним закадычные, из одной миски, бывало, хавали…
— Это где же это? — подозрительно спросила старуха.
— Есть места, бабуль, лучше не знать, — беззаботно заметил Вадим.
— Ну-ну, — прохрипела Митрошка. — Заходи, коли так. — И пошла сама в глубь квартиры, ворча на ходу.
— Эх, фраерки захарчеванные, присылают незнамо кого, молодые, НКВД на них нету…
Ну прямо как в кино — и старуха необычайно колоритная, и квартира у нее, больше на «малину» смахивающая, чем на обитель престарелого человека. Правда, на «малину» нынешнюю, не двадцатых годов, потому что обои здесь были импортные, обстановка — даже в прихожей, — тоже импортная, изящная. Но что-то здесь не так было, необжитокак-то, временно, словно с минуты на минуту приедут грузчики и снесут всю мебелишку в свой большой специальный автомобиль…
— Что это ты, бабулька, там про энкэвэдэ чирикнула, не накаркай беды-то, — Вадим сам себе удивился: откуда же слова-то такие находятся, как в книжках про уголовников, смешно, право слово. Ощущение — будто все это не на самом деле происходит, а понарошку, во сне…
Митрошка остановилась на пороге кухни, обернулась медленно, задумчиво уставилась на Вадима испросила, сузив глаза:
— А чей-то ты так быстро прискакал, ведь Леонид минут десять как звонил, а ты уже здесь? Как это я не сообразила…
«Знать бы, зачем он звонил, знать бы, зачем человека сюда послал, меня якобы…»
Вадим рассмеялся. Хороший у него смех получился, искренний, безмятежный. А потом остановил себя разом, похолодел взглядом, верхнюю губу приподнял презрительно. Чудеса! Откуда что берется? Процедил:
— Подозрительна ты, бабка, не по делу. Значит, так надо. У нас связь постоянная.
— Ага. Ага, — Митрошка вроде успокоилась. — Ну тады ладно.
Прошаркала на кухню — там тоже гарнитур был соответственный, югославский, не иначе. Интересно, сколько комнат в этой квартире? Потом Митрошка нагнулась к маленькой дверце под мойкой, там, где обычно помойное ведро ставят, пошуршала чем-то, наверное, мусором в ведре, и, когда с трудом распрямилась, в руках ее был сверток. Небольшой, в две ладони размером. Нехотя протянула она его Вадиму. Захрустела приятно оберточная бумага, пальцы нащупали что-то плотное, но податливое, когда посильнее нажмешь.
— Заветный сверточек, — усмешливо всхрипнула Митрошка. — Не потеряй смотри, из рук в руки передай. Скажи Леониду, что, мол, отработала свое бабка как полагается, ни словечка, ни полсловечка, а уж как хотелось, — она прищурилась озоровато, как школьница, задумавшая сбежать с уроков, — когда шастали здесь эти самые в штатском и все выспрашивали, выспрашивали, не видела чего, не слышала. Видеть-то я не видела, не было меня, а вот штучку эту нашла под софой, долгонько она там провалялась.
«Сумка, — промелькнуло у Данина. — Та самая сумка. Неужто больше двух недель она здесь провалялась?»
Дорого, видимо, сумочка неизвестному Леониду обошлась, бабулька-то эта непростая — многое перевидала и с блатными наверняка якшалась почем зря. Вспомнив про Леонида, Вадим спохватился. С минуты на минуту должен был приехать тот, кого Леонид послал, и если они встретятся…
— Ну лады, бабулька, — сказал он. — Покатил я, время — деньги.
И повернулся было, но бабка удержала его за рукав.
— Где таксу свою оставил?
— Там, — Вадим неопределенно махнул рукой.
— Там, где Витька ставил? Он сказал тебе, где ставить. Там, внизу, где будка эта самая электрическая стоит.
— Все я сделал, как надо, — самодовольно хмыкнув, сказал Вадим, — пошел я, бабуля, времени в обрез…
Но что-то он не успел сделать, что-то важное. Узнать побольше про Леонида — это ведь наверняка тот самый белобрысый. Но как, как? Что спросить? Он огляделся. Заметил по-хозяйски:
— Хорошая квартирка, жалко… Не видать теперь ее Леониду как своих ушей, — и понимал, что рискует, но так хотелось отработать все уже до конца, чтоб не мучиться потом, вот мог, а не сделал, что струсил, мол.
— У него других квартирок хватает, не беспокойся. Ты его еще мало, видать, знаешь, дружочек. Он молодой, да ранний. В мои годы такие ого-го чего творили… Ну да ладно, заболталась я с тобой, а знать тебя не знаю. Иди, дружок, иди…
Двор Вадим пересек быстро, миновал арку, вышел в переулок, огляделся. Никого. Перешел на противоположную сторону, зашел в подъезд дома № 6, в котором якобы жил когда-то, и только здесь отдышался.
Многих сил стоила ему эта дружеская беседа с Митрошкой, когда любое неосторожное слово, любой жест ей непривычный, любое движение, не свойственное именно тому типу, который он разыгрывал, могло эту старую, болтливую пройдоху на подозрение навести, заставить какие-нибудь шаги предпринять — и ведь неизвестно, какие шаги, самые непредсказуемые действия она могла совершить. К тому же где гарантия, что в комнатах никто не сидел и не слышал их. Это Данин сейчас знает, что там никого не было, а тогда… А если бы он с «курьером» от Леонида встретился? Кто знает, как могло бы дело повернуться? Но обошлось все, слава богу. Только пальцы все еще мелко подрагивали. Напряжение уже спало, дышалось легче, уверенней. Да, совсем непривычный он к этим занятиям человек, Вадим усмехнулся, дилетант. Но все равно он был доволен, что, может быть, не совсем профессионально отыграл свою роль, но, во всяком случае, неплохо. Он застегнул «молнию» куртки, сунул сверток за пазуху, чтоб рукам не мешал, для того дела, которое он задумал, руки должны свободными быть, — и через мутноватое, заляпанное грязными руками оконце в двери стал наблюдать за подходящими к седьмому дому. «Курьер» должен был прийти с минуты на минуту, и надо было его дождаться, посмотреть, как он поведет себя после того, как от бабки узнает о его, Вадима, приходе…
Он шел снизу, от Звездного проспекта. Собственно, оттуда Вадим его и ожидал. Он поставил, наверное, машину, как и говорила Митрошка, у трансформаторной будки и теперь пешком двигался к дому. Вадим хмыкнул: «Конспираторы». То, что в арку вошел именно «курьер», Данин не сомневался — одет он был модно, броско, как фарцовщик: джинсы-бананы, туфли белые, светлая куртка с погончиками, рукава закатаны до локтей; низкого роста он был, широкоплечий, рукастый, шел вразвалочку, с ленцой, лицо круглое, стертое, без выражения. Встречал Вадим таких в ресторанах, около гостиниц интуристовских, в валютных магазинах. Странно, на шофера он не похож. Хотя сейчас все смешалось, ярко выраженные профессиональные черты трудно теперь найти в человеке. Все теперь, помимо основной профессии, еще какими-нибудь делами занимаются, особенно таксисты.
А впрочем, может, это и не «курьер», а просто прохожий?
…Когда он вылетел из арки минут через пять, на лице уже появилось выражение — растерянность, страх и злоба одновременно. Он стоял, словно изготовившись к прыжку — чуть наклонившись вперед, и крутил головой то вправо, то влево, не зная, куда бежать. Все-таки «курьер» помчался было вверх по переулку и так близко от подъезда оказался, за дверями которого Вадим таился, что можно было открыть эти двери и коснуться плеча «курьера». Вадим непроизвольно вжался в стенку, отвел глаза, чтобы не почувствовал тот взгляда. Потом «курьер» рванул вниз по переулку, побежал пружинисто, скоро, умело, только локти чуть выше держал, чем положено. Вадим приоткрыл дверь, посмотрел вслед. Тот несся, не оглядываясь, решил, видимо, что Вадим к Звездному проспекту пошел, там людей больше, транспорта, такси…
Все кончилось до обидного просто. Покрутился «курьер» немного возле троллейбусных и автобусных остановок на проспекте, сплюнул в сердцах и, увидев, что к тротуару притерлось такси и из него выбираются люди, стремительно влез в машину, и она стремглав сорвалась с места, чуть присев на задних рессорах. Вадим, в свою очередь, тоже выбежал на проспект, вытянул руку, стоя одной ногой на тротуаре, другой на мостовой, но бесполезно, машины, даже с зелеными огоньками, словно не замечая его, пробегали мимо…
Опять он потерял душевное равновесие, опять неудобство странное, необъяснимое в нем поселилось — не неудовлетворенность, не раздражение, а именно неудобство, словно что-то невидимое мешало ему полноценным человеком себя ощущать, сосредоточенно и целенаправленно думать мешало, раздражаться мешало и даже усмехнуться мешало, хотя бы невесело, хотя бы печально. Он пошел домой пешком, надеялся, что пока дойдет, может быть, пройдет это состояние и появятся хоть какие-то мысли, как действовать, как поступать ему дальше, что с сумкой этой злополучной делать: дома оставить, в милицию подкинуть с запиской безымянной… Так. В милицию подкинуть… Ну хорошо, как потом докажешь, что сумка эта именно там, у Митрошки, была. Спросят они ее, а она сделает удивленные, наивные глаза, покривит губкой жалостливо и зачастит, убогонькую из себя разыгрывая, мол, ничего не знаю, ничего не ведаю, ничего не слыхала, ничего не видала. Ведь так и будет, точно так. Ладно, оставим пока сумку в покое, пока суть да дело, придется все равно у себя подержать. А теперь думай, думай, как Леонида искать. Что мы знаем о нем? Да только как его зовут и что таксист Витя у него на подхвате, да и в лицо мы Леонида этого знаем (но Леонид ли это на самом деле?..) и дружков его некоторых, например, того, что в кепке, и «курьера», хотя, может быть, «курьер» — это и есть тот самый Витя-таксист. Но это ничего не меняет. Как их искать — Вадим не имел представления.
Он вышел на Советскую площадь, многолюдную, суетливую, шумную, окруженную общепитовскими заведениями и кафе, тут имелись и столовые и закусочные, пожалуй, нигде больше в городе такого «объедального» места не было. Но местечка свободного тут ни утром, ни днем, ни вечером, как правило, не найдешь. Удивляться нечего — из многих городков районных, деревень каждый день люди сюда прибывают на город поглядеть, архитектурой его полюбоваться, к городской культурной жизни приобщиться, по магазинам побегать, а питаться ведь им тоже надо — весь день на ногах, силы теряются. Вот и стоят очереди многолюдные в кафе, закусочные и столовые. Таксистов здесь тоже немало скапливается, и не застаиваются они. Глядишь, стоит вереница «зеленоглазых» автомобилей, а стоит отвернуться и повернуться вновь — ан нет ее уже, словно растаяла машинная цепочка. Вадим привычно вышагивал в плотном людском потоке, сноровисто вышагивал, умело — горожанин как-никак в пятом колене — в такой тесноте невероятной умудрялся даже не задеть никого ни рукой, ни плечом, уворачивался машинально от бесцеремонно расталкивающих друг друга приезжих. Увидел две машины на стоянке. Подумал, а не махнуть ли домой на автомобиле, надоело уже по городу болтаться, а до дому ему путь еще неблизкий. Подошел к стоянке, заглянул в кабину первой машины, она была пуста, огляделся, выискивая глазами водителя, через мгновение увидел его, возвращающегося с несколькими пачками папирос в руках. И тут вспомнил враз — как за «кепкой» бежал, как в переулке такси увидел, вспомнил, как «кепка» шофера окликнул и тот сорвался бегом от табачного киоска, и номер той машины вспомнил…
Так. Интересно, интересно. А не Витя ли тем водителем был. Не тот ли самый Витя, что у Леонида на подхвате? А раз так, то его по номеру автомобиля найти можно будет. А через него на белобрысого выйти. Заулыбался Вадим идущему навстречу водителю. И глуповатая, наверное, у него улыбка была, потому что шофер воззрился на него с опаской, как на тронутого, потом сощурил глаза, узнавая, — может, из знакомых кто, — потом пожал неопределенно плечами и излишне резко рванул дверцу машины. Вадим спрягал улыбку, построжал лицом, сказал важно:
— На Ботанический переулок подвезете, товарищ? — А сам продолжал смеяться внутри — поднялось у него настроение, нашел он выход из положения. Игра продолжалась.
— Здравствуй, Женечка, ненаглядный мой, палочка выручалочка… — Вадим валялся на тахте, заложив ногу за ногу, и одной рукой приткнул к уху телефонную трубку. Как пришел в квартиру, скинул только куртку, снял кроссовки, так и завалился на тахту, подтащив предварительно за провод телефон к себе поближе. Он курил и ерничал, услышав в трубке строгий, деловой голос друга-журналиста, заведующего отделом информации областной газеты Женьки Беженцева. — Как дела твои, милый?
— Дела у прокурора, у нас делишки, — мрачно сказал Беженцев, — говорил он быстро, отрывисто, не вникая в суть сказанного: как всегда, запарка, как всегда, отдел информации затыкает слетевшую по вине какого-нибудь отдела тематическую полосу в номере. Он весь в работе, у него нет времени для болтовни. Если потрепаться хочешь, то вечером, вечером; если по делу, давай быстрей, у меня люди…
— Хорошо, — Вадим сменил тон и говорил теперь так же, как Беженцев, серьезно и деловито: — Дело не совсем обычное. Но, уверен, поможешь. Ты все знаешь, ты всех знаешь…
— Быстрее, быстрее, милый, — подгонял его Беженцев.
— Значит, так. Неприятность у меня вышла с одним таксёром. Но шагов пока предпринимать не хочу, и тебя об этом не прошу. Мне только узнать бы, в какую смену он сегодня, завтра и послезавтра работает.
— Давай номер машины, фамилию.
— Номер такой 21–14. Фамилии не знаю, знаю, как зовут. Виктор, Витя.
— Понял, сделаем. Ты дома? В течение часа позвоню.
— Женечка, ты только осторожно, зашифрованно. Не про одну машину узнавай, а про несколько, на всякий случай.
На том конце провода усмехнулись:
— Ишь сыщик. Знаю. Тоже детективы почитываем, грамотные. Все. Жди.
Вадим притушил сигарету, закинул руки за голову. Если Вити среди водителей этого такси не окажется — плохо дело. Никаких других зацепок у него нет. Из бабки вытряхнуть сведения про Леонида? Как и на чем ее взять? Ведь за просто так она ничего не расскажет. Деньги? Как в зарубежных детективах? Это мысль. В самом крайнем случае можно попытаться, в самом крайнем. А если все-таки один из водителей такси Витя? Подсесть в машину, в якобы случайной беседе постараться выяснить кое-что, ну и в крайнем случае проследить. Но тогда машина нужна будет. Опять к Беженцеву придется обращаться. Не обеднеет, хмыкнул Вадим.
Пунктуальным был парнем Беженцев, надежным, человеком слова был. Раз обещал в течение часа вызнать все и сообщить, так и сделал. Минут через сорок после их разговора затренькал телефон, и, когда Вадим схватил трубку после первого же звонка, без лишних слов продиктовал ему Беженцев все, что Вадиму было нужно: «Раткин Виктор Владимирович, на сегодня работу уже закончил, завтра с трех до одиннадцати вечера его смена, послезавтра выходной, в отгуле. Машина принадлежит девятому парку, адрес: улица Первопроходцев, дом четырнадцать. Все, милый, целую, вечером созвонимся…»
Вот так. Значит, Виктор все-таки — тот самый Виктор. Ну и расчудесно. Завтра, глядишь, и узнаем, что к чему, что за люди Леонид этот, «кепка», «курьер», Виктор. Спекулянты, фарцовщики, воры? Или просто гуляки, сынки богатых родителей, прожигатели жизни или как, как там говорилось-то раньше, «золотая молодежь»? Интересно все-таки быть сыщиком, это штука азартная, на охоту смахивающая. Как красиво звучит — одинокий охотник. Вадим засмеялся мыслям своим совсем уже не взрослым, совсем уже несвойственным здоровому двадцативосьмилетнему мужику, но не упрекнул себя в них, зачем? Они уверенности ему придают, неординарность какую-то, незаурядность свою ощутить помогают, так за что же себя упрекать? Игра.
День в разгаре. Хороший день, солнечный опять, ясный, чистый. Воздух свеж, словно не на пыли городской, не на автомобильных выхлопах, не на обожженном асфальте настоянный, а на пьянящем аромате утреннего, влажного еще леса. Странно, откуда этот воздух прибило к нам? Или все как обычно, и Данину просто кажется, что день сегодня необычный и воздух необычный. Ведь бывает такое, и нередко, многое ведь порой от настроения твоего зависит, от того, каким проснулся ты, что снилось тебе, какая первая мысль на ум пришла, когда глаза открылись… Вадим хорошо проснулся — разом, и словно и не спал, до того бодр был, и свеж, и силой заряжен…
Но вот, когда уже к таксопарку подходил, бодрость улетучилась и уверенность вместе с ней. Заволновался он что-то, не по себе стало, и пожалел уже, что пришел сюда, что вообще этим дурацким делом занялся. Поморщился — зачем действительно? Тоже мне сыщик! Сейчас бы работал себе спокойно, репортажики пописывал, попросил бы Беженцева, чтобы с дамой какой новенькой познакомил, ресторан, шампанское, холостяцкая квартира — замечательно.
Он попытался уговорить себя, что это, мол, все игра, а значит, интересно, а значит, не должно быть у него недовольства, но ничего не вышло — пропало настроение. И тут лицо у Данина вспыхнуло — он же боится, он просто боится там, в подсознании, не думая о страхе, все равно боится. Он расхохотался неестественно, натянуто, и прохожие повернулись к нему удивленно. Чушь все это, чушь! Ничего и никого он не боится, чего бояться-то?
Убить не убьют. А значит, и опасаться нечего. Вадим самодовольно усмехнулся, почувствовав, что уплывают, оставляют его сомнения и возвращается вновь уверенность и приходит ровное, спокойное настроение. Плотными кучками стояли притихшие, осиротевшие без водителей автомобили с зелеными глазками у ворот таксопарка. Можно было подумать, что гаражи и двор парка так забиты машинами, что тем, что за воротами, просто не повезло и не досталось им места за высоким бетонным забором. Но двор, просторный, слегка дымный, хорошо просматривался через приоткрытые ворота и был почти пуст, две-три машины белели посередине его, и все. Почему же столько скопилось автомобилей у ворот? Вадим глянул на часы — шесть минут третьего… К машинам, разумеется, он подходить не стал, остановился на противоположной стороне улицы у газетного киоска и порадовался удачному своему выбору — у киоска очередь, и, если понадобится, можно, не привлекая ничьего внимания, довольно долго наблюдать за выходящими машинами.
Он уже увидел знакомый номер и успокоился окончательно. Кабина такси пустовала. Виктор был, видимо, среди стоящих у ворот водителей, они громко говорили о чем-то, смеялись, курили. Лихие, энергичные ребята, громкие, большелицые, быстроглазые, разжатые, раскованные: с пассажирами язык общий всегда найдут, если надо будет, если захотят — вместе поболтают, вместе посмеются, вместе погрустят: профессия обязывает. Но что-то в последнее время разлаживаться стало в таксистской профессии, все больше и больше таких появляется, от которых и духом-то таксистским специфически-профессиональным не веет, «катаются» плохо, город не знают, слушают тебя равнодушно, а если уж и скажут, что так хоть стой, хоть падай, будто и в школе их не учили, и книжек они не читали, и в кино не ходили… Еще несколько лет назад почти любой таксист как монах-исповедник был: поговоришь с ним, и вроде легче на душе, чище, просветленней как-то. Сейчас таких мало. Жаль.
Только-только очередь у Вадима подошла, и он стал прикидывать, что же ему купить, как разом распалась плотная шумная группа шоферов, скорым шагом разошлись они по своим автомобилям, и заурчали радостно моторы, зажили настоящей своей трудовой жизнью, и казалось, весело и довольно от этого они шумели, переговаривались друг с другом, похвалялись радостью своей. Одна за другой стали разъезжаться машины. Элегантно они отъезжали, чуть с шиком, чуть с форсом. Приятно было смотреть, как они срываются с места, выруливают на мостовую. Вадим бросил, не глядя, монетку в тарелочку, киоскеру, обронил коротко: «Советский экран».
И увидел, как пошла машина Виктора, и забыл мгновенно и о журнале, и о деньгах, отбежал стремительно от киоска, прыгнул на мостовую, заголосовал отчаянно. Виктор его заметил и приближался теперь, замедляя ход. Вадим открыл дверь, но садиться не спешил, знал по опыту, что сначала лучше спросить, повезут ли его туда, куда ему надо, а то ведь у таксистов другие на эти часы могли быть планы — заказы и прочее. Он заранее уже приготовился, что сказать, какое место назвать — далеко, почти за городом, чтобы подольше ехать, чтобы время было человека этого разглядеть попробовать хотя бы чуть-чуть в сути его разобраться, угадать, как с ним себя вести надо.
— В Сосновое, — сказал Вадим, нагнувшись и заглядывая в кабину. Мятое, отечное и недовольное было лицо у Виктора. Он посмотрел на Вадима с таким видом, словно проглотил за секунду до этого что-то непонятное по вкусу — то ли горькое, то ли кислое, то ли, наоборот, сладкое, и сейчас вот прислушивался, сморщившись, к своим ощущениям.
— Можно, — ответил он, с усилием разгладив лицо. — Садись, земляк.
Сиденье зычно крякнуло под Вадимом, а потом смешно заухало и зашептало, когда он потянулся, чтобы закрыть дверь. Дверь звонко прихлопнулась, и в машине что-то задребезжало.
— Больно же, — мрачно сказал Виктор, хрустнув рукояткой скоростей.
— Чего? — не понял Вадим.
— Больно ей, — сказал Виктор, — когда бьешь…
— Это вы о двери? — спросил Вадим.
Таксист промолчал. А Вадим погладил стекло, потом обшивку двери, потом панель и попросил:
— Извини.
Витя покосился на него и ухмыльнулся. «Молодец», — сказал себе Данин.
Потом они еще минут десять крутились по переулкам, беспорядочным, мелким и пустынным. До Соснового было далеко, но Вадим решил, что пора начинать. Чтобы почувствовать себя свободней, он развалился на сиденье и закинул левую руку за спинку. Этого ему показалось мало, и он нацепил скептическую усмешку. Но сидеть стало неудобно, а усмешка показалась дубоватой. Он опять, скрипя, завозился на сиденье. Витя подозрительно посмотрел на него, а потом после паузы спросил:
— Закурить есть?
Вадим обрадовался, но виду не подал, неторопливо полез в карман. Витя поковырялся толстыми, волосатыми пальцами в пачке «Винстона», вытянул сигарету, спросил:
— Родные?
— Ага, — кивнул Данин. — Родные.
— Где берешь? Здесь? Привозные?
— Привозные. Подарок. Из Финляндии.
— Из Финляндии, — усмехнулся Витя и пошевелил губами, собираясь плюнуть, но не плюнул, а сказал: — Ну, ну…
— Что «ну-ну»? — беззлобно спросил Вадим. — Думаешь, вру?
— Нет. Молодость вспомнил, — ответил Витя, неотрывно глядя перед собой. (Данину показалось, что Витя смотрит не на дорогу, а на чистенький, не заляпанный еще капот. Как бы не вмазаться, подумал, и поежился).
— Понимаешь, земляк, — опять заговорил Витя. — Я же бывал в этой самой Финляндии. Два раза. Вот как.
— По туристической?
— Не…
— В командировке?
— Ага, — гордо сказал таксист.
— Ух ты! — восхитился Вадим и подумал, как бы не перегнуть.
— Это таксистов теперь в командировки за границу посылают? За опытом, что ли?
— Таксистов, — брезгливо усмехнулся Витя. — Таксиста посылают на… Кучер, он и есть кучер…
— Ну это ты чересчур, — вступился Данин за славных таксистов.
— Кучер, — упрямо повторил Витя.
— Так как же ты ездил? — Данин решил не спорить. — Другая профессия была? Что-нибудь дефицитное?
— Профессия такая же, при машинках, — сказал Витя. — Но там была работа, азарт, деньги и классные бабы. Мужицкая работенка была.
Вадим вдруг догадался:
— Гонщик? Раллист?
— Раллист, — сказал Витя и с достоинством посмотрел на Данина. Глаза у таксиста были мутно-розовые и почти без зрачков. «Как у борова. Пьет, верно, вглухую», — подумал Данин и отвел взгляд.
— Я вторым человеком был после директора. На автозаводе на меня молились. Я им престиж делал и знамена разные. На мне бабы гроздьями висели. Я жил, я дышал…
Витю прорвало. Он нес все подряд (бессвязно перескакивая с одного на другое): про трассы, по которым гонял, про города, где бывал, про гостиницы, где ночевал, про рестораны, в которых кутил, про тренеров, про женщин, про шмотки. Он пьянел от своего рассказа.
— А что потом? — прочувствованно спросил Вадим.
Витя отдышался и нехотя проговорил:
— Потом втюрился, как… Болел, аж температура была. Во как втюрился. А она… с другим. Я их застукал. Сначала жить не хотел, а потом того самого, — он щелкнул себя пальцем по горлу. — Ну и того… Короче, кучер он и есть кучер.
Когда таксист поднял руку, Вадим заметил на ней крап. Он видел уже такой однажды.
— Да, — протянул он, — и вверх тормашками потом все у тебя пошло. Знакомо. Бывает. — И опрометчиво добавил: — А потом сел, видать, по глупости, и вообще конец. Но ты не унывай, держись.
Витя шарахнул по тормозам, и Вадим рванулся вперед, едва успев руки выставить и упереться крепко в панель.
— Ты чего? — вытаращив глаза, рявкнул он.
Машина опять плавно поехала.
— Попридержи язычок, земляк, — с угрозой проговорил Витя. — Живешь и живи и не лезь куда не надо. Я тебе не кум, не сват, и не надо меня лечить…
— А я и не лечу, — сказал Вадим и подумал: «Шизофреник». А через мгновение спохватился и миролюбиво попросил: — Ты извини. Я ж как лучше хотел, не подумал просто. Хорошо?
Витя тяжело и обиженно сопел.
— Слушай, — заговорил Данин. — Есть у меня один корешок. Упакованный от и до. Тачку не берет, потому что водить боится аж до икоты. А по городу крутится как волчок. Понимаешь? Не подсобил бы, а? Твоя смена, ты у него на приколе. Тебе план плюс сверху. А?
— Нет, — глухо ответил Раткин.
— Ты знаешь, я, по-моему, где-то тебя видел, — медленно, словно припоминая, проговорил Данин.
— А я тебя не видел, — сказал Витя.
— Так почему нет? — вернулся к своему предложению Вадим.
— Ведь план плюс сверху!
— Нет, — отрезал Витя.
— Вспомнил, — сказал Вадим. — Я точно тебя видел. — Он нервничал, и лицо у него горело. — И не раз. Ты парня одного, симпатягу такого, блондина на Морском бульваре все время высаживал.
— Не на Морском, а… — машинально произнес Витя, и осекся, и вцепился яростно в руль, сощурился, потом скривился и неожиданно вывернул круто вправо, за обочину, к редкому леску, за которым серело несколько двухэтажных домов. Въехал в лесок и придавил педали.
— Ты чего? — удивился Вадим и отшатнулся. В тот же миг рука Виктора уже тянулась к его лицу, рот таксиста был перекошен, глаза заслезились, заполнились густой вязкой влагой.
Данин дернул на себя ручку, толкнул дверцу плечом и вывалился на густую упругую траву. Вскочил на ноги, отступил от машины на два шага, крикнул:
— Ты что, сдурел?
Виктор вытягивал из машины свое грузное, плотное тело с трудом, так лось выбирается из густого кустарника. И когда выкарабкался наконец, в руках у него поблескивала монтировка. Набычившись, он обошел машину и, мягко ступая сильными, толстыми, кривоватыми ногами, пошел к Вадиму. Тот отступил еще на два шага, вытянул руку, сказал:
— Угомонись, приятель, объясни, в чем дело…
— Объясню, — выдохнул Раткин. — Объясню. Это я вспомнил, а не ты, сука, я вспомнил. Это же ты, сявка, у старухи был и сумку забрал. И в тачку ко мне сел, чтобы вынюхивать носом своим поганым, а я-то перед тобой…
С каждым словом он наливался злостью, накачивалась в нем свирепость, глаза сделались совсем багровыми, и очертания зрачков уже почти невозможно было различить.
Раткин был уже близко. Вадим слегка согнул колени, покачался пружинисто на ногах, сделал едва заметно круговые движения плечами, потом отставил локти, покрутил ими, проверяя, свободно ли двигаются руки, потряс одной кистью, потом второй, сбрасывая излишнее напряжение, потом улыбнулся, нехорошо улыбнулся, недобро и поманил Раткина пальцами:
— Иди, приятель, иди. Разговаривать будем. — И сам на мгновение удивился себе, смелости своей, улыбке своей, словам даже удивился, как тогда, у Митрошки, откуда что берется?
Тот находился уже в метре от Вадима, когда сделал обманный удар левой, пустой рукой. Вадим чуть отклонился назад вправо, и кулак пролетел мимо. Можно было уже перехватить руку и дернуть Раткина на себя, но Вадим не спешил, такие стычки нужно заканчивать разом, одним-двумя ударами, это еще отец его учил, — в молодости инструктор по боевому самбо.
Раткин рыкнул с досады и сделал шаг вперед, и Вадим опять ушел влево — по наивности якобы, по незнанию. Этого-то и надо было Раткину. Он дернул правым плечом, давая начальную силу руке, высверкнула монтировка, и в тот же миг Вадим нырнул опять влево, под руку Раткину и хлестко и коротко ударил его два раза в солнечное сплетение, а потом, не дожидаясь, пока тот согнется, еще два раза в подбородок. Все. Раткин рухнул, как спиленный дуб, постанывая и поскрипывая, медленно и весомо. Вадим нагнулся, поднял монтировку, откинул ее к машине, присел рядом с Раткиным на траву, закурил. С минуту Раткин лежал спокойно, потом зашевелился, открыл глаза — страха в них не было, только злость:
— Сука, — сказал он, сплюнув.
— Ты тоже не лучше, — усмехнувшись, ответил Вадим и добавил: — Лежи тихо, я сейчас с тобой беседовать буду. — Он отбросил в сторону окурок. — Кто такой Леонид? Где живет?
Работает? Как найти его?
Раткин провел языком по губам, пощупал подбородок, потер его, поморщился от боли, опять сплюнул, не заметив, что плевок попал ему на рукав рубашки, сказал едва слышно, почти шепотом:
— Пошел ты…
Вадим засмеялся.
— Смелый ты парень, Витя. Но ненадолго. Сейчас отдохнешь немного, и я тебя в милицию отволоку. Вот там разговоришься.
Он протянул Раткину пачку сигарет:
— Кури. Небось охота.
Дернулся Раткин, помотал головой из стороны в сторону и вдруг закричал, страшно, надрывно, безнадежно. Вадим отпрянул, посмотрел на него испуганно. А Раткин набрал воздуха и заорал так, что в ушах зазвенело:
— Помогите! Помогите! Бандиты! Убивают!
— Ты что?! Ты что?! — Вадим заткнул уши руками. — Хватит, не ори!
Он поднялся, отошел в сторону, отнял руки от ушей, огляделся вокруг. И увидел, как от автобуса, что остановился на шоссе, метрах в двухстах, бегут люди, они что-то кричали, размахивая руками. Они слышали, наверное, как орал Раткин, и теперь спешили на помощь. Вадим отступил назад и чуть не упал, задев за выступавший из травы корень, потом опять отступил, повернулся и побежал в сторону от шоссе, от домов, в лес…
Первые метров пятьсот он пронесся как стайер-профессионал, потом, когда стихли крики, сбавил темп и, немного отдохнув, прибавил вновь. За несколько минут он добрался до параллельного шоссе, отыскал автобусную остановку и через час был уже дома.
Спал он и не спал и, казалось, видел сон, а может, попросту бредил наяву; мысли путались, сталкивались, скручивались, рассыпались, как в детском калейдоскопе, какие-то отрывочные перед глазами картины возникали, совсем не про сегодняшний день, совсем не страшные, но странные какие-то, то звери появлялись, то люди, незнакомые исчезали, с омертвелыми, голубыми лицами; женщины вдалеке маячили, призывно махали руками и исчезали. И все картины эти словно за пеленой мелкого пыльного дождя были скрыты. Усилием воли он собрался, тряхнул головой, огляделся, комнату свою узрел, привычные вещи на своих местах увидел и окончательно вышел из зыбкого, душного полусна. Оторвал голову от подушки, провел ладонями по лицу и ощутил на пальцах влагу — оказывается, он плакал в забытьи, оказывается, он еще не разучился этого делать. Резко приподнялся, сел, в голове застучало легкой болью. Обхватил виски, сжал их, повторил про себя несколько раз: «Надо собраться, надо собраться…». Да, надо собраться, несмотря на слезы, несмотря на боль в висках, несмотря на полусон дурацкий, надо собраться и все обдумать. Что же произошло? Что делать дальше? Он встал, потянулся, но не в удовольствие, а так, чтобы размяться, а то затекшими, чужими казались руки, ноги, шея. Потом снял пиджак, усмехнулся невесело, надо же, столько времени в пиджаке провалялся. А действительно, сколько времени прошло? За окном уже вечер, день ушел, но он еще напоминает о себе, похваляется, что главенствует он в эту самую чудесную для него пору, летнюю, и выбеливает начинающее темнеть уже небо.
Расстегивая рубашку на ходу, он побрел в ванную, подставил лицо под тугую холодную водяную струю, энергично потер его полотенцем, прислушался к ощущениям. Ага, и на том спасибо, гул в ушах унялся, и в висках пореже стучать стало. Он поднял голову к зеркалу, опасливо взглянул на себя, поморщился, отвернулся, не понравился он себе — лицо темное, осунувшееся, глаза тоскливые.
Он вышел из ванной, закурил, упал в кресло, устроился удобно.
Началось все у него отменно. Умело Митрошку отыскал, неплохо роль свою в квартире отыграл, узнал в общем-то все, что нужно было. И вот Витя. С Витей отвратительно вышло, грубо, глупо, скомканно, по-дурацки. Продумать сначала надо было разговор, а не на импровизацию надеяться, хотя бы отправные точки обозначить надо было. И вот вляпался в историю, расхлебывай теперь. А история недобрая может получиться. Его ведь и вправду в грабеже обвинить могут. Фактов против Вадима много — заявление Вити, люди, которые видели, как он убегал, — свидетели. И теперь — арест, допросы, тюрьма, и, может быть, уже знали, где он, кто он, где живет, и, может, именно в эту самую минуту останавливается сине-желтая машина у подъезда и выходят оттуда сосредоточенные молодые люди в темных костюмах, входят в подъезд, садятся в лифт. На лестничной площадке послышался шум, голоса, кто-то приехал. Вадим закрыл глаза, ожидая звонка. Но голоса быстро пропали, и вновь стало тихо. И Вадим засмеялся — вот дурак, трусливый мнительный дурак. Да вряд ли Витя заявлять будет. Он понимает, что тогда Вадим все расскажет, может быть, доказать ничего не сумеет — ни причастность Леонида и Вити к изнасилованию, ни то, что они наверняка темными делишками занимаются, но указать на них — укажет, и ими займутся, внимание на них обратят, а у него, у Вадима, есть что рассказать. Нет, не будет он заявлять, не такой он дурак, он сначала с Леонидом посоветуется, а тому подобные контакты с органами вряд ли нужны. Ну вот и хорошо, вот и замечательно, Вадим повеселел. Так что теперь? Продолжать делом этим заниматься или бросить?
Затренькал телефон. Старенький был аппарат, уж отживающий свое, но хорохорящийся еще, негромко, но позвякивающий.
— Да.
— Вадим Андреевич, — голос был мужской, усмешливый, низкий, незнакомый.
— Он самый.
— Вас беспокоит заместитель начальника пятого отдела милиции по уголовному розыску Уваров Олег Александрович…
Вадим закрыл глаза, ухватил трубку, но до боли прижал ее к уху, почувствовал, как вспыхнуло лицо, как ухнуло сердце мощно и как часто и тяжело забилось оно. Ну вот и все, нашли.
— …Вы меня слышите?
— Да… — сипло ответил он и откашлялся нарочито громко.
— Мы посылали вам повестку, но вы не пришли и не позвонили.
Вадим приложил похолодевшую руку ко лбу — значит, о Можейкиной разговор будет, а не о таксисте. Ну слава Богу.
Он вздохнул осторожно: чтобы там, на том конце провода, не услышали.
— Я был в командировке, — сказал он. — В Ленинграде. Могу удостоверить…
— Ну зачем же, я верю. Вы бы зашли завтра к нам.
— Во сколько?
— Часов в восемь, в двадцать ноль-ноль, — поправился Уваров. — Сможете?
— У вас такой долгий рабочий день?
Вадим был уже спокоен.
— Служба, — бесстрастно ответил Уваров.
— Хорошо. Я буду в восемь, — и со скрытой усмешкой добавил: — В двадцать ноль-ноль.
— До встречи.
Приятный голос говорил уверенно, со столичным акцентом. Москвич? Может быть. С таким милиционером одно удовольствие пообщаться, такой должен понять тебя, хотя бы постараться понять. Во всяком случае, не будет прислушиваться только к себе. Да, симпатичный, наверное, Уваров парень, не то, что этот Петухов с хитренькими, подозрительными глазками.
А что, если… это мысль! Вправду, а что, если осторожненько так намекнуть этому Уварову при встрече, что я, мол, кое-что припоминать начал. Тогда, на первом допросе, все забыл в шоке, а сейчас вот, по прошествии времени, всякие детали и подплыли в памяти. Но все, мол, пока неопределенно, надо подумать, повспоминать еще. А? Если такую удочку закинуть, посмотреть, как он отреагирует? Если скажет, конечно, с каждым бывает, мол, и это не ложные показания, просто вы человек, а человек не машина, не компьютер, все упомнить не может… Тогда хоть одну проблему с повестки дня снимем.
Звякнул телефон. Вадим поморщился: опять болтать с кем-то, опять ложным оптимизмом себя заряжать. Но трубку все-таки взял. Благодушничать и шутить — иным его и не должны знать. Зачем? У него все хорошо. Только так.
— Данин? — спросил коротко и отрывисто мужчина.
— Данин, — подтвердил Вадим.
— Плохо твое дело, Данин, — продолжили с сухим смешком. — Ты даже сам не знаешь, как плохо. Ты теперь преступник, Данин, и осуждать тебя будут по статье сто сорок пятой Уголовного кодекса. Ты знаешь, что это такое? Нет? Грабеж. Самый обычный. Ай-яй-яй, интеллигентный человек, на таксиста с монтировкой…
Вадим съежился в кресле, он все понял: «они». Но надо было что-то говорить, не молчать, а то «они» поймут, что он оцепенел, испугался, убедятся, в чем хотели убедиться, что слизняк он, дрянь человечишко. Вадим выпрямился, вскинул подбородок, взбадривая себя этим привычным движением, и отрубил смачно:
— Пошел ты!
И вот теперь действительно испугался и, уняв разом дыхание, прислушался настороженно.
Но в трубке только рассмеялись.
— Не хорохорься, приятель. Обложен ты со всех сторон. Заявление таксиста имеется? Имеется. Фамилии свидетелей тоже имеются. И их много, Данин, свидетелей-то. Тебя видели, могут опознать. Плюс ко всему ты убегал, ведь убегал, правда?
На том конце провода опять засмеялись. Весельчак попался. Озорник. — Но это еще не все. В твоей квартире сумка, а сумка принадлежит сам знаешь кому, а это улика. Против тебя улика…
Грамотно говорит невидимый абонент. Это наверняка не Витя, или «курьер», или тот, в кепке. Может, сам Леонид, или доморощенный какой адвокат.
— Выбрось сумку, Данин, от греха подальше. Это и в твоих интересах, и в наших… Это первое: теперь второе. Ежели соваться не будешь, никакие заявления в милицию не поступят. Соображаешь? Ты благоразумно себя вел поначалу, а потом начал в Мегрэ играть. Зачем? Ты же не глупый малый. Не суйся, этот грабеж еще цветочки, есть и другие средства, — не послушаешься, — покажу наглядно. Все!
Заныли часто и громко гудки в трубке, и когда в ухе стало покалывать от них, отвел Вадим ее от себя и опустил, не глядя, на рычажки. Жаль, что так ничего и не сумел он сказать им в ответ.
А надо было съязвить как-нибудь лихо, ввернуть что-нибудь ироничное. И вдруг странным показалось Вадиму, что так спокойно и безбоязненно думает он об этом разговоре и что исчез холодок под сердцем, что стихла суетливость, лихорадочность в мыслях. Почему? — спросил он себя и ответил сразу же. Потому что решать нечего теперь. Всё решили за него. В милицию теперь он ничего не сообщит — ни приятному, судя по голосу, Уварову, ни подозрительному, судя по лицу, Петухову. Никому. Кто поверит преступнику? Грабителю беззащитных таксистов? Допросят снова Можейкину: ничего не ведаю, — скажет она, побеседуют с Митрошкой — и та, в свою очередь, глазки потупит, невинную мину состроит, ну а Витя, тот просто заголосит: «Ой, бандиты, ой, ограбили! Ой, убили!…» Все! Сидеть теперь тихо и не рыпаться, на работу ходить, книжкой заниматься. Все! Взяли в клещи. А хорошая была игра, но ты ее проиграл. Вот так.
На троллейбус Вадим не поспел. На ходу, запахивая с собачьим подвывом свои двери-гармошки, тот отходил уже от остановки, когда Данин выбрался из подземного перехода и ступил на тротуар. Несколько человек, шедших за Вадимом, побежали к троллейбусу, размахивая руками в тщетной надежде, что водитель увидит их и остановится вопреки правилам, не побоявшись вертящегося на перекрестке хмурого деловитого милиционера.
Но куда там, троллейбус только сильнее еще поднатужился, рыкнул в полный голос и помчался к перекрестку с несвойственной этой машине прытью. Растерянные стояли у остановки теперь две полненькие женщины с усталыми, сероватыми лицами и коренастый верткий мужчина. И казалось, будто только что самых близких людей они проводили, а сами неприкаянные и осиротевшие враз остались на перроне.
Вадим прошелся взад-вперед возле остановки, потом остановился, заложил руки за спину, осмотрелся и направился к газетному киоску. Тот закрывался уже. Сухая костистая дама лет пятидесяти в очках с толстой черной оправой, дергаными, нервными движениями складывала непроданные сегодняшние книги, газеты и журналы. Они то и дело выскальзывали у нее из-под рук и весело шлепались на прилавок.
Спешила, наверное, дама, дел у нее было, наверное, еще много, помимо этого опостылевшего ей до смерти киоска. Вадим глянул на часы — без десяти восемь, потом перевел глаза на надпись на стеклянном окне киоска «…с 8 до 20 часов». Пожалуй, еще можно купить вечернюю газету, улыбнулся учтиво и легонько стукнул два раза по стеклу. Дама вскинула голову, да так резко, что старательно собранная ею стопка стала мягко заваливаться на бок и через мгновение, как ни пыталась дама корявыми, неловкими движениями удержать ее, — вовсе рухнула. И даже через толстое стекло Вадим услышал, как с глухим стуком падают на пол книги и как выкрикивает дама какие-то очень нехорошие слова.
Вот она выкрикнула последний раз и подняла сморщенное лицо, вперила в Вадима ненавидящий взгляд. Наверное, уйти надо было, не отвечать на ее взгляд, а если и ответить, то равнодушием, эдакой снисходительностью сильного к слабому. Но зазвенела в нем сейчас струнка уже знакомая, не единожды уже звеневшая, но раньше приглушенно, тихо, не солируя. А теперь вот она главенствовала, подминала под себя вес прочие. Нет, не даст он слабинку, не спасует перед этим неприязненным, брезгливым взглядом продавца, не смутится, не отступит в сторону, успокаивая себя тем, что, мол, зачем связываться, зачем нервничать, ты умнее, а значит, должен и отступить, должен разрядить ситуацию. Нет, ничего и никому он не должен. Это она вот мне должна — должна окошко открыть, рабочий день у нее еще не кончился, еще десять минут ей работать — и продать мне то, что я прошу, ведь незадолго до этого продала ведь кому-то журнал, я видел, так чем я хуже других? Ростом, может, не вышел? Или лицом? Или солидности во мне нет? Или видно по мне, что больше рубля в моем кармане и не бывало никогда?
— Откройте! — отрывисто бросил Вадим и еще раз стукнул по стеклу, но уже посильней, пояристей.
Женщина отпрянула, словно это он по ней кулаком ударил, отмахнулась, как от мухи надоевшей, крикнула с надрывом:
— Идите, идите, все закрыто, ничего не продам! — громко, наверное, крикнула, но только стекло утишило звуки, и показалось, что спокойно это произнесла, буднично.
Вадим холодно усмехнулся, отвернул манжет куртки и постучал ногтем по часам:
— Шесть минут еще, шесть. Откройте!
— Не открою, уходи! Милицию позову!
Вадим почувствовал, что начинает мелко дрожать, и понял, что еще немного, и не сдержится, размахнется и хрястнет по стеклу что есть силы.
И представилось ему уже, как разлетаются с тонким звоном в разные стороны осколки, дробно падают они наземь и уже без звона сухо бьются об асфальт и раскалываются на крохотные мутно-белые кусочки. И руку он свою увидел вытянутую, облитую густой кровью, струйками стекающую по запястью, по рукавам, и ошалевшая от ужаса продавщица эту картину дополняла; закрывшись руками, она скрючилась в углу и что-то кричала, кричала…
Вадим с ожесточением провел рукой по лбу, выругался вполголоса, злясь на воображение своенеуемное, на несговорчивую продавщицу, на прохожих, злясь на троллейбус, который так и не пришел и который тащится еще, наверное, лениво километров за пять отсюда…
А продавщица не обращала на него уже внимания и с деланным сосредоточием вновь неуклюже укладывала товар в стопку.
— Вы нарушаете постановление горисполкома, — гневно прорявкал Вадим и шлепком припечатал ладонь к стеклу. — Зовите милицию — будем разбираться!
Продавщица вздрогнула, и опять запорхали у нее из-под рук живчики журналы, замахали газеты тонкими, невесомыми крылышками. Она не смогла уже выдавить из себя ни звука, просто стояла, вытянувшись, и молчала каменно, и только глаза ее разговаривали, за толстыми стеклами очков полыхал неистовый пожар, и он готов был испепелить и Вадима и все, что находилось вокруг, такой силы он был. Данин вытерпел, не отвел глаза, нельзя ему было сдаваться, хоть здесь-то он должен был выиграть. Он ощущал, что победа даже в такой, совсем немужской игре необходима ему как воздух, иначе до удушья скверно станет… Его отвлек шум подъезжающего троллейбуса. Увесистый, глубоко просевший на рессорах оттого, что забит был до отказа, подвалил он почти вплотную к остановке. И так близко подкатил, что колеса ширкнули о бордюр тротуара и встали мертво, словно приклеенные к нему. Съежились двери, раскрываясь, и посыпался оттуда народ, по двое, а то и по трое сразу выскакивали люди на асфальт, и было написано облегчение на их лицах.
Уже вышли все, кому надо, уже карабкались в машину те, кто на остановке стоял, а Вадим все еще никак не мог решить, бежать ли ему к троллейбусу и проиграть эту игру, или остаться и дубово добиваться своего. Но вот прошуршал уже что-то динамик в троллейбусе, водитель называл следующую остановку, а это означало, что еще несколько секунд — и машина тронется, и Вадим отступил на шаг, все еще пристально и недобро глядя на продавщицу, потом еще на шаг и потом, сплюнув презрительно и смачно себе под ноги, помчался к троллейбусу, успокаивая себя на ходу: если бы я не опаздывал, если бы не троллейбус… Вскочил на подножку он ловко и умело, но протиснуться в салон оказалось нелегко, ни зазора, ни трещинки не было между телами, плотно они стояли, словно слиплись друг с другом навсегда и никакая сила уже не могла их разлепить… Саданув Вадима по спине, двери все-таки закрылись с трудом. Через остановку стало свободней, и Вадим протиснулся к заднему окну. Он оперся локтями о поручни, засмеялся вдруг негромко. Вспомнил, как добивался своей правоты у киоскерши. Придурковато, наверно, он выглядел со стороны — эдаким настырным чурбаном гляделся. Что на него нашло? Бывает, сказал он себе и подивился вдруг, потому что опять заклокотало что-то внутри, когда нарисовалось ему внезапно перед глазами искаженное злобой лицо киоскерши и подумалось на мгновение, что все-таки остаться надо было и довести все до конца, раз уж начал. А так получается, будто бежал с поля боя. «Довольно, — сказал он себе, пытаясь этим приказом подавить растущую неудовлетворенность. — Довольно! Мелочи все это. Чушь. Ерунда».
Надо подумать о чем-то другом, хотя бы о том, зачем его вызывают так поздно, о том, что предстоит ему пережить там, в отделении милиции, надо подготовиться к худшему, настроить себя, не распускаться и, что бы ни было, держаться достойно… Но не задерживались в голове мысли о предстоящем вечере, не мог он на них сосредоточиться, ловко ускользали они. И он стал вспоминать, чем занимался дома эти прошедшие сутки. Опять не смог сосредоточиться, обрывки какие-то лишь беспорядочно припоминались. Вот он лежит на диване, курит… и вот маме письмо пишет, рвет… вот бумагами, документами, справочниками обложился, репортаж хочет писать, и не идут слова в голову, и не знает он, о чем писать, и летят бумаги вместе со справочниками со стола… вот он снова на диване лежит, бездумно в телевизор уставившись… вот по квартире слоняется, разгоряченным лбом к прохладному стеклу окна прижимается… вот снова глотает он рюмку коньяку, и покойней ему становится, он улыбается даже, а потом вдруг разом всю картину с таксистом представляет, и как бьет его в живот, подбородок — верно, следы от ударов на подбородке остались — и как убегает… и бросается он в кресло, обхватив голову руками, и стонет, стонет…
Вадим крепко вцепился побелевшими пальцами в поручень. «Психопат, — обругал он себя. — Неврастеник». И затуманились воспоминания, отошли на второй план, и огляделся он по сторонам — люди в салоне, много людей. И почему-то тихо, невероятно тихо.
Не разговаривает никто, не шепчется, не смеется. Все молчат. И лица какие-то у всех неживые, унылые, сонные, словно по очень скорбным и печальным делам обладатели их направляются. И Вадим отвернулся к окну, к свету, но свет уже угасал и, притухая, краснел понемногу. И вроде бы еще отчетливо глаза различали и дома, и автомобили, и людей, но нереальными они уже казались, искусственными; очень реалистичными, но все же декорациями к какому-нибудь спектаклю на современную тему.
Утихал и гомон уличный, сумерки словно охладили людей, заставили их замедлить шаг, задуматься: «Зачем бежим? Куда бежим? Надо ли?» И люди шли теперь неспешно, успокоенно. Напряженные лица смягчились, расслабились, и все бы хорошо, но только вот улыбок не было на лицах, не находилось для них места, будто забыли люди, что же это такое — улыбка, или это только Вадиму сейчас так виделось, а на самом деле все иначе было, веселей, радужней.
На следующей остановке ему выходить. Когда проехали примерно половину пути, он учтиво осведомился у впереди стоящего, коротко стриженного мужчины: выходит ли он тут? Мужчина посторонился, давая ему пройти. Потом у женщины, приятно пахнущей французскими духами, то же самое спросил, и она, в свою очередь, сдвинулась вбок. И вот, когда троллейбус уже подъехал к остановке, оттеснил его неожиданно молодой черноволосый парень, продвинулся вперед, спустился на ступеньку и неожиданно обернулся к нему.
— Ваши билеты, граждане, — тихо произнес он, подавив ухмылку на смуглом восточном лице.
Вадим поначалу недоуменно воззрился на него, потом стал суетливо шарить по карманам, а потом вспомнил, что не взял билета, что даже не подумал о нем, не до этого было…
Неловко он себя почувствовал. Казалось, все смотрят на него, только что пальцем не показывают и не плюют в его сторону.
— Сколько с меня? — так же тихо, как и парень, спросил Вадим.
— Трояк, — весело ответил парень.
— Хорошо, — сказал Вадим. — Только на улице. Я выхожу.
Двери разбежались, и Данин вслед за парнем ступил на тротуар. За ними выпорхнули две молоденькие девчонки и шли теперь, то и дело оглядываясь на них, и похохатывали беззастенчиво.
Вадим полез во внутренний карман куртки и неожиданно подумал, а ведь он может сейчас просто взять и уйти. Он извлек несколько мятых бумажек, отыскал три рубля, сунул парню. Тот прихватил их двумя пальцами, спрятал в кулаке, другой рукой достал квадратные, пергаментно шуршащие листочки. Но Данин уже не видел этого, он повернулся, собираясь уходить.
— Эй, гражданин, — подал голос парень.
Вадим оглянулся. Парень сдвинул мохнатые брови и настороженно глядел на него.
— Возьмите талон, — парень протянул руку с хрустящей бумажкой.
И, как со стороны, Вадим увидел себя, аккуратно берущего талон, тщательно и любовно складывающего его, всовывающего между листками записной книжки. И что-то мелочное, унижающее, гаденькое углядслось ему в этой картинке. И он, усмехнувшись, махнул рукой и не спеша повернулся, зашагал по тротуару. Парень не помчался за ним, не стал его уговаривать. Он наверняка даже обрадовался — ни за что ни про что трояк заработал. Ну да бог с ним, пусть счастлив будет…
А ведь мог бы уйти, думал Вадим, шагая, запросто мог уйти, и ничего бы с ним этот густобровый не сделал бы, свидетелей-то нет. Еще пару месяцев назад Данин наверняка бы хохотнул парню в глаза и потопал бы, пританцовывая. А сейчас вот остался и трояк даже чуть ли не добровольно отдал.
— Благородный, — вслух едко проговорил Данин, поразмыслил с полминуты и добавил совсем уж ядовито: — Порядочный, — и, скучнея, заключил: — Мелкий праведник…
Вход в отделение выглядел скромно и даже бедновато. Пяток ступеней, истертых, искрошившихся; погнутые, давно не крашенные, а потому густо заржавленные перильца, тонкая легкая дверь — как здесь зимой? До инея, наверное, выстуживается коридор. Ан нет, за ней вторая дверь, покрепче, подобротней, так что шалишь, брат, работник милиции запросто так себя студить не станет. Дураков мало. Коридор казался необычайно длинным, и много дверных проемов угадывалось по стенам. Вадим даже удивленно брови вскинул, а он-то всегда думал, что отделения милиции совсем крошечные и смахивают на паспортный стол, где он получал и менял потом паспорт… Слева от входа, за огромной плексигласовой перегородкой (начиналась она примерно в полутора метрах от пола, как бы продолжая крепкий деревянный барьер, похожий на прилавок в магазине), он увидел какие-то пульты с мигающими лампочками, телефоны, белые, черные, красные; трех работников в форме, один возле пульта сидел, без фуражки, лысоватый, бесстрастный, с капитанскими погонами, двое других — сержанты — стояли у окна, лениво переговаривались. Капитан смотрел куда-то вверх — вперед. Вадим сделал еще шаг и увидел, что вся комната за плексигласом на две части разделена с помощью такого же прозрачного листа. И там, во второй половине, какие-то грязные, мрачные типы сидят, одни ёрзают беспрестанно, другие храпят, уснув прямо тут же на скамье, и еще он понял, почему капитан голову приподнял, — он с одним из этих грязных и мрачных разговаривал. Тот опирался на деревянный барьер и в окошко норовил голову трясущуюся всунуть. А капитан морщился и беззлобно выталкивал его рукой…
Один из милиционеров заприметил Вадима, наклонил голову, разглядывая, может, знакомый кто, прищурился, оттолкнулся от подоконника, подошел к перегородке; без всякого выражения на белобровом лице оглядел его, открыл дверцу, которую Вадим только сейчас и заметил, спросил буднично:
— Вам кого?
— Уварова, — ответил Вадим.
— Сейчас, — сказал милиционер, подошел к пульту и, нажав какой-то тумблер, сказал в микрофон, что рядом стоял:
— Олег Александрович, к вам пришли.
Хлопнула дверь в конце коридора. Показался мужчина — стройный, жилистый, в сером пиджаке, темных брюках. Пока тот шел, Вадим успел разглядеть лицо его, худое, открытое, улыбку доброжелательную, быструю.
Шагов за пять Уваров уже руку протянул. Сухой жесткой ладонью на долю мгновения сжал Вадиму пальцы. Убрав руку, сказал, не переставая улыбаться:
— Рад очному знакомству.
— Взаимно, — вежливо ответил Вадим.
— Таким вас и представлял.
— Каким? — спросил Вадим.
— Вот именно таким, какой вы есть, — не стал уточнять Уваров. — Только повеселей.
— А я весел, — сказал Вадим сухо. — Внутренне.
Сказал и сам подивился своей сухости, с чего это он так? Ведь понравился ему этот парень, и манерами своими, и походкой, и глазами живыми, цепкими, быстрыми, и даже прическа его понравилась: небрежная, удлиненная, так отличающаяся от стереотипа милицейских стриженных затылков. И он попытался улыбнуться так же приветливо, как и Уваров, и тут же понял по прищуренным внимательным глазам Уварова, что не получилась улыбка у него, губы только растянулись нехотя, и все.
— И верно, — сказал Уваров, сделав вид, что ничего не заметил. — Истинное, оно не напоказ, оно потаенное, но это только тогда, когда с собой ладить. Ладите?
— Что? — тупо спросил Вадим. Глаза этого милиционера смущали его. Или это профессия его приучила так на людей смотреть, чтоб сразу осознавали они четко и явственно, что не скрыть ничего им, не утаить, что как на ладони они, обнаженные и беззащитные?
Уваров не стал повторять вопроса, а только усмехнулся едва заметно, легонько приподняв краешек губ.
«А ведь маска это, — подумал Вадим, — маска, да и только». Просто он неглупый малый, вот и придумал себе такую маску. Потому что гораздо эффективней она, чем манера его коллеги Петухова. Тот, наоборот, раздражение вызывает, отталкивает настороженностью своей и подозрительностью безосновательной. Махнув в глубину коридора, Уваров сказал:
— Пойдемте.
«Маска, маска, — повторял Вадим, шагая. — И нечего мне его смущаться, и ничегошеньки он не знает. Он точно такой же, как и я, не хуже и не лучше. Нет, даже похуже, ростом меньше, сантиметров на пять». И Вадим улыбнулся.
— Дело вот какое, — говорил Уваров. — Мы тут решили следственный эксперимент провести. Восстановить все, что происходило в тот злополучный вечер.
Они остановились перед дверью с надписью «Ленинская комната».
— …Но я не рассчитал немного. Раньше времени вас позвал. Так что не обессудьте и не держите зла, подождите минут сорок. Хорошо?
Он говорил серьезно, а глаза все равно усмешничали, отдельной, самостоятельной жизнью жили на сухом загорелом лице. Но Вадима они больше не тревожили. Он был уверен, что разгадал их.
— Ну что вы, не извиняйтесь, конечно же, подожду, — любезно ответил он и едва сдержался, чтобы не склониться в учтивом полупоклоне. Уваров замешкался на долю секунды, что-то новое, видимо, углядев в Данине, и толкнул дверь.
— Вот здесь телевизор, какой-то фильм как раз сейчас идет. Можете курить. Я зайду.
Длинный, узкий, вытертый локтями стол, много стульев, наглядная агитация на стенах, радиоприемник, графин с водой, телевизор в дальнем углу. Здесь, наверное, проходят занятия, собрания, инструктажи.
Вадим включил телевизор, удобно устроился на стуле, закурил. Фильм шел уже давно, и поэтому не все было понятно. Но минут через пять Вадим все-таки разобрался, что к чему.
Молодой главный инженер некоего строительного треста — дерзкий и горячий малый, сразу же по приходе старался построить работу по-новому, это не совсем нравится начальнику треста, так трудиться он не привык и поэтому ставит молодому специалисту палки в колеса, затирает его перед руководством, компрометирует перед подчиненными. Но энергичный инженер не отступает и тем самым вызывает уважение коллег. Возлюбленная инженера прихотью судьбы — дочь того самого начальника треста, узнав о кознях папаши-консерватора, устраивает ему грандиозный скандал и гордо уходит из дома… А инженер тем временем упорно бьется за новые методы работы. И вот финал. Начальник прозревает, что выражается в его добром прищуре глаз, когда он смотрит в вслед идущим рука об руку инженеру и своей дочери. Конец.
Все просто и доходчиво, и никаких метаний и сомнений. Жизнь, оказывается, элементарна и назойлива, стой на своем, держись своих принципов, если они верные (хотя, кто знает, какие верные из них, какие нет), и все в твоей жизни пойдет как по маслу, и в награду тебе достанется богатая невеста.
Замечательное кино! Высший класс! Смотрите и учитесь. Лишь такие проблемы достойны нашего пристального внимания. Все остальное чушь и сопли. В наш стремительный, рациональный век мир перестраивают только такие твердые, ни в чем не сомневающиеся парни… А впрочем… впрочем, и от таких картин есть польза, и самая что ни на есть реальная и самая что ни на есть наглядная. И Вадим сам на себе ее ощутил. Приукрашенная будничность фильма, обыкновенные, ничего не значащие слова, порой примитивные до глупости ситуации, высказанные значительно и солидно, пустые фразы, и, главное, оптимистичный, безоблачный дух его подействовали на Вадима успокаивающе и умиротворяюще. И то, что тревожило его все эти дни, показалось надуманным, болезненно гипертрофированным, без явной причины заполнившим его воображение. И с легкостью какой-то он достал сигарету, и с явным удовольствием затянулся, будто после долгого-долгого перерыва впервые прикоснулся к табаку.
— Все, поехали, — на пороге стоял Уваров. Краешек губ все так же приподнят в привычной, незлобливой усмешке.
У выхода оперативник столкнулся с костлявым суетливым малым. Был тот в модной курточке, джинсах. На гладеньком лице независимость и презрение. Увидев Уварова, он неожиданно расплылся в подобострастной улыбке.
— А, Питон, — сказал Уваров. — Жду не дождусь тебя, крестничек. — Он полуобернулся к Вадиму. — Идите к машине. Я сейчас.
Неспешно открывая дверь и входя в тамбур, чтобы открыть вторую, ту, тощенькую, неказистую дверцу, Вадим услышал за спиной жесткий полушепот Уварова:
— Еще раз увижу, узнаю, услышу… северное сияние воочию разглядишь…
И слабый, винящийся голосок малого:
— Да я не хотел, я по пьянке…
Уваров вышел минуты через две, весело ухмыляющийся.
Вадим ждал его у машины. Когда оперативник подошел и взялся уже за ручку дверцы, Вадим неожиданно спросил:
— Вам нравится ваша работа?
Уваров нажал на ручку, но дверцу так и не открыл. Подумал недолго, разглядывая внимательно ручку, будто видел ее впервые. Потом вскинул голову и коротко рассмеялся:
— С чего это вы? А впрочем… Я умею ее делать, и неплохо. И это мне нравится. Садитесь.
До Каменного переулка доехали молча. Кроме Вадима, Уварова и водителя, в машине сидели еще два милиционера в форме, сонные и сердитые. При них продолжать разговор Вадим не решился. Пред самым домом, когда уже остановились, Уваров сказал:
— Следователь прокуратуры разрешил нам провести эксперимент без него. В исключительных случаях я имею такое право. Формальности соблюдены, если что…
— Если что? — спросил Вадим.
— Если жаловаться надумаете, — как всегда, усмехнулся Уваров, — или еще чего… Мало ли…
— Вы думаете, у меня будут основания жаловаться?
Уваров пожал плечами.
Их уже ждали. Трое. Они стояли в темноте, на углу того самого злосчастного дома-глыбы. Слабосильный фонарь был далековато, а тот, что вытянул свою лебединую шею возле дома, не горел вовсе, и поэтому Вадим догадался о присутствии людей только по трем крохотным сигаретным огонькам. Когда «газик» остановился, огоньки цепочкой двинулись навстречу. Уваров открыл дверцу, и тусклый свет из кабины осветил лицо подошедшего. Вадим узнал его. Петухов. И как-то сразу обмяк: уверенность, которая жила в нем до этой минуты, притухла, и ему показалось, что даже голос его, когда он начнет говорить, станет тише и выше тоном, и будет он отвечать невпопад, не так, как мог бы, как должен был. «Петухов. Все от него. Страх? Нет, нисколько, просто мы говорим на разных языках, — подумал Вадим, — он меня не поймет. Никогда. А я его. Плохо, что он здесь. Дурная примета».
Петухов улыбчиво кивнул вылезающему Уварову, заглянул в кабину, многозначительно и тяжело посмотрел на Вадима и вместо приветствия проговорил с нехорошим смешком:
— Ну вот и встретились. Рано или поздно все возвращаются на место преступления…
— Сергей, — резко оборвал его Уваров, и по напряженной спине зама по розыску Вадим уловил, что тот явно недоволен.
Данин молча вылез из машины и, стараясь не смотреть на Петухова, подошел к Уварову. Оперативник, прищурившись, озирался и был похож сейчас на кинорежиссера, оценивающего натуру будущей съемочной площадки.
— Хорошо-то как, — Уваров обернулся к Вадиму. — Тихо. Людей нет совсем. И воздух как после дождя. И ночь… И все это в центре города. Даже не верится.
Играет? Добивается расположения, чтобы вызвать на откровенность? Вот, мол, видишь, какой я, обыкновенный, такой же, как все, и даже немножко поэт… Вадим одернул себя. Чушь! Он действительно такой, хотя и в масочке иной раз. А ты становишься похожим на Петухова.
— И вправду хорошо, — подтвердил Вадим и добавил: — Тогда тоже хорошо было. Дышалось легко. Настроение невесомое было. Хотелось гулять всю ночь… — он усмехнулся. — Погулял.
Уваров только покачал головой, но ничего не ответил. Петухов стоял чуть сбоку. И вся фигура его, чуть согнутая, чуть подавшаяся вперед, и плоское лицо, напрягшееся, целеустремленное, выражали немедленную готовность к действию. Но Уваров повернулся не к нему, а к скромно стоящим в нескольких метрах двум мужчинам.
— Подойдите, пожалуйста, — позвал он.
Они были одинакового роста, пониже Уварова на полголовы, пожилые. Один покрепче, коренастый, с одутловатым круглым лицом, другой худосочный, со сведенными вперед, острыми плечиками, с яйцеобразной лысой головой. Лица у них были растерянные, держались мужчины скованно, двигались угловато. Но в глазах тощего Вадим уловил откровенное любопытство, зажегшееся и погасшее мгновенно.
— Это понятые, — пояснил Уваров Вадиму. И жестом позвал Петухова.
— Ребята на месте? — спросил он.
— Все здесь.
— Хорошо. Начинаем. — Он взял за плечи понятых и сказал: — Вы будете вон у того угла стоять, чтобы видеть и двор и улицу. И внимательно за всем наблюдать. Это только и требуется от нас.
— А от вас, Вадим Андреевич, — Уваров повернулся к Данину, — требуется нечто иное. А конкретнее — повторить все, что вы делали, как действовали в тот вечер. Вы встанете сейчас на то же самое место, с которого услышали крики, и дальше все как было. Постарайтесь, поточнее соблюдать расстояния. Это очень важно. И еще. Мы специально пригласили трех молодых людей. Они будут изображать преступников. Так что не удивляйтесь, когда увидите их во дворе.
— Хорошо, — сказал Вадим.
Он огляделся. Зафиксировал примерно то место, где донеслись до него злые резкие голоса, отошел туда, встал.
— Я готов, — сообщил он.
— И еще одна просьба, — попросил Уваров, — по ходу дела комментируйте свои действия.
…Все получилось почти как тогда. Вадим помялся немного, якобы услышав крики, потом ступил осторожно в сторону потом побежал; воскликнул: «Я из милиции», увидев трех парней, автоматически отметив про себя, что подставные «насильники» фигурами смахивают на тех, скрывшихся; затем в общих чертах повторил свой диалог с преступниками, подсказал, в какой момент самому высокому из подставных надо убегать, и в какую сторону, помчался за ним и только после этого услышал окрик Уварова:
— Стоп! Давайте еще раз.
И опять Вадим побежал, крикнул: «Я из милиции!»…И в этот момент Уваров остановил его. Вадим замер на месте, с трудом переводя дыхание. Уваров подошел к нему, за ним потянулся и Петухов. И в тот момент что-то очень не понравилось Вадиму в лице Петухова. Уж очень довольное, очень радостное оно было.
Уваров дружески взял Вадима под руку, помолчал немного, словно не решался заговорить, потом наконец сказал негромко:
— Значит, такое дело… Я не зря попросил вас повторить еще раз все сначала. Попросил для того, чтобы остановить вас именно на этом месте. Потому что… потому что мне показалось… А впрочем, вы сейчас все сами поймете, если уже не поняли, не поняли?
Вадим недоуменно покрутил головой, но внутренне уже собрался, готовый к самому худшему. Но только бы виду не показать, что он сжат до твердости, что сосредоточен предельно.
Уваров почему-то медлил, прищурившись, разглядывая Данина.
«Расслабься, расслабься, — сказал он себе. — А то, гляди, пальцы аж в кулачки собрались и побелели наверняка от натуги, хорошо что ночь».
— Посмотрите на этих троих, — наконец заговорил Уваров, махнув рукой в сторону фигур.
С самым безучастным видом Вадим чуть повернул голову. И все понял.
— Ну и что? — спросил равнодушно.
И добавил про себя: «Нет, не все кончено еще, Петухов!»
Уваров даже отступил в удивлении на шаг от Вадима.
— Вы же видите их, — осторожно произнес оперативник. — Точно так же, как и видели тех. Глаза быстро привыкают к темноте. А прошла уже почти минута. Достаточно…
Как вести себя сейчас? Оправдываться? Разыграть недоумение? Возмутиться? Да, возмутиться…
— Та-а-а-к, — со значением протянул Вадим. — Вы что же, хотите меня во лжи уличить? Хотите все это мне приписать?.. — Он повысил голос.
— Минуту. — Уваров протестующе выставил ладони. — Вы неверно поняли меня. Я надеялся, что вы вспомните их лица. Я надеялся, что воспроизведение той ситуации подтолкнет память, что сработает какой-нибудь механизм, ассоциативный или еще какой-нибудь там, и вы восстановите приметы. И вас ни в чем не подозревают…
Оперативник говорил серьезно и горячо, с возмущением даже, но глаза его при этом пытливо ощупывали каждый сантиметр лица Вадима. Неприятное это было ощущение, будто обыскивали тебя, только не одежду обшаривали, а голову в поисках мысли потаенной. Вадим не выдержал, отвел взгляд, пожал плечами, похлопал себя по карману, достал сигареты, закурил от учтиво поднесенной Уваровым зажигалки, пожал плечами, сделав вид, что успокоился. Потом окинул еще раз, взглядом двор, затем, едва заметно усмехнувшись, сказал:
— Окно.
— Что окно? — не понял Уваров.
— Тогда горело только одно окно, и в том конце дома, а сейчас три. Понимаете, три окна.
— Вот как, — сказал Уваров, и в голосе его звучало разочарование. — Это меняет дело.
Краем глаза Вадим уловил, как дернулся было в сторону подъезда Петухов, через мгновенье застыл в нерешительности.
— Что ты, Сергей? — спросил Уваров.
— Я сейчас попрошу, чтобы погасили окна, — глухо ответил Петухов. Он был явно расстроен.
— Не надо, — поморщился Уваров. — Все. Закончили.
Вадим повеселел. Обошлось. Недаром он чувствовал сегодня силу свою, уверенность.
— Вопрос можно? — обратился он к Уварову. — Это вы только из-за меня сей эксперимент затеяли? Чтобы уличить меня?
— Нет, — суховато ответил оперативник. Он, по-видимому, на какое-то время забыл о своей усмешливой маске. — Мы ни на грош не продвинулись в розыске и решили еще раз поработать с жильцами. И я хотел выяснить, слышал ли все-таки кто-то голоса. Один из милиционеров сейчас находится в подъезде у окна. Кстати, Сергей, — Уваров кивнул Петухову. — Позови Сабитова… И еще, по тому, как преступники убегали, я хотел уяснить, знают ли они эти места…
— Уяснили?
— Да. Один из них, тот, что слева, наверняка из местных. Он знал, что за забором проходной двор. Будем искать.
Устало ухнула дверь. Скорым шагом подошел один из хмурых сержантов.
— Слышно, — доложил он. — Плохо, но слышно. Особенно когда он кричал про милицию…
Все потянулись к машине. На улице было гораздо светлей. Прибавилось несколько горящих окон в домах. Петухов устроился в машине для составления протокола. Понятые стояли рядом и с интересом заглядывали в скупо освещенную кабину.
Вадим оперся о капот, сложил руки на груди и бездумно уставился на подъезд противоположного дома, в котором скрывался, когда поджидал «курьера».
Какая-то тень показалась в конце переулка.
— Ну вот и люди наконец, — послышался голос Уварова совсем рядом. Держа руки в карманах брюк, он неспешно приблизился к Данину. — А то уж я думал: как же они в дома попадают? По воздуху, что ли?
Некоторое время они молчали наблюдали за приближающимся темным силуэтом. Человек шел странновато. Подпрыгивал, покачивался, то и дело его бросало на пару шагов в сторону.
— Пьяненький, — почему-то обрадовался Уваров. — Интересно, дойдет?
— Дойдет, — сказал Вадим. — Автопилот работает.
Вот человек вынырнул из темноты, остановился, помотал головой и поковылял дальше. Что-то знакомое увидел в нем Вадим. Мелкого роста человек был, большеголовый, носатый, неряшливо одетый. Вадим прикрыл глаза, силясь вспомнить, где же он видел его.
— Эй, приятель, — позвал Уваров. — Поди-ка.
— Че? — коротышка с трудом повернул подрагивающую голову.
— Иди, иди, поговорить надо.
— Я… Я… спе… спешу, вот, — слова давались маленькому с трудом.
— Вам некуда больше спешить, — весело пропел Уваров. — Давай сюда, кому говорю.
Коротышка пригляделся, протер глаза, мазнул пустым взглядом по сине-желтой машине, по сержантам, стоящим неподалеку, протянул:
— А-а-а-а, — и, едва не рухнув после крутого виража, стал приближаться. И тут Вадим вспомнил — Долгоносик. Это Долгоносик. Тот самый, который в пивной рассказывал ему про Митрошку. Вадим чуть не выругался. Черт его дернул, алкаша, именно в этот час идти по переулку. Данин машинально поднес руку ко лбу, стараясь ладонью скрыть хотя бы пол-лица. Хотя вряд ли этот спившийся мужичонка сможет узнать его. Водка с портвейном не улучшают память.
— Кто такой? Где живешь? — спросил Уваров нарочито строго.
— Эта… здеся. — Долгоносик слабо махнул рукой в сторону дальних домов. — Васильков я… вот.
Он поднял голову и уставился на Уварова, потом медленно перевел взгляд на Вадима.
— Во, — сказал он, тыча в Данина пальцем. — Я тогда мужикам сказал, что ты мент, ха-ха, я все вижу, ха-ха, во…
— Вы знакомы? — удивился Уваров.
Вадим выдавил из себя улыбку:
— Что-то не припоминаю…
— Говорил, что жил здеся… во… а сам не жил. Я помню, я никогда не пьянею, я все помню. — Долгоносик горделиво выпрямился.
Вадим машинально пригладил волосы, сунулся за сигаретами, но не нашел их, чертыхнулся, потом отыскал пачку во внутреннем кармане рубашки, чиркнул спичкой, закурил, не заметив поднесенной Уваровым зажигалки. Он чувствовал, что оперативник внимательно наблюдает за ним, и старался не смотреть в его сторону.
— Так вы все-таки знакомы, — утвердительно проговорил Уваров.
Вадим пожал плечами.
— Не узнаешь? — подозрительно прищурился Долгоносик. — Кого на работу берут. Во… И про Митрошку… эта… не помнишь, во…
Данин полез за сигаретой, хотя во рту у него уже дымилась одна. Он повертел другую сигарету в пальцах и зачем-то бросил ее в сторону.
— Какой такой Митрошка, Вадим Андреевич, а? — К Уварову вернулась его прежняя усмешливость.
— Понятия не имею, — излишне поспешно ответил Вадим.
— Да во… — Долгоносик махнул рукой на дом-глыбу. — Здеся живет…
Он закачался от того, что долго глядел вверх, на высоких Уварова и Вадима, и у него, наверное, помутнело в голове, он икнул, шагнул вбок и снова чуть не упал. Подошли сержанты.
— Возьмем с собой? — спросил один из них.
Уваров пристально посмотрел на Вадима, коротко усмехнулся и сказал, не отводя от Данина глаз:
— Узнайте, где живет, а с собой не надо. Пусть дома ночует. Потом побеседуем. Перепутал он, наверное, вас с кем-то, Вадим Андреевич, да?
— Наверняка, — безмятежно ухмыльнулся Вадим. Сигарета чуть не вывалилась из его губ.
— Ну все, поехали, — скомандовал Уваров.
Ночь провел скверно. Старый диван, такой привычный и уютный, всегда покладистый и послушный, не скрипящий, не охающий, совсем бесшумный, — добрый друг и советчик, обозлился вдруг, стал бормотать ни с того ни с сего что-то, потрескивать, сделался жестким и неудобным, словно одеревенел, и будто бы выгнул спину и злорадно упирался горбом своим то в поясницу, то в живот, то, больно вдавливался в бока. Вадим провертелся полночи, так и не сумев заснуть, потом поднялся поспешно, потому что уж совсем невмоготу было. Ступив на пол, ойкнул, сморщившись, — заломило поясницу, и тяжело запульсировало в затылке, открыл окно, постоял, глубоко вдыхая ночной воздух, и, не думая ни о чем, потом закрыл глаза, помассировал шею и затылок. И когда чуть полегчало, завертелись в голове бессвязные картины: ухмыляющийся Уваров, полуживой Долгоносик, сощурившийся Петухов, безмолвный, мглистый переулок, таксист Витя в беззвучном оре разевающий рот, крохотная сумка Можейкиной, бабка Митрошка, почему-то сидящая в дежурной части в милиции… И Вадим сразу озяб, хотя ночь была теплой, душноватой даже и безветренной. Он обхватил себя руками и поковылял к враждебному теперь дивану, все еще видя Митрошку в дежурной части. Перекинул подушку на другую сторону, потирая поясницу, осторожно опустился на диван, закутался в одеяло и, постепенно согреваясь, стал проваливаться в зыбкое забытье.
Проснулся с головной болью, с пересохшим ртом и с отяжелевшими, неприятно давящими на глаза веками. Но боль не мешала, и налитые свинцом веки не мешали, а лишь отвлекали, а голова была чистой и ясной, думалось легко и свободно, и мысли четко выстраивались в логическую цепочку. Правда, сжавшийся внутри холодный комочек еще зудел болезненно, но он начинал теплеть и притихал понемногу. Вадим решил уже, что сегодня ему делать. Он не знал еще, правильно он поступит или нет, но главное решил, а там будь что будет.
На кухне он заварил кофе, не крепкий, только для того, чтобы вкус его почувствовать, чтобы взбодриться чуть и тикающую головную боль унять. Когда ощутил пронзительный, дразнящий запах напитка, проснулся аппетит — он совсем забыл, что надо что-то съесть. Вадим полез в холодильник, достал масла — крохотный кусочек желтел в масленке, — сыр, начинающий твердеть и крошиться. Все Вадим делал медленно, без обычной суеты и торопни, потому что надо было потянуть время, потому что на часах было только начало десятого, а Беженцев раньше десяти на работе, как правило, не появлялся. Кофе пил долго, смаковал, запивая обжигающими глотками сдобренный маслом, подсохший, но все еще вкусный сыр. Потом закурил, на мгновение обрадовавшись сладости первой утренней сигареты. И опять посмотрел на часы — без нескольких минут десять. Еще час. Он притушил в пепельнице сигарету, затем помыл кружку, убрал хлеб, залил водой масленку и вернулся в комнату. Тонкая, как клинок шпаги, полоска яркого света, пробивающаяся меж плотных штор, словно разрезала стол напополам, и казалось даже, что стол дымится. Вадим недоуменно поднял брови, затем все понял и усмехнулся. Это высвечивались, невидимые обычно, микроскопические пылинки. «Надо бы убраться», — лениво подумал он и оглядел комнату. Ковер сдвинут, сморщен, на полу книги, газеты, исписанные листы бумаги, журналы, стол весь в пятнах, потеках, телевизор на паркете, какой-то жалкий, исцарапанный, да еще, бедняга, придавленный толстенными справочниками и томами энциклопедий, на полке книги в беспорядке, стоят накренившись, чуть не падают, а иные и попросту лежат… Но что поделаешь — один живу. Один.
А уж как легко было, когда развелся, не сразу правда, не в те минуты, когда из здания суда вышел (тогда-то колотилось сердчишко бешено, и коленки мелко подрагивали, и лицо огнем полыхало), развод по суду тяжкое дело. Да не в этом суть даже, просто сразу вдруг как-то понял, что навсегда он потерял человека, с кем бок о бок пять лет прожил, от кого ребенка такого чудесного заимел. Навсегда. Возврата быть не могло, как ни крути. Неважно им жилось, лучше никак, чем так, а все равно остались ведь спайки какие-то, пять лет запросто не выкинешь. Он тогда купил себе коньяку и просидел у Бежен-цева в квартире весь день и весь вечер, глотая коньяк, как воду. Женька в командировке был. А утром проснулся и понял, что на душе легко, что замечательно на душе, что просто распрекрасно на душе. И целых полгода в сладостной эйфории пребывал. Работал, погуливая помаленьку, легким флиртом развлекался, победы считал и очень радовался всему этому. Дашка вот только все покоя не давала, снилась она ему чуть ли не каждую ночь, но он научился справляться с собой и отгонял днем умело от себя приближающуюся вдруг тоску по дочке, по тому, что не суждено стать ему человеком номер один в ее жизни. Спокойно и просто ему жилось эти месяцы, ни волнений, ни тревог, знай работай себе в удовольствие, занимайся любимым делом, да девчонкам несмышленым в кафе пыль в глаза пускай, и не нужно ему было никого. Одному хорошо — ни обязанностей, ни отчета. Одному и отдыхается лучше, один и сосредоточиваешься скорей, и сил растраченных набираешься интенсивней… Но теперь вот худо что-то одному, неуютно, холодно. И бог с ними, с обязанностями и отчетами, бог с ними…
«Прибраться, — подумал Вадим, — все-таки надо, сию минуту, немедленно, зачем откладывать?» Вскинулся со стула, устремленно и легко поднялся, почувствовал дело. И мышцы на руках заныли колко в предчувствии работы, и все мысли, сомнения, заботы прочь из головы вылетели, и комок у горла рассосался, и в груди разжалось что-то, дышать веселей стало. Ринулся Вадим к окну первым делом — освободить его надо, вырвать из гардинового плена. Свет в комнату! Больше света! Чтоб все углы высветил, стены выбелил, чтоб непорядок, неразбериху, неряшливость квартирную обнажил… Взялся крепко пальцами за ткань, отбросил руки в разные стороны, и грохотнуло тут что-то над головой, заскрежетало, отскочил Вадим назад в испуге, по ходу дела больно ударившись бедром об угол стола, и, стремительно подняв глаза, увидел, как валится медленно и устрашающе карниз, таща вслед за собой округлый, огромный кусок посеревшей от времени штукатурки. И не успел он рук подставить, как ухнула тяжелая никелированная труба о подоконник, затем о стол, зазвенели встревоженно кольца на ней, сухо треснувшись о подоконник, разлетелся на мелкие меловые кусочки грузный шмат штукатурки… Вадим зло вскрикнул, рубанул воздух рукой, раз, второй, третий, с размаху завалился на диван, вмял лицо в подушки, с огромным усилием подавив вскипающие слезы…
Через час он позвонил Беженцеву. Без предисловий и объяснений, скоро и по-деловому попросил его выяснить имя и фамилию напарника Раткина и когда он заступает на ближайшую смену.
Беженцев изумился, потом спрашивать что-то стал, не очень тщательно подавляя свое любопытство, но не услышав ответов на вопросы, обиделся немного и с деловитой суховатостью сообщил, что постарается, если будет время, узнать к обеду.
— Поторопись! — оборвал Данин и повесил трубку.
После чего, наверное, любопытство Беженцева разгорелось с еще большей силой.
Вадим подмел пол, аккуратно, чего совсем уж не ожидал от себя, завернул трубу в шторы, поставил до поры до времени в коридоре, покурил, выпил кофе, посмотрел телевизор. Прошел час, второй. И Вадим опять у телефона, Беженцев все выяснил. Смена у Цыбина начиналась сегодня в восемь, и работал он до четырех утра. Времени было навалом, и следовало все обдумать. Вадим рассуждал просто. И выглядело это так.
Он сядет в машину к Цыбину и постарается поговорить с ним, но не так неосторожно и непрофессионально, как с Раткиным, а задушевней, беззаботней, веселей. Если ж Цыбин ничего не знает ни о Лео, ни еще о чем-нибудь таком интересном, внимания заслуживающем, тогда Вадим возьмет машину у того же Беженцева и поездит денек-другой за Витиной «Волгой» — авось и зацепит кого или чего.
Вадиму повезло. Цыбин оказался добродушным, простоватым, очень словоохотливым малым. Был он большелицым, большеротым, круглоглазым, выглядел моложе Раткина лет на пять, и так оно, наверное, и было. Как закурили, сразу начал рассказывать, сколько выпил вчера и почему. Оказывается, приятеля его, таксиста, судили за подделку трудовой книжки, а корысти в подделке никакой не было, только чтобы в такси устроиться. А когда Вадим спросил, неужели так расчудесно в такси, Цыбин зацокал языком и стал подсчитывать деньги, кто какие из его знакомцев получает. Тогда Вадим осторожненько намекнул, что, наверное, можно и больше. Вот он, мол, слышал, что у одного «хозяина» таксист на приколе, он полтора плана вышибает. Цыбин с живостью отозвался на эти слова. Мол, бывает и такое, но сам он не пробовал, когда предлагали, побаивался, а вдруг жулик какой этот «хозяин», ведь такие «бабки» только жулики имеют, и будет он на моей машине всякие дела темные крутить. Нет. Ну а сейчас уже давно не предлагают, меньше, видать, их стало, «хозяев». Хотя, правда, у напарника его, например, Витька, имеется такой клиент. Молодой совсем, а при таких деньжищах ой-ой-ой. Когда Вадим спросил, откуда Цыбин знает, что клиент молодой, тот ответил, мол, подвозил его как-то домой, Витек просил, он заболел как раз.
— И в солидном доме живет? — спросил Данин, унимая колотящееся сердце.
— В хорошем, — ответил Цыбин, — в старом кирпичном, в Шишковском переулке, напротив «Диеты», серый дом такой массивный, там всякие «деловые люди» живут. — и Цыбин со значением покачал головой…
Шишковский переулок не чета Каменному был, посветлей, повеселей, поразудалей, хотя шириной особой не отличался.
Да и дома вроде одного возраста были, и той же архитектуры, основательной, громоздкой. Но открытыми они какими-то виделись, распахнутыми всем и каждому, добродушными и посмеивающимися. То ли солнце переулок щедрее одаривало, то ли прохожие многочисленные живее и теплее его делали, то ли жэковские работники пожизнерадостней были — светлыми, яркими красками дома обновляли, но нельзя было без удовольствия по нему пройтись, в каком бы настроении ни пребывал, какие бы заботы ни одолевали…
На сей раз Вадим по-другому себя приодел, чтобы узнать было трудно, если кто из недавних знакомцев встретится — Лео, Витя или тот, в кепке из кожзаменителя. «Ну прямо Шерлок Холмс какой-то», — усмехнувшись, подумал он, когда собирался. Был он в брюках вельветовых, старых, заношенных, пузырящихся на коленях; в просторной рубашке, линяло-голубоватой, с короткими рукавами, в кепочке с длиннющим козырьком из потертой джинсовой ткани, на глазах темные очки, «фирменные», модные. На шее висел фотоаппарат, под мышкой зажата тренога под него. Ну что ж, ни дать ни взять разухабистый, развязный «киношник» из мелких — ассистент какой-нибудь, помощник режиссера. Натуру для съемок подыскивает. Для начала он неторопливо прошелся по одной стороне, затем по другой, заинтересованно на дома глазея, то и дело экспонометр вынимая, — в роль входил. Потом в «Диету» зашел — чистенький прохладный магазинчик, вкусно пахнущий сыром и творогом; отметил, что тут имеется кафетерий и окно его прямо на ворота нужного двора выходит, — в случае чего можно воспользоваться. Выйдя из магазина, постоял, деловито озираясь, и решительно направился к этому, самому нужному ему дому. Миновал тяжелые, чугунные, тяжеловесные, с незапамятных времен, видать, установленные ворота и очутился в уютном, тенистом, аккуратном дворике четырехэтажного старинного особняка.
Лавочек возле подъездов не было, и это Вадима огорчило. План у него был простой и единственно, как ему казалось, возможный: попытаться заинтересовать, а потом разговорить завсегдатаев подъездных лавочек. Ему почему-то казалось, что именно в таких дворах стариков и старушек, вышедших в полдень погреться и подышать свежим воздухом, должно быть хоть пруд пруди, а здесь никого. Он поморщился недовольно, раздумывая, потер подбородок, повернулся влево, потом вправо и едва сдержал смешок облегчения. Нет, шалишь, брат, — все четко он рассчитал.
Кто-то да должен быть здесь. Вон за кустиками пышными, изумрудными скрытый ветвями густой липы мужчина в очках сидит. Местный? Или так, с улицы зашел, отдохнуть, жару переждать? Поближе подойти надо, рассмотреть повнимательней. Но не сразу. Вадим сначала приблизился к дому, прошел вдоль него, потом отступил на несколько шагов и так голову наклонил, и так, делая вид, чтопримеряется к чему-то, высчитывает, соображает. Потом бочком к кустам подошел, наткнувшись на них, чертыхнулся, обогнул их и оказался совсем неподалеку от мужчины. Улыбнулся, тронул кепку за козырек, сказал любезно:
— Здравствуйте.
— Здравствуйте, — на мгновение скривившись от боли или напряжения, живо отозвался тот и чуть подвинулся, место подле себя высвобождая. И тут только Вадим увидел, что у мужчины нет ноги и рядом на скамейке никелированно поблескивали аккуратно сложенные металлические костыли. Инвалид. Значит, местный скорей всего. Мужчина был молод, худ, бледен, вытянутое лицо обрамляла тщательно выстриженная шкиперская бородка. Он глядел на Вадима с интересом, словно ждал от него чего-то необычного и интригующего.
— Вот натуру для съемок ищу, — как бы оправдываясь, что потревожил мужчину, сказал Вадим.
— Вы из кино? — широко улыбнувшись спросил мужчина.
— Из кино, что на радость нам дано, — с легким самодовольством (как и полагается киношнику) подтвердил Вадим.
— Интересно там работать? — он встрепенулся. — Вы садитесь, давайте поговорим. Интересно работать, да?
— Очень, — улыбнулся Вадим, осторожно кладя треногу и усаживаясь.
— А вы кто, режиссер? Оператор?
— Ассистент режиссера. Я еще учусь на заочном.
— Вы счастливый. Кино — это чудо. Я давно бы умер без кино. Без кино и без книг. И без мамы, — сказал мужчина.
Вадим откинулся на спинку скамьи; чтоб неожиданную растерянность скрыть, провел по лицу ладонью и полез за сигаретами, за спасительными этими палочками-выручалочками. И пока лез, тщетно слова подыскивал, чтобы разговор продолжить, на другую тему его перевести. А мужчина уже смеялся, безмятежно, по-детски:
— Забыл представиться, вот как бывает. Я — Михеев Юрий, Юра.
Вадим замешкался на мгновение:
— Седов Александр, очень приятно.
— Я все подряд смотрю. Все картины и по телевизору, и в кино. В кино мы с мамой ходим. И вы знаете, мне кажется, что я сам могу кино делать. Я его выдумываю, каждый день, и утром, и вечером, и ночью иногда, когда уснуть не могу, совсем-совсем не могу… Когда шум за стеной, когда на улице смеются…
— Вы в этом доме живете?
— Да, в этом, — кивнул Михеев. — А еще я рисую кино.
— Рисуете?
— Ну как вам объяснить. Это не мультфильм, это другое. Ну что воображаю, что фантазирую, что выдумываю, то и рисую, понимаете. Иногда фильм вмещается в один рисунок, а иногда много рисунков надо. Хотите, покажу, принесу сейчас, хотите? — Он коснулся уже костылей.
Вадим смутился, но виду не подал, прокашлял, положил Михееву руку на плечо, по-свойски, по-дружески, улыбнулся как можно мягче, сказал:
— Времени маловато, в другой раз. Я как-нибудь зайду. Хорошо?
И растаяла радость за тонкими стеклами очков, притушился блеск, обмякло лицо, и шея заморщилась вмиг, и, подрагивая, сдвинулись плечи вперед:
— Не надо, — глухо сказал Михеев. — Вы, наверное, думаете: ах, еще один в кино хочет, авось повезет. Нет, не так все. Не в этом дело. Это трудно понять, для этого нужно быть, — он посмотрел на костыли и запнулся. — И рисую я плохо, ужасающе плохо. Я сам знаю об этом, и мама знает, только скрывает. Но я-то знаю. А что я еще могу? Что у меня еще есть? Кино, книги, мама…
— Не так уж мало, — глядя перед собой, сказал Вадим.
— А жизнь? — усмехнулся Михеев.
Вадим не ответил, не очень удачно сделав вид, что не расслышал последние слова. Помолчал, потом отбросил сигарету в сторону, сощурился, будто припоминая что-то, проговорил:
— Знакомый дом, чем больше смотрю, тем больше узнаю. Кто-то из знакомых в нем жил, а кто — не помню. Давно обитаете здесь?
— Нет, четыре месяца. Нас после капремонта второй половины дома заселили.
— Значит, ни с кем не знакомы?
— Ни с кем.
— Вспомнил. Одноклассник мой здесь жил, высокий, белобрысый такой, симпатичный…
— Знаю. Он во втором подъезде живет.
— Ха-ха, видите, какая память. А в какой квартире?
— Не знаю. Просто видел его несколько раз. В подъезд заходил, такой модный, надменный…
— Модный, надменный, — повторил Вадим. — Он всегда таким был. Во всяком случае, казался таким. Но тот ли? — засомневался он вдруг. — Имя не знаете его, не слыхали?
— Не слыхал ни разу. Хотя разов этих было два, три…
— Ну хорошо, пошел я. Не приглянулся мне этот дом. Франтоват, выхолощен. Нам бы попроще чего, подревней, чтоб пригнутым, сгорбленным был, но еще гордым, не сдающимся. Знаете, старики такие бывают? Да… Ежели одноклассника моего увидите, — как бы между прочим заметил Вадим, — не говорите, что со мной знакомы. Я его сам найду. Сюрприз преподнесу, дружили как-никак. Хорошо?
— Конечно. Я его вообще не знаю. И еще неизвестно, тут ли именно он живет. Да и вас-то толком тоже не знаю. Так что не беспокойтесь.
— И чудесно, — сказал Вадим. — А я зайду. Будет время, забегу, — рисунки поглядеть.
— Не надо. Ни к чему. Пообещаете, а я ждать буду, надеяться, а вы не приедете, закрутитесь, забудете. Да и кто я вам и зачем нужен? Такие, как я, нужны только мамам, да и то…
Идите. Прощайте.
— Ну это вы хватили, — Вадим постарался, чтобы возмущение его выглядело искренним. Даже руками резко взмахнул для правдоподобия. — Сильнее надо быть, Юра, поджать себя надо и научиться побеждать уныние, безысходность, страхи…
И осекся, оборвал себя на полуфразе, потому что понял, что не он должен это говорить, кто-нибудь другой, но только не он. Ненавидел всегда тех, кто поучает, правильные слова говорит, а для самих слова эти звук пустой, ни к чему не обязывающий, к самому себе не применимый никоим образом. И вот теперь уподобился им. Скверно.
Он поднялся, подхватил треногу, протянул руку Михееву, пожал ее крепко и пошел к воротам напрямик через кусты, упругие, жесткие, как проволока. Они сердито цеплялись за штанины, пока он продирался, кололись, опутывали ноги, словно не желали пускать. Когда выбрался на асфальт, услышал за спиной голос:
— Я научусь, я буду сильнее, вот увидите.
Что теперь? Ну узнал, что бывает он здесь, а живет ли? Как выяснить? Не идти же в ЖЭК домовые книги просматривать, не дадут, не позволят. Значит, одно остается — наблюдать. Как долго? День, два, неделю, а может, он и месяц не появится. Но все равно попытаться надо, а вдруг, а вдруг…
Магазин вновь встретил прохладой и сырным ароматом, а когда Данин вошел в кафетерий, сказочная кофейная горечь в нос ударила. И тотчас пришел голод, явственно ощутилась пустота в желудке. Вадим встал в очередь. Пока неспешно двигался к прилавку, то и дело поглядывал в окно. Дом будто вымер — никто не выходил со двора, никто не входил… Данин ухватил поудобней треногу, и в ту же секунду кто-то слабо ойкнул сзади. Вадим обернулся, но тренога зацепилась за что-то, выскользнула и рухнула с грохотом. Пожилая худенькая женщина, стоящая за спиной, испуганно завизжала:
— Ой, нога, нога!
— Простите бога ради, — сказал Вадим, поспешно наклоняясь за треногой. Какая-то старушка, кругленькая, чистенькая, стоящая еще дальше, укоризненно проговорила:
— Чего это вы, мужчина, людей своим зонтом тычете?
— Это не зонтик, — запальчиво выкрикнул белобрысый мальчишка лет пяти, сидевший со строгой мамой совсем рядом за столиком. — Это гарпун на кашалотов. Видите, заостренные концы.
— Совсем очумели, — румяная, щекастая продавщица всплеснула руками. — С гарпунами в магазин наладились. У нас нет рыбного отдела, товарищ!
— Хулиган! — пьяно ощерился из дальнего угла зальчика грязно одетый мужчина с жеваным, посиневшим лицом. Возле ножки его стола мутно зеленела на треть заполненная бутылка «Розового крепкого». — В тюрьму его надо.
— Это не зонтик и не гарпун, — сказал Вадим, обращаясь к нему. — Это отбойный молоток. Отбивает желание распивать спиртные напитки в общественных местах.
И Вадим сделал шаг в его сторону. Мужик вскочил из-за стола, насупился, набычился, сжал деревянно сухие, надтреснутые губы, злобненько сверкнул мутными, бесцветными глазками, шевельнул ногой, мятой обтрепанной штаниной укрывая бутылку. И прикосновение к равнодушному стеклу словно сил ему придало, он подобрался весь, уже зная, что ему делать, уже изготавливаясь к защите самого дорогого на свете, без чего и жизнь не жизнь, а так, чертовщина какая-то. И осмелел, ощерился, прошипел с ненавистью:
— Распустились, молокососы, сопляки, закона на вас нету!
Вот это уж совсем не понравилось Вадиму. Побледнел он и, сдерживая мгновенную ярость, развалисто, чтобы все видели, что он спокоен, двинулся к мужику, на ходу недобро процедил:
— Сейчас я разберусь с тобой, юрист!
У того мелькнул испуг в глазах, но исчез быстро, будто чуял он, что без поддержки не останется, что все, кто присутствует здесь, на его стороне. И вправду, не успел Данин дойти до него, как услышал за спиной раздраженный, визгливый голос продавщицы:
— Не троньте его, гражданин, не хулиганьте, он больной…
И через мгновение, обращаясь к алкашу:
— А ты лучше уходи, Ленька, от греха подальше, оштрафуют, а то гляди и в каталажку увезут.
Видно было, что отступать Леньке совсем не хочется, что он бы сейчас еще поговорил, высказал бы непримиримое отношение к новому поколению, тем более что при всех этот шкет в кепке не посмел бы его тронуть. Но, наверное, пользовалась авторитетом у местной братии щекастая продавщица, и поэтому, неприязненно кривясь и опираясь руками о стол, поднялся Ленька, посмотрел под ноги и, качнувшись, потянулся к бутылке. И в это мгновение Вадим, который был уже совсем близко, коротким и точным движением ноги сбил бутылку. Покатилась она, глухо позвякивая по кафельному полу, нехотя посочилась из горлышка красная маслянистая жидкость. За спиной охнули все разом, будто выдохнули, а Ленька и попросту завыл, как подраненный пес, жалобно и свирепо в то же время.
Вадим замер, оторопев на секунду. Что стонет этот поистертый, поизмятый мужичишка, что убивается, или припадок у него, язва, сердце схватило? Неужто из-за бутылки так горестно ему стало? Надо же, гляди, как скрутило, прямо перекорежило всего от широких косолапых ступней до лысеющей макушки. Ненормальный, или последний из алкогольных могикан?
— Я же говорила тебе, черт лохматый, что он больной! — с негодованием выкрикнула продавщица. — Припадочный он!
«Зачем? — вяло подумал Вадим. — Зачем мне это надо? Ведь не хотел скандалить. Пугнуть хотел, и все. И для чего бутылку сбил?»
И вдруг разом успокоился Ленька, поутих, пообмяк, устало по глазам провел и, пошатываясь, как слепой, побрел к выходу.
«Зачем?» — опять подумал Данин.
У дверей Ленька приостановился, обернулся, вытянул корявый палец в сторону Вадима, проговорил злобно, с придыханием:
— Еще встретимся, посчитаюсь я с тобой, падаль!
Вадим ухватил треногу правой рукой, потянул из-под мышки и качнулся к Леньке, но тот уже проворно скрылся в дверях.
Очередь презрительно сверлила Вадима взглядами, когда подходил он к прилавку, и явственно читалось в глазах: справился здоровый балбес с убогоньким, пожилым и больным, нашел перед кем ухарство свое показывать. И кто воспитывает таких? Пить преступно — это верно, а может, он помрет без этого. Но все молчали, щекастая продавщица молчала, и когда кофе ему наливала и сосиски в тарелку клала, но вот только в самый последний момент не сдержалась, бумажную упаковку с сахаром швырнула так, что она слетела с прилавка и шмякнулась об пол у ног Вадима.
Данин поднимать сахар не стал, усмехнулся только и пошел к столику. Кто-то сказал ему в спину: «Нахал».
Только устроился за столиком у окна и едва успел треногу и фотоаппарат на стуле аккуратно уложить и мельком на улицу взглянуть на дом — там все так же пустынно было, — как тронул его кто-то за руку, невесомо и осторожно, словно прохладный ветерок разгоряченной кожи коснулся. Уже готовый к новому отпору, Вадим неспешно повернул голову и выдохнул свободно, и улыбнулся. Мальчишка рядом стоял, белобрысый, глазастый, легонький, тот самый, что треногу за гарпун принял. Высокомерная длиннолицая мама крикнула ему, вскипая:
— Митя, иди сюда, иди к маме, я тебе говорю!
Но сама не встала, не подошла, не взяла мальчишку за руку, осталась сидеть, натянутая, прямая, недовольно буравя мальчишку и Вадима, ожидая от сына исполнения приказа.
— Сейчас, мама, — вежливо ответил мальчишка, не оборачиваясь, и смело посмотрел Данину в лицо. — А это правда гарпун на кашалотов?
— Что гарпун — правда, — сказал Вадим серьезно. — Но только не на кашалотов, а на акул. Сразу трех акул можно им загарпунить…
— Что вы ребенку голову морочите? — опять подала голос мама.
— А вы ловили акул? — спросил мальчишка, вытягиваясь и завороженно глядя на Данина.
— Ловил.
— А они страшные?
— Не все. Я знал одну очень добрую акулу. Однажды мы охотились на них в Карибском море, это такое море между Северной и Южной Америкой. В давние времена оно кишело пиратами, как теперь акулами. Так вот во время охоты я поймал вот этим гарпуном маленького акуленка. Он был такой беспомощный, такой жалкий, что мы решили его не убивать, хотя из него могла вырасти очень злая и жестокая акула. Но все равно никто не решился его убить. Мы сделали для него бассейн на корабле, подлечили его, и когда он совсем стал здоровым, выпустили в море. Очень долго он плыл за кораблем, прощался с нами, а потом отстал. Рыбаки нам рассказывали потом, что у побережья появилась удивительная акула, она спасает тонущих, отгоняет от одиноких лодок стаи своих сородичей, показывает дорогу заблудившимся кораблям. Понимаешь, эта акула ответила добром на добро. А ты можешь представить себе, как ей было страшно идти против своей кровожадной стаи? Другие акулы ведь могли съесть ее, но она не испугалась, потому что ею руководила благодарность, ею руководила совесть…
— Ну это вы загнули, гражданин, — надменно усмехнувшись, заметила мама. — Какая у акулы совесть?
«И верно, загнул, — улыбнувшись про себя, подумал Вадим, — про совесть акулью точно загнул».
— Все, хватит, Митя. — Женщина не выдержала, встала, потянула за собой сумки. — Довольно слушать всякую белиберду. Пошли.
— А она еще живет? — едва слышно спросил мальчишка и сжался в ожидании ответа.
— Не знаю, — сказал Вадим.
— А может, ее убили?
— Может быть.
Лицо у мальчика съежилось, глаза повлажнели, заблестев.
— Никогда не буду охотиться на акул, — прошептал он.
Женщина, негодуя, схватила мальчика за руку, дернула на себя, процедила, недобро глядя на Вадима:
— Довели ребенка до слез, как вам не стыдно!
Вадим улыбнулся, подмигнул мальчику и принялся за остывший кофе. Митя нехотя побрел за мамой к выходу, у дверей он обернулся и помахал рукой. Вадим допил безвкусный напиток, посмотрел в окно, затем оглядел зальчик. Все теперь взирали на него с сочувствием, его простили и даже больше того — пожалели. Неужели для того, чтобы снискать людское сочувствие, надо оказаться слабым и побежденным — неважно, какой ты на самом деле, хороший или дрянной, главное — слабым и беззащитным? Он скоро собрался и, не глядя ни на кого, вышел из магазина.
Часа полтора он еще просидел на лавочке в крохотном тенистом скверике чуть наискосок от предполагаемого дома Лео, пристально наблюдая за воротами. Но тщетно, знакомых лиц он так и не углядел. Потом вдруг стало прохладно, и он решил оставить свой пост до завтра.
А вечером был разговор с женой, бывшей женой. Такой же разговор, как и прежние, за этот неполный год со дня их развода, вяловатый, бесстрастный, ни о чем, обыкновенная телефонная беседа хорошо знакомых, но не близких людей. Позвонила она. Впрочем, как правило, она всегда звонила сама. Он набирал ес номер редко, только для того, чтобы узнать, как дочь и когда можно Дашку увидеть. Зачем она звонила? Раньше якобы всегда по делу, умело отыскивая различные поводы и причины, а в последнее время просто так: «Ну как дела?» И уже не стеснялась, как раньше, что звонит просто так, без дела. Говорила всегда то равнодушным, то излишне веселым тоном, иной раз как бы между прочим, как бы в шутку интересовалась, не завел ли кого он себе, не влюбился ли и, когда он, усмехаясь, неопределенно отвечал что-то, сама же себе и отвечала: «А собственно, кто еще тебя такого с твоим скверным характером полюбит!» Так, поразвлекаются, парень ты, мол, интересный, неглупый, и все. Мол, только я тебя и могла терпеть. Поразительная самоуверенность. Хотя и говорилось все это в шутливой манере, он знал, что она искренне убеждена в этом. Смешно. О своей личной жизни сообщала только намеками, мол, кто-то там есть и этих «кого-то» много — сразу и не выберешь. Присочиняла, наверное, а может, и нет, — женщина-то она красивая. А впрочем, ему было все равно, ну совершенно все равно. Он даже удивился, как ему все равно и как скоро он это почувствовал. В конце разговора сообщила, что послезавтра уходит в отпуск и неделю будет в городе, и если у него будет время, он может сколько угодно гулять с Дашкой — послезавтра в сад она уже не пойдет.
Положив трубку, Вадим вдруг почувствовал острую жалость к себе. И не только разговор этот поводом послужил, нет. Вся жизнь показалась ему какой-то темной, унылой, пугающей и в общем-то никчемной. Но совсем немного времени прошло, и сумел-таки он притушить и тоску безотчетную, и жалость эту дурацкую. Поужинал, принял душ и завалился спать.
Весь день проторчал в городской библиотеке. Для того чтобы писать о Румянцеве, нужно было почувствовать аромат того времени, вникнуть в его атмосферу, уловить температуру отношений между людьми той эпохи. И еще нужны были детали, как одевались, что ели, на чем ездили, сколько платили, как квартиры обставляли и т. д. и т. п. Много надо было знать, и он узнавал. Читал, практически только читал, лишь изредка делал заметки для памяти. Читал все подряд: книги, журналы, воспоминания современников.
Одуревший и туго соображающий, к семи часам выбрался наконец на улицу и спохватился тут же: ведь сегодня он хотел понаблюдать за тем домом, где бывал Лео. Побежал на автобус, но ни в первый, ни во второй не влез — плотными, без единого просвета и трещинки толпами втискивались уставшие люди в кренившиеся к тротуарам автобусы. Конец рабочего дня. Час пик. Отчаявшись, Вадим взял такси, и то с трудом — охотников было предостаточно. Откинувшись на расхлябанную, непрочно зафиксированную спинку сиденья, сказал шоферу: «Быстрее. Спешу!» А когда замелькали стремительно справа и слева люди, дома, машины, лениво подумал вдруг: «Куда спешу? Почему быстрее?…»
Вышел из машины в начале переулка, не доезжая до нужного дома примерно квартал. Уже шагая по тротуару, посмеялся невесело над собой — не отдавая отчета, машинально поступил, как герои милицейских книг: покинул «оперативный» автомобиль за квартал до «объекта». Надо было бы еще пару-тройку такси сменить, каждый раз называя другие адреса, прежде чем сюда добраться, совсем было бы весело. Конспиратор.
Без маскировки сегодня был, без кепки длинной, без очков, без треноги. Вспомнив вчерашние свои переодевания, опять посмеялся, таким нелепым и наивным показался ему вчерашний маскарад. И впрямь Шерлок Холмс доморощенный. Проходя мимо остывающих от дневного солнца витрин магазина, отвернулся автоматически, чтобы не узнала его вчерашняя продавщица, углядев знакомое лицо через стекла, хотя, наверное, наплевать ей на него, и забыла она уже о вчерашнем происшествии, но все равно не хотелось Вадиму привлекать ее внимание. Жаль, конечно, хорошее место для наблюдения было, а впрочем, долго там не просидишь — это же не ресторан или кафе, так, экспресс-закусочная. Так что на лавочке в крохотном зеленом сквере удобней.
Аккуратненький, неприметный, тесно вжатый меж крепких приземистых трехэтажных купеческих домов, скверик был пуст, тих и прохладен. Ну просто самое что ни на есть подходящее место для неспешных раздумий и размышлений, для принятия основательных решений, для благостного и умиротворяющего уединения. А вот думать как раз и не думалось, никак. Ни с сигаретой, ни без сигареты; и как ни садись — так или эдак, ногу на ногу положив или откинувшись на сухо поскрипывающую спинку. Не думалось, и все тут. Ни единой не было мысли, и ухватиться не за что было. Пусто. Непривычно пусто. Пугающе пусто. Устал. Или нет, скорее для другого дела уже изготовился, подобрался в ожидании. Потому что понял вдруг в какой-то неуловимый миг, что произойдет сегодня что-то, хорошее или плохое — неведомо, но произойдет.
Через час напряжение спало, и действительно прошла усталость. От курения першило в горле и горчил язык. Потом северный ветер принес прохладу, в одночасье выстудил пальцы, будто вовсе и не лето, а поздняя осень, а потом захотелось есть, и настроение испортилось вконец… А потом он увидел Можейкину, понурую, вялую, посеревшую, унылую, как старушка, одетую, поддерживаемую под руку мужем-доцентом Борисом Александровичем, теперь уже не вкрадчивым, не опасливым, не угодливо сутуловатым, а крепким, уверенным, надменно-брезгливо на жену глядящим. Казалось, жестко прихватив женщину за локоть, он волочил чуть не падающую женщину за собой. После девяти переулок обезлюдел, и некому было обратить на них внимание, кроме самого Вадима. И только сейчас он сообразил, что вышли они именно с того самого двора. У кого же они там были? Неужто у Лео? У знакомых его? Или просто случай, совпадение — обычное дело, повеселились немного в гостях и пошли домой? Интересный домик, занятный домик. Вадим приподнялся было, но остановился тут же. Сперва обдумать надо, как быть, — слишком уж неожиданно все. Подойти к ним, спросить, где они были? Глупо. Посмеются и пошлют его куда подальше. Идти за ними. Да он и так знает, где они живут.
Но вот подошли они к машине, к синим новеньким сверкающим «Жигулям», что в нескольких десятках метров от дома к бордюру тротуара притерлась, уселись в нее — Можейкин поспешно, чуточку суетясь, Можейкина, казалось, нехотя и недоуменно, упираясь даже, как капризничающий ребенок, — и решилась для Вадима задача его нелегкая, как быть, — рокотнула машина, как зверь голодный, рванулась лихо и помчалась по мостовой, нарушая недвижность и тишину переулка. Так у кого же они были все же? У Лео? Или в гостях у посторонних совсем людей? И что это даст в конце концов, если он узнает, к кому они приходили? А даст то, что станет ясно, что муж — доцент Борис Александрович в курсе дела. Значит, договорились, полюбовно все решили. И из-за чего же тогда весь сыр-бор он, Вадим, затевает? Не из-за чего. Теперь просто дознаться надо, у кого Можейкин здесь был. И вообще разобраться во всем, а то совсем запутался. Понять, каждому фактику свое место найти, иначе скверно будет, неспокойно, муторно, давить что-то непонятное будет, изводить, мучить. Он себя знает, не первый год к себе приглядывается. «Как чудно сказал, к себе приглядывается», — машинально отметил Вадим. А для этого крепко подумать надо, очень крепко. Вот сиди сейчас и думай, пока в состоянии таком возбужденном пребываешь, пока остро и ясно так все ощущается. Он поежился, совсем зябко стало, и курточка не спасала, хотя раньше и в осеннюю непогодицу никогда он не мерз в ней, а сейчас вот… А может, плюнуть на все и махнуть домой? Он-то здесь при чем, ему-то что надо? Живи спокойно, приятель, работай в удовольствие, развлекайся, люби, радуйся. Жизнь-το, она одна и такая короткая. «Вот покурю сейчас и пойду, — подумал, — успокоюсь и пойду». Вынул сигареты покрасневшими пальцами, с трудом закурил на ветру. Чертов климат, днем, как в Сахаре, к ночи по-северному выстуживается все. С рождения живет здесь, а привыкнуть не может.
А вот это уже совсем интересно! По другой стороне улицы, по тротуару, бодро и весело вышагивали двое. Вадим узнал их сразу, как только показались они из-за угла. Долговязый в кепке из кожзаменителя, чуть склонившись вбок, что-то рассказывал второму, черненькому, модненькому, в яркой курточке, белых кроссовках — «курьеру». Куда они шли, Вадим уже знал наверняка. Уж слишком все закономерно для случайного совпадения. Раз и эти персонажи на сцене появились, то направлялись они непременно в этот самый занятный дом. Теперь только не упустить их, успеть посмотреть, в какой подъезд они войдут, в какую квартиру. Сложно это будет, но надо, очень надо. Знобкая дрожь внутри, появившаяся после того, как Дании увидел их, унялась. Страха не было и вовсе, он не успел родиться, времени не было, или просто его перекрыли непонятно откуда взявшаяся злость и легкое возбуждение человека, долго настраивавшегося и уже изготовившегося к действию. Вадим был спокоен, собран, решителен. Парочка свернула во двор. Вадим, пригнувшись, чтобы ветви не били по лицу, бесшумно выскользнул из скверика, пересек мостовую, мягко и скоро ступая, дошел до ворот, огляделся по сторонам, — поблизости никого, только далеко, в начале переулка, маячил женский силуэт — и, осторожно высунувшись из-за кирпичной тумбы, осмотрел двор. «Кепка» и «курьер» уже входили в подъезд. Дверь пискнула и закрылась. Вадим стремительно пронесся до подъезда, остановился, прислушиваясь, чертыхнулся, добротно раньше подъезды мастерили, тамбур метра три, двери в три пальца толщиной, плотно, без щелочки к косякам пригнанные, — ничегошеньки не слышно. Значит, внутрь войти надо, посмотреть, в какую квартиру они постучатся, или по слуху хотя бы определить, на каком этаже они, с какой стороны лестничной площадки — слева, справа.
Первым делом тихонько и медленно приоткрыть, чтоб не визгнула, не скрипнула, не дай Бог, теперь вторую, эта попроще, полегче, из новеньких. Вадим замер, повел головой. Донесся звук шаркающих, неспешных шагов. Так, еще поднимаются, значит, на третий, последний этаж идут. А квартира? Какая квартира?! По-кошачьи невесомо, на цыпочках преодолел он один пролет, второй, третий, опять застыл, затаив дыхание. Шаги наверху оборвались. Стало тихо до звона в ушах, только едва различимо где-то мурлыкала музыка и мягко бились мухи об оконное стекло на площадке. Или это ему казалось? Почему эти двое не звонят в дверь? Чего ждут? Хоть подали бы голос. Вадим оттолкнулся от стены, сделал шаг к перилам, вытянул шею, взглянув наверх в лестничный пролет и увидел сощуренные глазки «кепки». Тот смотрел на него сверху, и можно было дотянуться рукой до него.
— Это он, сука! — приглушенно процедил «кепка». — Я же говорил, кто-то топает за нами. Давай вниз!
Голова исчезла, и дробно застучали две пары каблуков по ступеням. Вадим стремглав скатился с лестницы, неестественно высоко подпрыгивая, промчался еще по трем пролетам, не удержавшись, по инерции врезался с грохотом в подъездную дверь, настежь распахнув ее. Снабженная крепкой пружиной, она с силой потянулась назад и с размаху больно ударила Вадима по щиколотке. Снова дверь, и он на улице. Двор остался позади, теперь направо по переулку, к центру, к людям. Вадим коротко оглянулся. Парни, набычившись, неслись метрах в тридцати.
Держатся неплохо, часто им, видать, бегать-то приходилось, догонять, вот как сейчас, или убегать? Убегать, конечно, чаще, и во сне, и мысленно, и наяву, такие, как они, всегда, от кого-то убегают, всегда в постоянной готовности бежать. Ну и черт с ними, тренированными, их ненадолго хватит вот в таком темпе держаться, наверняка подорвано у них сердчишко-то водкой и куревом. Так, переулок кончается, теперь, чтобы путь к многолюдным улицам сократить, через пустырь надо, направо. Ширкнули кусты, цепляясь за брюки, бумажно прошелестела листва на обвислых тяжелых осиновых ветвях — и вот он, пустырь. Не совсем пустырь, правда, посреди почти до основания разрушенный дом стоит, чуть поодаль деревянные сараи, уже покосившиеся, а вокруг в радиусе метров сто, совсем пусто. Дома в отдалении, огоньки, темные очертания деревьев и кустарника. Вадим прибавил ходу, опять обернулся. Ты смотри, не отстают «бегуны», держатся! Ну-ка, еще подбавим, недолго осталось, скоро шумные центральные улицы, а там и милиция… Поравнявшись с сараями, Вадим снова глянул через плечо. Ну вот и хорошо, отстают мальчики, кончился запал. Краем глаза Вадим уловил движение возле сарая. Кто здесь может быть? По нужде кто завернул или просто свежим воздухом перед сном дышать вышел? Длинная тень отделилась от одного из сараев, метнулась навстречу Вадиму. В полутьме угасающего дня различил он знакомое лицо, но не успел вспомнить, кто это, — до высверка в глазах что-то больно ударило его по ногам, и он упал, но поднялся мгновенно. Ноги саднило, в рот забился песок. Он сплюнул, быстро взглянул на неожиданного противника и вот теперь узнал его. Ленька. Тот самый больной из кафетерия. Он стоял, чуть согнувшись, широко расставив ноги, а в руках его белела узкая доска метра два длиной.
Ей-то он и двинул Вадима по ногам. Подонок. И откуда он здесь взялся?
— Встретились все же, — нетвердо, со всхлипом проговорил Ленька, шмыгнул носом и добавил, глупо хихикнув: — Ща тебе разделаю, падлу! — Его повело в сторону вместе с доской, но он удержался. — Будто кто-то потянул меня сюда… Есть Бог!
Ладно, с тобой мы потом разберемся, а теперь бежать, мордовороты эти совсем близко. Два десятка метров до них, кряхтят, трубно, прерывисто дышат, будто у самого уха уже; грузно по-слоновьи вбивают ноги в песок. Вадим повернулся сноровисто, сделал несколько стремительных пружинистых шагов и застыл, будто в стену уперся, внезапно вдруг подумав: а почему он, собственно, убегает? Струсил? Испугался двух не особо крепких мерзавцев? Почему он бежит, поджавши хвост как заяц? Не оценил ситуацию, не разобрался, что к чему, а кинулся сломя голову прочь. Трус, конечно же, трус. Вадим круто развернулся, встал в привычную стойку и встретил «курьера» хлестким ударом ноги в голову. К великому Вадимову удивлению, тот ловко и умело увернулся, и ступня Вадима просвистела мимо его уха, в свою очередь, «курьер» отработанно выкинул правую ногу вперед, и Вадим согнулся от боли в паху. Профессионал. Справа почти в метре заметил «кепку» и тут же с силой отбросил от себя правую руку и костяшками кисти угодил «кепке» в нос. Тот завыл истошно и присел на корточки. «Курьер» выругался, встряхнул руками, сбрасывая напряжение, и медленно стал приближаться. По мере того как приближался, принимал фронтальную стойку.
Вадим ждал, напружинившись, собравшись, зорко наблюдая за каждым движением «курьера». Почти невидимо взметнулась нога. Вадим отбил, с трудом отбил, почувствовав острую, сильную боль в локте. Еще удар, он нырнул вбок и, в свою очередь, попытался дотянуться кулаком до «курьера». Удалось, не сильно. «Курьер» отскочил. Крепкий, обученный малый! «Не справлюсь ведь, — подумал Вадим и спохватился. — Вот считай, уже и проиграл, раз так подумал, ч-черт!» Удар по затылку был точный и аккуратный, падая, Вадим невольно полуобернулся и мельком увидел окровавленное, но ухмыляющееся лицо «кепки». Кто-то вскрикнул придушенно: «Ой, убивают, господи!», это Ленька, наверное. А потом Вадим стал проваливаться в пустоту.
Очнулся быстро через две-три секунды.
— Оклемался, — сказал кто-то. Голос был приятный, чуть надтреснутый. — А если бы убил, балбес? Камень не кулак.
— Так ему и надо, — отозвались обиженно. — Весь нос расхреначил.
— Это не работа, дурак.
— А если бы он тебя?
— На-ка выкуси, за себя беспокойся. Ладно, сколько ты этому алкашу дал?
— Четвертной.
— Смотри, если он вякнет где что…
Вадим напрягся, оттолкнулся локтями, встал на четвереньки, поднялся, но не так спешно, как хотелось бы, голова раскалывалась, перед глазами плыли цветные пятна. Его снова сбили с ног и молча, посапывая, принялись дубасить ногами. Сначала было больно, потом стало горячо, во всем теле, в голове, и над глазами что-то начало лопаться. Словно сквозь вату услышал.
— Брось ерундой заниматься, сявка, брось в сыщиков-разбойников играть. По-доброму тебя просили. Брось. Забудь обо всем. На перо нарвешься, не рад будешь… Пошли, камне — метатель.
— А можь того… бабки у него в карманах?
— Пошли, сказал…
Глуховато и отрывисто скрипнул песок под ногами, и растаяли скорые шаги, и стало тихо. А он лежал, не шевелясь, и даже не подумал, что надо подняться, что надо встать и идти, даже глаз не открыл. И совсем не боль мешала ему, хотя все тело была сплошная боль; и не обида, что так по-дурацки, так нелепо все вышло, что по-школярски наивно он действовал, что практически без схватки проиграл этот бой, не драку, а именно бой от начала до конца. Усталость ему мешала, самая обыкновенная усталость. Отползти бы сейчас куда-нибудь в уютное теплое местечко, в мягкую душистую траву и лежать без движений сутки, двое, трое, и чтоб не искал его никто, а если бы и искали, то не нашли, и чтобы не видеть никого и ничего, только звезды, только солнце, только небо черное, или голубое, или облаками увешанное. И замечательно, если б не думалось, чтоб голова была легкая и свободная, а если бы и приходили мысли — то простенькие, безмятежные, розовенькие, как в детстве…
Закряхтели, заныли подгнившие стены сараев, жестяно грохотнула разболтавшаяся крыша на доме, громким шепотом заговорили деревья вдалеке. Ветер. Упругий студеный поток воздуха обжег руки, лицо. Разгоряченное тело выхолодилось враз, и Вадим почувствовал, что дрожит. Дрожали и руки и ноги, дрожало внутри, дрожали голова и шея, и пересохло во рту, даже пропал тошнотворный привкус крови, и занемели губы… Надо идти. Надо пересилить себя, встать и идти. Ломало, словно по частям, он поднялся, постоял с закрытыми глазами, массируя осторожно затылок, и пошел, неуклюже ступая негнущимися пудовыми ногами. Через сотню метров стало легче, затылок перестал пульсировать, пришла тупая, но терпимая боль, и шаги сделались тверже, уверенней. Огни широкой улицы ослепили. Как в тумане, вышел он на край тротуара и вытянул руку.
А в институте все как и прежде, никаких изменений, важных, решающих, никаких случаев непредвиденных, непредусмотренных, незапланированных, никаких катаклизмов. Те же дела, те же заботы, те же разговоры, те же споры, те же ссоры, симпатии и антипатии. И ведь знаешь всегда, когда уезжаешь в отпуск или командировку, что вернешься, и все будет точно так же, как и было, умом понимаешь, а вот все равно чего-то ждешь, нового, неожиданного, значительного — вдруг по-другому к твоему приезду все повернулось, вдруг глаза у людей огнем зажглись, и перестали они с мелкими, незначительными заботами своими носиться. Взрыва ждешь, всплеска решительного, поступков. И хоть все прекрасно понимаешь, все-таки чуточку разочаровываешься, что ничего, что бы из тисков обыденности вырвалось, не произошло, тем более, когда у тебя самого… А может, и хорошо это. Войдешь в привычный знакомый ритм, навалится на тебя повседневная гонка, и забудешься, и отвлечешься, а когда вдруг остановишься, заглянешь в себя — и не таким уж серьезным и пугающим все покажется, и быстрее решение найдешь.
Пока шел по широкому светлому вестибюлю, пока в лифте поднимался, пока по коридору вышагивал, кто-то улыбнулся ему открыто, искренне, с доброй иронией о синяках осведомился, крепко руку пожал, полуобнял, сострив удачно или неудачно, — таких меньше; а кто-то кивнул сдержанно, кто и не заметил вовсе — таких больше, как и положено. Обычное дело. Коллектив. Перед дверью в свою комнату с запоздалым сожалением подумал, что всем: и тем, кого меньше, и тем, кого больше, отвечал он как-то по обязанности, что ли, скованно, нехотя, да и толком-то не различил, с кем здоровался.
А впрочем, неважно. Наплевать ему на них на всех. Кто они ему? Толпа!
Высветилось на миг лицо у Марины, когда она увидела его, и притухло тут же, будто усилием невероятным уняла она радость, только щеки продолжали гореть. Она улыбнулась болезненно, кивнула радушно, удивленно приподняла брови на миг, разглядев повнимательней его лицо, но не спросила ничего, оставив расспросы на потом или вообще решив ничего не выяснять. Зато Левкин загрохотал без стеснения: да что такое? Да что с тобой? Хулиганы? Бандиты? Или с поезда упал? Или от чужой жены в окно сиганул? Аль за честь дамы вступился? Рыцарь ты наш.
Посыпались звонки, частые заходы ухмыляющихся коллег, уже наслышанных о его помятой и побитой физиономии, — это же так интересно, хоть что-то случилось, есть повод для разговоров и предположений. Потом перед самым уходом на обед его вызвал Сорокин. Чистенький, выглаженный, он пристально взглянул на Вадима, непроизвольно дернув верхней губой, сухо и коротко поговорил с ним о совсем незначительных делах и отпустил. Выйдя из кабинета, Вадим только пожал плечами: зачем вызывал, разве что только для того, чтобы полицезреть его затушеванный синяк и вспухшую губу? В столовой он встретил предместкома Рогова. Всегда радушный и так искренне расположенный к Вадиму Рогов на сей раз мгновенно отвел взгляд и ограничился едва заметным кивком. Непонятно. А к концу рабочего дня и безразличие, и подавленность, и унылость понемногу исчезли. Мир окружающий краски обретать стал, Вадим похохотал даже, когда Левкин анекдот ему какой-то глупый рассказал. И вчерашний день в памяти как-то скомкался, уменьшился, спрессовался и не таким уж мерзким теперь казался — что ж, всякое бывает в жизни, что убиваться-то. Бессмысленно. Нецелесообразно. Решить он ничего не решил, да, собственно, и не хотел решать, и думать даже ни о чем не хотел. И он наваливался на эти мысли, уминал, с силой отталкивал тяжелый их груз подальше, подальше…
Поднимаясь неторопливо из канцелярии к себе на этаж, на площадке пролетом выше услышал голоса, женский и мужской. Женский — резкий, злой, мужской — тихий, оправдывающийся. Марина и Рогов. Вадим остановился прислушиваясь: понял, речь идет о нем. Марина говорила, едва сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик. Говорила про Сорокина, мол, как он смеет, кто он такой — и не ученый и не руководитель, так, мыльный пузырь, как он смеет клеветать на самого способного и умного во всем этом здании человека, Данина? Так мы каждого очернить можем. Надо же, придумали. Данин — пьяница, аморальный человек, буян, и к таким надо самые строгие меры принимать. Это еще доказать надо, что Данин выпивает, и откуда это, собственно говоря, взяли? Потому что синяк у него? Да бог мой, упал, расшибся, с кем не бывает. Робко подавал голос Рогов, мол, я все понимаю, Мариночка, мне не надо ничего объяснять, но такой у нас начальник, ему и доказательства не нужны, вобьет себе в голову что-то и свято верит в это. Мы-то, конечно, защищать Данина будем, на то и профсоюз…
Вадим нарочно громко застучал каблуками по ступенькам, голоса стихли, и, когда он добрался до площадки, Марина и Рогов мирно курили, поглядывая в открытое окно. Рогов опять, как и в столовой, отвел взгляд, но, коротко посмотрев на Марину, спохватился, повернулся к Данину, улыбнулся вымученно. Женщина затянулась очередной раз, поперхнулась — курила она редко, — закашлялась, смущенно постучала себя по груди, бросила, ни к кому не обращаясь: «Пора собираться» — и шагнула к лестнице. Вадим молча смотрел ей вслед. Красивая она все-таки и идет красиво, теплеет на душе, когда смотришь на таких женщин. Почему раньше не замечал красоту ее? Раньше и вообще много не замечал. Раньше. А когда это раныпе-то было? Три недели назад? Месяц?
— Здесь такая вышла, значит, история, Вадим, — подбирая слова, осторожно заговорил Рогов. — Мне попало за вас. Но вы не подумайте ничего такого, я не за себя волнуюсь, всякое, знаете ли, переживали. Все это не так страшно. А попало вот за что. Во-первых, за то, что решили как бы на тормозах все спустить и не разбирать вас на профкоме по поводу истории с Кремлем. Сорокин настаивает на суровом наказании. Не забыл. Во-вторых, за то, что я отпустил вас в отпуск; ну мои проблемы мелочи, разберемся. С вами посложней. Он, знаете ли, вам аморальное поведение в быту приписывает.
Вадим усмехнулся. Все одно к одному. Цепочка. Друг за дружку дела да случаи цепляются. И сейчас он даже не расстроился, и сам себе удивился, что никаких эмоций не испытал.
— Основания? — спросил он.
Рогов скривил губы и пожал плечами:
— Он просто мне сегодня сказал: приглядитесь, мол, к Данину, неправильный он человек. С женой не живет, ребенка бросил. Работник ленивый. Есть сведения, что выпивает, буянит. Но это, мол, проверить надо. Понимаете, какая штука? Все это было бы ерундой и чушью, если бы это говорил не Сорокин. Вы ведь его знаете. Он на полпути не остановится, будет копать. Но не отчаивайтесь. Мы вам поможем, даю слово. Я не верю во все это. А мы сила — профсоюз. И люди вас знают, и, — он запнулся на миг, — уважают, и работник вы все-таки неплохой.
Вадим, в свою очередь, пожал плечами, махнул рукой и ступил на ступеньку.
— Я поговорю с кем надо, — в спину уже сказал ему Рогов.
Проходя по коридору, Вадим подумал вдруг с улыбкой: «Маринка-то как меня защищала, как тигрица».
В комнате ее уже не было, стол был чист и прибран, и сумка не висела на спинке стула — значит, ушла. Вадим взглянул на часы — шесть. Пора и ему домой. Хрипловато забормотал телефон — опять кто-то приглушил звонкий его голосок. Вадим снял трубку, и обвалом обрушилось на него:
— Вадим, милый, приезжай скорей, несчастье у нас, такое случилось, такое… — Ольгин голос бился в трубке надсадно, надрывно, то срывался на крик, то на стон похож был, то на звериный рев. И еще слезы, слезы мешали говорить. Вадим, казалось, видел, как крупно и обильно текут они по щекам, видел влажное, потемневшее, обострившееся лицо бывшей своей жены. — Дашку, доченьку мою, забрали, Дашку украли… Они в машину ее — и увезли… мне девочки рассказали, я ее одну на десять минут только оставила, на десять минут… Ну кто-нибудь помогите, помогите…
Вадим ладошкой прикрыл глаза. Свет мешал ему, он слепил, он бил под веки.
— Успокойся, Оля. Это кто-то пошутил, из знакомых, слышишь, кто-то пошутил, — Вадим говорил с усилием, но отчетливо и спокойно. Сейчас надо быть спокойным, сейчас очень важно быть спокойным. — Я скоро буду, жди. И не делай глупостей. Это кто-то из наших так жестоко решил нас с тобой разыграть. Поняла? Какая машина? Цвет?
— Не… знаю… девочки не запомнили… светлая.
— Марка? Ну быстро, быстро!
— Ну не знаю, Вадик, не знаю, откуда…
— А девочки, что девочки говорили, неужто не заметили, какая машина? Где они? Ушли? С тобой?
— Одна здесь, Леночка здесь… Ах, господи, Вадик, какое это имеет значение, марка не марка… Дашенька…
— Имеет, Оля, имеет, — терпеливо, донельзя, до боли внутренней сжимая себя, говорил Данин.
И услышал вдалеке сквозь помехи тонкий детский вскрик:
— Зигули, Зигули…
— Все, — сказал он. — Еду.
Рука метнулась к аппарату, притопились рычажки, и вслед за этим резко и недовольно завертелся диск под срывающимися пальцами.
— Милиция? Моя фамилия Данин, двадцать минут назад из двора дома украли мою дочь. Машина«Жигули», светлая. Больше никаких примет нет. Адрес…
После бешеной уличной гонки, после бестолковой автобусной толкотни, после того, как разгоряченный, задыхающийся, едва сдерживающий дрожь, влетел он в подъезд, встретивший его сумраком и прохладой, и стремглав по крутым лестничным маршам одолел четыре этажа. У квартирной двери вдруг замер, дыша тяжело и порывисто. Передохнуть надо было секунду, в себя прийти, уверенный, спокойный вид принять. И надо было уже позвонить, но рука не захотела подниматься — хоть лбом в звонок тыкайся, благо вот он на уровне глаз прямо. Грузными, негнущимися руки стали. И охватил на мгновение страх: «А вдруг отнялись!» И тут же чертыхнулся, злясь на себя, на мнительность свою; нервно головой дернул, потянулся к звонку, надавил с силой на кнопку…
Некрасивым, съеженным, старым увиделось Ольгино лицо. Слез в глазах не было, и щеки сухими были, даже горячими на вид. Но все равно казалось, что она плачет, беззвучно, бесслезно, но плачет. Она выдохнула со стоном, когда его увидела, взяла крепко за руку, повела в комнату, тихо опустилась на диван, рядом с длиннолицей, испуганной, прозрачно-худенькой девчушкой лет шести и сжалась, вобрав голову и сведя плечи вперед.
— Это Леночка, — почти весело сказала она, улыбнулась болезненно и вмиг захлебнулась будто, и смялось ее лицо, собралось морщинками, и она заплакала, всхлипывая и подрагивая головой. И совсем ни к месту он вспомнил вдруг, как вот точно так же, привычно и совсем не жалко, плакала она, когда по телефону ее родители сообщили, что пропала их собака, убежала куда-то утром, а к вечеру так и не вернулась. Она металась тогда по квартире, неестественно скривив рот, обливаясь слезным потоком, и подвывала тонко: «Альмочка моя, Альмочка любимая, бедненькая, где же ты…» А потом оделась стремительно и, ни слова не сказав ему, удивленному неожиданной такой реакцией на пропажу собачонки, выбежала из дома искать Альму, забыв даже захлопнуть дверь. Собака потом нашлась, сама прибежала под утро, к великой радости ее хозяев, все обошлось. И вот сейчас так похоже… Вадим поморщился, сказал с нажимом, не глядя на женщину:
— Прекрати, Ольга, я позвонил в милицию, все будет в порядке…
— Милицию? Зачем милицию? — Женщина вскинула мокрое, покрасневшее лицо. — Значит, ты думаешь, что ее и вправду?..
И теперь зарыдала по-настоящему, вскрикивая и раскачиваясь из стороны в сторону.
Вадим опустился перед женщиной на колени, погладил ее по голове, поцеловал волосы, висок, прижался к пальцам ее похолодевшим:
— Хватит, моя милая, хватит, слезами делу не поможешь, — приговаривал он.
Когда несся сюда, Вадим смутно догадывался, в чем дело, и теперь осознал это четко. Это они. Это еще одна угроза. А раз они, то с девочкой ничего не сделают, будут ставить условия. И он примет их все. Все до единого. Черт с ними со всеми, Можейкиными, Лео, «кепками», «курьерами» и остальными, лишь бы с девочкой ничего не случилось. Но неужели так круто они взялись за него из-за этого изнасилования или там что-то посерьезней?
Звонок в дверь заставил его вздрогнуть, но он не поднялся, не пошел в прихожую, потому что не сразу дошло, что это к ним в квартиру звонят. Когда требовательно зазвонили во второй раз, он отстранил Ольгу и встал.
На пороге стояла полная молодая женщина с одутловатым, невыразительным лицом, в тесном, не по размеру джинсовом платье. Она решительно переступила порог и, не обращая внимания на Вадима, заметалась глазами по квартире. Увидела через дверной проем девочку, бросилась в комнату, облегченно приговаривая на ходу:
— Деточка моя, Ленусик, с тобой все в порядке? Да? Все в порядке? Почему ты не пошла домой, почему здесь сидишь?
Девочка вскочила с дивана, сморщила худенькое личико, будто собиралась заплакать, но не заплакала, а только шмыгнула носом, подбежала к матери, уткнулась в нее, обхватив тоненькими ручками-прутиками массивные мамины бедра.
— Ну и слава Богу, ну и слава Богу, — приговаривала женщина и крепко прижала дочь к себе широкими короткопалыми ладонями, словно огромная птица укрывала крыльями своего птенца от всех жизненных напастей сразу.
— Ведь это ж надо же! — повернулась она к Ольге. — Какие гады! Какие сволочи! Вот так живешь, живешь… И куда милиция смотрит? Неизвестно, чем занимаются, а здесь детей под носом крадут… Я слышала, что не первый случай, ты знаешь, и в Стремновском районе то же самое было, так и не нашли. Ты представляешь! Хоть на улицу детишек не выпускай.
Ольга опять спрятала лицо в ладонях и мелко затряслась. Женщина отступила на шаг и потянула дочку за собой:
— Пойдем, доченька, пойдем с мамой, — она, не отрываясь, глядела на Ольгу, только вместо жалости и сочувствия на лице ее были неприязнь, брезгливость, испуг. Так на заразных больных смотрят, на чумных, приговоренных. Надо было оборвать ее еще раньше. Вадим прищурился зло, когда она об ужасах тут же, на ходу придуманных, рассказывать начала — для того, чтобы, может быть, и неосознанно, но из-за какого-то неудержимого внутреннего стремления сделать ближнему больно, раздразнить его, насытиться его страхом. А уж теперь, когда взгляд он этот уловил и, когда все угадал в нем, тут уж сдерживаться больше сил не было. Он поджал уже губы, напрягся, шагнул в ее сторону. Но его на мгновение опередила девчушка Леночка. Она одринулась от мамы, вскинула на нее удивленное глазастое личико и произнесла тихо и твердо:
— Я не пойду, мамочка, Дашеньку надо искать. Мы подружки…
Так серьезно, так по-взрослому даже для матери она сказала это, что та даже опешила, недоуменно на Ольгу посмотрела, на Вадима, как бы ответа у них выспрашивая, как же это так, неужто это дочь моя, плоть от плоти, так говорит. И побледнела вмиг, и закостенела лицом. А потом выдохнула тяжело, чуть дернув щекой, внимательно оглядела дочь и выговорила неуверенно, словно за какую-то последнюю свою надежду цепляясь:
— А может быть, пойдем? А то мы мешаем тут. Да ты и не кушала.
Девочка упрямо помотала головой.
— Ну хорошо, — женщина нервно пожала плечами. — Оставайся. — Она повернулась к Вадиму. — Ничего, если она побудет здесь?
Он кивнул.
— Я скоро зайду.
И она пошла к двери, так и не взглянув больше на дочь, и только у самого уже порога остановилась, покачала головой и взялась за ручку. И в этот миг опять затрезвонил звонок и опять заставил Вадима вздрогнуть.
В дверном проеме он разглядел двоих. Один был в милицейской форме, высокий, сутуловатый, большерукий. Второй в хорошо сидящем синем костюме, с галстуком.
Он мимоходом поздоровался с Леночкиной мамой, сразу угадав, что это не хозяйка, что не с ней ему беседовать придется, спешно прошел в комнату, окинул ее быстрыми, чуть раскосыми глазами, изобразил печальную улыбку на смуглом скуластом лице, шагнул к Вадиму, пожал ему руку:
— Старший оперуполномоченный шестого отделения милиции Марушев.
Вадим тоже представился. Подошел и тот, что в форме, он по сторонам не глядел, словно стеснялся, что не так поймут. Сдержанно поклонился Вадиму, назвал себя:
— Участковый инспектор Спирин.
А Марушев уже к Ольге на диван подсел, уже о чем-то с ней мягко и улыбчиво беседовал. Он сразу понравился Вадиму, не то что Петухов. Марушев попросил извинения у Ольги, подозвал девочку, выразил удовольствие, что она здесь с мамой, подозвал и ее и добро и очень умело начал расспрашивать Лену. Что-то записал, погладил девочку по голове, повернулся к Спирину, приказал тому найти — Леночкина мама квартиры подскажет — Дашиных подруг и расспросить их подробно, и все записать и опять повернулся к Лене. Все быстро он проделывал, четко, легко, будто такие случаи для него дело плевое и он раскалывает эти загадки, как орехи.
Вадим с удовлетворением заметил, что и Ольга успокоилась. Лицо ожило, в глазах надежда появилась и вера, что помогут, не бросят, не оставят в беде, сделают все, что положено, и отыщут дочку. Не могут не отыскать. Милиция-то у нас ого-го какая! И зажег ее такой верой этот скуластый симпатичный парень, и это тоже немаловажной частью его профессии было — способность видом своим, словами расположить человека, убедить, что на таких бравых ребят можно во всем положиться. Ольга вновь ощутила себя привлекательной женщиной, и изредка изящным движением поправляла волосы, успокоенно и доверительно склонялась к Марушеву, когда отвечала.
— А вы что думаете? — неожиданно обратился Марушев к Вадиму.
Вадим ответил не сразу. Хотя был готов к этому вопросу. Сначала отошел от окна, возле которого стоял, чтобы не бил свет в глаза и не высвечивалось так ярко его лицо. Очутившись в прохладной глубине комнаты, сказал:
— Я не думаю, что это так серьезно, думаю, что пошутил кто-то.
— И можете назвать кого-нибудь, кто способен так шутить?
— С ходу — нет.
— Откуда же уверенность, что забавы ради?..
— Не уверенность, предположение.
— Допустим, но предположение тоже на чем-то основывается?
Вадим пожал плечами:
— Не Чикаго же у нас в конце концов.
— Жиденькое основание. Ну хорошо, — Марушев поднялся.
— Пойдем, Леночка, покажешь, откуда машина подъехала, где ты стояла в это время, пойдем.
— Кстати, — обернулся он уже у двери. — Всем постам ГАИ дано было указание по возможности проверять светлые «Жигули», если в них сидят дети. Но, сами понимаете, это чрезвычайно сложно. Пока никаких результатов.
И стоило только выйти Марушеву, как посерело у Ольги лицо, и пообвисли плечи, и сгорбилась она, как после многочасовой трудоемкой работы. Будто силы все свои потратила на то, чтобы так непринужденно и обаятельно держаться перед чужими людьми.
Ольга сдавила виски, зажмурилась, покрутила головой, потом резко отбросила руки, опершись на подлокотник, встала неловко, оправила привычно платье и, шаркая тапочками, побрела на кухню:
— Иди, чаю хоть попьем, — донеслось оттуда.
Данин устроился за столом, придвинул к себе чашку, потянулся за вареньем. Когда перекладывал его из банки в блюдце, задел ложкой о край банки, и две крупные Ягодины мягко шлепнулись на пол.
— Ты что, слепой! — вскинулась Ольга. — Уже совсем ни черта не видишь! Ты, что ли, здесь убираешь, вылизываешь все? Как придешь, так только бы нагадить. Руки-крюки. Ну что уселся? Иди за тряпкой. О, господи!
Вадим оторопело смотрел на Ольгу и никак не мог сообразить, кому она это говорит. Уже стерлись из памяти скандалы, взаимные унижения, начинавшиеся всегда именно с такого вот пустяка, забыл уже, как больно и беспощадно били слова о его беспомощности, неприспособленности, о никчемности, забыл, как огрызался неумело, как плакать хотелось нестерпимо, как убежать из дома хотелось. И вот теперь вспомнил все сразу…
Он вдруг ощутил, что его трясут за плечо, с силой, с остервенением. Так, что даже зубы у него клацкали. Он инстинктивно отстранился, дернул плечом, а когда вскинул глаза, Ольгино лицо увидел, перекошенное, чужое.
— Ты что, оглох? — выкрикнула она и затихла враз, что-то такое, видимо, прочтя в его взгляде, что заставило ее осечься, оборвать себя.
Заголосил звонок, на сей раз не пугающе, на удивление мягко и призывно. Он ожидаем был, этот звонок, и Вадим за секунду до него будто почувствовал смутно что-то хорошее и изготовился уже из-за стола встать, подойти к двери, к тишине коридорной прислушаться, не идет ли Марушев или Спирин. Он с легкостью подбежал к двери, щелкнул замками, распахнул ее, и возглас радости сорвался с его губ. Он нагнулся стремительно, подхватил поникшую, поблекшую, усталую, но все же улыбающуюся Дашку, прижал теплое ее тельце к себе, ткнулся носом в шею, застыл так на мгновение. А дочку уже рвала из рук Ольга, вскрикивая что-то и смеясь счастливо. Вадим осторожно передал Ольге девочку, обернулся к Марушеву, Спирину, Леночкиной маме, самой Леночке. Они стояли неподвижно возле двери и только улыбались удовлетворенно и облегченно. Стояли, чуть ли не прижавшись друг к другу плечами, как близкие люди, вместе сделавшие доброе дело.
— Как? Откуда? — только и спросил Вадим.
Оказывается, как объяснил Марушев, они увидели Дашку в тот момент, когда вышли с Леночкой из переулка, где стояла машина, на улицу. Даша, растерянная, заплаканная, стояла на перекрестке у светофора метрах в трехстах от них. Первой ее заметила Лена (как только она могла углядеть ее в такой толпе?) и закричала: «Дашенька! Дашенька!» — и побежала к ней со всех ног.
Короче говоря, два часа назад к Даше подошел «хороший дядя», сказал, что он друг папы и они сейчас поедут к нему, а маме позвонят. Когда подошли к машине, Даша все-таки испугалась, но было поздно, ее силой втащили в машину, потом пересадили в другую, покатали и отпустили на том самом перекрестке, указав при этом, в какую сторону ей идти, чтобы дом свой отыскать. А она забыла, растерялась, крутилась на одном место волчком и испугалась потом, и заплакала. Из комнаты доносилось счастливое щебетание Ольги, и Леночка уже была там, обхаживала Дашку, строго поучала ее чему-то, и Леночкина мама уже там была, все охала, все возмущалась «шутниками». Одним словом, все обошлось, самое время радостную легкость ощутить, вдохнуть свободно, распрямиться, улыбнуться. А Вадим вот посерьезнел наоборот, тревожно стало. Выходит, что условия они потом ставить будут, позже, может, уже сегодня или завтра утром, а это они силу свою просто показали, мол, видишь, как все легко нам удается, не подчинишься, гляди, брат. Вадим посмотрел на Марушева. У того тоже радости особой на лице не было, видно, что-то ему по-прежнему не нравится в этой истории.
— Странно, — произнес он, сунув руки в карманы брюк. — Зачем? — он посмотрел на еще больше ссутулившегося Спирина, потом на Данина. — А? Зачем? Я, признаюсь, в растерянности. Может, и вправду знакомые ваши? Если так, хотел бы я на них посмотреть… Или все же преступники? И чем-то Даша им не угодила, не по вкусу пришлась, не теми данными располагала или перепутали с кем-нибудь? Непонятно. Ладно, подумаем. Будьте здоровы. Пошли, Спирин!
Сотворив довольную улыбку, Вадим разглядывал, как кормит Ольга дочь, что-то пришептывая, посмеиваясь, оглаживая девочку по головке, плечикам, будто из далекого далека та возвратилась и сто лет там провела, а то и поболее. И снова звонок, в который раз уже. И на сей раз вздрогнули все, как по команде, так внезапен и нежеланен он был. Вадим поднял глаза к стенным часам — без двадцати десять. Он распахнул дверь и подобрался вмиг. С усталой улыбкой на него глядел Уваров. Совсем не к месту он, совсем не ко времени, он просто не нужен здесь сегодня. Но что делать, пришел человек, хоть и не друг, но знакомый, так что приглашай, зови его в дом, не выказывай своего недовольства, улыбнуться попробуй. Вадим жестом указал в глубь квартиры. Уваров поблагодарил вежливым кивком, вошел. Машинально Данин отметил, что очень похожи они с Марушевым, оба ладные, легкие в движениях, скуластые, симпатичные. Уваров сел на стул, огляделся, словно приноравливаясь к обстановке, чуть виновато улыбнулся Данину, заговорил:
— Незваным гостем я. Понимаю, что не ко времени. Вы уж простите. Но когда услышал сообщение дежурного по городу о похищении девочки, как-то не по себе стало, неспокойно. Решил, что обязательно заеду, помогу, чем могу. Но вот только сейчас вырвался. Я сегодня дежурный по отделению. Так что скоро назад. Машина внизу на парах. Но, к счастью, вижу, все в порядке. Девочка дома, заблудилась, видать, да?
— Вадим, кто там? — донеслось из кухни встревоженно.
— Это ко мне, — Вадим выглянул в дверь и закрыл ее за собой. Подошел к столу, но садиться не хотелось, лучше было бы стоять или ходить по комнате, но он все-таки сел, чтобы не подумал Уваров, что он волнуется. Устроился поудобнее и так, чтобы свет на него не падал. И только тогда рассказал все, как было, с самого начала.
— Занятно, — заметил Уваров. Облокотился на стол, раздумчиво посмотрел на Данина. — Что же за напасти вас такие преследуют? И все после этого злосчастного случая с Можей-киной. То поволтузили вас где-то лихо. Вон синячина какой и губа треснула. От кулака ведь, сознайтесь? И сегодня с дочкой, гляди, какая неприятность. А до этого небось еще что-то было. Ведь было, верно?
— Что было? О чем вы? Не понимаю, — как можно спокойней ответил Вадим и хотел было полезть за сигаретами, чтоб руки чем-то занять, но раздумал — под контролем себя держал.
— Мало ли, — сказал Уваров. — А впрочем, это я так, к слову.
— Не знаю, не знаю, — Данин попробовал усмехнуться. — Фантазируете все. Воображение у вас богатое. Для литератора это хорошо, но для сыщика… А синяк и губа от кулака. Верно. Здесь вы спец. Так то шальная компания. Шел вечером, попросили закурить. То да се. И началось. Едва удрал, а то бы, глядишь, и ребра поломали. Обычное дело.
— Ну да, конечно, это дело случая. — В глазах Уварова Данин разглядел смешливые огоньки, и это озлило его, и он импульсивно сжал кулаки под столом, а Уваров продолжал тем временем: — И девочку ради забавы в машине покатали. Добрые попались такие дяди. Или кто из приятелей пошутил? Да так оно и было, наверное. И к Митрошке вы тоже случайно забрели, шли вот так просто по улице и забрели…
Опалило жаром щеки, и под сердце будто током ударило, и глаза, показалось, сейчас заслезятся. Но долю секунды это было, переборол себя Вадим, невероятным усилием ослабил толчок страха и не отвел глаза от в упор глядящего на него Уварова. И несколько секунд так смотрели они друг на друга. Один расслабленно, даже весело, только чуть сузив глаза, другой — тяжело, хмуро, с трудом подавляя напряженность.
— К какой такой Митрошке? — наконец выцедил Данин, старательно делая вид, что закипает. — Что вы мне здесь опять фарс устраиваете?!
Уваров разочарованно покачал головой, еще раз окинул взглядом комнату, словно на сей раз уже запоминая, где что стоит, хлопнул себя по коленям, поднялся, сказал, поправляя пиджак:
— Как бы этот фарс драмой не обернулся, Вадим Андреевич. Мы ведь того мужичишку опросили, он и рассказал, что вы бабку Митрошку искали. Мы и Митрошку опросили…
Вадим невольно подался назад.
— И что?! — вырвалось у него. И тут же отругал себя, чертыхнулся беззвучно.
— Ну вот видите, — Уваров усмехнулся уже откровенно и развел руками.
— Что «видите»? — Вадим резко поднялся. — Что «видите»?
— Сами вы все прекрасно понимаете. Только я вот вас не понимаю, — Уваров неторопливо направился к дверям. — Ну да Бог вам судья. Если что, телефон мой знаете.
«Ну ничего, — думал Вадим, идя вслед за Уваровым, — ничего. Найду Лео и вот тогда все расскажу, только анонимно».
Уже у открытой двери, пожимая Данину руку, Уваров сказал вскользь:
— Все же подумайте. — И вышел поспешно.
Вадим захлопнул за ним дверь. Но в ту же секунду ему нестерпимо захотелось ее открыть. Открыть и броситься за Уваровым, остановить его, выспросить без всяких там предлогов о Митрошке, о том, что она поведать ему могла, рассказала про него, про Данина? Уже к собачке замка рукой потянулся, уже за холодный металл массивной старинной ручки взялся (на какой свалке, интересно, Ольга ее откопала), но не открыл, так и остался стоять, с протянутыми к двери руками, будто кто-то приказал ему «замри», как в детской игре, и он замер. А когда услышал шум разъезжающихся дверей лифта и потом ровное его гудение, будто очнулся. Ну что там Митрошка могла о нем сказать? Да и почему именно о нем, она о высоком парне могла каком-то сообщить, в куртке, в джинсах. А сейчас все в куртках, в джинсах и высокие. Если вообще она что-либо говорила. Эти бабки — народец закаленный и не таких сыскарей видывали. Пока ее не прижмешь крепко, она будет молчать, как камень. Так что поводов особых для волнений пока нет. А Уваров его просто, как говорится, «на пушку» решил взять. Если б хоть малейшая у него зацепка была, он бы так с ним разговаривать не стал. Другой бы был разговор, прямой и конкретный, и без усмешечек всяких, намеков и полутонов.
Высветилась красновато прихожая. Это приоткрылась дверь с кухни. Лена и ее мама уже собирались. Лена обняла Дашку, поцеловала в лобик. Мама, в свою очередь, с Ольгой прощалась, как с лучшей и самой близкой своей подругой. Когда и за ними захлопнулась дверь, Вадим решил, что ему тоже пора. Одному надо остаться, поговорить с собой, посмотреть на себя…
— Пойду я, — сказал он, кивнув Ольге и подмигнув Дашке.
— Подожди, — тихо сказала Ольга, прижимая к себе дочкину головку. — Если не ждет кто, останься, пожалуйста. Мне страшно и холодно… — и она вправду поежилась.
Какие-то давно забытые нотки он уловил в ее голосе — мягкие, нежные, любящие. А потом вдруг и увиделась она ему прежней, уже почти забытой, легкой, воздушной, открыто и искренне тянущейся к нему… И лицо необычайно красивым показалось, несмотря на круги под глазами, на болезненную бледность, на взгляд потухший. И он кивнул согласно и с появившимся внезапно волнением, уже наперед зная, что будет, и заранее радуясь этому, вошел в комнату.
Проснулся с рассветом и поначалу не понял, где он. Огляделся, увидел рядом с собой едва прикрытое легким одеялом гибкое, четко очерченное в рассветной полумгле Ольгино тело и сразу все вспомнил разом. Как изящная, душистая, соблазнительная вышла она из ванной, и как горечь он во рту ощутил, и как натянулся тетивой в ожидании, и как встала она перед ним на колени, как целовать принялась его руки, шею, губы, глаза, и как впал он в невесомое забытье, и как обдало его жаром с ног до головы, потом исчезло все, померкло вокруг, затуманилось. Вспомнил и не поверил, что с ним все это было. Он поморщился, с силой потерся затылком о подушку, потом, стараясь не шуметь, приподнялся, присел на кровати. «Бог мой, зачем?» — подумал мельком, посидел с полминуты, тихо поднялся, беззвучно оделся, зашел в смежную комнатку на Дашку взглянуть, осторожно прошествовал в прихожую, мягко открыл дверь и вышел.
Настойчивый, крикливый трезвон словно застыл в ушах, острыми студеными иглами бил он по перепонкам, с болью в мозг проникал, переполнял голову тонким, дребезжащим, назойливым своим голоском. А тот все выпевал и выпевал упрямо свои рулады. Вадим разъяренно вскочил с дивана, огляделся, узрев телефон, удивленно дернул подбородком, снял трубку:
— Как самочувствие приятель? — Вадим выдохнул разом и непроизвольно плюхнулся на диван. Все верно он рассчитал. Дождался-таки. Это они. Все тот же вкрадчивый, усмешливый баритон и словечки все те же: «Приятель». — Что молчишь? Это я. Узнаешь? Ну молчи, молчи, это хорошо, что молчишь, значит, страх есть. Правильно! Хоть чуточку, но есть. А где страх, там понимание. В первый раз ты от растерянности молчал, а сейчас от осознания, так сказать. Хвалю, хвалю. Как Дашенька? Все в порядке? Хорошая, красивая дочь у тебя растет, береги ее. Дети — это счастье, это продолжение жизни нашей. Вот так. Соображаешь? Вчера она просто так, прогулялась с нами, воздухом подышала, а ежели что… Ну что, будем в мире жить? Теперь хоть не молчи, а то вон как зубки-то сжал, судорогой, что ль, от ужаса свело? Ну что, будем?
— Я подумаю, — процедил Вадим.
— Недолго только, — голос вмиг стал жестким, отчужденным.
И когда запели пунктирно гудки, Вадим опустил трубку на рычажки. Растерянность после первого звонка была. Это верно, но вот страха после нынешнего он не испытал. Он прислушался к себе придирчиво. Может быть, ошибся, просто притаился страх где-то и не желает выдать себя до поры до времени, до того момента, когда он больнее всего ударить может? Видимо, так. Ну хорошо, потом разберемся, потом. И вдруг подумал: «А почему они мне только угрожают, а не пытаются купить. Так проще, как в детективах пишут. Или врут в детективах?! Ну хорошо, потом разберемся, потом. Ну ладно, после, на досуге». Так, сейчас половина восьмого. Значит, толком он сегодня и не спал, но ничего, зарядка и душ придадут сил, средство верное и испытанное. Из ванны вышел уже собранный, готовый к действию. Закурил, присел на ковер возле телефона, снял трубку:
— Прости, Оля, что так рано. Как откуда? От себя. А-а-а. Да надо было, дела. С утра сегодня много дел. А тебя будить не хотелось. А доехал на такси. Они между прочим круглосуточно работают… Ты послушай меня внимательно. И постарайся понять. Когда вы с Дашкой собираетесь к сестре, к Нине?.. Так, это значит, через три дня. Ты вот что, уезжай сегодня. Билеты я возьму. Да, сегодня. Именно сегодня. Никаких дел и встреч, Оля! Я умоляю тебя. Я на коленях тебя прошу, я сейчас на коленях стою. Нет, нет, ничего серьезного. Но надо, понимаешь, надо. Ради Дашки. Да, вот так, совершенно верно, связано со вчерашним. Не волнуйся, это временно. Да, да, шутки, только злые очень шутки. Я разберусь. Все. Днем завезу билеты.
Тяжело. Он ведь не объяснил ей ничего, а только напугал. Можно понять ее состояние. Но так будет лучше. Вернее, даже не лучше — это единственный выход, пока все утрясется. Сестра ее живет достаточно далеко, в маленьком, уютном тихом городке, в трехстах километрах отсюда. Пока кто вызнает, где они, если это, вообще, кому-либо еще понадобится, пройдет время, так необходимое сейчас.
День в институте прошел на редкость быстро и неутомительно, и не смотрел Вадим на часы каждые полчаса, как обычно, и не ловил себя на унынии и на сожалении усмешливом, что так тянутся часы и минуты. И с билетами для Ольги быстренько умудрился управиться, и успел их отвезти, опять ей толком ничего не объяснив, — да и что мог он объяснить? — а только умоляюще руки к труди прикладывая. Это хоть и озлило ее, но сумела она сдержаться и согласилась все же уехать, внутренним материнским чутьем чуя, что дочери ее что-то угрожает…
Рогов, каждый раз проходя мимо Вадима, кивал ему ободряюще, мол, не беспокойтесь, все будет как надо, а в конце дня остановил его даже в коридоре, сказал полушепотом: «Сорокин о нашем деле пока не говорит, а мы и не напоминаем, так что… А если спросит, я скажу, мол, проверили, хороший человек, выдержанный, достойный». Вадим едва не скривился в ответ, видя явную глупость ситуации — занятым людям приходится доказывать, что он, Данин, не делал того, чего не делал никогда. Бред. Но вовремя спохватился и вместо гримасы пренебрежения изобразил благодарную улыбку — как-никак добра ему Рогов желает.
Марина, казалось, весь день ему что-то сказать хотела, но никак не решалась, а он ей особого повода-то и не давал для длинного разговора, так все междометиями, хмыканьями отделывался, делая вид, что очень занят.
Около шести он уехал в управление культуры, завизировать письмо, а когда вышел оттуда, сообразил, что недалеко от Шишковского переулка обретается. Постоял недолго, раздумывая, а потом взял да и направился в его сторону пешочком, прогуливаясь и отдыхая. И вот удивительно, несмотря на то, что немало неприятных мгновений он пережил в этом переулке, никаких недобрых эмоций вид его не вызвал, не испортил ровного настроения и даже не изменил. Хороший признак? Добрая примета?
Тротуары были немноголюдны, и всего лишь две машины проурчали по мостовой, пока он шел, а двор за чугунными воротами и вовсе выглядел пустынным и сонным. Колебался перед калиткой Вадим недолго, неспешно огляделся лишь по сторонам и шагнул во двор. Первым делом посмотрел направо, там, где скамейка должна стоять, почти совсем скрытая от глаз тяжелыми, провисшими липовыми ветвями, и заулыбался, различив там знакомую фигурку и металлический блеск костыля на скамейке. И его тоже приметили и радостным восклицанием дали понять, что узнали.
— А я о вас вспоминал. И очень жалел, что не увидимся, наверное, никогда больше. — Михеев так и светился весь от удовольствия. И глаза его за тонкими стеклами излучали столько доброго тепла, что Вадим смутился даже, давненько уже никто не встречал его с таким радушием. Михеев оглядел его внимательно с ног до головы и добавил с легким удивлением: — А вы сегодня совсем не такой какой-то. Ну не такой, как тогда. Поскромней, что ли, построже…
— Углядели тогда нарочитость-то? — спросил Вадим, усаживаясь рядом.
— Ага. Что-то несвойственное вам, вашим глазам в вас было. Облик один, а глаза другие. Не вязалось как-то.
— Первым делом глаза изучаете?
— А как же? Они показатель всего. Что ты? Кто ты? Умен ли? Добр ли? Понятлив? Одержим ли? Имеешь ли страсть? Или же так, мотыльком летаешь? Всё они, глаза, рассказывают. Или я не прав?
— Правы, очень даже правы. К сожалению, далеко не все друг к другу так приглядываться умеют, и различать, и чувствовать.
— О, если бы умели или хотя бы захотели бы уметь, мы в одночасье лишились бы ну, по крайней мере, половины негодяев, властолюбцев, честолюбцев, завистников, самонадеянных тупиц…
— И куда бы они делись? — засмеялся Вадим.
— Они были бы просто-напросто отторгнуты обществом, — серьезно сказал Михеев. — Стали бы изгоями, никто бы с ними не общался, не принимал в расчет.
— Э-э-э, дорогой мой Юрий, — Вадим закурил, затянулся с удовольствием. — Здесь что-то не так. Они же ведь тоже люди, о двух руках, о двух ногах, плохие ли, хорошие, но люди. И, наверное, жестоко и безнравственно вот так избавляться от них. Это означало бы, что и те, кто изгоняет их, уже и сами не чисты, не человеколюбивы, не сострадательны.
— Да нет, как раз наоборот, это была бы гуманная мера, — изгнать, для того, чтобы поняли они, разобрались в себе, исправились.
— А если не поймут? А если не исправятся? А только сделают вид и будут внедряться и будут уже сознательно вредить. Утопия.
— Да вот и я к такому же выводу все время прихожу, — сразу согласился Михеев. Он вздохнул. — А что же делать?
Вадим опять рассмеялся, но не обидно, а мягко, по-дружески:
— Жить. И думать. Много думать и о многом. Сознавать скоротечность жизни…
— И сидеть сложа руки.
— Что? — не понял Вадам.
— Я говорю, значит, просто думать, и все, и ничего не делать, сидеть, значит, сложа руки.
— Нет, Юра, — хотел было Вадим хмыкнуть, но сдержал смешок, ни с того ни с сего интересный разговор получился, интересный и нужный, наверное, этому так ничего еще толком и не увидевшему в жизни парню с костылем. — Нет, Юра. Вот тут я совсем не согласен с вами. Тот, кто много думает, по-настоящему думает — мыслит, сидеть сложа руки не может, не умеет. Мысли его сами по себе к действию его призывают, и тогда он начинает работать много и одержимо. Ведь вы же рисуете, верно? Сначала для себя, а теперь хочется, чтобы люди увидели, так? И не тщеславия ради, а чтобы поняли: смотрите, я думаю, и это так прекрасно, попробуйте и вы, постарайтесь, научитесь… Ведь так?
— Так, — тихо сказал Михеев и, чуть прищурившись, внимательно посмотрел на Данина, а потом как-то сразу засмущался и отвел глаза.
— Так. Конечно, так.
Вадим хотел было уже попросить Михеева, чтобы тот сходил за рисунками и показал бы их, и подумали бы они вместе, как с ними быть, кому показать можно, но увидел тут сквозь подрагивающую, обеспокоенную теплым ветерком листву бесшумно въезжающий во двор автомобиль. Чистенькая, поблескивающая холеными боками черная «Волга» по-хозяйски солидно и значительно подъехала к подъезду и замерла возле него, чуть качнувшись на упругих рессорах. Сначала вышел водитель — приземистый, крутоплечий, в широкой, пообмятой на спине рубахе, затем с заднего сиденья — пассажир. Высокий пассажир был, ладный, немолодой уже, наверно, судя по морщинкам на шее, — лица Вадим не видел — тот все спиной к нему оказывался — в сером костюме. Пассажир повел худыми плечами, словно разминаясь, и зашагал к подъезду, предварительно что-то проговорив через плечо водителю.
— Знаете, кто это? — весело спросил Михеев.
— Нет, — насторожился Вадим.
— Это отец вашего школьного товарища. Ну про того, которого вы спрашивали, Леонида, кажется. Что-то, кстати, давно его не видно, Леонида. Мне мама про отца его рассказала, он какой-то начальник в городском строительстве. Симпатичный такой дядька, улыбчивый. Знаете, он как деловой американец, которых в кино показывают, уверенный, лощеный, с резиновой улыбкой.
— Как? — Вадим повернулся к Михееву.
— Ну резиновой. — И Михеев, не меняя серьезного выражения лица, растянул губы.
— А-а, — протянул Данин и опять перевел взгляд на машину. Шофер стоял, небрежно облокотившись на крышу автомобиля, и блаженно курил. Рубашку он так и не оправил.
— Вы с ним не знакомы? — опять заговорил Михеев.
— С кем? — не сразу спросил Данин.
— Да что с вами? — удивился Михеев. — Будто воздух из вас выпустили. Я спрашиваю, с отцом не знакомы?
— А-а, да нет, не пришлось как-то. Вы знаете, Юра, — Вадим с усилием подобрался и даже улыбку сумел изобразить беспечную. — Я сейчас оставлю вас, наверное. Устал чудовищно, весь день на ногах, туда-сюда, не присел ни разу… Но обязательно, просто непременно забегу на днях. Надо, наконец, рисунки ваши поглядеть, кому-нибудь из художников наших, студийных, показать. Согласны?
— Конечно, — Михеев изучающее смотрел на него. — Так вы все-таки в кино работаете?
— Да, — Вадим откашлялся. — А что?
— Да нет, так просто… А заходили, чтобы дом еще раз посмотреть?
— В общем-то… и да и нет. Одним словом, мимо шел, рядом был по делам, ну и забрел. До свидания, Юра.
И снова, как в прошлый раз, вцепились в брючины жесткие и упрямые, как стальная проволока, прутья кустов. Вадим и на сей раз не стал их обходить, а двинул напрямик, чтобы выйти поскорее со двора, скрыться за кирпичным забором, раствориться, исчезнуть в переулке, будто кто его гнал, будто подталкивал в спину… И одна только мысль вертелась в голове. Не встретить бы его, не наткнуться… А почему, Вадим и сам понять не мог. Отец-то здесь при чем? Какое он-то отношение к преступлению сына имеет? Хороший, наверное, человек, работящий, знающий, уважаемый. Только сын вот подкачал. Ухнула, содрогнувшись, подъездная дверь. Вадим невольно оглянулся. Отец Лео, остановившись между машиной и подъездом, поднял руку, подзывая шофера, и, видимо, что-то хотел сказать ему, но в это мгновение взгляд его уперся в Вадима. Гладкое белое лицо его стало неподвижным, мертвым, тонкие губы деревянно сжались. И никаких тебе резиновых улыбочек. И намека нет. И только со взглядом, устремленным из глубоких глазниц, он не справился. В одночасье промелькнули в нем и удивление, и вопрос, и ненависть, и жалость. У Вадима перехватило дыхание и на миг холодом ожгло пальцы на руках, и он непроизвольно сжал их в кулаки, согревая. И еще отчетливо он услышал слова, будто не сам себя он спрашивал, а кто-то другой, стоявший рядом, ему говорил; «Почему он так смотрит на тебя? Почему?»
Вадим на долю секунды прикрыл глаза, потом тихо выдохнул набранный воздух, не спеша с достоинством развернулся и медленно, очень медленно пошел к воротам.
Уже в конце переулка решил, что взгляд этот ему привиделся и что он прочел в нем совсем не то, что он выражал. А все потому, что устал, потому что черт его знает какой день уже в напряжении пребывает, вот и кажется всякая ерунда.
В киоске недалеко от дома купил газеты, целый ворох. Не раздеваясь, уселся на диване, настрогал буковок из заголовков и долго наклеивал их на лист бумаги. Получилось вот что: «К изнасилованию Можейкиной прямое отношение имеет один парень. Звать Лео. Живет в Шишковском переулке, дом… квартира…». Прочитал и порадовался, вряд ли кто из милицейских специалистов догадается, что писал анонимку грамотный человек, стиль не тот. Впервые за несколько недель Вадим почувствовал себя легко. Он встал, потянулся, скинул куртку и, дурашливо пританцовывая, пошел в ванную.
По утрам Вадим теперь просыпался с улыбкой, уже, казалось, во сне начинал улыбаться, вскакивал мигом, не нежась, не разлеживаясь; жмурясь от удовольствия, приникал лицом к льющемуся из открытого окна воздуху. И, к удивлению своему, столько оттенков аромата стал в утренних ветерках различать, даже считать их можно было и даже обозначать — пряный, обыкновенный, розовый, нежный… Так что же, значит, чтобы так остро испытывать радость, надо было столько пережить? И иначе, наверное, нельзя? А впрочем, и хорошо, что нельзя. И даже звонок Уварова его не смутил, не испортил легкого веселого настроения. Он поухмылялся даже, представив, как Уваров «колет» его на анонимку и как у него ничего не получается, и как он злится, и как уколоть, поддеть всё Вадима хочет, и как с бессильной, язвительной усмешечкой отпускает его, делая вид, что все он про тебя знает: «Подумайте, подумайте…»
Уваров просил прийти сегодня в конце дня, «если можете, конечно, если вас не затруднит». Да нет, не затруднит, отчего же, раз надо, какие могут быть разговоры. Ах, какой вежливый, какой учтивый, верно, бомбу готовит, верно, думает; ну сейчас я ему покажу, как работать надо, мигом из тебя все выпотрошу. А не тут-то было, ухмыльнулся Вадим, пока добирался до отделения, никак ко мне не подкопаешься, и не на чем тебе меня взять. А когда к отделению уже совсем приблизился, когда бело-голубой щиток над дверью разглядел, потускнел вдруг, помрачнел — только сейчас о Митрошке вспомнил. Одна-единственная она повредить ему может. И если все она о нем выложила, то поедет он на годы долгие за псевдонападение на Витю-таксиста. А впрочем, он же ведь думал уже об этом и ничего ужасного в этой ситуации с Митрошкой не обнаружил. Митрошка же не знает, что он — это он, и опознать его вряд ли сможет, старенькая она, подслеповатая, хитренькая, да еще уверена, что он не из компании Лео и, может, наоборот, подсадной какой, или как они там называют. Так что чушь и ерунда. И опять повеселел, расправил плечи, порог перешагнул, приветливо кивнул дежурному, небрежно спросил, как пройти к Уварову.
Уваров встретил его приветливо, как старого доброго друга; натягивая на ходу пиджак и поправляя сбившийся галстук, заспешил из-за стола, со словами: «Хорошо, что зашли, не пренебрегли приглашением» — крепко пожал руку, пригласил садиться, сигарет предложил, боржоми, запотевшая бутылка которого — видно, только из холодильника — на столе зеленела.
Искренен он был или играл, трудновато было поначалу уловить, но одно Вадим чувствовал четко (на первых порах смутно это ощущалось, а сейчас почему-то уверился): расположен к нему был Уваров, приятен ему был Вадим, что-то близкое, что-то родственное, словами не объяснимое он, казалось, в нем нащупал.
— Устал, — признался он, размягченно привалившись к спинке стула. — Нормальные люди отдыхают уже, газеты листают, кино смотрят, или что они еще там могут делать, а нам вот самая работа. Если в десять-одиннадцать уйду сегодня, за счастье почту.
— Жалуетесь? — спросил Вадим, вертя в руках взятую со стола тяжелую замысловатую зажигалку.
— Брюзжу, — засмеялся Уваров. — И ворчу. Гони меня сейчас отсюда, все равно не уйду. Тяжко, муторно, противно, а ничем другим все равно заниматься не могу. Парадокс, но факт.
— И верно, — Вадим прикурил. — Противно и муторно. Но сладостно, видимо, в то же время, когда после мук, неудач, победишь все-таки, сильнее окажешься, умнее, загонишь противника в угол. Уважать себя начинаешь, ощущение незаурядности появляется. Вот это и приносит удовлетворение. Так?
— Ну, в общих чертах, пожалуй, правильно. Но не совсем. Разоблаченное и наказанное зло приносит удовлетворение — это точно. Для этого и хитришь, и обставляешь…
— А если зло только подозревается, да и то смутно, безосновательно, на уровне «а вдруг»? А для этого «а вдруг» все равно тревожишь человека, дергаешь, от дел отрываешь, настроение портишь, ловушки дурацкие расставляешь…
Уваров опять рассмеялся, весело, по-свойски:
— Себя, что ли имеете в виду?
— Да нет. — Вадим пожал плечами. — Любопытствую просто.
— Ах, ну если просто… Что касается предполагаемого преступника, основания, они, знаете ли, всегда есть. Всегда имеется масса малюсеньких, крохотных деталек, что прямо или косвенно указывают на его причастность. А вот со свидетелем сложней. Как иной раз бывает. Чувствуешь, что человек недоговаривает, ты и так его, и эдак, и с одной стороны и с другой. И все в стенку упираешься. Ну, значит, думаешь, подвело тебя чутье, ошибся, переоценил себя, что ж, и такое случается, ничего страшного. А потом вдруг по ходу дела один аспектик появляется, совсем, казалось бы, незначительный, другой, и, глядишь, уже картина, правда расплывчатая еще, без явных штрихов даже, а потом вдруг со свидетелем этим самым какие-то странные вещи твориться начинают, то его там видели, то тут, то синяк поставили, извините, — Уваров вежливо поклонился в сторону Вадима, — то еще чего. Я не слишком туманно объясняю?
Вадим молчал, безо всякого выражения глядя на Уварова.
— Еще вопросы? — Уваров улыбнулся одними глазами. — Больше нет. Ну и замечательно. Значит, зачем я вас позвал. Тут к нам анонимка пришла. И, как голову ни ломали, никак не можем установить предполагаемого автора, — он тщательно скрывал иронию в голосе, но Вадим все равно уловил ее, и на мгновение почувствовал себя беспомощным и беззащитным. Уваров тем временем продолжал: — Но не в этом дело. Она пришла вовремя и подтвердила наши подозрения. Работу мои ребята провели колоссальную и в общсм-то уже вышли на предполагаемого преступника, одного из них вернее. Хотите узнать как?
Данин пожал плечами, опять показывая свое полное безразличие.
— Митрошка поведала…
Вадим нагнулся помассировать якобы затекшую ногу. Растирая мышцу, заставил себя собраться. Ну молодцы, раскрутили все-таки бабку.
— Какая Митрошка? — недоуменно спросил он и через мгновение сделал вид, что вспомнил. — А, ту, что вы мне приписываете, мол, заходил, беседовал?
— Ага, — подтвердил Уваров. — Та самая. Несговорчивая старушка, скажу я вам. Все отнекивалась, гримасы удивленные корчила, убогонькую, юродивую из себя строила, головкой даже мелко трясла. — Уваров показал, как она трясла головкой, — чтоб пожалели мы ее, оставили в покое. Но, видимо, сказался опыт многолетний, не впервой ей «малины» содержать, и уловила, поняла, что не в бирюльки мы с ней играть пришли. Ну и подсказала кое-что. Приметы тех, кто квартирку у нее снимал, особо хорошо основного описала, кто с ней дела вел.
— Уваров в упор посмотрел на Вадима.
— И этим основным оказался я, — чтобы скрыть неожиданную растерянность, излишне громко захохотал Вадим.
Уваров усмехнулся, сделал большой глоток из стакана с боржоми.
— Вовсе и не вы, — сказал он, аккуратно вытерев губы. — Вы-то их и знать не знаете, вы человек случайный… Попейте водички, холодная, что надо… Ну как хотите… Тот-то по виду вроде и похож на вас, тоже высокий, стройный, симпатичный, только волосы у него светлые, и зовут иначе, Лео. Леонидом значит, и фамилия другая — Спорыхин.
— Ну, слава Богу, — с деланным облегчением произнес Вадим. — Это действительно не я, а то уже думаю, что это вы так со мной себя странно ведете, все что-то выспрашиваете, всенамекаете, усмехаетесь загадочно…
— Издеваетесь? — с улыбочкой осведомился Уваров.
— Как можно? — сказал Данин добродушно.
— Ну хорошо. Теперь основное, зачем все-таки я вас позвал. Вы до сих пор точно уверены, что не помните никого из тех троих?
— Точно.
— А может, взглянете все же на фотоснимки. Чем черт не шутит, вдруг узнаете?
— Раз положено, давайте, — без всякого энтузиазма согласился Вадим и вмиг напрягся, подготавливаясь, чтобы не выдать себя ничем во время этой процедуры. Незаметно вздохнул глубоко, постарался расслабиться, сонный вид себе придать. И, неожиданно, глядя, как Уваров достает фотографии из сейфа, почувствовал омерзение к себе за то, что изготавливается так тщательно, чтобы правду скрыть, что лжет так спокойно и безболезненно. Что все время лжет и сегодня, и вчера, и позавчера, и неделю назад.
И нестерпимо захотелось, не говоря ни слова, встать и выйти из этого кабинета, и идти куда попало, бежать куда попало, куда глаза глядят, только подальше от Уварова, от Лео, от Можей-киной, от города подальше, от всех, от всего…
— Ну вот смотрите, — Уваров уже разложил снимки на столе.
— Внимательно смотрите, не торопитесь.
Данин провел потными ладошками по коленям и медленно склонился над фотографиями. Лео он увидел сразу. Лицо его выгодно отличалось от тех полудебильных, что были на других снимках. Тонкое, интеллигентное, запоминающееся, чуть надменное, чуть брезгливое, с тяжелым взглядом широко расставленных, немного прищуренных глаз. Выражение его словно говорило тому, кто снимал его: «Ну давай, работяга, скорей делай свое дело, я спешу, у меня работа поважнее». Вадим спохватился, что слишком долго рассматривает Лео, и перевел взгляд на другую фотографию, и так же долго и внимательно стал разглядывать и ее, потом пододвинул к себе еще один снимок.
В дверь робко стукнули два раза.
— Да, — недовольно отозвался Уваров, не отрывая взгляда от Вадима. И видя, что никто не входит, крикнул громче: — Да войдите же.
Дверь приоткрылась бесшумно. Вадим не спеша поднял голову и наткнулся на благообразное личико Можейкина. Он, как и тогда, в больнице, показывался из-за двери по частям, сначала голова, потом нога, потом рука, а потом и весь он появился в кабинете. Все так же спинка у него выгибалась в полупоклоне, и так же голову он прямо держал, верно, прикидывая, как всегда, выпрямиться или еще ниже поникнуть. Сейчас, видимо, решил, что надо поникнуть.
— Простите, что помешал, — он приложил руки к груди и беззащитно, чуть растерянно улыбнулся.
— Ну что же делать? — вздохнул Уваров.
— Здравствуйте, — Можейкин с протянутой рукой сделал шаг к столу.
— Здравствуйте, спаситель. — Он с почтением коснулся ладони Данина. Здороваясь, покосился на стол, и Вадим с удивлением заметил, как он впился глазами в снимки.
— Нашли преступника? — обратился он к Уварову.
— Ищем, — ответил тот, небрежно прикрыв фотографии сложенной вдвое газетой. — Ищем. Вы простите, мы сейчас закончим, а потом займемся с вами. Хорошо?
— Конечно, конечно, конечно, — зачастил Можейкин и, изобразив всем телом покорность, поспешно вышел из кабинета.
— Я его тоже вызвал, — пояснил Уваров. — Надо поговорить.
Вадим кивнул и вернулся к фотографиям. Вертя последний снимок, понял, что успокоился, что исчезло уже желание бежать отсюда без оглядки, и глаза теперь не выдадут его, и что можно уже поднять голову и, пожав плечами, сказать: «Нет, никого не знаю».
Он так и сделал. И глаза не выдали его. Во всяком случае, Уваров смотрел на него с плохо скрытым разочарованием.
— Жаль, — подтвердил он свой взгляд словами. — Жаль. Я, признаться, надеялся. Вы единственный, кто мог бы уличить подозреваемого. Единственный! — Лицо его неожиданно сделалось жестким и злым. — И почему-то не понимаете этого. А следовало бы. Пора. — Он мотнул головой. — Трудно с вами, скользкий вы и… — он в сердцах махнут рукой.
— Не знаю, чего вы добиваетесь от меня, — устало сказал Вадим. — Я же сразу сообщил вам, что не помню никого из них, не разглядел, темно было.
— А почему тогда?.. — Уваров чуть замешкался и опять потянулся к стакану.
— Где ваша дочь? — спросил он, сделав глоток.
— С женой, — недоуменно ответил Вадим. — У сестры, за городом, вернее — в другом городе.
— Спрятали, значит, — усмехнулся Уваров.
— Почему спрятал? От кого! — хотел было возмутиться Данин.
Но Уваров жестом остановил его:
— Перестаньте.
— Опять намеки, опять ловушки, — с вызовом произнес Вадим.
— Бросьте, какие намеки. — Уваров с силой потер виски. — Просто пытаюсь выяснить истину с вашей помощью. И все как об стену. — Он протянул руку и взял фотографию Лео, повертел ее пальцами: — Спорыхин исчез. Уехал. Взял отпуск и уехал. Куда — неизвестно. С Можейкиной тоже как-то странно получается. Никого она не помнит, говорит, что встретили ее на улице, а по всему выходит, что у Митрошки она в квартире тоже бывала, видели ее несколько раз в том дворе. Хотел, чтобы она посмотрела снимки, а муж, — он махнул в сторону двери, — говорит, что она больна, не двигается, с трудом узнает близких, какие уж тут опознания…
Уваров бросил снимок обратно на стол.
— … Если бы ему сумку найти…
— Какую сумку? — Данин натянулся, как струна.
— Митрошка сумку обнаружила в квартире, когда пришла на следующий день. Но кто-то ее забрал. Она сама не знает кто, она разглядела плохо, очки, дуреха, не успела надеть. И не из компании Спорыхина был человек. Кто такой — неизвестно, — Уваров без усмешки, серьезно и изучающе смотрел на Данина. — Обманом кто-то вынудил ее отдать сумку. Короче — пока мрак.
Данин стойко выдержал взгляд. Не отвернулся. И Уварову самому пришлось отвести глаза. «Я становлюсь завзятым лицедеем», — с тоской подумал Вадим, а вслух сказал:
— Да, тяжело.
— Ну что ж, — Уваров встал, — я вас больше не задерживаю.
Вадим тоже поднялся. Увидев протянутую руку, с трудом решился подать свою. Крепкое, искреннее рукопожатие вогнало его в еще большую тоску. Он подошел уже к двери и все медлил выйти, все никак не мог собраться с силами и дернуть за ручку. На какое-то мгновение ему показалось, что мастерски обитая коричневым дерматином дверь закачалась, завертелась перед глазами, он прикрыл веки и схватился одной рукой за лоб.
— Вам плохо? — услышал за спиной встревоженный голос.
— Нет, нет, — и Вадим рванул дверь на себя.
Можейкин вскочил, завидев его.
— Ну что там? Никаких перспектив? — спросил он. — Вы-то должны быть в курсе.
— Перспективы есть всегда, — с расстановкой, не глядя на Можейкина, сказал Вадим.
— Вот это хорошо, вот это хорошо, — Можейкин вплотную приблизился к Вадиму. — А что за снимочки там? Узнали кого, а?
Данин взглянул на него внимательно и тут вспомнил, как выходил Можейкин из дома, где живет Лео, как заталкивал жену в машину, словно мешок картошки, и смутная догадка мелькнула в мозгу и мгновенно испарилась, он попытался погнаться за ней, ухватить ее, ускользающую, но безуспешно.
— Не узнал, — тихо сказал Вадим. — Но, если надо, узнаю. Повернулся и устало зашагал к выходу.
Пальцами до пола спереди, пальцами до пяток сзади. Вниз… вверх… назад… вверх, вниз… назад, с силой, с ожесточением, с беспощадностью, без компромиссов. Зарядка — благое дело. И чтоб до пота, чтоб до боли, до усталости, до изнурения; чтоб не думалось, чтоб не мыслилось, чтоб пусто в голове было, до звона пусто. И не останавливаться, не поддаваться, не малодушничать, как привык за последние деньки. Хоть здесь-то себя уважать. Изнемог, истерзался… Так и что? Давай продолжай, ведь есть еще сила, не может не быть. Бум, бум, глухо бьются кулаки в измученную, помятую грушу. И вот она уже в испуге, уклоняется то влево, то вправо, убегает назад, просит пощады, но некуда ей бежать на крепком ремне она, сколько влезет охаживай ее, и никуда она не денется, крепко подвязана к потолку. Вот так и я. Мордуй меня, дубась, рви в клочья, а прочно подвязан я на ремешке… Опять?! Снова всякая дрянь лезет в голову. Прочь, вон, выкорчевать, выдавить, выцедить с потом… Бум, бум… теперь ногами ее, левой, правой, чтоб знала, чтоб все знали.
Тонкие жаркие струи остервенело впились в его кожу, будто только и ждали этого мгновения, чтоб вырваться из металлического плена и вцепиться в него, истомленного и одуревшего. А теперь рывками, рывками кран выкручивать, чтоб леденели плечи и согревались вмиг…
Из ванной Вадим вышел словно опьяневший, с шальными, невидящими глазами, едва переступая размякшими ногами, проковылял в комнату, остановился посреди нее, огляделся, будто впервые сюда попал, поморгал сонно, с усилием донес себя до кресла, плюхнулся едва не завалившись вместе с ним на спину, глупо хихикнул, затем длинно вздохнув, вытянул ноги и затих.
Он не спал, и не дремал, и глаз даже не прикрыл, хотя, устал и истома его одолела, и в самый раз было бы сейчас забыться на какое-то время, восстановить силы. Но глаза не закрывались, им было интереснее разглядывать свет, чем тьму. А потом истома прошла. Он взбодрился, стал яснее чувствовать, видеть. И тогда он прислушался к себе. И ничего не уловил из того, что мучило его вчера, сегодня и ночью, и утром. И обрадовался, и встал удивленный; сбросив на пол халат, насторожился и вновь ничего не ощутил. Вот и распрекрасно, хоть день отдыха. Он знал, что именно день, а может, и того меньше, завтра все снова навалится, и опять начнется беспощадная борьба с самим собой… Он знает, он уже изучил себя, он за эти недели жизнь прожил. А сегодня вот отдых, так вот вышло, и надо ловить эти мгновения, хоть мало их, но они есть, они существуют, они дадут ему возможность отвлечься, хоть как-то привести мысли в порядок. Итак, сегодня дома. Целый день, до ночи. Книги, телевизор, музыка…
Около пяти заливисто просигналил телефон. Без всяких недобрых предчувствий Вадим оторвался от книги, кряхтя, потянулся к аппарату, стоящему на полу, взял трубку и тут же пожалел, что взял, до слез пожалел. Надо было отключить его. Почему он забыл? Это была Можейкина. Она не поздоровалась и не спросила даже, он ли это, или кто другой, начала скорей тараторить слова, как показалось Вадиму, выученные заранее, или методично и упорно кем-то вдолбленные. И пока она говорила, опять проскочила и исчезла в мозгу расплывчатая, зыбкая догадка. О чем же он подумал? А говорила Можейкина вот что:
— Не забыли меня? Помните. Это я. Люда Можейкина. Вот. Чувствую я себя хорошо, все уже в порядке. А вы не забыли, о чем я вас просила? Пожалуйста, молчите. А то меня убьют. Видите, я же молчу. И вы тоже, ради меня.
— Кто убьет? — перебил ее Вадим.
— Вы их не знаете, и я не знаю, но они не остановятся. Они меня постоянно в поле зрения держат… Хм… Хм… — она, видимо, забыла, что говорить, в трубке щелкнуло, а потом пропали шорохи и посторонние шумы, будто трубку прикрыли ладонью, а потом опять заговорила Можейкина: — Меня допрашивать нельзя, я больна, и вы единственный, кто их, ну тех, видел. Умоляю вас. Ну что для вас сделать? Может, встретимся? — сказала она, жеманясь, как девочка, потом вскрикнула, и завыли нудные гудки.
«Сумасшедшая», — с невольным страхом подумал Вадим. И вновь все разладилось. Разом. В один миг. И Вадим понял, что отдыха сегодня не будет.
Вадим рывком подтянул к себе телефон за провод, снял трубку, и пальцы сами, на доли секунды опередив его мысли, стали набирать номер. Беженцев был на месте, и это была удача. Только бы он не спешил никуда, как всегда…
— Вадька, корешок разлюбезный! — Беженцев был возбужден и весел. Он был в порядке. У него все стояло на своих местах. — Вечер свободен? Вот и распрекрасно, вот и расчудесно. Значит, так, сегодня гуляем, отдыхаем, веселимся, и все такое прочее. — «Хоть здесь-то повезло», — вяло подумал Вадим. — … На Радищева, ежели ты в курсе, молодежный центр открыли. У меня дружок там директором. Понял? Там сегодня вечерок замечательный имеет место быть. И у меня для тебя дама припасена. Хо-рошая! — Беженцев причмокнул. — А я со своей Наткой буду. А… да ты ее не знаешь, ну познакомишься, она с областного радио. Короче — в семь, Радищева, двенадцать. Все.
Вадим любил эту улицу, хаживал по ней часто, и когда по делам спешил и нередко просто так, прогуливаясь, если выпадала вдруг возможность рядом с ней оказаться. Теплой и нежной она ему виделась, обаятельной и доброй. И люди, заполняющие тротуары, казались ему добрее и улыбчивее на фоне задумчивых, ох, как много повидавших, двух-трехэтажных старинных особняков.
К одному из таких неброских, не особо приметных, но явственно осознающих свой возраст и свою мудрость, а значит и значительность, Данин сейчас и приближался. В четырех окнах первого этажа он еще издалека заприметил пестрые витражи, окна второго были глухо зашторены. Зданьице выглядело веселым и в то же время таинственным. А потом он увидел и Беженцева, и двух девушек, стоящих рядом. Одна стройненькая, длинноногая, в чем-то белом и легком, прижималась к Женьке, — он держал ее за плечи, полуобнимая. Туалет второй издали походил на витраж нижнего этажа. Вадим хмыкнул — та, вторая, видимо, для него. Вадим еще шел в метрах двадцати, а лохматый, растрепанный (будто он причесывался всегда только пятерней) Женька уже приветствовал его радостными возгласами типа «ха-ха», «эгей», девушку в белом и легком — это оказалось перетянутое узким пояском тонкое платьице — он действительно держал одной рукой за плечи. Девушка внимательно и изучающе оглядела его из-под модной челки и только после этого вежливо улыбнулась. Вадиму на секунду показалось, что он где-то видел ее — на улице, в компании или во сне? Он даже чуть замедлил шаг, разглядывая ее, затем спохватился и озарился лучезарной улыбкой — трудновато далась она ему. Женька освободил девушку от своей опеки, шагнул навстречу Вадиму, обнял его, поцеловал. Он всегда так встречался с друзьями, даже если видел кого-нибудь из них только вчера. Он, видимо, считал, что так принято у творческих людей.
— Вечность мы не виделись, вечность, — истово размахивая руками, сообщил он девушкам. Вторая — та, что «а-ля витраж», смотрела на Данина без особого интереса и только учтиво приподняла краешек губ в полуулыбке. Ее огромным сероголубым глазам, наверное, всегда было скучно и противно. Они словно говорили: «Неужто мне, такой красивой, томной, в цветастой просторной безрукавке, с такими ультрасовременными, до плеч почти, сережками, в таких замечательных супермодных штанах, еще кто-то нужен?»
— Знакомьтесь, — Женька, как ему казалось, незаметно подмигнул ей, — Вадим, это Ира, а вот это, — он по-хозяйски притянул к себе ту, которую Данин где-то видел (все-таки во сне, усмехнувшись, решил он), — вот это Наташа.
Все трое почти хором сказали «очень приятно», и Женька захохотал довольный. Пока он смеялся, Наташа опять пристально посмотрела на Вадима и нахмурилась.
— Все, — заключил Беженцев. — Пора. Ирка, цепляйся к Вадиму, и пошли.
Вход в центр был со двора. Они прошли крошечным проулком и очутились возле открытой деревянной двери, по бокам ее, как атланты, застыли серьезные ребята с красными повязками на рукавах. Один из них, крепкий, короткошеий, преградил путь и строго спросил:
— Вы куда, молодые люди?
Будто сам был уже далеко немолодым.
Беженцев небрежно отстранил его, давая возможность пройти остальным, и через плечо бросил:
— К Корниенко.
Тесный вестибюль встретил полутьмой, духотой и ароматом импортных духов. Впереди совсем близко, сквозь строй декоративных канатов, свисающих с косяка дверного проема и заменяющих, по всей вероятности, дверь — дизайн! — они различили столики, много людей, услышали возбужденные, веселые голоса. Женька шел уверенно — видимо, не первый раз уже бывал здесь. Не доходя канатной двери, свернул направо, там оказалась неширокая и недлинная — ступенек семь-восемь — лестница, а дальше на площадке зеркало во всю стену, а над ним змеей распласталась трубка дневного освещения, неяркая, приглушенно-розоватая, как молоко с клубникой. И в этом зеркале Вадим увидел всех сразу — и себя, и своих спутников. И заметил, как деловито, будто к работе готовясь, оглядела себя Ира, как мазнула лишь взглядом по своему отражению Наташа, как Женька показал себе язык, и себя увидел, мрачноватого, с тяжелым взглядом, с плотно сжатыми губами. Вот почему, наверное, Ира отнеслась к нему без особого любопытства. Такие ей небось не по душе, ей разудалые нужны, беззаботные, смешливые, говорливые, а он вот и слова не вымолвил, пока шли…
А на втором этаже оказался уютный, со вкусом, разноцветно подсвеченный зальчик с крохотной сценкой и тоже с зеркалами и даже с пультом для диск-жокея. И здесь тоже, как и на первом этаже, было много людей — молодых ребят и девушек. Музыка не звучала, не настало, видимо, для нее еще время, а им и без музыки было радостно, они в приподнятом настроении пребывали, они отдыхать сюда пришли, а потому и говорили без умолку, знакомились тут же, без церемоний, хохотали взрывно.
Ира подобралась, расправила плечики, потянула носом, как охотничья собачка, дичь выискивая, заскользила взглядом по пестрой толпе. А нетерпеливый Женька тянул их уже за собой, в маленькую дверцу сбоку.
И там, в директорском кабинете, тоже люди были, много, на креслах сидели, на столе даже, стояли, привалившись к стенке. Здесь построже ребята были, посерьезней, в модных костюмах, в галстуках, аккуратно стриженные. «Секретари комсомольских организаций», — шепнул Женька.
За столом, выпрямившись как на собрании, сидел молодой мужчина с озабоченным лицом. Невыразительным оно Данину показалось, гладким и сытым, будто нет у этого человека никаких стремлений особых, и сомнений никаких нет, в себе во всяком случае, и все у него хорошо, и всем он доволен, и спится ему по ночам замечательно, и работается в охотку. «А на этом месте одержимый должен быть, истовый, — подумал Вадим и перебил тут же себя, пристыдил: — Нельзя по первому впечатлению вот так огульно, ничего не зная о человеке, судить. Может, все и не так у него замечательно и хорошо».
А тут и впрямь собрание проходило, только не подготовленное заранее, импровизированное. Спорили о молодежных театральных студиях, стихийно произрастающих в городе и, как правило, выпадающих из-под контроля комсомольских организаций. Корниенко слушал ребят с непроницаемым лицом и чуть наклонив голову. А когда поднял ее и увидел Беженцева, властным взмахом руки установил тишину, указал на Женьку и сказал, обращаясь ко всем:
— Вот пресса пришла. С ней мы сейчас и посоветуемся. Ей-то и предложим нам помочь… Маловато пишут о нас, дорогой товарищ Беженцев, и не знает городская молодежь о нашем центре, вот и группируются самостийно, вокруг всяких подозрительных личностей. Сделал бы статеечку, громадненькую, на полполосы. Такую, чтоб с проблемкой, с размышлениями, с высказываниями и театральных работников, и комсомольцев, и самостийных, чтоб мнения столкнуть…
— Сделаем, сделаем, Жора, все сделаем, — радостно отозвался Женька и стал протискиваться к начальственному столу. — Весной ведь дали уже заметочку…
— Вот именно заметочку, — перебил его Корниенко, — а нам статеищу надо, а то все «сделаем», «сделаем», уже пять месяцев, а все «сделаем», «сделаем», — передразнил он Беженцева. — В горком партии, что ли, обращаться, я там могу кое с кем перемолвиться, — сказал и незаметно окинул присутствующих, наблюдая, какой эффект его слова произвели. Потом добавил:
— Ну все, на этом закончим, остановимся пока на печати. И радио подключим. Идите, отдыхайте, расслабляйтесь, развлекайтесь. Сегодня замечательная программа, и у меня для вас сюрприз.
Когда все вышли и они остались впятером, Беженцев представил своих спутников. Корниенко, как истинный джентльмен, встал из-за стола, застегнул пиджак и только тогда воспитанно поклонился. На Ирину он посмотрел с нескрываемым восхищением, поцеловал ей руку и даже, как показалось Вадиму, пожал многозначительно кончики пальцев. Когда он наклонился, Ирина хмыкнула и передернула плечиками. «И этот ей не понравился», — позабавился Вадим. На Наташе взгляд его задержался дольше, и смотрел Корниенко на нее как-то странно, будто и не человек она вовсе, а зверь диковинный, будто и не видел он ничего подобного никогда. Женька недовольно свел даже брови, приметив этот взгляд. «А вот Наташка ему больше по душе пришлась, чем «а-ля витраж», — с легким удивлением продолжал наблюдать Вадим. Ему самому Корниенко подал руку с бесстрастным и безразличным видом. Так пожимают руки вахтерам.
— Какой такой сюрприз ты обещал? — спросил Беженцев, вольготно развалившись в мягком кресле.
— О-о-о, — Корниенко со значением поднял палец. — Ладно, вам так и быть скажу, как друзьям. Через… — он взглянул на часы, — минут пять-десять придет Ракитский…
— Ой, — воскликнула Ира, недоверчиво распахнув свои густо накрашенные глазищи. — Сам Ракитский! Бог мой! Вот мужчина! Я так мечтала познакомиться…
Корниенко как-то весь ужался на мгновение после этих слов. Но только на мгновение, и никто этого не заметил, кроме Вадима, и через секунду он уже самодовольно улыбался:
— Да-да, сам Володя Ракитский.
Вадим что-то слышал об этом актере. Поэт, музыкант и исполнитель своих песен, бард — одним словом. Схож, как говорили, с Высоцким, и голосом, и манерой. Слышал, что популярен Ракитский, что смел и независим, а на концертах бывать не приходилось, не случилось, а сам и не рвался никогда, все недосуг было. Ну что ж, посмотрим, что же это за такой любимец публики. Таков ли он, как о нем говорят?
Ира теребила сидящую рядом Наташу:
— Что ты, дурочка, сидишь, ведь Ракитский же?!
— Ну так что ж? — та усмехнулась. — Плясать, что ли?
Корниенко, перекладывая бумаги на столе, искоса взглянул на Вадима, как, мол, не задевает его Ирина болтовней. Ведь вроде с ней он пришел. Но ничего, видимо, не прочел на равнодушном лице Данина и расстроенно оттого, что ничего не углядел, поджал губы.
За дверью оживленно зашумели, Корниенко излишне торопливо выбрался из-за стола и ринулся к двери. Но она уже отворилась, и в проеме показался невысокий ладный парень лет тридцати, с длинным жестким лицом, крупным носом, тяжелым подбородком и тяжелым взглядом. Был он в темном свитере, в вельветовых черных джинсах, в белых туфлях, в руке держал футляр с гитарой. «А ведь и внешне похож», — удивился Вадим.
— Здравствуй, Володя, — расплываясь в самой благодушной улыбке, протянул к нему руки Корниенко, — ты вежлив, как король.
Ракитский устало кивнул ему и потянул за собой дверь. Но она не поддалась, за его спиной в полумраке светлело множество любопытствующих лиц. Корниенко замахал на них руками:
— Товарищи, товарищи, посторонитесь. Так же нельзя.
И опять наступила пора пожимания рук. Ракитский женщинам пальцев не целовал, пожимал только поспешно их ладошки и кивал учтиво. Ирина вся затрепетала, когда он улыбнулся ей, хотела что-то сказать, уже приоткрыла яркий полный рот, но решила, видимо, что еще не время, именно решила, а не замешкалась, не смутилась — и не сказала поэтому ничего, а только обольстительно улыбнулась в ответ. Данину показалось, что он услышал легкий запах спиртного перегара. Это от Ракитского, верно. Для храбрости выпил, для куражу?
— Мог бы опоздать, — низко, с хрипотцой проговорил Ракитский, раскрывая футляр и извлекая гитару. — На Октябрьской затор, по осевой не пускают, пришлось выйти, сказать кой-чего гаишнику, — он небрежно пробежал по струнам. — Пустил, куда денешься…
Наташа повернулась к Вадиму, и они встретились взглядами, и, кажется, все угадали друг про друга, и обрадовались оба этому.
— Сколько мне петь? — спросил Ракитский.
— Сколько сможешь, — Корниенко не переставал улыбаться и преданно глядеть на гостя.
— Много не смогу, — сказал Ракитский, перехватывая гитару за гриф правой рукой и опуская ее к ноге. — Полчаса.
— А может, побольше, Володя, — Корниенко умоляюще прижал руки к груди. — А то столько ждали.
Ракитский лениво помассировал шею:
— Час.
Корниенко и Вадим выходили из кабинета последними. Данин в дверях попридержал директора за локоть и полюбопытствовал:
— Если не секрет, сколько вы заплатите ему за выступление?
Тот остановился, развернулся всем телом, презрительно приподнял кончики губ, проговорил профессорским тоном:
— Не все меряется на деньги, молодой человек. Здесь Ракитский выступает бесплатно. Он будет петь для друзей, для своих сверстников, для своих младших товарищей.
— А-а-а, — протянул Вадим, — ну если для друзей, тогда понятно.
Места для них не хватило, на стульях, собранных со всего дома, сидели по двое, много ребят примостилось на полу перед крохотной сценкой. Женька попытался было вытащить кресло из директорского предбанника, но оно никак не пропихивалось в дверной проем и в конце концов выскользнуло из его рук и рухнуло ему на ногу. В зале загоготали, а уже взошедший на сценку Ракитский недовольно посмотрел в Женькину сторону и раздраженно дернул подбородком. Наташа кинулась помогать Женьке, что-то тихо и ласково выговаривая ему, а Данин тем временем поставил кресло на место. Так что пришлось им жаться возле самой сцены, в окружении таких же несчастных, как и они. Корниенко же по праву хозяина с важным видом присел на краешек сценки, в самом дальнем затемненном углу.
Два направленных со стен софита выбелили лицо Ракитского, и в контрасте с темным свитером оно виделось недвижной восковой маской. Актер утомленно прикрыл глаза, и лицо приняло совсем уж трагичный вид. В зальчике воцарилась тишина. «Зачем так ярко? — подумал Вадим. — Ведь можно поставить фильтры». Но когда Ракитский начал наигрывать грустную мелодию, понял, что все рассчитано, что так и было договорено, что отлажено все и отрепетировано заранее, и этот свет, и полузакрытые глаза, и замедленные движения. Ловок, бард!
Запел он тихо и низко, умело запел; во всяком случае, со слухом у него все было в порядке. Потом голос его окреп, стал громче, и только сейчас Вадим начал разбирать слова. Он внимательно и жадно вслушивался в них, боясь хоть чего-то упустить… А когда кончилась песня и грохнул зальчик аплодисментами, посмотрел по сторонам недоуменно: чему хлопают? Ведь песня ни о чем, и ритма в стихах нету, и духа авторского, и явно в подражании они написаны, в плохом, неумелом подражании. Так, набор штампов. Данин помотал головой, может, ему почудилось, может, ошибся, может, не понимает ничего, а это новое, значительное, не всеми — такими же, например, как и он, нечувствительными, — принятое. Скорее всего, успокоил себя Данин, это не совсем удачная песня, ведь и у гениев бывают чудовищные провалы. Надо слушать дальше и постараться проникнуться, попробовать слиться с автором, как сливается с ним восторженный зал. Но и вторая песня оставила ощущение пустой болтовни. И третья. А потом Ракитский запел о войне. Много было в стихах красивых и правильных слов, и вроде по правилам они рифмовались, и что-то он там об истомленных матерях пел, об убивающихся женах, о рвущихся на фронт детях… И все, казалось бы, хорошо, если б только в строчках этих что-то свое, истинное свое, неподражаемое было, чтобы откровение в них было, не для зала, для себя, чтобы сердце было, неспокойное, настоящее. А может, слишком высокие требования он к Ракитскому предъявляет? Может, для нашего города и такой хорош? Какой-никакой, а свой, и, несмотря ни на что, будем его восхвалять, возносить, восхищаться, будем убеждать себя вопреки всему, что вот это «высоко», как говорит «а-ля витраж». А потом он пел что-то беспомощное о театре: о дураке администраторе и хитреце актере, потом что-то про своих соседей… Между песнями лениво ронял слова, рассказывая последние сплетни о своих друзьях-коллегах, небрежно сообщил, что ему предложили главную роль на Свердловской киностудии, пытался острить, спрашивал, как зовут какую-то вмиг зардевшуюся девушку из первого ряда. Вадиму стало скучно. Он посмотрел на стоящую впереди Наташу, поморщился, увидев на ее плечах неизменную Женькину руку, полюбовался изящным изгибом ее шеи, стройной гибкой спиной, тонкими длинными ногами, потом попытался взглянуть на нее сбоку, и словно почувствовала она, что ее рассматривают, напряглась сначала, потом провела по волосам, изготавливаясь словно, и повернулась, и встретилась с Вадимовым взглядом, и нахмурилась вновь, а потом улыбнулась, кивнула легонько в сторону сцены и едва заметно обозначила пожатие плеч. И снова поняли они друг друга без слов. Вадим потоптался на месте, повертел головой по сторонам, уловил движение впереди себя, опять повернулся к Наташе. Это Ира наклонилась к уху подруги и громко зашептала, стараясь перекрыть звон гитары:
— Вот это парень, именно за таким хоть куда. Сильный, уверенный, не то, что сопляки наши, — она красноречиво посмотрела на Женьку, но так, чтобы Наташа не заметила. — И талантливый. Он кого хочешь за собой уведет, и никто не посмеет отказать.
— А ты? — тихо спросила Наташа, не поворачивая головы.
— Что я?
— Ты тоже не посмеешь?
— Может, и не посмею, — неопределенно ответила Ира, уловив насмешку.
Вадим прикусил губу, сдерживая ухмылку, шагнул ближе к девушкам, приблизил лицо к Ирине, спросил невинно:
— Ирочка, не хотите кофе? Из бара так вкусно пахнет, а здесь так скучно…
О, каким взглядом она его одарила, два огнеметных ствола уперлись в его лицо. Будь ее воля, он валялся бы уже весь обугленный посреди зала. Она неприязненно приподняла верхнюю губу, обнажив длинные, влажные зубы, процедила:
— Да ты что… — и, не договорив, отвернулась.
— Ну вот и славно, — сказал Вадим, — значит, мы уже на «ты». Ну как хочешь, дорогая, а я пойду.
Посмеиваясь, он повернулся и резко сбежал по ступенькам. Бар был пуст и тих, самое основное действие сегодняшнего вечера развертывалось там, наверху, для кофе и мороженого не настал еще час. Подходя к стойке, он несколько раз отразился в стенных зеркалах и подумал весело: «А ведь я посимпатичней».
Черноволосая, под мальчишку стриженная девушка с отсутствующим лицом подала ему кофе на стойку и небрежно сгребла мелочь. Наверху снова загремели аплодисменты, и Вадим отпил глоток. Кофе был безвкусный.
Он вынул сигареты. Интересно, можно здесь курить? Но спрашивать было не у кого, девушка с флегматичным лицом исчезла, и он закурил. Может, уйти отсюда? Не радует его этот дом. А свой дом порадует? И вообще, что его сейчас радует?
— Там и вправду скучно, — сказал кто-то совсем рядом. Вадиму даже не надо было поворачиваться, чтобы увидеть, кто это. Он почему-то был уверен, что именно так и произойдет. Может, еще и оттого захотелось ему уйти?
— Я вот тоже… — Наташа натянуто улыбнулась и закусила вдруг губу, мигом стерев улыбку: — Сядем… Что стоять?
— Сядем, — согласился Вадим, — Кофе?
— Нет, не хочу.
Они сели за ближайший столик, друг против друга. Помолчали. Наташа вздохнула, поудобнее устроилась на стуле, сказала с излишней серьезностью:
— Женя пошел звонить, а это надолго, а я вот не выдержала.
— Не понравился? — спросил Вадим.
— А такое может нравиться? Суррогат.
— Однако все в восторге.
— Ничего, скоро прозреют. Это внушение. Массовый психоз. Это проходит. Он очень цепкий и хваткий парень.
— Я заметил. Вы с ним знакомы?
— Нет. Слышала. Рассказывали коллеги. Он хотел записываться у нас на радио. Его слушали, но не отобрали. Там грамотные люди. Понимают, что к чему.
Он почувствовал себя свободней, контакт наладился. До этого лишь глаза говорили, а теперь надо было произносить слова. А это сложней, хотя на первый взгляд кажется наоборот.
— Ваша подруга тоже от него без ума.
— Это не моя подруга. Хотя мы знакомы давно. Это Женина коллега. Секретарь редактора. Женя привел ее для вас. А она на вас обиделась, да?
— Обиделась, — усмехнулся Данин, вспомнив гневное Ирино лицо. — А я всего лишь пригласил ее попить кофе.
— О-о, это оскорбление, — с веселой улыбкой сказала Наташа. — Сей замечательный бард — теперь кумир, и кто не проникся — первейший враг на веки вечные.
— Значит, все? Значит, враги? — Данин отринулся в шутливом испуге к спинке стула. — Значит, плакали мои надежды и не будет прощального поцелуя у подъезда?
— Значит, не будет, — рассмеялась девушка. — А какие планы! Сначала прощальный поцелуй, потом невинная просьба что-нибудь попить, мол, в горле пересохло. Затем интересный, умный разговор, может быть, даже горячий спор, чтоб время оттянуть. Потом якобы случайный взгляд на часы, всплеск руками, ох, как поздно, автобус не ходит, такси не достать, придется вам приютить меня. Так?
— Простите, — серьезно сказал Вадим. — Я не все запомнил. Позвольте, запишу. Представится случай, буду действовать по вашей разработке. Грамотно.
Наташа засмеялась, сведя плечики и прикрыв пол-лица ладошками, хотя ничего особо смешного, как ему показалось, он не сказал, так, сострил не совсем удачно. А она смеялась. И не его словам все-таки, наверное, смеялась. Просто ей было хорошо и весело…
— Ты давно так не заливалась, котенок, — нечесаная Женькина голова зависла над столиком. Беженцев старался всем видом показать, что у него прекрасное, беспечное настроение. — Это Данин так тебя развеселил? Мастер. Ты его бойся, Наташка. — Он раздвинул губы в самой беззаботной улыбке. — Опасный человек. Не успеешь глазом моргнуть…
Он подвинул стул ближе к Наташе, сел, тесно прижавшись к девушке, убрал у нее челку со лба, поцеловал в щеку. Наташа опустила голову, уперлась взглядом в кофейную чашку.
— Уже все кончилось? — Вадим вытащил еще одну сигарету, предложил Беженцеву.
— Здесь вообще-то не курят, — сказал тот и оглянулся. — Нет, не кончилось. Просто я потерял вас и решил поискать. А вы вот здесь веселитесь в уединении. Что убежали-то? На такой концерт не часто попадешь.
— Душно, — сказал Вадим. — Вентиляция плохая.
— И стоять я устала, — мельком глянув на Данина, объяснила Наташа.
— Да, и с вентиляцией, и с местами сидячими здесь не продумано, — озабоченно подтвердил Беженцев. — Надо будет помочь Жорке. А ушли вы зря. Гигант парень, верно?
— Нормально, — сказал Вадим. — Неплохо поет.
Наташа кротко посмотрела на него, и в этом взгляде он уловил благодарность. «Хорошая девочка, — с грустью подумал Вадим, — не хочет обижать своего… Как его назвать-то?»
— Неплохо… — слегка обиделся Женька. — Великолепно! А песни какие! — он опять оглянулся и полушепотом попросил Данина: — Дай затянуться.
… И будто хлынула напористым потоком шумливая вода по лестнице. Это плотной толпой, выкрикивая что-то громкое и веселое, спускались удовлетворенные, возбужденные слушатели. Скоро озеркаленный зальчик многоголосо гудел. Все столики были заняты, а у стойки выстроилась длинная, бурливая очередь.
Ракитский, Корниенко и Ирина спустились вместе, когда, по-видимому, никого уже не осталось наверху. Глаза у них загадочно поблескивали, и вид был заговорщицкий, будто объединяла их какая-то тайна. Ракитского все стали приглашать к своим столикам, но он только устало крутил головой и расслабленно следовал за Корниенко, небрежно, как на светском приеме, придерживая за локоток Ирину. Та счастливо сияла и с плохо скрытой жадностью ловила обращенные на нее взгляды. Корниенко остановился за Женькиной спиной, указал своим спутникам на столик, сказал: «Сейчас!» — и торопливо прошагав к стойке, скрылся за ней.
Через мгновение появился, нагруженный тремя стульями. И хоть тяжеловато ему было и неудобно, но вида не показывал, привычно-барственное достоинство сохранял. Шел, выпрямившись, не торопясь, со снисходительной полуулыбкой, словно не стулья тащил, а играючи нес вазочки с крем-брюле; только побелевшие пальцы и вздрагивающие локти выдавали усилие. Ракитский даже не шелохнулся, чтобы помочь; как должное заботу о себе воспринимал. Мастером, видать, себя ощущал, маэстро! Вадим дернул непроизвольно верхней губой, простучал пальцами дробь по столу, взглянул на Наташу, но она не перехватила его взгляда, она сейчас другим занята была — старательно крошку какую-то стряхивала с Женькиной губы. Данин сомкнул глаза на секунду, коротко помассировал лоб пальцами, — и вправду, уйти, что ли? Корниенко расставил стулья, потеснив Наташу и Женьку; жестом пригласил Ракит-ского и Ирину и, не садясь пока сам, властно крикнул, обращаясь к барменше:
— Нина, шесть двойных!
— И выпить бы что-нибудь, — томно подсказала ему Ирина, подвигаясь почти вплотную к Ракитскому.
— У нас не пьют, — с притворной строгостью заметил Корниенко. — Сухой закон.
— Ох, какие страсти, — Ирина поджала губы. — А как же наверху…
— Ты разве не поняла меня, девочка? — нехорошо улыбнулся Корниенко.
Ирина скорчила капризную гримаску и потерлась плечом о Ракитского. Тот слегка отстранился, но не нарочито, а так, будто ему не совсем удобно было сидеть. Он медленно обвел всех взглядом и остановился на Наташе. Приподнял краешек губ и спросил негромко, зная наверняка, что его услышат:
— А почему вы ушли? Вы так помогали мне работать. Ваши глаза помогали. Вам не по душе мои песни? Или я не по душе?
— А мои помогали? — с пьяноватой требовательностью спросила Ирина.
«Она-то когда выпить успела?» — изумился Вадим.
— Что твои? — не понял Ракитский.
— Мои глаза помогали?
— А-а, — протянул Ракитский и опять повернулся к Наташе, — помогали, помогали…
Ира хихикнула и приняла скромный вид.
— Так как? — переспросил Наташу Ракитский.
Бесшумно подошла барменша и аккуратно расставила чашечки. Ракитский даже не взглянул на нее.
— У вас хороший голос, — наконец сказала Наташа. Глаза ее уперлись куда-то в подбородок Ракитскому. — Вы профессионально держитесь.
— И все? — прищурился Ракитский.
— Вы ей страшно понравились, Володя, — подал голос сияющий Женька. — Это она смущается просто, — он, как ребенка, погладил девушку по голове. Наташа мягко отстранила его руку. — Она не может все сразу вот так сказать.
— Слов нет? — ухмыльнулся Корниенко.
— Вот, вот, — закивал Женька, — именно нет. А какие могут быть слова, одни эмоции. Я, как струна, был натянут, ни разу не расслабился. Слова, как шипы, в мозг вонзались, как гвозди, вколачивались. Очень сильно, Володя, очень ёмко, очень страстно. И вроде обычно на первый взгляд, как у всех, а приглядишься, нет, иначе все, по-другому, как-то особенно, специфично, что ли. — Он говорил громко и быстро, стараясь не останавливаться, не делать пауз, потому что видел, как недоуменно-осуждающе смотрит на него Наташа и все хочет сказать что-то, но не решается прервать его. — И зал можете держать в напряжении, а это искусство — покорять. Запросто можете с залом, а это тоже архисложно… И ещё, — он запнулся вдруг, — и ещё…
— Товарищи! — загремел, перебивая его, Корниенко. Он поднялся и, недобро глядя в глубь зала, застыл в гневе, как статуя командора. — Сколько раз говорить, здесь не курят! Вот вы, в синей курточке, выбросьте сигарету или покиньте зал!
Гомон в зале стих, все вдруг заговорили шепотом.
— Наглецы! — тихо процедил Корниенко, усаживаясь. — Дай им волю…
Женька сдвинул брови, силясь вспомнить, что же он еще хотел сказать, ища поддержки, посмотрел на Вадима, но, наткнувшись на его отсутствующий взгляд, повернулся к Наташе. Та мелкими глотками пила остывший кофе и смотрела куда-то между Ирой и Корниенко. Женька сморщился и в досаде щелкнул пальцами, но Ракитский даже не смотрел на него, тонко ухмыляясь, он в упор разглядывал Наташу. Потом вытянул палец в ее сторону и разомкнул губы, желая что-то сказать. Ему помешали. Двое ребят, парень лет восемнадцати, худой, большелобый, восторженный и хорошенькая крохотная девчушка, в модном коротком платьице, остановились возле него.
— Простите, — осевшим от волнения голосом произнес парень.
— Что еще? — недовольно повернулся Ракитский.
— Мы хотели спросить…
— Наверху надо было спрашивать, — встрепенулась поникшая было Ирина. — Сейчас мы отдыхаем.
— Простите… — растерянно повторил парень.
— Это вы магнитофоном щелкали? — поворачиваясь к ним и тяжело глядя снизу вверх, спросил Ракитский. — Вы знаете, что очень сложно работать, когда все время щелкают. Это отвлекает и рассредоточивает. Думаете, это запросто, вышел, спел? — он повысил голос. — А я три килограмма за выступление теряю. Вам понятно это?
И через мгновение вспышка угасла. Ракитский расправил напрягшееся лицо и вяло поинтересовался:
— Что вы хотели?
Парень был явно задет, восторженность исчезла из глаз. Он хотел было уйти, но девчушка удержала его.
— Вы сочиняете песни о войне. И, разумеется, сами не воевали. И родители ваши не воевали, как вы говорите. Значит, генетической памяти нет…
В зале все умолкли, даже шепоток торопливый стих, только звякнул кто-то кофейной чашечкой, кто-то стулом скрипнул…
— Но есть память сердца, — опустив веки, хрипло и ожесточенно как-то начал Ракитский. — Память людских глаз, память людских слез. Есть память ожогов и ран, память смерти на вздохе. Это память живет в моем народе, и мой народ питает меня этой памятью…
— Именно ваш народ? — вдруг громко спросил парень, сделав ударение на слове «ваш». Обида скривила его губы и выстудила глаза.
Ракитский горестно усмехнулся, но ничего не ответил парню, продолжал:
— … питает меня этой памятью. Не каждому дано так чувствовать свой парод. Мне повезло, я чувствую, я слышу дыхание его, слышу плач и смех, я улавливаю те, сорокалетней давности сигналы, не всегда, но улавливаю, и тогда отбрасываю все и пишу, пишу… И сам обливаюсь потом, и ощущаю, как душит меня страх, страх смерти, ощущаю, как льет из меня кровь, слышу стоны, и стрельбу, и взрывы, а потом начинаю слышать свой стон, страшный, протяжный…
Вадим удивленно мотнул головой и, сузив глаза, внимательней вгляделся в Ракитского. Профессионально вещает, бард…
— А еще, — Ракитский медленно повернулся, так же медленно, даже чересчур медленно, поднял глаза на парня. — А еще я не хочу, чтобы вновь кому-то, через двадцать, через сорок лет, пришлось опять чувствовать новую людскую боль, новую горечь! Я хочу, чтобы у таких, как ты, были другие воспоминания, другая была память, память радости, добра, безмятежности, но не праздной безмятежности, а безмятежности от счастья жить. И это мое страстное желание тоже вдохновляет, когда я работаю…
И тут грохнул зал аплодисментами, кто-то ликующе выкрикнул: «Спасибо!»
И поэтому благодарные слова девчонки утонули в неистовом шуме.
И стоило стихнуть аплодисментам, как в тот же миг обрушились сверху,казалось с самого потолка, мощные аккорды филадельфийского джаза.
Корниенко вскочил со стула, засиял лицом, раскинул руки, будто желая обнять всех здесь присутствующих, крикнул как завзятый конферансье на новогоднем бале:
— А теперь танцы!
Одобрительно галдя, ребята спешили к лестнице.
Ракитский с ленивой галантностью склонился перед Наташей:
— Разрешите пригласить вас?
— Первый танец я танцую с Женей, — сказала Наташа, собираясь пройти мимо.
— Ну что ты, Наташенька, — встрепенулся Беженцев. — Я могу уступить. Конечно, первый танец за вами, Володя. Вы сегодня герой дня.
Женя взял девушку за плечи и подтолкнул к Ракитскому.
Когда растаяла шумливая толпа, когда последние, те, кто потише, позастенчивей, уже покидали зал, украдкой косясь на Ракитского, тогда двинулись и они. Впереди чуть развалисто Ракитский, уверенно, по-хозяйски уже касаясь Наташиного локтя, затем улыбающийся им в спину Беженцев, потом Корниенко — прямой, горделиво откинув голову, — с тесно привалившейся к нему Ириной, а уж в самом конце он, Данин, ссутулившийся, с руками в карманах брюк.
— Жорик, выпить хочу, — Ирина, жеманясь, потерлась о плечо Корниенко.
— Помолчи, — цыкнул он.
— У тебя же еще осталось наверху…
— Помолчи! — остервенело уже рявкнул Корниенко и резко обернулся. Встретившись с усмешливым взглядом Вадима, скривил зло губы, но привел их в прежнее состояние и даже попробовал виновато улыбнуться, мол, ну что мне с ней, такой дурочкой, делать?
Маленький танцевальный зальчик преобразился теперь, когда музыка заиграла, когда разноцветные лампадки под потолком замерцали.
Остановившись сбоку от лестницы, Данин провел рукой по глазам, что-то все не так ему сегодня видится, все раздражает, утомляет, неудовольствие вызывает, непримиримость, доселе ему неизвестную. Вот Наташа только…
Она уже танцевала, чуть отстранясь от Ракитского и непроницаемо сомкнув лицо, всем видом давая понять, что по обязанности, а не по доброй воле, позволила она ему себя в объятиях сжать. «Молодец, — похвалил ее Вадим, — умница». Хотя, впрочем, ему-то какое дело. Он-то чего радуется? Женька стоял рядом, заложив руки за спину, едва заметно покачиваясь в такт музыке и все так же широко улыбаясь. Но в глазах веселья не было. Это Вадим углядел точно. Ирина и Корниенко, тесно прижавшись друг к другу, как истинные влюбленные, тоже кружились неподалеку. Диск-жокей пока медленную, томную музыку предлагал, верно, рассчитывая, что пусть поначалу все притрутся друг к другу, приноровятся, приглядятся повнимательней к партнерам.
Ракитский ближе привлек к себе девушку, теперь правая рука его почти полностью охватывала тонкую ее талию, чуть склонив голову, он шептал ей что-то на ухо. Губы его касались ее щеки, левая рука уже гладила плечо, пальцы трогали волосы, шею… Наташа откинула назад голову, что-то сказала ему, поморщившись. Он усмехнулся только и опять потянулся к ее уху. Девушка отвернулась в сторону и прикусила губу. Вадим недобро усмехнулся, посмотрел на переставшего улыбаться Женьку, сунул руки в карманы и, небрежно расталкивая танцующих, направился к Ракитскому и Наташе.
— Позвольте похитить у вас партнершу, — мило улыбаясь, сказал он, остановившись перед ними.
Ракитский посмотрел на него, как на нашкодившего малыша, потом кривенько ухмыльнулся, проговорил снисходительно:
— Ну, конечно же, не позволю и посоветую не мешать нам…
И, считая разговор исчерпанным, с улыбкой повернулся к Наташе.
Вадим протянул руку, не спеша ухватил Ракитского за запястье и, не меняя развеселого выражения лица нажал на кисть:
— И все же позвольте, — вежливо попросил он.
Ракитский скривился, побледнел, но девушку не отпустил, процедил только с усилием:
— Да я тебе сейчас…
— Тихо, тихо, тихо, — Вадим рассмеялся.
А Наташа сама, уже почти высвободившись, положила ему руку на плечо. Вадим тотчас отпустил Ракитского и бережно обхватил девушку. Быстро и злобно забегали желваки на скулах у барда, льдисто блеснули сузившиеся глаза. Однако он ничего не сказал, а отступил на шаг, повернулся и, ожесточенно раздвигая танцующих, пошел прочь.
— Я не прав? — спросил Вадим.
— Правы, но, может, не надо было так грубо, — сказала Наташа.
— Как могу, — Вадим вдруг помрачнел. Надо же, она еще его и защищает.
Ракитский хлопнул дверью в директорский предбанник. Покинув обескураженного Корниенко — он так и застыл с протянутыми руками, — вслед за бардом с возгласом: «Володя, постойте!», кинулась Ирина.
Без паузы загрохотала следующая мелодия, диск-жокей знал свое дело. Наташа приготовилась уже было танцевать, но Вадим взял ее за руку и повел за собой.
— Танцуйте, — сказал он, подведя ее к Беженцеву, — пойду покурю.
И вновь неладно на душе, вновь скверно, и что-то гудит внутри тонко и занудно, или это в ушах гудит, или в воздухе, вокруг — снизу, сверху, со всех сторон, будто противный писк комариный, едва различимый, едва угадываемый, но назойливый, непрекращающийся ни на миг. Опять накатило! Откуда? Почему? За что?
Он вышел в коридор, покопался в карманах, извлек пачку, сунул сигарету в рот, полез за спичками, в кармане брюк пальцы наткнулись на сложенную в несколько раз бумажку, он вытащил ее, развернул, увидел крупные цифры телефонного номера и размашистые буквы внизу: «Уваров». Он с озлоблением скомкал бумажку, швырнул ее в угол. Все из-за этого, все из-за этого! Не замечая двух пар изумленных глаз, прошел к выходу, рванул дверь на себя и окунулся в прохладный воздух. Рука с сигаретой вновь потянулась ко рту, но в пальцах остался только фильтр с рваным лоскутком папиросной бумаги. Когда он смял сигарету? И не заметил ведь. Домой? Нет, наедине с собой нельзя. Совсем плохо будет наедине с собой. Он тряхнул головой и вернулся обратно.
Блеснули неподдельной радостью Наташины глаза, когда увидели его. Она сморщила носик, кивнула ему сдержанно, не улыбаясь, потому что танцующий с ней Женька мог заметить светящееся ее лицо и подумать бог весть что. А он и впрямь ведь мог подумать, и это было бы не совсем неправдой. Или я льщу себе, невесело усмехнулся Вадим.
Корниенко гренадером стоял возле двери в предбанник и мрачно взирал на топчущиеся пары. Вот дверь отворилась, Корниенко вздрогнул, но не повернулся, удерживая любопытство. Из предбанника, посверкивая шалыми глазами, вышла Ирина, вслед за ней показался шатко ступающий Ракитский. Приплясывая, Ирина повернулась к нему. Он сдвинул брови, взглянув на нее, потом приблизился, шепнул на ухо, и она тотчас украдкой стерла с уголков губ размазавшуюся помаду. Узрев Корниенко, Ракитский шагнул к нему, сказал что-то, похлопал по плечу, подмигнул. Тот растерянно улыбнулся и покачал головой. Ступил в сторону и скрылся за дверью. А Ракитский с Ириной уже выделывали замысловатые па под ритмы в стиле «диско». Вадим наблюдал за ними, прислонившись спиной к стене возле самой сценки, и поэтому остался незамеченным ими. Развлекается Иришка, не с тем, так с этим, не с этим, так с тем, славная девчушка… А вот это действительно славная девочка, что направляется сейчас к нему. Идет и смотрит прямо в глаза, как в кино, право слово. Глазастая, белолицая, в свободных брючках, легкой блузке. Вот те на, она приглашает его танцевать. И надо же, он не отказывается. В кои-то веки сподобился. Ну да ладно, отвлечемся. Она была легкая и ладная, с крепкой гибкой спиной, с дразнящим ароматом, шедшим от тела и даже от глаз, трогательно смущенных такой своей смелостью. Невзначай Вадим углядел постро-жавшее, нахмуренное лицо Наташи. Она прекрасно видела, как весело он вытанцовывает с этой миленькой девчонкой. Ну и пусть видит, ему-то что. А когда смолкла музыка и появившийся Корниенко объявил, что вечер закончен, и девочка, сделав книксен и с надеждой взглянув ему в глаза, медленно направилась к выходу, он с удивлением вспомнил, что так и не спросил, как ее зовут, да и вообще ни одного слова ей не молвил. Бирюк. Медведь. Вадим чертыхнулся, но догонять ее было уже поздно, да и не к чему.
— Ну наконец-то, слава Богу, — театрально воздел руки к небу Корниенко, когда дом опустел и они остались вшестером в предбаннике, — избавились от этой хивы. Как они мне надоели… Садитесь, — он широким жестом указал на кресла. — Как надоели, кто бы знал! И хоть бы кто намекнул, а не надо ли тебе, Юрочка, помочь, не надо ли замолвить словечко перед кем? У некоторых из них такие папы, ой-ей-ей. Но ничего, — увидев, что все расселись, он тоже плюхнулся в кресло. — Я сам себе дорогу пробью. Ведь на эту должность без всяких связей поставлен был, за отличную работу, за то, что умею. Я еще им всем покажу, сынкам и дочкам…
С чего-то это он разоткровенничался так? Вадим удивленно поднял брови. Не пьян ли и он тоже? Уж слишком возбужден, слишком говорлив, слишком глаза притуманенные у него, хоть и быстрые, все видящие. И опять тошнотворная волна нахлынула, опять он изматывающий комариный писк услыхал…
— Теперь отдыхаем, — объявил Корниенко и вынул из кармана пачку сигарет. — Теперь можно и покурить и еще кое-что… — он загадочно прищурился. — Ирочка, посмотри там, в моем столике.
Довольная Ира вскинулась и заспешила в кабинет, вернулась оттуда, держа в руке на треть заполненную бутылку коньяку.
— Это не разговор, — увидев бутылку, заметил Ракитский.
— С таким запасом я долго не продержусь. Кто-нибудь сходите в мою машину, там кое-что имеется. — Он поискал глазами «кого-нибудь», — Женя, сходите-ка. Вот ключи. — Он швырнул их Беженцеву, даже не взглянув, туда ли кидает. Связка упала с мягким звоном у Женькиных ног. Тот стремительно наклонился, поднял их, встал, двинулся к двери.
— Стой, Женька! — вдруг услышал Вадим свой голос. — Ему надо, пусть сам идет. Ты что?
Это было так неожиданно — молчал-молчал, и вот на тебе, — что все воззрились на него. Только Наташа не повернулась, а прикрыла глаза ладошкой, как бы от яркого света.
— Да я… — Беженцев виновато улыбнулся, смущенно пошарил взглядом по лицам. — Да мне нетрудно. Я сейчас…
— Но-но, — Ракитский резко поднялся. — Поосторожней, приятель, если я один раз спустил вам, это не означает, что и во второй раз будет то же самое.
Мучительно остро впивался комариный писк в барабанные перепонки. Избавлюсь я от него наконец или нет? Это же так тяжело, так изнурительно, так больно, когда он, едва слышимый, но невероятно выматывающий, зудит и зудит вокруг.
— А давай, — сказал Вадим с тихой злостью и тоже поднялся.
— А попробуй. Если сможешь, если получится, если решишься, — Данин вызывающе усмехнулся. — Может, и очистишься тогда, смоешь грязь вранья с себя, хоть немножко смоешь, хоть чуточку. Ну, говори прямо, что хочется сейчас сказать, не ищи слова, пусть сами они выплеснутся, ну?
— Он сумасшедший! — Ракитский опасливо вытянул руку в сторону Вадима. Ищущий взгляд его скользил по лицам сидевших. — У него не все дома. О чем он говорит?
Изумленный поначалу таким неожиданным оборотом, Корниенко пришел в себя.
— Успокойтесь, друзья, — он примиряюще вытянул руки. — Зачем нам шум? Из-за чего сыр-бор? Вы плохо себя чувствуете э… э… э… товарищ?
— Он просто завидует, — фыркнув, заявила Ира.
— Да, завидую, — не оборачиваясь, подтвердил Вадим, — завидую удивительной способности договариваться с собой. Вот это талант. Когда лжешь и ладишь с душой. Лжешь и не чувствуешь при этом ничего, кроме удовольствия. Так чудесно жить. Я бы тоже так хотел…
— Замолчите! — оборвал его Корниенко. — Вы что, и вправду рехнулись?
— О какой лжи ты болтаешь? Наглец? — Обретя защиту, Ракитский почувствовал себя уверенней. Он даже мог теперь презрительно усмехнуться.
— Я сейчас все скажу, погоди, — тяжело произнес Данин. Надо было уйти. Надо было уйти раньше, когда впервые дурноту почувствовал, когда, туманя мозг, вонзился в уши настырный зуд. Бросить все, плюнуть и уйти, и скорым шагом отмерить полгорода, так, чтоб ноги не слушались, чтоб гудели они усталостью, а потом прийти домой и завалиться спать, не раздеваясь. А теперь поздно, надо продолжать, а то совсем худо станет, если на полпути остановишься, не выжмешь из себя все, что стучится так требовательно изнутри, что переполняет тебя. Вадим знобко поежился, будто ледяным ветром его обдуло, и заговорил отрывисто и зло:
— Лжешь, когда распинаешься в любви своей к тем, кто тебя слушает, спекулируешь на этой любви, на слове этом спекулируешь. А они, дурачки, верят. Но вот двое уже не поверили, те парень с девчонкой, что внизу к тебе подошли. И половина других в сомнении теперь пребывает. Уверен… Не сдержался ты, поперло естество. Терпеть ты их не можешь, они для тебя единая тупая масса, и единственное их достоинство, что порой с обожанием на тебя смотрят… Когда прожектором себя высвечиваешь, тоже лжешь; когда усталое лицо делаешь — тоже. Готовишься ведь, исподволь, заранее. Это в театре хорошо, и то не всегда, а здесь разговор откровенный, а откровенно ты беседовать не умеешь, вот и эффекты нужны… Врешь, когда поешь про войну, про выстрадавших ее людей, про измученную страну. Наплевать тебе на людей, на войну… Просто-напросто так надо, это приветствуется. А сердце твое спокойно и бьется ритмично, и нет там места для сопереживания. Пустота там и тьма. И вообще две у тебя правды. Одна для избранных, другая — для масс. А если их две, то, значит, ни одной, значит, это вранье все. Правда — она одна на все времена… И стихи твои холодные, и правильные, не согреваешь ты их, не получается, а значит, тоже они врут…
Вадим дернул болезненно щекой и умолк. Не о том он говорит и не так, и вообще зря. Хотя не им он говорил, не Ракитскому, не Корниенко, не Ире, а себе, самому себе, и все равно зря. Ну выплеснул, ну вытряхнул наружу, что не в силах удержать был. И что? Легче стало? Да где там!.. А они растерялись, даже ошалели немного, недоуменно уставились на него, как на диво диковинное, и все понять не могут, всерьез он или играет так мастерски? Заметалась, задрожала на петлях дверь. Женька, видно, ее ногой саданул, потому что руки заняты были. Три бутылки шампанского бережно, как детей малых, прижимал он к груди.
— Вот, Володя, — радостно сообщил он. — Я принес…
И Вадим услышал тихий сдавленный стон. Обернулся. И остальные тоже, наверное, его услышали и тоже повернули головы, уставились на Наташу. Это она, посмотрев на счастливое Женькино лицо, не смогла удержаться. Она глядела на него внимательно еще несколько секунд, потом, заметив, что скрестились на ней пять пар глаз, вздохнула, пожала плечами, откинулась на спинку стула, сказала ровным голосом:
— Сколько вам заплатили, Володя, за это шефское выступление?
— Мне… Что… — у Ракитского взметнулись брови, растопырились глупо глаза. С этой стороны он уж никак не ожидал удара.
— Кто вам сказал? — возмущенно начал Корниенко, он даже приподнялся над креслом.
— По-моему, сто, — все так же не глядя ни на кого, слабо усмехаясь, сказала Наташа.
— Ирка, дрянь! — Корниенко задохнулся от негодования. Медленно поднимаясь, он пепелил глазами застывшую в испуге Ирину. — Я же предупредил!
И не нашла слов Ирина, позабывала, порастеряла их все, вот сейчас, в один миг и порастеряла, когда такое страшное, ненавистью перекошенное лицо увидала перед собой. Пошевелила только губами беззвучно, заморгала часто-часто, словно внезапный ветер ей в глаза горсть пыли швырнул, и съежилась, и подняла локоть, защищаясь.
— Ты только об этом им говорила или еще о чем? — цедил Корниенко, занося руку над ней, как для удара. — Только об этом, ну?
Ира вскрикнула и закрыла лицо ладонями. И в одночасье Вадим холодок в кончиках пальцев ощутил, как всегда перед схваткой с отцом, когда упорно и терпеливо тот тренировал его, силу свою отдавая и умение. «И хорошо, — бегло подумал Вадим, делая рывок к Корниенко, — разомнемся». Нерастра-ченность, недосказанность после дурацкого разговора с Ракит-ским в нем жила. Он вскрикнул: «Стоять!», перехватил руку Корниенко и дернул на себя. Но не слаб тот оказался. С трудом поддалась его рука — тренированный директор, — и когда за спину ее решил завести, Корниенко и вовсе руку вырвал. Вырвал и крикнул осатанело:
— Не трожь! Гад!
Вадим услышал, как с глухим стуком попадали бутылки шампанского на прикрытый паласом пол, и голос испуганный Женькин услышал:
— Вы что, взбесились?!
Корниенко дернул голову в его сторону, и готово было сорваться с его мокрых губ что-то очень злое, унизительное, но не сорвалось. Уж как он сдержал себя — одному Богу известно и ему, но сдержал. Поднес руку к горлу, сжал его, давя звуки, давя желание. Настороженно озираясь, улыбнулся выстрадан-но, сказал хрипло:
— Что это мы? Как с цепи сорвались? — улыбка стала естественней, и он погрозил шутливо побелевшему, словно высушенному вмиг, Вадиму. — Все из-за вас. Не в настроении вы сегодня. Вот и заводите всех. Ай-яй-яй.
— И ты испугался? — покривив рот мрачной усмешкой, спросил Вадим. — Боишься в глаза мне сказать, что думаешь. Что обо мне думаешь? Ненавидишь ведь меня. С самого первого взгляда ненавидишь. И боишься. За должность, за карьеру опасаешься. Журналисты здесь, разнесут еще по всему свету, и конец твоей перспективе. А для тебя это смысл жизни, — Вадим опять наливался душной липкой злобой. И принимало все вокруг изломанное, искаженное очертание: и глянцевый рояль, и толстые кресла, и овальный низкий столик. Яркий, льющийся с потолка свет тускнел, как в кинотеатре перед сеансом. — Ты мошенник, ты бесчестный вредитель, ты такой же враль, как этот псевдобард. Ты не для этих ребят работаешь, кто к тебе приходит, а для машины персональной, для дачи служебной, для всего этого осязаемого дерьма. Для тебя люди тоже масса, серая и невежественная, а ты сверх, ты супер, ты их давить, ты их топтать можешь. Ты их придушил бы собственными руками… Тебя гнать надо, взашей гнать, на сотни километров к людям не подпускать… Мыльный пузырь, сволочь…
— Вадим, Вадим, хватит! — вклинился в его беспорядочную тираду срывающийся Наташин голос. — Пошли отсюда, пошли, милый. Тебе нехорошо, у тебя температура, ты заболел, гриппом заболел. Жар у тебя. Я вижу, я знаю… — Она кинулась, подлетела к нему, погладила по волосам, по щеке, взяла за руку, потянула за собой: — Пошли, милый, пошли…
И он пошел, наклонив голову, сдвинув плечи, не глядя ни на кого, тихий, постаревший.
— Топай, топай, правдоискатель, — вполголоса бросил ему в спину Корниенко. Деланно рассмеялся Ракитский. Но Вадим даже не обернулся — зуд прошел.
На лестнице их нагнал Женька. Спускаясь, он все повторял:
— Что случилось, что случилось? Я ничего не понимаю. — и лицо у него при этом было мальчишеское, обиженное.
Машина проворно скользила по ночному уже городу, и отражался причудливыми бликами на стеклах ее, на капоте неоновый свет вывесок и печатных реклам. Гудел мотор, ненатужно, тихо, успокаивающе; трогал лицо свежий, пронзительно вкусный воздух, и Вадиму казалось, что он еще маленький и что с отцом и матерью они едут воскресным вечером с дачи. Отдохнувшие и чуть утомленные этим отдыхом, они расслабленно молчат, каждый думает о своем, отец наверняка о работе, о приближающихся буднях, о звонках из Москвы, о несданных в срок объектах; мама — о том, что бы еще прикупить на рынке или где там она еще добывает продукты; а он — о школе, о том, что всю неделю надо рано вставать, учить уроки, волноваться, вызовут, не вызовут. Но все равно настроение у него замечательное, и ему хочется напевать, и он всех неимоверно любит: и маму, и папу, и дачу, и речку.
— Никак понять не могу, — вдруг сказал он с досадой. — Что на меня накатило? Ведь чушь нес, белиберду, истины банальные, ахинею, как школьник несмышленый, только-только лбом в жизнь долбанувшийся. — Он вздохнул, покрутил бессильно головой, уставился невидяще в окно.
— И верно, Вадим, — осторожно подтвердил повернувшийся с переднего сиденья Беженцев. — Почему ты так окрысился на них? Отличные ребята. Теперь всё, — он поморщился, — теперь мне путь туда заказан. Как я им в глаза глядеть буду? Ох, Вадик, Вадик…
— Нет, Женя, — тихо сказала Наташа. Она сидела, обхватив себя руками и плечом опираясь на дверцу. — Далеко не отличные. Совсем не отличные. Совсем наоборот. Лицемерные, подленькие и трусливые. Бездушные функционеры. И тот и другой…
— Но Ракитский артист, поэт, — неуверенно попытался возразить Беженцев.
— Все равно функционер, — упрямо повторила Наташа. — Артист-функционер, поэт-функционер. И нечего там делать. Лично мне нечего. Во всяком случае, до той поры, пока этот Корниенко там заправляет.
Вадим молчал, не отрывая взгляда от окна.
— Не знаю, — Женька нервно повел плечами, — не знаю. Странные вы какие-то. Оба. Что-то выглядываете, высматриваете, примериваете, усложняете. Проше надо быть. Принимает вас человек, рад вам — значит, хороший он, и нечего в глубинах потаенных копаться. Иначе свихнуться можно. Вон как Вадик…
Он осекся, сообразив, что не то что-то сказал, прихлопнул ладошкой губы, виновато посмотрел на Наташу. А Вадим опять промолчал, не заметив или сделав вид, что не заметил Женькины слова.
— Он не свихнулся, просто взбудоражен был сильно, взвинчен. Правда? — Наташа так ласково, по-матерински взглянула на Вадима, что Женька вмиг посерьезнел, сдвинул брови и отвернулся. — И поэтому так в лоб и получилось. Так нарочито и немножко по-юношески. Вы не обижаетесь на меня, Вадим? — она легонько коснулась его руки. Данин, не оборачиваясь, покрутил головой. — Если б вы были чуть спокойней, все по-другому бы получилось. Верно?
— Конечно, конечно, — Вадим безучастно покивал. — Но надоело. Не смог. Не смог, и все тут. А, ладно. — Он махнул рукой. — Забудем. Это уже история.
Такси остановилось, с шипением притершись покрышками к тротуару.
— Вот те на, — удивился Женька. — Я уже приехал. Ну что? До свидания, мои хорошие. Не в последний раз. Еще повеселимся.
Он взялся за ручку дверцы, потом, словно вспомнив что-то, опять обернулся, как-то странно посмотрел на Вадима, потом внимательно на Наташу, спросил у нее:
— Ты домой?
— Разумеется.
— Ага, я позвоню.
— Позвони…
— Ага, — он все никак не мог уйти, все клацал никелированной ручкой. Молчаливый, пожилой, большелобый шофер нетерпеливо заерзал на кресле, и оно отозвалось вмиг бесцветным старческим скрипом, видать, не новая была машина. Женька опять обернулся, ищуще оглядел Наташино лицо.
— Может, зайдешь?
— Нет, — Наташа старалась не встретиться с его глазами. — Устала. Домой хочу.
— Ага, — третий раз повторил Женька. — А ты, Вадик? Зайди, чайку попьем, поболтаем, обсудим все…
Вадим молча покрутил головой.
— Ну хорошо, — Беженцев чересчур резко толкнул плечом дверь. — До свидания.
Ехали в угрюмом молчании. Что-то нарушил Женька в их и без того еще зыбких, еще непонятных им обоим отношениях, пугающих неизвестностью, неопределенностью, но и притягивающих в то же время томительной сладостью этого страха. И на какое-то время ощутили они себя преступниками, еще не совершившими преступления, но целенаправленно уже готовящими его, каждый в одиночку, втайне, не сговариваясь, и которых изобличили одним махом, перед самими собой изобличили и друг перед другом тоже, вскрыли их сверхсекретные помыслы. И теперь до отчаяния неловко было даже находиться рядом, а не то что говорить или смотреть друг на друга. «Ну и пусть, ну и Бог с ним, — бодря себя, думал Вадим, по-прежнему приклеившись к окну. — Она выйдет, я кивну ей. И все, и домой, и спать».
И сорвется машина с места, и растворится тонкая девичья фигурка в ночной густоте, и он не обернется даже, не махнет ей на прощание рукой, и исчезнет она из его жизни навсегда. И хорошо, и замечательно. И забудет он о ней сразу же, как только сделают колеса автомобиля первые свои обороты. Заставит себя забыть. Она же видела, как он сорвался. Слышала, как истеричным голосом изрекал он то, о чем все нормальные люди прекрасно знают, но предпочитают молчать, или намекать только, или в конце концов делать, что задумали, но не болтать попусту, выставляя себя наивным, простодушным, хотя и задиристым дурачком.
И думает она, наверное, что он глуп, недалек, упрям и еще наверняка Бог знает чего о нем думает. А слова все ее ласковые — это от жалости, от обыкновенной женской, даже не женской, а самой обычной людской жалости к убогим и юродивым. А он не привык, чтоб так думали о нем, никто не жалует свидетелей своей слабости. Я знаю о них, и это достаточно. А для всех остальных я должен быть сильным, красивым, умным, находчивым, всегда побеждающим, а если и терпящим поражение, то по своей воле, забавы ради…
Посветлели и повеселели улицы за окном, зарябило в глазах от разноцветных магазинных витрин, хотя и пригашенных к ночи, уже помертвевших, холодных, но после полутьмы ослепляющих все же, заставляющих щуриться непривыкший глаз. Такси катило по самому что ни на есть городскому центру. Вадим оторвался от окна, прикрыл глаза, давая им возможность отдохнуть, провел осторожно пальцами по векам, вздохнул тяжело и тут же спохватился, как бы не услышала девушка еще одного подтверждения слабости его. Тоже мне, вздумал вздыхать, как меланхоличная гимназистка. Как бы невзначай полуобернулся к Наташе, осторожно взглянул на нее, сосредоточенную, ушедшую в себя, красивую, и будто мгновенный ожог ощутил в груди — видел он ее раньше, точно видел, и именно во сне видел, только там и ни в каком другом месте. Он тихонько улыбнулся и откинулся размягченно на спинку, которая откликнулась ему сдавленным мяуканьем. А может, и не думает она о нем ничего плохого, вон как подскочила к нему там, в молодежном центре, вон с какой истовостью, с каким участием гладить, ласкать его стала. И если объяснить ей, может, поймет она все. Ведь она умная. Он видит, что она умная, да что там видит — знает. Это в глазах у нее. У нее удивительные глаза. Конечно, конечно, надо объяснить. А то опять недосказанность, неудовлетворенность в нем будут жить. Незавершенность сегодняшнего вечера будет его мучить. Незавершенность, случившаяся не в силу каких-либо обстоятельств, а по его собственной вине… Да и дома так скверно сейчас будет одному. А значит… значит, он предложит ей сейчас, Вадим весело усмехнулся в темноте, ею же «разработанный» план, — угостите чайком, давайте поговорим…
— Вот здесь, пожалуйста, — Наташа коснулась плеча водителя. — Напротив арки.
Как так? Неужели все уже? Вадим с невольным недоумением взглянул на девушку. А он ведь так и не успел толком ничего сказать, даже разговор ему нужный не успел начать. И он наморщил лоб и лихорадочно стал соображать, как поступить, с чего разговор завести, чтоб непринужденно это было, ненавязчиво, как нечто само собой разумеющееся. Но испарились слова, улетучились мысли, и лишь только вертелось на языке тривиальное: «Мы не увидимся больше?» И загорелось лицо, от стыда перед самим собой, от беспомощности, от невесть откуда взявшегося страха. Хорошо, что темно, еще, что не видит она пылающих жаром его щек, его вдруг намокшего от пота лба… Он открыл дверь, неловко выкарабкался задом из машины, забывшись, в последнюю лишь секунду подал девушке руку и, стараясь не глядеть в явно ждущие каких-нибудь его слов глаза, сердито буркнул: «До свидания». Она прикусила губу, кивнула лишь и, поеживаясь от холода, то ли еще от чего, пошла к дому. А Вадим безвольно облокотился на крышу автомобиля, выдохнул шумно, потерся лбом о рукав куртки.
— Ну что, едем? — недовольно спросили из недр автомобиля.
Вадим не ответил, покачал только согласно головой, словно водитель мог видеть этот его жест, похлопал ожесточенно по звонкому металлу крыши и обернулся, чтобы посмотреть на нее, на тонкую ее фигурку в последний раз. А она еще не вошла во двор. Она стояла возле арки, сцепив внизу перед собой руки и вскинув аккуратную свою головку. Вадим радостно улыбнулся и приоткрыл было уже рот, чтобы сказать что-то, сейчас уже все равно что, неважно. Сейчас слова уже ничего не значили, главное было что-нибудь сказать. Но она опередила его:
— Чаю… чаю не хотите? — донеслось до Данина. — Не замерзли? В машине холодно?
— Хочу, — с готовностью отозвался Вадим. — Конечно же, хочу. В машине холодно, и я чрезвычайно замерз. Я просто продрог. У меня зуб на зуб не попадает.
Он вытащил из кармана скомканные деньги, нагнулся, не разглядывая, сунул какую-то бумажку шоферу, с силой хлопнул дверцей и стремительно зашагал навстречу девушке.
Он не обхватил ее нежно и игриво за талию, когда приблизился (как раньше бывало с прежними, со многими прежними, кто нередко зазывал его к себе, такого уверенного, раскованного, симпатичного, интересного, — кто смущаясь, кто, наоборот, гордясь своей смелостью), не заглянул с притворной страстью в глаза, не стал болтать всякую рисковую остроумную чепуху. С кем угодно так можно было, но только не с ней. Но настроение у него было приподнятое и чуть шаловливое, и поэтому все-таки не сдержался он и состроил лицо послушного мальчика, заложил руки за спину и покорно засеменил рядом…
Она никак не могла попасть ключом в скважину. Ключик, как муха о стекло, бился дробно о металл замка и ни в какую не желал протиснуться в предназначенную для него пустоту. Вадим мягко взял ключ из холодных Наташиных пальцев и быстренько справился с замком.
— Спасибо, — с легкой вдруг хрипотцой поблагодарила девушка, зажигая в передней свет.
— Одна живешь? — спросил Вадим, озираясь. Приглушенное бра на фоне темных заграничных обоев придавало прихожей вид пещеры, в которой спелеологи забыли фонарь с подкисающими батареями. Пахло чистотой, духами, недавно потомившимися в духовке пирогами. Домом пахло.
Наташа наскоро поправила волосы перед небольшим овальным зеркалом, прошла на кухню.
— Не одна, с мамой, — ответила она уже оттуда. — Она в отпуске. На Иссык-Куле. Она у меня эксцентричная и жадная до нового. Каждый отпуск в разные места ездит.
— И такая же красивая, как ты? — Вадим оперся на косяк кухонной двери. И на кухне было замечательно. Поблескивал металлической окантовкой белоснежный гарнитур, пестрела разноцветная посуда, столик был укрыт яркой полосатой белокрасной скатертью.
Прозвенели тоненько и беспорядочно Вадиму в ответ сверкающие белизной чашки и блюдца в Наташиных руках. Она с трудом удержала их, а то бы посыпались они, резвясь и дурачась, на темный линолеумный пол, покатились бы, прячась в укромные уголочки.
— Вот безрукая, — укорила себя девушка со смущенной улыбкой.
— Так красивая? — опять спросил Данин.
— Мама? Очень, — Наташа выпрямилась и, не взглянув на Вадима, повернулась к плите.
— Такая же, как ты?
— Мама красивая, — повторила девушка. — Очень красивая. А я так. — Она неопределенно пожала плечами. — Я не считаю себя красивой и даже особо привлекательной. — Она усмехнулась: — Обычная.
— Ну уж, — возразил Вадим с притворной строгостью. — Неужто не замечаешь, как на улице на тебя смотрят, мужчины смотрят, — уточнил он, — и оглядываются. Ведь оглядываются?
Она ничего не ответила и лишь улыбнулась слабо, взяла чайник со столика, поспешно поставила его на один из трех черных металлических блинов электрической плиты, но не послушался чайник, — изящный, с кокетливой крышкой, с ярко-красным цветком на боку, — соскользнул с блина, громыхнул глухо и начал крениться угрожающе. Наташа стремительно вытянула руку, поддержала его, потянула на место, тряхнула головой, досадливо прикусила губы, сдерживая недобрые в свой адрес слова, но выпорхнули они все равно, невольно:
— Неумеха, разгильдяйка…
И, глядя на нее, Вадим вдруг поймал себя на том, что улыбается мягко, ласково, будто дочке своей, и потом через секунду, через мгновение вдруг понял, что ему хорошо, ему просто хорошо. И не тянет саднящей болью под сердцем, и не давит душная безысходная тоска, и исчезла болезненная сонливость — она исчезла и раньше, внезапно, неожиданно, и тогда надо было куда-то идти, куда-то бежать, что-то делать, все равно что, лишь бы делать, но только не сидеть в бездействии, худо становилось в бездействии. А сейчас вот и сонливости нет, и бежать никуда не хочется, и делать ничего не хочется, только смотреть на нее, долго-долго, всегда… Наташа шагнула к двери, прошла мимо, боком, боком, стараясь не задеть его и хмурясь при этом. Оттолкнувшись от косяка, он двинулся вслед за ней, все так же улыбаясь, глуповато и довольно.
Опасливо мигнула и зажглась лампа в торшере с золотистым абажуром. Наташа привычно оглядела комнату, все ли убрано, все ли на своих местах. Не удивит ли его что-нибудь, не вызовет раздражения, не отвратит. Да нет, как будто все в порядке; низкий длинный столик чист, ни единой пылинки на нем, и кресла с достоинством оберегают его с двух сторон, и диван аккуратно, без морщинок укрыт цветастым закарпатским пледом, и в книжном шкафу все нормально — ровными рядками, без зазоров, стоят на полках книжки, и комнату неярко, тепло, уютно, доверчиво освещает торшер.
— Здесь я живу, — наконец сказала девушка. — Садитесь… — Она запнулась. — Садись.
Сказала и опять не взглянула на него, куда-то за спину слова эти произнесла, и, когда он ступил к креслу, прошла мимо, опять боком, опять боясь задеть, и опять сдвинулись тонкие дужки ее бровей. Она у двери уже была, когда он удержал ее за руку, легко, но требовательно коснувшись гладкой кожи. Она не обернулась, застыла, вздернув плечики, напрягшись. Он осторожно, боясь неловким, слишком настойчивым движением доставить ей даже легкое неудобство, взявшись за плечо, рукой повернул ее к себе. Податливо подчинилась она ему, но глаза не подняла. Вадим наклонился чуть, с удовольствием вдохнул свежий, пряный — так пахнет в лиственном лесу после дождя — аромат сс тела, коснулся подбородка, но девушка отвела голову, потянула на себя руку, робко, но настойчиво, и Вадим не стал упорствовать, отпустил ее, и Наташа наконец подняла голову, посмотрела ему в глаза, благодарно, ласково, будто погладила по щеке, потом стремительно поднесла пальцы к вискам, сдавила голову крепко, сказала отчетливо:
— Дура я!
И повернулась круто, и пошла к двери, и вдруг остановилась, испуганно замерев на полушаге, потому что призывно заголосил телефон. Девушка вновь осторожно обошла Вадима, приблизилась к столику, задумчиво глядя на аппарат, взяла трубку.
— Да, — сказала она.
— Я? — Она в упор посмотрела на Вадима, и не было в ее глазах растерянности или вопроса, жестким и твердым сделался взгляд, он словно сообщал Вадиму — вот смотри, я какая! — и она сказала небрежно: — Я одна. Ложусь спать. Спокойной ночи. Завтра созвонимся.
А повесив трубку, обмякла вмиг, съежилась, меньше ростом стала, вообще меньше стала, похудела словно, ненадолго хватило ее твердости. Обхватила плечи руками, как в машине, осторожно опустилась на краешек кресла, спросила тихо:
— Дрянь я, правда? Сама во всем виновата, всегда только сама. И с ним начала сама, и тебя зата… — привела сама. Господи, прости!
За окном влажно прошуршала запоздавшая машина. Наверное, дождь прошел за те недолгие минуты, пока они здесь. И верно, вот и на стекле крохотные посверкивающие прозрачные шарики. Дождь — это хорошо, Данин любит дождь. Особенно вечерний или ночной. Он будто смывает грязь, пыль, прилипшую за день к глазам, к мыслям, к языку. Дождь — это чудесно. Он прислушался к себе, а прислушавшись, хмыкнул удивленно — ему все еще хорошо, несмотря на Женькин звонок, несмотря на то, что Наташа поблекла, потускнела, поникла, как сорванный и брошенный за ненадобностью на асфальт цветок.
— У вас это серьезно? — спросил Вадим, устраиваясь в кресле. — Курить можно?
— Кури, — кивнула она. — Я собираюсь за него замуж.
— Ух ты! — сказал он, прикуривая. — Круто.
— Ты хочешь сказать, мерзко. И гадко, — она встряхнула волосами, пригладила их машинально, выпрямилась, скривив губы, то ли в неудачной улыбке, то ли в гримасе отвращения.
— Почему гадко? — Вадим пожал плечами. — Обычно. Все хотят замуж. Нет такой, которая не хочет этого. Это ваше предназначение. А ежели не хочет, больна, значит, неадекватна. — Он с удовольствием вытянул уставшие ноги. — Обычно.
— Но я же не люблю его, — сказала она ровно и буднично и тотчас умолкла, обмерев. И, удивляясь себе, посмотрела вопрошающе на Данина, вызнавая, выпытывая испуганными глазами, не он ли произнес эти слова, неужто это она сама, вот так, запросто, выдала потаенное, глубоко упрятанное, запретное. И Вадим видел, угадывал, знал, что помочь ей сейчас надо — словом, жестом, движением — все равно чем. Знал и молчал, и сидел недвижимый. Кончился вдруг кураж, мгновенно, разом. И неинтересно стало, и скучно. Все сделалось ясным и обыденным, и не надо было играть, очаровывать, соблазнять, как там, в молодежном центре, когда интерес подогревался близким соседством жениха и неизвестностью. И не такой уж красивой она теперь ему виделась, и не такой обаятельной. «Неужто всегда у меня так будет?» — с горечью подумал Вадим.
Нахально и протяжно засвистел чайник на кухне. Наташа вскинулась и, радуясь паузе, охая, побежала на кухню. Он посмотрел ей вслед и только сейчас заметил, как призывно и соблазнительно просвечивают узкие белые трусики у нее под платьем, как грациозно семенят ее стройные длинные ноги. Он усмехнулся мысленно, все в порядке… Он ей поможет.
Она что-то разглядела все же в нем, когда вошла, неся поднос с чашками и чайником, и расправилось ее лицо и улыбнулась она слабенько каким-то своим мыслям. Разглядела или все про него себе объяснила там, на кухне, когда сердитый кипящий чайник с плиты снимала, когда любовно чашки, розетки с вареньем, блюдце с печеньем на подносе расставляла. Пустоту, безучастность в его глазах объяснила, уж чем и как — неизвестно, но оправдательное это было объяснение. Женщина, если нравится ей мужчина, всегда даже самый непристойный его поступок оправдает, найдет подходящие причины, успокоит ноющее сердце. А то, что понравился ей Вадим, в этом не сомневался, слава богу, был опыт, да и ощущалось это в каждом движении ее, в каждом взгляде, в голосе, чуть подрагивающем, да и вообще чувствовал он это, и все тут…
Бесшумно и плавно, будто соскользнули с подноса, перескочили чашки, блюдца и розетки на квадратные, свежие, хрустящие матерчатые салфетки, устлавшие стол. Наташа замешкалась, прикидывая, куда убрать поднос, потом отставила его к стене, затем снова огляделась, словно что-то забыла, вспомнив, кивнула себе, шагнула к приземистой тумбочке у дивана, нажала клавишу магнитофона, что стоял на ней, и медленно присела на краешек кресла. Неспешно, интимно запел саксофон. Стало уютней. «Суетится, волнуется», — машинально, будто о ком-то, мелькающем на экране телевизора, подумал Вадим.
— Ты, наверное, неловко себя чувствуешь? Потому что я вроде как Женина дама. Да? Мол, обман все это, — не отрывая глаз от поднесенной ко рту чашки, осторожно и тихо спросила Наташа.
Ну вот, пожалуйста, так оно и есть. Она нашла самое простое объяснение так покоробившим ее, равнодушным его глазам. Неловко, мол, тебе, потому что… Тут Вадим даже дыхание остановил, так неожиданна была мысль, поразившая его. А ведь он даже и не вспомнил о Женьке, даже не подумал о нем. Будто и не было его. Вот те на, как же так? Это что же? Так чудесна эта женщина, что заставила его забыть о друге? Или ему просто наплевать на него, как и на многих других? Он недоуменно посмотрел на Наташу и помимо воли своей сказал честно:
— А получается ведь так, что забыл я о нем… Будто и не имеет он к тебе никакого отношения.
Он засмеялся вдруг, откинулся на спинку кресла:
— Славненько получается. Славненько…
— Правда забыл? — В голосе девушки Вадим уловил едва сдерживаемые нотки радости.
— Что? — Он не понял сразу вопроса (все удивлялся себе), только нотки эти приподнятые и уловил. — А… забыл, забыл. Амнезия, частичная потеря памяти… Какой сейчас год, месяц, число, — он дурашливо ухмыльнулся. — Меня зовут Авраам Линкольн, я наследник испанского престола, завтра берем Бастилию…
Наташа изучающе вгляделась в него, легонько нахмурилась, а потом успокоенная улыбка пробежала по ее губам — она опять все себе объяснила про него.
— А ведь, собственно, и нет никакого обмана, — сказала она, полупожав плечами. — Что предосудительного, если с его другом мы просто поболтаем, поговорим, о нем поговорим… Правда?
— Конечно, — с готовностью ответил Вадим. — Я с удовольствием поговорю о своем друге. Хоть всю ночь, хоть до утра. Ты мне друг, Платон…
— Он очень хороший, — перебила его девушка.
— Он замечательный…
— Он лучший из тех, кто окружал меня до сегодняшнего вечера…
— Да, сегодня он как-то сдал, — серьезно сказал Вадим. — Может, свинка у него?
— Что?
— Может, свинкой, говорю, заболел? Болезнь такая.
— Пожалуйста, перестань. — Девушка качнулась на кресле взад-вперед, опять приложила пальцы к вискам. — Не о том мы все, не о том. Время уходит, а мы не о том! — И, помедлив, добавила: — Надо было шампанского с собой взять у этих, у бардов. — Потянулась к пачке сигарет, повертела сс в пальцах.
— Ты только не перебивай. Мне двадцать семь лет. Много. И я никогда никого не любила. И думала, никогда не встречу того, чье лицо видела с детства, и во сне и наяву, когда представляла свою жизнь… Всегда кто-то был, звонили, приглашали, добивались встречи… но все не то, не то. Нет близкого человека, нет твоего, понимаешь, твоего, единственного, самого-самого. А в одиночестве женщина жить не может. Биологически ей нельзя жить одной. У нее должен быть объект приложения сил. Это банально, это все знают, это уже навязло на зубах. Но это так. Только так, и никак иначе. Должен быть дом, быт, уклад, должна быть защищенность, тогда будет смысл существования.
— она говорила вымученно, казалось, выжимала, выдавливала из себя слова. «Не мне она все это говорит, себе, самой себе, повторяет это уже не первый раз», — подумал Вадим, участливо разглядывая девушку. — Я вдруг устала решать все сама, я стала терять опору. Я оказалась не такой сильной, какой представляла. И нужен был кто-то надежный, добрый, любящий. И если уж не любимый, если уж не случилось так, то пусть хоть любящий. Надо было строить жизнь. Я встретила Женю, и он показался лучшим из всех, кто был у меня раньше, мне не надо было тратить силы, чтобы понравиться, не надо было напрягаться, он принимал меня такой, какая я есть, с ним было просто, он был наиболее приемлемым…
«В таком случае интересно посмотреть, что за монстры у тебя были раньше», — с усмешкой хотел сказать Вадим, но вовремя сдержался. И, сдержавшись, вмиг почувствовал к себе острую неприязнь. Что с ним такое?
— …Мы встречаемся почти год,втайне. Он ни с кем меня не знакомил из друзей. Боялся чего-то, может, что уведут, мне это было приятно. Вчера мы решили пожениться. Поэтому он решил снять этот запрет. И снял на свою голову, — она усмехнулась. — А месяца два назад мне вдруг стало страшно. Как же так, я проживу всю жизнь без любви, просто так, буду просто заботиться о нем, о детях, и все… Я просидела всю ночь на кровати и думала, думала… Может, все бросить, сказать ему все и уйти?.. Но тогда я своими руками сделаю еще одного несчастного. Я же приручила его. Понимаешь, приручила. Сама, методично и целенаправленно. Я готовила его для себя, для своего будущего, и я единственная, кому он стал доверять, доверять по-настоящему. Он же не верил ни одной женщине. Все бросали его, обманывали. Ты же знаешь, он два раза был уже женат. И они изменяли ему, насмехались над ним… Когда я его встретила, он был такой, такой… подозрительный, пугливый, застегнутый снизу доверху, замороженный. И вот оттаял, подобрел…
— Почему ты мне все это рассказываешь? — подавив зевок, спросил Вадим.
— Потому что… — Она деревянно свела губы и замолчала. И стало тихо, неожиданно тихо. И не оттого, что умолк ее голос, какие-то еще звуки исчезли из комнаты. Кто-то торопливо прошагал за окном гулко ухнула подъездная дверь. Наташа выпрямилась тоже удивившись, видимо, внезапной тишине. Затем догадавшись, в чем дело, подошла к тумбочке и мягко надавила на клавишу магнитофона. Вот оно что, это всего лишь магнитофон. Щелкнула, выскочив, кассета. Наташа махнула рукой и не стала снова включать аппарат. Ни к чему сейчас была музыка. Встав вполоборота к Данину, она привычно свела вперед гибкие нежные плечики, обхватила себя руками, сказала вполголоса, но твердо и ясно:
— Потому что тот, кто снился мне и кого видела я наяву, — это ты, твое лицо я видела. И теперь не знаю как быть. С Женькой я уже не смогу…
Вот так, Данин, все просто, ясно и неотвратимо. Признайся, ты этого не ожидал. Можно было предположить флирт, интрижку, приключеньице от скуки… А здесь вот объяснение в любви, и еще какое. И ведь оно серьезно и трагично, насколько может быть серьезным и трагичным истинное объяснение. Он это видел, знал, он это чувствовал, главное — чувствовал. И что же теперь?
Встать, подняться, обнять ее, поцеловать?.. Ведь это ей сейчас нужно. Но что он может сказать ей? Что? Он же не влюбился даже. И он сидел. Она ждала, а он сидел. Как приклеился. Ему показалось, что он видел ее где-то, всего-навсего показалось, и ничего больше… И это она объяснила — когда женщина любит… Повернулась, смело взглянула на него, подошла, опустилась медленно на колени, протянула руку к лицу его, погладила по щеке, по губам, по шее. А он сидел одеревенело и, не моргая, смотрел на нее. Она дотянулась губами до его губ, горячо и влажно коснулась их. Он ответил на поцелуй, машинально положил руки ей на плечи, притянул к себе. Задрожало, как в ознобе, тело под его пальцами… И он ощутил, что минуты затишья кончились, и заныло тоскливо в груди, и саднящая боль медленно вползла под сердце, и стало до того скверно, что захотелось орать диким зверем… И еще он понял, что не испытывает никакого желания. Перед ним красивая, душистая, соблазнительная, податливая женщина, а ему все равно, ничего он не испытывает, то есть совершенно ничего. И похолодели пальцы, и будто изморозью покрылось лицо, и глаза расширились от страха. Заболел?
— Не надо, — выдохнул он, отстраняя от себя женщину. — Ничего на надо.
И отвернулся. Он не хотел видеть ее глаз, он знал, какие могут быть у нее сейчас глаза. И не хотел слышать ничего и поэтому выцедил из себя:
— Только молчи, только молчи… и прости. Я ухожу.
Поднялся и пошел. Вот так просто поднялся и пошел, только в груди кололо, а так все нормально.
— Не уходи, — услышал он за спиной. — Я вижу, тебе плохо, я сразу увидела, что очень плохо тебе. Но мы справимся, я помогу. Не уходи…
Надо же, какая бабка-угадка, все она высмотрела, все углядела, в душу к нему забралась, в самую суть, в самую сердцевину прокралась и без спросу, без разрешения. А кто тебя просил, моя милая? Без помощников обойдемся, сами справимся, не маленькие. Плохо ему, видите ли! Да замечательно мне, прекрасно, славненько… Вот заболел только. И потому домой надо. Там страхи пройдут, там один он будет, там отлежится, и все в порядке.
— Славненько, славненько, — бормотал он, возясь с замками. Они озлились словно, обиделись на хозяйку свою, противились дрожащим пальцам его, норовили все наоборот сделать. Но вот нехотя, с брезгливым лязгом отомкнулись наконец… Теперь бежать, не оглядываясь. Домой! Домой!
Ночной воздух обжег холодом. И без того лицо, руки, ноги, спина словно в инее, так теперь и вовсе ледяной коркой покроются, застынут, омертвеют, и рухнет он где-нибудь в пустом черном проулке, жалкий, беспомощный, бездыханный. И опять страх сбил дыхание, прихватил горло. Но он с усилием подавил его. Чушь, ерунда! Это ему только кажется. Он крепкий, сильный, он в норме, приболел лишь немного. Завыть бы сейчас, яростно и протяжно!
Он шел быстро, насколько позволяли уставшие, гудящие, как после сотни приседаний, ноги, и в такт шагам ожесточенно лупил себя полуонем евшими руками по бокам, согреваясь, как вымороженный француз в студеных полях Смоленщины. Почему всем чего-то надо от него? Почему все ждут от него чего-то эдакого, необычного, не как у всех? Сначала учителя в школе ждали: «Ты же можешь больше, ты способный». Потом родители: «Отец в твои годы уже замдиректора был». Потом друзья, знакомые: «У тебя все есть, ты все можешь». Потом жена: «Ты не хочешь, чтобы мне было хорошо, ты не любишь меня». Потом женщины: Иры, Нины, Алены, Маши и прочая, и прочая, теперь вот Наташа: «Надо любить, надо жертвовать, надо уметь поступиться собой». Кому надо? Зачем надо? Почему ему ничего ни от кого не надо? Почему он ни от кого ничего не требует? Он что, и впрямь на всех непохожий, а может, сумасшедший? Тихий и безвредный, параноик от рождения? Или все вокруг сумасшедшие?!
Он вдруг заметил, что кто-то вторит его шагам. Он прислушался, вправду за спиной можно было различить глухие, осторожные, но скорые, торопливые, как и у него, шаги. Улица была мрачная, притихшая, тускло освещенная. Только мостовая, по которой он вышагивал, и была видна; тротуары и тяжелые многоэтажные дома боязливо прятались в темноте. Веселенькое местечко. Что же это за улица? Он резко обернулся. Какая-то тень шагах в сорока стремительно метнулась вбок. Вадим остановился. Тишина, да и только. И никаких шагов. Опять зазнобило.
Он опасливо ступил вперед. Шагов за спиной будто и не было никогда. Значит, показалось. Ему целый вечер сегодня кажется то, чего нет на самом деле. Он пошел быстрее. Выйти бы поскорее на нормальную улицу. Еще не так уж и поздно, около часа, автобусы и троллейбусы еще ходят. И снова поспешный топот за спиной. Наваждение. А если побежать? Вадим рванул с места что есть силы. За спиной побежали тоже, грузно, всей ступней шлепая об асфальт. Будь что будет — Вадим резко остановился и круто обернулся. Кто-то очень большой, округлый проворно шмыгнул к стенам домов. Теперь было совершенно ясно, что шли именно за ним. Вот так дела. Опять похолодели руки, пальцы, и в одну точку, под ложечку, стянулись все внутренности.
— Кто ты? — звеняще крикнул Вадим. Голос придал уверенности. — Что тебе надо? Покажись, поболтаем…
Но нет, опять тишина. Значит, делать с ним пока ничего не собираются. И на том спасибо. Вадим развернулся и, вобрав голову в плечи, двинулся к высвечивающейся уже невдалеке спасительной людной улице. Странный город, стоит отойти от центра — и будто в глухой деревне ночью. И домов хоть пруд пруди, и большие они, и современные, и днем светлые, улыбающиеся весело и приветливо, сотнями окон поблескивающие, доверчиво к небу тянущиеся. А к вечеру вот в меланхолию, в унылость впадают, чахнут, видать, без света яркого, как капризные, солнцелюбивые растения, и засыпают раньше времени, смыкая беспомощно в темноте свои глаза-оконца. Надо Женьке сказать, чтобы тиснул реплику в своей газете о скудном городском периферийном освещении. Бог мой, а может, это Женька за ним топает?! Позвонил Наташе, что-то не то в голосе ее почувствовал, решил проверить, сомнения свои унять, успокоиться. Может, и вправду он? Хорошо, ближе к свету сейчас надо, там разберемся…
Вот и Енисейская, голубовато витринами подсвеченная, чистая, влажная, умытая быстрым вечерним ливнем. Теперь можно и оглядеться. Странно. Сзади никого, справа, слева тоже. Растаял преследователь, растворился в ночи. А был ли он? Был, был, это Вадим может сказать с уверенностью. Но скорее всего случайный какой-нибудь. Полуночник, бессонницей мучимый, или любитель острых ощущений. Да мало ли кто может быть. Данин повеселел, заметил, что и озноб прошел. Вздохнул расслабленно, посмеялся, покрутил головой, зашагал к остановке. Вопреки его ожиданиям автобус подкатил быстро, почти бесшумно возникнув на свет откуда-то из укромных переулков. На остановке Данин был один. Но, когда машина, качнувшись, застыла перед ним, обдав его теплом и легким бензиновым ароматом, и когда распахнула трескучие двери, оказалось, что вместе с ним взбираются в салон еще трое: два молодых сонных парня в легких курточках и толстый пожилой дядька в тесном, кургузом, мятом пиджаке, надетом на линялую футболку. Два парня безразлично скользнули по Данину взглядами и уселись, тесно прижавшись друг к другу. Тот, что в пиджаке, прошелся по салону, выискивая, куда бы сесть, хотя автобус был пустой, потом повернулся, пошел обратно. Данин, стоявший на задней площадке, встретился с ним взглядом, и ему показалось, что водянистые глаза дядьки засмеялись недобро, и Данин почувствовал, как опять замерзли пальцы и выстудился лоб. Дядька постоял с секунду еще, глядя на него, неуклюже повернулся и, кряхтя, уселся на краешек сиденья спиной к Вадиму. Преследователь тоже быть низкий и толстый. Он? Подойти, спросить? Схватить за грудки, встряхнуть? Нет, я определенно рехнулся… Спокойно, Данин, спокойно. Ты устал, прихворнул немного, вот и нервничаешь. До своей остановки Вадим простоял, крепко вцепившись в поручни. Когда разъехались двери в разные стороны и надо было выходить, он с трудом оторвал пальцы от металлической трубки. Вадим спрыгнул на тротуар, двери потянулись друг к другу, а дядька даже и головой не повел. Не он! Вадим побрел к дому. Следующая остановка была рядом. С места, где стоял Данин, можно было видеть, как автобус опять остановился и дернул дверцами. Кто-то вышел из машины. Но кто — разглядеть было трудно. Ему показалось, что это был дядька в тесном пиджаке. Вадим побежал… Подъезд. Лифт. Недолгая суета с ключами. Наконец дом. Знакомые запахи. Успокаивающий свет. Ощущение крепостной стены, защищенности. Вадим медленно опустился на табурет возле вешалки, помассировал лицо, горячее, противно покалывающее, как после долгого дня на пляже. Устал. Зверски устал. В душ — и спать. Внезапно загудевший лифт заставил вздрогнуть. Вадим поднял голову, прислушался. Лифт спустился до первого этажа и двинул обратно. Остановился. На его этаже! Шаги, тихие, крадущиеся; дверь тонкая, не обитая, — слышимость преотличная. Вот они стихли совсем рядом. Кто-то стоял по ту сторону двери, всего в каком-нибудь метре от Вадима. Данин замер. Сердце неистово таранило грудную клетку. Затекла, онемела нога, но он не в состоянии был ею пошевелить. Он оцепенел. Время остановилось. Вдруг Данину показалось, что он поймал через дверь взгляд преследователя. Вадим чуть не вскрикнул от ужаса… И опять шаги, мягкие, едва слышные, удаляющиеся. Нудный гул в лифтовой шахте. Все кончилось. Вадим с трудом встал, боясь шуметь, осторожно, как индеец на тропе войны, прокрался в комнату, подошел к окну, но вовремя вспомнил, что оно выходит на улицу, — подъезда не видно. Тогда он повернулся, прошел на кухню, ухватил стоявшую у стены громоздкую гладильную доску — подарок мамы, — приволок ее в прихожую и подпер входную дверь. Потом бесшумно разделся в комнате, забрался в постель, натянул одеяло до подбородка и закрыл глаза. Через час он заснул.
Как скверно, что он проснулся так рано. Проспать бы весь день, Да что день, неделю, месяц пролежать бы в забытьи, как медведь в берлоге, не слышать и не видеть никого и ничего. А там, глядишь, решилось бы все и без него. Он накрыл голову подушкой, в ушах звенела тишина, но сон не шел. Он заставил себя думать о приятном: о работе, о Румянцеве, о книжке очерков, но тщетно. Мысли разбегались, и перед глазами настырно появлялись Лео, Можейкина, Уваров, дядька в пиджаке, протягивающая к нему руки Наташа, целящийся ему в голову гитарой Ракитский…
Он сбросил одеяло, вскочил, морщась от головной боли, сел на кровати, вздохнул глубоко несколько раз, поднялся, прошаркал в ванную…
Есть не хотелось, да и нечего было, кусочка хлеба даже не желтело в хлебнице. Он, кряхтя, оделся. Отставил гладильную доску от двери, опасливо вышел на лестничную площадку, внимательно осмотрел кафельный пол, словно надеясь увидеть следы вчерашнего гостя, вяло усмехнулся и нажал кнопку лифта.
Пока ходил по ближайшим магазинам, не покидало ощущение, что за ним наблюдают. Он неумело перепроверялся несколько раз, то глядел в отражение витрин, то резко разворачивался и шел в обратном направлении, то неожиданно припадал к кроссовке, якобы поправляя шнурок, но не заприметил никого. Один раз, правда, встретился взглядом с молодым узколобым парнем, и тот излишне быстро опустил глаза и юркнул куда-то за спины прохожих. Но это могло быть обыкновенной случайностью. Однако ощущение неудобства и неизвестно откуда исходящей враждебности не пропадало. Он зашел на почту, решил дать телеграмму Ольге, чтобы та позвонила. Как они там? Как Дашка? Уже написал адрес на бланке и текст, но спохватился вовремя — таким образом могут узнать, где его жена и дочь. Так что надо будет заказать телеграмму по телефону.
Открыв дверь в квартиру, распахнул ее, но сразу не вошел, постоял, прислушиваясь, — в кино частенько показывают, как герой переступает порог, а там его уже поджидают злорадно усмехающиеся недруги, — но в квартире было пусто и тихо. Вадим позавтракал и опять завалился на диван. Отдохнув минут двадцать, позвонил на почту и продиктовал телеграмму. До вечера им владела привычная уже, изнуряющая маета. Читать он не мог, писать тоже, мелькающие тени на телевизионном экране вызывали злобу. Он то лежал, то нервно мерил шагами комнату. Потом позвонил Женька и, как бы между прочим, будто это его совсем не касается, справился, не заходил ли Вадим вчера к Наташе в гости; если не заходил, то не зазывала ли она его. Вадим только отрицательно мычал в ответ. Тогда Женька равнодушным голосом сообщил, что во вторник они подают заявление в загс. «Поздравляю», — с усилием пробормотал Данин. Потом они еще помолчали, а потом Женька тускло сказал: «Звони», — и повесил трубку. Данин швырнул подушку в угол комнаты и накрыл голову одеялом.
Следующий день начался отвратительно. Едва успел он отхлебнуть первый утренний глоток густого, совсем небольно опаляющего язык и нёбо, кофе, затарахтел сорвавшимся вдруг голоском телефон. Неужто недобрые известия старый мудрый аппарат почуял и задребезжал так сипло от волнения. Нехотя, неслышно, для проформы решил посигналить, авось не услышат, авось не снимут трубку с его темени. Но услышан был слабенький, боязливый зов его.
— Не умеешь веселиться, приятель, — все тот же несмешливый, ровный голос. Они! Вадим безвольно опустился на диван. — Такую дамочку оставил позавчера, вкусненькую, уютненькую. Обидел, обидел. Пошто обидел-то, аль не мила тебе? — в трубке сухо хохотнули и проговорили нараспев: — И заспешил он в мерзлую ночь…
Ну, как тут не понять, на что намекала эта сволочь. Это их толстяк топал за ним! Пугают. Их толстяк… Да кто же эти «они», черт их драл бы, гадов?! Вдруг ярость накатила, заглушив и страх, и сомнения. Потом наверняка все вернется на свои места, но сейчас только ярость владела им.
— Да пошел ты на…, сука! — остервенело отчеканил Вадим.
— Фантомас доморощенный! Падаль, гнида! Окупится все это еще тебе и твоим дружкам, поплачете еще по волюшке в сырой-то камере, пожрут вас вши в колымских лагерях, наплачетесь еще, мерзавцы! Храбрые больно… А что, ежели телефончик сейчас твой уже установили? — Вадим зло засмеялся. — И спешат к тебе уже желтые машины с сиренами…
В трубке расхохотались:
— Ну, фантазер ты, братец. Я же все знаю, я каждый шаг твой знаю. И хвалю, хвалю… Пай, пай-мальчик ты. Да, кстати, Витюша-то заявление оставил в четырнадцатом отделении, с приметами, с примерными, правда, до поры до времени, конечно. И свидетелей уже опросили.
Ну вот и все. Вспышка прошла, послабела ярость, унялась, а через секунду и вовсе испарилась, усталость ее заменила. Усталость и безразличие.
— Ну что тебе надо? Что ты вызваниваешь все? — массируя затылок, медленно сказал Вадим.
— Чтобы ты молчал, — холодно и отрывисто проговорили в трубке. Время шутливого тона кончилось. Пришла пора серьезного разговора. И все-таки смешно все это, Вадим кисло усмехнулся, как в дешевом кино… Смешно, если бы не было так страшно. Надо будет узнать, действительно ли в четырнадцатом отделении есть заявление таксиста.
— Я и так молчу, — безучастно сказал Вадим. — Причем давно.
— Мне надо, чтобы ты не сорвался, пока все не утихнет.
— А мне надо, чтобы ты сдох, — вяло заметил Вадим.
— Ну это мы еще поглядим, кто раньше, — Данин впервые уловил в голосе нотки раздражения. — И еще. Не проколись на фотографиях.
Вадим крепко сдавил трубку. «Можейкин», — пронеслось в мозгу.
— Каких фотографиях? — удивление получилось почти естественным.
— Тех, что милиция предъявлять будет.
«Точно, Можейкин. Но почему?»
— Разберемся, — вслух сказал Вадим.
— Ну-ну. Теперь совет. Выкинь сумку. Не держи дома. Мало ли что, вдруг с обыском прикатят. Найдут — не отмоешься.
— С чего это мы такие добренькие?
— Ты еще понадобишься.
— И поэтому ты меня охраняешь с помощью одного толстого идиота. Убери его, а то я разобью ему его тупую рожу.
В трубке хмыкнули:
— Разберемся… А лучше уезжай. Увольняйся и уезжай.
И вслед писклявые гудки.
Вадим задумчиво потер трубкой лоб и только потом осторожно опустил ее на рычажки. Что-то не складывается во всей этой ситуации с изнасилованием, с Лео. Не логично как-то выходит. Получается так, что Можейкин с ними заодно. Но это же нелепо. Муж заодно с насильниками своей жены. Или Вадим ошибается в своих предположениях, и «Фантомаса» предупредил о фотографиях, об опознании кто-то другой. Но не сам же Уваров? А впрочем, мало ли людей в отделении трется, — как-то где-то случайно… Но почему тогда Можейкин и сама Можейкина приходили в квартиру Лео?.. Постойте, постойте, значит, они все друг друга знают. Можейкины, Лео, его отец… Его отец… Как он смотрел на меня, словно знал, кто я, словно на всю жизнь хотел меня запомнить. Та-а-ак. Понятно. Понятно, что ничего не понятно.
Вадим хлопнул себя по коленям, поднялся. Хватит думать об этом. Все. Забыли. Так и рехнуться можно. Пусть сами разбираются. Хватит! Господи, как ноет сердце. И как все скверно, скверно, скверно…
Не дал ему неспокойный аппаратик и шагу от себя ступить. Опять позвал, и опять не звонками, а всхрапами простуженными. Так и на работу опоздать можно. Сорокин не простит.
— Доигрались! — Голос у Уварова был возбужденный и злой. — Я предупреждал.
— Что еще? — И Вадим снова плюхнулся на диван.
— Исчезла Можейкина. Муж заявил. Только что ушел от меня. Утром в субботу пошла прогуляться, в тапочках и сарафанчике, и с тех пор как в воду…
— Боже… Но так ведь сам Можейкин… — Вадим прикусил губу.
— Что сам Можейкин?
— Нет, ничего.
— Что Можейкин? — рявкнул Уваров. — Договаривайте!
— Он… Он должен знать, что она немного того…
Вадим с трудом выискивал слова, а про себя ругался на чем свет стоит. — И нельзя было отпускать ее одну.
— Эх, вы, — в сердцах бросил Уваров, и Вадим машинально представил, как тот безнадежно махнул рукой. — Я-то, наив-ныи, думал, что вы решитесь.
— На что? — невинно спросил Данин.
— Вы же знаете что-то, может быть, даже главное, основное. Я же с самого начала видел, что знаете. Я же говорил вам: подумайте, подумайте. Зло должно быть наказано, иначе оно породит новое зло, иначе мы утонем в нем. Да что вам повторять банальные истины, сами все прекрасно понимаете, не недоумок же вы в конце концов?
— Не знаю, о чем вы? — упрямо сказал Вадим.
Уваров замолчал. Вадим слышал, как тот чиркнул спичкой, затянулся:
— Ну да ладно, вы сами себе судья, Вадим Андреевич, я думаю, гораздо более беспощадный, чем тот, что в суде народном. До свидания.
— Погодите, — спешно остановил его Вадим. — Погодите… Выяснили что-нибудь новое о насильниках, если не секрет, конечно?
— Ищем Спорыхина, — без особого энтузиазма ответил Уваров. — Его нет в городе. Но найдем, найдем, если он еще жив.
Вадим неожиданно поперхнулся на вздохе.
— Это что, так серьезно? — тихо спросил он.
— Серьезно, — жестко сказал Уваров. — Вы что, еще не поняли? Вы что думаете, и Можейкина просто заблудилась?
— Да что вы меня все пугаете, — Данин попробовал беспечно рассмеяться, будто ему рассказали забавный анекдот. — Или у вас метод такой?
— Извините, я спешу, — сказал Уваров. — До свидания.
И повесил трубку.
Преувеличивает Уваров, успокаивая себя, подумал Вадим, не может смириться, что так и не вытянул ничего из него, и вот теперь хитрит: то таинственный вид напускает, то повышает голос, якобы горячась, якобы болея всей душой за дело и вынуждая Вадима тем самым заразиться его стремлением к справедливости и рассказать ему в импульсивном порыве все, что знает. Ишь ты, «Если Спорыхин жив»… «Можейкина пропала не просто так…» Болтун! Вадим, вздохнув, поднялся, взглянул на часы, ужаснулся, увидев, что уже начало одиннадцатого, торопливо направился к двери, сорвал куртку с вешалки, суетливо погремел замками и вышел.
Это просто тебе так хочется, чтобы он был болтуном. Вадим вошел в лифт, нажал кнопку первого этажа, тебе так легче, спокойней, ты умеешь с собой договариваться, наловчился делать выводы, которые тебе выгодны, которые не трогают, не задевают тебя. А если это все правда, что говорил Уваров? И ему стало жарко в темноватом прохладном лифте и показалось, что даже пот скорыми обильными струйками потек по спине.
— Вы выходите или поедете обратно? — строго спросил его кто-то.
— А? Что? — не понял Вадим. Оказывается, двери уже отворились, и перед ним, не решаясь войти, стоял пожилой мужчина в белой, застиранной рубашке навыпуск. Лицо у него было распаренным, мокрым. В обеих руках, напрягшихся, со вздутыми венами, он держал авоськи, до отказа набитые апельсинами. Куда ему столько?
— Да, да, конечно, выхожу, извините.
Солнце ударило по глазам, и выбелилось на миг все вокруг, потеряв краски и очертания. И загудело в голове от раскаленного воздуха, и Вадима шатнуло в сторону. Вот что значит больше суток без движения просидеть в квартире. Захотелось пить. Магазин был рядом. Там, кажется, продавали соки в разлив. Вадим двинулся к нему. Глаза уже привыкли к свету, и видел он все отлично, но все равно каким-то образом умудрился наткнуться на худощавую, усталую женщину. Она вскрикнула и выронила сумку на асфальт.
Вадим поспешно нагнулся, извиняясь, подал ей сумку. Женщина слабо кивнула и пошла дальше. Вот тс на, а он и забыл про сумку Можейкиной. Вернуться? Взять ее с собой? Спрятать где-нибудь? Выкинуть? А где спрятать? Вадим невольно огляделся, будто где-то здесь рядом можно было найти место, где он смог бы надежно укрыть эту треклятую улику. Внезапно он поймал чей-то взгляд, напряженный, изучающий. Кто это был? Настолько мгновенно все произошло, что он не успел разглядеть обладателя таких пытливых глаз. Люди, люди вокруг, десятки, сотни. Как тут успеешь. Выходит, что опять за ним смотрят. Вадим выругался про себя. Все раздражало. Недобрыми и враждебными казались люди, угловатыми, неуклюжими дома, пропыленными, блеклыми деревья; машины выводили из себя ставшим вдруг невероятно громким, оглушающим рокотом моторов. Он не заметил, как очутился в магазине около прилавка с соками.
Толстая продавщица безучастно спросила:
— Что вам?
И он недоуменно посмотрел на нее. Какого черта ей надо от него? И вообще, что он тут делает?
— Как вас зовут? — вдруг спросил Вадим.
— Жанна, — с туповатым изумлением ответила продавщица.
— Очень красивое имя, — сказал Вадим, покачивая головой, потом повернулся и пошел к выходу.
Продавщица покрутила у виска пальцем.
Пожалуй, сумку пока лучше не выносить из дома. Что, если «Фантомас» сказал ему о ней специально, чтобы он, испугавшись, прихватил сумку с собой, а потом где-нибудь в темном переулке встретили бы его безликие парни… Может, вправду все чрезвычайно непросто? Подойдя к остановке автобуса, Вадим оглянулся на магазин. Зачем он все-таки заходил туда?
Войдя в гулкий, просторный и прохладный вестибюль института, порадовался, что не один он опаздывает. У лифтов скопилось с десяток нетерпеливо переминающихся сотрудников. Как всегда он кому-то кивнул в ответ на приветствие, с кем-то поздоровался громко, кому-то подал протянутую руку. А кому? С кем? Даже и не обратил внимания, даже и не различил физиономий. Все они были сейчас на одно лицо. А только ли сейчас? Ведь всегда он видел в коллегах только лишь похожие друг на друга одушевленные механизмы, когда справно, а когда и спустя рукава исполняющие свои обязанности. Как там у Чехова? «На тысячу глупых у нас приходится один умный». А кто сказал, что я умный? Я сам? Без устали, изматывающе ноет сердце. Надо как-нибудь сходить к врачу. Как-нибудь. Потом. Неизвестно, когда наступит это «потом».
Длинный коридор на его этаже безмолвствовал, отдыхал от утреннего топота и гвалта. За дверями глухо стучали машинки, монотонно бубнили что-то приглушенные голоса. Стеклянно вызванивала фрамуга на окне.
Вадиму показалось, что Марина вздрогнула, когда он вошел. Она улыбнулась ему и приветственно махнула рукой. Один из «двойняшек» — второй, как ни странно, отсутствовал — (который отсутствовал, Татосов или Хомяков, Данин так и не разобрался) — аккуратно наливал себе в чашку кипяток из электрического чайника.
— Где Левкин? — спросил Вадим, с удовольствием усаживаясь на стул.
— В отпуске, — сказала Марина. — С сегодняшнего дня, домик свой благоустраивать поехал. В Рытово.
— Понятно, — сказал Данин. — Садовод, значит. Нынче все садоводами заделались. Нынче мода такая, с землей чтоб на «ты» разговаривать. Клубничка, редисочка. Полезное дело. И радость-то какая, тишина, чистый воздух. И, главное, что свое, не чье-нибудь, а свое, кровное.
— И государству выгодно, — словно не замечая его тона, вставила Марина.
— Выгодно, — согласился Вадим, раскладывая на столе бумаги, папки, справочники. — И приятно. Вишь, какие развеселые, светящиеся в пятницу с работы срываются. Тянет их всех к земле. У большинства же кровь крестьянская. А какие понурые, мрачные по утрам к рабочему месту идут, будто тягачом волокут их, а они упираются, упираются… А скажи, живите, мол, товарищи, тут круглый год, выращивайте фрукты, овощи, раз нравится, раз радость этот труд вам приносит, возмутятся, загорланят, что же мы, крестьяне, что ли? Мы городские, мы антилехенты, у нас образование, и опять на ненавистную работу поволокут себя, кривясь. У нас, по-моему, больше половины института садоводы?! А? — обратился он к Марине.
— Больше половины, — всматриваясь в Данина, подтвердила Марина. — Ты чего злой? Ты вообще в последнее время злой и дерганый. Тебе надо отдохнуть.
— Вы тоже садовод? — Вадим повернулся к «осиротевшему» Татосову или Хомякову. Бесцветное гладенькое лицо того осталось непроницаемым, длинный тонкогубый рот звучно прихлебывал чай. И только в глазах Вадим уловил злорадство. С чего бы это?
— Вы садовод, — уверенно сказал Вадим. — И причем с детства. Вон руки какие широкие, короткопалые, темные от въевшегося чернозема. — Левая рука Татосова-Хомякова, та, что была свободна, стыдливо шмыгнула под стол. — И, приезжая на участок, вы сбрасываете с себя ненавистный костюм, с омерзением откидываете галстук, с умилением надеваете поношенные, просвечивающиеся, вытянутые на коленях тренировочные штаны, заштопанную на локтях рубашку, становясь собой настоящим, потирая руку, пьянея от восторга, напрочь уже забыв об опостылевшей работе, урча как голодный кот перед обильным угощением, прыгаете в огород…
— Вадим, — попыталась остановить Данина Марина, но он и не взглянул в ее сторону.
— Верно, товарищ Татосов?
— Я не Татосов, — гася ненавидящий взгляд, сказал Хомяков.
— Тем более, — Вадим хлопнул ладонью по столу. — Вы ведь не горожанин, Хомяков, — Вадим сузил глаза, как проницательный следователь на допросе рецидивиста. — Откуда вы родом?
— Вы меня уже спрашивали об этом, — процедил Хомяков, и желваки на скулах у него ретиво забегали.
— Да? — удивился Вадим. — Не помню. Но неважно. Так откуда же?
— Вадим, хватит! — крикнула Марина. — Ты что, пьян?
Хомяков хмыкнул и, помедлив, заметил с тихой вкрадчивостью:
— А ведь у вас самого, как мне известно, участок имеется…
— А вам какое дело?! — тут же вскинулся уличенный Данин.
— Успокойся, — сказала Марина обессиленно. — У тебя впереди еще куча всего. Мне надо сказать тебе кое-что важное.
— Говори, — безразлично произнес Вадим.
Марина едва заметно показала глазами на Хомякова.
— Пойдем в коридор, — предложила она, поднимаясь. — Там прохладно. И тихо. И никому мешать не будем.
— Там негде сидеть, а я устал, — капризно протянул Вадим и нарочито небрежно развалился на мягком стуле. — А почему бы товарищу Хомякову не оторваться от своей замечательной, тщательно оберегаемой чашечки. Вы, кстати, бы ее цепью к ножке стола приковали. Нет, лучше к радиатору отопления…
— Вадим, — опять оборвала его Марина и сделала осуждающую гримасу, легонько постучала себя пальчиком по лбу.
— И все же, товарищ Хомяков, — Вадим выпрямился и говорил теперь строгим, официальным тоном. — Соблаговолите покинуть помещение во избежание скандала и, не исключена возможность, отвратительной потасовки. — Он с трудом сдерживал смех, он давился им, и в уголке левого его глаза вдруг вспухла крохотная слезинка.
— Да что с тобой наконец? — не сдержалась Марина. — Что ты привязался к человеку…
— Не защищайте меня, Марина Владимировна, — подал голос Хомяков. Он деловито завернул в хрустящую пергаментную бумагу сполоснутую кипятком чашку, спрягал ее в стол и два раза крутанул ключиком. — Я сам могу постоять за себя.
— Ого, — сказал Вадим.
— А что касается того, что вы хотите конфиденциально сообщить товарищу Данину, так я уже в курсе. Все уже в курсе. Только один товарищ Данин не в курсе. Потому что он привык опаздывать на работу, потому что он думает, что ему все дозволено. Другим не дозволено, а ему — пожалуйста. — Хомяков дернул губами и опять с усилием пригасил взгляд. — И если вам, Марина Владимировна, не совсем приятно сообщать эту новость, то за вас это могу сделать я.
— Да нет, не надо, спасибо, — растерянно поблагодарила Марина.
— Ну-ка, ну-ка, давайте, любезный, — посмеиваясь, проговорил Вадим.
— Завтра состоится заседание месткома, — Хомяков сделал паузу, потому что больших усилий ему стоило впервые за все время знакомства не отвести взгляда и не опустить скромненько головку к груди. — Где будет разбираться поведение товарища Данина. Ко всем прочим его «геройствам» прибавилось и еще несколько достойных внимания фактиков. И порядочные люди не позволят себе пройти мимо них. И как ни прискорбно, заседание это может кончиться не просто внушением или выговором, но и кое-чем похуже.
Хомяков неторопливо встал, презрительно сжал губы, убийственно, как ему, верно, казалось, взглянул на Вадима, победительно вскинул голову, так что бросились в глаза густые кустики волос, торчащие из его ноздрей, и с достоинством покинул комнату.
Вадим, хмыкнул, показал вслед Хомякову язык и повернулся к Марине:
— Что за чушь он здесь нес?
— К сожалению, не чушь. — Марина тихо вздохнула и полезла в сумочку за сигаретами. — Так оно и есть. Помимо опоздания, помимо случая с Кремлем, помимо жалоб на твое не совсем учтивое поведение, появились еще и анонимки.
— Что за вздор? — Вадим медленно стер улыбку и брезгливо прищурился. — Какое поведение? Я никогда ни с кем, кроме как с улыбочкой, с шуточкой…
— Вот именно, с улыбочкой, с шуточкой, как сегодня…
— Анонимки какие-то, — Вадим пожал плечами. — Какие анонимки? О чем?
— О пьянстве и разгульной жизни…
— Что? — Данин подался вперед. — Да бог с тобой… Бред какой-то.
— Не бред, — возразила Марина, она затягивалась скоро, порывисто, как студент перед звонком на лекцию. — Просто тебя не любят.
— Не любят… не любят… — повторил Вадим, старательно выбивая пальцами дробь на столе. — А кого любят? Татосова? Хомякова? Сорокина? Кого любят? Да всех не любят, и тебя не любят. А? Нет?
— Не любят, но вреда не желают, а тебе желают.
— Но отчего, отчего?
— Потому что видят, что они для тебя ничто, потому что смеешься над ними, потому что ходишь вальяжно, да просто потому, что ты — это ты, а они — это они. Не такой. Непонятно?
— Понятно. И ты тоже?
— Что тоже?
— Ну не любишь?
— Вадим, я серьезно, — с неумелой строгостью сказала Марина.
— Уж куда серьезней.
— Тебе не обо мне сейчас думать надо, а о том, как защищаться.
— Фу, глупость. Да никак не защищаться. Да плевал я на них.
— Он ухмыльнулся, — а я не приду, я заболею…
— А потом ведь опять.
— Ерунда, обойдется, — он устало махнул рукой. — Разберемся. И хватит об этом, надоело, — но он все-таки досадливо дернулся. — Надо же… Праведники.
— Я уже кое с кем поговорила. — Марина нервно растерла недокуренную сигарету в пепельнице. — Есть достойные люди.
— А вот этого не надо, — Вадим вытянул вперед ладони. — Сами уже как-нибудь. Худо бедно, а головка имеется.
— Ну, хорошо-хорошо. Забыли до завтра.
В половине второго он оторвался от бумаг — работалось, как ни странно, в охотку — потянулся сладко, осмотрелся, комната была пуста. Вспомнил, что Марина говорила что-то про соседний универмаг. А коварный Хомяков, видимо, гуляет по бульварам с Татосовым. Они каждый обеденный перерыв гуляют по бульварам и, опасливо озираясь, вполголоса о чем-то беседуют. Строят планы грандиозного ограбления? Размышляют, как бы удрать в пампасы от постылой жизни? Желудок был пуст и, несмотря ни на что, требовал к себе внимательного отношения.
Вадим спустился на третий этаж, Приблизился к стеклянным дверям светлой огромной и, несмотря на величину, уютной, ухоженной столовой и неожиданно остановился. Сколько людей? Сидят, стоят, бегут, жуют, чавкают, глотают, потеют, спешат, говорят, хохочут. И почти половину из них он знает. И никому, то есть совершенно никому из них, нет до него дела, и ему нет дела ни до кого из них. Деревьям в лесу больше дела друг до друга, чем им.
— Да плевать я хотел, — пробормотал Вадим, невольно пятясь назад. — Разберемся, все будет славненько.
За полчаса до конца рабочего дня Марина засобиралась вдруг, вскинулась с двумя толстыми сумками, объяснила, смущенно улыбнувшись:
— Опаздываю, надо маме с проводницей продукты передать. Дефицит. Мама любит вкусно поесть, совсем как ты.
Вадим вспомнил, что Марина родом из поселка в двухстах километрах отсюда, там мать, сестра. Поравнявшись с ним, женщина наклонилась, прошептала скороговоркой:
— У меня в ванной с краном что-то. Зашел бы сегодня.
Вадим внимательно посмотрел на нее и неожиданно для себя кивнул:
— Зайду. В семь. Нет, в полседьмого.
— Правда? — выдохнула она недоверчиво.
Вадим опять кивнул.
Татосов с Хомяковым о чем-то пошептались, поглядывая в сторону Вадима, и через пятнадцать минут тоже ушли, хотя дисциплинированный Хомяков возражал и упирался. А без пяти шесть раздался голос «ворона» — черного местного телефона, сорокинского.
— Зайдите, — коротко обронил Сорокин.
Он вошел в кабинет спокойно, уверенно, с легкой, фатоватой ухмылочкой и напоминал сейчас себе храброго поросенка Наф-Нафа из известной сказки, который совсем не боялся волка и любил напевать про это песенку. Вадим, правда, песенку не напевал, но слова ее вертелись у него в голове, оттого, подойдя к столу, он ухмыльнулся шире: и, заметив такую наглую гримасу на лице подчиненного, Сорокин поморщился и решил начать сразу, не замазывая поначалу расплывчатыми фразами истинную суть предстоящей начальственной беседы. Вадим же без приглашения уселся на стул напротив, подвинул к себе газету и, не стесняясь, принялся изучать программу телевидения.
— Вы, наверное, уже все знаете? — начал Сорокин.
— О чем? — с готовностью отозвался Вадим.
— Завтра профком. Разговор будет идти о вас.
— Да, слышал краем уха. Болтал кто-то. Не помню.
— Разговор будет серьезный и нелицеприятный, — Сорокин сцепил пальцы в замок. — Вам будет очень и очень не по себе. Так же, как и всем нам. Очень много нелестного в последнее время говорится о вас. Поступают жалобы на вас и из других организаций. К тому же есть сведения, что вы замешаны в не совсем красивой истории с изнасилованием, что вами интересуются прокуратура и милиция. Есть сигналы, и половина из них уже проверена, что вы ведете аморальный образ жизни, пьете, встречаетесь с не совсем порядочными женщинами…
Вадим негромко рассмеялся. Конечно, можно было сейчас поспорить, постучать себя по груди, потребовать, мол, позвоните в прокуратуру, в милицию, узнайте, каким таким боком я замешан в изнасиловании, можно было бы настоять на установлении авторов анонимок, на самой тщательной проверке фактов, изложенных в них, и, кто знает, может, все и обошлось бы. Но он понял, что ничего этого не скажет. Не сможет. Не пересилит себя, не получится. Как ни старайся, а не получится.
— И зачем вы мне все это говорите? — без всякого интереса спросил он.
— Пока обо всем знают несколько человек. А завтра будет знать весь институт. Разнесут по городу. Вам трудно будет работать. И еще труднее будет найти другую работу.
— А-а-а, — протянул Вадим, словно догадался о чем-то. — Вы хотите, чтобы я написал заявление по собственному? Да?
У Сорокина втянулись щеки и несколько раз пропульсиро-вали желваки. Он промолчал.
— Ну что ж, — просто сказал Вадим. — Извольте. Бумажкой не подсобите?
— У вас в кабинете много бумаги, — глухо проговорил Сорокин.
— Ну нет уж, — весело отозвался Данин. — Я бы хотел здесь. Мне так удобней.
Данин запросто пошуровал на сорокинском столе, нашел чистый лист, вынул ручку, быстро написал заявление с завтрашнего дня, лучисто улыбаясь, подал его Сорокину. Тот, не глядя на Вадима, пальцами взял мелко вздрагивающую бумагу и тут же отложил ее на край стола.
— Все? — спросил Вадим, не переставая солнечно улыбаться. — У меня, простите, плохой почерк, но, думаю, поймете. Там всего одна фраза и подпись. А на чье имя написано, вы и так знаете. Могу идти? Или позволите все же в глаза вам взглянуть?.. Нет? Да? Не желаете. Ну, прощайте.
И Вадим поднялся, потянул пиджак за лацканы, чтобы сел плотнее, чтобы ощутили мышцы жесткую заморскую его ткань. Данин ловчее, свободнее себя чувствовал, когда вещи чуть маловаты были, когда чуть стягивали плечи, спину, когда слегка движениям мешали, потому что оттого движения четче, резче, красивей становились. И сейчас Вадиму очень важно было, чтоб уверенным, сильным, насмешливым он виделся. И так оно и было, наверное, потому что, настороженно скользнув по нему взглядом, Сорокин опять заговорил и теперь уже совсем тихо и с трудом:
— Нам с вами было бы тяжело работать, и чем дальше, тем хуже. Хотя, казалось бы, кто вы мне — один из многих. Но… — пальцы его подхватили карандаш и рьяно терзали его, словно хотели разодрать в щепы. — Плюс ко всему жалобы, письма. Да и вам самому ни к чему огласка…
«Оправдывается, — с легким удивлением подумал Вадим. — Впервые вижу и слышу. Тем более передо мной. Странно. Не укладывается в его характер никак. Или мы его плохо знаем? Или это не его решение? — Вадим, сузив глаза, внимательно вгляделся в Сорокина. — Не его решение… Не его решение. Чье же?»
— Вы Можейкина знаете? — недослушав Сорокина, отрывисто спросил Данин. Последние дни Вадим никак не мог определить, кого же ему напоминает Сорокин своей готовностью выпрямиться или же в нужную минуту подобострастно согнуться. А вот теперь вдруг вспомнил. Можейкина!
— Что? — выдохнул Сорокин. Толстенький карандаш вывалился из его пальцев и глухо шмякнулся о стекло. — Кого?
— Можейкина, — вкрадчиво произнес Вадим и наклонился, опершись руками на стол, попробовал заглянуть Сорокину в лицо.
— Не слышал, не знаю, — медленно, почти не раскрывая рта, произнес Сорокин. Веки его дрогнули, налились вмиг краснотой, отяжелели и, казалось, совсем скрыли глаза. — Не знаю, — повторил он с нарочитой неспешностью, взялся за какую-то папку на столе и положил ее перед собой.
— Правда? — выпрямляясь, почти искренне удивился Вадим. — А он рассказывал, что знает вас. Ошибся, наверное, перепутал…
— Наверное, — ответил Сорокин, весь, казалось бы, сосредоточенный на крепко завязанных тесемках папки.
— Я непременно скажу ему об этом. — Вадим предъявил свою самую наглую ухмылку, развернулся, сунул руки в карманы брюк и, не прощаясь, пошел к выходу.
В приемной весело и призывно почмокал губами и подмигнул некрасивой, широконосой секретарше Нине и, получив в ответ осуждающий взгляд, громко расхохотался.
В комнате улыбка в одночасье сбежала с его губ. Лицо словно высохло, омертвело. Он ощутил, как натянулась кожа на скулах, на подбородке. И ему захотелось выть, как бездомному, никому не нужному псу. И он не сдержался и рыкнул разъяренно и, наклонившись над столом, двумя руками снес все с него на пол; грузно обвалились папки, дробно простучали по полу карандаши и ручки; накренилась и не торопясь стала заваливаться настольная лампа; радуясь полету запорхали в воздухе бумаги. А вслед загромыхали, ударяясь об пол, ящики, которые он осатанело выдвигал и с наслаждением грохал об пол. А потом он устал и долго сидел на стуле, а потом пошатываясь вышел из кабинета и, лягнув за собой дверь, сгорбясь, зашагал по коридору.
Город встретил гомоном и суетой. И жарой. Но ослабевший уже, притомившийся от дневной неудержимости своей. На очереди был вечер, и посланец его — легонький,стеснительный, но настойчивый, прохладный ветерок — неторопливо и методично уже отгонял духоту. Гомон и суета вывели Данина из оцепенения, а игриво тронувший горячее лицо ветерок помог привести мысли в порядок. Насколько это было возможно, конечно, потому что голова была тупая и тяжелая, и думалось с трудом, и Вадиму чудилось, что он даже слышал, как шуршат мысли, не без усилий выстраиваясь ровным рядком. Можейкин с ними заодно. Теперь это ясно. Сначала информация о фотографиях, потом реакция Сорокина на его имя. Но почему? Что Можейкина связывает с ними? И вообще, кто же они? И что им нужно? И когда все это кончится? Это были первые вопросы, которые Вадим задал себе, когда в тенистом, притихшем к вечеру переулке отыскал лавочку и, кряхтя, опустился на нее. Но как ни силился, как ни пытался, как ни прикидывал все так и эдак, так и не ответил на них. Все было непонятно и запутанно. «А почему это я спрашиваю себя? — вяло подумал Вадим. — А почему бы мне не спросить… — он вдруг выпрямился, как охотничья собака, завидев дичь. — Почему бы не спросить Можейкина?!»
И вот он уже в телефонной будке, и пальцы, срываясь, крутят железный диск. И вот, лихорадочно постукивая ногой, он нетерпеливо ожидает, когда же наконец прервутся монотонные, безучастные гудки и любезный голос ответит: «Слушаю!»
— Слушаю!
— Это Данин.
— Рад, безмерно рад. Как самочувствие? Как настроение?
— В норме…
— А у нас несчастье, — Можейкин громко всхлипнул, будто чихнул.
— Я в курсе, — сказал Данин. — Куда вы сс дели? Убили?
— Что-о-о?!
— Труп-то вывезли из города? Или он все еще под кроватью подгнивает. Посмотрите, там он еще или нет. Я подожду.
— Да как вы… Да как… — Можейкин захлебывался, как утопающий. — Негодяй!
— Да будет вам, — усмехнувшись, сказал Данин. — Уж передо мной-то не разыгрывайте идиота. И попробуйте ответить на три вопроса. Если не ответите, я приеду и вытрясу из вас ответы лично. Первый. Что вы делали с женой у Спорыхи-на?..
— Второй. Кому и зачем вы сообщили, что мне в милиции предъявляли фотографии предполагаемых преступников? Третий. Какую цель преследовали, когда попросили Сорокина уволить меня с работы? Перестраховались?
— Глупец, — после паузы сказали в трубке, голос показался Вадиму чужим, жестким, чуть брезгливым. Несомненно, это был голос Можейкина, но совсем не того, которого Вадим знал раньше. — Мне жаль вас, — Совсем тихо произнес Можейкин, и тотчас заныли в трубке беспокойные гудки.
— Сволочь! — выругался Вадим и полез за монеткой. Но бесполезно. Трубку не брали. — Сволочь! — болезненно дернув щекой, повторил Вадим.
Ехать к нему? Не откроет. Вадим скривился и сплюнул.
Машинально он полез за сигаретами и, вынув уже пачку, стал похлопывать себя по карманам в поисках спичек, но, обнаружив их, извлекать не стал, потому что какое уж тут курение, когда рот такой сухой, что язык липнет к нёбу. Оказывается, это не просто литературный образ, а на самом деле так бывает — язык действительно липнет к нёбу. Вадим сунул пачку обратно, привычно заложил руки в карманы брюк, нахмурился, свел плечи, как обиженный ребенок, и побрел по переулку. На углу торговали квасом. Но не из бочки, а из ларька, там, внутри, вместо бочки стоймя были приспособлены баллоны, похожие на небольшие морские торпеды или авиационные бомбы. Ныне все больше из ларьков торговали квасом. И это было не так живописно, как-то буднично и обыкновенно. Желтобокие бочки всегда радовали глаз, а ларьки и не замечаешь-то толком. Очередь была небольшая, и Вадим встал, а то вот так походишь еще, и, когда доберешься до дома, язык от нёба руками придется отрывать. Дородная женщина в белой панамке над пористым рыхлым лицом, наклонившись, поила из крышки от бидона деловитую хитроглазую собачку. Лакая квас, та аж захлебывалась от удовольствия. Вадим видел, каких усилий пожилой женщине требовалось, чтобы стоять вот так, согнувшись, но она героически выдерживала эти муки, только лицо чуть исказила гримаса напряжения. «И не породистая даже, — грустно усмехнувшись, подумал Вадим. — Самая натуральная дворняжка. Маленькая, худенькая, хвостик крендельком, а, гляди ж, как ее любят, сколько испытаний претерпевают». В окошке ларька проворно мелькали багровые руки продавщицы. За стеклом, уставленным пачками сигарет, ее саму не было видно, и казалось, что руки принадлежат ларьку, что это не просто ларек, а ларек-робот. Вадим сунул три копейки этим рукам и поежился — так явственно он представил, что это не человеческие руки, а только очень похожие на них искусственные.
Квас был холодный и вкусный. И терпкий, и невозможно было от него оторваться. Широколицый, плечистый парень в майке с поблекшим олимпийским мишкой тоже никак не мог оторваться от кваса, только пил он не из кружки, а прямо из бидона. Кадык у парня ритмично елозил туда-сюда, и в горле утробно булькало. Парень оторвался от бидона, восторженно посмотрел на Вадима и сказал, выдыхая: «Квас — класс, особливо после этого дела!» — и заговорщически подмигнул. Вадим вежливо улыбнулся и поставил кружку на прилавок. Он не сделал еще и двух шагов от ларька, как вдруг ему стало не по себе, показалось, будто кто-то осторожно провел по затылку. Он резко обернулся. Парень, прищурившись, внимательно смотрел на него. Через мгновение, спохватившись, опустил глаза, лязгнул крышкой, закрывая бидон, и пошел по переулку.
«Я схожу с ума, — подумал Вадим, холодея, — мания преследования. Скоро начнут мерещиться террористы из красных бригад с динамитом под мышками». Но шутка не помогла, ощущение неудобства не проходило. Чудилось, что за ним наблюдают. Вадим провел двумя руками по лицу, глубоко вздохнул и двинулся, дальше. На улице Гоголя его любезно втянул в себя людской поток. Среди занятых своими мыслями, сосредоточенных людей он немного успокоился. Шагая к ближайшей остановке, он несколько раз оглянулся, но никого, кто бы мог наблюдать за ним, не заметил. Но почему же тогда так напряжена спина? Почему по затылку бегают колкие мурашки? Домой идти расхотелось. Да и что делать в пустой тихой квартире. Хорошо бы сейчас кому-нибудь поплакаться. Безалаберно и бессвязно выложить все, что наболело, все, что мучит, услышать доброе слово в ответ, увидеть участие в глазах, пусть мимолетное, пусть не совсем искреннее, но участие. Он остановился возле телефонной будки. Весь день будка пеклась на солнце, и теперь в ней словно застыла полуденная жара. Кому позвонить? Вадим вынул записную книжку, полистал ее. Вон сколько телефонов, а звонить некому. Женьке? Глупо. Володьке, школьному приятелю, у него своих проблем хватает, третьего родил. Наташе? Он не знает ее телефона. Да и зачем? Этому? А может, этому? А может, этой? А? Кому? Сколько приятелей, приятельниц, а будто и нет их вовсе. Чья вина? Жизнь такая суетливая, деловая? Или им всем просто наплевать друг на друга? Но с кого-то ведь это началось? С них? С него? Почему он в последнее время думает об этом? Мимо будки спешно с достоинством прошествовал высокий худой милиционер. Капитан. А в каком звании Уваров? Вот напасть, опять этот Уваров! И Вадим почувствовал, как жаром, большим, чем в будке, полыхнуло лицо, и он ударил с силой по стеклу. Несколько прохожих удивленно повернулись к нему. Данин спрятал книжку, достал монетку и принялся набирать номер.
— Марина, — сказал он, когда монетка провалилась. — Это Вадим. Сейчас зайду. Какой адрес? Ведь я ни разу еще не был у тебя.
Совсем недалеко от Центра, оказывается, она жила, в семи остановках от их института, от улицы Гоголя, в громоздком кирпичном, в форме буквы «П» доме. На первом этаже был магазин, и поэтому в мрачноватом холодном дворе было полно ящиков и пряно пахло бакалеей. И в темном сыроватом подъезде тоже пахло бакалеей. Он вышел из лифта на шестом этаже, нажал кнопку звонка. И тотчас мастерски обитая коричневым дерматином дверь отворилась, и широко улыбающаяся Марина предстала перед ним в тонком вишневом платье.
— Слесаря вызывали? — спросил Вадим, с удовольствием разглядывая женщину.
— Вызывали, давно вызывали, — сказала Марина, отступая в глубь квартиры и жестом приглашая его следовать за ней. — А он все не идет и не идет. Я уже решила пожаловаться в райисполком на такое безобразие.
Войдя, Данин, потянул носом и сделал удивленное лицо.
— По-моему, свинина с чесноком?
— Да, — со вздохом сказала Марина. — Вот только так и можно заманить нерадивого слесаря.
Прихожая сильно смахивала на Наташину, тоже эдакая пещерка, скупо подсвеченная настенным светильником. Мода, видно, нынче такая. Но неплохо. Смотрится. Вадим заметил, что Марина скользнула взглядом по его рукам. Он хлопнул себя по лбу.
— Идиот. Забыл цветы, шампанское. Я сейчас сбегаю…
— Ладно уж, — Марина слабенько усмехнулась и махнула рукой. Обойдемся и без ваших подарков.
«Не понравилось, — подумал Вадим. — А почему, собственно? Кто кого приглашал? Я не набивался».
— Снимай туфли, — Марина нагнулась и вынула из обувного ящика растоптанные, крупные, заносчивого вида тапочки.
— Что? — не понял Вадим, и брови его поползли наверх.
— Тапочки, тапочки надевай, — повторила Марина.
Вадам представил себя в модном бежевом пиджаке, в черных брюках и в тапочках, и ему стало смешно, и он на мгновение пожалел, что пришел сюда.
— Марин, — сказал он. — А ты так и не ответила на мой вопрос.
— Какой? — Марина нетерпеливо ждала, пока он снимет туфли.
— Все меня не любят. А ты?
Марина чуть склонила голову вбок и произнесла с усталой улыбкой:
— Ну не так же сразу. И не у порога.
— Именно сразу и именно у порога. Чтоб все было ясно.
Он качнулся вперед, ловко ухватил Марину за талию, привычно и сноровисто притянул женщину, напрягшуюся вдруг, одеревеневшую, к себе, склонил голову, хотел ткнуться мягко губами в полуоткрытый ее рот, но ускользнули плотно сжавшиеся, тугие ее губы, отвернулась Марина, запрокинула голову, уперлась руками ему в грудь.
— Ну так как, любишь, нет? — еще крепче, несмотря на сопротивление, прижимая к себе девушку, спросил Вадим.
— Пусти, — скривившись, потребовала Марина. — Пусти, больно.
И он убрал руку, резко, и, усмехнувшись, подался назад. Поправляя платье, Марина покрутила головой.
— Все сразу тебе подавай, привык, что девки на тебе виснут. Привык, что и обхаживать их не надо. Раз, два — и готово. Подошел. Поцеловал, как меня в институте. А я по-другому хочу, — она коротко взглянула на него, неуклюже как-то повернулась и пошла в сторону кухни.
«Капризничает, — подумал Данин, не без удовольствия понаблюдал за колыханием легкого платья и опустил взгляд ниже. — А ноги у нее полноваты», — отметил он.
— Тапочки надень, — через плечо бросила Марина.
Он развел руками и все-таки снял туфли и облачил ступни в мягкие, великоватые тапочки.
Первым делом в комнате стол в глаза бросился, уже сервированный разноцветным посверкивающим хрусталем, марочным коньяком и икрой; и хотя много на что в этой комнате посмотреть можно было: и на стенку дорогую с десятками ящичков и дверок, и на надменные золотистые кресла, и на диван, тоже золотистый, призывно манящий, и на пуфики разные, заграничные (от прежнего мужа все это осталось?), а вот стол был приметней всего: он ожил, словно такой сладкий груз на себя взваливая, в нетерпении друзей своих ожидая. «И когда успела-то?» — подумал Данин и удивился, что при этой мысли не ощутил теплоты и нежности к Марине. Он пожал плечами, хотел сесть за стол, но решил не нарушать пока его праздничный покой, шагнул к креслу, присел на подлокотник. Да, симпатичная квартирка, ухоженное гнездышко, богатенькое. И впрямь, видать, от бывшего мужа все досталось. Не злопамятный мужик, наверное. Вадим опустил голову, чтобы рассмотреть ковер, и глаза опять уткнулись в тапочки. Он чертыхнулся и, кряхтя, снял пиджак. Так будет лучше, все же по-домашнему как-то. А теперь надо бы и умыться, раз такое дело. Он прошел в ванную, чистую, душистую, с овальным зеркалом, с подзеркальником, уставленным пестрыми шампунями, дезодорантами, кремами. Чуть прищурившись, внимательно посмотрел на свое отражение и, не понравившись себе — бледный, угрюмый, потухший, — опустил голову и подставил руки под теплую струю. Вытираясь полотенцем, вдруг понял, что нестерпимо хочет домой.
— Что затих? Утонул? — донеслось из кухни через приоткрытую дверь. Голос был чуть с одышкой — от горячей плиты, от готовки, от торопни, но звонкий, веселый, даже чересчур веселый, эдакий пионерский голосок, мол, долой печаль, запевай отрядную! — Ты, часом, там не ванну принимаешь?
— Целую ванну тяжеловато, — пробормотал про себя Данин.
— Если б грамм сто пятьдесят принять…
А вслух сообщил:
— Примеряюсь к кранам, понимаешь ли. Я ж как-никак за ним делом приглашен был. За этим замечательным мужицким делом.
Он сидел на краю ванны и шевелил пальцами в просторных увесистых тапочках. «Зачем ей такие здоровые тапочки, — вскользь подумал он, опять посмотрев себе под ноги. — На вырост, наверное, купила или…»
— Чего? Чего? — послышалось с кухни. В интонации голоса уловил что-то новое. — Мужицкое дело? Ух ты мужик нашелся!
Марина хохотнула чересчур громко. — Мужчинка ты. Самый натуральный мужчинка. Ты и делом-то мужским никогда не занимался небось? А? Все игрушечки-финтифлюшечки.
Он в первые мгновения усмехнулся вяло и даже несильно махнул в сторону кухни рукой, не болтай, мол, попусту, подруга, а потом залился вдруг краской жарко, уродливо скривился, больно потер переносицу. «Это она мне? — подумал. — Дрянь!» — встал стремительно, замахнулся ногой и шмякнул один тапочек о стену, потом другой ногой замахнулся и второй тапочек шмякнул.
— Это она мне? — сказал вслух цедяще и угрожающе — внутри все кипело, бурлило, дымилось — саданул ладонью по двери, вышел, стремглав пронесся в комнату, схватил пиджак, а он ни в какую — зацепился за что-то — принялся рвать его, нервно и дергано и приговаривая: «Дрянь! Дрянь!» А потом стул накренился и пробалансировал мгновение на одной ножке, как циркач на канате, и неспешно стал заваливаться на бок, а потом упал с глухим стуком и затих, будто умер, — с измятым пиджаком на плечах. Данину что-то не понравилось во всем этом незначительном происшествии: то ли покойницкий вид стула, то ли еще чего, и ему не по себе стало, и он нахмурился и огляделся, проверяя, здесь ли еще, где был, или уже в другом месте очутился.
— Я болен, — тихо сказал он и в этот момент услышал, как катятся по непокрытому паркету где-то под диваном монетки. Одна за другой они звенели дробно и умолкали на полу. Данин присел, пошарил по карманам пиджака — точно, мелочи ни гугу. Ну что за черт! Как же без мелочи! Без мелочи просто никуда! Обидно — вот была мелочь, и теперь ее нету! Теперь она черт знает где валяется! Он встал на колени и принялся осматриваться. Гривенник нашел сразу, неподалеку от себя.
Так теперь вперед, за остальными…
В коридоре простучали каблучки, замерли на мгновение. Данин поднял стул, сел на него, кряхтя, и продлил теперь уже с высоты стула осмотр пола. Еще два раза щелкнули каблучки, и в дверях показалась Марина. «Красавица, — подумал Вадим и ничего не почувствовал. — Красавица, — с нажимом повторил он про себя и опять ничего не почувствовал, задержал дыхание, поднапрягся. — Крас… Ну и бог с ней», — подумал и стал опять разглядывать пол.
— Ты меня прости, — сказала Марина. — Я с тобой грубо. Это совсем не оттого, что ты думаешь, а совсем наоборот, от другого… Я сама не знаю, что со мной, у меня все из рук валится и все внутри дрожит. И мне хочется тебя унизить, себя унизить, и вообще все как-то не так.
— Конечно, — отозвался Вадим. Он теперь приметил пятак у ножки дивана и был очень этим доволен.
— Молодец, все понимаешь. — Марина слабо усмехнулась. — А я вот никак. Я думала, ты не придешь. А ты пришел. А я не ждала… Вернее — ждала, но не хотела, чтобы ты приходил. А вот ты пришел, и я захотела… Нет, не так…
— Так, так… — протянул Вадим и заглянул под диван.
— Нет, не так, совсем не так! — Марина приложила две ладошки к шее, будто они замерзли и она таким образом их грела. — Я, наверное, должна быть нежной и ласковой, раз ты пришел, раз я звала, и ты пришел. А я не могу. — она уже чуть не плакала. — Я столько раз тебя звала за эти годы, ты не приходил, я столько раз мечтала, представляла, даже помню слова, которые говорила… А теперь не могу… Вот с кем угодно сейчас смогла бы, а с тобой не могу… Уходи!
Данин последнего слова не расслышал, потому что был уже под диваном, он напал там на целую россыпь — и двугривенные, и пятнадцатикопеечные, и пятаки — здесь, видать, вся мелочь из его карманов затаилась. Данин собрал все аккуратненько и стал пятиться назад. Выбрался, отдышался, позвенел мелочью в ладошке, и тут взгляд его в угол дивана уперся, туда, где в этом самом углу примостилась какая-то игрушка…
— Уходи, — теперь уже жестко и решительно произнесла Марина. — Мы просто друзья. Если такое бывает…
Приговаривая: «Все бывает, все бывает…» — и не отрывая взгляда от игрушки, Данин немного привстал. Игрушечная собачка, грустная, жалкая, потертая. Сначала Вадим смотрел и не видел ее, так, комочек какой-то валяется пятнистый, чернобелый, а потом прищурился и приглядываться стал, а потом ближе подошел, осторожно дотронулся до собачки пальцем, по голове, по ушкам погладил, присел рядом, взял собачку на руки, осмотрел ее со всех сторон, покрутил удивленно головой и прижал собачку к груди с силой, будто вдавить ее в себя хотел, склонил голову, провел нежно подбородком по плюшевому ее тельцу. Он знает эту собачку, он преотлично ее знает, конечно, не эту именно, а точно такую же… Лет пять ему было. И он у кого-то вот такого песика увидел, грустного, жалкого, но забавного, и влюбился в него до смерти, живой щенок ему был не нужен, вот такого подавай и никакого другого. И где они с мамой ни были, весь город объездили — нет собачки. В горторг звонили, и на фабрику, и посчастливилось им: кто-то проникся, посмотрел по накладным, сообщил, что в Ушанов, что в полуторе сотне километров от города, таких собачек поставили. И поехали они с мамой туда, и купили там игрушку, и оба довольны были, словно великое дело сделали. Он гулял с ней, спал с ней, ел с ней, он ни на минуту не отпускал ее от себя. Он назвал ее Винни, как медвежонка из сказки, которую любил и которую знал наизусть. Ему уже четырнадцать-пятнадцать было, а песик нет-нет да оказывался в его руках, и он с ним разговаривал, делился, советовался… Остро и больно заныло в груди, он согнулся, свел плечи, прижал собачку к шее, закрыл глаза. Конечно же! К маме! И сейчас, и немедленно! Только там он самим собой станет, вновь каждому утру, каждому дню, каждому зайчику солнечному радоваться будет. Мама вылечит его, снимет боль эту дурацкую, эту проклятую, эту ненавистную боль — в груди, в голове, в ногах, руках, во всем теле, во всем нем…
Он поднял лицо и заулыбался, не открывая глаз: ощутил, как вольно, как легко стало. Ну вот и все, вот и нашел он выход. А теперь спешить. Он вскочил, не выпуская собачку из рук, кинулся к двери и наткнулся с размаху на Марину. Вадим посмотрел на нее недоуменно, мол, а ты кто такая? Откуда здесь? Потом вспомнил все вмиг, покрутил у нее собачкой перед лицом и весело сказал:
— Я у тебя забираю ее. Она теперь моя.
И хотел пройти мимо, уже боком встал, чтоб между косяком и женщиной протиснуться и чтобы только не задеть ее, не хотелось ему задевать ее. Она неуверенно удержала его, спросила сухо, вроде как для приличия:
— Может, выпьешь?
— Конечно, выпью, — сказал Вадим, и ему захотелось смеяться, словно он очень удачно сострил. Огляделся, взял коньяк со стола, запихнул его во внутренний карман пиджака и довольный повернулся к Марине. — Только не здесь. Где-нибудь в уютном местечке с хорошими людьми.
На сегодняшний московский билетов не было, и на завтрашний тоже, и на послезавтрашний. Только через неделю можно было уехать, да и то очередь отстоять требовалось, и не маленькую — раздраженную и крикливую. Лето. Отпуска. На столицу всем поглядеть охота, да и на другие города, ведь поезд до самой западной границы доходил. Но Вадим должен был уехать именно сегодня, ни часа, ни минуты промедления. И Вадим пошел по инстанциям, по местным вокзальным инстанциям. Он сердечно улыбался, требовал, грозил и каждый раз, когда ему отказывали, поглаживал в кармане собачку и приговаривал тихо, сквозь зубы: «Ничего, ничего…» Начальника вокзала он застал выходящим из дверей кабинета, его рабочий день уже давно закончился, усталый, сонный начальник вокзала безучастно смотрел на Вадима, пока тот тыкал ему в лицо удостоверение внештатного корреспондента и убеждал, что ему надо отбыть именно сегодня, ибо в противном случае сорвется важный материал, потом повернулся и обронил через плечо: «Пойдемте».
Через пятнадцать минут с билетом в кармане он уже сидел в зале ожидания и снова поглаживал собачку, и шептал довольно: «Ну вот видишь, я же говорил…» Поезд уходил в девять сорок пять, до отхода оставался час. Домой было ехать бессмысленно. Да и зачем. Все, что нужно, он найдет там, у мамы, и белье, и рубашку, и все остальное прочее. И он решил отдыхать, и даже почти задремал, и спохватился только, когда до отхода осталось десять минут. Сорвался с места и, не видя ничего вокруг, помчался на перрон. Вот так же, не смотря по сторонам, он ехал к вокзалу от Марины, так же бегал по мелким и крупным вокзальным чиновникам. И, конечно, не заметил, что всюду, от самого Марининого дома, от него не отставал толстый пожилой мужчина в рубашке навыпуск. Толстый проводил его до вагона и остался стоять неподалеку, ожидая, пока отойдет поезд.
Хмурая, дочерна загоревшая, будто только-только вернувшаяся с южного курорта проводница взяла билет, глянула на него краем глаза, потом посмотрела Вадиму на руки, приподняла густую лохматую бровь, слегка, видимо, удивившись, что он совсем без вещей, вернула билет обратно и тотчас забыла о Вадиме — мало ли каких пассажиров не бывает.
То и дело прижимаясь к стенке, он кое-как добрался до своего купе. Оно было до отказа забито женщинами в цветастых сарафанах, детьми; слышался и мужской басовитый говорок, даже два голоса мужских слышались, они перекрывали звонкий детский гомон и торопливую скороговорку женщин. Для одного купе народу многовато, значит, кто-то здесь провожающие. Вадим повернулся к окну, стал смотреть на перрон. Там, вдоль поезда, перед окнами выстроилась цепь жен, мужей, пап, мам, братьев, сестер, друзей. Мужчины, как обычно, строго молчали и лишь изредка кивали ободряюще, а кое-кто уже и забыл, зачем пришел сюда, равнодушно озирались они по сторонам, нетерпеливо ожидая, когда можно будет отправиться по своим делам.
Вот только женщины, как обычно, как всегда, не могли успокоиться и все что-то говорили, говорили в открытые окна, да с таким серьезным и обеспокоенным видом, будто только сейчас, уже перед самым расставанием, вспомнили самое важное. Вадима бесцеремонно толкнули в спину, и он чуть не протаранил лбом стекло. Он обернулся — из купе выходили дородные женщины в сарафанах, молодые, но уже угрюмые и недовольные. Их было трое, и они были очень похожи друг на друга, как сестры.
И ни тебе «разрешите пройти…», ни «извините»; подхватили вертлявых детишек — тех тоже было трое — и потопали по коридору, горласто переговариваясь. Вадим скривился в нехорошей усмешке, повел подбородком и шагнул в купе. И в этот момент поезд дрогнул едва заметно, и поплыли неспешно в окне вагоны, столбы, женщины в оранжевых жилетах…
Два парня, что сидели по обеим сторонам столика, тоже смотрели в окно, и мальчишка лет шести, встав ногами на нижнюю полку и оперевшись на крупного, крутоплечего белобрысого малого, тоже провожал глазами убегающие вагоны, кирпичные основательные строения, пыльные пакгаузы и бесконечное множество рельсов, столбов и семафоров. Вадим поздоровался, сел. Ему не ответили. Только мальчишка, повернув к нему треугольное озорное личико, посмотрел, прищурившись, потряс парня за плечо и, когда тот степенно оглянулся, топнул ногой и крикнул: «Я здесь буду спать!»
— Хорошо, — сказал парень и, увидев Вадима, без всякого выражения кивнул ему.
— А вот и нет, — вкрадчиво произнес мальчишка и опять потряс парня за плечо. — Я там буду спать. Мама сказала, здесь дует.
И он мигом перескочил на противоположную полку и ухватился за плечо второго парня, худого, носатого, тоже белобрысого. Но волосы у него курчавые, жесткие, спутанные. Он, верно, причесывался пятерней, а то и вовсе не причесывался.
— Хорошо, спи там, — не оборачиваясь, равнодушно сказал отец.
Мальчишка переминался с ноги на ногу и мял плечо носатого, ему явно было мало внимания. Он опять топнул ногой и громко крикнул:
— Нет, я буду спать здесь. — И ударил рукой по верхней полке.
— Здесь буду спать я, — негромко сказал Вадим. Мальчишка обиженно поджал губы, метнул на Вадима недобрый взгляд и вытянул палец к противоположной верхней полке:
— Тогда там, — и опять перескочил к отцу.
Носатый оторвался от окна и впервые посмотрел на Данина. Он, не стесняясь, разглядел своими чуть раскосыми глазами его лицо, потом пиджак, потом брюки, цыкнул, отвернулся к окну и, махнув рукой в сторону мальчишки, порекомендовал безучастно:
— Дай ты ему по шее.
— Сейчас я дам тебе по шее, — медленно разворачиваясь, проговорил парень-отец.
— А вот и не дашь, вот и не дашь, — мальчишка запрыгал на одеяле.
Отец лениво хлопнул его ладонью по лбу. Тот, изумленный, свалился и тут же заревел:
— Все маме скажу… все скажу, — захлебывался он. А потом похныкал еще немного и затих.
«Пытка какая-то, — печально подумал Вадим. — И так больше суток».
— Граждане, приготовьте билеты, — совсем рядом выкрикнула проводница.
Вадим поднялся, выглянул. Густобровая проводница стояла возле соседнего купе. Вадим вышел.
— Простите, — обратился он к ней. — Нельзя ли с кем-нибудь поменяться.
— Что случилось? — проводница без особой радости посмотрела на Данина. Она была еще молода и совсем не так некрасива, как показалось поначалу; и лохматые брови даже шли ей, а вот загар портил.
— Я устал и хочу отдохнуть, — объяснил Вадим. — А там ребенок беспокойный.
— У нас полон вагон детей. — Проводница нетерпеливо ждала, пока пассажиры в купе разберутся с билетами и дадут ей возможность двигаться дальше. — И все беспокойные. Где вы видели спокойных детей? — она пожала плечами. — Попробуйте договориться сами. Если кто согласится…
Вадим представил, как он шествует по вагону, заглядывает в каждое купе, с вежливой натянутостью улыбается и просительно предлагает обменяться местами, и ему вмиг расхотелось меняться, и он решил остаться на законном своем месте. «Черт с ними, — подумал он. — Перетерплю. В Москве отосплюсь». Он махнул рукой и пошел обратно.
Все трое в упор смотрели на него, когда он вернулся. Они все слышали. Но ни вопроса не было в их глазах, ни осуждения, ни одобрения, они просто смотрели, и все. Так на прохожего смотрят, который подошел прикурить попросить. А потом мальчишка отвернулся к стене — он все еще лежал, изображая оскорбленного и всеми покинутого — и тихонько захныкал. И парни тоже отвернулись и принялись опять смотреть в окно. Вадим сел у самой двери, легонько похлопал себя по коленям, потом достал сигареты, повертел пачку в руках, сунул обратно, нет, курить здесь нельзя, а в тамбур идти не хотелось. И поэтому тоже стал смотреть в окно. Там не было ничего интересного: деревья, дома, потемневшее небо. Довольно быстро уже мелькали километровые столбики — поезд набрал скорость. Смотреть в окно надоело. Вадим встал, неторопливо стянул пиджак. Когда вешал его на крюк вешалки, бутылка с коньяком глухо стукнулась о стенку. А он-то забыл о ней, все это время даже не ощущал ее тяжести. «Может, махнуть грамм сто пятьдесят? А впрочем, нет», — он чувствовал, что сейчас спиртное впрок не пойдет. По коридору уже бродили быстро освоившиеся, переодетые в халаты и спортивные костюмы пассажиры, и каждый непременно заглядывал в открытое купе. Следовало бы закрыть дверь. Спросить у парней? Может, им хочется свежего воздуха? Хотя Бог с ними, тоже мне господа, еще спрашивать у них. Он потянул дверь, она покатилась, лязгая, и закрылась, металлически щелкнув. В купе сразу потемнело. Вадим затылком ощутил на себе взгляды, но оборачиваться не стал, скинул туфли, ступил на нижнюю полку и, опершись руками на верхние, подтянулся и тотчас спрыгнул обратно. На его полке в беспорядке лежали вещи: две хозяйственные пузатые сумки и набитая свертками авоська. Вадим повернулся к попутчикам, протянул руку к полке и пошевелил в воздухе пальцами.
— Уберите-ка вещи, — не очень любезно проговорил он, глядя поверх голов парней.
Мальчишка уже, видать, забыл, что его хлопнули по лбу, и теперь сидел, чуть склонив голову набок, и, прищурившись, разглядывал Вадима.
— Дядя, у вас насморк? — вдруг спросил он.
— Что? — не понял Вадим.
— У вас такое лицо, будто вы чихнуть хотите, — и он сморщился, как бы приготовившись чихать.
— А, да-да, насморк, — не нашелся Данин.
Носатый лениво со вздохом поднялся, неспешно снял вещи, осторожно, словно они были начинены динамитом, положил сумки и авоську к себе на полку. Вадим во второй раз подтянулся и забрался наверх. Ноги упирались в стену — вагоны проектировались без учета его роста, — но все равно было замечательно. Просто сплошное удовольствие, вот так, расслабившись, лежать, ощущать движение, слушать успокаивающий перестук колес, вдыхать запах чистого купе — запах дороги, — и ни о чем не думать.
Все позади, буквально позади. Все осталось там, за тридцать, сорок — сколько они уже проехали — километров отсюда. И не надо больше ломать себя, изнурять и вымучивать, не надо вздрагивать от звонков, от шагов, от мыслей, от внезапных сомнений. Это все там, за спиной, и он не хочет оборачиваться. Зачем? Когда там так черно, дымно и душно. Город ему казался сейчас темным, грязным, смрадным. Он видел его весь целиком, сразу — с угрюмыми домами, с хищными, наглыми машинами, с враждебными, недобрыми людьми, — укутанный густым горьким маревом. А здесь, вот в этом купе и за окном, было чисто, светло и радостно. И в Москве тоже будет чисто, светло и радостно. И он может дышать полной грудью и улыбаться искренне, открыто и в удовольствие. Он освободился, он бежал. Он в бегах. Бежал, бежал… Ритмично и плавно покачивался вагон, и в купе стало еще темнее, за дверью кто-то тихо и монотонно говорил. Вот слова стали сливаться в один длинный, низкий звук. Вадим уснул… Высокая черная стена была перед ним, без единого зазора, без единой трещинки; справа и слева, и сзади белым-бело, а впереди стена. Ему стало страшно, и он побежал, а потом оглянулся и понял, что это не стена, а борт корабля, огромной бело-черной глыбы ледохода, он намертво врос в лед и стал словно памятник самому себе. И Вадим вспомнил, что плыл на этом корабле и что там были люди, много людей, и что он пытался с ними заговорить, а они не отвечали ему, не смотрели даже в его сторону, они бесшумно двигались по палубе и молчали. Он схватил кого-то за руку, но рука была твердая и холодная, и Вадим отдернул пальцы, словно дотронулся до мертвеца. И захотел уйти отсюда, все равно куда, лишь бы уйти. И нашел лестницу, спустился по ней и оказался на льду, и студеный колкий ветер сразу опалил его лицо, и шею, и руки, и ноги, а на корабле было тепло, тепло и уютно, вот только эти странные люди…
Он опять побежал, спотыкаясь и даже упав один раз. А потом корабль скрылся из виду, и вокруг белел снег и встопорщенные льдины, а над головой висело низкое серое небо, и, подвывая, как брошенная голодная собака, свирепо дул ветер, и Вадим почувствовал, что коченеет, руки и ноги перестали слушаться, а затвердевшие от стужи пальцы невозможно было разогнуть. Он повернул обратно, шел съежившись, обхватив себя одеревенелыми руками. Дрожь билась во всем его теле. Корабля нигде не было видно. Захотелось кричать, но он пересилил себя, сдержал крик, а потом захотелось плакать, он терпел некоторое время, а потом слезы потекли сами собой, и тут же на щеках они превращались в льдинки. И Вадим понял, что ему не спастись, что все кончено. Но он знал, что все это во сне и чтобы прекратился кошмар, надо проснуться, надо заставить себя проснуться…
Он открыл глаза. Пелена застелила белый, усыпанный крохотными дырочками потолок. В глазах стояли слезы. Он все-таки плакал, во сне плакал. А потом он осознал, что дрожит, и что ему невероятно холодно, и что в левый бок ему дует сильный холодный ветер. Вадим обнял себя, повернулся на бок, и ему стало теплее. Но успокоение и радость не пришли вместе с теплом, на душе было тоскливо.
В купе царил полумрак, в изголовьях двух нижних полок тускло горели лампочки. Скупой медно-желтый свет еще больше вгонял в печаль.
— Выбиться хочет, задается, — услышал Вадим низкий бас белобрысого. — На собраниях орет, что только он один вкалывает, и за это его не любят, а остальные все повязаны, и бригадный подряд их ничему не научил. И… это самое… они, мол, все делят не по справедливости, а по дружбе: кто у бригадира в шестерках — тому побольше, а он, мол, ни к кому не подлизывается, и ни с кем не пьет, и вообще он — трезвенник. Врет, гад, я его видел пару раз, еле топал. Сволочь!
— Сволочь, — подтвердил голос носатого. — И уходить не хочет. Я ему говорил, уходи, не доводи до греха, а он «Я вам еще покажу».
— Выбиться хочет, — повторил белобрысый. — Надо с ним по-крупному поговорить.
— Надо, — сказал носатый. — А у тебя с ним еще особые дела.
— Ты про Нинку? — спросил белобрысый. — Я ему ее не прощу… Это точно.
Простой разговор, простые слова, обычные житейские проблемы. Сидят двое и беседуют неспешно, и все понимают друг про друга, и все знают друг о друге, и им хорошо, было бы плохо, не поехали бы вместе в такую даль. Не в командировку ведь направляются, в отпуск, наверняка в столицу. И незамысловатый этот тихий разговор успокоил Вадима, и даже взбодрил его, и сил придал. И уверенности, что не все так скверно, как во сне привиделось, что течет вокруг нормальная человеческая жизнь и что всякое в этой жизни случается, и что в конце концов все решается, удачно или не совсем, но решается. Вот так он подумал, и поднялось у него настроение. И он был благодарен парням за этот разговор, и ему захотелось самому поболтать с ними, неторопливо, обстоятельно. Неплохие, видать, ребята.
— А может, это и хорошо было бы, — сказал после паузы носатый.
— Что хорошо?
— Ну ежели бы тогда, два года назад, Нинка к нему ушла. Все равно живете как кошка с собакой. Недобрая она все-таки.
— Опять ты об этом? — Голос белобрысого пригас, подустал словно, обесцветился. — Сколько можно? Я тебе сто раз говорил. Ведь сто раз. Как я без пацанят? Без этого оболтуса… О! Слышь, как гомонит… — И белобрысый тихонько и удовлетворенно засмеялся.
Мимо двери стремительно протопали, и затем уже вдалеке, в самом конце коридора продребезжало подобие паровозного гудка. Кто-то вскрикнул испуганно, вслед за этим раздался тонкий мальчишеский смех, а потом забубнили недовольные голоса. Мальчишка теперь терроризировал вагон. К концу поездки его наверняка будет знать весь состав. Вадим улыбнулся.
— А теперь еще Аленка маленькая, — грустно сказал белобрысый.
— Я тебя предупреждал, — носатый постучал пальцем по столу. — Не заводи второго, наплачешься…
— Ой, ой! Умник какой! — Белобрысый, видать, обиделся. — А сам-то, сам-то. У тебя будто лучше?! Твоя и шпыняет только тебя: туда не ходи, здесь не садись, тому не звони. Как малолетку.
— Ладно, закройся, — беззлобно проговорил носатый. — Такая судьба у нас, знать, пакостная…
— Это точно, — уныло согласился белобрысый. — А у Нинки новый заскок. В Москву хочет. У нее там вроде родственники есть. Хочу, говорит, в центре жить и культурно развиваться, чтоб театры, иностранцы вокруг были, чтоб Тихонова на улице можно встретить. А то жизнь проходит, а я так, мол, и проскучала в захолустье…
— Дура, — отозвался носатый.
— Во, во, и я о том. Какое ж у нас захолустье, в пятнадцати километрах от города живем. Я ей говорю, ну, давай, мол, в город переедем, нет, говорит, в Москву — или развод. У меня мол, есть с кем уехать. — Белобрысый поперхнулся, видно, понял, что сморозил что-то не то.
— У-у-у, — протянул носатый — Ты смотри. — И в голосе его заиграли угрожающие нотки. — Гони ты ее… У моей ежели такая мысля возникнет, я их вместе с этой мыслей, — и он, видимо, показал наглядно, что он сделал бы с супругой и ее мыслями. — Гони, Вовка, гони… Вот дура. Это же родина наша. Мы выросли здесь, и ни в какие столицы мы отсюда не поедем, ежели не позовут, ежели не понадобимся мы там позарез, верно?
— Железно, — тотчас подтвердил белобрысый.
«Чудесные ребята, — подумал Вадим, — ну просто отличные ребята». И ему нестерпимо захотелось сказать им что-то доброе, ободряющее, приятное, чтобы они увидели, что и он полностью на их стороне, что он их понимает. И еще захотелось рассказать о себе, что у него тоже не все гладко в жизни, что просто-напросто, вообще, все не гладко. И захотелось, чтобы беседа у них завязалась искренняя, свойская, дружеская. Ему нужна была сейчас эта незатейливая житейская беседа. Как согрела бы она его — до самого нутра промерзшего — теплыми голосами, теплыми словами, теплыми взглядами!
И Вадим вскинулся, свесил ноги с полки, спрыгнул, ойкнув, — нога слегка подвернулась, и остро прошило болью ступню (но это ерунда, это не страшно, это пройдет), — широко улыбнулся, сел на нижнюю полку рядом с носатым и, потирая лодыжку, повторил за белобрысым:
— Железно. Абсолютно железно. Вы очень правильно сказали. Вы замечательно сказали…
Вспыхнуло и исчезло тут же недоумение в глазах у парней. Его сменили холод и недоброжелательность. Ни один из них не сдвинулся с места, ни один не сделал попытку что-то сказать. Но Вадима это не смутило. Конечно же, не совсем приятно, когда посторонний человек неожиданно сваливается вам на голову и, не спросясь, врывается в разговор, в доверительный, интимный разговор.
— Вы простите, бога ради, — не переставая улыбаться, Вадим прижал руки к труди. — Что вот так, без разрешения, без предисловий. Проснулся и услышал ваш разговор, и понравилось, как вы рассуждаете. Да так понравилось, что не выдержал, решил словцо вставить, потому что точно так же думаю. Не обижайтесь, что ворвался, что нарушил вот так, не совсем учтиво, вашу беседу? Не обижаетесь, нет?
Он ищуще заглянул им в лица, одному, другому. Склонил даже голову чуть, как бы винясь, и улыбку свою, безоблачную, открытую, старательно превратил в смущенную, застенчивую. Даже не то, что в смущенную, а в заискивающую, льстивую. Само собой так получилось, невольно, он и не желал того. Как и не желал, чтобы и голосок у него, когда оправдывался, был такой мягкий, подобострастный. Просто вышло так, и все. И он вдруг откровенно не понравился себе. И парням он тоже не понравился, потому что ответили они ему не совсем приветливыми, даже чуть брезгливыми взглядами. Вадим согнал улыбочку с лица, кашлянул в кулак, будто поперхнувшись, и протянул было руку, но на полпути остановил ее, заколебавшись, кому первому подать ее.
— Вадим, — громко представился он.
Парни быстро переглянулись, как бы решая, отвечать им или погодить. По-видимому, основным в этом дуэте был носатый. Он и протянул руку первым, но нехотя, лениво.
— Михаил, — вяло сказал он.
— Владимир, — в тон товарищу сказал белобрысый. Он сжал кисть Вадиму несильно и тотчас через мгновенье отнял пальцы, и опять взглянул на носатого, но тот преспокойно уже смотрел в окно. Там ничегошеньки не было видно: густая чернота и редкие точечки огоньков. Но носатый вглядывался с таким вниманием, словно там показывали детектив с Бельмондо.
— Вы местные, как я слышал? Родились здесь, в области, да?
— после паузы спросил Вадим. Он силился понять, почему с ним так холодны и небрежны.
— Да, — коротко ответил Владимир, видя, что носатый не отвечает.
— В промышленности работаете или в сельском хозяйстве?
— Вадим спрашивал, будто не замечая недоброжелательства парней.
Владимир сказал:
— Э-э-э-э…
Потом пообмял губы друг о дружку и, глядя в висок носатому, ответил:
— В промышленности.
— И на каком заводе? Или на фабрике? У нас промышленность богатая.
Михаил наконец отнял взгляд от окна, хотя темнота там уже расступилась, и замелькали фонари и желтые окна в одноэтажных домиках. Медленно повернулся, посмотрел на Вадима, с едва заметной настороженностью, сказал нетерпеливо:
— На заводе, на заводе.
— На каком же?
Михаил завозился легонько на месте, словно ему стало неудобно сидеть. Устроившись, затих.
— На электромеханическом.
— Нравится работа?
— Нормально.
— А вам? — Вадим перевел взгляд на белобрысого. Тот кивнул.
— Это хорошо, когда работа нравится, — с улыбкой сказал Вадим. Почему они так скованны, зажаты? Почему настороженны? Потому что он посторонний? Или на шпиона похож? Вадим хмыкнул и добавил: — Тогда и живется лучше, радостней, и дышится легче. И невзгоды все переживаются проще. И проблемы разные бытовые решаются без особой головоломки. Даже ругань жены не так остро воспринимается. Правда?
Носатый сказал: «Да», а белобрысый опять кивнул.
За дверью залязгало, заскрипело что-то совсем близко. Вадим узнал характерный звук миниатюрной металлической тележки, на которых в поездах развозят продукты. И верно, вслед за скрипом зазвенел молодой задорный юношеский голосок:
— Сосиски, бутерброды, кефир, конфеты, пожалуйста. Есть минеральная и фруктовая вода. Все свежее, пожалуйста. Что вам?… Отлично, бутерброды, сосиски, три сосиски. Пожалуйста, три…
— Вот и замечательно, — обрадовался Данин. — Сейчас поужинаем. Самое время.
Он рывком откатил дверь, выглянул:
— Пожалуйста, сюда…
Узколицый малый с веселыми карими глазами — наверняка студент на трудовом семестре — лихо подкатил тележку к двери и, любуясь своей ловкостью и сноровкой, стал подавать Вадиму называемые им продукты.
— Бутерброды, пожалуйста, сосиски, кефир, пожалуйста. Что вам еще? Конфеты? Вот конфеты. С вас…
Вадим поблагодарил, расплатился, щелкнул дверью, сел и сосредоточенно зашуршал пакетами… Разобравшись, вывалил еду прямо на стол.
— Вот, — сказал он удовлетворенно, — угощайтесь.
— Спасибо, — поблагодарил носатый. — У нас с собой есть.
— Да это на потом, — Вадим махнул рукой. — На завтра, нам ехать-то еще сколько. Давайте, давайте…
— Спасибо, — повторил Михаил и положил руки на колени.
Дверь хрустнула и отъехалачуть-чуть. В проем просунулась голова мальчишки. Он, сощурившись, принюхался. Вадим ухватил пакетик с конфетами и, улыбаясь, протянул его мальчишке.
— Поешь конфетки, вкусные, шоколадные.
Мальчишка сморщился и закрыл дверь. Вадим растерянно посмотрел на парней. Те сделали вид, будто не видели ничего. Вадим швырнул пакет на полку, болезненно дернул щекой и с силой провел ладонями по лицу. Черт знает что! Пальцы белыми струйками стекли с его лица. Он наморщил лоб, сказал нерешительно.
— Может, выпьем, а? Грех не выпить под такую закуску… — Он вскочил, сунулся к пиджаку, суетливо стал отыскивать карман, где пряталась бутылка. (И вправду, неплохо было бы глотнуть.) Данин повеселел, сейчас он найдет с ними общий язык.
Наконец бурая бутылка возникла в его руках.
— Коньяк. Ароматнейшее зелье, — сказал он, с трудом находя место на столе для бутылки. — Давайте стаканы.
Парни не шелохнулись. Михаил так и остался сидеть со скромно сложенными руками на коленях, а белобрысый напряженно вытянул могучую шею и опять обминал друг о дружку мясистые губы. Вадим откупорил бутылку, повертел в пальцах пробку, выискивая местечко, куда бы ее положить, но не нашел и сунул ее в карман брюк.
— Давайте стаканы, — повторил он.
— Спасибо, — наконец промолвил Михаил. — Мы не хотим.
— Что совсем не пьете? — спросил Вадим с недоброй вдруг иронией.
— Иногда бывает, — Михаил повел подбродком. — Но сейчас не хотим.
— И этого не хотите. — Вадим мотнул головой и невесело усмехнулся. — Брезгуете, значит. — А почему? — Он вскинул глаза на носатого и голос его неожиданно зазвенел: — А почему, позвольте вас спросить? А? Почему? Я что, заразный, больной? Прокаженный? Или ублюдок какой? Убийца? Насильник? Инопланетянин, черт бы вас подрал?! Ну, ответьте, ответьте! Что языки прикусили? Или просто не такой как вы? Другой?
— Другой, — вдруг вырвалось у Владимира, и, сам не ожидая от себя таких слов, он беспомощно посмотрел на носатого. Тот промолчал и только пожал плечами.
Вадим обессиленно выдохнул, и злость угасла разом.
— Ну-ну, — сказал он и повторил, — ну-ну.
Владимир крепко потер шею и добавил, как бы оправдываясь:
— У вас лицо, словно вы чихнуть хотите. — И замер вот так с рукой на шее, в который раз спохватившись, что сказал что-то не так.
И втиснулась в купе тишина, глухая и тягостная. И только так и ненаполненные стаканчики робко бились друг о дружку и тонко позванивали. Неназойливо постукивали колеса на стыках, хлопали вконец распоясавшиеся занавески за окном. И всем было неловко. И никто не знал, что надо сейчас сделать, или что сказать, и все сидели, не шевелясь, боясь голову поднять, боясь вздохнуть громко. Или так Вадиму только чудилось, что парни боятся шелохнуться? Может, им просто на все наплевать. А если так, то…
— Ладно, — он хлопнул себя по коленям ладонями, поднялся, покряхтывая, несильно потянулся, как бы показывая, что происшедшее его нисколечко не тронуло, хватко взялся за ручку двери, отжал ее вбок, вышел в коридор и рванул дверь за спиной обратно, закрывая. Коридор обезлюдел — поздно, и мальчишка исчез куда-то. Инспектирует соседние вагоны? Пошел показать машинисту, как надо гудеть?..
«Другой». Не такой, как они. Хуже? Лучше? Если лучше, то чем? Что он такого сделал в этой жизни, чтобы быть лучше? Да ни черта не сделал. Профукал полжизни… Женился, разводился, гулял, спал с кем попало, даже не влюбился толком ни разу. Но ведь доволен был, и весел, и беззаботен… Ученым и публицистом себя мнил. Данин горько усмехнулся; бездельник и позер. На окружающих свысока смотрел, «будто чихнуть собирался», насмешничал, развлекался. «…Тебе никто не нужен, вообще никто», — сказала ему как-то жена. Он тогда порадовался этому определению, оно польстило ему. Истинному, стоящему мужчине никто не нужен, он сам по себе. Глупец! Он просто боялся людей, боялся ответственности за них. Зачем усложнять себе такую расчудесную, спокойную жизнь… Но нет, неправда. Есть человек, который ему нужен и которому необходим он. Дашка. Его дочь. О господи, Вадим сжал виски, я же так и не дождался их звонка. Послал телеграмму, а сам не дождался. Забыл! О самом важном забыл! Потому что опять о себе, о себе все помыслы. Негодяй!
— Негодяй, вот негодяй, — совсем близко, почти возле уха, раздался рассерженный женский голос. Вадим вздрогнул и обернулся.
— Позвольте пройти, — густобровая проводница крутила головой и морщилась, как от боли. За ней высился мощный мужчина в железнодорожном мундире и форменной фуражке. Тяжелое, квадратное лицо его было сумрачно.
«Небось мальчишка что-то натворил», — подумал Вадим и спросил:
— Что случилось?
— Обокрали гражданку, все украли: и вещи, и деньги… — мужчина в фуражке не дал договорить проводнице, положил ей руку на плечо, осуждающе взглянул ей в спину и легонько подтолкнул вперед. Это, видимо, начальник поезда.
Он прав, чего болтать-то зря. Ну, раз уж начала…
— В каком купе? — мягко спросил Вадим, обращаясь уже к начальнику. Тот махнул рукой назад и нехотя ответил:
— В предпоследнем.
И они прошли дальше. Вот напасть-то, не знаешь, что тебя ждет в любую секунду. Стоп! Но ведь поезд не останавливался. Значит, вор еще здесь!
— Послушайте, — крикнул он вдогонку проводнице и начальнику. — Поезд же еще не останавливался.
— Останавливался, — устало ответил начальник. — На полминуты в Рытове.
Рытово. Знакомое название, где-то он слышал его недавно. Ну, значит, теперь ищи ветра в поле. Проводница и начальник скрылись в тамбуре. Вадим потянул вниз окно и подставил лицо жадно ворвавшемуся в вагон терпкому ветру. Тусклый коридорный свет сквозь окна вырывал из темноты приземистые чахлые сиротливые деревца, ютившиеся рядом с полотном.
Громыхнула купейная дверь в конце коридора, и мгновенно вклинился в вагонное безмолвие безнадежный надрывный плач. Из купе высунулась испуганная молодая женщина.
— Вы не доктор? — крикнула она.
— Что? — удивился Вадим.
— Нужен доктор, человеку плохо. Спросите у себя в купе, там нет врачей.
Вадим отрицательно покрутил головой.
— У нас точно нет. Что с ней? — И он решительно направился к открытому купе.
Коротко стриженная курносая девушка инстинктивно запахнула халат.
— Истерика, — объяснила она. — Как бы припадка не было. Или приступа сердечного. Я однажды такое видела… Страшно…
В полумраке купе Вадим различил сидящих, тесно прижавшихся друг к другу мужчину и женщину. На противоположной полке, вздрагивая всем телом, полулежала женщина. Сатиновое платье было задрано и открывало похожие на пушечные ядра массивные колени и рыхлые мясистые ляжки. Вадим едва вступил в купе, как женщина опять заголосила. Кричала она, захлебываясь и всхлипывая.
— Это ее обокрали? — Вадим непроизвольно дотронулся до уха.
Девушка кивнула.
— Как ее зовут?
— По-моему, Екатерина Алексеевна…
— Найдите проводника, — сказал Вадим. — А я попытаюсь с ней поговорить. Лекарства есть какие? Ведь в дальний путь собрались как-никак.
— Ах, да, — девушка всплеснула руками. — Я и забыла. Тазепам.
— Замечательно, и никакого врача не надо. Давайте.
Вадим присел на корточки перед женщиной, осторожно погладил ее по жестким седым волосам, потом по шее, по плечам. Так собак гладят, когда ласкают их. Данин наклонился почти к самому ее лицу и проговорил почти шепотом:
— Тихо, тихо, тихо, тихо… Все в порядке, жулика найдем, деньги отберем у него и вернем обратно, обязательно найдем… — Он повернул лицо женщины к себе. Простое, ничем не примечательное лицо пожилой сельской жительницы. Глаза полуоткрыты, как у сомнамбулы, губы сложены в дудочку. Но она уже не кричит, только стонет надрывно. Вадим положил ладонь женщине под щеку, сунул в рот ей две таблетки, приподнял голову и поднес к губам стакан. Женщина глотнула механически. Вадим отпустил руку, поднялся, отдал стакан девушке.
— Я покурю, — сказал он, вышел в коридор, вынул пачку, извлек сигарету, закурил. Девушка встала рядом.
— Вот гад! — в сердцах сказала она. — Все они гады, преступники. Человек работает, копит, копит, сил не жалеет, месяцами, годами. А они приходят — и раз, одним махом, без труда… Гады! Я бы их! — она сжала кулачки…
Вадим отрывисто затянулся еще несколько раз и бросил сигарету в окно. Он был возбужден, напряжен и чувствовал, что делает дело, нужное и важное. Что все на него смотрят с надеждой и симпатией.
Вадим стремительно повернулся и зашагал к своему купе. Рывком открыл дверь. На верхней полке кто-то тихонько посапывал в темноте. Когда это мальчишка вернулся, интересно? Вадим снял пиджак с вешалки, вышел в коридор. На ходу натягивая пиджак, пошел обратно. Подойдя к купе, оперся на косяк, вынул из кармана скомканные деньги, протянул женщине.
Возьмите. На первое время хватит.
— Да что вы, — отмахнулась женщина.
Тогда он протянул визитную карточку (надо же, пижон, карточки себе понаделал).
— Появятся деньги, отдадите.
— Господи, — женщина пересчитала бумажки. — Пятьдесят шесть рублей. Это ж деньги.
— Все нормально, — сказал Вадим и повернулся к девушке. — Когда ближайшая остановка?
Совсем скоро была следующая остановка, минут через десять заскрипел, зашипел состав, притормаживая, содрогнулся потом всем многотонным своим металлическим телом и замер, отдуваясь, как бы отдыхая, вбирая в себя, разгоряченного, свежий и влажный ночной воздух. В тамбуре возле полуоткрытой двери стояла та самая густобровая проводница. И она тоже воздуху радовалась. Прижмурившись, вдыхала его глубоко и сладостно.
Вадим улыбнулся, берясь за поручень и опуская ногу на ступеньку. Проводница открыла глаза и с испуганным удивлением уставилась на него.
— Вы далеко? — осторожно спросила она. — Мы стоим всего минуту. — Она поднесла часы близко к глазам, — уже полминуты.
Вадим кивнул весело:
— Далеко. Обратно. Домой.
— Ну вы даете! — проводница покрутила головой. — Среди ночи-то.
— Утюг оставил невыключенным, — серьезно пояснил Вадим. — Боюсь, как бы пожара не было. Прощайте. — Он спрыгнул на колдобистый асфальт короткого перрона.
— Да, кстати, — обернулся он. Изумление в глазах проводницы до сих пор не исчезло. — Линейную милицию оповестили?
— Да, — проводница кивнула. — Конечно…
— Ну и славненько, — Вадим поднял руку со сжатым кулаком. — Счастливого пути вам.
По составу пробежал легкий лязгающий звук; затем другой, уже погромче, пожестче, снова пересчитал вагоны, и поезд лениво тронулся. Проводница махнула Вадиму и захлопнула дверь. «Митино», — прочитал Данин на здании станции. Ну Митино так Митино. Поезд постепенно затихал вдали. Становилось все тише и тише. Порывами вдруг задул ветер, и так же порывисто принялись перешептываться деревья. Шум ветвей, листьев, обеспокоенных стволов был густой, тяжелый и, казалось, шел со всех сторон. Вадим огляделся. По обеим сторонам колеи тянулся лес. Только за одноэтажным низким, словно придавленным башмаком великана домиком станции мерцали тусклые огоньки.
«Дыра, — поеживаясь, подумал Вадим. — Как есть дыра. Попал!» Лишь два из шести окон станции были освещены. Свет был слабенький, сероватый, будто расцветал там, за окнами, пасмурный унылый день. Вадим направился к двери станции. Под ногами его отрывисто захрустел нанесенный на асфальт песок. Чем ближе он подходил к двери, тем сильнее раздавался хруст. И Вадиму вдруг показалось, что за ним кто-то идет, он резко обернулся и хмыкнул. Никого. Но напряжение осталось. Вадим постарался расслабиться, несколько раз вздохнул и выдохнул. Однако дрожь внутри не исчезла. «Ладно, — поморщившись, сказал он себе. — Просто непривычная обстановка. Пройдет». Дверь открылась, потрескивая, будто влажные поленья запылали в костре. Пахнуло затхлостью и сыростью. Маленький, еле освещенный коридорчик, за ним длинная комната с лавками вдоль стен и с приткнутыми друг к другу облезлыми доисторическими стульчиками. Именно отсюда шел серый сумрачный свет. В углах комнатки сгустилась тьма, и поначалу Вадим различил, кроме стульев, еще только окошечко на противоположной стене, а над ним треснутую табличку «Касса». Замечательно! Вадим пересек комнату и постучал в хилую фанерку, которой было забрано оконце. Молчание. Он постучал громче. Показалось, что стук разнесся по всему зданию.
— Стучите громче, — вдруг услышал он за спиной и невольно сжался, боясь обернуться. Через мгновение сообразил, что голос женский, и это его успокоило. Он медленно развернулся. В дальнем, скрытом темнотой углу угадывались очертания сидящей женской фигуры.
— Стучите громче, — повторил голос. — Она спит.
— Спасибо, — сказал Вадим и поперхнулся. Откашлявшись, повторил: — Спасибо.
Дощечка задрожала под его ударами и неожиданно отвалилась. И тут же возникла за ней встрепанная крупная женская голова. Маленькие, заспанные глазки ошалело посмотрели на него и на миг опять закрылись. Лицо было рыхлое, мятое, толстое. Сбитый набок тяжелый пучок, казалось, тянул голову кассирши к столу.
— Чего? — хрипло сказала она.
— Здравствуйте, — улыбнулся Вадим. — Билет до города…
— Поезд только в семь утра. — Кассирша, не стесняясь, зевнула.
— Я подожду, — беззаботно сказал Вадим.
Кассирша почмокала губами, наслаждаясь зевком.
— Пять рублей, — наконец сообщила она.
— Хорошо, — кивнул Данин и полез в карман.
Удивленно хмыкнув, сунул руку в другой. Тоже ничего. Он стал шарить по карманам брюк. Пусто. Что за черт? Неужто, не глядя, он все деньги отдал этой самой Екатерине Алексеевне? Болван!
— Ну что, будете брать? — Кассирше нестерпимо хотелось спать.
— Видимо, нет, — с досадой сказал Данин. — Деньги в поезде оставил.
Не объяснять же кассирше, почему он их оставил.
— О господи, — недовольно выдохнула кассирша. — А еще будят по ночам…
И зашевелила губами беззвучно, вероятно, произнося не совсем любезные слова. Дощечка снова встала на место. Вадим скривился и покачал головой.
— Деньги потерял? — спросили из темноты.
— Можно сказать, что так, — хмуро ответил Данин.
— Ну ничего, завтра отобьете телеграммку. Деньги и пришлют. — Голос был молодой, звонкий, совсем не сонный.
Вадим с любопытством вгляделся в темноту. Но, кроме силуэта, опять ничего не углядел. Он неторопливо подошел ближе. Плотная статная девица там восседала. Она держалась прямо, слегка вскинув голову, и без тени страха или волнения смотрела на Вадима.
— Вы-то куда в такую поздноту? — устало спросил он, усаживаясь на стульчик напротив.
— В три двадцать проходящий идет. А мне до Хаврина надо. Посплю, к семи и приеду.
— А что на этот не сели?
— Так он там не останавливается. — Девушка улыбнулась полными губами.
Лицо у нее было круглое, нос кнопкой, над овальными светлыми глазами выгибались неумело подведенные дужки бровей. «Забавная, — подумал Данин. — Местная королева небось. Но без гонора, простенькая».
— Понятно, — сказал он, устраиваясь поудобнее. — Местная?
— Ага. — Девица привычно пригладила и без того гладко зачесанные и собранные сзади в игривый хвостик светлые волосы. Тонкое платьице натянулось, и обозначились под ним тяжелые объемистые груди. «Во мужики-то с ума сходят», — усмехнувшись про себя, подумал Вадим.
— Туточки, в Митине, и родилась.
Девица наклонилась. Возле ее ног стояли пузатые сумки. Она достала два яблока. Одно протянула Вадиму, второе тщательно и сосредоточенно обтерла и с хрустом откусила огромный кусок. Перемолотый крепкими крупными зубами, он стремительно уменьшился во рту…
— Прямо туточки при станции и родилась.
— Замужем?
— Была. — Она презрительно усмехнулась. — Разбежались, слава тебе господи.
— Сейчас одна?
— Набиваетесь, что ли? — Девица кокетливо повела плечом.
— Да нет, — Данин улыбнулся. Смешная женщина, приятно смотреть на нее. — Интересуюсь просто.
— Все вы просто интересуетесь. — Она опять отломила зубами чудовищный кусок. — А потом… Ой!
Девица вытянула шею, как потревоженная птица, и прислушалась. Вдалеке что-то надрывно и свирепо рокотало. Рокот нарастал с каждой секундой. Вадим догадался, что это мотоциклетный мотор без глушителя. Девица отбросила огрызок и засуетилась, приговаривая: «Господи, господи… узнал-таки, ирод! Убьет…»
— Кто узнал? Что узнал? — не понял Данин.
Девица раздраженно махнула рукой и не ответила. Встала, подхватила сумки и, ссутулясь, посеменила к выходу. Мотоциклы затихли, и тишина, звеня, впилась в перепонки. Девица не успела — загрохотали шаги в коридорчике, послышались отрывистые, громкие голоса, дверь распахнулась, и, переваливаясь, вошли двое парней в блестящих кожаных куртках. «Авиационные куртки, перекрашенные в черный цвет», — автоматически отметил Вадим. Ему стало не по себе. Вслед за первой парой зашли двое, в черных отглаженных «выходных» пиджаках. Девица успела метнуться в темный угол и теперь стояла не шелохнувшись. Один из парней, плечистый, рукастый, с брезгливым лошадиным лицом, мутно взглянул на Данина, сплюнул. Вадим отвел глаза. Такие типы свирепеют, когда им смотришь в глаза. Ладони у Данина мгновенно вспотели, и на спине он почувствовал холодные струйки. Но внешне он был спокоен и равнодушен. Рукастый прошел мимо к кассе, с размаху высадил фанерку. Кассирша вскрикнула.
— Что ты орешь, будто тебя режут? — поморщился Рукастый. — Давай, Степановна, билет до Хаврина. Санечку отправить надобно. — Он погладил плюгавенького по голове. Тот блаженно заулыбался.
— Чего не спится-то? — вздохнула кассирша.
— Гуляем, Степановна, Саньку пропиваем. Женится, сучо-нок, корешков бросает.
И, верно, в комнате густо запахло перегаром, луком и еще чем-то кислым.
Дверь заскрипела. Рукастый шустро обернулся. Глаза его широко распахнулись, налились злобой.
— А-а, — гаркнул он. — И ты здесь, паскуда…
И он стремглав кинулся к двери. Девицу он прихватил уже в коридоре и приволок ее, упирающуюся, хнычущую, в комнату. Плюгавенький присвистнул:
— Она, значит-ца, тебе завтра кой-чего обещала, — тонко пропел он. — А сегодня, значит-ца, ноги делать.
— Стерва, — процедил Рукастый и, гыкнув, замахнулся. Девица взвизгнула, сжалась, сумки выпали из ее рук.
— Давай, не дрейфь, — подначивал плюгавый Сашечка.
Рукастый наотмашь ударил женщину. Она закачалась и чуть не упала.
— Что ж вы делаете, гады?! — закричала кассирша. Плюгавый оттолкнул растопыренной ладонью ее лицо. Кассирша откинулась назад, часто моргая и хватая воздух губами, и неожиданно завизжала во весь голос, а потом в руке ее оказалась какая-то железяка короткая, она вновь высунулась из окна и изо всех сил стала лупить этой железякой Плюгавого, тот отскочил в сторону. Железяка грузно шлепнулась об пол, и кассирша обессиленно поддалась назад, приговаривая: «Хулиганье, подонки… Чтоб вам пусто было…» Вадим крутил головой, словно во сне все это видел, ему казалось, что не с ним этот бред приключается, с кем-то другим, а он за всем издалека, из окошка, наблюдает. Тягуче и муторно заныло в желудке, и тело налилось свинцом, и он не в силах был пошевелиться.
— Прости, прости, Толечка, милый! — съежившись, обхватив себя руками, захлебываясь слезами, причитала девица. — Я только на денек к сеструхе. Послезавтра б приехала.
— Хватит, — недобро оскалился Толечка. — Хватит, паскуда, меня за нос водить, я те не пацан!
— Во, во, Толик, не пацан, — радостно подхватил Плюгавый. Все происходящее ему явно доставляло удовольствие. — Ты мужик. Сказал — сделал. Пусть прям здесь, стерва, дает, что обещала. А мы отвернемся.
— Как… здесь? — падающим вдруг голосом спросил Рукастый и обернулся, неумело скрывая растерянность на длинном лице. «А у него красивые, незрелые глаза», — совсем не к месту промелькнуло у Вадима в голове.
— Почему здесь? — Толик неуверенно глядел на Плюгавого.
— Чтоб опять продинамить не смогла, — ухмыльнулся Плюгавый. — Али что, опять сдрейфил? — Саня кивнул парням: — Глядите-ка, описался король-то наш!
Рукастый опять метнулся к нему затравленным взглядом, потом оглядел парней (лица у них были слегка встревоженные, им не совсем понравилось, видать, предложение Плюгавого) и повернул вдруг голову к Вадиму. Данин опустил глаза. Ну вот опять. Опять втянули его в кошмар. Опять все сначала. Он тихо простонал, сжал зубы, сморщился, ногти впились в ладошки… Что же делать? Не сидеть же вот так сложа руки? Внутри все дрожало, мелко и противно. Девица вновь взвизгнула, послышалась возня, сдавленное дыхание. Вадим осторожно поднял голову. Толик обхватил женщину и лихорадочно пытался ее поцеловать. И Данин вдруг гаркнул разъяренно, вскинулся с места, в мгновение ока подлетел к Рукастому, цепко ухватился за его кожаное плечо, с силой рванул на себя. Тот от неожиданности отпустил женщину, очень удобно полуразвер-нулся к Вадиму, и тогда Данин ударил левой рукой, затем еще раз, посильней. Рукастый, охнув, согнулся. Вадим хлопнул его ладонями по ушам и, не теряя ни мгновения, впечатал ему в лицо правый кулак. Толик стремительно выпрямился и грузным мешком обвалился на пол. Девица истошно заголосила и неожиданно кинулась на Вадима с кулаками.
— Что ты лезешь не в свое дело, черт лохматый?! — Голос ее сорвался на хрип. — Ты же убил его…
Вадим неуверенно оттолкнул от себя женщину и отступил назад. Вот тебе раз. Они же все здесь свои, а ты чужак, пришлый, почти враг. Он криво усмехнулся. Женщина с размаху грохнулась на колени, приподняла голову Толику, погладила по лбу.
— Толечка, милый, ты живой, живой? — с надеждой ласково спросила она.
Толик открыл глаза и невидяще уставился на нее. Женщина засмеялась радостно и поцеловала его в висок. «Ни черта не поймешь…» Вадим не успел додумать, удар возле уха чуть не сбил его с ног. Он наклонился вбок, сделал два быстрых шага, выпрямился, огляделся. Один из сонных парней, улыбаясь, потирал ушибленный кулак. Вот это по ним, это дело — было написано на их лицах. Плюгавый полез за пазуху и вытянул черную металлически сверкнувшую змейку — велосипедную цепь.
Это уже серьезно. Второй парень тоже сунул руку за отворот куртки. Вадим шагнул к двери. Туда же стремглав метнулся тот, кто первый ударил его. Обложили. Вадим дернул головой — надо выпутываться, забьют ведь. Плюгавый с холодной улыбкой поигрывал цепью. Не поворачивая головы, Данин пошарил глазами вокруг. Дорога одна — окно во двор. Но оно закрыто. Если он прикроет голову руками… Данин внезапно дернулся вправо, в ту же сторону машинально отклонились и парни. И тогда Вадим сделал прыжок влево, к окну. Парни замешкались на мгновение, и Вадим, прикрыв темечко руками, с силой оттолкнувшись, крякнув, прыгнул в закрытое окно. Словно сквозь вату, он услышал звон, треск, отчаянные крики… Теперь бежать… Подальше от света. Он обогнул какие-то сараи, темные, угрюмые, наткнулся на забор, помчался вдоль него, мимо спящих домиков с белыми трубами. Недовольно загавкали собаки. Где-то отворилось окно, кто-то цыкнул сонно на собаку…
Когда он уже был примерно метрах в трехстах от станции, затарахтели мотоциклы. Долго ж они собирались. Теперь не догонят! Деревушка оборвалась внезапно. Сначала были кусты, упругие, задиристые; потом он чуть не свалился в овраг, затем выскочил на небольшое поле и стрелой пересек его. Мотоциклы тарахтели где-то слева, но достаточно далеко. Через несколько секунд он вбежал в лес. Промчался еще пару сотен метров и сбавил ход. Лес он знал плохо. Тем более сейчас ночь, и ничегошеньки не видно вокруг. Можно и заплутать, и выйти обратно к этому треклятому Митину. Значит, надо держаться ближе к полотну. Он опять услышал треск мотоциклов, только теперь почему-то немного впереди. Так, где полотно? Справа или… Да, справа. И он взял правее. Мотоциклы все тарахтели впереди. Эти наездники, наверное, сообразили, что единственный его путь — к железной дороге. Он же чужак, он ничего не знает здесь. Поэтому и гремят их мотоциклы впереди, видно, хотят перерезать ему отступление. «Надо же, термины-то военные, — мрачно усмехнулся Данин. — Перерезать, отступление… Но все равно, дорога — это спасение». И он побежал быстрее. Мокрые ветки секли по лицу, густая трава путалась в ногах. Он то и дело спотыкался о кочки, проваливался в невидимые ямки. Лес начал редеть, и, наконец, гладко блеснули рельсы. Он остановился. Прислушался. Было тихо. Мотоциклы уже не ревели. А он и не заметил, когда они замолкли. Так что же? Махнули «лесные братья» на него рукой? Или принялись искать его, спешившись? И опять пришел страх. Пока бежал, его не было, он словно испарился, превратился в жидкий дымок. А сейчас вот опять. А если найдут, если поймают… Вадим, пригнувшись, приблизился к дороге, посмотрел вправо, влево. Никого. Перескочил рельсы и так же, пригнувшись добежал до леса на той стороне. Через сотню метров остановился, отдышался. Покрутил головой с невеселой усмешкой, ну, прямо партизан. И только сейчас почувствовал боль на тыльных сторонах ладоней. Притянул их к глазам. Кровь. Порезал-таки о стекло. Но вроде неглубокие порезы. Он сорвал листья, стер ими густую черную жидкость. Кровь выступила опять. Он достал записную книжку, вырвал несколько страничек, послюнявил их, прилепил к рукам. Вздохнул несколько раз и вновь побежал.
Так, до ближайшей станции в сторону города километров пятнадцать. Это по самым скромным прикидкам. Часа за три он их одолеет. Данин перешел на шаг, изредка останавливался, прислушивался. Тихо. Значит, все-таки плюнули на него. Пьянь, мразь. Хотя… Если бы не водка, вряд ли бы этот Толик с красивыми глазами и те двое, сонных, стали бы выкадрючи-ваться. Когда трезвые, небось совсем неплохие ребята. Только плюгавый подонок, все подначивал. Жаль, не двинул я ему в его замечательное личико.
Страх все еще жил в нем. Теперь пугал лес, темный, холодный, враждебный. Любой шорох, треск, порыв ветра заставляли вздрагивать, сжиматься, заставляли беспрестанно крутить головой, нет ли кого или чего справа, слева, сзади. Он попытался думать о чем-нибудь другом, вспомнить о последних днях в городе, о том, как там хорошо, уютно, тепло. Но не смог. Заглядывая назад, он видел себя все время бегущим. Буд то куда-то мчался последние дни, не останавливаясь мчался, как сейчас мчится по лесу. И совсем ему было тогда неуютно, нехорошо и не тепло. Скверно ему было. Он уставал и задыхался. Но бежал, бежал, бежал…
Он и вправду стал уставать, дыхание сделалось прерывистым и шумным. Он перешел на быстрый шаг, а через несколько метров просто побрел ссутулившись. Отдохнуть бы где-нибудь хоть часок, хоть полчасика. Но где? Вокруг сыро и холодно.
Он замедлил шаг, а вскоре и вовсе остановился. Провел ладонями по лицу, оперся на дерево, огляделся. Небо слегка посветлело. Но где же отдохнуть? Он оттолкнулся от ствола и решил пойти ближе к полотну, там все-таки суше и веселей. Но, как только оставил он позади лесную кромку, принялся его обрабатывать выстуживающий предрассветный ветер. И всюду он умудрился забраться: и спину выхолодил, и грудь, и ноги. Вадим застегнул пиджак на все пуговицы, поднял куцый его воротник, сунул ладони в карманы брюк, с удовольствием ощущая сквозь тонкую ткань карманов теплоту бедер… Хоть в лесу и было теплее и тише, но туда он уже не пошел, отпугивал он его своей чернотой и непроницаемостью… Просто-напросто надо идти быстро, и тогда я согреюсь, решил он. И двинул вперед скорым, размашистым шагом. Вдоль полотна шел, в полуметре почти от шпал, по густой короткой траве. Почти час так шел, а потом разом вдруг понял — все, конец, больше не могу, устал чудовищно. Хотя с чего, казалось бы? Он и на большие расстояния хаживал. Лениво повел глазами вокруг и неожиданно, на радость свою, углядел аккуратный низкий стожок. На непослушных, негнущихся почти ногах он кинулся к нему, как к дому родному. Вот он, приют, душистый, теплый. Он ввинтился в стожок, как крот в землю. Вот только ноги никак не мог упрятать, бедноватый все-таки был стожок. Но вот и ногам он нашел-таки место. Тепло. Тихо. Остаться бы здесь и никуда больше не ходить. Все равно ничего хорошего его не ждет дома, и никто его не ждет дома.
Грохот и мелкая тряска его разбудили. Он открыл глаза, очумело повертел головой, никак не соображая, где он, а грохот все бил и бил по ушам и, казалось, громадная, свирепо лязгающая махина надвигается на него, подминает под себя. Он лихорадочно заработал руками, выгребаясь из сена, и наконец выбрался из совсем разрушенного уже стожка. Вдалеке мелькнул зеленый хвост поезда. Вадим сел на землю и рассмеялся…
Потом он шагал уже по шпалам, потому что рядом было идти трудно, с обеих сторон дороги, вдоль основания насыпи то и дело попадались прозрачные лужицы. Они отражали утреннее небо и издалека виделись синими, и ненастоящими. Два раза Вадим уступал дорогу поезду. Дети махали ему из окон и что-то кричали, и он махал им в ответ ладошкой с растопыренными пальцами. Не прошло и двух часов, как он почувствовал, что его одиночество скоро кончится. Запахло человеческим жильем, слабенько стали пробиваться какие-то посторонние, небесные звуки. А потом потянулись огороды вдоль насыпи, вслед за ними ветхие сарайчики, еще через несколько минут он увидел мужика, катящего на велосипеде по тропинке вдоль опушки. Вадим крикнул: «Это Рытово?» Но мужик даже не обернулся, а только поехал быстрее. И вот неожиданно на левой стороне отступил лес, и Вадим увидел домики, бревенчатые и дощатые. Дощатые были выкрашены в разные цвета — зеленый, голубой, бежевый. Всего домиков он насчитал пять штук, их окружали палисадники, и за заборчиками уже вовсю кипела жизнь. Вадим сошел с полотна и двинулся вдоль заборчиков. Пухлая женщина в цветастом халате, копавшаяся в огороде у зеленого домика, выпрямилась, заслышав шаги, и взглянула на Вадима с удивлением и опаской. Он хотел спросить, какая это станция, но не решился, это небось еще больше напугало бы женщину. Отойдя шагов на двадцать, Данин придирчиво осмотрел себя, снял несколько соломинок с пиджака и брюк, поправил рубашку, хмыкнув, провел по щекам и подбородку, скептически оглядел мятые брюки. В общем-то, конечно, было чему и удивляться и чего опасаться. Видок у него отнюдь не респектабельный. Наконец он увидел здание станции. Оно было попредставительней, чем в Митине, — светлое, свежевыкрашенное в желтое, двухэтажное, хотя и не модерновое, из довоенных. Под крышей он различил буквы «Рытово».
Взглянул на часы — без двенадцати девять. Молодец, скоренько добрался. Он приблизился к зданию. Станция, казалось, еще не проснулась, она тихонько посапывала, сладостно добирая остатки сна. Двое небритых стариков в кепках сидели на лавочке возле единственной двери. Они неспешно курили папироски и безучастно глядели перед собой. Трое мальчишек со сбитыми коленками бегали по перрону. И все. И больше никого не было видно вокруг.
И что теперь? Телеграмма? Нет. В связи с отсутствием присутствия финансов. А! Телефон. Конечно, как же он забыл о таком благе цивилизации, как телефон. У начальника станции наверняка должен быть телефон! Чудесно! Он позвонит… А кому, собственно, он позвонит? Женьке? Марине? Может, Сорокину? Данин усмехнулся. Скорее все же Женьке, да, да, именно Женьке. Он вошел в здание. Оно еще пахло недавним ремонтом. Еще не заполнили его запахи ожидания и дороги. На первом этаже буфет, кассы, значит, начальник на втором. Вадим поднялся, прошелся по пустынному коридору, нашел табличку, постучал, толкнул дверь. Закрыто. Ну конечно, как всегда. В соответствии с замечательным общечеловеческим законом. Ладно. Он сбежал вниз. Прошел сквозь здание и очутился на пристанционной площади. У автобусной остановки томилась жиденькая очередь, все больше женщины, в платках, с сумками. Пустой пыльный автобус с закрытыми дверями, без водителя стоял посреди площади. Угретая уже набравшим силу солнцем площадь тоже виделась заспанной и позевывающей. На противоположной ее стороне, во дворе одной из бревенчатых изб запоздало кукарекнул петух. Кукарекнул коротко оборвав себя на полувыдохе. В очереди негромко засмеялись. Откуда-то потянуло жареной картошкой, и Данину вдруг нестерпимо захотелось есть. Да так нестерпимо, что просто невмоготу стало. Он проглотил слюну и полез в карман брюк. Пусто. В левом кармане пиджака наткнулся на собачонку, вынул ее, разлохматил, подмигнул ей. В том же кармане пальцы наткнулись на монеты. Не может быть! Он вынул руку из кармана. На ладони поблескивали два гривенника. Кое-что. Жаль, буфет не работает на станции. Данин пересек площадь, прошел вдоль домов, цыкнул на кошку, что собиралась перебежать ему дорогу, завернул за угол и в конце короткой улочки со вздыбленным, растрескавшимся асфальтом разглядел что-то напоминающее прилавки — некоторые были даже укрыты навесами — и людей за прилавками, и много людей перед ними. Рынок. Вадим удовлетворенно улыбнулся, на двадцать копеек там можно чем-нибудь поживиться.
Имели место здесь и помидоры, и огурцы, и редис, и лук, и чеснок, и травки всякие, и желтые бока дынь он углядел, и слезящийся срез сала заставил его судорожно слюну сглотнуть. И яблоки здесь были, и груши. Богатый был рынок. Вдруг мелькнуло за одним из прилавков знакомое лицо. Вадим даже остановился. Почудилось, показалось… Каких таких знакомых он может здесь углядеть? Но все-таки глаза сами по себе стали искать это лицо. И опять оно мелькнуло и заслонилось чьей-то широкой спиной. Вадим осторожно подошел ближе. Мужчина в синем, аккуратно выглаженном халате и в мятой тесной шляпе на затылке, наклонившись, накладывал яблоки в миску. Перед ним стоял покупатель — шмыгающий носом, приземистый малый в растоптанных сапогах. Вот мужчина выпрямился, повернулся лицом, и Данин охнул. Мужчина скосил на него глаза, и миска с яблоками вывалилась из его рук, рот раскрылся и обвисли безвольно щеки. Левкин! У него тут то ли дом, то ли дача. «В жизни раз бывает встреча», — отстраненно пропел про себя Данин. Левкин зашевелил большими руками перед носом покупателя, заблеял что-то невнятно, потом замолк, опять посмотрел на Данина, выдохнул и беспомощно опустил руки на прилавок. «Растерялся, — усмехнулся Вадим. — Еще бы, член партии и на рынке торгует». Но усмешка не проявилась на его лице, он мысленно лишь хмыкнул, а напоказ улыбку выставил, добродушную, ободряющую. А иначе нельзя, иначе совсем того не желая, злейшим врагом своим этого человека сделаешь. И, урезав эту улыбку, Левкин разгладил лицо, тоже заулыбался, смущенно и потерянно, как бы извиняясь своей улыбкой за то, что вот в таком виде неприглядном его застали; кивнул Вадиму, поманил к себе, ловко подхватил миску, собрал в нее раскатившиеся яблоки, поставил на весы, покачал головой, уже не удивляясь, а уже играя в удивление:
— Как? Что? Откуда? В такой глуши… Фантастика! — заговорил он, высыпая яблоки парню в растянутую авоську.
Данин взял с прилавка краснобокое, твердое, наверное, очень вкусное и сочное яблоко, повертел его в руке.
— Ешь, ешь, — подбодрил его Левкин. — Не покупные, не ворованные, со своего сада.
— Спасибо, — сказал Вадим, но яблоко положил обратно. — Как попал, говоришь? А черт его знает. Глупо и нелепо. — Он хотел даже рассказать, почему здесь очутился, всю правду хотел рассказать, но вовремя удержал себя: зачем? Кто он ему, сват? брат? — От поезда отстал. В Митине письмо хотел отправить, выскочил и отстал, а в поезде вещи, деньги. К маме ехал. В Москву.
— Так ты же был в отпуске? — Данин видел, что Левкин все-таки чувствует себя неуютно, нервничает, суетливо все шарит руками по прилавку, тщательно укладывая горкой и без того аккуратно уложенные яблоки.
— Да, договорился, отпустили. — И про увольнение свое он почему-то тоже не мог сказать.
— А-а, — протянул Левкин. — Понятно. Так ты обратно? А как же вещи?
— Сообщил уже на станции. Снимут, перешлют.
— А-а, — опять сказал Левкин. — Понятно.
Он снял шляпу, положил ее на прилавок, пригладил волосы, машинально отер лоб, будто испарина на нем выступила. А может, и вправду выступила — Данин же не приглядывался.
— Так ты без денег? — неуверенно поинтересовался Левкин.
Вадим кивнул. Совсем непохож был на себя Левкин. Всегда говорливый, похохатывающий, разухабистый, большой, крутоплечий, крупноголовый, сейчас он казался унылым, серым, невысоким и худосочным. «Неужто от встречи со мной так его перекосило?» — спросил себя Вадим.
Левкин огляделся, поискал кого-то глазами, не среди покупателей, как отметил Вадим, а среди продавцов; увидев, видимо, кого надо, прикусил губу, потер шею, словно решаясь на что-то, потом выдохнул коротко, пошевелил пальцами в воздухе, бросил Вадиму: «Я сейчас», и пошел спешно к соседнему прилавку. Там склонился к уху какого-то пучеглазого мужичонки, стал говорить ему что-то, показывая себе на спину. Мужичонка понятливо кивнул, полез в карман, вынул мятые бумажки, отсчитал несколько, сунул Левкину, тот невольно огляделся и, приподняв полу халата, запихнул деньги в карман и зашагал назад. Данин уловил на его лице досаду и раздражение. Но выражение это исчезло, когда он подошел.
— Пошли, — сказал Левкин. — В гости ко мне заедем. Я яблоки оптом продал.
— Прогадал? — спросил Данин.
— Ерунда. Это ведь я так, в качестве развлечения. Несерьезно все. Не гнить же продукту. Жалко.
— Конечно, — согласился Вадим. — Обычное дело. К тому же поощряемое государством.
— Во-во, — Левкин болезненно улыбнулся. — И я о том. И ничего страшного в этом нет.
— Совсем ничего страшного, — подтвердил Вадим.
— Да и лишние деньги не помешают, — он явно оправдывался.
— Деньги никогда не мешают. А лишних, признаться, и не бывает-то толком.
Они свернули в тихий, тенистый, не сразу заметный с мостовой проулочек, прошли мимо заборов, стискивающих проход. Во двориках было тихо и уютно, и оттуда дразняще и аппетитно тянуло жареным луком и мясом.
— Небось есть хочешь? — спросил Левкин.
— Очень, — сказал Вадим.
Они вышли на другую улочку, точь-в-точь похожую на ту, с которой ушли, и асфальт здесь тоже был вздыбленный, развороченный и растрескавшийся. У заборчика напротив стояла машина, не машина даже, а корытце на колесах, залатанный, обшарпанный и растрепанный какой-то «Москвичок» старой модели. «Четыреста второй, кажется», — вспомнил Вадим. Левкин дернул губами в скупой улыбке, подошел к машине, повозился с дверью, кряхтя, залез в автомобиль, открыл другую дверцу Вадиму.
— Это так, для местных разъездов, — тихо объяснил он, когда Данин уселся. — От тестя остался. Не выбрасывать же. Если бегает.
Мотор затарахтел, зафыркал. Левкин неспокойно постучал по рулю, спросил, глядя перед собой:
— Поехали?
Щеки его на мгновение втянулись; вспухли и обмякли желваки на скулах. Он чересчур резко и сильно включил передачу, громко газанул, и машина, нервно прыгнув вперед два раза, покатила по дороге.
— Дом недалеко, — сказал Левкин.
— А удобно? — спросил Вадим. — Я не стесню тебя?
— Все нормально, — Левкин опять провел ладонью по лбу.
Остальную часть пути они молчали. Да и о чем говорить? Они и на работе-то мало общались. Служебные дела, анекдоты, вот и все темы для беседы. Через десять минут остановились возле высокого глухого забора, перед обитыми железом воротцами. Калитка отворилась бесшумно. Всполошенно загавкала собака где-то за домом. Весь участок занимали огороды и деревья. Только справа, метрах в пятнадцати от дома, под раскидистой яблоней Данин разглядел столик с лавочками. Когда-то давно сам дом был одноэтажный, потом его надстроили. И со вторым этажом он выглядел теперь не совсем привлекательно. Непропорциональным и неряшливым каким-то гляделся. Первый этаж добротный, бревенчатый, насупленный, а второй — из легкомысленных досочек сбитый, невесомый, ненадежный, того и гляди разлетится.
Вошли в переднюю, захламленную какими-то коробками, банками, пыльными тряпками. Переступив порог, Левкин словно сжался, еще меньше стал.
— Леля, Лелечка, — позвал он. — У нас гости.
Неожиданно впереди открылась дверь, и в проеме возникла невысокая женщина. Лица ее Данин сразу не разглядел, потому что свет от окна бил ей в спину.
— Что случилось? — быстро спросила женщина. — Почему ты так рано? Уже все сделал?
— Нет, не сделал, — виновато заулыбался Левкин. — Коллегу встретил. Я тебе рассказывал, — он показал на Вадима. — Данина. Он от поезда отстал. Голодный. Я оптом все продал. Ну и сюда. Покушать сготовь что-нибудь, а?!
Женщина вздохнула, обтерла руки о мужскую рубашку, что была на ней надета, протянула Данину руку:
— Леля, — без особого энтузиазма представилась она.
«Разве есть такое имя?» — подумал Вадим и тоже протянул руку. Глаза уже пообвыкли, и он разглядел ее лицо. Блеклое, с бледными губами, с тусклыми, бесцветными, без всякой косметики глазами. Волосы были гладко зачесаны и открывали непропорционально большой лоб. На вид этой самой Леле было под пятьдесят. Неужто она старше Левкина? Тому-то еще вроде сорок четыре. Руку-то Леля протянула, но в комнату не позвала, а, наоборот, захлопнул дверь в нее. Потом шагнула к Левкину, тронула его за локоть, сказала вполголоса:
— Идем, поговорить надо.
Левкин выдохнул шумно, как после стометровки, кивнул Данину.
— Ты… это самое… подожди, я сейчас, мы сейчас, — и, ссутулясь, пошел вслед за женой на кухню. Оттуда пронзительно пахло чем-то острым, овощным.
Забубнили приглушенные голоса. Вадим различил только несколько слов: «Почему так мало?» «Отправил бы его домой», «Пять рублей тоже деньги…», «Посылай тебя». А потом они стали говорить тише. Неловко стало Вадиму вдруг стоять здесь — в тесной, загроможденной ненужными, давно просящимися на свалку или во вторсырье вещами, прихожей, — будто он специально тут остался, чтобы подслушать вовсе не предназначенный для его ушей интимный, семейный разговор, добрый или осуждающий, но интимный, для двоих. Он потоптался на месте, без всякого интереса окинул еще разок переднюю, мельком подумав про Левкина: «А ведь он стесняется неухоженности вот этой, и жены стесняется…» — и направился к двери, на крыльце вздохнул с удовольствием и спустился по рассохшимся, ворчливым ступенькам на утрамбованную до каменной твердости дорожку. Позади в доме хлопнула дверь, послышался недовольный голос Лели, сказавшей что-то вроде: «Совсем рехнулся. Ты еще фрак надень…» И стих так же внезапно. И опять хлопнула дверь. «Интересно, — подумал Вадим. — Всегда она была такая? Любила ли его?» Застучали твердые шаги за спиной. Данин обернулся. На крыльце стоял Левкин. Другой Левкин. Преображенный Левкин. Почти прежний Левкин. В темном костюме, в начищенных туфлях, в чистойрубашке, правда, без галстука, с расстегнутым воротом, но он на даче все-таки, не на приеме. Зачесанные назад волосы влажно блестят, на лице широкая улыбка. Он поймал на себе внимательный взгляд Вадима и уловил, видимо, в нем легкое удивление и слегка смутился, ссутулился и неуклюже, чтобы скрыть смущение, быстро сбежал по ступенькам, полуобнял Вадима за плечи, сказал: «Пошли к столику, на воздухе потрапезпичаем», — и по-дружески подтолкнул его вперед.
И все-таки, несмотря на смущение, вид Левкина говорил: «Вот, смотри: мы тоже не промах, не хуже некоторых».
Когда усаживались, Левкин поставил на стол бутылку, большую, литровую, а Данин и не заметил ее у него в руках поначалу, так преображением бывшего коллеги изумлен был.
— Сидр, — пояснил Левкин. — Яблочный сок, но с градусом. Холодный — самое что надо к завтраку. Но не свой, покупной. Много его в сельпо. Однако вкусный, мне нравится. Можно изредка побаловаться.
Левкин поправил воротничок рубашки, положил широкие, сильные ладони на стол и, забарабанив пальцами по недавно выкрашенным доскам, нетерпеливо посмотрел на крыльцо.
— Как в институте? — спросил он.
— Все по-прежнему. — Данин достал сигареты. — Скука. Болтовня.
— Значит, никаких катаклизмов, — Левкин помял пальцы.
И опять взглянул на дверь.
«Зря я к нему пошел, — тоскливо подумал Вадим, закуривая. — Но жрать охота зверски…»
— Что Сорокин? — Левкин поджал губы, сузил глаза и уже не отрывал взгляда от двери.
— Руководит, — сказал Вадим.
— Леля! — вдруг гаркнул Левкин. — Мы заждались. И стаканы принеси. — Он развел руками и скупо, коротко улыбнулся. — Не все еще готово. Она не ждала меня.
— Ничего, — успокоил Данин и, помолчав, добавил: — А у тебя хорошо здесь.
— Правда? — тотчас отозвался Левкин. — Спасибо. Но много еще делать надо. Хозяйство как-никак.
Левкин в который раз посмотрел на крыльцо и наконец сообщил удовлетворенно:
— Ну вот и угощение идет.
Вадим скосил глаза и увидел Лелю с подносом в руках. Осторожно пробиралась среди огородов, кривилась и тихонько что-то говорила себе под нос. Она так и осталась в мужниной застиранной рубашке, в серой длинной юбке. Только губы подкрасила. И неуместно ярко краснели они теперь на ее бледном, безучастном лице. Она поставила поднос на стол, резкими, нервными движениями сняла с него тарелки, вилки и со звоном стянула поднос со стола.
— Спасибо, — вежливо сказал Данин.
Женщина устало кивнула и повернулась.
— Лелечка, а стаканы, — с мягкой укоризной заметил Левкин.
— О господи, — вздохнула женщина и, досадливо шевельнув плечами, направилась к дому.
Левкин ткнул вилкой в жареные кабачки, кивнул на дымящуюся картошку, проговорил:
— Бери, ешь, не стесняйся.
Вадим положил себе всего понемногу и принялся есть. Кабачки были замечательные, острые с поджаренной хрустящей корочкой, а картошка была жестковатая, чуть недоваренная, именно такая, какая нравилась Вадиму, а сладкие, сдобренные чесноком помидоры просто таяли во рту, и у него быстро поднялось настроение; теперь можно жить. Бесшумно подошла Леля, поставила стаканы на угол стола и зашагала обратно.
— А вы с нами? — предложил ей в спину Вадим.
— Спасибо, — не оборачиваясь, ответила женщина. — Не могу. Дел много.
Левкин тоже посмотрел на ее утомленную, вялую спину, задумался на мгновение, потом потянулся к бутылке, ловко откупорил ее, и разлил золотистую пузырящуюся жидкость по стаканам.
— Ну, со свиданьицем, — он поднял стакан и, не ожидая, пока Вадим возьмет свой, выпил залпом, жадно и удовлетворенно заглатывая легкое винцо. Выдохнул, заморгал часто и сразу налил еще.
— Пить хочу, — с оправдывающейся улыбкой объяснил он.
— С утра с самого. — И вновь с удовольствием прильнул к краю стакана. Оставил его, почмокал, привычно обтер невидимый пот со лба, хрустнул ароматным мелкозернистым нежным огурчиком, попросил Вадима:
— Дай сигаретку.
Данин протянул пачку. Левкин поковырялся, извлек из нее сигарету, прикурил, затянулся глубоко, с шумом, усмехнулся кривовато и, неожиданно навалившись грудью на стол, спросил, в упор глядя на Вадима:
— Думаешь небось, вот какая дерьмовая жена у Левкина?! — Лицо его заметно побагровело, забилась пульсом жилка у виска.
— А он, олух, у нее под каблуком…
— Да ничего я не думаю, — растерянно возразил Вадим.
— Думаешь, думаешь, — Левкин махнул рукой почти у самого его лица. — А зря, между прочим, думаешь. Жизнь у нее не сладкая была. Сечешь? Заковыристую очень жизнь она прожила. Ей ведь сорок всего, а ты небось подумал, что под полтинник. Мать у нее умерла, когда ей четырнадцать было. А через год отца удар хватил, парализовало напрочь, а у нее сестренка и братик младшенькие. Понял? Одна она их на ноги поставила. Я, когда встретил, она худющая была, дерганая, замкнутая, слова не вытянешь. А вот понравилась она мне. Поначалу жалко было, а потом понравилась. И у нас все не как у людей складывалось. Первый ребеночек умер в год. В год умер. Понял? — Он говорил тихо, сквозь зубы, взгляд был тяжелый, враждебный. — Слава богу, двое других живехонькие и здоровенькие остались. Мы много вместе пережили, много всякого вместе видели, и какая бы она теперь ни была, я до конца с ней. Вот так…
Он прикрыл глаза, отдышался, словно бежал долго, не стометровку уже, а марафонскую, долгую, изнурительную дистанцию. Притушил недокуренную сигарету, взял другую, прикурил от спички. Налил еще себе полстакана, поболтал в нем жидкость, отставил.
— Прости, — сказал он и невесело улыбнулся. — Сжались нервы сегодня в комок.
— Ничего, — сказал Вадим. — Бывает. Я все понимаю.
— Может быть, и понимаешь, — рассматривая кончик сигареты, проговорил Левкин. — Может быть. У меня много всякого за сорок пять годов-то было. И женщины были. Да, да. Много было. Но она для меня одна. Понял? — Он опять заулыбался, видно, вспоминая что-то, и размягченно откинулся на спинку скамьи. — Знаешь, какие у меня женщины были? Ого-го… Не поверишь, — он почесал подбородок, как бы прикидывая что-то, потом сказал: — Эх, раз такой разговор вышел, скажу тебе… У меня ведь с Мариной нашей связь была, долгая, почти полгода…
Вадим машинально ткнул вилкой в тарелку с остывшими уже, отвердевшими, покрытыми желтым масляным налетом кабачками, подцепил кружочек, понес его быстро ко рту, но кружочек сорвался строптиво с вилки и бесшумно свалился на дощатый стол. Вадим чертыхнулся, проткнул его посильней, положил к себе на тарелку, но есть не стал, бросил со звоном в тарелку и вилку. Ни с того ни с сего у него вдруг запылали уши, казалось, будто поднес кто-то к ним зажженные спички. Он невольно потрогал одно ухо и чуть успокоился, убедившись, что они прикрыты волосами и Левкин их не видит…
— А она ведь красивая, правда? — пристально глянув на него, спросил Левкин.
— Красивая, — как можно равнодушней отозвался Вадим, но на взгляд Левкина не ответил. Не мог.
— И молодая, — Левкин качнул головой и принялся сосредоточенно разминать очередную сигарету. — Все у нас было: и жаркие слова, и признания разные…
— И давно это было? — с выдавленной ленивой полуулыбкой спросил Данин.
— Давно. Ты только-только пришел, когда у нас началось.
«Значит, уже знала меня», — с неожиданной вдруг горечью подумал Вадим, и что-то царапнуло его изнутри, шевельнулось какое-то щемящее, непонятное, неясное и раздражающее этой своей неясностью чувство. И ревность не ревность — откуда, собственно, и — обида не обида, на что обижаться? Все в твоей власти было, а скорее всего осознание утраты, может быть, чего-то не очень большого и не очень важного, но порой необходимого ему для ощущения себя, для ощущения своей силы и уверенности.
— Все прекрасно было, — говорил Левкин, рассеянно тыкая сигаретой в пепельницу. — Но когда приходил к ней, когда видел ее, такую красивую, разнеженную, тотчас Леля перед глазами представала, грустная, усталая. И так больно становилось. Короче, не смог я. Вот так.
— И ты ушел, — сказал Данин только для того, чтобы что-то сказать.
— Да, — Левкин вытянул руки на столе и, внимательно глядя на ладони, сжал и разжал пальцы, будто разминал их после долгого писания, как в школе, в первом классе, «наши пальчики устали…». — Да. И вовремя. У нее новое увлечение уже появилось. Я чувствовал. Ты.
— Я? — безучастно переспросил Вадим. — Надо же…
— Передо мной-то не ерничай, — усмехнулся Левкин. — Я же видел, как ты с ней…
— Забавлялся, — Данин опять выжал беззаботную улыбку. — Хохмил…
— Ну вас ничего не было? — вдруг едва заметно напрягшись, быстро спросил Левкин.
— Ничего, — сказал Данин.
Левкин расслабился, и притаенное удовлетворение мелькнуло в его глазах.
За забором деловито бряцали посудой; слышно было, как шумно текла вода в открытом кране; женский голос громко и недовольно позвал: «Валька, иди домой, завтрак готов, иди, говорю!» Вдалеке неугомонно вжикала пила, и кто-то заводил, видимо, барахливший мотоцикл; он фыркал, тарахтел недолго и глох.
— Почему же я ничего не видел? — неожиданно для самого себя спросил Данин. — Не видел, — добавил он тише, — и не слышал…
Левкин все-таки выпил оставшуюся половину стакана.
— Почему? — выразительно хмыкнув, спросил он. — А потому, что ты вообще ни черта не видел, что вокруг тебя происходит. Все собой был занят, только на себя и глядел, а на остальных чихал.
— Мне просто нет дела до интриг и всякой там мышиной возни, — сухо возразил Вадим. — Кто за кого, кто с кем, группировки, коалиции, подсиживания и тому подобная чепуха меня не интересуют. Мне нечего делить. И терять нечего…
— Нет, не то, — поморщился Левкин. — Мне тоже наплевать на эту суету. Ты людей не видишь, не вглядываешься в них, не понимаешь их, не стараешься понять. Ну кто для тебя Хомяков, или Татосов, или Рогов, или Зерчанов? Функционеры, обыватели; едят, пьют, понуро ходят на работу, исполняют обязанности и спешат к телевизору, и тупо глядят в него… Так?
Данин пожал плечами.
— Так, так, — закивал Левкин. — А знаешь, что Хомяков четырнадцатилетним пацаном на фронт сбежал? Самый лихой разведчик у Плиева был, орден Ленина имеет, во! — Левкин поджал губы и поднял палец. — А уж о других орденах и говорить не приходится. Знаешь, нет? Не знаешь. А знаешь, где он в пятьдесят шестом был? В Венгрии, в самом пекле, уже капитаном. Потом ранение, потом два года неподвижности, стал заниматься наукой и одновременно верил, что встанет. Всего себя собрал в кулак и встал. А Рогов в тридцать лет был директором НИИ. И нашлись сволочи, которым успех его покоя не давал, закидали соответствующие органы анонимками, все извернули, пару провокаций подстроили. А другие недоумки испугались за свое место, пошли на поводу, лишили человека самой большой его радости — работы. А Рогов так и не пережил удар, сломался. Так и не поднялся, больше сил не хватило. Ну и что? Человек-то ведь порядочнейший. И про Маринку ты ничего не знаешь, и про меня. Все мы на одно лицо для тебя.
— Но не мог же я в личные дела смотреть, — потирая заломивший вдруг висок, негромко сказал Данин.
— А зачем дела? — удивился Левкин. — Общаться надо было, общаться. Ты понимаешь? — Он вдруг хлопнул несильно ладонью по столу. — Ведь многие догадывались о нашей связи с Маришкой: и Хомяков, и Татосов, — я видел, а ведь молчали, чуешь, молчали. Вот так.
— Замечательные люди, — вдумчиво, в тон Левкину сказал Вадим. — И преданные товарищи. Коллектив, одним словом. Круговая порука. Все за одного, один за всех. Корку хлеба — и ту пополам…
— Перестань, — покривив губами, оборвал его Левкин. — Не скоморошничай. Ведь дело говорю.
— Ты всегда говоришь дело. — Вадим подавил зевок, спать хотелось чудовищно. В сенце-то, конечно, распрекрасно покемарить, но не в отсыревшем стожке, в пяти метрах от «железки». — Ты умный. Я дам тебе медаль. Представляешь, такую замечательную медаль! За взятие Ума. Здорово, да?
— Дурак ты, — беззлобно сказал Левкин и махнул рукой.
Вадим опять потер нудно тянущий болью висок, потом расправил плечи, потянулся, прижмурившись, посмотрел на солнце, частыми лучиками просачивающееся сквозь листву яблони, сдержал готовый уж вырваться глубокий тягостный вздох, перевел взгляд на Левкина — причудливые, желтофиолетовые разводы почти совсем заслоняли его — слишком долго Данин на солнце смотрел. Сказал, как о деле решенном:
— Поеду я. Когда ближайший поезд?
— Уже? — Левкин притворно нахмурился, будто ему страсть как не хотелось, чтобы Вадим уезжал. — А то погостил бы, завтра бы и уехал. Устал ведь.
— Нет, Сережа, надо, очень, очень надо.
— Ну, гляди, — сказал Левкин — и крикнул: — Леля! Посмотри, когда ближайший поезд до города.
— Чего ж так скоро? — Леля вышла на крыльцо и, вытирая руки о фартук, неожиданно, впервые за сегодняшнее утро заулыбалась. И Вадиму совсем расхотелось здесь оставаться, даже на минуту, даже на секунду, потому что вдруг ясно понял, что плохо ли им тут или хорошо живется, улыбаются они друг другу или ругаются друг с другом, все равно у них уже все отлажено, все расставлено по полочкам, и им не надо ничего решать, нечем мучиться, кроме мелких бытовых проблем. И доживут они так до самой старости, тихо и не спеша. А вот он… Если б они знали, что ждет его, если бы он сам это знал. И так обидно ему стало, так тоскливо, что хоть плачь. И он торопливо стал подниматься из-за стола, чтобы поскорее уйти, выбраться из этого дурмана безмятежной и почему-то вдруг такой желанной жизни. Встал, потопал затекшими ногами, с усилием улыбнулся в ответ Леле, коротко пояснил причину своего ухода.
— Дела, знаете ли, неотложные, — и, чуть поклонившись, поблагодарил ее: — Спасибо за приют, за угощение. Было очень приятно.
— Я подвезу, — предложил Левкин, вставая.
— Не надо, — запротестовал Вадим. — Я дойду. Сам. Хочется прогуляться.
— Так когда поезд, Леля? — повернулся Левкин к жене.
— В десять двадцать.
— Через полчаса. — Вадим посмотрел на часы. — То, что нужно.
— Я все-таки подвезу, — Левкин неуверенно дотронулся до плеча Вадима.
— Спасибо, Сережа. Я правда хочу прогуляться.
— Учти, идти минут двадцать.
— Вот и хорошо.
— Пойдем, до ворот хоть провожу.
Вадим еще раз кивнул, поклонившись Леле, и зашагал к воротам. За ним, взглянув на жену и с легким недоумением пожав плечами, двинулся Левкин.
За воротами они остановились.
— Да, — спохватился Левкин. — Тебе же деньги нужны.
— А я и забыл, — Вадим, усмехнувшись, мотнул головой. — Сколько стоит билет?
— Четыре рубля, — ответил Левкин и, вытащив из кармана десятирублевую бумажку, протянул ее Вадиму.
— Много…
— Пригодится. Отдашь ведь.
Левкин замешкался на долю секунды, покусал мягко верхнюю губу и, не глядя в глаза Вадиму, проговорил вполголоса:
— Ты знаешь, какое дело… Я здесь тебе наболтал всякого. Ну в смысле про Марину. Хотелось бы, чтоб это между нами…
— Конечно. Не беспокойся. — Вадим уже с жадностью смотрел на дорогу, ему нестерпимо хотелось уйти. — Тем более, что я уволился.
— Что? — Левкин вскинул удивленные глаза. — Уволился?
— Потом, Сергей, все потом объясню, — сказал Данин. — Вот когда деньги отдавать буду, и объясню. Пошел я, пошел. Будь здоров.
И коротко пожав Левкину вялую его — от изумления, наверное, ослабшую — руку, зашагал прочь.
Он стоял в стылом, не угретом еще дневным теплом тамбуре, курил и смотрел в окно. Стеной тянулся лес. Он подступал почти вплотную к колее, к поезду, и казалось, что состав идет по тоннелю со стеклянной прозрачной крышей. А потом лес убегал вдруг от дороги. И мелькали золотисто высвеченные солнцем полянки. Уютными, манящими виделись Вадиму эти полянки, иные казались просто неправдоподобными, будто нарисованными восторженным художником. И нельзя было от них глаз оторвать. И хотелось даже спрыгнуть с поезда и пойти посмотреть, вправду ли это настоящая полянка, окруженная изумрудными деревьями, а не мираж, и если не мираж, завалиться в упругую, высокую, не скошенную еще траву и задремать, забыв обо всем. «Хватит, — остановил себя Вадим. — Не расслабляться. Нельзя мне расслабляться…» И он постарался думать о чем-нибудь другом. Сразу же вспомнил Хомякова и безрадостно усмехнулся. Вот как оно бывает. Боевой, и, наверное, добрый, и отличный мужик. А ты вот не увидел, не рассмотрел, некогда было, да и ни к чему. Обозначил его сразу для себя, как только увидел унылое, невыразительное его лицо, и ярлык повесил — «чайник», и больше не раздумывал уже. А он ведь тоже не дурак, увидел твою недоброжелательность и вмиг коготки выпустил, защищаясь. Опять выходит, что от тебя самого все идет, в себе причину всегда искать надо. И с Маринкой ведь так же получилось. Поплевывал ты на нее, вспомни, поплевывал ведь, с самого начала причем… Стоп! Она ведь и с Левкиным наверняка связалась, что ты равнодушен к ней был. Точно, точно. Какую-то фальшь чувствовал он в словах Левкина, горечь и изначальную зависть, когда тот о новом увлечении Марины говорил, словно не новое это было увлечение, а старое, с самого начала их связи Левкину известное. Но догадка не утешила его самолюбие, не стало ему легче. Ему вообще, видать, теперь не скоро станет легче. Он бросил сигарету в окно и пошел в купе, и просидел там в компании с тремя молчаливыми деревенскими женщинами до самого города и всю дорогу гнал, гнал от себя мысли, все боялся, что подточат, порушат они его решимость. А впрочем, решимость ли это была?
Город был прежним, и нисколько не изменился. Да и как он мог измениться — меньше суток ведь прошло, хотя Вадиму казалось, что отсутствовал он месяц, а то и два, а то и того больше. Стремительны и деловиты были люди, настойчивы и нахальны автомобили. Также шумно было и неспокойно.
Думал взять такси, но увидел чудовищную очередь, ужаснулся и махнул на излишнюю роскошь, побрел к автобусу. Втиснуться в салон автобуса не сумел (машину осаждала плотная, монолитная толпа), пожал плечами и побрел пешком до другой остановки. Двигался машинально, бездумно глядя перед собой, и оттого не заметил паркующийся у тротуара автомобиль и открывающуюся дверцу, выходящего из автомобиля мужчину и поэтому ткнулся неожиданно в его спину. Чертыхнулся, хотел сказать что-нибудь не очень лестное, но когда тот повернулся, разом забыл придуманные слова. Спорыхин-старший смотрел на него пристально и изучающе. Вадим подался назад, потом ступил вбок и оттянул лацканы пиджака, ловчее усаживая его на себе. Но в глаза Спорыхину глядеть не переставал, держал его взгляд. Лишь несколько секунд, как и тогда во дворе, всматривались они друг в друга, а потом отвели одновременно глаза и разошлись, каждый в свою сторону.
Пока проделывал неблизкий до дома путь (все-таки на автобусе, вытянувшись в струнку и затаив дыхание, а потом пешком), непрестанно лицо Спорыхина-старшего перед ним маячило, растянутое тонкой улыбочкой, холеное, словно умело выстиранное, отглаженное. Острые, с морозцем серые глаза его рассматривали Вадима в упор, не мигая, и мешали сосредоточиться, мешали выстроиться стройно мыслям, чтоб подвели они его к догадке, еще укрытой, пока клубящейся ватной пеленой, но пелена та рассеиваться уже начала, и едва видимые бреши в ней появились, и можно было что-то очень знакомое в них разглядеть, но если только очень-очень внимательно и долго приглядываться. А вот этого Вадиму никак и не удавалось.
У дома, у подъезда уже, с усилием отогнал он от себя это дурацкое болезненное видение, разумно сказав себе, что сейчас уже все равно, докопается он до сути или нет. Скоро он все узнает, ему расскажут, если не все расскажут, то хоть немного, а остальное он сам домыслит.
Хотя, впрочем, надо ли ему это будет? Он стиснул зубы и прикрыл глаза. Ухватившись за ручку подъездной двери, до боли отчетливо представил себе сырой сумрак камеры, а потом вдруг сразу без перехода, без паузы — съежившуюся от ужаса Дашку в руках безликого громилы…
В квартире было душно, пахло пылью, лежалой бумагой и застоявшимся табачным дымом, и еще чем-то приятным, очень близким, очень родным, свойственным только этой квартире — славному его жилищу.
Он со вздохом опустился на диван и, услышав привычное, знакомое покряхтывание и посапывание, чуть приподнялся и сел, и опять услыхал те же знакомые звуки. Вадим слабенько улыбнулся, огляделся, осмотрел со всех сторон стол, прищурился, разглядывая, что там лежит на нем, нахмурился, заметив царапину на дверце — интересно, когда она появилась? Надо замазать лаком. О господи, он сжал пальцами лоб, каким еще лаком? Зачем лаком?! Он крутнул головой, встал, опершись руками о колени, не без труда встал, как после высокой температуры, жаром изнуренный; осмотревшись, проковылял на кухню, поставил табурет перед антресолью, взобрался на него, держась за косяк двери, раскрыл створки, покопался в книжках, сто лет там лежавших в узлах, давно забытых, извлек из-под одного из них сумку Можейкиной, стер пыль с нее рукавом, спрыгнул с табурета, бросил сумку на стол, сумрачно усмехнувшись, несколько секунд разглядывал ее — даже ведь и не открыл ее ни разу, — и пошел в комнату, к телефону. Не успел руку протянуть, как звякнул деловито. И хоть тихий был у него голос, Данин вздрогнул — так неожиданно подал он свой сигнал. Он положил руку на аппарат и, подобравшись, через секунду снял трубку.
— Вадим! Сколько сейчас времени? Ты где? — Ольга задавала глупые вопросы и, задавая их, почти кричала, это чувствовалось по напряженному ее голосу, но звучал он тихо, слышимость была отвратительная.
— Сейчас половина четвертого, — сказал Вадим. — И я дома.
— Что? Я не слышу. Что случилось? Почему ты дал телеграмму? Я волнуюсь, слышишь, я ужасно волнуюсь…
— Все в порядке, — бодренько сказал он. — Я просто беспокоился, почему ты не звонишь.
— Ты что там кашляешь? Ты простыл?
— Нет, я здоров. Как Дашка?
— Нормально. Очень довольна. Мы скоро приедем.
— Не надо, — Данин повысил голос, — скоро не надо. Я уезжаю в командировку. Приезжайте недельки через две.
— Что-то еще произошло, Вадим? Да?
— С чего ты взяла?
— У тебя такой голос…
— У меня превосходный голос. Все, мне некогда. Прощай.
Прощай! Он сказал ей «прощай». Он никогда не произносил этого слова всерьез, только в шутку, только усмешничая; он боялся его, боялся его завершенности, конечности, его безнадежности. А теперь вот сказал невольно, не раздумывая. Оно вырвалось, вылетело из его уст, само по себе. Нет, не из уст, не с языка, а из самой глубины его, из той самой глубины, которая не всегда подотчетна тебе, не всегда управляема. Значит, все! Значит, так надо! Значит, отступать некуда! Он быстро протянул руку к аппарату, но тот снова, во второй раз, остановил его, зазвенев неожиданно, и Вадим даже почувствовал ладонью колебания воздуха вокруг него. Он сорвал трубку, поднес к уху, ответил. Тишина. «Я вас слушаю», — зло проговорил он.
И по-прежнему тишина.
А потом, через секунду, пульсирующие гудки. Вадим выругался про себя, нажал на рычажки и принялся набирать номер.
— Уваров. — Голос у оперативника был ровный, чуть притомленный.
— Это Данин, — с внезапной хрипотцой назвался Вадим. — Мне надо приехать. Необходимо поговорить.
— Хорошо, — с готовностью произнес Уваров. — Я вас жду.
Ни минуты теперь не медлить, ни секунды, ни мгновения. Он стремительно прошел в ванную, причесался, покривился, увидев на щеках суточную поросль. Ну да бог с ней, сойдет, там побреют. Торопливо прошествовал на кухню, схватил сумку, сунул ее за пазуху, на миг остановился, как-то разом, одним взглядом окинув квартиру: и комнату, и кухню, и коридор, — и, ссутулившись, поспешно шагнул к двери.
С хмурым, неприкаянным лицом он вышел на свет, на улицу, на солнце, потому что хмуро и неприкаянно было на душе. И как ни ласкало его зардевшееся, далеко послеполуденное, послабевшее уже солнышко, а не сумело разгладить черты, отогнать хоть ненадолго хмурь, а уж к сердцу-то тем более не смогло подобраться, не его там площадка для игр, не его там зона влияния. Он вышел на тротуар, прикидывая, как лучше ехать, и прохожие, снующие по асфальту, казалось ему, коротко осматривая его, шарахаются в сторону, от греха подальше, не дай бог заразит их этот странный тип томительной, душноватой своей тоской. Подойдя к краю тротуара, Вадим будто очнулся — неужто и вправду люди его сторонятся, обходят, боятся задеть, — сосредоточился, огляделся. Да нет, все вроде в порядке. Никому до него дела нет, у всех на лицах только свои заботы начертаны. Но все равно, все равно на такси надо ехать. Тяжко ему будет сейчас среди людей в общественном транспорте тереться, чужим он будет себе среди них казаться, выброшенным уже из их жизни он будет себе казаться. И он вытянул руку, не глядя на шоссе. Машин много, кто-нибудь да остановится, частник или такси, а может, и самосвал или фургон с надписью «Хлеб». Он и на самосвалах ездил, и на фургонах, и на «скорой помощи», и на поливалках. На чем он только не ездил. Господи, когда это было?! Голубенькое такси бесшумно подкатило к тротуару и плавно притормозило возле него. Вадим подергал переднюю дверцу, она не открылась. Тогда он увидел руку шофера, которая приподняла кнопку замка на задней двери. Вадим щелкнул ручкой, заглянул в кабину и хотел сказать, куда ему надо, но не смог, так и остался с открытым ртом. На сиденье водителя, привалившись боком к спинке, сидел Витя-таксист и неуверенно, чуть морщась, смотрел на него. Данин отпрянул невольно, но тут же уткнулся задом во что-то. А потом все произошло невероятно быстро. Его ударили сзади чем-то твердым по копчику. «Коленом», — безучастно отметил Вадим, ойкнув от боли. Затем с силой толкнули в спину, и он повалился руками вперед, на засаленное, взвизгнувшее в ответ сиденье. Тотчас отворилась противоположная дверца, и мелькнули ноги в синих джинсах. Обладатель их ухватил беспомощную, опирающуюся на сиденье руку Вадима, резко и умело подтянул за нее Данина к себе и заломил руку за спину. Вадим снова вскрикнул от боли, теперь уже громче, но никто, конечно, кроме сидящих в машине, его крика не услышал. Бесшумно выпала сумка из-за пазухи. Джинсовый присвистнул и стремительно поднял ее с сиденья. Сумка мягко шлепнулась за головой у Вадима, у заднего обзорного стекла. Потом его опять пихнули справа, и кто-то, грузный и сопящий, повозясь, устроился рядом. Дверцы хлопнули выстрелами одна за другой, и машина лихо сорвалась с места. Инерцией всех прижало к спинке сиденья, и хватка соседа слева ослабла. Вадим повернул голову. «Курьер». Чернявый «курьер» собственной персоной. Он смотрел на Вадима с сонной кисловатой полуулыбкой. Вадим отдышался, с усилием проглотил слюну. Холодный скользкий ком стоял в горле. Вадиму было страшно, страшно до боли, до рези в животе. Но он чувствовал, что страх не сковал его. Он все-таки соображает и может двигаться и говорить. Только что говорить?
— Ну что? — с всхрипом начал он. — В гангстеров играем? Детство сопливое вспомнили? А? Пусти, руку сломаешь! Если сломаешь, будешь мне по суду бабки выплачивать… — И бегло подумал: «Какую чушь я несу!».
«Курьер» ухмыльнулся во весь рот, но промолчал. Справа шумно хмыкнули и опять засопели. Неестественно вывернув шею, Данин посмотрел и туда. Это сопел толстяк в пиджаке, со стрижкой ежиком и багровым раздражением на лбу, — тот самый, которого Вадим заприметил в автобусе, когда возвращался от Наташи. Он неожиданно усмехнулся и тотчас сам подивился своей усмешке — это в сго-то положении!
Но усмешка приободрила и придала и сил и уверенности, что с ним ничего не случится. Плохого не случится.
— Ну что вам надо? — Он опять повернулся к «курьеру». У того хоть лицо не дебильное было, обычное смазливое личико центрового фарцовщика. — Зачем я вам? На мне что, свет клином сошелся?
— Куда сумку везешь? — спросил неожиданно «курьер» с беспечной мальчишеской улыбкой. Это хорошо, что он заговорил. Вадим уже решил, что они так и будут вглухую молчать — это хуже.
— Выбросить хотел, — сказал Вадим. — На кой она мне. Руки жжет.
— Врешь, — не убирая улыбки, мягко возразил «курьер». — В контору небось везешь, дружкам своим, ментам. А мы вот тут как тут. И только тебя и видели на этом шарике.
— Неужто убивать будете? — с легкой усмешкой спросил Вадим, а у самого вдруг неистово и невероятно громко заколотилось сердце. Он на мгновение только допустил эту мысль, и вспыхнул слепящий свет перед глазами, а потом темнота опустилась, и ворохнулось в темноте что-то причудливое, разноцветное; и знакомо заломило в висках, и он задышал часто.
— Вероятно, — звериным чутьем почувствовав, как ослабела, обмякла у Вадима воля, с удовлетворением подлил масла в огонь «курьер» и чуть разжал пальцы на запястье Данина, давая своей руке возможность отдохнуть.
А за окнами, как и сто, и двести, и триста лет назад, жил буднично и деловито город, и не было ему никакого дела до Вадима, до его страхов, сомнений, до его поломанной жизни.
Горожане беззаботно смеялись на тротуарах, освободившись наконец от служебных забот, сладостно впивались в мороженое, придерживали на ветру подолы легких платьев, ослабляли узлы галстуков, снимали пиджаки и перекидывали их через руку, заглядывали в магазины, ругались в очереди, нежно целовались, встречаясь у кинотеатра, у парка или просто на углу, и никто и думать не думал, и гадать не гадал, что вот рядом с ними, совсем в нескольких шагах, только сделай шаг, приглядись внимательней… происходит непоправимое.
Вадим опустил голову на грудь, прикрыл глаза, и такая злость вдруг вскипела в нем, на все и на всех, но больше на себя, на жизнь свою, на глупость, малодушие, трусость свою, и взревел он вдруг яростно, вырвал левую руку у ошалевшего «курьера», двинул со всей силы локтем ему по глазам, а потом без паузы метнул правый локоть туда, где сидел толстяк, и, всхрипнув глухо, ухватил Витю за подбородок и оттянул его голову на себя. Машина завиляла, пьянея словно, но не остановилась, продолжала катиться по инерции, чудом не задевая автомобили, бегущие справа и слева. А они гудели уже вовсю, призывая к порядку расшалившегося шофера…
Боль в правом боку он почувствовал не сразу, поэтому несколько секунд продолжал еще держать Витю за подбородок и отпустил ослабшие вдруг руки только тогда, когда буквально всем телом ощутил меж ребрами острый холод стального лезвия. Толстяк прерывисто сопел и силой вдавливал нож ему в бок, через плотную ткань пиджака, через рубашку… Данин вскрикнул от ужаса и обмяк. Мгновенно отлила кровь от лица и по щекам, по лбу, по шее, побежали колкие ледяные мурашки.
Витя крякнул, покрутил головой и судорожно вцепился в баранку.
— Убери нож, идиот толстый! — рявкнул неожиданно у Вадима возле уха «курьер». — Убери, говорю, рожа мясницкая… Тебе же двадцать раз повторили, чтоб осторожно, чтоб вежливо и любезно…
Толстяк перестал сопеть, отвел руку с ножом и, переведя дыхание, обиженно проворчал:
— А чего он…
Вадим отстраненно покосился на него. Толстяк туповато смотрел перед собой и неровно, с легким присвистом дышал. Короткопалая, мясистая кисть его свисала с колена, и пальцы крупно подрагивали, а лицо побагровело и покрылось мелкими капельками пота. Не из простых это, видно, занятие — втыкать в живого человека нож, даже для таких, как этот.
— «Курьер» громко вздохнул и цокнул языком. Вадим, как во сне, медленно повернулся к нему. Тот брезгливо и недовольно кривился и то и дело вздергивал подбородком.
— Вот так, — сказал он Вадиму незло и внимательно взглянул на него. — Так что, как видишь, мы не шутим.
Данин молча отвернулся и стал смотреть вперед, в окно. Думать он ни о чем не мог. В голове был вакуум, ни единой, даже самой захудалой, мыслишки не держалось в ней.
В зеркальце над лобовым стеклом он поймал взгляд Вити. По глазам его было видно, что таксист что-то сосредоточенно соображал, взвешивал, прикидывал. Ненависти, или хотя бы недоброжелательства, в его взгляде Вадим не уловил. Но ему было уже все равно. Бок пульсировал болью и напоминал о пережитых секундах. Вадим расстегнул рубашку, сунул под нее руку, пощупал ребра, вздрогнув, наткнулся пальцами на теплую вязкую мокроту и вынул руку. Пальцы были в крови. «За что?»
— слабея, спросил себя Данин.
— Эй, орлы, — впервые подал голос Витя, и звенел он испугом и тревогой. — А за нами хвост!
— Что?! — встрепенулся «курьер», но оборачиваться не стал — ученый. — Что ты мелешь? От испуга глюки начались?
Витя сплюнул в окно и проговорил ровно:
— Я — раллист. Мастер спорта международного класса. Пятнадцать лет за рулем. Я дорогу знаю, как свою ладонь, и знаю, как тачки себя ведут, я их чую, я каждого рулилу чую. Понял? Двенадцать восемьдесят четыре, «Жигули», красные, через машину за нами. Это хвост. Он пасет нас уже минут десять…
— Черт, — прошипел «курьер». — Откуда?
— От верблюда, — остроумно заметил Витя.
— Заткнись, — отрывисто бросил «курьер».
— Что-то осмелел ты последнее время, паренек, — заводясь, заговорил таксист. — Я ведь могу и поубавить твой пыл…
— Ну все, все, — примирительно улыбнулся «курьер». — Сейчас не время.
— Вот именно сейчас самое время, — Вадим заметил, что глаза у таксиста выстудились, даже под прищуром в них чувствовался лютый морозец.
— Ну ладно, Витенька, хватит, — ласково сказал «курьер». — Давай о деле. Кто это может быть? Менты?
— А кто же еще?
— Ну а если…
— Менты!
— Ты уверен? — и «курьер» все-таки осторожно обернулся, глаза засуетились, забегали. — Надо уходить. Как? Мы же почти за городом.
И вправду, мелькали уже пыльные, приземистые пригородные домики с небольшими заросшими участками.
— Вляпались, — мрачно сквозь зубы выцедил толстяк. И подумав немного, смачно выругался.
— Не каркай, — едва сдерживая ярость, врастяжку проговорил «курьер». Он нервно теребил пальцами нижнюю губу и, прищурившись, смотрел в одну точу на спине таксиста.
— Если они нас не повинтили сразу, — наконец сказал он.
— Значит, им надо только пропасти нас. Значит, надо отрываться, так?
— Ты очень умный, — сказал Витя, покосившись в зеркальце.
— Или остановиться, — подал голос Вадим. Судорожная пляска в груди унялась, и потеплели пальцы, будто в воду он их горячую окунул, войдя со стужи домой.
— Или порешить тебя, — без всякого выражения внес свое предложение толстяк.
— Давай, — спокойно согласился Вадим и не спеша повернулся к толстяку.
Толстяк пожал плечами и, кряхтя, полез в карман.
— Заткнись ты наконец, ублюдок! — Не выдержал «курьер».
Данин уловил в зеркальце мелькнувшую на лице таксиста тоскливую усмешку.
— А ты умерь свою отвагу, герой, — устало посоветовал «курьер» Данину. — Твои дружки далеко, а мы близко. Вот они мы, — он подергал пальцами свою куртку. — Потрогай…
Вадим не шелохнулся. Он вдруг подумал, что есть замечательный способ привлечь к себе внимание, что-нибудь такое сотворить возле первого встретившегося на пути поста ГАИ.
— Не гони, — попросил «курьер». Он сидел, вцепившись побелевшими пальцами в спинку водительского сиденья. — Не гони, — повторил он и, словно читая Вадимовы мысли, предупредил: — Скоро пост ГАИ. Объедем от греха подальше.
— Это как это мы объедем? — с ехидцей спросил Витя.
«Курьер» положил ему руку на плечо и надавил на него, проговорил вкрадчиво:
— Через полкилометра съезд будет. Ты его прекрасно знаешь. Бывало, вместе ездили. Забывчивый ты стал.
— Верно, — без особого энтузиазма согласился Витя. — Запамятовал.
И Вадим увидел, как досадливо дернулись у Вити уголки плотно сжатых губ.
«Курьер» оглянулся.
— И не отстают, и не приближаются. Значит, точно, только пасут. Интересно им, любопытно знать, куда это мы едем.
— А и вправду, куда это мы едем? — машинально спросил Вадим. Теперь надо было придумывать что-нибудь другое. Идея с ГАИ сорвалась.
— В гости мы тебя везли, в гости. — «Курьер» пристально вглядывался в правую сторону дороги — жидковатый лесок тянулся вдоль обочины, и ни единого строения, как назло. — С угощеньицем там тебя ждали, с водочкой, с кроваткой теплой… Вот здесь! — вскрикнул «курьер».
Машина резко ушла с мостовой, вздрогнула, въехав на неровный грунт, и, высекая из-под колес обмолоченный почти в крупу гравий, помчалась по проселку.
— Теперь гони! — крикнул «курьер». — Что есть силы гони!
Загрохотали, забряцали всполошенно какие-то железки в автомобиле, завыл от натуги мотор. Данин оглянулся. Красные «Жигули» отстали теперь метров на триста. Автомобильчик подпрыгивал на ухабах, как детский резиновый мячик. Чья-то голова высунулась из кабины и мгновенно исчезла. И Данину показалось, что он узнал того, кто высовывался. Слишком приметным и запоминающимся был оперативник Петухов. Но откуда взялась милиция?
— Через пару километров параллельное шоссе, — крикнул, перекрывая шум, «курьер». — Уходи вправо.
— Сам знаю, — отозвался таксист.
Посветлело впереди, деревья поредели, а потом и вовсе расступились… У пересечения проселка с шоссе желтела «Волга» с надписью «ГАИ» на дверце.
— Черт! — заревел «курьер» и хлопнул в сердцах по спинке сиденья.
— Надо останавливаться, — Виктор сбросил скорость. — Мы ничего не нарушили. Проверят документы и отпустят.
— Ты рехнулся, рехнулся! Не тормози! — «Курьер» вцепился таксисту в плечи и стал остервенело трясти его. — Этот тип не должен быть в городе! Он вообще не должен быть! Спорыхин убьет меня!
«Тип — это, наверно, я, — догадался Вадим и с отстраненным недоумением подумал: — Отчего же такие страсти?»
— И меня убьет! — продолжал орать «курьер», — и тебя, и Ежа. Он не простит… Не дури… Я же многое знаю про тебя, я все расскажу, я все ментам расскажу…
Таксист передернул с силой плечами, вырвался из цепких пальцев «курьера», подался вперед, надавил на акселератор. Машина скакнула и стремительно помчалась по проселку. Не доезжая до милицейской «Волги», Витя резко свернул влево и погнал по густой траве. Вслед пронзительно запели свистки. Туго ударившись колесами о стенку обочины, такси вылетело на шоссе. «Курьер», громко выдохнув, обессиленно откинулся на спинку. Вот теперь можно. И Вадим снова, как и в первый раз, повторил свой маневр. Только теперь локтями по глазам «курьеру» и толстяку он бил одновременно. Те ойкнули в один голос, а Данин в это время уже ухватил обеими руками голову таксиста. Машина завихляла, как и в прошлый раз, и беспомощно покатила под острым углом к обочине. И вот теперь толстяк не стал давить ножом, он просто им ударил. Но теснота мешала ему размахнуться и удар вышел несильным. Но все равно жестоким и болезненным. Вадим вскрикнул и отпустил руки. Толстяк снова замахнулся и на сей раз закричал Витя.
— Не сметь, сволочь, не сметь, довольно, поиздевались…
И резко дернул автомобиль вправо. Толстяк привалился к дверце, и нож выпал из его рук. Машина стала останавливаться. «Курьер» с истеричным надсадным воплем накинулся на Витю и сжал пальцами его шею. Предоставленная опять самой себе машина на скорости выкатила на встречную полосу. Мелькнул в окне огромный КрАЗ…
«Вот и все, а ведь только-только себя разглядел», — успел подумать Вадим.
А потом хруст дробимых металлических костей, сухой треск лопающегося стекла, чьи-то звериные, отчаянные вопли и темнота…
Так иногда бывает под утро, в конце крепкого сна. Будто спишь и не спишь одновременно. Еще снится сон, и мельтешат в сознании расплывающиеся силуэты, лица, которые уже не можешь узнать, но твердо уверен, что они тебе знакомы, и «та жизнь» еще не отпустила тебя, еще развивается, беспорядочно ее действо, но все равно чувствуешь уже, понимаешь, что «та жизнь» — это сон и что через мгновение ты проснешься окончательно и все исчезнет, растает, забудется; но в силу какого-то изначального инстинкта, несмотря на это, почему-то все-таки веришь, что «та жизнь» тоже настоящая, и тебе еще хочется узнать, что будет дальше и сможешь ли ты что-нибудь там изменить, если совсем станет плохо… Но пока все было лучше не придумаешь. Он видел себя, большого, нет не то что большого — огромного. Он шел по купающемуся в солнце городу и мог заглядывать на крыши пятиэтажек, а до последнего этажа коробок-башен мог запросто дотянуться полусогнутой рукой, люди останавливались, задирали головы, смотрели на него и что-то приветливо кричали и размахивали руками. Там, внизу, он увидел маму и отца, увидел и Дашку между ними, и очень обрадовался и засмеялся, нагнулся и подхватил их на ладонь. Они счастливо улыбались и добро кивали ему, а Дашка подпрыгивала и хотела дотянуться до его лица. Ему было хорошо, и он чувствовал, что все может. Он поднял лицо к солнцу, и слепяще высветилось под веками, и он подумал: «Сейчас проснусь», — и проснулся, хотя глаз не открыл, но просто пропал и город, и мама, и отец, и Дашка. И только белым-бело было в глазах и еще очень тепло было лицу, и опять заулыбался и наконец открыл глаза. Солнце в упор светило на него через чистые стекла большого, почти во всю стену окна. Он удивился: у него в квартире нет таких окон. Разве он не дома? Он хмыкнул подозрительно, но усмешки своей не услышал. Что-то с голосом. Ему стало не по себе, он хотел было повернуть голову, но острая и неожиданная боль пронзила правую часть головы, и плечо, и ногу, и он вскрикнул, тяжело и хрипло. А рядом, по правую руку, кто-то тоненько ойкнул в ответ и завозился возле него, и терпко и приятно пахнуло духами. Боль прошла так же внезапно, как и началась, и он заинтересованно подумал, кто бы это мог пахнуть такими замечательными духами. И увидел выплывающее справа лицо, сосредоточенное, свежее, девичье лицо; из-под донельзя накрахмаленной белой шапочки солнечными завитушками выбегали волосы.
Вадим закрыл глаза, морщась и вспоминая, потому что понял уже, что не дома он. Только вот где?
— Вам больно? — негромко и опасливо высоким голоском спросили его. — Вы меня слышите? Вам больно?
Вадим открыл глаза и весело, как ему показалось, прищурился. А у него и впрямь было хорошее настроение, он почему-то был уверен, что ничего плохого с ним не случалось, и вообще никогда не случится, потому что он сам хозяин самого себя, и может сделать все, что захочет. Он сильный и всемогущий, прямо как тогда, когда был великаном во сне.
— Как вас зовут? — отчетливо прошептал он. — А впрочем, пока это неважно, важно, что вы очень красивая, и сегодня в семь я жду вас у кинотеатра «Орион»…
Девушка засмеялась и, смеясь, совсем по-детски вжала голову в худые хрупкие плечики, туго обтянутые шелковистым белым халатом.
— Раз вы шутите, значит, вам ужене больно. Так? — с интересом глядя на него, произнесла девушка.
— Я совсем не шучу, — сказал Вадим, чувствуя, как пробивается, крепнет его голос. — Какие уж тут шутки, когда влюбишься, как школьник с первого взгляда. Раз и навсегда…
Он опять прикрыл глаза, потому что устал, слишком долго, показалось ему, он говорил.
Девушка подавила новый смешок и, бросив коротко: «Я сейчас!» — исчезла из его поля зрения. Он пошарил глазами вокруг и справа увидел длинную жердь штатива и прицепленную к нему стеклянную банку, и тонкую резиновую трубку, ниспадающую вниз. «Капельница», — догадался Данин и в первый раз нахмурился.
С ним, видимо, что-то серьезное, раз у кровати капельница.
А он-то сначала подумал, что больно ему оттого, что он отлежал шею и плечо.
И значит, он в больнице.
Почему? Он сморщился, вспоминая. Нет, бесполезно. Рыхлая вата в голове, и вязнут в этой вате мысли и воспоминания…
А потом приходил доктор — озабоченный, смуглый, молодой человек со всезнающими и всевидящими глазами. Он щупал Вадиму пульс, трогал лицо, водил пальцами перед его глазами, прижмуривался, что-то соображая, и задавал дурацкие вопросы: как Вадима зовут, сколько ему лет, где он живет, где работает. А потом Вадим спал, но уже без снов, словно провалившись в теплую черную яму.
А к вечеру опять приходил доктор и опять задавал те же смешные вопросы, и Данин, снисходительно улыбаясь, тихо на них отвечал, а потом ему сделали укол, и он опять уснул.
Утром он очнулся разом, как от удара, и почувствовал, что голова ясная и чистая и настроение приподнятое, и понял, что спокойно, без напряжения может думать.
И он стал думать. Когда пришел доктор, он остановился на том месте, когда приехал в город от Левкина и столкнулся со Спорыхиным-старшим. Доктор опять стал задавать свои вопросы и, удовлетворенно улыбаясь, выслушивать на них внятные, уверенные ответы, а затем вдруг за окном громко зарокотал мотор приближающейся машины и протяжно скрипнули тормоза, и хлопнули дверцы, и Данин все вспомнил и, вспомнив, ничуть этого не испугался, наоборот, ему даже полегчало оттого, что он все вспомнил, и, усмехнувшись, он сказал доктору:
— Все, доктор, хватит. У меня нет амнезии, или как вы там называете частичную потерю памяти. Я все помню. Сейчас все вспомнил. И такси, и его пассажиров, и водителя, и как мы вляпались в громадный грузовик, или тягач, или, Бог его знает, как его там величают. Сколько я пролежал?
Доктор помялся немного, почесал идеально прямой нос, ответил вполголоса:
— Неделю…
— Как остальные?
— Все живы, — доктор с вниманием посмотрел в окно.
— Так, — Вадим, конечно, не поверил ему. Но он все равно сейчас не скажет правды, опасаясь, как бы Данин не разволновался. Все точь-в-точь как пишут в книжках. — Мне немедленно нужно видеть одного работника милиции. Это очень важно.
— Еще не время, — покривился доктор.
— Самое время. Я буду лучше себя чувствовать. Вы сами увидите.
— Не Уваров ли фамилия вашего работника.
— Уваров, — не удивился Данин.
Доктор вздохнул.
— Вот и он тоже говорит, что вы будете лучше себя чувствовать после разговора. Но я… хотя, впрочем, если и вы, и он в этом уверены… Он здесь. Уже второй день обивает пороги и обхаживает меня. Ладно.
И он вышел.
Почти тотчас хлопнула дверь, и кто-то мягкими шагами подошел к кровати.
— Это вы? — спросил Вадим, не поворачиваясь.
— Я, — ответил Уваров. Он шаркнул по полу ножками стула, видимо пододвигая его ближе.
Вадим скосил глаза и увидел усталое сухое лицо оперативника.
— Вы осунулись, — сказал Данин.
— Много работы. Как вы себя чувствуете?
— Очень разнообразно, — сказал Вадим. — Тело плачет, а душа поет. Такое ощущение, что я очень одержимо и плодотворно потрудился и физически, и… — Вадим насупился, расстроившись, что никак не может найти нужного слова.
— Я понимаю, — сказал Уваров.
— Понимаете? — удивился Вадим. — Я сам-то еще ничего не понимаю…
— Я могу понять ваши ощущения. Не суть, а ощущения.
— Ну-ну, — усмехнулся Вадим и тотчас посерьезнел, вздохнул. — Но сейчас не об этом. Мне надо вам многое рассказать…
— Я не для красного словца сказал, что понимаю ваши ощущения, — сказал Уваров, отрывисто скрипнув стулом, наверное, плотнее сел, чтоб сноровистей и удобней было говорить. — Просто я все знаю.
— Все? — заинтересовался Вадим.
— Ну, если не все, то многое.
— Откуда? — Данин приподнял правый уголок губ, словно намекая на усмешку.
— Мы их арестовали. Всех.
— Всех? — Вадим уткнулся локтями загипсованных рук в жесткий, укрытый тощим матрацем панцирь кровати и приподнялся было, но тут же обессиленно рухнул на подушку. — Как Можейкина? Что с Можейкиной? — выдохнул он и сомкнул глаза, подавляя возникшую вдруг под веками резь.
— Все в порядке, — Уваров обеспокоенно вглядывался в Вадима. — Ее до поры до времени держали на даче, в Мелинове. Туда везли и вас. Она и вы очень опасны были для них…
— Для кого «для них»? — быстро спросил Данин, вздернув веками.
— Я все потом расскажу…
— Нет, сейчас, — повысил голос Вадим и нервно шевельнул плечами и так неудачно шевельнул, что опять ожгло болью и шею, и плечо, и руку. И заныли зубы, и слезинки вспухли в глазах. Но он не застонал. Нельзя. Он же теперь все может.
— Врача? — встревожился Уваров и с готовностью приподнялся со стула.
— Нет, — глухо и жестко возразил Вадим. — Почти прошло. Вы лучше скажите, как я выгляжу, чтоб я хоть представил себя. И что там поломано, погнуто, раздроблено.
Уваров привстал, смешливо оглядел Данина со всех сторон, словно не больного человека, а старинную скульптуру в музее рассматривал, потом сел, сказал бодро:
— Значит, так. Рука в гипсе, трещина ключицы. Левая нога — перелом, ушибы. Правая, как ни странно, не тронута. Ну и легкое сотрясение мозга.
— А почему я не чувствую правую ногу?
— Частично парализована. От шока. Такое бывает. Редко, но бывает. Все нормально у вас. Месяца через два встанете. Как новенький будете.
«И как новенький побреду в тюрьму. За таксиста Витю и за дачу ложных показаний», — подумал Вадим и с удивлением обнаружил, что эта мысль нисколько его не тронула.
Он улыбнулся и уставился в потолок. Трещины на штукатурке напоминали решетку из тонюсеньких прутьев.
— Значит, вы все знаете? — сказал он. — И про сумку, и про угрожающие звонки…
— И про псевдограбеж таксиста, — продолжил Уваров. — И про то, что Можейкина была прекрасно знакома с Лео, и про слежку за вами, и про ваше посещение Митрошки, и еще многое другое…
— Значит, Лео и те двое его дружков арестованы?
— Они арестованы, — Уваров сделал ударение на слове «они».
— Ну так объясните мне теперь. Почему? Почему? Почему я им был так нужен? Неужто все из-за изнасилования? Что-то верится с трудом.
— Хорошо, — Уваров опять пискнул стулом, закидывая ногу на ногу. — Хорошо. Я расскажу вам сейчас. Думал повременить, пока поправитесь. Но сам уж в нетерпении. Слушайте. Мы арестовали не только Лео и его дружков. Мы задержали еще и Спорыхина-старшего, и Можейкина, и еще несколько человек, вам неизвестных, — при этих словах Данин оторопело уставился на Уварова. — Можейкин и Спорыхин-отец старые приятели, еще со студенческих лет. Можейкин был способным математиком, а потом стал довольно незаурядным экономистом. Еще в молодости защитил очень интересную диссертацию. И поэтому до последних дней оставался главным консультантом у Споры-хина. Всю жизнь у Можейкина была одна страсть — нажива. Об источниках этой страсти мы сейчас говорить не будем. Это уж дело следствия и суда. Я рассказываю лишь суть. Одним словом, защитив диссертацию, Можейкин не пошел работать ни в НИИ, ни на преподавательскую работу, а направил свои стопы на производство. Работал на кожевенных, на ювелирных предприятиях. Чуете замашки? Один раз попал под следствие, но дело против него прекратили за недоказанностью. А вот восемь лет назад он вдруг круто повернул свою жизнь и устроился в университет. А произошло вот что. Спорыхин, тогда уже начальник городского строительного треста, профессиональным чутьем уловил какие-то махинации с документами, с отчетностью с финансами у себя в тресте. Посоветовался с Можейкиным. Тот предложил свои услуги, чтобы негласно, без ревизоров и БХСС провести проверку. Спорыхин согласился. Короче, Можейкин накопал там многое. Хищение, подлоги и так далее. Рассказал об этом Спорыхину и намекнул, что, если все вскроется, тот непременно сядет. Спорыхин испугался, страшно испугался. И тогда они с Можейкиным прижали тех четверых сотрудников, с которых вся эта преступная деятельность и началась, и, как говорится, вошли в долю. А доля была, я вам скажу, ой-ей-ей. Случайно, мы еще не знаем как, в это дело ввязался помимо воли отца и Лео, его сын. Он знал о махинациях не много, но для тюремного срока папаши вполне достаточно. Когда Можейкин женился на Людмиле, то через некоторое время она стала любовницей Лео. Лео к тому времени уже прилично пил. И вот в тот день, с которого все и началось, Можейкина пришла на свидание к Лео в квартиру к Митрошке — Лео снимал там комнату для таких встреч. А он был там не один, а с собутыльниками, уголовниками Ботовым и Сикорским. Он предложил ей предаться любви прямо в этой комнате, на диване, а ребята пока посидят. Она отказалась. Тогда Лео, озлобившись, взял ее силой и предложил дружкам сделать то же самое. Ну а те, озверевшие от водки, возбужденные зрелищем, и рады стараться. А потом он решил ее проводить. Они вышли на улицу. И опять начался скандал, который вы и слышали. Можейкина хотела скрыть свое знакомство с Лео сначала потому, что боялась мужа, а во-вторых, потому что Можейкин не раз ей говорил, что они со Спорыхиным одной веревочкой повязаны. И случись что, оба в небытие канут разом. Можейкина не вдавалась в подробности, что и как, но чувствовала, что отношения и дела у них нечистые. Ну а потом, когда Спорыхин-старший и Можейкин прознали про все, ее попросту довели до сумасшествия, почва для этого была благодатная, запугали, как хотели запугать и вас. В свою очередь, Лео, узнав о том, что изнасилованием занимается милиция, испугался и вышел к своему замечательному папаше с таким предложением: или ты любым способом меня выручаешь, или я закладываю тебя соответствующим органам. И Спорыхин занялся этим делом. Но занялся неумело, как дилетант, у него же не было уголовного опыта. Нанял каких-то подонков, чтобы запугивать вас и Можейкину, платил им по максимуму. Лео подключил к этому делу и своих дружков: и Витю-таксиста, и Ботова, длинного в кепке, и Сикорского…
— Значит, чернявый, который был со мной в машине, и толстяк — это люди Спорыхина-старшего?
— Да. Кличка толстяка Еж, зовут Сигаев, Дмитрий Иванович, трижды судимый. От рождения тупой и жестокий. На какой свалке Спорыхин нашел его — неизвестно. А второй, Федоров, обыкновенный фарцовщик, прельстившийся большими деньгами…
— Теперь все понятно. — Вадим вдруг ощутил, как горят у него щеки и лоб от возбуждения.
— Ребята из БХСС, — продолжал Уваров, — давно копали под Спорыхина. Когда мы вышли на Лео, то стали работать с ними в контакте.
— А как вы вышли на Лео?
— Работали… — улыбнулся Уваров.
Вадим устал. Слишком много он узнал за сегодняшний день.
Слишком много он узнал за все эти дни. Теперь надо было думать, долго думать.
Ему захотелось остаться одному. Но что-то он еще не досказал Уварову, что-то такое, чтобы заставило того отнестись к Вадиму хоть с крохотным сочувствием. Нестерпимо вдруг захотелось, чтобы Уваров его понял, чтобы хоть один человек его понял.
— Я хотел все рассказать, — неуверенно начал он. — Но не мог. Хотел, но не мог. Так вышло…
Уваров смотрел на него и молчал, и не шевелился, застыл словно.
— Не смотрите на меня так, будто вы лучше! — сказал Данин. — Не смотрите!
— Уваров дотронулся прохладной ладонью до его лба.
— У вас температура, — сказал он. — Я позову врача.
— Не надо, пожалуйста, пока не надо. Я хочу побыть один…
Уваров встал, поставил стул на место, к тумбочке.
— А Можейкин, мой бывший начальник, и Сорокин и впрямь знакомы? — вспомнил вдруг Вадим.
— Знакомы, — подтвердил Уваров. — Сорокин должник Можейкина. Крупная сумма за ним. Он отгрохал себе трехэтажную дачу…
— Значит, Можейкин все-таки просил его… — прошептал Вадим.
— Что? — не понял Уваров.
— Да нет, это я так, про себя…
— Ну ладно. — Уваров натянул на плечи спадающий то и дело халат. — Я пошел. Да… — Он остановился на полушаге. — Здесь ваша мама. Она сейчас отдыхает. Хотите, я позвоню ей.
— Да, пусть приходит к вечеру.
— И еще, внизу на улице, под окнами, ваша бывшая жена и дочь. И какие-то двое друзей. Мужчина и женщина. Позвать?
— Не надо, если только дочку. Но без всех. Вы знаете, пусть мама ее приведет.
— Хорошо.
— Меня буду судить? — тихо спросил Вадим.
— Выздоравливайте, — кивнул Уваров. И он ушел, ступая также мягко и едва слышно, как и вошел.
Данин лежал некоторое время, отдыхая и стараясь не думать ни о чем. Потом открыл глаза, прищурился, пробормотал еле слышно: «Ишь ты, через два месяца встану…» — плотно, до темноты в глазах стиснул зубы, вздохнул несколько раз глубоко и начал осторожно приподниматься. Жестокая боль ударила в шею, в плечо, но Данин не остановился, он продолжал подниматься, медленно, сосредоточенно, помогая себе словами: «Я все могу, я все могу…» К моменту, когда ноги его коснулись пола, глаза уже до рези разъел холодный, терпкий пот. Теперь оставалось сделать только один шаг. До окна. А там он сможет опереться на подоконник. Вдруг ощутил, что правая нога горит, нестерпимо пылает жаром, будто ее подвесили над костром. А раз он чувствует ногу, значит… Он пошевелил пальцами. Они двигались с трудом. С болью. Но двигались! Данин поднял ступню и с неожиданной боязнью вновь опустил на пол, и сразу ощутил равнодушный холод крашеных досок. Добрый знак. Он передохнул секунду и решительно отжался здоровой рукой. Нога, задрожав, разогнулась. Он встал и с размаху уперся в подоконник. Плечо стрельнуло яростной болью. Данин вскрикнул. Кровь отхлынула от головы, и завертелось все перед глазами.
«Я могу, могу…» — вслух повторил Данин и разлепил глаза. Вертящееся окно через несколько мгновений встало на свое место. Голова мелко и знобко дрожала. Ну и Бог с ней, сейчас это уже неважно. Он наконец взглянул вниз. Ольга, Беженцев и Наташа стояли рядом, лицом друг к другу, и о чем-то неторопливо говорили. Женька курил и то и дело машинально лохматил голову. Ольга все время терла глаза, а стоявшая спиной к Вадиму Наташа ежилась, обхватив себя руками. И только одна Дашка, подняв голову (как тогда в его сне), смотрела на окна. А потом она что-то закричала и, подпрыгивая, протянула к нему руки.
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ СМОТРЕТЬ НА ВОДУ
 Он открыл глаза и тотчас решил, что делать этого не стоило.
Надо было еще спать и спать, а может быть, даже не спать, а просто ворочаться и искать местечко поудобней.
Ворочаться-ворочаться, а потом вдруг, замирая, провалиться в зыбкую полудрему и вновь вынырнуть из забытья, ощущая холод испарины на укрытой тонким одеялом жаркой спине. И так все утро, и весь день, и всю ночь, и еще день, и неделю, и месяц… и чтоб только глаз не открывать.
«С чего-то вдруг?» — с подозрением подумал Глотов и прислушался к себе придирчиво. Громко и неровно колошматилось сердце, и голова лопалась, будто футбольный мяч, который слегка перекачали никелированным насосиком, и кожа на всем теле как бы высохла и теперь стягивалась, зудела и шелушилась. Глотов пошевелил губами и почесал темечко. Хотя нет, все в порядке. Обычное дело. Привычное. Похмельное. Сейчас бы не валяться на мягкой постельке, а заняться делом, настоящим, мужицким. Он выпростал руки из-под одеяла, приподнялся на локтях, сморщившись от заухавшей в затылке боли, и бессильно откинулся опять на подушки. Вставать не хотелось. Вокруг было тоскливо и мрачно. Холодом веяло и унылостью от блеклых обоев, от треснутого потолка, от неказистого серванта, от тусклого хрустального сверканья в нем, от салфеточек и полотенчиков, от стиранной до катышков скатерти на столе, от герани, традесканций, от портрета тещи с тестем, от портрета его самого в «свадбешном» костюме.
— У-у-у-у-у, — сдавленно затянул Глотов, вцепился длинными сухими темными пальцами в лицо и стал мять его, как тесто для пирога. А помяв лицо, унял и маету.
Встал. Чуть шатнувшись на первом шаге, потопал на кухню, выхлестал литровую банку компота, запоздало вспомнив о детишках, для которых наверняка компот и предназначался.
— Прости, господи! — сказал он и сделал страдательное лицо. Поставив банку, тотчас забыл о детишках, вернее — о том, что выпил их компот. Потянулся, почесался. Сплюнул в раковину. Отошел к столу. Потом снова вернулся к раковине, с полминуты что-то рассматривал в ней и после этого пустил из крана тугую струю и очень был этим доволен. Жар внутри спал, но теперь там что-то скребло и неприятно царапало. Да так неприятно, что он даже скривился. Сроду такого не было. Глотов насупился и сел на табурет, голыми ляжками ощутив успокаивающую прохладу дерева.
— Значит, так, — сказал он и на некоторое время сотворил глубокомысленное лицо, но бесполезно, мысли прятались, или их не было вовсе. Тогда Глотов сообщил себе: — Душно, — и воспрял при этом духом, решив, что именно в этом вся загвоздка его состояния. Раздернул шторы, с треском, залихватски распахнул окно и уткнулся лицом в решетку. Он чертыхнулся и саданул по решетке кулаком, она задрожала, а потом загудела тонко, рука налилась болью. Глотов подул на руку, чертыхнулся еще раз и сказал:
— Тюрьма… Трясется, дура, будто покрадут ее с первого этажа… А кому она нужна? Кому нужна?! — он, недобро прищурившись, покачал головой. — Ой, тюрьма… Он мутно обозрел комнату и уткнулся взглядом под стол. Там на боку валялась спаянная из проволочек фигурка какого-то животного с жалко подогнутыми тонкими ножками и без головы.
— Ух ты! — вырвалось у Глотова. Взгляд его метнулся к столику, что ютился возле пышного дивана, где они спали с женой. Столик был пуст, ни проволочки, ни бумажки, и даже паяльника не было. На этом столике он мастерил своих лошадей, и там всегда толпился целый табунчик со статными скакунами и неуклюжими жеребятами. А сейчас пусто. Он медленно, на дрожащих ногах, подошел к дивану, и почудилось ему, будто хлестнуло под вздох чем-то студеным, он даже машинально глотнул воздух. Осторожно, как несмышленого птенца, выпавшего из клетки, он поднес фигурку к глазам и прошипел, почувствовав, как затвердели вдруг губы:
— У-у, дрянь!
…Высунув язык, он припаивал хвост к готовой уже проволочной фигурке. Возле него суетился шестилетний Алешка. За окном шелестел дождик, бежали прохожие, шлепая по лужам. Изредка кто-то весело вскрикивал. Внезапный был дождик и обильный. Но Глотов ничего не видел и не слышал. Он весь был в радостном возбуждении. Он всегда пребывал в радостном возбуждении, когда «творил» лошадок. Последнее время он только и жил этим. Он их сначала рисовал, потом подготавливал нужные проволочки, потом паял их и покрывал скелетик фольгой.
Так хорошо, как во время этой работы, он себя чувствовал только в детстве, в юности, там, в родном Утинове, на Волге, когда, отрешаясь от «важных» своих дел и забот, смотрел со взгорка, как окунаясь в красный закат неспешно плывут по степи совхозные кони.
Алешка еще немного поглядел, как паяет отец, а потом ему стало скучно, и он убежал в свою комнату. Глотов слышал, как открылась дверь и как, недобро бормоча что-то, прошествовала на кухню жена Лида, волоча за руку заплаканную трехлетнюю Варьку, очнулся он, лишь когда над самым ухом услышал громкое и скрипучее:
— Опять!
Он потряс головой, проморгался, отложил паяльник, с тоской ощущая вновь безрадостное бытие. Сумев все-таки сотворить на лице подобие улыбки, повернулся к жене.
— Умру я, — вымученно проговорила она, и невыразительное, вислощекое ее лицо нервно дернулось. — Хоть бы польза была от этой дребедени.
Когда-то лицо ее казалось Глотову свежим и ласковым, а за мягкие щечки страсть как хотелось ущипнуть. Когда это было?
Лида резко рубанула рукой и добавила, повысив голос:
— Убери эту пакость! Воняет, — и, помолчав, заключила. — Дармоед!
— Я в отгуле, — сухо сказал Глотов, выключая паяльник.
Прибежала кругленькая Варька и стала карабкаться к отцу на колени.
— В отгуле, — передразнила Лида. Она шлепала в огромных тапочках по комнате и подозрительно заглядывала в углы и под мебель — не насорил ли. От него всего можно ожидать.
— Вон дитенку ходить не в чем. В отгуле. Пошел бы и подработал.
— Ну опять ты, — миролюбиво отозвался Глотов, поглаживая девочку по головке.
— Опять! — вскинулась Лида, она уже наслаждалась предощущением скандала. — Другие на двух, на трех работах работают.
— На десяти, — опрометчиво вставил Глотов.
— Он еще издевается! — Женщина всплеснула руками. — Он еще издевается. — Она лихорадочно подыскивала слова.
У Глотова сжалось все внутри, но он переборол себя и сказал, видно, повторяя эти слова в сотый раз:
— Я приношу тебе сто пятьдесят чистыми, ты столько же получаешь, Людмила Васильевна дает…
— Ты маму не трожь! — взвизгнула Лида.
— Да я…
— Не трожь, ты за ее счет живешь! Твои дети за ее счет живут! И вместо благодарности ты издеваешься!?
— Я только хотел спросить, куда ты их деваешь? — силясь подавить гнев, сказал Глотов.
— Тебя кормлю! — выкрикнула женщина и заплакала, и, как ребенок, размазывая слезы по щекам, ссутулясь, валко побрела на кухню. Варька тоже заплакала и побежала вслед за матерью. Из смежной комнаты выглянул привыкший ко всему Алеша, почесал ухо и вновь исчез.
— Давай уедем, Лида, — грустно глядя перед собой, сказал Глотов. — Как у нас там хорошо. Степь, Волга, дом все-таки…
— Уедем?! — Женщина тотчас забыла о слезах. «Все об одном и том же», — вскользь подумал Глотов.
— Я здоровье не пожалела, чтоб в Москву пробраться, я денег не пожалела, и мама столько трудов положила, чтоб в столице как люди жить. А ты уедем! — Она вновь показалась в комнате. Слезы еще не высохли, и лицо было похоже на мокрую недозрелую тыкву.
— Ты бы работал лучше, деньги зарабатывал, а не крокодилов строгал. Зажрался на наших харчах, иждивенец!
Глотов встал и набычился.
— Иждивенец! — отважно выкрикнула женщина и, упиваясь своей смелостью, подошла к столику, схватила не доделанную еще фигурку и хрястнула ее об стену.
Глотов закрыл лицо руками, прорычал что-то невнятное и стремительно выскочил из квартиры. У перекрестка у него почему-то стал сваливаться правый ботинок, и Глотов остановился. Ботинки были одеты на босу ногу и не зашнурованы. Короткие домашние брюки оголяли щиколотки, и со стороны он, наверное, был похож на босяка.
— Иждивенец, — с садистским удовлетворением процедил Глотов. — Как есть иждивенец…
Он ослабил ремень и приспустил брюки. Они прикрыли щиколотки, но теперь мятым мешком повисли между ног. Глотов мрачно усмехнулся и сплюнул. Черт с ними. Потом наклонился и завязал шнурки, намертво, на три узла. Сунул руки в карманы, ежась, и огляделся. Теперь куда? Вокруг все было одинаково, прямоугольно и бело. Рехнуться можно! И ни одного знакомого лица. В Утинове, бывало, выйдешь и через одного здороваешься. А здесь и потрепаться не с кем. Тоска! Вот только с лошадками и хорошо. И тотчас вспомнил, как ударяется о стенку хрупкое тельце, и даже звук характерный услышал. Рубанул воздух рукой и ходко зашагал к автобусной остановке. Поскорей отсюда, и из этого белого безмолвия!
Он не переставал удивляться, откуда ж столько народу в Москве. Рабочий день еще, а в метро не войдешь. И на улице не протолкнешься, лавируешь меж ошалевших граждан, как слаломист на трассе. Они то же, что ль, иждивенцы? Выйдя на «Пушкинской», уныло побрел по улице Горького. Ярость улеглась, и теперь ему было просто муторно. Увидев памятник Юрию Долгорукому, вспомнил, что здесь неподалеку имеется пивная в подвальчике. Хорошая пивная, неособо грязная, с креветками. Бывал он там как-то с заводскими, достойно пивка попили. Он пошарил по карманам, вытащил рубль, потом еще мелочь, копеек пятьдесят. На пару полных кружек с закуской хватит. Обычного хвоста у подвальчика не было. Глотов резво сбежал по ступенькам и, перешагнув порог, с удовольствием вдохнул терпкий пивной аромат, перемешанный с пряным запахом отваренных креветок.
Первую кружку опорожнил махом и через две-три минуты с радостью ощутил, как рассасывается тягучая маета под ложечкой и образуется в груди звонкая пустота. Он вздохнул и принялся за креветки. «Хорошо, что ушел, — подумал бегло и досадливо покривился, на мгновение увидев перед собой колкие глазки жены: — Чего ей не хватает?» Он огляделся. Длинный низкосводчатый зал был заполнен на две трети. Пьяных не было, никто не галдел, ровный глуховатый гул стоял в помещении.
— Можно?
Он обернулся. Низкорослый, узкоплечий, с обширными залысинами мужик пристроился с парой кружек напротив.
— А чего ж нельзя? — без особой радости ответил Глотов. — Пожалуйста.
— Жарко, — сказал мужик, сделав большой, в полкружки глоток.
— Не холодно, — нехотя согласился Глотов.
— Но горяченького не помешает, — продолжал мужик.
— Чего? — не понял Глотов.
— Выпить, говорю, не помешает. — Низенький пристально глянул на Глотова прозрачными серыми глазами.
— Да уж конечно, — состорожничал Глотов и отвел глаза.
— Не желаете? — не отставал мужик.
— Дык я… — Глотов неуверенно поскреб щеку, — пустой…
— Ерунда, — махнул мужик рукой. — Сегодня ты пустой — я богатый, завтра я пустой — ты богатый. Сочтемся когда-нибудь. Я сегодня в настроении. А принять не с кем. Ну?
Глотов закусил губу, решаясь, и наконец припечатал ладонь к мокрому столу.
— Давай!
Пили портвейн, который мужик достал из трухлявого, тертого портфельчика. Вино было пакостное, но в голову шибануло с первого стакана. Когда махнули по второму, у Глотова навернулись слезы на глаза, и он сказал:
— Ты очень хороший. Понимаешь, очень хороший. Я таких здесь не встречал. Вот у нас, в Утинове, таких хороших много, а здесь нет, понимаешь?
Мужик кивал головой и не спеша лущил креветки.
— Мне так тяжко было, — в такт мужику кивая головой, продолжал Глотов. — А ща полегчало. Потому что, что человеку надо? Добро? Правильно?
— Правильно, — подтвердил мужик и, опасливо оглядевшись, налил Глотову еще стакан.
— А себе? — участливо спросил Глотов.
— Я уже, — доверчиво улыбаясь, ответил мужик.
— Да? — удивился Глотов. — А я и не заметил. Твое здоровье.
— Из Утинова, значит? — Мужик внимательно приглядывался к Глотову. — Ав Москве как?
— По лимиту. И жена и я, — Глотов расстегнул рубашку и с силой потер грудь. Он чувствовал прилив сил и вселенскую любовь. — Жена у меня есть, Лидочка, и детишки, — Он показал два пальца. — Двое. Хорошие такие детишки. — И жена ничего. Мы поженились, и она уехала в Москву, на стройку штукатуром. А затем медсестрой в больницу… а потом и я уехал. Токарь я. Коллектив у нас хороший. Я пользуюсь авторитетом. Морально устойчив. А денег мало. — У Глотова сорвался локоть со стола. Он смущенно хихикнул. — Извините. А денег мало. Жена всю душу вымотала. Мало и мало. А где я больше возьму?
— Любишь жену-то? — спросил мужик и вытащил из портфеля еще одну бутылку.
— Детей люблю, — строго ответил Глотов.
Глотов лихо опорожнил еще один стакан. Когда он поставил его на стол, сквозь мутную пелену различил, что мужик тоже вроде вытирает губы.
— Значит, не считает тебя жена за стоящего человека, — утвердительно сказал мужик.
Глотову трудно было говорить, и он только покрутил головой.
— Да, нехорошо, — посочувствовал мужик. — А ты докажи ей.
— Как? — спросил Глотов, и ему показалось, что это сказал не он, а кто-то другой.
— Достань денег.
— Где? — Глотов икнул.
Мужик пожал плечами, сморщился, будто соображая что-то, потом произнес, понизив голос:
— Тут неподалеку один гад живет. Занял у меня три штуки и не отдает. Кровные мои. Я на Севере вкалывал. Понимаешь? Потом заработал, а он не отдает. Хотя может. Торгаш он. Ворует, как падла, а долг не отдает.
— Сс-с-волочь! — презрительно скривился Глотов.
— Точно. Надо наказать его. Он сейчас в командировке, квартирка пустая. Подломим дверку — и порядок.
— Это как? — какая-то тревожная мысль мелькнула у Глотова в мозгу и тотчас прочно завязла где-то в пьяных дебрях.
— Очень просто, — весело сказал низенький. — Бац — и все. Ты малый здоровый. Вон плечища какие. Толкнешь разок, и нету дверки. В накладе не останешься. Много денег женушке принесешь. Детишек приоденешь.
Глотов тяжело склонился над столом, зажмурился. Завертелось перед глазами лицо жены, теперь невероятно красивое и приветливое. Лида ободряюще кивала ему и посылала воздушные поцелуи, а у ног ее терлись оборванные жалостные детишки. Особо Варька была жалостная. Глотов открыл набухшие веки. На ресницах у него блестели слезы.
— Ну что? — осторожно разглядывая его спросил мужик.
— Давай. — Локоть у Глотова опять сорвался со стола.
Они шли по каким-то шумным улицам. Глотов старался держаться твердо, но все равно то и дело заваливался на своего низенького спутника. Тот одергивал его, матерился жестким шепотом и все что-то про жену ему втолковывал, про детишек, про мужицкую гордость. Глотов покорно качал головой и потихоньку наливался обидой к жене за ее такое оскорбительное к нему отношение. Потом они ковыляли по безлюдным гулким переулкам, залитым медным закатным солнцем, и Глотову опять виделся его тихий Утинов, и он даже пропел что-то про родную хату и старую мать. А потом был прохладный подъезд с белой лестницей и голубыми стенами, лифт с зеркалом, обитая блестящим дерматином дверь, которую Глотов выдавил с первого маха; парфюмерный аромат квартиры… Глотов стоял, покачиваясь и держась рукой за стену, а мужик живчиком суетился по комнатам и набивал чем-то свой расхристанный портфель, а потом опять лифт с зеркалом и с неприличной надписью под ним «Варька сука», белые ступени и голые стены, и утонувший в расплавленной меди переулок.
В сырой черной подворотне мужик отсчитал Глотову деньги, рассовал ему по карманам: «Здесь четыреста». А Глотову вдруг показалось, что его объегорили, и он выцедил с угрозой: «Мало!» — «Чего?» — спросил удивленный мужик. Глотов занес над ним круглый кулак и повторил «Мало…» Мужик съежился и снова полез за деньгами: «Вот еще двести». Глотов мрачно усмехнулся и сунул деньги за пазуху. Он казался сейчас себе сильным и всемогущим. На шумной улице его замутило, он обмяк, и ему захотелось домой. Мужик остановил такси, впихнул туда Глотова, потряс его, проорав на ухо: «Скажи адрес!» — и захлопнул дверцу.
Он долго колошматил кулаками в дверь, позабыв, что имеется звонок, и когда наконец остервеневшая от злости Лида открыла дверь, неуклюже обнял жену, задевая плечами стены, протащил ее на кухню, вывалил деньги на стол и с трудом проговорил:
— Вот, расп-р-р-р-жайся…
Лида охнула и, завороженно глядя на деньги, спросила:
— Откуда?
— Т-сс… — Глотов прижал указательный палец к презрительно вывернутым губам. — Государственное дело. Спецзадание. Аванс…
И уснул тут же на табуретке…
— Ой, ой, ой, ой! — Глотов ойкал и, обхватив голову руками, раскачивался на диване. Влево, вправо, влево, вправо… Потом затрусил в ванную, сунул голову под ледяную струю и, фыркая долго ерошил волосы плоскими пальцами. Энергично вытерся и уселся на край ванны. Полегчало. «А мож, и не найдут?» — спокойно подумал и постучал себя по уху — показалось, что туда забилась вода. «И как меня найти? — стал размышлять он дальше — Да никак. Вон сколько нас в столице-то, аж девять миллионов. Это только в кино им просто жуликов ловить, а в жизни-то…» — И он застыл вдруг с рукой возле уха. Это что же, он — жулик, значит, теперь? Дела! Но случайно ведь, случайно, спьяну. Зуд в труди никак не мог утихнуть. На душе было скверно и тревожно… А вообще-то, может, привиделось ему все с залитых глаз-то? А? Может, и не было ничего? Может, бред то, галлюцинации, белая горячка? Он выбежал из ванной, засуетился по комнате, принялся лихорадочно выдвигать ящики в серванте, потом полез под матрас, потом устремился на кухню и там застучал дверками и ящиками. Но безрезультатно. Ни в одном из потаенных местечек, куда обычно Лида прятала деньги, он ничего не нашел. Значит, бред? Сердце бешено дубасило о трудную клетку, под горло давила тошнота. Глотов постоял в растерянности и кинулся одеваться…
Теперь ароматы пивной заставили его скривиться. Запахи казались душными и смрадными. Глотов пошарил глазами по залу. Мужика-то и в помине нет, если и был он вообще… Глотов ухватил краснолицего малого в белом халате. Тот сумрачно глянул на Глотова из-под тяжелых бровей.
— Эта, слушай, — начал Глотов. — Мужик тут один. Такой маленький, крепенький, с залысинами. Как звать, не помню.
— Ну? — вяло моргнул малый.
— Как бы мне того, найти мужичка-то?
— Какого? — нетвердой рукой малый ковырнул в носу.
— С залысинами этого, как звать не помню…
— Ну? — сказал малый.
— Алкоголик чертов! — злобно выцедил Глотов и хотел хрястнуть малого по узкому морщинистому его лбу, но сдержался невероятным усилием и, повернувшись, грузно поскакал по ступенькам наверх, на улицу.
Значит, так, сначала они вроде шли по шумной и яркой улице, потом куда-то в переулок свернули, и там было тихо и спокойно. И Глотову там стало совсем хорошо. А может, и не сон, и не бред это? Куда сворачивали? И дорогу, кажется, не переходили. Значит, по правой стороне переулок должен быть. Он сунулся в один, затем в другой. Но там было людно. На углу третьего блеснула витрина продуктового магазина. Что-то знакомое почудилось Глотову в этом блеске. Он прошел с полсотни метров, и переулок круто свернул вправо. И шум как оборвался разом. Уютным и сонным виделся переулок, и ало отсвечивали темные стены домов на солнце. Глотов осторожно, почти на цыпочках, двинулся по тротуару. Заглянул во двор одного дома, другого. Все не то. Вошел в подъезд третьего дома. Ступеньки серые, а стены зеленые. Опять не то. Еще один подъезд. Та-а-а-к. Белые чистенькие ступеньки и голубые стены. Глотов заволновался, и у него вспотели ладони. Дрожащей рукой он нажал кнопку лифта. Лифт опустился бесшумно. Приглушенно лязгнув, растворились двери. Под зеркалом отчетливо было нацарапано «Варька сука». Глотов вступил в кабину и, облизнув пересохшие губы, нажал последний этаж. Спускался по ступенькам медленно и опасливо. На пятом этаже остановился и крепко сжал ладошку ладошкой. В полутьме справа возле замка одной из двух дверей ясно белел скол с деревянной рамы. Глотов сделал шаг. Она. Эта самая дверь. Подле замка порван коричневый дерматин и из-под него неряшливо торчал клок ваты. Глотов прислонился к стене и стиснул лоб руками. И тут что-то треснуло негромко, и дверь стала приоткрываться. Глотов отпрянул и кинулся к лестнице. Ступил на первую ступеньку и невольно обернулся. Сначала из двери показалась коляска, а за ней молодая женщина с ребенком на руках. Женщина захлопнула дверь и покатила коляску к лифту. Лицо у нее было миловидное, но печальное. Узрев Глотова, она вздрогнула. С минуту, наверное, а может, больше и, может, гораздо меньше, смотрели они друг другу в глаза. Глотов ощущал, как слабеют ноги, как колкими мурашками покрывается лицо, и ему хотелось пошевелить коленками и с силой потереть щеки. Но он стоял не шелохнувшись, как истукан. И только, когда в коляске тоненько и жалобно заголосил вдруг ребенок, они отвели глаза друг от друга, и Глотов стремительно запрыгал вниз по лестнице.
Всю дорогу его трясло как в лихорадке. Он что-то яростно бормотал себе под нос и, расстегнув рубаху, с остервенением тер грудь. Пассажиры в метро боязливо косились на него и обходили стороной, и в переполненном вагоне возле него образовалось пустое пространство вокруг.
В больнице, где работала Лида медсестрой, лихорадка улеглась, но по спине еще пробегал знобкий холодок. Глотов зашел в приемный покой, вызвал жену и сел на улице на лавочке. «Во дела, — изумленно думал он. — Сроду такого не было. Чего трясет-то меня, чего трясет?»
Стеклянно звякнули двери, и Глотов вздрогнул. На пороге появилась Лида. Она чинно спустилась по ступенькам и неторопливо направилась к мужу. Лицо у Лиды было недовольное и усталое. Но, когда мимо прошли два стройных молодых врача, лицо у нее сделалось томным и рассеянным, и она вежливо поздоровалась с врачами, при этом с достоинством кивнула, как настоящая светская дама. Врачи хихикнули за ее спиной. Но она ничего не услышала. А Глотов видел и услышал. И настроение у него еще больше испортилось, и он почувствовал глухое раздражение к своей жене. Когда она наконец подошла, хотел уже встретить ее громким, повелительным окриком — насчет денег. Но не нашел подходящих слов и, как всегда в таких случаях, замялся и стал легонько мять ухо.
— Ну что? — почти не открывая рта, обронила Лида.
— Лид, я вчера того был, да? — Глотов с деланным весельем хлопнул себя пальцем по горлу.
— В первый раз, что ль? — Женщина отстраненно рассматривала что-то поверх глотовского плеча.
— Болтал чего-то там, да? — Глотов со смущением поскреб шею.
— О, господи! — Лида со вздохом закатила глаза ко лбу и вымученно произнесла: — Ну чего тебе надо?
Со скрипом распахнулось окно над входом в приемный покой, высунулась толстая женщина в мятой шапочке и крикнула:
— Лида, Лида, ты мне нужна!
Лицо Лиды вмиг изменилось. Оно стало немного виноватым и просящим:
— Муж пришел, — чуть ли не пропела женщина. — В конто веки на работе навестил, — и теперь засветилось лицо ясной детской улыбкой.
Толстая тоже стала улыбаться, затем махнула рукой и проговорила добро:
— Ладно, воркуйте.
Глотов решился наконец:
— Мне нужны деньги, — деревянно сказал он, — которые я принес. Все.
— Ты, что, сдурел? — Лида брезгливо поморщилась и посмотрела на мужа с сожалением. — Я долг отдала, да вон еще Марте Степановне одолжила. И себе кой-чего оставила.
Глотов прикрыл веки, ожесточенно помассировал лоб.
— Мне нужны деньги, — упрямо проговорил он.
Лида всплеснула руками:
— То на, то давай. Ты что чокнутый? Совсем от водки сдвинулся.
— Лида, — Глотов едва сдерживал вскипающий гнев, — ты же не знаешь, откуда эти деньги.
— И знать не хочу, — Лида уже нетерпеливо оглядывалась на отделение.
— А если, если, — Глотов нервно тер подбородок, — а если я их… украл.
— Да мне-то что, — отмахнулась Лида — Украл, так в тюрьму сядешь.
Она повернулась и пошла важно.
— Масла и хлеба купи, — бросила через плечо.
Глотов возвращался домой. Ярко и весело светило солнце, а Глотову оно казалось лживым и недобрым. Вот, мол, сейчас посвечу, посвечу, чтоб вы, дурачки, пообвыкли, размякли, а потом р-раз и кукиш вам с маслом — заледенею. И люди виделись тоже хитренькими, злобненькими, таящими какой-то подвох, только тронь их — и на тебе, пакость.
Он пошел налево. Через сотню шагов свернул к точно такому же дому, как и у него. Поднялся на лифте на двенадцатый этаж. Одна-единственная дверь из четырех не была обита дерматином с ватой. В эту дверь он и позвонил. Когда хотел было уже войти, за дверью затопали по-слоновьи, и она отворилась. Душно пахнуло застойным табачным дымом и почему-то лекарствами. Из-за края двери показалось большое прямоугольное лицо.
— А, — сказало лицо. — Тебе чего?
— Ты дома? — вдруг растерялся Глотов.
— Да и ты не на работе, — спокойно ответили ему.
— Я во вторую смену, — словно оправдываясь, ответил Глотов.
— А у меня оэрзэ. Проходи.
Глотов перешагнул порог и протянул хозяину руку:
— Здорово, Сень.
— Привет, привет.
Сеня был чуть меньше ростом, но такой же кряжистый и здоровый, как и Глотов. Лицо у него было литое, словно чугунное. И совсем к месту был на этом лице нос, сплющенный и жестоко когда-то перебитый у основания. Глотов споткнулся в коридоре о валявшийся посередине гигантский ботинок и, чертыхнувшись, ввалился в комнату.
— Осторожней! — рявкнул Сеня и вошел следом.
В центре комнаты стоял стол, укрытый газетами, а на газетах пестрели бутылки с лекарствами и коробочки с таблетками. Сеня грузно забежал вперед и накрыл все это хозяйство другой газетой, которую взял с подоконника. Только сейчас Глотов увидел, что Сеня в трусах и застиранной майке. И шея у него завязана теплым шарфом.
Глотов не удержался и хмыкнул. Сеня глянул на него свирепо и тотчас сконфузился, заметив мятую темную простыню на кушетке. Он торопливо покрыл ее клетчатым одеялом и шумно опустился на кушетку, она ухнула в ответ, но не обвалилась.
— Очень болею, — сказал в пространство Сеня. — Очень. Чуть не умер. На волоске был.
— А сейчас как? — вежливо спросил Глотов, сев на стул.
— Вырвался, — серьезно сказал Сеня. — Откачали.
— Неужто так тяжело? — искренне изумился Глотов.
— Ага, — сказал Сеня и вздохнул. — Я часто болею. У меня и плеврит, и люмбаго, и метеоризм, и еще разное там.
— А как же ты грузчиком работаешь, если ты такой больной? — с лицемерным участием поинтересовался Глотов.
— Скриплю, — не стал уточнять Сеня.
— Ав зоне как же ты жил?
— А! — Сеня скривился и махнул рукой. — С нее все и началось. Я же не жулик какой. По глупости попал. Ну ты знаешь. За драку. Я ж боксер. — Он слегка приосанился. — А там ворье в законе. И не шибко меня зауважали. Да еще за одного пентюха там вступился, за молокососа. Ну и эти законники метелить-то меня не стали, побоялись, падлы. А выдумали другую гадость. Подсыпали мне какую-то мерзость в шамовку. Ну меня и скрутило. Вроде дизентерии. Две недели отходил. Нет, три, а может четыре. Перепугался здорово. Помру, думал. А потом то там заболит, то там. Врачи, козлы, говорят: ты здоров, ты здоров, а я-то знаю, что нездоров. Что б теперь за кого заступился, хрен с маком, здоровье важней…
— А ворья там много сидит? — осторожно спросил Глотов и вспотел отчего-то.
— Хватает. Но больше грабителей и мошенников разных. Воров поймать трудно. Тем более, ежели он один работает. Сломал дверку, уволок шмотье — и ищи ветра в поле. Воры на продаже сыплются. А ежели деньги красть, то это верняк, никогда не свинтят.
— А ты не пробовал? — что-то якобы разглядывая в окне, тихоспросил Глотов.
— Чего? — не понял Сеня.
— Ну это… воровать…
Сеня изумленно воззрился на Глотова и спросил вполголоса:
— Зачем?
— Ну деньги там. То, се…
Сеня почесал за ухом, съежил лоб, оглядел комнату рассеянно и опять уставился на Глотова.
— Не смог бы я, — не совсем уверенно произнес он.
— Почему?
Сеня пожал плечами. Они жирно залоснились на свету.
— Не смог бы, и все тут…
— Но почему, почему? — не унимался Глотов, то и дело стирая испарину над верхней губой.
— Да что ты пристал?.. — грубо оборвал его Сеня. — А сам бы смог, орел?!
Глотов увял. Он вжался в стул, знобко повел плечами, и ему захотелось стать маленьким-маленьким, и чтобы дядя Сеня погладил его по голове и подарил шоколадку.
— Я чего пришел-то, Сень, — едва слышно проговорил он.
— Одолжи денег.
— Денег? — насторожился Сеня и колюче посмотрел на Глотова. — Много?
— Надо много, — сказал Глотов. — А ты сколько можешь. Позарез надо. — Он провел ребром ладони по кадыку. — Понимаешь — позарез. Прям даже не знаю как.
— Денег, — повторил Сеня. Он поднялся. Глаза его беспокойно забегали по комнате. — Деньги я Вальке отдаю. А она у родителей. Убежала от меня. Говорит, не могу с занудой жить, а сама будто не зануда, зануда еще больше меня. Я просто больной человек… — Продолжая говорить, он подтянул просторные трусы и зашаркал в коридор, а оттуда на кухню. — Мне лекарства нужны, и за мной ухаживать надо, а она зануда, — слышался его приглушенный голос. — Ну и черт с ней, здоровье важней.
Глотов сидел, уныло уставившись под кушетку, и вяло кусал большой палец. Голос вдруг оборвался, Сеня погремел на кухне чем-то и вернулся в комнату. Страдальческие глаза его теперь радостно блестели. Он поставил на стол початую бутылку портвейна и мокрый стакан.
— Вот, давай махни… а мне нельзя. — Он был очень доволен собой.
Увидев бутылку, Глотов тотчас выпрямился, потому что бурая жидкость, маслянисто еще шевелящаяся в сосуде, враз вызвала тошноту. Под горлом сделалось горячо и противно. И тотчас вспомнились давешний поганец с залысинами и жалкое безголовое тельце лошадки… И Глотов встал, повел нервно подбородком и сказал внятно:
— Да пошел ты…
— Чего? Чего? — незлобливо зачастил Сеня. — Красненькое же…
— Да ничего, — сумрачно отозвался Глотов и повернулся к двери. — Ухожу я. Привет.
— Ну жалко, жалко, — с плохо скрытой радостью заметил Сеня. — Ну что ж, раз надо, так иди.
И пошел провожать Глотова до двери.
Глотов ехал на автобусе на работу и все злился на Сеню. Жмот чертов! Здесь все жмоты. В Утинове он мог бы к любому корешку зайти и, не стесняясь, попросить, мол, дай деньжат. И дали бы. Сколько могли, столько и дали бы. А потом Глотов перестал злиться на Сеню. Потому что вспомнил, что он тоже такой же, как и Глотов, неприкаянный. Тоже зачем-то приехал в город и не знает теперь, как отсюда выбраться, ни профессии, ни друзей, ни радости душевной — только пакостный портвейн, да никому не нужные лекарства, да еще обидчивая жена Валя, которую Глотов никогда не видел и которая представлялась ему похожей на его Лидку — только потолще и поуродливей.
Смену отработали знатно. Вкалывал как заведенный. Почти в два раза перевыполнил норму, хотя и запорол несколько десятков деталей. Испорченные втулки его не расстроили, главное что на эти семь часов он совсем забыл, что случилось, и чувствовал себя расчудесно. Весело и споро прибрал станок в конце смены, ловко опередив несколько ребят, занял кабинку в душе, хохоча, отбивался, когда его пытались вытащить оттуда, потом растерся до красноты полотенцем, кряхтя от удовольствия, надел прохладные брюки и рубашку, совсем разомлел от умиротворения и уселся на жесткой скамье, раскинув руки и широко расставив ноги, словно загорая, Несколько рабочих копошились в углу раздевалки. Они шептались и лазили по карманам. Лохматый краснолицый Ленька обернулся к Глотову и прогудел негромко, чтобы в другом конце раздевалки было слышно:
— Эй, Глот, давай бабки, ща взбодримся.
Глотов невольно подтянул ноги и сел нормально. Умиротворения как не бывало. Опять стало тоскливо и гадко, он опять «вынырнул» в эту постыльную суету.
— Нет, — излишне резко сказал он и встал.
— Что нет? — искренне удивился Ленька.
— Без меня, — обронил Глотов через плечо уже у двери и повторил: — Без меня.
— Ух ты какой! — Едко произнес Ленька. — Заболел, что ль?..
Он добавил еще что-то вполголоса, и все, кто стоял рядом, громко и обидно засмеялись. Глотов остановился, едва заметно шевельнул плечом, словно развернуться хотел и продолжить разговор, только в других уже, более подходящих тонах, но не стал ничего этого делать, а только дернул болезненно щекой и с грохотом распахнул дверь.
В коридоре его догнал бригадир Зотов, крепкий сорокалетний мужик.
— Погоди. — Он придержал Глотова за локоть. Тот даже не обернулся, а локоть вырвал раздраженно. Зотов забежал тогда вперед и заглянул Глотову в лицо. Волосы у Зотова были мокрые и аккуратно причесаны, но на макушке смешно торчал петушиный хохолок. Глотов хмыкнул и остановился.
— Ну чего?
— Молодец, правильно, — серьезно и горячо заговорил бригадир. — Так им, пьянчужкам. Бросил, что ли?
Глотов нетерпеливо пожал плечами.
— Вот и хорошо, мы теперь вместе…
— Ладно, — оборвал его Глотов. — Вы уж как-нибудь одни. Я сам по себе.
— Да ты не понимаешь, — настырничал Зотов. — Это же государственное дело. Всем миром против пьянства.
Глотов сморщился обессиленно.
— Замучил ты меня. А я устал. Спать хочу. — Он отстранил Зотова и зашагал к проходной. «Не понимаешь, не понимаешь, — повторял он слова Зотова. — И, верно, не понимаю, ни черта не понимаю. Спать хочу, зараза такая».
— Не думал я, что ты такой, — в спину ему крикнул упорный Зотов.
И Глотов неожиданно обернулся и, прищурившись, сказал громко:
— Дай денег в долг, Зотов.
Бригадир недоуменно вытаращился на Глотова.
— Дашь на дашь, что ли? — наконец спросил он догадливо.
— Дурак ты, — Глотов сплюнул.
— Да не ерепенься, постой. — Что-то в Глотове, видать, нравилось бригадиру (Глотов и раньше это замечал), потому он и не обиделся на него. Он тактично осведомился:
— Совсем, что ль, на бобах?
— Совсем, — хмуро ответил Глотов.
— У меня, понимаешь ли, сейчас нету, — Зотов говорил искренне, и Глотов видел это по его неподдельному смущению, и неожиданно для себя он вдруг почувствовал что-то похожее на симпатию к этому человеку. Ему даже захотелось с ним поболтать, не по пьянке, а просто так, по-человечески, задушевно. Глотов вздохнул.
— Слушай, — обрадовался Зотов. — Ав кассе взаимопомощи?
— Я уже брал. Так скоро опять не дадут. У меня еще вычитают.
— Будь спок, — подмигнул ему бригадир. — Я поговорю с кем надо. Двести хватит?
Глотов машинально кивнул. Хотя можно было бы и побольше, но он же не какой-нибудь там нахал, он… «Жулик», — испуганно прошептал Глотов, повернулся и, оставив Зотова в изумлении, побежал к проходной.
Автобус был совсем пустой и ехал медленно и подолгу стоял на остановках, а людям, томившимся на остановках, не нужен был именно этот автобус, а нужен был другой, но водитель почему-то все равно стоял.
Глотов сел и стал смотреть в окно. Дом на другой стороне показался знакомым. Глотов вспомнил, что еще сегодня утром хотел зайти после Сени в этот дом, к Мишке, еще одному своему знакомцу по магазину. Мишка был парень ничего, всегда бодренький, веселый и обладавший одним неоценимым достоинством — его никогда не донимало похмелье.
Увидев его, Мишка поначалу обомлел и не хотел даже пускать, почти одиннадцать, у него все спят, но потом что-то прикинул, ухмыльнулся большим ртом и махнул, мол, давай проходи. Мишка работал лаборантом в каком-то НИИ, и поэтому Глотов не удивился, увидев на кухне какие-то колбочки, трубочки, резиновые и стеклянные змеевики.
Он удивился другому — мебель на кухне была такая, какую он только на картинке видел в журналах, да еще в квартире Жанки-официантки, что на третьем этаже его дома жила. Глотов ей как-то новый импортный замок вставлял. Красивая была мебель и, наверное, очень дорогая, бело-красная, глянцево поблескивающая, веселая и уютная. И Глотов подумал, что ему из такой кухни и уходить, наверное, не захотелось бы никогда.
Вот уж никак не мог представить, что у неряшливого Мишки такая мебель. Правда, Глотов всегда подозревал, что водятся у Мишки деньги. Когда ребята скидывались, Мишка обычно жался, кряхтел, цыкал, мотал головой и доставал мятый рубль, а то и просто мелочь. Но, бывало, когда разойдется, закрутятся у него мозги пьяным вихрем, вырывал из кармана по-барски то червонец, то четвертной, оправдываясь, мол, должок получил… Жена, что ль, зарабатывает? Хотя Мишка вроде говорил, что она нянька в детсаде, а там много не заработаешь.
Мишка ловко и привычно суетился по кухне, доставал из мягко открывающихся ящичков чашки, блюдца, конфеты и изредка кидал на Глотова хитрые взгляды. Глотов робко присел на краешек табуретки и смущенно сложил руки меж колен, будто он только что из глухой деревни приехал, в барский дом попал.
— Эх, Глотыч, Глотыч! — Мишка расставил чашки, налил воды в чайник, водрузил его на электрическую плиту. — Чего ручки сложил, как сиротка пропащая? Маешься, что ль? Долбануть охота? — глазки у Мишки были маленькие, черненькие, остренькие и совсем не увязывались с мягким и пористым, как губка, лицом.
— Да нет, — тихо ответил Глотов. — Я по делу.
Он страсть как не любил чего-то у кого-то просить, а сейчас и вовсе, когда увидал такое Мишкино богатство, заругал себя последними словами, что пришел.
— Ну ежели по делу, тады прощаю твою бесцеремонность, — с усмешливой серьезностью проговорил Мишка и пододвинул Глотову пачку «Космоса». Глотов поблагодарил кивком, но достал «Приму».
— Хорошо живешь, — сказал Глотов и стал сосредоточенно разминать сигарету. Он решил, что не будет ничего говорить Мишке про деньги, а придумает сейчас какую-нибудь чепуху, спросит его об этой чепухе и уйдет.
— А ты думал, — весело отозвался Мишка. — Мы не босяки какие вроде Сеньки-боксера или там Носатого, мы, понимаешь ли, интеллигентные люди. Наука великая вещь. Ежели мозги имеешь, прибыльная это штука. Главное — научиться соображать, что к чему, и из самого простого научного закона можно пользу извлекать, — Мишка глубоко затянулся, откинулся на спинку стула и победно посмотрел на Глотова. — Скоро я, Глотыч, большим человеком буду, оденусь, как лорд, тачку куплю, и будем мы с Лизаветой шикарно подкатывать к роскошным ресторанам. Иностранцы, артисты, музыка гремит, Лизка в мехах, а я в лакированных ботинках…
Глотов глядел на него во все глаза и ничего не мог понять.
— А для чего живем-то? — пьянея от собственного рассказа, продолжал Мишка. — Только для этого ведь и живем… — Тут он умолк разом, вытянув шею, повел носом, как натасканный охотничий пес, сдвинул брови, вскинулся и поскакал на цыпочках в коридор, и скрылся в каком-то чуланчике, негромко хлопнув дверью. Глотов тоже принюхался и уловил кисло-сладкий запашок. И почудилось ему, что этот запашок он знает уже тысячу лет. Глотов почесал ухо и опять принюхался. Мишка вернулся, сел и облегченно вздохнул — пухлые розовые губы его произвели звук, похожий на «тпру-у-у».
— Ну что за дело там у тебя? — Мишка потянулся к чайнику и снял его с плиты. — Давай шибче, а то спать охота.
А Глотов все размышлял. Наконец решился. Не жена эти деньги, выходит, зарабатывает, а он сам, и ничего страшного, если попрошу, вот если бы жена…
— Деньги нужны позарез, — Глотов почесал подбородок и потрогал шею, словно проверяя, отросла ли щетина за день.
— Деньги? — Мишка отставил чайник и удовлетворенно чему-то усмехнулся. — Очень нужны?
— Очень, очень нужны, хоть помирай! — И от стеснения Глотов наконец закурил.
— А то кранты? — Мишка что-то прикидывал, теребя щеку и глядя на Глотова.
— А то кранты, — обреченно кивнул Глотов.
— Должок, что ль? — не унимался Мишка.
Глотов понуро кивнул.
— Так, — протянул Мишка, потом повторил: — Так… Ну что ж. Сколько?
Глотов поднял глаза и с надеждой посмотрел на собеседника:
— Много… Ну сотни три-четыре…
Мишка присвистнул и покрутил головой, мол, даешь.
Глотов развел руками.
— Я тебе дам денег, — после небольшой паузы сказал Мишка. — Только…
— Я скоро отдам, заработаю и отдам, ты не беспокойся, — заспешил Глотов. Потому что на душе у него враз полегчало, и ужасно ему не хотелось, чтобы Мишка все перерешил из-за недоверия, из-за сроков или еще чего там.
— Только, — продолжал Мишка, — ты мне поможешь.
— Хорошо, конечно, — закивал Глотов.
— Пойдем, — сказал Мишка и поднялся.
Они подошли к тому самому чуланчику. Щелкнула щеколда, и дверь распахнулась. Густо и душно пахнуло тем самым ароматом. И Глотов вспомнил, так пахнет брага. Мать его в Утинове изредка варила самогон к разным семейным праздникам. Мишка зажег свет, и Глотов ошарашенно растопырил глаза. Почти весь чуланчик был заставлен пол-литровыми бутылками с белой мутноватой жидкостью. А в углу на табуретке самодовольно поблескивала никелированная, любовно сработанная емкость литров на десять, и из краника, что был приварен у самого дна, тоненькой струйкой лился самогон, в подставленное ведро.
— Высший класс, — Мишка повернулся к Глотову. — По последнему слову техники и науки, ни тебе змеевиков, ни жбанов, ни трубок и прочей чепухи. Комбайн. Производительность, как у лучших зарубежных фирм, только подкидывай сахарок, как дрова в печку. Прямо в институте сварганил.
Глотов прислонился к косяку двери и провел ладонью по лицу. Ему сделалось тошно. Больно заныло сердце, и стало трудно дышать. Сладкий терпковатый запах забивался в нос и горло.
А Мишка как ни в чем не бывало нагнулся и по-хозяйски чуть прикрутил кран и деловито поправил ведро. И Глотову вдруг неудержимо захотелось въехать Мишке по его толстому заду. Мишка выпрямился и сказал:
— У себя на заводе сагитируй ребят и продавайте, дело простое, особо не криминальное. Ежели застукают, штрафом отделаешься, и все. Понял? У меня рынка сбыта пока хорошего нет. Трудно довериться, честных людей мало. После указа все трусливые стали. Того и гляди продадут. А ты мужик добротный, да и деньги тебе нужны…
— А без этого не дашь денег? — глухо спросил Глотов.
— Не дам, — Мишка внимательно поглядел на термометр, прилаженный на боку аппарата. — Деньги надо заработать. Трудом, понимаешь. Трудиться надо.
— Но мне очень нужно, — тихо, но отчетливо проговорил Глотов и спрятал сжатый кулак в карман.
— Всем нужно, — беззаботно ответил Мишка, поднял одну бутылку и взболтал ее. — Слеза! Нектар! Любовь!
— Сволочь! — выцедил Глотов и спрятал вторую руку в карман.
— Что? — не понял Мишка, повернулся к Глотову и, увидев ненавидящий взгляд, в испуге отступил на шаг. И этот испуг подхлестнул Глотова пуще. Он размахнулся ногой и с грохотом и звоном снес целый ряд бутылок, потом еще один, и еще, а затем схватил обеими руками чан и ухнул его об пол. Звук был такой, будто в колокол ударили. Жбан прогудел низко и коротко, и эхо тяжелым гулом пробежалось по квартире. И через мгновение, когда гул стих, тонко завопили детские голоса где-то в глубине квартиры, и тотчас, вторя им, завизжал Мишка. «А-а-а-а!» — не стесняясь, кричал он, мял с боков круглую, как мяч, голову руками и раскачивался из стороны в сторону. И всю эту жуткую картину — плавающие в белесой мути, скрюченные бутылочные осколки, поврежденный мятый жбан, обезумевший, всклокоченный Мишка, завалившийся вдруг на колени, — зловеще освещал медный свет от мелкой голой лампочки, болтающейся на длинном перекрученном проводе.
— Сволочь! — переводя дыхание, сказал Глотов, окинул чулан еще разок и добавил с удовольствием: — Зараза такая!
Чуть не упав, тяжело развернулся на месте и, ступая на всю ступню, двинулся к выходу. Дети наконец умолкли, и уже у двери он услышал жесткий и громкий шепот Мишки: «Убийца! Убийца!..» В проеме комнатной двери неслышно возникло белое объемистое привидение и яростно сказало в спину переступающему порог Глотову: «Что б ты сдох, гад!»
В постель его не пустили, потому что от него безбожно несло сивухой. С трудом гася ненависть в сонном голосе, Лида выговорила:
— Возьми матрас на антресоли и дрыхни на кухне, пропойца!
Утром Глотова никто не разбудил, ни она, ни дети — Лида, видимо, взяла ребят и сразу повела их в садик. Он проснулся, сел на матрасе в мятых брюках и жеваной рубашке и закурил. Привычно едкий дым от «Примы» немного прояснил ватную со сна голову.
Глотов никак не мог вспомнить, какая такая замечательная мысль пришла к нему вчера ночью, когда он лазал на антресоли за матрасом. Но вот, слава Богу, вспомнил, обрадовался, заулыбался. Он вчера там чемоданы видел и большие белые тюки. Чемоданы были массивные, из толстой кожи, с крепкими ремешками и никелированными замочками. Он и не знал, что в доме у них такие имеются. Видать, Лида купила на всякий случай, и ему забыла сказать. Но с чемоданами-то, бог с ними, его интересовали тюки. Там, верно, вещи старые, ненужные, отношенные уже, но раз хранятся, значит, не совсем негодные. А раз так, то их можно на рынке, в комиссионку сдать, глядишь сотню-другую и выручишь. А ежели Лида озлится, так он и скажет ей, я, мол, тебе вон какую деньгу намедни принес, забыла, что ль? Ничего, поорет, поорет и успокоится, не впервой. А у него ведь дела поважней, ему ж камень с души снять надо, огромный такой, черный многотонный камень…
Чтобы до тюков добраться, надо было сначала снять чемоданы. Глотов потянул один на себя и обмер. Чемодан был неподъемный. Вот те на. Что ж там, кирпичи, что ли? Он поднапрягся, покряхтел, выволок чудище наружу, с грехом пополам опустил на пол, помял ухо в нерешительности и стал открывать чемодан. Когда крышка откинулась, Глотов вдруг задышал часто, и стало невмоготу стоять — ноги непонятно почему ослабли, хотя ничего такого ужасного в чемодане и не было. Аккуратно сложенные, а иные упакованные в цветастые пакетики, там лежали легкие кофточки, пестрые заграничные платья… Глотов вынул их, под ними оказались джинсы, трусики узенькие на молоденьких девчонок, бесстыдные такие трусики, лифчики, которых Лида сроду не носила, уж больно срамные, прозрачные, а потом опять кофточки, платья, брючки… и все лежалое, щедро занафталиненное… Чертовщина какая-то! Это дело надо перекурить! Глотов сел на табурет, чиркнул спичкой. Так вот, значит, деньги-то куда уходят. Вот почему она все кричит: «Мало, мало!» Вот почему обшарпанный такой я хожу, по три года из одних брюк не вылажу, вот почему картошку с дешевыми консервами едим, вот куда премиальные мои уходят! Но зачем?! Зачем?!
Он попил воды из чайника, прямо из носика, обтер губы, опять сел. Хранит. Бережет. Для кого? Наверняка все из моды давно вышло, а так и не относила ни разу. Глотов раздраженно покрутил головой: «Не понимаю, совсем не понимаю. Наверное, я дурак, полный дурак, кретин. Она понимает, а я нет!»
И точно, начал он вспоминать, сколько раз приходила Лида взмыленная, злая, ворчливая, все разворачивала тайком что-то на кухне, шуршала хрустящей бумагой. Он-то думал, с работы просто приходит уставшая, а это она из магазинов, из очередей, с поля боя, с Бородина…
А ему ничего не говорила, потому что за дурковатого считает, за не умеющего жить, за иждивенца. Ну Лидка, ну Лидка!.. Вот дрянь! Вот… Глотов пнул босой ногой чемодан, он закрылся с легким хлопком, и с крышки густо взметнулась пыль.
Глотов побрился, надел другую рубашку (всего у него их было две), сложил в полиэтиленовый пакет двое джинсов и две кофточки и побрел к входной двери.
Когда он вышел, вовсю палило солнце, а потом неожиданно его завесило облачко, темное как туча, но маленькое и рваное. Оно не полностью заволокло диск, и кусочек поутихшего солнца лимонно высвечивался поверх него. И теперь на улице было и не пасмурно, и не солнечно, непонятно как, серединка на половинку, и от этой непонятности Глотову сделалось неуютно и пакостно. Он поднял плечи, сунул мешок под мышку, а руки впихнул в карманы. Порывами задул неожиданно стылый ветер, то с одной стороны, то с другой, и стало совсем грустно, и Глотову показалось, что ничего не будет, то есть вообще никогда ничего у него не будет…
— Далеко ль собрался, зятек? А зятек? — Глотов вздрогнул от голоса, и большое мускулистое тело его напряглось, будто в ожидании, что за голосом последует еще и выстрел. Он опасливо повернул голову и узрел свою тещу Людмилу Васильевну. Она стояла на другой стороне улицы и, уперев руки в боки, подозрительно глядела на Глотова. Лицо у нее было толстое и потное — теща не переносила жару и каждым летом говорила, что на сей раз обязательно помрет, но, к изумлению своему, не помирала и от этого непонятно почему злилась и обвиняла всех в коварстве.
Лида прописала ее через два года после свадьбы (каким волшебным образом это ей удалось, никому неведомо), но Людмила Васильевна с ними не жила, она по дешевке снимала комнату на Дмитровском шоссе у одной своей деревенской подруги — той жилось скучно и никчемно, вот она и отдала теще комнату. Раз в неделю она приезжала к дочери, помогать убирать квартиру.
Теща стремительно перешла дорогу, даже не посмотрев ни налево, ни направо («Объедут», — всегда говорила она, с ненавистью глядя на автомобили), вплотную приблизилась к Глотову и спросила:
— Ну?
Глотова густо обдало луком и потом. Черт его дернул идти этой дорогой, он же знал, что она должна сегодня прискакать.
— Дык… — Глотов не сообразил сходу, что ответить, и развел руками. Пакет упал и тихонько зашелестел, разворачиваясь.
— Это еще что?! — с угрозой протянула Людмила Васильевна, переводя взгляд с мешка на Глотова. — А?! Что спрашиваю?!
Шумно выдохнув, как штангист перед рывком, она грузно нагнулась, ухватила пакет пухлыми красными пальцами и распрямилась, вытаращив от усилия глаза.
— Лидочкины вещи! — ужаснулась она. — Лидочки моей вещи! Кровью и трудом заработанные! Годами копили, не ели, с ног валились… А ты, стервец!.. Ах ты, негодяй! — от слова к слову голос ее повышался. — Мы тебя кормим, поим, а ты воровать, воровать, да?! Продавать понес?! Алкоголик! Бандит! Люди, посмотрите! Это что же делается?! Что же делается?! — теперь она уже кричала: — Вот! Ворюга!
Глотов зажмурился до кровавых кругов под веками и свирепо гаркнул, не открывая глаз:
— Ма-а-лчать!!
Он гневно перевел дыхание, и когда Людмила Васильевна умолкла разом, то ли от громкости крика, то ли от испуга, процедил отчетливо:
— Я не вор, поняла?! И никогда им не был! Поняла?! И не буду! Поняла?! А ты вот возьми и сожри это шмотье, все равно ведь не носит никто! Все равно в рванье ходите, мля!..
Он наконец открыл глаза, но Людмилу Васильевну поначалу и не увидел, вернее — увидел, но очень расплывчато, не контрастно, потому что слезы дрожали на ресницах и застилали зрачки. Он, как ребенок, двумя руками отер глаза, не глядя на тещу, повернулся и пошел прочь.
Всю неделю Глотов приходил домой поздно, когда жена и дети уже спали. Лида, может быть, и не спала, но делала вид, что десятый сон уже видит, когда он осторожно заглядывал в комнату, чтоб узнать, дома она или нет. Она с ним не разговаривала и не звонила ему с работы, и не оставляла ничего поесть, и Глотов сам себе покупал продукты и сам готовил.
Выходило не очень вкусно, но терпимо.
Спал он на матрасе и совсем привык уже жить на кухне. Он мог там и покурить лежа, и водички попить, не ходя далеко, и из холодильника чего достать, практически даже и не вставая с матраса. Но чаще, когда приходил, сразу засыпал, раза два даже забыв раздеться, потому что он теперь работал еще на Павелецкой дороге, слава Богу, в черте города, укладывал шпалы. Работа была зверская, однако платили замечательно, тридцатник в смену. Уставал смертельно, но настроение зато у него теперь не такое было паршивое, плохонькое оно, правда, было, но не такое гадостное все-таки, как раньше. К тому же и Зотов и впрямь хорошим мужиком оказался, сдержал слово и помог Глотову в кассе взаимопомощи получить триста рублей.
В один из вечеров, когда он возвращался с работы, показалось, что увидел того, низенького, с которым был ТАМ, в той квартире. Подбежал, ухватил яростно за плечо, развернул к себе, хотел вдарить для начала, чтоб разговор добрый получился, но, к несчастью, это совсем другой мужичок случился, он затрясся мелко и чуть в обморок не упал, и пришлось Глотову тащить его на лавочку и приводить в чувство…
В субботу поутру пересчитал он причитающиеся ему двести рублей за работу, приложил их к тем, что получил в кассе взаимопомощи и сотню из аванса, надел чистую, самим выстиранную рубашку, и старательно отутюженные брюки, побрился тщательно, наодеколонился, выпил чаю горячего, покурил, посидел на дорожку, словно в дальний-предальний путь собрался, сунул толстую пачку в карман и вышел из дому.
Возле метро в киоске «Союзпечати» купил газету, зашел за киоск, оглядевшись по сторонам, вынул пачку из кармана, завернул ее аккуратно в газетный лист, примял пачку, чтоб поменьше она была, сунул ее обратно, а остальную газету скомкал и выбросил в урну. Когда у самого уже входа в метро был, увидел на шоссе, у тротуара лошадь, впряженную в чистенькую телегу.
Глотов остановился, взялся зачем-то рукой за щеку и, наклонив голову набок, заулыбался глупо. Вот те на! Лошадь в городе, в столице! И на миг все исчезло вокруг, и машины, и люди, и дома, остались только лошадь и солнце, белое, палящее, и вместо домов холмы зеленые выросли, вместо мостовой речка потекла искрящаяся, веселая, свежестью манящая. Как во сне, подошел Глотов к лошадке, погладил нежно проплешинки, запустил пятерню в гриву, живым гребешком расчесывая ее.
— Ах ты, бедная моя, — пробормотал Глотов, теребя жесткое ухо животного.
— Приезжий? — раздался тихий, низкий голос за спиной. — Деревенский?
Глотов обернулся. Распутывая вожжи, на Глотова усмешливо глядел широколицый рыжебровый мужик лет сорока пяти. Был он в резиновых сапогах, в теплом штопаном пиджаке, в черной кепке.
Глотов смутился, что застали его за такими нежностями, а затем и разозлился, что смущение свое показал.
— Местный, — без особой любезности сказал он, нехотя шевельнув губами, и добавил почти сквозь зубы: — Москвич.
— А, ну понятно, — не скрывая иронии, протянул мужик и, кряхтя, взобрался на телегу. — И коренной небось. Коренной, да?
Глотов тяжело поглядел на мужика и промолчал.
— Я вот тоже коренной, — слабо усмехнувшись, заметил мужик. — Ага, из-под Владимира. Такой коренной, прям страшное дело. Пятнадцать лет на «Серпе и молоте» вкалывал, а потом ррраз — и к лошадкам… Вот так, брат, потянуло, понимаешь, к лошадкам. А домой не поехал. Чего не поехал — сам не знаю. Вот и маюсь, вот и маюсь. Чего не поехал… Но!
Он хлестнул лошадь по крупу. Та вздрогнула и потопала, сухо поцокивая по асфальту. А мужик так и не взглянул больше на Глотова.
Глотов постоял еще минуты две, глядя вслед телеге, потом почесал грудь под рубашкой и сказал беззлобно:
— Ну и черт с тобой…
И пошел к метро.
Почти через час он уже шагал по тому самому переулку, где стоял ТОТ дом. И в субботний день переулок был пустынный и тихий, словно люди по нему никогда не ходили, а уж про автомобили и говорить нечего, не шелестели они здесь ни в какие времена своими скатами, не коптили свежий воздух прозрачным дымком. Из открытых окон вкусно пахло едой, чем-то жареным и острым, слабо доносились оттуда невнятные голоса, и кое-где мурлыкал телевизор, или магнитофон, или проигрыватель.
Возле самого дома Глотов заволновался. Напряглась спина, засаднило затылок, руки сделались непослушными, тяжелыми. Глотов обтер руки о рубашку и вошел в подъезд. Пока ждал лифт, прислонился лбом к прохладной стене, потому что запылал лоб, словно обгорел с непривычки на палящем солнце. Неприличную надпись про Варьку в лифте так и не закрасили. Глотов за то время, пока ехал, старательно затирал ее слюнявым пальцем. Вышел он этажом выше. По лестнице спускался мягко, неслышно, как в кино про преступников или про разведчиков показывают. Уже у самой двери перевел дыхание, потер грудь там, где сердце. Дверь уже починили, косяк был новый, свежевыкрашенный, а на дерматине темнела аккуратная заплатка.
— Так, — сказал Глотов и полез в карман за деньгами. Он оставит деньги у двери, на половичке, позвонит и убежит. Этажом ниже остановится и послушает. Если дверь откроется, то все в порядке; если нет, тогда до следующего раза. Газета развернулась, и из пачки виднелся уголок сиреневой бумажки. Глотов стал ее снова заворачивать, но ничего не выходило. Он вспотел, пальцы дрожали и не гнулись.
— Зараза такая, — пробормотал Глотов и помял мочку уха.
И тут свет, яркий, дневной, ударил ему по глазам. Это открылась соседняя, что справа, дверь. На пороге громоздилась массивная дама в халате. Из-за плеча ее взглядывал редковолосый мужичок с круглыми удивленными глазами.
— Чем это вы тут занимаетесь, гражданин? — громко воскликнула дама. Она уперла руки в круглые тяжелые бедра и чуть подалась вперед. — А? Я за вами десять минут в глазок наблюдаю.
«Десять минут, так долго, не может быть», — машинально подумал Глотов и отступил, цепенея, на шаг.
— Дверь сломать хотите?! — еще громче проговорила дама и бросила через плечо мужичку. — Лева, звони в милицию!
И добавила уже тише, задыхаясь от негодования:
— Ворюги чертовы, давить вас надо! Меня еще на старой квартире два раза грабили, ублюдки! Я вас!
Ничего уже не соображая, Глотов попятился назад. Шаг, еще шаг, еще. И покатился кубарем по лестнице. Пока катился целый пролет, выронил сверток, чуть пришел в себя, поднялся и дальше вниз уже бежал привычно и сноровисто, разом перескакивая через три ступеньки. Вылетел из подъезда, полусогнувшись, головой вперед, будто кто пинка ему под зад дал. Выскочив в переулок, вильнул налево и помчался к шумной и людной улице. Мелькали люди, дома, витрины магазинов, киоски. На какой-то улице вскочил в проходящий троллейбус, протиснулся в самый угол, отдышался с грехом пополам, отфыркиваясь и потряхивая головой. Огляделся мутноватым взором, заметил, что смотрят на него все как-то странно, будто на пьяного, или на сумасшедшего, или на преступника. «На преступника», — механически повторил он про себя и, опустив голову, выбрался из троллейбуса на следующей остановке и тут же пересел в другой, что следом шел. Там свободней было и тише, и люди друг на друга и на Глотова тоже, слава Богу, никакого внимания не обращали. Он уперся лбом в стекло и стал смотреть на улицу. Остановки через две мелькнула за мостовой голубовато вода. Москва-река? Пруд какой? Глотов вышел из троллейбуса, перебежал дорогу — захотелось на воду ему посмотреть, он с детства любил на нее смотреть, завораживала его вода. Если долго-долго глядеть на нежную невесомую гладь ее, то совсем в другие миры перенестись можно, в безоблачные, радостные, счастливые, где все друг друга любят, помогают друг другу, заботятся и очень от этого счастливы.
Не пруд это был, и не Москва-река, это был бассейн «Москва». Вот те на, бегал-бегал, а все вокруг центра крутится. А ведь думал, что удрал куда далеко. А все оттого, что это время в прострации, в оцепенении пребывал, смотрел вокруг и не видел ничего, вглядывался и не узнавал, другим, верно, голова была занята. А чем? Страхом? Нет. Страха он не чувствовал. Реального страха не чувствовал, того самого, который сердце колотиться заставляет, и коленки дрожать, и ладошки потеть, когда милиционер к тебе подходит или двое в штатском замедляют шаг и смотрят пристально. Этого нет. Значит, отчего-то другого он незрячим стал? А вот посмотрим на воду и узнаем, она подскажет. Успокоит и подскажет, и пусть даже это бассейновая вода, стерилизованная, никакая, в бетон закованная, чужой волей строго дозированная. Глотов спустился к бассейну, не по лестнице, а прямо по газону зеленого склона. Спустился и щемяще пожалел о вытоптанной травке. Вернулся назад — ползком на коленях попробовал заровнять рваные ямки от каблуков, но увидел несколько пар недоуменных глаз наверху, застеснялся, сполз обратно, отряхнулся и зашагал торопливо вокруг бассейна. Когда голубая чаша открылась ему полностью, остановился. Сунул руки в карманы, вздохнул, посмотрел на голубизну. Не получится ни черта у него — не та вода. Или он не тот. Вырос. Взрослый стал. По-другому все видит. В сказки не верит. Сказки… Точно. Все миры, что в мозгу у него рождались, когда он на воду смотрел, — это от сказок, вспоминавшихся вдруг детских сказок. Еще два-три года назад верил он, что есть другой мир, добрый и безмятежный, и сыну об этом говорил, что есть он, обязательно есть, только найти его надо — уметь искать надо. А теперь вдруг понял, что нет его. Нет. Нет. Нет. Что же он детишкам теперь говорить будет?
Глотов побрел обратно, к мостовой. Шел медленно, рассеянно глядел себе под ноги и вдруг стал понимать, что ему не так уж скверно, как еще несколько минут назад, что он почувствовал прилив сил, слабый еще, но все же, а все оттого, что голова вдруг сделалась ясной, думалось легко и думалось много и как-то для него самого неожиданно, словно это не он сам думал, а какую-то умную книгу читал, и еще ему показалось, будто в мозгу плотина какая прорвалась, сдерживающая раньше поток этот и выпускающая на волю только строго определенные, нужные лишь для сносного существования мыслишки.
Он огляделся, отметил, что находится уже у самой лестницы, взбежал по ней легко и стремительно, немножко красуясь своей ловкостью. Налево посмотрел, направо, раздумывая, куда податься. Потом вперед посмотрел. Большой дом с колоннами увидел, двор перед ним, чугунным литым забором огороженный, и очередь разглядел, вдоль забора по тротуару тянущуюся. Интересно ему стало, что там такое, пойти посмотреть надо. Пересек мостовую, подошел ближе, милиционера строгого увидел у входа во дворик, а возле него щит, а на нем написаны слова: «Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Выставка картин эпохи Возрождения». А ниже этих слов плакат с репродукцией картины какой-то. И на картине той красуется всадник на поджарой мускулистой лошадке, вернее — на коне, это Глотов вмиг определил. Коник был как настоящий, с бархатистой кожей, стройный, устремленный вперед, вот-вот готовый сорваться с места и помчаться стрелой, и страсть как захотелось Глотову увидеть эту картину живьем, не на плакате. Да и ко всему прочему, может, там еще какие картины с лошадками есть. И Глотов пошел в конец очереди. Пока шагал, разглядывал людей. Разглядывал и дивился — какие-то они не такие, эти люди, не такие, каких он привык в городе видеть, в метро, в автобусах, магазинах — худее они, что ли, или нет, вон и толстые стоят; печальнее? — тоже нет, вон двое заливаются, давятся смехом; вольные, небрежные? Тоже нет, но другие, другие.
Глотов встал в конец очереди и настроился терпеливо ждать. Скоро за ним еще люди встали, а за теми еще, и через полчаса человек двадцать-тридцать за ним гомонилось. Глотов внимательно прислушивался, о чем они говорили, но понимал мало, хотя слова все были русские, знакомые, а вот разобраться в смысле того, что говорят, было почти невозможно — что-то про дух, про настроение…
А еще через полчаса к тротуару подъехал темно-зеленый «рафик» с надписью «Телевидение» на дверцах, и оттуда вышли три парня. Один из них, что постарше, бородатый, вытащил из машины кинокамеру с треногой и поставил ее на тротуар, почти у самой очереди, двое других, волосатых, возились с микрофонами и негромко ругались.
Кончив препираться, пошли вдоль очереди, пристально вглядываясь в каждого. Наконец выбрали кого-то, направили на него лампы, яркие, добела раскаленные. Бровастый усмешливый мужчина в дорогом костюме что-то деловито проговорил в микрофон, и бородатый все это снял. А волосатые опять пошли вдоль очереди. И тут один из них остановился возле Глотова, окинул его оценивающим взглядом, спросил отрывисто: «Профессия?» — и Глотов ответил автоматически: «Токарь». Волосатый крикнул в спину второму: «Вова, это то, что нужно». Махнул рукой, и тут же зажглись лампы, и застрекотала камера, а бровастый заговорил радостным голосом:
— Люди совершенно различных профессий интересуются великим искусством. Потому что оно гениально, а значит, понятно всем. Только что мы с вами разговаривали с доктором наук, а сейчас наш собеседник — токарь. И я уверен, что он пошел сюда не потому, что это модно, престижно, для настоящего труженика, я думаю, таких понятий просто не существует, а потому, что потянула его чудодейственная магия живописи…
— Скажите, пожалуйста, как вас зовут? — Парень поднес микрофон к Глотову.
У того запылали уши, а потом лицо. Он качнулся. «Не волнуйтесь», — доброжелательно сказал кто-то сзади. «Я не волнуюсь, — хотел ответить Глотов. — Просто мне нельзя. Это не про меня. Перепутали». Он отер лоб — на коже проступила испарина, отвел рукой микрофон, пробормотал едва слышно: «Перепутали», вышел из очереди и двинулся по тротуару, мимо машины, мимо милиционера, опять не видя ничего вокруг.
А потом увидел троллейбус, скрипуче подкативший к остановке. Глотов быстренько побежал и вскочил в него в самый последний момент, полез в карманы и нашел там только две монетки, пятачок и гривенник. Поискал еще, но безрезультатно. Вот так. Столько денег еще час-полтора назад в руках держал, а теперь вот пятак и гривенник. И ему стало очень обидно за эти так глупо потерянные шесть сотен. Теперь их наверняка прикарманит эта горластая корова, прикарманит и глазом не моргнет, и не станет раздумывать даже, и потратит их на какую-нибудь дребедень, и положит эту дребедень в сундук впрок, и будет там эта дребедень гнить до самой ее смерти. А это ж ведь его деньги, личные, собственные, тяжким трудом заработанные, а она — в сундук! Черт! И Глотов хватанул себя по колену кулаком. «А почему я говорю: «мои деньги»? — подумал он неожиданно. — Совсем не мои деньги, это вор… чужие деньги, и никакого права я на них не имею. А что теперь делать? Опять заработать и опять отнести к той же квартире, положить в почтовый ящик. Ах ты, господи! Точно, надо было сразу положить в почтовый ящик. Ах ты, господи! Голова садовая! Так, значит, заработать и отнести? А не глупость ли это? Ведь украдено-то больше, гораздо больше…»
Ох, как раскалывается голова, гудит, распухает… А впрочем, что страшного произошло? Ну и украл. Да не я один краду, вон жена рассказывала, как у них в больнице у больных взятки берут врачи и сестры, и ничего, живут припеваючи. А раз все воруют, то почему и мне нельзя? Раз всем закон побоку, то почему мне он указ?.. Да чхать я хотел! Украл, и слава богу, доволен должен быть… Только жалко, что деньги потерял… Нет, нет, нет, все не то, не то… Ой, как плохо, как тошно, выпить бы сейчас… Выпить… выпить… и провалиться в сладкое забытье, уснуть и не проснуться… Господи, о чем я, о чем?! Душно здесь, тесно, жмет со всех сторон железная коробка, и нет мочи уже в ней находиться. Чудится, что так и не выйдешь отсюда никогда, останешься навеки. На воздух, на волю! Скорей!
Повеяло ветерком, легким и душистым. Откуда здесь в городе, душистый ветерок? Глотов потряс головой, помотал ею из стороны в сторону, вздохнул, огляделся. Господи! Опять вода. Где это он? А, Крымский мост, набережная Москвы-реки. Паршивенькая водичка, мутная, зелено-коричневая и вязкая, словно всю грязь из города в ней размешали. В такой даже топиться противно. Глотов угрюмо усмехнулся. Вроде полегчало, раз шутить начал. Ну и ладненько. На той стороне изумрудом отсвечивали на солнце пышные деревья, серебрился над самой почти рекой огромный горб кегельбана, а дальше в глубине сонно вращалось «чертово колесо» и еще какие-то хитросплетенные пестрые железки торчали над деревьями — видать, аттракционы. И ко всему прочему слышалась с той стороны ритмичная, веселая музыка. Вот так, в отличие от него, дурака, отдыхают люди, радуются жизни, да просто выходному дню радуются. И он тоже когда-то радовался выходному дню и веселой музыке. И совсем недавно это было. Неделю назад? Две?.. Вот пойду сейчас туда и тоже буду скакать козлом, и кататься на аттракционах, попивать холодную «Фанту», и глазеть по сторонам. Он пригладил волосы, оглядел себя со стороны, заправил выбившуюся рубашку под ремень, обтер потные ладошки о брюки и пошел к мосту.
«Фанты» Глотов не попил — очередь как за воблой, даже у фонтанчика с обычной водопроводной водой спрашивают: «Кто последний?» И на аттракционах покататься не сумел, к ним просто не подойдешь, тройным кольцом толпа их окружает, и все ругаются друг с другом, норовят первыми влезть, даже детишек расталкивают. Глотов насупился и пошел искать тихое местечко. Весь парк обошел и нашел-таки. «Кто ищет, тот всегда найдет». В тенистом, заросшем уголке возле решетчатого забора, за которым отдыхали поливальные машины. Отдохну, подумал Глотов, покурю и пойду.
Минут через пять другую лавочку заняли пятеро потных, возбужденных парней, они разом закурили, стали сплевывать — харкающе — под ноги и материться. Потом один из парней — приземистый, коротко стриженный и самый горластый (глянув на него сбоку, Глотов на миг затвердел лицом, показалось опять, что наконец того, низенького, углядел), достал из сумки две бутылки вина, откупорил их, и парни стали пить по очереди из горлышка. Глотову стало противно, безотчетная злость уже понемногу вскипала в нем. Но все бы ничего, если бы не вышла неожиданно из-за деревьев в тот момент усталая полная женщина лет пятидесяти и не направилась, припадая на опухшую ногу, к свободной лавочке. Когда она оказалась прямо против парней, то поскользнулась вдруг на влажной, не просохшей еще после ночного дождя земле и неуклюже упала на бок. Сумочка вылетела из ее рук и приземлилась возле парней. Низенький гоготнул, а вслед за ним загремели молодыми глотками остальные. А низенький встал, нарочито вежливо поднял сумочку и, держа ее двумя пальцами, стал дожидаться, пока женщина поднимется. Кряхтя и постанывая, та поднялась наконец. Низенький с полупоклоном подал ей сумочку. Женщина улыбнулась робко и поблагодарила низенького. У Глотова потемнело в глазах. И он шестым чувством, спинным мозгом понял, что сейчас ему себя не остановить. Вся боль, вся тоска, вся ненависть к этому неправильному миру, к себе самому, что скопились в нем за последние дни, сейчас пульсирующими толчками рвались наружу. Он медленно, очень медленно встал, набычился, чуть приподнял руки, развел их в стороны и неожиданно мягко для его грузной комплекции пошел к парням. Они почуялиопасность, исходящую с его стороны, и повернулись к нему все разом. Уже в двух шагах от них Глотов рявкнул:
— На колени!
Глядя стылыми глазами в упор на низенького, он подошел ближе и гаркнул снова с еще большей силой:
— На колени!
По лицу низенького было видно, что он еще толком не сообразил, в чем дело. Он вроде как обалдел от такой наглости и машинально стал подниматься с лавочки, чтобы не глядеть на Глотова снизу вверх, а хоть как-то с ним уравняться. Но когда он встал, то все равно смотрел снизу вверх, потому что ростом был Глотову по середину груди. Наконец он начал приходить в себя, прищурился, оглядел своих корешков и, вытянув вперед подбородок, спросил развязно:
— На перо просишься, дядя?..
— Ах ты, гриб! — мотнул головой Глотов, подумал секунду и добавил: — Ворюга! — стремительно поднес руку к голове низенького, накрыл широкой ладонью его лицо и толкнул легонько. Но это только самому Глотову показалось, что легонько, а на самом деле толчок был достаточно сильным, потому что голова у низенького запрокинулась и сам он полетел на лавочку.
Краем глаза он уловил, что парни напружинились и были готовы к драке. Они только ожидали сигнала от низенького. А тот пока молчал, обтирая пот с лица.
— Ну?! — Глотов нехорошо оскалился.
— Пошел ты на…! — выпалил низенький и снова вскочил, как ванька-встанька. И тогда Глотов сгреб его в охапку и потянул к земле.
— Мочи его! — сдавленно взвизгнул низенький, и Глотова ударили в ухо, потом в лоб, потом кто-то заехал ему ногой по пояснице. Но он не отвечал, он гнул низенького к земле. Тот хоть и хлипкий на вид был, но жилистый и сопротивлялся отчаянно, и Глотову требовалось немало усилий, чтобы сгибать его. Пронзительно кричала женщина, матерились и хрипели парни, обрабатывая Глотова со всех сторон. Он шатался, голова его болталась из стороны в сторону, но с тупым упорством он продолжал делать свое дело. Кто-то справа настойчивыми и довольно сильными ударами мочалил Глотову ухо.
Вдруг что-то лопнуло со звоном в затылке, горячая волна ударила в голову, вспыхнул красный свет перед глазами, и Глотов рухнул на утоптанную, заплеванную землю.
— Зачем бутылкой-то, козел?! — сквозь забытье услышал он и провалился в чернильную темноту…
Чьи-то жесткие, крепкие руки, подняли его, усадили куда-то, что-то холодное, мокрое, мягкое ко лбу прижали, а потом Глотов ощутил на языке кисловатый привкус «Фанты». Ну вот наконец и попил водички. Он слышал далекую музыку, возбужденные голоса и даже шорох листьев на деревьях. Глотов открыл взбухшие веки и увидел перед собой некрасивое лицо молодой женщины, ее длинные, встревоженные глаза с белесыми, будто выгоревшими ресницами. В одной руке женщина держала пустую бутылку «Фанты», а другой рукой отирала Глотову лицо мокрым платком. Правее он разглядел двух строгих парней с повязками дружинников, крутоплечего бородатого мужчину и ту самую пожилую женщину, из-за которой все началось. Бородатый потрясал кулаком, женщина суетливо жестикулировала, а дружинники подозрительно глядели на них, словно раздумывали, сейчас их арестовать или погодить чуток, дать выговориться.
Вот бородатый мотнул головой, как бы с досады, повернулся в сторону Глотова и позвал:
— Марина, иди сюда, чертовщина какая-то выходит, ничего им не объяснишь.
Марина заглянула Глотову в глаза, улыбнулась сухим крупным ртом и, кивнув, спросила ласково, как дитенка малого:
— Ну как! Лучше?
— Лучше, — глухо выдохнул Глотов через разбухшие губы. — Спасибо…
— Вот и чудесно. Погодите немного, я сейчас…
Женщина поставила бутылку на лавочку, приладила мокрый платок у Глотова на голове, прямо на темечке и пружинистым шагом направилась к дружинникам. Строгого, прямого фасона твидовая юбка до половины скрывала полные икры, а плечи длинного пиджака были пухлые и широкие, и со спины женщина выглядела коренастой и приземистой. «Мода, что ль, такая? — подумал Глотов и осудил тотчас: — Дурацкая».
— Ох, все из-за меня, из-за меня, — завздыхала вдруг женщина, с которой все началось. Тонкие седые волосы выбились из-под гребешка и пепельно отсвечивали, и казалось, что над головой у женщины мерцает нимб. — Такая беда, такая беда, и хороший человек пострадал ни за что.
— Все в порядке, — шевельнул губами Глотов. — Нормально.
— Как вы? — Бородатый прищурился и тотчас хмыкнул, а потом не удержался и хохотнул. Глотов нахмурился и с недобрым удивлением уставился на него. Вслед за Бородатым не сдержала смешок и Марина, и та женщина, с которой все началось, тоже заулыбалась. Глотов обалдело смотрел на них и никак не мог понять, в чем дело. Он наклонил голову, оглядел себя и тотчас что-то белое заслонило левый глаз. Глотов машинально отмахнулся, и влажный платок свалился с его головы. Так вот над чем они смеются. Уж очень нелепо он, здоровый, хмурый дядя, выглядел с этим платком. И он тоже засмеялся, и ему стало хорошо, впервые за все эти дни он почувствовал что-то похожее на радость. Он был в центре внимания, и внимание это было искренним и добрым. Он поднял платок, встряхнул его, сложил аккуратно и протянул Марине:
— Спасибо большое.
— Лазарет на лавочке, — сказал Бородатый. — Передвижной медпункт. Доктор Марина Клокова оказывает первую помощь пострадавшим от стихийного бедствия с ласковым мужским названием «Портвейн». — Он серьезно посмотрел на Глотова.
— Что же это вы, здоровый сильный мужчина, не могли оказать сопротивления этим пьяным соплякам? Или сами того? — Он щелкнул себя по шее.
— Я не пьяный, — Глотов насупился.
— Тогда почему?
Глотов молчал.
— Ну что ты пристал к человеку? — подала голос Марина. — Он еще в себя не пришел. — Она ловко наклонила голову Глотова к себе. — Ах ты, господи, опять кровь, рассекли, мерзавцы, кожу на затылке. И вправду надо в медпункт. Где тут медпункт?
— Ага, — сказал Бородатый и сунул руки в карманы протертых джинсов. — Чтобы там травму зарегистрировали и вызвали милицию. И начнут его, бедного, таскать туда-сюда. А тех пятерых давно и след простыл.
— Верно, — Марина задумалась, прищипывая нижнюю губу.
— Тогда к нам.
— Ну-ну, — сказал Бородатый и с сомнением посмотрел на Глотова.
— А что прикажешь делать? Не оставлять же его здесь? — В голосе у женщины появились жесткие нотки.
Мужчина пожал плечами:
— Как хочешь.
— Все. Встали и пошли, — быстро скомандовала женщина. Она была врач, и для нее начиналась работа.
Она помогла встать Глотову, попрощалась с женщиной, с которой все началось, и торопливо пошла вперед по тропинке. Вслед за ней двинулись Бородатый и Глотов.
Идти было тяжело. В ушах стеклянно позванивало, а ноги были как чужие.
Бородатый, его звали Валентин, поддерживал Глотова и, отвлекая его, бодренько рассказывал:
— Мы шли мимо, вон там, за деревьями. Вдруг слышим шум, крики, звон какой-то. Ну, думаю, драка. Немного струсил, человек все же. А мимо пройти не могу, понимаешь. Я же спортсмен и преподаватель, студентов добру учу, понимаешь, да и вообще… Толком даже и не раздумывал. Ну вот, вбегаем с женой в эти самые кусты, там тебя лупят, да так смачно, что у меня аж задрожало все внутри. И тут я как заору: «Всем стоять, гады, милиция!» — и свистнул, как милицейский свисток, я умею так, могу показать. Ну а эти шалопаи врассыпную, с хрустом и треском через кусты, как лоси. А потом дружинники пришлепали к шапочному разбору и говорят, что ты пьяный и хулиганил, и хотели тебя в отделение отвести. Вот так.
У выхода из парка они сели в такси. Ехали молча. Марина прижимала к его затылку холодный мокрый платок, и это было очень приятно, и Глотов, совсем уже оклемавшийся, все хотел спросить, куда же они все-таки едут, но так и не спросил до конца пути. Ему было неудобно. Он подумал, что своим подозрительным вопросом может оскорбить людей, которые желают ему добра. Так мало людей, которые просто так, ни за ради какой-то там выгоды, желали ему добра.
Марина и Валентин жили недалеко, в середине Ленинского проспекта, в солидном кирпичном доме послевоенной постройки.
Когда Глотов вышел из машины, ему почудился легкий запах керосина и слабый горьковатый аромат дымка от печки, и на несколько мгновений он так явственно ощутил, что он у себя в Утинове, что даже заволновался: а не теряет ли он сознание на ходу? Он где-то про такие штучки читал.
Квартира была трехкомнатная, очень чистая и очень светлая. В прихожей их встретил серьезный, аккуратно причесанный мальчик лет десяти. Он улыбнулся Марине и Валентину и вежливо, совсем по-взрослому пожал руку Глотову и представился: «Сергей». Валентин потрепал его по шее — мальчик снес это достойно, хотя по темным большим глазам его видно было, что такая фамильярность ему претит, — и сказал гордо: «Мой старший. Очень талантливый. Моя надежда». Мальчик, извинившись, ушел в свою комнату, а Глотова провели в просторную, заставленную самой необходимой мебелью гостиную.
Марина сказала с осуждением:
— Опять ты его хвалишь? Зачем? Портишь ведь.
— Ерунда, — резко возразил Валентин и махнул рукой. — Наоборот. Человек, если он талантлив, должен знать, что он талантлив. Это прибавляет ему сил и уверенности в себе…
— И самомнения, и тщеславия, — перебила его Марина, роясь в многочисленных ящиках приземистого модернового серванта.
— Ну хорошо, хорошо, — примирительно выставил ладони Валентин. — Время рассудит. Я пошел в ванную. Если надо помочь, крикни.
Марина наконец нашла то, что нужно, какие-то железные коробочки, бинты, вату, унесла все это на кухню, вернулась, сняла жакет, приказала и Глотову раздеться до пояса. А он стеснялся, улыбался глупо и все говорил тихо и слабо: «А может, не надо, может, и так сойдет». Но она решительно сняла с него рубашку, положила на плечи ему холодную скользкую клеенку, отчего у Глотова мурашки побежали по спине, наклонила голову и стала выстригать волосы возле раны. И Глотов покорился и молчал, и ему было очень хорошо, и легко, и даже как-то умильно на душе, точно так же, как в детстве, когда мама вот так же сажала его решительно на табурет и стригла жесткие, непослушные мальчишеские волосы.
А потом он даже чуть не заснул под ласковыми женскими пальцами. Марина опять ушла и опять вернулась с железной коробкой. Через минуту Глотов почувствовал режущую боль, но он молчал, стиснув зубы. Если бы страдание было во сто крат сильней, он тоже бы молчал, умер бы, но молчал… Наконец все кончилось. В затылке, правда, все еще стучало болью, но приглушенной, затухающей.
— Я зашила вам рану, Володя, — сказала Марина, подавая ему рубашку. — Отдыхайте, сейчас будем обедать.
Она удалилась на кухню, а через минуту явился Валентин, бодренький, улыбчивый, волосы и борода у него были влажные, и от него пахло мылом.
— Обычно гостям показывают семейные альбомы, — сказал Валентин, устраиваясь рядом. — Я не исключение. Но фотографии здесь немного другого рода.
Валентин перевертывал толстые картонные страницы, шелестел папиросными вкладышами и комментировал каждую фотографию. Оказывается, они с Мариной и с друзьями — спортсмены-туристы, каждый месяц ходят в походы с разной категорией трудности, и у Валентина даже есть какой-то разряд, Глотов не запомнил какой, и на этих снимках запечатлены разные интересные моменты этих походов. Валентин рассказывал смешно и очень интересно, — вот здесь у них унесло плот, здесь они спасали мальчика-пастуха из-под какого-то обвала, а вот тут они варят уху, а вот тут поют песни… Говорил, как походы сплачивают, что все становятся как родные, и что у походников самый высокий дух коллективизма, агитировал Глотова ходить в походы, потом рассказывал туристские анекдоты, и Глотов хохотал до саднящей боли в зашитом затылке, а Марина кричала из кухни, что она тоже хочет посмеяться…
Глотов был очень благодарен Валентину, что тот ничего не расспрашивал про него самого, про Глотова. Потому что если бы тот стал расспрашивать, то Глотову нечего было бы и рассказать, если только наврать, а врать он как-то не любил с детства, да и повзрослев, тоже не научился…
А затем Валентин стал говорить про себя, что ему сорок лет, что время идет, но ничего, он еще покажет, засядет и разработает тему так, что академики ахнут, что просто дела отвлекают, бытовая текучка на работе, да и походы тоже хотя и помогают, но время все-таки крадут. Валентин порозовел, глаза его возбужденно блестели, и каждую фразу он заканчивал ударом кулака по столу. А Глотов поддакивал ему искренне, потому что верил, что Валентин обязательно засядет и напишет такую диссертацию, что все ахнут. А Валентин говорил уже про то, какой его работа даст экономический эффект, о том, какой она сделает переворот, шум и бум…
— Хватит! — Голос Марины прозвучал тихо и властно.
А Валентин вскинул на нее глаза, и смутился, и замешкался. Суетливыми движениями закрыл альбом, отложил его на диван. А Глотов удивился: чего это она так его обрывает, и чего, интересно, он испугался?
— Положи скатерть на стол, — уже мягче сказала Марина и, улыбнувшись, кивнула Валентину.
Глотов чувствовал себя как в раю, ему было хорошо, как никогда, и казалось, что этих людей он знает тысячу лет и всю эту тысячу лет преданно и бескорыстно их любит, и сказали бы ему сейчас: умри за них — и он умер бы, не раздумывая.
Обед был вкусный и разнообразный, и Глотову очень хотелось есть, но он старался есть мало, чтобы не подумали, что он невоспитанный или из голодного края, он сидел прямо, как аристократы в кино, и старательно манипулировал ножом и вилкой.
Потом Валентин попросил сына показать Глотову, какие у него врожденные математические способности. Глотов называл астрономические цифры, а Сережа их складывал, делил, множил и даже извлекал корень, Глотов смеялся и восторженно повторял: «Ух ты!»
После обеда Валентин и Сережа, извинившись, ушли в комнату, на пять минут, как они сказали. Глотов и Марина остались одни. Глотов хотел курить, но спросить позволения не решался. Марина некоторое время внимательно смотрела на него, а потом неожиданно спросила:
— Вы из деревни, Володя?
Глотов кивнул.
— Давно?
— Шесть лет.
Марина покачала головой, расправила скомкавшуюся на углу скатерть:
— Мой муж тоже был деревенский.
Глотов удивленно посмотрел на дверь.
— Нет, нет, не Валентин, — она слабо улыбнулась. — Мой первый муж. Он погиб. В автокатастрофе. Он был шофером. Толей его звали. Вы очень похожи на него, Володя. Я как увидела вас, лежащего, так чуть плохо не стадо, так похожи. Мы пять лет всего прожили. Я вышла за него в девятнадцать. Он был очень хороший и добрый, и искренний, и сострадательный. Я с ним на практике познакомилась, в Смоленской области. Вы очень похожи, — она как-то странно посмотрела на Глотова, он страшно смутился и опустил глаза. — Он очень был неспокойный, все чего-то искал, за всех и за все переживал, мучился. И все домой рвался, меня изводил. А я же не могу там, я же горожанка, — она мягко свела губы и спросила после паузы. — И мне кажется, вы тоже такой же, да?
Глотов ничего не ответил и, в свою очередь, стал разглаживать скатерть. Откуда он знает, какой он? Разве задумывался когда-нибудь над этим — жил и жил себе без затей.
— …Я шесть лет потом не могла ни с одним мужчиной встречаться. А потом стало страшно, я ведь совсем одна, родители умерли давно. Стало страшно одной, и когда Валя предложил пойти замуж, я сразу согласилась…
— Он хороший, — наконец сказал Глотов только для того, чтобы что-нибудь сказать, а не сидеть тупым чурбаном.
— Хороший, — согласилась Марина. — И мы с ним ладим. Только ладим, и все.
— А чего еще надо? — удивился Глотов. — Чтоб мирно было и тихо. И дети чтоб были… Квартира у вас есть, и мебель, — он нахмурился, каким-то вторым слоем сознания сообразив, что говорит что-то не то.
— Да, да, конечно, — опять согласилась Марина. — Все есть, все есть… И спокойствие есть, очень много спокойствия, чрезмерно много. Вокруг Валентина спокойствие и пустота, и он заполняет эту пустоту походами, нелепыми прожектами и другой чепухой.
Глотов никак не мог взять в толк, почему она говорит все это с почти нескрываемой горечью, ведь дружная, нормальная у них семья, все как у людей — и квартира, и достаток, и ребенок, такой умный и такой воспитанный, и относятся Марина и Валентин друг к другу с уважением, это сразу видно (Глотов считал, что глаз у него наметанный, разные семьи он видывал). Наверное, все бы хотели так жить?
— А вообще, все у нас замечательно! — Марина словно подслушала мысли Глотова. Она улыбнулась весело и широко, выпрямилась на стуле, запустила пальцы в густые черные волосы, откинула пряди назад. — Все отлично, все чудесно! Все у нас тихо и гладко. Мы образцовая семья.
— Ну вот, конечно, — Глотов обрадовался, что теперь все ему понятно и именно так он все и увидел в этом доме. — Очень хорошая у вас семья, можно позавидовать.
Марина только покачала головой, поднялась и начала собирать посуду со стола. А Глотов опять заметил, что глаза у нее стали совсем безрадостными. Почему?
Не его это дело, конечно, но все-таки почему? Значит, чего-то не хватает? Может быть, денег? Любви? Но любовь-то, наверное, есть, раз живут вместе и не скандалят, не злобятся, ладят. Когда ладят, это и есть любовь…
— Вы женаты? — спросила Марина.
— Да, — ответил Глотов. — И дети есть. Двое.
— И все у вас хорошо?
Глотов дернул болезненно щекой и, испугавшись, что Марина это углядела, стал тереть щеку пальцами, будто она зачесалась. Марина едва заметно усмехнулась краешком губ и попросила:
— Помогите мне.
Когда они вернулись в комнату, Валентин и Сережа с довольными, раскрасневшимися лицами уже сидели на диване.
За спинами они что-то прятали.
— Ну, мать, теперь гляди, — торжественно произнес Валентин и вытащил из-за спины грузовичок размером с коробку из-под обуви.
— Ну и что? — с нарочитой усмсшливостью подначила Марина.
— А вот что, — не сдержавшись, выкрикнул воспитанный Сережа.
Он схватил машину, что-то покрутил сбоку, поставил ее на пол, и автомобильчик побежал по паркету, рокоча и металлически позвякивая. Валентин и Сережа завизжали от восторга и бросились вслед за машинкой, чтобы остановить ее, а то ударится, не дай бог, обо что-то и поломается.
— Мы ей мини-моторчик приделали, — сказал Сережа, подняв машинку высоко над головой. — Полгода с папой работали. Это подарок Саньке.
— Санька, наш младший, он сейчас за городом, с садом, — объяснила Марина Глотову, а потом она зацокала восторженно языком, закачала одобрительно головой и похвалила: — Молодцы, ну молодцы, вот Санька обрадуется.
Мальчик снова поставил машину на пол, она шустро покатила в прихожую, а Сережа и Валентин опять бросились за ней, хохоча.
Марина смотрела им вслед и пощипывала пальцами нижнюю губу.
Потом все смотрели телевизор, шла передача «Киноафиша», где представляют, какие картины будут идти в кинотеатрах в этом месяце. Валентин с сыном внимательно вглядывались в экран и то и дело о чем-то спорили, то танки Валентину не понравились, то Сережа запальчиво твердил, что шестиклассники такими словами не разговаривают, и все это неправда, и придумали все это какие-то глупые дяди. Марина ушла, потом вернулась, стоя посмотрела немного телевизор, усмехнулась какому-то глубокомысленному замечанию Валентина, подошла к нему, поцеловала в затылок, потом поцеловала и Сережу, а они этого даже и не заметили. Почувствовав на себе взгляд Глотова, она повернулась к нему, — он сидел на диване, — потерла лоб, якобы случайно, закрывая ладошкой глаза, и скорым шагом вышла из комнаты. Его никто не гнал и не намекал, что нужно уйти, но он сам сообразил, что уже пора. Им занимались, когда ему нужна была помощь, а сейчас все в порядке, и квартира зажила своей обычной, повседневной жизнью, и в этой жизни Глотов был уже лишним. А уходить ему не хотелось, но он понимал, что надо. Он поднялся, поправил рубашку, старательно разгладил ладошками помявшиеся брюки, сказал в затылок Валентину:
— Ну пошел я, и так уж задержался.
— Досмотрел бы передачу, — не оборачиваясь, отозвался Валентин.
— Да надо уже.
— Ну что ж, — Валентин полуобернулся, протянул руку: — Заходи, коли рядом будешь.
Глотов пожал руку и сказал:
— Спасибо вам, — потом пожал хрупкую ладошку и Сереже.
— Ну пошел я, — сказал он, заглянув на кухню. Марина отставила кастрюлю с плиты, вытерла руки о фартук, валявшийся на стуле, подошла к Глотову почти вплотную:
— Я очень рада, что познакомилась с вами, Володя, — она открыто, не смущаясь, смотрела ему в глаза. — И защищайте себя, как положено, независимо от настроения, независимо от чувств, которые вас одолевают. Вы же ведь могли этой шантрапе взбучку дать? Ведь правда?
— Правда, — тихо ответил Глотов. Ему захотелось вдруг поцеловать эту грустную милую женщину.
— Дайте, я вас поцелую, — просто сказала она, взяла его за шею, притянула к себе, а сама встала на цыпочки. У Глотова закружилась голова, и он зажмурился.
Когда он открыл глаза, Марина была уже в прихожей.
— Запишите мне ваш телефон, — вполголоса попросил он. Марина покрутила головой:
— Нет, Володя, не надо. И больше не приходите сюда. Мне будет тяжело. Все, идите, — она подтолкнула его к двери.
— Дык… — Глотов растерянно развел руками.
— Идите, идите. — Марина щелкнула замком.
Дверь за спиной захлопнулась, и Глотов остался один, совсем один. Он вышел на лестничную площадку, медленно спустился к окну, суетливо пошарил по карманам, нашел «Приму», обломал две спички, наконец прикурил. Порывисто затянулся и невидяще уставился в окно. Ну вот, все и кончилось. И надо было возвращаться в прежнюю жизнь, а сил уже не было. Он это понимал. Он это чувствовал — всем существом, каждой клеточкой. И Глотову даже не хотелось выходить из подъезда, потому что казалось, что там на улице его встретит душный, зловонный буран, он будет забиваться в горло, легкие, будет вертеть его из стороны в сторону, как тряпичную куклу, назойливо и колко лезть под веки… Глотов поежился, бросил сигарету и пошел вверх по лестнице. Он тяжело и размеренно ставил ноги на ступени и думал. Уехать в Утинов, к старенькой маме? Но и там будет то же самое. Куда бы он ни укатил, хоть на самый Сахалин, там все равно будет то же самое. И в квартире у Валентина и Марины он тоже не смог бы спрятаться, даже если бы ему и позволили это сделать. Он поднялся уже на три этажа. Солнце приветливо светило в окна, но там, у подъездной двери, его ждал буран. Он это знал. Еще два этажа. Все рассказать? Кому? Боже мой, кому?! Дальше был чердак. Все, хода нет. Последний этаж. Глотов шагнул к окну, глянул вниз. Высоко. Люди пестрыми горошинками перекатываются по двору. Хорошо, что окно выходит во двор, неожиданно деловито подумал Глотов. Он вынул сигареты, опять закурил, затянулся три раза и бросил сигарету на пол. Склонился, щелкнул шпингалетом, выпрямился, потянулся к верхней задвижке, с едким писком открыл раму, затем то же самое проделал со второй рамой, тоже открыл ее. Свежий ветер вмиг освежил потное лицо, и кожа натянулась на скулах, как после купания. Глотов, кряхтя, влез на подоконник, держась за раму, сделал полшага, нога повисла в воздухе. Он сдавил веки. Сейчас… Но что-то не пускало его. Никак. Он открыл глаза, оглянулся. Рука судорожно вцепилась в раму, побелевшие пальцы одеревенели. Глотов попытался их разжать, не вышло. Он постарался оторвать их левой рукой, и опять не вышло. Он провел ладонью по лицу, вздохнул и осторожно сполз на пол. Пальцы как приклеились к раме.
— Вот карусель, — сказал он и мотнул головой. Захотелось курить. Он увидел догорающий окурок, машинально нагнулся, и рука отклеилась от рамы. Глотов мелко засмеялся. Откуда-то снизу потянул сквозняк, вторая рама задребезжала стеклянно и захлопнулась со свирепым треском, рассыпчато звеня, посыпалось разбитое стекло. Глотов вздрогнул и выронил окурок. Струйки пота щекотали ему щеки. Скрипнула дверь на этаже, потом послышались решительные шаги, и внизу лестничного марша появился мужчина с недовольным костистым лицом. Он был в летней милицейской рубашке с белыми погонами. «Капитан», — машинально отметил Глотов.
— Ну? — спросил капитан, стряхивая крошки с губ. Он, видимо, только что пообедал. — В чем дело?
Глотов медленно покрутил головой, мол, ничего, все в порядке, затем не спеша закрыл на щеколды обе рамы, ногой задвинул осколки в угол, повернулся и стал спускаться. Капитан с интересом смотрел на него.
Он открыл глаза и тотчас решил, что делать этого не стоило.
Надо было еще спать и спать, а может быть, даже не спать, а просто ворочаться и искать местечко поудобней.
Ворочаться-ворочаться, а потом вдруг, замирая, провалиться в зыбкую полудрему и вновь вынырнуть из забытья, ощущая холод испарины на укрытой тонким одеялом жаркой спине. И так все утро, и весь день, и всю ночь, и еще день, и неделю, и месяц… и чтоб только глаз не открывать.
«С чего-то вдруг?» — с подозрением подумал Глотов и прислушался к себе придирчиво. Громко и неровно колошматилось сердце, и голова лопалась, будто футбольный мяч, который слегка перекачали никелированным насосиком, и кожа на всем теле как бы высохла и теперь стягивалась, зудела и шелушилась. Глотов пошевелил губами и почесал темечко. Хотя нет, все в порядке. Обычное дело. Привычное. Похмельное. Сейчас бы не валяться на мягкой постельке, а заняться делом, настоящим, мужицким. Он выпростал руки из-под одеяла, приподнялся на локтях, сморщившись от заухавшей в затылке боли, и бессильно откинулся опять на подушки. Вставать не хотелось. Вокруг было тоскливо и мрачно. Холодом веяло и унылостью от блеклых обоев, от треснутого потолка, от неказистого серванта, от тусклого хрустального сверканья в нем, от салфеточек и полотенчиков, от стиранной до катышков скатерти на столе, от герани, традесканций, от портрета тещи с тестем, от портрета его самого в «свадбешном» костюме.
— У-у-у-у-у, — сдавленно затянул Глотов, вцепился длинными сухими темными пальцами в лицо и стал мять его, как тесто для пирога. А помяв лицо, унял и маету.
Встал. Чуть шатнувшись на первом шаге, потопал на кухню, выхлестал литровую банку компота, запоздало вспомнив о детишках, для которых наверняка компот и предназначался.
— Прости, господи! — сказал он и сделал страдательное лицо. Поставив банку, тотчас забыл о детишках, вернее — о том, что выпил их компот. Потянулся, почесался. Сплюнул в раковину. Отошел к столу. Потом снова вернулся к раковине, с полминуты что-то рассматривал в ней и после этого пустил из крана тугую струю и очень был этим доволен. Жар внутри спал, но теперь там что-то скребло и неприятно царапало. Да так неприятно, что он даже скривился. Сроду такого не было. Глотов насупился и сел на табурет, голыми ляжками ощутив успокаивающую прохладу дерева.
— Значит, так, — сказал он и на некоторое время сотворил глубокомысленное лицо, но бесполезно, мысли прятались, или их не было вовсе. Тогда Глотов сообщил себе: — Душно, — и воспрял при этом духом, решив, что именно в этом вся загвоздка его состояния. Раздернул шторы, с треском, залихватски распахнул окно и уткнулся лицом в решетку. Он чертыхнулся и саданул по решетке кулаком, она задрожала, а потом загудела тонко, рука налилась болью. Глотов подул на руку, чертыхнулся еще раз и сказал:
— Тюрьма… Трясется, дура, будто покрадут ее с первого этажа… А кому она нужна? Кому нужна?! — он, недобро прищурившись, покачал головой. — Ой, тюрьма… Он мутно обозрел комнату и уткнулся взглядом под стол. Там на боку валялась спаянная из проволочек фигурка какого-то животного с жалко подогнутыми тонкими ножками и без головы.
— Ух ты! — вырвалось у Глотова. Взгляд его метнулся к столику, что ютился возле пышного дивана, где они спали с женой. Столик был пуст, ни проволочки, ни бумажки, и даже паяльника не было. На этом столике он мастерил своих лошадей, и там всегда толпился целый табунчик со статными скакунами и неуклюжими жеребятами. А сейчас пусто. Он медленно, на дрожащих ногах, подошел к дивану, и почудилось ему, будто хлестнуло под вздох чем-то студеным, он даже машинально глотнул воздух. Осторожно, как несмышленого птенца, выпавшего из клетки, он поднес фигурку к глазам и прошипел, почувствовав, как затвердели вдруг губы:
— У-у, дрянь!
…Высунув язык, он припаивал хвост к готовой уже проволочной фигурке. Возле него суетился шестилетний Алешка. За окном шелестел дождик, бежали прохожие, шлепая по лужам. Изредка кто-то весело вскрикивал. Внезапный был дождик и обильный. Но Глотов ничего не видел и не слышал. Он весь был в радостном возбуждении. Он всегда пребывал в радостном возбуждении, когда «творил» лошадок. Последнее время он только и жил этим. Он их сначала рисовал, потом подготавливал нужные проволочки, потом паял их и покрывал скелетик фольгой.
Так хорошо, как во время этой работы, он себя чувствовал только в детстве, в юности, там, в родном Утинове, на Волге, когда, отрешаясь от «важных» своих дел и забот, смотрел со взгорка, как окунаясь в красный закат неспешно плывут по степи совхозные кони.
Алешка еще немного поглядел, как паяет отец, а потом ему стало скучно, и он убежал в свою комнату. Глотов слышал, как открылась дверь и как, недобро бормоча что-то, прошествовала на кухню жена Лида, волоча за руку заплаканную трехлетнюю Варьку, очнулся он, лишь когда над самым ухом услышал громкое и скрипучее:
— Опять!
Он потряс головой, проморгался, отложил паяльник, с тоской ощущая вновь безрадостное бытие. Сумев все-таки сотворить на лице подобие улыбки, повернулся к жене.
— Умру я, — вымученно проговорила она, и невыразительное, вислощекое ее лицо нервно дернулось. — Хоть бы польза была от этой дребедени.
Когда-то лицо ее казалось Глотову свежим и ласковым, а за мягкие щечки страсть как хотелось ущипнуть. Когда это было?
Лида резко рубанула рукой и добавила, повысив голос:
— Убери эту пакость! Воняет, — и, помолчав, заключила. — Дармоед!
— Я в отгуле, — сухо сказал Глотов, выключая паяльник.
Прибежала кругленькая Варька и стала карабкаться к отцу на колени.
— В отгуле, — передразнила Лида. Она шлепала в огромных тапочках по комнате и подозрительно заглядывала в углы и под мебель — не насорил ли. От него всего можно ожидать.
— Вон дитенку ходить не в чем. В отгуле. Пошел бы и подработал.
— Ну опять ты, — миролюбиво отозвался Глотов, поглаживая девочку по головке.
— Опять! — вскинулась Лида, она уже наслаждалась предощущением скандала. — Другие на двух, на трех работах работают.
— На десяти, — опрометчиво вставил Глотов.
— Он еще издевается! — Женщина всплеснула руками. — Он еще издевается. — Она лихорадочно подыскивала слова.
У Глотова сжалось все внутри, но он переборол себя и сказал, видно, повторяя эти слова в сотый раз:
— Я приношу тебе сто пятьдесят чистыми, ты столько же получаешь, Людмила Васильевна дает…
— Ты маму не трожь! — взвизгнула Лида.
— Да я…
— Не трожь, ты за ее счет живешь! Твои дети за ее счет живут! И вместо благодарности ты издеваешься!?
— Я только хотел спросить, куда ты их деваешь? — силясь подавить гнев, сказал Глотов.
— Тебя кормлю! — выкрикнула женщина и заплакала, и, как ребенок, размазывая слезы по щекам, ссутулясь, валко побрела на кухню. Варька тоже заплакала и побежала вслед за матерью. Из смежной комнаты выглянул привыкший ко всему Алеша, почесал ухо и вновь исчез.
— Давай уедем, Лида, — грустно глядя перед собой, сказал Глотов. — Как у нас там хорошо. Степь, Волга, дом все-таки…
— Уедем?! — Женщина тотчас забыла о слезах. «Все об одном и том же», — вскользь подумал Глотов.
— Я здоровье не пожалела, чтоб в Москву пробраться, я денег не пожалела, и мама столько трудов положила, чтоб в столице как люди жить. А ты уедем! — Она вновь показалась в комнате. Слезы еще не высохли, и лицо было похоже на мокрую недозрелую тыкву.
— Ты бы работал лучше, деньги зарабатывал, а не крокодилов строгал. Зажрался на наших харчах, иждивенец!
Глотов встал и набычился.
— Иждивенец! — отважно выкрикнула женщина и, упиваясь своей смелостью, подошла к столику, схватила не доделанную еще фигурку и хрястнула ее об стену.
Глотов закрыл лицо руками, прорычал что-то невнятное и стремительно выскочил из квартиры. У перекрестка у него почему-то стал сваливаться правый ботинок, и Глотов остановился. Ботинки были одеты на босу ногу и не зашнурованы. Короткие домашние брюки оголяли щиколотки, и со стороны он, наверное, был похож на босяка.
— Иждивенец, — с садистским удовлетворением процедил Глотов. — Как есть иждивенец…
Он ослабил ремень и приспустил брюки. Они прикрыли щиколотки, но теперь мятым мешком повисли между ног. Глотов мрачно усмехнулся и сплюнул. Черт с ними. Потом наклонился и завязал шнурки, намертво, на три узла. Сунул руки в карманы, ежась, и огляделся. Теперь куда? Вокруг все было одинаково, прямоугольно и бело. Рехнуться можно! И ни одного знакомого лица. В Утинове, бывало, выйдешь и через одного здороваешься. А здесь и потрепаться не с кем. Тоска! Вот только с лошадками и хорошо. И тотчас вспомнил, как ударяется о стенку хрупкое тельце, и даже звук характерный услышал. Рубанул воздух рукой и ходко зашагал к автобусной остановке. Поскорей отсюда, и из этого белого безмолвия!
Он не переставал удивляться, откуда ж столько народу в Москве. Рабочий день еще, а в метро не войдешь. И на улице не протолкнешься, лавируешь меж ошалевших граждан, как слаломист на трассе. Они то же, что ль, иждивенцы? Выйдя на «Пушкинской», уныло побрел по улице Горького. Ярость улеглась, и теперь ему было просто муторно. Увидев памятник Юрию Долгорукому, вспомнил, что здесь неподалеку имеется пивная в подвальчике. Хорошая пивная, неособо грязная, с креветками. Бывал он там как-то с заводскими, достойно пивка попили. Он пошарил по карманам, вытащил рубль, потом еще мелочь, копеек пятьдесят. На пару полных кружек с закуской хватит. Обычного хвоста у подвальчика не было. Глотов резво сбежал по ступенькам и, перешагнув порог, с удовольствием вдохнул терпкий пивной аромат, перемешанный с пряным запахом отваренных креветок.
Первую кружку опорожнил махом и через две-три минуты с радостью ощутил, как рассасывается тягучая маета под ложечкой и образуется в груди звонкая пустота. Он вздохнул и принялся за креветки. «Хорошо, что ушел, — подумал бегло и досадливо покривился, на мгновение увидев перед собой колкие глазки жены: — Чего ей не хватает?» Он огляделся. Длинный низкосводчатый зал был заполнен на две трети. Пьяных не было, никто не галдел, ровный глуховатый гул стоял в помещении.
— Можно?
Он обернулся. Низкорослый, узкоплечий, с обширными залысинами мужик пристроился с парой кружек напротив.
— А чего ж нельзя? — без особой радости ответил Глотов. — Пожалуйста.
— Жарко, — сказал мужик, сделав большой, в полкружки глоток.
— Не холодно, — нехотя согласился Глотов.
— Но горяченького не помешает, — продолжал мужик.
— Чего? — не понял Глотов.
— Выпить, говорю, не помешает. — Низенький пристально глянул на Глотова прозрачными серыми глазами.
— Да уж конечно, — состорожничал Глотов и отвел глаза.
— Не желаете? — не отставал мужик.
— Дык я… — Глотов неуверенно поскреб щеку, — пустой…
— Ерунда, — махнул мужик рукой. — Сегодня ты пустой — я богатый, завтра я пустой — ты богатый. Сочтемся когда-нибудь. Я сегодня в настроении. А принять не с кем. Ну?
Глотов закусил губу, решаясь, и наконец припечатал ладонь к мокрому столу.
— Давай!
Пили портвейн, который мужик достал из трухлявого, тертого портфельчика. Вино было пакостное, но в голову шибануло с первого стакана. Когда махнули по второму, у Глотова навернулись слезы на глаза, и он сказал:
— Ты очень хороший. Понимаешь, очень хороший. Я таких здесь не встречал. Вот у нас, в Утинове, таких хороших много, а здесь нет, понимаешь?
Мужик кивал головой и не спеша лущил креветки.
— Мне так тяжко было, — в такт мужику кивая головой, продолжал Глотов. — А ща полегчало. Потому что, что человеку надо? Добро? Правильно?
— Правильно, — подтвердил мужик и, опасливо оглядевшись, налил Глотову еще стакан.
— А себе? — участливо спросил Глотов.
— Я уже, — доверчиво улыбаясь, ответил мужик.
— Да? — удивился Глотов. — А я и не заметил. Твое здоровье.
— Из Утинова, значит? — Мужик внимательно приглядывался к Глотову. — Ав Москве как?
— По лимиту. И жена и я, — Глотов расстегнул рубашку и с силой потер грудь. Он чувствовал прилив сил и вселенскую любовь. — Жена у меня есть, Лидочка, и детишки, — Он показал два пальца. — Двое. Хорошие такие детишки. — И жена ничего. Мы поженились, и она уехала в Москву, на стройку штукатуром. А затем медсестрой в больницу… а потом и я уехал. Токарь я. Коллектив у нас хороший. Я пользуюсь авторитетом. Морально устойчив. А денег мало. — У Глотова сорвался локоть со стола. Он смущенно хихикнул. — Извините. А денег мало. Жена всю душу вымотала. Мало и мало. А где я больше возьму?
— Любишь жену-то? — спросил мужик и вытащил из портфеля еще одну бутылку.
— Детей люблю, — строго ответил Глотов.
Глотов лихо опорожнил еще один стакан. Когда он поставил его на стол, сквозь мутную пелену различил, что мужик тоже вроде вытирает губы.
— Значит, не считает тебя жена за стоящего человека, — утвердительно сказал мужик.
Глотову трудно было говорить, и он только покрутил головой.
— Да, нехорошо, — посочувствовал мужик. — А ты докажи ей.
— Как? — спросил Глотов, и ему показалось, что это сказал не он, а кто-то другой.
— Достань денег.
— Где? — Глотов икнул.
Мужик пожал плечами, сморщился, будто соображая что-то, потом произнес, понизив голос:
— Тут неподалеку один гад живет. Занял у меня три штуки и не отдает. Кровные мои. Я на Севере вкалывал. Понимаешь? Потом заработал, а он не отдает. Хотя может. Торгаш он. Ворует, как падла, а долг не отдает.
— Сс-с-волочь! — презрительно скривился Глотов.
— Точно. Надо наказать его. Он сейчас в командировке, квартирка пустая. Подломим дверку — и порядок.
— Это как? — какая-то тревожная мысль мелькнула у Глотова в мозгу и тотчас прочно завязла где-то в пьяных дебрях.
— Очень просто, — весело сказал низенький. — Бац — и все. Ты малый здоровый. Вон плечища какие. Толкнешь разок, и нету дверки. В накладе не останешься. Много денег женушке принесешь. Детишек приоденешь.
Глотов тяжело склонился над столом, зажмурился. Завертелось перед глазами лицо жены, теперь невероятно красивое и приветливое. Лида ободряюще кивала ему и посылала воздушные поцелуи, а у ног ее терлись оборванные жалостные детишки. Особо Варька была жалостная. Глотов открыл набухшие веки. На ресницах у него блестели слезы.
— Ну что? — осторожно разглядывая его спросил мужик.
— Давай. — Локоть у Глотова опять сорвался со стола.
Они шли по каким-то шумным улицам. Глотов старался держаться твердо, но все равно то и дело заваливался на своего низенького спутника. Тот одергивал его, матерился жестким шепотом и все что-то про жену ему втолковывал, про детишек, про мужицкую гордость. Глотов покорно качал головой и потихоньку наливался обидой к жене за ее такое оскорбительное к нему отношение. Потом они ковыляли по безлюдным гулким переулкам, залитым медным закатным солнцем, и Глотову опять виделся его тихий Утинов, и он даже пропел что-то про родную хату и старую мать. А потом был прохладный подъезд с белой лестницей и голубыми стенами, лифт с зеркалом, обитая блестящим дерматином дверь, которую Глотов выдавил с первого маха; парфюмерный аромат квартиры… Глотов стоял, покачиваясь и держась рукой за стену, а мужик живчиком суетился по комнатам и набивал чем-то свой расхристанный портфель, а потом опять лифт с зеркалом и с неприличной надписью под ним «Варька сука», белые ступени и голые стены, и утонувший в расплавленной меди переулок.
В сырой черной подворотне мужик отсчитал Глотову деньги, рассовал ему по карманам: «Здесь четыреста». А Глотову вдруг показалось, что его объегорили, и он выцедил с угрозой: «Мало!» — «Чего?» — спросил удивленный мужик. Глотов занес над ним круглый кулак и повторил «Мало…» Мужик съежился и снова полез за деньгами: «Вот еще двести». Глотов мрачно усмехнулся и сунул деньги за пазуху. Он казался сейчас себе сильным и всемогущим. На шумной улице его замутило, он обмяк, и ему захотелось домой. Мужик остановил такси, впихнул туда Глотова, потряс его, проорав на ухо: «Скажи адрес!» — и захлопнул дверцу.
Он долго колошматил кулаками в дверь, позабыв, что имеется звонок, и когда наконец остервеневшая от злости Лида открыла дверь, неуклюже обнял жену, задевая плечами стены, протащил ее на кухню, вывалил деньги на стол и с трудом проговорил:
— Вот, расп-р-р-р-жайся…
Лида охнула и, завороженно глядя на деньги, спросила:
— Откуда?
— Т-сс… — Глотов прижал указательный палец к презрительно вывернутым губам. — Государственное дело. Спецзадание. Аванс…
И уснул тут же на табуретке…
— Ой, ой, ой, ой! — Глотов ойкал и, обхватив голову руками, раскачивался на диване. Влево, вправо, влево, вправо… Потом затрусил в ванную, сунул голову под ледяную струю и, фыркая долго ерошил волосы плоскими пальцами. Энергично вытерся и уселся на край ванны. Полегчало. «А мож, и не найдут?» — спокойно подумал и постучал себя по уху — показалось, что туда забилась вода. «И как меня найти? — стал размышлять он дальше — Да никак. Вон сколько нас в столице-то, аж девять миллионов. Это только в кино им просто жуликов ловить, а в жизни-то…» — И он застыл вдруг с рукой возле уха. Это что же, он — жулик, значит, теперь? Дела! Но случайно ведь, случайно, спьяну. Зуд в труди никак не мог утихнуть. На душе было скверно и тревожно… А вообще-то, может, привиделось ему все с залитых глаз-то? А? Может, и не было ничего? Может, бред то, галлюцинации, белая горячка? Он выбежал из ванной, засуетился по комнате, принялся лихорадочно выдвигать ящики в серванте, потом полез под матрас, потом устремился на кухню и там застучал дверками и ящиками. Но безрезультатно. Ни в одном из потаенных местечек, куда обычно Лида прятала деньги, он ничего не нашел. Значит, бред? Сердце бешено дубасило о трудную клетку, под горло давила тошнота. Глотов постоял в растерянности и кинулся одеваться…
Теперь ароматы пивной заставили его скривиться. Запахи казались душными и смрадными. Глотов пошарил глазами по залу. Мужика-то и в помине нет, если и был он вообще… Глотов ухватил краснолицего малого в белом халате. Тот сумрачно глянул на Глотова из-под тяжелых бровей.
— Эта, слушай, — начал Глотов. — Мужик тут один. Такой маленький, крепенький, с залысинами. Как звать, не помню.
— Ну? — вяло моргнул малый.
— Как бы мне того, найти мужичка-то?
— Какого? — нетвердой рукой малый ковырнул в носу.
— С залысинами этого, как звать не помню…
— Ну? — сказал малый.
— Алкоголик чертов! — злобно выцедил Глотов и хотел хрястнуть малого по узкому морщинистому его лбу, но сдержался невероятным усилием и, повернувшись, грузно поскакал по ступенькам наверх, на улицу.
Значит, так, сначала они вроде шли по шумной и яркой улице, потом куда-то в переулок свернули, и там было тихо и спокойно. И Глотову там стало совсем хорошо. А может, и не сон, и не бред это? Куда сворачивали? И дорогу, кажется, не переходили. Значит, по правой стороне переулок должен быть. Он сунулся в один, затем в другой. Но там было людно. На углу третьего блеснула витрина продуктового магазина. Что-то знакомое почудилось Глотову в этом блеске. Он прошел с полсотни метров, и переулок круто свернул вправо. И шум как оборвался разом. Уютным и сонным виделся переулок, и ало отсвечивали темные стены домов на солнце. Глотов осторожно, почти на цыпочках, двинулся по тротуару. Заглянул во двор одного дома, другого. Все не то. Вошел в подъезд третьего дома. Ступеньки серые, а стены зеленые. Опять не то. Еще один подъезд. Та-а-а-к. Белые чистенькие ступеньки и голубые стены. Глотов заволновался, и у него вспотели ладони. Дрожащей рукой он нажал кнопку лифта. Лифт опустился бесшумно. Приглушенно лязгнув, растворились двери. Под зеркалом отчетливо было нацарапано «Варька сука». Глотов вступил в кабину и, облизнув пересохшие губы, нажал последний этаж. Спускался по ступенькам медленно и опасливо. На пятом этаже остановился и крепко сжал ладошку ладошкой. В полутьме справа возле замка одной из двух дверей ясно белел скол с деревянной рамы. Глотов сделал шаг. Она. Эта самая дверь. Подле замка порван коричневый дерматин и из-под него неряшливо торчал клок ваты. Глотов прислонился к стене и стиснул лоб руками. И тут что-то треснуло негромко, и дверь стала приоткрываться. Глотов отпрянул и кинулся к лестнице. Ступил на первую ступеньку и невольно обернулся. Сначала из двери показалась коляска, а за ней молодая женщина с ребенком на руках. Женщина захлопнула дверь и покатила коляску к лифту. Лицо у нее было миловидное, но печальное. Узрев Глотова, она вздрогнула. С минуту, наверное, а может, больше и, может, гораздо меньше, смотрели они друг другу в глаза. Глотов ощущал, как слабеют ноги, как колкими мурашками покрывается лицо, и ему хотелось пошевелить коленками и с силой потереть щеки. Но он стоял не шелохнувшись, как истукан. И только, когда в коляске тоненько и жалобно заголосил вдруг ребенок, они отвели глаза друг от друга, и Глотов стремительно запрыгал вниз по лестнице.
Всю дорогу его трясло как в лихорадке. Он что-то яростно бормотал себе под нос и, расстегнув рубаху, с остервенением тер грудь. Пассажиры в метро боязливо косились на него и обходили стороной, и в переполненном вагоне возле него образовалось пустое пространство вокруг.
В больнице, где работала Лида медсестрой, лихорадка улеглась, но по спине еще пробегал знобкий холодок. Глотов зашел в приемный покой, вызвал жену и сел на улице на лавочке. «Во дела, — изумленно думал он. — Сроду такого не было. Чего трясет-то меня, чего трясет?»
Стеклянно звякнули двери, и Глотов вздрогнул. На пороге появилась Лида. Она чинно спустилась по ступенькам и неторопливо направилась к мужу. Лицо у Лиды было недовольное и усталое. Но, когда мимо прошли два стройных молодых врача, лицо у нее сделалось томным и рассеянным, и она вежливо поздоровалась с врачами, при этом с достоинством кивнула, как настоящая светская дама. Врачи хихикнули за ее спиной. Но она ничего не услышала. А Глотов видел и услышал. И настроение у него еще больше испортилось, и он почувствовал глухое раздражение к своей жене. Когда она наконец подошла, хотел уже встретить ее громким, повелительным окриком — насчет денег. Но не нашел подходящих слов и, как всегда в таких случаях, замялся и стал легонько мять ухо.
— Ну что? — почти не открывая рта, обронила Лида.
— Лид, я вчера того был, да? — Глотов с деланным весельем хлопнул себя пальцем по горлу.
— В первый раз, что ль? — Женщина отстраненно рассматривала что-то поверх глотовского плеча.
— Болтал чего-то там, да? — Глотов со смущением поскреб шею.
— О, господи! — Лида со вздохом закатила глаза ко лбу и вымученно произнесла: — Ну чего тебе надо?
Со скрипом распахнулось окно над входом в приемный покой, высунулась толстая женщина в мятой шапочке и крикнула:
— Лида, Лида, ты мне нужна!
Лицо Лиды вмиг изменилось. Оно стало немного виноватым и просящим:
— Муж пришел, — чуть ли не пропела женщина. — В конто веки на работе навестил, — и теперь засветилось лицо ясной детской улыбкой.
Толстая тоже стала улыбаться, затем махнула рукой и проговорила добро:
— Ладно, воркуйте.
Глотов решился наконец:
— Мне нужны деньги, — деревянно сказал он, — которые я принес. Все.
— Ты, что, сдурел? — Лида брезгливо поморщилась и посмотрела на мужа с сожалением. — Я долг отдала, да вон еще Марте Степановне одолжила. И себе кой-чего оставила.
Глотов прикрыл веки, ожесточенно помассировал лоб.
— Мне нужны деньги, — упрямо проговорил он.
Лида всплеснула руками:
— То на, то давай. Ты что чокнутый? Совсем от водки сдвинулся.
— Лида, — Глотов едва сдерживал вскипающий гнев, — ты же не знаешь, откуда эти деньги.
— И знать не хочу, — Лида уже нетерпеливо оглядывалась на отделение.
— А если, если, — Глотов нервно тер подбородок, — а если я их… украл.
— Да мне-то что, — отмахнулась Лида — Украл, так в тюрьму сядешь.
Она повернулась и пошла важно.
— Масла и хлеба купи, — бросила через плечо.
Глотов возвращался домой. Ярко и весело светило солнце, а Глотову оно казалось лживым и недобрым. Вот, мол, сейчас посвечу, посвечу, чтоб вы, дурачки, пообвыкли, размякли, а потом р-раз и кукиш вам с маслом — заледенею. И люди виделись тоже хитренькими, злобненькими, таящими какой-то подвох, только тронь их — и на тебе, пакость.
Он пошел налево. Через сотню шагов свернул к точно такому же дому, как и у него. Поднялся на лифте на двенадцатый этаж. Одна-единственная дверь из четырех не была обита дерматином с ватой. В эту дверь он и позвонил. Когда хотел было уже войти, за дверью затопали по-слоновьи, и она отворилась. Душно пахнуло застойным табачным дымом и почему-то лекарствами. Из-за края двери показалось большое прямоугольное лицо.
— А, — сказало лицо. — Тебе чего?
— Ты дома? — вдруг растерялся Глотов.
— Да и ты не на работе, — спокойно ответили ему.
— Я во вторую смену, — словно оправдываясь, ответил Глотов.
— А у меня оэрзэ. Проходи.
Глотов перешагнул порог и протянул хозяину руку:
— Здорово, Сень.
— Привет, привет.
Сеня был чуть меньше ростом, но такой же кряжистый и здоровый, как и Глотов. Лицо у него было литое, словно чугунное. И совсем к месту был на этом лице нос, сплющенный и жестоко когда-то перебитый у основания. Глотов споткнулся в коридоре о валявшийся посередине гигантский ботинок и, чертыхнувшись, ввалился в комнату.
— Осторожней! — рявкнул Сеня и вошел следом.
В центре комнаты стоял стол, укрытый газетами, а на газетах пестрели бутылки с лекарствами и коробочки с таблетками. Сеня грузно забежал вперед и накрыл все это хозяйство другой газетой, которую взял с подоконника. Только сейчас Глотов увидел, что Сеня в трусах и застиранной майке. И шея у него завязана теплым шарфом.
Глотов не удержался и хмыкнул. Сеня глянул на него свирепо и тотчас сконфузился, заметив мятую темную простыню на кушетке. Он торопливо покрыл ее клетчатым одеялом и шумно опустился на кушетку, она ухнула в ответ, но не обвалилась.
— Очень болею, — сказал в пространство Сеня. — Очень. Чуть не умер. На волоске был.
— А сейчас как? — вежливо спросил Глотов, сев на стул.
— Вырвался, — серьезно сказал Сеня. — Откачали.
— Неужто так тяжело? — искренне изумился Глотов.
— Ага, — сказал Сеня и вздохнул. — Я часто болею. У меня и плеврит, и люмбаго, и метеоризм, и еще разное там.
— А как же ты грузчиком работаешь, если ты такой больной? — с лицемерным участием поинтересовался Глотов.
— Скриплю, — не стал уточнять Сеня.
— Ав зоне как же ты жил?
— А! — Сеня скривился и махнул рукой. — С нее все и началось. Я же не жулик какой. По глупости попал. Ну ты знаешь. За драку. Я ж боксер. — Он слегка приосанился. — А там ворье в законе. И не шибко меня зауважали. Да еще за одного пентюха там вступился, за молокососа. Ну и эти законники метелить-то меня не стали, побоялись, падлы. А выдумали другую гадость. Подсыпали мне какую-то мерзость в шамовку. Ну меня и скрутило. Вроде дизентерии. Две недели отходил. Нет, три, а может четыре. Перепугался здорово. Помру, думал. А потом то там заболит, то там. Врачи, козлы, говорят: ты здоров, ты здоров, а я-то знаю, что нездоров. Что б теперь за кого заступился, хрен с маком, здоровье важней…
— А ворья там много сидит? — осторожно спросил Глотов и вспотел отчего-то.
— Хватает. Но больше грабителей и мошенников разных. Воров поймать трудно. Тем более, ежели он один работает. Сломал дверку, уволок шмотье — и ищи ветра в поле. Воры на продаже сыплются. А ежели деньги красть, то это верняк, никогда не свинтят.
— А ты не пробовал? — что-то якобы разглядывая в окне, тихоспросил Глотов.
— Чего? — не понял Сеня.
— Ну это… воровать…
Сеня изумленно воззрился на Глотова и спросил вполголоса:
— Зачем?
— Ну деньги там. То, се…
Сеня почесал за ухом, съежил лоб, оглядел комнату рассеянно и опять уставился на Глотова.
— Не смог бы я, — не совсем уверенно произнес он.
— Почему?
Сеня пожал плечами. Они жирно залоснились на свету.
— Не смог бы, и все тут…
— Но почему, почему? — не унимался Глотов, то и дело стирая испарину над верхней губой.
— Да что ты пристал?.. — грубо оборвал его Сеня. — А сам бы смог, орел?!
Глотов увял. Он вжался в стул, знобко повел плечами, и ему захотелось стать маленьким-маленьким, и чтобы дядя Сеня погладил его по голове и подарил шоколадку.
— Я чего пришел-то, Сень, — едва слышно проговорил он.
— Одолжи денег.
— Денег? — насторожился Сеня и колюче посмотрел на Глотова. — Много?
— Надо много, — сказал Глотов. — А ты сколько можешь. Позарез надо. — Он провел ребром ладони по кадыку. — Понимаешь — позарез. Прям даже не знаю как.
— Денег, — повторил Сеня. Он поднялся. Глаза его беспокойно забегали по комнате. — Деньги я Вальке отдаю. А она у родителей. Убежала от меня. Говорит, не могу с занудой жить, а сама будто не зануда, зануда еще больше меня. Я просто больной человек… — Продолжая говорить, он подтянул просторные трусы и зашаркал в коридор, а оттуда на кухню. — Мне лекарства нужны, и за мной ухаживать надо, а она зануда, — слышался его приглушенный голос. — Ну и черт с ней, здоровье важней.
Глотов сидел, уныло уставившись под кушетку, и вяло кусал большой палец. Голос вдруг оборвался, Сеня погремел на кухне чем-то и вернулся в комнату. Страдальческие глаза его теперь радостно блестели. Он поставил на стол початую бутылку портвейна и мокрый стакан.
— Вот, давай махни… а мне нельзя. — Он был очень доволен собой.
Увидев бутылку, Глотов тотчас выпрямился, потому что бурая жидкость, маслянисто еще шевелящаяся в сосуде, враз вызвала тошноту. Под горлом сделалось горячо и противно. И тотчас вспомнились давешний поганец с залысинами и жалкое безголовое тельце лошадки… И Глотов встал, повел нервно подбородком и сказал внятно:
— Да пошел ты…
— Чего? Чего? — незлобливо зачастил Сеня. — Красненькое же…
— Да ничего, — сумрачно отозвался Глотов и повернулся к двери. — Ухожу я. Привет.
— Ну жалко, жалко, — с плохо скрытой радостью заметил Сеня. — Ну что ж, раз надо, так иди.
И пошел провожать Глотова до двери.
Глотов ехал на автобусе на работу и все злился на Сеню. Жмот чертов! Здесь все жмоты. В Утинове он мог бы к любому корешку зайти и, не стесняясь, попросить, мол, дай деньжат. И дали бы. Сколько могли, столько и дали бы. А потом Глотов перестал злиться на Сеню. Потому что вспомнил, что он тоже такой же, как и Глотов, неприкаянный. Тоже зачем-то приехал в город и не знает теперь, как отсюда выбраться, ни профессии, ни друзей, ни радости душевной — только пакостный портвейн, да никому не нужные лекарства, да еще обидчивая жена Валя, которую Глотов никогда не видел и которая представлялась ему похожей на его Лидку — только потолще и поуродливей.
Смену отработали знатно. Вкалывал как заведенный. Почти в два раза перевыполнил норму, хотя и запорол несколько десятков деталей. Испорченные втулки его не расстроили, главное что на эти семь часов он совсем забыл, что случилось, и чувствовал себя расчудесно. Весело и споро прибрал станок в конце смены, ловко опередив несколько ребят, занял кабинку в душе, хохоча, отбивался, когда его пытались вытащить оттуда, потом растерся до красноты полотенцем, кряхтя от удовольствия, надел прохладные брюки и рубашку, совсем разомлел от умиротворения и уселся на жесткой скамье, раскинув руки и широко расставив ноги, словно загорая, Несколько рабочих копошились в углу раздевалки. Они шептались и лазили по карманам. Лохматый краснолицый Ленька обернулся к Глотову и прогудел негромко, чтобы в другом конце раздевалки было слышно:
— Эй, Глот, давай бабки, ща взбодримся.
Глотов невольно подтянул ноги и сел нормально. Умиротворения как не бывало. Опять стало тоскливо и гадко, он опять «вынырнул» в эту постыльную суету.
— Нет, — излишне резко сказал он и встал.
— Что нет? — искренне удивился Ленька.
— Без меня, — обронил Глотов через плечо уже у двери и повторил: — Без меня.
— Ух ты какой! — Едко произнес Ленька. — Заболел, что ль?..
Он добавил еще что-то вполголоса, и все, кто стоял рядом, громко и обидно засмеялись. Глотов остановился, едва заметно шевельнул плечом, словно развернуться хотел и продолжить разговор, только в других уже, более подходящих тонах, но не стал ничего этого делать, а только дернул болезненно щекой и с грохотом распахнул дверь.
В коридоре его догнал бригадир Зотов, крепкий сорокалетний мужик.
— Погоди. — Он придержал Глотова за локоть. Тот даже не обернулся, а локоть вырвал раздраженно. Зотов забежал тогда вперед и заглянул Глотову в лицо. Волосы у Зотова были мокрые и аккуратно причесаны, но на макушке смешно торчал петушиный хохолок. Глотов хмыкнул и остановился.
— Ну чего?
— Молодец, правильно, — серьезно и горячо заговорил бригадир. — Так им, пьянчужкам. Бросил, что ли?
Глотов нетерпеливо пожал плечами.
— Вот и хорошо, мы теперь вместе…
— Ладно, — оборвал его Глотов. — Вы уж как-нибудь одни. Я сам по себе.
— Да ты не понимаешь, — настырничал Зотов. — Это же государственное дело. Всем миром против пьянства.
Глотов сморщился обессиленно.
— Замучил ты меня. А я устал. Спать хочу. — Он отстранил Зотова и зашагал к проходной. «Не понимаешь, не понимаешь, — повторял он слова Зотова. — И, верно, не понимаю, ни черта не понимаю. Спать хочу, зараза такая».
— Не думал я, что ты такой, — в спину ему крикнул упорный Зотов.
И Глотов неожиданно обернулся и, прищурившись, сказал громко:
— Дай денег в долг, Зотов.
Бригадир недоуменно вытаращился на Глотова.
— Дашь на дашь, что ли? — наконец спросил он догадливо.
— Дурак ты, — Глотов сплюнул.
— Да не ерепенься, постой. — Что-то в Глотове, видать, нравилось бригадиру (Глотов и раньше это замечал), потому он и не обиделся на него. Он тактично осведомился:
— Совсем, что ль, на бобах?
— Совсем, — хмуро ответил Глотов.
— У меня, понимаешь ли, сейчас нету, — Зотов говорил искренне, и Глотов видел это по его неподдельному смущению, и неожиданно для себя он вдруг почувствовал что-то похожее на симпатию к этому человеку. Ему даже захотелось с ним поболтать, не по пьянке, а просто так, по-человечески, задушевно. Глотов вздохнул.
— Слушай, — обрадовался Зотов. — Ав кассе взаимопомощи?
— Я уже брал. Так скоро опять не дадут. У меня еще вычитают.
— Будь спок, — подмигнул ему бригадир. — Я поговорю с кем надо. Двести хватит?
Глотов машинально кивнул. Хотя можно было бы и побольше, но он же не какой-нибудь там нахал, он… «Жулик», — испуганно прошептал Глотов, повернулся и, оставив Зотова в изумлении, побежал к проходной.
Автобус был совсем пустой и ехал медленно и подолгу стоял на остановках, а людям, томившимся на остановках, не нужен был именно этот автобус, а нужен был другой, но водитель почему-то все равно стоял.
Глотов сел и стал смотреть в окно. Дом на другой стороне показался знакомым. Глотов вспомнил, что еще сегодня утром хотел зайти после Сени в этот дом, к Мишке, еще одному своему знакомцу по магазину. Мишка был парень ничего, всегда бодренький, веселый и обладавший одним неоценимым достоинством — его никогда не донимало похмелье.
Увидев его, Мишка поначалу обомлел и не хотел даже пускать, почти одиннадцать, у него все спят, но потом что-то прикинул, ухмыльнулся большим ртом и махнул, мол, давай проходи. Мишка работал лаборантом в каком-то НИИ, и поэтому Глотов не удивился, увидев на кухне какие-то колбочки, трубочки, резиновые и стеклянные змеевики.
Он удивился другому — мебель на кухне была такая, какую он только на картинке видел в журналах, да еще в квартире Жанки-официантки, что на третьем этаже его дома жила. Глотов ей как-то новый импортный замок вставлял. Красивая была мебель и, наверное, очень дорогая, бело-красная, глянцево поблескивающая, веселая и уютная. И Глотов подумал, что ему из такой кухни и уходить, наверное, не захотелось бы никогда.
Вот уж никак не мог представить, что у неряшливого Мишки такая мебель. Правда, Глотов всегда подозревал, что водятся у Мишки деньги. Когда ребята скидывались, Мишка обычно жался, кряхтел, цыкал, мотал головой и доставал мятый рубль, а то и просто мелочь. Но, бывало, когда разойдется, закрутятся у него мозги пьяным вихрем, вырывал из кармана по-барски то червонец, то четвертной, оправдываясь, мол, должок получил… Жена, что ль, зарабатывает? Хотя Мишка вроде говорил, что она нянька в детсаде, а там много не заработаешь.
Мишка ловко и привычно суетился по кухне, доставал из мягко открывающихся ящичков чашки, блюдца, конфеты и изредка кидал на Глотова хитрые взгляды. Глотов робко присел на краешек табуретки и смущенно сложил руки меж колен, будто он только что из глухой деревни приехал, в барский дом попал.
— Эх, Глотыч, Глотыч! — Мишка расставил чашки, налил воды в чайник, водрузил его на электрическую плиту. — Чего ручки сложил, как сиротка пропащая? Маешься, что ль? Долбануть охота? — глазки у Мишки были маленькие, черненькие, остренькие и совсем не увязывались с мягким и пористым, как губка, лицом.
— Да нет, — тихо ответил Глотов. — Я по делу.
Он страсть как не любил чего-то у кого-то просить, а сейчас и вовсе, когда увидал такое Мишкино богатство, заругал себя последними словами, что пришел.
— Ну ежели по делу, тады прощаю твою бесцеремонность, — с усмешливой серьезностью проговорил Мишка и пододвинул Глотову пачку «Космоса». Глотов поблагодарил кивком, но достал «Приму».
— Хорошо живешь, — сказал Глотов и стал сосредоточенно разминать сигарету. Он решил, что не будет ничего говорить Мишке про деньги, а придумает сейчас какую-нибудь чепуху, спросит его об этой чепухе и уйдет.
— А ты думал, — весело отозвался Мишка. — Мы не босяки какие вроде Сеньки-боксера или там Носатого, мы, понимаешь ли, интеллигентные люди. Наука великая вещь. Ежели мозги имеешь, прибыльная это штука. Главное — научиться соображать, что к чему, и из самого простого научного закона можно пользу извлекать, — Мишка глубоко затянулся, откинулся на спинку стула и победно посмотрел на Глотова. — Скоро я, Глотыч, большим человеком буду, оденусь, как лорд, тачку куплю, и будем мы с Лизаветой шикарно подкатывать к роскошным ресторанам. Иностранцы, артисты, музыка гремит, Лизка в мехах, а я в лакированных ботинках…
Глотов глядел на него во все глаза и ничего не мог понять.
— А для чего живем-то? — пьянея от собственного рассказа, продолжал Мишка. — Только для этого ведь и живем… — Тут он умолк разом, вытянув шею, повел носом, как натасканный охотничий пес, сдвинул брови, вскинулся и поскакал на цыпочках в коридор, и скрылся в каком-то чуланчике, негромко хлопнув дверью. Глотов тоже принюхался и уловил кисло-сладкий запашок. И почудилось ему, что этот запашок он знает уже тысячу лет. Глотов почесал ухо и опять принюхался. Мишка вернулся, сел и облегченно вздохнул — пухлые розовые губы его произвели звук, похожий на «тпру-у-у».
— Ну что за дело там у тебя? — Мишка потянулся к чайнику и снял его с плиты. — Давай шибче, а то спать охота.
А Глотов все размышлял. Наконец решился. Не жена эти деньги, выходит, зарабатывает, а он сам, и ничего страшного, если попрошу, вот если бы жена…
— Деньги нужны позарез, — Глотов почесал подбородок и потрогал шею, словно проверяя, отросла ли щетина за день.
— Деньги? — Мишка отставил чайник и удовлетворенно чему-то усмехнулся. — Очень нужны?
— Очень, очень нужны, хоть помирай! — И от стеснения Глотов наконец закурил.
— А то кранты? — Мишка что-то прикидывал, теребя щеку и глядя на Глотова.
— А то кранты, — обреченно кивнул Глотов.
— Должок, что ль? — не унимался Мишка.
Глотов понуро кивнул.
— Так, — протянул Мишка, потом повторил: — Так… Ну что ж. Сколько?
Глотов поднял глаза и с надеждой посмотрел на собеседника:
— Много… Ну сотни три-четыре…
Мишка присвистнул и покрутил головой, мол, даешь.
Глотов развел руками.
— Я тебе дам денег, — после небольшой паузы сказал Мишка. — Только…
— Я скоро отдам, заработаю и отдам, ты не беспокойся, — заспешил Глотов. Потому что на душе у него враз полегчало, и ужасно ему не хотелось, чтобы Мишка все перерешил из-за недоверия, из-за сроков или еще чего там.
— Только, — продолжал Мишка, — ты мне поможешь.
— Хорошо, конечно, — закивал Глотов.
— Пойдем, — сказал Мишка и поднялся.
Они подошли к тому самому чуланчику. Щелкнула щеколда, и дверь распахнулась. Густо и душно пахнуло тем самым ароматом. И Глотов вспомнил, так пахнет брага. Мать его в Утинове изредка варила самогон к разным семейным праздникам. Мишка зажег свет, и Глотов ошарашенно растопырил глаза. Почти весь чуланчик был заставлен пол-литровыми бутылками с белой мутноватой жидкостью. А в углу на табуретке самодовольно поблескивала никелированная, любовно сработанная емкость литров на десять, и из краника, что был приварен у самого дна, тоненькой струйкой лился самогон, в подставленное ведро.
— Высший класс, — Мишка повернулся к Глотову. — По последнему слову техники и науки, ни тебе змеевиков, ни жбанов, ни трубок и прочей чепухи. Комбайн. Производительность, как у лучших зарубежных фирм, только подкидывай сахарок, как дрова в печку. Прямо в институте сварганил.
Глотов прислонился к косяку двери и провел ладонью по лицу. Ему сделалось тошно. Больно заныло сердце, и стало трудно дышать. Сладкий терпковатый запах забивался в нос и горло.
А Мишка как ни в чем не бывало нагнулся и по-хозяйски чуть прикрутил кран и деловито поправил ведро. И Глотову вдруг неудержимо захотелось въехать Мишке по его толстому заду. Мишка выпрямился и сказал:
— У себя на заводе сагитируй ребят и продавайте, дело простое, особо не криминальное. Ежели застукают, штрафом отделаешься, и все. Понял? У меня рынка сбыта пока хорошего нет. Трудно довериться, честных людей мало. После указа все трусливые стали. Того и гляди продадут. А ты мужик добротный, да и деньги тебе нужны…
— А без этого не дашь денег? — глухо спросил Глотов.
— Не дам, — Мишка внимательно поглядел на термометр, прилаженный на боку аппарата. — Деньги надо заработать. Трудом, понимаешь. Трудиться надо.
— Но мне очень нужно, — тихо, но отчетливо проговорил Глотов и спрятал сжатый кулак в карман.
— Всем нужно, — беззаботно ответил Мишка, поднял одну бутылку и взболтал ее. — Слеза! Нектар! Любовь!
— Сволочь! — выцедил Глотов и спрятал вторую руку в карман.
— Что? — не понял Мишка, повернулся к Глотову и, увидев ненавидящий взгляд, в испуге отступил на шаг. И этот испуг подхлестнул Глотова пуще. Он размахнулся ногой и с грохотом и звоном снес целый ряд бутылок, потом еще один, и еще, а затем схватил обеими руками чан и ухнул его об пол. Звук был такой, будто в колокол ударили. Жбан прогудел низко и коротко, и эхо тяжелым гулом пробежалось по квартире. И через мгновение, когда гул стих, тонко завопили детские голоса где-то в глубине квартиры, и тотчас, вторя им, завизжал Мишка. «А-а-а-а!» — не стесняясь, кричал он, мял с боков круглую, как мяч, голову руками и раскачивался из стороны в сторону. И всю эту жуткую картину — плавающие в белесой мути, скрюченные бутылочные осколки, поврежденный мятый жбан, обезумевший, всклокоченный Мишка, завалившийся вдруг на колени, — зловеще освещал медный свет от мелкой голой лампочки, болтающейся на длинном перекрученном проводе.
— Сволочь! — переводя дыхание, сказал Глотов, окинул чулан еще разок и добавил с удовольствием: — Зараза такая!
Чуть не упав, тяжело развернулся на месте и, ступая на всю ступню, двинулся к выходу. Дети наконец умолкли, и уже у двери он услышал жесткий и громкий шепот Мишки: «Убийца! Убийца!..» В проеме комнатной двери неслышно возникло белое объемистое привидение и яростно сказало в спину переступающему порог Глотову: «Что б ты сдох, гад!»
В постель его не пустили, потому что от него безбожно несло сивухой. С трудом гася ненависть в сонном голосе, Лида выговорила:
— Возьми матрас на антресоли и дрыхни на кухне, пропойца!
Утром Глотова никто не разбудил, ни она, ни дети — Лида, видимо, взяла ребят и сразу повела их в садик. Он проснулся, сел на матрасе в мятых брюках и жеваной рубашке и закурил. Привычно едкий дым от «Примы» немного прояснил ватную со сна голову.
Глотов никак не мог вспомнить, какая такая замечательная мысль пришла к нему вчера ночью, когда он лазал на антресоли за матрасом. Но вот, слава Богу, вспомнил, обрадовался, заулыбался. Он вчера там чемоданы видел и большие белые тюки. Чемоданы были массивные, из толстой кожи, с крепкими ремешками и никелированными замочками. Он и не знал, что в доме у них такие имеются. Видать, Лида купила на всякий случай, и ему забыла сказать. Но с чемоданами-то, бог с ними, его интересовали тюки. Там, верно, вещи старые, ненужные, отношенные уже, но раз хранятся, значит, не совсем негодные. А раз так, то их можно на рынке, в комиссионку сдать, глядишь сотню-другую и выручишь. А ежели Лида озлится, так он и скажет ей, я, мол, тебе вон какую деньгу намедни принес, забыла, что ль? Ничего, поорет, поорет и успокоится, не впервой. А у него ведь дела поважней, ему ж камень с души снять надо, огромный такой, черный многотонный камень…
Чтобы до тюков добраться, надо было сначала снять чемоданы. Глотов потянул один на себя и обмер. Чемодан был неподъемный. Вот те на. Что ж там, кирпичи, что ли? Он поднапрягся, покряхтел, выволок чудище наружу, с грехом пополам опустил на пол, помял ухо в нерешительности и стал открывать чемодан. Когда крышка откинулась, Глотов вдруг задышал часто, и стало невмоготу стоять — ноги непонятно почему ослабли, хотя ничего такого ужасного в чемодане и не было. Аккуратно сложенные, а иные упакованные в цветастые пакетики, там лежали легкие кофточки, пестрые заграничные платья… Глотов вынул их, под ними оказались джинсы, трусики узенькие на молоденьких девчонок, бесстыдные такие трусики, лифчики, которых Лида сроду не носила, уж больно срамные, прозрачные, а потом опять кофточки, платья, брючки… и все лежалое, щедро занафталиненное… Чертовщина какая-то! Это дело надо перекурить! Глотов сел на табурет, чиркнул спичкой. Так вот, значит, деньги-то куда уходят. Вот почему она все кричит: «Мало, мало!» Вот почему обшарпанный такой я хожу, по три года из одних брюк не вылажу, вот почему картошку с дешевыми консервами едим, вот куда премиальные мои уходят! Но зачем?! Зачем?!
Он попил воды из чайника, прямо из носика, обтер губы, опять сел. Хранит. Бережет. Для кого? Наверняка все из моды давно вышло, а так и не относила ни разу. Глотов раздраженно покрутил головой: «Не понимаю, совсем не понимаю. Наверное, я дурак, полный дурак, кретин. Она понимает, а я нет!»
И точно, начал он вспоминать, сколько раз приходила Лида взмыленная, злая, ворчливая, все разворачивала тайком что-то на кухне, шуршала хрустящей бумагой. Он-то думал, с работы просто приходит уставшая, а это она из магазинов, из очередей, с поля боя, с Бородина…
А ему ничего не говорила, потому что за дурковатого считает, за не умеющего жить, за иждивенца. Ну Лидка, ну Лидка!.. Вот дрянь! Вот… Глотов пнул босой ногой чемодан, он закрылся с легким хлопком, и с крышки густо взметнулась пыль.
Глотов побрился, надел другую рубашку (всего у него их было две), сложил в полиэтиленовый пакет двое джинсов и две кофточки и побрел к входной двери.
Когда он вышел, вовсю палило солнце, а потом неожиданно его завесило облачко, темное как туча, но маленькое и рваное. Оно не полностью заволокло диск, и кусочек поутихшего солнца лимонно высвечивался поверх него. И теперь на улице было и не пасмурно, и не солнечно, непонятно как, серединка на половинку, и от этой непонятности Глотову сделалось неуютно и пакостно. Он поднял плечи, сунул мешок под мышку, а руки впихнул в карманы. Порывами задул неожиданно стылый ветер, то с одной стороны, то с другой, и стало совсем грустно, и Глотову показалось, что ничего не будет, то есть вообще никогда ничего у него не будет…
— Далеко ль собрался, зятек? А зятек? — Глотов вздрогнул от голоса, и большое мускулистое тело его напряглось, будто в ожидании, что за голосом последует еще и выстрел. Он опасливо повернул голову и узрел свою тещу Людмилу Васильевну. Она стояла на другой стороне улицы и, уперев руки в боки, подозрительно глядела на Глотова. Лицо у нее было толстое и потное — теща не переносила жару и каждым летом говорила, что на сей раз обязательно помрет, но, к изумлению своему, не помирала и от этого непонятно почему злилась и обвиняла всех в коварстве.
Лида прописала ее через два года после свадьбы (каким волшебным образом это ей удалось, никому неведомо), но Людмила Васильевна с ними не жила, она по дешевке снимала комнату на Дмитровском шоссе у одной своей деревенской подруги — той жилось скучно и никчемно, вот она и отдала теще комнату. Раз в неделю она приезжала к дочери, помогать убирать квартиру.
Теща стремительно перешла дорогу, даже не посмотрев ни налево, ни направо («Объедут», — всегда говорила она, с ненавистью глядя на автомобили), вплотную приблизилась к Глотову и спросила:
— Ну?
Глотова густо обдало луком и потом. Черт его дернул идти этой дорогой, он же знал, что она должна сегодня прискакать.
— Дык… — Глотов не сообразил сходу, что ответить, и развел руками. Пакет упал и тихонько зашелестел, разворачиваясь.
— Это еще что?! — с угрозой протянула Людмила Васильевна, переводя взгляд с мешка на Глотова. — А?! Что спрашиваю?!
Шумно выдохнув, как штангист перед рывком, она грузно нагнулась, ухватила пакет пухлыми красными пальцами и распрямилась, вытаращив от усилия глаза.
— Лидочкины вещи! — ужаснулась она. — Лидочки моей вещи! Кровью и трудом заработанные! Годами копили, не ели, с ног валились… А ты, стервец!.. Ах ты, негодяй! — от слова к слову голос ее повышался. — Мы тебя кормим, поим, а ты воровать, воровать, да?! Продавать понес?! Алкоголик! Бандит! Люди, посмотрите! Это что же делается?! Что же делается?! — теперь она уже кричала: — Вот! Ворюга!
Глотов зажмурился до кровавых кругов под веками и свирепо гаркнул, не открывая глаз:
— Ма-а-лчать!!
Он гневно перевел дыхание, и когда Людмила Васильевна умолкла разом, то ли от громкости крика, то ли от испуга, процедил отчетливо:
— Я не вор, поняла?! И никогда им не был! Поняла?! И не буду! Поняла?! А ты вот возьми и сожри это шмотье, все равно ведь не носит никто! Все равно в рванье ходите, мля!..
Он наконец открыл глаза, но Людмилу Васильевну поначалу и не увидел, вернее — увидел, но очень расплывчато, не контрастно, потому что слезы дрожали на ресницах и застилали зрачки. Он, как ребенок, двумя руками отер глаза, не глядя на тещу, повернулся и пошел прочь.
Всю неделю Глотов приходил домой поздно, когда жена и дети уже спали. Лида, может быть, и не спала, но делала вид, что десятый сон уже видит, когда он осторожно заглядывал в комнату, чтоб узнать, дома она или нет. Она с ним не разговаривала и не звонила ему с работы, и не оставляла ничего поесть, и Глотов сам себе покупал продукты и сам готовил.
Выходило не очень вкусно, но терпимо.
Спал он на матрасе и совсем привык уже жить на кухне. Он мог там и покурить лежа, и водички попить, не ходя далеко, и из холодильника чего достать, практически даже и не вставая с матраса. Но чаще, когда приходил, сразу засыпал, раза два даже забыв раздеться, потому что он теперь работал еще на Павелецкой дороге, слава Богу, в черте города, укладывал шпалы. Работа была зверская, однако платили замечательно, тридцатник в смену. Уставал смертельно, но настроение зато у него теперь не такое было паршивое, плохонькое оно, правда, было, но не такое гадостное все-таки, как раньше. К тому же и Зотов и впрямь хорошим мужиком оказался, сдержал слово и помог Глотову в кассе взаимопомощи получить триста рублей.
В один из вечеров, когда он возвращался с работы, показалось, что увидел того, низенького, с которым был ТАМ, в той квартире. Подбежал, ухватил яростно за плечо, развернул к себе, хотел вдарить для начала, чтоб разговор добрый получился, но, к несчастью, это совсем другой мужичок случился, он затрясся мелко и чуть в обморок не упал, и пришлось Глотову тащить его на лавочку и приводить в чувство…
В субботу поутру пересчитал он причитающиеся ему двести рублей за работу, приложил их к тем, что получил в кассе взаимопомощи и сотню из аванса, надел чистую, самим выстиранную рубашку, и старательно отутюженные брюки, побрился тщательно, наодеколонился, выпил чаю горячего, покурил, посидел на дорожку, словно в дальний-предальний путь собрался, сунул толстую пачку в карман и вышел из дому.
Возле метро в киоске «Союзпечати» купил газету, зашел за киоск, оглядевшись по сторонам, вынул пачку из кармана, завернул ее аккуратно в газетный лист, примял пачку, чтоб поменьше она была, сунул ее обратно, а остальную газету скомкал и выбросил в урну. Когда у самого уже входа в метро был, увидел на шоссе, у тротуара лошадь, впряженную в чистенькую телегу.
Глотов остановился, взялся зачем-то рукой за щеку и, наклонив голову набок, заулыбался глупо. Вот те на! Лошадь в городе, в столице! И на миг все исчезло вокруг, и машины, и люди, и дома, остались только лошадь и солнце, белое, палящее, и вместо домов холмы зеленые выросли, вместо мостовой речка потекла искрящаяся, веселая, свежестью манящая. Как во сне, подошел Глотов к лошадке, погладил нежно проплешинки, запустил пятерню в гриву, живым гребешком расчесывая ее.
— Ах ты, бедная моя, — пробормотал Глотов, теребя жесткое ухо животного.
— Приезжий? — раздался тихий, низкий голос за спиной. — Деревенский?
Глотов обернулся. Распутывая вожжи, на Глотова усмешливо глядел широколицый рыжебровый мужик лет сорока пяти. Был он в резиновых сапогах, в теплом штопаном пиджаке, в черной кепке.
Глотов смутился, что застали его за такими нежностями, а затем и разозлился, что смущение свое показал.
— Местный, — без особой любезности сказал он, нехотя шевельнув губами, и добавил почти сквозь зубы: — Москвич.
— А, ну понятно, — не скрывая иронии, протянул мужик и, кряхтя, взобрался на телегу. — И коренной небось. Коренной, да?
Глотов тяжело поглядел на мужика и промолчал.
— Я вот тоже коренной, — слабо усмехнувшись, заметил мужик. — Ага, из-под Владимира. Такой коренной, прям страшное дело. Пятнадцать лет на «Серпе и молоте» вкалывал, а потом ррраз — и к лошадкам… Вот так, брат, потянуло, понимаешь, к лошадкам. А домой не поехал. Чего не поехал — сам не знаю. Вот и маюсь, вот и маюсь. Чего не поехал… Но!
Он хлестнул лошадь по крупу. Та вздрогнула и потопала, сухо поцокивая по асфальту. А мужик так и не взглянул больше на Глотова.
Глотов постоял еще минуты две, глядя вслед телеге, потом почесал грудь под рубашкой и сказал беззлобно:
— Ну и черт с тобой…
И пошел к метро.
Почти через час он уже шагал по тому самому переулку, где стоял ТОТ дом. И в субботний день переулок был пустынный и тихий, словно люди по нему никогда не ходили, а уж про автомобили и говорить нечего, не шелестели они здесь ни в какие времена своими скатами, не коптили свежий воздух прозрачным дымком. Из открытых окон вкусно пахло едой, чем-то жареным и острым, слабо доносились оттуда невнятные голоса, и кое-где мурлыкал телевизор, или магнитофон, или проигрыватель.
Возле самого дома Глотов заволновался. Напряглась спина, засаднило затылок, руки сделались непослушными, тяжелыми. Глотов обтер руки о рубашку и вошел в подъезд. Пока ждал лифт, прислонился лбом к прохладной стене, потому что запылал лоб, словно обгорел с непривычки на палящем солнце. Неприличную надпись про Варьку в лифте так и не закрасили. Глотов за то время, пока ехал, старательно затирал ее слюнявым пальцем. Вышел он этажом выше. По лестнице спускался мягко, неслышно, как в кино про преступников или про разведчиков показывают. Уже у самой двери перевел дыхание, потер грудь там, где сердце. Дверь уже починили, косяк был новый, свежевыкрашенный, а на дерматине темнела аккуратная заплатка.
— Так, — сказал Глотов и полез в карман за деньгами. Он оставит деньги у двери, на половичке, позвонит и убежит. Этажом ниже остановится и послушает. Если дверь откроется, то все в порядке; если нет, тогда до следующего раза. Газета развернулась, и из пачки виднелся уголок сиреневой бумажки. Глотов стал ее снова заворачивать, но ничего не выходило. Он вспотел, пальцы дрожали и не гнулись.
— Зараза такая, — пробормотал Глотов и помял мочку уха.
И тут свет, яркий, дневной, ударил ему по глазам. Это открылась соседняя, что справа, дверь. На пороге громоздилась массивная дама в халате. Из-за плеча ее взглядывал редковолосый мужичок с круглыми удивленными глазами.
— Чем это вы тут занимаетесь, гражданин? — громко воскликнула дама. Она уперла руки в круглые тяжелые бедра и чуть подалась вперед. — А? Я за вами десять минут в глазок наблюдаю.
«Десять минут, так долго, не может быть», — машинально подумал Глотов и отступил, цепенея, на шаг.
— Дверь сломать хотите?! — еще громче проговорила дама и бросила через плечо мужичку. — Лева, звони в милицию!
И добавила уже тише, задыхаясь от негодования:
— Ворюги чертовы, давить вас надо! Меня еще на старой квартире два раза грабили, ублюдки! Я вас!
Ничего уже не соображая, Глотов попятился назад. Шаг, еще шаг, еще. И покатился кубарем по лестнице. Пока катился целый пролет, выронил сверток, чуть пришел в себя, поднялся и дальше вниз уже бежал привычно и сноровисто, разом перескакивая через три ступеньки. Вылетел из подъезда, полусогнувшись, головой вперед, будто кто пинка ему под зад дал. Выскочив в переулок, вильнул налево и помчался к шумной и людной улице. Мелькали люди, дома, витрины магазинов, киоски. На какой-то улице вскочил в проходящий троллейбус, протиснулся в самый угол, отдышался с грехом пополам, отфыркиваясь и потряхивая головой. Огляделся мутноватым взором, заметил, что смотрят на него все как-то странно, будто на пьяного, или на сумасшедшего, или на преступника. «На преступника», — механически повторил он про себя и, опустив голову, выбрался из троллейбуса на следующей остановке и тут же пересел в другой, что следом шел. Там свободней было и тише, и люди друг на друга и на Глотова тоже, слава Богу, никакого внимания не обращали. Он уперся лбом в стекло и стал смотреть на улицу. Остановки через две мелькнула за мостовой голубовато вода. Москва-река? Пруд какой? Глотов вышел из троллейбуса, перебежал дорогу — захотелось на воду ему посмотреть, он с детства любил на нее смотреть, завораживала его вода. Если долго-долго глядеть на нежную невесомую гладь ее, то совсем в другие миры перенестись можно, в безоблачные, радостные, счастливые, где все друг друга любят, помогают друг другу, заботятся и очень от этого счастливы.
Не пруд это был, и не Москва-река, это был бассейн «Москва». Вот те на, бегал-бегал, а все вокруг центра крутится. А ведь думал, что удрал куда далеко. А все оттого, что это время в прострации, в оцепенении пребывал, смотрел вокруг и не видел ничего, вглядывался и не узнавал, другим, верно, голова была занята. А чем? Страхом? Нет. Страха он не чувствовал. Реального страха не чувствовал, того самого, который сердце колотиться заставляет, и коленки дрожать, и ладошки потеть, когда милиционер к тебе подходит или двое в штатском замедляют шаг и смотрят пристально. Этого нет. Значит, отчего-то другого он незрячим стал? А вот посмотрим на воду и узнаем, она подскажет. Успокоит и подскажет, и пусть даже это бассейновая вода, стерилизованная, никакая, в бетон закованная, чужой волей строго дозированная. Глотов спустился к бассейну, не по лестнице, а прямо по газону зеленого склона. Спустился и щемяще пожалел о вытоптанной травке. Вернулся назад — ползком на коленях попробовал заровнять рваные ямки от каблуков, но увидел несколько пар недоуменных глаз наверху, застеснялся, сполз обратно, отряхнулся и зашагал торопливо вокруг бассейна. Когда голубая чаша открылась ему полностью, остановился. Сунул руки в карманы, вздохнул, посмотрел на голубизну. Не получится ни черта у него — не та вода. Или он не тот. Вырос. Взрослый стал. По-другому все видит. В сказки не верит. Сказки… Точно. Все миры, что в мозгу у него рождались, когда он на воду смотрел, — это от сказок, вспоминавшихся вдруг детских сказок. Еще два-три года назад верил он, что есть другой мир, добрый и безмятежный, и сыну об этом говорил, что есть он, обязательно есть, только найти его надо — уметь искать надо. А теперь вдруг понял, что нет его. Нет. Нет. Нет. Что же он детишкам теперь говорить будет?
Глотов побрел обратно, к мостовой. Шел медленно, рассеянно глядел себе под ноги и вдруг стал понимать, что ему не так уж скверно, как еще несколько минут назад, что он почувствовал прилив сил, слабый еще, но все же, а все оттого, что голова вдруг сделалась ясной, думалось легко и думалось много и как-то для него самого неожиданно, словно это не он сам думал, а какую-то умную книгу читал, и еще ему показалось, будто в мозгу плотина какая прорвалась, сдерживающая раньше поток этот и выпускающая на волю только строго определенные, нужные лишь для сносного существования мыслишки.
Он огляделся, отметил, что находится уже у самой лестницы, взбежал по ней легко и стремительно, немножко красуясь своей ловкостью. Налево посмотрел, направо, раздумывая, куда податься. Потом вперед посмотрел. Большой дом с колоннами увидел, двор перед ним, чугунным литым забором огороженный, и очередь разглядел, вдоль забора по тротуару тянущуюся. Интересно ему стало, что там такое, пойти посмотреть надо. Пересек мостовую, подошел ближе, милиционера строгого увидел у входа во дворик, а возле него щит, а на нем написаны слова: «Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Выставка картин эпохи Возрождения». А ниже этих слов плакат с репродукцией картины какой-то. И на картине той красуется всадник на поджарой мускулистой лошадке, вернее — на коне, это Глотов вмиг определил. Коник был как настоящий, с бархатистой кожей, стройный, устремленный вперед, вот-вот готовый сорваться с места и помчаться стрелой, и страсть как захотелось Глотову увидеть эту картину живьем, не на плакате. Да и ко всему прочему, может, там еще какие картины с лошадками есть. И Глотов пошел в конец очереди. Пока шагал, разглядывал людей. Разглядывал и дивился — какие-то они не такие, эти люди, не такие, каких он привык в городе видеть, в метро, в автобусах, магазинах — худее они, что ли, или нет, вон и толстые стоят; печальнее? — тоже нет, вон двое заливаются, давятся смехом; вольные, небрежные? Тоже нет, но другие, другие.
Глотов встал в конец очереди и настроился терпеливо ждать. Скоро за ним еще люди встали, а за теми еще, и через полчаса человек двадцать-тридцать за ним гомонилось. Глотов внимательно прислушивался, о чем они говорили, но понимал мало, хотя слова все были русские, знакомые, а вот разобраться в смысле того, что говорят, было почти невозможно — что-то про дух, про настроение…
А еще через полчаса к тротуару подъехал темно-зеленый «рафик» с надписью «Телевидение» на дверцах, и оттуда вышли три парня. Один из них, что постарше, бородатый, вытащил из машины кинокамеру с треногой и поставил ее на тротуар, почти у самой очереди, двое других, волосатых, возились с микрофонами и негромко ругались.
Кончив препираться, пошли вдоль очереди, пристально вглядываясь в каждого. Наконец выбрали кого-то, направили на него лампы, яркие, добела раскаленные. Бровастый усмешливый мужчина в дорогом костюме что-то деловито проговорил в микрофон, и бородатый все это снял. А волосатые опять пошли вдоль очереди. И тут один из них остановился возле Глотова, окинул его оценивающим взглядом, спросил отрывисто: «Профессия?» — и Глотов ответил автоматически: «Токарь». Волосатый крикнул в спину второму: «Вова, это то, что нужно». Махнул рукой, и тут же зажглись лампы, и застрекотала камера, а бровастый заговорил радостным голосом:
— Люди совершенно различных профессий интересуются великим искусством. Потому что оно гениально, а значит, понятно всем. Только что мы с вами разговаривали с доктором наук, а сейчас наш собеседник — токарь. И я уверен, что он пошел сюда не потому, что это модно, престижно, для настоящего труженика, я думаю, таких понятий просто не существует, а потому, что потянула его чудодейственная магия живописи…
— Скажите, пожалуйста, как вас зовут? — Парень поднес микрофон к Глотову.
У того запылали уши, а потом лицо. Он качнулся. «Не волнуйтесь», — доброжелательно сказал кто-то сзади. «Я не волнуюсь, — хотел ответить Глотов. — Просто мне нельзя. Это не про меня. Перепутали». Он отер лоб — на коже проступила испарина, отвел рукой микрофон, пробормотал едва слышно: «Перепутали», вышел из очереди и двинулся по тротуару, мимо машины, мимо милиционера, опять не видя ничего вокруг.
А потом увидел троллейбус, скрипуче подкативший к остановке. Глотов быстренько побежал и вскочил в него в самый последний момент, полез в карманы и нашел там только две монетки, пятачок и гривенник. Поискал еще, но безрезультатно. Вот так. Столько денег еще час-полтора назад в руках держал, а теперь вот пятак и гривенник. И ему стало очень обидно за эти так глупо потерянные шесть сотен. Теперь их наверняка прикарманит эта горластая корова, прикарманит и глазом не моргнет, и не станет раздумывать даже, и потратит их на какую-нибудь дребедень, и положит эту дребедень в сундук впрок, и будет там эта дребедень гнить до самой ее смерти. А это ж ведь его деньги, личные, собственные, тяжким трудом заработанные, а она — в сундук! Черт! И Глотов хватанул себя по колену кулаком. «А почему я говорю: «мои деньги»? — подумал он неожиданно. — Совсем не мои деньги, это вор… чужие деньги, и никакого права я на них не имею. А что теперь делать? Опять заработать и опять отнести к той же квартире, положить в почтовый ящик. Ах ты, господи! Точно, надо было сразу положить в почтовый ящик. Ах ты, господи! Голова садовая! Так, значит, заработать и отнести? А не глупость ли это? Ведь украдено-то больше, гораздо больше…»
Ох, как раскалывается голова, гудит, распухает… А впрочем, что страшного произошло? Ну и украл. Да не я один краду, вон жена рассказывала, как у них в больнице у больных взятки берут врачи и сестры, и ничего, живут припеваючи. А раз все воруют, то почему и мне нельзя? Раз всем закон побоку, то почему мне он указ?.. Да чхать я хотел! Украл, и слава богу, доволен должен быть… Только жалко, что деньги потерял… Нет, нет, нет, все не то, не то… Ой, как плохо, как тошно, выпить бы сейчас… Выпить… выпить… и провалиться в сладкое забытье, уснуть и не проснуться… Господи, о чем я, о чем?! Душно здесь, тесно, жмет со всех сторон железная коробка, и нет мочи уже в ней находиться. Чудится, что так и не выйдешь отсюда никогда, останешься навеки. На воздух, на волю! Скорей!
Повеяло ветерком, легким и душистым. Откуда здесь в городе, душистый ветерок? Глотов потряс головой, помотал ею из стороны в сторону, вздохнул, огляделся. Господи! Опять вода. Где это он? А, Крымский мост, набережная Москвы-реки. Паршивенькая водичка, мутная, зелено-коричневая и вязкая, словно всю грязь из города в ней размешали. В такой даже топиться противно. Глотов угрюмо усмехнулся. Вроде полегчало, раз шутить начал. Ну и ладненько. На той стороне изумрудом отсвечивали на солнце пышные деревья, серебрился над самой почти рекой огромный горб кегельбана, а дальше в глубине сонно вращалось «чертово колесо» и еще какие-то хитросплетенные пестрые железки торчали над деревьями — видать, аттракционы. И ко всему прочему слышалась с той стороны ритмичная, веселая музыка. Вот так, в отличие от него, дурака, отдыхают люди, радуются жизни, да просто выходному дню радуются. И он тоже когда-то радовался выходному дню и веселой музыке. И совсем недавно это было. Неделю назад? Две?.. Вот пойду сейчас туда и тоже буду скакать козлом, и кататься на аттракционах, попивать холодную «Фанту», и глазеть по сторонам. Он пригладил волосы, оглядел себя со стороны, заправил выбившуюся рубашку под ремень, обтер потные ладошки о брюки и пошел к мосту.
«Фанты» Глотов не попил — очередь как за воблой, даже у фонтанчика с обычной водопроводной водой спрашивают: «Кто последний?» И на аттракционах покататься не сумел, к ним просто не подойдешь, тройным кольцом толпа их окружает, и все ругаются друг с другом, норовят первыми влезть, даже детишек расталкивают. Глотов насупился и пошел искать тихое местечко. Весь парк обошел и нашел-таки. «Кто ищет, тот всегда найдет». В тенистом, заросшем уголке возле решетчатого забора, за которым отдыхали поливальные машины. Отдохну, подумал Глотов, покурю и пойду.
Минут через пять другую лавочку заняли пятеро потных, возбужденных парней, они разом закурили, стали сплевывать — харкающе — под ноги и материться. Потом один из парней — приземистый, коротко стриженный и самый горластый (глянув на него сбоку, Глотов на миг затвердел лицом, показалось опять, что наконец того, низенького, углядел), достал из сумки две бутылки вина, откупорил их, и парни стали пить по очереди из горлышка. Глотову стало противно, безотчетная злость уже понемногу вскипала в нем. Но все бы ничего, если бы не вышла неожиданно из-за деревьев в тот момент усталая полная женщина лет пятидесяти и не направилась, припадая на опухшую ногу, к свободной лавочке. Когда она оказалась прямо против парней, то поскользнулась вдруг на влажной, не просохшей еще после ночного дождя земле и неуклюже упала на бок. Сумочка вылетела из ее рук и приземлилась возле парней. Низенький гоготнул, а вслед за ним загремели молодыми глотками остальные. А низенький встал, нарочито вежливо поднял сумочку и, держа ее двумя пальцами, стал дожидаться, пока женщина поднимется. Кряхтя и постанывая, та поднялась наконец. Низенький с полупоклоном подал ей сумочку. Женщина улыбнулась робко и поблагодарила низенького. У Глотова потемнело в глазах. И он шестым чувством, спинным мозгом понял, что сейчас ему себя не остановить. Вся боль, вся тоска, вся ненависть к этому неправильному миру, к себе самому, что скопились в нем за последние дни, сейчас пульсирующими толчками рвались наружу. Он медленно, очень медленно встал, набычился, чуть приподнял руки, развел их в стороны и неожиданно мягко для его грузной комплекции пошел к парням. Они почуялиопасность, исходящую с его стороны, и повернулись к нему все разом. Уже в двух шагах от них Глотов рявкнул:
— На колени!
Глядя стылыми глазами в упор на низенького, он подошел ближе и гаркнул снова с еще большей силой:
— На колени!
По лицу низенького было видно, что он еще толком не сообразил, в чем дело. Он вроде как обалдел от такой наглости и машинально стал подниматься с лавочки, чтобы не глядеть на Глотова снизу вверх, а хоть как-то с ним уравняться. Но когда он встал, то все равно смотрел снизу вверх, потому что ростом был Глотову по середину груди. Наконец он начал приходить в себя, прищурился, оглядел своих корешков и, вытянув вперед подбородок, спросил развязно:
— На перо просишься, дядя?..
— Ах ты, гриб! — мотнул головой Глотов, подумал секунду и добавил: — Ворюга! — стремительно поднес руку к голове низенького, накрыл широкой ладонью его лицо и толкнул легонько. Но это только самому Глотову показалось, что легонько, а на самом деле толчок был достаточно сильным, потому что голова у низенького запрокинулась и сам он полетел на лавочку.
Краем глаза он уловил, что парни напружинились и были готовы к драке. Они только ожидали сигнала от низенького. А тот пока молчал, обтирая пот с лица.
— Ну?! — Глотов нехорошо оскалился.
— Пошел ты на…! — выпалил низенький и снова вскочил, как ванька-встанька. И тогда Глотов сгреб его в охапку и потянул к земле.
— Мочи его! — сдавленно взвизгнул низенький, и Глотова ударили в ухо, потом в лоб, потом кто-то заехал ему ногой по пояснице. Но он не отвечал, он гнул низенького к земле. Тот хоть и хлипкий на вид был, но жилистый и сопротивлялся отчаянно, и Глотову требовалось немало усилий, чтобы сгибать его. Пронзительно кричала женщина, матерились и хрипели парни, обрабатывая Глотова со всех сторон. Он шатался, голова его болталась из стороны в сторону, но с тупым упорством он продолжал делать свое дело. Кто-то справа настойчивыми и довольно сильными ударами мочалил Глотову ухо.
Вдруг что-то лопнуло со звоном в затылке, горячая волна ударила в голову, вспыхнул красный свет перед глазами, и Глотов рухнул на утоптанную, заплеванную землю.
— Зачем бутылкой-то, козел?! — сквозь забытье услышал он и провалился в чернильную темноту…
Чьи-то жесткие, крепкие руки, подняли его, усадили куда-то, что-то холодное, мокрое, мягкое ко лбу прижали, а потом Глотов ощутил на языке кисловатый привкус «Фанты». Ну вот наконец и попил водички. Он слышал далекую музыку, возбужденные голоса и даже шорох листьев на деревьях. Глотов открыл взбухшие веки и увидел перед собой некрасивое лицо молодой женщины, ее длинные, встревоженные глаза с белесыми, будто выгоревшими ресницами. В одной руке женщина держала пустую бутылку «Фанты», а другой рукой отирала Глотову лицо мокрым платком. Правее он разглядел двух строгих парней с повязками дружинников, крутоплечего бородатого мужчину и ту самую пожилую женщину, из-за которой все началось. Бородатый потрясал кулаком, женщина суетливо жестикулировала, а дружинники подозрительно глядели на них, словно раздумывали, сейчас их арестовать или погодить чуток, дать выговориться.
Вот бородатый мотнул головой, как бы с досады, повернулся в сторону Глотова и позвал:
— Марина, иди сюда, чертовщина какая-то выходит, ничего им не объяснишь.
Марина заглянула Глотову в глаза, улыбнулась сухим крупным ртом и, кивнув, спросила ласково, как дитенка малого:
— Ну как! Лучше?
— Лучше, — глухо выдохнул Глотов через разбухшие губы. — Спасибо…
— Вот и чудесно. Погодите немного, я сейчас…
Женщина поставила бутылку на лавочку, приладила мокрый платок у Глотова на голове, прямо на темечке и пружинистым шагом направилась к дружинникам. Строгого, прямого фасона твидовая юбка до половины скрывала полные икры, а плечи длинного пиджака были пухлые и широкие, и со спины женщина выглядела коренастой и приземистой. «Мода, что ль, такая? — подумал Глотов и осудил тотчас: — Дурацкая».
— Ох, все из-за меня, из-за меня, — завздыхала вдруг женщина, с которой все началось. Тонкие седые волосы выбились из-под гребешка и пепельно отсвечивали, и казалось, что над головой у женщины мерцает нимб. — Такая беда, такая беда, и хороший человек пострадал ни за что.
— Все в порядке, — шевельнул губами Глотов. — Нормально.
— Как вы? — Бородатый прищурился и тотчас хмыкнул, а потом не удержался и хохотнул. Глотов нахмурился и с недобрым удивлением уставился на него. Вслед за Бородатым не сдержала смешок и Марина, и та женщина, с которой все началось, тоже заулыбалась. Глотов обалдело смотрел на них и никак не мог понять, в чем дело. Он наклонил голову, оглядел себя и тотчас что-то белое заслонило левый глаз. Глотов машинально отмахнулся, и влажный платок свалился с его головы. Так вот над чем они смеются. Уж очень нелепо он, здоровый, хмурый дядя, выглядел с этим платком. И он тоже засмеялся, и ему стало хорошо, впервые за все эти дни он почувствовал что-то похожее на радость. Он был в центре внимания, и внимание это было искренним и добрым. Он поднял платок, встряхнул его, сложил аккуратно и протянул Марине:
— Спасибо большое.
— Лазарет на лавочке, — сказал Бородатый. — Передвижной медпункт. Доктор Марина Клокова оказывает первую помощь пострадавшим от стихийного бедствия с ласковым мужским названием «Портвейн». — Он серьезно посмотрел на Глотова.
— Что же это вы, здоровый сильный мужчина, не могли оказать сопротивления этим пьяным соплякам? Или сами того? — Он щелкнул себя по шее.
— Я не пьяный, — Глотов насупился.
— Тогда почему?
Глотов молчал.
— Ну что ты пристал к человеку? — подала голос Марина. — Он еще в себя не пришел. — Она ловко наклонила голову Глотова к себе. — Ах ты, господи, опять кровь, рассекли, мерзавцы, кожу на затылке. И вправду надо в медпункт. Где тут медпункт?
— Ага, — сказал Бородатый и сунул руки в карманы протертых джинсов. — Чтобы там травму зарегистрировали и вызвали милицию. И начнут его, бедного, таскать туда-сюда. А тех пятерых давно и след простыл.
— Верно, — Марина задумалась, прищипывая нижнюю губу.
— Тогда к нам.
— Ну-ну, — сказал Бородатый и с сомнением посмотрел на Глотова.
— А что прикажешь делать? Не оставлять же его здесь? — В голосе у женщины появились жесткие нотки.
Мужчина пожал плечами:
— Как хочешь.
— Все. Встали и пошли, — быстро скомандовала женщина. Она была врач, и для нее начиналась работа.
Она помогла встать Глотову, попрощалась с женщиной, с которой все началось, и торопливо пошла вперед по тропинке. Вслед за ней двинулись Бородатый и Глотов.
Идти было тяжело. В ушах стеклянно позванивало, а ноги были как чужие.
Бородатый, его звали Валентин, поддерживал Глотова и, отвлекая его, бодренько рассказывал:
— Мы шли мимо, вон там, за деревьями. Вдруг слышим шум, крики, звон какой-то. Ну, думаю, драка. Немного струсил, человек все же. А мимо пройти не могу, понимаешь. Я же спортсмен и преподаватель, студентов добру учу, понимаешь, да и вообще… Толком даже и не раздумывал. Ну вот, вбегаем с женой в эти самые кусты, там тебя лупят, да так смачно, что у меня аж задрожало все внутри. И тут я как заору: «Всем стоять, гады, милиция!» — и свистнул, как милицейский свисток, я умею так, могу показать. Ну а эти шалопаи врассыпную, с хрустом и треском через кусты, как лоси. А потом дружинники пришлепали к шапочному разбору и говорят, что ты пьяный и хулиганил, и хотели тебя в отделение отвести. Вот так.
У выхода из парка они сели в такси. Ехали молча. Марина прижимала к его затылку холодный мокрый платок, и это было очень приятно, и Глотов, совсем уже оклемавшийся, все хотел спросить, куда же они все-таки едут, но так и не спросил до конца пути. Ему было неудобно. Он подумал, что своим подозрительным вопросом может оскорбить людей, которые желают ему добра. Так мало людей, которые просто так, ни за ради какой-то там выгоды, желали ему добра.
Марина и Валентин жили недалеко, в середине Ленинского проспекта, в солидном кирпичном доме послевоенной постройки.
Когда Глотов вышел из машины, ему почудился легкий запах керосина и слабый горьковатый аромат дымка от печки, и на несколько мгновений он так явственно ощутил, что он у себя в Утинове, что даже заволновался: а не теряет ли он сознание на ходу? Он где-то про такие штучки читал.
Квартира была трехкомнатная, очень чистая и очень светлая. В прихожей их встретил серьезный, аккуратно причесанный мальчик лет десяти. Он улыбнулся Марине и Валентину и вежливо, совсем по-взрослому пожал руку Глотову и представился: «Сергей». Валентин потрепал его по шее — мальчик снес это достойно, хотя по темным большим глазам его видно было, что такая фамильярность ему претит, — и сказал гордо: «Мой старший. Очень талантливый. Моя надежда». Мальчик, извинившись, ушел в свою комнату, а Глотова провели в просторную, заставленную самой необходимой мебелью гостиную.
Марина сказала с осуждением:
— Опять ты его хвалишь? Зачем? Портишь ведь.
— Ерунда, — резко возразил Валентин и махнул рукой. — Наоборот. Человек, если он талантлив, должен знать, что он талантлив. Это прибавляет ему сил и уверенности в себе…
— И самомнения, и тщеславия, — перебила его Марина, роясь в многочисленных ящиках приземистого модернового серванта.
— Ну хорошо, хорошо, — примирительно выставил ладони Валентин. — Время рассудит. Я пошел в ванную. Если надо помочь, крикни.
Марина наконец нашла то, что нужно, какие-то железные коробочки, бинты, вату, унесла все это на кухню, вернулась, сняла жакет, приказала и Глотову раздеться до пояса. А он стеснялся, улыбался глупо и все говорил тихо и слабо: «А может, не надо, может, и так сойдет». Но она решительно сняла с него рубашку, положила на плечи ему холодную скользкую клеенку, отчего у Глотова мурашки побежали по спине, наклонила голову и стала выстригать волосы возле раны. И Глотов покорился и молчал, и ему было очень хорошо, и легко, и даже как-то умильно на душе, точно так же, как в детстве, когда мама вот так же сажала его решительно на табурет и стригла жесткие, непослушные мальчишеские волосы.
А потом он даже чуть не заснул под ласковыми женскими пальцами. Марина опять ушла и опять вернулась с железной коробкой. Через минуту Глотов почувствовал режущую боль, но он молчал, стиснув зубы. Если бы страдание было во сто крат сильней, он тоже бы молчал, умер бы, но молчал… Наконец все кончилось. В затылке, правда, все еще стучало болью, но приглушенной, затухающей.
— Я зашила вам рану, Володя, — сказала Марина, подавая ему рубашку. — Отдыхайте, сейчас будем обедать.
Она удалилась на кухню, а через минуту явился Валентин, бодренький, улыбчивый, волосы и борода у него были влажные, и от него пахло мылом.
— Обычно гостям показывают семейные альбомы, — сказал Валентин, устраиваясь рядом. — Я не исключение. Но фотографии здесь немного другого рода.
Валентин перевертывал толстые картонные страницы, шелестел папиросными вкладышами и комментировал каждую фотографию. Оказывается, они с Мариной и с друзьями — спортсмены-туристы, каждый месяц ходят в походы с разной категорией трудности, и у Валентина даже есть какой-то разряд, Глотов не запомнил какой, и на этих снимках запечатлены разные интересные моменты этих походов. Валентин рассказывал смешно и очень интересно, — вот здесь у них унесло плот, здесь они спасали мальчика-пастуха из-под какого-то обвала, а вот тут они варят уху, а вот тут поют песни… Говорил, как походы сплачивают, что все становятся как родные, и что у походников самый высокий дух коллективизма, агитировал Глотова ходить в походы, потом рассказывал туристские анекдоты, и Глотов хохотал до саднящей боли в зашитом затылке, а Марина кричала из кухни, что она тоже хочет посмеяться…
Глотов был очень благодарен Валентину, что тот ничего не расспрашивал про него самого, про Глотова. Потому что если бы тот стал расспрашивать, то Глотову нечего было бы и рассказать, если только наврать, а врать он как-то не любил с детства, да и повзрослев, тоже не научился…
А затем Валентин стал говорить про себя, что ему сорок лет, что время идет, но ничего, он еще покажет, засядет и разработает тему так, что академики ахнут, что просто дела отвлекают, бытовая текучка на работе, да и походы тоже хотя и помогают, но время все-таки крадут. Валентин порозовел, глаза его возбужденно блестели, и каждую фразу он заканчивал ударом кулака по столу. А Глотов поддакивал ему искренне, потому что верил, что Валентин обязательно засядет и напишет такую диссертацию, что все ахнут. А Валентин говорил уже про то, какой его работа даст экономический эффект, о том, какой она сделает переворот, шум и бум…
— Хватит! — Голос Марины прозвучал тихо и властно.
А Валентин вскинул на нее глаза, и смутился, и замешкался. Суетливыми движениями закрыл альбом, отложил его на диван. А Глотов удивился: чего это она так его обрывает, и чего, интересно, он испугался?
— Положи скатерть на стол, — уже мягче сказала Марина и, улыбнувшись, кивнула Валентину.
Глотов чувствовал себя как в раю, ему было хорошо, как никогда, и казалось, что этих людей он знает тысячу лет и всю эту тысячу лет преданно и бескорыстно их любит, и сказали бы ему сейчас: умри за них — и он умер бы, не раздумывая.
Обед был вкусный и разнообразный, и Глотову очень хотелось есть, но он старался есть мало, чтобы не подумали, что он невоспитанный или из голодного края, он сидел прямо, как аристократы в кино, и старательно манипулировал ножом и вилкой.
Потом Валентин попросил сына показать Глотову, какие у него врожденные математические способности. Глотов называл астрономические цифры, а Сережа их складывал, делил, множил и даже извлекал корень, Глотов смеялся и восторженно повторял: «Ух ты!»
После обеда Валентин и Сережа, извинившись, ушли в комнату, на пять минут, как они сказали. Глотов и Марина остались одни. Глотов хотел курить, но спросить позволения не решался. Марина некоторое время внимательно смотрела на него, а потом неожиданно спросила:
— Вы из деревни, Володя?
Глотов кивнул.
— Давно?
— Шесть лет.
Марина покачала головой, расправила скомкавшуюся на углу скатерть:
— Мой муж тоже был деревенский.
Глотов удивленно посмотрел на дверь.
— Нет, нет, не Валентин, — она слабо улыбнулась. — Мой первый муж. Он погиб. В автокатастрофе. Он был шофером. Толей его звали. Вы очень похожи на него, Володя. Я как увидела вас, лежащего, так чуть плохо не стадо, так похожи. Мы пять лет всего прожили. Я вышла за него в девятнадцать. Он был очень хороший и добрый, и искренний, и сострадательный. Я с ним на практике познакомилась, в Смоленской области. Вы очень похожи, — она как-то странно посмотрела на Глотова, он страшно смутился и опустил глаза. — Он очень был неспокойный, все чего-то искал, за всех и за все переживал, мучился. И все домой рвался, меня изводил. А я же не могу там, я же горожанка, — она мягко свела губы и спросила после паузы. — И мне кажется, вы тоже такой же, да?
Глотов ничего не ответил и, в свою очередь, стал разглаживать скатерть. Откуда он знает, какой он? Разве задумывался когда-нибудь над этим — жил и жил себе без затей.
— …Я шесть лет потом не могла ни с одним мужчиной встречаться. А потом стало страшно, я ведь совсем одна, родители умерли давно. Стало страшно одной, и когда Валя предложил пойти замуж, я сразу согласилась…
— Он хороший, — наконец сказал Глотов только для того, чтобы что-нибудь сказать, а не сидеть тупым чурбаном.
— Хороший, — согласилась Марина. — И мы с ним ладим. Только ладим, и все.
— А чего еще надо? — удивился Глотов. — Чтоб мирно было и тихо. И дети чтоб были… Квартира у вас есть, и мебель, — он нахмурился, каким-то вторым слоем сознания сообразив, что говорит что-то не то.
— Да, да, конечно, — опять согласилась Марина. — Все есть, все есть… И спокойствие есть, очень много спокойствия, чрезмерно много. Вокруг Валентина спокойствие и пустота, и он заполняет эту пустоту походами, нелепыми прожектами и другой чепухой.
Глотов никак не мог взять в толк, почему она говорит все это с почти нескрываемой горечью, ведь дружная, нормальная у них семья, все как у людей — и квартира, и достаток, и ребенок, такой умный и такой воспитанный, и относятся Марина и Валентин друг к другу с уважением, это сразу видно (Глотов считал, что глаз у него наметанный, разные семьи он видывал). Наверное, все бы хотели так жить?
— А вообще, все у нас замечательно! — Марина словно подслушала мысли Глотова. Она улыбнулась весело и широко, выпрямилась на стуле, запустила пальцы в густые черные волосы, откинула пряди назад. — Все отлично, все чудесно! Все у нас тихо и гладко. Мы образцовая семья.
— Ну вот, конечно, — Глотов обрадовался, что теперь все ему понятно и именно так он все и увидел в этом доме. — Очень хорошая у вас семья, можно позавидовать.
Марина только покачала головой, поднялась и начала собирать посуду со стола. А Глотов опять заметил, что глаза у нее стали совсем безрадостными. Почему?
Не его это дело, конечно, но все-таки почему? Значит, чего-то не хватает? Может быть, денег? Любви? Но любовь-то, наверное, есть, раз живут вместе и не скандалят, не злобятся, ладят. Когда ладят, это и есть любовь…
— Вы женаты? — спросила Марина.
— Да, — ответил Глотов. — И дети есть. Двое.
— И все у вас хорошо?
Глотов дернул болезненно щекой и, испугавшись, что Марина это углядела, стал тереть щеку пальцами, будто она зачесалась. Марина едва заметно усмехнулась краешком губ и попросила:
— Помогите мне.
Когда они вернулись в комнату, Валентин и Сережа с довольными, раскрасневшимися лицами уже сидели на диване.
За спинами они что-то прятали.
— Ну, мать, теперь гляди, — торжественно произнес Валентин и вытащил из-за спины грузовичок размером с коробку из-под обуви.
— Ну и что? — с нарочитой усмсшливостью подначила Марина.
— А вот что, — не сдержавшись, выкрикнул воспитанный Сережа.
Он схватил машину, что-то покрутил сбоку, поставил ее на пол, и автомобильчик побежал по паркету, рокоча и металлически позвякивая. Валентин и Сережа завизжали от восторга и бросились вслед за машинкой, чтобы остановить ее, а то ударится, не дай бог, обо что-то и поломается.
— Мы ей мини-моторчик приделали, — сказал Сережа, подняв машинку высоко над головой. — Полгода с папой работали. Это подарок Саньке.
— Санька, наш младший, он сейчас за городом, с садом, — объяснила Марина Глотову, а потом она зацокала восторженно языком, закачала одобрительно головой и похвалила: — Молодцы, ну молодцы, вот Санька обрадуется.
Мальчик снова поставил машину на пол, она шустро покатила в прихожую, а Сережа и Валентин опять бросились за ней, хохоча.
Марина смотрела им вслед и пощипывала пальцами нижнюю губу.
Потом все смотрели телевизор, шла передача «Киноафиша», где представляют, какие картины будут идти в кинотеатрах в этом месяце. Валентин с сыном внимательно вглядывались в экран и то и дело о чем-то спорили, то танки Валентину не понравились, то Сережа запальчиво твердил, что шестиклассники такими словами не разговаривают, и все это неправда, и придумали все это какие-то глупые дяди. Марина ушла, потом вернулась, стоя посмотрела немного телевизор, усмехнулась какому-то глубокомысленному замечанию Валентина, подошла к нему, поцеловала в затылок, потом поцеловала и Сережу, а они этого даже и не заметили. Почувствовав на себе взгляд Глотова, она повернулась к нему, — он сидел на диване, — потерла лоб, якобы случайно, закрывая ладошкой глаза, и скорым шагом вышла из комнаты. Его никто не гнал и не намекал, что нужно уйти, но он сам сообразил, что уже пора. Им занимались, когда ему нужна была помощь, а сейчас все в порядке, и квартира зажила своей обычной, повседневной жизнью, и в этой жизни Глотов был уже лишним. А уходить ему не хотелось, но он понимал, что надо. Он поднялся, поправил рубашку, старательно разгладил ладошками помявшиеся брюки, сказал в затылок Валентину:
— Ну пошел я, и так уж задержался.
— Досмотрел бы передачу, — не оборачиваясь, отозвался Валентин.
— Да надо уже.
— Ну что ж, — Валентин полуобернулся, протянул руку: — Заходи, коли рядом будешь.
Глотов пожал руку и сказал:
— Спасибо вам, — потом пожал хрупкую ладошку и Сереже.
— Ну пошел я, — сказал он, заглянув на кухню. Марина отставила кастрюлю с плиты, вытерла руки о фартук, валявшийся на стуле, подошла к Глотову почти вплотную:
— Я очень рада, что познакомилась с вами, Володя, — она открыто, не смущаясь, смотрела ему в глаза. — И защищайте себя, как положено, независимо от настроения, независимо от чувств, которые вас одолевают. Вы же ведь могли этой шантрапе взбучку дать? Ведь правда?
— Правда, — тихо ответил Глотов. Ему захотелось вдруг поцеловать эту грустную милую женщину.
— Дайте, я вас поцелую, — просто сказала она, взяла его за шею, притянула к себе, а сама встала на цыпочки. У Глотова закружилась голова, и он зажмурился.
Когда он открыл глаза, Марина была уже в прихожей.
— Запишите мне ваш телефон, — вполголоса попросил он. Марина покрутила головой:
— Нет, Володя, не надо. И больше не приходите сюда. Мне будет тяжело. Все, идите, — она подтолкнула его к двери.
— Дык… — Глотов растерянно развел руками.
— Идите, идите. — Марина щелкнула замком.
Дверь за спиной захлопнулась, и Глотов остался один, совсем один. Он вышел на лестничную площадку, медленно спустился к окну, суетливо пошарил по карманам, нашел «Приму», обломал две спички, наконец прикурил. Порывисто затянулся и невидяще уставился в окно. Ну вот, все и кончилось. И надо было возвращаться в прежнюю жизнь, а сил уже не было. Он это понимал. Он это чувствовал — всем существом, каждой клеточкой. И Глотову даже не хотелось выходить из подъезда, потому что казалось, что там на улице его встретит душный, зловонный буран, он будет забиваться в горло, легкие, будет вертеть его из стороны в сторону, как тряпичную куклу, назойливо и колко лезть под веки… Глотов поежился, бросил сигарету и пошел вверх по лестнице. Он тяжело и размеренно ставил ноги на ступени и думал. Уехать в Утинов, к старенькой маме? Но и там будет то же самое. Куда бы он ни укатил, хоть на самый Сахалин, там все равно будет то же самое. И в квартире у Валентина и Марины он тоже не смог бы спрятаться, даже если бы ему и позволили это сделать. Он поднялся уже на три этажа. Солнце приветливо светило в окна, но там, у подъездной двери, его ждал буран. Он это знал. Еще два этажа. Все рассказать? Кому? Боже мой, кому?! Дальше был чердак. Все, хода нет. Последний этаж. Глотов шагнул к окну, глянул вниз. Высоко. Люди пестрыми горошинками перекатываются по двору. Хорошо, что окно выходит во двор, неожиданно деловито подумал Глотов. Он вынул сигареты, опять закурил, затянулся три раза и бросил сигарету на пол. Склонился, щелкнул шпингалетом, выпрямился, потянулся к верхней задвижке, с едким писком открыл раму, затем то же самое проделал со второй рамой, тоже открыл ее. Свежий ветер вмиг освежил потное лицо, и кожа натянулась на скулах, как после купания. Глотов, кряхтя, влез на подоконник, держась за раму, сделал полшага, нога повисла в воздухе. Он сдавил веки. Сейчас… Но что-то не пускало его. Никак. Он открыл глаза, оглянулся. Рука судорожно вцепилась в раму, побелевшие пальцы одеревенели. Глотов попытался их разжать, не вышло. Он постарался оторвать их левой рукой, и опять не вышло. Он провел ладонью по лицу, вздохнул и осторожно сполз на пол. Пальцы как приклеились к раме.
— Вот карусель, — сказал он и мотнул головой. Захотелось курить. Он увидел догорающий окурок, машинально нагнулся, и рука отклеилась от рамы. Глотов мелко засмеялся. Откуда-то снизу потянул сквозняк, вторая рама задребезжала стеклянно и захлопнулась со свирепым треском, рассыпчато звеня, посыпалось разбитое стекло. Глотов вздрогнул и выронил окурок. Струйки пота щекотали ему щеки. Скрипнула дверь на этаже, потом послышались решительные шаги, и внизу лестничного марша появился мужчина с недовольным костистым лицом. Он был в летней милицейской рубашке с белыми погонами. «Капитан», — машинально отметил Глотов.
— Ну? — спросил капитан, стряхивая крошки с губ. Он, видимо, только что пообедал. — В чем дело?
Глотов медленно покрутил головой, мол, ничего, все в порядке, затем не спеша закрыл на щеколды обе рамы, ногой задвинул осколки в угол, повернулся и стал спускаться. Капитан с интересом смотрел на него.
РАЗНЫЕ РОЛИ КАПИТАНА КОЛОТОВА
 Он еще и издевается, — сказал Лаптев и указательным пальцем выщелкнул в окно окурок. — Вот гад кривоногий…
Мокрый окурок расползся на лобовом стекле «Волги»-такси, проезжающей мимо. Побагровевший таксист принялся сигналить, грозить кулаком и что-то выкрикивать яростное и страшное.
— Да иди ты! — махнул рукой Лаптев и чуть притормозил, чтобы «Волга» проехала.
— Я тебя выгоню, — тихо сообщил Колотов.
— А че такое, че такое? — встрепенулся Лаптев, опять нажимая на акселератор. — Гад, он и есть гад и издевается еще. По всему городу за ним мотались, и только за-ради того, чтоб он нас обратно в управление привел. Так могли бы сидеть у окошка да и ждать. Ну? Правильно? Ну?
— За рот твой слюнявый выгоню, — уточнил Колотов. — Постовым поставлю к урне на вокзале. Будешь гражданам указывать, куда окурки кидать. Заодно и сам поучишься.
С заднего сиденья хихикнули.
— На площадь-то не выезжай, — Колотов пальцем принялся разминать слегка затекшие ноги. — Тормозни на углу. Поглядим, зачем Гуляй сюда пожаловал.
— Он либо наглец, — подался с заднего сиденья Скворцов, — либо одурел, балбес, от самогона и прет неизвестно куда, дороги, понимаешь ли, не разбирая.
— Я думаю, он сдаваться идет, — серьезно заметил Зотов. — Пил, гулял, воровал. А вот утром сегодня проснулся, и так нехорошо ему стало, так муторно, ну просто невмоготу. Пошто же жизнь свою молодую поганю, подумал, пошто не живу как все, чисто, светло, на одну зарплату? Расплакался, надел штаны «вареные», итальянские, «Феруччи», и пошел сдаваться.
— Не, — отозвался Лаптев. — Он дразнится. Засек, что его ведут, понял, что все, кранты, не деться никуда, и фасонит теперь, изгаляется. Ща потопчется возле управления и в прокуратуру нас потащит, а потом в филармонию Шульберта слушать, и будет там какой-нибудь пиликалка два часа нам уши чистить. Мы уснем, а он скок и был таков…
— Ну как не стыдно, — Зотов помотал головой в знак своего искреннего душевного огорчения. — Только плохое в людях видим. Ну осталось же в нем что-то святое?
— Нет, датый он, точно датый, — не отступал Скворцов. — Ишь как озирается! Очухался и никак не сообразит, куда попал.
— Все тихо, — Колотов наклонился вперед. — А вот и Питон. Молодец Нинель. Скинемся, флакончик «Фиджи» ей купим.
Кривоногий Гуляй был большим модником. Кроме «вареных» джинсов еще и черная лайковая куртка и жокейская кепочка с длинным козырьком и с какой-то нерусской надписью на тулье.
И он, видимо, очень радовался, что он такой модный, хоть и кривоногий. И впрямь, как приметил Скворцов, он все озирался по сторонам, но, верно, не из-за того, что не понял, куда попал, а из-за того, чтобы поглядеть, какой эффект его «варенки» производят на девочек, девушек и дам. Но девочкам, девушкам и дамам было, судя по всему, как до лампочки, до модного Гуляя, и он был этим явно расстроен и что-то говорил обидное им вслед, особенно громко в спину самым худеньким и хрупким. Бог их знает, женщины разные бывают, иная, что покрепче, глядишь, развернется и саданет Гуляя по загривку, и покатится по асфальту его нерусская кепочка, и затопчут ее равнодушные и невоспитанные пешеходы своими добротными отечественными башмаками, а иная и крикнет громово и порекомендует ему, где и в каком месте свои словесные изыски выказывать, а какая, глядишь, и милиционера кликнет. Всякие девочки, девушки, дамы бывают… А милиция, она близко, в десяти шагах. На красной вывеске возле дверей таки написано: «Управление внутренних дел». Но нет, не особо боится Гуляй милицию. Вон вышел дородный капитан, с козырьком на лоснящемся лбу, а Гуляй к нему скок и эдак развязненько, как в кинофильмах про двадцатые годы: «Разрешите прикурить, товарищ красивый милиционер».
— Сволочь, — заявил по этому поводу Лаптев.
— Мается он, мается, не знает, к кому подойти, — констатировал Зотов.
— Беляк пришел, — догадался Скворцов. — Ща крокодильчиками кидаться начнет…
Но вот Гуляй насторожился, оборвал вертеж свой по сторонам, уставился, чуть пригнувшись, в одну точку на краю площади. Этот его взгляд и проследил Колотов. Питона он еще не видел ни разу, но узнал его тотчас. Когда кого-то очень ждешь, когда очень жаждешь с ним встречи, когда по ночам снится он тебе без лица, с черным провалом вместо него, тогда вмиг разглядишь долгожданного, даже в таком безмятежном столпотворении, что случилось сегодня на площади по поводу, видимо, прозрачно-воздушного, солнечно-синеватого сентябрьского дня. Питон был высок, крепок, черноволос, по-монгольски скуласт. Шагал он уверенно, сунув руки в карманы бананистых брюк, откинув назад полы свободного, почти бесформенного пиджака.
— Он вооружен, — сказал Колотов. — Видите?..
— Левый внутренний карман чуть провисает, — подтвердил Зотов.
— Шеф, позволь, сниму гада с одного выстрела, — Скворцов угрожающе потянулся к кобуре под мышкой.
— Я все понял, — Колотов засмеялся. — Во дураки-то мы. Подружка-то Гуляя не соврала. Все четко.
— Что? — У Зотова вдруг вспотели ладони, и он незаметно вытер их о куртку.
— Питон встречу назначил на площади у помойки, — Колотов обернулся и посмотрел на своих спутников.
— Ну, — поторопил его Скворцов.
— У помойки, — повторил Колотов.
Никто не реагировал.
— Вот тупые-то, — Колотов дернул головой. — У помойки, у мусорской конторы, значит. У нашей с вами, значит, конторы.
— У-у-у-У, тварь, — злобно протянул Скворцов. — Не вынесу этого, шеф! Дай стрельнуть, дай!
— Здесь задерживать нельзя, — Колотов потер подбородок. — Народу тьма.
Гуляй и Питон наконец встретились. Пожали руки друг другу, как порядочные. Огляделись, как им показалось, незаметно и бодренько направились прочь от «помойки».
Лаптев завел двигатель, и «жигуленок» выкатил на площадь.
Посреди площади расположился овощной базар. Пестрые ларьки с меднолицыми, горластыми деревенскими кооперато-рами за прилавками. А вокруг веселые, гомонящие покупатели, затаившие от восторга дыхание, взирающие на обилие овощей и фруктов. Дождались все-таки. Спасибо областным властям, соблаговолили наконец, потрафили покупателю, позволили витаминов вкусить по сходной цене, недешевой, но не рыночно-гангстерской! Слава богу! Колотов заприметил каких-то ребят с фотоаппаратами среди толпы, с магнитофонами «Репортер» наперевес. Сегодня вечером по радио трезвон будет, а то и по местному телевидению, ну а завтра подборочка в областной газете, это уж точно.
Пока объезжали базар по краю площади, на несколько мгновений потеряли из виду модную парочку, а когда наконец обогнули последний павильон, оказались от них метрах в десяти. Те преспокойненько поджидали автобус на остановке.
— Плохо, — сказал Колотов. — В такси было бы проще их брать. Что у них, бабок нет, что ли?!
— Экономят, — Зотов опять обтер ладони о куртку. — Денежка счет любит. Копеечка к копеечке…
На остановке возле парочки томился тот самый дородный милиционер, у которого Гуляй прикурить попросил. Он нервно притоптывал ногой. Невтерпеж ему было. Спешил, видать, куда-то.
— Лобенко сменился, — хмыкнул Скворцов. — Домой мчится. Его там диван ждет и щи тещины, жирные, густые. Она у него в столовке работает. Он на тещу два раза бэхээсников напускал. Стращал. Она его теперь и вовсе на убой кормит. Успокоился…
А Лобенко словно учуял, что о нем говорят, вперся взглядом в машину, а потом заулыбался, залоснился, руки распахнул, словно Гуляя с Питоном обнять захотел. Те шарахнулись в сторону, побледнев мигом, а Лобенко уже бежал к машине, топая по-слоновьи.
— Идиот! — процедил Колотов. — Чему учили?! Давай, Митя, жми, пока он нас не спалил. Машина рванулась, будто ей кто доброго пинка дал, ввинтилась в поток на улицу Коммунаров и через несколько метров вильнула в проулок.
— Эй, Колотов! — донеслось сзади зычное. — Погодь!
И растаяло умирающим эхом: «Погодь… погодь… погодь…»
— Все, — сдавил сильно виски Колотов. — Опять придет ночью, только теперь с лицом.
— Кто? — не понял Зотов.
— Кто? — не поняли остальные.
— Да это я так, — Колотов махнул рукой и повернулся к Скворцову. — Давай, Миша, ищи такси.
— А я? — обреченно спросил шофер.
— Отгонишь машину в управление, срисовали ее, Митя.
Повезло. Не прошло и минуты, как к Колотову подкатила салатовая «Волга» с горделиво восседающим в ней Скворцовым. Колотов опасливо заглянул в кабину — не тот ли водила там правит, которому Лаптев неприятность на стекле сотворил. Чем черт не шутит. Нет. Шофер был другой, добродушный, пожилой, с хитрованским глазом. Подбежал наконец Зотов. Выдохнул:
— Сели. На двенадцатый. По коням!
Шофер весело развернулся, врубил третью скорость, гикнул что-то удальское и ухарски ворвался на улицу Коммунаров.
— Куда теперича? — Он по-молодецки крутил баранку тремя пальцами. — В «Комету», «Якорь» или «Былинку лесную» на пятнадцатый километр?
Колотов оглянулся на «оперов». И впрямь «фарцмадуи» какие-то, а не сотрудники — курточки, джиисики, цепочки на шеях, патлы уши покрывают, только по кабакам и шастать. А его самого шофер небось за основного принял — костюмчик деловой, добротный, рубашечка с булавкой в воротнике (шею трет, где жена ее купила?). Самому тридцать пять, а на вид все сорок дашь. Короче, те двое — «шестерки» на подхвате, а он — «деловик». Не угадал хитрованский папаша. Колотов вынул удостоверение и сунул его под нос шоферу.
— За тем автобусом и держись. Только неплотно. Сечешь?
Расстроился шофер, обмяк сразу, загрустил. Деревню свою вспомнил, матушку, знатную во всей округе певунью, дом на косогоре, курочек суетливых. Неужто это было? Чуть не расплакался…
Гуляй с Питоном вышли из автобуса у вокзала. Глянули на часы, на расписание, что над главным входом двухэтажного длинного вокзального здания висело, и не спеша двинулись к перрону. Зотов и Скворцов направились вслед. А Колотов аккуратно вывел на путевке грустного шофера несколько слов, записал номер удостоверения и расписался.
— Куплю дом в Заречье, — сказал шофер. — Дельный такой пятистенок, корову заведу, наймусь механизатором в колхоз. И гори оно все синим пламенем.
Колотов вздохнул мечтательно:
— Лес. Луга заливные. Навозцем тянет. Раздолье. Хорошо. Пригласишь?
— А приезжай!
Колотов вышел, мягко закрыв за собой дверцу. Шофер развернулся и покатил к стоянке. Увидел страждущую толпу на тротуаре и стал прикидывать, как бы облапошить распорядителя с повязкой на рукаве и набрать денежных «лохов» для поездки в аэропорт. О пятистенке он уже забыл.
Колотов догнал сотрудников, распорядился, чтобы Зотов нашел любого вокзального милиционера и попросил того связаться с работниками из отдела охраны — нужна помощь, по инструкции троих маловато для задержания вооруженного преступника, — а сам со Скворцовым поспешил за «модниками».
Гуляй с Питоном тем временем резво взбежали на перрон и скорым шагом двинулись вдоль зеленого состава, который уже едва заметно подрагивал и глухо гудел, исподволь копя силы, чтобы вскорости отклеиться от перрона, от временного своего пристанища, и с шумной радостью умчаться, куда фары светят.
«На юга ломятся, соколики, — отметил Колотов, глянув на табло перед перроном. — Без вещей? Бегут? Или их кто ждет там у вагона?»
— Через три минуты, шеф, — Скворцов поправил кобуру под мышкой.
— Вижу.
Уезжающие и провожающие уже суетливо обнимались, жали руки, обещали горячо, что мол, «непременно, непременно… Как только… Ты же знаешь, я не по этому делу… Для меня только одна женщина… Ты единственный…» и так далее… Колотов несколько раз оглянулся, но Зотова так и не заприметил. У шестого вагона «модники» остановились, поозирались привычно, и только тогда Питон полез в карман и вынул билет. Проходя мимо, Колотов скользнул по его рукам взглядом. Один билет. Значит, Гуляй остается. Но в вагон они влезли оба.
— Ну что? — Колотов остановился резко и хрустко помял пальцы на левой руке.
— Пошли, — неуверенно подсказал Скворцов.
— Давай подождем малость.
— Минуту, — Скворцов расстегнул молнию на куртке и тотчас застегнул ее обратно.
— Лучше расстегни, — посоветовал Колотов.
— Ага, — согласился Скворцов, но не расстегнул. Забыл.
— Где их черти носят?! — Колотов ослабил галстук, потом и вовсе развязал его, снял и, скомкав, сунул в карман.
Скворцов оттянул рукав куртки, посмотрел на часы.
— Все, — сказал Колотов. — Давай.
Маленькая проводница с унылым лицом встрепенулась с недоброй готовностью.
— Куда?
— За кудыкину гору, — процедил Колотов и взялся за поручень.
— Билет! — выкрикнула проводница и схватила Колотова за руку.
— Мы провожающие, — зло бросил Скворцов.
— Нельзя! — лицо проводницы оживилось, загорелось радостным ожесточением.
— Милиция, — едва сдерживаясь, тихо проговорил Колотов и вынул удостоверение. На мгновение проводница убрала руку. Колотов скользнул в вагон.
— Ой, напужал! Ой, напужал! — пришла в себя проводница.
— Милиция. Подумаешь, а без билету все равно нельзя!
— Дура! — Скворцов оттолкнул ее в сторону и взлетел по железным ступенькам.
— Оскорблять, да? Оскорблять?! — взвизгнула маленькая злобница. Ей было хорошо, только ради этих минут стоит жить. А так скука смертная.
Колотов уже миновал тамбур, купе проводницы, с ходу врезался в необъятную даму с тихим лицом, локтем ощутил ватную мягкость груди, на миг взглянул в тоскующие глаза — провожающая — и наконец прорвался в коридор. Первое купе там уже едят, пахнет пирогами, быстро освоились; второе купе — кто-то суетливо убрал бутылку под стол; третье — радостно вскинулись дети, самый маленький вскрикнул: «Папочка…»
— Я вот сейчас начальнику поезда! Я вот сейчас в Совмин напишу!… Самому напишу! Подумаешь, милиция! — яростно горланила за спиной проводница.
Из купе в середине вагона неожиданно выскочил Гуляй. Глаза растопырены, кепочка на боку. Остолбенел на миг от испуга. Мгновения достаточно. Колотов коротко ткнул его мыском правой ноги в пах. Гуляй охнул и переломился надвое, качнулся к стене и стал медленно оседать. Колотов рванул пистолет из кобуры, прыгнул к двери купе, выставил вперед руку с оружием, крикнул что есть силы:
— Лицом к окну! Руки за голову! Не шевелиться!
Две женщины средних лет с застывшими глазами, субтильный юноша с тонким галстучком, телом и руками их укрывающий. Смелый малый. И Питон, конвульсивно бьющийся у окна. Не открыть, голубчик. Иные теперь окошки делают, чем раньше. Удар по копчику, для острастки по затылку, правую руку на излом, и Колотов шарит уже у Питона за пазухой — вот она, игрушечка, любовно телесным теплом нагретая.
Колотов услышал шум сзади, глухой удар, вскрик…
— Что?! — гаркнул он, обернувшись. В коридоре у окна, держась за нос, стоял Скворцов. Колотов все понял. — Держи этого, — рявкнул он. — Держи крепче. И волоки на выход. — Он рванул Питона на себя — тот завопил от боли в руке — и потащил в коридор. Скворцов помотал головой, вроде оклемался, и перехватил у Колотова руку Питона.
Проводница, точно как Скворцов секунду назад, стояла у окна, прижав ладонь к губам. В глазах плескались растерянность, страх, мольба о прощении… Она в последнем усилии вжалась в стенку, срослась с ней, когда Колотов, хрипло выдыхая, будто простуженный, пронесся мимо.
…Она отлипла от стены, нахмурилась, съежила лоб: что-то кольнуло под сердцем. Она потерла это место, закрыла глаза и тотчас увидела Олечку, большеглазую, кругленькую, светящуюся. Такой она была год назад… Господи, она не видела дочь уже целый год. Зачем рожала, одна, без мужа? Дура! А потом испугалась, что замуж никто не возьмет с ребенком, и отвезла девочку к матери… Целый год! Стрелять надо таких, как она! Все. Как только состав придет обратно, отпуск за свой счет и к дочке — заберу с собой, крошечку…
Из купе вышел пузатый дядька со стаканом в руке.
— Сдурели, что ли?! — прикрикнула она. — Какой чай, когда поезд еще не отошел! Ну я вам устрою!
Она пошла в свое купе и стала придумывать разные разности, которые она устроит пассажирам во время долгого пути.
На перроне у самых ступеней, припав на колено и вдавив руки в живот, корчился Зотов. Колотов яростно ругнулся, спрыгнул на колдобистый асфальт, поднял Зотову лицо:
— Что?!
Зотов крутил головой, скривился, выжал из себя:
— Ножом… Больно… Обойдется…
Оторвал от живота руку, мазнул в сторону головного вагона.
— Туда…
— Кто-нибудь! — заорал Колотов. — Помогите ему! — и сорвался, как спринтер со старта, краем глаза уловив на перроне приближающиеся фигуры двух милиционеров. Гуляя он увидел сразу. Это было несложно — в сутолоке провожающих образовался коридор. Люди жались к краям перрона. Они словно боялись ступить на то место, где только что пробежал Гуляй. И через несколько секунд Колотов понял почему — в руке Гуляя был нож.
— Сука! — вырвалось у Колотова. И затем зычный голос его пронесся над путями: — Возьму! Слышишь, возьму!
Через сотню метров перрон кончился. Гуляй ловко спрыгнул на землю и помчался по рельсам, высоко вскидывая локти. Еще сотня метров, и Колотов понял, что отстает. Паршиво. А тот так и прет к пакгаузам, знает: там спасение.
Там среди десятков мелких строений, заборов, тут и там набросанных рельсов, шпал ему скрыться как нечего делать.
— Не дури! — закричал Колотов. — Сзади поезд! Раздавит!
Гуляй споткнулся, замедлил бег, нервно завертел головой по сторонам. А Колотов мчался, не снижая темпа. На ходу он снял пиджак, скомкал его и, когда до Гуляя осталось метра три, бросил пиджак Гуляю под ноги. Тот с размаху повалился ничком. Колотов прыгнул на него и придавил коленом позвоночник. Сзади и с боков по путям бежали люди.
Некоторое время он курил возле входа в отделение милиции при вокзале. Затягивался жадно, как школьник, которого мать гоняет за курение. Гуляя и Питона уже рассадили по разным кабинетам. Надо было их допрашивать, пока не остыли. Зотова увезла«скорая». Рана, слава богу, была неопасной. Зотов заплакал, когда его клали в машину. Колотов остановил санитаров, нагнулся к Зотову и поцеловал его. И тот вдруг улыбнулся сквозь слезы. Еще затяжка, сигарета затрещала сухо и полетела в урну.
Коридор в отделении был узкий, темный, с голыми недавно крашенными стенами, с чистым, мытым скрипучим полом. Однако все равно стойко пахло табаком, потом — что делать, вокзал. «Тяжко ребятам каждый день дышать таким духом. Чертова работа».
В квадратном кабинете четыре стола впритык друг к другу. Тесно. Колотов знал организации, в которых бездельники роскошествуют чуть ли не по одному в гораздо большем просторе.
Питон сидел на табурете у стены и безучастно смотрел в окно. Там, постукивая, проходил состав. Вот бы сигануть сейчас, и ищи ветра в поле… Напротив стоя курил оперативник из отделения, худой, костистый, с неожиданно румяным лицом. Колотов кивнул, подошел к столу. Там горкой были свалены золотые украшения, посверкивали камни в тяжелых оправах.
— Будь другом, — попросил Колотов. — Составь опись.
— Еще денег четыре куска, — оперативник подвинул пачку сторублевок.
— Хорошо, — Колотов взял билет, повернулся к Питону. — В Симферополь, значит, намылился, дружок? Ну-ну…
Питон не реагировал. Он все еще ехал в проходящем составе. Колотов повернулся к оперативнику:
— Оставь нас.
Оперативник принялся сгребать в ящик стола драгоценности и деньги.
Когда закрылась дверь, Колотов сказал:
— Хочешь на волю?
Питон напрягся.
— Я спрашиваю, — Колотов повысил голос. — Ну?!
— А кто ж не хочет? — осторожно усмехнулся Питон.
— Правильно, — согласился Колотов. — Соображаешь. — И добавил неожиданно: — Я тебя отпускаю. Только чтоб потом меня не привлекли за преступную халатность, это все надо грамотно разыграть. Так?
Питон шумно сглотнул слюну и кивнул.
— Значит, — продолжал Колотов, — ты сейчас дверь на замок, мне в челюсть, табуретом в окошко и был таков, а я золотишко себе в карман, будто это ты его с собой, понимаешь, и за тобой. Бабки нужны, понимаешь?
И Питон поверил. Покрутил мелко головой, шею потер, привстал, исподлобья глядя на Колотова.
— Ну-ну, — подбодрил его оперативник.
Питон вдруг обвалился, выдохнув, на табурет, ощерился, с ненавистью глядя на Колотова, просипел:
— А ты меня в затылочек при попытке к бегству! Пух, пух! На-кось выкуси, сволочь!
Колотов рассмеялся, потом перевел дыхание, обтер уголки губ, заметил просто:
— И это верно. Понятливый. — Лицо его вдруг отяжелело, веки налились, нависли грузно над глазами. — Я бы удушил тебя, если б можно было… Хотя, — и лицо его немного прояснилось, — ты и так не жилец.
— Это почему? — насторожился Питон.
— Да потому что через день-другой я найду Стилета и кой-кому стукну, что это ты его заложил, и мочканут тебя в зоне как пить дать.
— У-у-у-у-у! — Питон только и сумел, что завыть на такие некрасивые слова.
— Отдай Стилета. И договоримся по-хорошему. Пока следователь не приехал. А он приедет, у нас все как полагается, чистосердечное признание, то-се…
— Ну ты гад! — задыхаясь от негодования, проговорил Питон. — Ну ты гад!
— Ну и ты не лучше, — отозвался Колотов. — Давай про Стилета. А обо мне не надо. Я фигура невеликая.
— Хрен тебе, а не Стилет! — выкрикнул Питон, захлебываясь слюной. — Тебе его искать и искать!
— Найду, — Колотов коротко и сильно потянулся, почему-то захотелось спать. — Найду и стукну…
Питон низко опустил голову, замычал, как корова перед дойкой, провел ладонями по коленям, будто втирая в них какое-то чудотворное снадобье, и неожиданно выхватил из-под себя табурет, легко, словно это и не табурет был, а корзинка какая-то плетеная, поднял его над головой и хотел обрушить на Колотова, но тот опередил Питона, по-боксерски ушел влево, одновременно правой рукой ударив «модника» в живот. Питон охнул, привалился к стенке, табурет с грохотом вывалился у него из руки. А Колотов тем временем схватил его за ворот рубахи, прижал к стене и зашипел, горячо и влажно дыша Питону в лицо:
— По самый гроб я о тебе заботиться буду! Крестничек ты теперь мой! Ни сна у тебя не будет, ни покоя, ни радости, ни удовольствия! Запомни! Запомни!
— Колотов! Прекрати! — раздался сзади жесткий голос. — Отцепись от задержанного!
Колотов с трудом разжал побелевшие пальцы, оторвался от Питона, обернулся. В дверях стоял начальник уголовного розыска города Доставнин, маленький, с острым лисьим лицом, с непропорционально широкими ладонями длинных, тонких рук.
— Что тут у вас? — Он стремительно прошел, сел на стул. Лицо у него было недовольное, верхняя губа чуть приподнята.
— Рукоприкладство?
Колотов посмотрел на открытую дверь. В коридоре маячил румяный оперативник из отделения.
— Никак нет, — четко отрапортовал Колотов. — Попытка нападения со стороны задержанного. Я принял меры самообороны.
— Хорошо, — сказал начальник и тоже покосился на дверь.
— Результаты?
— Двое по делу о квартирных разбоях у Мотовой и Скары-кина задержаны. Но мне нужен Стилет.
— Мне тоже, — сказал начальник. Он жестом поманил румяного оперативника. — Отведите его в изолятор.
Питона увели.
— Я помешал? — спросил начальник.
— Да нет, — Колотов махнул рукой и устало опустился на стул. — Он еще какое-то время фасонить будет. Дурак.
— Ну ты хорошо его к стенке, — Доставнин засмеялся. — Лицо у тебя было зверское.
— Так он вправду на меня с табуретом.
— Ну понятно, понятно, — недоверчиво согласился начальник. — Мне позвонил Скворцов, сказал, что ранен Зотов.
— Неопасно, — сказал Колотов. — Не рассчитали малость.
Затренькал телефон, пискляво и настойчиво. Раз, второй, третий.
— Возьми, что ли, — начальник кивнул на аппарат.
— Телефон, — тихо протянул Колотов и повторил: — Телефон…
Доставнин вопросительно посмотрел на него.
— Пошли, — Колотов встал. — Ща поглядим.
Телефон продолжал звонить.
Они торопливо прошагали в конец коридора и очутились в точно таком же кабинете. Гуляй сидел за столом у окна и, обхватив двумя руками дымящийся стакан, шумно хлебал чай. Куртка его была застегнута наглухо, кепочка надвинута по самые уши, но он дрожал, будто с заполярного морозца сюда ввалился. Скворцов примостился напротив. Он мрачно глядел на Гуляя и нетерпеливо барабанил пальцами по столу. Ох, как хотелось, наверное, Скворцову отомстить этому кривоногому пакостнику за свой так по-глупому разбитый нос. Но невероятным усилием воли Скворцов сдерживался. Он был дисциплинированным сотрудником и пока еще чтил социалистическую законность.
— Значит, так, — с усмешкой с порога начал Колотов. — Дружок твой поумней оказался и настоятельно просил тебя не откладывая позвонить Стилету, как и договаривались. Пусть он думает, что все в порядке и Питон уехал.
— А зачем? — глупо уставился на него Гуляй, стакан он не отпускал.
— Так надо, — сказал Колотов. — Для твоей же пользы. Или ты думаешь, дешево отделаешься за вооруженное нападение на сотрудника милиции?!
— Так все равно Питона встречать там будут, — взгляд его стал еще глупее.
Колотов расслабился. Он все угадал.
— Давай, давай, работай, — с довольной ухмылкой поторопил он Гуляя.
Гуляй снял кепочку, в раздумье взъерошил волосы возле лба и стал похож на двоечника, решающего у доски трудную задачку — сколько же будет два плюс три. Потом пожал плечами и нехотя потянулся сухими, плоскими пальцами к телефону. Колотов встал за его спиной и вперился взглядом в аппарат. «Три… Семь… Один… Четыре… Девять…» — повторял он про себя. Не успел диск завершить свое кручение, а Колотов, нависнув над Гуляем и прижав его животом к столу, уже надавил на рычажки.
— Понятно, — удовлетворенно проговорил он. — Как в аптеке. Будет тебе, Гуляй, большая награда от всего нашего дружного коллектива. — Он повернулся к Скворцову. — Триста семьдесят один сорок девять. Быстро установи адрес, и погнали, ребята!
— Как?… Это ж… — Гуляй удивленно смотрел то на Колотова, то на Доставнина.
Доставнин хищно улыбался. Глаза у Гуляя сделались по-рыбьи круглыми и дурными. Если бы он не всадил чуть ли не по самую рукоятку несколько минут назад нож в пах Зотову, у кого-нибудь из присутствующих в душе, может быть, и шевельнулось что-то похожее на жалость, глядя на него. А так…
— Трудно жить с пустой башкой-то, — засмеялся Колотов. — А, Гуляй?
Гуляй сморщился, будто вместо водки керосина хватанул, шмякнул кепку об пол, зачастил тихо, безнадежно:
— Порежут меня, суки поганые, порежут… Ой, сестреночка моя Машенька, что я наделал, пес беззубый…
— Совесть — великая вещь, — подняв палец, громко провозгласил Колотов. Он выглядел величественным и немного суровым. — Я верю, на волю он выйдет честным…
— Петровская, четырнадцать, — оторвался от телефона Скворцов.
— По коням! — Колотов будто шашкой рубанул рукой воздух.
Он был возбужден от предощущения предстоящего, по всей видимости, непростого задержания, и поэтому ему хотелось много говорить, много и громко смеяться, и он уже заготовил несколько, по его мнению, изящных словес, чтобы выдать их под лихое щелканье проверяемого пистолета, но вспомнил Зотова, положил пистолет обратно в кобуру и говорить ничего не стал.
— Вы двигайте на моей машине за Стилетом, — сказал Доставнин, открывая дверь кабинета. — Только пограмотней там, без сегодняшней ерундистики. Ясно? А я в управление, свяжусь с Симферополем, попрошу, чтобы местные поглядели, кто придет встречать Питона. Все. До встречи.
Он шагнул за порог и чуть не столкнулся с полным щекастым мужчиной в мундире работника прокуратуры. Тот, не глядя ни на кого, поздоровался. Доставнин был явно задет таким небрежным обращением и с деланно-ленивой усмешкой тихо заметил:
— Какая честь, сам следователь Трапезин.
— Я бы не приехал, сказал Трапезин и мрачно засопел простуженным носом, — но уж очень просили ваши быстрые сыщики. Приезжай, говорили, мы тут твоих волчар подловили, по горячим следам допросишь. Но не дождались, сами постарались. Костоломы.
— Ты о чем? — не понял Колотов.
— О нарушении соцзаконности, — веско проговорил Трапезин, — о старозаветных методах работы. Без кулака обойтись не можешь? А потом и нас, и вас в одну кучу валят. Все плохие. Все морды бьют.
— Ну-ну, — вступил в разговор Доставнин. — Ты поосторожней, милый. Я про тебя сейчас такого нагорожу…
— Кого сейчас сажали в изолятор?
— Питона… — медленно произнес Колотов. — Савельева Александра Васильевича… Мы его…
— Вот-вот, мы его, — перебил Трапезин. — Два пинка в живот, а потом головой о стену.
— Это он тебе наговорил? — спросил Доставнин с улыбкой.
— А ты веришь? Нехорошо. При мне беседа была. Тихая беседа была, вежливая. И чаем его, бедолагу, напоили, вон как этого.
— Он кивнул на съеженного на стуле Гуляя. — И папироску дали. Все по-человечески. Мы ж грамотные, мы ж законы изучали, дипломы за это изучение получали. Так? Нет? — Доставнин повернулся к своим сотрудникам. Те строго покивали головами. — Ну а что касается заявления, — с серьезной ласковостью продолжал Доставнин, — то у нас здесь в дежурке двое общественников без дела томятся. Так они в один момент подтвердят, что следователь городской прокуратуры Трапезин, встретив в коридоре отделения задержанного Савельева, завел его в камеру, треснул последнего по голове от озлобления на его несговорчивость. Простите, я не сложно излагаю? — Доставнин чуть подался вперед, преданно заглядывая Трапезину в глаза.
«Во шпарит, — подумал Колотов. — Школа…»
Трапезин несколько раз, будто в нервном тике, дернул верхней губой, обвел тяжелым взглядом радушно улыбающихся оперативников, повернулся резко, насколько позволяла комплекция, и вышел из кабинета. Доставили вздохнул и сказал негромко:
— Вот теперь по коням.
В квартире на Петровской проживала пожилая фасовщица из центрального гастронома. Она подтвердила, что Василий Никанорович квартировал у нее неделю, но с час назад как собрал вещички и съехал, сказал, позвонит, она верит, что позвонит. Им было так хорошо. Вечерами — чай, тихие беседы, телевизор. Тепло и уютно. Дом. Впервые за десять лет дом. Надоело суетиться, просчитывать, озираться, подозревать. Хочется просто жить. Фасовщица плакала и курила длинные иностранные сигареты. Колотов оставил на квартире засаду и поехал в управление.
На площади возле входа в управление стояла большая тупорылая машина с голубым фургоном и забрызганный осенней грязью автобус. От машины к дверям управления тянулись толстые черные провода. Задние дверцы фургона то и дело раскрывались, оттуда выходили и через какое-то время входили обратно неряшливо одетые люди с деловитыми лицами, из фургона они тащили в управление маленькие прожекторы на длинных ножках и мотки провода, обратно возвращались вялые, с сигаретами в зубах. Внутри фургона что-то гудело и сизо светилось, и пахло оттуда дешевым табаком и горелой изоляцией. Колотов постоял с минуту, наблюдая за происходящим, потом пожал плечами и, перешагнув провода, вошел в управление.
— Эй, Колотушка! — крикнул из дежурки белобровый капитан Мильняк. — В кино хочешь сыматься? Могу сосватать. Я теперь большой кинематографист.
— А… Кино, значит, — пробормотал Колотов. — Этого только не хватало. Работать надо.
На лестнице горячо спорили две симпатичные девушки, они говорили непонятные кинематографические слова, но друг друга явно понимали. Колотов мрачно попросил разрешения пройти. Девушки умолкли, расступились и через мгновение захихикали ему в спину. «Унылый красавец», — различил он тихий голосок.
— Балаган! — не сдержался Колотов и быстро зашагал по коридору. Теперь ему вслед хохотали уже откровенно.
Доставнин был в кабинете не один. На кресле развалился вальяжный малый в джинсах и тертой кожаной куртке. Он внимательно слушал Доставнина и ногтем большого пальца поглаживал черные аккуратные усы. Доставнин извинился перед гостем, повернул лицо к Колотову, спросил нетерпеливо:
— Ну?
Колотов кивнул на малого. Доставнин махнул рукой, мол, не мешает.
— Глухо, — сообщил Колотов. — Свалил, поганец. То ли позвонил ему кто кроме Гуляя, то ли сам на вокзале был. Надо криминалиста направить, пусть пальцы снимет. Затем фоторобот Стилета сделать. Немедленно.
— Хорошо, — быстро кивнул Доставнин. — Я распоряжусь. И вот еще что… — Он оборвал себя, улыбнулся гостю, показал рукой на Колотова. — Простите, я не познакомил вас. Это наш лучший сыщик. Колотов Сергей Викторович. Он только что с трудной операции, задерживал опасных преступников. Там ранили нашего товарища. Но, слава Богу, не опасно. А это, — гость встал, с воодушевлением протянул руку, обаятельно заулыбался, — кинорежиссер Капаров Андрей Владимирович.
— Очень рад, — поставленным баритоном заговорил режиссер. — Уважаю вашу профессию. Уважаю и благоговею, — черные влажные глаза режиссера весело ощупывали тяжелую фигуру оперативника. Колотов качнул головой, улыбнулся скупо, ему хотелось скорее пойти в свой кабинет, запереться там и вволю накуриться, а потом начать работать. — Вы видите жизнь наоборот, как сказал поэт, — продолжал режиссер. — Это страшно. Но далеко не каждому дано видеть изнанку и не черстветь, не костенеть, а достойно делать свое дело. Именно поэтому вы благородны и прекрасны… — Последние слова он произнес для обоих собеседников.
— Ну это вы уж, пожалуй, чересчур, — смущенно заулыбался Доставнин и неожиданно лихо закинул ногу на ногу, совсем как режиссер минуту назад. Колотов с глупым ввдом уставился на начальника. Доставнин кашлянул и ногу убрал.
— Андрей Владимирович снимает кино про будни уголовного розыска, — сказал Доставнин. — Чтобы все было как в жизни, он хочет воспользоваться на некоторое время нашим зданием.
— Кино — важнейшее из искусств, — сказал Колотов.
— Ладно, — Доставнин махнул пальцами, — иди работай. К концу дня напиши подробный рапорт о задержании, и особенно подробно о причинах ранения Зотова.
Колотов, довольный, развернулся и направился к двери.
— Погодите, — остановил его режиссер. Он подошел к оперативнику, несколько мгновений смотрел ему в глаза, потом произнес смачно: — Сволочь! — И резко от бедра ударил Колотова в живот.
Но тренированный Колотов оказался быстрее, он почти машинально выставил блок, отвел в сторону коснувшуюся уже его пиджака руку, жестко ухватил ее за кисть и крутанул вверх. Капаров вскрикнул тускло и обреченно и согнулся, будто решил истово кланяться Доставнину за хорошее его отношение. А Колотов уже по инерции взял руку режиссера на излом, ухватил его голову за волосы и со словами: «Что ж ты делаешь, гад!» — придавил растерзанного кинематографиста к мягкой спинке кресла, стоящего в углу кабинета… «Плохо, — подумал Капаров. — Что же мне так плохо-то?» Он вспомнил ее губы и ноги, ее сладкий, такой волнующий голос, вспомнил, как вчера держал ее за руку, уже чужую, холодную, и бил сам себя по щекам, каясь, а она мотала головой и вырывалась, вырывалась…
Колотов почувствовал, как Капаров обмяк, ватной и податливой стала рука, голова отяжелела, и Колотову показалось, что он держит полузадушенного куренка, которого надо обезглавить к воскресному обеду, а этого он сделать никогда бы не смог. Он убрал руки, и Капаров рухнул в кресло.
— Сума сошел, медведь?! — брызгая слюной заорал над ухом Доставнин. На багровом лбу его родничками бились синие жилки.
— Не надо ссориться, все нормально, — Капаров грузно поднимался. С силой массирую руку, он тряхнул красиво стриженной головой и улыбнулся. — Все просто отлично. У вас замечательная реакция и почти актерская пластика. Я это сразу заметил и решил проверить на деле. Я беру вас сниматься, — он хотел бодро, по-дружески ткнуть Колотова в плечо, но пошевелил бровями и передумал. — Проверка, — повторил он.
— Ну и методы, — заметил Доставнин.
— Вы большой профессионал, — сказал Колотов.
— У нас есть одна роль, — продолжал режиссер. — Прямо для вас. Я уже наметил актера, но вы будете достоверней. Я хочу правды, — он вскинул голову, — настоящей правды!
— Да, да, — Доставнин потрогал лоб, — сейчас это очень важно.
— Мне работать надо, — Колотову уже все надоело, и он понемногу пятился к двери.
— Я вас умоляю, — режиссер приложил руки к груди и, сделав плаксивые глаза, посмотрел на Доставнина. Начальник не устоял: кинематограф — великая сила. Он приказал Колотову:
— Поступаешь в распоряжение товарища режиссера. На какое-то время замкни свою группу на меня. Все.
— Да я не могу, — Колотов растерялся. — Мне нельзя. У меня мениск, я корью болел…
Просторный кабинет на первом этаже, где располагались розыскники ГАИ, на несколько дней отдали киношникам. Они там не стали почти ничего менять — все должно быть как в жизни, — только вместо маленького портрета Дзержинского повесили большой, а на противоположную стену портрет Ленина — тоже большой. Гаишники кабинет оставили стерильно чистым, как и полагается дисциплинированным работникам, а Капаров, наоборот, оглядев помещение, распорядился набросать на столы бумаги, папки, скрепки, вымытые пепельницы наполнить окурками, а шторы и вовсе велел снять — для большей сухости кадра.
— Достоверно? — спросил он Колотова, показывая ему кабинет.
— Вам видней, — дипломатично ответил Колотов.
— Я хотел, чтобы вам было видней, — настаивал режиссер.
— А мне все видно, — отозвался Колотов. — Здесь светло.
— Н-да, — неопределенно заметил Капаров. — Ну, хорошо, — он подозвал ассистента, вертлявого парня в мешковатой куртке, взял у него розовую папку. — Вот сценарий, вот ваш герой, ваш текст, — он раскрыл папку. — Ваша роль эпизодическая, с основным действием почти не связана. Просто в одной из сцен герой картины входит в кабинет и застает там своего коллегу, то есть вас, за допросом жулика, угнавшего автомобиль. Жулик не хочет сознаваться и называть сообщников, а вы его раскалываете. Понятно? Читайте. Я скоро приду.
Возбужденный, шумный, он вернулся через полчаса.
— Ну как? — спросил он, блеснув творческим зарядом в черных глазах.
— Это неправда, — Колотов отодвинул от себя сценарий.
— Что значит неправда? — опешил режиссер.
— Мы так не говорим, — сказал Колотов.
— А как вы говорите? — Творческий заряд в глазах Капарова растаял, появился нетворческий.
— По-другому.
— Точнее.
— Ну, по-другому, и все, — Колотов безнадежно заглядывал в открытую дверь. Там по коридору ходили счастливые коллеги.
— У нас консультанты из центрального аппарата. Они что, дилетанты? — В глазах режиссера появилось точно такое же выражение, как некоторое время назад, когда он задумывал ударить Колотова в живот.
— Нет, конечно, — устало ответил Колотов. — Но все равно это неправда.
— Что конкретно?
— Ну вот смотрите, — Колотов наклонился над папкой и зачитал: — «Вы будете говорить или нет? — Петров пристально и сурово посмотрел задержанному в глаза. — Лучше признавайтесь сразу. Это в ваших интересах. Суд примет во внимание ваше чистосердечное признание и смягчит наказание. В противном случае ваша участь незавидная. Наш суд строг с теми, кто не хочет осознать своей вины…»
— Ну и что здесь неверного? — Капаров с сочувствием учителя к нерадивому школьнику посмотрел на Колотова.
— Да нет… вроде все верно… — Колотов потрогал лоб, он почему-то был в испарине. — Но… неверно…
— Господи, — режиссер вздохнул, — а как бы сказали вы?
Колотов пожал плечами и посмотрел в окно. В «Волгу» быстро усаживались ребята из БХСС. Везет же людям — работают.
— Ну подумайте, вспомните, — режиссер присел на краешек стола перед Колотовым. — Как вы допрашиваете? Какие слова произносите? Каким тоном? Как это было в последний раз?
Колотов вспомнил, как он говорил с Питоном, а потом с Гуляем, вспомнил и усмехнулся — хорошо говорил, действенно.
— Вспомнили? — обрадовался Капаров, заметив тень усмешки на лице Колотова.
Колотов кивнул.
— Сейчас попробую, — сказал он и сосредоточился.
— Ну, — поторопил режиссер. — Ну представьте, что я преступник.
Колотов встал, посмотрел на Капарова недобро, открыл рот, обнажив влажные крепкие зубы, и замер так, потом выдохнул и сказал:
— Бриться надо каждый день, у вас щетина быстро растет.
— Да? — режиссер испугано вскинул руку к подбородку. — Действительно. Замотался, не успел…
Колотов сел и насупился.
— Ну? — опять занукал режиссер. — Что же вы?
Колотов молчал и смотрел в окно. Режиссер потрогал еще раз щеки и встал.
— Хорошо, — он сунул руки в карманы, повел плечами, будто озяб. — Это пока терпит. Съемку я назначил на послезавтра. Подумайте, как это можно сделать правдиво, запишите, и послезавтра встретимся. Идет?
…Он все-таки исполнил свою мечту, поднялся в кабинет, заперся и накурился вволю. Повеселев, с удовольствием поработал с документами — скопилось много переписки. Потом съездил проверить засаду на Петровской. Оперативники играли с фасовщицей в «дурака» и тоже курили длинные иностранные сигареты. Никто не приходил и не звонил — впрочем, это и ожидалось. И только после этого поехал домой.
Маша и пятилетний Алешка смотрели программу «Время». Алешка очень любил эту программу, и вместо вечерней сказки он насыщался на ночь последними новостями.
— Королева странно ходит, — сказал он, не отрываясь от телевизора. — Наверное, что-то у нее с ногами.
— Подагра, — сказал Колотов, снимая пиджак.
— Вернее, остеохондроз, — поправил Алешка.
— Тебе видней, — согласился Колотов.
— Котлеты будешь? — Маша поднялась и направилась на кухню.
— Все равно, — ответил Колотов и посмотрел ей вслед. Халат прилип к ее ногам. «Она тоже странно ходит, — только сейчас заметил Колотов. — Но до этого самого хондроза еще далеко — слишком молодая. А почему так ходит?»
— Устала? — спросил он, садясь за стол. Красная кухонная мебель утомляла глаза. Зачем он согласился ее покупать?
— Есть немного, — не глядя на Колотова, Маша расставляла тарелки. Косметику она смыла, и лицо казалось теперь очень бледным, особенно на фоне красной мебели. Все-таки зря они купили этот гарнитур. Маша села напротив. Стянутые назад волосы приподнимали тонкие выщипанные брови и придавали липу слегка удивленное выражение.
— Все боремся, — она подула в чашку с чаем и сделала осторожный глоток. — Шеф рассчитал наконец сегодня молекулярную цепочку волокна, а Похачев через полчаса уже докладывал директору института, что его гипотеза подтвердилась, хотя никакой гипотезы не было и в помине. Сочинил на ходу, но ему верят. И шеф опять на вторых ролях.
— Бывает, — сказал Колотов, жуя котлету.
— А что у тебя? — Маша скатала из хлебного мякиша шарик.
— Работаем, — ответил Колотов, добирая картошку.
— Много дел? — спросила Маша и придавила шарик, сделав из него маленькую лепешку.
— Хватает, — Колотов чувствовал, что не наелся, но котлет больше не хотел, они отдавали жиром. — Спасибо. Очень вкусно.
— Наши продули, — сообщил Алешка, когда Колотов вошел в комнату.
— Бывает, — Колотов встал у окна, сладко потянулся. «Скорей бы лечь. — Темнело. Беспорядочно зажигались точечки окон в соседних домах, заходящим солнцем слоисто высвечивались тучи. — Ночью будет дождь. Наверное. А может быть, не будет».
— Я пошел спать, — сказал Алешка.
— Молодец, — похвалил Колотов и подумал: «Хороший мальчик, дисциплинированный. Только в кого такой белобрысый?»
С высоты своего третьего этажа он увидел во дворе белые «жигули», а возле машины красивую соседку Ирину. Что-то приятное шевельнулось в груди. Едет красивая Ирина по своим красивым делам. Неплохо было бы сейчас сесть к ней в теплый автомобиль, вдохнуть тонкий дурман французских духов, рассказать ей по дороге что-нибудь глупое и веселое, а потом завернуть в уютный, полутемный ресторан…
— Алешку отведи завтра в сад, — Маша помыла посуду и вернулась в комнату. — Я уйду очень рано.
— С удовольствием, — отозвался Колотов и со вздохом подумал, что опять не выспится, опять по пути надо будет отвечать на неожиданные Алешкины вопросы, на которые и ответов-то нет, радушно улыбаться толстой угрюмой воспитательнице.
— Какой фильм сегодня? — Колотов отошел от окна и уселся в кресло.
— «Идущий следом».
— Что-то интересное, я слышал, давай посмотрим.
— Лучше концерт по первой, — Маша закинула ногу на ногу, матово блеснула гладкая, тяжелая коленка.
«Поправилась, что ли?» — подумал Колотов и уставился в телевизор.
Что-то томное и страдательное запел на экране курносый, чернявый певец. Он, как на ходулях, передвигался по сцене, делал волнообразные движения свободной от микрофона рукой и, наверное, думал, что он очень обаятельный.
— Девки по нему с ума сходят, когда видят, — констатировала Маша, удобней устраиваясь в кресле.
— Я тоже, — сказал Колотов.
— Что тоже? — не поняла Маша.
— С ума схожу, когда вижу, — ответил Колотов.
— Очень остроумно, — Маша вынула из кармана халата сигареты.
— Не кури, пожалуйста, — попросил Колотов.
Маша кинула пачку на журнальный столик, она скользнула по полированной поверхности и упала на пол. Поднимать ее никто не стал.
— Алешке пальто надо на зиму, — сказала Маша.
— Купим, — Колотов облокотился на столик и подпер голову кулаком.
— Попроси своих бэхээсников, может быть, дубленочку достанут, — добавила Маша.
— Сделаем, — Колотов нажал пальцем на правый глаз, и изображение на экране раздвоилось. Теперь певец пел дуэтом сам с собой. Но вот наконец певцы завершили страдания и, горделиво приосанившись, ушли за кулисы. Колотов отпустил защипавший глаз. На сцену вышли жизнерадостные ведущие. Две симпатичные дикторши и один диктор с лицом исполкомовского работника областного масштаба. Улыбка ему не шла, и трудно было поверить, что он на самом деле такой веселый. Одна из дикторш очень нравилась Колотову. Она появилась недавно и заметно отличалась от других. У нее были нежные, пухлые губы и длинные завлекательные глаза, Колотов видел такие лица в зарубежных, не совсем приличных журналах. Дикторши что-то прощебетали, а потом камеры показали зал. В зале стояли столики, на столиках настольные лампочки, бокалы на длинных ножках и бутылки боржоми. А за столами сидели мужчины и женщины в приличных костюмах и платьях. Зал выглядел уютным и праздничным. И Колотов представил, что вот он тоже сидит в дорогом костюме за одним из столов поближе к сцене, чуть усмешливо улыбается, перебрасывается незначащими словечками с соседями, потягивает боржоми, а может, чего и покрепче для поддержания тонуса и многозначительно переглядывается с красивой дикторшей. Встретив его взгляд, она невольно улыбается и опускает глаза. А потом, объявив номер, подходит к его столику, садится. «Привет», — говорит она. «Привет», — отвечает он и наливает чего-нибудь ей в бокал. Розовое платье у нее тонкое, облегающее, и ему приятно смотреть, как оно натягивается на бедре женщины, когда она аккуратно закидывает ногу на ногу. «Сегодня у авангардиста Матюшкина соберутся интересные люди, — говорит она. — Пойдем». «Конечно», — отвечает он. «Тогда в одиннадцать у выхода со студии», — говорит она, кивает ему, чуть прикрыв глаза, поднимается и идет на сцену. С соседних столов внимательно разглядывают Колотова. Но он не обращает ни на кого внимания. Пустое… А потом у Матюшкина — разговоры, споры, смех, влажная духота, ощущение приподнятости. Он не стесняется, не робеет, он вполне нормально может держаться в любом обществе. Правда, острит немного тяжеловесно. Но это нравится… А потом поиски такси под шутки провожающих, ее тихая, теплая квартирка… И вообще, а если бы она была его женой? Он работает, она понимает. Она работает, он понимает. Вот наконец они вместе. Как хорошо им! И вокруг друзья, много друзей и добрых, и злых, и равнодушных. Но больше добрых, занятых своей творческой, нелегкой работой. Он занят своей работой, они своей, им есть о чем поговорить…
— Пойду мясо потушу на завтра, — проговорила Маша и тяжело поднялась.
Колотов вздрогнул и с удивлением посмотрел на жену.
— Да, да, — сказал он. — Конечно.
А на сцену уже вышла певица в балахонистом коротком платье и стала петь о том, как ей было хорошо, когда она была школьницей и что она вообще так до сих пор и осталась школьницей, и что до самой смерти именно в этом состоянии она и будет пребывать. «Похоже на то», — отметил Колотов, разглядывая недоразвитое лицо певицы.
На кухне что-то грохнуло, зазвенело металлически. Покатилась грузно по линолеуму то ли сковорода, то ли кастрюля.
— Что случилось? — громко спросил Колотов. Ответа не было. — Маша, — позвал он. Тишина. — Раз, два, три, четыре, пять, — сказал Колотов, — я иду искать.
Он оторвался от кресла, пошлепал в великоватых, еще отцовских тапочках на кухню. На полу валялась опрокинутая кастрюля, бурыми комочками темнели рассыпавшиеся на линолеуме котлеты. Маша сидела у окна, отрешенно глядела на кастрюлю.
— Ну что такое? — Колотов нагнулся, поднял кастрюлю, поставил ее на стол, потом, не зная, что делать с котлетами, сел на корточки и стал их задумчиво разглядывать.
— Понимаешь, котлеты упали, — наконец едва слышно пробормотала Маша. — Я их в холодильник, а они вырвались, и упали, и разбежались кто куда, как живые. Понимаешь, я хотела их в холодильник, а они разбежались, — лицо у Маши сморщилось по-детски, и она заплакала, тихо, безнадежно, стараясь подавить плач пальцами, сжимающими горло.
— И что страшного? — мягко произнес Колотов, поднявшись. — И бог с ними, с котлетами. Мы сейчас с тобой мясо тушеное сделаем. Я помогу, хочешь? — он шагнул к Маше, протянул руку к ее голове, пошевелил пальцами в воздухе, колеблясь, и наконец погладил по волосам. Маша отпустила горло и уткнулась лицом в его ладони. Голова ее мелко подрагивала под колотовскими пальцами. Он непроизвольно убрал руку и подумал: «Женский цикл начался. Точно. Хотя раньше такой реакции не было».
Теперь Маша плакала громко, казалось, она поперхнулась и сейчас откашливается.
Колотов не знал, что делать. Он огляделся, взял с полки стакан, налил воды из-под крана, постоял так со стаканом какое-то время, раздумывая, как дать Маше попить (лицо закрыто руками): отрывать руки или не надо. Решив не отрывать, поставил стакан на стол, пощелкал пальцами в поисках выхода и опять присел на корточки, только теперь уже не перед котлетами, а перед женой.
— Машенька, милая моя, хорошая, — он стал гладить ее колени. — Не надо, прошу тебя. Все хорошо, все отлично. У нас дом, ребенок, замечательный ребенок, замечательный дом, и мы с тобой оба замечательные. И плевать на эти дурацкие котлеты, с кем не бывает. Ну подумаешь, упали. Разве это горе?
Он полуобнял ее за плечи, поцеловал пальцы, скрывающие лицо, потом поцеловал волосы, прильнул губами к горячему порозовевшему уху, зашептал:
— Ты моя хорошая, хорошая…
Маша раздвинула пальцы, с надеждой взглянула на него из-под потемневших взбухших век, спросила невнятно, потому что все еще сжимала ладонями щеки:
— Ты меня любишь?
— Я?.. — Колотов всеми силами старался смотреть ей прямо в глаза. — Конечно. Конечно, люблю. Очень люблю. А как же иначе?..
— Это правда? — Маша, зажмурившись, потянулась к нему лицом.
— Правда-правда, — поспешно сказал Колотов. Он быстро чмокнул ее в губы, раздвинул локти жены и прижал лицо к ее груди.
Халат горько и душно пах подгоревшим жиром, захотелось вскочить и бежать прочь из кухни, но Колотов прижимался все сильней и сильней и шептал яростно:
— Правда, правда, правда!..
Утром Колотов справился о дактилоскопическом запросе на Стилета (ответ запаздывал) и потом поехал со Скворцовым допрашивать Гуляя. За время, проведенное в камере, Гуляй посерел, потух — как-никак в первый раз «залетел», — потерял интерес к окружающему, на вопросы отвечал вяло, невнятно, но подробно, по всей видимости, на какое-то время потерял самоконтроль, обезволился. Так бывает. Оперативники это знают. Знали, естественно, и Колотов со Скворцовым, поэтому и пришли пораньше в изолятор. Гуляй рассказал, где и когда он познакомился с Питоном, рассказал о его связях, местах «лежки», назвал адреса, которые знал, поведал о замечательных «делах» Питона, на которых был вместе с ним на подхвате, «на шухере». Сообщил кое-что интересное о Стилете. Лет сорока пяти, появился в городе недавно, но деловые кличку его знают, слыхали о кое-каких его шалостях. То ли разбой, то ли бандитизм, неизвестно, но «крутой» дядька, в авторитете. Дает «наколки» и имеет чистые каналы сбыта. А это очень важно. На дела сам не ходит. Веселый, разгульный, в меру грузноватый, нравится женщинам. Колотов выяснял каждый шаг Стилета, по нескольку раз заставлял Гуляя рассказывать одно и то же, и вот наконец… Гуляй вспомнил, что два раза ждал Стилета в такси, сначала в Мочаловском переулке, затем на улице Октябрьской, когда тот встречался с каким-то «мазилкой», как говорил Стилет, и во второй раз случайно Гуляй его увидел — красивый, лет сорока, но уже седой…
«Мочаловский и Октябрьская совсем рядом. «Мазилка», вероятно, художник, — размышлял Колотов. — Уже кое-что. Он или там живет, или работает, или мастерская у него там». Возвратившись к себе, Колотов тут же озадачил местное отделение. Срок два часа. Позвонили раньше, через час сорок три участковый Кулябов доложил, что на его территории имеется мастерская художника Маратова. Он седой, красивый, одевается броско, ездит на «Волге». Есть заявления соседей, что в мастерской устраиваются пьянки, играет музыка, приходят девицы и лица кавказской национальности. Участковый Кулябов докладывал об этом начальнику отделения отдельным рапортом. И, кстати, дополнил участковый, Маратов сегодня с утра был в мастерской. Работал.
— Теперь так, — сказал Колотов Скворцову. — Бегом в картотеку. Составь списочек краденных в последнее время икон. Все не перечисляй, штук тридцать хватит. На машинке отстукай, на отдельных листочках, с подробным описанием.
Через час на отдельском «жигуленке» они уже катили в сторону Мочаловского переулка и Октябрьской улицы. Лаптев небрежно крутил баранку, не вынимая сигареты изо рта, дымил в окно и щурил узкий азиатский глаз.
Колотов повернулся к Скворцову, спросил:
— У Зотова были?
— Были, — ответил Скворцов и, хмыкнув, посмотрел на затылок Лаптева.
— Как он там?
— Рана не опасная, но крови потерял много. Ослаб Валька. Бледный. Мы пришли, чуть не заплакал…
— Ав его палате еще двенадцать человек, — подал голос шофер. — И все друг на друге лежат, и все балабонят, дышат, стонут, одним словом, создают неприемлемую обстановку.
— Почему не в госпиталь положили? — разозлился Колотов.
— Мест нет, — сообщил Скворцов. — Но ты не переживай, начальник. Теперь все путем.
— То есть?
— Ну, пошли мы поначалу к завотделением. Он как раз дежурил вчера вечером. Говорим, мол, товарищ наш нуждается в особом уходе, в отдельной палате, ну и так далее. А он говорит, мол, все нуждаются, мол, не он один, мол, все одинаковые люди. Ну, мы спорить не стали и пошли по палатам. И в отдельной палате нашли одного хмыря, кавказца, с холециститом, понимаешь ли, лежит. Роскошествует и в городе нашем не прописан.
— Так надо было к главврачу! — Закипел Колотов. — Надо было кулаком по столу!..
— Поздно, шеф, девять вечера, зачем шуметь. Мы просто к этому кавказцу зашли, поговорили. Ну и он сам запросился в общую палату. Заскучал, говорит, хочу с народом пообщаться, да так разнервничался, чуть не в слезы. Завотделением его успокаивать стал, слова разные добрые произносит, отговаривать начал. Мол, зачем вам общая палата, неспокойно, мол, у меня на сердце, когда вы, дорогой товарищ, в общей палате. А тот разбушевался, хочу, говорит, принести пользу советской милиции, уж очень, говорит, я ее уважаю.
— Поговорили, значит? — Колотов покачал головой.
— Ага, поговорили, — Лаптев повернул к нему невинное круглое лицо.
Всю оставшуюся дорогу Колотов сумрачно молчал.
…Мастерская находилась в старом тихом четырехэтажном доме, на чердаке. Они быстро поднялись по крутым высоким маршам, остановились перед обшарпанной дверью. Колотов позвонил и отступил по привычке в сторону, прислонившись к холодным железным перилам.
— А если Стилет там? — прошептал Скворцов и сунул руку за пазуху.
— Кто? — Голос прозвучал внезапно, ни шагов не было слышно, ни движения какого, и оперативники замерли от неожиданности. Колотов взглянул на сотрудников, обтер пальцами уголки губ, кивнул им и заговорил громко:
— До каких пор вообще ты безобразничать будешь, понимаешь ли?! Спокойно жить, понимаешь ли, нельзя! То музыка грохочет, то воду льешь, все потолки залил, поганец, понимаешь ли! Житья нет, покою нет, управы нет! Я вот сейчас в милицию, я вот в ЖЭК!
— Тише, тише, не шуми, — забасили за дверью, — ща все уладим. — Защелкали замки. — Ты что-то перепутал, сосед. У меня ничего не льется.
Дверь открылась, и в проеме возник темный силуэт. Колотов метнулся к нему, стал вплотную, чтоб лишить седого красавца маневренности, выдохнул ему в лицо чеканным шепотом: «Милиция», — и только потом поднес к его глазам раскрытое удостоверение. Маратов сказал: «Ой», — и отступил на шаг. Колотов шагнул вслед, за его спиной в квартиру втиснулись оперативник и шофер и, стараясь ступать неслышно, поспешили в комнату. Колотов упер палец в живот художника и порекомендовал, обаятельно улыбаясь: «Не дыши!» Сначала, когда Колотов сказал про милицию, у Маратова застыло лицо, когда Колотов показал удостоверение, у художника застыли глаза, а теперь застыло дыхание, а вместе с ним и все его большое тело, и стал художник похож на скульптурный автопортрет, очень талантливый и правдивый.
— Чисто, — доложил из комнаты Скворцов.
— Вернее, пусто, — поправил Лаптев. — Что касается чистоты, то сие проблематично.
— Слова-то какие знаешь, — позавидовал Скворцов.
— На счет три можете выдохнуть, — сказал Колотов, — и почувствуете себя обновленным.
Колотов сделал несколько беспорядочных пассов руками, затем замер, направил на Маратова полусогнутые пальцы и, насупив брови, произнес загробным голосом:
— Раз, два, три!
На счет «три» благородное, слегка потрепанное лицо живописца налилось злобой, глаза подернулись мутной пеленой, как перед буйным припадком, и он выцедил, прерывисто дыша:
— Сумасшедший дом!.. Произвол!.. И на вас есть управа!
— Новый человек! — восхитился Колотов.
— Вы ответите! Это просто так не пройдет, — продолжал яриться седой художник. — Меня знают в городе!..
— Вы достойный человек, никто не оспаривает, — заметил Колотов. — Но наши действия вынужденны, — Колотов широко и добро улыбнулся. — Сейчас я все объясню.
Он захлопнул входную дверь, с удивлением обратив внимание, что изнутри она богато обита высшего качества белым, приятно пахнущим дерматином. Да и прихожая в мастерской, как в квартире у сановного человека, отделана темным лакированным деревом. На стенах причудливые светильники, пестрые эстампы, два мягких кресла, стеклянный прозрачный столик, плоский заграничный телевизор с чуть ли не метровым экраном. «Замечательная жизнь у отечественных живописцев. А все жалуются…»
Колотов прошел в небольшую квадратную комнату. Маратов, нервно одернув длинный, заляпанный краской свитер, деревянно шагнул за ним. «И здесь неплохо. Цветные, узорчатые обои, стереоустановка, опять же картины и эстампы. Только вот прав был Лаптев, не совсем чисто». Две полукруглые кушетки со спинками опоясывали маленький столик с остатками вчерашнего, видимо, бурного ужина — грязные тарелки, пустые бутылки, окурки повсюду, на полу и даже на кушетках.
«…Сегодня у авангардиста Матюшкина соберутся интересные люди, — вспомнил Колотов. — Споры, разговоры, смех, вкусные напитки, влажная духота и завлекательная дикторша по левую руку, рядом, вплотную, можно ласково коснуться невзначай…»
Колотов провел по липу ладонью, повернулся к Маратову:
— Интересная у вас жизнь, Андрей Семенович, выставки, вернисажи, премьеры, банкеты, много знакомств, много замечательных людей вокруг…
— Неплохая жизнь, — угрюмый художник стоял у окна, крепко скрестив руки на груди. — Да не вам судить.
— Но много и случайных знакомств, — Колотов не реагировал на такие невежливые слова. —Кто-то подошел в ресторане, кого-то привели в мастерскую друзья. Так?
Художник молчал, неприязненно глядя на Колотова.
— И разные бывают эти знакомые, и плохие и не очень, честные и нечестные, — с простодушной улыбкой продолжал Колотов. — Всем в душу-то не влезешь.
— Что вы хотите? — нетерпеливо спросил Маратов.
— Помогите нам. Вспомните одного занятного человечка. Лет сорока пяти — пятидесяти, высокий, дородный, радушный, хорошо одевается, ходит вальяжно, глаза серые, нос прямой, чуть прижатый внизу, зовут Василий Никанорович, иногда кличут… Стилет.
Маратов сунул ладони под мышки и покрутил головой.
— Не знаете? — уточнил Колотов.
Художник опять покрутил головой, разжал руки и стал тщательно слюнявым пальцем стирать пятно охры, въевшейся в свитер, видать, не один год назад.
— У меня есть человек, — сказал Колотов, разглядывая карандашные городские пейзажики на стенах, — который подтвердит, что видел вас вдвоем. Два раза!
— Да мало ли их, с кем я встречаюсь! — опять взъярился Маратов. Седые волосы встопорщились на висках. — Пети, Саши, Мани…
— Я про это и говорю, — Колотов сделал светлое лицо и заговорил с художником как с дитем. — Вспомните, вспомните… — Он указал на дверь, расположенную напротив входной. — Что там?
— Рабочее, так сказать, помещение, — словно декламируя стихи на торжественном вечере в День милиции, проговорил Скворцов. — Убежище, так сказать, творца. Короче говоря, мастерская. Скульптуры, картины, мольберты и кисти…
Колотов посмотрел на дверь, на Скворцова, потом опять на дверь. Скворцов хмыкнул, жестом позвал с собой Лаптева.
— Пойдем понаслаждаемся, — сказал он.
— Доброе помещение, — заметил Колотов, повернувшись к художнику. — Вторая квартира. Не многовато, а? На одного?
— Не понял?! — вскинул голову Маратов. — Я по закону. От исполкома. Мне положено. За свои деньги!
— Притон, — коротко квалифицировал Колотов и кивнул на заплеванный стол.
— Дружеская встреча по поводу…
— Антиобщественный образ жизни. Система.
— Да уверяю вас, это не так.
— Заявления соседей…
— Завистники…
— Связь с уголовно-преступным элементом, совращение малолетних, наркотики…
— Да нет же, нет!..
Глухо грохотнуло в мастерской, мелко задрожал пол под ногами. Маратов посмотрел затравленно на безмятежного Колотова и кинулся в мастерскую. Не добежал. В дверях перед ним вырос Скворцов. Он сокрушенно качал головой. Лицо у него было расстроенное и виноватое, в глазах искренняя мольба о прощении.
— Случайно, — тихо проговорил он. — Не нарочно. Я такой крупный, плечистый, а у вас так там всего много. Тесно. Задел ба-алыпой бюст, — он, вздохнув, показал руками, какой был большой бюст, — какого-то толстого, ушастого дядьки…
— О боже! — прозудел Маратов и защемил себе висок. — Это же директор универ… — Он махнул рукой.
— А там еще остался Лаптев, — пожаловался Скворцов и указал пальцем себе за спину. — А он тоже немаленький.
Маратов тряхнул головой, как лошадь после долгой и быстрой дороги, повернулся к Колотову.
— Знаю я этого Василия Никаноровича, — негромко сознался он и, помедлив, раздраженно повысил голос: — Знаю! Знаю!
— Вот так бы сразу, — заулыбался Колотов.
— Иезуиты! — не сдержался художник.
— Оскорбление при исполнении? — справился Скворцов у Колотова.
— Кто-то привел его ко мне, не помню кто. — Художник мыском ботинка загнал под стол валявшуюся на полу пробку. — Мы сидели, выпивали. Народу было много. Шум, гомон. Музыка. Я был пьян. Познакомились. Он мне понравился. Широкий дядька. Я ему тоже вроде. На следующий день он пришел. Работы мои посмотрел. Купил кое-что. Дорого дал. Я отказывался, а он — нет, мол, бери, ты, мол, настоящий художник, ну и так далее. Потом раза два встречались. Он мне заказы делал. Пейзажики разные… Я писал.
— Все? — спросил Колотов.
— Все. — Маратов приложил руки к груди.
— Как вы связывались?
— Он звонил.
— Как его найти, не знаете?
— Нет, нет, нет.
Из мастерской вышел Лаптев. Он был весел. Маленькие глазки его возбужденно блестели, как перед долгожданной встречей с любимой. Он хитро подмигнул, показал себе за спину, закатил глаза и покачал головой из стороны в сторону.
— Там такое… — наконец подал он голос.
— Ну, — поторопил его Колотов.
— Три стопочки икон за мольбертами, среди хлама. Красивые. У бабки моей, русской крестьянки, — зачастил шофер, — были менее сверкающие и симпатичные. Они были скромные и это… непритязательные. А она ведь была трудовая женщина, не бедная…
— Как вы смеете? — Лицо Маратова обострилось, появился неровный румянец на скулах. — Вы не имеете права обыскивать. Покажите ордер!..
— Это случайность, — успокаивающе проговорил Колотов. — Товарищ Лаптев любовался картинами и вдруг увидел необычные предметы и в порядке дружеского общения сообщил нам. Так? — повернулся он к Лаптеву.
— Конечно, — Лаптев развел руками и с осуждением посмотрел на художника: мол, как ты можешь меня, такого симпатягу, подозревать в чем-то непотребном. Художник с силой сжал руками полы длинного свитера, потянул его вниз, повел подбородком, зло ощерился.
— Я буду жаловаться! — сквозь зубы веско проговорил он.
— Ладно, хватит! — отрезал Колотов. — Закончили наши игры. Давайте все как есть, живописец. Начал говорить, говори до конца. — Колотов извлек из кармана листок. — Вот опись похищенных икон. Если хоть одна из них найдется среди твоих…
…Маратов перестал тянуть свитер. Посмотрел в окно. Пасмурно. Но видно, что еще тепло. Осень, конец сентября. Нижние окна соседних домов отливают желтым — это деревья смотрятся в них, смотрятся и грустят о прошедшем веселом лете. Он вспомнил другую осень, подготовку к первой выставке, суматошную суету, радостное возбуждение, предощущение чего-то значительного, великого, светлое пятно Наташиного лица, укрытого мраком ночи, холодный фужер с шампанским, прижатый ко лбу, и как он шептал в маленькое, нежное ее ушко: «Это мой шанс, я чувствую, мы уедем к черту из этого городишки, мы будем жить в Москве, она падет ниц передо мной, как не пала перед Наполеоном…»
— Картины не приносят большого дохода, — негромко проговорил он. — Здесь нет истинных ценителей. А за реставрацию икон он платил очень прилично. Самое главное, что я не спрашивал, откуда они. Я и вправду не знал, откуда они. Вы верите? — он заглянул в глаза Колотову. — Верите?
Колотов молчал, безучастно разглядывая Маратова.
— Он звонил сегодня утром, — продолжал погрустневший художник. — Сказал, какие-то неприятности у него, сказал, что позвонит завтра после двух и заедет за товаром, в смысле за готовыми досками…
— Наши сотрудники останутся у вас, — сказал Колотов. — Придется не выходить никуда, покуда он не придет. Потерпите. Ну а потом подумаем, что с вами делать.
Весь оставшийся день, весь вечер и даже часть ночи — никак не мог заснуть почти до трех — он старался не забыть, как он разговаривал с художником, пытался поточнее вспомнить выражения, которые употреблял в допросах Питона и Гуляя, восстанавливал эмоциональное состояние, в котором пребывал в те моменты — нельзя же осрамить великий милицейский клан перед этими фасонистыми киномолодцами, — и утром уже четко знал, что и как будет говорить на допросе с киношным жуликом.
В управление он вошел веселым, бодрым, подтянутым, несмотря на то, что спал-то мало — хотя в его возрасте это пока не столь важно.
Возле кабинета, предоставленного съемочной группе, остановился, пригладил волосы, одернул пиджак, слегка рукава подтянул, перед дракой словно, и только тогда потянулся к двери. Но не открыл ее, не вошел, пальцами только рассеянно помял скользкую металлическую ручку, пальцы горячие, влажные, а потом и вовсе руку отнял, оглядел ладонь с подозрением, обтер ее о пиджак, старательно, от плеча до пояса, будто и не учили его в советской школе светским манерам и хорошему тону. Почему не вошел? Сдвинул брови, размышляя, механически вынул сигарету, закурил. «Ну и войду, — подумал, — а дальше?…»
…А дальше так.
Капаров тоже был сегодня бодрый и подтяігутьій.
Он обрадовался, увидев Колотова, заспешил навстречу, белозубо улыбаясь.
— Ждем, ждем, — заговорил он, учтиво беря Колотова под локоть. — Осматривайтесь, осваивайтесь, обживайтесь, — Он рукой обвел кабинет.
По углам, как солдаты на утренней поверке, вытянувшись изо всех сил, на тонких ножках стояли еще сонные, слепые прожекторы с «ушками» по бокам, на полу беспорядочно громоздились деревянные и железные ящики, удавами извивались толстые провода, тенями по кабинету сновали люди с деловыми лицами. Какой-то молодой парень в наушниках прилаживал к штативу длинный, похожий на батон сырокопченой колбасы микрофон. А посреди кабинета на треноге замер среди всего этого странного действа, предмет, ради которого расставлялись маленькие прожекторы, ящики, протягивались провода, прилаживался колбасовидный микрофон — камера. Короткий, с раструбом, как у старинных ружей, ствол ее был направлен на стул, где должен был сидеть и произносить правдивые слова Колотов.
— Хотя, впрочем, чего вам обживаться, — добавил режиссер. — Вы в этом кабинете небось каждый день бываете.
Колотов машинально кивнул, не сводя глаз с черного зрачка камеры.
Капаров поймал его взгляд, хмыкнул.
— Она еще не работает, — сказал он.
— Я вижу, — Колотов постарался произнести эти слова сухо и безразлично.
— Для начала прорепетируем. Хорошо? — Капаров все время улыбался и делал доброе лицо, будто разговаривал с малышом. — Репетиция — залог хороших съемок. Согласны?
Колотов поудобней расположился за столом.
— Расслабьтесь, — посоветовал режиссер. — Забудьте о камере, о лигах, о людях, обо мне… Постарайтесь забыть. Люди вашей профессии должны это уметь, уметь отключаться.
— Я отключился, — неуверенно произнес Колотов.
— Вот и прекрасно, — заключил Капаров. — Начнем. Представьте, что задержанный я. Вот я сажусь напротив, — режиссер сел. — Я расстроен, мрачен, весь замкнут на себя, — режиссер поджал губы, с нехорошим прищуром покосился на Колотова. — Импровизируйте, — осиплым в студеных застенках голосом проговорил он.
Колотов обтер уголки губ, невольно откинулся на спинку стула, постучал пальцами по столу, поднял глаза на режиссера, открыл рот, набрал воздуха, застыл так на мгновение и выдохнул, помотав головой.
— Ну что? — тихим, терпеливым голосом спросил режиссер.
— Сейчас, — Колотов переменил позу. Он оперся на стол руками и подался вперед, набрал воздуху… — Вы будете говорить или нет? — вдруг произнес он слабо и едва слышно текст сценария и по инерции продолжил: — Лучше признавайтесь сразу…
Режиссер сочувственно посмотрел на него и негромко засвистел незатейливый мотивчик из телефильмов про знатоков.
— Так, — сказал он, когда закончил насвистывать. — Что случилось?
Колотов молча пожал плечами и закрыл глаза. Он увидел Питона, его смуглое, брезгливое лицо, его большой, тонкий рот, кривящийся в усмешке…
— Сейчас, — сказал он. — Минуту.
— Может быть, создать обстановочку? — поинтересовался Капаров. — Вы тогда соберетесь. Знаете, как бывает в экстремальных ситуациях? — Он крикнул за спину: — Саша, Володя, Семен, давайте свет, звук, готовьте камеру.
Ударили белым диги. Под веками защипало. Колотов зажмурился.
— Сейчас привыкнете, — из темноты успокоил Капаров.
На какое-то время все словно забыли о Колотове. Режиссер громко и раздраженно отдавал указания, шумно засуетились люди из съемочной группы, оператор ругался с помощником из-за какой-то кривой бобины. Колотов тем временем курил и настойчиво сосредоточивался.
— Все! — крикнул наконец режиссер. — Работаем. — Он снова сел на стул, сделал бандитское лицо, сказал Колотову с хрипотцой, нажитой в жестоких карточных спорах: — Сегодня снимаем только вас. Я подыграю за актера. Давайте. Приготовились, — крикнул он, выпятив челюсть. — Хлопушка! Мотор! Начали!
Застрекотала камера, затихли в темноте киношники. Колотов опять обтер уголки губ. Губы были горячие, будто их только что подпаливали на костре. Колотов сначала откинулся на спинку, некоторое время пристально смотрел на Капарова. «Хорошо», — подбадривая, прохрипел режиссер. Потом Колотов стал угрожающе наклонятся вперед, пальцы его побелели, вдавливаясь в стол. Он открыл рот, вздохнул…
— Вы будете говорить или нет?! — рявкнул он громово. — Лучше признавайтесь сразу!..
— Стоп! — скучно приказал режиссер. — Довольно. Пленка у нас в стране дорогая…
Оператор снял кепочку, провел рукой по волосам. Потухли диги, медно мигнув напоследок.
Капаров помассировал шею, медленно поднялся, подошел к неподвижно сидящему Колотову, положил ему руку на плечо.
— Не расстраивайтесь. Ерунда, — сказал он. Мы найдем актера.
Ассистенты и рабочие, переговариваясь и прикуривая друг у друга, потянулись к двери.
Взгляд Колотова упал на руку. Пальцы крепко сжимали тлеющую сигарету… Он поднес руку к губам, но курить расхотелось, и он бросил сигарету в сторону урны. Не попал. Сигарета сиротливо лежала на вымытом полу и обиженно дымилась. Колотов сделал шаг, нагнулся, чтобы поднять ее и отправить к обугленным сестренкам.
Капаров отчетливо кому-то сказал: «Ты что, дурак?»
Колотов выпрямился, резко развернулся, выскочил из комнаты и побежал по коридору. Прыжками преодолел лестницу. На втором этаже замедлил шаг. Вымученно улыбаясь и сдержанно кивая сотрудникам, дошел до своего кабинета. Вставил ключ в скважину. Вошел. Закрылся. Оперся горячей спиной о сейф. Постоял так с полминуты. Холод успокоил. Колотов улыбнулся.
«Сегодня я возьму Стилета, — подумал он, — и все будет хорошо».
Он еще и издевается, — сказал Лаптев и указательным пальцем выщелкнул в окно окурок. — Вот гад кривоногий…
Мокрый окурок расползся на лобовом стекле «Волги»-такси, проезжающей мимо. Побагровевший таксист принялся сигналить, грозить кулаком и что-то выкрикивать яростное и страшное.
— Да иди ты! — махнул рукой Лаптев и чуть притормозил, чтобы «Волга» проехала.
— Я тебя выгоню, — тихо сообщил Колотов.
— А че такое, че такое? — встрепенулся Лаптев, опять нажимая на акселератор. — Гад, он и есть гад и издевается еще. По всему городу за ним мотались, и только за-ради того, чтоб он нас обратно в управление привел. Так могли бы сидеть у окошка да и ждать. Ну? Правильно? Ну?
— За рот твой слюнявый выгоню, — уточнил Колотов. — Постовым поставлю к урне на вокзале. Будешь гражданам указывать, куда окурки кидать. Заодно и сам поучишься.
С заднего сиденья хихикнули.
— На площадь-то не выезжай, — Колотов пальцем принялся разминать слегка затекшие ноги. — Тормозни на углу. Поглядим, зачем Гуляй сюда пожаловал.
— Он либо наглец, — подался с заднего сиденья Скворцов, — либо одурел, балбес, от самогона и прет неизвестно куда, дороги, понимаешь ли, не разбирая.
— Я думаю, он сдаваться идет, — серьезно заметил Зотов. — Пил, гулял, воровал. А вот утром сегодня проснулся, и так нехорошо ему стало, так муторно, ну просто невмоготу. Пошто же жизнь свою молодую поганю, подумал, пошто не живу как все, чисто, светло, на одну зарплату? Расплакался, надел штаны «вареные», итальянские, «Феруччи», и пошел сдаваться.
— Не, — отозвался Лаптев. — Он дразнится. Засек, что его ведут, понял, что все, кранты, не деться никуда, и фасонит теперь, изгаляется. Ща потопчется возле управления и в прокуратуру нас потащит, а потом в филармонию Шульберта слушать, и будет там какой-нибудь пиликалка два часа нам уши чистить. Мы уснем, а он скок и был таков…
— Ну как не стыдно, — Зотов помотал головой в знак своего искреннего душевного огорчения. — Только плохое в людях видим. Ну осталось же в нем что-то святое?
— Нет, датый он, точно датый, — не отступал Скворцов. — Ишь как озирается! Очухался и никак не сообразит, куда попал.
— Все тихо, — Колотов наклонился вперед. — А вот и Питон. Молодец Нинель. Скинемся, флакончик «Фиджи» ей купим.
Кривоногий Гуляй был большим модником. Кроме «вареных» джинсов еще и черная лайковая куртка и жокейская кепочка с длинным козырьком и с какой-то нерусской надписью на тулье.
И он, видимо, очень радовался, что он такой модный, хоть и кривоногий. И впрямь, как приметил Скворцов, он все озирался по сторонам, но, верно, не из-за того, что не понял, куда попал, а из-за того, чтобы поглядеть, какой эффект его «варенки» производят на девочек, девушек и дам. Но девочкам, девушкам и дамам было, судя по всему, как до лампочки, до модного Гуляя, и он был этим явно расстроен и что-то говорил обидное им вслед, особенно громко в спину самым худеньким и хрупким. Бог их знает, женщины разные бывают, иная, что покрепче, глядишь, развернется и саданет Гуляя по загривку, и покатится по асфальту его нерусская кепочка, и затопчут ее равнодушные и невоспитанные пешеходы своими добротными отечественными башмаками, а иная и крикнет громово и порекомендует ему, где и в каком месте свои словесные изыски выказывать, а какая, глядишь, и милиционера кликнет. Всякие девочки, девушки, дамы бывают… А милиция, она близко, в десяти шагах. На красной вывеске возле дверей таки написано: «Управление внутренних дел». Но нет, не особо боится Гуляй милицию. Вон вышел дородный капитан, с козырьком на лоснящемся лбу, а Гуляй к нему скок и эдак развязненько, как в кинофильмах про двадцатые годы: «Разрешите прикурить, товарищ красивый милиционер».
— Сволочь, — заявил по этому поводу Лаптев.
— Мается он, мается, не знает, к кому подойти, — констатировал Зотов.
— Беляк пришел, — догадался Скворцов. — Ща крокодильчиками кидаться начнет…
Но вот Гуляй насторожился, оборвал вертеж свой по сторонам, уставился, чуть пригнувшись, в одну точку на краю площади. Этот его взгляд и проследил Колотов. Питона он еще не видел ни разу, но узнал его тотчас. Когда кого-то очень ждешь, когда очень жаждешь с ним встречи, когда по ночам снится он тебе без лица, с черным провалом вместо него, тогда вмиг разглядишь долгожданного, даже в таком безмятежном столпотворении, что случилось сегодня на площади по поводу, видимо, прозрачно-воздушного, солнечно-синеватого сентябрьского дня. Питон был высок, крепок, черноволос, по-монгольски скуласт. Шагал он уверенно, сунув руки в карманы бананистых брюк, откинув назад полы свободного, почти бесформенного пиджака.
— Он вооружен, — сказал Колотов. — Видите?..
— Левый внутренний карман чуть провисает, — подтвердил Зотов.
— Шеф, позволь, сниму гада с одного выстрела, — Скворцов угрожающе потянулся к кобуре под мышкой.
— Я все понял, — Колотов засмеялся. — Во дураки-то мы. Подружка-то Гуляя не соврала. Все четко.
— Что? — У Зотова вдруг вспотели ладони, и он незаметно вытер их о куртку.
— Питон встречу назначил на площади у помойки, — Колотов обернулся и посмотрел на своих спутников.
— Ну, — поторопил его Скворцов.
— У помойки, — повторил Колотов.
Никто не реагировал.
— Вот тупые-то, — Колотов дернул головой. — У помойки, у мусорской конторы, значит. У нашей с вами, значит, конторы.
— У-у-у-У, тварь, — злобно протянул Скворцов. — Не вынесу этого, шеф! Дай стрельнуть, дай!
— Здесь задерживать нельзя, — Колотов потер подбородок. — Народу тьма.
Гуляй и Питон наконец встретились. Пожали руки друг другу, как порядочные. Огляделись, как им показалось, незаметно и бодренько направились прочь от «помойки».
Лаптев завел двигатель, и «жигуленок» выкатил на площадь.
Посреди площади расположился овощной базар. Пестрые ларьки с меднолицыми, горластыми деревенскими кооперато-рами за прилавками. А вокруг веселые, гомонящие покупатели, затаившие от восторга дыхание, взирающие на обилие овощей и фруктов. Дождались все-таки. Спасибо областным властям, соблаговолили наконец, потрафили покупателю, позволили витаминов вкусить по сходной цене, недешевой, но не рыночно-гангстерской! Слава богу! Колотов заприметил каких-то ребят с фотоаппаратами среди толпы, с магнитофонами «Репортер» наперевес. Сегодня вечером по радио трезвон будет, а то и по местному телевидению, ну а завтра подборочка в областной газете, это уж точно.
Пока объезжали базар по краю площади, на несколько мгновений потеряли из виду модную парочку, а когда наконец обогнули последний павильон, оказались от них метрах в десяти. Те преспокойненько поджидали автобус на остановке.
— Плохо, — сказал Колотов. — В такси было бы проще их брать. Что у них, бабок нет, что ли?!
— Экономят, — Зотов опять обтер ладони о куртку. — Денежка счет любит. Копеечка к копеечке…
На остановке возле парочки томился тот самый дородный милиционер, у которого Гуляй прикурить попросил. Он нервно притоптывал ногой. Невтерпеж ему было. Спешил, видать, куда-то.
— Лобенко сменился, — хмыкнул Скворцов. — Домой мчится. Его там диван ждет и щи тещины, жирные, густые. Она у него в столовке работает. Он на тещу два раза бэхээсников напускал. Стращал. Она его теперь и вовсе на убой кормит. Успокоился…
А Лобенко словно учуял, что о нем говорят, вперся взглядом в машину, а потом заулыбался, залоснился, руки распахнул, словно Гуляя с Питоном обнять захотел. Те шарахнулись в сторону, побледнев мигом, а Лобенко уже бежал к машине, топая по-слоновьи.
— Идиот! — процедил Колотов. — Чему учили?! Давай, Митя, жми, пока он нас не спалил. Машина рванулась, будто ей кто доброго пинка дал, ввинтилась в поток на улицу Коммунаров и через несколько метров вильнула в проулок.
— Эй, Колотов! — донеслось сзади зычное. — Погодь!
И растаяло умирающим эхом: «Погодь… погодь… погодь…»
— Все, — сдавил сильно виски Колотов. — Опять придет ночью, только теперь с лицом.
— Кто? — не понял Зотов.
— Кто? — не поняли остальные.
— Да это я так, — Колотов махнул рукой и повернулся к Скворцову. — Давай, Миша, ищи такси.
— А я? — обреченно спросил шофер.
— Отгонишь машину в управление, срисовали ее, Митя.
Повезло. Не прошло и минуты, как к Колотову подкатила салатовая «Волга» с горделиво восседающим в ней Скворцовым. Колотов опасливо заглянул в кабину — не тот ли водила там правит, которому Лаптев неприятность на стекле сотворил. Чем черт не шутит. Нет. Шофер был другой, добродушный, пожилой, с хитрованским глазом. Подбежал наконец Зотов. Выдохнул:
— Сели. На двенадцатый. По коням!
Шофер весело развернулся, врубил третью скорость, гикнул что-то удальское и ухарски ворвался на улицу Коммунаров.
— Куда теперича? — Он по-молодецки крутил баранку тремя пальцами. — В «Комету», «Якорь» или «Былинку лесную» на пятнадцатый километр?
Колотов оглянулся на «оперов». И впрямь «фарцмадуи» какие-то, а не сотрудники — курточки, джиисики, цепочки на шеях, патлы уши покрывают, только по кабакам и шастать. А его самого шофер небось за основного принял — костюмчик деловой, добротный, рубашечка с булавкой в воротнике (шею трет, где жена ее купила?). Самому тридцать пять, а на вид все сорок дашь. Короче, те двое — «шестерки» на подхвате, а он — «деловик». Не угадал хитрованский папаша. Колотов вынул удостоверение и сунул его под нос шоферу.
— За тем автобусом и держись. Только неплотно. Сечешь?
Расстроился шофер, обмяк сразу, загрустил. Деревню свою вспомнил, матушку, знатную во всей округе певунью, дом на косогоре, курочек суетливых. Неужто это было? Чуть не расплакался…
Гуляй с Питоном вышли из автобуса у вокзала. Глянули на часы, на расписание, что над главным входом двухэтажного длинного вокзального здания висело, и не спеша двинулись к перрону. Зотов и Скворцов направились вслед. А Колотов аккуратно вывел на путевке грустного шофера несколько слов, записал номер удостоверения и расписался.
— Куплю дом в Заречье, — сказал шофер. — Дельный такой пятистенок, корову заведу, наймусь механизатором в колхоз. И гори оно все синим пламенем.
Колотов вздохнул мечтательно:
— Лес. Луга заливные. Навозцем тянет. Раздолье. Хорошо. Пригласишь?
— А приезжай!
Колотов вышел, мягко закрыв за собой дверцу. Шофер развернулся и покатил к стоянке. Увидел страждущую толпу на тротуаре и стал прикидывать, как бы облапошить распорядителя с повязкой на рукаве и набрать денежных «лохов» для поездки в аэропорт. О пятистенке он уже забыл.
Колотов догнал сотрудников, распорядился, чтобы Зотов нашел любого вокзального милиционера и попросил того связаться с работниками из отдела охраны — нужна помощь, по инструкции троих маловато для задержания вооруженного преступника, — а сам со Скворцовым поспешил за «модниками».
Гуляй с Питоном тем временем резво взбежали на перрон и скорым шагом двинулись вдоль зеленого состава, который уже едва заметно подрагивал и глухо гудел, исподволь копя силы, чтобы вскорости отклеиться от перрона, от временного своего пристанища, и с шумной радостью умчаться, куда фары светят.
«На юга ломятся, соколики, — отметил Колотов, глянув на табло перед перроном. — Без вещей? Бегут? Или их кто ждет там у вагона?»
— Через три минуты, шеф, — Скворцов поправил кобуру под мышкой.
— Вижу.
Уезжающие и провожающие уже суетливо обнимались, жали руки, обещали горячо, что мол, «непременно, непременно… Как только… Ты же знаешь, я не по этому делу… Для меня только одна женщина… Ты единственный…» и так далее… Колотов несколько раз оглянулся, но Зотова так и не заприметил. У шестого вагона «модники» остановились, поозирались привычно, и только тогда Питон полез в карман и вынул билет. Проходя мимо, Колотов скользнул по его рукам взглядом. Один билет. Значит, Гуляй остается. Но в вагон они влезли оба.
— Ну что? — Колотов остановился резко и хрустко помял пальцы на левой руке.
— Пошли, — неуверенно подсказал Скворцов.
— Давай подождем малость.
— Минуту, — Скворцов расстегнул молнию на куртке и тотчас застегнул ее обратно.
— Лучше расстегни, — посоветовал Колотов.
— Ага, — согласился Скворцов, но не расстегнул. Забыл.
— Где их черти носят?! — Колотов ослабил галстук, потом и вовсе развязал его, снял и, скомкав, сунул в карман.
Скворцов оттянул рукав куртки, посмотрел на часы.
— Все, — сказал Колотов. — Давай.
Маленькая проводница с унылым лицом встрепенулась с недоброй готовностью.
— Куда?
— За кудыкину гору, — процедил Колотов и взялся за поручень.
— Билет! — выкрикнула проводница и схватила Колотова за руку.
— Мы провожающие, — зло бросил Скворцов.
— Нельзя! — лицо проводницы оживилось, загорелось радостным ожесточением.
— Милиция, — едва сдерживаясь, тихо проговорил Колотов и вынул удостоверение. На мгновение проводница убрала руку. Колотов скользнул в вагон.
— Ой, напужал! Ой, напужал! — пришла в себя проводница.
— Милиция. Подумаешь, а без билету все равно нельзя!
— Дура! — Скворцов оттолкнул ее в сторону и взлетел по железным ступенькам.
— Оскорблять, да? Оскорблять?! — взвизгнула маленькая злобница. Ей было хорошо, только ради этих минут стоит жить. А так скука смертная.
Колотов уже миновал тамбур, купе проводницы, с ходу врезался в необъятную даму с тихим лицом, локтем ощутил ватную мягкость груди, на миг взглянул в тоскующие глаза — провожающая — и наконец прорвался в коридор. Первое купе там уже едят, пахнет пирогами, быстро освоились; второе купе — кто-то суетливо убрал бутылку под стол; третье — радостно вскинулись дети, самый маленький вскрикнул: «Папочка…»
— Я вот сейчас начальнику поезда! Я вот сейчас в Совмин напишу!… Самому напишу! Подумаешь, милиция! — яростно горланила за спиной проводница.
Из купе в середине вагона неожиданно выскочил Гуляй. Глаза растопырены, кепочка на боку. Остолбенел на миг от испуга. Мгновения достаточно. Колотов коротко ткнул его мыском правой ноги в пах. Гуляй охнул и переломился надвое, качнулся к стене и стал медленно оседать. Колотов рванул пистолет из кобуры, прыгнул к двери купе, выставил вперед руку с оружием, крикнул что есть силы:
— Лицом к окну! Руки за голову! Не шевелиться!
Две женщины средних лет с застывшими глазами, субтильный юноша с тонким галстучком, телом и руками их укрывающий. Смелый малый. И Питон, конвульсивно бьющийся у окна. Не открыть, голубчик. Иные теперь окошки делают, чем раньше. Удар по копчику, для острастки по затылку, правую руку на излом, и Колотов шарит уже у Питона за пазухой — вот она, игрушечка, любовно телесным теплом нагретая.
Колотов услышал шум сзади, глухой удар, вскрик…
— Что?! — гаркнул он, обернувшись. В коридоре у окна, держась за нос, стоял Скворцов. Колотов все понял. — Держи этого, — рявкнул он. — Держи крепче. И волоки на выход. — Он рванул Питона на себя — тот завопил от боли в руке — и потащил в коридор. Скворцов помотал головой, вроде оклемался, и перехватил у Колотова руку Питона.
Проводница, точно как Скворцов секунду назад, стояла у окна, прижав ладонь к губам. В глазах плескались растерянность, страх, мольба о прощении… Она в последнем усилии вжалась в стенку, срослась с ней, когда Колотов, хрипло выдыхая, будто простуженный, пронесся мимо.
…Она отлипла от стены, нахмурилась, съежила лоб: что-то кольнуло под сердцем. Она потерла это место, закрыла глаза и тотчас увидела Олечку, большеглазую, кругленькую, светящуюся. Такой она была год назад… Господи, она не видела дочь уже целый год. Зачем рожала, одна, без мужа? Дура! А потом испугалась, что замуж никто не возьмет с ребенком, и отвезла девочку к матери… Целый год! Стрелять надо таких, как она! Все. Как только состав придет обратно, отпуск за свой счет и к дочке — заберу с собой, крошечку…
Из купе вышел пузатый дядька со стаканом в руке.
— Сдурели, что ли?! — прикрикнула она. — Какой чай, когда поезд еще не отошел! Ну я вам устрою!
Она пошла в свое купе и стала придумывать разные разности, которые она устроит пассажирам во время долгого пути.
На перроне у самых ступеней, припав на колено и вдавив руки в живот, корчился Зотов. Колотов яростно ругнулся, спрыгнул на колдобистый асфальт, поднял Зотову лицо:
— Что?!
Зотов крутил головой, скривился, выжал из себя:
— Ножом… Больно… Обойдется…
Оторвал от живота руку, мазнул в сторону головного вагона.
— Туда…
— Кто-нибудь! — заорал Колотов. — Помогите ему! — и сорвался, как спринтер со старта, краем глаза уловив на перроне приближающиеся фигуры двух милиционеров. Гуляя он увидел сразу. Это было несложно — в сутолоке провожающих образовался коридор. Люди жались к краям перрона. Они словно боялись ступить на то место, где только что пробежал Гуляй. И через несколько секунд Колотов понял почему — в руке Гуляя был нож.
— Сука! — вырвалось у Колотова. И затем зычный голос его пронесся над путями: — Возьму! Слышишь, возьму!
Через сотню метров перрон кончился. Гуляй ловко спрыгнул на землю и помчался по рельсам, высоко вскидывая локти. Еще сотня метров, и Колотов понял, что отстает. Паршиво. А тот так и прет к пакгаузам, знает: там спасение.
Там среди десятков мелких строений, заборов, тут и там набросанных рельсов, шпал ему скрыться как нечего делать.
— Не дури! — закричал Колотов. — Сзади поезд! Раздавит!
Гуляй споткнулся, замедлил бег, нервно завертел головой по сторонам. А Колотов мчался, не снижая темпа. На ходу он снял пиджак, скомкал его и, когда до Гуляя осталось метра три, бросил пиджак Гуляю под ноги. Тот с размаху повалился ничком. Колотов прыгнул на него и придавил коленом позвоночник. Сзади и с боков по путям бежали люди.
Некоторое время он курил возле входа в отделение милиции при вокзале. Затягивался жадно, как школьник, которого мать гоняет за курение. Гуляя и Питона уже рассадили по разным кабинетам. Надо было их допрашивать, пока не остыли. Зотова увезла«скорая». Рана, слава богу, была неопасной. Зотов заплакал, когда его клали в машину. Колотов остановил санитаров, нагнулся к Зотову и поцеловал его. И тот вдруг улыбнулся сквозь слезы. Еще затяжка, сигарета затрещала сухо и полетела в урну.
Коридор в отделении был узкий, темный, с голыми недавно крашенными стенами, с чистым, мытым скрипучим полом. Однако все равно стойко пахло табаком, потом — что делать, вокзал. «Тяжко ребятам каждый день дышать таким духом. Чертова работа».
В квадратном кабинете четыре стола впритык друг к другу. Тесно. Колотов знал организации, в которых бездельники роскошествуют чуть ли не по одному в гораздо большем просторе.
Питон сидел на табурете у стены и безучастно смотрел в окно. Там, постукивая, проходил состав. Вот бы сигануть сейчас, и ищи ветра в поле… Напротив стоя курил оперативник из отделения, худой, костистый, с неожиданно румяным лицом. Колотов кивнул, подошел к столу. Там горкой были свалены золотые украшения, посверкивали камни в тяжелых оправах.
— Будь другом, — попросил Колотов. — Составь опись.
— Еще денег четыре куска, — оперативник подвинул пачку сторублевок.
— Хорошо, — Колотов взял билет, повернулся к Питону. — В Симферополь, значит, намылился, дружок? Ну-ну…
Питон не реагировал. Он все еще ехал в проходящем составе. Колотов повернулся к оперативнику:
— Оставь нас.
Оперативник принялся сгребать в ящик стола драгоценности и деньги.
Когда закрылась дверь, Колотов сказал:
— Хочешь на волю?
Питон напрягся.
— Я спрашиваю, — Колотов повысил голос. — Ну?!
— А кто ж не хочет? — осторожно усмехнулся Питон.
— Правильно, — согласился Колотов. — Соображаешь. — И добавил неожиданно: — Я тебя отпускаю. Только чтоб потом меня не привлекли за преступную халатность, это все надо грамотно разыграть. Так?
Питон шумно сглотнул слюну и кивнул.
— Значит, — продолжал Колотов, — ты сейчас дверь на замок, мне в челюсть, табуретом в окошко и был таков, а я золотишко себе в карман, будто это ты его с собой, понимаешь, и за тобой. Бабки нужны, понимаешь?
И Питон поверил. Покрутил мелко головой, шею потер, привстал, исподлобья глядя на Колотова.
— Ну-ну, — подбодрил его оперативник.
Питон вдруг обвалился, выдохнув, на табурет, ощерился, с ненавистью глядя на Колотова, просипел:
— А ты меня в затылочек при попытке к бегству! Пух, пух! На-кось выкуси, сволочь!
Колотов рассмеялся, потом перевел дыхание, обтер уголки губ, заметил просто:
— И это верно. Понятливый. — Лицо его вдруг отяжелело, веки налились, нависли грузно над глазами. — Я бы удушил тебя, если б можно было… Хотя, — и лицо его немного прояснилось, — ты и так не жилец.
— Это почему? — насторожился Питон.
— Да потому что через день-другой я найду Стилета и кой-кому стукну, что это ты его заложил, и мочканут тебя в зоне как пить дать.
— У-у-у-у-у! — Питон только и сумел, что завыть на такие некрасивые слова.
— Отдай Стилета. И договоримся по-хорошему. Пока следователь не приехал. А он приедет, у нас все как полагается, чистосердечное признание, то-се…
— Ну ты гад! — задыхаясь от негодования, проговорил Питон. — Ну ты гад!
— Ну и ты не лучше, — отозвался Колотов. — Давай про Стилета. А обо мне не надо. Я фигура невеликая.
— Хрен тебе, а не Стилет! — выкрикнул Питон, захлебываясь слюной. — Тебе его искать и искать!
— Найду, — Колотов коротко и сильно потянулся, почему-то захотелось спать. — Найду и стукну…
Питон низко опустил голову, замычал, как корова перед дойкой, провел ладонями по коленям, будто втирая в них какое-то чудотворное снадобье, и неожиданно выхватил из-под себя табурет, легко, словно это и не табурет был, а корзинка какая-то плетеная, поднял его над головой и хотел обрушить на Колотова, но тот опередил Питона, по-боксерски ушел влево, одновременно правой рукой ударив «модника» в живот. Питон охнул, привалился к стенке, табурет с грохотом вывалился у него из руки. А Колотов тем временем схватил его за ворот рубахи, прижал к стене и зашипел, горячо и влажно дыша Питону в лицо:
— По самый гроб я о тебе заботиться буду! Крестничек ты теперь мой! Ни сна у тебя не будет, ни покоя, ни радости, ни удовольствия! Запомни! Запомни!
— Колотов! Прекрати! — раздался сзади жесткий голос. — Отцепись от задержанного!
Колотов с трудом разжал побелевшие пальцы, оторвался от Питона, обернулся. В дверях стоял начальник уголовного розыска города Доставнин, маленький, с острым лисьим лицом, с непропорционально широкими ладонями длинных, тонких рук.
— Что тут у вас? — Он стремительно прошел, сел на стул. Лицо у него было недовольное, верхняя губа чуть приподнята.
— Рукоприкладство?
Колотов посмотрел на открытую дверь. В коридоре маячил румяный оперативник из отделения.
— Никак нет, — четко отрапортовал Колотов. — Попытка нападения со стороны задержанного. Я принял меры самообороны.
— Хорошо, — сказал начальник и тоже покосился на дверь.
— Результаты?
— Двое по делу о квартирных разбоях у Мотовой и Скары-кина задержаны. Но мне нужен Стилет.
— Мне тоже, — сказал начальник. Он жестом поманил румяного оперативника. — Отведите его в изолятор.
Питона увели.
— Я помешал? — спросил начальник.
— Да нет, — Колотов махнул рукой и устало опустился на стул. — Он еще какое-то время фасонить будет. Дурак.
— Ну ты хорошо его к стенке, — Доставнин засмеялся. — Лицо у тебя было зверское.
— Так он вправду на меня с табуретом.
— Ну понятно, понятно, — недоверчиво согласился начальник. — Мне позвонил Скворцов, сказал, что ранен Зотов.
— Неопасно, — сказал Колотов. — Не рассчитали малость.
Затренькал телефон, пискляво и настойчиво. Раз, второй, третий.
— Возьми, что ли, — начальник кивнул на аппарат.
— Телефон, — тихо протянул Колотов и повторил: — Телефон…
Доставнин вопросительно посмотрел на него.
— Пошли, — Колотов встал. — Ща поглядим.
Телефон продолжал звонить.
Они торопливо прошагали в конец коридора и очутились в точно таком же кабинете. Гуляй сидел за столом у окна и, обхватив двумя руками дымящийся стакан, шумно хлебал чай. Куртка его была застегнута наглухо, кепочка надвинута по самые уши, но он дрожал, будто с заполярного морозца сюда ввалился. Скворцов примостился напротив. Он мрачно глядел на Гуляя и нетерпеливо барабанил пальцами по столу. Ох, как хотелось, наверное, Скворцову отомстить этому кривоногому пакостнику за свой так по-глупому разбитый нос. Но невероятным усилием воли Скворцов сдерживался. Он был дисциплинированным сотрудником и пока еще чтил социалистическую законность.
— Значит, так, — с усмешкой с порога начал Колотов. — Дружок твой поумней оказался и настоятельно просил тебя не откладывая позвонить Стилету, как и договаривались. Пусть он думает, что все в порядке и Питон уехал.
— А зачем? — глупо уставился на него Гуляй, стакан он не отпускал.
— Так надо, — сказал Колотов. — Для твоей же пользы. Или ты думаешь, дешево отделаешься за вооруженное нападение на сотрудника милиции?!
— Так все равно Питона встречать там будут, — взгляд его стал еще глупее.
Колотов расслабился. Он все угадал.
— Давай, давай, работай, — с довольной ухмылкой поторопил он Гуляя.
Гуляй снял кепочку, в раздумье взъерошил волосы возле лба и стал похож на двоечника, решающего у доски трудную задачку — сколько же будет два плюс три. Потом пожал плечами и нехотя потянулся сухими, плоскими пальцами к телефону. Колотов встал за его спиной и вперился взглядом в аппарат. «Три… Семь… Один… Четыре… Девять…» — повторял он про себя. Не успел диск завершить свое кручение, а Колотов, нависнув над Гуляем и прижав его животом к столу, уже надавил на рычажки.
— Понятно, — удовлетворенно проговорил он. — Как в аптеке. Будет тебе, Гуляй, большая награда от всего нашего дружного коллектива. — Он повернулся к Скворцову. — Триста семьдесят один сорок девять. Быстро установи адрес, и погнали, ребята!
— Как?… Это ж… — Гуляй удивленно смотрел то на Колотова, то на Доставнина.
Доставнин хищно улыбался. Глаза у Гуляя сделались по-рыбьи круглыми и дурными. Если бы он не всадил чуть ли не по самую рукоятку несколько минут назад нож в пах Зотову, у кого-нибудь из присутствующих в душе, может быть, и шевельнулось что-то похожее на жалость, глядя на него. А так…
— Трудно жить с пустой башкой-то, — засмеялся Колотов. — А, Гуляй?
Гуляй сморщился, будто вместо водки керосина хватанул, шмякнул кепку об пол, зачастил тихо, безнадежно:
— Порежут меня, суки поганые, порежут… Ой, сестреночка моя Машенька, что я наделал, пес беззубый…
— Совесть — великая вещь, — подняв палец, громко провозгласил Колотов. Он выглядел величественным и немного суровым. — Я верю, на волю он выйдет честным…
— Петровская, четырнадцать, — оторвался от телефона Скворцов.
— По коням! — Колотов будто шашкой рубанул рукой воздух.
Он был возбужден от предощущения предстоящего, по всей видимости, непростого задержания, и поэтому ему хотелось много говорить, много и громко смеяться, и он уже заготовил несколько, по его мнению, изящных словес, чтобы выдать их под лихое щелканье проверяемого пистолета, но вспомнил Зотова, положил пистолет обратно в кобуру и говорить ничего не стал.
— Вы двигайте на моей машине за Стилетом, — сказал Доставнин, открывая дверь кабинета. — Только пограмотней там, без сегодняшней ерундистики. Ясно? А я в управление, свяжусь с Симферополем, попрошу, чтобы местные поглядели, кто придет встречать Питона. Все. До встречи.
Он шагнул за порог и чуть не столкнулся с полным щекастым мужчиной в мундире работника прокуратуры. Тот, не глядя ни на кого, поздоровался. Доставнин был явно задет таким небрежным обращением и с деланно-ленивой усмешкой тихо заметил:
— Какая честь, сам следователь Трапезин.
— Я бы не приехал, сказал Трапезин и мрачно засопел простуженным носом, — но уж очень просили ваши быстрые сыщики. Приезжай, говорили, мы тут твоих волчар подловили, по горячим следам допросишь. Но не дождались, сами постарались. Костоломы.
— Ты о чем? — не понял Колотов.
— О нарушении соцзаконности, — веско проговорил Трапезин, — о старозаветных методах работы. Без кулака обойтись не можешь? А потом и нас, и вас в одну кучу валят. Все плохие. Все морды бьют.
— Ну-ну, — вступил в разговор Доставнин. — Ты поосторожней, милый. Я про тебя сейчас такого нагорожу…
— Кого сейчас сажали в изолятор?
— Питона… — медленно произнес Колотов. — Савельева Александра Васильевича… Мы его…
— Вот-вот, мы его, — перебил Трапезин. — Два пинка в живот, а потом головой о стену.
— Это он тебе наговорил? — спросил Доставнин с улыбкой.
— А ты веришь? Нехорошо. При мне беседа была. Тихая беседа была, вежливая. И чаем его, бедолагу, напоили, вон как этого.
— Он кивнул на съеженного на стуле Гуляя. — И папироску дали. Все по-человечески. Мы ж грамотные, мы ж законы изучали, дипломы за это изучение получали. Так? Нет? — Доставнин повернулся к своим сотрудникам. Те строго покивали головами. — Ну а что касается заявления, — с серьезной ласковостью продолжал Доставнин, — то у нас здесь в дежурке двое общественников без дела томятся. Так они в один момент подтвердят, что следователь городской прокуратуры Трапезин, встретив в коридоре отделения задержанного Савельева, завел его в камеру, треснул последнего по голове от озлобления на его несговорчивость. Простите, я не сложно излагаю? — Доставнин чуть подался вперед, преданно заглядывая Трапезину в глаза.
«Во шпарит, — подумал Колотов. — Школа…»
Трапезин несколько раз, будто в нервном тике, дернул верхней губой, обвел тяжелым взглядом радушно улыбающихся оперативников, повернулся резко, насколько позволяла комплекция, и вышел из кабинета. Доставили вздохнул и сказал негромко:
— Вот теперь по коням.
В квартире на Петровской проживала пожилая фасовщица из центрального гастронома. Она подтвердила, что Василий Никанорович квартировал у нее неделю, но с час назад как собрал вещички и съехал, сказал, позвонит, она верит, что позвонит. Им было так хорошо. Вечерами — чай, тихие беседы, телевизор. Тепло и уютно. Дом. Впервые за десять лет дом. Надоело суетиться, просчитывать, озираться, подозревать. Хочется просто жить. Фасовщица плакала и курила длинные иностранные сигареты. Колотов оставил на квартире засаду и поехал в управление.
На площади возле входа в управление стояла большая тупорылая машина с голубым фургоном и забрызганный осенней грязью автобус. От машины к дверям управления тянулись толстые черные провода. Задние дверцы фургона то и дело раскрывались, оттуда выходили и через какое-то время входили обратно неряшливо одетые люди с деловитыми лицами, из фургона они тащили в управление маленькие прожекторы на длинных ножках и мотки провода, обратно возвращались вялые, с сигаретами в зубах. Внутри фургона что-то гудело и сизо светилось, и пахло оттуда дешевым табаком и горелой изоляцией. Колотов постоял с минуту, наблюдая за происходящим, потом пожал плечами и, перешагнув провода, вошел в управление.
— Эй, Колотушка! — крикнул из дежурки белобровый капитан Мильняк. — В кино хочешь сыматься? Могу сосватать. Я теперь большой кинематографист.
— А… Кино, значит, — пробормотал Колотов. — Этого только не хватало. Работать надо.
На лестнице горячо спорили две симпатичные девушки, они говорили непонятные кинематографические слова, но друг друга явно понимали. Колотов мрачно попросил разрешения пройти. Девушки умолкли, расступились и через мгновение захихикали ему в спину. «Унылый красавец», — различил он тихий голосок.
— Балаган! — не сдержался Колотов и быстро зашагал по коридору. Теперь ему вслед хохотали уже откровенно.
Доставнин был в кабинете не один. На кресле развалился вальяжный малый в джинсах и тертой кожаной куртке. Он внимательно слушал Доставнина и ногтем большого пальца поглаживал черные аккуратные усы. Доставнин извинился перед гостем, повернул лицо к Колотову, спросил нетерпеливо:
— Ну?
Колотов кивнул на малого. Доставнин махнул рукой, мол, не мешает.
— Глухо, — сообщил Колотов. — Свалил, поганец. То ли позвонил ему кто кроме Гуляя, то ли сам на вокзале был. Надо криминалиста направить, пусть пальцы снимет. Затем фоторобот Стилета сделать. Немедленно.
— Хорошо, — быстро кивнул Доставнин. — Я распоряжусь. И вот еще что… — Он оборвал себя, улыбнулся гостю, показал рукой на Колотова. — Простите, я не познакомил вас. Это наш лучший сыщик. Колотов Сергей Викторович. Он только что с трудной операции, задерживал опасных преступников. Там ранили нашего товарища. Но, слава Богу, не опасно. А это, — гость встал, с воодушевлением протянул руку, обаятельно заулыбался, — кинорежиссер Капаров Андрей Владимирович.
— Очень рад, — поставленным баритоном заговорил режиссер. — Уважаю вашу профессию. Уважаю и благоговею, — черные влажные глаза режиссера весело ощупывали тяжелую фигуру оперативника. Колотов качнул головой, улыбнулся скупо, ему хотелось скорее пойти в свой кабинет, запереться там и вволю накуриться, а потом начать работать. — Вы видите жизнь наоборот, как сказал поэт, — продолжал режиссер. — Это страшно. Но далеко не каждому дано видеть изнанку и не черстветь, не костенеть, а достойно делать свое дело. Именно поэтому вы благородны и прекрасны… — Последние слова он произнес для обоих собеседников.
— Ну это вы уж, пожалуй, чересчур, — смущенно заулыбался Доставнин и неожиданно лихо закинул ногу на ногу, совсем как режиссер минуту назад. Колотов с глупым ввдом уставился на начальника. Доставнин кашлянул и ногу убрал.
— Андрей Владимирович снимает кино про будни уголовного розыска, — сказал Доставнин. — Чтобы все было как в жизни, он хочет воспользоваться на некоторое время нашим зданием.
— Кино — важнейшее из искусств, — сказал Колотов.
— Ладно, — Доставнин махнул пальцами, — иди работай. К концу дня напиши подробный рапорт о задержании, и особенно подробно о причинах ранения Зотова.
Колотов, довольный, развернулся и направился к двери.
— Погодите, — остановил его режиссер. Он подошел к оперативнику, несколько мгновений смотрел ему в глаза, потом произнес смачно: — Сволочь! — И резко от бедра ударил Колотова в живот.
Но тренированный Колотов оказался быстрее, он почти машинально выставил блок, отвел в сторону коснувшуюся уже его пиджака руку, жестко ухватил ее за кисть и крутанул вверх. Капаров вскрикнул тускло и обреченно и согнулся, будто решил истово кланяться Доставнину за хорошее его отношение. А Колотов уже по инерции взял руку режиссера на излом, ухватил его голову за волосы и со словами: «Что ж ты делаешь, гад!» — придавил растерзанного кинематографиста к мягкой спинке кресла, стоящего в углу кабинета… «Плохо, — подумал Капаров. — Что же мне так плохо-то?» Он вспомнил ее губы и ноги, ее сладкий, такой волнующий голос, вспомнил, как вчера держал ее за руку, уже чужую, холодную, и бил сам себя по щекам, каясь, а она мотала головой и вырывалась, вырывалась…
Колотов почувствовал, как Капаров обмяк, ватной и податливой стала рука, голова отяжелела, и Колотову показалось, что он держит полузадушенного куренка, которого надо обезглавить к воскресному обеду, а этого он сделать никогда бы не смог. Он убрал руки, и Капаров рухнул в кресло.
— Сума сошел, медведь?! — брызгая слюной заорал над ухом Доставнин. На багровом лбу его родничками бились синие жилки.
— Не надо ссориться, все нормально, — Капаров грузно поднимался. С силой массирую руку, он тряхнул красиво стриженной головой и улыбнулся. — Все просто отлично. У вас замечательная реакция и почти актерская пластика. Я это сразу заметил и решил проверить на деле. Я беру вас сниматься, — он хотел бодро, по-дружески ткнуть Колотова в плечо, но пошевелил бровями и передумал. — Проверка, — повторил он.
— Ну и методы, — заметил Доставнин.
— Вы большой профессионал, — сказал Колотов.
— У нас есть одна роль, — продолжал режиссер. — Прямо для вас. Я уже наметил актера, но вы будете достоверней. Я хочу правды, — он вскинул голову, — настоящей правды!
— Да, да, — Доставнин потрогал лоб, — сейчас это очень важно.
— Мне работать надо, — Колотову уже все надоело, и он понемногу пятился к двери.
— Я вас умоляю, — режиссер приложил руки к груди и, сделав плаксивые глаза, посмотрел на Доставнина. Начальник не устоял: кинематограф — великая сила. Он приказал Колотову:
— Поступаешь в распоряжение товарища режиссера. На какое-то время замкни свою группу на меня. Все.
— Да я не могу, — Колотов растерялся. — Мне нельзя. У меня мениск, я корью болел…
Просторный кабинет на первом этаже, где располагались розыскники ГАИ, на несколько дней отдали киношникам. Они там не стали почти ничего менять — все должно быть как в жизни, — только вместо маленького портрета Дзержинского повесили большой, а на противоположную стену портрет Ленина — тоже большой. Гаишники кабинет оставили стерильно чистым, как и полагается дисциплинированным работникам, а Капаров, наоборот, оглядев помещение, распорядился набросать на столы бумаги, папки, скрепки, вымытые пепельницы наполнить окурками, а шторы и вовсе велел снять — для большей сухости кадра.
— Достоверно? — спросил он Колотова, показывая ему кабинет.
— Вам видней, — дипломатично ответил Колотов.
— Я хотел, чтобы вам было видней, — настаивал режиссер.
— А мне все видно, — отозвался Колотов. — Здесь светло.
— Н-да, — неопределенно заметил Капаров. — Ну, хорошо, — он подозвал ассистента, вертлявого парня в мешковатой куртке, взял у него розовую папку. — Вот сценарий, вот ваш герой, ваш текст, — он раскрыл папку. — Ваша роль эпизодическая, с основным действием почти не связана. Просто в одной из сцен герой картины входит в кабинет и застает там своего коллегу, то есть вас, за допросом жулика, угнавшего автомобиль. Жулик не хочет сознаваться и называть сообщников, а вы его раскалываете. Понятно? Читайте. Я скоро приду.
Возбужденный, шумный, он вернулся через полчаса.
— Ну как? — спросил он, блеснув творческим зарядом в черных глазах.
— Это неправда, — Колотов отодвинул от себя сценарий.
— Что значит неправда? — опешил режиссер.
— Мы так не говорим, — сказал Колотов.
— А как вы говорите? — Творческий заряд в глазах Капарова растаял, появился нетворческий.
— По-другому.
— Точнее.
— Ну, по-другому, и все, — Колотов безнадежно заглядывал в открытую дверь. Там по коридору ходили счастливые коллеги.
— У нас консультанты из центрального аппарата. Они что, дилетанты? — В глазах режиссера появилось точно такое же выражение, как некоторое время назад, когда он задумывал ударить Колотова в живот.
— Нет, конечно, — устало ответил Колотов. — Но все равно это неправда.
— Что конкретно?
— Ну вот смотрите, — Колотов наклонился над папкой и зачитал: — «Вы будете говорить или нет? — Петров пристально и сурово посмотрел задержанному в глаза. — Лучше признавайтесь сразу. Это в ваших интересах. Суд примет во внимание ваше чистосердечное признание и смягчит наказание. В противном случае ваша участь незавидная. Наш суд строг с теми, кто не хочет осознать своей вины…»
— Ну и что здесь неверного? — Капаров с сочувствием учителя к нерадивому школьнику посмотрел на Колотова.
— Да нет… вроде все верно… — Колотов потрогал лоб, он почему-то был в испарине. — Но… неверно…
— Господи, — режиссер вздохнул, — а как бы сказали вы?
Колотов пожал плечами и посмотрел в окно. В «Волгу» быстро усаживались ребята из БХСС. Везет же людям — работают.
— Ну подумайте, вспомните, — режиссер присел на краешек стола перед Колотовым. — Как вы допрашиваете? Какие слова произносите? Каким тоном? Как это было в последний раз?
Колотов вспомнил, как он говорил с Питоном, а потом с Гуляем, вспомнил и усмехнулся — хорошо говорил, действенно.
— Вспомнили? — обрадовался Капаров, заметив тень усмешки на лице Колотова.
Колотов кивнул.
— Сейчас попробую, — сказал он и сосредоточился.
— Ну, — поторопил режиссер. — Ну представьте, что я преступник.
Колотов встал, посмотрел на Капарова недобро, открыл рот, обнажив влажные крепкие зубы, и замер так, потом выдохнул и сказал:
— Бриться надо каждый день, у вас щетина быстро растет.
— Да? — режиссер испугано вскинул руку к подбородку. — Действительно. Замотался, не успел…
Колотов сел и насупился.
— Ну? — опять занукал режиссер. — Что же вы?
Колотов молчал и смотрел в окно. Режиссер потрогал еще раз щеки и встал.
— Хорошо, — он сунул руки в карманы, повел плечами, будто озяб. — Это пока терпит. Съемку я назначил на послезавтра. Подумайте, как это можно сделать правдиво, запишите, и послезавтра встретимся. Идет?
…Он все-таки исполнил свою мечту, поднялся в кабинет, заперся и накурился вволю. Повеселев, с удовольствием поработал с документами — скопилось много переписки. Потом съездил проверить засаду на Петровской. Оперативники играли с фасовщицей в «дурака» и тоже курили длинные иностранные сигареты. Никто не приходил и не звонил — впрочем, это и ожидалось. И только после этого поехал домой.
Маша и пятилетний Алешка смотрели программу «Время». Алешка очень любил эту программу, и вместо вечерней сказки он насыщался на ночь последними новостями.
— Королева странно ходит, — сказал он, не отрываясь от телевизора. — Наверное, что-то у нее с ногами.
— Подагра, — сказал Колотов, снимая пиджак.
— Вернее, остеохондроз, — поправил Алешка.
— Тебе видней, — согласился Колотов.
— Котлеты будешь? — Маша поднялась и направилась на кухню.
— Все равно, — ответил Колотов и посмотрел ей вслед. Халат прилип к ее ногам. «Она тоже странно ходит, — только сейчас заметил Колотов. — Но до этого самого хондроза еще далеко — слишком молодая. А почему так ходит?»
— Устала? — спросил он, садясь за стол. Красная кухонная мебель утомляла глаза. Зачем он согласился ее покупать?
— Есть немного, — не глядя на Колотова, Маша расставляла тарелки. Косметику она смыла, и лицо казалось теперь очень бледным, особенно на фоне красной мебели. Все-таки зря они купили этот гарнитур. Маша села напротив. Стянутые назад волосы приподнимали тонкие выщипанные брови и придавали липу слегка удивленное выражение.
— Все боремся, — она подула в чашку с чаем и сделала осторожный глоток. — Шеф рассчитал наконец сегодня молекулярную цепочку волокна, а Похачев через полчаса уже докладывал директору института, что его гипотеза подтвердилась, хотя никакой гипотезы не было и в помине. Сочинил на ходу, но ему верят. И шеф опять на вторых ролях.
— Бывает, — сказал Колотов, жуя котлету.
— А что у тебя? — Маша скатала из хлебного мякиша шарик.
— Работаем, — ответил Колотов, добирая картошку.
— Много дел? — спросила Маша и придавила шарик, сделав из него маленькую лепешку.
— Хватает, — Колотов чувствовал, что не наелся, но котлет больше не хотел, они отдавали жиром. — Спасибо. Очень вкусно.
— Наши продули, — сообщил Алешка, когда Колотов вошел в комнату.
— Бывает, — Колотов встал у окна, сладко потянулся. «Скорей бы лечь. — Темнело. Беспорядочно зажигались точечки окон в соседних домах, заходящим солнцем слоисто высвечивались тучи. — Ночью будет дождь. Наверное. А может быть, не будет».
— Я пошел спать, — сказал Алешка.
— Молодец, — похвалил Колотов и подумал: «Хороший мальчик, дисциплинированный. Только в кого такой белобрысый?»
С высоты своего третьего этажа он увидел во дворе белые «жигули», а возле машины красивую соседку Ирину. Что-то приятное шевельнулось в груди. Едет красивая Ирина по своим красивым делам. Неплохо было бы сейчас сесть к ней в теплый автомобиль, вдохнуть тонкий дурман французских духов, рассказать ей по дороге что-нибудь глупое и веселое, а потом завернуть в уютный, полутемный ресторан…
— Алешку отведи завтра в сад, — Маша помыла посуду и вернулась в комнату. — Я уйду очень рано.
— С удовольствием, — отозвался Колотов и со вздохом подумал, что опять не выспится, опять по пути надо будет отвечать на неожиданные Алешкины вопросы, на которые и ответов-то нет, радушно улыбаться толстой угрюмой воспитательнице.
— Какой фильм сегодня? — Колотов отошел от окна и уселся в кресло.
— «Идущий следом».
— Что-то интересное, я слышал, давай посмотрим.
— Лучше концерт по первой, — Маша закинула ногу на ногу, матово блеснула гладкая, тяжелая коленка.
«Поправилась, что ли?» — подумал Колотов и уставился в телевизор.
Что-то томное и страдательное запел на экране курносый, чернявый певец. Он, как на ходулях, передвигался по сцене, делал волнообразные движения свободной от микрофона рукой и, наверное, думал, что он очень обаятельный.
— Девки по нему с ума сходят, когда видят, — констатировала Маша, удобней устраиваясь в кресле.
— Я тоже, — сказал Колотов.
— Что тоже? — не поняла Маша.
— С ума схожу, когда вижу, — ответил Колотов.
— Очень остроумно, — Маша вынула из кармана халата сигареты.
— Не кури, пожалуйста, — попросил Колотов.
Маша кинула пачку на журнальный столик, она скользнула по полированной поверхности и упала на пол. Поднимать ее никто не стал.
— Алешке пальто надо на зиму, — сказала Маша.
— Купим, — Колотов облокотился на столик и подпер голову кулаком.
— Попроси своих бэхээсников, может быть, дубленочку достанут, — добавила Маша.
— Сделаем, — Колотов нажал пальцем на правый глаз, и изображение на экране раздвоилось. Теперь певец пел дуэтом сам с собой. Но вот наконец певцы завершили страдания и, горделиво приосанившись, ушли за кулисы. Колотов отпустил защипавший глаз. На сцену вышли жизнерадостные ведущие. Две симпатичные дикторши и один диктор с лицом исполкомовского работника областного масштаба. Улыбка ему не шла, и трудно было поверить, что он на самом деле такой веселый. Одна из дикторш очень нравилась Колотову. Она появилась недавно и заметно отличалась от других. У нее были нежные, пухлые губы и длинные завлекательные глаза, Колотов видел такие лица в зарубежных, не совсем приличных журналах. Дикторши что-то прощебетали, а потом камеры показали зал. В зале стояли столики, на столиках настольные лампочки, бокалы на длинных ножках и бутылки боржоми. А за столами сидели мужчины и женщины в приличных костюмах и платьях. Зал выглядел уютным и праздничным. И Колотов представил, что вот он тоже сидит в дорогом костюме за одним из столов поближе к сцене, чуть усмешливо улыбается, перебрасывается незначащими словечками с соседями, потягивает боржоми, а может, чего и покрепче для поддержания тонуса и многозначительно переглядывается с красивой дикторшей. Встретив его взгляд, она невольно улыбается и опускает глаза. А потом, объявив номер, подходит к его столику, садится. «Привет», — говорит она. «Привет», — отвечает он и наливает чего-нибудь ей в бокал. Розовое платье у нее тонкое, облегающее, и ему приятно смотреть, как оно натягивается на бедре женщины, когда она аккуратно закидывает ногу на ногу. «Сегодня у авангардиста Матюшкина соберутся интересные люди, — говорит она. — Пойдем». «Конечно», — отвечает он. «Тогда в одиннадцать у выхода со студии», — говорит она, кивает ему, чуть прикрыв глаза, поднимается и идет на сцену. С соседних столов внимательно разглядывают Колотова. Но он не обращает ни на кого внимания. Пустое… А потом у Матюшкина — разговоры, споры, смех, влажная духота, ощущение приподнятости. Он не стесняется, не робеет, он вполне нормально может держаться в любом обществе. Правда, острит немного тяжеловесно. Но это нравится… А потом поиски такси под шутки провожающих, ее тихая, теплая квартирка… И вообще, а если бы она была его женой? Он работает, она понимает. Она работает, он понимает. Вот наконец они вместе. Как хорошо им! И вокруг друзья, много друзей и добрых, и злых, и равнодушных. Но больше добрых, занятых своей творческой, нелегкой работой. Он занят своей работой, они своей, им есть о чем поговорить…
— Пойду мясо потушу на завтра, — проговорила Маша и тяжело поднялась.
Колотов вздрогнул и с удивлением посмотрел на жену.
— Да, да, — сказал он. — Конечно.
А на сцену уже вышла певица в балахонистом коротком платье и стала петь о том, как ей было хорошо, когда она была школьницей и что она вообще так до сих пор и осталась школьницей, и что до самой смерти именно в этом состоянии она и будет пребывать. «Похоже на то», — отметил Колотов, разглядывая недоразвитое лицо певицы.
На кухне что-то грохнуло, зазвенело металлически. Покатилась грузно по линолеуму то ли сковорода, то ли кастрюля.
— Что случилось? — громко спросил Колотов. Ответа не было. — Маша, — позвал он. Тишина. — Раз, два, три, четыре, пять, — сказал Колотов, — я иду искать.
Он оторвался от кресла, пошлепал в великоватых, еще отцовских тапочках на кухню. На полу валялась опрокинутая кастрюля, бурыми комочками темнели рассыпавшиеся на линолеуме котлеты. Маша сидела у окна, отрешенно глядела на кастрюлю.
— Ну что такое? — Колотов нагнулся, поднял кастрюлю, поставил ее на стол, потом, не зная, что делать с котлетами, сел на корточки и стал их задумчиво разглядывать.
— Понимаешь, котлеты упали, — наконец едва слышно пробормотала Маша. — Я их в холодильник, а они вырвались, и упали, и разбежались кто куда, как живые. Понимаешь, я хотела их в холодильник, а они разбежались, — лицо у Маши сморщилось по-детски, и она заплакала, тихо, безнадежно, стараясь подавить плач пальцами, сжимающими горло.
— И что страшного? — мягко произнес Колотов, поднявшись. — И бог с ними, с котлетами. Мы сейчас с тобой мясо тушеное сделаем. Я помогу, хочешь? — он шагнул к Маше, протянул руку к ее голове, пошевелил пальцами в воздухе, колеблясь, и наконец погладил по волосам. Маша отпустила горло и уткнулась лицом в его ладони. Голова ее мелко подрагивала под колотовскими пальцами. Он непроизвольно убрал руку и подумал: «Женский цикл начался. Точно. Хотя раньше такой реакции не было».
Теперь Маша плакала громко, казалось, она поперхнулась и сейчас откашливается.
Колотов не знал, что делать. Он огляделся, взял с полки стакан, налил воды из-под крана, постоял так со стаканом какое-то время, раздумывая, как дать Маше попить (лицо закрыто руками): отрывать руки или не надо. Решив не отрывать, поставил стакан на стол, пощелкал пальцами в поисках выхода и опять присел на корточки, только теперь уже не перед котлетами, а перед женой.
— Машенька, милая моя, хорошая, — он стал гладить ее колени. — Не надо, прошу тебя. Все хорошо, все отлично. У нас дом, ребенок, замечательный ребенок, замечательный дом, и мы с тобой оба замечательные. И плевать на эти дурацкие котлеты, с кем не бывает. Ну подумаешь, упали. Разве это горе?
Он полуобнял ее за плечи, поцеловал пальцы, скрывающие лицо, потом поцеловал волосы, прильнул губами к горячему порозовевшему уху, зашептал:
— Ты моя хорошая, хорошая…
Маша раздвинула пальцы, с надеждой взглянула на него из-под потемневших взбухших век, спросила невнятно, потому что все еще сжимала ладонями щеки:
— Ты меня любишь?
— Я?.. — Колотов всеми силами старался смотреть ей прямо в глаза. — Конечно. Конечно, люблю. Очень люблю. А как же иначе?..
— Это правда? — Маша, зажмурившись, потянулась к нему лицом.
— Правда-правда, — поспешно сказал Колотов. Он быстро чмокнул ее в губы, раздвинул локти жены и прижал лицо к ее груди.
Халат горько и душно пах подгоревшим жиром, захотелось вскочить и бежать прочь из кухни, но Колотов прижимался все сильней и сильней и шептал яростно:
— Правда, правда, правда!..
Утром Колотов справился о дактилоскопическом запросе на Стилета (ответ запаздывал) и потом поехал со Скворцовым допрашивать Гуляя. За время, проведенное в камере, Гуляй посерел, потух — как-никак в первый раз «залетел», — потерял интерес к окружающему, на вопросы отвечал вяло, невнятно, но подробно, по всей видимости, на какое-то время потерял самоконтроль, обезволился. Так бывает. Оперативники это знают. Знали, естественно, и Колотов со Скворцовым, поэтому и пришли пораньше в изолятор. Гуляй рассказал, где и когда он познакомился с Питоном, рассказал о его связях, местах «лежки», назвал адреса, которые знал, поведал о замечательных «делах» Питона, на которых был вместе с ним на подхвате, «на шухере». Сообщил кое-что интересное о Стилете. Лет сорока пяти, появился в городе недавно, но деловые кличку его знают, слыхали о кое-каких его шалостях. То ли разбой, то ли бандитизм, неизвестно, но «крутой» дядька, в авторитете. Дает «наколки» и имеет чистые каналы сбыта. А это очень важно. На дела сам не ходит. Веселый, разгульный, в меру грузноватый, нравится женщинам. Колотов выяснял каждый шаг Стилета, по нескольку раз заставлял Гуляя рассказывать одно и то же, и вот наконец… Гуляй вспомнил, что два раза ждал Стилета в такси, сначала в Мочаловском переулке, затем на улице Октябрьской, когда тот встречался с каким-то «мазилкой», как говорил Стилет, и во второй раз случайно Гуляй его увидел — красивый, лет сорока, но уже седой…
«Мочаловский и Октябрьская совсем рядом. «Мазилка», вероятно, художник, — размышлял Колотов. — Уже кое-что. Он или там живет, или работает, или мастерская у него там». Возвратившись к себе, Колотов тут же озадачил местное отделение. Срок два часа. Позвонили раньше, через час сорок три участковый Кулябов доложил, что на его территории имеется мастерская художника Маратова. Он седой, красивый, одевается броско, ездит на «Волге». Есть заявления соседей, что в мастерской устраиваются пьянки, играет музыка, приходят девицы и лица кавказской национальности. Участковый Кулябов докладывал об этом начальнику отделения отдельным рапортом. И, кстати, дополнил участковый, Маратов сегодня с утра был в мастерской. Работал.
— Теперь так, — сказал Колотов Скворцову. — Бегом в картотеку. Составь списочек краденных в последнее время икон. Все не перечисляй, штук тридцать хватит. На машинке отстукай, на отдельных листочках, с подробным описанием.
Через час на отдельском «жигуленке» они уже катили в сторону Мочаловского переулка и Октябрьской улицы. Лаптев небрежно крутил баранку, не вынимая сигареты изо рта, дымил в окно и щурил узкий азиатский глаз.
Колотов повернулся к Скворцову, спросил:
— У Зотова были?
— Были, — ответил Скворцов и, хмыкнув, посмотрел на затылок Лаптева.
— Как он там?
— Рана не опасная, но крови потерял много. Ослаб Валька. Бледный. Мы пришли, чуть не заплакал…
— Ав его палате еще двенадцать человек, — подал голос шофер. — И все друг на друге лежат, и все балабонят, дышат, стонут, одним словом, создают неприемлемую обстановку.
— Почему не в госпиталь положили? — разозлился Колотов.
— Мест нет, — сообщил Скворцов. — Но ты не переживай, начальник. Теперь все путем.
— То есть?
— Ну, пошли мы поначалу к завотделением. Он как раз дежурил вчера вечером. Говорим, мол, товарищ наш нуждается в особом уходе, в отдельной палате, ну и так далее. А он говорит, мол, все нуждаются, мол, не он один, мол, все одинаковые люди. Ну, мы спорить не стали и пошли по палатам. И в отдельной палате нашли одного хмыря, кавказца, с холециститом, понимаешь ли, лежит. Роскошествует и в городе нашем не прописан.
— Так надо было к главврачу! — Закипел Колотов. — Надо было кулаком по столу!..
— Поздно, шеф, девять вечера, зачем шуметь. Мы просто к этому кавказцу зашли, поговорили. Ну и он сам запросился в общую палату. Заскучал, говорит, хочу с народом пообщаться, да так разнервничался, чуть не в слезы. Завотделением его успокаивать стал, слова разные добрые произносит, отговаривать начал. Мол, зачем вам общая палата, неспокойно, мол, у меня на сердце, когда вы, дорогой товарищ, в общей палате. А тот разбушевался, хочу, говорит, принести пользу советской милиции, уж очень, говорит, я ее уважаю.
— Поговорили, значит? — Колотов покачал головой.
— Ага, поговорили, — Лаптев повернул к нему невинное круглое лицо.
Всю оставшуюся дорогу Колотов сумрачно молчал.
…Мастерская находилась в старом тихом четырехэтажном доме, на чердаке. Они быстро поднялись по крутым высоким маршам, остановились перед обшарпанной дверью. Колотов позвонил и отступил по привычке в сторону, прислонившись к холодным железным перилам.
— А если Стилет там? — прошептал Скворцов и сунул руку за пазуху.
— Кто? — Голос прозвучал внезапно, ни шагов не было слышно, ни движения какого, и оперативники замерли от неожиданности. Колотов взглянул на сотрудников, обтер пальцами уголки губ, кивнул им и заговорил громко:
— До каких пор вообще ты безобразничать будешь, понимаешь ли?! Спокойно жить, понимаешь ли, нельзя! То музыка грохочет, то воду льешь, все потолки залил, поганец, понимаешь ли! Житья нет, покою нет, управы нет! Я вот сейчас в милицию, я вот в ЖЭК!
— Тише, тише, не шуми, — забасили за дверью, — ща все уладим. — Защелкали замки. — Ты что-то перепутал, сосед. У меня ничего не льется.
Дверь открылась, и в проеме возник темный силуэт. Колотов метнулся к нему, стал вплотную, чтоб лишить седого красавца маневренности, выдохнул ему в лицо чеканным шепотом: «Милиция», — и только потом поднес к его глазам раскрытое удостоверение. Маратов сказал: «Ой», — и отступил на шаг. Колотов шагнул вслед, за его спиной в квартиру втиснулись оперативник и шофер и, стараясь ступать неслышно, поспешили в комнату. Колотов упер палец в живот художника и порекомендовал, обаятельно улыбаясь: «Не дыши!» Сначала, когда Колотов сказал про милицию, у Маратова застыло лицо, когда Колотов показал удостоверение, у художника застыли глаза, а теперь застыло дыхание, а вместе с ним и все его большое тело, и стал художник похож на скульптурный автопортрет, очень талантливый и правдивый.
— Чисто, — доложил из комнаты Скворцов.
— Вернее, пусто, — поправил Лаптев. — Что касается чистоты, то сие проблематично.
— Слова-то какие знаешь, — позавидовал Скворцов.
— На счет три можете выдохнуть, — сказал Колотов, — и почувствуете себя обновленным.
Колотов сделал несколько беспорядочных пассов руками, затем замер, направил на Маратова полусогнутые пальцы и, насупив брови, произнес загробным голосом:
— Раз, два, три!
На счет «три» благородное, слегка потрепанное лицо живописца налилось злобой, глаза подернулись мутной пеленой, как перед буйным припадком, и он выцедил, прерывисто дыша:
— Сумасшедший дом!.. Произвол!.. И на вас есть управа!
— Новый человек! — восхитился Колотов.
— Вы ответите! Это просто так не пройдет, — продолжал яриться седой художник. — Меня знают в городе!..
— Вы достойный человек, никто не оспаривает, — заметил Колотов. — Но наши действия вынужденны, — Колотов широко и добро улыбнулся. — Сейчас я все объясню.
Он захлопнул входную дверь, с удивлением обратив внимание, что изнутри она богато обита высшего качества белым, приятно пахнущим дерматином. Да и прихожая в мастерской, как в квартире у сановного человека, отделана темным лакированным деревом. На стенах причудливые светильники, пестрые эстампы, два мягких кресла, стеклянный прозрачный столик, плоский заграничный телевизор с чуть ли не метровым экраном. «Замечательная жизнь у отечественных живописцев. А все жалуются…»
Колотов прошел в небольшую квадратную комнату. Маратов, нервно одернув длинный, заляпанный краской свитер, деревянно шагнул за ним. «И здесь неплохо. Цветные, узорчатые обои, стереоустановка, опять же картины и эстампы. Только вот прав был Лаптев, не совсем чисто». Две полукруглые кушетки со спинками опоясывали маленький столик с остатками вчерашнего, видимо, бурного ужина — грязные тарелки, пустые бутылки, окурки повсюду, на полу и даже на кушетках.
«…Сегодня у авангардиста Матюшкина соберутся интересные люди, — вспомнил Колотов. — Споры, разговоры, смех, вкусные напитки, влажная духота и завлекательная дикторша по левую руку, рядом, вплотную, можно ласково коснуться невзначай…»
Колотов провел по липу ладонью, повернулся к Маратову:
— Интересная у вас жизнь, Андрей Семенович, выставки, вернисажи, премьеры, банкеты, много знакомств, много замечательных людей вокруг…
— Неплохая жизнь, — угрюмый художник стоял у окна, крепко скрестив руки на груди. — Да не вам судить.
— Но много и случайных знакомств, — Колотов не реагировал на такие невежливые слова. —Кто-то подошел в ресторане, кого-то привели в мастерскую друзья. Так?
Художник молчал, неприязненно глядя на Колотова.
— И разные бывают эти знакомые, и плохие и не очень, честные и нечестные, — с простодушной улыбкой продолжал Колотов. — Всем в душу-то не влезешь.
— Что вы хотите? — нетерпеливо спросил Маратов.
— Помогите нам. Вспомните одного занятного человечка. Лет сорока пяти — пятидесяти, высокий, дородный, радушный, хорошо одевается, ходит вальяжно, глаза серые, нос прямой, чуть прижатый внизу, зовут Василий Никанорович, иногда кличут… Стилет.
Маратов сунул ладони под мышки и покрутил головой.
— Не знаете? — уточнил Колотов.
Художник опять покрутил головой, разжал руки и стал тщательно слюнявым пальцем стирать пятно охры, въевшейся в свитер, видать, не один год назад.
— У меня есть человек, — сказал Колотов, разглядывая карандашные городские пейзажики на стенах, — который подтвердит, что видел вас вдвоем. Два раза!
— Да мало ли их, с кем я встречаюсь! — опять взъярился Маратов. Седые волосы встопорщились на висках. — Пети, Саши, Мани…
— Я про это и говорю, — Колотов сделал светлое лицо и заговорил с художником как с дитем. — Вспомните, вспомните… — Он указал на дверь, расположенную напротив входной. — Что там?
— Рабочее, так сказать, помещение, — словно декламируя стихи на торжественном вечере в День милиции, проговорил Скворцов. — Убежище, так сказать, творца. Короче говоря, мастерская. Скульптуры, картины, мольберты и кисти…
Колотов посмотрел на дверь, на Скворцова, потом опять на дверь. Скворцов хмыкнул, жестом позвал с собой Лаптева.
— Пойдем понаслаждаемся, — сказал он.
— Доброе помещение, — заметил Колотов, повернувшись к художнику. — Вторая квартира. Не многовато, а? На одного?
— Не понял?! — вскинул голову Маратов. — Я по закону. От исполкома. Мне положено. За свои деньги!
— Притон, — коротко квалифицировал Колотов и кивнул на заплеванный стол.
— Дружеская встреча по поводу…
— Антиобщественный образ жизни. Система.
— Да уверяю вас, это не так.
— Заявления соседей…
— Завистники…
— Связь с уголовно-преступным элементом, совращение малолетних, наркотики…
— Да нет же, нет!..
Глухо грохотнуло в мастерской, мелко задрожал пол под ногами. Маратов посмотрел затравленно на безмятежного Колотова и кинулся в мастерскую. Не добежал. В дверях перед ним вырос Скворцов. Он сокрушенно качал головой. Лицо у него было расстроенное и виноватое, в глазах искренняя мольба о прощении.
— Случайно, — тихо проговорил он. — Не нарочно. Я такой крупный, плечистый, а у вас так там всего много. Тесно. Задел ба-алыпой бюст, — он, вздохнув, показал руками, какой был большой бюст, — какого-то толстого, ушастого дядьки…
— О боже! — прозудел Маратов и защемил себе висок. — Это же директор универ… — Он махнул рукой.
— А там еще остался Лаптев, — пожаловался Скворцов и указал пальцем себе за спину. — А он тоже немаленький.
Маратов тряхнул головой, как лошадь после долгой и быстрой дороги, повернулся к Колотову.
— Знаю я этого Василия Никаноровича, — негромко сознался он и, помедлив, раздраженно повысил голос: — Знаю! Знаю!
— Вот так бы сразу, — заулыбался Колотов.
— Иезуиты! — не сдержался художник.
— Оскорбление при исполнении? — справился Скворцов у Колотова.
— Кто-то привел его ко мне, не помню кто. — Художник мыском ботинка загнал под стол валявшуюся на полу пробку. — Мы сидели, выпивали. Народу было много. Шум, гомон. Музыка. Я был пьян. Познакомились. Он мне понравился. Широкий дядька. Я ему тоже вроде. На следующий день он пришел. Работы мои посмотрел. Купил кое-что. Дорого дал. Я отказывался, а он — нет, мол, бери, ты, мол, настоящий художник, ну и так далее. Потом раза два встречались. Он мне заказы делал. Пейзажики разные… Я писал.
— Все? — спросил Колотов.
— Все. — Маратов приложил руки к груди.
— Как вы связывались?
— Он звонил.
— Как его найти, не знаете?
— Нет, нет, нет.
Из мастерской вышел Лаптев. Он был весел. Маленькие глазки его возбужденно блестели, как перед долгожданной встречей с любимой. Он хитро подмигнул, показал себе за спину, закатил глаза и покачал головой из стороны в сторону.
— Там такое… — наконец подал он голос.
— Ну, — поторопил его Колотов.
— Три стопочки икон за мольбертами, среди хлама. Красивые. У бабки моей, русской крестьянки, — зачастил шофер, — были менее сверкающие и симпатичные. Они были скромные и это… непритязательные. А она ведь была трудовая женщина, не бедная…
— Как вы смеете? — Лицо Маратова обострилось, появился неровный румянец на скулах. — Вы не имеете права обыскивать. Покажите ордер!..
— Это случайность, — успокаивающе проговорил Колотов. — Товарищ Лаптев любовался картинами и вдруг увидел необычные предметы и в порядке дружеского общения сообщил нам. Так? — повернулся он к Лаптеву.
— Конечно, — Лаптев развел руками и с осуждением посмотрел на художника: мол, как ты можешь меня, такого симпатягу, подозревать в чем-то непотребном. Художник с силой сжал руками полы длинного свитера, потянул его вниз, повел подбородком, зло ощерился.
— Я буду жаловаться! — сквозь зубы веско проговорил он.
— Ладно, хватит! — отрезал Колотов. — Закончили наши игры. Давайте все как есть, живописец. Начал говорить, говори до конца. — Колотов извлек из кармана листок. — Вот опись похищенных икон. Если хоть одна из них найдется среди твоих…
…Маратов перестал тянуть свитер. Посмотрел в окно. Пасмурно. Но видно, что еще тепло. Осень, конец сентября. Нижние окна соседних домов отливают желтым — это деревья смотрятся в них, смотрятся и грустят о прошедшем веселом лете. Он вспомнил другую осень, подготовку к первой выставке, суматошную суету, радостное возбуждение, предощущение чего-то значительного, великого, светлое пятно Наташиного лица, укрытого мраком ночи, холодный фужер с шампанским, прижатый ко лбу, и как он шептал в маленькое, нежное ее ушко: «Это мой шанс, я чувствую, мы уедем к черту из этого городишки, мы будем жить в Москве, она падет ниц передо мной, как не пала перед Наполеоном…»
— Картины не приносят большого дохода, — негромко проговорил он. — Здесь нет истинных ценителей. А за реставрацию икон он платил очень прилично. Самое главное, что я не спрашивал, откуда они. Я и вправду не знал, откуда они. Вы верите? — он заглянул в глаза Колотову. — Верите?
Колотов молчал, безучастно разглядывая Маратова.
— Он звонил сегодня утром, — продолжал погрустневший художник. — Сказал, какие-то неприятности у него, сказал, что позвонит завтра после двух и заедет за товаром, в смысле за готовыми досками…
— Наши сотрудники останутся у вас, — сказал Колотов. — Придется не выходить никуда, покуда он не придет. Потерпите. Ну а потом подумаем, что с вами делать.
Весь оставшийся день, весь вечер и даже часть ночи — никак не мог заснуть почти до трех — он старался не забыть, как он разговаривал с художником, пытался поточнее вспомнить выражения, которые употреблял в допросах Питона и Гуляя, восстанавливал эмоциональное состояние, в котором пребывал в те моменты — нельзя же осрамить великий милицейский клан перед этими фасонистыми киномолодцами, — и утром уже четко знал, что и как будет говорить на допросе с киношным жуликом.
В управление он вошел веселым, бодрым, подтянутым, несмотря на то, что спал-то мало — хотя в его возрасте это пока не столь важно.
Возле кабинета, предоставленного съемочной группе, остановился, пригладил волосы, одернул пиджак, слегка рукава подтянул, перед дракой словно, и только тогда потянулся к двери. Но не открыл ее, не вошел, пальцами только рассеянно помял скользкую металлическую ручку, пальцы горячие, влажные, а потом и вовсе руку отнял, оглядел ладонь с подозрением, обтер ее о пиджак, старательно, от плеча до пояса, будто и не учили его в советской школе светским манерам и хорошему тону. Почему не вошел? Сдвинул брови, размышляя, механически вынул сигарету, закурил. «Ну и войду, — подумал, — а дальше?…»
…А дальше так.
Капаров тоже был сегодня бодрый и подтяігутьій.
Он обрадовался, увидев Колотова, заспешил навстречу, белозубо улыбаясь.
— Ждем, ждем, — заговорил он, учтиво беря Колотова под локоть. — Осматривайтесь, осваивайтесь, обживайтесь, — Он рукой обвел кабинет.
По углам, как солдаты на утренней поверке, вытянувшись изо всех сил, на тонких ножках стояли еще сонные, слепые прожекторы с «ушками» по бокам, на полу беспорядочно громоздились деревянные и железные ящики, удавами извивались толстые провода, тенями по кабинету сновали люди с деловыми лицами. Какой-то молодой парень в наушниках прилаживал к штативу длинный, похожий на батон сырокопченой колбасы микрофон. А посреди кабинета на треноге замер среди всего этого странного действа, предмет, ради которого расставлялись маленькие прожекторы, ящики, протягивались провода, прилаживался колбасовидный микрофон — камера. Короткий, с раструбом, как у старинных ружей, ствол ее был направлен на стул, где должен был сидеть и произносить правдивые слова Колотов.
— Хотя, впрочем, чего вам обживаться, — добавил режиссер. — Вы в этом кабинете небось каждый день бываете.
Колотов машинально кивнул, не сводя глаз с черного зрачка камеры.
Капаров поймал его взгляд, хмыкнул.
— Она еще не работает, — сказал он.
— Я вижу, — Колотов постарался произнести эти слова сухо и безразлично.
— Для начала прорепетируем. Хорошо? — Капаров все время улыбался и делал доброе лицо, будто разговаривал с малышом. — Репетиция — залог хороших съемок. Согласны?
Колотов поудобней расположился за столом.
— Расслабьтесь, — посоветовал режиссер. — Забудьте о камере, о лигах, о людях, обо мне… Постарайтесь забыть. Люди вашей профессии должны это уметь, уметь отключаться.
— Я отключился, — неуверенно произнес Колотов.
— Вот и прекрасно, — заключил Капаров. — Начнем. Представьте, что задержанный я. Вот я сажусь напротив, — режиссер сел. — Я расстроен, мрачен, весь замкнут на себя, — режиссер поджал губы, с нехорошим прищуром покосился на Колотова. — Импровизируйте, — осиплым в студеных застенках голосом проговорил он.
Колотов обтер уголки губ, невольно откинулся на спинку стула, постучал пальцами по столу, поднял глаза на режиссера, открыл рот, набрал воздуха, застыл так на мгновение и выдохнул, помотав головой.
— Ну что? — тихим, терпеливым голосом спросил режиссер.
— Сейчас, — Колотов переменил позу. Он оперся на стол руками и подался вперед, набрал воздуху… — Вы будете говорить или нет? — вдруг произнес он слабо и едва слышно текст сценария и по инерции продолжил: — Лучше признавайтесь сразу…
Режиссер сочувственно посмотрел на него и негромко засвистел незатейливый мотивчик из телефильмов про знатоков.
— Так, — сказал он, когда закончил насвистывать. — Что случилось?
Колотов молча пожал плечами и закрыл глаза. Он увидел Питона, его смуглое, брезгливое лицо, его большой, тонкий рот, кривящийся в усмешке…
— Сейчас, — сказал он. — Минуту.
— Может быть, создать обстановочку? — поинтересовался Капаров. — Вы тогда соберетесь. Знаете, как бывает в экстремальных ситуациях? — Он крикнул за спину: — Саша, Володя, Семен, давайте свет, звук, готовьте камеру.
Ударили белым диги. Под веками защипало. Колотов зажмурился.
— Сейчас привыкнете, — из темноты успокоил Капаров.
На какое-то время все словно забыли о Колотове. Режиссер громко и раздраженно отдавал указания, шумно засуетились люди из съемочной группы, оператор ругался с помощником из-за какой-то кривой бобины. Колотов тем временем курил и настойчиво сосредоточивался.
— Все! — крикнул наконец режиссер. — Работаем. — Он снова сел на стул, сделал бандитское лицо, сказал Колотову с хрипотцой, нажитой в жестоких карточных спорах: — Сегодня снимаем только вас. Я подыграю за актера. Давайте. Приготовились, — крикнул он, выпятив челюсть. — Хлопушка! Мотор! Начали!
Застрекотала камера, затихли в темноте киношники. Колотов опять обтер уголки губ. Губы были горячие, будто их только что подпаливали на костре. Колотов сначала откинулся на спинку, некоторое время пристально смотрел на Капарова. «Хорошо», — подбадривая, прохрипел режиссер. Потом Колотов стал угрожающе наклонятся вперед, пальцы его побелели, вдавливаясь в стол. Он открыл рот, вздохнул…
— Вы будете говорить или нет?! — рявкнул он громово. — Лучше признавайтесь сразу!..
— Стоп! — скучно приказал режиссер. — Довольно. Пленка у нас в стране дорогая…
Оператор снял кепочку, провел рукой по волосам. Потухли диги, медно мигнув напоследок.
Капаров помассировал шею, медленно поднялся, подошел к неподвижно сидящему Колотову, положил ему руку на плечо.
— Не расстраивайтесь. Ерунда, — сказал он. Мы найдем актера.
Ассистенты и рабочие, переговариваясь и прикуривая друг у друга, потянулись к двери.
Взгляд Колотова упал на руку. Пальцы крепко сжимали тлеющую сигарету… Он поднес руку к губам, но курить расхотелось, и он бросил сигарету в сторону урны. Не попал. Сигарета сиротливо лежала на вымытом полу и обиженно дымилась. Колотов сделал шаг, нагнулся, чтобы поднять ее и отправить к обугленным сестренкам.
Капаров отчетливо кому-то сказал: «Ты что, дурак?»
Колотов выпрямился, резко развернулся, выскочил из комнаты и побежал по коридору. Прыжками преодолел лестницу. На втором этаже замедлил шаг. Вымученно улыбаясь и сдержанно кивая сотрудникам, дошел до своего кабинета. Вставил ключ в скважину. Вошел. Закрылся. Оперся горячей спиной о сейф. Постоял так с полминуты. Холод успокоил. Колотов улыбнулся.
«Сегодня я возьму Стилета, — подумал он, — и все будет хорошо».
СУПЕРМЕН
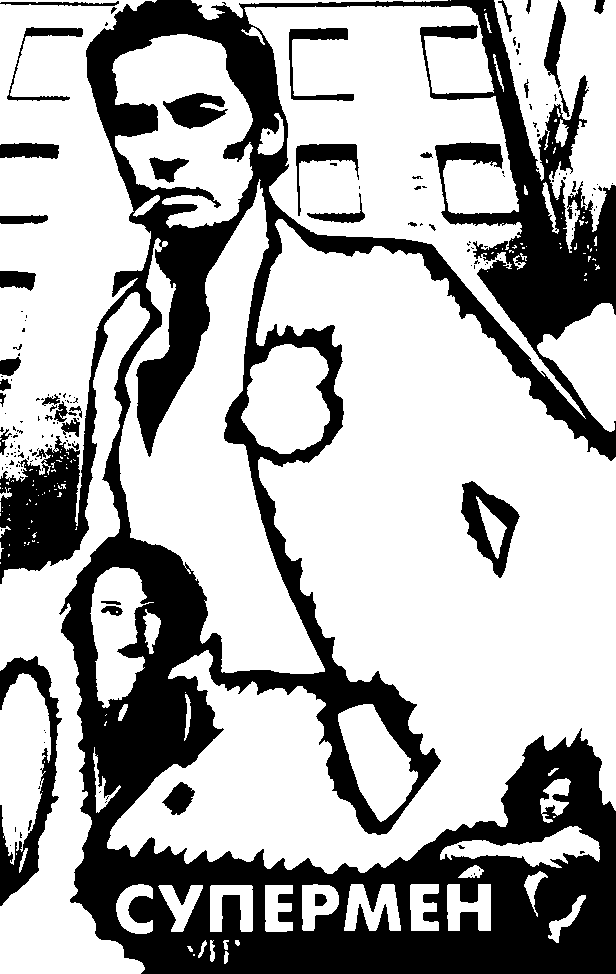
Часть первая 20–26 июля
Сегодня тихо и безветренно, покойно и солнечно с самого утра. Днем в каленом сизо-белом небе висели два — три облачка, дырявые, косматые, да и те обречены были, растаяли к вечеру. А еще ночью шел дождь, злой и студеный. И вчера он шел, и позавчера. Тяжелый, он побил цветы, кустарник, издырявил, а затем и зацементировал пляжи, жестоко разогнал пригревшихся отдыхающих, выхолодил прибрежную кромку моря, изувечил дороги глубокими обширными лужами. И конечно, берег в этот день был пустынный и скучный, и не отливал песок золотом слепяще и весело, и не томилось в нем большое тепло, такое желанное и уютное, был он серый и мокрый и утрамбованный почти до твердости заезженного проселка. Все ждали, когда он размякнет, высушится. Когда это будет? К ночи? Завтра? …Вдоль пляжа неслась машина, ревела сердито, мощь свою выказывая. Ружин гнал «Жигули» почти на предельной скорости. Неожиданно затормозил, вывернул вбок, так, чтобы закрутилась машина волчком, веером высекая из-под колес мокрый песок, завертел восьмерки на полном ходу; подбадривая себя хриплыми вскриками, вдруг врезался в воду, въехал как на амфибии по самые дверцы, развернулся по дну, бешено вспенивая бегущие к берегу волны, и погнал вдоль пляжа, с шипеньем рассекая воду. Лера охала, вскрикивала, то и дело зажмуривалась в испуге; вдруг хваталась за руль, а при резком повороте опрокидывалась на Ружина, непроизвольно обнимая его. — Умница. Не надо скрывать своих потаенных желаний, — объявлял Ружин и добавлял, веселясь: — Еще разок, пожалуйста, — и снова на предельной скорости клал машину в вираж. Они не видели, как бесшумно, выключив мотор на спуске, катил по шоссе вдоль пляжа сине-желтый милицейский мотоцикл с коляской и со старшим сержантом в седле. Одной рукой старший сержант держался за руль, другой расстегивал шлем, стирал со лба пот. Жарко, а старший сержант в теплом кителе, и галстук тугой петлей сжимает его горло. Приказали позавчера по случаю дождей и холодов в кителе на смену заступать, а сегодня не отменили, вот и парится старший сержант, не смея пуговку расстегнуть — дисциплинированный, сознательный, примерный. Остановил он мотоцикл там, где кусты погуще, чтоб со стороны пляжа трудно заприметить его было, снял шлем, подправил влажные короткие волосы и принялся бесстрастно наблюдать за ружинскими кренделями. — Я больше не могу, — сказала Лера, мертво вцепившись в сиденье. Ружин сделал очередной вираж, крутой, с рисковым креном. — Я умру, прямо здесь. И тебя посадят. Убийца. — Меня оправдают, — возразил Ружин. — Я докажу, что ты нимфоманка и садомазохистка. У нас этого не одобряют. — Дурак, — сказала Лера. — Хо-хо-хо, — отозвался Ружин. — Не любишь правду… — Я тебя ненавижу, — почти не разжимая губ, проговорила Лера. — Раз так, — Ружин пожал плечами, — я могу выйти. — Он вдруг бросил руль, открыл свою дверцу. Лера вцепилась в него, закричала испуганно: — Не надо, Сереженька! Ружин захлопнул дверцу, положил руки на руль, заметил удовлетворенно: — Значит, все-таки я тебе нужен? — Конечно же нет, — Лера отвернулась к окну, хмурясь. — Нет? — переспросил Ружин. — Нет, — подтвердила Лера. — Тогда смерть, — сказал Ружин. — Для обоих. Я давно мечтал об этом. Она соединит нас навечно. — Он разогнался с ревом, мощно. — До скорого свидания! Машина неслась на темную, мокрую скалу, с острой верхушкой. Лицо у Ружина недвижное, маска, глаза без выражения, прозрачные, солнце бьет в лобовое стекло, и стекло оттого белое, будто молоком залитое. Лера закричала истошно, обреченно. Высокий, звенящий голос сорвался на хрип. Ружин вдавил педаль тормоза. Машина, качнувшись, застыла перед самой скалой. Лера обхватила руками голову, сморщилась некрасиво, заплакала, тихо, безнадежно. — Ну зачем? — сказал Ружин скучно. — Зачем, а? Старший сержант сплюнул, проследил за полетом плевка, внимательно рассмотрел место падения, аккуратно засыпал плевок и, обтерев со лба пот рукавом кителя, надел лежавшую в коляске фуражку. Лера достала сумку с заднего сиденья, вынула косметичку, смотрясь в зеркальце, платком вытерла щеки, промокнула глаза, выпятив нижнюю губу, подула на них. — Ты за что-то мстишь мне? — спросила она. — За что? Ружин оживился. — Мщу, — кивнул он. — За тех добрых и порядочных парней, которых ты совратила и обесчестила. — Он повысил голос, заговорил торжественно-обличающе: — За тех, кто поверил тебе и которых ты обманула! Я мщу за поруганную честь, за отцов-одиночек… — Я не шучу, — перебила его Лера. — А я шучу, — ухмыльнулся Ружин. — Шучу, понимаешь? Я веселый. Ты не замечала? — Поехали, — сухо сказала Лера. — Поехали, — согласился Ружин. Машина тронулась и покатила к шоссе, почти к тому самому месту, где хоронился старший сержант в кителе и с мотоциклом. Скрипуче пробуксовывая на отлогом подъеме, автомобиль наконец выбрался на шоссе. Сержант надвинул фуражку на лоб, перегнулся, достал из коляски жезл, ударил им, будто дубинкой, несколько раз по ладони левой руки и неторопливо зашагал навстречу. Когда машина была метрах в двадцати, он махнул жезлом. — Ну вот еще, — сказал Ружин и прибавил газу. Сержант невольно отпрыгнул в сторону. Опомнившись, засвистел что есть силы, мелко подергивая головой от напряжения. — Во соловей, — усмехнулся Ружин, взглянув в зеркальце заднего обзора. — Ща фуражка слетит. — Кто придумал эти дурацкие свистки? — сказала Лера. — Звук у них неправильный, истеричный, безвкусный. От него хочется бежать, а не останавливаться. Глупые люди. Вот если бы ГАИ флейты дали. — Или в крайнем случае горны, — заметил Ружин. — Нет, флейты лучше, — мотнула головой Лера. — Они нежнее, мелодичней… — А горны громче, — не отступал Ружин. — Их лучше слышно. — Дело не в громкости, — разозлилась Лера. — А дело в отношении к людям… Флейта говорит: «Остановитесь, пожалуйста, дорогой товарищ, к моему глубокому сожалению, я должен проверить у вас документы…» А горн, что и свисток: «Стоять! Документы давать! Всех расстрелять!» — Нет, — не согласился Ружин, — у горна все-таки звуковой оттенок более уважительный и солидный, чем у свистка… — Он взглянул в зеркальце и подивился: — Резво шпарит. Ну-ну, — сказал он и надавил на акселератор. Шоссе ушло в сторону от моря, потянулось в гору, вдалеке замелькал серпантин. Ружин уверенно и красиво вписывался в повороты. Сержант стал отставать. На втором витке он съехал с шоссе и двинул напрямик, по грязи, камням, мокрой траве. Мотоцикл ревел, буксовал, выбрасывая из-под колес комья мокрой земли, и наконец завалился набок, придавив сержанту ногу. Сержант заорал, и лицо у него сделалось свекольным. Но вот, вдоволь наизвивавшись и набранившись, неразборчиво и невнятно, но чрезвычайно грубо и зло, сержант выбрался все-таки из-под мотоцикла и, держась за фуражку, спотыкаясь, помчался наверх, к шоссе. Успел-таки. Замызганный, свирепый, выбежал на середину дороги, расставил ноги, расставил руки, залился визгливым свистом, задрожал от победной радости. Лера скривившись, закрыла уши руками, а Ружин, ухмыляясь, метрах в двадцати от сержанта резко надавил на тормоз. Заскрипели колодки, зашипели колеса, машину повело слегка юзом, и остановилась она возле самого сержанта. Бампер уперся прямо ему в ноги. Ружин открыл дверь, но выходить не стал. — Угости сигареткой, — попросил он. — Что? — оторопел сержант. — Целый день за рулем, — Ружин помассировал шею. — А ни одной сигаретки так и не выкурил. Хочется, понимаешь ли, до смерти… — Ружин удивленно уставился на сержантовы галифе: — А чего грязный-то такой? — спросил сочувственно. — Документы! — вскипая, выцедил сержант. — Документы? Ну давай, показывай, — добродушно улыбнулся Ружин и протянул руку. — Твои документы! — сержант слабо шевельнул закаменевшими от злобы губами и вдруг заорал: — Быстро! Давай быстро! Ружин вылез из машины, успокаивающе выставил ладони, зачастил бархатно: — Тихо, тихо, тихо… — Извлек из кармана куртки документы, протянул сержанту. Тот нетерпеливо вырвал их и стал жадно рассматривать, одновременно мстительно восклицая: — Въезд в заповедную зону! Неповиновение работнику милиции! Превышение скорости!.. Дорого заплатишь! — Сержант, сержант, — миролюбиво проговорил Ружин, — послушай, здесь такое дело… — Он наклонился к уху милиционера и что-то энергично зашептал. Шептал долго. Лицо сержанта понемногу прояснилось, губы размягчились, запун-цовели, он то и дело поглядывал сквозь стекло на Леру, наконец, кивнул головой, и тогда Ружин вынул из кармана сиреневую купюру и протянул ее сержанту, тот опять кивнул и положил деньги в карман. Получив документы, Ружин кинул их через открытое окно на сиденье, затем опять полез в куртку и вынул оттуда красную книжицу. Раскрыл ее, показал сержанту, представился: — Капитан милиции Ружин. Старший оперуполномоченный уголовного розыска. Теперь твоя очередь, — Ружин протянул руку. — Документы. Удивительные порой процессы происходят в человеческом организме, все вроде уже дотошные врачи объяснили, ан нет, все равно изумляешься, когда видишь, как лицо человека в мгновенье меняет цвет, как в мультфильме. Был сержант бурачковый, а стал сержант крахмальный, даже глаза обесцветились. — Нет, — сказал он. — Да, — сказал он. — Хотя нет, — сказал он. — Хотя не знаю, сказал он и стал тереть глаза, как ребенок, а потом сказал: — Я больше не буду, простите, — а потом сказал: — Я не местный, и в армии отличником боевой и политической подготовки был, музыкальным ансамблем руководил, пользовался авторитетом… Ружин сунул удостоверение сержанта в карман, вскинул голову, проговорил негромко, но весомо: — Такие, как ты, ввергают отечество в хаос. Такие, как ты, способствуют хозяйственному развалу и моральному застою. Ты тот самый бракованный винтик в механизме, который мешает этому механизму нормально работать, а вам, этим винтикам, имя легион, вас сотни, тысячи, миллионы. — Десятки миллионов, — обиженно подсказала Лера из машины. — Десятки миллионов, — подтвердил Ружин. — Такие, как ты, позорят, компрометируют, дискредитируют само звание — советский милиционер. — Ружин вытянул к нему указательный палец. — Это же высочайшее, это святейшее звание — советский милиционер… Ты зачем пошел в милицию? А? Чтобы форму получить? Чтобы деньги получить? Чтобы власть получить? Чтобы восполнить свою ущербность, неполноценность? Чтобы отомстить кому-то? Чтобы что-то доказать кому-то? Или чтобы избавить общество от мерзавцев и негодяев? Сержант какое-то время моргал, прикусывал губы, а потом ответил: — Эта… Чтобы избавить… Ружин просунул голову внутрь машины: — Он идиот, — сказал он Лере. — Открой бардачок. Достань лист бумаги. Ружин выпрямился, положил бумагу на капот, извлек из нагрудного кармана ручку, подал ее сержанту. — Пиши, — сказал он. — Что? — обреченно спросил сержант. — Я продиктую. Сержант согнулся над капотом. — Начальнику управления внутренних дел… — диктовал Ружин. — Я такой-то такой-то, такого-то числа, в таком-то месте получил от такого-то владельца автомашины такой-то деньги в сумме двадцати пяти рублей за нарушение своих должностных обязанностей. — Сержант бросил писать и испуганно поднял голову. — Пиши, пиши, — спокойно сказал Ружин. — Или можем разобраться прямо сейчас, в управлении. Поехали, — предложил он. — Или об этом буду знать только я и свидетель, — он указал на Леру. Сержант опустил голову. — За нарушение должностных обязанностей, — продолжил Ружин, — кои выражались в отсутствии наказания водителя такого-то за въезд в заповедную зону, превышение скорости, неповиновение работнику милиции. С красной строки. Я все осознал. И больше такого в моей профессиональной практике не повторится. Число, подпись. Ружин все добросовестно прочитал, кивнул, сложил бумагу, сунул ее в карман. Протянул руку, сказал коротко: — Деньги, и деньги положил в карман, а взамен отдал сержанту документы. Сел в машину. — Бывай здоров, — сказал на прощанье. Машина тронулась, и Ружин рассмеялся: — Как он вдумчиво мне внимал, ты видела? — Я видела, как ты упивался, — ответила Лера. — Ты несправедлива, — возразил Ружин. — Я работал. Авось когда-нибудь эта бумажка и пригодится. — Он машинально посмотрел в зеркальце — на шоссе сзади никого не было — и опять заговорил: — Однажды старый еврей пришел к Гришке Распутину и дал ему сто рублей. «Зачем?» — удивился Гришка. «Может, вспомнишь когда», — ответил еврей. Вот так. — Какой ты ушлый, — усмехнулась Лера. Ружин искоса посмотрел на женщину. — Дальновидный, — поправил он. …Когда они въехали в город, стало смеркаться. Грустное время, и уже не день, и еще не вечер, и не ночь, так, не поймешь не разберешь, словно вне жизни существуешь в этот час, без опоры, без определенности, мысль не может ни за что зацепиться спасительное… Так не у всех, наверное. Да конечно же не у всех. А у Ружина так… Город готовился к вечеру, засветились неоновые буквы на отелях, засветились окна в кафе и ресторанах. Густо потек народ с пляжей. Надо быстро поужинать. И приодеться — для прогулок и развлечений. — Уже темно, — сказал Ружин. — Может прямо к дому? — Нет, — ответила Лера. — Останови тут. Старухи в твоем дворе, как кошки. Им что ночь, что день… Ружин притормозил. Лера вышла. — Через пять минут жду, — сказал Ружин ей вслед и мягко тронулся с места. В своем дворе он припарковал машину, вышел, любезно поздоровался с глазастыми старушками, поднялся на третий этаж, вошел в квартиру, закрыл дверь, прислонился к ней спиной, с силой провел пальцами по лицу, зашел в ванную, включил свет, намочил под краном руки, опять провел ладонями по лицу, взглянул на себя в зеркало. — Зачем? — спросил он себя. — Зачем, а? В комнате он снял куртку, бросил ее на диван, расстегнул рубашку, потянулся с усилием, взял сигарету, прикурил, массируя шею, подошел к окну, нагнулся, рассеянно вглядываясь в темный провал его, пробормотал что-то и, неосторожно подавшись вперед, ткнулся лбом в стекло. Стекло треснуло сухо, задрожало, глухо прогудев, и два крупных клинообразных куска обвалились со звоном, раскололись меж рамами. — А-а-а, черт! — взвыл Ружин, смахивая кровь со лба. Входная дверь распахнулась, вошла Лера, она бросила сумку и ключи на кресло и только после этого заметила разбитое окно и кровь на лице у Ружина. Подбежала, заохала, разглядывая; помчалась в ванную, принесла мокрое полотенце, стерла кровь… — Ерунда, — сказала. — Ссадина. Залепила ранку пластырем, провела прохладной ладонью по щеке Ружина, по губам. Он улыбнулся, поцеловал ее пальцы. — Как не вовремя, — сказал он. — С такой мордой я распугаю весь ресторан. — Отлично, — смеясь, проговорила Лера. — Я хочу поскорее посмотреть, как это будет. Представляешь, — она сделала свирепое лицо, сдвинула брови и выпятила челюсть, — ты входишь первый, со ссадиной. Крик ужаса, все срываются с места и, опрокидывая столики, мечутся по залу. И тут появляюсь я. В белом платье. Удивление. Восторг. Обмороки. — Инфернальная парочка, — содрогнулся Ружин. Лера посмотрела на часы. — Пора собираться, — сказала она, держась за Ружина, расстегнула туфли, небрежно скинула их и босая прошлепала в ванную. Ружин сел на мягкую квадратную кровать, покачался на ней несколько раз, с веселым любопытством прислушиваясь к томным вздохам матраца, потом потянулся к телефону, стоящему на тумбочке, набрал номер. — Это я, — сообщил он, когда ему ответили. — Ну как?.. Наверное, он дозвониться не может, вы там, балаболки, висите на телефоне… Ну хорошо, еще полчаса я дома, потом минут двадцать в дороге и примерно до часу буду в «Кипарисе», звони туда, спросишь метра, Михалыча, он позовет. Все. Шум воды в ванной стих. Появилась Лера. Она никак не могла справиться с просторным и длинным ружинским халатом, он волочился по полу, путался в ногах. Сделав шаг, чуть не упала, хихикнула. Лоснящееся от крема лицо было расслабленным, умиротворенным. — Хочется жить, — сказала она и добавила, подумав: — Я останусь у тебя после ресторана. Плевать на все. — Я всегда верил в тебя, — сказал Ружин. — И не ошибся. — Он поднялся. — Какой костюм надеть? — Бежевый, — откликнулась Лера, — французский. Мой любимый. Ружин вышел из комнаты. Лера закрыла глаза, вздохнула глубоко, решительно подошла к телефону, сняла трубку и вдруг заколебалась, потерла трубкой висок, посмотрела в окно. Под черным небом насыщенный жизнью и электричеством волновался город. — Наймусь юнгой и уйду в Сингапур, — сказала Лера. — Там бананы. Она набрала номер, ласково заулыбалась трубке. — Мишенька, ты уже дома? — тихо спросила Лера. — Молодец. Ты у меня примерный. Есть суп, есть картофельные котлеты… А, уже поел… Ну, посиди, почитай или поработай. Приду поздно, наверное, ночью… Не сердись. На мне сейчас два индивидуала из Бельгии. Ленка заболела, другого переводчика не могли найти, как всегда, под руку попалась я, надо их проводить, а до этого покатать по ночному побережью. Программа… Ну, не сердись… Целую… Повесив трубку, невесело усмехнулась и сразу стала набирать другой номер. — Ленечка, — нежно проговорила она. — Слава богу, что сам подошел. Ты прости, мы увидеться не сможем. Надо побыть дома. Опять напряженка с Мишей. Он, по-моему, догадывается… Нет, нет, не о тебе, вообще… Злой, по телефону всем отвечает, что меня нет… Хорошо? Ну, до завтра. Ружин быстро и умело завязал перед зеркалом темнобордовый узкий галстук, поправил воротник рубашки, осторожно провел пальцами по аккуратно уложенным волосам, надел пиджак. В зеркале увидел Леру. Она стояла на пороге комнаты в белом платье, коротком, почти прозрачном — тонкие ноги, длинные, золотистые от загара, рот приоткрыт нарочито, с вызовом. — Я раньше никогда никуда не опаздывал, — сказал Ружин, не оборачиваясь. — Но, как появилась ты, я делаю это регулярно. Он снял пиджак, швырнул его в кресло, не отрывая взгляда от женщины, жадно рассматривал ее в зеркале. Она вошла в комнату, встала рядом, дурачась, чуть наклонилась, тряхнула головой, волосы закрыли лицо, густые, ни глаз не различишь, ни губ. — А я тебя вижу, — сказала Лера, смеясь. Ружин неожиданно быстро притянул ее к себе, поцеловал. — Платье, — слабо выдохнула Лера. Ружин мял ее как куклу, судорожно шарил руками по телу. Затем, не выпуская из объятий, настойчиво потянул женщину за собой и толкнул на кровать. Лера покорилась. — Сейчас, — прерывисто зашептал Ружин. — Сейчас… — Он суетливо развязывал галстук… Затренькал телефон. Ружин расстегнул рубашку. Телефон звонил. — Идите вы к черту! — выругался Ружин и внезапно замер. — Минуту, — сказал он Лере, поднялся и взял трубку. — Да, — выдохнул нетерпеливо. — Позвонил-таки. То, что надо. Когда? Где? Отлично. Через двадцать минут в управлении. Все. Он повернулся к Лере. — У нас в запасе десять минут. — И принялся расстегивать брюки. Лера резко и легко выпрямилась. — Все, — тихо и сдержанно сказала она. — Я ухожу. — Не дури, — засмеялся Ружин. — Десять минут тоже на дороге не валяются. — Он опять обнял ее. Лера брезгливо отпрянула. — Пошел ты знаешь куда… — она встала, нервными движениями поправила платье. — Как вы мне все надоели, если б ты только знал… — И много нас? Лера нашла сумку, скомкав, побросала туда свои джинсы, рубашку, белье, осмотрелась — не забыла ли чего — и направилась к двери. — У меня же работа, — мягко заметил Ружин. Он приладил под мышкой пустую кожаную кобуру от пистолета, надел пиджак, тоже вышел в прихожую. — Да разве в этом дело, — Лера усмехнулась и открыла входную дверь. — Больше не звони. — Эй! Постой! — Ружин перестал улыбаться. — Брось! Не надо! — Он выбежал на лестничную площадку, крикнул: — Ну прости ты меня! Прости! — и тут же замолк, настороженно огляделся и шустро шмыгнул в квартиру. В управление приехал не переодевшись, как и был в бежевом костюме, бордовом галстуке. Кивнул дежурному, с кем-то поздоровался в коридоре, сильно и легко взбежал наверх, с ходу открыл дверь кабинета, она отлетела, как от порыва ветра, ударилась о стену, задрожала, загудела гулко. Навстречу ему поднялись двое молодых людей одного возраста, стройные, крепкие, чем-то похожие, по-современному одетые — джинсы, курточки. — Ты так красив, шеф, — восхитился Лахов. — Я бы влюбилась, — манерничая, проговорил Горохов. — Если б умела… Ружин невесело улыбнулся в ответ. Загремел ключами, открыл сейф. — Всю малину испортили, да? — сочувственно спросил Лахов. — Еще как, — Ружин достал из сейфа пистолет, привычно щелкнул затвором, вставил обойму, вложил оружие в кобуру. — Впору запеть «Ментовские страдания». Ну что? — он посмотрел на сотрудников. — Погнали! Рафик несся по городу. На нем никаких опознавательных знаков, ни проблесковых маячков, и сирена не глушила пронзительными звуками и тревогой беспечный курортный народ. Кроме троих оперативников, в автобусе сидели еще трое сотрудников в форме. — Смешно, — сказал Лахов, глядя в окно. — Море ненавижу, а столько лет живу здесь. — Уезжай, — лениво порекомендовал Горохов. — Уеду, — привычно легко отозвался Лахов. — А я его и не замечаю, — офицер в форме протянул всем сигареты. — Вода и вода. Чего говорить? Нет, здесь хорошо. Я вон в Мурманске служил. Холодно. — Да, да, конечно, — согласно закивал Лахов. — Надо всегда сравнивать с худшим. — Ты еще заплачь! — неожиданно резко сказал Ружин. Все посмотрели на него. Он затянулся и закашлялся, поперхнувшись дымом. Горохов хватанул его по спине. Ружин громко ойкнул, но кашлять перестал. Офицер засмеялся. Автобус притерся к тротуару. Водитель выключил мотор. Стало тихо. — Все как обычно, — заговорил Ружин. — Поднимаемся, звоним условным звонком… — А мы его знаем? — спросил офицер. — А то, — весело откликнулся Ружин. — Сыщикам слава! — офицер хлопнул в ладоши. — Понятых, естественно, надо, — продолжал Ружин. — Вы, — он указал пальцем на одного из милиционеров, — организуйте, пожалуйста. Милиционер кивнул и вышел из автобуса. — Сколько их? — спросил офицер, надевая фуражку. — Рафика хватит? Ружин пожал плечами, сказал неопределенно: — Упакуем, чай не баре… — Ну, ладненько, — кивнул офицер. — Поработаем. Давно в деле не был. Заела, понимаешь ли, канцелярия. — А кого не заела? — вздохнул Ружин и вытянул средний палец. — Гляди мозоль от ручки. — А лучше бы от курка, — с деланным тяжелым хрипом в голосе заметил Горохов. Офицер опять засмеялся. Все происходящее ему очень нравилось. В стекло постучали. Милиционер привел понятых, двух настороженных мужичков пенсионного возраста. — Теперь быстро, — сказал Ружин. Оперативники и милиционеры торопливо пересекли двор, вошли в подъезд, застучали каблуками по лестнице. Лампочки светили вполнакала, медно, да и то не на каждом этаже. Было холодно и сыро, словно и не на юге. Лахов поскользнулся, чуть не упал. — Вот дерьмо! — выругался. — Дерьмо, — негромко засмеявшись, подтвердил Горохов и посветил на лестницу фонариком. Лахов шевельнул ноздрями и сморщился. Начал старательно о лестницу соскабливать неприятность с подошвы. — Потом, — толкнул его Ружин. Наконец поднялись. Встали перед дверью. Дверь обшарпанная, давно не крашенная, но с тремя замками, добротными, новыми. Ружин оглядел коллег, потянулся к звонку. Позвонил два раза длинно, три раза коротко. Не открывали долго. Кто-то из милиционеров вздохнул: «О, господи». Но вот защелкали замки, один, второй, третий. Дверь приоткрылась. Ружин сильно толкнул ее ногой. За дверью вскрикігули, и она открылась больше чем на половину. Ружин шагнул первым. Лахов тоже переступил порог и закашлялся. — Дурь, — определил Горохов и зажал нос. В темной узкой прихожей кто-то корчился у стены. Видно, тот, кто открывал. Ружин подтолкнул его вперед, чтобы не оставался за спинами. Парень выругался, но заковылял покорно. По пути Ружин открыл дверь в ванную. Там горел свет. Голый малый тискал голую девчушку, совсем молоденькую, беленькую, худую. Горохов дернул малого за руку, тот повернулся, в белесых глазах муть, тупая ухмылка. Накачанный. Девчонка захохотала и стала чесаться. Со всей силы. В кровь. Кто-то выскочил в коридор из комнаты, грузный, растрепанный, потный. Разглядев погоны, крикнул: — Менты! — забегал шальными глазами в поисках выхода, метнулся к кухне. Ружин не останавливал его. Куда он денется, третий этаж. Но милиционеры все-таки двинулись в сторону кухни. Ружин толкнул дверь в комнату. Теперь и он закашлялся. Дым, музыка, стол с закусками, от двери до окна «стенка», дорогая, матовая. Ворсистый ковер на полу, не наш — привозной, ворс с пол-ладони, и совсем не к месту три кровати панцирные, на каждой лежат мальчишки, рты полуоткрыты, лица заостренные, как у мертвецов, на столе среди закусок шприцы, под подошвами хрустит — осколки ампул. На бархатном диване под роскошным абажуром торшера двое кавказцев, скорее всего грузины, небритые, мордатые, подняться нет сил, глядят сумрачно, пьяно. Один все-таки сумел встать до того, как Ружин к нему приблизился, нетвердо, но резво шагнул к низкому шкафчику, просунул руку между ним и стеной, вынул двустволку, не целясь выстрелил, попал в потолок, посыпалась штукатурка. Офицер присел, закрыв уши руками, фуражка упала с его головы, покатилась. Ружину мешал стол. Через него до парня не дотянуться, а тот уже прилаживался, целился. — Сука! — крикнул Ружин и с грохотом опрокинул на него тяжелый стол — зазвенела посуда неожиданно мелодично, нежно, — затем ногой двинул его в пах, отвел левой рукой стволы, а правой коротко ткнул в основание носа. Парень, удивленный, упал. Теперь им занялись Горохов и Лахов. Ружин поднял фуражку, потряс офицера за плечо, отнял его руки от ушей, протянул фуражку, обронил: — Не теряй. Дверь в кухню забаррикадировали изнутри. Милиционеры в два плеча пытались освободить себе путь. На кухне истошно вопили: — Хрен вам, падлы! Хрен моржовый! Не взять меня! Не взять! Никого не взять!.. — Хрен! Хрен! Хрен! — вторил ему еще один голос, молодой, звенящий от напряжения, страха и собственной отваги. — С водицей уйду, примет она меня, холодная, чистая, и понесет в своем чреве навстречу счастью, любви и покою… Из-под двери проворно поползли тонкие ручейки. — Воду на всю катушку включил, шизик, — переводя дыхание, усмехнулся один из милиционеров… — Пусти, пусти меня, водица! — вопил «шизик». Но вот голос стал глуше, послышалось бульканье… — А-а-а-а-а-а! — заорал молодой. — Давай! — выкрикнул Ружин, и втроем они навалились на дверь. Еще, еще… Дверь подалась… Еще… Ружин протиснулся в щель. Дверь оказалась подпертой буфетом, плитой, столом… Грузный лежал на полу, хрипел, изо рта текла вода. Молодого нигде не было. Ружин изумленно обвел глазами кухню. Увидел открытое окно, выглянул. Под самым окном палисадник, кусты. В кустах кто-то шевелился. Вот поднялся, побежал, прихрамывая, худой, долговязый. Ружин покрутил головой: — Редкий паренек, — и сорвался к двери. Догонял бесшумно, без предупреждающих окриков — люди вокруг, зачем их пугать. Паренек сначала не оборачивался, но потом, видно, почуял что-то, обернулся, разом вычислил Ружина, заулыбался недобро, повернулся, заковылял навстречу, вынул из-за пазухи нож. Вскрикнула женщина, несколько человек шарахнулись в стороны. — Зря, — с сожалением сказал Ружин. — Не надо было, — подошел ближе, вдруг повернул голову вбок, словно увидел кого, махнул рукой, крикнул: — Давай! — Прием старый, как мир, но действует. Паренек дернулся невольно вбок, а Ружин тем временем ударил ногой его по руке — нож вылетел, — потом перехватил руку, взял на излом, завел за спину. Кто-то из прохожих подал Ружину нож. — Спасибо, — сказал он и повел паренька к дому. Офицер бил малого, стрелявшего из двустволки. Тот лежал на полу, безумно таращил глаза, вскрикивал, обильно брызгал слюной, а офицер пинал его, как футбольный мяч, хрипя, матерясь, умело… Лахов прихватил офицера поперек туловища, попытался оттащить в сторону, но офицер, литой, чугунный, отцепил руки, сбросил Лахова, оскалясь, и снова к лежащему. Один из милиционеров стоял у двери завороженный, отрешенноглядел на мелькающие сапоги. — Рехнулся, подонок? — Ружин оттолкнул милиционера, вошел в комнату. Офицер был занят, он не услышал, опять слетела фуражка, опять покатилась. Ружин сплюнул. Вдвоем с Лаховым они заломили офицеру руки. Он неожиданно покорился, сел на стул, протянутую Ружиным фуражку не взял, глянул только на оперативника, не скрывая неприязни. В комнату заглянул загорелый молодой мужчина в белом халате — врач «Скорой помощи». — А вот и мы, — приветливо сообщил он. — Ну-с, кто больной? Ружин жестом указал на кровати. — Совсем дети, — врач вздохнул, раскрывая чемоданчик. Ружин вышел в коридор, распорядился: — Остальных в автобус. Паренек сидел в коридоре на полу, безмятежно курил. — Имя, отчество, фамилия? — Ружин положил ручку на стол, неторопливо поднял руки вверх, потянулся упруго, глаза сразу стали сонными. — Нанюхался вчера вашей дряни, — он лениво посмотрел на сидящего напротив паренька. — Всю ночь птицы в окна бились, а за дверью кто-то стоял и ковырялся, гад, в замке, и ковырялся… — Мало нанюхались, — ухмыльнулся парень. — Кайф не словили. Кайф классный, чё больше хочешь, то и видишь… — И что ты видишь? — Да всякое… — парень помял пальцы, посмотрел в окно. Там солнце, море, женщины, девочки, все в ярком, красивые, все это видно из окна. — Всякое… — повторил он. — Ну, ладно. — Ружин взял ручку. — Значит, как тебя? Колесов Алексей? — Андреевич, — подсказал Колесов. — Год рождения… Учишься, работаешь? — Учусь, пятьдесят второй интернат, десятый класс. — Вот как? Не врешь? — Ружин откинулся на спинку стула, пошевелил бровями. Колесов засмеялся. Ружин улыбнулся ответно. — Феленко Александра Степановича знаешь? — А как же? Замдиректора. Зануда, бу, бу, бу-бу, бу, бу, и все о чем-то заумном, высоком, уши вянут. — Понятно, — Ружин покачался на стуле, спросил: — Ну, что делать будем, Леша? — А что? — Колесов преданно вперился в Ружина. — Сажать тебя надо. — За что? — протянул Колесов, продолжая поедать Ружина глазами. Ружин встал из-за стола, не спеша, улыбаясь, подошел к пареньку, сказал ласково: — Сам знаешь! — И неожиданно двумя растопыренными пальцами ткнул Колесову в преданные глаза. Пальцы не дошли до лица сантиметров двух, но Колесов испугался, отпрянул, взмахнул руками, не удержал равновесия, свалился навзничь вместе со стулом. Упал неуклюже, жалко. Ружин вздохнул, но попытки помочь не сделал, смотрел сверху, холодно, жестко, выстукивал ногой такт. Колесов встал не сразу. Не поднимая головы, раскорячась, отполз в сторону, как краб. Прислонился спиной к стене возле окна. За окном, далеко, на набережной, играла музыка. Ружин сунул руки в карманы брюк, прислушался, затем внезапно сделал лихое па, крутанулся на одном месте, подмигнул Колесову, наклонился, поднял стул, аккуратно поставил его возле стола, обошел стол, сел на свое место. И вот теперь Колесов поднялся, молча, глядя перед собой в пустоту, выпрямился вдоль стены, сказал тихо: — Домой хочу. Без стука вошел Рудаков, начальник уголовного розыска, опрятный, добродушный, с мягким морщинистым лицом, добрый сказочник Оле-Лукойе, вставший под ружье по всеобщей мобилизации — Родина в опасности, воруют… — Колесов? — спросил доброжелательно. Тот кивнул. — Садись, что встал, — махнул рукой, приглашая, и вполголоса Ружину, деловито: — Как беседа? Сам демократично взял стул от стены, устроился по-стариковски, поерзав, хотя не старик еще, пятьдесят пять, но выглядит старше, и ему нравится это — отец, дед, опекун. Колесов не сел, остался стоять. — Ну, стой, раз хочется, — разрешил Рудаков. — Ну, так хоть посмотри на меня, чтоб я лицо твое увидел. Ну! Глаза! Дай глаза твои разглядеть, — повернулся к Ружину вопросительно, тот невинно пожал плечами. — Боишься? Боишься. Чуешь, какой взгляд у меня, куда хочешь проникнет, в любые потаенки твои. Чуешь, поэтому и прячешь глаза. Да и бог с ним, я и так все вижу, по рукам, по жилке, что на шее бьется, по испарине, что на лбу под волосами… Когда потреблять начал наркотик, в восьмом? В девятом? В десятом, значит. Кто дал? Ну? Одноклассники? Знакомый на пляже? Сосед?.. Ладно, неважно. Сейчас у кого берешь? Другие вот сознаются, а ты будешь молчать, тебе по полной катушке, им скостят… — Стул скрипнул, Рудаков опасливо схватился за стол, помял бумаги, сбросил ручку; кряхтя, сгорбился, переломился, выставил зад, брюки натянулись, нашарил ручку на полу, побагровевший, положил ее на место, в глазах блеск, слеза от напряжения. Ружин старался не смотреть в его сторону, не конфузить. Рудаков перевел дыхание, поморщился — не от усталости, от осознания момента — непривычно, все сам, новый стиль работы, — рекомендуют. Ничего, скоро все кончится. Заулыбался, папочка, все понимающий, исполненный простоты, благодушия, продолжил: — У меня сын есть. Взрослый уже. Когда маленький был, заболел. Тяжело. Операцию делали. Потом еще одну. Чтоб боли унять, наркотик давали. Долго. Он привык. Галлюцинировать начал, меня не узнавал, в окно кидался… Я поседел, сколько слез пролил. Понимаешь? Ты понимаешь? Сначала кайф, а потом горе. Понимаешь? Страшно. Твои сверстники гибнут. Ты гибнешь… Скажи, у кого брал ширево? Ты не предаешь, спасаешь… Колесов молчал. Бездумно глядел перед собой, не двигаясь. — Как остальные? — одними губами спросил Ружин. Рудаков развел руками, встал, пошел к двери, задержался возле Колесова, мимоходом проговорил: — Красивый мальчик. Девчонок любишь, а? Дверь хлопнула. Ружин стремительно подошел к Колесову, прижал его рукой к стене, крепко, кисть побелела, заговорил быстро, веско: — Забыл, как с ножичком шел на меня? А я помню. Отлично помню. Напал, хотел убить. Никто не знает об этом, кроме тебя, меня и свидетелей!.. Выбирай!.. Подошел к двери, открыл, позвал милиционера: — В камеру. Ружин и Феленко шли по набережной. Асфальт выбелен солнцем, каменные парапеты седые от соли, каленые; кусты, деревья остро контрастируют и с асфальтом, и с парапетами — до боли в глазах — изумрудные, сочные. Шумно. Вокруг люди, шагу не сделаешь, чтобы не задеть кого-нибудь рукой. На пляже еще гуще, но весело, смех, музыка. — Ты похудел, — сказал Ружин и добавил неопределенно: — По-моему. — Работа, — ответил Феленко. Лицо у него чистое, сухое, глаза невеселые, высокий, ростом с Ружина. — Здание ремонтируем. Беготня. — Не звонишь, — заметил Ружин. — Я же говорю — работа. — Мы виделись весной, — Ружин подумал и добавил неуверенно: — А до этого осенью вроде. Хотя рядом все… — Не помню, когда загорал, — Феленко остановился, поднял ногу, задрал штанину. — Во какая нога белая, как вата, тьфу… Ружин потянул его за собой, смеясь. — Ты всю жизнь белый, сколько тебя помню, со школы… Подошли к турникету, возле него табличка на ножке «Пляж гостиницы «Солнечная». Дежурный с повязкой, в кепочке, потный, вислощекий, расплылся перед Ружиным, проводил взглядом, уже без улыбки. Феленко хмыкнул: — Я как-то в мае хотел пройти, чуть морду не набили. Над пляжем на набережной — кафе, столики под зонтиками, белые стулья, легкие, с резной спинкой, все аккуратно, со вкусом — салфетки, бокалы. Почти все столики заняты. Слышится иностранная речь, и не только… Много рослых ребят с простецкими, но холеными лицами, девицы, яркие, модные. Все раскованны, улыбаются. Подошел официант, кивнул Ружину, показал на стол. Сели. — Марину видишь? — спросил Феленко, устраиваясь. — Перезваниваемся, — неохотно ответил Ружин. — Иногда. — Как она? — Работу бросила. По субботам покер. Она в длинном платье, принимает. Муж на черной «Волге». Как и мечтала. — Ничего не меняется, — Феленко вынул «Дымок». — Люблю «Дымок», — сказал. И демонстративно стал открывать пачку. — Не желаете? — протянул раскрытую пачку подошедшему официанту. Тот оторопело глянул на него, покосился на Ружина, справился-таки, заулыбался: много на свете чудаков, оригинальничают (в таком месте «Дымок»), вежливо отказался, положил на стол меню. Ружин пошевелил в воздухе пальцами: — Убери. Принеси как всегда. — У меня старые штаны, — Феленко горестно покачал головой. — Шестой год ношу, штопаные. Показать где? — и с деланной грустью добавил: — Все, наверное, тут смотрят на меня, смеются. Тебя в неловкое положение ставлю, нет? Ружин, казалось, не слышал, равнодушный, расслабленный, разглядывает женщин, то и дело сдержанно кому-то кивает, с достоинством. Отпил глоток «Боржоми», сказал: — Времени в обрез. Зачем звонил? Колесов? Защищать будешь? Характеристику наверняка припас, просьбу директора. Так? — Ничего не меняется, — повторил Феленко, усмехнулся рассеянно. Подошел официант, принес заказ, расставил тарелки, улыбнулся, ушел. — Господи, — вздохнул Ружин. — Ты о чем? — Обо всем, — Феленко развел руки, поглядел по сторонам. — Обо всем. Кричим, много кричим, пишем, усиливаем. Но… все равно там одно, — он махнул рукой в сторону общего пляжа, — здесь другое, там одно, — он показал пальцем вверх, — там, — палец его переместился к полу, — другое. Устал. Сердце болит. Директор просил, поезжай, похлопочи, у тебя дружки там, надо парня выручать. А я тебе другое скажу — сажай, сажай, Сережа, — сжал салфетку, смял, выкинул, — по самой по полной по катушке. Он не плохой парень, не злой, модный, при деньгах, — Феленко повел подбородком. — Ему все разрешают, директор за руку здоровается по мускулистой шейке треплет, в кабинете кофеек с ним распивает… А вся наркота в интернате от него. Фактов нет, но я знаю… Милиционера избил — пожурили… — Я не слышал, — насторожился Ружин — Когда? Кто занимался? — Весной. Никто не занимался. Директор. Разобрались. Милиционер был доволен. — Я поинтересуюсь. — Поинтересуйся, — согласился Фслснко. — Такие, как Колесов, развращают, настраивают детей на анархию, на безответственность, на зло. Посади его, Ружин. — Он сирота? — Сирота. — Богатые родственники? — Да. — Кто? — Разное говорят. — Хорошо. Все? — А как прояснится хоть что-нибудь с Колесовым, я буду валить директора. Продажная тварь. Хватит. Пора действовать. Начнем с малого… Кто-то окликнул Ружина, он оглянулся, тяжелый, длиннорукий парень, в просторных голубых штанах, в теннисной майке от Фреда Перри, черные волосы, влажные, зачесаны, блестят, на руках перстни, один, два, три… С ним девица, тонкая, на шпильках. Ружин встал, пожал протянутую руку, дал потрепать себя по шее, по плечу. — Рад тебя видеть, — улыбнулся. — Позвоню, — сказал малый. — Дело есть. Не прогадаешь. Феленко внимательно посмотрел на Ружина, проговорил тихо, себе: — А потом и до тебя доберемся… Двурушник! Сытый двурушник! — Доедай, — садясь, Ружин все еще улыбался. — Пора. …Темный двор, глухой. Колодец. Один только въезд, через арку. В конце арки, на улице, все кажется белым от солнца, люди, деревья, дома и «Волга», что въезжала во двор. Въехала. Нет, совсем не белая, черная, строгая. Мягко остановилась возле сине-желтого милицейского рафика. Настороженно подошли дети, заглянули внутрь, без детского любопытства, внимательно, с ожиданием. Тихие дети, опрятные, не похожие на привычных — горластых, шебутных, южных. Открылась задняя дверца, кряхтя, вылез Рудаков, оправил пиджак, брюки, только сейчас заметил детей, улыбнулся было добро, но потом улыбку убрал, некоторое время они разглядывали друг друга. Потом Рудаков пожал плечами и зашагал к подъезду. Дети бесшумно разошлись кто куда, исчезли. Шофер открыл окно, крикнул вполголоса: — Эй! На третьем этаже дверь в одну из квартир была открыта. Рудаков вошел. По комнатам сновали люди. Увидев Рудакова, вытянулись, поздоровались. Рудаков махнул рукой. Криминалист, перезарядив фотоаппарат, невесело усмехнулся: — Старика кондратий хватит, как узнает: иконы, пятнадцатый век, посуда, раритеты… — Еще не сообщили? — спросил Рудаков. — Найти не можем. Где-то бегает. Рудаков прошел в комнату. На кровати вытянулась маленькая женщина лет шестидесяти пяти, халат задрался, ноги худые, бледные, в выпуклых синих жилах, большие, не по размеру, тапочки. Рядом на полу, на корточках Ружин. Поднял голову, вставать не стал, сказал: — Только-только пришла в себя. Сейчас разберемся. На голых руках женщины кровавые полосы. Ружин поймал взгляд Рудакова, объяснил: — Связывали, проводом. Сначала кулаком в переносицу, потом проводом. Соседка увидела дверь открытой, сообщила. — Я в курсе, — Рудаков огляделся, взял стул, сел рядом. Женщина открыла глаза, поморгала. — Как вы себя чувствуете? — спросил Ружин. — Голова болит, руки… — с тихой тоской проговорила женщина. — Все болит, — приподнялась на локтях с трудом, кривясь, спросила с тревогой: — Где Максим? Ружин взглянул на Рудакова, потом перевел взгляд на женщину: — Он давно ушел? — Вспомнила, — женщина с облегчением легла на подушки. — Он у Дазоева, тоже коллекционера, антиквара, да, да, скоро придет, бедный. — Расскажите все подробно, сначала, — попросил Ружин. — Позвонили в дверь, я открыла, двое, ударили в лицо. Я потеряла сознание. Пришла в себя, связана, слышу шум, голоса, во рту тряпка. Открывать глаза не стала. Страшно. Перед уходом опять ударили. — Узнаете их? — Наверное, да… — Что они говорили? — Что брать, что не брать… — Что еще? — Не помню. — Вспоминайте, вспоминайте, что еще? — Не помню… — Надо, надо, надо… Как называли друг друга? Акцент? Названия улиц, городов? Цифры какие-нибудь? — Не помню, не помню, — женщина сдавила виски, сморщилась, замотала головой. Рудаков остановил Ружина, придержал за руку, заметил категорично: — Хватит. Ружин встал, развел руками. — Один говорил про рейс на Тбилиси, дневной, — вдруг спокойно заговорила женщина. — Мол, к шести буду дома и ищи ветра в поле. — Приметы. — Ружин стремительно нагнулся. — Приметы! …Возле здания аэропорта — не большого и не маленького, стекло, бетон, обычного — на стоянке такси бранились пассажиры. Две толстые женщины пытались влезть в машину впереди двух обалдевших от жары, крепких низкорослых мужичков, — провинциалы, в растопыренных глазах растерянность, в руках по чемодану, озираются ошалело, но стоят насмерть, закрывают машину грудью. Бабы побросали сумки и в драку, за волосы мужичков. Лахов стоял неподалеку, наблюдал сначала с ухмылкой, потом нахмурился, хотел ринуться разнимать, но вовремя опомнился, огляделся, не заметил ли кто его порыва. Послышался милицейский свисток, сквозь толпу пробирался сержант. Лахов опять ухмыльнулся, покачал головой, не спеша побрел к зданию. Вошел, заметил в буфете у столика Ружина и Рудакова, кивнул им едва заметно, пошел к газетному киоску. — Как Колесов? — спросил Рудаков, отпивая кофе. — Расколется, — Ружин внимательно просматривал зал ожидания. — Сирота, — скорбно заметил Рудаков. — Болел в детстве. С десяти лет в школу пошел. Судьба нелегкая. — Откуда информация? — Я оперативник или нет? — Рудаков отечески заулыбался, мол, учись. Добавил просто: — Отпускать его будем. Ружин забыл о зале, оторопело глянул на Рудакова. — Да, да, — сказал Рудаков. — При нем ничего не нашли. Ну, покурил травку, случайно. Верно? А что касается других, то за них он не в ответе. Ружин отрицательно мотнул головой: — Я же на квартиру не просто так пошел, было сообщение, один наркоман рассказал, что на Юбилейной улице… — Знаю, — перебил его Рудаков. — Ну и что? — улыбнулся. — Нет, — сказал Ружин, — не пойдет. Он мне нужен. Он много знает. Это моя работа. — И моя работа, — Рудаков положил ладонь на руку Ружина. — И моя. Ничего противоправного делать не надо. На нем же нет ничего. Хлопочут очень хорошие люди. Сережа, в первый раз, что ли? Зачем нам ссориться? — Пока не расколется, не отдам его, — жестко повторил Ружин, покрутил головой медленно, весомо. — Тогда я отстраню тебя. — Рудаков сделался некрасивым, заморщинился. — Прикажу. — Не отстраните, — Ружин посмотрел в глаза Рудакову, засмеялся беззаботно. — Мы слишком много знаем друг о друге. Лахов у киоска уронил журнал. Ружин пробежал глазами по залу, толкнул Рудакова, показал кивком. Сутулый, коротконогий кавказец, усатый, насупленный, с чемоданом и сумкой, подходил к регистрационной стойке, в метре сзади шел губастый парень в «варенках», в цветастой майке, глазел по сторонам, посмеивался… — Тряхну стариной, — сказал Рудаков. Лицо у него было злое, отяжелевшее, темное. Усатого взяли быстро и четко и почти незаметно для пассажиров. Ружин и Лахов подошли с боков, когда он ставил чемодан на весы, с хрустом завели руки за спину, Ружин прижал ему горло сильными пальцами, чтоб не верещал. А вот губастый вырвался у Горохова и Рудакова, кинулся к выходу, поскользнулся, упал, когда поднялся, понял, что не уйти, принял оборонительную стойку. Рудаков жестом остановил Горохова, пошел к губастому сам, выпрямясь, с усмешечкой, руки в карманах. — Это судьба, сынок, — сказал ласково. Губастый тряхнул руками, сплюнул, дернув лицом, уселся прямо на пол. Идти отказался. До комнаты милиции его несли на руках. — Здорово, — сказал Ружин Рудакову, когда они поравнялись. — Я волновался. В комнате милиции вещи обыскали. Нашли краденые иконы, посуду. Все нашли. А за подкладкой одного из чемоданов обнаружили еще и белый порошок, наркотики. — Грабеж перекроет по сроку статью о наркоте, — сказал Ружин губастому. — Признавай не признавай, ну а ежели поможешь следствию, скостишь отсидку. Думай. — Что надо? — сказал губастый. — Откуда порошок? — Ружин надорвал один пакетик, попробовал на язык, сплюнул. Губастый почесал щеку, розовую, нежную, волосы не растут, наконец сказал тихо, покосившись на кавказца, тот сидел далеко, повизгивал, отнекивался, занят собой был: — Улица Юбилейная, пятый дом, квартиру не помню, могу показать. Зовут Леша, молодой такой, красивый, высокий… Ружин повернулся к Рудакову, тот безразлично ковырял в зубах спичкой. — А? Что? — сказал, сделав вин, что в глубоких раздумьях обретался и вот только сейчас с трудом вернулся к реальности. — Порошок-то фирменный, — сказал Ружин и протянул Рудакову пакетик. — Ну, хорошо, разбирайтесь, разбирайтесь, — протянутый пакетик Рудаков не взял, посмотрел на часы, добавил: — Я в управление. Доложишь. Уже сумерки. Город в ожидании веселого вечера, а может быть, и ночи, курортникам на работу не вставать, можно ложиться под утро. Веселые пестрые блики бежали по капоту ружинской машины. Гирлянды разноцветных лампочек висели прямо на деревьях, тянулись меж фонарных столбов. Сюрприз этого сезона, знатоки рассказывают, что не хуже, чем в Ницце… Две пестрые симпатичные девчонки голосовали на самой середине шоссе, радостные, пьяноватые. Ружин не спеша объехал их, показал язык, девчонки захохотали, погрозили кулачками. Увидев указатель «Гостиница «Солнечная», свернул направо. Гостиница была видна еще с шоссе, огромный, светящийся изнутри корабль, носом упирается в море, еще немного — и покатится со стапелей. Ружин подрулил к стоянке, махнул дежурному с повязкой, тот указал, где встать. Швейцар улыбнулся добро, еще из-за стеклянных дверей, продолжая улыбаться, с почтением пожал протянутую руку, когда Ружин вошел. В холле тонко пахнет духами, зарубежными сигаретами и кофе — дорогим пахнет. Много женщин и мужчин, снуют, сидят, что-то пьют, болтают, не различишь, где наши, где ихние… Но вот несколько девиц как бы невзначай отвернулись, увидев Ружина, какой-то малый, весь «вареный», жеманный, оторвался от небольшой пестрой группки, спешно засеменил к лестнице. Ружин усмехнулся: не надо меня бояться, у меня сегодня своих забот хватает. На лифте доехал до третьего этажа, прошел в конец коридора, очутился в квадратной комнате с креслами, диванами, низким столиком. Навстречу поднялась женщина с ухоженным лицом, улыбнулась: — Проходите, — открыла тяжелую дубовую дверь. И здесь, диваны, кресла, ковер, ворсистый, мягкий, просторно, у огромного окна изящный тонконогий стол, не наш, не советский, чересчур игривый, не деловой. За столом мужчина лет сорока, лицо узкое, загорелое, короткая стрижка, с боков седина, светлый костюм, черный галстук — Кадаев, директор гостиницы. Он встал, застегнул пиджак, улыбнулся приветливо, протянул руку: — Здравствуйте, Сережа, рад, что не отказали, пришли. Я соскучился. Суетишься, суетишься, а поболтать по душам и не с кем. Вы как спасение. — Спасибо, — сказал Ружин. — Садитесь. Кофе? Коньяк? Водка? Ружин покрутил головой. — Вы чем-то расстроены? Ружин пожал плечами, сказал неопределенно: — Работа. Кадаев подошел к стене, открыл бар, вынул початую бутылку чего-то дорогого, налил в крохотную рюмку и повернулся к Ружину: — Я вот по утрам просыпаюсь, и страх охватывает, знаете, прямо пальцы стынут, умирать скоро, а собой и не жил, понимаете? Собой, нутром своим, душой своей, чтобы почувствовать, что живешь именно в данную минуту, в это мгновение и что жизнь — самое замечательное, что может быть. Понимаете меня? Ружин усмехнулся, закурил, не спросясь, затянулся, продекламировал: — Я хочу быть кумиром вселенной, я хочу ничего не хотеть… Подавите желания и ощутите жизнь. Способ один, других нет. Кадаев сделал глоток: — Чересчур за многое и за многих я в ответе — жена, дети, родственники, друзья, постояльцы в конце концов. Допустим, я начну жить по большому счету, а что будет с ними? Кстати, о друзьях… Ружин опять усмехнулся: — Легкая интеллектуальная разминка, а теперь о деле, верно? Так учил Дейл Карнеги. Я правильно произношу? Кадаев засмеялся: — Я вас люблю, Сережа. Вы все понимаете. — Он присел на краешек стола, запросто, по-свойски, улыбку убрал, заговорил доверительно: — Да, о деле. Вот какая штука. Вы на днях задержали одного мальчишку, дурак-несмышленыш. — Колесов? — Да. Он сирота. Тяжелое детство. Я принимаю в нем кое-какое участие. Он родственник одного моего близкого друга. — Кого? — Ах, Сережа, разве это имеет значение… — грустно улыбнулся Кадаев. — В темную не играю, — Ружин затушил сигарету, встал. — Сыщик есть сыщик, — скорбно вздохнул Кадаев. — Брат жены Лавинского. — Директора «Югвино»? — Замечательный человек. Жена — красавица, молодая. Вы меня понимаете? — Кадаев положил Ружину руку на плечо, добавил, понизив голос: — Квартира, на которой вы задержали мальчишку, ее. Как не хотелось бы, Сережа, чтобы квартира фигурировала в документах. Ружин покрутил головой медленно, шея напряглась. — Вы же однажды помогли нам… мне, — вежливо настаивал Кадаев. — Заткнули глотку этой дуре, которая болтала, что я получал доход с проституток, что именно я-то и продаю их фирмачам… Забыли? — Ну, во-первых, вы мне симпатичны, — вновь садиться Ружин не стал, стоял, глядя в окно, неожиданно безразличный. Во-вторых, я не моралист и не считаю проституцию большим злом. Но здесь наркотики, а это я считаю злом. Кадаев усмехнулся: — Дело, наверное, не только в симпатиях и убеждениях. — Он сделал еще глоток. — Были причины и другого характера, верно? — Нет, — весело возразил Ружин. — Неверно. Я принял от вас японскую видеоустановку, тоже исходя из своих убеждений. Сыскная работа незаслуженно мало оплачивается в отличие от других видов человеческой деятельности. — Он поклонился в сторону Кадаева. — Надо соблюдать пропорцию. Кадаев печально покачал головой, встал, поставил рюмку в бар, сказал сухо: — Мы можем обойтись и без вас. Это просто. Но я знаю, что вы полезете в драку и на каком-то этапе успешно, вас ценят, у вас имя. Значит, война. А это создаст неудобство, я не люблю неудобства, я люблю комфорт. — Он, сузив глаза, оценивающе посмотрел на Ружина. — У меня есть прелестный домик в двадцати километрах отсюда, маленький, правда, но каменный, вокруг ни души. Предоставляю кредит. Ружин не ответил, опять взглянул в окно, оно выходило на хоздвор гостиницы, увидел подъехавшую машину, человека, вылезающего из нее, засмеялся неожиданно, повернулся к Кадаеву, сказал: — Я хочу ничего не хотеть… Развел руками и торопливо вышел. Направился не к лифтам, а к черной лестнице, спешил. Внизу в дверях столкнулся с Рудаковым. Тот от изумления застыл. — А ведь я поверил поначалу, что у вас есть сын, — сказал Ружин, — что он был наркоманом, что слезы вы лили, что маялись. Потом проверил. Нет, все же только дочь, одна дочь, благовоспитанная, музыкант, в вашей чистой биографии. А жаль, что не было сына, жаль, что слезы не лили, не маялись… Не ожидая ответа, вышел. В машине лег грудью на руль, проговорил тоскливо: — Зачем? Зачем, а? …Ружин и Колесов вышли во двор управления, встали у машины Ружина. Колесов щурился — два прожектора ярко освещали двор, у гаражей два милиционера возились с мотоциклом, беззлобно ругались, подвывала овчарка в вольере, протяжно, тоскливо. Колесов поежился, сделал несколько энергичных движений, разминаясь. В дверях показались Лахов и Горохов. Горохов остановился, посмотрел на горящее окно на третьем этаже, сказал, ни к кому не обращаясь: — Сто третий, сто третий, как слышишь меня? Прием. На груди у него, под курткой, глухо зашуршала рация, пробился низкий голос: — Слышу нормально. Порядок. Из окна высунулся мужчина в белой рубашке, крикнул: — Будь спокоен, не подведет! — Я тебе уже не верю, — пробормотал Горохов. — Самоделкин… Подойдя к машине, добавил, обращаясь к Ружину, обиженно, жалуясь: — На прошлой неделе это старье принимало «Маяк» вместо базы. — Разберемся, — пообещал Ружин, посмотрел на часы. — Все. Время. Прежде чем сесть в машину, Колесов сказал: — Еще одно условие… — Условие? — удивился Ружин. — Ну… просьба, — Колесов дернул щекой. — Мне надо выпить. Ломает… Ружин вздохнул, произнес искренне: — Несчастный мальчик. Посмотрим, — он подтолкнул Колесова к дверце. В машине Колесов уточнил еще раз: — Сначала в «Кипарис». Он там бывает чаще всего. — Ох, шеф, глухой номер, — посетовал Горохов. — Он давно уже где-нибудь… тю-тю, в Барнауле водку пьет. — Нет, — возразил Колесов. — Он здесь. Он ничего не боится. Он говорил, что его никто никогда не тронет, именно здесь не тронет. Ружин промолчал. Он смотрел на дорогу. Лицо его было злым, несколько раз вздернулась верхняя губа — нервно. — И к тому же парень не знает ни его фамилии, только имя, да и то туфтовое наверняка — Альберт, ни телефона, ни адреса, — поддержал Колесова Лахов. — Тот сам его находил. Верно? — Он повернул голову к Колесову. Тот кивнул, облизнул сухие губы, потер глаза, слезились. В «Кипарисе» обычный галдеж, сутолока, пестрота. Зал полутемный в красно-фиолетовых тонах, музыка негромкая, официанты быстрые, много иностранцев. Посидели за угловым столиком минут двадцать, пили кофе, пепси-колу. Колесов умоляюще смотрел на Ружина: — Ну дайте хоть соточку… — Потом, — коротко ответил Ружин, посмотрел на часы. — К полуночи опять сюда заедем. Другой ресторан — «Морской», цвета соответствующие, зал бирюзово-голубой, пастельный, глаза отдыхают. На сцене варьете, девушки в тельняшках и черных клешеных юбочках, ноги длинные, стройные, Лахов залюбовался, не заметил, как остальные поднялись в кабинет директора, спохватился, помчался по ступеням. В кабинете окно в зал. Зал виден весь. Директор суетился, предлагал кофе, коньяк, заглядывал в глаза. Колесов сглатывал слюну. — Потом, — опять сказал Ружин, и они двинулись дальше. На окраине города, на взгорке среди деревьев грузинский ресторан под открытым небом «Мцхета». Один зал под навесом, деревянные дощатые столы, грубо сколоченные стулья-стилизация; несколько круглых столиков с пеньками вместо стульев прямо среди деревьев. Столики скрыты друг от друга густыми кустами, это затрудняет задачу. Машину поставили на стоянке, с трудом нашли место. Возбужденные голоса, грустная грузинская мелодия, музыканты играют прямо на улице, между крытой площадкой и открытыми столиками в полумраке тенями снуют официанты, посетители, вокруг ламп слоится тонкий дымок от мангалов, сигарет… Ружин и Колесов прошли вдоль площадки, потом обратно. Колесов крутил головой по сторонам. Ружин махнул рукой стоявшим поодаль Лахову и Горохову, показывая, что они с Колесовым идут к открытым столикам… За одним громкая компания перебивает друг друга тостами, за другим две пары озираются с любопытством, за третьим две яркие раскрашенные девицы, три крепких парня. Парни вскинули глаза, посмотрели трезво, хотя сидят, видно, давно, пьют, напитков на столе в избытке. Колесов поспешно зашагал назад. Ружин догнал его, дернул за руку: — В чем дело? Колесов помял кадык, сглотнул: — Там… один из его горилл, самбист, Петя, Петруччо Он узнал меня… мне кажется… — Какой? — Ружин спрашивал быстро, отрывисто. — Белобрысый, в полосатом свитере. — Та-а-к, — протянул Ружин, спросил с надеждой. — А может, не узнал? Колесов пожал плечами: — Обычно он передавал мне порошок. Как не узнать… — Пошли, — Ружин потянул его за собой. Подойдя к оперативникам, сообщил: — Там один из его людей, белобрысый, в полосатом свитере. Будем пасти. Ружин подтолкнул Колесова к Лахову: — Отведи его в машину и побудь с ним. — Но… — возмутился Лахов. — Давай, давай, — махнул рукой Ружин. Он был возбужден, начиналось дело. Расстроенный Лахов, взяв Колесова под локоть, повел вниз, к стоянке. Ружин и Горохов не спеша, прогулочно, с флегматичными физиономиями двинулись к открытым столикам. Музыка кончилась, оборвалась разом, только еще какие-то мгновения ныла флейта, едва слышно, тоскливо, через мгновенье ее заглушил ресторанный шум, неровный и веселый. — Мы очень строгие, — сказал Горохов. — От нас дамы шарахаются. Они таких не любят, давай улыбаться. Он обаятельно, белозубо заулыбался. Высокая девушка в белом узком платье, идя навстречу, засмеялась ответно, прошла мимо, оглянулась несколько раз. Ружин расправил плечи, пошарил ищуще глазами по сторонам. Зацепил взглядом группку из трех смеющихся мужчин. Те покосились, смех оборвали, вытянули лица мрачно. Через несколько шагов оперативники попали в круг света, растянули губы еще шире. Несколько танцующих неподалеку пар остановились, настороженно уставились на них. Продолжая улыбаться, Ружин процедил Горохову: — Ты идиот. Шагнул в темноту, сплюнул, вытащил сигарету. — Шеф, я хотел как лучше, — Горохов невинно растопырил глаза. — Чтоб мы не отличались от них… Опять послышался звук флейты. Ружин осмотрелся, музыкантов не было. — Ты слышал? — спросил он. — Что? — не понял Горохов. — Будто музыка… Показалось… — Ружин затянулся. — Показалось, — повторил Горохов. За кустами кто-то громко выругался, истерично вскрикнула женщина, мужчина опять выругался, заорал, что он кого-то убьет, послышался звук удара, возня, опять женский вскрик. Ружин кинулся на звук, за ним Горохов. Около столика, где недавно сидел Петруччо, дрались. Двое парней, сцепившись, катались по земле. Одна из девиц, вопя, пыталась их расцепить. Петруччо нигде не было. Что-то неестественное было в этой драке, через секунду Ружин понял — парни даже и не пытаются встать, словно им чрезвычайно нравится вот так обнявшись кататься по траве. — Туфта, — бросил он Горохову и прямо через кусты ринулся к выходу. Полосатый полувер Петруччо они увидели сразу, как только выбрались за заборчик ресторана. Он, согнувшись, энергично размахивая руками, несся к стоянке автомашин. Ружин и Горохов побежали вслед. Гравий горстями летел из-под подошв. Их крепкие тренированные ноги оказались быстрей, Петруччо еще возился с ключами возле дверцы, а оперативники уже влетели на территорию стоянки. Ружин на ходу вынул пистолет. — Стоять! Не шевелиться! — крикнул он хрипло. Петруччо метнулся за машину, и через мгновенье раздался выстрел. Оперативники повалились на асфальт. Еще выстрел, пуля шваркнула перед лицом Ружина. Он перекатился на несколько метров, укрылся за колесом «Волги», крикнул. — Брось, Петруччо, бесполезно! У меня рация, уже перекрывают город… В ответ опять выстрел. — Ты дурак! — заорал Ружин. Горохов возился с рацией, Ружин слышал, как он повторял: — Сто третий, сто третий, как слышите меня?.. — Ну что? — нетерпеливо выкрикнул Ружин. — «Голос Америки», — жалобно ответил Горохов. — Что? — озлобился Ружин. — Вместо базы она принимает «Голос Америки», — Горохов нервно хихикнул. Ружин ударил кулаком по асфальту и притворно заплакал, постанывая. — Завтра, рано-рано утром, — сказал он, — напишу рапорт. Министру. Он будет слезный и горестный, он будет правдивый и поэтому нелицеприятный, он вызовет раздражение и злобу, но я все равно напишу. — Правильно, — отозвался Горохов. — Наддай жару. Никто работать не хочет. — И про тебя напишу, — заявил Ружин. — Я многое знаю. А потом переведусь в участковые, в дальний район, там море, добрые люди, виноград, курочки-хохлаточки… — Про меня не надо, шеф, — попросил Горохов. — Я еще молодой. Перспективный. — Курочки-хохлаточки… — мечтательно проговорил Ружин. — А он не рванет с той стороны? — встревожился Горохов. — Там обрыв, — печально пояснил Ружин. — Пусть рванет и рвет себе, и рвет… Ружин услышал топот, подтянулся на руках, выглянул из-за колеса — вдоль ряда машин бежал Лахов в руке он держал пистолет. — Ложись! — гаркнул Ружин, и в то же мгновение грохнул выстрел. Лахов рухнул с кряканьем, неуклюже, гулко ударился о бампер «Волги», завыл — значит, живой. Он сделал движение — и опять выстрел, Лахов застыл, почти умер. — Где Колесов?! — рявкнул Ружин. — В машине, — Лахов перевел дыхание, сплюнул. — Куда он денется? — С кем я работаю… — простонал Ружин. — Не стреляй, не стреляй! — закричал кто-то с той стороны, откуда появился Лахов. Голос звучал тонко, чрезвычайно напряженно и оттого, казалось, сдавленно. — Они не сделают тебе ничего плохого! Только поговорят… Не стреляй! Но Петруччо все-таки выстрелил. Колесов закрутился волчком на месте, упал ломанно, по частям, медленно, как в рапиде, покатился по пыльному асфальту… Какое-то время Ружин наблюдал за ним без выражения, как за курочками-хохлаточками, снующими в загоне, потом привстал, бросил Горохову отрывисто, зло: — Прижми его выстрелами, чтоб не смел высунуться, гад! За багажником «Волги» он перескочил металлический заборчик, мимоходом оглядел толпу на взгорке, у ресторана, музыка уже не играла, никто не шумел, было тихо… Бегом обогнул стоянку и очутился у обрыва, вдоль которого расположился длинный ряд машин. За одной из них прятался Петруччо. Ружин прошел вдоль автомобилей еще несколько метров, бесшумно, крадучись. И, когда до Петруччо осталось метров двадцать, свистнул, — Горохов принялся беспорядочно стрелять, — потом вскочил на капот одной из машин, едва не поскользнувшись, перепрыгнул на крышу и, стремительно перескакивая с крыши на крышу, помчался к Петруччо. Он обвалился на него всем телом, ухнув, прижал к земле, перехватил руку с пистолетом, расслабленную от неожиданности, саданул ее два раза о металл машины, пистолет выпал. Ружин привстал, вынул оружие, стволом надавил Петруччо на испуганный, помутневший глаз, заорал яростно, визгливо, имитируя истерику: — Альберт, где Альберт?! Адрес? Адрес?.. Глаз вышибу!.. Петруччо что-то прохрюкал, от ужаса почти теряя сознание, захлебываясь слюной, потом все-таки выговорил трудно различимой скороговоркой… — Ракитная шесть, квартира восемь… Ружин встал. Горохов надел на Петруччо наручники. Подошел Лахов, а за ним и Колесов. Ружин с радостным удивлением вскинул брови. — В руку, — сказал Лахов мрачно. — Кость не задета. — Хорошо, — сказал Ружин, повернулся к Горохову: — Беги, вызывай группу, дождемся их и на Ракитную… Рудаков сидел выпрямившись, словно школьник на первом уроке. Руки на столе, напряженные, жесткие, как деревяшки, пальцы давят плексиглас, веки тяжелые, смотрит поверх голов, не моргает, сдерживаясь. Напротив него на стульях Ружин, Горохов, Лахов. Ружин устроился свободно, как за праздничным столом, уверенный, бесстрастно смотрел в окно. Горохов и Лахов нервничали — то кисти помнут, то поерзают, скрипя стульями. — Будем назначать служебное расследование, — наконец заговорил Рудаков. — Ситуация безобразная. От кого, от кого, а от Ружина не ожидал. Опытный, грамотный, и такое дилетантство. Начальник управления в бешенстве. Звонки сыпятся со всех сторон. — Он помолчал, сжал пальцы, затекшие, разминая. — Значит, так. Первое. Неквалифицированно проведенное задержание, стрельба в общественном месте, то есть угроза жизни третьим лицам. Второе — преступная халатность, ранение задержанного. Ко всему прочему, задержанного вывозили без согласования с руководством… Горохов и Лахов, плохо скрывая удивление, посмотрели на Ружина. Тот пошевелил бровями шутовски, усмехнулся. — Да, да, — продолжал Рудаков, — без согласования… Третье — незаконное задержание и арест Гарабова Альберта Александровича на Ракитной. Заподозрить Гарабова в сбыте наркотиков, — Рудаков развел руками, покрутил головой, удивляясь, — нелепость. Подняли пожилого человека с постели, встревожили весь дом, уважаемый человек, заслуженный юрист, юрисконсульт межколхозной заготконторы… — Две машины, «Мерседес» и «Волга», — в том же тоне неожиданно подал голос Ружин, — дача с подземным гаражом, пять сберкнижек на предъявителя. — Молчать! — побагровев, крикнул Рудаков, хлопнул ладонью по столу, отдышался, вытер пот со лба белым чистым платком, аккуратно сложил его, разгладил ладонями, любуясь, чуть склонив голову, слабо улыбнулся чему-то, посмотрелся в круглое зеркальце на подставке, которое стояло на столе возле лампы, поправил волосы, повернулся влево, вправо, остался доволен, ясно взглянул на сотрудников, опять заговорил: — Петруччо, он же, судя по дактилоскопии, Боркин Алексей Васильевич, живший по подложным документам и разыскиваемый за квартирные разбои в Нальчике и Таллине… — Поэтому и стал палить, как бешеный, — тихо заметил Лахов. — Поэтому, — согласился Рудаков. — И еще потому, что вы вели себя как первогодки… Так вот, Боркин отказался от показаний на допросе у следователя… Ружин подался вперед, сдвинул брови, следя за движением губ Рудакова. — …Он пояснил, что назвал первый попавшийся адрес, потому что думал, что Ружин убьет его. — Чушь! — вскинулся Ружин. — Гарабова опознал Колесов. — В шоке, — улыбнулся Рудаков. — В состоянии нервного расстройства… Без понятых, приватно. Ружин откинулся на спинку стула. — Вот так, значит, — сказал. — Я понял… Я все понял. — Давно пора, — отозвался Рудаков. — Но, естественно, версию о причастности Гарабова мы тщательно проверим, у нас есть два дня… Ну а Колесова придется выпустить и извиниться. Вы не против? — не скрывая иронии, спросил он Ружина. Ружин промолчал, дернул подбородком непроизвольно. — Оформляйте, — приказал Рудаков. — Ис сегодняшнего дня до окончания служебного расследования будете работать в организационно-аналитическом отделении. Все. Сейчас я буду сам допрашивать Гарабова. Оперативники вышли молча, не глядя друг на друга. По коридору милиционер вел задержанного, руки сцеплены сзади, утренняя щетина, холеное полное лицо осунулось, потемнело, но в узких черных глазах ни тени подавленности, напротив — злая усмешка. На Гарабове дорогой светлый костюм, мягкие мокасины, держится с достоинством — ни дать ни взять пожилой ловелас, спешащий поутру домой… Проходя мимо оперативников, замедлил шаг, глянул в упор на Ружина, сказал негромко, без выражения: — Я вас запомню. Ружин неожиданно оскалился, сделал шаг к Гарабову, замахнулся пятерней, Горохов перехватил его руку, потянул на себя. Ружин вырвался, пошевелил в ярости губами, быстро пошел к выходу. А Гарабов, казалось, и не заметил ничего. …Ружин свернул направо, в сторону моря. Фары высветили «кирпич», он был больших размеров, чем обычно, свежо фосфоресцирующий, по-видимому, постоянно обновляемый, заботливо, любовно. Через несколько метров еще один знак, прямоугольный щит на двух крепких ногах, всего два слова, буквы крупные, стерильно белые: «Запретная зона». Не проехав и километра, Ружин нагнал «Волгу». Машина ехала солидно, не спеша, поблескивая полировкой кузова, заднее стекло затемнено. Ружин сморщился: чересчур медленно, он такой езды не любит, по асфальту не обгонишь, узко; мигнул фарами, пошел на обгон слева по траве, но тут и «Волга» прибавила скорость, без усилий, запросто. Ружин чертыхнулся, опять выехал на асфальт, «Волга» снова притормозила, Ружин сплюнул в открытое окно, пристроился в хвост, поплелся. Но вот наконец цель пути, забор вдалеке, освещенные ворота, два маленьких прожектора подсвечивают створки с земли, ворота выкрашены в белое, кажутся невесомыми, возле них двое мужчин в светлых костюмах, крепкие, высокие, с гаишенскими жезлами в руках. Перед «Волгой» ворота бесшумно открылись, машина проехала, перед Ружиным створки сошлись, пришлось резко тормозить. Ружин, сдерживаясь, крепко сжал руль, казалось, разломит его. Подошел один из мужчин, большеголовый, бесцветный, стукнул жезлом по крыше. Ружин высунулся в окно. Мужчина сказал: — Вам сюда, — и указал жезлом в сторону от ворот. Ружин повернулся, увидел импровизированную стоянку — несколько машин. — Я приглашен, — сказал Ружин. — Вам сюда, — повторил большеголовый. — А мне надо туда, — с нажимом проговорил Ружин и махнул рукой вперед. — Туда пешком, — бесстрастно произнес большеголовый. — А машину сюда. Ружин неожиданно выбросил руку, ткнул кулаком большеголовому в живот, тот охнул, хватанул зубами воздух. — Живой, — засмеялся Ружин. — А то уж я подумал — говорящее дерево. Большеголовый замахнулся жезлом, но Ружин ловко вывернул машину направо и, смеясь, покатил к стоянке. Когда он проходил через калитку, большеголовый даже не повернулся в его сторону. Маленькими прожекторами освещался с земли и входв большой, трехэтажный, по-южному белый особняк. На плоской крыше мелькали тени, там же наверху играла музыка, громко, весело, оркестр. На широкой многоступенчатой лестнице, ведущей к распахнутым дверям, и возле лестницы, и дальше, под деревьями, густыми, раскидистыми, небольшими группками, и поодиночке, и парами стояли и расхаживали мужчины и женщины, одетые по-вечернему, ярко, у всех бокалы в руках, пьют. Ружина узнали, и он узнал кое-кого, кивал сдержанно, пока шел. Его окликнули. Он повернулся. К нему спешила молодая женщина, улыбающаяся, в огненно-красном коротком платье, узком, с полукруглым глубоким декольте. Стучали высокие каблучки, длинные глаза светились влажно. Остановилась, разглядела его со всех сторон. — И не надеялась, — сказала. — Изумлена. По этому поводу я закажу фейерверк, искристый и пенистый как шампанское… Кстати, надо выпить. Какой повод… — она посмотрела по сторонам, пошевелила в воздухе пальчиками. — Мы в течение года ежемесячно присылаем ему приглашения, а он брезгует. Своей бывшей любимой женой брезгует, — она говорила чересчур быстро, возбужденно. Пьяна? — Как тебя угораздило на сей раз? Ружин пожал плечами, слабо улыбнулся, сказал тихо и скорбно: — Пришел звать тебя обратно домой. Хватит. Пора. Марина засмеялась, чуть запрокинула голову, взбила с боков длинные белые волосы, протянула к нему руки. — Ты прелесть. Как всегда, красив и остроумен. Ружин отступил на шаг, проговорил еще более скорбно и печально: — Пусто без тебя. Везде. И в спальне, и в кухне, и на улицах, и в машине, и солнце теперь другое, темное, и ночь холодная и враждебная… — он склонил голову, уставился в землю, вздохнув. Марина опустила руки, перестала улыбаться, провела языком по губам, всмотрелась в Ружина внимательней. — Если ты серьезно, — сказала она, — то лучше уходи. Уходи сейчас. Прямо сейчас поворачивайся и уходи… Ружин спрятал лицо в ладонях, дернул плечами, словно заплакал. — К черту! — кричала Марина. — Убирайся к черту! Не порть мне жизнь хоть теперь! Я забыла о тебе и не хочу вспоминать! Они были довольно далеко от людей. Но громкий, низкий ее голос услышали, гости стали тревожно поворачиваться к ним. Ладони Ружина поползли вниз. Лицо открылось. Он смеялся, искренне и весело, как давно не смеялся. Какое-то время Марина смотрела на него, порывисто дыша, пытаясь собраться с мыслями, потом процедила недобро: — Подонок! Я тебя ненавижу! Ненавижу! Она повернулась и, некрасиво ссутулившись, побрела к дому. Ружин, все еще смеясь, прислонился спиной к дереву. Затем выдохнул шумно. Вместе с воздухом вышел и смех. Весь. Без остатка. Он поднял правую руку, ударил себя кулаком в челюсть. Сильнее. Еще. Еще… Потом закурил, сделал несколько глубоких, жадных затяжек, бросил сигарету и решительно направился к дому. В доме празднично, светло, как днем, все двери настежь, в громадной прихожей бархатная мебель, низкая, стелющаяся, причудливые растения в кадках, на столиках разноцветные бутылки, маленькие, большие, совсем крохотные, везде гости, удовлетворенные улыбки, разговоры. В гостиной стол с закусками, длинный, без стульев, подходи, бери, что хочешь, ешь, где хочешь, фуршет, никаких ритуалов, свободно… В конце стола Ружин увидел Рудакова с толстенькой хохотушкой, пожилая, крашеная, молодится, жена. Рудаков провел взглядом по Ружину невидяще, повернулся к хохотушке, засмеялся деланно. Ружин хмыкнул, неторопливо приблизился к Рудакову, хлопнул его по плечу, сказал по-свойски, улыбчиво: — Привет, — подмигнул хохотушке, у той смех завяз в горле, Рудаков стал наливаться багровой тяжестью, а Ружин уже бодро шагал к лестнице, ведущей наверх… На квадратной, просторной крыше веранда, солярий, азо-тея, по-разному ее можно назвать, импровизированная сцена, музыканты, одни гости танцуют, другие любуются вечерним морем, прохаживаются, вдыхая солоноватый воздух. Веранда обильно освещается, и лица у людей белые, неживые, с прозрачными глазами, с растянутыми в обязательной улыбке губами. — Бог мой, какой сюрприз, — услышал Ружин голос, повернулся. К нему легким шагом шел высокий мужчина с чистым правильным лицом, крепкий, спортивный, лет сорока — сорока пяти, протянул руку. — Искренне рад. Жаль, что почти не видимся, а вы мне симпатичны, и я нисколько не ревную и не ревновал, уверяю вас. Все приглашения — это моя инициатива. Мариночка только одобряет и подписывается. Так что в нашем доме вы желанный гость. — Он по-приятельски взял Ружина под руку, повел к плетеному столику в углу веранды, заговорил вполголоса, доверительно: — Знаете, есть категория людей, их ничтожно мало, с которыми просто можно поговорить, просто так, о всякой глупости, ерунде, нелепице, и они поймут тебя, не рассмеются открыто или втайне, не разнесут по всему свету, что, мол, вот этот тип такую должность занимает, председатель исполкома, мэр, а какой-то странный — о любви, о добре, потаенных души порывах беседы ведет. Бредит? Вот вы как раз из той невероятно малой категории людей, мне так кажется. Приходите чаще, будем говорить. Они подошли к столику. Копылов сам открыл бутылку с джином, плеснул Ружину, себе, торжественно поднял стакан: — За вас! — Спасибо, — ответил Ружин. Пока пил, с интересом разглядывал Копылова. Копылов поставил стакан на столик, сжал Ружину локоть, сказал тепло: — Отдыхайте, развлекайтесь, в конце вечера я вас найду. — Юрий Алексеевич, — задержал его Ружин, — я бы хотел посоветоваться, и именно сейчас. Уделите немного времени. Я вряд ли останусь до конца. — Хорошо, — сказал Копылов. — Через несколько минут я буду в кабинете. Спускайтесь туда. Это из прихожей направо по коридору. Копылов быстрой, ладной походкой направился к лестнице, улыбался налево-направо, строил веселые гримасы. На ступеньках он нечаянно столкнулся с какой-то дамой в белом коротком платье. Галантно расшаркался, шутейно поцеловал руку, весь изогнувшись, сладкий, медовый, пожал руку ее спутнику, строго, с достоинством, рассмеялся, побежал вниз. Дама с мужчиной поднялись. Это была Лера. Видимо, с мужем. Белобрысый, стройный малый, скованный, нечастый гость на фуршетах. У Лерки не разбалуешься. Интересно, под каким соусом она здесь. Лера оглянулась, проводила взглядом Копылова. Ружин усмехнулся, вспоминая… Небольшое открытое кафе на набережной, несколько столиков, навес от солнца и от дождя, за прилавком на вертелах вертятся румяные куры, видны блестящие от пота, смуглые лица поваров. Вокруг шумно — гомонят отдыхающие, нетерпеливые, суетливые, горланят ошалевшие от моря и солнца дети. Напротив Ружина сидит мужчина с блеклым, болезненным лицом, он в рубашке с короткими рукавами и совсем не к месту в галстуке. — У Копылова есть любовница, — тихо говорит он и откусывает кусок белого мяса. — Валерия Парвенюк, молодая, красивая, переводчица, муж инженер в порту, — мужчина усмехается. — Не успел Копылов жениться на вашей бывшей супружнице и уже… — Что еще!? — обрывает его Ружин. Лицо у него бесстрастное, жесткое. Мужчина вытирает руки салфеткой, продолжает: — Встречаются, как правило, на Морской, шестнадцать, я их сам там видел, выходили из подъезда, вот квартира какая, не знаю. Обычно в среду и пятницу, с четырех до шести… — он опять усмехается. — Здоровый бычок, на двух молодок работает… Ружин встал, бросил деньги на стол, обронил, уходя: — Понадобишься, позвоню… Ружин сидит в машине, курит, внимательно поглядывает на подъезд четырехэтажного довоенного дома метрах в пятидесяти впереди от себя. Переулок тихий, тенистый. Кто-то высунулся в окно. Женщина, пышнотелая, в огромном халате, крикнула что-то, мальчишка, катающийся на велосипеде, посмотрел наверх, помахал рукой. Из подъезда выходят Копылов и Лера. Ружин напрягся, вгляделся пристальней. Копылов что-то говорит ей, будто оправдывается. Она не смотрит на него, губы плотно сжаты. Копылов машет рукой. Она одна идет по переулку. Копылов сворачивает в проход между домами. Машину, видимо, оставил на другой улице. Конспиратор. Ружин трогается с места, сначала едет медленно, бесшумно, крадучись. Лера сворачивает в переулок, и тут Ружин не церемонится, давит на акселератор, двигатель радостно поет, и автомобиль летит по переулку. Ружин на полном ходу вписывается в проулок, настигает женщину и только в метре от нее тормозит, чуть вывернув руль в сторону. Машина двигается этот метр по инерции, шипя колесами, легко задевает крылом Леру и останавливается мертво. Опасные игры, но все рассчитано до миллиметра. От неожиданного толчка Лера вскрикивает, подается вперед, припадает на одно колено. Ружин стремительно выскакивает из кабины, склоняется над ней. — Кретин, — цедит Лера, поднимаясь. — Болван, — соглашается Ружин, подавая ей руку. — Слепой, что ли? — Лера брезгливо отмахивается. — Ослеп, — разводит руками Ружин и сокрушенно качает головой. — Право слово, ослеп. Такое нечасто увидишь, на фоне солнца, в контражуре, казалось, Венера плывет обнаженная… Легкая, точеная, будоражащая… — Вы еще и наглец, — усмехается Лера и с невольным любопытством смотрит на Ружина. Он улыбается широко, открыто, ну, просто само обаяние. — Нисколько, — говорит он. — Просто восторженный человек. Люблю все красивое… — И дамский угодник, — добавляет Лера и тоже улыбается. — Я хочу искупить свою вину за ваш испуг, — говорит он. — Позвольте вас подвезти… Машина тормозит у порта. Ружин записывает телефон Леры, который она ему диктует, потом целует ей руку, она выходит, сообщает на прощанье: — Завтра все утро я дома. Ружин некоторое время смотрит ей вслед, улыбается, потом поворачивается назад, грозит кому-то кулаком, говорит удовлетворенно: — Ты у меня, а я у тебя, конспиратор. …Лера наткнулась взглядом на Ружина, нахмурилась на мгновенье, лоб зашевелился, съежился, кивнула равнодушно, как малознакомому, чинно направилась с мужем к оркестру, мужчины оборачивались, слишком короткое платье… Ружин спустился по лестнице, опять попал в гостиную. Рудакова и толстушки здесь уже не было, у стола горячо спорили несколько мужчин. Ружин узнал прокурора. Прокурор приветственно помахал ему рукой. Он свернул в коридор справа от прихожей. В коридоре полумрак, горело только бра. Несколько дверей, за какой из них кабинет? За ближайшей дверью раздался голос. Ружин невольно остановился. — Он ублюдок! Ублюдок! Ты слышишь?! — это была Марина. — Вышвырни его отсюда! Слышишь?! — она заплакала. Ружин поморщился, заторопился сделать несколько шагов, заметил под следующей дверью полоску света, толкнул дверь. Кабинет. Пустой. Темная мебель, дорогая, массивная, книги, много книг. Он подошел к окну — там море, темное, тяжелое, густое… — Как вам мой дом? — Копылов плотно закрыл за собой дверь, посмотрел на часы, остановился возле стола. — С размахом, — сказал Ружин. — Неужто осуждаете? — Копылов поднял брови. — Напрасно. Так надо. Представительствую. Один из самых популярных курортов страны. Делегации. Иностранные гости. Надо показывать лучшие стороны. Кстати, вы знаете, что этот фуршет благотворительный. Да, да, не удивляйтесь. В ногу со временем. В конце вечера разыграем лотерею. Дорогую, но престижную. Стоимость билетов до пятисот рублей. Перестраиваемся. Время такое пришло. — У богатых свои привычки, — усмехнулся Ружин. — Зачем вы так? — поморщился Копылов. — Смотрите шире. Только невежественный обыватель думает, что жизнь у нас праздная и богатая. А мы представительствуем, представительствуем. Мы — лицо общества, самые достойные. На нас смотрят, равняются. А разве можно равняться на убогих, нищих?.. — Блестящая логика, — восхитился Ружин. — Вы не согласны? — Это долгий разговор. — Ну хорошо, что у вас там? — неохотно сказал Копылов. Он взял со стола отточенный толстый карандаш, рассеянно оглядел его, положил на место, подавил зевок, вздохнув. — Во время рейда по наркоманам мы задержали некоего Колесова… — Я в курсе, — перебил его Копылов. — Колесов указал нам на Гарабова как на распространителя наркотиков в городе… Я задержал его. — Подняв стрельбу, — опять перебил Ружина Копылов, — и нарушив социалистическую законность… — Я за это отвечу, я уже отстранен от оперативной работы… Речь не об этом. На каком основании отпустили Колесова и собираются отпустить Гарабова? — Начальник управления докладывал мне, что задержание Гарабова досадная оплошность. Случайный наговор какого-то бандита. — Но Колесов опознал… — Колесов несмышленый мальчишка, напуганный камерой и допросами, он сам сознает, что ошибся… Но причастность Гарабова проверят, обещаю вам. Хотя человек он достойный, авторитетный… — Копылов подошел к Ружину, улыбчивый, мягкий, полуобнял его. — Ну а Колесова я знаю лично, глупый мальчишка, но добрый, милый. Неужели вы хотите испортить ему жизнь тюрьмой? Он только озлобится, превратится в настоящего рецидивиста… Я сам займусь его судьбой. Он ведь родственник моих друзей. Обещаю. Ружин отступил на шаг, высвобождаясь из рук Копылова, поежился, как с холода вошел, зябко, неподдельно. Нервный был, злой, не мог сосредоточиться, не знал, чего хотел, чего ожидал. Все не так. Копылов смотрел на него весело, снисходительно. Ружин отвернулся, взгляд упал на застекленные полки, за стеклами книги, перед ними фотографии, большие, маленькие, какие-то люди на них, мужчины, женщины, дети. А вот Копылов в теннисных шортах, с ракеткой, держит под руку полного темноволосого мужчину. Знакомое лицо. Не может быть! Гарабов! Ружин чувствовал, что Копылов смотрит ему в затылок. Обернулся торопливо, вдруг страшно стало. Копылов стоял рядом, смотрел в упор. Потом он вдруг развернулся, быстро пошел к столу, открыл ящик, сунул в него руку, не отрывая глаз от Ружина, пошарил там. Ружин привычно напружинился, разминая кисти, пошевелил пальцами. Копылов наконец вынул руку. В ней были фотографии. — У меня еще есть, — сказал он, усмехнувшись. — Не желаешь взглянуть? Вот мы с Гарабовым на пляже, вот на яхте… Мы знакомы, я полгорода знаю по работе, по делам… А Ружин неожиданно для себя расслабился, рассмеялся, свободно тоже перешел на «ты», спросил: — А фотографий голой Лерочки Парвенюк, которые ты делал на Морской, там не завалялось? Копылов швырнул снимки на стол: — Пронюхал-таки, сыскарь чертов! Дурак, кто тебе поверит? Развратная девка, алкоголичка, она что хочешь наболтать может. Напугал, ох, напугал… Тупица, этим меня не возьмешь, на мне знаешь какие люди завязаны, — Копылов говорил прерывисто, задыхаясь от негодования. — Кто ты такой, чтобы мне грозить?! Щенок, шантрапа, холоп! Раздавлю!.. Ружин слушал молча, не шевелясь, стылый, заледеневший, умереть впору. Плохо, все катится к черту, не за кого спрятаться, один. Сделал шаг к столу, неуверенный, второй крепче, на третьем силу обрел — не все потеряно, встал вплотную к столу, протянул руку. Копылов невольно отшатнулся, загородившись локтем. Ружин собрал снимки, аккуратно, в стопочку, все так же молча; затем к шкафу подошел, и ту, где Копылов и Гарабов в шортиках, вынул, тоже к стопочке присоединил, сунул в карман, направился к двери, возле самого порога остановился, сказал тихо, себе: — Зачем? — вынул снимки, бросил их на пол. Попорхав, рассыпались они беспорядочно, неряшливо — мусор; потянул дверь на себя, вышел. Коридор. Прихожая. На него оборачивались, смотрели настороженно, враждебно: незнакомый, нездешний, другой, теперь это стало видно явно, и присматриваться особо не надо. Вышел на улицу, расслабил галстук, огляделся, заметил мелькнувшее белое платье среди деревьев, двинулся туда. Лера с каким-то рослым малым — не муж — пьют, смеются. Ружин подошел, взял ее за руку, сказал: — Пойдем. Малый оторопел, но смолчал, не шелохнулся, инстинктивно сообразил, что безопаснее не встревать. Лера дернула рукой, но вырваться не смогла, выплеснулось шампанское из бокала, подчинилась, пошла, посеменила за ним, спотыкаясь, бокал выпал, покатился по траве. Возле густых черных кустов Ружин остановился, раздвинул их, сказал: — Не здесь, — потащил ее дальше. — Больно, — проговорила Лера плачуще. Вышли на пляж. Ружин заглянул в квадратную глухую кабинку, поморщился: — Не здесь. Через сотню метров отыскал подходящее место, мягкий рыхлый песок, еще теплый от дневного солнца, с трех сторон деревья, низкие, густые, снял пиджак, бросил перед собой, встал на колено, потянул женщину за собой, лег рядом, стал целовать, жадно, задыхаясь. — Ты сильный, сладкий… — сдаваясь, бормотала Лера. Он сидел за столом у себя в кабинете, что-то писал, необычно громко скрипела ручка, подходили сотрудники, что-то говорили, присаживались, улыбались, хлопали по плечу, показывали какие-то бумаги, а он не слышал ничего, кивал и писал, писал; одна страница, другая, третья и на всех строчках предложения из двух слов: «Я есть. Я есть. Я есть…» Ружин вошел в гостиничный вестибюль. Здесь ничего не меняется, все так же заискивающе застывает в полупоклоне бесцветный швейцар, снуют вечно смеющиеся голосистые иностранцы, крутятся шустрые мальчики, строят из себя благовоспитанных сеньор размалеванные девочки… Лифт поднял его на этаж. В коридоре полумрак, тишина, спокойствие, вдалеке глухо стрекочет машинка. В приемной навстречу поднялась миловидная секретарша в чем-то узком, блестящем, гибкая, как змейка, что-то хотела сказать упреждающее, но Ружин уже открыл дверь. Кадасв резко вскинул голову. Рядом с ним сидела светленькая девушка в белом халате и, высунув язычок, подпиливала ему ногти на руке, маникюрша. — В чем дело? — сухо спросил он. — Маленький домик на побережье, — сказал Ружин, разваливаясь в кресло свободно, без стеснений. — Уютный, комфортабельный, вокруг ни души, тишина. Это сейчас как раз то, что мне надо, устал. — Вы это о чем? — лениво спросил Кадаев и скупо пошевелил пальцами, отсылая маникюршу. — О кредите. — Не понял… — лицо бесстрастное, сонное, проводил взглядом стянутую халатом девушку, глаза оживились. — Я отпустил Колесова, — сообщил Ружин. — Как и договаривались. Уговор дороже денег. — Его отпустил закон, — наставительно заметил Кадаев и, усмехнувшись, добавил: — И Рудаков… — Ноу меня есть человек, которому Колесов продавал… — Он опознал мальчика? — перебил Кадаев. — Нет. Но я знаю, что на него надавили, и я могу… — Вот видите, — опять перебил его Кадаев и развел руками, улыбнулся учтиво, сочувственно: — Поздно. Я решил оставить домик себе. Чудное местечко, — посмотрел на часы, охнул, объявил вежливо: — Время. Спешу. — Машина уже не новая, барахлит, менять надо, — не унимался Ружин, протянул руку, вопрошая, ерничая. Кадаев встал, застегнул пиджак, открыл кейс, принялся складывать бумаги. — Квартирка тесная, женится хочу, — Ружин обе руки протянул, как нищий на паперти к проходящему отцу святому. — Особнячок бы о два этажа, как у вас… Кадаев надавил кнопку звонка к секретарше. Она вошла, ладная, мягкая. — Проводите товарища, — попросил Кадаев. — Он запамятовал, где выход. Ружин легко поднялся, разочарованно покачал головой, почесал затылок. — Вот так, за все хорошее, — сказал. — Вот она, монаршья благодарность. Вот так. Шагнул к секретарше, улыбнулся обаятельно, неожиданно шлепнул ее по блестящему заду, громко шепнул ей, оторопелой: — Позвоню, не переживай, — и, смеясь, направился к двери. Коридор, как туннель черный, мрачный, сырой, никакого тепла, уюта, как раньше, машинка бьет звучно, жестко, тупо в голове отдаваясь. Ружин шел, рукой касаясь стены, разбитый, вдруг стал опасаться, что упадет невзначай. Скверно. Вышел в вестибюль. Здесь светло, шумно, улыбки. Осмотрелся. Все вымученным, фальшивым показалось. Но все-таки жизнь. Взбодрился. Среди хаоса звуков различил музыку, веселую, бесшабашную. Это в ресторане. Уходить расхотелось. За окнами мрачный, враждебный вечер, дома тоска. Зашагал к ресторану. Тепло. Привычные запахи. На лицах отдохновение, плевать, что пьяное, ненастоящее. В зале полумрак, серебристо-фиолетово поблескивают вертящиеся светильники под потолком. Подошел к стойке бара, взобрался на табурет. Бармен тут как тут. Молодой, холеный, руки белые. — Отдыхаем? — спросил как родного. — Ищу истину. — А истина, как известно, в вине, — засмеялся бармен. — В коньяке, — уточнил Ружин. — Понял, — откликнулся бармен. Ружин выпил, жестом показал повторить. Посвежело в груди. Все ерунда. Разберемся. Надо жить. Еще выпил. Совсем хорошо. Много интересных женщин в зале. Просто россыпь. Такое нечасто бывает. Надо воспользоваться. Расправил плечи, нацепил насмешливую полуулыбочку, сразу почувствовал, заметили, поглядывают игриво, кошечки. Можно выбирать. Зацепил взглядом одну. Хорошенькая. Носик короткий. Рот большой, пухлый, движения нежные, естественные. В компании, но вроде как и одна, без кавалера. То, что надо. Сейчас музыка заиграет, и надо идти. Он элегантно и проворно проберется между столиков, раскованный, спортивный, шагая, будет ловить ее взгляд, она непременно его заметит, как только начнет он свой путь, и будет поглядывать чуть настороженно, скрывая любопытство и зарождающийся интерес… Его опередили, кто-то полный, черноволосый, в белом костюме, с сытой самодовольной спиной, склонился над милой женщиной, толстые ручки протянул, перстни сверкнули призывно, она замялась, улыбнулась робко, но все-таки встала, воспитанная, да и без кавалера к тому же. Черноволосый выпрямился, повернулся боком, взяв женщину под локоток, и Ружин узнал его. Гарабов. Уже на воле. Уже водку пьет. Уже на молоденьких девочек потные глазенки растопыривает. Когда они его отпустили, интересно? Днем? Под вечер? Расторопные ребята… Гарабов привычно прижимал к себе женщину, терся о нее крепеньким своим кругляшом-животиком, поедал ее сладкими замутневшими глазками. Женщина улыбалась вымученно, откидывала то и дело голову назад, когда Гарабов особо назойливо тянулся к ее шее мокрыми губами. Может быть, все это было и не так. Может быть, Гарабов был сдержан, учтив и обаятелен и вальсировал легко и умело, как на занятиях в танцевальном классе, пристойно шутил и не делал гнусных предложений. Но Ружину виделось иначе, вот виделось, и все тут, а может, не просто виделось, а так оно и было на самом деле… Женщину он уже не замечал, не до нее, взгляд держался только на Гарабове, губы дергались нервно, и пальцы на руках ломило от холода. Почему так? Жарко же в зале. Музыка кончилась. Гарабов повел женщину к столику, все так же под локоток, говорил что-то, глядя ей в ухо, совал в руки какой-то маленький белый сверточек, она покрутила головой, не взяла, села наконец. Ружин слез с табурета, кинул деньги на стойку. Бармен откликнулся тут же: — Нет, нет, за счет заведения. Как всегда. — Я не против, — ответил Ружин и сгреб бумажки. Он вышел в вестибюль и увидел, как за Гарабовым закрылась дверь туалета. Ружин двинулся следом. Возле умывальников сидел старик швейцар. Он подавал полотенце тем, кто умывал руки, на тех, кто не умывал, а их было большинство, шипел матерно, но тихо, под нос, нарывался уже пару раз на крепкие тычки врагов гигиены, теперь осторожничал, но сдержаться не мог. Он щербато заулыбался, завидев Ружина, тот кивнул, сдвинув брови для устрашения, приказал: — Встань у двери. Никого не пускай. Скажи, вода прорвалась. Сплюнул звучно, нетвердо прошел к кабинкам, прислушался, шагнул к крайней, рванул дверь на себя, она открылась, щеколда повисла на одном тощеньком гвоздике. Гарабов, стоя спиной, мочился, вздрогнул, втянул голову в плечи. — Ты обещал запомнить меня, — скалясь, сказал Ружин. — Смотри. Я это или не я?.. Гарабов не поворачивался, застыл, волосок на голове не шевельнулся. Ружин ухватил его за воротник замечательного импортного пиджака, с силой потянул на себя, вытащил его, обмякшего, из кабинки, ширинка расстегнута, штаны меж ног намокли, жалкий. Гарабов заверещал высоко, скрываясь: — Меня отпустили. Ваш начальник. Сказал, все кончено. Что вам надо?! — Ты зачем девушку мою трогал? — дружелюбно спросил Ружин. — Какую девушку? Я ничего не знаю. — С которой танцевал… — Я не знал, что она ваша… — Надо знать, — назидательно и строго произнес Ружин. — Надо было видеть… Подошел бы и спросил. А я бы не разрешил. — Я не знал, я ничего не знал. Поверьте, — Гарабов приложил руки к груди. — Надо знать, — с пьяноватым упорством повторил Ружин. — Бред какой-то, — пробормотал Гарабов. — Оскорбляешь? — осведомился Ружин. — Что вы, что вы… — зачастил Гарабов. — Никогда. — Что ты ей предлагал? — спросил Ружин. — Ничего плохого. Встретиться… Но я же не знал. — Наркоту предлагал? — грозно навис над ним Ружин. — Бог с вами… — И ее, милую, чистую, втянуть хотел, как и Колесова, как и мальчишек из интерната… Дети ведь они ж… — Ружин сокрушенно потряс головой. — А ты им… Сволочь! Наркоту ей предлагал! Я знаю! — заорал он и оттолкнул Гарабова от себя. Тот сделал два неловких шага, споткнулся и, пытаясь удержаться, угодил рукой в заполненный мочой писсуар. Достал платок, морщась и отворачиваясь, вытер руку, платок кинул в угол. — Я вам все расскажу, — успокоившись, проговорил он. — У меня уже все написано. Я покажу. Он полез во внутренний карман пиджака и вынул маленький никелированный подарочный пистолет. — А теперь руки на стену! — сказал он Ружину. — Ноги назад. Пьяный идиот! Ружин тряхнул головой, задышал часто, кровь кислородом наполняя, как некстати этот коньяк, стал поворачиваться медленно. Когда оказался боком к Гарабову, резко выкинул правую ногу, вышиб пистолет пяткой, той же пяткой ткнул Гарабова в грудь, тот шатнулся, упал на кафельный пол. Начал подниматься, но тут Ружин опять опрокинул его сильным ударом: — За мальчишек! — сказал он. Поднял Гарабова за плечи и опять в подбородок, коротко. — А это, чтоб знал, — есть Закон! Опять схватил его в охапку, а дальше… все произошедшее дальше вспоминается с трудом. Отпихнув швейцара, влетели в туалет молодые парни, двое, рубашки трещат на плечах, и умело, молча, только посапывая, повалили Ружина, пнули в живот, раз, другой, третий, потом к голове кроссовками литыми приложились, а потом Ружин потерял сознание и потому уже не видел, как в руку ему вложили никелированный пистолетик.Часть вторая 1–3 ноября
…Ружин припарковал машину. Несколько минут не выключал двигатель, сидел, греясь. Автомобилей на стоянке мало, два — три, усыпанные стылой осенней росой, с порожков и бамперов лениво падают капли, как после дождя. Сонно вокруг, сыро. Раннее утро. Гостиница «Солнечная» поблекла, стекла не блестят, мутные. Ружин наконец выбрался из машины, с трудом, кряхтя; снимая «дворники», задел плащом крыло, измазался бурой грязью — машина неухоженная, потеряла цвет, вместо белой темно-серая — даже не заметил, поднял воротник, запахнул плащ, длинный, мятый, сутулясь, валко взбежал вверх по ступенькам, к набережной. На набережной скоро засеменил к решетчатой калитке открытого кафе, в котором они как-то летом были с Феленко. Сквозь решетку видно, что на открытой площадке столиков нет, но дальше крытый павильон, и из-за его двери доносится приглушенно музыка, над дверью надпись: «Кафе «Русалка». Ружин дернул на себя решетчатую калитку. Бесполезно. Замок на цепи, грузный, ржавый. Ружин потряс прутья, крикнул: — Эй!.. — и еще: — Эй!.. — и опять: — Эй! Из павильона вышел швейцар, старый знакомый, Ружину ручку жал, скалился тогда летом… Не спеша приблизился, спросил, равнодушно жуя: — Чего надо? Ружин приветливо заулыбался, проговорил бодренько: — Ты чего, Степаныч, не узнаешь? — Чего надо? — повторил швейцар, облизнул сальные губы, проглотил, что жевал. — Поесть бы, — Ружин приблизил лицо к решетке, заулыбался еще приветливей. — В такую рань только у вас поесть-то и можно. Степаныч поморщился, когда Ружин дыхнул на него, сказал брезгливо: — Визитную карточку давай. — Степаныч, это же я, Ружин. — Вы пьяны, — сказал швейцар. — Это со вчерашнего, — сказал Ружин, хихикнув. — Набрался, как стервец, башка трещит. Войди в положение. — Не положено, — швейцар повернулся, двинулся обратно. Ружин протянул руку, успел ухватить Степаныча за воротник, подтянул к себе, выцедил зло: — Обнаглел, толстомордый! Открывай! А то припомню кой-чего, посажу! Швейцар с неожиданной ловкостью крутанулся на месте, вырвался, ощерился: — Не посадишь гад! — взвизгнул. — Кончилось твое время! Теперь ты дерьмо! Тьфу! — сплюнул, затопал к павильону. Ружин вцепился в решетку, тряхнул сс, зазвенела цепь, забухал замок, заорал, багровея: — Прибью, мерзавец! Ты меня не знаешь, жирный болтан! Я тебя достану! Отбивные сделаю из твоей свинячьей задницы! И сам схаваю под водочку холодную! Открывай! — голос сорвался, Ружин всхрипнул, закашлялся, кашляя, все грозил кулаком. В дверях кафе показались два малых, краснолицые, с борцовскими шеями, ковыряя в зубах, скучно посмотрели на Ружина. Ружин сгорбился, держась за горло, кашель все еще бил его, махнул рукой, повернулся и побрел к стоянке, подрагивая плечами. Парни и швейцар посмеялись и скрылись в кафе. Ружин опять гонял машину по пляжу, как тогда летом. Только теперь рядом ни Леры не было, которая так смешно жмурилась от страха и повизгивала тонко, как озябшая собачонка, и никого другого не было. Некому было сидеть на соседнем сиденье. Вот так вышло. Песок был смерзшийся, темный, как по асфальту неслась машина, с визгом завалилась на вираж, с жестоким шипеньем взметала из-под колес влажные песчинки, крутилась волчком на месте и вдруг срывалась стремительно, присев на мгновение на задние колеса аж до самых бамперов. И на шоссе опять милицейский мотоцикл желтел, а возле него гаишник курил — но другой уже, не тот, который летом за Ружиным гонялся — постарше, позлее — и с тяжелой непримиримостью взирал на ружинские выкрутасы. Ружин заметил его, усмехнулся, на полном ходу выскочил на шоссе, помчался, не сбавляя скорости. Гаишник прыгнул в седло, поспешно затарахтел следом, засвистел запоздало, прокричал что-то в рацию, замахал жезлом. Но куда там, Ружин уходил все дальше и дальше. Как и предшественник его, гаишник тоже наперерез помчался по выбоинам, по камням, по жухлой, мокрой траве. Грязи не было, и поэтому мотоцикл пробрался-таки; ревя и буксуя, выпрыгнул на шоссе, перегородил дорогу перед самым почти носом Ружина. Милиционер соскочил с седла, подбежал к машине, придерживая болтающуюся на боку рацию, постучал в закрытое окно. Ружин не реагировал, сонно смотрел в окно, недвижный. Гаишник дернул на себя дверцу, и Ружин вывалился наружу, мешком, прямо на асфальт, вяло перекатился на другой бок, забормотал что-то. Милиционер отпрянул опасливо. — Вот те на, — сказал, приглядевшись внимательнее, нагнулся, принюхался, добавил удовлетворенно: — Вдрызг, скотина. Ружин зашевелился, подполз к дверце, держась за нее, поднялся, мутно глянул на милиционера, заговорил невнятно: — Перед заходом солнца… слалом очень полезен, когда трамваи не ходят, вот так, понял?.. Я за зубной щеткой еду, понял? Вот так… — Понятно, а как же, — сказал гаишник, кладя планшетку на капот. Сейчас мы почистим тебе зубки и без зубной щетки. Давай документы. Ружин хитро хихикнул и достал из кармана двадцать пять рублей. — Во мои… это документы. Проверяй. Сержант сузил глаза, нажал тангенс рации, проговорил в микрофон: — Сто второй, сто второй, докладываю, владелец автомобиля ноль, ноль, шестьдесят восемь предлагает мне взятку в количестве двадцати пяти рублей. Сильно пьян. Ружин с неожиданной резвостью прикрыл микрофон, заговорил, улыбаясь: — Ты чего, парень. Пошутил я. Я трезв, как стекло. Скучно просто, вот и веселюсь. Извини, если что… — Документы! — губы у сержанта задрожали от напряжения и злости. — Да брось, пошутил я, — Ружин отступил на шаг, занес ногу, чтобы забраться в кабину. — Поеду я… Гаишник крикнул угрожающе: — Стоять! — для пущей острастки схватил Ружина за плечо, рванул на себя, да так сильно, что тот едва устоял на ногах. — Что ж ты делаешь?! — проговорил Ружин и машинально, не отдавая себе отчета, коротко ткнул сержанта в живот, затем для надежности еще раз, так же стремительно и коротко. Сержант согнулся, выкатил глаза. Ружин оттолкнул его от машины. Милиционер не удержался, упал неуклюже. Ружин поморщился, сел в кабину и тут услышал ноющий голосок сирены, из-за поворота показалась милицейская «Волга». — Идиот, — сказал себе Ружин и устало откинулся на спинку сиденья… — Ружин, — окликнул его дежурный из-за барьера, капитан лет за сорок, тихий, раздумчивый, когда говорит, глядит в глаза, что-то ищет там, в глазах. Это редкость, когда за барьером и ищет. Ружину он понравился. Он вскочил, подошел поспешно, склонил голову выжидательно. — Ружин, — сказал капитан, почесав переносицу. — Мы вынуждены задержать вас до выяснения обстоятельств. Скоро приедет дознаватель, я уже позвонил. Сопротивление работнику милиции при исполнении — дело нехорошее, знаете ли. — Да пошутил я, — Ружин прижал ладони к груди. — Разыграть решил сержанта. Я сам бывший сотрудник, начальник отделения отдела уголовного розыска города. Вы должны знать меня. — Бывший, — вздохнул капитан. — Да что вы, ребята, — Ружин обернулся к трем суровым обветренным офицерам ГАИ, стоявшим неподалеку, заулыбался просительно. — Все же свои… Офицеры не дрогнули, не тронуло сочувствие их свекольные лица. Крепкие ребята, сто лет им жить. — Были свои, — грустно заявил капитан и опять вздохнул. — Было время. Была работа. Все по-другому теперь, все по-другому. Иные дуют ветры, никакого благодушия, никакого кумовства, все — строго по закону… — Вытянул шею, сказал кому-то вбок: — Отведи его в третий кабинет, он пустой, пусть подождет. Откуда-то появился молоденький милиционер, строго указал Ружину, куда идти. Уже у порога капитан остановил его: — Если желаете, можете позвонить, сообщить, что вас задержали, а то искать будут. Ружин растерялся. Сообщить? Кому? Кто его будет искать? Даже смешно, и он усмехнулся. — Если некому, — сказал капитан, — тогда идите. Ружину показалось, что желторотый милиционер хмыкнул. — Как так некому? — он круто повернулся. — Это почему же некому? — он возвратился к барьеру, шаг быстрый, уверенный, кивнул капитану: — Спасибо, — набрал номер, подождал. — Феленко? Ружин. Здравствуй. Неподалеку я тут от тебя… В кабинете столы, стулья, грязно-желтые, в трещинах, с нечищенными металлическими бляшками на боках «МВД 1964 г.», давно срок износа вышел, а все служат, бережливые люди у нас, экономные, есть чему иностранцам поучиться, холодный сейф в углу, стены голые, на окнах занавески, на занавесках чернильные пятна, застиранные, но не отмытые. Безлико здесь. Никак. В окно сигануть хочется. Ружин раздвинул занавески, прижался лбом к выстуженному осенью стеклу. Под окном на лавке сидел маленький пожилой милиционер и строгал перочинным ножом палочку. Выстругает одну до размера спички, бросит под ноги, другую возьмет… Заскользил Ружин лбом по стеклу, вниз, скрипуче, ткнулся головой в руки, покоящиеся на подоконнике… Колыхнулись занавески, вздрогнуло стекло, Ружин поднял голову, огляделся рассеянно, лицо сонное, хотя и не спал вовсе, и не дремал даже, мерещилось что-то зыбкое, причудливое. В проеме раскрытой двери увидел Феленко и за его плечом еще кого-то в милицейской фуражке. Знакомое лицо, тоже обветренное, огрубелое, как и у всех здесь. Ружин встал, растирая лоб, шагнул навстречу. Феленко протянул руку, сказал: — Все в порядке. Пошли, — плащ на нем короткий, штопаный, с желтыми пятнами от неумелой глажки. — Я приехал с трассы и услышал, как ваш приятель объясняется с дежурным, — сказало знакомое лицо в милицейской фуражке. — Фамилию я вашу тогда летом хорошо запомнил, крепко, — и лицо криво усмехнулось. Ружин, узнавая, покачал головой — тот самый старший сержант-гаишник, который гонялся летом за ними с Лерой и которого он заставил явку с повинной на себя писать. Веселые были времена. — Я все уладил, — сказал сержант. — Считайте, что ничего не было. — Спасибо, — поблагодарил Ружин — Хотя, наверное, не стоило беспокоиться. Я уже свыкся с мыслью, что я преступник, даже интересно. В жизни так мало интересного. Право, не стоило… — Не дури, — Феленко ухватил его за рукав, потянул за собой, повернувшись к сержанту, с виноватой улыбкой объяснил: — Он немного не в себе, перенервничал. — Я понимаю, — кивнул сержант. Дежурный встал, увидев Ружина, протянул руку через барьер, улыбаясь: — Рад, искренне рад, что все обошлось. Мы были не правы. Клеменко покаялся, что все сочинил, лицо ему ваше не понравилось. Мы его накажем… Друзья наших друзей — наши друзья. Ружин протянутой руки не заметил, погрозил пальцем. — Никакого благодушия, — сказал назидательно и важно зашагал к двери. — Перенервничал, — развел руками Феленко. Пока Ружин открывал машину, сержант топтался за его спиной. Ружин отворил дверцу, не спеша повернулся к нему. — Мы вроде теперь в расчете, — осторожно проговорил сержант. — Протокол задержания, рапорт Клеменко у меня. Можем обменяться. — Чудесный ты парень, сержант, — Ружин сел в машину привычно, с удовольствием. — Жить тебе при коммунизме. Позвони на днях, обменяемся. — Вот и все, — сказал Ружин, когда они отъехали. — Жалко. — Что все? — спросил Феленко. — Что жалко? — Теперь опять всем наплевать, в каком году я родился, — сказал Ружин, — какое у меня образование и что я могу показать по существу заданных мне вопросов… — последние слова произнес жестко, по-прокурорски, как на суде. — Не понял, — Феленко с подозрением покосился на Ружина. — А показать я могу много, до черта я могу показать, только спросите. Но теперь опять никто не спросит. Ты знаешь, — сказал он, глядя на дорогу, улыбнулся отрешенно, — это кайф, когда кому-то интересно знать, кто ты. Вроде как в детстве, играли в прятки, тебя не нашли, забыли, разбежались, а ты сидишь один и вроде как нет тебя, вроде как и не родился еще, а потом раз — нашли, случайно, и счастье… Какое-то время ехали молча. — Деловой сержантик, — Феленко решил сменить тему. — Пошушукался с дежурным, к начальству сбегал, вернулся, опять пошушукался, и все путем. Приятель? — Почти родственник. Машина свернула под «кирпич», на узкую асфальтовую дорогу. По бокам деревца, черные, мокрые, асфальт тоже мокрый, испятнан лужами, и в обочинах вода, зеленая, томится, бродит. Вскоре за реденьким перелеском увиделись здания, сначала одно, белое, с серыми подтеками, буквой П, типичное школьное строение, затем поодаль, правее, другое — одноэтажное, длинное, вроде казармы, вокруг голо, бурая трава, вместо деревьев стенды с наглядной агитацией, длинная мачта с флагом, верхушка покачивается под ветром. Флаг, как только что выстиранная простыня, обвис, съеженный, не шелохнется. — Сурово, — заметил Ружин. — Обыкновенно, — отозвался Феленко. — Это не санаторий. Это место, где люди учатся жить, — помолчав, добавил негромко: — Где я их учу жить. Ружин поднял брови, но ничего не сказал. Обогнули школьное здание, въехали во двор. Во дворе около десятка ребятишек разных возрастов под командой чернявого крепыша занимались зарядкой. Лица истомленные, пот по щекам, голые ноги в грязи. Крепыш выкрикивает что-то коротко, как кнутом щелкает. Ружин заметил среди ребят двух девчонок. В глазах набухли слезы, но подчиняются. — Поздновато для зарядки, — Ружин посмотрел на часы. — Это не зарядка, — Феленко внимательно разглядывал детей. — Это наказание. Я не сторонник внушений и экзекуций. Только спорт. Здоровее будут. — И в чем они провинились? Изнасиловали учительницу? Подожгли интернат? Феленко пожал плечами: — Кто за что. Кто болтал на уроке, кто без команды есть начал, кто девчонок лапал… — Ты шутишь? — тихо сказал Ружин. — Я никогда не шучу, — Феленко открыл дверцу и вылез из машины. — Три-четыре! — скомандовал крепыш. — Добрый вечер, товарищ директор! — проскандировали ребята. Феленко чуть качнул головой. — На сегодня хватит, — обронил он. — Директор? — удивился Ружин, тоже выходя из машины. — Пока исполняющий обязанности, — сказал Феленко. — Прежнего на пенсию отправили. — Он ухмыльнулся. — Я отправил. Они сидели в комнате Феленко за квадратным столом. Перед каждым стакан чая, печенье, варенье в розетках, алое, прозрачное, вкусное. За окном сумерки, небо серое, низкое, давит. Задернуть бы шторы и не видеть его. Ружин встал, задернул. — Что? — спросил Феленко, повернувшись резко. — Включи свет. — А-а, — Феленко включил. Абажур зелено засветился изнутри, старенький, мягкий, с бахромой, кое-где щербинки. Строго в комнате и скучно, будто временно здесь человек живет, хотя это его дом уже столько лет. Шкаф, кровать, тумбочка, стол, стулья. Все. — Останешься? — спросил Феленко. — На работу теперь тебе не спешить. — Останусь, — сказал Ружин. — А может, и вообще поживу. — Поживи, — согласился Феленко. — Полезно будет. — Кому? — спросил Ружин. Феленко задержал взгляд на Ружине, не ответил. — Встаю я рано. И тебя приучу, — он медленно лил кипяток из чайника в стакан, с рассеянной полуулыбкой наблюдал, как от жаркой влаги запотевают топкие стеклянные стенки. — Рассвет встречаю на море. Каждый день. — Мазохист, — хмыкнул Ружин. — Жизнь катастрофически коротка. Сон — расточительство. И наши с тобой чаи расточительство. И наша суета в ГАИ расточительство… Немного сна, немного еды, и работа, познание, дальше, дальше, дальше… — он перевел дыхание. — Без перерыва я вколачиваю в их податливые головки знания, каждый час, каждую минуту, секунду. Не терять ни мгновения. Я выращу качественно новый отряд интеллектуалов, они перевернут страну. Они вышибут мерзавцев, лентяев, глупцов, они создадут… — А если, — прервал его Ружин, — а если кто-то не способен или кто-то просто хочет подурачиться, поиграть, побеситься или сбежать с уроков в конце концов… — Во двор! И приседать, приседать… — он оборвал себя, прикрыл глаза, потер их пальцами, сильно, докрасноты, поднялся, сказал с легкой усмешкой: — Не радуйся, не поймал. Я не фанатик. Просто больно смотреть вокруг. Пойдем, я покажу тебе комнату. В коридоре полумрак, тихо, бледные проемы окон, вздрагивающие тени на стенах, на полу. Возле одного из окон Феленко задержался, замер. — Дрянь, — выцедил. Ружин тоже посмотрел в окно, увидел вдалеке, у перелеска тонкую девичью фигурку в светлом длинном плащике. — Ну и что? — спросил. — Левее, — подсказал Феленко. Ружин посмотрел левее. Различил высокий силуэт. Парень. Он приближался к девушке. — Колесов, — сказал Феленко. — Она, сучка, к нему ковыляет. — Ух ты, — отозвался Ружин, вгляделся внимательней. — Откуда он? — Из города, — Феленко повысил голос. — Я же сказал ему, ни ногой сюда, бандит! И ее предупредил, увижу еще раз — выгоню! Сдохнет ведь под забором, проститутка! — Он круто развернулся, двинулся в обратную сторону, к выходу из школы, махнул Ружину. — Пошли! Шли быстро, шумно, с хрустом давили гравий, потом шагали по траве, она скрипела под подошвами, мокрая. Ружин поскользнулся, упал на руки тренированно, отряхиваясь, чертыхался, грязными ладонями еще больше испачкал джинсы, свитер. Ветер резкий, впивается в глаза, холодно, тревожно. Девушка толкала Колесова, беги, мол, чего ждешь, дурачок. Но тот стоял недвижно, только кулаки сжал, то ли от холода, то ли от злости или чтоб смелости прибавить, прищурившись, смотрел неотрывно на приближающихся. — Когда ты пришла ко мне, голодная, в слезах, без копейки за душой, — Феленко вытянул длинный палец в сторону девушки, я сказал тебе: живи, работай. Я помогу. Я сделаю тебя чистой, светлой, настоящей! Ты станешь человеком будущего! Только надо этого очень хотеть! — Я не хочу, — тихо сказала девушка. Ружин едва расслышал ее голос. — Что?! — Феленко опустил палец. — Она сказала, что не хочет, — медленно, отчетливо проговорил Колесов, он разжал кулаки, обтер ладошки о куртку и снова сжал пальцы. — Вон, — спокойно сказал Феленко — Немедленно, — он дернул плечами, пробормотал что-то, повернулся, зашагал к школе, сутулый, сникший, казалось, он вымок и с него капает вода, с волос, с пальцев, с плаща. Ружин догнал его. — Послушай, — попытался остановить за руку. — Так нельзя. Куда им сейчас идти? Поздно. Не сходи с ума. Они же дети… Феленко вырвал руку, неприязненно, брезгливо, смотрел перед собой отрешенно. — Грязь, грязь, везде грязь, — говорил невнятно под нос. — Она сильнее, пока сильнее, но кто-то должен начать, — остановился вдруг, повернулся к Колесову и девушке, закричал, не сдерживаясь: — Чего стоишь?! Убирайся! Собирай барахло и убирайся! Чай в стаканах еще дымился, и варенье по-прежнему светилось рубиново. Тепло, хочется спать. Ружин надел плащ, завязал пояс. Феленко некоторое время молча смотрел на него, потом спросил: — Вернешься? Ружин не ответил, потянулся к столу, взял пачку сигарет, сунул в карман. — Ты ничего не понял, — сказал Феленко. Он сел на кровать. Строго, по-солдатски выправленное одеяло встопорщилось. — Может быть, — Ружин пожал плечами. — Я от многого отрекся ради них, — с горечью проговорил Феленко. — И еще от большего отрекусь. — Наверное, — сказал Ружин, он внимательно оглядел комнату, не забыл ли чего. — Чистота помыслов и взглядов не дается просто так, — Феленко безуспешно пытался поймать взгляд Ружина. — За них нужно бороться, иной раз жестоко. — Тебе видней, — Ружин был уже у двери. — Ничего ты не понял, — Феленко тряхнул головой. — Постой, — он выдвинул ящик тумбочки, вынул деньги. — Здесь восемьдесят рублей. Это зарплата Светы. Она провалилась в институт, и я взял ее уборщицей. Ружин взял пачку, пересчитал. — Точно, — сказал. — Восемьдесят. Повертел бумажки в руках, положил на стол. Феленко усмехнулся. Ружин вышел. Через какое-то время за окном послышался его голос: «Забирайтесь, ребята», — потом заработал двигатель, зашуршали шины по гравию, и все стихло. Феленко встал, аккуратно поправил постель, гладко, без морщинок, снял плащ, сел за стол, сделал глоток из стакана… — Здесь? — спросил Ружин, притормаживая. — Здесь, — сказала Света. — Останавливайтесь, ну что же вы? Теперь чуть назад сдайте, вон к той кадке. — К какой кадке? — Ружин переключил скорость, повернулся назад. — Я ни черта не вижу. Вокруг вязкая темнота, южная, хотя, если пообвыкнуть, приглядеться, можно угадать силуэты заборов, деревьев за ними, кубики домов. Кое-где справа, слева в окошках свет, тусклый, в двух-трех домах, остальные безжизненны, слепы. Свет и в доме, который они искали. Он далеко, в сотне метров впереди, левее, там много света, и не только в окнах, но и во дворе, яркие лампы отливают серебром и на деревьях в саду, и слышится музыка со двора, и плавная, и мощная одновременно, знакомая — вальс. — Только бы сигнал она услышала, — сказала Света. — Какой сигнал? — не понял Ружин. Света приложила ко рту две сложенные горстками ладони и дунула в них. Вытек странный ноющий звук, отдаленно напоминающий сирену. Ружин покрутил головой. — Как в фильме про разведчиков, — сказал он. — А мы и есть разведчики, — серьезно ответила девушка. Она выдохнула решительно и открыла дверь. Ружин глядел ей вслед, пока она не исчезла в темноте. — Симпатичная девушка, — сказал он. — Красивая, — не сразу отозвался Колесов. — Послушай, — произнес Ружин, не поворачиваясь. — А ты почему тогда под пули бросился? Нас защищал? Совесть проснулась? — Себя защищал, — хмыкнул Колесов. — Если бы он вас тогда подстрелил, и мне бы срок навесили. Наверное. — Ну, по крайней мерс, честно, — кивнул Ружин. Некоторое время сидели молча, а потом Ружин сказал: — Пойду пройдусь. — Не надо, увидят, — возразил Колесов. — Я осторожно, — сказал Ружин, щелкнув замком. — Те два грузина, на квартире, — проговорил Колесов, — раздели меня донага, проворно, веселясь, и я веселился, хорошую дозу себе вкатил. Но когда один сзади пристроился и пыхтеть начал, вот тут кайф соскочил, не весь, но мне страшно стало, заледенел, закричал, вывернулся, одежду в охапку, и тут вы… Я с тех пор на порошок смотреть не могу. Лицо мерзнет. Ружин ничего не ответил, кивнул, вылез из машины. Он пошел вдоль заборов, грязь чмокала под ногами, дотронулся до досок, они холодные, осклизлые, расставив руки, балансируя, как на канате, двинулся по оставшейся полоске увядающей травы. Вальс приближался, щедрые звуки его вселяли спокойствие, радость, Ружин умиротворенно заулыбался. И вот совсем уже он близко, он шагнул к забору… На утрамбованной, круглой, просторной площадке, сбоку от дома, под светом двух белых ламп кружилась пара, умело, гибко, легко, он во фраке, стройный, с пышной шевелюрой, сосредоточенным длинным лицом, она в бальном платье, открытом (Ружин поежился), большеглазая, улыбчивая… Ружин уловил движение сбоку, напружинился и расслабился тут же, спросил вполголоса: — Машину закрыл? Колесов протянул ключи. — Красиво, — сказал он, не отрывая глаз от пары. — Как в театре. — Ветер сильный, — заметил Ружин. — Как бы не простудились, глянь, какая шейка-то у нее тоненькая… — Это Светкина мать. — Мать ее!.. — Ружин покачал головой. Тут они услышали знакомый звук, ноющий, тонкий. Переглянулись, замерли. Звук повторился, еще, еще… Ружин заметил, что женщина тоже различила сигнал, она сузила глаза, приподняла подбородок, прислушиваясь. Партнер еще не услышал ничего. Вот женщина оступилась, танец прервался, женщина засмеялась, что-то сказала, захромала к дому. Партнер ее продолжал кружиться один, прикрыв глаза, — покой на лице, счастье. Ружин видел, как, зайдя за дом, женщина перестала хромать, постояла с полминуты, обхватив себя за плечи, осень все же, прислушиваясь и оглядываясь то и дело опасливо, и решилась наконец, засеменила торопливо по асфальтовой узкой дорожке к забору, к калитке в заборе. Блестели глаза, переливались радужно блестки на платье, стучали каблучки меж выстуженных грядок — фея приусадебных хозяйств обходила свои владения… Партнер остановился посреди площадки, раскинув руки, обнял небо со звездами и луной, и стайкой крикливых птиц, пролетающих над домом, и, потирая ладони, меленько побежал к дому. У крыльца сунул руку под лавку, вынул бутылку, пол-литровую, ополовиненную огляделся, крякнул и закрутил винтом жидкость в глотку… — Дуры, — сказал Колесов, скривив лицо. — Все же слышно. Голосишки-то писклявые у обеих. — Он занят — усмехнулся Ружин. — Не учует. Учуял. Сделал стойку как спаниель на утку, повел носом, левее, левее, вот теперь горячо, ощерился, отшвырнул бутылку с силой. Высверкнула она дугой и приземлилась у забора совсем рядом с Ружиным и Колесовым. — «Лучистое» розовое… прочитал Колесов. Кончился вальс, и после паузы зазвучал фокстрот… Партнер сделал непроизвольно несколько па под музыку, фалды фрака взметнулись по-ласточьи, и, пригнувшись, смешно запрыгал к забору. — Ой-ей-ей, — только и сказал Колесов. — Ой-ей-ей! — ответствовала ему Светкина мать, только громче и безнадежней, сорвался голос, запетушил. — Ой-ей-ей! — вторила ей Светка жалобно и просяще. И вот показались они трое среди грядок. Мужик во фраке волок мать и дочь за волосы к дому. — Не потерплю, — кричал, — непослушания! — и матерился. — Не потерплю, — кричал, — предательства! — и грозил смертью всем, кого знал, с кем роднился, с кем дружил и с кем еще познакомится когда-нибудь… — Говорил же тебе, — кричал, — забудь ее, иначе все! Крышка! — и опять матерился, а потом стал бить женщин. Сначала Светку хватанул по носу, и та свалилась беззвучно в грядки, затем за мать ее принялся, основательно, умело, привычно. Она визжала, а он в рот ей, в рот… Колесов дернулся, всхрипнув, но Ружин удержал его, раздумывая, стоит ли ввязываться. — Не могу-у-у-у! — выл Колесов, извивался судорожно, пытаясь вырваться. — Пусти, гад! Ружин цыкнул зубом, сплюнул, вздохнул, отпихнул Колесова подальше, чтоб не опередил тот его, не наделал глупостей, и перемахнул через забор, одним прыжком, ловко. Еще два прыжка, и он возле мужика, только руку протяни, и он протянул, за волосы мужика, потом по почкам, раз, другой, взвыл мужик, закатил глаза, а Ружин в живот ему, но не попал, опытный мужик бедро подставил и тут же отработанно в зубы Ружину. Ружин отпрянул, попятился, удивленный. Мужик в стойку встал, сопя двинулся на Ружина. Так и есть, боксер, мать его… Ружин влево метнулся, мужик за ним подался, и Ружин ногой в пах ему, попал-таки, браво, мужик согнулся, взрыкнув, а Ружин по глазам ему двумя ладонями, чтоб ориентацию потерял, мужик закрутился на месте, больно… Ружин перевел дыхание, огляделся, возле Светки Колесов склонился, а матери ее нет нигде… Тут опять мужик на него двинулся, и Ружин опять его в пах. — Уйди от него, мразь! — услышал он сзади истеричный голос, женский, писклявый. Ружин обернулся вмиг и оторопел. В руках Светкина мать держала двустволку. Красивая, пылающая, в бальном платье длинном, плечи белые, нежные, и черное тяжелое ружье от бедра, пустые зрачки стволов, и впрямь только крови не хватает до истинной гармонии… Ружин дернулся в сторону, и тут выстрел, оглушающий, мимо, сзади в щепы разнесло доску в заборе. Медвежьим жаканом бьет, милая барышня. Ружин вправо теперь, прыжком, и в жухлую траву ничком, второй выстрел, мимо, теперь яблонька пострадала, тихая, безвинная. Ружин вскочил рывком, теперь ружье отобрать надо… Она держала его в опущенной руке, смотрела перед собой отрешенно, потом повела плечом, отпустила двустволку, брякнулось ружье на асфальт, прогудели пустые стволы, жар выдыхая… И вслед Светкина мать на дорожку опустилась, обессиленно, обезволенно, как пластилиновая, заплакала сухо… — Мамочка! — взвилась Светка. — Не умирай! Вскочила разом с грядок, где, придя в себя, лежала, хоронясь, голову руками обхватив как при бомбежке, рванулась к матери. Ружин удержал ее, обвил рукой поперек туловища, потянул за собой к калитке, приговаривая: — Потом, потом, все потом… — Что потом? Когда потом?! — вырывалась Света. — Они уезжают завтра, насовсем уезжают, слышишь ты, защитничек?! Пусти! — горланила, отбиваясь. — Пусти! А Ружин говорил ей что-то тихое и нежное на ухо, улыбался, целовал ее в щеку, в нос, и она утихла, покорилась, повисла на его руке, побрела, куда повели. Колесов шел за ними, съеженный, напуганный. Ружин вел машину по пустой серой улочке, фонари горели вполнакала, скупо. В салоне он был один, дымилась сигарета меж пальцев. Впереди из-за поворота вывернула машина. Точечки фар увеличивались. Встречный водитель включил дальний свет. Ружин поморщился и усмехнулся. Поравнявшись с Ружиным, машина притормозила. Ружин заметил удивленное лицо водителя, открытый рот, расхохотался. Не торопясь, проехал еще с полсотни метров и свернул направо. Эта улица повеселей, светлая, людей побольше, гуляют вольно. Завидев машину Ружина, останавливаются, разглядывают с удивлением, кто-то пальцем показывает. — Держись! — крикнул Ружин кому-то в окно и увеличил скорость. Вот он заметил справа на доме над открытой дверью три светящиеся буквы «БАР», а возле двери человек десять ребят, пестрые, галдят, курят. Тусовка. Ружин резко свернул вправо, прямо на тротуар, проревел двигателем мощно, для солидности и под восторженные крики ребят притормозил резко возле самой двери, передок уперся в дверную раму. — Колесо прикатил! — завопил кто-то. — Хай-класс, чувак! — запрыгала, хлопая в ладоши, какая-то раскрашенная девчонка. На крыше «Жигулей» гордо восседали Колесов и Света. Ружин курил и улыбался. Колесов осторожно ступил на капот и спрыгнул прямо в дверной проем, следом спрыгнула Света. Колесов подхватил ее на руки, поцеловал, пока ставил на пол. Ребята обступили машину. Чья-то «панковая», с волосяным гребешком голова всунулась в салон. — Отец, — пискляво обратилась голова, — дай порулить. Ружин открыл дверь, вышел, сказал писклявому: — Припаркуй у тротуара, ключи принесешь. Тусовка завопила. Ребята полезли в машину. — Не боись, отец, — прогнусавил «панковый». — Я супердрайвер. Ружин вздохнул, махнул рукой, мол, давай отваливай. Машина резко отскочила назад. Ружин покрутил головой — никакой ты не супердрайвер — и вошел в бар. Колесов и Света уже оккупировали столик и болтали налево-направо. Ружин сел. Грохнула музыка, он вздрогнул. После первых тактов стал оглядываться. На площадке не протолкнуться, плотно, дымок не просочится. А они довольны, прыгают, трутся друг о друга, потные, хохочут. За площадкой светится стойка бара, череда бутылок на полках. Соки. Культурно. Крепенькое небось с собой приносят. Хотел спросить Колесова. Обернулся. Их нет. Танцуют. Музыка кончилась. Колесов, раскрасневшийся, подвел Свету к столику, усадил, сам пошел куда-то в угол зала, с одним поговорил, с другим, пошептался с длинным белобрысым, что-то взял у него, положил в карман. К белобрысому еще кто-то подошел, тоже что-то взял у него, в карман сунул, потом еще один, потом белобрысого загородили. — Спасибо вам, — прокричала ему в ухо Света. — Что? — проорал в ответ Ружин. — Спасибо вам, — повторила Света, опять приблизив к его уху теплые губы. — Не надо было, — Ружин морщился и крутил головой. — Зря. Жалею. Подошел Колесов. Сел. В руке тлела сигаретка. Он порывисто затягивался, выдыхал, прикрыв глаза. Огонек вспыхивал необычно ярко. Ружин покосился подозрительно на сигаретку. — Я не об этом, — Света чуть отстранилась, проговорила опять громко, стараясь перекрыть шум: — Спасибо, что вы есть вообще. А мелодия оборвалась в этот момент, и слова ее отчетливо и ясно прозвучали в наступившей паузе. Она смутилась, засмеялась неестественно. Колесов посмотрел на нее в упор, прищурился от дыма, усмехнулся слабо, с деланным равнодушием принялся глядеть по сторонам. Ружин опять увидел белобрысого. Тот склонился над соседним столиком, что-то сунул здоровому, обритому наголо парню, пошел к выходу. Ружин неторопливо встал, показал Свете и Колесову жестом, мол, сейчас вернусь. Белобрысый вышел в узкое, темное фойе, заполненное курящими ребятами, свернул за раздевалку. Ружин прошагал за ним. Белобрысый пил воду из-под крана, большой, рукастый, обнял раковину, будто хотел оторвать ее и уволочь с собой. Ружин ухватил его за волосы и включил воду на полную мощь. Белобрысый завыл с клекотом, дернулся инстинктивно. Бесполезно. Ружин держал его руку на изломе. Белобрысый закашлялся, и тогда Ружин потянул его вверх, отбросил к стене, прижал локтем подбородок, сказал, дыша в лицо: — Давай травку! Все, что есть, дерьмо! Белобрысый ошалело закрутил головой, зачастил: — Какая травка, какая травка? Не понимаю… — Сейчас поймешь, — улыбнулся Ружин и правой рукой полез к белобрысому во внутренний карман куртки, нащупал там что-то, вынул, посмотрел удивленно, бросил на пол, полез в другой карман, опять глянул на ладонь, вскинул брови, нехотя отпустил парня, спросил недоуменно: — И ты этим торгуешь? — Дефицит, — белобрысый разминал руку, испуг сошел с его длинного, сухого лица. — Тем более фирменные. Наши презервативы ненадежные. А эти и для слонов сгодятся. — Ах, ну да, — догадался Ружин. — СПИД. — Он самый, — подтвердил белобрысый. — Сначала вроде как всем по фигу, а теперь вот закопошились. — Извини, — Ружин коснулся его плеча. — Извини, ошибся. — Чего там, — отмахнулся парень, — бывает. Ружин повернулся к двери, прежде чем выйти, остановился. — А откуда ты их… — начал было, но оборвал себя. — Ладно, бог с ним, отдыхай. Ружин сел за стол, кивнул Колесову: — Дай затянуться. Колесов внимательно посмотрел на него, протянул остаток сигареты. Ружин затянулся, раз, другой… Хмыкнул удовлетворенно, отдал чинарик обратно. Колесов снисходительно усмехнулся. Света коснулась плеча Ружина. — Пойдемте потанцуем. — Да я так не могу, — Ружин дернулся несколько раз, показав, как он не может. — А мы обычно, — сказала Света. — Здесь никто никого не неволит. На площадке он осторожно прижал ее к себе, легкая, податливая, дыхание шоколадом пахнет, лицо вдруг серьезное, сосредоточенное стало. Она словно со стороны на себя смотрела, боясь неверное движение сделать, взглянуть как-нибудь не так, чересчур нежно или чересчур сердито, или притворноравнодушно, или вообще никак. Нет, никак не смогла бы… — Отец умер, когда я еще маленькая была, — заговорила Света. — Мама года три ни с кем не общалась, ни подруг, ни знакомых, работа, дом, работа, дом. Но молодая ведь еще, красивая, мужики на улице оборачиваются, пристают, оттаяла, отошла… Два года назад этого Валеру отыскала, влюбилась по уши, как дура, как девчонка, а он условие поставил, что если, мол, любит она его, то жить они должны без меня, новую семью создавать, своих детей рожать, а со мной встречаться раз в два месяца, и меня в интернат отдали, терпеть он меня не может, а потом у них ребенок родился, а Валерка выпивает, а мать его любит, а завтра они уезжают к нему на родину, в Рязань, все к Москве ближе, он в Москву хочет. А у меня больше никого нет… Я спать хочу… Ружин погладил ее по щеке, и она потерлась о ладонь ответно. — А Алексей? — спросил Ружин. — Алексей? — улыбнулась Света. — Это Алексей. С ним я не одна. А Ружин все гладил ее щеку. Колесов все, конечно, видел, хотя и делал вид, что с дружками разговаривает и на площадку совсем не смотрит. Ружин понял это по его лицу, по глазам, когда к столику подходил. А за столиком «пайковый» сидел и еще один паренек, рослый, голова бритая, на темечке серп и молот нарисованы. «Пайковый», ухмыляясь, ключи от машины протягивал: — Спасибо, отец, все путем, тусовка довольна. — Безмерно рад, — сказал Ружин. Он сел, покосился на Колесова. Тот сосредоточенно смотрел в пустой стакан из-под сока, пальцы облепили стакан плотно, белые от усилия, еще немного — и лопнет стакан, вопьются осколки в ладонь, кровь потечет, струйки тонкие, быстрые, яркие… Нет, не лопнул. Отставил Колесов стакан, сказал, глаз не поднимая: — Я послезавтра в армию ухожу. Сбор в восемь ноль-ноль. — Ой! — вскрикнула Света и руку к шее поднесла, сжала ее пальцами. — Мы вот с ребятами, — Колесов кивнул на «пайкового» и того, который с серпом и молотом на темечке, — в Афганистан попросились. Берут. — Нет, — сказала Света. — Так не может быть. — Надо было что-то делать. Понимаете? — сказал тот, у кого серп и молот на темечке. — Выйти на улицу с плакатом «Нет войне в Афганистане!»? Бесполезно. Тогда уж лучше там… Там. Если я буду хорошо воевать, может, все это быстрее кончится? А? Колесов оторвал руку Светы от шеи с трудом, пальцы были как железные, а она тогда зажала ладонями уши. — Читали про наших пленных в Пакистане? — «панковый» повернулся к Ружину. — Захватили склад боеприпасов и взорвали себя вместе со складом. Я на следующий день в военкомат пошел, у меня отсрочка была, я сказал, что не хочу отсрочки… Нас тогда двадцать восемь человек пришло… — Я сейчас, — сказал Ружин, встал, пошел быстро в сторону бара, шагал напрямик, через площадку, его толкали, кто-то плюнул вслед, кто-то выругался. Уселся на табурет, облокотился на стойку, увидел себя в зеркале, зеркала внутрь каждой полки с бутылками были вправлены, стал рожи корчить и так, и этак, то веселую, то плаксивую, то зверскую делал. Бармен шею вытянул, его разглядывая. Ружин попросил сок, выпил, еще попросил, еще выпил, закурил, пошел назад, опять его толкали и ругались в спину. Пришел, опустился на стул молча. Света все так и сидела, сжав уши ладонями. Колесов поднялся, потянул Свету за собой, она подчинилась. И Ружин поднялся, и ребята вслед. Ружин подал ребятам руку, побрел к выходу. Он остановился возле своего дома, повернулся к Колесову и Свете, они сидели обнявшись, как два зайца на льдине. Ружин протянул Колесову ключи. — Третий этаж, восьмая квартира, — объяснил он. — Шуруйте. Я у приятеля переночую. Колесов взял ключи молча, благодарно кивнул, вылез, вытянул Свету, съеженную, безучастную, гладил ее по волосам, по плечу, пока к дому вел, она шла смирно, руки вдоль тела опустив, кулачки сжаты, маленькие… Ружин тихо проехал вдоль дома, завернул за него, там гаражи, пять — шесть, остановил машину возле гаражей, разложил сиденья, завернулся в плащ, устроился кое-как, мотор не выключал, холодно. Утро белое, безветренное, совсем не осеннее. Солнце слепит окна, желтые, острые клинья рассекают лестницу, перила, стены. Ружин надавил на кнопку звонка, держал, пока не открыли. Колесов в трусах, жилистый, тонконогий, одним глазом смотрит, не проснулся. — Подъем! — по-молодецки гаркнул Ружин. — Быстрый сбор и на рынок. Пир готовить будем! …Вроде и не сезон, а рынок многолюдный, гомонливый, будто все отдыхающие, что есть в городе, по утрам здесь собираются. Да и местные, видать, по привычке, заглядывают: может, сегодня не так, как вчера, побогаче, подешевле. Болтались втроем вдоль рядов. Приценивались, торговались. Веселились отчего-то. Потому что утро, наверное, потому что солнце, потому что завтра день будет, и послезавтра, и еще много, много дней будет… И Света улыбалась, не вымученно, легко, выспавшаяся, умытая, совсем не сравнить с той, какой вчера была. И помидоров купили, и огурцов, и капусты квашеной, и фруктов каких-то, зелени, мяса. — Хватит, а? — дернул Ружина за рукав Колесов. — Уж больно поистратились. — Ерунда, — отмахнулся Ружин. — Я видео продал, деньги есть, — повернулся к Свете: — Выбирай, девочка, что еще хочешь. — А еще, — сказала Света и в который раз уже стала оглядывать рынок. — А еще мы купим… — Стоп, — вдруг остановил ее Ружин. — Стойте, как стоите. Я сейчас. В мою сторону не смотреть. Держи, — он протянул Колесову сумку и не спеша двинулся в сторону выхода. — Что-то случилось? — встревожилась Света. Колесов пожал плечами. Ружин замедлил шаг, свернул к одному из рядов, возле которого особенно густо столпились покупатели, попытался через головы посмотреть, что продают, не вышло, с другой стороны зашел, и здесь народ копошится, опять на старое место вернулся, на цыпочки поднялся, шею вытянул: — Почем? — спросил. — Почем? И в тот же миг метнулся влево, резко, стремительно, прихватил какого-то парня курчавого за запястье, сжал заученно ему пальцы, чтоб не вывалилось из руки курчавого то, что он уже в ладони держал. Обомлевший парень даже не пикнул, только губами шевелил и, растопырив глаза, глядел на Ружина, как на чудовище заморское. — Гражданин! — громко обратился Ружин к низенькому большеголовому мужчине, который все никак не мог в толпу у прилавка втереться, все вертел задом, вертел. — Повернитесь. Тот услышал, повернулся испуганно, а вместе с ним еще несколько человек повернулись. — Ваше портмоне? — Ружин дернул парня за руку, подтягивая его к самым глазам низенького. — Вроде мое, — низенький опасливо покосился на курчавого. А курчавый оклемался уже, сплюнул, сказал беззлобно: — Козел… Низенький заискивающе улыбнулся: — А может, и не мое, — пожал плечами. — Ваше, ваше, — подтвердил Ружин. — В заднем кармане у вас лежало. Я видел. Задний карман, чужой карман… Пошли в комнату милиции, здесь рядом. Комната милиции действительно рядом, в дальнем углу рынка, в одноэтажном, куцем зданьице с зарешеченными окнами. Здесь тихо, народ сюда не заглядывает, уютный уголок, сонный. На двери мелом написано: «Милиция». Лейтенант, без фуражки, заспанный, плосколицый, ел дыню, когда Ружин, курчавый и потерпевший вошли в комнату Он вздрогнул, вскинул голову, сладкий сок вяло тек по подбородку. — Что? — спросил, повернулся к курчавому. — А ты чего?.. — осекся. Оторвал кусок газеты, вытер губы, подбородок, щеки, потянулся за фуражкой, надвинул ее глубоко, встал, проговорил строго и требовательно: — В чем дело? — Карманная кража, — сказал Ружин и поднял руку курчавого с портмоне. — Задержан с поличным. Мною. — Так, — произнес лейтенант, суетливо выбрался из-за стола, подошел ближе, на портмоне взглянул, потом на курчавого, неодобрительно головой покачал: — Свидетели? — Меня и потерпевшего достаточно. — Жалко, нет свидетелей, — лейтенант почесал щеку. — Я свидетель, — повторил Ружин с нажимом. — А вот потерпевший. Этого достаточно. — Чего достаточно, а чего недостаточно — не вам решать, — перебил его лейтенант — Ну хорошо, пишите заявление, объяснения, — он достал бланки из ящика стола. Ружин отпустил курчавого, тот сразу скинул портмоне на пол. Ружин, усмехнувшись, поднял портмоне, положил аккуратно на стол, подвинул стул, сел, принялся писать, потерпевший тоже уселся и тоже писать стал, вздыхая. …Лейтенант взял у Ружина объяснение, прочитал. — Значит, временно не работаете? — спросил. — Временно не работаю, — ответил Ружин. — Понятно, — сказал лейтенант. — Можете идти. Когда надо, вызовем. — Давно в городе служите? — в свою очередь поинтересовался Ружин. — Больше месяца. Из района перевели. А что? — насторожился лейтенант. — Нет, нет, — миролюбиво улыбнулся Ружин. — Ничего. Любопытствую просто. Всего доброго. Колесов и Света ждали его там, где он их оставил. — Здорово вы его! — восхитилась Света. — Раз, два и готово. — Очень не люблю, когда воруют, — заявил Ружин. — Не в бровь, а в глаз, — отметил Колесов. — Если воруешь, отвечай, — продолжал Ружин. — Гениально, — Колесов развел руками. — Я буду вашим биографом. Дверь, на которой написано мелом «Милиция», распахнулась, из нее вышел потерпевший, вслед за ним лейтенант. Они поулыбались друг другу, вежливо пожали руки, и потерпевший ушел. Через какое-то время дверь снова приоткрылась, из темноты высунулся лейтенант, оглядел внимательно дворик, затем пропустил вперед курчавого, подтолкнул его в спину, сказал вдогон: — Не попадайся, дурак! Курчавый засеменил прочь. Лейтенант вынул из кармана горсть смятых денег, помял их пальцами, сказал: — Тьфу! — а потом и действительно сплюнул. — Значит, так, — сказал Ружин, когда они подъехали к дому — Жарьте, парьте, короче, готовьте стол. Он должен быть роскошным. Я вернусь к вечеру. Он остановил машину возле четырехэтажного белого здания. Над фасадом нервно трепыхался красный флаг. Ружин поднялся по ступенькам, толкнул массивную стеклянную дверь, сбоку от которой висела бордовая стеклянная доска: «Исполнительный комитет…» Он поднялся по широкой, покрытой ковром лестнице, прошел по тихим, безлюдным коридорам, остановился перед дверью «Приемная», помассировал шею, выдохнул шумно и только после этого вошел. После полутемного коридора в приемной ослепительно светло. День щедро сочится сквозь огромное, почти во всю стену, окно. Ружин сузил глаза, вскинул ладошку к бровям козырьком, пригляделся: два посетителя сидят на стульях, ожидают приема, мужчина и женщина, похожие, бесцветные. Лица незнакомые, а может, и знакомые. Ружин кивнул на всякий случай, не убирая козырька, шагнул к секретарше — пожилая, сухощавая, старомодный пучок на затылке, — сказал, кивнув на окно, доброжелательно: — Солярий. Загорать можно… — Что такое? — с вызовом проговорила секретарша и расправила плечи, готовясь к отпору. — Мне к председателю, — ласково улыбнулся Ружин и убрал руку от глаз. — Срочно. — Но у него… — начала секретарша. — Скажите, Ружин пришел, очень просит, — перебил ее Ружин. — Вы разве меня не узнаете? Секретарша нерешительно развела руками: — Я попробую. Она нажала на кнопку селектора, сказала в микрофон: — К вам Ружин. — Я занят, — ответил селектор голосом Копылова. Секретарша посмотрела на Ружина, добавила, поморщившись: — Ему очень срочно. Слышно было, как Копылов усмехнулся, потом сказал небрежно: — Подождет, не рассыплется… Ружин повел подбородком, растянул губы в резиновой улыбке, произнес тихо: — Так. — Шагнул в сторону двери, снова повторил: — Так. — И еще несколько шагов сделал, взялся за ручку, приоткрыл дверь, потом резко захлопнул ее, быстро подошел к стульям, сел, уставился в окно, что-то напевая себе под нос, будто ничего и не произошло. Море было тихое, гладкое, но по-осеннему темное, волны грузно шлепались на песок. Ружин сидел на мокром, черном валуне, курил и наблюдал за одиноким рыбаком. Его лодка покачивалась в полусотне метров от берега. Удочки торчали с бортов. Рыбак то одну выдергивал, то другую, то третью, но лишь пустые крючки и выныривали из воды. Но рыбак не отчаивался, он снова насаживал наживку и закидывал леску в море, ждал какое-то время и в который раз выдергивал удочки… Ружин помогал ему, в унисон взмахивая руками, подбадривающе вскрикивал. Но бесполезно, крючки, как и прежде, оставались пустыми… Стол был уже разорен наполовину. Все сидели сытые, разомлевшие, довольные, а Ружин, давясь от смеха, рассказывал анекдот. — Пятачок и Винни-Пух нашли бочонок меда. Пятачок говорит, нехорошо лапами есть, я за ложками сбегаю. Прибегает, а бочонок уже пустой… — Ружин откинулся на спинку стула. — Я не могу… А бочонок пустой и Винни-Пух рядом лежит с огромным пузом. А Пятачок и говорит обиженно: «Что ж ты мне половину-то не оставил?» А Винни-Пух ему отвечает — «Уйди, свинья, мне муторно!..» Колесов улыбался вежливо, ну а Света хохотала громко и отчаянно, как и Ружин. Только смех ее чуть опаздывал. Как только Ружин начинал смеяться, тут и она подхватывала, там где Ружин, там и она… Ружин отсмеялся наконец, встал, включил магнитофон — сладко запели итальянцы, — сказал: — Я сейчас, — и пошел на кухню. Он стоял у окна, курил, лицо усталое, темное. Он слышал, как вошла Света, краем глаза уловил, что она встала рядом. — Я понимаю, что помочь вам ничем не могу, — тихо сказала она. — Но все же… Мне очень больно, когда вы смеетесь вот так… Он повернулся все-таки. Она поймала его взгляд, смотрела долго, потом подняла руку, осторожно провела пальцем по щеке, сказала шепотом: — Колется… Ружин притянул ее к себе, прижал, потянулся губами к ее глазам и тут же тряхнул головой, сказал громко и весело: — Значит, так, дети мои, а теперь я вас вновь покидаю до утра. У меня есть еще одно очень важное дело. Света отстранилась, улыбнулась слабо, но ответила так же громко и так же весело: — Мы будем вас ждать. Не забудьте, сбор в восемь ноль-ноль. Колесов смотрел рассеянно, как Ружин топтался в коридоре, надевая куртку, приглаживая волосы, а когда Ружин за порог ступил, махнул рукой тихо. Шоссе пустое, одна-две машины прошли навстречу, пока ехал, а сзади и вовсе никого не было, никто не спешил вслед, лишь темнота сзади вязкая, городские огни исчезли уже из виду. Высветился знак поворота, Ружин свернул налево, и теперь фары уперлись в знакомый уже дюжий щит «Запретная зона», через мгновенье и щит шагнул в темноту. Ружин проехал еще с полсотни метров и погасил фары, остановился, чтобы глаза пообвыкли. Едва различимо проступила серая змейка дороги, можно ехать. Как только очертились контуры забора и дома за ним, притормозил, осторожно свернул в сторону, с хрустом въехал прямо в кустарник, остановился, выключил двигатель, открыл дверь, шепотом чертыхаясь, вытянув руки перед собой, выбрался из кустарника. Дальше направился пешком. Дойдя до забора, с полминуты стоял, прислушиваясь. Море и ветер, и больше ничего, и дом безмолвный, непроницаемый, ни огонька, будто брошенный. — Так, — сказал Ружин, решившись, ухватился руками за кромку забора, подтянулся, перекинул ноги, спрыгнул бесшумно помчался к дому стремительно, с разбегу вспрыгнул на карниз окна первого этажа, оттолкнулся от него энергично, уцепился за основание балкона, секунды две висел, болтая ногами, затем сильным рывком закинул одну ногу на балкон, ухватился рукой за перила и вторую ногу закинул, а потом и весь через перила перевалился. Вовремя. Отчаянно, срываясь на хрип, залаяла собака, совсем рядом, за углом. А вот она уже и под балконом, ревет так, что стекла дрожат на балконной двери. Ружин постучался. Приложил руки к двери рупором, выкрикнул глухо: — Марина, это я, Ружин. Открой! Она ведь сейчас балкон отгрызет! — распахнулись шторы, за ними Марина, белое пятно лица, белые пальцы скользят по стеклу, никак не найдут задвижку. Ружин видит, как рот ее кривится от усилий. — Зачем? — говорит себе Ружин тоскливо. Но вот дверь открылась, с сухим треском, будто отклеилась, и Ружин проскользнул в комнату. — Марина Сергеевна, — раздался встревоженный голос снизу, из-под балкона. — Что случилось? — Господи, — простонал Ружин. — Она еще и разговаривает. — Ты кретин! — процедила Марина. — Это сторож, — и, наполовину высунувшись из двери, прокричала: — Все в порядке, Валентин, просто душно стало, я балкон открыла, а Пальме что-то не понравилось. Все в порядке. — Ну и слава Богу, — отозвался Валентин и рявкнул на собаку: — Замолчи, дура, прибью! И собака замолчала понятливо, кто его знает, может, и вправду прибьет. — Ты ненормальный, — Марина прижалась спиной к двери, — или опять набрался… — Даже в темноте ты красива, — сообщил Ружин. — И еще этот белый пеньюар. — Голубой, — машинально поправила Марина. — Это неважно, — заметил Ружин. — Что ты хочешь? За окном над забором загорелся фонарь, тускло, медленно. А потом они услышали, как сторож возвращался к дому, как выговаривал что-то собаке и как та ворчала в ответ. — Тебя, — сказал Ружин, снимая куртку и вешая ее на стул. — Раньше надо было этого хотеть, — усмехнулась Марина. — Опомнился. — Я и раньше хотел, — Ружин остановился в двух шагах от женщины. В глазах его красновато отсвечивал фонарь. — Не замечала, — Марина обхватила плечи руками. — Ты странно смотришь на меня. Почему ты так смотришь?! — Конечно, не замечала, — Ружин сделал шаг. — А кого было замечать? Мента поганого, не очень денежного, скучного, не светского, не шикарного, вечно усталого?.. И Ружин сделал еще шаг. — Не подходи! — Марина вжалась в стекло, вот-вот лопнет оно. — Я закричу! — Ну а сейчас все в порядке, да? — Ружин протянул руку, погладил женщину по плечу, по груди. — Все как хотела, да? — Я надену халат, — Марина осторожно ступила в сторону. — Не надо, — сказал он. Ружин удержал ее. — Я же совсем голая, — тихо проговорила Марина. — Не совсем, — не согласился Ружин. — На тебе пока пеньюар. Он вдруг протянул руки и прижал женщину к себе. — Уходи, — выдохнула Марина. — Сейчас приедет Копылов. — Он не приедет, — мягко возразил Ружин. — Сегодня он улетел в Ленинград. Я знаю. Он наклонил голову и поцеловал Марину. Она ответила. — Как все плохо-то, Сереженька, — прошептала Марина. — Как все плохо… Ружин протянул руку к тумбочке, пальцы наткнулись на ключи от машины, на записную книжку, на какие-то бумажки, наконец нащупали часы. Ружин попытался ухватить их в горсть, но они выскользнули из руки, упали на пол, клацкнув коротко. Ружин чертыхнулся под нос, свесился с постели, стал шарить обеими руками по полу. Рядом шевельнулась Марина. — Что случилось? — сонно спросила она. — Часы упали, — ответил Ружин. — Нашел? — Нет, — недовольно отозвался Ружин. — Как сгинули. — Позвать собаку? — Марина зевнула. — Не надо, — поспешно ответил Ружин. — Уже нашел. — И действительно, в этот миг пальцы коснулись часов. — Сколько? — спросила Марина. — Почти пять, — Ружин надел часы на руку. — Я так и не заснула, — сказала Марина. — Ты не одинока, — заверил ее Ружин. — Ты придешь еще? — осторожно поинтересовалась Марина. — Не знаю, — после паузы ответил Ружин. — Не знаю… — По крайней мере честно… — Мои слова, — усмехнулся Ружин. — Что? — не поняла Марина. — Ты все время употребляешь мои выражения. — Ну, такое не забывается, — не скрывая иронии, произнесла Марина. — Не злись, — попросил Ружин. Свет фонаря шел скупой и зыбкий, и пыльный какой-то, а еще фонарь дрожал, от ветра, наверное, мелко-мелко, и казалось, все предметы в спальне шевелятся, и не просто шевелятся, а неотвратимо надвигаются на постель — и стулья, и кресла, и пуфики разномастные, и трельяж… Ружин тряхнул головой, но мебель все равно шевелилась. А потом открылась балконная дверь, медленно, плавно, будто кто тихонько подталкивал ее. Ружин приподнялся, вглядываясь. Марина обхватила его, прижалась, вздрагивая. Дверь захлопнулась рывком. Сквозняк. — Я вчера был у Копылова, — заговорил Ружин. — Я сказал, что хочу работать на любой должности, в розыске. Это мое, понимаешь? Это единственное, что я умею и люблю делать. Это как наваждение. Где бы я ни был, тут же я вычисляю воров, фарцовщиков, наркоманов, гомиков… Я профессионал. Я устал без работы. Марина убрала руку с его груди, села, подогнув колени и опершись на спинку кровати. — И что Копылов? — скучно спросила она. — Пообещал, что все решится положительно, — ответил Ружин и заметил с почти искренним воодушевлением: — Он совсем неплохой малый, твой муж. Мы с ним мило поболтали, умен, эрудирован, болеет за город… Вот так. — Значит, следствие прекратят? — осведомилась Марина. — Прекратят. — И суда не будет? — Не будет. — И тебе не грозит пять лет? — Не грозит. — И забудется то, что ты был арестован за покушение на убийство Гарабова и просидел в тюрьме два месяца? — Забудется. — И все потому, что ты теперь будешь паинькой и опять станешь верно служить? — Потому что буду опять верно… — Ружин осекся, проговорил зло, с нажимом: — Потому что хочу работать, потому что не могу без этой работы жить, потому что… — Врешь, — усмешливо перебила его Марина. — И мне врешь, и себе врешь. Но я тебя понимаю. У тебя нет выбора. Понимаю. — Чушь, чушь, чушь! — замотал головой Ружин. — Чушь! — он вскинулся с постели, стал одеваться, быстро, суетливо, из карманов со звоном сыпалась мелочь. — Потому что я хочу работать! — прерывисто дыша, говорил он: — Потому что я профессионал!! Пусть они все, что угодно, делают там, наверху, а я буду ловить жуликов, уголовников. Понимаешь? Уголовников! Он сорвал куртку со стула, ступил к окну, надевая ее на ходу; надевал нервно, дерганно, раза два промахнулся мимо рукава, на третий раз, разозлившись, втиснул кулак с такой силой, что материя затрещала, сопротивляясь. Привалился к балконной двери, стал вертеть ручки двумя руками, чтоб уж наверняка, и злился легкости, с какой они поддавались. И тут опять услышал, как затрещала куртка на плечах, звук показался громким, долгим. Ружин нахмурился, замер, затем стремительно сорвал ее с себя, вывернул подкладкой наружу, принялся внимательно разглядывать ее сантиметр за сантиметром, когда добрался взглядом до шва вверху рукава, помял шов пальцами, нащупал что-то. Дырка. Надо же… Большая. Как же так? Он сморщился, обиженно поджал губы. Проговорил, не поднимая головы: — Нитку с иголкой… Марина зашуршала за его спиной, а он все мял-мял шов пальцами и качал головой сокрушенно. Марина протянула ему иголку со вдетой уже ниткой. — Что это? — спросил Ружин. — Нитка с иголкой, — тихо сказала Марина. — Зачем? — удивился Ружин. — Ты же просил, — Марина все еще тянула к нему руку. — Не помню, — сказал Ружин, съежив лоб, — не помню… Он не спеша надел куртку, подошел к балконной двери, легко распахнул ее, сделал еще шаг, перекинул ногу через перила балкона. — Сережа! Не надо! — сдавливая крик, проговорила Марина. — Я же пошутила! Я не хочу одна! Я все время одна! Я не хочу! Не хочу! Не хочу!.. Она видела, как он добрался до забора, перемахнул его, как бесшумно бежал по низкому, слоисто стелющемуся над увядающей травой туману. …Двери в автобусах уже закрылись, но машины пока не отъезжали, дымили скупо, грелись, ждали команды. Вокруг каждого автобуса, а их было четыре, родители, друзья, невесты, жены. Обступили так, что казалось даже, когда сдвинутся машины с места, не пустят их, вцепятся в окна, колеса, впереди встанут и не разрешат дальше ехать, все знают, куда они едут, все знают… Парни держатся достойно, браво улыбаются, острят, балабонят горласто из окон, в который раз руки жмут и своим, и незнакомым. Колесов тоже старалсяулыбаться широко и безмятежно. Ружин и Света видели его через стекло, он не вставал, не высовывался в опущенные фрамуги, просто сидел и улыбался, широко и безмятежно. И Ружин губы растягивал и беззаботное, веселое лицо делал, и Света тоже веселое лицо делала, только у нее плохо получалось, как у танцоров-любителей к концу долгого выступления. Но вот команда. Вздрогнули машины, заголосили люди, неожиданно тонко, безнадежно, — женщины. Один из офицеров яростно выругался в мегафон, и голоса стихли, присмирели люди, и вправду, не на похоронах же. Автобусы уехали. Стояли еще долго. Ружин и Света двинулись первыми. Двор призывного пункта был голым, чистым, серым и тоскливым, после отъезда машин это увиделось ясно, теперь хотелось скорей уйти отсюда. — Ружин, Сергей! — услышал Ружин низкий голос за спиной. Обернулся. К ним спешил моложавый белобрысый подполковник. Подойдя, он протянул руку, сказал радостно: — Сто лет тебя не видел. Как ты? Все обошлось? — Нормально, — пробормотал Ружин. — Может быть, лучше было бы там, а? — подполковник нахмурился, внимательно вглядываясь в Ружина. — Кто знает, где найдешь, где потеряешь, а? Два раза тебе предлагали. Приехал бы героем. — Наверное, — пробормотал Ружин. — Я через неделю опять туда, — сказал подполковник. — Позвони. Приходи проводить… — Обязательно, — кивнул Ружин. — Я позвоню. Обязательно. Всю дорогу ехали молча, не смотрели друг на друга, будто разругались, а теперь вот поостыли, но не смирились, ждут, кто первый начнет, чтобы опять в крик, без причины, без злобы, а просто потому, что скверно, все, все не так, все противно. Когда он случайно коснулся девушки, она вздрогнула, а он одновременно руку отдернул, словно током по пальцам шибануло, он пробормотал «Извините» или еще что-то в этом роде, а она и вовсе не ответила, только отодвинулась к двери ближе. Ружин подрулил к подъезду, притормозил, выходить первым не стал, сидел, положив руки на руль. — Я заберу вещи, — сказала Света, не глядя на него. — Да-да, конечно, — согласился Ружин. Они вышли, все так же молча вошли в подъезд, поднялись по лестнице. Ружин открыл дверь, пропустил девушку вперед, остановился на мгновенье, прищурился, потянул воздух носом, шагнул вперед, мягко отстранил Свету, приложил палец к губам. Она, не понимая, насупила брови, хотела что-то сказать, но Ружин был быстрее, зажал ей рот ладонью, улыбнулся успокаивающе, другой рукой по волосам погладил, Света расправила лоб, потерлась непроизвольно об его руки. Ружин подмигнул ей, шагнул к двери в комнату, открыл ее. У окна на кресле сидела Лера, курила, ухоженная, яркая, в пестром коротком халатике, который намеренно не скрывал загорелых ног. — Наконец-то, — сказала она, длинно улыбаясь. — Я чуть не заснула. А ты бродишь где-то, ранняя пташка. — Что случилось? — растерянно спросил Ружин. — Ничего не случилось, — обиженно ответила Лера. — Ты забыл, как я люблю это утром, когда ты еще сонный, теплый?.. — Ой! — выдохнула за спиной Ружина Света. Ружин обреченно покачал головой, устало провел рукой по лицу. — А это еще что за чудо? — Лера подалась вперед, притушила сигарету, встала, оглядела Свету, усмехнулась: — Переквалифицировался на детей или предпочитаешь теперь заниматься этим втроем? — она развязала пояс, встряхнула волосами. — Ну что ж, я согласна. Она намеренно медленно стянула с плеч халатик, и он бесшумно упал у ее ног. — Эффектно, — оценил Ружин и полез за сигаретами. — Но я вторую неделю полы не мою. Жалко вещь. А потом он услышал дробный стук каблучков в коридоре, тяжелый удар входной двери, веселый невесомый звон цепочки. — Дура! — искренне и со вкусом заявил он Лере и ринулся к двери. Света была уже в конце улицы, когда он выскочил из подъезда, бежала, ссутулившись, прижав локотки к телу, каблуки то и дело соскальзывали, подгибались, и девушка, в испуге взмахивая руками, припадала то на одну ногу, то на другую. Ружин улыбнулся, по-молодецки присвистнул ей вдогонку и побежал следом. — Стоп! — строго скомандовал он, оказавшись перед Светой, и предупреждающе вытянул руки. Она замедлила шаг, побрела обессиленная, опустив голову. — Чего ты испугалась? — спросил Ружин. — Никогда не видела женского тела? Оно точно такое же, как у тебя. Хотя нет, — поправил он себя. — У тебя в миллион раз лучше. — Откуда вы знаете? — Света испуганно вскинула глаза. Ружин расхохотался. Света дернула плечом и пошла быстрее. — Но я, наверное, опять не прав, — Ружин поравнялся с девушкой. — Ты ревнуешь. — Ну вот еще! — фыркнула Света. — Ревнуешь, ревнуешь, — подзадорил ее Ружин. — Было бы к кому, — возмутилась Света. — К вашему сведению, у нее зубы вставные. — Она энергично тряхнула головой. — Вот так! А Ружин снова расхохотался, весело ему было и хорошо, что вот так искренне она возмущается и встряхивает головой, как ретивая молодая лошадка. — Да, да, да, — запальчиво проговорила Света. — Вот тут два и тут. — Она поднесла палец ко рту и показала, где у Леры вставлены зубы, и губы при этом свои нарочито широко растянула, чтобы Ружин мог видеть, какие у нее зубки ровные, гладенькие, и все свои, да еще головой повертела туда-сюда, смотри, мол, сравнивай. Ружин хохотал, не останавливаясь, и повторял сквозь смех: — Как заметила-то, а? Как заметила?! Какое-то время Света смотрела на него насупленно, обиженно, а потом хмыкнула неожиданно для себя, потом руку ко рту поднесла, подступающий смех сдерживая, но поздно, вздрогнули плечи, и она засмеялась вслед за Ружиным, легко, без смущения, как давно не смеялась, как в детстве… — Я хочу есть, — сказал Ружин, отнимая ладони от щек. — Я зверски хочу есть. — И я хочу есть, — переводя дыхание, заявила Света. — Только еще зверистей. — Как? Как? — не понял Ружин. Они неторопливо шли по ресторанному залу, круглому, пустому, разноцветные скатерти, белые, голубые, красные, форсистые стулья, спинки круто выгнуты, ножки тощие, ниточки, как лапки паучьи. Впереди метрдотель, в темном костюме с бордовой бабочкой, высокий, тонкорукий, голова чуть назад откинута, вышагивает как манекенщик, вольно, слегка подпрыгивая, за ним Света озирается со скрытым любопытством, а за ними Ружин, руки в карманах, вид беспечный, но это напоказ, а самому не по себе, вроде как окрика ждет, мол, нельзя сюда, мол, кончилось твое время, в пельменной, мусорок, похаваешь… Но нет, вот остановился метрдотель, указал на стол, сказал вежливо: — Пожалуйста. — И при этом во второй раз уже на Ружина внимательно посмотрел, глаза черные, словно подведенные, брови высокие, будто заново нарисованные, и оттого взгляд у метрдотеля печально-скорбный, как у Пьеро. — Не узнаешь? — спросил Ружин, усаживаясь. — Почему не узнаю? — легко откликнулся метрдотель. — Узнаю. Как не узнать. Гуляли славно, громко. Любимое место ваше было после «Солнечного». Так? — Так, — кивнул Ружин. — Все верно ты говоришь. Про мои дела слыхал? — Болтали что-то. — Мог бы и не пустить, — усмехнулся Ружин. — Почему пустил? — Кто знает, как жизнь повернется, — философски заметил метрдотель. — Я в людях разбираюсь. Глаза у вас не потухшие, устремленные, на борьбу нацеленные. Ружин удивленно вскинул брови, покрутил головой, хмыкнул. — Пришли-ка официанта, — попросил он. — Я зверски хочу есть, а вот дама моя, — он кивнул на Свету, — еще зверистей. — Что? Что? — наклонился метрдотель. — А она не останется? Уйдет? — осторожно спросила Света, аккуратно отрезая кусочек мяса. — Кто? — поинтересовался Ружин и разлил по фужерам минеральную воду. — Ну эта, которая с зубами… — А, — ухмыльнулся Ружин. — Конечно. Она же все поняла. — Насовсем уйдет? — Света, не поднимая глаз, сосредоточенно кромсала мясо. — Наверное, — Ружин пожал плечами. — А если и придет, мы ее не пустим. — Мы… — растерянно повторила Света. Ружин замер, фужер так и не донес до губ, но и смотрел он не на Свету, а куда-то за нее, поверх ее плеча, улыбался. Она медленно обернулась. Сбоку от эстрады темнела дверь, маленькая, неприметная, и возле нее стоял Горохов, он придерживал дверь, чтобы она не закрылась, и что-то говорил неизвестно кому, тому, кто за этой самой дверью находился, говорил почтительно, тихо, чуть подавшись вперед, словно вышколенный официант в дорогом ресторане. Потом он мягко прикрыл дверь, повел плечами, распрямился и направился в зал, с ленцой, вразвалку, другой человек, раскованный, знающий себе цену, Ружин встал. Горохов уловил движение, повернулся в его сторону, застыл на полушаге, быстро обернулся назад, на дверь, потом по залу глазами пробежался цепко, профессионально и только после этого сотворил улыбку на лице, приветливую, узнающую. Ружин усмехнулся. — Я рад тебя видеть, — сказал он. — Я тоже, — бодренько отозвался Горохов. — Не ври, — сказал Ружин. — Мне не надо врать. Я умный. — Я помню, — кивнул Горохов. — Помню. — И все равно я рад, — Ружин протянул руку. Горохов торопливо пожал ее. — Как ребята? Все живы? Здоровы? — Да, — радостно ответил Горохов. — Все живы-здоровы. — Ну и замечательно. — Конечно. Это самое главное, когда все живы и здоровы… — Я вот тут завтракаю, — Ружин махнул рукой за спину. — Давно не бывал. — Да, здесь неплохо, — согласился Горохов. — Уютно. Кухня хорошая. Я вот тоже решил, дай, думаю, позавтракаю. Вкусно. — Уже уходишь? — Да не совсем, — поспешно откликнулся Горохов. — Еще кофе… Ружин увидел, как неприметная дверка возле эстрады открылась и кто-то вышел из нее, двое. Ружин узнал Рудакова и прокурора Ситникова. — Не будет тебе кофе, Горохов, — сообщил он. Горохов оглянулся и опять превратился в вышколенного официанта, развернулся суетливо, плечи упали, подтаяли словно, голова вперед подалась, навстречу. — Что с тобой? — искренне удивился Ружин. Горохов вздрогнул, но не обернулся. — Не знаю, Серега, — сказал он тихо. — Не знаю! Что-то случилось, а что и когда, не знаю. Жить, наверное, спокойно хочу. Два дня назад Рудаков стал начальником управления. Вот так. — Как же это?.. — растерялся Ружин, он похлопал себя по карманам, ища сигарету, не нашел, деревянно повернулся, сделал шаг в сторону своего столика, не заметив стула, стоящего перед ним, споткнулся о ножку, не удержался и, вытянув руки, повалился на сервировочный столик, уставленный грудой тарелок и бокалов, тарелки посыпались на пол, раскалываясь с сухим треском, один за другим захлопали по паркету пузатые бокалы, и вилки потекли со стола, и ножи, — серебряный водопад. — Кто это там? — поморщился Рудаков. — Ружин? Опять пьяный? Видите? — грустно сказал он прокурору. — Я был прав. Нечистоплотным людям не место в милиции. Они нетерпеливо направились к выходу, сбоку мелко семенил Горохов и что-то вполголоса говорил, то и дело показывая рукой на Ружина, строгий, непримиримый. …Ветер дул порывами, то вдруг закручивал яростно в невесомые воронки песочную пыль, тонко обсыпавшую смерзшийся уже пляжный песок, выдавливал снежно-белую пену «барашков» из черного морского нутра, и был он тогда холодным и злым, хлестал по лицу мокро и колко, впивался в глаза, мешал дышать, остро выстуживая ноздри, губы, и Света кричала тогда, отчаянно дергая Ружина за рукав: «Уйдем, уйдем! Мне холодно! Мне страшно! Я не хочу! Зачем?! Зачем?!»…То вдруг стихал мгновенно, разом, будто кто-то выключал его, не выдержав и в сердцах опустив рубильник, и оседала грустно песочная пыль, не дали ей порезвиться, покружиться вволю, и таяли «барашки», как льдинки под летним солнцем, и предметы вокруг приобретали ясные и четкие очертания, и цвет приобретали, виделись уже объемными и весомыми, а не плоскими, призрачными, как минуту назад, это свою природную прозрачность восстанавливал вычищенный влагой воздух… Ружин сидел на песке и рассеянно с тихой полуулыбкой смотрел на море, Света рядом переминалась с ноги на ногу, озябшая, съеженная, теребила машинально его плечо, повторяла безнадежно: «Уйдем, уйдем…» Ружин посмотрел на часы. — Они уже в аэропорту, — определил он. — Шутят, веселятся, громко, гораздо громче, чем обычно, тайком ловят взгляды друг друга, может, кому-то так же паршиво, как и мне, и я не один такой, трусливый и мерзкий выродок… Нет, вон у этого на миг потемнели глаза, и у того, и у того… Нет, не один, значит, я не самый худший, значит, это норма… и я смогу, и я сделаю все, что потребуется. Надо! — Ружин потер руками лицо, посмотрел на ладони, мокрые, он усмехнулся, это всего лишь водяная пыль, море. — Помнишь того подполковника белобрового? Он правду сказал, мне два раза предлагали туда. И два раза я находил причины, чтобы не ехать. Не потому, что видел, что война эта зряшная. Боялся. Если бы ты знала, как долго и упорно я ломал голову, чтобы найти эти причины. Здесь на нож с улыбочкой шел, а туда боялся. Там шансов больше, понимаешь? Понимаешь? Я был бравым и смелым сыщиком, считал себя элегантным, красивым парнем, правда, правда, а когда меня арестовали и я попал в камеру, понял, что я во все это играл только, играл и ничего больше, я дрожал, как заяц, когда меня вызывали на допрос, я перестал бриться, мне было совершенно наплевать, как я выгляжу, мне наоборот, хотелось быть маленьким, страшненьким, незаметным. — Он поднял глаза на Свету, усмешку, презрение ожидал увидеть на ее лице, но нет, она будто и не слышала его, по-прежнему подрагивают посеревшие ее губы, томится прежняя мольба в глазах, и бессильным голосом она повторяет: «Уйдем, мне холодно, холодно..» Ружин неожиданно рассмеялся, непринужденно, искренне: — А знаешь, чего я еще всегда боялся? Холода. Обыкновенного холода. Я всегда боялся простудиться, до чертиков боялся простудиться. Не пил холодную воду, где бы ни был, закрывал окна и двери, чтобы не было сквозняков, начинал купаться в море только в июне, а заканчивал в начале августа. Интересно, правда? Ружин вдруг быстро встал, покопался в карманах куртки, не глядя на девушку, протянул ей ключи, бросил отрывисто: — Уходи! — А ты? — потянулась к нему Света. Он оттолкнул ее и крикнул, зажмурив глаза: — Уходи! Света невольно попятилась назад, остановилась, растерянная, готовая заплакать. — Я прошу тебя, — проговорил он, сдерживаясь. — Мне надо побыть одному. Она сделала несколько шагов назад, потом повернулась к нему спиной, побрела, ссутулившись, вздрагивали плечи, длинный плащ путался в ногах. Ружин подождал, пока она отойдет подальше, скроется за деревьями, курил жадно, потом бросил сигарету, разделся, не суетясь, оставшись в плавках, пробежался до кромки воды, остановился на секунду, выдохнул шумно и ступил в воду. Он плыл быстро и уверенно. Все дальше, дальше. Опять задул ветер, тот самый, злой и колкий, с готовностью вынырнули «барашки», понеслись неудержимо друг за другом. «Давай! Давай!» — вскрикивал Ружин, отфыркивался и, истово вспенивая вязкую воду, короткими сильными гребками толкал себя вперед.ПЕТУХ
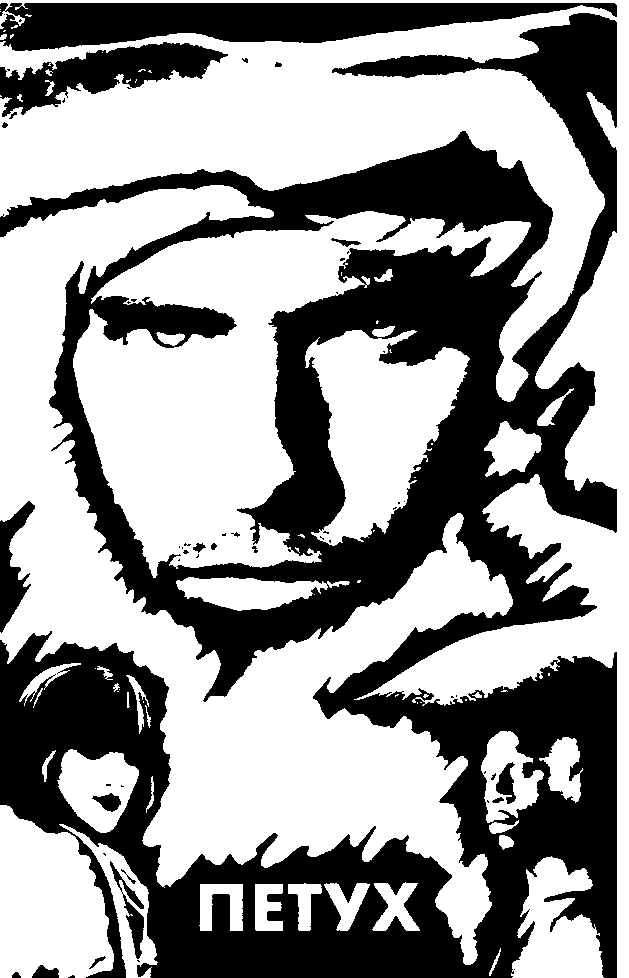 Посреди улицы сидела кошка. На мостовой. Умывалась.
Ночной туалет самый важный. Именно ночью и начинается настоящая кошачья жизнь. И поэтому с наступлением темноты надо быть особенно красивой.
Улица черная. Без огней. Но кошку видно. Потому что кошка белая. Крупная. С тяжелой круглой головой. С толстыми лапками. Трет мордочку лапками, жмурится, урчит, подрагивает от удовольствия, счастливая…
Из ближайшей подворотни неслышно вывалилась стая псов. Худые, нервные. С низко опущенными головами. Рысцой двинулись в сторону кошки. Остановились в нескольких метрах. Молчали. Скалились беззвучно. Кошка насторожилась, подняла мордочку. Два пса пошли влево, два — вправо, остальные продолжали стоять. Через несколько секунд все как один сорвались с места, не тявкают, не рычат, только щерятся слюняво.
Кошка метнулась в сторону. Поздно. Сгрудились собаки над ней и расступились тут же. Один из псов держал в зубах обвисшее безжизненное тельце. В глазах восторг. Взрыкнув, отшвырнул с силой кошку в сторону от себя, на тротуар. Сел на асфальт, гордо подняв голову. И остальные псы тоже сели. Поперек мостовой. Цепочкой. Ждут.
В начале улицы показалась машина. Ярко светили фары. Автомобиль низкий, бока блестят полировкой, стекла темные. Иномарка.
Фары высветили псов. Заголосил клаксон. А псы сидят как ни в чем не бывало. Зевают лениво. Машина подошла вплотную. Опять пробасил клаксон.
— Что они хотят? — спросил по-английски один из пассажиров, сидящий на переднем сиденье.
— Наверное, то же, что и все в этой стране, — тоже по-английски ответили с заднего сиденья. — Есть.
— У меня где-то были конфеты, — по-русски сообщил шофер. — «Маска», — вынул конфеты из кармана, прошуршал бумажками, кинул конфеты в окно. Они рассыпались перед собаками, но те не шелохнулись.
Один из иностранцев выругался.
— Сейчас, — проговорил женский голос, опять-таки по-английски, зашелестели бумажки. — Итальянские помадки. Очень вкусные.
Махнула рукой в открытое окно.
Псы с алчным ревом кинулись на конфеты. Машина двинулась дальше.
— Суки! — выругался шофер.
— По-моему, это кобели, — на ломаном русском заметил пассажир, сидящий рядом.
Наконец выехали на освещенное место. Одноэтажное здание. Крыльцо. Лесенка. Над дверью светящиеся буквы: «Кафе «У камина» КООП»
Разноцветно высвечиваются окна.
С трудом нашли место на стоянке. Машин много.
Вышли. Две женщины, двое мужчин. В вечерних туалетах. Улыбчивые. Сытые. Позвонили в звоночек. Дверь отворилась. Послышалась музыка. Громкая. Ритмичная. Молодой парень, стоящий в дверях, жестом пригласил иностранцев войти. Войти не успели. Расталкивая всех на пути, из кафе выбирался крепкий высокий малый с брезгливым рябоватым лицом. За собой он волок тонконогую девицу в коротком белом платье. Девица не сопротивлялась, напротив — хохотала весело и приплясывала на ходу в такт музыке. Увидев иностранцев, проговорила радостно:
— Ой, какие славненькие, — и, томно прикрыв глаза, ухватила одного из иностранцев за брючину между ног. Иностранец от неожиданности отпрянул назад, толкнул стоящую сзади даму, та в свою очередь толкнула двух других иностранцев, и те два других иностранца упали, и сама дама тоже не удержалась и упала, и тот иностранец, которого схватили за брючину, потеряв опору, тоже упал.
Девица захохотала громче и опять стала приплясывать в такт доносившейся музыке.
Рябой малый с силой впихнул ее в белую «Волгу». Отдуваясь, уселся за руль. Девица вцепилась в его плечо.
— Почему ты не захотел трахнуть меня в кафе?! — крикнула она. — Почему? Почему?..
Рябой сплюнул в окно и ничего не ответил.
Девица терзала его плечо:
— Ты не хочешь меня? Не хочешь?
— Хочу, — сказал Рябой, сумрачно глядя перед собой. — Очень…
— Тогда сейчас, — выдохнула девица и с привычной томностью зажмурила глаза. — Прямо здесь. В машине. Чтобы проходящие видели, как мы трахаемся!..
Она впилась Рябому в губы — он и вздохнуть не успел. Просунула руку меж его ног, нашла под сиденьем рычажок, нажала его и толкнула Рябого назад. Спинка откинулась, а вместе с ней и Рябой. А вместе с Рябым и девица. Падая, она успела еще зажечь свет в салоне. Шустрая.
— Ку-ку, — сказал кто-то, проходя.
— Хо-хо, — сказал кто-то, проходя.
— Да пошел ты на…! — сказал Рябой, с силой оттолкнул от себя девицу, с ревом поднялся и высунул кулак в открытое окно.
— Поехали ко мне, — сказал он, отдышавшись.
— Нет, — решительно заявила девица. — Или здесь, или нигде.
— Тогда там, — малый махнул рукой в сторону темного проулка.
— Фу, — девица скривила губы. — Там темно и пусто. И никто не увидит, как ты меня трахаешь… — обиделась.
Рябой завел двигатель. Машина прыгнула с места, покатила к проулку. Рябой задом загнал машину в темноту. Она приткнулась к переднему бамперу мирно отдыхающего микроавтобуса-«рафика».
— Нас никто не увидит, — с тоской проговорила девица, опять зажгла свет в салоне и стала стаскивать с себя платье.
В кабине «рафика» вдруг вспыхнул огонек. Зажигалка. Сидящий на месте водителя мужчина шумно втянул в себя сигаретный дым. Толстые щеки затвердели на секунду и мягко обвисли вновь. Не отрывая взгляда от светящегося салона «Волги», толстый протянул зажигалку другому мужчине, соседу по кабине. И тот в свою очередь тоже прикурил и, прикуривая, тоже во все глаза разглядывал «Волгу».
— Стыд, — наконец сказал толстый.
— Срам, — поддержал его сосед.
— Стыд и срам, — подытожил толстый.
Молчали. Курили прерывисто, быстро, будто в последний раз.
В квадратное окошко перегородки, отделяющей кабину от салона, просунулась чья-то голова. В зубах сигарета.
— Симуков, дай огню, — сказала голова. А потом голова уставилась на «Волгу». И забыла про огонь. Напрочь.
— Чёй-то? — спросила удивленно. Догадалась: — Трахаются… — втянулась опять в салон, проговорила с радостным возбуждением:
— Мужики, там в тачке мужик бабу…
Появилась вновь в окошке с биноклем, восхитилась:
— Ух ты!..
Задняя дверь автобуса открылась. Из салона выпрыгнули трое. Сухо клацкнули бронежилеты, надетые поверх курток и пиджаков. На цыпочках подошли к «Волге», стояли, хихикали.
— Назад! — злобно шипел из окна «рафика» Симуков. — Назад, козлы!
Троица не слушалась. Кайфовали.
Симуков взял микрофон рации:
— Сто первый, — сказал он. — Как слышите?
Голос Симукова глухо прошелестел в салоне синих, а ночью и вовсе черных «Жигулей», стоявших в соседнем переулке метрах в пятидесяти от автобуса.
— Да замечательно я тебя слышу, — без особого энтузиазма отозвался Вагин. Он сидел на переднем сиденье, рядом с водителем. На голове черная вязаная шапка, натянутая на самые глаза, на плечах кожаная куртка, короткая, блестит в отсветах неоновой рекламы, длинные ноги в кроссовках устало покоятся на передней панели, перед лобовым стеклом. Комфорт любит Вагин, везде и во всем. И спутники его тоже комфорт любят. Развалились на заднем сиденье, посвистывают, песенки мурлычат, а шофер, так тот вовсе спит, сопит, всхрапывая то и дело…
— Тут такая, значит, штука, — шелестел Симуков. — Тачка перед нами. А в ней это… как ее… мужик с бабой трахаются…
— Сто пятый, — строго прервал его Вагин. — Не засоряйте эфир.
— Так я и говорю, — возмущенно продолжал Симуков. — Тачка эта нам выехать не даст, ежели чего… А мужик этот с бабой, ну так они тра…
Вагин хмыкнул и толкнул шофера в плечо.
— Подай чуток вперед, — сказал.
Машина тронулась, прошла несколько метров. Вагин увидел «Волгу» и автобус. Вынул из бардачка бинокль. Загляделся. Улыбался. Причмокивал.
— Эта, — подал голос Симуков. — Тут наши, того, в бинокли наладились глядеть, балдеют, онанисты, мать их!..
Вагин оторвал бинокль от глаз, построжал вновь, кинул бинокль обратно в бардачок, сказал в микрофон:
— Не засоряйте эфир, сто пятый, — помолчал. — Сейчас разберемся.
Открыл дверцу, ступил на тротуар, не спеша направился к «Волге».
Подошел. Посмотрел. Шикнул на троих в бронежилетах. Те тотчас убрались. Опять посмотрел. Покачал головой раздумчиво. И наконец постучал в стекло. Еще. И еще. Рябой оторвался от девицы. Рубашку он не снимал, брюк тоже. Транспортный вариант. Повернулся к Вагину, глаза остервенелые, губы мокрые, дыхание со свистом.
Открыл окно наполовину, рявкнул:
— Пошел на…!
Вагин улыбнулся ласково:
— Послушайте, дружище, — сказал он, — не могли бы вы поставить машину в другое место. Мой автобус, — он жестом показал в сторону «рафика», — не сможет выехать…
— Пошел на…! — проревел Рябой и замахнулся на Вагина.
— Вам, наверное, меня просто не слышно, — продолжал улыбаться Вагин. — Мы слишком далеко друг от друга.
Он быстро выставил вперед руку, ухватил Рябого за ухо и с силой подтянул его к себе. Рябой взвыл от боли. Кулак его судорожно долбил по рулю.
— Как ты смеешь, сволочь? — завопила девица и попыталась вцепиться Вагину в лицо. Вагин левой рукой ударил ее по щеке. Крепко. Девица отпрянула назад и замолкла испуганно.
— Теперь слышно? — в самое ухо Рябому нежно проворковал Вагин.
Рябой кивнул очумело.
Вагин отпустил его ухо, прошипел, озлясь вдруг:
— Пошел на…! — и в сердцах саданул ногой по автомобилю.
Нетвердыми руками Рябой завел двигатель и, не взглянув больше в сторону Вагина, с грохотом сорвался с места.
Вагин сунул руки в карманы джинсов и побрел обратно к своим «жигулям».
Иностранцы толпились у зеркала. В фойе. Разглядывали себя, пальцами друг на друга показывали и хохотали звонко и пронзительно. В полный голос. От души. Так, что номерки на свободных вешалках раскачивались и перекликались сухим и беспорядочным стуком. Пластмассовым…
У одной иностранной дамы платье в черной пыли, у другой и вовсе порвано — зацепилась за щепку на перилах, — нижнее белье белеет. У мужчин спины перепачканы и ягодицы, на лицах ссадины, волосы всклокочены.
Вокруг них малый, что при гардеробе, суетится, мягкой щеточкой их обмахивает. Иностранцы отбиваются от него и хохочут, хохочут… Хохоча и в зал двинулись. Зал небольшой, уютный. Много зеркал. Витражей. Пестро. Приглушенный свет. Красно-синий. Зал полон. Только один столик не занят. Переступив порог, трое иностранцев тотчас погасили смех, серьезные лица сотворили, а один, беловолосый, мелкоглазый, все никак остановиться не мог, на него шикали, за одежду его дергали, а он все никак. За столик сели. Официант подошел. Заказ принял. А беловолосый глядит на официанта и пуще прежнего распаляется. С соседних столиков на иностранцев настороженно поглядывают, бармен через стойку перегнулся, хмурится. Три музыканта вроде как даже медленней играть стали, иностранца смеющегося рассматривают. Иностранцам неловко за своего товарища, они вполголоса, воспитанно, пытаются его успокоить. Бесполезно. И тогда одна из дам, та, у которой нижнее белье белеет сквозь дыру на платье, хлопнула беловолосого по щеке. Сноровисто. Привычно. А тот, ну просто теперь закатывается. Тогда она выдернула пробку из бутылки шампанского и содержимое бутылки ему на голову вылила. Беловолосый умолк тотчас, замер испуганный, удивленно стал товарищей своих разглядывать. И вот тут-то второй иностранец захохотал. На беловолосого пальцем показывает, за живот держится и гогочет басисто, на весь зал. Дамы лица руками закрыли, сидят недвижные.
…Музыка умолкла. Танцующие пары остановились, с явным сожалением, потянулись к своим столикам. Сели. Из-за столика, стоящего возле сцены, поднялся мужчина, высокий, с полными округлыми плечами. Длинноволосый, усатый. Ступил на сцену, склонился к микрофону, проговорил негромко, улыбчиво:
— Внимание!.. Прошу всех посмотреть в сторону входной двери! — Все повернулись. Как один. Тихие вмиг. В зал влетел парень, что при гардеробе. Споткнулся, едва не упал. За ним не спеша вошел мужчина, тоже длинноволосый и тоже усатый. Спортивный. Худой. В руке пистолет, черный, громоздкий. Зал вздохнул и выдохнул. И снова ни звука. Слышно, как сковородки шипят на кухне.
— Теперь взгляните на дверь, ведущую в кухню, — сказал тот, что на сцене. — Плечистый.
Дверь распахнулась, и в проем втиснулись испуганные повара. За ними шествовал мужчина с автоматом Калашникова в руках. Мужчина тоже был длинноволосый и усатый. Но в отличие от своих коллег-брюнетов — рыжий. Рыжий, рыжий, волосатый, убил дедушку… и так далее.
— А теперь посмотрите на меня, — попросил Плечистый и тоже вынул пистолет, тяжелый и длинный. — Все понятно?
Сидящие в зале кивнули утвердительно, мол все понятно. Только иностранец все хохотал, показывал пальцем на вооруженных мужчин и хохотал. Особенно Рыжий его веселил.
— Ну замечательно, — одобрил Плечистый. — Теперь я пройдусь по залу и соберу деньги и драгоценности, которые вы сейчас положите на столики.
Спрыгнул со сцены и действительно пошел по залу.
— Отбивные горят, — сокрушенно покачал головой один из поваров. Чуть не заплакал…
— Все в цвет, — сказал Вагин, — не соврал нам стукачок-то наш. Они начали.
Зашипела рация.
— Сто первый, сто первый… Я вижу через окно, они согнали поваров в зал. У одного из них ОКМ, десантный.
— Это Клюев, — объяснил Вагин оперативникам. — Они там с Берцовым у окна кухни. Ну что, мужики, с Богом!.. — Нажал пульт рации, проговорил, сдерживая возбуждение: — Я сто первый!
Пошли!
Взвизгнул стартер «рафика», заныл двигатель — жирно, мощно, ширкнули громко задние колеса, по асфальту разок-другой прокрутившись, и ринулась вперед машина, со свистом воздух пронзая.
Мгновение погодя и «жигули», в которых Вагин сидел, лихо с места слетели и тоже понеслись к кафе.
«Рафик» притормозил мертво у самого крыльца, двери кабины раскрылись, и из нее черными комьями стали вываливаться люди с боевыми автоматами в руках. Несколько человек к входной двери бросились, остальные побежали за угол, ко второму выходу, к окнам кухни.
С заднего сиденья «жигулей» выскочили оперативники с пистолетами, тоже помчались к кафе.
Все было проделано быстро и бесшумно, как на тренировке.
Вагин и шофер остались в машине. Курили.
Вагин выкинул окурок в окно, сплюнул вслед, махнул рукой.
И началось…
С треском и грохотом вылетела входная дверь. Зазвенело разбитое стекло за углом.
С двух входов, с главного и с кухни сотрудники милиции ворвались в зал. Двое-трое из работников заорали громко, зло, угрожающе: «Бросить оружие!… Всем лечь! Быстро! Быстро! Брось пистолет! Башку снесу, сволочь!.. Всем лечь, вашу мать! Кому сказал!.. Убью! Убью! Брось пистолет!..»
Рыжего прижали к стенке, придавили горло стволом автомата, оружие выпало из его рук. Второй, что у входной двери — худой, — так растерялся, что и шелохнуться не успел, его сбили с ног, саданули прикладами пару раз по затылку. Плечистый успел-таки выстрелить, в бронежилет одному из сотрудников попал, того отбросило назад, упал он на пол матерясь — все в порядке, значит, раз матерится-то…
Второй раз усатый-волосатый выстрелить не успел. Пистолет из руки его вышибли, двинули прикладом по лбу, повалили наземь.
Разом тихо стало. Только иностранец продолжал хохотать. Лежал на полу лицом вниз и смеялся безудержно. Вздрагивал.
В зал не спеша вошел Вагин, снял вязаную шапку, длинные волосы закрыли лоб, уши, вынул сигарету изо рта, поискал глазами пепельницу, нашел на ближайшем столике, притушил окурок, сказал:
— Прошу всех посетителей подняться, — усмехнулся. — Уже можно.
Люди стали медленно вставать, отряхивались. Лица растерянные, испуганные.
— Я старший оперуполномоченный уголовного розыска города, капитан милиции Вагин, — продолжал Вагин. — Простите нас за вторжение, за неожиданность нашего появления, простите за то, что причинили вам беспокойство, но сами видите, это было необходимо. — Улыбнулся обаятельно. — Пока прошу не расходиться. Мы должны записать свидетельские показания. Спасибо.
Поклонился благодарно и направился в сторону сцены.
— Симуков, — позвал на ходу, — старших групп ко мне!..
Услышал шум в углу зала. Остановился. Посмотрел через плечо.
— Не трогайте меня! — срываясь на хрип, негодовала молодая женщина. Красное открытое платье. Темные волосы. Длинные. Большеглазая. — Не тыкайте мне в грудь своей железкой! Она холодная!
— Да я… — пожал плечами работник милиции в бронежилете и неловко попытался убрать автомат за спину и, как нарочно, опять задел стволом женщину, мушка зацепилась за платье, платье затрещало.
— Да уберетесь вы, наконец!.. — вскрикнула женщина и со всей силой толкнула сотрудника в грудь двумя руками. От неожиданности тот отшатнулся назад и неуклюже повалился на стол. Посыпались на пол фужеры, тарелки, покатились бутылки…
Плечистому уже надели наручники на сведенные за спиной руки. Рыжему тоже. А Худому нацепить браслеты пока не успели. Оперативник склонился над Худым как раз в тот момент, когда большеглазая красавица оттолкнула работника милиции в бронежилете… Худой, еще лежа, выхватил у сотрудника милиции пистолет из поясной кобуры, кобура оперативника, открытая, ловко вскочил на ноги, со всей силы ткнул милиционера головой в живот, тот завалился назад, непроизвольно взмахнув руками, будто собрался на спине по воздуху поплавать; за те доли секунды, пока сотрудник милиции падал и все вокруг стояли, замерев, растерянные, успел взвести курок, выпрямиться, развернуться в сторону сцены, где больше всего людей в бронежилетах скопилось, и выстрелить. Два раза. Один за другим. Быстро. Почти без паузы. Бах! Бах!
Обученные работники милиции ринулись на пол. С грохотом. Матерясь яростно…
Раскололись витражи на стене за сценой. Посыпались вниз разноцветные стекла, гулко забарабанили по дощатой сцене… Вагин поморщился, услышав выстрелы, чуть втянул голову в плечи, но не повалился наземь, как милиционеры в бронежилетах. Рука его метнулась автоматически под куртку, выдернула из-за пазухи пистолет. Вагин крикнул что-то нечленораздельное, только ему понятное, и нажал на спусковой крючок. Грохнул выстрел.
Худого отбросило назад. Он повалился на пол, звучно ударившись о паркет затылком. Из раны на шее слабо плеснула кровь.
— Педераст… твою мать! — прохрипел Вагин и медленно опустил оружие.
Забился в истеричном смехе иностранец. Заголосили женщины. Тонко. Громко.
Оперативники стали подниматься один за другим.
…На какие-то секунды о Плечистом забыли. Он вскочил на ноги. Одним прыжком забрался на сцену. Со сцены метнулся к двери кухни. Вагин увидел, что руки у него свободны. Браслет наручников блестел только на левом запястье…
— Стоять, сука! Убью! — рявкнул Вагин и стремительно направил пистолет в сторону Плечистого. Поздно. Тот уже был за дверью.
Работники милиции рванулись вслед.
Иностранец хохотал.
Женщины голосили.
…Вагин спрыгнул с окна. Увидел Плечистого метрах в ста, в конце двора, у самой арки.
Две женщины с колясками стоят посреди двора.
Мальчишка — чуть в стороне от них — крепко прижимает к груди собачонку.
Застыли словно. Не шелохнутся.
Кто-то рядом с Вагиным взвел курок автомата.
— Не стрелять, — сказал Вагин негромко. — Люди.
К Вагину подбежал один из оперативников. Смуглый, губастый, волосы жесткие, вьются мелко. Почти негр.
— Начальник, разреши?! — выдохнул он. — Я возьму!
— Давай, Патрик Иванов, — кивнул Вагин.
— Пошли! — крикнул Патрик Иванов.
И работники милиции, грохоча каблуками, помчались вслед за ним.
Вагин подошел к Худому. Убит. Вагин наклонился. Присвистнул, снял с трупа парик, а затем, чуть помедлив, и усы оторвал.
— Так, — сказал Вагин. Поднялся быстро. Подошел к Рыжему. И с него парик сорвал и усы потом. Испуганное бледное лицо. Молодой. Ушастый. Пот на лбу. Вагин вынул пистолет. Поволок обезумевшего от страха Рыжего на кухню. На кухне опрокинул его на разделочный стол. Придавил стволом пистолета его нос. Больно.
Заорал:
— Кто? Фамилия? Имя?
— Хамченко… Олег… Нет! Нет!.. Я не хочу! Я только второй раз!.. Не стреляйте!
— Кто остальные?! — орал Вагин. — Кто?
— Не знаю! Я второй раз!..
— Кто?! — орал Вагин. — Кто?! — и давил стволом на нос. Давил, давил…
— Не знаю!.. Одного Птица зовут… Другого Пинцет… Не знаю! Мне звонил Птица! Он мне деньги давал! Сам меня находил!..
— Так, — сказал Вагин. Выпрямился. Потянул за собой обмякшего Рыжего-Хамченко.
— Где сидел? — спросил.
— В Усть-Каменске.
— Хулиганка?
— Да. Двести шестая, вторая.
— Птица из блатных?
— В законе. Три ходки. Сам рассказывал.
— Парик? Усы?
— Да. У него самого волосы короткие. Как у качков.
— Залетный? Местный?
— Местный. Первая ходка отсюда. Точно.
— Хорошо, — сказал Вагин и подтолкнул Рыжего к двери в зал.
Большеглазая красавица упиралась, когда ее сажали в машину, визжала, дубасила кулачками работников милиции. Один из работников завел ей руку за спину. Поднажал. Большеглазая красавица присела невольно, прохрипела что-то жалобное.
— Отставить! — сказал Вагин, спускаясь с крыльца. — Я сам.
— Из-за нее все, из-за сучки, — недобро проговорил Симуков. — Окуну ее в ИВС. Пущай охолонется.
— Отставить, — с нажимом повторил Вагин. — Я сам.
— Ну-ну, — не стал спорить Симуков. Махнул работникам. Они отпустили женщину.
Мимо провели иностранца. Он хохотал, а из глаз лились слезы.
— Бедняга, — посочувствовал Симуков, — скучает, видать, по дому.
— Простите, — сказал Вагин женщине.
— Не прощу, — ответила женщина, расправляя свое короткое платье.
Вагин с удовольствием разглядывал ее тонкие ноги.
— Работа, — объяснил Вагин. — Кто-то должен.
— Я бы лучше деньги отдала с побрякушками, чем такое видеть! — Женщина откинула волосы назад, посмотрела на Вагина с неприязнью. — Садисты!.. Дерьмо!.. У него кровь из горла. Он же совсем мальчик!
— Успели заметить? — подивился Вагин.
Женщина не ответила. Дышала часто. Зло. Нетерпеливо постукивала длинным каблучком об асфальт.
Вагин какое-то время разглядывал женщину. Улыбался невольно. А потом тоже стал стучать об асфальт — одной ногой, другой, вроде как приплясывал. В такт рукой взмахивал, дирижируя.
— О, Господи, — вздохнула женщина, но постукивать каблучком перестала, покачала головой: — Моя милиция… — И тут же осведомилась жестко, с вызовом: — Я могу идти или я арестована?
— Если б я только знал, — вдруг очень серьезно проговорил Вагин. От усердия даже брови насупил. — Что в этот вечер, в этом кафе, будете вы… Я бы никогда не посмел… я бы никогда не позволил себе сделать того, что сделал сегодня. Я бы воспротивился приказу, я бы воспротивился долгу, я бы воспротивился совести, я бы пошел под трибунал, я бы получил воспротивился совести, я бы пошел под трибунал, я бы получил срок, я бы сидел в студеной зловонной камере. Голодный, больной, искусанный крысами и надзирателями… И вспоминал бы вас… — Вагин горько усмехнулся. Очень горько. — И был бы счастлив…
Умолк, шмыгнул носом, потер пальцами глаза, попросил жалобно:
— У вас не найдется платочка?
— Что? — не поняла женщина. — А, да, да… — торопливо порылась в сумочке, обеспокоенная, протянула Вагину душистый платочек.
— Спасибо, — поблагодарил Вагин, поднес платочек к носу и неожиданно высморкался с пугающим грохотом. Потом еще.
Женщина вздрогнула.
Вагин аккуратно, старательно, высунув язык, сложил платочек, полюбовался своей работой и отшвырнул платок в сторону.
— Не отстирается, — объяснил деловито.
Большеглазая красавица пялилась какое-то время на Вагина оторопело. А потом на платок уставилась. Нежный и одинокий. Покинутый. А потом опять на Вагина взгляд перевела. А потом опять на платок. А потом опять на… А потом хмыкнула, не сдержавшись, — плечи дрогнули. А потом еще. А потом расхохоталась в полный голос. Искренне, не стесняясь, зажмурив глаза, голову назад запрокинув, рот маленькой ладошкой прикрыв… Смеялась. На машину опершись, что позади нее стояла. Смеялась.
И Вагин ухмыльнулся довольный.
Шапку вязаную, черную аккуратно поправил, еще больше ее на глаза натянул. Почесал щеку. Опять ухмыльнулся.
Женщина отсмеялась, покрутила головой, видимо, сама себе удивляясь, посмотрела на Вагина с неожиданным интересом, сказала:
— Да снимите вы эту шапку дурацкую, наконец. Не идет она вам!
Вагин кивнул понятливо. Тотчас стянул шапку с головы, швырнул ее на землю вслед за платком. Женщина усмехнулась. Спросила уже без прежней жесткости:
— Так вы не ответили на мой вопрос, я могу уйти или я арестована?
— Конечно, — ответил Вагин.
— Что «конечно»?
— Можете уйти.
— Так я ухожу, — женщина с подозрением смотрела на Вагина.
— Уходите, — пожал плечами Вагин.
— Ага, — сказала женщина и осторожно ступила в сторону. Повернулась, пошла медленно. Шаг, другой. Все быстрее, быстрее.
— Да, кстати, — Вагин щелкнул пальцами в воздухе. Женщина остановилась вмиг. Застыла. Не оглядывается.
Около нее сотрудники ходят, переговариваются. Курят. А она стоит, не шевелится.
И в воздухе ни дуновения. Тепло. Сухо. Ночь.
— Кстати, — сказал Вагин, — уже поздно. Я провожу вас.
— Не надо, — ответила женщина. — Не надо.
— И все же, — Вагин неторопливо подошел к ней, легко коснулся ее плеча. Тонкое плечико напряглось. Затвердело.
— Не надо, — сказала женщина. — Не надо.
— И все же, — Вагин бережно повернул женщину к себе. Лицо ее непроницаемо. Глаза опущены.
— Ваше право — почти не разжимая пухлых мягких губ, проговорила женщина. — Вы сильней.
— Да, — подтвердил Вагин. — Я сильней.
Он повел ее к «Жигулям».
Милиционеры смотрели им вслед. Ухмылялись.
И Вагин ухмылялся. Радовался.
Или смущался…
Или притворялся…
Или…
И…
Политесно усадил даму, широким жестом открыв ей дверь, махнув рукой, кивнув, мигнув. Галантный.
Обошел автомобиль. А губы все кривятся в ухмылке.
Сесть за руль не успел. Калено ударили фары по глазам.
Охнули тормоза. Вагин зажмурился, загородился рукой.
Хлопнула дверца подъехавшей автомашины.
Патрик Иванов ругался. Грубо. Очень грубо.
Фары выключил.
— Что? — всхрипнув вдруг, спросил Вагин.
— Ушел, сука! — Патрик Иванов яростно встряхнул мертво сжатым кулаком. — У него, видно, на соседней улице тачка была!.. Как в воду! Дерьмо!
Вагин упруго качнулся вперед, ухватил Патрика Иванова за ворот куртки, вскрикнув ожесточенно, зло, губы сломались, прижал оперативника к его автомобилю. Сильно. Голова Патрика Иванова откинулась назад. Он дышал тяжело, прерывисто.
Молчали.
Оба.
В глаза друг другу смотрели. Не отрываясь.
Вагин неожиданно сплюнул рядом с Патриком Ивановым — брезгливо — и наконец отпустил его.
Стоял какое-то время, лицо пальцами мял.
— Иди, — сдерживаясь, сказал потом Патрику Иванову.
Патрик Иванов побрел к своей машине.
Вагин быстро вернулся к крыльцу, поднял свою черную шапку, злясь, напялил ее на самые глаза. А потом и платок поднял, оглядевшись, сунул его в карман.
А милиционеры курили и ухмылялись.
Вагин вырулил со двора. Спросил:
— Куда?
— Днестровская, — ответила женщина.
— Хорошо, — сказал Вагин.
Город темный. Бездонные провалы окон. Кое-где за стеклами свет — изредка яркий, чаще — скупой, скорбный. Многоэтажные дома тяжело нависают над мостовой, давят ее сбоков.
Женщина поежилась.
Вагин посмотрел на нее. Ничего не сказал. Опять перевел взгляд на дорогу. Слабо пожал плечами. А вот теперь и женщина взглянула на него. Смотрела долго. Потом улыбнулась тихо.
Женщина указала на дом. Вагин притормозил. Женщина взялась за ручку двери.
— Минуту, — сказал Вагин.
Повернул женщину к себе за плечи, склонился к ее лицу, потянулся к губам.
Она сморщилась, отвернулась, уперлась рукой ему в грудь.
Вагин откинулся на спинку своего сиденья. Выдохнул шумно. Покачал головой.
— Все? — спросила женщина.
Вместо ответа Вагин протянул ей пачку «Кэмела». Поколебавшись, женщина взяла сигарету. Закурили.
Молчали.
Вагин притушил сигарету в пепельнице. Усмехнулся. Стянул шапку с головы, кинул ее на заднее сиденье и снова склонился к женщине. Поцеловал в щеку, легко, нежно, в висок, в нос, приблизился к губам… Женщина опять отвернулась, но без прежней уже решимости.
Вагин повернул ее лицо к себе. Впился в губы. Обнял крепко. И женщина ответила. Положила руки ему на плечи. Ласково погладила затылок. Левая рука Вагина коснулась ее колен, поползла выше под платье. Женщина вырвала губы, яростно отпихнула от себя Вагина, толкнула дверь, торопилась выбраться наружу, словно воздуха хотела ночного глотнуть — свежего — после тесных «жигулей», после жарких вагинских рук, после его тяжелого дыхания.
Торопилась.
Плащ цеплялся за что-то, мешал.
Тонкая ножка на длинном каблучке подогнулась, ступив на асфальт. И женщина чуть не упала. Чуть.
Вагин следил за каждым ее движением. Завороженный. То и дело глаза вздрагивали.
Мотнул головой. Выбрался тоже.
Женщина быстро шла к подъезду.
Вагин встал на ее пути, взял за руку.
— Нет, — сказал женщина, тряхнула рукой, сбросила его пальцы, обошла Вагина, ступила к подъезду.
Вагин двумя прыжками добрался до двери. Оперся спиной о нее.
— Вот это уже лишнее, — сказала женщина. — Меня ждет муж.
Вагин попробовал улыбаться.
— Замужние женщины в одиночку в рестораны не ходят, — сказал он. Добавил: — В кооперативные.
— Позвольте, — женщина потянулась к двери.
— Познакомьте меня с мужем, — вдруг попросил Вагин. — А?
— Позвольте — повторила женщина. Глаза воспалились.
Влажные. Еще больше сделались. Ярче.
— Нет, правда, познакомьте. — Вагин дернул губами в ревнивой усмешке. — Правда, правда…
— Да уберетесь вы наконец! — туго выцедила женщина.
— Бред, — Вагин беспокойно провел пальцами по лбу. — По-моему, я уже люблю вас…
Неожиданно подался вперед, обхватил ладонями лицо женщины, притянул к себе, стал целовать, горячо, суетливо. Будто в первый раз.
Она кричала сдавленно. Отчаянно отбивалась. Молотила по нему кулачками. А он насытиться не мог. Не мог. Вывернулась все-таки, скользнула вниз из-под его сильных рук, выпрямилась, ударила со всего размаха его по уху, а потом еще по щеке — с тонким и коротким звоном, летящим. Пылающее лицо торжеством сияет.
Вагин опустил руки тотчас, закрыл глаза, открыл вновь, темный, потухший.
— Хорошо, — сказал.
Поднял руку, быстрым и ловким движением сорвал ремешок сумочки с плеча женщины, так что женщина и шевельнуться не успела шагнул к машине, открыл сумочку, мягко желтым замочком щелкнув, вывалил все содержимое на капот машины, порылся в вещах, не торопясь, — ключи, ручки, записные книжки, карандашики, кошелек, косметичка, бумажки, справки, квитанции, паспорт.
Паспорт.
Женщина стояла не двигаясь. Горбилась. Дергалась щека болезненно.
— Машева Анжелика Александровна, — прочитал Вагин. — Год рождения, место рождения… Отделение милиции… Серия… Номер… Адрес… Незамужем…
Смахнул вещи с капота обратно в сумочку, застегнул ее, обернулся, кинул сумочку в сторону Анжелики Александровны, большеглазой красавицы, та едва смогла поймать ее, почти у самой земли, выпрямилась, на лице слезы блеснули.
— Хорошо, — сказал Вагин, и, не глядя больше на женщину, сел в машину, завел двигатель, резво тронулся с низким воем.
Анжелика Александровна Машева, большеглазая красавица, стояла какое-то время ссутулившись, невидяще глядя вслед уехавшей машине, а потом вдруг скорчила непотребную гри-маску и крикнула громко:
— Мент понтярный!
Коридор узкий, без окон, двери по бокам, слева, справа. Плафоны с дневным светом горят через один — экономия, — да и те тусклые, синевато-серые, холодные.
По коридору быстро шел Вагин, руки в карманах, лицо недвижимое. Рядом Патрик Иванов, он то и дело обгоняет Вагина, в лицо заглядывает, пытается взгляд поймать.
А поймать трудно, потому что, во-первых, Вагин на Патрика Иванова и не смотрит, упорно перед собой глядит, а во-вторых, Патрику Иванову вообще сосредоточиться трудно — оперативники то в темноту окунаются, то на свет пыльный выныривают, то окунаются, то выныривают, то окунаются…
Патрик Иванов говорит:
— У этого, у здорового, у Птицы, браслет не защелкнулся, понимаешь? Кожу защемило, а ребята не заметили, а он это почувствовал, и когда лапищи-то рванул в разные стороны, браслет и слетел, понимаешь?.. Дай мне его повязать, дай, дай!.. Африканским своим папашкой клянусь, что повяжу, дай, дай!
Вагин, не отвечал, шагал себе, будто один он во всем коридоре. Вот замедлил шаг, а потом и вовсе остановился возле одной из дверей, толкнул ее, вошел и закрыл ее за собой перед самым носом у Патрика Иванова.
Патрик Иванов ощерился недобро. Стерильно белозубый. Выцедил:
— Ален Делон хренов!
Неспешно зашагал по коридору. Руки длинные, гибкие. Почти не двигаются в такт шагам. Вроде как и не его они. Вроде как поносить взял.
По коридору навстречу два здоровых мужика — короткост-риженные, в белых рубашках, в галстуках, с пистолетами в кобурах под мышками — волокли молодого крепкого парня. Губы у парня разбиты, в трещинах, из носа кровь стекает — две тонкие струйки, черные, блестящие, один глаз распух, закрыт, второй, наоборот, таращится изумленно, не моргает. Висит парень на руках у мужиков, обессиленный, ноги не идут — ползут по яркому веселому линолеуму.
— Он убил свою маму, — печально сообщил один из здоровяков, проходя мимо Патрика Иванова.
— И папу убил, — скорбно добавил второй. — И папу.
Глаза его отсырели. Сейчас заплачет.
И у Патрика Иванова тоже глаза сморщились. Повлажнели.
Патрик Иванов потер их кулаками, жестко, сдержал-таки слезу.
Молодец Патрик Иванов!
Окна в комнате зашторены. Полумрак. Желто светится небольшой экран. На экране мелькают носы, рты, волосы, бакенбарды, глаза, уши, подбородки, щеки, лбы, морщины, ямочки, складки, ресницы, брови, родинки, бородавки, усы, бороды, ноздри, зубы, переносицы. Лица.
— Что? — спросил Вагин, присев на подоконник.
— Не помню, — сказал Хамченко — он устроился на стуле перед экраном. — Не знаю. Не могу. Не умею. Не получается… Что-то с памятью моей стало, все что было не со мной, помню…
— Что? — Вагин повернул голову к серьезному пожилому мужчине в очках, стоящему у проектора.
— Мудозвон, — тотчас откликнулся серьезный мужчина в очках. — Чистый мудозвон.
— Ага, — подтвердил морщинистый сержант, стоящий у двери. — Точно.
— Хорошо, — сказал Вагин.
Спрыгнул с подоконника, раздернул шторы, с сухим хрустом открыл оконные рамы, они задрожали стеклянно, повернулся, подошел к съежившемуся вдруг Хамченко, взял его за шиворот, одной рукой потащил к окну — тот упирался, безуспешно отдирал от себя Вагинскую руку, — повалил на подоконник, спросил вяло:
— Какой этаж?
— Четвертый… — с трудом выдавил из себя Хамченко.
— Городухин и сержант подтвердят, что ты прыгнул сам, — сказал Вагин, полуобернулся к Городухину: — Городухин, подтвердишь?
— А то! — с готовностью отозвался серьезный мужчина в очках.
— Сержант?! — спросил Вагин.
— Или! — лихо козырнул сержант.
— Давайте сначала, — предложил Хамченко.
И опять замелькали брови, носы, ямочки, уши, бороды, морщины…
— Вот, — Хамченко тыкал пальцем в экран. — Вот, — нервничал, боялся, что не поверят.
— Хорошо, — сказал Вагин, взял у Городухина наспех склеенный портрет и вышел из кабинета.
Шел по коридору, разглядывал портрет Плечистого-Птицы, улыбался удовлетворенно. Разглядывал и улыбался, разглядывал и улыбался…
Проходящие мимо сотрудники вертели пальцами у виска и строили страшные рожи…
Вагин открыл дверь в кабинет. Просторный. Светлый. На столах компьютеры. Гудят, мигают, пощелкивают. Будто живые. За тремя компьютерами три девушки.
— Я к тебе, — обратился Вагин к одной из них. Поколебавшись, добавил: — Оля…
Оля медленно повернулась на крутящемся кресле — кресло крутилось неслышно, мягко, маслено — посмотрела на Вагина внимательно. Стройная, худенькая, длинноглазая. В тонком легком платье, коротком. Сидит, скрестив ноги, и рассматривает Вагина, с головы до ног рассматривает, с ног до головы.
— Пора обедать, — заторопилась вдруг одна из девушек, полненькая, вся в сером, будто пыльная. У двери уже обернулась, со значением подмигнула Оле.
— Пора, мой друг, пора, — подтвердила вторая, не полненькая, но тоже вся в сером, будто пыльная.
— Я к тебе, — повторил Вагин, когда пыльные вышли.
— С вещами? — усмехнулась Оля.
— С вещами, — подтвердил Вагин.
— Правда? — подивилась Оля. — И где же они?
Встала, цокая длинными каблучками, прошла по кабинету, под один стол заглянула, под другой, стулья отодвинула, за шторой поискала. Встала, наконец, перед Вагиным, в глаза ему посмотрела, не скрывая иронии.
— Где? — спросила вновь.
— Вот, — Вагин протянул фоторобот.
— Это не вещи, Вагин, — вздохнула Оля, взяла портрет, села к компьютеру. — Это работа.
— Работа, — кивнул Вагин, опустился рядом на стул.
— Словесный портрет, — Оля протянула руку.
— Ах да, — Вагин вынул из кармана бумагу.
— Где он судился? — спросила Оля.
— Здесь, — сказал Вагин. — Иначе бы я не пришел.
— Иначе бы не пришел… — с усмешкой повторила Оля.
Оля нажала на клавиши. Компьютер радостно замерцал.
— Я давно тебя не видела, — сказала Оля.
— Я тоже, — сказал Вагин. Лениво посмотрел в окно. Там было лето.
— Что тоже? — спросила Оля. Пальцы ее продолжали скакать по клавишам.
— Давно тебя не видел, — объяснил Вагин.
— Это естественно, — с легким раздражением проговорила Оля.
— Раз я тебя давно не видела, значит, и ты меня давно не видел…
— Ты думаешь? — Вагин зевнул.
Оля вдруг бросила компьютер и стремительно повернулась к Вагину.
— Вагин… — начала она.
— Что? — невинно спросил Вагин.
Оля какое-то время глядела на него молча, потом опять повернулась к аппарату, ответила:
— Ничего…
Компьютер попискивал по-кошачьи.
— Ты не занят сегодня вечером? — спросила Оля.
— Занят, — ответил Вагин.
— А завтра?
— Тоже.
— Много работы?
— Я не люблю, когда от меня убегают, — сказал Вагин. — Не люблю.
— Я помню, — сказал Оля. — Ты найдешь его.
— Найду, — подтвердил Вагин.
— Ага! — неожиданно воскликнула Оля.
— Что? — Вагин резко поднялся, впился в экран.
— Сычев Леонид Владимирович, 1951 года, уроженец Перми, трижды судимый, тяжкие телесные, разбой, разбой, освободился в июне прошлого года, номера уголовных дел… прежнее место прописки… Клички: Сыч, Филин, Птеродактиль, Птица.
— Хорошо, — сказал Вагин, выпрямился, улыбнулся.
— Значит вечерами ты занят? — спросила опять Оля.
— Занят.
— А сейчас?.. — Оля запнулась на долю секунды. — А сейчас десять минут не найдешь для меня?
— Десять минут? — повторил Вагин рассеянно. — Найду.
Он говорил, а рука его уже тянулась к телефону.
— Гостиница? — проговорил он в трубку. — Кобелькова, пожалуйста, администратора. Да…
Оля тем временем подошла к двери, заперла ее.
Возвращаясь, на ходу сняла платье, осталась в маленьких трусиках, швырнула платье на стул, присела перед Вагиным на колени, стала расстегивать его джинсы, руки ее дрожали, не слушались, верхняя губа вздрагивала нетерпеливо.
— Леша, — говорил Вагин, — это я. Срочно. Сычев Леонид Владимирович. Откинулся прошлым летом. Разбой. Клички Птица, Птеродактиль, Филин, Сыч. Два дня сроку. Ищи, — Вагин осекся, вздрогнул, прикрыл глаза, проговорил тихо: — Ищи, Леша, ищи… — повесил трубку, опустил руку, погладил Олю по волосам, откинул голову назад, простонал тихо, лицо светлое, покойное.
Квадратный зал ресторана. Небольшой. Столиков на десять. Все заняты. Красные стены. Фонтан. Струя тугая, шумная. На стойке бара телевизор. Видео. Поет Патриция Каас.
К стойке подходит Плечистый-Птица, опять в парике, опять с усами, решительно выключает телевизор, говорит громко:
— Внимание! Прошу всех посмотреть в сторону входной двери.
Все посмотрели. И посетители, и официанты. И метрдотель. И съежившийся за стойкой бармен. И даже сам Плечистый-Птица тоже посмотрел в сторону входной двери. Она резко и шумно отворилась, ударилась о стенку, загудела деревянно, отскочила от стенки, с размаху двинула по заду вошедшего уже в зал еще одного усатого-волосатого, тот не удержался, скакнул вперед, руки вытянув, чуть не упал, невысокий, ладный, хрупкий, удержался-таки, в маленькой кисти — длинноствольный пистолет, вздрагивает, тяжелый, крупнокалиберный.
Птица ухмыльнулся, продолжал:
— Теперь взгляните на дверь, ведущую в кухню…
Взглянули. Там потные поварихи с бледными дрожащими лицами, вот-вот в обморок рухнут, но пока стоят, друг за дружку держатся, за ними — третий усатый-волосатый, большеголовый, грузный, пыхтит с посвистом, устал… В руках обрез двустволки, курки взведены.
— Я не могу просто так сидеть и смотреть на все это, — сдерживаясь, вполголоса проговорил находившийся за одним из столиков черноволосый, аккуратно одетый мужчина. — Я не имею права просто так сидеть и смотреть…
— Нет, — сказала сидящая рядом женщина, накрыла своей рукой его сжатый белый кулак. — Нет…
— Я не могу, — повторял черноволосый мужчина — он тер пальцами висок. Что есть силы. Морщился. — Я не имею права… Я не могу… Я же работник милиции. Я же оперативник… Понимаешь?! Понимаешь?!
— Нет, — говорила женщина, искала его взгляд, моргала часто. — Нет, нет, нет…
— А теперь обратите взоры на меня, — весело сказал Плечистый-Птица и тоже вынул оружие — гладкий никелированный пистолет. — Все понятно?
Посетители энергично кивнули, мол, все понятно. Только черноволосый мужчина не кивнул, сидел, выпрямившись, внимательно разглядывал хрупкого налетчика, потом сказал женщине, невесело усмехнувшись:
— Справили рожденьице, мать твою!..
— Нет, — говорила женщина. — Нет, нет, — ее длинные алые ногти судорожно царапали его кулак, оставляя на нем четкие красно-белые борозды. — Нет…
— Я очень рад, что всем все понятно, — одобрил Птица. — Теперь я пройдусь по залу и соберу деньги и драгоценности, которые вы сейчас положите на столики.
— А хрен в задницу не хочешь, сука! — крикнул черноволосый и стремительно метнулся со стула в сторону хрупкого налетчика. Прыжок, другой… Черноволосый сшиб Хрупкого наземь, прижал коленом к полу руку с пистолетом, занес тяжелый круглый кулак над его головой.
— Не надо! — тонко завизжал Хрупкий. — Я боюсь! — замотал головой из стороны в сторону.
— Убери руки, — хрипло заорал Птица. — Убери руки! Убью! Убью!
Вытянул пистолет в сторону черноволосого, переступал с ноги на ногу, нервно, дерганно.
Черноволосый вдруг нахмурился, нагнулся над Хрупким, вгляделся ему в лицо, сорвал усы, выпрямился, ошарашенно взглянул на Птицу…
— Так это… — выговорил растерянно.
И только тогда Птица выстрелил.
Пуля попала черноволосому точно в переносицу. Его швырнуло назад, он рухнул на пол, тяжело, с глухим коротким стуком, выгнул спину на мгновенье, обмяк, замер.
Заголосила женщина, что сидела рядом с ним, повалилась трудно на стол, застучала кулачками по тарелкам, рюмкам, фужерам, руки мокрые от крови…
— Уходим! — закричал Птица. — Уходим быстро! — попятился к кухне.
За ним потянулся и Большеголовый.
— Стоять! — фальцетом выкрикнул Хрупкий. Он уже поднялся, уже опять нацепил усы, стоял, безбровое лицо съежено — не прошел еще испуг, — цепко оглядывал зал. Поднял руку с пистолетом, выстрелил в потолок. Посыпалась сверху белая пыль.
Хрупкий выкрикнул высоким голоском:
— Деньги и драгоценности на стол!
Посетители зашевелились, стали суетливо шарить по карманам, раскрыли сумочки, расстегнули кошельки, развернули портмоне.
Птица и Большеголовый переглянулись, нехотя вернулись в зал.
— Давай, милый, действуй, — устало сказал Хрупкий, сел на ближайший стул, закинув ногу на ногу, достал пачку сигарет «Мальборо», закурил, щурил левый глаз от дыма.
— Пожалуйста, пожалуйста, — со всех сторон к Птице тянулись руки с деньгами, с перстнями, с кулонами, с цепочками, с бусами, с ожерельями, с подвесками, с брошами, с заколками, с серьгами. — Пожалуйста…
Ворота были железные, тяжелые, и поэтому отворялись долго и с натугой. Створки расползались нехотя, медленно и нудно скрипели. За воротами стоял хмурый милиционер, тер глаза, будто со сна, а за милиционером виднелся двор, и во дворе желтели милицейские машины-«газики», а за «газиками» блестели мытым стеклом большие двери, и на стекле было написано «Дежурная часть», а возле дверей стояли люди, и в штатском, и в милицейских мундирах, и все как один смотрели на ворота. Молчали. И не курили даже.
Наконец, ворота открылись, и во двор въехали два автобуса и пыльный грузовик с глухим фургоном — «воронок».
Из первого автобуса вышел Вагин. Он был в бронежилете, в руках держал десантный автомат. На лице пот, в зубах сигарета.
— Ну? — спросил один из стоящих у дверей офицеров — розовощекий, упитанный майор.
— Пятнадцать, — ответил Вагин, размял затекшие ноги, отшвырнул окурок в сторону. — Как минимум четверо в розыске. Остальных привязывать будем. Кто-нибудь да опознает… Вымогатели, воры. Семь человек со стволами. На завтра надо выдернуть всех терпил. И «поджопных» тоже.
— Терпил-то мы вызовем, — согласился майор. — Конечно. Мы обязаны, — после паузы заговорил громче, внятней. — А что касается тех, заявления которых, как ты выражаешься, якобы подложены под мягкое место наших сотрудников, то есть сокрыты, этих не получится, потому что такое безобразие, как сокрытие заявлений граждан, в нашем подразделении не имеет место быть… — повернулся к офицерам, заметил с усмешечкой: — Без году неделя в управлении, а туда же, в командиры… Резвый!
Вагин, не торопясь, подошел к майору, ткнул ему в живот стволом автомата, сказал ласково, улыбаясь:
— И «поджопных» тоже!
— Хорошо, — кивнул майор, розоватость со щек пропала, появилась бледноватость. — Конечно…
Задержанных вытаскивали из автобусов, из «воронка», и, подталкивая в спину прикладами автоматов, гнали бегом в «дежурку». Иногда кое-кто сопротивлялся и кричал примерно такие слова: «За что повязали, суки ментовские?! Требую прокурора, и адвоката, и иностранных журналистов!»
Таких били.
Не сильно, правда.
Для острастки.
Помогало…
Вагин стоял у деревянного барьера, за которым сидели дежурные офицеры, снимал бронежилет.
Неподалеку, тоже возле барьера, откатывали «пальцы» одному из задержанных, здоровому мордатому малому. Малый был весь в коже — брюки, куртка, галстук — модный. Склонив к плечу голову, он сонно наблюдал за милиционером, который возился с его руками.
Вагин снял, наконец, бронежилет, положил его на барьер рядом с автоматом, сказал офицеру, устало шевельнув пальцами:
— Принимай.
Малый повернулся в его сторону, усмехнулся, заметил негромко:
— Зря ты так, начальник, со мной. Несправедливо. Я сидел в симпатичном кабачке, выпивал, закусывал. Не грабил, не убивал. А ты меня в контору. Несправедливо. Я очень не люблю, когда несправедливо. Когда по справедливости, когда с «поли-чняком», тогда другое дело, а так… — малый осуждающе покачал головой, добавил грустно: — Пожалеешь, начальник, ох пожалеешь…
— Ты кого пугаешь, шантрапа подзаборная? — не поворачиваясь к малому, очень учтиво и любезно проговорил Вагин. — Меня, офицера милиции? У тебя что-то случилось с головкой?! Да? — засмеялся. — Я сейчас приведу ее в порядок! Я умею!
Сказал и тотчас стремительно сорвался с места, цепко ухватил малого одной рукой за ворот, другой за волосы; рыча, свирепея, потащил его к решетчатой двери камеры, за которой, прижавшись друг к другу, теснились задержанные, ударил малого лицом о решетку — задержанные испуганно отпрянули от двери, охнув разом, потом ударил еще, еще…
Малый заныл тонко. Заголосили, оклемавшись, задержанные. Два милиционера повисли у Вагина на руках. Малый упал, выл по-собачьи, лицо в крови, черное.
Вагин одним движением сбросил милиционеров, подошел к двери камеры, выговорил ясно и четко:
— За убитого вчера старшего лейтенанта милиции Ходова я дал себе слово положить десятерых таких, как вы, — Вагин рукавом вытер пот с лица, сказал буднично: — И положу…
Он недолго постоял во дворе. Щурился на солнце, рассеянно наблюдал, как водители милицейских автобусов прибирали салоны машин. Курил без желания. Бросил сигарету. Поднял голову к солнцу. Глаза закрыты. Лицо ясное, мягкое. Потянувшись с удовольствием, как после доброй ночи, закинул руки за голову, вздохнул глубоко, медленно выдохнул… Открыл глаза, улыбнулся вяло, пробормотал едва слышно:
— Ну и что?
Она сидела возле самого его кабинета. На стуле. Не на стоявшем рядом удобном диванчике, а именно на стуле. На стуле она, конечно, выглядела строже и официальней, чем могла бы выглядеть на диванчике — это точно. Но все равно на нее смотрели — все, кто проходил по коридору, — и сотрудники, и посетители, и уборщица со шваброй и громыхающим ведром и легким матерком, и электромонтер с чемоданчиком, в кепке и с лампочками в карманах. Кто в упор смотрел, кто искоса поглядывал, а электромонтер, чтобы еще раз ею подивиться, даже из-за угла высунулся, одна лампочка у него выскользнула из кармана, упала, но, что интересно, не разбилась, а покатилась по полу, по коридору, но электромонтер не пошел за ней, не поднял, застеснялся. Патрик Иванов несколько раз туда-сюда прошествовал, сначала без всего, с пустыми руками, потом, суровый, прошагал, пистолетом пощелкивая, вроде как проверяя его исправность, и наконец с десантным автоматом пробежал. Однако ноль внимания. Она даже не подняла на него глаз. Сидела в своем узком белом костюме, ногу на ногу закинув, тесная юбка почти до середины бедер задралась — ноги тонкие, туфли на шпильках длинных, курила «Мальборо», чуть сощурив длинный глаз, губы нежные, слегка вспухшие, как после сна, нет, как после сладкой истомы ночной, как после любви.
Как после любви.
Он замедлил шаг, когда ее увидел, но только на мгновенье, а потом, наоборот, зашагал быстрее, и даже быстрее, чем следовало бы.
Анжелика Александровна Машева. Большеглазая красавица.
Она подняла глаза ему навстречу, улыбнулась скромно, отшвырнула сигарету за спину, сигарета, беспорядочно кувыркаясь, сделала дугу и упала точно в отверстие белой керамической урны, а вслед за сигаретой она кинула за спину смятую пачку дорогостоящих американских сигарет, которую до этого непроизвольно комкала в руках, и смятая пачка тоже описала дугу и тоже провалилась в черную дыру чисто вымытой недавно проходившей уборщицей урны. Из-за угла выглянул электромонтер в кепке и с лампочками в кармане и оценивающе покачал головой — он так не умел, а хотел бы, очень даже хотел бы.
Вагин остановился перед женщиной, смотрел, тер щеку пальцами, морщился, как от света резкого, наконец ступил к кабинету, распахнул дверь, жестом указал в глубь кабинета. Она встала, поправила костюм, не глядя на Вагина, переступила порог. Вагин закрыл дверь за собой, приблизился к столу, сел, женщина продолжала стоять, Вагин пошевелил губами, потом бровями, тоже встал, провел ладонями по волосам, вышел из-за стола, взял стул от стены, придвинул его к женщине, и только тогда она села, Вагин обошел ее, осторожно опустился в кресло, выдохнул, постучал пальцами по гладким, полированным подлокотникам, потом вынул из кармана ключи, повернулся к сейфу, открыл его, долго рылся там, залез с головой, шуршал бумагами, гремел пустыми бутылками, наконец выбрался из сейфа, улыбался, довольный, положил на стол перед женщиной конфету в затертой обертке «Маска». Женщина кивнула, развернула конфету, положила ее в рот, жевала, Вагин какое-то время с удовольствием смотрел, как она жует, потом с грохотом, от которого женщина вздрогнула, закрыл сейф, бросил ключи в карман куртки. Женщина дожевала конфету: щелкнула замком сумочки, извлекла оттуда новую пачку «Мальборо», вскрыла ее острым коготком, взяла одну сигарету, протянула пачку и зажигалку Вагину. Вагин тоже вынул из пачки сигарету, прикурил, а пачку и зажигалку положил в карман куртки, зажигалка и ключи от сейфа весело звякнули, встретившись друг с другом. А женщина так и осталась с незажженной сигаретой, она недоуменно уставилась на Вагина, а Вагин тем временем сосредоточенно курил, пускал густой серый дым изо рта, из носа, на женщину не смотрел, смотрел рядом, смотрел мимо, на пустую стену напротив смотрел и поэтому не видел, как женщина высоко подняла брови, удивляясь, что он не дал ей зажигалку, чтобы она смогла прикурить. Тогда она встала, положила незажженную сигарету «Мальборо» в пепельницу, аккуратно вынула из пальцев Вагина — он не сопротивлялся — его почти докуренную сигарету и тоже положила ее в пепельницу Осталась стоять. Вагин нахмурился, но тоже встал.
Разглядывали друг друга.
Разделенные столом письменным.
Будто не виделись никогда.
Разделенные столом чиновничьим.
Стол широкий, длинный-длинный. Для начальничьего кабинета.
В глазах радуга. Семь цветов. И у Вагина. И у женщины. Яркие до боли.
Разделенные столом…
Она подалась чуть вперед. Губы разомкнула. Влажные. Теплые. И он склонился. Глотал слюну часто-часто, с трудом дыхание сдерживал.
Глаза у нее взбухли вдруг. Будто заплачет сейчас.
Еще немного, еще чуть-чуть, последний дюйм он трудный самый…
Коснулись губы друг друга. Легко. Пухово. Невесомо.
Как в сказке.
В жизни так не бывает.
Хоть застрелись из пистолета Макарова.
Но вот вздрогнули губы — ну него, и у нее, — разомкнулись, затрепетали обеспокоенно…
Этот стук в дверь их вспугнул, настойчивый и громкий. Взлетели губы и опустились тотчас по разные стороны стола. Разделенные столом милицейским…
— Ну?! — только и сумел выдохнуть Вагин.
Дверь заскользила бесшумно на ухоженных петлях. Открываясь.
На пороге — Оля, та самая, что из информационного центра, та самая, что с компьютером на пару Вагину фамилию злодея отыскала, та самая, что в коротком платьице и ничего из себя. Одна рука ее в дверной косяк уперлась, другая — в упругое бедро. Оля окинула взглядом посетительницу вагинского кабинета, усмехнулась едва заметно уголком розово-помадно-скользко-блестящих губ, мол, что это такое тут сидит. ЧТО ЭТО ТАКОЕ тут сидит? И пошла, покачиваясь на стройных ножках, к вагинскому столу, села на уголок, спиной к посетительнице, склонилась к лицу Вагина, открыла рот, чтобы сказать что-то, Вагин остановил ее жестом, повернулся к женщине, проговорил с трудом, предварительно откашлявшись тщательно:
— Вы простите, — опять откашлялся, — Анжелика…
— Лика, — с готовностью подсказала женщина. — Просто Лика. Для вас…
— Простите, — повторил Вагин. — Ну? — поднял лицо к симпатичной Оле.
Зашептала что-то Оля скороговоркой ему на ухо. Вагин кривил брови, вслушиваясь, кривил щеки, кривил лоб.
— Ну и что? — спросил, так ничего и не поняв.
Оля выпрямилась, потянулась сладко, выгнула спину, чтобы Вагин, а может, и не только Вагин, грудь ее разглядеть сумел — очень трудно было эту грудь разглядеть — очень она крупная и очень тяжелая, — произнесла томно:
— Ну хорошо. Потом.
Вышла гарцуя. Славная.
Дверь закрылась особенно нежно, и особенно мягко, и особенно бережно, и особенно бесшумно, будто и не было этой самой двери, а вместо нее болтался на смазанных петлях толстенький матрасик от полутораспальной кровати.
Так выражала симпатичная Оля свою радость по поводу появления в кабинете старшего оперуполномоченного уголовного розыска управления внутренних дел города, капитана милиции Вагина А. Н., большеглазой женщины по имени Лика.
Славная.
Так вот, как только закрылась дверь, Вагин встал нетерпеливо, не отрывая глаз от Лики, и даже не моргал. Так-то.
Лика поднялась, через мгновенье после него, через долю мгновенья, через тысячную долю мгновенья.
И опять коснулись друг друга губы.
Разделенные столом оперуполномоченным…
Вагин взял женщину за плечи, крепко. Цепко. Надежно.
Держал.
Целовал беспощадно.
Захлебывался.
Как тогда, в пятнадцать лет, под Одессой, в Коблеве, на пляже, ночью, тоненькую девочку по имени Марита.
…Или Карина.
…Или Лолита, ну да бог с ним, с именем…
Главное, все повторилось!
Волшебство.
Хоть застрелись из пистолета Макарова.
Лика закинула одно колено на стол, затем второе, затем третье… нет, насчет третьего это, пожалуй, перебор, приблизилась вплотную к Вагину, еще сильнее впилась в его жадный рот, непроизвольно навалилась ладным тельцем своим на него. Он не удержался, рухнул вместе с Ликой в кресло, и кресло не удержалось и рухнуло вместе с ними на пол…
Они лежали на полу рядом с креслом и хохотали безудержно, будто не было Жизни, будто не было Смерти.
Из кабинета вышли серьезные, строгие. Друг на друга не глядели. Вагин запер кабинет, и они зашагали по коридору, быстро и деловито. Чуть впереди плохо сосредоточенная Лика, чуть позади хмуровато-рассеянный Вагин.
У окна курила Оля.
У окна курила Оля.
У окна курила Оля.
Уже у самых входных дверей, у дежурки, Лика коснулась руки Вагина, сказала:
— Я сейчас…
Вернулась туда, где курила Оля. Подошла вплотную, проговорила тихо, с явным сочувствием:
— Он не любит небритых женщин.
— Что? — Оля непроизвольно вскинула руку к лицу, провела по щеке.
— Не любит, — вздохнула Лика, повернулась, пошла обратно, едва сдерживала смех.
Оля растерянно трогала подбородок, шею…
«Жигули» неслись по городу. Вылетали на встречную полосу, ныряли, под красный светофор, с бешеной скоростью проскакивали перекрестки.
Офицеры ГАИ отдавали им честь.
Они мчались по широкому загородному шоссе. Солнце слепило. Ветер пьянил. Лика слепила. Лика пьянила…
Оля стояла перед зеркалом в туалете. Почти голая. В узких белых трусиках. Скомканная одежда — на полу. Нервно разглядывала себя со всех сторон. Сейчас заплачет, бормотала обиженно:
— Ну где небритая? Ну где небритая?
А в конце пути была гостиница. Называлась она «Сосновый бор». И она действительно находилась в сосновом бору. Так что те, кто ее так называл, нисколько не покривили душой, когда придумывали название. Хотя, конечно, могли ведь по невежественности своей назвать гостиницу и «Еловый бор», или там «Пихтовый бор», или того хлеще «Березовая роща», ан нет, молодцы все-таки оказались, видно, посоветовались со специалистом-биологом, видно, на место его вывозили, консультировались, какой же это все-таки бор, а он им раз так, с ходу, и заявил, специалист как-никак, разбирается, мол, сосновый это бор, а не пихтовый, не кедровый, не еловый и даже, хлеще того, не березовая роща…
Вот так и назвали эту гостиницу «Сосновый бор».
Была она маленькая, уютная. Четыре этажа. Просторные широкие окна. Стекла чистые, прозрачные, как воздух, разноцветные занавески, в каждом окне разные, горшочки с домашними растениями на подоконниках.
Впрочем, все, как в любой советской гостинице.
Перед входом, во дворе сверкают на солнце идеальной полировкой не русские машины, и даже не грузинские, и даже не узбекские. Неплохие машины…
Вагин миновал низкие воротца. Ехал, лавируя меж не русских машин. Навстречу ему спешил высокий мужчина в черном костюме, с маленькой аккуратной бабочкой у горла. Подошел. Загорелый. Улыбчивый. Пожал руку Вагину, воспитанно коснулся руки Лики, поклонившись, жестом позвал гостей за собой. Двинулся обратно к гостинице. Лика и Вагин — за ним. Держатся за руки. Как дети. Как в детском саду на прогулке.
Швейцар им поклонился. Портье привстал, приветственно помахал рукой, лифтер поднял над головой сжатые замком ладошки — мир, дружба, пхай, пхай… Люди, что были в фойе, провожали их внимательными взглядами. Кто они такие, эти двое? Откуда? Зачем?
Человек с бабочкой остановился перед высокими стеклянными дверями. Улыбался загадочно. И вот торжественно взмахнул руками, как дирижер перед оркестром, и опустил их плавно, и бесшумно открылись двери, и тотчас заиграла музыка — скрипки — и Вагин с Ликой переступили порог, попали в снежное царство: белые столы, белый потолок, белый пол, белые занавески, белые столики, белые стулья, белые тарелки, рюмки и фужеры словно изо льда, и белые цветы, и белые скрипки в руках музыкантов, и белые музыканты, и белые официанты…
Только один метрдотель в черном. Так положено. Его должны видеть.
Все.
— Какой столик желаете? — спросил он Лику и Вагина. Склонился к Лике, добавил вполголоса: — Любой к вашим услугам. Они все заняты вами.
— Какой столик желаете? — тихо-тихо повторило эхо.
— Какой столик желаете? — подхватили официанты.
Лика зажмурилась, крепче сжала руку Вагину, улыбалась безмятежно, открыла, наконец, глаза — светящиеся, — показала на столик у окна.
Засуетились официанты, отодвинули стулья, смахнули с них невидимую пыль, усадили бережно единственных своих гостей, заспешили на кухню.
К скрипкам подключился рояль, незаметно, легко, и слышно было, что они очень любят друг друга и скрипки и рояль.
Шипело шампанское в льдисто-хрустальных бокалах, в сахарно-фарфоровых вазах сверкал изумрудом влажный виноград, розово светились бархатные персики, кровью отливала спелая вишня.
Лика поцеловала ладонь, коснулась ею щеки Вагина.
Смотрела на него. С Восторгом. И Болью. С Желаньем. И Страхом.
Неужели правда? Неужели сказка сбылась?
Этого не может быть.
Этого не может быть.
Хоть застрелись из пистолета Макарова.
Вагин не отпускает ее руку, целует, гладит ею свою щеку, губы, глаза.
Одна бутылка шампанского уже выпита и унесена, на столе появилась другая, и снова шипит вино в бокалах.
А закуска так и не тронута.
Рдеют помидоры, масляно блестит икра, манит осетрина, и прочая, и прочая, и прочая…
Нежатся в музыке скрипки с роялем.
Черный метрдотель склоняется к самому уху Вагина, прикладывает руку к груди, что-то быстро показывая на дверь. Вагин не слышит поначалу, что ему говорит этот назойливый человек, и купается в ЕЕ глазах. Потом морщится, начинает что-то понимать, кивает согласно.
За стеклянными дверями, в фойе, толпится народ. Женщины, мужчины. Много иностранцев. Еще больше наших. Не иностранцев. Судя по виду, это фарцовщики, проститутки, рэкетиры, мошенники, воры, грабители, просто спекулянты и другие странные личности жуликовато-чиновничьего вида.
Они галдят. Грязно ругаются. По-русски и по-английски, и на других разных языках, кто какой знает, стучат кулаками в стеклянные двери и вообще ведут себя неприлично.
Лика и Вагин поднялись — и снова рука в руке — пошли за метрдотелем в сторону второго выхода.
Двери, наконец, открыли. Толпа с гиканьем ворвалась в зал. Два официанта были сбиты с ног. Несколько столиков опрокинуты. Побиты тарелки, рюмки и фужеры. Ну а в целом все обошлось благополучно.
Уже ночь. Уже светят звезды. Много звезд. Завтра будет славный день. Они лежали на траве и смотрели на небо. Долго смотрели. Так долго, что официант, который стоял неподалеку от них возле черного входа в ресторан, устал держать поднос с шампанским и, плюнув на приличия, поставил поднос на землю и закурил.
Вагин повернулся к Лике, погладил ее лицо, поцеловал, прижал к себе, целовал сильнее, задыхался, ладонь его поползла по ноге женщины. Выше, выше… Она вскрикнула, не сдержавшись…
— Погодь, — проговорил кто-то неподалеку. — Давай поглядим. как он ее трахать будет, — говорил с трудом. Язык тяжелый.
Вагин, раздраженный, приподнялся на локте. За оградой стояли два мужика в расстегнутых белых рубахах и пялились на Вагина и Лику.
— Не-а, — сказал второй, — не будет.
— Будет, — настаивал на своем первый. — Я бы точно стал, — икнул.
Вагин вынул пистолет и стал угрожающе подниматься.
— А-а-а-а-а! — заголосили мужики и, спотыкаясь, убежали.
— Ха-ха-ха! — посмеялся официант и закурил еще одну сигарету.
Вагин сплюнул, сумрачный, недовольный, убрал пистолет, подал руку женщине.
Просторный гостиничный номер. Огромная кровать. Два толстых кресла. И повсюду свечи. Повсюду. На столике, на тумбочках, на шкафу, на телевизоре, на подоконнике. И все горят. Все. Вагин обнял женщину, расстегнул жакет на ней, коснулся ее груди, снял жакет, осторожно, медленно, прошуршал молнией юбки. Женщина осталась в одних белоснежных крохотных трусиках…
За стеной кто-то застонал, громко, со сладкой истомой — женщина, потом проревел что-то мужчина, заныла кровать.
Вагин скривился, злясь, оскалился, выдернул из кобуры пистолет, шагнул к двери. Лика повисла на нем. Смеялась.
…Она опять не сдержалась, закричала, когда он вошел в нее. За стеной тотчас замолкли.
Слушали.
Пусть.
Не надо стесняться радости.
— Я люблю тебя, — сказал он потом.
— Я люблю тебя, — сказала она потом.
I love you. Je t’aime. Ti amo. Ich liebe dich. Uo te quieao.
Блеклый день. Будто пыль в воздухе клубится. Невесомо. Никак не осядет.
Машина стояла у тротуара.
По тротуару шли люди. Много людей. Очень. Тротуар был для них тесен. Они задевали друг друга плечами, руками, а некоторые даже умудрялись задевать друг друга и ногами. Поэтому самые нетерпеливые, а может быть, самые умные, спрыгивали с тротуара и шли по мостовой. А по мостовой ехали автомобили. Много автомобилей, хотя, конечно, меньше, чем людей на тротуаре. И эти самые автомобили иногда задевали людей, идущих по мостовой, и тогда самые нетерпеливые из людей, а может быть, и самые умные, вскакивали на тротуар и, помогая себе плечами, руками и ногами, решительно втискивались в плотный поток себе подобных… Они задевали друг друга руками, плечами, и даже ногами, и поэтому самые нетерпеливые из них, а может быть, самые умные, спрыгивали с тротуара и шли по мостовой…
Машина стояла у тротуара.
За рулем был Вагин. Он сидел, откинувшись на спинку сиденья, а ноги его располагались на передней панели, по обе стороны от руля. Так ему было удобно. Он вообще всегда стремился к тому, чтобы ему было удобно, и этим, в частности, отличался от подавляющего большинства людей, которые стремятся, чтобы им было неудобно.
Вот такой был Вагин. Вот такой был. Вот такой. Вот.
…Салон был до отказа набит сладкоголосым Томом Джонсом. Вагин слушал магнитофон. Громко. Семидесятые годы. «Естедей».
Смотрел в одну точку перед машиной. Рассеяно. Стеклянно. Сигарета приклеилась к губе, висела невостребованно, слабо дымилась…
А потом Вагин резко поднял руки, сдавил ладонями голову, съежил лицо, зажмурился, простонал коротко, стремительно выхватил из магнитофона кассету, с силой вышвырнул ее в окно. Чье-то равнодушное колесо наехало на кассету. Она хрустнула пластмассово. А Вагин оскалился, довольный, сказал:
— Ха!
В стекло кабины постучали легонько, ногтем. Вагин повернулся к тротуару, в окно заглядывал мужчина лет тридцати, весь джинсовый, в жокейской кепочке с длинным козырьком. Вагин открыл дверь, мужчина сел, сказал без особой радости:
— Привет.
— Здравствуй, Кобельков, — ответил Вагин, завел двигатель, тронулся с места.
— Отчего так официально? — спросил Кобельков, посмотрел на себя в зеркальце заднего вида, натянул кепку поглубже.
— Нравится мне твоя фамилия, Леша, — Вагин ловко влился в автомобильный поток. — Я бы с удовольствием и даже с гордостью носил бы такую фамилию. Она отражает нашу с тобой сущность.
— Это точно, — согласился Кобельков. — Ты кобелек знатный.
— Да и ты не промах, — весело отозвался Вагин. — Есть две вещи, ради, которых стоит жить. Это работа и женщины.
— И справедливость, — добавил Кобельков.
— Несколько не из того смыслового ряда, — усмехнулся Вагин. — Но в общем верно.
— Справедливость — это месть, — веско заметил Кобельков. — Так что из того ряда. Работа, женщины, месть.
Вагин неожиданно затормозил. Машина замерла посреди мостовой. Автомобили загудели сзади, из окон высовывались водители, матерились.
Вагин повернулся к Кобелькову, посмотрел на него внимательно, поискал что-то в лице его, неизвестно, нашел или нет, да неизвестно, что искал-то, проговорил тихо:
— Справедливость — это месть. Верно.
Взялся за руль, включил передачу, поехал. Разогнался. Летел на сумасшедшей скорости. Смотрел вперед, хмурился туго, на скулах вдруг бугорки вспухли, побелели, руки крепко руль держали, очень крепко, пальцы словно высохли.
С трудом отклеил ладони от руля, стер тонкий слой пота со лба, выговорил жестко:
— Но месть — не всегда справедливость! — и крикнул вдруг, не сдержавшись: — Месть — не всегда справедливость! Ты понял?! Понял?!
— Конечно, конечно, — опасливо косясь на Вагина, закивал Кобельков. — Конечно…
Вагин сбросил скорость, вздохнул, выдохнул с шумом, морщась, потер рукой грудь, успокаиваясь, спросил коротко:
— Ну?
— Есть человек, который может вывести на Птицу, — начал Кобельков.
— Кто?
— Лева Дротик.
— Слышал про него. Наркота?
— Наркота, — кивнул Кобельков. — Но не только. Он помогает Птице сбывать ружье и камни.
— Хорошо, — одобрил Вагин. — Что на него?
Кобельков вздохнул горестно:
— Лучших дружков тебе отдаю…
— Ну, ну! — торопил его Вагин.
— Завтра Дротик принимает товар. Гастрольная команда из Харькова сдает. Героин.
— Когда? Где?
— В «Северном», часов в восемь.
— Почему в кабаке? Почему не на хате?
— Харьковские боятся, что Дротик их обует, стволы, каратисты, то, се… В кабаке безопасней. Народ. Менты. Да и оглядеться можно.
— Хорошо, — сказал Вагин.
Кобельков снова вздохнул.
— Ну что еще? — Вагин полуобернулся к Кобелькову.
— Ты его будешь брать?
— Непременно.
— Плакала моя доля… — запечалился Кобельков, пропел грустно: —Ах мой бедный порошок, сладкие часочки…
— Много? — спросил Вагин.
— Тебе года на три роскошной жизни хватило бы.
— Мне хватает и зарплаты, — сказал Вагин.
— Дуракам всегда зарплаты хватает, — опрометчиво заметил Кобельков.
И Вагин опять вдавил педаль тормоза. Застыл автомобиль в самой середине разгоряченного железного строя.
Вагин ухватил Кобелькова за ворот куртки, притянул его к себе, выдавил, ярясь:
— У меня материала хватит, чтобы вкатить тебе потолок. Но я этого делать не буду. Слишком жирно. Я пристрелю тебя. А труп сброшу в речку. С камушком на шее. И никто. Никогда. Тебя. Искать. Не станет!
— Виноват, капитан, виноват, — испуганно зачастил Кобельков.
— Вон! — тихо проговорил Вагин.
Кобельков поспешно выбрался из машины.
Гудели клаксоны. Неистовствовали водители.
Подбежал «гаишник». Сухой. Строгий. Постучал жезлом по крыше, потребовал высокомерно:
— Документы!
— Да пошел ты на… — рявкнул Вагин и сорвал машину с места. С воем. И с визгом. Восхищаясь сам собой.
Вагин посмотрел на часы. Сощурился, что-то прикидывая. Потом сунул руки в карманы брюк. Огляделся. Тихая улица. Одинокие прохожие. И уж совсем редки автомобили. Проехали два-три, пока Вагин тут топчется. Зато много автомобилей у тротуаров. Стоят. Разные. Немало не русских, и не узбекских, и не грузинских… Обыкновенные иностранные автомобили. Ничего особенного. Хотя и русских тоже хватает — «чайки», «жигули», «ВОЛГИ», «москвичи»
«Запорожцев» нет.
Владельцы автомобилей в ресторане. Ресторан называется «Северный». Он занимает два этажа старого толстостенного четырехэтажного дома. Широкая многоступенчатая лестница перед входом. Как перед дворцом каким. Влажно блестит — мытая. Тяжелые стеклянные двери. Прозрачные — ни пылинки. За ними просматривается фойе. Красные стены. Белые зеркала. Люди. И мужчины. И женщины. И все в вечернем, изящном, фирменном, складно сшитом, дорогом, в меру вольном, в меру строгом.
Модный ресторан. Один такой во всем городе.
И Вагин тоже модный.
И, конечно же, один такой во всем городе.
И он знает это.
Сегодня он не в курточке, не в джинсиках, не в кроссовочках — нет. В темном, отлично посаженном костюме, в светлой сорочке, в дорогом галстуке. Голливудская звезда на вручении «Оскара». Да и только.
Опять посмотрел на часы. Покрутил головой недовольно. И тут услышал приглушенное шипенье рации из микрофончика у воротника сорочки, а затем голосок, мужской:
— Ты ждешь меня, дорогой?
— Ты где? — тихо негодуя, выцедил Вагин.
— Я спешу к тебе милый! Лечу, лечу…
— Не засоряй эфир, мать твою… — прогаркал Вагин.
— Не засоряй эфир, мать твою, — эхом повторил голос. — Не засоряй…
Вагин ухмыльнулся, не удержавшись.
Через несколько минут возле Вагина тормознул «жигуленок». Вышел Патрик Иванов. В белом костюме. Ослепительный. С алым цветком в руках. Гвоздика. Улыбался снежно. Протянул цветок.
— Это тебе, любимый! Это тебе!
— Ты — душка, — хмыкнул Вагин.
— Я знаю, — вздохнув, сказал Патрик Иванов. Оторвал у гвоздики длинный стебелек, пристроил цветок в петличке у Вагина.
— Ты — душка, — томно заметил Патрик Иванов.
— Я знаю, — не вздыхая, согласился Вагин.
Они направились к ресторану.
— Кстати, — Патрик Иванов остановился. Полез в карман, достал темные очки, несколько мгновений поколебавшись, надел их, проговорил, оправдываясь: — Чтоб не узнали.
Вагин тоже полез в карман и тоже достал очки. Только не темные. С обычными простыми стеклами. Не колеблясь, надел их, проговорил, не оправдываясь: — Чтоб не узнали.
Они посмотрели друг на друга и расхохотались.
Патрик Иванов с легкой опаской, оглядываясь. Вагин без стеснения и без оглядки.
Метрдотель был вислощекий и неповоротливый. Но обаятельный.
— У вас все заказано? — спросил оперативников как родных, встречая их у входа в зал.
— У нас заказано, — ответил Вагин. — На фамилию Патрисов-Лумумбов.
— Есть такая фамилия, — радостно воскликнул метрдотель, распахнул руки. — Прошу.
Патрик Иванов обнажил крепкие влажные зубы:
— Мальядец, мальчижка, карашо, ха-ха-ха! — потрепал метрдотеля по плечу. Метрдотель расплылся в ответной улыбке. Потом все вошли в зал. Зал был очень большой. Круглый. Красно-белый. Полутемный. С перегородками между столиками. С ярко высвеченной эстрадой. С просторной танцевальной площадкой перед ней. На эстраде играл оркестр и пела длинноволосая девица в сверкающем купальнике. На площадке танцевали пары, и мужчины, не отрываясь, смотрели на девицу в сверкающем купальнике.
Метрдотель чуть отстал, коснулся локтя Вагина, кивнул на Патрика Иванова, спросил:
— Из какой страны, если не секрет?
— Какой уж тут секрет, — с готовностью откликнулся Вагин.
— Из королевства на севере Африки. Идиотино-Дурко называется. Не слыхали, наверное?
— Слыхал, а как же, — обиделся метрдотель. — Идиотино-Дурко, только вчера читал…
Сели. Столик располагался в глубине зала. Как Вагин и просил. На двоих.
Подошел официант. Высокий. Гнутый. С тонкими редкими усиками.
— Водка, — сказал Патрик Иванов. — Зельедка. Икрушка. Черньяшка. И множко мьяска.
— Он просит такую закуску, — сказал Вагин. — Селедку, икру, черного хлеба. И много горячего мяса. И водку, конечно.
— Вы могли бы не переводить, — вежливо сказал официант, — я понял все, что он сказал.
— Вы разговариваете по-африкански? — изумился Вагин.
Девица в купальнике бросила петь и принялась танцевать. Телодвижения ее были недвусмысленно призывны. Мужчины нервничали, топтали ноги своих партнерш.
Вагин и Патрик Иванов разлили водку по стопкам, но пить не стали. Обошлись минеральной. Ели с аппетитом.
Патрик Иванов вытер губы салфеткой. Закурил.
— Теперь ответь, — сказал он, — почему мы пошли вдвоем?
— Увидишь, — ответил Вагин.
— Надо было брать бригаду…
— Не надо, — сказал Вагин.
— Я не понимаю, — злился Патрик Иванов.
— Поймешь, — сказал Вагин. Улыбнулся кому-то. Тоже вытер губы салфеткой и тоже закурил. Опять улыбнулся.
Патрик Иванов как бы невзначай обернулся. Заметил одну симпатичную даму, а затем и вторую за соседними столиками. Одна шатенка, другая брюнетка. Обе с мужчинами. Они улыбались Вагину. Не подозревая одна о другой.
Заиграл оркестр.
— Я сейчас, — сказал Вагин. Встал.
Обе женщины поднялись ему навстречу. Вагин выбрал шатенку. Брюнетка села, смущенная. Патрик Иванов вскочил со стула, подошел к брюнетке, пригласил ее.
— Я не танцую, ответила она грубо. Мужчины за ее столом рассмеялись. Патрик Иванов прикусил губу. На деревянных ногах вернулся к своему столику.
Вагин крепко прижимал к себе шатенку, что-то говорил ей на ухо. Она смеялась весело, откинув голову назад…
Вагин опустился на стул, махнул рукой, сказал:
— Наливай! Дротика пока нет.
Патрик Иванов не шелохнулся. Тогда Вагин сам разлил минералку.
— Моя мать была проститутка среднего пошиба, — сказал Патрик Иванов. — А отец негр. Занюханный, уродливый. Лентяй. Пьяница. И дебошир. Он бил мою мать, когда она была беременная. Хотел прикончить меня еще там, в утробе. Не удалось. Я все-таки родился. И вырос. И стал таким же уродом, как и папашка, — он неожиданно подался вперед. Качнулась посуда на столе. — Я ведь не урод, Вагин, правда, ну скажи, правда?!
Вагин сделал глоток минеральной, попросил:
— Сними очки.
Патрик Иванов покорно выполнил просьбу.
Вагин внимательно оглядел его, заключил со всей серьезностью:
— Ты очень симпатичный, — мягко накрыл своей ладонью его туго сжатый кулак.
— Да пошел ты!.. — Патрик Иванов с силой отбросил вагинскую руку. На них обернулись с соседних столиков.
— Тихо, — сказал Вагин, прищурившись и глядя за спину Патрику Иванову. — Они пришли.
Лева Дротик был маленький, пухленький и носатый. Наверное, именно за этот нос, тонкий и длинный, вроде как у деревянного итальянского мальчика, веселые представители уголовно-преступного мира и нарекли пузатого Леву туземной кличкой Дротик. Костюм на Дротике был дорогой, но сидел плохо, галстук фирменный, но висел неважно, туфли из тончайшей кожи, но болтались на ступнях, как лапти на инвалидных костылях. Не умел Лева Дротик достойно носить приличный прикид. Но это, по всей видимости, нисколько не мешало ему самозабвенно любить себя.
И он любил.
Шествовал меж столиков, выпрямившись, с солидной неторопливостью, гордо вскинув нос. Важный.
За ним вразвалку, ступая грузно и со значением, топали два здоровых парня. Плечи толстые, шеи короткие. Один начисто лысый, с простецким деревенским лицом, другой черноволосый, короткостриженный, широкоскулый, узкоглазый, то ли кореец, то ли монгол, то ли бурят, то ли… Телохранители…
Подошли к шестиместному столику возле эстрады. За столиком трое. Загорелые, в светлых костюмах, пальцы в перстнях. Один из троих привстал, поприветствовал Дротика и его ребят. Руки не подал.
— Видать, Дротик рассиживаться не будет, — заметил Вагин. — От водки отказался. От сигарет тоже. Возьмет товар и отвалит.
Женщина за соседним столиком, та, с которой Вагин, недавно танцевал, глядела на него во все глаза, улыбалась. Вагин ответил ей каменным взором. Женщина перестала улыбаться, обиделась, опустила глаза, заморгала часто. Как бы не расплакалась, глупая…
— Нет, — возразил сам себе Вагин. — Уговорили-таки его на водку. Взял стопарь, стервец.
Патрик Иванов не спеша обернулся, подтвердил:
— Уговорили, — перевел взгляд на бутылку, стоящую перед ним, посмотрел на нее с сожалением, заметил резонно: — На водку кого хошь уговорить можно…
— Я сейчас, — вдруг сказал Вагин. Поднялся.
— Э!.. — Патрик Иванов попытался остановить его. Но Вагин уже шагал к двери.
Вышел в фойе, отыскал глазами автомат. Направился к нему. Снял трубку. Набрал номер.
— Это я, — сказал он. — Нет, — сказал он. — Ничего не случилось, — сказал он. — Просто так, — сказал он. — Я люблю тебя, — сказал он. Повесил трубку. Двинулся обратно в зал. Сел за стол. Налил минералки. Патрику Иванову и себе. Оперативники чокнулись фужерами. Выпили.
— Попробуем обойтись без стрельбы, — начал Вагин. — Отсечешь бугаев. Коси под пьяного. Задерись. То да се. Как увидишь, что я Дротика поволок, отваливай как можно дальше. Через кухню, через сортир… Понял? Мне нужен только Дротик. Только он один.
— Если только он сам понесет наркоту, — наконец разобрался в ситуации Патрик Иванов.
— Понесет сам, — жестко проговорил Вагин. Потер щеку, морщась. — Должен.
Наконец Дротик поднялся. А за ним и здоровяки. Сосредоточенные, хмурые. Шарят цепкими глазками по крепким харьковским ребятам, тщетно вычислить пытаются, не замыслили ли чего подлого эти чернобровые парубки против маленького Дротика. А харьковские знай себе улыбаются, пьют водочку и хвастливо перстнями сверкают.
Дротик царственно кивнул им, прощаясь, пошел по залу. Здоровяки за ним двинулись.
Вагин даже привстал, разглядывая Дротика и здоровяков.
Опустился на стул с размаху, вскрикнул сдавленно, радуясь:
— Сам несет! — добавил, подумав: — Сука!
Патрик Иванов никак не мог справиться со стеклянной входной дверью. Не поддавалась она ему, ослабленному алкоголем, куревом и несладкой негритянской жизнью.
— Отойди, — брезгливо сказал один из здоровяков.
— Вас ист дас? — по-иностранному поинтересовался Патрик Иванов.
Лысый оттолкнул его. Патрик Иванов обиделся и ударил Лысого по носу. Коротко и сильно. Лысый отшатнулся. Едва удержался на ногах.
— Вас ист дас? — продолжал кричать по-иностранному Патрик Иванов. Отбил один удар Корейца. Но только один — второй достал его. Патрик Иванов отлетел метра на два, упал на холодный кафельный пол. Но тут же вскочил, кричал истерично:
— Я есть гражданин иностранной держафа!
Лысый и Кореец медленно и неотвратимо надвигались на него. Патрик Иванов отступал. Лысый и Кореец надвигались. Патрик Иванов отступал…
Лева Дротик замер у двери, бледный, напуганный, покинутый, жалкий.
— Эй, — выдохнул он слабо, махнул рукой в сторону здоровяков. Бесполезно.
Огляделся. Людей в фойе много. И все с любопытством за дракой наблюдают. И никому нет никакого дела до напуганного Дротика. Значит, не харьковские это балуют, значит, случайность, значит, просто пьяный негр безобразничает. Ох уж эти нахальные цветные!.. Дротик кивнул сам себе, открыл с легкостью, неподвластной Патрику Иванову, стеклянные двери и вышел на площадку перед входом, отыскал глазами свою машину, хотел ступить в ее сторону…
Вагин сунул ему пистолет в глаз, ухватил руку с кейсом, сказал тихо:
— Не рыпайся, Лева! Милиция! Пошли…
Больно ткнул его стволом — Дротик сморщился плаксиво, засеменил покорно рядом с Вагиным.
…Патрик Иванов пяткой попал Корейцу в лоб — Кореец упал удивленный, — развернулся к Лысому. Поздно. Чугунный кулак Лысого опустился Патрику Иванову на самое темечко…
Вагин не успел дотащить Дротика до своей машины. Сзади грохнул выстрел. Вагин повалил Дротика и сам упал рядом с ним. Обернулся. Выстрелил на звук. Быстро-быстро пополз с тротуара за машины. Тянул за собой визжащего Дротика. Выпрямился, используя как прикрытие новенький сверкающий «мерседес».
Кореец несся по лестнице. Вниз. Тоже пытался добраться до машин. В руке пистолет.
На тротуаре и на лестнице люди. Стоят. Недвижные. Заледенелые. Онемели.
— Всем лечь! — заорал Вагин. — Всем лечь!
Выстрелил три раза подряд в Корейца. Попал. Корейца отбросило вбок. Он упал тяжело. Затих. Дротик непроизвольно, от испуга, попытался вырваться, Вагин двинул его рукояткой пистолета по уху. Дротик все понял. Успокоился. Вагин снова выглянул. Где же Лысый? Тот не заставил себя ждать. Со стороны двери грохотнул выстрел. Второй. Третий. Вдребезги разлетелись стекла «мерседеса».
Лысый лежал на самом верху широкой лестницы, на площадке перед входной дверью, то есть он был метра на два выше уровня мостовой, на которой стоял Вагин. Пулей Лысого не достать. Но Вагин все же выстрелил для острастки пару раз. Мимо, конечно. Лысый ответил. С тонким металлическим звоном пуля прошила дверцу «мерседеса».
Вагин пригнулся и, прячась за машинами, неуклюже двинулся в сторону своих «Жигулей». Дротик то и дело падал. Вагин, матерясь, тащил его за собой. Вот и машина. Вагин отпер дверцу, впихнул Дротика в кабину. Сел сам. Дротик, обезумевший, попытался открыть другую дверцу. Вагин снова трахнул его рукояткой пистолета по голове. Дротик обмяк.
— Сто третий, — переводя дыхание, проговорил Вагин в микрофон рации. — Сто третий! Как слышите меня?! Патрик, как слышишь меня?!
Эфир умер.
Вагин завел двигатель, вырулил на тротуар, газанул мощно, погнал машину прямо в сторону лестницы. Глухо и тяжело ударились колеса о первую ступеньку. Машина полетела наверх. Дребезжала отчаянно. Лысый вскочил на ноги, выстрелил. Пуля с треском пробила лобовое стекло. Вагин придавил педаль к полу. Машина, как живая, прыгнула вперед, вбила Лысого в стеклянные двери. Стекло раскололось, посыпались осколки на каменный пол. Вагин выскочил из машины. Подбежал к Лысому. Огромный кусок стекла рассек Лысому горло. Кровь льет изо рта, из носа. Обильно. Глаза остановились, мутные. Вперились в Вагина, спрашивают: «Когда же твоя очередь, гад?!»
Вагин вытащил из машины Дротика, ткнул его головой в мертвое лицо Лысого, просипел осевшим голосом:
— Видишь, сука, как я умею! Видишь?!
Дротик, зажмурившись, закивал головой.
— Мне нужен Птица! Понял?! Птица! — Вагин вмял ему ствол пистолета в нос.
— Он таится даже от меня. Я не знаю, где он дохнет, — вздрагивая, заговорил Дротик. — Но в воскресенье его ребята… Убери ствол, больно… Его ребята на Инвалидном рынке примут для него морфий… Ростовский… Я подскажу, как выйти на того, кто привезет, на этого ростовского парня. Птица только морфий уважает… Отпусти… Больно… Тошнит…
Вагин старательно расставлял деревянные фигурки на шахматной доске. Весь этому важному делу отдался. Ровнял фигурки чуть ли не до миллиметра, ставя их точно посередине клеточки, оглаживал их, словно живых, кивал одобрительно, что-то бормотал ласковое под нос, когда ладьи, ферзи и лошадки становились точно там, где он и хотел. Но ставил он их не в два ряда с каждой стороны, со стороны белых и со стороны черных — как это вообще-то водится, а в один ряд и белых, и черных — без пешек.
Расставил-таки.
Вздохнул свободно.
Выпрямился.
Выгнулся. Потянулся.
И без подготовки упруго щелкнул пальцем по ладье. Фигурка, кувыркаясь, полетела вперед и с ходу снесла с доски три черные фигурки. Шахматы рассыпались по разным концам стола.
Вагин радостно захлопал в ладоши.
Дверь распахнулась шумно, и в кабинет быстро вошел высокий мужчина в форме подполковника милиции. Лицо длинное, бледное, волосы черные, короткие, приглажены один к одному, блестят, словно только что водой смоченные.
Сел на угол стола, заговорил напористо:
— Прокуратура разбирает вчерашнюю стрельбу. Недовольны твоим рапортом. Хреновый рапорт. Перепиши. Подробно, до минуты. С самого начала. И главное, почему задерживали вооруженных преступников вдвоем. Понял?
Вагин щелкнул по коню, конь процокал по доске и сшиб еще двоих черных мерзавцев. Вагин опять зааплодировал себе. Веселился.
Подполковник устало вздохнул, потер рукой лицо, будто умылся, произнес тихо:
— Я очень благодарен тебе, Вагин, за сына. За то, что ты вытащил его тогда из дерьма, — он подался вперед. — Но я уже отдал тебе долг! Отдал! Я не раз тебя выручал, но больше не могу. Не могу! Есть предел! — он соскочил со стола, прошелся по комнате, руки в карманах брюк. — Я понимаю, почему вы пошли с Ивановым, вдвоем. Ты хотел пострелять, вволю, понимаю, хотел быстро расколоть Дротика, потому что при наличии группы захвата он бы находился под их защитой, как это ни парадоксально, и ты не смог бы тыкать ему пистолетом в нос и орать на ухо всякие ужасы. Понимаю. Но это не метод! Это черт знает что, но только не метод… Именно за такую работу тебя выгнали из Москвы. Понизили в должности. Именно за такую! А тебе хоть бы хрен! Ты всего лишь два месяца у нас, а уже… — подполковник не договорил, махнул безнадежно рукой.
Вагин ферзем сбил еще двух черных гадов. Вскинул победно кулак вверх.
Подполковник неожиданно склонился над столом и, задыхаясь от негодования, сбросил со стола шахматную доску. С деревянным треском доска грохнулась о стену. Подполковник поднес палец к носу Вагина, выдохнул тяжело:
— Последний раз!
Вышел, с силой захлопнув дверь за собой.
Вагин откинулся на спинку стула, закрыл глаза, улыбнулся безмятежно.
В комнате полумрак. За окном светятся уличные фонари. Свет от них падает на стол. На столе бутылки. В них дорогие напитки. Вкусные. Виски. Джин. Несоветское шампанское. Несколько пачек иностранных сигарет. Почти нетронутая закуска. Икра. Икра. Икра. Икра…
Конфеты.
Тихо мурлычет Хулио Иглесиас. Интимно.
Свет от уличного фонаря освещает и кровать, стоящую рядом со столом. На кровати двое. Целуются самозабвенно, возбужденно стонут, вскрикивают сладко, обнаженные, жаркие, истовые… Это Патрик Иванов и Оля. Та самая Оля, что работает в информационном центре, и которая Вагину злодея с помощью компьютера отыскала.
— Еще! Еще… — в забытьи громко шепчет Оля. — Еще! Не останавливайся! Не останавливайся, Вагин! Не останавливайся, Санечка…
Патрик Иванов замер тотчас. Приподнялся над Олей, спросил четко и ясно:
— Кто? — ударил Олю по щеке.
Женщина вскрикнула испуганно. Патрик Иванов поднялся. Потянул за собой Олю. Опять ударил ее. Сильнее. Оля заплакала. Патрик Иванов нашел ее одежду, швырнул женщине.
Пока она одевалась, курил. Голый. Потный.
Открыл дверь, вытолкнул Олю из квартиры. В ночь.
Вернулся. Зажег свет. Достал из тумбочки кобуру с пистолетом. Вынул пистолет, взвел курок, подошел к кровати, направил ствол на подушку.
— Вагин? — спросил вкрадчиво и, якобы услышав утвердительный ответ, приказал зло: — Поднимайся, гнида!
Повел стволом, вроде как за поднявшимся Вагиным, скомандовал:
— Лицом к стене!
Приставил ствол к воображаемому затылку Вагина. Задрожал палец на курке. Патрик Иванов закрыл глаза, заморщинилось его лицо… Он откинул пистолет в сторону. Заныл тонко и протяжно…
Белое небо. Белые облака. Белое солнце. Белая река. Белый песок. Жарко. ЖАРКО.
Лика и Вагин плывут рядом. Быстро. Умело. Они уже на середине реки. Останавливаются. Лика обнимает Вагина за шею, целует его. Вагин отвечает горячо. Прижимает крепко женщину к себе. Какие-то секунды они не могут удержаться на плаву и уходят под воду, с головой. Выныривают, отфыркиваются, хохочут.
…На каленом сухом песке пляжа Вагин показывает Лике приемы рукопашного боя. Лика держится стойко, будто не в новинку ей все это. А потом и вовсе пытается лихой подсечкой сбить Вагина с пог. Вагин таращится на нее удивленно. Лика смеется. Опять ныряет в воду. Вагин за ней…
Уже сумерки. Город затих. Успокоился. Отдыхает в вечерней прохладе.
Остывает от зноя.
Остывают воспаленные дома. Остывают обожженные мостовые. Остывают расплавленные тротуары. Остывает вагине — кая машина. Остывает Лика. Остывает Вагин. Остывают гоп-стопники. Остывают марвихеры. Остывают щипачи. Остывают «отмороженные». Остывают паханы. Остывают проститутки. Остывают честные люди. Остывает земля. Остывает небо.
Вагин остановил автомобиль у тротуара. Бесшумно. Плавно. Вышел, захватив сумки. Свободной рукой обнял Лику. Поцеловал ее в губы, нежно, наслаждаясь. Не стеснялся прохожих, соседей на балконах.
Они вошли в подъезд. Поднялись по лестнице. Вагин отпер дверь своей квартиры. Пропустил женщину вперед.
— Кофе? — спросил, кинув сумки в прихожей. — Чай?
— Лед, — сказала Лика. — Лед. И еще раз лед…
— Хорошо, — согласился Вагин и пошел на кухню.
Лика вошла в комнату. Зажгла настольную лампу, стоящую на широком подоконнике. Огляделась. Подобрала с пола газеты, журналы, опустила их на журнальный столик, потом подняла пепельницу, полную окурков и ее поставила на столик, потом подхватила — тоже с пола — скомканные джинсы, аккуратно положила на широкую двухспальную кровать. Села на кровать, тут же рядом с джинсами, потом осторожно легла на спину — спина горит, болит, потом все-таки опять села, а потом и вовсе встала, подошла к столику, взяла пачку сигарет из сумки, закурила, присела на краешек кресла, чтобы обожженной спиной не касаться сиденья, а потом снова поднялась, подошла к письменному столу, взяла кассету из кассетника, вставила в магнитофон, нажала клавишу. Пел Том Джонс. «Yesterday». Лика слушала какое-то время, тихо улыбаясь. Затем прокрутила кассету дальше. Опять «Yesterday». Дальше. «Yesterday». Лика перевернула кассету. «Yesterday». Лика нахмурилась, потерла висок, будто боль унимая. Взяла из кассетницы еще одну кассету. «Yesterday».
Прокрутила дальше. «Yesterday». Следующая кассета. «Yesterday». Другая сторона. «Yesterday». Четвертая кассета. «Yesterday». Вторая сторона. «Yesterday»…
Лика сдалась.
Стояла неподвижно, глаза рукой прикрыв. Слушала Тома Джонса. Крошилась сигарета меж пальцев. Но продолжала дымиться.
Она не видела, как в дверях появился Вагин. Он тоже слушал. И глаза его тоже были закрыты, сжаты, сдавлены. Шевелились губы, ломко, дерганно.
Вагин стремительно подошел к магнитофону, вырвал кассету, со всего размаха швырнул ее в окно, оперся руками на подоконник, дышал прерывисто. Лика подошла сзади, обняла его, положила голову ему на спину.
— Мне было тогда двадцать два года, — сказал Вагин. — Я заканчивал филфак в Москве, в университете. После четвертого курса приехал на каникулы домой. Сюда. В наш город. Купался. Загорал. Гулял с барышнями. Как-то возвращался домой. Днем. Ехал в лифте вдвоем с соседом. Вышли мы на нашем этаже. Видим, из моей двери замок выдран и на косяке белеет скол. Большой. Длинный. Сосед говорит, я в милицию позвоню. Я говорю, давай, а сам в квартиру. Сосед держит меня, умоляет не входить. «Убьют», — шепчет испуганно, а я рвусь, чего мне бояться, говорю: «Я каратист». Молодой дурак, — Вагин слабо усмехнулся. — Вхожу. В гостиной стоит малый и запихивает в сумку хрусталь, магнитофон, еще чего-то. Увидел меня. Не испугался. Сумку не выпустил. «Хозяин?» — спрашивает. — «Хозяин», — отвечаю. — «Нескладно вышло», — говорит, сокрушенно головой качает. — «Да уж куда складней», — соглашаюсь я, — «уж куда складней». И тут мы рассмеялись. Понимаешь? Расхохотались. Ровесники почти ведь. Ну, года на четыре он постарше. Понравился он мне. Понимаешь? Сильный, обаятельный, красивый. Глаза добрые. Ну, понравился и все тут…
Вор был высокий, стройный. На ногах джинсы тертые, на плечах светлая курточка. Студент да и только. Опустил сумку на пол, усмехнулся, сказал:
— Понимаешь, старик, я только-только откинулся. Без бабок, без жилья. На работу не берут. Голодный. Сирый. Вчера кореш из петли вынул. Еще чуть-чуть, и кранты мне…
— Вешался? — растерянно спросил молодой Вагин. Вор кивнул, провел рукой по глазам, словно слезу смахивая.
— Я могу вам чем-то помочь? — спросил Вагин, засуетился вдруг: — Может, вы кушать хотите? Я сейчас.
— Нет, старик, — остановил его вор. — Я пойду, пожалуй. Не успел. В дверях стояли два милиционера с пистолетами.
— Это мой друг, — сказал Вагин. — Но пришел в гости. Позвонил. Меня нет дома. Толкнул дверь. Она сломалась.
Вор с плохо скрытым удивлением посмотрел на Вагина. Повернулся к милиционерам, кивнул утвердительно, мол так оно и было.
— Он тебе друг, — сказали милиционеры с пистолетами, — но истина дороже.
И повели Вагина и вора в отделение милиции…
— Разобрались, — продолжал Вагин. — Оперативники качали головами. Твердили, что я дурак. Но парня — его звали Леша — задерживать не стали.
Не было оснований… Я попросил отца устроить Алексея на работу к себе в институт, слесарем. Отец был тогда замдиректора НИИ. Он помог. Но через пару дней Лешка перестал ходить на работу.
…Забегаловка на берегу моря. Открытая. Столики под зонтиками. Ветер. Прохладно. За одним из столов расположились несколько человек. Среди них Вагин и Леша. Пьют. Едят. На столе всего полно. Водка. Коньяк. Пиво. Шашлыки. Леша обнимает Вагина, горячо говорит ему в самое ухо:
— Ну не могу, брат, эту работу делать. Скучно. Не мое. А вокруг не люди — бараны. Смурные. Злючие. Я, брат, веселье люблю. И смелых ребят. Вот этих, таких, как эти, например, — он кивнул в сторону своей компании.
А «ребята» все друг на друга похожи, словно из одной шкатулочки выскочили. Глаза шалые, но цепкие. Кривоватые ухмылочки…
— Настоящий вор не должен работать, — сказал один «из шкатулочки», потряс пальцем назидательно. — Закон!
Вагин поднялся, пошел прочь.
— Дурак! — Леша замахнулся на говорившего. Тот отпрянул.
…Вагин лежал на диване. Читал. Из открытого окна послышался свист. Вагин встал. Подошел к окну. Внизу, во дворе — Лешка. Машет рукой. Мол, давай, спускайся. Веселый. Довольный. Улыбается во весь рот. Вагин неохотно собрался. Радом с Лешкой новенький мотоцикл.
— Вот, — сказал Лешка и звонко хлопнул по сиденью мотоцикла. — Твой.
— Ты с ума сошел, — отмахнулся Вагин.
— Твой, — настаивал Лешка. Хмурился. Злился.
— Не могу, — сказал Вагин. — Откуда такие деньги? Ты их...
Не договорил. Лешка перебил его.
— Обидеть хочешь? — подошел вплотную. — Лучшего друга обидеть хочешь?
…Мотоцикл несется по шоссе. Впереди за рулем Вагин. Сзади Лешка. Поет что-то блатное, разухабистое…
Вагин и Лика сидели в креслах, друг против друга.
— Я тогда с одной барышней встречался, — продолжал Вагин, — влюблен был. По уши. В первый раз. Лешка знал, естественно, об этом. И позвал нас как-то с Катей в одну компанию. Мы пришли… Квартира. Большая комната. Стол. Диван. Стулья. Магнитофон. Там был Лешка. Два брата Юда-хиных и один шкет по кличке Комар. Сначала все нормально было. А потом они захмелели. Круто.
…Юдахины были похожи. Круглолицые. Широкогрудые. Рукастые. Лица вмятые, словно по ним кто-то упорно сковородкой молотил. Тот, что постарше, коротковолосый, тот, что помоложе, с волосами до плеч. На их фоне Комар выглядел жалко и смешно. Тощий, длинный, унылый.
Лешка глянул на Катю мутно, невидяще, голова покачивается, словно с трудом держит ее некогда крепкая шея, цыкнул зубом, сказал:
— Ну что, брат, у друзей принято делиться. Так? — сам себе ответил: — Так. Так что придется поделиться, девкой-то. А то я смотрю, ребята уже спермой исходят, — спросил, полуобернувшись к братьям Юдахиным и Комару. — Исходите спермой-то?
«Ребята» кивнули неровно.
— Вот видишь, — удовлетворенно констатировал Лешка. — Исходят. Так что скажи девке, чтоб не рыпалась…
Вагин вскочил со стула.
— Да ты что, Леха? — крикнул. — Да ты что, брат?!
— Сидеть! — рявкнул Лешка, грохнул кулаком по столу.
Повалились бутылки и стаканы. Водка разлилась, потек тонкий ручеек со стола на пол, на кроссовки Вагину, на колени Кате.
Девочка сидела, не шевелясь. Глаза открыты, застыли, ледяные, только побелевшие губы вздрагивают.
— Лешка, ты что? Лешка? — повторял Вагин.
Братья Юдахины поднялись, откинули стулья, обошли стол улыбаясь, стали приближаться к девочке.
— Стоять! — рванулся вперед Вагин. Пяткой двинул Юдахину-старшему в грудь. Тот отлетел назад, споткнулся о стул, упал. Юдахин-младший в свою очередь ткнул Вагина кулаком в нос. Вагин не успел отреагировать. Взвыл от боли. Ответил двумя короткими ударами.
Юдахин-младший вынул нож.
Катя завизжала, закрыв ладошками уши.
— Ладно, — сказал Лешка, допил свой наполовину наполненный стакан. — Справедливость превыше всего. Не хочет девкой делиться, не надо. Но тогда пусть сам ее заменит.
Встал нетвердо. Решительный. Мрачный.
— Что? — не понял Вагин, попятился к степс.
Юдахин-младший стал расстегивать брюки.
Дошло до Вагина наконец.
— Так нельзя, — выдохнул он слабо. — Так нельзя… — вытянул руки умоляюще. — Так нельзя…
Лешка засмеялся. А за ним и братья Юдахииы, и Комар.
Пел Том Джонс. Семидесятые годы. «Естердей».
Плечом к плечу пошли «ребята» на Вагина. Вагин заорал зверино, слюной брызгая, рванулся вперед.
Комар ударил его бутылкой по голове. Бутылка разлетелась вдребезги. Комар засмеялся тонко, радуясь. Вагин рухнул ничком на стол, вязкие черные ручейки потекли по его лицу.
Лешка спустил с него джинсы, расстегнул свои брюки, чертыхнулся.
— Не стоит, — проворчал, стал манипулировать руками у себя меж ног.
Юдахин-старший рассмеялся.
— На такую задницу и не стоит. Стареешь, Леха! У меня всегда готов.
Сорвал брюки. Продемонстрировал. Комар хихикал и поглядывал на девочку. Катя раскачивалась из стороны в сторону, выла однотонно.
— Оп! — выкрикнул Леха, навалившись на Вагина, стал тереться о его голые ягодицы, комментировал: — Сейчас, сейчас, сейчас… вот, вот… кончаю! — стонал.
Отпустил назад, удовлетворенный. И тут же вперед кинулся Юдахин-старший. Приговаривая:
— Какой чудный петушок! Какой нежный петушок!
Комар задрал Кате юбку.
— Убери лапы! — гаркнул Лешка. — Справедливость превыше всего.
После Юдахина-старшего настала очередь Юдахина-младшего, а потом и Комар отметился, нехотя, морщась. А Леха выпил еще водки, прямо из горла. И тотчас взвыл отчаянно, перевернул стол, обломал стулья об пол, искромсал ножом диван. Только магнитофон не тронул.
Пел Том Джонс. «Естердей».
Леха лежал на полу, смотрел в потолок. Плевал вверх. Упадет слюна на лицо или мимо пролетит. Упадет — не упадет…
Вагин стучал кулаками по коленям. Истово. Больно. Говорил, с трудом сдерживаясь:
— Я их ненавижу! Ненавижу! Всех! Всю уголовную мразь! Дерьмо! Ублюдки! Нелюди! Это нелюди! Никаких понятий чести! Честности! Любви! Дружбы! Их надо убивать! Убивать! Убивать!..
Лика села на пол перед ним, прижала его кулаки к своим щекам, поцеловала один, второй, разжала пальцы, поцеловала его ладони. Поднялась, забралась к нему на колени, прижала его голову к своей груди. Он перестал дрожать. Успокоился. Затих.
И тогда Лика сказала негромко:
— А представь, если бы я была… — не договорила, умолкла.
— Что?
— Ничего, — сказала Лика, тихонько стучала костяшками пальцев себя по лбу, мол, дура я, дура, дура… — Ничего, — поцеловала его волосы, — ничего.
Вагин погладил ее руку, коснулся гладкой кожи губами.
— Ты знаешь, — серьезно сказал он. — С тех пор, как появилась ты, они мне больше не снятся. Ни Лешка. Ни Юдахины. Ни Комар.
— Я знаю, — кивнула Лика.
— Через несколько дней я уехал, — возвратился Вагин к рассказу. — Лешку убили осенью в пьяной драке. А Катя вышла за меня замуж. Но уже через полгода мы расстались. Она говорила, что никак не может отделаться от ощущения, что спит с женщиной.
Лика целовала его лицо.
Потом целовала грудь. Потом сняла с него рубашку, джинсы. Потянула за собой на кровать, повторяла:
— Ты самый настоящий мужчина! Ты самый лучший мужчина! Ты самый красивый мужчина! Ты мужчина! Мужчина!
Ужинали они в кафе. Стены из прокопченного камня. На стенах свечи. Пианист за роялем. Скрипач бродит меж столиков. Официанты кивают Вагину. Знают его здесь.
— Я очень долго тебя не видел, — сказал Вагин. — Целых два часа.
— А мне повезло, — сказала Лика. — Я разглядывала тебя целых два часа. Ты очень красиво спишь.
— Разве можно спать красиво или некрасиво?
— Можно. Ты спишь красиво.
— Я чувствовал тебя рядом. Но ты мне почему-то не приснилась.
— Тебе снилась река. И ты плыл по ней. По течению. Без усилий. И тебе было легко и покойно.
— Да. Мне снилась река. И я плыл по ней. А откуда ты знаешь?
— А потом река влилась в море. Тихое, чистое, прозрачное. Бесконечное. А по морю шли корабли под парусами. Они бесшумно скользили по воде тебе навстречу. И на кораблях плыли твои близкие и друзья. На одном из кораблей была и я. Но ты меня не видел.
— Не видел. Я знал, что ты там. Но не видел. Господи, откуда ты знаешь мой сон? Откуда?
— А потом… Прости, но я буду говорить все, как было… Все, как видел ты.
— Конечно. Говори все…
— А потом корабли стали тонуть. Ни с того, ни с сего, как это бывает во сне. И люди кричали. Цеплялись за обломки. И ты спасал их. Нырял. Тащил их за одежду, за волосы. Кидал в шлюпки. Толкал к берегу. А берег далеко. Далеко. А потом ты проснулся. И я не могу сказать, спас ты их или нет.
— И я не могу. Потому что я проснулся. Но откуда ты знаешь мой сон? Откуда?
— Я лежала рядом, касалась твоей головы и видела его вместе с тобой. Не спала. Но все-все видела.
Вагин заметил, что метрдотель делает ему какие-то знаки. Встал. Извинился перед Ликой. Подошел.
— Ты не обессудь, — сказал метрдотель. Розовощекий. Добродушный. — Я могу ошибаться. Но я уже видел эту даму. Тогда, когда нас грабили весной. Она сидела в зале. Одна. Без компании. Без спутника. А Боря-официант видел ее в «Комете» во время налета. Я прав?
Вагин не ответил. Вернулся к столу. Сел.
— Я люблю тебя, — сказал он.
— Я люблю тебя, — сказала она.
Я тебя люблю.
Тебя я люблю.
Люблю я тебя.
Тебя люблю я.
Люблю тебя я.
Я. Тебя. Люблю.
Вагин небрит. Уже не день. Не два. Три. На щеках у него густая, черная щетина. Она ему идет. Она его красит. Жестче сделался рот, контрастней обрисовались глаза, уверенней взгляд, неуверенней взгляд, или, вернее, спокойней взгляд, беспокойней взгляд, или, вернее, так — что-то изменилось во взгляде. Что-то. За эти три дня, пока росла щетина? Нет, раньше. Чуть пораньше. Это точно.
Ноги Вагина как всегда, когда он в машине и не за рулем, покоятся на передней панели. Он курит. Отдыхает. Расслабляется. Откинулся на спинку сиденья. Рядом за рулем Патрик Иванов. На заднем сиденье оперативник с боксерским лицом — нос перебит, губы расплющены, уши прижаты — все как положено.
Машина таится в тихом переулке. Тенистом. Полутемном. Темном.
А меж домами синее небо. Чистое. Далекое. Не допрыгнуть.
В обоих концах переулка люди. Там двое. И там двое. Ходят. Стоят. Переговариваются. Это тоже оперативники. Коллеги Вагина и Патрика Иванова.
— Ну, я пошел, — сказал Вагин. Но с места не сдвинулся.
— Иди, — не возражал Патрик Иванов.
— Пора, — сказал Вагин. Затянулся глубоко.
— Пора, — кивнул Патрик Иванов.
— Время, — сказал Вагин. Поерзал на кресле, устраиваясь поудобней.
— Время, — согласился Патрик Иванов. — Без пяти восемь.
— Ты все помнишь? — спросил Вагин.
— Все, — ответил Патрик Иванов.
— Я тебе не верю, — сказал Вагин.
Патрик Иванов вздохнул нарочито тяжело, заговорил с нескрываемым неудовольствием, монотонно, заученно:
— Если ты вернешься цел и невредим — замечательно. Мы пойдем с тобой пить водку. Если ты выйдешь с рынка не один и будешь без шапки — мы всех винтим. Если в шапке, но киваешь — мы всех винтим. Если в шапке, но не киваешь, а подмигиваешь, мы всех опять-таки винтим. Если ничего этого не делаешь, то мы никого не винтим, а тихонечко пропасаем тебя и всех остальных.
— Вот теперь я верю тебе, — со всей серьезностью произнес Вагин.
— Авантюра, — сказал Патрик Иванов. — Полицейская сказка. Американское кино с Мелом Джибсоном. Плюс ко всему тебя могут проколоть, несмотря на то, что ты всего два месяца в городе. Они ребята ушлые. Плотно пропасли бы их, и все.
— Кого? — усмехнулся Вагин. — Кто приведет к Птице? Их может быть много. И каждого пасти? Бессмысленно. А так я хоть чего-то узнаю. Хоть чего-то, — закинул руки назад. Выгнулся. Потянулся, сказал: — Я пошел, — но продолжал сидеть. — Я пошел…
— Иди, — не возражал Патрик Иванов. — Иди. Иди. Иди…
Вагин наконец выбрался из машины.
— Да, кстати, — остановил его Патрик Иванов. Вагин пригнулся, заглянул в кабину. — Мой человек шепнул, что Птица в этой команде не основной. Там верховодит баба. Всегда присутствует при налетах. Наблюдает. Иногда участвует. Кличка «Маркиза ангелов». Помнишь, была чудесная книжка «Анжелика — маркиза ангелов»?
Вагин кивнул молча. Выпрямился. Побрел по переулку. Ссутулился. Патрик Иванов, не отрываясь, смотрел ему в спину. Долго. Пока тот не скрылся за пыльным буро-черным каменным углом.
Рынок встретил гомоном и пестроцветьем. Голосили все, кому не лень, на разные лады и с удовольствием, и продавцы и покупатели, и воробьи и дети, и магнитофоны и милиционеры, и кошки и мышки, и букашки, и таракашки… На всех языках почти — аварском, шведском, суахили, командирском, грузинском, французском, зверячьем, древнегреческом и, что самое поразительное, даже на русском…
Палатки красочные, продавцы в них яркие, все — в дорогом, по прилавку товары разложены, цветастые, манят. Покупатели тоже в дорогом, но не все — невеликая часть, остальные, а их, понятное дело, большинство, поплоше будут, но гордые, деньги не считают, когда достают, а достают редко, магнитофоны фирменные, милиционеры в мундирах, кошки в сером, рыжем, белом, в грязном; на собачках в основном гладкошерстные одежки, на мышках — бархатные, таракашки и букашки голяком шныряют, бесстыжие…
Вагин отыскал телефон-автомат, вошел в будку, стал крутить диск.
— Это я, — сказал. — Нет, — сказал. — Просто так, — сказал.
— Ты не одна? — спросил. — Ах, телевизор, — засмеялся.
— Ах, ты рисуешь… — засмеялся. — Я люблю тебя, — сказал.
Повесил трубку. Пошел дальше.
Павильон «Картофель». Деревянный. Длинный. Закрыт. Наглухо. Засов. Замок. Теперь овощами-фруктами на этом рынке не торгуют. Торгуют на другом. Вагин встал возле закрытой двери. Огляделся. Из толпы вынырнул высокий крутоплечий парень. Тяжелолицый. Лобастый. Равнодушный. Остановился рядом с Вагиным, спросил тихо, лениво:
— Кого-то ждешь?
— Наверное, тебя, — ответил Вагин, тоже тихо и тоже лениво, смотрел на парня усмешливо, мол, захочу и скушаю тебя, мясистого и калорийного. Но пока не хочу. — Яша Черномор передает привет из славного города Ростова.
— Пошли, — парень завернул за угол павильона, зашагал вдоль крашеной дощатой стеньг. Вагин поплелся следом. Парень остановился возле противоположного торца павильона. У маленькой дверцы. Постучался. Хитро. Три коротких, два длинных. Очень хитро. Дверца отворилась бесшумно. В глубине, в темноте — бородатый детина, пригибается, чтоб гостей разглядеть.
— Это ты, Лоб? — прищурился.
— Ты очень догадливый, Гном, — ответил Лоб. — Это я.
— А это? — Гном указал пальцем на Вагина.
— А это не я, — сообщил Лоб и подтолкнул Вагина вперед.
Вагин переступил порог.
— Не понимаю, — Гном насупил брови. Но посторонился.
— Это и впрямь очень сложно для тебя, — заметил Лоб, открывая вторую дверь.
За дверью, как и следовало ожидать, совсем и не картофель. И в помине нет. И ни намека. За дверью очень просторная комната. Стены обстоятельно мореными досками обшиты. Теми же досками и пол уложен. Ровный. Чистый. В одной стороне стулья и стол длинный, у стены напротив — диван, маленький столик, на столике ваза с цветами, в другой стороне — в углу — работает телевизор, видео, на кресле перед телевизором — мужчина, смотрит видео внимательно. Лоб подтолкнул Вагина к мужчине. Вагин подчинился, подошел ближе. На экране телевизора две голые женщины и один голый мужчина занимаются любовью. Стонут. Кряхтят. Наслаждаются.
— Отвратительное зрелище, — не оборачиваясь, сказал мужчина. — Грязное. Бесстыдное. Для чего они совокупляются? Только для удовольствия? А это уже профанация сути природы. Кощунство. Оскорбление святого действа — продолжения рода. Так что же может получиться, если каждый захочет получать просто удовольствие и не более того?
— Тогда рухнет стена веками возводимых запретов, — ухмыльнулся Вагин. — И человек освободится. А освободившись, станет неуправляемым.
— Вот-вот, — согласился мужчина. — И я о том же. — Взгляда от телевизора не отводил. Там начиналось самое интересное: троица перестала стонать и кряхтеть и принялась кричать срывающимися голосами. Неистовствовала.
— Но этого не произойдет, — веско продолжал Вагин. — Потому что есть мы! — Повысил голос, заговорил отчетливо, звонко, торжественно, как на сцене в сельском клубе. По-пионерски вскинул подбородок вверх. Глаза горели, за горизонт заглядывали. — Мы тоже приносим человеку удовольствие, почти такое же, как и секс, и человеку нравится получать это удовольствие, и со временем будет нравиться все больше и больше. Но наше удовольствие в отличие от секса не освобождает человека, а наоборот закрепощает, то есть делает его управляемым.Вот.
Мужчина неожиданно поднялся с кресла. Немолод. Лет пятидесяти, сухое интеллигентное лицо, седые виски, добротный костюм, свежая сорочка, галстук.
— Вы неглупы, — отметил.
— Я знаю, — без тени иронии согласился Вагин.
— Петр Порфирьевич, — мужчина протянул руку.
— Бонд, — представился Вагин, пожимая руку Петру Пор-фирьевичу. — Джеймс Бонд.
— Не понял, — сощурился Петр Порфирьевич.
— Кличут меня так, — объяснил Вагин. — Корешки мои ненаглядные кликуху мне такую придумали.
— А вы похожи, — засмеялся Петр Порфирьевич.
— Я-то посимпатичней, — обиделся Вагин.
— Конечно, конечно, — кивнул Петр Порфирьевич. — Товар?
— В машине возле выхода с рынка, — объяснил Вагин. — Там два моих корешка. Пусть кто-то из ваших пойдет. Без оружия. Скажет, что от меня, от Бонда, передаст бабки, возьмет ампулки.
Петр Порфирьевич жестом показал Гному, мол, давай, выполняй.
— Как поживает Яша Черномор? — спросил Петр Порфирьевич, когда Гном вышел. Опустился опять в кресло. Показал на стул возле себя. Вагин тоже сел.
— Яков Александрович велел кланяться, — сказал Вагин. Встал со стула. Долго кланялся. В пояс. Рукой пола вскользь касаясь. Сел опять. Отдышался. — И попросил кое-что передать Птице, — добавил.
— Что? — спросил Петр Порфирьевич.
— Попросили передать лично ему.
— Это сложно, — вздохнул Петр Порфирьевич. — Откололся от нас Птица. Пошел на поводу у бабы. И правит теперь эта баба и им, и его ребятами. Единолично и деспотично. А этого допускать нельзя. Это культ. Надо помнить уроки истории.
— И маркизе Яков Александрович тоже велел кое-что передать…
— Уж не знаю, не знаю, как вам и помочь, — раздумчиво покачал головой Петр Порфирьевич. — Связь у нас односторонняя.
Отворилась дверь. Вагин повернулся на звук. Вошел Гном, принес кейс, кивнул, мол, все в порядке, потом склонился к Петру Порфирьевичу, что-то пошептал ему на ухо.
Дверь опять отворилась. На сей раз Вагин не обернулся. А зря.
Резким и сильным ударом из-под него вышибли стул. Вагин свалился на пол. Встать ему не дали. Юдахин-старший ткнул стволом пистолета ему в нос.
— Ну что, Петушок, — проговорил, щерился, веселясь, зубы темные, в трещинах, короткие волосы совсем седые. — Опять ты к нам? Понравилось? Так бывает. Рассказывали петушки. Мужика, говорят, попробуешь и на бабу потом смотреть неохота. Противно. Тошнит.
— А я думал, это и вправду Бонд, — разочарованно протянул Петр Порфирьевич.
— Бонд, ха-ха, — сказал Юдахин-старший. — Менток это, Санька Вагин. Недавно из Москвы прискакал. И правильно. Здесь мужики-то покрепше, — захохотал. А вслед за ним и Гном, и Лоб.
— Ай-ай-ай, — сказал Петр Порфирьевич и, не удержавшись, ударил Вагина ногой по животу. А потом еще, еще…
— Ай-ай-ай, — приговаривал. — Ай-ай-ай-ай-ай…
Вагин стоял лицом к двери. За его спиной Юдахин-старший, Петр Порфирьевич, Лоб, Гном.
— Нам терять нечего, — сказал Юдахин-старший. — Ежели что, завалим сразу. Обернись. Посмотри.
Вагин обернулся. В руках Юдахина-старшего и Гнома чернели пистолеты.
— Выведешь нас с рынка, — продолжал Юдахин-старший. — Авось и жив останешься…
— Авось… — проворчал Петр Порфирьевич.
Они медленно шли по рынку. Вагин отыскал глазами Патрика Иванова. Тот приценивался к помидорам. Наконец повернулся, увидел Вагина, встретился с ним взглядом. Вагин кивнул едва заметно. Но Патрик Иванов не шелохнулся. Тогда Вагин подмигнул несколько раз левым глазом. Патрик Иванов с интересом наблюдал за ним. Тогда Вагин сказал, отдуваясь:
— Жарко, — и снял шапку.
Патрик Иванов после этого только усмехнулся криво, а потом и вовсе отвернулся и стал опять торговаться с продавцом помидоров.
Уже вечер, покраснело небо, но рынок не унимался. Галдел вовсю. И вечер ему нипочем. И ночь. Кому не спится в ночь глухую?… (Эхо).
Когда Вагин и сопровождающие его лица скрылись в толпе, Патрик Иванов заспешил к оперативной машине, сел, сообщил оперативникам:
— Вагин передал, чтобы никого не трогали. А только пропасли его и злодеев. Но не плотно, — повторил, — не плотно.
Провел по лицу ладонью, скрывая довольную ухмылочку.
Ехали молча. За рулем Лоб. Рядом с ним Петр Порфирьевич. Сзади соответственно Вагин, и по бокам Гном и Юдахин-старший.
— Молодец, Петушок, — нарушил молчание Юдахин-старший. — Ты заслужил лишнюю палку.
Вагин локтем ударил его по губам. Стремительно. Сноровисто. Сильно. Юдахин-старший завыл. Петр Порфирьевич засмеялся. Юдахин-старший достал нож.
— Не надо, — сказал Петр Порфирьевич и скинул на колени Юдахину-старшему наручники. На вагинских запястьях щелкнули браслеты.
Лоб взглянул в зеркальце, объявил:
— Пасут, — хмыкнул. — Кишка тонка.
Ловко вильнул во двор, выехал на параллельную улицу, потом ушел под острым углом в незаметный переулок, потом опять нырнул в проходной двор. Пересек центральный проспект и загнал машину снова во двор. Остановился. Все вышли, пересели в другой автомобиль, который стоял в том же дворе. Покатили дальше.
Город давно уже кончился. Дачные поселки. Деревеньки. Лес. Потоми лес оборвался внезапно. Степь. Машина свернула на проселок. Пологие холмы. Красно-желтые песчаные карьеры. И вот впереди показалось длинное, с полкилометра, четырехэтажное здание. Недостроенное. Бетонный остов. Кое-где есть стены, кое-где нет, возле здания бетонные плиты, трубы, кузов грузовика, деревянные времянки, трактор без гусениц. Накренившийся подъемный кран. Вот-вот рухнет. Подъехали ближе. Вагина вытолкали из машины. Он поежился. От здания несло сыростью и холодом. Ветер в нем выл плаксиво, капризничая. Бил в глаза, меняя направление. Глаза выстудились тотчас. Вагин жмурился подслеповато. Лоб загнал машину на цокольный этаж, через пролом в стене. Загородил пролом большим фанерным щитом.
На первый этаж нужно было подниматься по узкому, грубо сколоченному деревянному трапу. Первым на него ступил Петр Порфирьевич. Затем Лоб. Трап скрипел и раскачивался под ними. Поэтому они шли, балансируя руками, как канатоходцы. Петр Порфирьевич ворчал матерно. Гном по трапу передвигал-ся один. Потому что был тяжелый, почти такой же как Петр Порфирьевич и Лоб, вместе взятые. Предпоследним на трап шагнул Вагин, а за ним Юдахин-старший. Вагин довольно скоро добрался до твердого бетонного пола первого этажа и, прежде чем вступить на него, упруго и сильно подпрыгнул на трапе. Юдахин-старший не удержался, накренился, и, ухнув, полетел на землю. Упал с тяжелым стуком. Вагин засмеялся. Юдахин-старший вскочил, секунду-две-три-четыре-пять-шесть-семь погодя, взвыл жестоко, выхватил из-за пазухи маленький автомат системы «Узи» израильского производства, дал очередь поверх головы Вагина. Все, кроме Вагина, как по команде повалились на холодный бетон. А Вагин покрутил головой и сказал осуждающе:
— Во дурак! — пнул ногой лежащего Гнома, спросил: — Куда идти-то?
Все поднялись, отряхнулись. Юдахин-старший не решился больше передвигаться по трапу ногами, лег на него, пополз, пыхтя.
Выстрелы встревожили ворон, воробьев, голубей, Юдахина-младшего и двух его сотоварищей. Они опасливо свесили головы со второго этажа. Вагин узнал сотоварищей, местные воры-наркоманы, отмороженные — Чуня и Вазелин. Чуня — толстый, поэтому Чуня. Вазелин — потный, рожа всегда блестит, как смазанная вазелином детская попка, поэтому и Вазелин.
На второй этаж поднялись уже по лестнице. Здесь поуютней. Обжитое место. И стены есть, и подобие комнат. И мебель даже есть. Столы, стулья, лавки. Но холодно все же. Вагин поежился в который раз.
— В ШИЗО его, — приказал Петр Порфирьевич.
И Гном отвел Вагина в местный штрафной изолятор. Глухая комната с крохотным окошком под низким потолком. Через пол и потолок проходит черная, невеликого диаметра, труба. Гном расстегнул Вагину наручники, подвел его к этой самой трубе, толкнул Вагина на нее, Вагин невольно обнял трубу, а Гном тем временем опять застегнул браслет на вагинской руке. Так что теперь никуда Вагину от трубы не деться. Скверно.
Гном сел в углу. Закурил.
— Чего ждем? — спросил Вагин.
Гном молчал.
— Как тебя звать-то? — спросил Вагин.
Гном молчал. Завороженно следил за тающим дымком от сигареты.
— Послушай, Гном, — проговорил Вагин таинственным тоном, — я раскрою тебе один секрет. Ты должен знать это! Должен!
Гном насторожился.
— Я твой отец, — сказал Вагин. — Нас разлучили злые люди, когда ты был вот таким, — Вагин пригнулся, показал, каким был Гном, когда их разлучили. Всхлипнул.
Гном встал, подошел к Вагину, внимательно всмотрелся в него, произнес медленно:
— Мой батька сдох в тюряге. Как последний скот. Мне тогда второй годок шел.
— Не сдох я, не сдох, — возразил Вагин. — Вот он я. Сынок.
— Так ты моложе меня, — сообразил наконец Гном.
— Какое это имеет значение? — искренне возмутился Вагин.
Дверь отворилась. И вошел Птица. Сам. Опрятный. Чистенький. И на лицо ничего себе. Смуглый. Глаза светлые. Губы жесткие. Долго смотрел на Вагина. Долго. Долго. Долго. Долго. Вагину это надоело, и он спрятался за трубой.
— Выходит, менток, что бабы любят тебя больше, чем меня? — буднично спросил Птица.
— Выходит, выходит, — Вагин высунулся из-за трубы, кивнул, соглашаясь.
Птица повернулся, вышел из штрафного изолятора, сказал кому-то за дверью:
— Убейте его!
— Но сначала побалуемся, побалуемся, побалуемся, — захлопал в ладоши Юдахин-старший.
Дверь за Птицей закрылась.
— Эй, сынок, — позвал Вагин Гнома.
В ответ Гном прорычал злобно, потянулся огромной рукой к горлу Вагина.
— Шутки в сторону, — сказал Вагин, — дело серьезное. Я ошибся. Ты не мой сын. Я вспомнил, у меня была дочка. Послушай, послушай, — зашептал вдруг. Громко. Ясно. — У меня много бабок. С собой. Отпустишь — и они твои. Они у меня в полотняном поясе под брюками, на теле. При поверхностном обыске его трудно обнаружить. Там… — Вагин задумался. — Сто тысяч. Отпусти, и они твои. — Глаза у Вагина загорелись. — Ты богатый человек. Очень богатый!
Гном подошел ближе. Рот полуоткрыт. Слушает.
— Проверь, проверь, — попросил Вагин.
Гном нагнулся, принялся расстегивать Вагину брюки. И тут Вагин ловко ушел вбок и цепью наручников стремительно прижал шею Гнома к трубе. Гном захрипел, вскинул руки, затопал ногами по бетонному полу.
— Я не хочу тебя убивать, не хочу, — шептал Вагин на ухо Гному, — не хочу, не хочу, правда. Ты только пистолет свой вынь и на пол положи. И все. И все.
Гном достал из кармана пистолет, бросил его на пол. Пистолет клацкнул возле вагинских ног.
— А теперь тихонечко давай-ка вниз, — ласково попросил Вагин Гнома. Ослабил хватку, стал опускаться на колени, потянул за собой Гнома. Затылок злодея заскользил по трубе. Чтобы поднять пистолет с пола, Вагин совсем отпустил шею Гнома. И тогда тот шустро выбросил руку вперед и накрыл ладошкой пистолет. Вагину пришлось снова рвануть Гнома на себя, снова придавить его шею к трубе.
— Я же просил не дергаться, — укоризненно напомнил ему Вагин. — Дай слово, что не будешь рыпаться, и я ничего тебе не сделаю.
— Даю слово, — пробормотал Гном.
— Хорошо, — одобрил Вагин и вновь склонился к пистолету.
Гном схватил его за ногу, дернул на себя. Вагин упал. Каблуком задел пистолет. Тот отлетел в сторону. Вагин врезал цепь в кадык Гному. Изо всех сил прижал Гнома к трубе. Жмурился морщинисто. Обреченно. Крутил головой. Гном шипел, елозил ногами на полу. А потом затих. Навсегда.
— Я же просил не дергаться, — сказал Вагин.
Потянулся за пистолетом.
Трудно. Далеко.
За дверью послышались голоса. Юдахин-старший похохатывал, предвкушая забаву. Тоненько хихикал мордатый Чуня. Вагин попробовал достать пистолет ногой. Дотянулся. Повернулся ключ в замке. Вагин наконец зацепил пистолет мыском, подтолкнул его к себе. Поднял, взвел курок. Дверь отворилась. Вагин выстрелил. Толстого Чуню отшвырнуло назад. Он повалился на спину, раскинув руки. Юдахин-старший тенью метнулся в сторону, матерясь витиевато и громко. А Вагин, скривившись от напряжения, неестественно вывернул кисть правой руки и большим пальцем нажал спусковой крючок. Пуля перебила цепь наручников. Вагин содрал с плеч кожаную куртку. Бесшумно приблизился к двери, с размаху швырнул в нее куртку. И тотчас нырнул вслед за ней. Автоматная очередь прошила куртку еще в воздухе, а Вагин, целый и невредимый, кувыркнулся, приземлившись, и отпрыгнул вбок, под защиту бетонной колонны. Успел. Пули дробно простучали по колонне, взметнули облачко белой пыли.
Сумерки. Скоро станет совсем темно. Это к лучшему.
Вагин огляделся. Бетонный пол, бетонный потолок, несущие колонны — двести метров направо, двести метров налево, — наспех сложенные из красных кирпичей стены комнаток, чтоб зимой не мерзнуть, дощатые времянки от ветра, бочки, тряпки, толь, печки-буржуйки, железные бочки, кое-где деревянные, кое-где железные лестницы, наверху, внизу.
Выход один — вниз, завладеть машиной. Машина — это спасение.
Мелькнула тень справа. Впереди кто-то сделал короткую перебежку. Умело. Без шума. Метнулась чья-то фигура слева. Вагин выстрелил с двух рук. В ответ тоже выстрелили. Пули высекли искру возле вагинских ног. Он поднялся, приготовился, спружинившись, и кинулся со всех ног к следующей колонне, поближе к лестнице, два раза выстрелил на ходу. Упал за колонной. Застучал автомат.
Проорал Юдахин, захлебываясь слюной:
— Я все равно тебя в… сволочь петушиная!
Вагин усмехнулся недобро, вытер рукавом рубашки пот с лица, приготовился еще к одному рывку. Вскочил, помчался. Скрылся за кирпичной стеной, миновал дощатую времянку. И вот квадратный люк в полу. Железная лестница. У основания лестницы — Лоб. Целится из двуствольного обреза вверх. Ждет Вагина. Вагин появился неожиданно, как чертик из шкатулки, и поэтому успел выстрелить первым. Одна пуля пробила Лбу грудь. Вторая попала в живот. Лоб рухнул навзничь. Заорал от боли. По щекам текли слезы. Одной рукой он держался за грудь, будто пытался остановить кровь, а другой грозил Вагину. Тряс пальцем. А потом лицо скривилось в пугающей гримасе, застыло. Рука опустилась бессильно на пол.
— Я не хочу вас убивать! — закричал вдруг Вагин что есть мочи. — Не хочу! Дайте мне уйти! Вы же обречены, вашу мать! Мне нужен только Птица!! Только Птица!
Кто-то навалился на него сзади, сшиб на пол, саданул лицом о студеный бетон, прохрипел, задыхаясь:
— А мне нужен ты, розовожопенький!
Юдахин-старший.
Пистолет у Вагина выпал, скользнул в квадратный люк.
Юдахин-старший занес над затылком Вагина автомат. А Вагин как почувствовал, увернулся. Юдахин шваркнул автоматом об пол, а Вагин цепко прихватил его руки, резко дернул. Юдахин-старший упал на бетон. Вагин ударил его лбом в лицо. Потом еще раз. Попытался вырвать из рук Юдахина автомат. Не вышло. Пальцы намертво вцепились в оружие. Неожиданно Юдахин пнул ногой Вагина в колено каблуком башмака, одновременно другой ногой зацепив его пятку. Вагин хлопнулся на ягодицы. Юдахин попытался встать. Не сумел. Вагин, охнув от усилия, влепил Юдахину в лицо ступнями сложенных вместе ног. Крепкий удар получился. Юдахин запрокинул голову, подался назад и, вскрикнув тонко и коротко, свалился в люк, покатился тяжело по крутой лестнице, постукивая по металлическим ступеням лбом, затылком, висками, челюстью и, конечно же, ботинками. Растянулся внизу, рядом со Лбом, глаза закрыты, тихий, не шелохнется, вроде как уснул. Вагин сунулся было на лестницу, и тотчас пули вжикнули у ног, он вспрыгнул обратно на пол, закричал опять:
— Я не хочу убивать! — стискивал голову руками, кривил лицо. — Я устал! Я не могу больше так!
Вспышки слева, справа. Выстрелы. Вагин упал, терся щекой о шершавый пол.
Стрельба прекратилась, и Вагин услышал звенящий от злобы голос Юдахина-младшего.
— А нам нужна твоя задница, Петушок!
А затем услышал Петра Порфирьевича:
— А Птичка-то улетела. Тю-тю! И парит теперь себе в высях небесных. Беззаботная. И не достать ее никогда Петушку нашему бескрылому. Не достать.
Вагин простонал длинно и протяжно, как сирена, предупреждающая о предстоящей бомбежке во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., замолотил в бешенстве кулаками по безответному бетону, расцарапал о него щеку почти до крови, хорошо еще, щетину отрастил за последние три дня, а то бы содрал кожу к чертовой матери.
Человек ступал мягко, едва слышно, опасливо голову в плечи припрятав. Горбился. Одну руку вперед вытянул. В руке пистолет. Шел по краю этажа, в двух-трех метрах от конца бетонной плиты. Лицо блестит влажно — Вазелин. Он замедлил шаг. Встал. Огляделся. Двинулся дальше. Крадучись. Острые ушки расправив. Добрался до дощатой времянки. Стена ее белела справа от него, высокая, до потолка почти, неструганая, занозистая, зараза. Еще шаг. Вздрогнула вдруг стена, скрипнула негромко, как мяукнула. Вазелин остановился, оглядел ее, инстинктивно попятился. Поздно. Стена стала крениться угрожающе, а через мгновенье повалилась на бедного Вазелина. Вазелин закричал, убегая. Но стена достала его, саданула по затылку. Вазелин упал на пол, кувыркнулся и, растерянно взмахнув кроссовками (пр-во фирмы «Найк»), полетел вниз на землю.
А за упавшей стеной стоял Вагин, руки в карманах. Скучный.
— Бывает… — сказал сочувственно. Сплюнул.
…Петр Порфирьевич таится за колонной. Большой черный пистолет (ТТ? Стечкин?) в левой руке, согнутой у плеча. А правой рукой Петр Порфирьевич крестится.
Где-то за другой колонной — Юдахин. Бесшумно мочится на доски. Покряхтывает… Встряхнулся. Застегнул ширинку. Вынул пистолет из-за пояса. Огляделся…
Вагин стоял перед железной бадьей для транспортировки цемента. Бадья на колесах — широкая и тяжелая, потому что в ней осталось немного отверделого цемента — примерно треть. Вагин качнул ее. Она покатилась, легко скрипнув. Вагин перевел взгляд на сгрудившийся неподалеку черный табунчик бочек. Потом посмотрел на длинные толстые доски, лежащие рядом с бочками. Покачал головой. Сделал несколько шагов вперед. Остановился у квадратного проема в полу. Метра три на три. Или больше. Внизу под проемом в цокольном этаже глубокая яма с бетонными гладкими стенами. А в яме мусор, бумаги, коробки, деревянные ящики, разбитые и целые бутылки, пачки из-под сигарет, окурки, спички, пуговицы, пробки, солдатские погоны, разорванные подушки, пух, тухлая рыба. Дерьмо.
…Вагин закричал отчаянно, пронзительно. Петр Порфирь-евич встрепенулся, перестал креститься. Замер.
Юдахин-младший собрался, спружинился, повел туда-сюда стволом пистолета.
Вагин опять заорал. А потом послышался звук от падения тяжелого предмета. Тела?
Петр Порфирьевич шагнул вперед.
И Юдахин-младший тронулся с места.
Осторожно, на мысках, вскидывая с непривычки локотки вверх, добрались они до края квадратного проема. Остановились. Юдахин-младший с опаской заглянул в проем.
— Ни хрена не видно, — прошептал. — Но вроде гикнулся.
— Вроде… — тоже шепотом ответил Петр Порфирьевич.
Вроде…
Вагин вместе с бадьей громоздился на черных бочках. С бочек к полу в сторону проема импровизированным трапом тянулись толстые доски.
Как только Петр Порфирьевич и Юдахин-младший приблизились друг к другу, перешептываясь, Вагин с ревом толкнул тележку-бадью. С пугающим металлическим грохотом пронеслась она по трапу, коснулась пола и, подпрыгивая, помчалась на Юдахина-младшего и Петра Порфирьевича — те едва успели повернуться на шум — и столкнула их в проем, и остановилась у самого края, покачиваясь.
Кегельбан да и только.
И стало тихо. И в яме, и на этаже, и на другом этаже, и на третьем этаже, и на четвертом этаже, и за колонной, и в цементной бадье, и в бочках, и на небе, и на земле, и под землей, и слева, и справа, и у Вагина в голове, и в ушах, и в глазах, и во рту, и в зубах, и… И там тоже стало тихо.
Вагин сжал ладонями голову, сдавил веки, встал медленно на колени — все еще на бочках был, не спускался, — ушли силы — сгорбился, согнулся, плечи сжал, качался невесомо вверх-вниз, бормотал что-то себе под нос, слабенько, тоненько, бессвязно. Минуту. Две. Час. Больше. Меньше…
Крик впорхнул под ладони, щекотнул перепонки. Вагин отвел руки от ушей, открыл глаза, поднял голову, огляделся, хмурился, не узнавая ни бочек, ни времянок, ни рук своих, ни ног… Но вот успокоился наконец взгляд. Окреп. Вагин спрыгнул с бочек, побрел к проему. Опять крик. Стонущий. Негромкий. Вагин взглянул в яму. Совсем темно. Видно скверно. Но вроде как Петр Порфирьевич лежит, за ногу держится, а Юдахин-младший по яме мечется, выход ищет. Безрезультатно. Вот поднял голову. Выстрелил тотчас. Раз-другой. Вагин отпрянул. Отступил на шаг. Вынул сигарету, зажигалку, прикурил. Затянулся с удовольствием.
Стоял.
— Ну иди, иди сюда, пидоренок! — фальцетом орал Юдахин-младший. — Иди. Побалуемся Смотри, какой у меня большой! Смотри!
Вагин поставил ногу на цементную бадью. Толкнул ее. Она упала с глухим тяжелым стуком.
— Не попал, пидоренок! — орал Юдахин-младший. — Не попал!
Вагин кинул сигарету под ноги, развернулся, пошел к бочкам, опрокинул одну, покатил к проему На бочке надпись, белая: «Мазут». Отвинтил пробку. Мазут полился в яму.
Юдахин-младший принялся бешено палить. Мимо, конечно. Для острастки больше. Он Вагина не видит. Вагин хоронится за бетонной плитой. Вытек мазут. Вагин спихнул бочку вниз. Она стукнулась звучно об пол. Загудела. Вагин наощупь отыскал на полу кусок тряпки, вынул зажигалку, поджег тряпку.
— Ты чего делаешь? — заволновался Юдахин-младший. — Чего, а?
Тряпка занялась, и Вагин швырнул ее в яму.
И вроде как взрыв случился в яме. Вскинулся вверх желтый огонь, острые ломкие пики его опалили края бетонного проема. А потом вспыхнула вся яма разом. И мусор, и подушки, и дохлая рыба, и дерьмо, и Петр Порфирьевич, и Юдахин-младший. И стало светло, как от мартена. Юдахин-младший носился факелом по яме, обреченно кричал. Не человек больше.
А Петра Порфирьевича уже не было видно в пламени. Интересно, жив ли еще старый пакостник?
Вагин смотрел стеклянно на огонь. Лицо восковое. Мертвое. Пальцы на руках скрючены конвульсивно. Не шевелятся. Пламя касается его ног. Обжигает. Но Вагин не двигается с места. Не может. Не получается.
— Обернись, Петушок! — перекрывая дрожащий гул пламени, крикнул за спиной Вагина Юдахин-старший. — Посмотри, какой я красивый. Полюби меня. — Юдахин засмеялся безмятежно. Багряный в отсветах пламени. Громадные черные тени безумствуют сзади него, на потолке, на стенах, на полу.
Вагин повернулся-таки. Деревянно. Робот. Не моргает. Глаза вспухли. Воспалены.
Юдахин стоит, широко расставив ноги. Поигрывает крошечным израильским автоматом.
— Ну? — говорит.
Вагин сделал шаг ему навстречу. Другой. Ноги не гнутся. Но идут.
— Не так быстро, — посмеивался Юдахин. — Я не сумею разглядеть, как плещется спермочка в твоих нежных глазках, петушок!
Вагин не останавливался. С каждым шагом движения его делались уверенней. Вот и пальцы расправились. И расслабились ноги. Гнутся. Упругие.
— Эй! — встревожился Юдахин. Выстрелил поверх головы Вагина. Вагин продолжал идти. Юдахин прицелился ему в ноги. Пули раскрошили бетон у самых вагинских кроссовок. Вагин продолжал идти.
— Сука! — выдавил Юдахин и направил ствол в грудь Вагину, нажал курок. Металлический щелчок. Тихий, но звонкий. Юдахин засуетился, судорожно стал искать новый рожок. Нашел, наконец, в кармане брюк. Вставить не успел. Вагин ногой выбил автомат из его рук. И пяткой той же ноги ударил Юдахина в висок. Тот попятился, упал. Попытался встать. Вагин снова ударил его ногой. Сильно. Юдахин опрокинулся на спину. Подвывая боязливо, отполз назад. Встал. Встретил Вагина двумя короткими, прямыми. Второй удар Вагин не поймал. Голова его откинулась назад. Изо рта слабо плеснула кровь. Вагин улыбнулся нехорошо. Зубы черные от крови. И рот кажется щербатым. Страшным. Вагин неожиданно метнулся влево. Юдахин среагировал, и тогда Вагин достал его правой ногой. В самый низ живота попал. Юдахин согнулся. Не теряя преимущества, Вагин двинул его коленом снизу по лицу, добавил кулаками. Мощно. Умело. Юдахин рухнул на бетон безвольно, Вагин встал перед ним на колени, склонился, принялся расстегивать ему брюки. Расстегнул. Спустил их.
Потоми с себя стянул джинсы. Рычал. Перевернул Юдахина на живот. Лег на него. И тут же скатился на пол. Выругался. Тер руками у себя между ног. Кривился. Убрал руки, обессиленный. Лежал на спине. Дышал прерывисто. Часто. Хрипло. Долго.
Поднялся, застегнул джинсы. Ухватил Юдахина за ноги. Поволок к проему. Кричал, стервенея. У самого края проема отпустил вдруг Юдахина. Сел рядом. Закурил опять. Пламя ослабло. Вдвое уменьшился его гребень. Но жарит. Нестерпимо. Юдахин открыл глаза. Веки свинцовые. Разлепил сухие губы, проговорил едва слышно:
— Полюби меня, Петушок…
Вагин уперся в Юдахина ногами и, не торопясь, без видимых усилий столкнул его в яму. Вслед за Юдахиным в яму полетел и окурок.
Вагин поднялся. Отряхнул джинсы. Ступил в сторону от проема. Поднял с пола автомат и полный патронов новый рожок. Сунул оружие себе за пояс. Поплелся к лестнице.
Вдалеке выли сирены милицейских машин.
Приближались.
В лицо ударил слепящий луч прожектора. Вагин поморщился. Загородился рукой.
— Это ж Вагин, — сказал кто-то. Прожектор потух. Нить накала еще какое-то время светилась рубиново.
Вокруг — машины и люди. Машины с мигалками, люди в бронежилетах, с оружием. Подошел подполковник, тот самый приятель Вагина, тоже в бронежилете, заглянул Вагину в глаза, спросил:
— Что?
Вагин слабо махнул рукой, отстранил подполковника, шагнул мимо, побрел к машинам. Люди смотрели на Вагина. Только на него. Молчали. Не шевелились. Но нет. Кто-то повернулся бесшумно. Пошел в темноту. Вагин поймал взглядом движение. Вскинул голову. Зашагал быстрее, тверже. Догнал Патрика Иванова. Ухватил его за плечо, развернул к себе. Ударил его в живот, потом два раза в лицо. Патрик Иванов упал в грязь. Вагин поднял его за ворот, ударил еще раз. Патрик Иванов не сопротивлялся. Опять свалился на землю. Никто не вмешивался. Все терпеливо ждали. И Патрик Иванов терпеливо ждал. Падал, вставал, падал, вставал. Безропотный. И ждал. Дождался. Упал и не смог подняться. Вагин смял ему переносицу. Лежал, распростав руки, волосы, лоб в черной вязкой жиже тонут, подбородок к небу вскинут, дрожит.
Патрик Иванов.
Вздыхает неровно, хрипло, вот-вот забьется в болезненном жестоком кашле… И не остановить.
Патрик Иванов — сын чужеземного студента и местной проститутки.
Один.
Без семьи. Без любви. У него никого нет в этой жизни.
Кроме Вагина.
И они знают об этом.
Оба.
А Вагин уже шел прочь, не оглядываясь. Какое-то время был еще виден в отсветах пламени.
А потом исчез.
Ночь.
Без звезд. Без Луны.
Темно.
Он шел быстро, дороги не разбирая, высоко подняв лицо, как слепой, к небу, которое без звезд и без Луны, спотыкался, проваливался в ямы, ямки, ухабинки, ухабы, падал, не удерживая равновесия, на бок, на спину, на руки, часто; подполковник кричал в мегафон, звук бежал над степью, преградами не стесненный, влево, вправо, прямо, далеко: «Вагин! Вагин! Где ты? Сашка, милый, где ты? Где ты, черт тебя дери, полудурок хренов!».
Вагин выбрался на шоссе, вышел на середину его, вынул из-за пояса автомат, вставил новую обойму, шоссе пустое, влажное, — ночная роса, наконец показались фары вдалеке, машина приближалась с ревом — грузовик, — остановилась перед Вагиным, осветила его бело — призрак, — Вагин вскинул автомат, подошел к кабине, открыл дверцу, влез на сиденье сказал буднично:
— Домой.
— Хорошо, — тотчас отозвался водитель, молодой, большеротый. С неподдельным ужасом смотрел на автомат.
Вагин открыл дверь своей квартиры. Там темно. Ночь. Без звезд. Без Луны. Не решался переступать порог, вертел головой по сторонам, оглядывался вдруг резко, словно выстрела ждал, шагнул наконец в темноту, руки вперед выставил, наткнулся на стену, нащупал выключатель, щелкнул им, осветил прихожую, дальше двинулся и в комнате свет зажег — и люстру включил, и настольную лампу, и бра над кроватью, — заспешил на кухню и там огонь зажег и холодильник открыл, чтобы и оттуда свет шел, улыбался во все лицо, больше того — не хохотал едва, кинулся в туалет и там лампу включил, а потом и в ванной то же самое сделал, ходил по квартире скоро, из кухни в комнату, из комнаты в коридор, из коридора в кухню — радовался.
Радовался…
Очутившись в ванной, в зеркало взглянул, покачал головой, посмеиваясь, ну и рожа, мол, ну и рожа, сунул голову под кран, тер лицо мылом, охал, ухал, фыркал, напевал что-то веселенькое, выпрямился, вытерся, заторопился опять в комнату, сел на кровать, вынул из-за пояса автомат, осмотрел его тщательно, щелкнул затвором, взводя курок, открыл рот, поднес автомат к лицу, сунул короткий его ствол себе меж зубов, нащупал деревянным пальцем курок, нажал легонько, глаза зажмурил, крепко, морщился, а палец парализовало словно, а может, и вправду парализовало.
Не двигается. Выстудился. Ледяной.
Телефонный звонок. Вагин вздрогнул. Вынул ствол изо рта. Отплевывался. Прямо на пол. Водил ледяным пальцем по лбу. Смотрел на тренькающий аппарат, но трубку не брал. Телефон перестал звонить. И Вагин засмеялся неожиданно, отшвырнул автомат, протянул руку к телефону, погладил его, словно живого, словно котенка, словно цыпленка, словно зайчонка… Рука потеплела. Он снял трубку, потерся о нее щекой, поднес к уху, улыбался безмятежно, набирая номер, улыбался безмятежно, ожидая ответа, наконец, услышал ее голос, улыбался безмятежно.
— Лика, — сказал он. — Лика, — сказал он. — Лика, — сказал он. — Лика…
Лика сидит на полу, на роскошном ковре, в черном узком тонком платье, — искрятся бриллианты на шее, в ушах, на пальцах. Такой Вагин ее еще не видел. Никогда. Она, верно, только что пришла. Откуда-то. И откуда? С приема? С раута? С фуршета? Рядом, тут же на ковре, бутылка вина, наполовину наполненный фужер, пепельница, сигареты, те самые — «Маль-боро». В комнате полумрак. Горит лампа на длинной тонкой ножке, тоже стоящая на полу. Едва видны очертания мебели вдоль стен и картин на стенах над мебелью. Яснее видны кресла и диван, обитые черной мягкой кожей. Комната большая, дальний конец ее и вовсе тонет во тьме. Ночь. Без звезд. Без Луны.
Лика прижала трубку к уху. Сильно. Закрыла глаза. Слушает.
— Лика, — говорил он. — Лика, — говорил он. — Лика…
— Послушай, Вагин, — негромко сказала Лика. — Я хочу, чтоб ты все знал, ты должен…
— Лика, — говорил он. — Лика, Лика…
— Мне было десять лет, когда он взял меня из детдома. Он выбрал меня. Как выбирают коров, или коней, или щенков, или гусей. Но не людей, но не детей… Выбрал. Из двухсот четырнадцати девочек и мальчиков. Для этого нас утром, до завтрака, построили во дворе, в несколько рядов, и он ходил меж рядами в чищеных, зеркально сияющих сапогах, и выбирал, а директор и завуч ссутулясь, униженно семенили за ним. Всего-то навсего командир гарнизона, полковник, а городскую верхушку цепко за горло держал, вздохнуть не давал, кривоногий. Напрямую звонил Генеральному в Москву, был сыном его фронтового друга… Ткнул пальцем в меня, сказал «Эта». Привел домой. Дом большой, богатый. А в доме он и сестра его, гладенькая и пугливенькая. Одевал меня, как королеву. Был нежен и добр. Сокрушался, что так и прожил всю жизнь холостяком. Не повезло, мол. А детей любит больше всего на свете. Поэтому и взял меня из детдома. Обещал выполнять все мои капризы и прихоти. И выполнял. С радостью. И я была счастлива.
…Он вошел в мою комнату ночью, когда я спала. Голый. Сбросил одеяло, разорвал ночную рубашку и, урча от восторга, овладел мной. Трахнул, проще говоря. Я и дернуться не успела. Гумберт-Гумберт, мать его! Весь день меня трясло, мерещились огромные тени. Что-то зловещее шептали из осязаемой темноты голоса. А к вечеру я успокоилась и рассказала обо всем его сестре: «Тебе приснилось, деточка, — сказала она. — Приснилось». — Лика сухо засмеялась. — И все это снилось мне еще целых семь лет. А потом я влюбилась. Но его люди выследили нас. Парня раньше срока забрали в армию. А в армии за какой-то проступок его отправили под трибунал. В наш город он уже не вернулся. Я убежала из дому. Он нашел меня и долго бил. Я убежала еще раз. Болталась по стране. Пока меня не подобрал Локотов. Да, тот самый Локотов. Я влюбилась в него без памяти. И он любил меня. Я знаю. Локотова боялись и уважали. В его команде было двадцать четыре человека… Убийства, кражи, нападения на инкассаторов. Он был жестокий. Но честный по-своему. И очень красивый. И несчастный. И счастливый. Потому что он любил меня. Любил. Когда человек любит, он счастлив, несмотря ни на что. Ты не веришь, что он любил меня? Тогда зачем ему было убивать этого гада? Я рассказала Локотову, как он мучил меня семь лет. Локотов приехал в наш город и убил его. Теперь ты видишь, что он любил меня. Ведь так? А через месяц его арестовали, а через полгода расстреляли. А я… А я потом работала с фирмачами. Ты понимаешь, что я имею в виду? Я стала проституткой. А потом я решила заняться настоящим делом. Я же ведь уже не могла жить по-другому. Ты не хочешь спросить, каким делом? Не хочешь?
Вагин молчал.
— А потом появился ты, — сказала Лика. — И я увидела — вот оно, счастье! И я поняла — надо начинать все сначала. Увидела и поняла. Но не смогла. Я уже не могу по-другому, понимаешь?! Я не могу по-другому.
…Лика сидит за столиком в ресторане. Она в легком открытом платье.
Смеется. Рядом привлекательный мужчина. По виду не наш, не советский. Обнимает ее, наливает вина.
— Я не могу по-другому…
…Полутемная комната, большая кровать. Голая Лика. Голый иностранец. Стискивают друг друга в объятиях, катаются по кровати сладострастно, яростно стонут. Тела влажные, блестят…
— Я не могу по-другому…
…Лика перетягивает руку повыше локтя резиновым жгутом, правой рукой вводит иглу в вену, отбрасывает шприц, снимает жгут, озирается, веселея. Вокруг — женщины, мужчины, сидят, лежат, курят, пьют; несколько человек застыли на полу, не шевелятся, глаза закрыты…
— Я не могу по-другому.
…Деревянный барьерчик, за ним скамья подсудимых, на скамье Локотов, по бокам два равнодушных милиционера.
— Ваше последнее слово, подсудимый Локотов, — говорит судья, румяная женщина с шестимесячной завивкой. Крепдешиновая блузка. Бантики. Рюшечки. Кружавчики…
Локотов встает, молчит, смотрит в зал, на Лику. И Лика смотрит на него, глаза без слез, сухие губы шевелятся беззвучно. Зал неистовствует в восторге:
«Даешь! Даешь!..»
— Я не могу по-другому.
…Сотрудник милиции Ходов срывает у лежащей Лики приклеенные усы, поднимает в недоумении глаза на Птицу, говорит растерянно:
— Да это же…
Пуля пробивает ему лоб, и разрывается ткань над переносьем, крошится кость, взбухает и лопается между глаз кровавый пузырь. Ходов падает навзничь, вздрагивает, молотит ногой по полу.
— Я хочу по-другому! — кричит Лика в трубку, стучит кулачком по колену. — Я хочу по-другому!
— Я хочу по-другому, — тихо вторил ей Вагин. — Я хочу по-другому…
— Я люблю тебя, — прошептала Лика, тряхнула головой, волосы упали на лоб, закрыли лицо.
— Господи, зачем ты послал мне ее? — сказал Вагин. — Я потерял веру. Я обрел сомнения. Я всегда думал, что все делаю правильно. А теперь не знаю. Теперь я ничего не знаю. Я потерял силу.
— Я люблю тебя, — шептала Лика. — Я люблю тебя…
— Я ничего не понимаю, — говорил Вагин. — И не хочу ничего понимать. И мне хорошо от этого. И радостно от этого. Как никогда. Я потерял силу. Я обрел силу.
— Это так, — шептала Лика. — Это так.
Вагин обессиленно опустился на кровать, трубку от уха не отнимал, закрыл глаза, оглаживал пластмассу пальцами, нежно, бережно, как беззащитного маленького зверька, как котенка, как бельчонка, как цыпленка, как зайчонка… Лицо теплое, мягкое, разгладилось, на губах улыбка, непривычная, печальная, не его, легкое движение, и упорхнет, исчезнет.
Тихо!
Ти-хо!!
Не будите спящего милиционера!
Гудки, гудки. Холодными змейками вползают в ухо. Короткие и бесконечные. Болезненные. Нервные. Вагин открыл глаза, нахмурился, приподнялся, трубка упала с плеча. Гудки ослабли, поистончились. Вагин улыбнулся. Нажал на рычажки и тотчас, не опуская трубку, набрал номер. Ждал. Покачал головой, нажал на рычажки, опять набрал номер — другой.
— Здравствуй, — сказал, — Лика, Лика…
— Добрый день, — сказала Лика. — Я знаю, что ты только что проснулся, и знаю, какой сон ты видел…
— Я видел снег, много-много снега. Арктика или Антарктида. Торосы. Белые медведи. Синее небо…
— А потом ты взошел на ледяной гребень и увидел растущую посреди снега пальму, а на пальме желтели бананы, ты срывал бананы и поедал, умирая от наслаждения…
— Да, так, — подтвердил Вагин. — Откуда ты знаешь?
— Я была рядом. Я всегда рядом.
— Я хочу видеть тебя, — сказал Вагин.
— И я хочу видеть тебя, — сказала Лика.
— Сейчас, — сказал Вагин.
— Вечером, мой милый. Вечером. Я же на работе. Скоро показ новой коллекции моделей. Много эскизов. Модельеры стоят за спиной. Надо срисовать, раскрасить. Я очень люблю раскрашивать. Я же рассказывала тебе. Поэтому я здесь и работаю. Белый, синий, охра, кобальт…
— Сейчас, — сказал Вагин.
— Вечером, — сказала Лика. — Я буду ждать.
Она положила трубку.
— Сейчас, — сказал Вагин.
Сорвался с постели, рванулся в ванную. Душ. Тугой. Колкий. Кофе. Сигарета. И он готов.
— Сейчас, — сказал Вагин.
Кинул в сумку свитер, нечитанные газеты, поднял с пола автомат, повертел его в руках, усмехнулся чему-то и тоже отправил в сумку вслед за свитером.
Стремительно скатился по лестнице. Впрыгнул в машину. Помчался. Начало дня. Мостовые забиты автомобилями. Вагин, не стесняясь, гнал по тротуарам, с ходу прошивал проходные дворы, вылетал на встречную полосу, приветственно помахивая ручкой парализованным от такой наглости «гаишникам».
Возле Дома моды поехал тише. Успокаивался. Приближаясь, выискивал глазами окна мастерской, где работала Лика. Перевел взгляд на мостовую, а потом на тротуар, прикидывая, где бы припарковаться, и неожиданно навалился на тормоза. На противоположной от Дома моды стороне улицы, у закрытого газетного киоска он увидел Лику, а рядом с ней Птицу.
Вагин тихонько подъехал к тротуару, остановился. Откинулся на спинку сиденья, покачал головой, зажмурившись, помассировал виски, вздохнул глубоко…
Птица в ладном костюме, тщательно завязанном галстуке, как и тогда, когда Вагин увидел его в первый раз, ухоженный, сытый, говорит с достоинством, едва шевелит губами, веки полуоткрыты, сонный. Лика не отвечает ему, смотрит мимо, бесстрастно. Вот Птица не выдержал, что-то громко проговорил, взял женщину за плечи, притянул к себе, попытался поцеловать. Лика уперлась руками ему в грудь, сломала лицо в неприязненной гримасе. Птица сделал еще одну попытку. Вагин схватился за ручку дверцы, взбешенный. Но вот Птица отпустил Лику, сказал ей что-то жестко, зло, ступил в сторону, подошел к машине, стоящей у тротуара, сел в нее, завел двигатель. Лика перешла мостовую, направилась в Дом моды, в узком летнем платье — пестром. Голова вскинута непримиримо, плечи чуть назад оттянуты, стройная. Как только она оказалась спиной к Вагину и, естественно, не смогла бы его увидеть, не обернувшись, он тронул машину с места и поехал вслед за Птицей.
И все-таки она обернулась…
У ближайшего светофора поравнялся с его машиной, заглянул в кабину, ласково улыбаясь. Птица сразу же почувствовал взгляд, повернулся резко, вперился в Вагина, щурился, держал глаза, не отводил, напряженный, бледный. И вдруг, не дожидаясь зеленого сигнала, сорвал машину с места, задымились задние шасси, вхолостую провернувшись на асфальте. Вагин нагнал Птицу у бульвара. Тот заметил его и неожиданно свернул прямо на газон, машина прыгнула на парапет, врассыпную кинулись дети, заголосили мамы. Вагин повторил его маневр. Они пересекли бульвар и оказались на другой стороне улицы. Птица успел въехать в арку дома напротив, а Вагину перегородил дорогу длинный фургон трайлера. Вагин нажал на тормоза, машина пошла юзом, развернулась и шарахнулась задним крылом о фургон. Вагин заматерился яростно, нажал на акселератор, «жигуленок» зайцем скакнул вперед. Вагин объехал трайлер и, не обращая внимания на возбужденные гудки с визгом тормозивших автомобилей, пересек мостовую и влетел в арку. Носился по двору, отыскивая второй выход со двора. Двор огромный. Заборы. Гаражи. Метался меж гаражей, распугивая автолюбителей. Нашел-таки. Узкий проезд в бетонном заборе. Попал на набережную. И тут же в заторе у светофора увидел автомобиль Птицы. Вскрикнул победно, с ходу въехал на тротуар. Летел, не снижая скорости. Птица заметил его. Дал назад, развернул вправо, вспрыгнул на противоположной тротуар, объехал машины, стоящие позади него, и погнал навстречу движению. Вагин повторил тот же маневр. Развернулся и поехал за Птицей. Машины шарахались от них в разные стороны. Бились друг о друга, сшибали телефонные будки, с хрустом ломали деревья и кустарник, обрамлявшие дорогу.
Птица все-таки выбрался на мост. Отчаянно сигналя, пересек его. А Вагин тем временем выбирался из гудящей, смердящей, потной, со страшной силой матерившейся автомобильной свалки. Выбрался. Миновал мост.
Поздно. Птица исчез.
Вагин орал, кривясь, в бешенстве молотил кулаками по рулю, метался, обезумевший, по набережной, по примыкающим к ней переулкам, проулкам, проездам…
Он нашел машину Птицы во дворе одного из домов, стоящих на набережной, примерно в километре от моста. Птица знал, что делал, он поступил единственно верно — бросил машину. И Вагин знал, что делал, он поступил единственно верно — он принялся искать машину. И нашел ее. Отыскав автомобиль, тотчас успокоился, откинулся на спинку сиденья, отдыхая. Закурил. Полез в бардачок, достал карту города, развернул ее, водил пальцем по бумаге. Наконец обнаружил, что хотел, усмехнулся, сложил карту, закинул ее обратно в бардачок, притушил сигарету, стал собираться.
Прежде всего проверил исправность автомата. Вынул рожок, взвел курок, щелкнул затвором, выдавил на ладонь пару патронов из рожка, они сияли золотисто, гладкие, аккуратные, безобидные, прожал пружину рожка — крепка ли? не подведет? — втиснул патроны обратно в рожок, а сам рожок примкнул на место, положил автомат рядом, на сиденье, оглядывал его со всех сторон, любовался. Затем выбрался из машины, обошел ее,открыл багажник, извлек оттуда небольшой брезентовый мешочек, звонко хлопнул крышкой багажника, вернулся в кабину, открыл мешочек, там — ключи, много, отмычки, тонкие, никелированные, похожие на пыточный инструмент стоматолога, отобрал несколько ключей и две наиболее универсальные отмычки, сунул их в карман куртки, мешочек застегнул, бросил в бардачок. Повернул ключ зажигания. Двигатель мелко задрожал, заводясь. Вагин включил передачу. И машина неспешно двинулась с места.
На улицу не выезжал, ехал по дворам, они соединялись арками, узкими проездами, незаметными сразу «дырками» в каменных заборах. Дворы были немые и пустынные. Все как один. Ни людей. Ни эха от гудящего двигателя. Ни шума самого двигателя. Будто он и не работает вовсе. Будто случайный ветерок гонит машину по двору.
Обвалился скол штукатурки из-под крыши одного из домов, второй, куски крупные, тяжелые, упали перед капотом, раскололись об асфальт бесшумно, взметнулась тотчас блеклая пыль. Пропала, тая. Таяла, пропадая…
Таяли и стекла на окнах, на глазах трескаясь паутинисто; лопались беззвучно, стекали густо по стенам. А оконные проемы корчились в судорогах, в черные щели суживаясь, в щепы крушили оконные косяки, а за окнами метались тени, — в глубине квартир, комнат, коридоров, лестничных площадок — неясные, бесплотные…
А потом стали разрываться стены, как листы бумаги, снизу доверху, сверху донизу…
А потом Вагин выехал на улицу…
Здесь было светло и жарко и вокруг было полным-полно всяких замечательных звуков, как-то: шуршание воробьиных крыльев, бульканье в животе у проходящего мальчишки, шепот растущих тополиных корней, топот крадущегося по карнизу кота (отменный, кстати, кот, большеголовый, толстый, вальяжный и очень благодушный), оглушающий свист радиоволн и т. д., и т. д., и т. д…
Он остановил машину прямо у подъезда, у того самого, до которого провожал Лику в первый день своего с ней знакомства. Засунул автомат за пояс джинсов, застегнул молнию куртки, вытянул шею, посмотрелся в зеркальце, усмехнулся скупо и только после этого вышел из машины.
Поднялся на третий этаж, быстро, легко, мягко кроссовками ступеней касался. Постоял у двери, прислушиваясь. Минуту, две… Осмотрел замки, вынул отмычки, поковырялся в замках осторожно, почти неслышно, и щелкнули замки, один за другим, открываясь. Вагин приотворил дверь. Но заходить пока не спешил. За дверью прихожая, вешалка, кресла, столик, телевизор. Никого. Вагин переступил порог, сделал шаг, другой, на ходу вынул автомат, изготовился, держал оружие двумя руками, стволом вверх. Еще шаг. На полу палас. Он глушит шаги, и без того тихие, почти невесомые. Вагин остановился у двери в комнату. Комната в этой квартире одна, потому что квартира однокомнатная, бывают квартиры двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнатные, пятикомнатные, многокомнатные, а эта — однокомнатная, маленькая, на одного человека рассчитанная, а может быть, на двух, а то и на трех, а в некоторых однокомнатных квартирах по шесть человек живут, вон оно как складывается иной раз…
Ухо к двери повернул. Слушает.
Саданул по двери ногой, влетел в комнату, автомат перед собой выставил. Замер в шаге от порога. Прямо в лоб ему глядел неприветливый зрак пистолета. Пистолет держал Птица — обеими руками, как и Вагин свой израильский автомат «Узи».
Стояли.
Боялись пошевелиться. Любое движение сейчас — смерть. Пальцы на спусковых крючках томятся, дрожат.
Ствол в ствол. Глаза в глаза. Молчат.
Комната довольно большая. Прибранная. Женская. Пуфики. Салфеточки. На стенах фотографии Лики: в купальнике, без купальника, за рулем иномарки, с тигренком в руках. Черный кожаный диван, украшенный цветастыми подушками. И много цветов повсюду. На полках импортной стенки — парфюмерия, косметика, пачки «Мальборо», бутылки с несоветскими напитками, окна не зашторены, распахнута форточка, сквозняк шевелит цветы в вазах, они сгибаются с сопротивлением и с достоинством выпрямляются вновь, не комната — летний сад.
— Как ты вошел? — нарушил молчание Птица. — У тебя есть ключ?
Вагин отрицательно покрутил головой.
— Отмычка, — ответил коротко.
Птица засмеялся удовлетворенный, констатировал:
— Значит, у тебя нет ключа от ее квартиры.
Вагин опять отрицательно покрутил головой.
— Она не дала тебе ключ, — продолжал смеяться Птица. — Она не дала тебе ключ, она не дала тебе ключ…
Зазвенел телефон в прихожей. Птица вздрогнул, осекся. Лицо напряглось, высохло вмиг, кожа натянулась на висках. Но не шелохнулся он, не отвлекся — ствол его пистолета упрямо смотрел Вагину в лоб.
Опять молчали.
За окном завыла милицейская сирена. Птица чуть качнул головой в сторону окна, слушая, но глаза от Вагина не отвел. И Вагин тоже слушал. С надеждой. Но милицейская машина проехала мимо.
Вагин попытался сдуть капельку пота с носа. Не сумел. Сморщился. Засмеялся почему-то. Умолк.
— Московское время пятнадцать часов, — сказал кто-то у Вагина за спиной. После перерыва включилась трансляция.
Теперь вздрогнули оба — и Вагин, и Птица. Крепче сжали оружие. Ждут.
— Прослушайте объявления и рекламу, — равнодушно сообщил диктор. — Сегодня во дворце культуры металлургов состоится конкурс-выставка кошек, организованная клубом любителей кошек «Союз».
Вагин краем глаза уловил движение сбоку. Мелькнуло что-то темное за окном, отлетела форточка в сторону, до конца распахиваясь, зазвенела стеклами, упала тень на лицо Птице. Он непроизвольно повернул голову к окну. И тогда Вагин выстрелил. Очередью. Птицу отшвырнуло к стене. Уже мертвый, он сполз по ней на пол. Из-под раздробленной головы тотчас потекла кровь, вязкая, скользкая.
Кот спрыгнул с форточки. Сел на паркет, уставился на Вагина с любопытством.
— Спасибо, — сказал Вагин.
— Не стоит благодарности, — ответил кот, почесал толстой лапкой за ухом, отрешенно глядя перед собой. Чихнул. Поднялся. Потопал из комнаты. Упитанный. Неторопливый. Хозяин.
— Как звать-то тебя? — вслед ему спросил Вагин.
— Чома, — не оборачиваясь, ответил кот.
— Хорошо, — сказал Вагин. Снял салфетку с маленького столика, накрыл ею окровавленное лицо Птицы. Отступил назад и устало опустился на пол у стены, напротив трупа.
Прохрустел ключ в замке, поспешно, суетливо, скрипнула дверь, качнувшись на петлях, распахнулась, не захлопнулась потом как следовало бы, щелкнув металлическими язычками, и встревожил сквозняк цветы, они встрепенулись, зашевелились, волнуясь, все как один, в ожидании к двери обратились, замерли, внимая.
Лика шагнула в комнату. Остановилась тотчас. Увидела лежащего Птицу, зажмурилась на мгновенье, тряхнула головой, на Вагина взгляд перевела. Вагин не вставал, все так же сидел на полу, ноги скрестив, курил, щурился от дыма, смотрел на Лику выжидающе. Она снова взглянула на Птицу, подалась вперед, сделала шаг, другой, присела возле трупа, потянула салфетку вверх с его головы, опять зажмурилась, отпустила салфетку, погладила Птицу по груди, по плечам, по рукам, разжала пальцы на правой руке, подняла пистолет, встала, направила оружие на Вагина… Вагин затянулся очередной раз, бросил равнодушный взгляд на пистолет, потом вскинул глаза на Лику, глядел на нее вопросительно, ну, что дальше, мол? Упала рука с пистолетом, повисла безвольно вдоль тела, полетел вниз пистолет, грохнулся о паркет, Лика подогнула ноги, неуклюже села на пол напротив Вагина, вжала ладони в лицо, забормотала что-то несвязное, вздрагивала.
Вагин какое-то время смотрел на женщину, бережно трогал взглядом ее струистые волосы, ее белые пальцы, ее прозрачные запястья, ее острые локотки, ее тонкие бедра, ее легкие ноги, согревал глазами ее, выстуженную, — ощутимо. Она почувствовала, перестала вздрагивать, перестала бормотать, ладони стекли с лица, она улыбалась тихо, глаза закрыты, лицо светлое… Вагин встал, взял с пола пистолет, вынул из кармана платок, вытер отпечатки с оружия, вложил его обратно в руку трупа, вернулся к стене, где сидел, подхватил автомат и его протер платком и, усмехнувшись, вложил его в другую руку Птицы, полюбовался проделанной работой, затем вытряхнул окурки из пепельницы и завернул их в клочок бумаги, сунул бумагу в карман куртки и из того же кармана достал красную книжечку — паспорт. Развернул его, прочитал вслух:
— Альянова Елизавета Ивановна, — протянул паспорт Лике.
Лика открыла глаза, машинально взяла паспорт, машинально открыла, увидев свою фотографию, тотчас захлопнула паспорт, подняла лицо к Вагину, вгляделась в него внимательно. Вагин подал ей руку, помог встать, поцеловал в губы…
Через несколько минут с двумя тугими пузатыми сумками и упитанным котом Чомой под мышкой она стояла в прихожей.
Вагин напоследок еще раз оглядел квартиру и вышел прочь, с силой захлопнув за собой дверь.
Вагин остановил машину возле своего дома. Вышел. Один. Взбежал по лестнице. Очутившись в квартире, первым делом заспешил к письменному столу, вынул из ящика лист бумаги, почтовый конверт, ручку, написал на листе скоро: «Начальнику управления внутренних дел… Рапорт… Прошу уволить меня…» Расписался, поставил число, сложил бумагу, сунул ее в конверт, а сам конверт заклеил и написал на нем адрес, и только потом принялся собирать вещи. Появился на улице с объемистой спортивной сумкой. Прежде чем подойти к машине, бросил конверт в почтовый ящик, что висел рядом с подъездом.
— Послушай, — окликнула его Лика. Она стояла у автомобиля, опиралась на открытую дверцу. — А куда мы, собственно, едем?
Вагин приблизился к машине. Пожал плечами:
— Понятия не имею.
— Хорошо, — сказала Лика, и снова забралась в машину, и захлопнула дверцу.
Кончился город. По обеим сторонам дороги мелькали деревеньки, перелески, поля, коровы, комбайны, церкви, солнечные лучи, бабочки, загорелые мальчишки, велосипеды, старики, цветы, жестяные ведра и, конечно же, коты — куда же без них, — и много всякого другого.
Вагин вставил кассету в магнитофон. Том Джонс. Семидесятые годы. «Естердей». Слушал напряженно минуту, две, а потом улыбнулся, а потом захохотал.
— Если б ты знал, как я счастлива, — сказала она.
— Если б ты знала, как я счастлив, — сказал он.
Машину догоняли, снижаясь, два желто-синих вертолета.
— Я люблю тебя, — сказал он.
— Я люблю тебя, — сказала она.
— Они любят друг друга, — подтвердил Господь.
Посреди улицы сидела кошка. На мостовой. Умывалась.
Ночной туалет самый важный. Именно ночью и начинается настоящая кошачья жизнь. И поэтому с наступлением темноты надо быть особенно красивой.
Улица черная. Без огней. Но кошку видно. Потому что кошка белая. Крупная. С тяжелой круглой головой. С толстыми лапками. Трет мордочку лапками, жмурится, урчит, подрагивает от удовольствия, счастливая…
Из ближайшей подворотни неслышно вывалилась стая псов. Худые, нервные. С низко опущенными головами. Рысцой двинулись в сторону кошки. Остановились в нескольких метрах. Молчали. Скалились беззвучно. Кошка насторожилась, подняла мордочку. Два пса пошли влево, два — вправо, остальные продолжали стоять. Через несколько секунд все как один сорвались с места, не тявкают, не рычат, только щерятся слюняво.
Кошка метнулась в сторону. Поздно. Сгрудились собаки над ней и расступились тут же. Один из псов держал в зубах обвисшее безжизненное тельце. В глазах восторг. Взрыкнув, отшвырнул с силой кошку в сторону от себя, на тротуар. Сел на асфальт, гордо подняв голову. И остальные псы тоже сели. Поперек мостовой. Цепочкой. Ждут.
В начале улицы показалась машина. Ярко светили фары. Автомобиль низкий, бока блестят полировкой, стекла темные. Иномарка.
Фары высветили псов. Заголосил клаксон. А псы сидят как ни в чем не бывало. Зевают лениво. Машина подошла вплотную. Опять пробасил клаксон.
— Что они хотят? — спросил по-английски один из пассажиров, сидящий на переднем сиденье.
— Наверное, то же, что и все в этой стране, — тоже по-английски ответили с заднего сиденья. — Есть.
— У меня где-то были конфеты, — по-русски сообщил шофер. — «Маска», — вынул конфеты из кармана, прошуршал бумажками, кинул конфеты в окно. Они рассыпались перед собаками, но те не шелохнулись.
Один из иностранцев выругался.
— Сейчас, — проговорил женский голос, опять-таки по-английски, зашелестели бумажки. — Итальянские помадки. Очень вкусные.
Махнула рукой в открытое окно.
Псы с алчным ревом кинулись на конфеты. Машина двинулась дальше.
— Суки! — выругался шофер.
— По-моему, это кобели, — на ломаном русском заметил пассажир, сидящий рядом.
Наконец выехали на освещенное место. Одноэтажное здание. Крыльцо. Лесенка. Над дверью светящиеся буквы: «Кафе «У камина» КООП»
Разноцветно высвечиваются окна.
С трудом нашли место на стоянке. Машин много.
Вышли. Две женщины, двое мужчин. В вечерних туалетах. Улыбчивые. Сытые. Позвонили в звоночек. Дверь отворилась. Послышалась музыка. Громкая. Ритмичная. Молодой парень, стоящий в дверях, жестом пригласил иностранцев войти. Войти не успели. Расталкивая всех на пути, из кафе выбирался крепкий высокий малый с брезгливым рябоватым лицом. За собой он волок тонконогую девицу в коротком белом платье. Девица не сопротивлялась, напротив — хохотала весело и приплясывала на ходу в такт музыке. Увидев иностранцев, проговорила радостно:
— Ой, какие славненькие, — и, томно прикрыв глаза, ухватила одного из иностранцев за брючину между ног. Иностранец от неожиданности отпрянул назад, толкнул стоящую сзади даму, та в свою очередь толкнула двух других иностранцев, и те два других иностранца упали, и сама дама тоже не удержалась и упала, и тот иностранец, которого схватили за брючину, потеряв опору, тоже упал.
Девица захохотала громче и опять стала приплясывать в такт доносившейся музыке.
Рябой малый с силой впихнул ее в белую «Волгу». Отдуваясь, уселся за руль. Девица вцепилась в его плечо.
— Почему ты не захотел трахнуть меня в кафе?! — крикнула она. — Почему? Почему?..
Рябой сплюнул в окно и ничего не ответил.
Девица терзала его плечо:
— Ты не хочешь меня? Не хочешь?
— Хочу, — сказал Рябой, сумрачно глядя перед собой. — Очень…
— Тогда сейчас, — выдохнула девица и с привычной томностью зажмурила глаза. — Прямо здесь. В машине. Чтобы проходящие видели, как мы трахаемся!..
Она впилась Рябому в губы — он и вздохнуть не успел. Просунула руку меж его ног, нашла под сиденьем рычажок, нажала его и толкнула Рябого назад. Спинка откинулась, а вместе с ней и Рябой. А вместе с Рябым и девица. Падая, она успела еще зажечь свет в салоне. Шустрая.
— Ку-ку, — сказал кто-то, проходя.
— Хо-хо, — сказал кто-то, проходя.
— Да пошел ты на…! — сказал Рябой, с силой оттолкнул от себя девицу, с ревом поднялся и высунул кулак в открытое окно.
— Поехали ко мне, — сказал он, отдышавшись.
— Нет, — решительно заявила девица. — Или здесь, или нигде.
— Тогда там, — малый махнул рукой в сторону темного проулка.
— Фу, — девица скривила губы. — Там темно и пусто. И никто не увидит, как ты меня трахаешь… — обиделась.
Рябой завел двигатель. Машина прыгнула с места, покатила к проулку. Рябой задом загнал машину в темноту. Она приткнулась к переднему бамперу мирно отдыхающего микроавтобуса-«рафика».
— Нас никто не увидит, — с тоской проговорила девица, опять зажгла свет в салоне и стала стаскивать с себя платье.
В кабине «рафика» вдруг вспыхнул огонек. Зажигалка. Сидящий на месте водителя мужчина шумно втянул в себя сигаретный дым. Толстые щеки затвердели на секунду и мягко обвисли вновь. Не отрывая взгляда от светящегося салона «Волги», толстый протянул зажигалку другому мужчине, соседу по кабине. И тот в свою очередь тоже прикурил и, прикуривая, тоже во все глаза разглядывал «Волгу».
— Стыд, — наконец сказал толстый.
— Срам, — поддержал его сосед.
— Стыд и срам, — подытожил толстый.
Молчали. Курили прерывисто, быстро, будто в последний раз.
В квадратное окошко перегородки, отделяющей кабину от салона, просунулась чья-то голова. В зубах сигарета.
— Симуков, дай огню, — сказала голова. А потом голова уставилась на «Волгу». И забыла про огонь. Напрочь.
— Чёй-то? — спросила удивленно. Догадалась: — Трахаются… — втянулась опять в салон, проговорила с радостным возбуждением:
— Мужики, там в тачке мужик бабу…
Появилась вновь в окошке с биноклем, восхитилась:
— Ух ты!..
Задняя дверь автобуса открылась. Из салона выпрыгнули трое. Сухо клацкнули бронежилеты, надетые поверх курток и пиджаков. На цыпочках подошли к «Волге», стояли, хихикали.
— Назад! — злобно шипел из окна «рафика» Симуков. — Назад, козлы!
Троица не слушалась. Кайфовали.
Симуков взял микрофон рации:
— Сто первый, — сказал он. — Как слышите?
Голос Симукова глухо прошелестел в салоне синих, а ночью и вовсе черных «Жигулей», стоявших в соседнем переулке метрах в пятидесяти от автобуса.
— Да замечательно я тебя слышу, — без особого энтузиазма отозвался Вагин. Он сидел на переднем сиденье, рядом с водителем. На голове черная вязаная шапка, натянутая на самые глаза, на плечах кожаная куртка, короткая, блестит в отсветах неоновой рекламы, длинные ноги в кроссовках устало покоятся на передней панели, перед лобовым стеклом. Комфорт любит Вагин, везде и во всем. И спутники его тоже комфорт любят. Развалились на заднем сиденье, посвистывают, песенки мурлычат, а шофер, так тот вовсе спит, сопит, всхрапывая то и дело…
— Тут такая, значит, штука, — шелестел Симуков. — Тачка перед нами. А в ней это… как ее… мужик с бабой трахаются…
— Сто пятый, — строго прервал его Вагин. — Не засоряйте эфир.
— Так я и говорю, — возмущенно продолжал Симуков. — Тачка эта нам выехать не даст, ежели чего… А мужик этот с бабой, ну так они тра…
Вагин хмыкнул и толкнул шофера в плечо.
— Подай чуток вперед, — сказал.
Машина тронулась, прошла несколько метров. Вагин увидел «Волгу» и автобус. Вынул из бардачка бинокль. Загляделся. Улыбался. Причмокивал.
— Эта, — подал голос Симуков. — Тут наши, того, в бинокли наладились глядеть, балдеют, онанисты, мать их!..
Вагин оторвал бинокль от глаз, построжал вновь, кинул бинокль обратно в бардачок, сказал в микрофон:
— Не засоряйте эфир, сто пятый, — помолчал. — Сейчас разберемся.
Открыл дверцу, ступил на тротуар, не спеша направился к «Волге».
Подошел. Посмотрел. Шикнул на троих в бронежилетах. Те тотчас убрались. Опять посмотрел. Покачал головой раздумчиво. И наконец постучал в стекло. Еще. И еще. Рябой оторвался от девицы. Рубашку он не снимал, брюк тоже. Транспортный вариант. Повернулся к Вагину, глаза остервенелые, губы мокрые, дыхание со свистом.
Открыл окно наполовину, рявкнул:
— Пошел на…!
Вагин улыбнулся ласково:
— Послушайте, дружище, — сказал он, — не могли бы вы поставить машину в другое место. Мой автобус, — он жестом показал в сторону «рафика», — не сможет выехать…
— Пошел на…! — проревел Рябой и замахнулся на Вагина.
— Вам, наверное, меня просто не слышно, — продолжал улыбаться Вагин. — Мы слишком далеко друг от друга.
Он быстро выставил вперед руку, ухватил Рябого за ухо и с силой подтянул его к себе. Рябой взвыл от боли. Кулак его судорожно долбил по рулю.
— Как ты смеешь, сволочь? — завопила девица и попыталась вцепиться Вагину в лицо. Вагин левой рукой ударил ее по щеке. Крепко. Девица отпрянула назад и замолкла испуганно.
— Теперь слышно? — в самое ухо Рябому нежно проворковал Вагин.
Рябой кивнул очумело.
Вагин отпустил его ухо, прошипел, озлясь вдруг:
— Пошел на…! — и в сердцах саданул ногой по автомобилю.
Нетвердыми руками Рябой завел двигатель и, не взглянув больше в сторону Вагина, с грохотом сорвался с места.
Вагин сунул руки в карманы джинсов и побрел обратно к своим «жигулям».
Иностранцы толпились у зеркала. В фойе. Разглядывали себя, пальцами друг на друга показывали и хохотали звонко и пронзительно. В полный голос. От души. Так, что номерки на свободных вешалках раскачивались и перекликались сухим и беспорядочным стуком. Пластмассовым…
У одной иностранной дамы платье в черной пыли, у другой и вовсе порвано — зацепилась за щепку на перилах, — нижнее белье белеет. У мужчин спины перепачканы и ягодицы, на лицах ссадины, волосы всклокочены.
Вокруг них малый, что при гардеробе, суетится, мягкой щеточкой их обмахивает. Иностранцы отбиваются от него и хохочут, хохочут… Хохоча и в зал двинулись. Зал небольшой, уютный. Много зеркал. Витражей. Пестро. Приглушенный свет. Красно-синий. Зал полон. Только один столик не занят. Переступив порог, трое иностранцев тотчас погасили смех, серьезные лица сотворили, а один, беловолосый, мелкоглазый, все никак остановиться не мог, на него шикали, за одежду его дергали, а он все никак. За столик сели. Официант подошел. Заказ принял. А беловолосый глядит на официанта и пуще прежнего распаляется. С соседних столиков на иностранцев настороженно поглядывают, бармен через стойку перегнулся, хмурится. Три музыканта вроде как даже медленней играть стали, иностранца смеющегося рассматривают. Иностранцам неловко за своего товарища, они вполголоса, воспитанно, пытаются его успокоить. Бесполезно. И тогда одна из дам, та, у которой нижнее белье белеет сквозь дыру на платье, хлопнула беловолосого по щеке. Сноровисто. Привычно. А тот, ну просто теперь закатывается. Тогда она выдернула пробку из бутылки шампанского и содержимое бутылки ему на голову вылила. Беловолосый умолк тотчас, замер испуганный, удивленно стал товарищей своих разглядывать. И вот тут-то второй иностранец захохотал. На беловолосого пальцем показывает, за живот держится и гогочет басисто, на весь зал. Дамы лица руками закрыли, сидят недвижные.
…Музыка умолкла. Танцующие пары остановились, с явным сожалением, потянулись к своим столикам. Сели. Из-за столика, стоящего возле сцены, поднялся мужчина, высокий, с полными округлыми плечами. Длинноволосый, усатый. Ступил на сцену, склонился к микрофону, проговорил негромко, улыбчиво:
— Внимание!.. Прошу всех посмотреть в сторону входной двери! — Все повернулись. Как один. Тихие вмиг. В зал влетел парень, что при гардеробе. Споткнулся, едва не упал. За ним не спеша вошел мужчина, тоже длинноволосый и тоже усатый. Спортивный. Худой. В руке пистолет, черный, громоздкий. Зал вздохнул и выдохнул. И снова ни звука. Слышно, как сковородки шипят на кухне.
— Теперь взгляните на дверь, ведущую в кухню, — сказал тот, что на сцене. — Плечистый.
Дверь распахнулась, и в проем втиснулись испуганные повара. За ними шествовал мужчина с автоматом Калашникова в руках. Мужчина тоже был длинноволосый и усатый. Но в отличие от своих коллег-брюнетов — рыжий. Рыжий, рыжий, волосатый, убил дедушку… и так далее.
— А теперь посмотрите на меня, — попросил Плечистый и тоже вынул пистолет, тяжелый и длинный. — Все понятно?
Сидящие в зале кивнули утвердительно, мол все понятно. Только иностранец все хохотал, показывал пальцем на вооруженных мужчин и хохотал. Особенно Рыжий его веселил.
— Ну замечательно, — одобрил Плечистый. — Теперь я пройдусь по залу и соберу деньги и драгоценности, которые вы сейчас положите на столики.
Спрыгнул со сцены и действительно пошел по залу.
— Отбивные горят, — сокрушенно покачал головой один из поваров. Чуть не заплакал…
— Все в цвет, — сказал Вагин, — не соврал нам стукачок-то наш. Они начали.
Зашипела рация.
— Сто первый, сто первый… Я вижу через окно, они согнали поваров в зал. У одного из них ОКМ, десантный.
— Это Клюев, — объяснил Вагин оперативникам. — Они там с Берцовым у окна кухни. Ну что, мужики, с Богом!.. — Нажал пульт рации, проговорил, сдерживая возбуждение: — Я сто первый!
Пошли!
Взвизгнул стартер «рафика», заныл двигатель — жирно, мощно, ширкнули громко задние колеса, по асфальту разок-другой прокрутившись, и ринулась вперед машина, со свистом воздух пронзая.
Мгновение погодя и «жигули», в которых Вагин сидел, лихо с места слетели и тоже понеслись к кафе.
«Рафик» притормозил мертво у самого крыльца, двери кабины раскрылись, и из нее черными комьями стали вываливаться люди с боевыми автоматами в руках. Несколько человек к входной двери бросились, остальные побежали за угол, ко второму выходу, к окнам кухни.
С заднего сиденья «жигулей» выскочили оперативники с пистолетами, тоже помчались к кафе.
Все было проделано быстро и бесшумно, как на тренировке.
Вагин и шофер остались в машине. Курили.
Вагин выкинул окурок в окно, сплюнул вслед, махнул рукой.
И началось…
С треском и грохотом вылетела входная дверь. Зазвенело разбитое стекло за углом.
С двух входов, с главного и с кухни сотрудники милиции ворвались в зал. Двое-трое из работников заорали громко, зло, угрожающе: «Бросить оружие!… Всем лечь! Быстро! Быстро! Брось пистолет! Башку снесу, сволочь!.. Всем лечь, вашу мать! Кому сказал!.. Убью! Убью! Брось пистолет!..»
Рыжего прижали к стенке, придавили горло стволом автомата, оружие выпало из его рук. Второй, что у входной двери — худой, — так растерялся, что и шелохнуться не успел, его сбили с ног, саданули прикладами пару раз по затылку. Плечистый успел-таки выстрелить, в бронежилет одному из сотрудников попал, того отбросило назад, упал он на пол матерясь — все в порядке, значит, раз матерится-то…
Второй раз усатый-волосатый выстрелить не успел. Пистолет из руки его вышибли, двинули прикладом по лбу, повалили наземь.
Разом тихо стало. Только иностранец продолжал хохотать. Лежал на полу лицом вниз и смеялся безудержно. Вздрагивал.
В зал не спеша вошел Вагин, снял вязаную шапку, длинные волосы закрыли лоб, уши, вынул сигарету изо рта, поискал глазами пепельницу, нашел на ближайшем столике, притушил окурок, сказал:
— Прошу всех посетителей подняться, — усмехнулся. — Уже можно.
Люди стали медленно вставать, отряхивались. Лица растерянные, испуганные.
— Я старший оперуполномоченный уголовного розыска города, капитан милиции Вагин, — продолжал Вагин. — Простите нас за вторжение, за неожиданность нашего появления, простите за то, что причинили вам беспокойство, но сами видите, это было необходимо. — Улыбнулся обаятельно. — Пока прошу не расходиться. Мы должны записать свидетельские показания. Спасибо.
Поклонился благодарно и направился в сторону сцены.
— Симуков, — позвал на ходу, — старших групп ко мне!..
Услышал шум в углу зала. Остановился. Посмотрел через плечо.
— Не трогайте меня! — срываясь на хрип, негодовала молодая женщина. Красное открытое платье. Темные волосы. Длинные. Большеглазая. — Не тыкайте мне в грудь своей железкой! Она холодная!
— Да я… — пожал плечами работник милиции в бронежилете и неловко попытался убрать автомат за спину и, как нарочно, опять задел стволом женщину, мушка зацепилась за платье, платье затрещало.
— Да уберетесь вы, наконец!.. — вскрикнула женщина и со всей силой толкнула сотрудника в грудь двумя руками. От неожиданности тот отшатнулся назад и неуклюже повалился на стол. Посыпались на пол фужеры, тарелки, покатились бутылки…
Плечистому уже надели наручники на сведенные за спиной руки. Рыжему тоже. А Худому нацепить браслеты пока не успели. Оперативник склонился над Худым как раз в тот момент, когда большеглазая красавица оттолкнула работника милиции в бронежилете… Худой, еще лежа, выхватил у сотрудника милиции пистолет из поясной кобуры, кобура оперативника, открытая, ловко вскочил на ноги, со всей силы ткнул милиционера головой в живот, тот завалился назад, непроизвольно взмахнув руками, будто собрался на спине по воздуху поплавать; за те доли секунды, пока сотрудник милиции падал и все вокруг стояли, замерев, растерянные, успел взвести курок, выпрямиться, развернуться в сторону сцены, где больше всего людей в бронежилетах скопилось, и выстрелить. Два раза. Один за другим. Быстро. Почти без паузы. Бах! Бах!
Обученные работники милиции ринулись на пол. С грохотом. Матерясь яростно…
Раскололись витражи на стене за сценой. Посыпались вниз разноцветные стекла, гулко забарабанили по дощатой сцене… Вагин поморщился, услышав выстрелы, чуть втянул голову в плечи, но не повалился наземь, как милиционеры в бронежилетах. Рука его метнулась автоматически под куртку, выдернула из-за пазухи пистолет. Вагин крикнул что-то нечленораздельное, только ему понятное, и нажал на спусковой крючок. Грохнул выстрел.
Худого отбросило назад. Он повалился на пол, звучно ударившись о паркет затылком. Из раны на шее слабо плеснула кровь.
— Педераст… твою мать! — прохрипел Вагин и медленно опустил оружие.
Забился в истеричном смехе иностранец. Заголосили женщины. Тонко. Громко.
Оперативники стали подниматься один за другим.
…На какие-то секунды о Плечистом забыли. Он вскочил на ноги. Одним прыжком забрался на сцену. Со сцены метнулся к двери кухни. Вагин увидел, что руки у него свободны. Браслет наручников блестел только на левом запястье…
— Стоять, сука! Убью! — рявкнул Вагин и стремительно направил пистолет в сторону Плечистого. Поздно. Тот уже был за дверью.
Работники милиции рванулись вслед.
Иностранец хохотал.
Женщины голосили.
…Вагин спрыгнул с окна. Увидел Плечистого метрах в ста, в конце двора, у самой арки.
Две женщины с колясками стоят посреди двора.
Мальчишка — чуть в стороне от них — крепко прижимает к груди собачонку.
Застыли словно. Не шелохнутся.
Кто-то рядом с Вагиным взвел курок автомата.
— Не стрелять, — сказал Вагин негромко. — Люди.
К Вагину подбежал один из оперативников. Смуглый, губастый, волосы жесткие, вьются мелко. Почти негр.
— Начальник, разреши?! — выдохнул он. — Я возьму!
— Давай, Патрик Иванов, — кивнул Вагин.
— Пошли! — крикнул Патрик Иванов.
И работники милиции, грохоча каблуками, помчались вслед за ним.
Вагин подошел к Худому. Убит. Вагин наклонился. Присвистнул, снял с трупа парик, а затем, чуть помедлив, и усы оторвал.
— Так, — сказал Вагин. Поднялся быстро. Подошел к Рыжему. И с него парик сорвал и усы потом. Испуганное бледное лицо. Молодой. Ушастый. Пот на лбу. Вагин вынул пистолет. Поволок обезумевшего от страха Рыжего на кухню. На кухне опрокинул его на разделочный стол. Придавил стволом пистолета его нос. Больно.
Заорал:
— Кто? Фамилия? Имя?
— Хамченко… Олег… Нет! Нет!.. Я не хочу! Я только второй раз!.. Не стреляйте!
— Кто остальные?! — орал Вагин. — Кто?
— Не знаю! Я второй раз!..
— Кто?! — орал Вагин. — Кто?! — и давил стволом на нос. Давил, давил…
— Не знаю!.. Одного Птица зовут… Другого Пинцет… Не знаю! Мне звонил Птица! Он мне деньги давал! Сам меня находил!..
— Так, — сказал Вагин. Выпрямился. Потянул за собой обмякшего Рыжего-Хамченко.
— Где сидел? — спросил.
— В Усть-Каменске.
— Хулиганка?
— Да. Двести шестая, вторая.
— Птица из блатных?
— В законе. Три ходки. Сам рассказывал.
— Парик? Усы?
— Да. У него самого волосы короткие. Как у качков.
— Залетный? Местный?
— Местный. Первая ходка отсюда. Точно.
— Хорошо, — сказал Вагин и подтолкнул Рыжего к двери в зал.
Большеглазая красавица упиралась, когда ее сажали в машину, визжала, дубасила кулачками работников милиции. Один из работников завел ей руку за спину. Поднажал. Большеглазая красавица присела невольно, прохрипела что-то жалобное.
— Отставить! — сказал Вагин, спускаясь с крыльца. — Я сам.
— Из-за нее все, из-за сучки, — недобро проговорил Симуков. — Окуну ее в ИВС. Пущай охолонется.
— Отставить, — с нажимом повторил Вагин. — Я сам.
— Ну-ну, — не стал спорить Симуков. Махнул работникам. Они отпустили женщину.
Мимо провели иностранца. Он хохотал, а из глаз лились слезы.
— Бедняга, — посочувствовал Симуков, — скучает, видать, по дому.
— Простите, — сказал Вагин женщине.
— Не прощу, — ответила женщина, расправляя свое короткое платье.
Вагин с удовольствием разглядывал ее тонкие ноги.
— Работа, — объяснил Вагин. — Кто-то должен.
— Я бы лучше деньги отдала с побрякушками, чем такое видеть! — Женщина откинула волосы назад, посмотрела на Вагина с неприязнью. — Садисты!.. Дерьмо!.. У него кровь из горла. Он же совсем мальчик!
— Успели заметить? — подивился Вагин.
Женщина не ответила. Дышала часто. Зло. Нетерпеливо постукивала длинным каблучком об асфальт.
Вагин какое-то время разглядывал женщину. Улыбался невольно. А потом тоже стал стучать об асфальт — одной ногой, другой, вроде как приплясывал. В такт рукой взмахивал, дирижируя.
— О, Господи, — вздохнула женщина, но постукивать каблучком перестала, покачала головой: — Моя милиция… — И тут же осведомилась жестко, с вызовом: — Я могу идти или я арестована?
— Если б я только знал, — вдруг очень серьезно проговорил Вагин. От усердия даже брови насупил. — Что в этот вечер, в этом кафе, будете вы… Я бы никогда не посмел… я бы никогда не позволил себе сделать того, что сделал сегодня. Я бы воспротивился приказу, я бы воспротивился долгу, я бы воспротивился совести, я бы пошел под трибунал, я бы получил воспротивился совести, я бы пошел под трибунал, я бы получил срок, я бы сидел в студеной зловонной камере. Голодный, больной, искусанный крысами и надзирателями… И вспоминал бы вас… — Вагин горько усмехнулся. Очень горько. — И был бы счастлив…
Умолк, шмыгнул носом, потер пальцами глаза, попросил жалобно:
— У вас не найдется платочка?
— Что? — не поняла женщина. — А, да, да… — торопливо порылась в сумочке, обеспокоенная, протянула Вагину душистый платочек.
— Спасибо, — поблагодарил Вагин, поднес платочек к носу и неожиданно высморкался с пугающим грохотом. Потом еще.
Женщина вздрогнула.
Вагин аккуратно, старательно, высунув язык, сложил платочек, полюбовался своей работой и отшвырнул платок в сторону.
— Не отстирается, — объяснил деловито.
Большеглазая красавица пялилась какое-то время на Вагина оторопело. А потом на платок уставилась. Нежный и одинокий. Покинутый. А потом опять на Вагина взгляд перевела. А потом опять на платок. А потом опять на… А потом хмыкнула, не сдержавшись, — плечи дрогнули. А потом еще. А потом расхохоталась в полный голос. Искренне, не стесняясь, зажмурив глаза, голову назад запрокинув, рот маленькой ладошкой прикрыв… Смеялась. На машину опершись, что позади нее стояла. Смеялась.
И Вагин ухмыльнулся довольный.
Шапку вязаную, черную аккуратно поправил, еще больше ее на глаза натянул. Почесал щеку. Опять ухмыльнулся.
Женщина отсмеялась, покрутила головой, видимо, сама себе удивляясь, посмотрела на Вагина с неожиданным интересом, сказала:
— Да снимите вы эту шапку дурацкую, наконец. Не идет она вам!
Вагин кивнул понятливо. Тотчас стянул шапку с головы, швырнул ее на землю вслед за платком. Женщина усмехнулась. Спросила уже без прежней жесткости:
— Так вы не ответили на мой вопрос, я могу уйти или я арестована?
— Конечно, — ответил Вагин.
— Что «конечно»?
— Можете уйти.
— Так я ухожу, — женщина с подозрением смотрела на Вагина.
— Уходите, — пожал плечами Вагин.
— Ага, — сказала женщина и осторожно ступила в сторону. Повернулась, пошла медленно. Шаг, другой. Все быстрее, быстрее.
— Да, кстати, — Вагин щелкнул пальцами в воздухе. Женщина остановилась вмиг. Застыла. Не оглядывается.
Около нее сотрудники ходят, переговариваются. Курят. А она стоит, не шевелится.
И в воздухе ни дуновения. Тепло. Сухо. Ночь.
— Кстати, — сказал Вагин, — уже поздно. Я провожу вас.
— Не надо, — ответила женщина. — Не надо.
— И все же, — Вагин неторопливо подошел к ней, легко коснулся ее плеча. Тонкое плечико напряглось. Затвердело.
— Не надо, — сказала женщина. — Не надо.
— И все же, — Вагин бережно повернул женщину к себе. Лицо ее непроницаемо. Глаза опущены.
— Ваше право — почти не разжимая пухлых мягких губ, проговорила женщина. — Вы сильней.
— Да, — подтвердил Вагин. — Я сильней.
Он повел ее к «Жигулям».
Милиционеры смотрели им вслед. Ухмылялись.
И Вагин ухмылялся. Радовался.
Или смущался…
Или притворялся…
Или…
И…
Политесно усадил даму, широким жестом открыв ей дверь, махнув рукой, кивнув, мигнув. Галантный.
Обошел автомобиль. А губы все кривятся в ухмылке.
Сесть за руль не успел. Калено ударили фары по глазам.
Охнули тормоза. Вагин зажмурился, загородился рукой.
Хлопнула дверца подъехавшей автомашины.
Патрик Иванов ругался. Грубо. Очень грубо.
Фары выключил.
— Что? — всхрипнув вдруг, спросил Вагин.
— Ушел, сука! — Патрик Иванов яростно встряхнул мертво сжатым кулаком. — У него, видно, на соседней улице тачка была!.. Как в воду! Дерьмо!
Вагин упруго качнулся вперед, ухватил Патрика Иванова за ворот куртки, вскрикнув ожесточенно, зло, губы сломались, прижал оперативника к его автомобилю. Сильно. Голова Патрика Иванова откинулась назад. Он дышал тяжело, прерывисто.
Молчали.
Оба.
В глаза друг другу смотрели. Не отрываясь.
Вагин неожиданно сплюнул рядом с Патриком Ивановым — брезгливо — и наконец отпустил его.
Стоял какое-то время, лицо пальцами мял.
— Иди, — сдерживаясь, сказал потом Патрику Иванову.
Патрик Иванов побрел к своей машине.
Вагин быстро вернулся к крыльцу, поднял свою черную шапку, злясь, напялил ее на самые глаза. А потом и платок поднял, оглядевшись, сунул его в карман.
А милиционеры курили и ухмылялись.
Вагин вырулил со двора. Спросил:
— Куда?
— Днестровская, — ответила женщина.
— Хорошо, — сказал Вагин.
Город темный. Бездонные провалы окон. Кое-где за стеклами свет — изредка яркий, чаще — скупой, скорбный. Многоэтажные дома тяжело нависают над мостовой, давят ее сбоков.
Женщина поежилась.
Вагин посмотрел на нее. Ничего не сказал. Опять перевел взгляд на дорогу. Слабо пожал плечами. А вот теперь и женщина взглянула на него. Смотрела долго. Потом улыбнулась тихо.
Женщина указала на дом. Вагин притормозил. Женщина взялась за ручку двери.
— Минуту, — сказал Вагин.
Повернул женщину к себе за плечи, склонился к ее лицу, потянулся к губам.
Она сморщилась, отвернулась, уперлась рукой ему в грудь.
Вагин откинулся на спинку своего сиденья. Выдохнул шумно. Покачал головой.
— Все? — спросила женщина.
Вместо ответа Вагин протянул ей пачку «Кэмела». Поколебавшись, женщина взяла сигарету. Закурили.
Молчали.
Вагин притушил сигарету в пепельнице. Усмехнулся. Стянул шапку с головы, кинул ее на заднее сиденье и снова склонился к женщине. Поцеловал в щеку, легко, нежно, в висок, в нос, приблизился к губам… Женщина опять отвернулась, но без прежней уже решимости.
Вагин повернул ее лицо к себе. Впился в губы. Обнял крепко. И женщина ответила. Положила руки ему на плечи. Ласково погладила затылок. Левая рука Вагина коснулась ее колен, поползла выше под платье. Женщина вырвала губы, яростно отпихнула от себя Вагина, толкнула дверь, торопилась выбраться наружу, словно воздуха хотела ночного глотнуть — свежего — после тесных «жигулей», после жарких вагинских рук, после его тяжелого дыхания.
Торопилась.
Плащ цеплялся за что-то, мешал.
Тонкая ножка на длинном каблучке подогнулась, ступив на асфальт. И женщина чуть не упала. Чуть.
Вагин следил за каждым ее движением. Завороженный. То и дело глаза вздрагивали.
Мотнул головой. Выбрался тоже.
Женщина быстро шла к подъезду.
Вагин встал на ее пути, взял за руку.
— Нет, — сказал женщина, тряхнула рукой, сбросила его пальцы, обошла Вагина, ступила к подъезду.
Вагин двумя прыжками добрался до двери. Оперся спиной о нее.
— Вот это уже лишнее, — сказала женщина. — Меня ждет муж.
Вагин попробовал улыбаться.
— Замужние женщины в одиночку в рестораны не ходят, — сказал он. Добавил: — В кооперативные.
— Позвольте, — женщина потянулась к двери.
— Познакомьте меня с мужем, — вдруг попросил Вагин. — А?
— Позвольте — повторила женщина. Глаза воспалились.
Влажные. Еще больше сделались. Ярче.
— Нет, правда, познакомьте. — Вагин дернул губами в ревнивой усмешке. — Правда, правда…
— Да уберетесь вы наконец! — туго выцедила женщина.
— Бред, — Вагин беспокойно провел пальцами по лбу. — По-моему, я уже люблю вас…
Неожиданно подался вперед, обхватил ладонями лицо женщины, притянул к себе, стал целовать, горячо, суетливо. Будто в первый раз.
Она кричала сдавленно. Отчаянно отбивалась. Молотила по нему кулачками. А он насытиться не мог. Не мог. Вывернулась все-таки, скользнула вниз из-под его сильных рук, выпрямилась, ударила со всего размаха его по уху, а потом еще по щеке — с тонким и коротким звоном, летящим. Пылающее лицо торжеством сияет.
Вагин опустил руки тотчас, закрыл глаза, открыл вновь, темный, потухший.
— Хорошо, — сказал.
Поднял руку, быстрым и ловким движением сорвал ремешок сумочки с плеча женщины, так что женщина и шевельнуться не успела шагнул к машине, открыл сумочку, мягко желтым замочком щелкнув, вывалил все содержимое на капот машины, порылся в вещах, не торопясь, — ключи, ручки, записные книжки, карандашики, кошелек, косметичка, бумажки, справки, квитанции, паспорт.
Паспорт.
Женщина стояла не двигаясь. Горбилась. Дергалась щека болезненно.
— Машева Анжелика Александровна, — прочитал Вагин. — Год рождения, место рождения… Отделение милиции… Серия… Номер… Адрес… Незамужем…
Смахнул вещи с капота обратно в сумочку, застегнул ее, обернулся, кинул сумочку в сторону Анжелики Александровны, большеглазой красавицы, та едва смогла поймать ее, почти у самой земли, выпрямилась, на лице слезы блеснули.
— Хорошо, — сказал Вагин, и, не глядя больше на женщину, сел в машину, завел двигатель, резво тронулся с низким воем.
Анжелика Александровна Машева, большеглазая красавица, стояла какое-то время ссутулившись, невидяще глядя вслед уехавшей машине, а потом вдруг скорчила непотребную гри-маску и крикнула громко:
— Мент понтярный!
Коридор узкий, без окон, двери по бокам, слева, справа. Плафоны с дневным светом горят через один — экономия, — да и те тусклые, синевато-серые, холодные.
По коридору быстро шел Вагин, руки в карманах, лицо недвижимое. Рядом Патрик Иванов, он то и дело обгоняет Вагина, в лицо заглядывает, пытается взгляд поймать.
А поймать трудно, потому что, во-первых, Вагин на Патрика Иванова и не смотрит, упорно перед собой глядит, а во-вторых, Патрику Иванову вообще сосредоточиться трудно — оперативники то в темноту окунаются, то на свет пыльный выныривают, то окунаются, то выныривают, то окунаются…
Патрик Иванов говорит:
— У этого, у здорового, у Птицы, браслет не защелкнулся, понимаешь? Кожу защемило, а ребята не заметили, а он это почувствовал, и когда лапищи-то рванул в разные стороны, браслет и слетел, понимаешь?.. Дай мне его повязать, дай, дай!.. Африканским своим папашкой клянусь, что повяжу, дай, дай!
Вагин, не отвечал, шагал себе, будто один он во всем коридоре. Вот замедлил шаг, а потом и вовсе остановился возле одной из дверей, толкнул ее, вошел и закрыл ее за собой перед самым носом у Патрика Иванова.
Патрик Иванов ощерился недобро. Стерильно белозубый. Выцедил:
— Ален Делон хренов!
Неспешно зашагал по коридору. Руки длинные, гибкие. Почти не двигаются в такт шагам. Вроде как и не его они. Вроде как поносить взял.
По коридору навстречу два здоровых мужика — короткост-риженные, в белых рубашках, в галстуках, с пистолетами в кобурах под мышками — волокли молодого крепкого парня. Губы у парня разбиты, в трещинах, из носа кровь стекает — две тонкие струйки, черные, блестящие, один глаз распух, закрыт, второй, наоборот, таращится изумленно, не моргает. Висит парень на руках у мужиков, обессиленный, ноги не идут — ползут по яркому веселому линолеуму.
— Он убил свою маму, — печально сообщил один из здоровяков, проходя мимо Патрика Иванова.
— И папу убил, — скорбно добавил второй. — И папу.
Глаза его отсырели. Сейчас заплачет.
И у Патрика Иванова тоже глаза сморщились. Повлажнели.
Патрик Иванов потер их кулаками, жестко, сдержал-таки слезу.
Молодец Патрик Иванов!
Окна в комнате зашторены. Полумрак. Желто светится небольшой экран. На экране мелькают носы, рты, волосы, бакенбарды, глаза, уши, подбородки, щеки, лбы, морщины, ямочки, складки, ресницы, брови, родинки, бородавки, усы, бороды, ноздри, зубы, переносицы. Лица.
— Что? — спросил Вагин, присев на подоконник.
— Не помню, — сказал Хамченко — он устроился на стуле перед экраном. — Не знаю. Не могу. Не умею. Не получается… Что-то с памятью моей стало, все что было не со мной, помню…
— Что? — Вагин повернул голову к серьезному пожилому мужчине в очках, стоящему у проектора.
— Мудозвон, — тотчас откликнулся серьезный мужчина в очках. — Чистый мудозвон.
— Ага, — подтвердил морщинистый сержант, стоящий у двери. — Точно.
— Хорошо, — сказал Вагин.
Спрыгнул с подоконника, раздернул шторы, с сухим хрустом открыл оконные рамы, они задрожали стеклянно, повернулся, подошел к съежившемуся вдруг Хамченко, взял его за шиворот, одной рукой потащил к окну — тот упирался, безуспешно отдирал от себя Вагинскую руку, — повалил на подоконник, спросил вяло:
— Какой этаж?
— Четвертый… — с трудом выдавил из себя Хамченко.
— Городухин и сержант подтвердят, что ты прыгнул сам, — сказал Вагин, полуобернулся к Городухину: — Городухин, подтвердишь?
— А то! — с готовностью отозвался серьезный мужчина в очках.
— Сержант?! — спросил Вагин.
— Или! — лихо козырнул сержант.
— Давайте сначала, — предложил Хамченко.
И опять замелькали брови, носы, ямочки, уши, бороды, морщины…
— Вот, — Хамченко тыкал пальцем в экран. — Вот, — нервничал, боялся, что не поверят.
— Хорошо, — сказал Вагин, взял у Городухина наспех склеенный портрет и вышел из кабинета.
Шел по коридору, разглядывал портрет Плечистого-Птицы, улыбался удовлетворенно. Разглядывал и улыбался, разглядывал и улыбался…
Проходящие мимо сотрудники вертели пальцами у виска и строили страшные рожи…
Вагин открыл дверь в кабинет. Просторный. Светлый. На столах компьютеры. Гудят, мигают, пощелкивают. Будто живые. За тремя компьютерами три девушки.
— Я к тебе, — обратился Вагин к одной из них. Поколебавшись, добавил: — Оля…
Оля медленно повернулась на крутящемся кресле — кресло крутилось неслышно, мягко, маслено — посмотрела на Вагина внимательно. Стройная, худенькая, длинноглазая. В тонком легком платье, коротком. Сидит, скрестив ноги, и рассматривает Вагина, с головы до ног рассматривает, с ног до головы.
— Пора обедать, — заторопилась вдруг одна из девушек, полненькая, вся в сером, будто пыльная. У двери уже обернулась, со значением подмигнула Оле.
— Пора, мой друг, пора, — подтвердила вторая, не полненькая, но тоже вся в сером, будто пыльная.
— Я к тебе, — повторил Вагин, когда пыльные вышли.
— С вещами? — усмехнулась Оля.
— С вещами, — подтвердил Вагин.
— Правда? — подивилась Оля. — И где же они?
Встала, цокая длинными каблучками, прошла по кабинету, под один стол заглянула, под другой, стулья отодвинула, за шторой поискала. Встала, наконец, перед Вагиным, в глаза ему посмотрела, не скрывая иронии.
— Где? — спросила вновь.
— Вот, — Вагин протянул фоторобот.
— Это не вещи, Вагин, — вздохнула Оля, взяла портрет, села к компьютеру. — Это работа.
— Работа, — кивнул Вагин, опустился рядом на стул.
— Словесный портрет, — Оля протянула руку.
— Ах да, — Вагин вынул из кармана бумагу.
— Где он судился? — спросила Оля.
— Здесь, — сказал Вагин. — Иначе бы я не пришел.
— Иначе бы не пришел… — с усмешкой повторила Оля.
Оля нажала на клавиши. Компьютер радостно замерцал.
— Я давно тебя не видела, — сказала Оля.
— Я тоже, — сказал Вагин. Лениво посмотрел в окно. Там было лето.
— Что тоже? — спросила Оля. Пальцы ее продолжали скакать по клавишам.
— Давно тебя не видел, — объяснил Вагин.
— Это естественно, — с легким раздражением проговорила Оля.
— Раз я тебя давно не видела, значит, и ты меня давно не видел…
— Ты думаешь? — Вагин зевнул.
Оля вдруг бросила компьютер и стремительно повернулась к Вагину.
— Вагин… — начала она.
— Что? — невинно спросил Вагин.
Оля какое-то время глядела на него молча, потом опять повернулась к аппарату, ответила:
— Ничего…
Компьютер попискивал по-кошачьи.
— Ты не занят сегодня вечером? — спросила Оля.
— Занят, — ответил Вагин.
— А завтра?
— Тоже.
— Много работы?
— Я не люблю, когда от меня убегают, — сказал Вагин. — Не люблю.
— Я помню, — сказал Оля. — Ты найдешь его.
— Найду, — подтвердил Вагин.
— Ага! — неожиданно воскликнула Оля.
— Что? — Вагин резко поднялся, впился в экран.
— Сычев Леонид Владимирович, 1951 года, уроженец Перми, трижды судимый, тяжкие телесные, разбой, разбой, освободился в июне прошлого года, номера уголовных дел… прежнее место прописки… Клички: Сыч, Филин, Птеродактиль, Птица.
— Хорошо, — сказал Вагин, выпрямился, улыбнулся.
— Значит вечерами ты занят? — спросила опять Оля.
— Занят.
— А сейчас?.. — Оля запнулась на долю секунды. — А сейчас десять минут не найдешь для меня?
— Десять минут? — повторил Вагин рассеянно. — Найду.
Он говорил, а рука его уже тянулась к телефону.
— Гостиница? — проговорил он в трубку. — Кобелькова, пожалуйста, администратора. Да…
Оля тем временем подошла к двери, заперла ее.
Возвращаясь, на ходу сняла платье, осталась в маленьких трусиках, швырнула платье на стул, присела перед Вагиным на колени, стала расстегивать его джинсы, руки ее дрожали, не слушались, верхняя губа вздрагивала нетерпеливо.
— Леша, — говорил Вагин, — это я. Срочно. Сычев Леонид Владимирович. Откинулся прошлым летом. Разбой. Клички Птица, Птеродактиль, Филин, Сыч. Два дня сроку. Ищи, — Вагин осекся, вздрогнул, прикрыл глаза, проговорил тихо: — Ищи, Леша, ищи… — повесил трубку, опустил руку, погладил Олю по волосам, откинул голову назад, простонал тихо, лицо светлое, покойное.
Квадратный зал ресторана. Небольшой. Столиков на десять. Все заняты. Красные стены. Фонтан. Струя тугая, шумная. На стойке бара телевизор. Видео. Поет Патриция Каас.
К стойке подходит Плечистый-Птица, опять в парике, опять с усами, решительно выключает телевизор, говорит громко:
— Внимание! Прошу всех посмотреть в сторону входной двери.
Все посмотрели. И посетители, и официанты. И метрдотель. И съежившийся за стойкой бармен. И даже сам Плечистый-Птица тоже посмотрел в сторону входной двери. Она резко и шумно отворилась, ударилась о стенку, загудела деревянно, отскочила от стенки, с размаху двинула по заду вошедшего уже в зал еще одного усатого-волосатого, тот не удержался, скакнул вперед, руки вытянув, чуть не упал, невысокий, ладный, хрупкий, удержался-таки, в маленькой кисти — длинноствольный пистолет, вздрагивает, тяжелый, крупнокалиберный.
Птица ухмыльнулся, продолжал:
— Теперь взгляните на дверь, ведущую в кухню…
Взглянули. Там потные поварихи с бледными дрожащими лицами, вот-вот в обморок рухнут, но пока стоят, друг за дружку держатся, за ними — третий усатый-волосатый, большеголовый, грузный, пыхтит с посвистом, устал… В руках обрез двустволки, курки взведены.
— Я не могу просто так сидеть и смотреть на все это, — сдерживаясь, вполголоса проговорил находившийся за одним из столиков черноволосый, аккуратно одетый мужчина. — Я не имею права просто так сидеть и смотреть…
— Нет, — сказала сидящая рядом женщина, накрыла своей рукой его сжатый белый кулак. — Нет…
— Я не могу, — повторял черноволосый мужчина — он тер пальцами висок. Что есть силы. Морщился. — Я не имею права… Я не могу… Я же работник милиции. Я же оперативник… Понимаешь?! Понимаешь?!
— Нет, — говорила женщина, искала его взгляд, моргала часто. — Нет, нет, нет…
— А теперь обратите взоры на меня, — весело сказал Плечистый-Птица и тоже вынул оружие — гладкий никелированный пистолет. — Все понятно?
Посетители энергично кивнули, мол, все понятно. Только черноволосый мужчина не кивнул, сидел, выпрямившись, внимательно разглядывал хрупкого налетчика, потом сказал женщине, невесело усмехнувшись:
— Справили рожденьице, мать твою!..
— Нет, — говорила женщина. — Нет, нет, — ее длинные алые ногти судорожно царапали его кулак, оставляя на нем четкие красно-белые борозды. — Нет…
— Я очень рад, что всем все понятно, — одобрил Птица. — Теперь я пройдусь по залу и соберу деньги и драгоценности, которые вы сейчас положите на столики.
— А хрен в задницу не хочешь, сука! — крикнул черноволосый и стремительно метнулся со стула в сторону хрупкого налетчика. Прыжок, другой… Черноволосый сшиб Хрупкого наземь, прижал коленом к полу руку с пистолетом, занес тяжелый круглый кулак над его головой.
— Не надо! — тонко завизжал Хрупкий. — Я боюсь! — замотал головой из стороны в сторону.
— Убери руки, — хрипло заорал Птица. — Убери руки! Убью! Убью!
Вытянул пистолет в сторону черноволосого, переступал с ноги на ногу, нервно, дерганно.
Черноволосый вдруг нахмурился, нагнулся над Хрупким, вгляделся ему в лицо, сорвал усы, выпрямился, ошарашенно взглянул на Птицу…
— Так это… — выговорил растерянно.
И только тогда Птица выстрелил.
Пуля попала черноволосому точно в переносицу. Его швырнуло назад, он рухнул на пол, тяжело, с глухим коротким стуком, выгнул спину на мгновенье, обмяк, замер.
Заголосила женщина, что сидела рядом с ним, повалилась трудно на стол, застучала кулачками по тарелкам, рюмкам, фужерам, руки мокрые от крови…
— Уходим! — закричал Птица. — Уходим быстро! — попятился к кухне.
За ним потянулся и Большеголовый.
— Стоять! — фальцетом выкрикнул Хрупкий. Он уже поднялся, уже опять нацепил усы, стоял, безбровое лицо съежено — не прошел еще испуг, — цепко оглядывал зал. Поднял руку с пистолетом, выстрелил в потолок. Посыпалась сверху белая пыль.
Хрупкий выкрикнул высоким голоском:
— Деньги и драгоценности на стол!
Посетители зашевелились, стали суетливо шарить по карманам, раскрыли сумочки, расстегнули кошельки, развернули портмоне.
Птица и Большеголовый переглянулись, нехотя вернулись в зал.
— Давай, милый, действуй, — устало сказал Хрупкий, сел на ближайший стул, закинув ногу на ногу, достал пачку сигарет «Мальборо», закурил, щурил левый глаз от дыма.
— Пожалуйста, пожалуйста, — со всех сторон к Птице тянулись руки с деньгами, с перстнями, с кулонами, с цепочками, с бусами, с ожерельями, с подвесками, с брошами, с заколками, с серьгами. — Пожалуйста…
Ворота были железные, тяжелые, и поэтому отворялись долго и с натугой. Створки расползались нехотя, медленно и нудно скрипели. За воротами стоял хмурый милиционер, тер глаза, будто со сна, а за милиционером виднелся двор, и во дворе желтели милицейские машины-«газики», а за «газиками» блестели мытым стеклом большие двери, и на стекле было написано «Дежурная часть», а возле дверей стояли люди, и в штатском, и в милицейских мундирах, и все как один смотрели на ворота. Молчали. И не курили даже.
Наконец, ворота открылись, и во двор въехали два автобуса и пыльный грузовик с глухим фургоном — «воронок».
Из первого автобуса вышел Вагин. Он был в бронежилете, в руках держал десантный автомат. На лице пот, в зубах сигарета.
— Ну? — спросил один из стоящих у дверей офицеров — розовощекий, упитанный майор.
— Пятнадцать, — ответил Вагин, размял затекшие ноги, отшвырнул окурок в сторону. — Как минимум четверо в розыске. Остальных привязывать будем. Кто-нибудь да опознает… Вымогатели, воры. Семь человек со стволами. На завтра надо выдернуть всех терпил. И «поджопных» тоже.
— Терпил-то мы вызовем, — согласился майор. — Конечно. Мы обязаны, — после паузы заговорил громче, внятней. — А что касается тех, заявления которых, как ты выражаешься, якобы подложены под мягкое место наших сотрудников, то есть сокрыты, этих не получится, потому что такое безобразие, как сокрытие заявлений граждан, в нашем подразделении не имеет место быть… — повернулся к офицерам, заметил с усмешечкой: — Без году неделя в управлении, а туда же, в командиры… Резвый!
Вагин, не торопясь, подошел к майору, ткнул ему в живот стволом автомата, сказал ласково, улыбаясь:
— И «поджопных» тоже!
— Хорошо, — кивнул майор, розоватость со щек пропала, появилась бледноватость. — Конечно…
Задержанных вытаскивали из автобусов, из «воронка», и, подталкивая в спину прикладами автоматов, гнали бегом в «дежурку». Иногда кое-кто сопротивлялся и кричал примерно такие слова: «За что повязали, суки ментовские?! Требую прокурора, и адвоката, и иностранных журналистов!»
Таких били.
Не сильно, правда.
Для острастки.
Помогало…
Вагин стоял у деревянного барьера, за которым сидели дежурные офицеры, снимал бронежилет.
Неподалеку, тоже возле барьера, откатывали «пальцы» одному из задержанных, здоровому мордатому малому. Малый был весь в коже — брюки, куртка, галстук — модный. Склонив к плечу голову, он сонно наблюдал за милиционером, который возился с его руками.
Вагин снял, наконец, бронежилет, положил его на барьер рядом с автоматом, сказал офицеру, устало шевельнув пальцами:
— Принимай.
Малый повернулся в его сторону, усмехнулся, заметил негромко:
— Зря ты так, начальник, со мной. Несправедливо. Я сидел в симпатичном кабачке, выпивал, закусывал. Не грабил, не убивал. А ты меня в контору. Несправедливо. Я очень не люблю, когда несправедливо. Когда по справедливости, когда с «поли-чняком», тогда другое дело, а так… — малый осуждающе покачал головой, добавил грустно: — Пожалеешь, начальник, ох пожалеешь…
— Ты кого пугаешь, шантрапа подзаборная? — не поворачиваясь к малому, очень учтиво и любезно проговорил Вагин. — Меня, офицера милиции? У тебя что-то случилось с головкой?! Да? — засмеялся. — Я сейчас приведу ее в порядок! Я умею!
Сказал и тотчас стремительно сорвался с места, цепко ухватил малого одной рукой за ворот, другой за волосы; рыча, свирепея, потащил его к решетчатой двери камеры, за которой, прижавшись друг к другу, теснились задержанные, ударил малого лицом о решетку — задержанные испуганно отпрянули от двери, охнув разом, потом ударил еще, еще…
Малый заныл тонко. Заголосили, оклемавшись, задержанные. Два милиционера повисли у Вагина на руках. Малый упал, выл по-собачьи, лицо в крови, черное.
Вагин одним движением сбросил милиционеров, подошел к двери камеры, выговорил ясно и четко:
— За убитого вчера старшего лейтенанта милиции Ходова я дал себе слово положить десятерых таких, как вы, — Вагин рукавом вытер пот с лица, сказал буднично: — И положу…
Он недолго постоял во дворе. Щурился на солнце, рассеянно наблюдал, как водители милицейских автобусов прибирали салоны машин. Курил без желания. Бросил сигарету. Поднял голову к солнцу. Глаза закрыты. Лицо ясное, мягкое. Потянувшись с удовольствием, как после доброй ночи, закинул руки за голову, вздохнул глубоко, медленно выдохнул… Открыл глаза, улыбнулся вяло, пробормотал едва слышно:
— Ну и что?
Она сидела возле самого его кабинета. На стуле. Не на стоявшем рядом удобном диванчике, а именно на стуле. На стуле она, конечно, выглядела строже и официальней, чем могла бы выглядеть на диванчике — это точно. Но все равно на нее смотрели — все, кто проходил по коридору, — и сотрудники, и посетители, и уборщица со шваброй и громыхающим ведром и легким матерком, и электромонтер с чемоданчиком, в кепке и с лампочками в карманах. Кто в упор смотрел, кто искоса поглядывал, а электромонтер, чтобы еще раз ею подивиться, даже из-за угла высунулся, одна лампочка у него выскользнула из кармана, упала, но, что интересно, не разбилась, а покатилась по полу, по коридору, но электромонтер не пошел за ней, не поднял, застеснялся. Патрик Иванов несколько раз туда-сюда прошествовал, сначала без всего, с пустыми руками, потом, суровый, прошагал, пистолетом пощелкивая, вроде как проверяя его исправность, и наконец с десантным автоматом пробежал. Однако ноль внимания. Она даже не подняла на него глаз. Сидела в своем узком белом костюме, ногу на ногу закинув, тесная юбка почти до середины бедер задралась — ноги тонкие, туфли на шпильках длинных, курила «Мальборо», чуть сощурив длинный глаз, губы нежные, слегка вспухшие, как после сна, нет, как после сладкой истомы ночной, как после любви.
Как после любви.
Он замедлил шаг, когда ее увидел, но только на мгновенье, а потом, наоборот, зашагал быстрее, и даже быстрее, чем следовало бы.
Анжелика Александровна Машева. Большеглазая красавица.
Она подняла глаза ему навстречу, улыбнулась скромно, отшвырнула сигарету за спину, сигарета, беспорядочно кувыркаясь, сделала дугу и упала точно в отверстие белой керамической урны, а вслед за сигаретой она кинула за спину смятую пачку дорогостоящих американских сигарет, которую до этого непроизвольно комкала в руках, и смятая пачка тоже описала дугу и тоже провалилась в черную дыру чисто вымытой недавно проходившей уборщицей урны. Из-за угла выглянул электромонтер в кепке и с лампочками в кармане и оценивающе покачал головой — он так не умел, а хотел бы, очень даже хотел бы.
Вагин остановился перед женщиной, смотрел, тер щеку пальцами, морщился, как от света резкого, наконец ступил к кабинету, распахнул дверь, жестом указал в глубь кабинета. Она встала, поправила костюм, не глядя на Вагина, переступила порог. Вагин закрыл дверь за собой, приблизился к столу, сел, женщина продолжала стоять, Вагин пошевелил губами, потом бровями, тоже встал, провел ладонями по волосам, вышел из-за стола, взял стул от стены, придвинул его к женщине, и только тогда она села, Вагин обошел ее, осторожно опустился в кресло, выдохнул, постучал пальцами по гладким, полированным подлокотникам, потом вынул из кармана ключи, повернулся к сейфу, открыл его, долго рылся там, залез с головой, шуршал бумагами, гремел пустыми бутылками, наконец выбрался из сейфа, улыбался, довольный, положил на стол перед женщиной конфету в затертой обертке «Маска». Женщина кивнула, развернула конфету, положила ее в рот, жевала, Вагин какое-то время с удовольствием смотрел, как она жует, потом с грохотом, от которого женщина вздрогнула, закрыл сейф, бросил ключи в карман куртки. Женщина дожевала конфету: щелкнула замком сумочки, извлекла оттуда новую пачку «Мальборо», вскрыла ее острым коготком, взяла одну сигарету, протянула пачку и зажигалку Вагину. Вагин тоже вынул из пачки сигарету, прикурил, а пачку и зажигалку положил в карман куртки, зажигалка и ключи от сейфа весело звякнули, встретившись друг с другом. А женщина так и осталась с незажженной сигаретой, она недоуменно уставилась на Вагина, а Вагин тем временем сосредоточенно курил, пускал густой серый дым изо рта, из носа, на женщину не смотрел, смотрел рядом, смотрел мимо, на пустую стену напротив смотрел и поэтому не видел, как женщина высоко подняла брови, удивляясь, что он не дал ей зажигалку, чтобы она смогла прикурить. Тогда она встала, положила незажженную сигарету «Мальборо» в пепельницу, аккуратно вынула из пальцев Вагина — он не сопротивлялся — его почти докуренную сигарету и тоже положила ее в пепельницу Осталась стоять. Вагин нахмурился, но тоже встал.
Разглядывали друг друга.
Разделенные столом письменным.
Будто не виделись никогда.
Разделенные столом чиновничьим.
Стол широкий, длинный-длинный. Для начальничьего кабинета.
В глазах радуга. Семь цветов. И у Вагина. И у женщины. Яркие до боли.
Разделенные столом…
Она подалась чуть вперед. Губы разомкнула. Влажные. Теплые. И он склонился. Глотал слюну часто-часто, с трудом дыхание сдерживал.
Глаза у нее взбухли вдруг. Будто заплачет сейчас.
Еще немного, еще чуть-чуть, последний дюйм он трудный самый…
Коснулись губы друг друга. Легко. Пухово. Невесомо.
Как в сказке.
В жизни так не бывает.
Хоть застрелись из пистолета Макарова.
Но вот вздрогнули губы — ну него, и у нее, — разомкнулись, затрепетали обеспокоенно…
Этот стук в дверь их вспугнул, настойчивый и громкий. Взлетели губы и опустились тотчас по разные стороны стола. Разделенные столом милицейским…
— Ну?! — только и сумел выдохнуть Вагин.
Дверь заскользила бесшумно на ухоженных петлях. Открываясь.
На пороге — Оля, та самая, что из информационного центра, та самая, что с компьютером на пару Вагину фамилию злодея отыскала, та самая, что в коротком платьице и ничего из себя. Одна рука ее в дверной косяк уперлась, другая — в упругое бедро. Оля окинула взглядом посетительницу вагинского кабинета, усмехнулась едва заметно уголком розово-помадно-скользко-блестящих губ, мол, что это такое тут сидит. ЧТО ЭТО ТАКОЕ тут сидит? И пошла, покачиваясь на стройных ножках, к вагинскому столу, села на уголок, спиной к посетительнице, склонилась к лицу Вагина, открыла рот, чтобы сказать что-то, Вагин остановил ее жестом, повернулся к женщине, проговорил с трудом, предварительно откашлявшись тщательно:
— Вы простите, — опять откашлялся, — Анжелика…
— Лика, — с готовностью подсказала женщина. — Просто Лика. Для вас…
— Простите, — повторил Вагин. — Ну? — поднял лицо к симпатичной Оле.
Зашептала что-то Оля скороговоркой ему на ухо. Вагин кривил брови, вслушиваясь, кривил щеки, кривил лоб.
— Ну и что? — спросил, так ничего и не поняв.
Оля выпрямилась, потянулась сладко, выгнула спину, чтобы Вагин, а может, и не только Вагин, грудь ее разглядеть сумел — очень трудно было эту грудь разглядеть — очень она крупная и очень тяжелая, — произнесла томно:
— Ну хорошо. Потом.
Вышла гарцуя. Славная.
Дверь закрылась особенно нежно, и особенно мягко, и особенно бережно, и особенно бесшумно, будто и не было этой самой двери, а вместо нее болтался на смазанных петлях толстенький матрасик от полутораспальной кровати.
Так выражала симпатичная Оля свою радость по поводу появления в кабинете старшего оперуполномоченного уголовного розыска управления внутренних дел города, капитана милиции Вагина А. Н., большеглазой женщины по имени Лика.
Славная.
Так вот, как только закрылась дверь, Вагин встал нетерпеливо, не отрывая глаз от Лики, и даже не моргал. Так-то.
Лика поднялась, через мгновенье после него, через долю мгновенья, через тысячную долю мгновенья.
И опять коснулись друг друга губы.
Разделенные столом оперуполномоченным…
Вагин взял женщину за плечи, крепко. Цепко. Надежно.
Держал.
Целовал беспощадно.
Захлебывался.
Как тогда, в пятнадцать лет, под Одессой, в Коблеве, на пляже, ночью, тоненькую девочку по имени Марита.
…Или Карина.
…Или Лолита, ну да бог с ним, с именем…
Главное, все повторилось!
Волшебство.
Хоть застрелись из пистолета Макарова.
Лика закинула одно колено на стол, затем второе, затем третье… нет, насчет третьего это, пожалуй, перебор, приблизилась вплотную к Вагину, еще сильнее впилась в его жадный рот, непроизвольно навалилась ладным тельцем своим на него. Он не удержался, рухнул вместе с Ликой в кресло, и кресло не удержалось и рухнуло вместе с ними на пол…
Они лежали на полу рядом с креслом и хохотали безудержно, будто не было Жизни, будто не было Смерти.
Из кабинета вышли серьезные, строгие. Друг на друга не глядели. Вагин запер кабинет, и они зашагали по коридору, быстро и деловито. Чуть впереди плохо сосредоточенная Лика, чуть позади хмуровато-рассеянный Вагин.
У окна курила Оля.
У окна курила Оля.
У окна курила Оля.
Уже у самых входных дверей, у дежурки, Лика коснулась руки Вагина, сказала:
— Я сейчас…
Вернулась туда, где курила Оля. Подошла вплотную, проговорила тихо, с явным сочувствием:
— Он не любит небритых женщин.
— Что? — Оля непроизвольно вскинула руку к лицу, провела по щеке.
— Не любит, — вздохнула Лика, повернулась, пошла обратно, едва сдерживала смех.
Оля растерянно трогала подбородок, шею…
«Жигули» неслись по городу. Вылетали на встречную полосу, ныряли, под красный светофор, с бешеной скоростью проскакивали перекрестки.
Офицеры ГАИ отдавали им честь.
Они мчались по широкому загородному шоссе. Солнце слепило. Ветер пьянил. Лика слепила. Лика пьянила…
Оля стояла перед зеркалом в туалете. Почти голая. В узких белых трусиках. Скомканная одежда — на полу. Нервно разглядывала себя со всех сторон. Сейчас заплачет, бормотала обиженно:
— Ну где небритая? Ну где небритая?
А в конце пути была гостиница. Называлась она «Сосновый бор». И она действительно находилась в сосновом бору. Так что те, кто ее так называл, нисколько не покривили душой, когда придумывали название. Хотя, конечно, могли ведь по невежественности своей назвать гостиницу и «Еловый бор», или там «Пихтовый бор», или того хлеще «Березовая роща», ан нет, молодцы все-таки оказались, видно, посоветовались со специалистом-биологом, видно, на место его вывозили, консультировались, какой же это все-таки бор, а он им раз так, с ходу, и заявил, специалист как-никак, разбирается, мол, сосновый это бор, а не пихтовый, не кедровый, не еловый и даже, хлеще того, не березовая роща…
Вот так и назвали эту гостиницу «Сосновый бор».
Была она маленькая, уютная. Четыре этажа. Просторные широкие окна. Стекла чистые, прозрачные, как воздух, разноцветные занавески, в каждом окне разные, горшочки с домашними растениями на подоконниках.
Впрочем, все, как в любой советской гостинице.
Перед входом, во дворе сверкают на солнце идеальной полировкой не русские машины, и даже не грузинские, и даже не узбекские. Неплохие машины…
Вагин миновал низкие воротца. Ехал, лавируя меж не русских машин. Навстречу ему спешил высокий мужчина в черном костюме, с маленькой аккуратной бабочкой у горла. Подошел. Загорелый. Улыбчивый. Пожал руку Вагину, воспитанно коснулся руки Лики, поклонившись, жестом позвал гостей за собой. Двинулся обратно к гостинице. Лика и Вагин — за ним. Держатся за руки. Как дети. Как в детском саду на прогулке.
Швейцар им поклонился. Портье привстал, приветственно помахал рукой, лифтер поднял над головой сжатые замком ладошки — мир, дружба, пхай, пхай… Люди, что были в фойе, провожали их внимательными взглядами. Кто они такие, эти двое? Откуда? Зачем?
Человек с бабочкой остановился перед высокими стеклянными дверями. Улыбался загадочно. И вот торжественно взмахнул руками, как дирижер перед оркестром, и опустил их плавно, и бесшумно открылись двери, и тотчас заиграла музыка — скрипки — и Вагин с Ликой переступили порог, попали в снежное царство: белые столы, белый потолок, белый пол, белые занавески, белые столики, белые стулья, белые тарелки, рюмки и фужеры словно изо льда, и белые цветы, и белые скрипки в руках музыкантов, и белые музыканты, и белые официанты…
Только один метрдотель в черном. Так положено. Его должны видеть.
Все.
— Какой столик желаете? — спросил он Лику и Вагина. Склонился к Лике, добавил вполголоса: — Любой к вашим услугам. Они все заняты вами.
— Какой столик желаете? — тихо-тихо повторило эхо.
— Какой столик желаете? — подхватили официанты.
Лика зажмурилась, крепче сжала руку Вагину, улыбалась безмятежно, открыла, наконец, глаза — светящиеся, — показала на столик у окна.
Засуетились официанты, отодвинули стулья, смахнули с них невидимую пыль, усадили бережно единственных своих гостей, заспешили на кухню.
К скрипкам подключился рояль, незаметно, легко, и слышно было, что они очень любят друг друга и скрипки и рояль.
Шипело шампанское в льдисто-хрустальных бокалах, в сахарно-фарфоровых вазах сверкал изумрудом влажный виноград, розово светились бархатные персики, кровью отливала спелая вишня.
Лика поцеловала ладонь, коснулась ею щеки Вагина.
Смотрела на него. С Восторгом. И Болью. С Желаньем. И Страхом.
Неужели правда? Неужели сказка сбылась?
Этого не может быть.
Этого не может быть.
Хоть застрелись из пистолета Макарова.
Вагин не отпускает ее руку, целует, гладит ею свою щеку, губы, глаза.
Одна бутылка шампанского уже выпита и унесена, на столе появилась другая, и снова шипит вино в бокалах.
А закуска так и не тронута.
Рдеют помидоры, масляно блестит икра, манит осетрина, и прочая, и прочая, и прочая…
Нежатся в музыке скрипки с роялем.
Черный метрдотель склоняется к самому уху Вагина, прикладывает руку к груди, что-то быстро показывая на дверь. Вагин не слышит поначалу, что ему говорит этот назойливый человек, и купается в ЕЕ глазах. Потом морщится, начинает что-то понимать, кивает согласно.
За стеклянными дверями, в фойе, толпится народ. Женщины, мужчины. Много иностранцев. Еще больше наших. Не иностранцев. Судя по виду, это фарцовщики, проститутки, рэкетиры, мошенники, воры, грабители, просто спекулянты и другие странные личности жуликовато-чиновничьего вида.
Они галдят. Грязно ругаются. По-русски и по-английски, и на других разных языках, кто какой знает, стучат кулаками в стеклянные двери и вообще ведут себя неприлично.
Лика и Вагин поднялись — и снова рука в руке — пошли за метрдотелем в сторону второго выхода.
Двери, наконец, открыли. Толпа с гиканьем ворвалась в зал. Два официанта были сбиты с ног. Несколько столиков опрокинуты. Побиты тарелки, рюмки и фужеры. Ну а в целом все обошлось благополучно.
Уже ночь. Уже светят звезды. Много звезд. Завтра будет славный день. Они лежали на траве и смотрели на небо. Долго смотрели. Так долго, что официант, который стоял неподалеку от них возле черного входа в ресторан, устал держать поднос с шампанским и, плюнув на приличия, поставил поднос на землю и закурил.
Вагин повернулся к Лике, погладил ее лицо, поцеловал, прижал к себе, целовал сильнее, задыхался, ладонь его поползла по ноге женщины. Выше, выше… Она вскрикнула, не сдержавшись…
— Погодь, — проговорил кто-то неподалеку. — Давай поглядим. как он ее трахать будет, — говорил с трудом. Язык тяжелый.
Вагин, раздраженный, приподнялся на локте. За оградой стояли два мужика в расстегнутых белых рубахах и пялились на Вагина и Лику.
— Не-а, — сказал второй, — не будет.
— Будет, — настаивал на своем первый. — Я бы точно стал, — икнул.
Вагин вынул пистолет и стал угрожающе подниматься.
— А-а-а-а-а! — заголосили мужики и, спотыкаясь, убежали.
— Ха-ха-ха! — посмеялся официант и закурил еще одну сигарету.
Вагин сплюнул, сумрачный, недовольный, убрал пистолет, подал руку женщине.
Просторный гостиничный номер. Огромная кровать. Два толстых кресла. И повсюду свечи. Повсюду. На столике, на тумбочках, на шкафу, на телевизоре, на подоконнике. И все горят. Все. Вагин обнял женщину, расстегнул жакет на ней, коснулся ее груди, снял жакет, осторожно, медленно, прошуршал молнией юбки. Женщина осталась в одних белоснежных крохотных трусиках…
За стеной кто-то застонал, громко, со сладкой истомой — женщина, потом проревел что-то мужчина, заныла кровать.
Вагин скривился, злясь, оскалился, выдернул из кобуры пистолет, шагнул к двери. Лика повисла на нем. Смеялась.
…Она опять не сдержалась, закричала, когда он вошел в нее. За стеной тотчас замолкли.
Слушали.
Пусть.
Не надо стесняться радости.
— Я люблю тебя, — сказал он потом.
— Я люблю тебя, — сказала она потом.
I love you. Je t’aime. Ti amo. Ich liebe dich. Uo te quieao.
Блеклый день. Будто пыль в воздухе клубится. Невесомо. Никак не осядет.
Машина стояла у тротуара.
По тротуару шли люди. Много людей. Очень. Тротуар был для них тесен. Они задевали друг друга плечами, руками, а некоторые даже умудрялись задевать друг друга и ногами. Поэтому самые нетерпеливые, а может быть, самые умные, спрыгивали с тротуара и шли по мостовой. А по мостовой ехали автомобили. Много автомобилей, хотя, конечно, меньше, чем людей на тротуаре. И эти самые автомобили иногда задевали людей, идущих по мостовой, и тогда самые нетерпеливые из людей, а может быть, и самые умные, вскакивали на тротуар и, помогая себе плечами, руками и ногами, решительно втискивались в плотный поток себе подобных… Они задевали друг друга руками, плечами, и даже ногами, и поэтому самые нетерпеливые из них, а может быть, самые умные, спрыгивали с тротуара и шли по мостовой…
Машина стояла у тротуара.
За рулем был Вагин. Он сидел, откинувшись на спинку сиденья, а ноги его располагались на передней панели, по обе стороны от руля. Так ему было удобно. Он вообще всегда стремился к тому, чтобы ему было удобно, и этим, в частности, отличался от подавляющего большинства людей, которые стремятся, чтобы им было неудобно.
Вот такой был Вагин. Вот такой был. Вот такой. Вот.
…Салон был до отказа набит сладкоголосым Томом Джонсом. Вагин слушал магнитофон. Громко. Семидесятые годы. «Естедей».
Смотрел в одну точку перед машиной. Рассеяно. Стеклянно. Сигарета приклеилась к губе, висела невостребованно, слабо дымилась…
А потом Вагин резко поднял руки, сдавил ладонями голову, съежил лицо, зажмурился, простонал коротко, стремительно выхватил из магнитофона кассету, с силой вышвырнул ее в окно. Чье-то равнодушное колесо наехало на кассету. Она хрустнула пластмассово. А Вагин оскалился, довольный, сказал:
— Ха!
В стекло кабины постучали легонько, ногтем. Вагин повернулся к тротуару, в окно заглядывал мужчина лет тридцати, весь джинсовый, в жокейской кепочке с длинным козырьком. Вагин открыл дверь, мужчина сел, сказал без особой радости:
— Привет.
— Здравствуй, Кобельков, — ответил Вагин, завел двигатель, тронулся с места.
— Отчего так официально? — спросил Кобельков, посмотрел на себя в зеркальце заднего вида, натянул кепку поглубже.
— Нравится мне твоя фамилия, Леша, — Вагин ловко влился в автомобильный поток. — Я бы с удовольствием и даже с гордостью носил бы такую фамилию. Она отражает нашу с тобой сущность.
— Это точно, — согласился Кобельков. — Ты кобелек знатный.
— Да и ты не промах, — весело отозвался Вагин. — Есть две вещи, ради, которых стоит жить. Это работа и женщины.
— И справедливость, — добавил Кобельков.
— Несколько не из того смыслового ряда, — усмехнулся Вагин. — Но в общем верно.
— Справедливость — это месть, — веско заметил Кобельков. — Так что из того ряда. Работа, женщины, месть.
Вагин неожиданно затормозил. Машина замерла посреди мостовой. Автомобили загудели сзади, из окон высовывались водители, матерились.
Вагин повернулся к Кобелькову, посмотрел на него внимательно, поискал что-то в лице его, неизвестно, нашел или нет, да неизвестно, что искал-то, проговорил тихо:
— Справедливость — это месть. Верно.
Взялся за руль, включил передачу, поехал. Разогнался. Летел на сумасшедшей скорости. Смотрел вперед, хмурился туго, на скулах вдруг бугорки вспухли, побелели, руки крепко руль держали, очень крепко, пальцы словно высохли.
С трудом отклеил ладони от руля, стер тонкий слой пота со лба, выговорил жестко:
— Но месть — не всегда справедливость! — и крикнул вдруг, не сдержавшись: — Месть — не всегда справедливость! Ты понял?! Понял?!
— Конечно, конечно, — опасливо косясь на Вагина, закивал Кобельков. — Конечно…
Вагин сбросил скорость, вздохнул, выдохнул с шумом, морщась, потер рукой грудь, успокаиваясь, спросил коротко:
— Ну?
— Есть человек, который может вывести на Птицу, — начал Кобельков.
— Кто?
— Лева Дротик.
— Слышал про него. Наркота?
— Наркота, — кивнул Кобельков. — Но не только. Он помогает Птице сбывать ружье и камни.
— Хорошо, — одобрил Вагин. — Что на него?
Кобельков вздохнул горестно:
— Лучших дружков тебе отдаю…
— Ну, ну! — торопил его Вагин.
— Завтра Дротик принимает товар. Гастрольная команда из Харькова сдает. Героин.
— Когда? Где?
— В «Северном», часов в восемь.
— Почему в кабаке? Почему не на хате?
— Харьковские боятся, что Дротик их обует, стволы, каратисты, то, се… В кабаке безопасней. Народ. Менты. Да и оглядеться можно.
— Хорошо, — сказал Вагин.
Кобельков снова вздохнул.
— Ну что еще? — Вагин полуобернулся к Кобелькову.
— Ты его будешь брать?
— Непременно.
— Плакала моя доля… — запечалился Кобельков, пропел грустно: —Ах мой бедный порошок, сладкие часочки…
— Много? — спросил Вагин.
— Тебе года на три роскошной жизни хватило бы.
— Мне хватает и зарплаты, — сказал Вагин.
— Дуракам всегда зарплаты хватает, — опрометчиво заметил Кобельков.
И Вагин опять вдавил педаль тормоза. Застыл автомобиль в самой середине разгоряченного железного строя.
Вагин ухватил Кобелькова за ворот куртки, притянул его к себе, выдавил, ярясь:
— У меня материала хватит, чтобы вкатить тебе потолок. Но я этого делать не буду. Слишком жирно. Я пристрелю тебя. А труп сброшу в речку. С камушком на шее. И никто. Никогда. Тебя. Искать. Не станет!
— Виноват, капитан, виноват, — испуганно зачастил Кобельков.
— Вон! — тихо проговорил Вагин.
Кобельков поспешно выбрался из машины.
Гудели клаксоны. Неистовствовали водители.
Подбежал «гаишник». Сухой. Строгий. Постучал жезлом по крыше, потребовал высокомерно:
— Документы!
— Да пошел ты на… — рявкнул Вагин и сорвал машину с места. С воем. И с визгом. Восхищаясь сам собой.
Вагин посмотрел на часы. Сощурился, что-то прикидывая. Потом сунул руки в карманы брюк. Огляделся. Тихая улица. Одинокие прохожие. И уж совсем редки автомобили. Проехали два-три, пока Вагин тут топчется. Зато много автомобилей у тротуаров. Стоят. Разные. Немало не русских, и не узбекских, и не грузинских… Обыкновенные иностранные автомобили. Ничего особенного. Хотя и русских тоже хватает — «чайки», «жигули», «ВОЛГИ», «москвичи»
«Запорожцев» нет.
Владельцы автомобилей в ресторане. Ресторан называется «Северный». Он занимает два этажа старого толстостенного четырехэтажного дома. Широкая многоступенчатая лестница перед входом. Как перед дворцом каким. Влажно блестит — мытая. Тяжелые стеклянные двери. Прозрачные — ни пылинки. За ними просматривается фойе. Красные стены. Белые зеркала. Люди. И мужчины. И женщины. И все в вечернем, изящном, фирменном, складно сшитом, дорогом, в меру вольном, в меру строгом.
Модный ресторан. Один такой во всем городе.
И Вагин тоже модный.
И, конечно же, один такой во всем городе.
И он знает это.
Сегодня он не в курточке, не в джинсиках, не в кроссовочках — нет. В темном, отлично посаженном костюме, в светлой сорочке, в дорогом галстуке. Голливудская звезда на вручении «Оскара». Да и только.
Опять посмотрел на часы. Покрутил головой недовольно. И тут услышал приглушенное шипенье рации из микрофончика у воротника сорочки, а затем голосок, мужской:
— Ты ждешь меня, дорогой?
— Ты где? — тихо негодуя, выцедил Вагин.
— Я спешу к тебе милый! Лечу, лечу…
— Не засоряй эфир, мать твою… — прогаркал Вагин.
— Не засоряй эфир, мать твою, — эхом повторил голос. — Не засоряй…
Вагин ухмыльнулся, не удержавшись.
Через несколько минут возле Вагина тормознул «жигуленок». Вышел Патрик Иванов. В белом костюме. Ослепительный. С алым цветком в руках. Гвоздика. Улыбался снежно. Протянул цветок.
— Это тебе, любимый! Это тебе!
— Ты — душка, — хмыкнул Вагин.
— Я знаю, — вздохнув, сказал Патрик Иванов. Оторвал у гвоздики длинный стебелек, пристроил цветок в петличке у Вагина.
— Ты — душка, — томно заметил Патрик Иванов.
— Я знаю, — не вздыхая, согласился Вагин.
Они направились к ресторану.
— Кстати, — Патрик Иванов остановился. Полез в карман, достал темные очки, несколько мгновений поколебавшись, надел их, проговорил, оправдываясь: — Чтоб не узнали.
Вагин тоже полез в карман и тоже достал очки. Только не темные. С обычными простыми стеклами. Не колеблясь, надел их, проговорил, не оправдываясь: — Чтоб не узнали.
Они посмотрели друг на друга и расхохотались.
Патрик Иванов с легкой опаской, оглядываясь. Вагин без стеснения и без оглядки.
Метрдотель был вислощекий и неповоротливый. Но обаятельный.
— У вас все заказано? — спросил оперативников как родных, встречая их у входа в зал.
— У нас заказано, — ответил Вагин. — На фамилию Патрисов-Лумумбов.
— Есть такая фамилия, — радостно воскликнул метрдотель, распахнул руки. — Прошу.
Патрик Иванов обнажил крепкие влажные зубы:
— Мальядец, мальчижка, карашо, ха-ха-ха! — потрепал метрдотеля по плечу. Метрдотель расплылся в ответной улыбке. Потом все вошли в зал. Зал был очень большой. Круглый. Красно-белый. Полутемный. С перегородками между столиками. С ярко высвеченной эстрадой. С просторной танцевальной площадкой перед ней. На эстраде играл оркестр и пела длинноволосая девица в сверкающем купальнике. На площадке танцевали пары, и мужчины, не отрываясь, смотрели на девицу в сверкающем купальнике.
Метрдотель чуть отстал, коснулся локтя Вагина, кивнул на Патрика Иванова, спросил:
— Из какой страны, если не секрет?
— Какой уж тут секрет, — с готовностью откликнулся Вагин.
— Из королевства на севере Африки. Идиотино-Дурко называется. Не слыхали, наверное?
— Слыхал, а как же, — обиделся метрдотель. — Идиотино-Дурко, только вчера читал…
Сели. Столик располагался в глубине зала. Как Вагин и просил. На двоих.
Подошел официант. Высокий. Гнутый. С тонкими редкими усиками.
— Водка, — сказал Патрик Иванов. — Зельедка. Икрушка. Черньяшка. И множко мьяска.
— Он просит такую закуску, — сказал Вагин. — Селедку, икру, черного хлеба. И много горячего мяса. И водку, конечно.
— Вы могли бы не переводить, — вежливо сказал официант, — я понял все, что он сказал.
— Вы разговариваете по-африкански? — изумился Вагин.
Девица в купальнике бросила петь и принялась танцевать. Телодвижения ее были недвусмысленно призывны. Мужчины нервничали, топтали ноги своих партнерш.
Вагин и Патрик Иванов разлили водку по стопкам, но пить не стали. Обошлись минеральной. Ели с аппетитом.
Патрик Иванов вытер губы салфеткой. Закурил.
— Теперь ответь, — сказал он, — почему мы пошли вдвоем?
— Увидишь, — ответил Вагин.
— Надо было брать бригаду…
— Не надо, — сказал Вагин.
— Я не понимаю, — злился Патрик Иванов.
— Поймешь, — сказал Вагин. Улыбнулся кому-то. Тоже вытер губы салфеткой и тоже закурил. Опять улыбнулся.
Патрик Иванов как бы невзначай обернулся. Заметил одну симпатичную даму, а затем и вторую за соседними столиками. Одна шатенка, другая брюнетка. Обе с мужчинами. Они улыбались Вагину. Не подозревая одна о другой.
Заиграл оркестр.
— Я сейчас, — сказал Вагин. Встал.
Обе женщины поднялись ему навстречу. Вагин выбрал шатенку. Брюнетка села, смущенная. Патрик Иванов вскочил со стула, подошел к брюнетке, пригласил ее.
— Я не танцую, ответила она грубо. Мужчины за ее столом рассмеялись. Патрик Иванов прикусил губу. На деревянных ногах вернулся к своему столику.
Вагин крепко прижимал к себе шатенку, что-то говорил ей на ухо. Она смеялась весело, откинув голову назад…
Вагин опустился на стул, махнул рукой, сказал:
— Наливай! Дротика пока нет.
Патрик Иванов не шелохнулся. Тогда Вагин сам разлил минералку.
— Моя мать была проститутка среднего пошиба, — сказал Патрик Иванов. — А отец негр. Занюханный, уродливый. Лентяй. Пьяница. И дебошир. Он бил мою мать, когда она была беременная. Хотел прикончить меня еще там, в утробе. Не удалось. Я все-таки родился. И вырос. И стал таким же уродом, как и папашка, — он неожиданно подался вперед. Качнулась посуда на столе. — Я ведь не урод, Вагин, правда, ну скажи, правда?!
Вагин сделал глоток минеральной, попросил:
— Сними очки.
Патрик Иванов покорно выполнил просьбу.
Вагин внимательно оглядел его, заключил со всей серьезностью:
— Ты очень симпатичный, — мягко накрыл своей ладонью его туго сжатый кулак.
— Да пошел ты!.. — Патрик Иванов с силой отбросил вагинскую руку. На них обернулись с соседних столиков.
— Тихо, — сказал Вагин, прищурившись и глядя за спину Патрику Иванову. — Они пришли.
Лева Дротик был маленький, пухленький и носатый. Наверное, именно за этот нос, тонкий и длинный, вроде как у деревянного итальянского мальчика, веселые представители уголовно-преступного мира и нарекли пузатого Леву туземной кличкой Дротик. Костюм на Дротике был дорогой, но сидел плохо, галстук фирменный, но висел неважно, туфли из тончайшей кожи, но болтались на ступнях, как лапти на инвалидных костылях. Не умел Лева Дротик достойно носить приличный прикид. Но это, по всей видимости, нисколько не мешало ему самозабвенно любить себя.
И он любил.
Шествовал меж столиков, выпрямившись, с солидной неторопливостью, гордо вскинув нос. Важный.
За ним вразвалку, ступая грузно и со значением, топали два здоровых парня. Плечи толстые, шеи короткие. Один начисто лысый, с простецким деревенским лицом, другой черноволосый, короткостриженный, широкоскулый, узкоглазый, то ли кореец, то ли монгол, то ли бурят, то ли… Телохранители…
Подошли к шестиместному столику возле эстрады. За столиком трое. Загорелые, в светлых костюмах, пальцы в перстнях. Один из троих привстал, поприветствовал Дротика и его ребят. Руки не подал.
— Видать, Дротик рассиживаться не будет, — заметил Вагин. — От водки отказался. От сигарет тоже. Возьмет товар и отвалит.
Женщина за соседним столиком, та, с которой Вагин, недавно танцевал, глядела на него во все глаза, улыбалась. Вагин ответил ей каменным взором. Женщина перестала улыбаться, обиделась, опустила глаза, заморгала часто. Как бы не расплакалась, глупая…
— Нет, — возразил сам себе Вагин. — Уговорили-таки его на водку. Взял стопарь, стервец.
Патрик Иванов не спеша обернулся, подтвердил:
— Уговорили, — перевел взгляд на бутылку, стоящую перед ним, посмотрел на нее с сожалением, заметил резонно: — На водку кого хошь уговорить можно…
— Я сейчас, — вдруг сказал Вагин. Поднялся.
— Э!.. — Патрик Иванов попытался остановить его. Но Вагин уже шагал к двери.
Вышел в фойе, отыскал глазами автомат. Направился к нему. Снял трубку. Набрал номер.
— Это я, — сказал он. — Нет, — сказал он. — Ничего не случилось, — сказал он. — Просто так, — сказал он. — Я люблю тебя, — сказал он. Повесил трубку. Двинулся обратно в зал. Сел за стол. Налил минералки. Патрику Иванову и себе. Оперативники чокнулись фужерами. Выпили.
— Попробуем обойтись без стрельбы, — начал Вагин. — Отсечешь бугаев. Коси под пьяного. Задерись. То да се. Как увидишь, что я Дротика поволок, отваливай как можно дальше. Через кухню, через сортир… Понял? Мне нужен только Дротик. Только он один.
— Если только он сам понесет наркоту, — наконец разобрался в ситуации Патрик Иванов.
— Понесет сам, — жестко проговорил Вагин. Потер щеку, морщась. — Должен.
Наконец Дротик поднялся. А за ним и здоровяки. Сосредоточенные, хмурые. Шарят цепкими глазками по крепким харьковским ребятам, тщетно вычислить пытаются, не замыслили ли чего подлого эти чернобровые парубки против маленького Дротика. А харьковские знай себе улыбаются, пьют водочку и хвастливо перстнями сверкают.
Дротик царственно кивнул им, прощаясь, пошел по залу. Здоровяки за ним двинулись.
Вагин даже привстал, разглядывая Дротика и здоровяков.
Опустился на стул с размаху, вскрикнул сдавленно, радуясь:
— Сам несет! — добавил, подумав: — Сука!
Патрик Иванов никак не мог справиться со стеклянной входной дверью. Не поддавалась она ему, ослабленному алкоголем, куревом и несладкой негритянской жизнью.
— Отойди, — брезгливо сказал один из здоровяков.
— Вас ист дас? — по-иностранному поинтересовался Патрик Иванов.
Лысый оттолкнул его. Патрик Иванов обиделся и ударил Лысого по носу. Коротко и сильно. Лысый отшатнулся. Едва удержался на ногах.
— Вас ист дас? — продолжал кричать по-иностранному Патрик Иванов. Отбил один удар Корейца. Но только один — второй достал его. Патрик Иванов отлетел метра на два, упал на холодный кафельный пол. Но тут же вскочил, кричал истерично:
— Я есть гражданин иностранной держафа!
Лысый и Кореец медленно и неотвратимо надвигались на него. Патрик Иванов отступал. Лысый и Кореец надвигались. Патрик Иванов отступал…
Лева Дротик замер у двери, бледный, напуганный, покинутый, жалкий.
— Эй, — выдохнул он слабо, махнул рукой в сторону здоровяков. Бесполезно.
Огляделся. Людей в фойе много. И все с любопытством за дракой наблюдают. И никому нет никакого дела до напуганного Дротика. Значит, не харьковские это балуют, значит, случайность, значит, просто пьяный негр безобразничает. Ох уж эти нахальные цветные!.. Дротик кивнул сам себе, открыл с легкостью, неподвластной Патрику Иванову, стеклянные двери и вышел на площадку перед входом, отыскал глазами свою машину, хотел ступить в ее сторону…
Вагин сунул ему пистолет в глаз, ухватил руку с кейсом, сказал тихо:
— Не рыпайся, Лева! Милиция! Пошли…
Больно ткнул его стволом — Дротик сморщился плаксиво, засеменил покорно рядом с Вагиным.
…Патрик Иванов пяткой попал Корейцу в лоб — Кореец упал удивленный, — развернулся к Лысому. Поздно. Чугунный кулак Лысого опустился Патрику Иванову на самое темечко…
Вагин не успел дотащить Дротика до своей машины. Сзади грохнул выстрел. Вагин повалил Дротика и сам упал рядом с ним. Обернулся. Выстрелил на звук. Быстро-быстро пополз с тротуара за машины. Тянул за собой визжащего Дротика. Выпрямился, используя как прикрытие новенький сверкающий «мерседес».
Кореец несся по лестнице. Вниз. Тоже пытался добраться до машин. В руке пистолет.
На тротуаре и на лестнице люди. Стоят. Недвижные. Заледенелые. Онемели.
— Всем лечь! — заорал Вагин. — Всем лечь!
Выстрелил три раза подряд в Корейца. Попал. Корейца отбросило вбок. Он упал тяжело. Затих. Дротик непроизвольно, от испуга, попытался вырваться, Вагин двинул его рукояткой пистолета по уху. Дротик все понял. Успокоился. Вагин снова выглянул. Где же Лысый? Тот не заставил себя ждать. Со стороны двери грохотнул выстрел. Второй. Третий. Вдребезги разлетелись стекла «мерседеса».
Лысый лежал на самом верху широкой лестницы, на площадке перед входной дверью, то есть он был метра на два выше уровня мостовой, на которой стоял Вагин. Пулей Лысого не достать. Но Вагин все же выстрелил для острастки пару раз. Мимо, конечно. Лысый ответил. С тонким металлическим звоном пуля прошила дверцу «мерседеса».
Вагин пригнулся и, прячась за машинами, неуклюже двинулся в сторону своих «Жигулей». Дротик то и дело падал. Вагин, матерясь, тащил его за собой. Вот и машина. Вагин отпер дверцу, впихнул Дротика в кабину. Сел сам. Дротик, обезумевший, попытался открыть другую дверцу. Вагин снова трахнул его рукояткой пистолета по голове. Дротик обмяк.
— Сто третий, — переводя дыхание, проговорил Вагин в микрофон рации. — Сто третий! Как слышите меня?! Патрик, как слышишь меня?!
Эфир умер.
Вагин завел двигатель, вырулил на тротуар, газанул мощно, погнал машину прямо в сторону лестницы. Глухо и тяжело ударились колеса о первую ступеньку. Машина полетела наверх. Дребезжала отчаянно. Лысый вскочил на ноги, выстрелил. Пуля с треском пробила лобовое стекло. Вагин придавил педаль к полу. Машина, как живая, прыгнула вперед, вбила Лысого в стеклянные двери. Стекло раскололось, посыпались осколки на каменный пол. Вагин выскочил из машины. Подбежал к Лысому. Огромный кусок стекла рассек Лысому горло. Кровь льет изо рта, из носа. Обильно. Глаза остановились, мутные. Вперились в Вагина, спрашивают: «Когда же твоя очередь, гад?!»
Вагин вытащил из машины Дротика, ткнул его головой в мертвое лицо Лысого, просипел осевшим голосом:
— Видишь, сука, как я умею! Видишь?!
Дротик, зажмурившись, закивал головой.
— Мне нужен Птица! Понял?! Птица! — Вагин вмял ему ствол пистолета в нос.
— Он таится даже от меня. Я не знаю, где он дохнет, — вздрагивая, заговорил Дротик. — Но в воскресенье его ребята… Убери ствол, больно… Его ребята на Инвалидном рынке примут для него морфий… Ростовский… Я подскажу, как выйти на того, кто привезет, на этого ростовского парня. Птица только морфий уважает… Отпусти… Больно… Тошнит…
Вагин старательно расставлял деревянные фигурки на шахматной доске. Весь этому важному делу отдался. Ровнял фигурки чуть ли не до миллиметра, ставя их точно посередине клеточки, оглаживал их, словно живых, кивал одобрительно, что-то бормотал ласковое под нос, когда ладьи, ферзи и лошадки становились точно там, где он и хотел. Но ставил он их не в два ряда с каждой стороны, со стороны белых и со стороны черных — как это вообще-то водится, а в один ряд и белых, и черных — без пешек.
Расставил-таки.
Вздохнул свободно.
Выпрямился.
Выгнулся. Потянулся.
И без подготовки упруго щелкнул пальцем по ладье. Фигурка, кувыркаясь, полетела вперед и с ходу снесла с доски три черные фигурки. Шахматы рассыпались по разным концам стола.
Вагин радостно захлопал в ладоши.
Дверь распахнулась шумно, и в кабинет быстро вошел высокий мужчина в форме подполковника милиции. Лицо длинное, бледное, волосы черные, короткие, приглажены один к одному, блестят, словно только что водой смоченные.
Сел на угол стола, заговорил напористо:
— Прокуратура разбирает вчерашнюю стрельбу. Недовольны твоим рапортом. Хреновый рапорт. Перепиши. Подробно, до минуты. С самого начала. И главное, почему задерживали вооруженных преступников вдвоем. Понял?
Вагин щелкнул по коню, конь процокал по доске и сшиб еще двоих черных мерзавцев. Вагин опять зааплодировал себе. Веселился.
Подполковник устало вздохнул, потер рукой лицо, будто умылся, произнес тихо:
— Я очень благодарен тебе, Вагин, за сына. За то, что ты вытащил его тогда из дерьма, — он подался вперед. — Но я уже отдал тебе долг! Отдал! Я не раз тебя выручал, но больше не могу. Не могу! Есть предел! — он соскочил со стола, прошелся по комнате, руки в карманах брюк. — Я понимаю, почему вы пошли с Ивановым, вдвоем. Ты хотел пострелять, вволю, понимаю, хотел быстро расколоть Дротика, потому что при наличии группы захвата он бы находился под их защитой, как это ни парадоксально, и ты не смог бы тыкать ему пистолетом в нос и орать на ухо всякие ужасы. Понимаю. Но это не метод! Это черт знает что, но только не метод… Именно за такую работу тебя выгнали из Москвы. Понизили в должности. Именно за такую! А тебе хоть бы хрен! Ты всего лишь два месяца у нас, а уже… — подполковник не договорил, махнул безнадежно рукой.
Вагин ферзем сбил еще двух черных гадов. Вскинул победно кулак вверх.
Подполковник неожиданно склонился над столом и, задыхаясь от негодования, сбросил со стола шахматную доску. С деревянным треском доска грохнулась о стену. Подполковник поднес палец к носу Вагина, выдохнул тяжело:
— Последний раз!
Вышел, с силой захлопнув дверь за собой.
Вагин откинулся на спинку стула, закрыл глаза, улыбнулся безмятежно.
В комнате полумрак. За окном светятся уличные фонари. Свет от них падает на стол. На столе бутылки. В них дорогие напитки. Вкусные. Виски. Джин. Несоветское шампанское. Несколько пачек иностранных сигарет. Почти нетронутая закуска. Икра. Икра. Икра. Икра…
Конфеты.
Тихо мурлычет Хулио Иглесиас. Интимно.
Свет от уличного фонаря освещает и кровать, стоящую рядом со столом. На кровати двое. Целуются самозабвенно, возбужденно стонут, вскрикивают сладко, обнаженные, жаркие, истовые… Это Патрик Иванов и Оля. Та самая Оля, что работает в информационном центре, и которая Вагину злодея с помощью компьютера отыскала.
— Еще! Еще… — в забытьи громко шепчет Оля. — Еще! Не останавливайся! Не останавливайся, Вагин! Не останавливайся, Санечка…
Патрик Иванов замер тотчас. Приподнялся над Олей, спросил четко и ясно:
— Кто? — ударил Олю по щеке.
Женщина вскрикнула испуганно. Патрик Иванов поднялся. Потянул за собой Олю. Опять ударил ее. Сильнее. Оля заплакала. Патрик Иванов нашел ее одежду, швырнул женщине.
Пока она одевалась, курил. Голый. Потный.
Открыл дверь, вытолкнул Олю из квартиры. В ночь.
Вернулся. Зажег свет. Достал из тумбочки кобуру с пистолетом. Вынул пистолет, взвел курок, подошел к кровати, направил ствол на подушку.
— Вагин? — спросил вкрадчиво и, якобы услышав утвердительный ответ, приказал зло: — Поднимайся, гнида!
Повел стволом, вроде как за поднявшимся Вагиным, скомандовал:
— Лицом к стене!
Приставил ствол к воображаемому затылку Вагина. Задрожал палец на курке. Патрик Иванов закрыл глаза, заморщинилось его лицо… Он откинул пистолет в сторону. Заныл тонко и протяжно…
Белое небо. Белые облака. Белое солнце. Белая река. Белый песок. Жарко. ЖАРКО.
Лика и Вагин плывут рядом. Быстро. Умело. Они уже на середине реки. Останавливаются. Лика обнимает Вагина за шею, целует его. Вагин отвечает горячо. Прижимает крепко женщину к себе. Какие-то секунды они не могут удержаться на плаву и уходят под воду, с головой. Выныривают, отфыркиваются, хохочут.
…На каленом сухом песке пляжа Вагин показывает Лике приемы рукопашного боя. Лика держится стойко, будто не в новинку ей все это. А потом и вовсе пытается лихой подсечкой сбить Вагина с пог. Вагин таращится на нее удивленно. Лика смеется. Опять ныряет в воду. Вагин за ней…
Уже сумерки. Город затих. Успокоился. Отдыхает в вечерней прохладе.
Остывает от зноя.
Остывают воспаленные дома. Остывают обожженные мостовые. Остывают расплавленные тротуары. Остывает вагине — кая машина. Остывает Лика. Остывает Вагин. Остывают гоп-стопники. Остывают марвихеры. Остывают щипачи. Остывают «отмороженные». Остывают паханы. Остывают проститутки. Остывают честные люди. Остывает земля. Остывает небо.
Вагин остановил автомобиль у тротуара. Бесшумно. Плавно. Вышел, захватив сумки. Свободной рукой обнял Лику. Поцеловал ее в губы, нежно, наслаждаясь. Не стеснялся прохожих, соседей на балконах.
Они вошли в подъезд. Поднялись по лестнице. Вагин отпер дверь своей квартиры. Пропустил женщину вперед.
— Кофе? — спросил, кинув сумки в прихожей. — Чай?
— Лед, — сказала Лика. — Лед. И еще раз лед…
— Хорошо, — согласился Вагин и пошел на кухню.
Лика вошла в комнату. Зажгла настольную лампу, стоящую на широком подоконнике. Огляделась. Подобрала с пола газеты, журналы, опустила их на журнальный столик, потом подняла пепельницу, полную окурков и ее поставила на столик, потом подхватила — тоже с пола — скомканные джинсы, аккуратно положила на широкую двухспальную кровать. Села на кровать, тут же рядом с джинсами, потом осторожно легла на спину — спина горит, болит, потом все-таки опять села, а потом и вовсе встала, подошла к столику, взяла пачку сигарет из сумки, закурила, присела на краешек кресла, чтобы обожженной спиной не касаться сиденья, а потом снова поднялась, подошла к письменному столу, взяла кассету из кассетника, вставила в магнитофон, нажала клавишу. Пел Том Джонс. «Yesterday». Лика слушала какое-то время, тихо улыбаясь. Затем прокрутила кассету дальше. Опять «Yesterday». Дальше. «Yesterday». Лика перевернула кассету. «Yesterday». Лика нахмурилась, потерла висок, будто боль унимая. Взяла из кассетницы еще одну кассету. «Yesterday».
Прокрутила дальше. «Yesterday». Следующая кассета. «Yesterday». Другая сторона. «Yesterday». Четвертая кассета. «Yesterday». Вторая сторона. «Yesterday»…
Лика сдалась.
Стояла неподвижно, глаза рукой прикрыв. Слушала Тома Джонса. Крошилась сигарета меж пальцев. Но продолжала дымиться.
Она не видела, как в дверях появился Вагин. Он тоже слушал. И глаза его тоже были закрыты, сжаты, сдавлены. Шевелились губы, ломко, дерганно.
Вагин стремительно подошел к магнитофону, вырвал кассету, со всего размаха швырнул ее в окно, оперся руками на подоконник, дышал прерывисто. Лика подошла сзади, обняла его, положила голову ему на спину.
— Мне было тогда двадцать два года, — сказал Вагин. — Я заканчивал филфак в Москве, в университете. После четвертого курса приехал на каникулы домой. Сюда. В наш город. Купался. Загорал. Гулял с барышнями. Как-то возвращался домой. Днем. Ехал в лифте вдвоем с соседом. Вышли мы на нашем этаже. Видим, из моей двери замок выдран и на косяке белеет скол. Большой. Длинный. Сосед говорит, я в милицию позвоню. Я говорю, давай, а сам в квартиру. Сосед держит меня, умоляет не входить. «Убьют», — шепчет испуганно, а я рвусь, чего мне бояться, говорю: «Я каратист». Молодой дурак, — Вагин слабо усмехнулся. — Вхожу. В гостиной стоит малый и запихивает в сумку хрусталь, магнитофон, еще чего-то. Увидел меня. Не испугался. Сумку не выпустил. «Хозяин?» — спрашивает. — «Хозяин», — отвечаю. — «Нескладно вышло», — говорит, сокрушенно головой качает. — «Да уж куда складней», — соглашаюсь я, — «уж куда складней». И тут мы рассмеялись. Понимаешь? Расхохотались. Ровесники почти ведь. Ну, года на четыре он постарше. Понравился он мне. Понимаешь? Сильный, обаятельный, красивый. Глаза добрые. Ну, понравился и все тут…
Вор был высокий, стройный. На ногах джинсы тертые, на плечах светлая курточка. Студент да и только. Опустил сумку на пол, усмехнулся, сказал:
— Понимаешь, старик, я только-только откинулся. Без бабок, без жилья. На работу не берут. Голодный. Сирый. Вчера кореш из петли вынул. Еще чуть-чуть, и кранты мне…
— Вешался? — растерянно спросил молодой Вагин. Вор кивнул, провел рукой по глазам, словно слезу смахивая.
— Я могу вам чем-то помочь? — спросил Вагин, засуетился вдруг: — Может, вы кушать хотите? Я сейчас.
— Нет, старик, — остановил его вор. — Я пойду, пожалуй. Не успел. В дверях стояли два милиционера с пистолетами.
— Это мой друг, — сказал Вагин. — Но пришел в гости. Позвонил. Меня нет дома. Толкнул дверь. Она сломалась.
Вор с плохо скрытым удивлением посмотрел на Вагина. Повернулся к милиционерам, кивнул утвердительно, мол так оно и было.
— Он тебе друг, — сказали милиционеры с пистолетами, — но истина дороже.
И повели Вагина и вора в отделение милиции…
— Разобрались, — продолжал Вагин. — Оперативники качали головами. Твердили, что я дурак. Но парня — его звали Леша — задерживать не стали.
Не было оснований… Я попросил отца устроить Алексея на работу к себе в институт, слесарем. Отец был тогда замдиректора НИИ. Он помог. Но через пару дней Лешка перестал ходить на работу.
…Забегаловка на берегу моря. Открытая. Столики под зонтиками. Ветер. Прохладно. За одним из столов расположились несколько человек. Среди них Вагин и Леша. Пьют. Едят. На столе всего полно. Водка. Коньяк. Пиво. Шашлыки. Леша обнимает Вагина, горячо говорит ему в самое ухо:
— Ну не могу, брат, эту работу делать. Скучно. Не мое. А вокруг не люди — бараны. Смурные. Злючие. Я, брат, веселье люблю. И смелых ребят. Вот этих, таких, как эти, например, — он кивнул в сторону своей компании.
А «ребята» все друг на друга похожи, словно из одной шкатулочки выскочили. Глаза шалые, но цепкие. Кривоватые ухмылочки…
— Настоящий вор не должен работать, — сказал один «из шкатулочки», потряс пальцем назидательно. — Закон!
Вагин поднялся, пошел прочь.
— Дурак! — Леша замахнулся на говорившего. Тот отпрянул.
…Вагин лежал на диване. Читал. Из открытого окна послышался свист. Вагин встал. Подошел к окну. Внизу, во дворе — Лешка. Машет рукой. Мол, давай, спускайся. Веселый. Довольный. Улыбается во весь рот. Вагин неохотно собрался. Радом с Лешкой новенький мотоцикл.
— Вот, — сказал Лешка и звонко хлопнул по сиденью мотоцикла. — Твой.
— Ты с ума сошел, — отмахнулся Вагин.
— Твой, — настаивал Лешка. Хмурился. Злился.
— Не могу, — сказал Вагин. — Откуда такие деньги? Ты их...
Не договорил. Лешка перебил его.
— Обидеть хочешь? — подошел вплотную. — Лучшего друга обидеть хочешь?
…Мотоцикл несется по шоссе. Впереди за рулем Вагин. Сзади Лешка. Поет что-то блатное, разухабистое…
Вагин и Лика сидели в креслах, друг против друга.
— Я тогда с одной барышней встречался, — продолжал Вагин, — влюблен был. По уши. В первый раз. Лешка знал, естественно, об этом. И позвал нас как-то с Катей в одну компанию. Мы пришли… Квартира. Большая комната. Стол. Диван. Стулья. Магнитофон. Там был Лешка. Два брата Юда-хиных и один шкет по кличке Комар. Сначала все нормально было. А потом они захмелели. Круто.
…Юдахины были похожи. Круглолицые. Широкогрудые. Рукастые. Лица вмятые, словно по ним кто-то упорно сковородкой молотил. Тот, что постарше, коротковолосый, тот, что помоложе, с волосами до плеч. На их фоне Комар выглядел жалко и смешно. Тощий, длинный, унылый.
Лешка глянул на Катю мутно, невидяще, голова покачивается, словно с трудом держит ее некогда крепкая шея, цыкнул зубом, сказал:
— Ну что, брат, у друзей принято делиться. Так? — сам себе ответил: — Так. Так что придется поделиться, девкой-то. А то я смотрю, ребята уже спермой исходят, — спросил, полуобернувшись к братьям Юдахиным и Комару. — Исходите спермой-то?
«Ребята» кивнули неровно.
— Вот видишь, — удовлетворенно констатировал Лешка. — Исходят. Так что скажи девке, чтоб не рыпалась…
Вагин вскочил со стула.
— Да ты что, Леха? — крикнул. — Да ты что, брат?!
— Сидеть! — рявкнул Лешка, грохнул кулаком по столу.
Повалились бутылки и стаканы. Водка разлилась, потек тонкий ручеек со стола на пол, на кроссовки Вагину, на колени Кате.
Девочка сидела, не шевелясь. Глаза открыты, застыли, ледяные, только побелевшие губы вздрагивают.
— Лешка, ты что? Лешка? — повторял Вагин.
Братья Юдахины поднялись, откинули стулья, обошли стол улыбаясь, стали приближаться к девочке.
— Стоять! — рванулся вперед Вагин. Пяткой двинул Юдахину-старшему в грудь. Тот отлетел назад, споткнулся о стул, упал. Юдахин-младший в свою очередь ткнул Вагина кулаком в нос. Вагин не успел отреагировать. Взвыл от боли. Ответил двумя короткими ударами.
Юдахин-младший вынул нож.
Катя завизжала, закрыв ладошками уши.
— Ладно, — сказал Лешка, допил свой наполовину наполненный стакан. — Справедливость превыше всего. Не хочет девкой делиться, не надо. Но тогда пусть сам ее заменит.
Встал нетвердо. Решительный. Мрачный.
— Что? — не понял Вагин, попятился к степс.
Юдахин-младший стал расстегивать брюки.
Дошло до Вагина наконец.
— Так нельзя, — выдохнул он слабо. — Так нельзя… — вытянул руки умоляюще. — Так нельзя…
Лешка засмеялся. А за ним и братья Юдахииы, и Комар.
Пел Том Джонс. Семидесятые годы. «Естердей».
Плечом к плечу пошли «ребята» на Вагина. Вагин заорал зверино, слюной брызгая, рванулся вперед.
Комар ударил его бутылкой по голове. Бутылка разлетелась вдребезги. Комар засмеялся тонко, радуясь. Вагин рухнул ничком на стол, вязкие черные ручейки потекли по его лицу.
Лешка спустил с него джинсы, расстегнул свои брюки, чертыхнулся.
— Не стоит, — проворчал, стал манипулировать руками у себя меж ног.
Юдахин-старший рассмеялся.
— На такую задницу и не стоит. Стареешь, Леха! У меня всегда готов.
Сорвал брюки. Продемонстрировал. Комар хихикал и поглядывал на девочку. Катя раскачивалась из стороны в сторону, выла однотонно.
— Оп! — выкрикнул Леха, навалившись на Вагина, стал тереться о его голые ягодицы, комментировал: — Сейчас, сейчас, сейчас… вот, вот… кончаю! — стонал.
Отпустил назад, удовлетворенный. И тут же вперед кинулся Юдахин-старший. Приговаривая:
— Какой чудный петушок! Какой нежный петушок!
Комар задрал Кате юбку.
— Убери лапы! — гаркнул Лешка. — Справедливость превыше всего.
После Юдахина-старшего настала очередь Юдахина-младшего, а потом и Комар отметился, нехотя, морщась. А Леха выпил еще водки, прямо из горла. И тотчас взвыл отчаянно, перевернул стол, обломал стулья об пол, искромсал ножом диван. Только магнитофон не тронул.
Пел Том Джонс. «Естердей».
Леха лежал на полу, смотрел в потолок. Плевал вверх. Упадет слюна на лицо или мимо пролетит. Упадет — не упадет…
Вагин стучал кулаками по коленям. Истово. Больно. Говорил, с трудом сдерживаясь:
— Я их ненавижу! Ненавижу! Всех! Всю уголовную мразь! Дерьмо! Ублюдки! Нелюди! Это нелюди! Никаких понятий чести! Честности! Любви! Дружбы! Их надо убивать! Убивать! Убивать!..
Лика села на пол перед ним, прижала его кулаки к своим щекам, поцеловала один, второй, разжала пальцы, поцеловала его ладони. Поднялась, забралась к нему на колени, прижала его голову к своей груди. Он перестал дрожать. Успокоился. Затих.
И тогда Лика сказала негромко:
— А представь, если бы я была… — не договорила, умолкла.
— Что?
— Ничего, — сказала Лика, тихонько стучала костяшками пальцев себя по лбу, мол, дура я, дура, дура… — Ничего, — поцеловала его волосы, — ничего.
Вагин погладил ее руку, коснулся гладкой кожи губами.
— Ты знаешь, — серьезно сказал он. — С тех пор, как появилась ты, они мне больше не снятся. Ни Лешка. Ни Юдахины. Ни Комар.
— Я знаю, — кивнула Лика.
— Через несколько дней я уехал, — возвратился Вагин к рассказу. — Лешку убили осенью в пьяной драке. А Катя вышла за меня замуж. Но уже через полгода мы расстались. Она говорила, что никак не может отделаться от ощущения, что спит с женщиной.
Лика целовала его лицо.
Потом целовала грудь. Потом сняла с него рубашку, джинсы. Потянула за собой на кровать, повторяла:
— Ты самый настоящий мужчина! Ты самый лучший мужчина! Ты самый красивый мужчина! Ты мужчина! Мужчина!
Ужинали они в кафе. Стены из прокопченного камня. На стенах свечи. Пианист за роялем. Скрипач бродит меж столиков. Официанты кивают Вагину. Знают его здесь.
— Я очень долго тебя не видел, — сказал Вагин. — Целых два часа.
— А мне повезло, — сказала Лика. — Я разглядывала тебя целых два часа. Ты очень красиво спишь.
— Разве можно спать красиво или некрасиво?
— Можно. Ты спишь красиво.
— Я чувствовал тебя рядом. Но ты мне почему-то не приснилась.
— Тебе снилась река. И ты плыл по ней. По течению. Без усилий. И тебе было легко и покойно.
— Да. Мне снилась река. И я плыл по ней. А откуда ты знаешь?
— А потом река влилась в море. Тихое, чистое, прозрачное. Бесконечное. А по морю шли корабли под парусами. Они бесшумно скользили по воде тебе навстречу. И на кораблях плыли твои близкие и друзья. На одном из кораблей была и я. Но ты меня не видел.
— Не видел. Я знал, что ты там. Но не видел. Господи, откуда ты знаешь мой сон? Откуда?
— А потом… Прости, но я буду говорить все, как было… Все, как видел ты.
— Конечно. Говори все…
— А потом корабли стали тонуть. Ни с того, ни с сего, как это бывает во сне. И люди кричали. Цеплялись за обломки. И ты спасал их. Нырял. Тащил их за одежду, за волосы. Кидал в шлюпки. Толкал к берегу. А берег далеко. Далеко. А потом ты проснулся. И я не могу сказать, спас ты их или нет.
— И я не могу. Потому что я проснулся. Но откуда ты знаешь мой сон? Откуда?
— Я лежала рядом, касалась твоей головы и видела его вместе с тобой. Не спала. Но все-все видела.
Вагин заметил, что метрдотель делает ему какие-то знаки. Встал. Извинился перед Ликой. Подошел.
— Ты не обессудь, — сказал метрдотель. Розовощекий. Добродушный. — Я могу ошибаться. Но я уже видел эту даму. Тогда, когда нас грабили весной. Она сидела в зале. Одна. Без компании. Без спутника. А Боря-официант видел ее в «Комете» во время налета. Я прав?
Вагин не ответил. Вернулся к столу. Сел.
— Я люблю тебя, — сказал он.
— Я люблю тебя, — сказала она.
Я тебя люблю.
Тебя я люблю.
Люблю я тебя.
Тебя люблю я.
Люблю тебя я.
Я. Тебя. Люблю.
Вагин небрит. Уже не день. Не два. Три. На щеках у него густая, черная щетина. Она ему идет. Она его красит. Жестче сделался рот, контрастней обрисовались глаза, уверенней взгляд, неуверенней взгляд, или, вернее, спокойней взгляд, беспокойней взгляд, или, вернее, так — что-то изменилось во взгляде. Что-то. За эти три дня, пока росла щетина? Нет, раньше. Чуть пораньше. Это точно.
Ноги Вагина как всегда, когда он в машине и не за рулем, покоятся на передней панели. Он курит. Отдыхает. Расслабляется. Откинулся на спинку сиденья. Рядом за рулем Патрик Иванов. На заднем сиденье оперативник с боксерским лицом — нос перебит, губы расплющены, уши прижаты — все как положено.
Машина таится в тихом переулке. Тенистом. Полутемном. Темном.
А меж домами синее небо. Чистое. Далекое. Не допрыгнуть.
В обоих концах переулка люди. Там двое. И там двое. Ходят. Стоят. Переговариваются. Это тоже оперативники. Коллеги Вагина и Патрика Иванова.
— Ну, я пошел, — сказал Вагин. Но с места не сдвинулся.
— Иди, — не возражал Патрик Иванов.
— Пора, — сказал Вагин. Затянулся глубоко.
— Пора, — кивнул Патрик Иванов.
— Время, — сказал Вагин. Поерзал на кресле, устраиваясь поудобней.
— Время, — согласился Патрик Иванов. — Без пяти восемь.
— Ты все помнишь? — спросил Вагин.
— Все, — ответил Патрик Иванов.
— Я тебе не верю, — сказал Вагин.
Патрик Иванов вздохнул нарочито тяжело, заговорил с нескрываемым неудовольствием, монотонно, заученно:
— Если ты вернешься цел и невредим — замечательно. Мы пойдем с тобой пить водку. Если ты выйдешь с рынка не один и будешь без шапки — мы всех винтим. Если в шапке, но киваешь — мы всех винтим. Если в шапке, но не киваешь, а подмигиваешь, мы всех опять-таки винтим. Если ничего этого не делаешь, то мы никого не винтим, а тихонечко пропасаем тебя и всех остальных.
— Вот теперь я верю тебе, — со всей серьезностью произнес Вагин.
— Авантюра, — сказал Патрик Иванов. — Полицейская сказка. Американское кино с Мелом Джибсоном. Плюс ко всему тебя могут проколоть, несмотря на то, что ты всего два месяца в городе. Они ребята ушлые. Плотно пропасли бы их, и все.
— Кого? — усмехнулся Вагин. — Кто приведет к Птице? Их может быть много. И каждого пасти? Бессмысленно. А так я хоть чего-то узнаю. Хоть чего-то, — закинул руки назад. Выгнулся. Потянулся, сказал: — Я пошел, — но продолжал сидеть. — Я пошел…
— Иди, — не возражал Патрик Иванов. — Иди. Иди. Иди…
Вагин наконец выбрался из машины.
— Да, кстати, — остановил его Патрик Иванов. Вагин пригнулся, заглянул в кабину. — Мой человек шепнул, что Птица в этой команде не основной. Там верховодит баба. Всегда присутствует при налетах. Наблюдает. Иногда участвует. Кличка «Маркиза ангелов». Помнишь, была чудесная книжка «Анжелика — маркиза ангелов»?
Вагин кивнул молча. Выпрямился. Побрел по переулку. Ссутулился. Патрик Иванов, не отрываясь, смотрел ему в спину. Долго. Пока тот не скрылся за пыльным буро-черным каменным углом.
Рынок встретил гомоном и пестроцветьем. Голосили все, кому не лень, на разные лады и с удовольствием, и продавцы и покупатели, и воробьи и дети, и магнитофоны и милиционеры, и кошки и мышки, и букашки, и таракашки… На всех языках почти — аварском, шведском, суахили, командирском, грузинском, французском, зверячьем, древнегреческом и, что самое поразительное, даже на русском…
Палатки красочные, продавцы в них яркие, все — в дорогом, по прилавку товары разложены, цветастые, манят. Покупатели тоже в дорогом, но не все — невеликая часть, остальные, а их, понятное дело, большинство, поплоше будут, но гордые, деньги не считают, когда достают, а достают редко, магнитофоны фирменные, милиционеры в мундирах, кошки в сером, рыжем, белом, в грязном; на собачках в основном гладкошерстные одежки, на мышках — бархатные, таракашки и букашки голяком шныряют, бесстыжие…
Вагин отыскал телефон-автомат, вошел в будку, стал крутить диск.
— Это я, — сказал. — Нет, — сказал. — Просто так, — сказал.
— Ты не одна? — спросил. — Ах, телевизор, — засмеялся.
— Ах, ты рисуешь… — засмеялся. — Я люблю тебя, — сказал.
Повесил трубку. Пошел дальше.
Павильон «Картофель». Деревянный. Длинный. Закрыт. Наглухо. Засов. Замок. Теперь овощами-фруктами на этом рынке не торгуют. Торгуют на другом. Вагин встал возле закрытой двери. Огляделся. Из толпы вынырнул высокий крутоплечий парень. Тяжелолицый. Лобастый. Равнодушный. Остановился рядом с Вагиным, спросил тихо, лениво:
— Кого-то ждешь?
— Наверное, тебя, — ответил Вагин, тоже тихо и тоже лениво, смотрел на парня усмешливо, мол, захочу и скушаю тебя, мясистого и калорийного. Но пока не хочу. — Яша Черномор передает привет из славного города Ростова.
— Пошли, — парень завернул за угол павильона, зашагал вдоль крашеной дощатой стеньг. Вагин поплелся следом. Парень остановился возле противоположного торца павильона. У маленькой дверцы. Постучался. Хитро. Три коротких, два длинных. Очень хитро. Дверца отворилась бесшумно. В глубине, в темноте — бородатый детина, пригибается, чтоб гостей разглядеть.
— Это ты, Лоб? — прищурился.
— Ты очень догадливый, Гном, — ответил Лоб. — Это я.
— А это? — Гном указал пальцем на Вагина.
— А это не я, — сообщил Лоб и подтолкнул Вагина вперед.
Вагин переступил порог.
— Не понимаю, — Гном насупил брови. Но посторонился.
— Это и впрямь очень сложно для тебя, — заметил Лоб, открывая вторую дверь.
За дверью, как и следовало ожидать, совсем и не картофель. И в помине нет. И ни намека. За дверью очень просторная комната. Стены обстоятельно мореными досками обшиты. Теми же досками и пол уложен. Ровный. Чистый. В одной стороне стулья и стол длинный, у стены напротив — диван, маленький столик, на столике ваза с цветами, в другой стороне — в углу — работает телевизор, видео, на кресле перед телевизором — мужчина, смотрит видео внимательно. Лоб подтолкнул Вагина к мужчине. Вагин подчинился, подошел ближе. На экране телевизора две голые женщины и один голый мужчина занимаются любовью. Стонут. Кряхтят. Наслаждаются.
— Отвратительное зрелище, — не оборачиваясь, сказал мужчина. — Грязное. Бесстыдное. Для чего они совокупляются? Только для удовольствия? А это уже профанация сути природы. Кощунство. Оскорбление святого действа — продолжения рода. Так что же может получиться, если каждый захочет получать просто удовольствие и не более того?
— Тогда рухнет стена веками возводимых запретов, — ухмыльнулся Вагин. — И человек освободится. А освободившись, станет неуправляемым.
— Вот-вот, — согласился мужчина. — И я о том же. — Взгляда от телевизора не отводил. Там начиналось самое интересное: троица перестала стонать и кряхтеть и принялась кричать срывающимися голосами. Неистовствовала.
— Но этого не произойдет, — веско продолжал Вагин. — Потому что есть мы! — Повысил голос, заговорил отчетливо, звонко, торжественно, как на сцене в сельском клубе. По-пионерски вскинул подбородок вверх. Глаза горели, за горизонт заглядывали. — Мы тоже приносим человеку удовольствие, почти такое же, как и секс, и человеку нравится получать это удовольствие, и со временем будет нравиться все больше и больше. Но наше удовольствие в отличие от секса не освобождает человека, а наоборот закрепощает, то есть делает его управляемым.Вот.
Мужчина неожиданно поднялся с кресла. Немолод. Лет пятидесяти, сухое интеллигентное лицо, седые виски, добротный костюм, свежая сорочка, галстук.
— Вы неглупы, — отметил.
— Я знаю, — без тени иронии согласился Вагин.
— Петр Порфирьевич, — мужчина протянул руку.
— Бонд, — представился Вагин, пожимая руку Петру Пор-фирьевичу. — Джеймс Бонд.
— Не понял, — сощурился Петр Порфирьевич.
— Кличут меня так, — объяснил Вагин. — Корешки мои ненаглядные кликуху мне такую придумали.
— А вы похожи, — засмеялся Петр Порфирьевич.
— Я-то посимпатичней, — обиделся Вагин.
— Конечно, конечно, — кивнул Петр Порфирьевич. — Товар?
— В машине возле выхода с рынка, — объяснил Вагин. — Там два моих корешка. Пусть кто-то из ваших пойдет. Без оружия. Скажет, что от меня, от Бонда, передаст бабки, возьмет ампулки.
Петр Порфирьевич жестом показал Гному, мол, давай, выполняй.
— Как поживает Яша Черномор? — спросил Петр Порфирьевич, когда Гном вышел. Опустился опять в кресло. Показал на стул возле себя. Вагин тоже сел.
— Яков Александрович велел кланяться, — сказал Вагин. Встал со стула. Долго кланялся. В пояс. Рукой пола вскользь касаясь. Сел опять. Отдышался. — И попросил кое-что передать Птице, — добавил.
— Что? — спросил Петр Порфирьевич.
— Попросили передать лично ему.
— Это сложно, — вздохнул Петр Порфирьевич. — Откололся от нас Птица. Пошел на поводу у бабы. И правит теперь эта баба и им, и его ребятами. Единолично и деспотично. А этого допускать нельзя. Это культ. Надо помнить уроки истории.
— И маркизе Яков Александрович тоже велел кое-что передать…
— Уж не знаю, не знаю, как вам и помочь, — раздумчиво покачал головой Петр Порфирьевич. — Связь у нас односторонняя.
Отворилась дверь. Вагин повернулся на звук. Вошел Гном, принес кейс, кивнул, мол, все в порядке, потом склонился к Петру Порфирьевичу, что-то пошептал ему на ухо.
Дверь опять отворилась. На сей раз Вагин не обернулся. А зря.
Резким и сильным ударом из-под него вышибли стул. Вагин свалился на пол. Встать ему не дали. Юдахин-старший ткнул стволом пистолета ему в нос.
— Ну что, Петушок, — проговорил, щерился, веселясь, зубы темные, в трещинах, короткие волосы совсем седые. — Опять ты к нам? Понравилось? Так бывает. Рассказывали петушки. Мужика, говорят, попробуешь и на бабу потом смотреть неохота. Противно. Тошнит.
— А я думал, это и вправду Бонд, — разочарованно протянул Петр Порфирьевич.
— Бонд, ха-ха, — сказал Юдахин-старший. — Менток это, Санька Вагин. Недавно из Москвы прискакал. И правильно. Здесь мужики-то покрепше, — захохотал. А вслед за ним и Гном, и Лоб.
— Ай-ай-ай, — сказал Петр Порфирьевич и, не удержавшись, ударил Вагина ногой по животу. А потом еще, еще…
— Ай-ай-ай, — приговаривал. — Ай-ай-ай-ай-ай…
Вагин стоял лицом к двери. За его спиной Юдахин-старший, Петр Порфирьевич, Лоб, Гном.
— Нам терять нечего, — сказал Юдахин-старший. — Ежели что, завалим сразу. Обернись. Посмотри.
Вагин обернулся. В руках Юдахина-старшего и Гнома чернели пистолеты.
— Выведешь нас с рынка, — продолжал Юдахин-старший. — Авось и жив останешься…
— Авось… — проворчал Петр Порфирьевич.
Они медленно шли по рынку. Вагин отыскал глазами Патрика Иванова. Тот приценивался к помидорам. Наконец повернулся, увидел Вагина, встретился с ним взглядом. Вагин кивнул едва заметно. Но Патрик Иванов не шелохнулся. Тогда Вагин подмигнул несколько раз левым глазом. Патрик Иванов с интересом наблюдал за ним. Тогда Вагин сказал, отдуваясь:
— Жарко, — и снял шапку.
Патрик Иванов после этого только усмехнулся криво, а потом и вовсе отвернулся и стал опять торговаться с продавцом помидоров.
Уже вечер, покраснело небо, но рынок не унимался. Галдел вовсю. И вечер ему нипочем. И ночь. Кому не спится в ночь глухую?… (Эхо).
Когда Вагин и сопровождающие его лица скрылись в толпе, Патрик Иванов заспешил к оперативной машине, сел, сообщил оперативникам:
— Вагин передал, чтобы никого не трогали. А только пропасли его и злодеев. Но не плотно, — повторил, — не плотно.
Провел по лицу ладонью, скрывая довольную ухмылочку.
Ехали молча. За рулем Лоб. Рядом с ним Петр Порфирьевич. Сзади соответственно Вагин, и по бокам Гном и Юдахин-старший.
— Молодец, Петушок, — нарушил молчание Юдахин-старший. — Ты заслужил лишнюю палку.
Вагин локтем ударил его по губам. Стремительно. Сноровисто. Сильно. Юдахин-старший завыл. Петр Порфирьевич засмеялся. Юдахин-старший достал нож.
— Не надо, — сказал Петр Порфирьевич и скинул на колени Юдахину-старшему наручники. На вагинских запястьях щелкнули браслеты.
Лоб взглянул в зеркальце, объявил:
— Пасут, — хмыкнул. — Кишка тонка.
Ловко вильнул во двор, выехал на параллельную улицу, потом ушел под острым углом в незаметный переулок, потом опять нырнул в проходной двор. Пересек центральный проспект и загнал машину снова во двор. Остановился. Все вышли, пересели в другой автомобиль, который стоял в том же дворе. Покатили дальше.
Город давно уже кончился. Дачные поселки. Деревеньки. Лес. Потоми лес оборвался внезапно. Степь. Машина свернула на проселок. Пологие холмы. Красно-желтые песчаные карьеры. И вот впереди показалось длинное, с полкилометра, четырехэтажное здание. Недостроенное. Бетонный остов. Кое-где есть стены, кое-где нет, возле здания бетонные плиты, трубы, кузов грузовика, деревянные времянки, трактор без гусениц. Накренившийся подъемный кран. Вот-вот рухнет. Подъехали ближе. Вагина вытолкали из машины. Он поежился. От здания несло сыростью и холодом. Ветер в нем выл плаксиво, капризничая. Бил в глаза, меняя направление. Глаза выстудились тотчас. Вагин жмурился подслеповато. Лоб загнал машину на цокольный этаж, через пролом в стене. Загородил пролом большим фанерным щитом.
На первый этаж нужно было подниматься по узкому, грубо сколоченному деревянному трапу. Первым на него ступил Петр Порфирьевич. Затем Лоб. Трап скрипел и раскачивался под ними. Поэтому они шли, балансируя руками, как канатоходцы. Петр Порфирьевич ворчал матерно. Гном по трапу передвигал-ся один. Потому что был тяжелый, почти такой же как Петр Порфирьевич и Лоб, вместе взятые. Предпоследним на трап шагнул Вагин, а за ним Юдахин-старший. Вагин довольно скоро добрался до твердого бетонного пола первого этажа и, прежде чем вступить на него, упруго и сильно подпрыгнул на трапе. Юдахин-старший не удержался, накренился, и, ухнув, полетел на землю. Упал с тяжелым стуком. Вагин засмеялся. Юдахин-старший вскочил, секунду-две-три-четыре-пять-шесть-семь погодя, взвыл жестоко, выхватил из-за пазухи маленький автомат системы «Узи» израильского производства, дал очередь поверх головы Вагина. Все, кроме Вагина, как по команде повалились на холодный бетон. А Вагин покрутил головой и сказал осуждающе:
— Во дурак! — пнул ногой лежащего Гнома, спросил: — Куда идти-то?
Все поднялись, отряхнулись. Юдахин-старший не решился больше передвигаться по трапу ногами, лег на него, пополз, пыхтя.
Выстрелы встревожили ворон, воробьев, голубей, Юдахина-младшего и двух его сотоварищей. Они опасливо свесили головы со второго этажа. Вагин узнал сотоварищей, местные воры-наркоманы, отмороженные — Чуня и Вазелин. Чуня — толстый, поэтому Чуня. Вазелин — потный, рожа всегда блестит, как смазанная вазелином детская попка, поэтому и Вазелин.
На второй этаж поднялись уже по лестнице. Здесь поуютней. Обжитое место. И стены есть, и подобие комнат. И мебель даже есть. Столы, стулья, лавки. Но холодно все же. Вагин поежился в который раз.
— В ШИЗО его, — приказал Петр Порфирьевич.
И Гном отвел Вагина в местный штрафной изолятор. Глухая комната с крохотным окошком под низким потолком. Через пол и потолок проходит черная, невеликого диаметра, труба. Гном расстегнул Вагину наручники, подвел его к этой самой трубе, толкнул Вагина на нее, Вагин невольно обнял трубу, а Гном тем временем опять застегнул браслет на вагинской руке. Так что теперь никуда Вагину от трубы не деться. Скверно.
Гном сел в углу. Закурил.
— Чего ждем? — спросил Вагин.
Гном молчал.
— Как тебя звать-то? — спросил Вагин.
Гном молчал. Завороженно следил за тающим дымком от сигареты.
— Послушай, Гном, — проговорил Вагин таинственным тоном, — я раскрою тебе один секрет. Ты должен знать это! Должен!
Гном насторожился.
— Я твой отец, — сказал Вагин. — Нас разлучили злые люди, когда ты был вот таким, — Вагин пригнулся, показал, каким был Гном, когда их разлучили. Всхлипнул.
Гном встал, подошел к Вагину, внимательно всмотрелся в него, произнес медленно:
— Мой батька сдох в тюряге. Как последний скот. Мне тогда второй годок шел.
— Не сдох я, не сдох, — возразил Вагин. — Вот он я. Сынок.
— Так ты моложе меня, — сообразил наконец Гном.
— Какое это имеет значение? — искренне возмутился Вагин.
Дверь отворилась. И вошел Птица. Сам. Опрятный. Чистенький. И на лицо ничего себе. Смуглый. Глаза светлые. Губы жесткие. Долго смотрел на Вагина. Долго. Долго. Долго. Долго. Вагину это надоело, и он спрятался за трубой.
— Выходит, менток, что бабы любят тебя больше, чем меня? — буднично спросил Птица.
— Выходит, выходит, — Вагин высунулся из-за трубы, кивнул, соглашаясь.
Птица повернулся, вышел из штрафного изолятора, сказал кому-то за дверью:
— Убейте его!
— Но сначала побалуемся, побалуемся, побалуемся, — захлопал в ладоши Юдахин-старший.
Дверь за Птицей закрылась.
— Эй, сынок, — позвал Вагин Гнома.
В ответ Гном прорычал злобно, потянулся огромной рукой к горлу Вагина.
— Шутки в сторону, — сказал Вагин, — дело серьезное. Я ошибся. Ты не мой сын. Я вспомнил, у меня была дочка. Послушай, послушай, — зашептал вдруг. Громко. Ясно. — У меня много бабок. С собой. Отпустишь — и они твои. Они у меня в полотняном поясе под брюками, на теле. При поверхностном обыске его трудно обнаружить. Там… — Вагин задумался. — Сто тысяч. Отпусти, и они твои. — Глаза у Вагина загорелись. — Ты богатый человек. Очень богатый!
Гном подошел ближе. Рот полуоткрыт. Слушает.
— Проверь, проверь, — попросил Вагин.
Гном нагнулся, принялся расстегивать Вагину брюки. И тут Вагин ловко ушел вбок и цепью наручников стремительно прижал шею Гнома к трубе. Гном захрипел, вскинул руки, затопал ногами по бетонному полу.
— Я не хочу тебя убивать, не хочу, — шептал Вагин на ухо Гному, — не хочу, не хочу, правда. Ты только пистолет свой вынь и на пол положи. И все. И все.
Гном достал из кармана пистолет, бросил его на пол. Пистолет клацкнул возле вагинских ног.
— А теперь тихонечко давай-ка вниз, — ласково попросил Вагин Гнома. Ослабил хватку, стал опускаться на колени, потянул за собой Гнома. Затылок злодея заскользил по трубе. Чтобы поднять пистолет с пола, Вагин совсем отпустил шею Гнома. И тогда тот шустро выбросил руку вперед и накрыл ладошкой пистолет. Вагину пришлось снова рвануть Гнома на себя, снова придавить его шею к трубе.
— Я же просил не дергаться, — укоризненно напомнил ему Вагин. — Дай слово, что не будешь рыпаться, и я ничего тебе не сделаю.
— Даю слово, — пробормотал Гном.
— Хорошо, — одобрил Вагин и вновь склонился к пистолету.
Гном схватил его за ногу, дернул на себя. Вагин упал. Каблуком задел пистолет. Тот отлетел в сторону. Вагин врезал цепь в кадык Гному. Изо всех сил прижал Гнома к трубе. Жмурился морщинисто. Обреченно. Крутил головой. Гном шипел, елозил ногами на полу. А потом затих. Навсегда.
— Я же просил не дергаться, — сказал Вагин.
Потянулся за пистолетом.
Трудно. Далеко.
За дверью послышались голоса. Юдахин-старший похохатывал, предвкушая забаву. Тоненько хихикал мордатый Чуня. Вагин попробовал достать пистолет ногой. Дотянулся. Повернулся ключ в замке. Вагин наконец зацепил пистолет мыском, подтолкнул его к себе. Поднял, взвел курок. Дверь отворилась. Вагин выстрелил. Толстого Чуню отшвырнуло назад. Он повалился на спину, раскинув руки. Юдахин-старший тенью метнулся в сторону, матерясь витиевато и громко. А Вагин, скривившись от напряжения, неестественно вывернул кисть правой руки и большим пальцем нажал спусковой крючок. Пуля перебила цепь наручников. Вагин содрал с плеч кожаную куртку. Бесшумно приблизился к двери, с размаху швырнул в нее куртку. И тотчас нырнул вслед за ней. Автоматная очередь прошила куртку еще в воздухе, а Вагин, целый и невредимый, кувыркнулся, приземлившись, и отпрыгнул вбок, под защиту бетонной колонны. Успел. Пули дробно простучали по колонне, взметнули облачко белой пыли.
Сумерки. Скоро станет совсем темно. Это к лучшему.
Вагин огляделся. Бетонный пол, бетонный потолок, несущие колонны — двести метров направо, двести метров налево, — наспех сложенные из красных кирпичей стены комнаток, чтоб зимой не мерзнуть, дощатые времянки от ветра, бочки, тряпки, толь, печки-буржуйки, железные бочки, кое-где деревянные, кое-где железные лестницы, наверху, внизу.
Выход один — вниз, завладеть машиной. Машина — это спасение.
Мелькнула тень справа. Впереди кто-то сделал короткую перебежку. Умело. Без шума. Метнулась чья-то фигура слева. Вагин выстрелил с двух рук. В ответ тоже выстрелили. Пули высекли искру возле вагинских ног. Он поднялся, приготовился, спружинившись, и кинулся со всех ног к следующей колонне, поближе к лестнице, два раза выстрелил на ходу. Упал за колонной. Застучал автомат.
Проорал Юдахин, захлебываясь слюной:
— Я все равно тебя в… сволочь петушиная!
Вагин усмехнулся недобро, вытер рукавом рубашки пот с лица, приготовился еще к одному рывку. Вскочил, помчался. Скрылся за кирпичной стеной, миновал дощатую времянку. И вот квадратный люк в полу. Железная лестница. У основания лестницы — Лоб. Целится из двуствольного обреза вверх. Ждет Вагина. Вагин появился неожиданно, как чертик из шкатулки, и поэтому успел выстрелить первым. Одна пуля пробила Лбу грудь. Вторая попала в живот. Лоб рухнул навзничь. Заорал от боли. По щекам текли слезы. Одной рукой он держался за грудь, будто пытался остановить кровь, а другой грозил Вагину. Тряс пальцем. А потом лицо скривилось в пугающей гримасе, застыло. Рука опустилась бессильно на пол.
— Я не хочу вас убивать! — закричал вдруг Вагин что есть мочи. — Не хочу! Дайте мне уйти! Вы же обречены, вашу мать! Мне нужен только Птица!! Только Птица!
Кто-то навалился на него сзади, сшиб на пол, саданул лицом о студеный бетон, прохрипел, задыхаясь:
— А мне нужен ты, розовожопенький!
Юдахин-старший.
Пистолет у Вагина выпал, скользнул в квадратный люк.
Юдахин-старший занес над затылком Вагина автомат. А Вагин как почувствовал, увернулся. Юдахин шваркнул автоматом об пол, а Вагин цепко прихватил его руки, резко дернул. Юдахин-старший упал на бетон. Вагин ударил его лбом в лицо. Потом еще раз. Попытался вырвать из рук Юдахина автомат. Не вышло. Пальцы намертво вцепились в оружие. Неожиданно Юдахин пнул ногой Вагина в колено каблуком башмака, одновременно другой ногой зацепив его пятку. Вагин хлопнулся на ягодицы. Юдахин попытался встать. Не сумел. Вагин, охнув от усилия, влепил Юдахину в лицо ступнями сложенных вместе ног. Крепкий удар получился. Юдахин запрокинул голову, подался назад и, вскрикнув тонко и коротко, свалился в люк, покатился тяжело по крутой лестнице, постукивая по металлическим ступеням лбом, затылком, висками, челюстью и, конечно же, ботинками. Растянулся внизу, рядом со Лбом, глаза закрыты, тихий, не шелохнется, вроде как уснул. Вагин сунулся было на лестницу, и тотчас пули вжикнули у ног, он вспрыгнул обратно на пол, закричал опять:
— Я не хочу убивать! — стискивал голову руками, кривил лицо. — Я устал! Я не могу больше так!
Вспышки слева, справа. Выстрелы. Вагин упал, терся щекой о шершавый пол.
Стрельба прекратилась, и Вагин услышал звенящий от злобы голос Юдахина-младшего.
— А нам нужна твоя задница, Петушок!
А затем услышал Петра Порфирьевича:
— А Птичка-то улетела. Тю-тю! И парит теперь себе в высях небесных. Беззаботная. И не достать ее никогда Петушку нашему бескрылому. Не достать.
Вагин простонал длинно и протяжно, как сирена, предупреждающая о предстоящей бомбежке во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., замолотил в бешенстве кулаками по безответному бетону, расцарапал о него щеку почти до крови, хорошо еще, щетину отрастил за последние три дня, а то бы содрал кожу к чертовой матери.
Человек ступал мягко, едва слышно, опасливо голову в плечи припрятав. Горбился. Одну руку вперед вытянул. В руке пистолет. Шел по краю этажа, в двух-трех метрах от конца бетонной плиты. Лицо блестит влажно — Вазелин. Он замедлил шаг. Встал. Огляделся. Двинулся дальше. Крадучись. Острые ушки расправив. Добрался до дощатой времянки. Стена ее белела справа от него, высокая, до потолка почти, неструганая, занозистая, зараза. Еще шаг. Вздрогнула вдруг стена, скрипнула негромко, как мяукнула. Вазелин остановился, оглядел ее, инстинктивно попятился. Поздно. Стена стала крениться угрожающе, а через мгновенье повалилась на бедного Вазелина. Вазелин закричал, убегая. Но стена достала его, саданула по затылку. Вазелин упал на пол, кувыркнулся и, растерянно взмахнув кроссовками (пр-во фирмы «Найк»), полетел вниз на землю.
А за упавшей стеной стоял Вагин, руки в карманах. Скучный.
— Бывает… — сказал сочувственно. Сплюнул.
…Петр Порфирьевич таится за колонной. Большой черный пистолет (ТТ? Стечкин?) в левой руке, согнутой у плеча. А правой рукой Петр Порфирьевич крестится.
Где-то за другой колонной — Юдахин. Бесшумно мочится на доски. Покряхтывает… Встряхнулся. Застегнул ширинку. Вынул пистолет из-за пояса. Огляделся…
Вагин стоял перед железной бадьей для транспортировки цемента. Бадья на колесах — широкая и тяжелая, потому что в ней осталось немного отверделого цемента — примерно треть. Вагин качнул ее. Она покатилась, легко скрипнув. Вагин перевел взгляд на сгрудившийся неподалеку черный табунчик бочек. Потом посмотрел на длинные толстые доски, лежащие рядом с бочками. Покачал головой. Сделал несколько шагов вперед. Остановился у квадратного проема в полу. Метра три на три. Или больше. Внизу под проемом в цокольном этаже глубокая яма с бетонными гладкими стенами. А в яме мусор, бумаги, коробки, деревянные ящики, разбитые и целые бутылки, пачки из-под сигарет, окурки, спички, пуговицы, пробки, солдатские погоны, разорванные подушки, пух, тухлая рыба. Дерьмо.
…Вагин закричал отчаянно, пронзительно. Петр Порфирь-евич встрепенулся, перестал креститься. Замер.
Юдахин-младший собрался, спружинился, повел туда-сюда стволом пистолета.
Вагин опять заорал. А потом послышался звук от падения тяжелого предмета. Тела?
Петр Порфирьевич шагнул вперед.
И Юдахин-младший тронулся с места.
Осторожно, на мысках, вскидывая с непривычки локотки вверх, добрались они до края квадратного проема. Остановились. Юдахин-младший с опаской заглянул в проем.
— Ни хрена не видно, — прошептал. — Но вроде гикнулся.
— Вроде… — тоже шепотом ответил Петр Порфирьевич.
Вроде…
Вагин вместе с бадьей громоздился на черных бочках. С бочек к полу в сторону проема импровизированным трапом тянулись толстые доски.
Как только Петр Порфирьевич и Юдахин-младший приблизились друг к другу, перешептываясь, Вагин с ревом толкнул тележку-бадью. С пугающим металлическим грохотом пронеслась она по трапу, коснулась пола и, подпрыгивая, помчалась на Юдахина-младшего и Петра Порфирьевича — те едва успели повернуться на шум — и столкнула их в проем, и остановилась у самого края, покачиваясь.
Кегельбан да и только.
И стало тихо. И в яме, и на этаже, и на другом этаже, и на третьем этаже, и на четвертом этаже, и за колонной, и в цементной бадье, и в бочках, и на небе, и на земле, и под землей, и слева, и справа, и у Вагина в голове, и в ушах, и в глазах, и во рту, и в зубах, и… И там тоже стало тихо.
Вагин сжал ладонями голову, сдавил веки, встал медленно на колени — все еще на бочках был, не спускался, — ушли силы — сгорбился, согнулся, плечи сжал, качался невесомо вверх-вниз, бормотал что-то себе под нос, слабенько, тоненько, бессвязно. Минуту. Две. Час. Больше. Меньше…
Крик впорхнул под ладони, щекотнул перепонки. Вагин отвел руки от ушей, открыл глаза, поднял голову, огляделся, хмурился, не узнавая ни бочек, ни времянок, ни рук своих, ни ног… Но вот успокоился наконец взгляд. Окреп. Вагин спрыгнул с бочек, побрел к проему. Опять крик. Стонущий. Негромкий. Вагин взглянул в яму. Совсем темно. Видно скверно. Но вроде как Петр Порфирьевич лежит, за ногу держится, а Юдахин-младший по яме мечется, выход ищет. Безрезультатно. Вот поднял голову. Выстрелил тотчас. Раз-другой. Вагин отпрянул. Отступил на шаг. Вынул сигарету, зажигалку, прикурил. Затянулся с удовольствием.
Стоял.
— Ну иди, иди сюда, пидоренок! — фальцетом орал Юдахин-младший. — Иди. Побалуемся Смотри, какой у меня большой! Смотри!
Вагин поставил ногу на цементную бадью. Толкнул ее. Она упала с глухим тяжелым стуком.
— Не попал, пидоренок! — орал Юдахин-младший. — Не попал!
Вагин кинул сигарету под ноги, развернулся, пошел к бочкам, опрокинул одну, покатил к проему На бочке надпись, белая: «Мазут». Отвинтил пробку. Мазут полился в яму.
Юдахин-младший принялся бешено палить. Мимо, конечно. Для острастки больше. Он Вагина не видит. Вагин хоронится за бетонной плитой. Вытек мазут. Вагин спихнул бочку вниз. Она стукнулась звучно об пол. Загудела. Вагин наощупь отыскал на полу кусок тряпки, вынул зажигалку, поджег тряпку.
— Ты чего делаешь? — заволновался Юдахин-младший. — Чего, а?
Тряпка занялась, и Вагин швырнул ее в яму.
И вроде как взрыв случился в яме. Вскинулся вверх желтый огонь, острые ломкие пики его опалили края бетонного проема. А потом вспыхнула вся яма разом. И мусор, и подушки, и дохлая рыба, и дерьмо, и Петр Порфирьевич, и Юдахин-младший. И стало светло, как от мартена. Юдахин-младший носился факелом по яме, обреченно кричал. Не человек больше.
А Петра Порфирьевича уже не было видно в пламени. Интересно, жив ли еще старый пакостник?
Вагин смотрел стеклянно на огонь. Лицо восковое. Мертвое. Пальцы на руках скрючены конвульсивно. Не шевелятся. Пламя касается его ног. Обжигает. Но Вагин не двигается с места. Не может. Не получается.
— Обернись, Петушок! — перекрывая дрожащий гул пламени, крикнул за спиной Вагина Юдахин-старший. — Посмотри, какой я красивый. Полюби меня. — Юдахин засмеялся безмятежно. Багряный в отсветах пламени. Громадные черные тени безумствуют сзади него, на потолке, на стенах, на полу.
Вагин повернулся-таки. Деревянно. Робот. Не моргает. Глаза вспухли. Воспалены.
Юдахин стоит, широко расставив ноги. Поигрывает крошечным израильским автоматом.
— Ну? — говорит.
Вагин сделал шаг ему навстречу. Другой. Ноги не гнутся. Но идут.
— Не так быстро, — посмеивался Юдахин. — Я не сумею разглядеть, как плещется спермочка в твоих нежных глазках, петушок!
Вагин не останавливался. С каждым шагом движения его делались уверенней. Вот и пальцы расправились. И расслабились ноги. Гнутся. Упругие.
— Эй! — встревожился Юдахин. Выстрелил поверх головы Вагина. Вагин продолжал идти. Юдахин прицелился ему в ноги. Пули раскрошили бетон у самых вагинских кроссовок. Вагин продолжал идти.
— Сука! — выдавил Юдахин и направил ствол в грудь Вагину, нажал курок. Металлический щелчок. Тихий, но звонкий. Юдахин засуетился, судорожно стал искать новый рожок. Нашел, наконец, в кармане брюк. Вставить не успел. Вагин ногой выбил автомат из его рук. И пяткой той же ноги ударил Юдахина в висок. Тот попятился, упал. Попытался встать. Вагин снова ударил его ногой. Сильно. Юдахин опрокинулся на спину. Подвывая боязливо, отполз назад. Встал. Встретил Вагина двумя короткими, прямыми. Второй удар Вагин не поймал. Голова его откинулась назад. Изо рта слабо плеснула кровь. Вагин улыбнулся нехорошо. Зубы черные от крови. И рот кажется щербатым. Страшным. Вагин неожиданно метнулся влево. Юдахин среагировал, и тогда Вагин достал его правой ногой. В самый низ живота попал. Юдахин согнулся. Не теряя преимущества, Вагин двинул его коленом снизу по лицу, добавил кулаками. Мощно. Умело. Юдахин рухнул на бетон безвольно, Вагин встал перед ним на колени, склонился, принялся расстегивать ему брюки. Расстегнул. Спустил их.
Потоми с себя стянул джинсы. Рычал. Перевернул Юдахина на живот. Лег на него. И тут же скатился на пол. Выругался. Тер руками у себя между ног. Кривился. Убрал руки, обессиленный. Лежал на спине. Дышал прерывисто. Часто. Хрипло. Долго.
Поднялся, застегнул джинсы. Ухватил Юдахина за ноги. Поволок к проему. Кричал, стервенея. У самого края проема отпустил вдруг Юдахина. Сел рядом. Закурил опять. Пламя ослабло. Вдвое уменьшился его гребень. Но жарит. Нестерпимо. Юдахин открыл глаза. Веки свинцовые. Разлепил сухие губы, проговорил едва слышно:
— Полюби меня, Петушок…
Вагин уперся в Юдахина ногами и, не торопясь, без видимых усилий столкнул его в яму. Вслед за Юдахиным в яму полетел и окурок.
Вагин поднялся. Отряхнул джинсы. Ступил в сторону от проема. Поднял с пола автомат и полный патронов новый рожок. Сунул оружие себе за пояс. Поплелся к лестнице.
Вдалеке выли сирены милицейских машин.
Приближались.
В лицо ударил слепящий луч прожектора. Вагин поморщился. Загородился рукой.
— Это ж Вагин, — сказал кто-то. Прожектор потух. Нить накала еще какое-то время светилась рубиново.
Вокруг — машины и люди. Машины с мигалками, люди в бронежилетах, с оружием. Подошел подполковник, тот самый приятель Вагина, тоже в бронежилете, заглянул Вагину в глаза, спросил:
— Что?
Вагин слабо махнул рукой, отстранил подполковника, шагнул мимо, побрел к машинам. Люди смотрели на Вагина. Только на него. Молчали. Не шевелились. Но нет. Кто-то повернулся бесшумно. Пошел в темноту. Вагин поймал взглядом движение. Вскинул голову. Зашагал быстрее, тверже. Догнал Патрика Иванова. Ухватил его за плечо, развернул к себе. Ударил его в живот, потом два раза в лицо. Патрик Иванов упал в грязь. Вагин поднял его за ворот, ударил еще раз. Патрик Иванов не сопротивлялся. Опять свалился на землю. Никто не вмешивался. Все терпеливо ждали. И Патрик Иванов терпеливо ждал. Падал, вставал, падал, вставал. Безропотный. И ждал. Дождался. Упал и не смог подняться. Вагин смял ему переносицу. Лежал, распростав руки, волосы, лоб в черной вязкой жиже тонут, подбородок к небу вскинут, дрожит.
Патрик Иванов.
Вздыхает неровно, хрипло, вот-вот забьется в болезненном жестоком кашле… И не остановить.
Патрик Иванов — сын чужеземного студента и местной проститутки.
Один.
Без семьи. Без любви. У него никого нет в этой жизни.
Кроме Вагина.
И они знают об этом.
Оба.
А Вагин уже шел прочь, не оглядываясь. Какое-то время был еще виден в отсветах пламени.
А потом исчез.
Ночь.
Без звезд. Без Луны.
Темно.
Он шел быстро, дороги не разбирая, высоко подняв лицо, как слепой, к небу, которое без звезд и без Луны, спотыкался, проваливался в ямы, ямки, ухабинки, ухабы, падал, не удерживая равновесия, на бок, на спину, на руки, часто; подполковник кричал в мегафон, звук бежал над степью, преградами не стесненный, влево, вправо, прямо, далеко: «Вагин! Вагин! Где ты? Сашка, милый, где ты? Где ты, черт тебя дери, полудурок хренов!».
Вагин выбрался на шоссе, вышел на середину его, вынул из-за пояса автомат, вставил новую обойму, шоссе пустое, влажное, — ночная роса, наконец показались фары вдалеке, машина приближалась с ревом — грузовик, — остановилась перед Вагиным, осветила его бело — призрак, — Вагин вскинул автомат, подошел к кабине, открыл дверцу, влез на сиденье сказал буднично:
— Домой.
— Хорошо, — тотчас отозвался водитель, молодой, большеротый. С неподдельным ужасом смотрел на автомат.
Вагин открыл дверь своей квартиры. Там темно. Ночь. Без звезд. Без Луны. Не решался переступать порог, вертел головой по сторонам, оглядывался вдруг резко, словно выстрела ждал, шагнул наконец в темноту, руки вперед выставил, наткнулся на стену, нащупал выключатель, щелкнул им, осветил прихожую, дальше двинулся и в комнате свет зажег — и люстру включил, и настольную лампу, и бра над кроватью, — заспешил на кухню и там огонь зажег и холодильник открыл, чтобы и оттуда свет шел, улыбался во все лицо, больше того — не хохотал едва, кинулся в туалет и там лампу включил, а потом и в ванной то же самое сделал, ходил по квартире скоро, из кухни в комнату, из комнаты в коридор, из коридора в кухню — радовался.
Радовался…
Очутившись в ванной, в зеркало взглянул, покачал головой, посмеиваясь, ну и рожа, мол, ну и рожа, сунул голову под кран, тер лицо мылом, охал, ухал, фыркал, напевал что-то веселенькое, выпрямился, вытерся, заторопился опять в комнату, сел на кровать, вынул из-за пояса автомат, осмотрел его тщательно, щелкнул затвором, взводя курок, открыл рот, поднес автомат к лицу, сунул короткий его ствол себе меж зубов, нащупал деревянным пальцем курок, нажал легонько, глаза зажмурил, крепко, морщился, а палец парализовало словно, а может, и вправду парализовало.
Не двигается. Выстудился. Ледяной.
Телефонный звонок. Вагин вздрогнул. Вынул ствол изо рта. Отплевывался. Прямо на пол. Водил ледяным пальцем по лбу. Смотрел на тренькающий аппарат, но трубку не брал. Телефон перестал звонить. И Вагин засмеялся неожиданно, отшвырнул автомат, протянул руку к телефону, погладил его, словно живого, словно котенка, словно цыпленка, словно зайчонка… Рука потеплела. Он снял трубку, потерся о нее щекой, поднес к уху, улыбался безмятежно, набирая номер, улыбался безмятежно, ожидая ответа, наконец, услышал ее голос, улыбался безмятежно.
— Лика, — сказал он. — Лика, — сказал он. — Лика, — сказал он. — Лика…
Лика сидит на полу, на роскошном ковре, в черном узком тонком платье, — искрятся бриллианты на шее, в ушах, на пальцах. Такой Вагин ее еще не видел. Никогда. Она, верно, только что пришла. Откуда-то. И откуда? С приема? С раута? С фуршета? Рядом, тут же на ковре, бутылка вина, наполовину наполненный фужер, пепельница, сигареты, те самые — «Маль-боро». В комнате полумрак. Горит лампа на длинной тонкой ножке, тоже стоящая на полу. Едва видны очертания мебели вдоль стен и картин на стенах над мебелью. Яснее видны кресла и диван, обитые черной мягкой кожей. Комната большая, дальний конец ее и вовсе тонет во тьме. Ночь. Без звезд. Без Луны.
Лика прижала трубку к уху. Сильно. Закрыла глаза. Слушает.
— Лика, — говорил он. — Лика, — говорил он. — Лика…
— Послушай, Вагин, — негромко сказала Лика. — Я хочу, чтоб ты все знал, ты должен…
— Лика, — говорил он. — Лика, Лика…
— Мне было десять лет, когда он взял меня из детдома. Он выбрал меня. Как выбирают коров, или коней, или щенков, или гусей. Но не людей, но не детей… Выбрал. Из двухсот четырнадцати девочек и мальчиков. Для этого нас утром, до завтрака, построили во дворе, в несколько рядов, и он ходил меж рядами в чищеных, зеркально сияющих сапогах, и выбирал, а директор и завуч ссутулясь, униженно семенили за ним. Всего-то навсего командир гарнизона, полковник, а городскую верхушку цепко за горло держал, вздохнуть не давал, кривоногий. Напрямую звонил Генеральному в Москву, был сыном его фронтового друга… Ткнул пальцем в меня, сказал «Эта». Привел домой. Дом большой, богатый. А в доме он и сестра его, гладенькая и пугливенькая. Одевал меня, как королеву. Был нежен и добр. Сокрушался, что так и прожил всю жизнь холостяком. Не повезло, мол. А детей любит больше всего на свете. Поэтому и взял меня из детдома. Обещал выполнять все мои капризы и прихоти. И выполнял. С радостью. И я была счастлива.
…Он вошел в мою комнату ночью, когда я спала. Голый. Сбросил одеяло, разорвал ночную рубашку и, урча от восторга, овладел мной. Трахнул, проще говоря. Я и дернуться не успела. Гумберт-Гумберт, мать его! Весь день меня трясло, мерещились огромные тени. Что-то зловещее шептали из осязаемой темноты голоса. А к вечеру я успокоилась и рассказала обо всем его сестре: «Тебе приснилось, деточка, — сказала она. — Приснилось». — Лика сухо засмеялась. — И все это снилось мне еще целых семь лет. А потом я влюбилась. Но его люди выследили нас. Парня раньше срока забрали в армию. А в армии за какой-то проступок его отправили под трибунал. В наш город он уже не вернулся. Я убежала из дому. Он нашел меня и долго бил. Я убежала еще раз. Болталась по стране. Пока меня не подобрал Локотов. Да, тот самый Локотов. Я влюбилась в него без памяти. И он любил меня. Я знаю. Локотова боялись и уважали. В его команде было двадцать четыре человека… Убийства, кражи, нападения на инкассаторов. Он был жестокий. Но честный по-своему. И очень красивый. И несчастный. И счастливый. Потому что он любил меня. Любил. Когда человек любит, он счастлив, несмотря ни на что. Ты не веришь, что он любил меня? Тогда зачем ему было убивать этого гада? Я рассказала Локотову, как он мучил меня семь лет. Локотов приехал в наш город и убил его. Теперь ты видишь, что он любил меня. Ведь так? А через месяц его арестовали, а через полгода расстреляли. А я… А я потом работала с фирмачами. Ты понимаешь, что я имею в виду? Я стала проституткой. А потом я решила заняться настоящим делом. Я же ведь уже не могла жить по-другому. Ты не хочешь спросить, каким делом? Не хочешь?
Вагин молчал.
— А потом появился ты, — сказала Лика. — И я увидела — вот оно, счастье! И я поняла — надо начинать все сначала. Увидела и поняла. Но не смогла. Я уже не могу по-другому, понимаешь?! Я не могу по-другому.
…Лика сидит за столиком в ресторане. Она в легком открытом платье.
Смеется. Рядом привлекательный мужчина. По виду не наш, не советский. Обнимает ее, наливает вина.
— Я не могу по-другому…
…Полутемная комната, большая кровать. Голая Лика. Голый иностранец. Стискивают друг друга в объятиях, катаются по кровати сладострастно, яростно стонут. Тела влажные, блестят…
— Я не могу по-другому…
…Лика перетягивает руку повыше локтя резиновым жгутом, правой рукой вводит иглу в вену, отбрасывает шприц, снимает жгут, озирается, веселея. Вокруг — женщины, мужчины, сидят, лежат, курят, пьют; несколько человек застыли на полу, не шевелятся, глаза закрыты…
— Я не могу по-другому.
…Деревянный барьерчик, за ним скамья подсудимых, на скамье Локотов, по бокам два равнодушных милиционера.
— Ваше последнее слово, подсудимый Локотов, — говорит судья, румяная женщина с шестимесячной завивкой. Крепдешиновая блузка. Бантики. Рюшечки. Кружавчики…
Локотов встает, молчит, смотрит в зал, на Лику. И Лика смотрит на него, глаза без слез, сухие губы шевелятся беззвучно. Зал неистовствует в восторге:
«Даешь! Даешь!..»
— Я не могу по-другому.
…Сотрудник милиции Ходов срывает у лежащей Лики приклеенные усы, поднимает в недоумении глаза на Птицу, говорит растерянно:
— Да это же…
Пуля пробивает ему лоб, и разрывается ткань над переносьем, крошится кость, взбухает и лопается между глаз кровавый пузырь. Ходов падает навзничь, вздрагивает, молотит ногой по полу.
— Я хочу по-другому! — кричит Лика в трубку, стучит кулачком по колену. — Я хочу по-другому!
— Я хочу по-другому, — тихо вторил ей Вагин. — Я хочу по-другому…
— Я люблю тебя, — прошептала Лика, тряхнула головой, волосы упали на лоб, закрыли лицо.
— Господи, зачем ты послал мне ее? — сказал Вагин. — Я потерял веру. Я обрел сомнения. Я всегда думал, что все делаю правильно. А теперь не знаю. Теперь я ничего не знаю. Я потерял силу.
— Я люблю тебя, — шептала Лика. — Я люблю тебя…
— Я ничего не понимаю, — говорил Вагин. — И не хочу ничего понимать. И мне хорошо от этого. И радостно от этого. Как никогда. Я потерял силу. Я обрел силу.
— Это так, — шептала Лика. — Это так.
Вагин обессиленно опустился на кровать, трубку от уха не отнимал, закрыл глаза, оглаживал пластмассу пальцами, нежно, бережно, как беззащитного маленького зверька, как котенка, как бельчонка, как цыпленка, как зайчонка… Лицо теплое, мягкое, разгладилось, на губах улыбка, непривычная, печальная, не его, легкое движение, и упорхнет, исчезнет.
Тихо!
Ти-хо!!
Не будите спящего милиционера!
Гудки, гудки. Холодными змейками вползают в ухо. Короткие и бесконечные. Болезненные. Нервные. Вагин открыл глаза, нахмурился, приподнялся, трубка упала с плеча. Гудки ослабли, поистончились. Вагин улыбнулся. Нажал на рычажки и тотчас, не опуская трубку, набрал номер. Ждал. Покачал головой, нажал на рычажки, опять набрал номер — другой.
— Здравствуй, — сказал, — Лика, Лика…
— Добрый день, — сказала Лика. — Я знаю, что ты только что проснулся, и знаю, какой сон ты видел…
— Я видел снег, много-много снега. Арктика или Антарктида. Торосы. Белые медведи. Синее небо…
— А потом ты взошел на ледяной гребень и увидел растущую посреди снега пальму, а на пальме желтели бананы, ты срывал бананы и поедал, умирая от наслаждения…
— Да, так, — подтвердил Вагин. — Откуда ты знаешь?
— Я была рядом. Я всегда рядом.
— Я хочу видеть тебя, — сказал Вагин.
— И я хочу видеть тебя, — сказала Лика.
— Сейчас, — сказал Вагин.
— Вечером, мой милый. Вечером. Я же на работе. Скоро показ новой коллекции моделей. Много эскизов. Модельеры стоят за спиной. Надо срисовать, раскрасить. Я очень люблю раскрашивать. Я же рассказывала тебе. Поэтому я здесь и работаю. Белый, синий, охра, кобальт…
— Сейчас, — сказал Вагин.
— Вечером, — сказала Лика. — Я буду ждать.
Она положила трубку.
— Сейчас, — сказал Вагин.
Сорвался с постели, рванулся в ванную. Душ. Тугой. Колкий. Кофе. Сигарета. И он готов.
— Сейчас, — сказал Вагин.
Кинул в сумку свитер, нечитанные газеты, поднял с пола автомат, повертел его в руках, усмехнулся чему-то и тоже отправил в сумку вслед за свитером.
Стремительно скатился по лестнице. Впрыгнул в машину. Помчался. Начало дня. Мостовые забиты автомобилями. Вагин, не стесняясь, гнал по тротуарам, с ходу прошивал проходные дворы, вылетал на встречную полосу, приветственно помахивая ручкой парализованным от такой наглости «гаишникам».
Возле Дома моды поехал тише. Успокаивался. Приближаясь, выискивал глазами окна мастерской, где работала Лика. Перевел взгляд на мостовую, а потом на тротуар, прикидывая, где бы припарковаться, и неожиданно навалился на тормоза. На противоположной от Дома моды стороне улицы, у закрытого газетного киоска он увидел Лику, а рядом с ней Птицу.
Вагин тихонько подъехал к тротуару, остановился. Откинулся на спинку сиденья, покачал головой, зажмурившись, помассировал виски, вздохнул глубоко…
Птица в ладном костюме, тщательно завязанном галстуке, как и тогда, когда Вагин увидел его в первый раз, ухоженный, сытый, говорит с достоинством, едва шевелит губами, веки полуоткрыты, сонный. Лика не отвечает ему, смотрит мимо, бесстрастно. Вот Птица не выдержал, что-то громко проговорил, взял женщину за плечи, притянул к себе, попытался поцеловать. Лика уперлась руками ему в грудь, сломала лицо в неприязненной гримасе. Птица сделал еще одну попытку. Вагин схватился за ручку дверцы, взбешенный. Но вот Птица отпустил Лику, сказал ей что-то жестко, зло, ступил в сторону, подошел к машине, стоящей у тротуара, сел в нее, завел двигатель. Лика перешла мостовую, направилась в Дом моды, в узком летнем платье — пестром. Голова вскинута непримиримо, плечи чуть назад оттянуты, стройная. Как только она оказалась спиной к Вагину и, естественно, не смогла бы его увидеть, не обернувшись, он тронул машину с места и поехал вслед за Птицей.
И все-таки она обернулась…
У ближайшего светофора поравнялся с его машиной, заглянул в кабину, ласково улыбаясь. Птица сразу же почувствовал взгляд, повернулся резко, вперился в Вагина, щурился, держал глаза, не отводил, напряженный, бледный. И вдруг, не дожидаясь зеленого сигнала, сорвал машину с места, задымились задние шасси, вхолостую провернувшись на асфальте. Вагин нагнал Птицу у бульвара. Тот заметил его и неожиданно свернул прямо на газон, машина прыгнула на парапет, врассыпную кинулись дети, заголосили мамы. Вагин повторил его маневр. Они пересекли бульвар и оказались на другой стороне улицы. Птица успел въехать в арку дома напротив, а Вагину перегородил дорогу длинный фургон трайлера. Вагин нажал на тормоза, машина пошла юзом, развернулась и шарахнулась задним крылом о фургон. Вагин заматерился яростно, нажал на акселератор, «жигуленок» зайцем скакнул вперед. Вагин объехал трайлер и, не обращая внимания на возбужденные гудки с визгом тормозивших автомобилей, пересек мостовую и влетел в арку. Носился по двору, отыскивая второй выход со двора. Двор огромный. Заборы. Гаражи. Метался меж гаражей, распугивая автолюбителей. Нашел-таки. Узкий проезд в бетонном заборе. Попал на набережную. И тут же в заторе у светофора увидел автомобиль Птицы. Вскрикнул победно, с ходу въехал на тротуар. Летел, не снижая скорости. Птица заметил его. Дал назад, развернул вправо, вспрыгнул на противоположной тротуар, объехал машины, стоящие позади него, и погнал навстречу движению. Вагин повторил тот же маневр. Развернулся и поехал за Птицей. Машины шарахались от них в разные стороны. Бились друг о друга, сшибали телефонные будки, с хрустом ломали деревья и кустарник, обрамлявшие дорогу.
Птица все-таки выбрался на мост. Отчаянно сигналя, пересек его. А Вагин тем временем выбирался из гудящей, смердящей, потной, со страшной силой матерившейся автомобильной свалки. Выбрался. Миновал мост.
Поздно. Птица исчез.
Вагин орал, кривясь, в бешенстве молотил кулаками по рулю, метался, обезумевший, по набережной, по примыкающим к ней переулкам, проулкам, проездам…
Он нашел машину Птицы во дворе одного из домов, стоящих на набережной, примерно в километре от моста. Птица знал, что делал, он поступил единственно верно — бросил машину. И Вагин знал, что делал, он поступил единственно верно — он принялся искать машину. И нашел ее. Отыскав автомобиль, тотчас успокоился, откинулся на спинку сиденья, отдыхая. Закурил. Полез в бардачок, достал карту города, развернул ее, водил пальцем по бумаге. Наконец обнаружил, что хотел, усмехнулся, сложил карту, закинул ее обратно в бардачок, притушил сигарету, стал собираться.
Прежде всего проверил исправность автомата. Вынул рожок, взвел курок, щелкнул затвором, выдавил на ладонь пару патронов из рожка, они сияли золотисто, гладкие, аккуратные, безобидные, прожал пружину рожка — крепка ли? не подведет? — втиснул патроны обратно в рожок, а сам рожок примкнул на место, положил автомат рядом, на сиденье, оглядывал его со всех сторон, любовался. Затем выбрался из машины, обошел ее,открыл багажник, извлек оттуда небольшой брезентовый мешочек, звонко хлопнул крышкой багажника, вернулся в кабину, открыл мешочек, там — ключи, много, отмычки, тонкие, никелированные, похожие на пыточный инструмент стоматолога, отобрал несколько ключей и две наиболее универсальные отмычки, сунул их в карман куртки, мешочек застегнул, бросил в бардачок. Повернул ключ зажигания. Двигатель мелко задрожал, заводясь. Вагин включил передачу. И машина неспешно двинулась с места.
На улицу не выезжал, ехал по дворам, они соединялись арками, узкими проездами, незаметными сразу «дырками» в каменных заборах. Дворы были немые и пустынные. Все как один. Ни людей. Ни эха от гудящего двигателя. Ни шума самого двигателя. Будто он и не работает вовсе. Будто случайный ветерок гонит машину по двору.
Обвалился скол штукатурки из-под крыши одного из домов, второй, куски крупные, тяжелые, упали перед капотом, раскололись об асфальт бесшумно, взметнулась тотчас блеклая пыль. Пропала, тая. Таяла, пропадая…
Таяли и стекла на окнах, на глазах трескаясь паутинисто; лопались беззвучно, стекали густо по стенам. А оконные проемы корчились в судорогах, в черные щели суживаясь, в щепы крушили оконные косяки, а за окнами метались тени, — в глубине квартир, комнат, коридоров, лестничных площадок — неясные, бесплотные…
А потом стали разрываться стены, как листы бумаги, снизу доверху, сверху донизу…
А потом Вагин выехал на улицу…
Здесь было светло и жарко и вокруг было полным-полно всяких замечательных звуков, как-то: шуршание воробьиных крыльев, бульканье в животе у проходящего мальчишки, шепот растущих тополиных корней, топот крадущегося по карнизу кота (отменный, кстати, кот, большеголовый, толстый, вальяжный и очень благодушный), оглушающий свист радиоволн и т. д., и т. д., и т. д…
Он остановил машину прямо у подъезда, у того самого, до которого провожал Лику в первый день своего с ней знакомства. Засунул автомат за пояс джинсов, застегнул молнию куртки, вытянул шею, посмотрелся в зеркальце, усмехнулся скупо и только после этого вышел из машины.
Поднялся на третий этаж, быстро, легко, мягко кроссовками ступеней касался. Постоял у двери, прислушиваясь. Минуту, две… Осмотрел замки, вынул отмычки, поковырялся в замках осторожно, почти неслышно, и щелкнули замки, один за другим, открываясь. Вагин приотворил дверь. Но заходить пока не спешил. За дверью прихожая, вешалка, кресла, столик, телевизор. Никого. Вагин переступил порог, сделал шаг, другой, на ходу вынул автомат, изготовился, держал оружие двумя руками, стволом вверх. Еще шаг. На полу палас. Он глушит шаги, и без того тихие, почти невесомые. Вагин остановился у двери в комнату. Комната в этой квартире одна, потому что квартира однокомнатная, бывают квартиры двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнатные, пятикомнатные, многокомнатные, а эта — однокомнатная, маленькая, на одного человека рассчитанная, а может быть, на двух, а то и на трех, а в некоторых однокомнатных квартирах по шесть человек живут, вон оно как складывается иной раз…
Ухо к двери повернул. Слушает.
Саданул по двери ногой, влетел в комнату, автомат перед собой выставил. Замер в шаге от порога. Прямо в лоб ему глядел неприветливый зрак пистолета. Пистолет держал Птица — обеими руками, как и Вагин свой израильский автомат «Узи».
Стояли.
Боялись пошевелиться. Любое движение сейчас — смерть. Пальцы на спусковых крючках томятся, дрожат.
Ствол в ствол. Глаза в глаза. Молчат.
Комната довольно большая. Прибранная. Женская. Пуфики. Салфеточки. На стенах фотографии Лики: в купальнике, без купальника, за рулем иномарки, с тигренком в руках. Черный кожаный диван, украшенный цветастыми подушками. И много цветов повсюду. На полках импортной стенки — парфюмерия, косметика, пачки «Мальборо», бутылки с несоветскими напитками, окна не зашторены, распахнута форточка, сквозняк шевелит цветы в вазах, они сгибаются с сопротивлением и с достоинством выпрямляются вновь, не комната — летний сад.
— Как ты вошел? — нарушил молчание Птица. — У тебя есть ключ?
Вагин отрицательно покрутил головой.
— Отмычка, — ответил коротко.
Птица засмеялся удовлетворенный, констатировал:
— Значит, у тебя нет ключа от ее квартиры.
Вагин опять отрицательно покрутил головой.
— Она не дала тебе ключ, — продолжал смеяться Птица. — Она не дала тебе ключ, она не дала тебе ключ…
Зазвенел телефон в прихожей. Птица вздрогнул, осекся. Лицо напряглось, высохло вмиг, кожа натянулась на висках. Но не шелохнулся он, не отвлекся — ствол его пистолета упрямо смотрел Вагину в лоб.
Опять молчали.
За окном завыла милицейская сирена. Птица чуть качнул головой в сторону окна, слушая, но глаза от Вагина не отвел. И Вагин тоже слушал. С надеждой. Но милицейская машина проехала мимо.
Вагин попытался сдуть капельку пота с носа. Не сумел. Сморщился. Засмеялся почему-то. Умолк.
— Московское время пятнадцать часов, — сказал кто-то у Вагина за спиной. После перерыва включилась трансляция.
Теперь вздрогнули оба — и Вагин, и Птица. Крепче сжали оружие. Ждут.
— Прослушайте объявления и рекламу, — равнодушно сообщил диктор. — Сегодня во дворце культуры металлургов состоится конкурс-выставка кошек, организованная клубом любителей кошек «Союз».
Вагин краем глаза уловил движение сбоку. Мелькнуло что-то темное за окном, отлетела форточка в сторону, до конца распахиваясь, зазвенела стеклами, упала тень на лицо Птице. Он непроизвольно повернул голову к окну. И тогда Вагин выстрелил. Очередью. Птицу отшвырнуло к стене. Уже мертвый, он сполз по ней на пол. Из-под раздробленной головы тотчас потекла кровь, вязкая, скользкая.
Кот спрыгнул с форточки. Сел на паркет, уставился на Вагина с любопытством.
— Спасибо, — сказал Вагин.
— Не стоит благодарности, — ответил кот, почесал толстой лапкой за ухом, отрешенно глядя перед собой. Чихнул. Поднялся. Потопал из комнаты. Упитанный. Неторопливый. Хозяин.
— Как звать-то тебя? — вслед ему спросил Вагин.
— Чома, — не оборачиваясь, ответил кот.
— Хорошо, — сказал Вагин. Снял салфетку с маленького столика, накрыл ею окровавленное лицо Птицы. Отступил назад и устало опустился на пол у стены, напротив трупа.
Прохрустел ключ в замке, поспешно, суетливо, скрипнула дверь, качнувшись на петлях, распахнулась, не захлопнулась потом как следовало бы, щелкнув металлическими язычками, и встревожил сквозняк цветы, они встрепенулись, зашевелились, волнуясь, все как один, в ожидании к двери обратились, замерли, внимая.
Лика шагнула в комнату. Остановилась тотчас. Увидела лежащего Птицу, зажмурилась на мгновенье, тряхнула головой, на Вагина взгляд перевела. Вагин не вставал, все так же сидел на полу, ноги скрестив, курил, щурился от дыма, смотрел на Лику выжидающе. Она снова взглянула на Птицу, подалась вперед, сделала шаг, другой, присела возле трупа, потянула салфетку вверх с его головы, опять зажмурилась, отпустила салфетку, погладила Птицу по груди, по плечам, по рукам, разжала пальцы на правой руке, подняла пистолет, встала, направила оружие на Вагина… Вагин затянулся очередной раз, бросил равнодушный взгляд на пистолет, потом вскинул глаза на Лику, глядел на нее вопросительно, ну, что дальше, мол? Упала рука с пистолетом, повисла безвольно вдоль тела, полетел вниз пистолет, грохнулся о паркет, Лика подогнула ноги, неуклюже села на пол напротив Вагина, вжала ладони в лицо, забормотала что-то несвязное, вздрагивала.
Вагин какое-то время смотрел на женщину, бережно трогал взглядом ее струистые волосы, ее белые пальцы, ее прозрачные запястья, ее острые локотки, ее тонкие бедра, ее легкие ноги, согревал глазами ее, выстуженную, — ощутимо. Она почувствовала, перестала вздрагивать, перестала бормотать, ладони стекли с лица, она улыбалась тихо, глаза закрыты, лицо светлое… Вагин встал, взял с пола пистолет, вынул из кармана платок, вытер отпечатки с оружия, вложил его обратно в руку трупа, вернулся к стене, где сидел, подхватил автомат и его протер платком и, усмехнувшись, вложил его в другую руку Птицы, полюбовался проделанной работой, затем вытряхнул окурки из пепельницы и завернул их в клочок бумаги, сунул бумагу в карман куртки и из того же кармана достал красную книжечку — паспорт. Развернул его, прочитал вслух:
— Альянова Елизавета Ивановна, — протянул паспорт Лике.
Лика открыла глаза, машинально взяла паспорт, машинально открыла, увидев свою фотографию, тотчас захлопнула паспорт, подняла лицо к Вагину, вгляделась в него внимательно. Вагин подал ей руку, помог встать, поцеловал в губы…
Через несколько минут с двумя тугими пузатыми сумками и упитанным котом Чомой под мышкой она стояла в прихожей.
Вагин напоследок еще раз оглядел квартиру и вышел прочь, с силой захлопнув за собой дверь.
Вагин остановил машину возле своего дома. Вышел. Один. Взбежал по лестнице. Очутившись в квартире, первым делом заспешил к письменному столу, вынул из ящика лист бумаги, почтовый конверт, ручку, написал на листе скоро: «Начальнику управления внутренних дел… Рапорт… Прошу уволить меня…» Расписался, поставил число, сложил бумагу, сунул ее в конверт, а сам конверт заклеил и написал на нем адрес, и только потом принялся собирать вещи. Появился на улице с объемистой спортивной сумкой. Прежде чем подойти к машине, бросил конверт в почтовый ящик, что висел рядом с подъездом.
— Послушай, — окликнула его Лика. Она стояла у автомобиля, опиралась на открытую дверцу. — А куда мы, собственно, едем?
Вагин приблизился к машине. Пожал плечами:
— Понятия не имею.
— Хорошо, — сказала Лика, и снова забралась в машину, и захлопнула дверцу.
Кончился город. По обеим сторонам дороги мелькали деревеньки, перелески, поля, коровы, комбайны, церкви, солнечные лучи, бабочки, загорелые мальчишки, велосипеды, старики, цветы, жестяные ведра и, конечно же, коты — куда же без них, — и много всякого другого.
Вагин вставил кассету в магнитофон. Том Джонс. Семидесятые годы. «Естердей». Слушал напряженно минуту, две, а потом улыбнулся, а потом захохотал.
— Если б ты знал, как я счастлива, — сказала она.
— Если б ты знала, как я счастлив, — сказал он.
Машину догоняли, снижаясь, два желто-синих вертолета.
— Я люблю тебя, — сказал он.
— Я люблю тебя, — сказала она.
— Они любят друг друга, — подтвердил Господь.


Пшеничников В.Л. Шпион умирает дважды
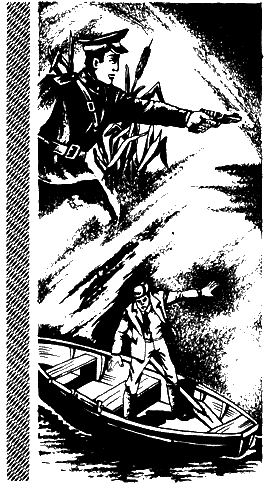

I
Море дыбилось, плотик на волне вставал едва ли не вертикально, и вся жизнь летела под рев шторма к черту на рога, в преисподнюю, а Рыжий, облапив пистолет обеими руками, выцеливал жертву, метя ей непременно в голову. — Эй, не дури… Слышишь? Их разделяло всего лишь пять небольших шагов — ровно столько, сколько насчитывалось от одного резинового надувного борта рыбацкого плота до другого, и ступить дальше, а уж тем более укрыться, было некуда и негде. Вокруг, застилая горизонт, вскипали, ходили ходуном высокие злые волны — непроглядные, как сама судьба. — Предупреждаю: для тебя это может плохо кончиться… Рыжий словно оглох. Он старательно щурил глаз, но силы его уходили больше на то, чтобы удержать под ногами зыбкую надувную палубу, и выстрел все запаздывал, томя душу неминуемой развязкой. — Опусти оружие, тебе говорят! Скотина… Пенный клок слетел с гребня косой волны, хлестнул Рыжего по лицу, усеяв мелкой влагой плохо выбритые щеки с пучками неопрятной, должно быть, жесткой поросли. Не теряя из поля зрения противника, Рыжий отер рукавом лицо. Рот его свело не то судорогой, не то зевотой, губы поползли в стороны, оголяя узкие и длинные, как у старого мерина, отменной крепости зубы. — Я тебя ненавижу… К-как же я т-тебя н-ненавижу! — давясь словами, прошипел Рыжий, теряя опору при очередном броске волны. Костлявые кулаки Рыжего, в которых пистолет казался игрушечным, были сплошь покрыты коричневыми пигментными пятнами, огромными и отчетливыми, будто лепехи коровьего помета на ровном лугу. Шишковатые, с короткими обрубками ногтей, пальцы не выпустили бы пистолета, случись Рыжему рухнуть внезапно замертво или ненароком свалиться за борт. — Брось оружие, идиот! Оно ведь заряжено! — Не твоя забота, Джек, или как там тебя… — Мы должны держаться вместе, иначе пропадем оба! Рыжий хрипел: видно было, что ему приходилось круто, и животный его инстинкт искал если не избавления от мучений, то хотя бы жертвы. — Ты втянул меня в это дело, а теперь пришла пора нам с тобой посчитаться. Подогнув колени, Рыжий уравновесил-таки вихляющее тело, пружиня ногами в такт вздымающейся волне. Блеклые, выцветшие за годы глаза его от тоски и злобы и вовсе остекленели, на губах выступила соль. Заострившийся нос побелел, будто вылеплен был из свежезатворенного алебастра, и только мощные отогнутые крылья, дрожа, гневно раздувались при каждом вздохе Рыжего. — За борт, собака! — прорычал он недавнему подельщику, компаньону, работодателю в прибыльном и непыльном деле, а теперь волею случая, волею обстоятельств — смертельному врагу. Под овальным нейлоновым куполом плота омерзительно пахло резиной. Из бачка бесполезного сейчас подвесного мотора, захлебнувшегося на первой же серьезной волне, то и дело подтравливал бензин. Тошнота от качки и вони вызывала спазм, тянула кишки, и это заботило больше, чем пляшущий почти у глаз пистолет в тупом ухвате сцепленных, как зубья шестерен, рук. — За борт! — раскатывая «р», неистовствовал Рыжий, готовый раньше времени нажать на курок. — Быстро прыгай! Считаю до трех. Раз… «Джек, или как там тебя» поудобней, насколько позволяла болтанка, скрестил на груди руки, демонстрируя полное презрение, более того, полное равнодушие к Рыжему. Он был терпелив, потому что знал истинную цену терпению, и умел ждать. — Два… «Джек» закусил губу, потому как едкая тошнота подступила к самому горлу, и унизиться перед Рыжим в такую минуту, стравить, как все люди, которых внезапно захватил и уж который час бессмысленно мотал посреди пучины крутой шторм, ему не хотелось. — Ну, молись Богу, чужак: три…II
Трижды за короткий срок он видел одинаковый сюжет и трижды вздрагивал, кляня в темноте ночи так неудачно сложившуюся ситуацию и собственную память, способную цепко ухватывать не только суть, но и мельчайшие детали, чудом не выветрившиеся из головы после всего, что произошло. Дурацкий эпизод с пистолетом, мешая спать и копить силы для будущей нелегкой борьбы за жизнь и свободу, каждый раз назойливо, с незначительными вариациями, возвращался, и его натренированный мозг сейчас был бессилен что-либо изменить, впервые не повиновался ему, так же как и его универсальная память не способна была отторгнуть, пренебречь совершенно не нужными в данный момент подробностями вроде хрящеватого алебастрового носа Рыжего и его ржавых пигментных пятен наподобие коровьих лепех посреди ровного луга. Рыжего больше не существовало, и о нем следовало забыть, как забывают о сношенных, еще недавно таких удобных башмаках или отслужившей срок сорочке. В конце концов, Рыжий сам себя наказал, собственной рукой подвел черту. «Бедняга, он даже не узнал напоследок моего настоящего имени. „Джек!“ Так называют дворовых псов. Великая честь…» Приказывая себе забыться, уснуть после растревожившего видения, он плотно сомкнул веки, ощущая глазными яблоками их припухлость и тяжесть — следствие недавнего неимоверного напряжения. Жесткий ворс казенного одеяла грубого сукна тоже не располагал к неге, натирал шею и лицо, так что он вынужден был сменить найденное раньше удобное положение, перевернуться с боку на бок. Всякое лишнее движение тянуло мышцы, причиняло боль. Но стоило убаюкать себя, погрузиться в сон, как воспрянувший из небытия Рыжий снова принимался выцеливать его лоб, тараща блеклые, выцветшие глаза на обреченную будто бы жертву, и «Джек», с трудом удерживаясь на грани яви и сна, натужно улыбался, чуть ли не вслух говоря: «Напрасно стараешься, дядя! Прежде чем взять в руки оружие, надо вначале хорошенько его изучить. Не про тебя ли сказано: „Оружие в руках дикаря — дубина“?» Что ж, видит Бог, ему можно было улыбаться и под направленным в упор оружием. Можно было, глубоко презирая взбешенного Рыжего, уничтожая его полнейшим равнодушием, спокойно ждать развязки, выжидая со скрещенными на груди руками у бортика утлого прибежища — единственного на все беспокойное море островка суши… Он знал, что выстрела в его сторону не последует, что снабженный полной обоймой пистолет-перевертыш своим единственным «обратным» выстрелом поразит не жертву, а владельца. Знал и все равно продолжал хищно, хотя и исподволь, следить за тем, как тонкий ствол зигзагами, будто в пляске, маячил перед лицом, то заваливаясь вниз, к животу, то утыкаясь в небо… «Джек» не верил, что Рыжий, еще недавно послушный его воле, решится нажать на спуск, не верил в реальность происходящего. Реальными были лишь вздыбленное море с оранжевым, как пожар, плотом для двоих, да промокшая насквозь обувь, да еще дикая, прямо-таки чудовищная тошнота, уносившая последние силы. Все остальное слишком походило на спектакль. — …Три! — скомандовал Рыжий перекошенным ртом, и тот, которого должны были убить, просыпался в усталом смятении посреди ночи, а убийца замертво валился с подогнутых раскоряченных ног, так и не успев понять, что же произошло. Так продолжалось трижды, и трижды этот покойник, этот нелепый призрак, досаждая и зля, исправно являлся к единственному свидетелю его последних минут, а это кого хочешь могло вывести из себя, потому что казалось мистикой, роком. «Черт! Дался мне этот чичако, новичок…» Дышать было нечем: в помещениях такого рода, где он вынужденно коротал ночь, форточки не предусмотрены. Он лежал какое-то время на спине, бездумно пялясь в неопределимой высоты потолок. Синий выморочный свет, струившийся из крошечной лампочки, забранной плафоном и решеткой, непостижимым образом связывался в сознании с йодоформом, вдохнуть который ему довелось однажды. Подслеповатое контрольное освещение не давало бодрствующему в ночи никакой надежды на избавление или хотя бы малейший выход из создавшегося положения, и оттого раздражало, мешая думать. «Что им известно обо мне? Что они могут мне предъявить?» Факты и фактики, мгновенно вызванные из недр его арифметического мозга, выстраивались в доводы, а те, едва сформировавшись, перерастали в версии, которыми руководили его отточенная, без изъянов, логика и их собственная неоспоримая простота. Именно на простоте должен строиться весь расчет: его, отпускника, приехавшего из Горького на Балтику, чтобы полюбоваться архитектурой и хорошенько отдохнуть, пригласил на рыбалку абориген, островной житель, с которым их свело в городе случайное знакомство. Они спустили плот, навесили мотор и на зорьке вышли в море, а затем разыгрался шторм, мотор захлебнулся и неуправляемый плот понесло, увлекая стихией все дальше и дальше от берега… Нет, они вовсе не намеревались забираться слишком далеко и уж тем более задерживаться в море столь долго. В этом легко убедиться — достаточно заглянуть в их мешок с провизией и снастями и удостовериться: кроме термоса и целлофанового пакета с бутербродами у них не было с собой ничего. Даже запасной канистры с бензином, предусмотрительно выброшенной вместе с другими вещами за борт, и той не мог обнаружить следа самый придирчивый взгляд. Был еще один, беспроигрышный, с его точки зрения, вопрос, который могли задать ему на дознании: как он, не имея специального разрешения, оказался в пограничной зоне? Но помилуйте, с «младых ногтей» живя и работая в глубине России, в Горьком, он и понятия не имел ни о какой погранзоне, не то что о допуске в нее по специальному разрешению! Что в этом особенного или противоестественного, если человек он сугубо гражданский, обычный инженер-строитель, каких тысячи и тысячи… Не всем же проявлять бдительность и крепить обороноспособность страны, кому-то надо и пахать, и сеять, и строить дома… Вот именно. Естественно, по месту жительства немедленно пошлют запрос, и оттуда по телетайпу придет подробное подтверждение, что да, такой-то и такой действительно и проживает, и работает, а в данное время находится в законном очередном отпуске за пределами города… Этого вполне будет достаточно при такой пустяковой, такой очевидной вине — нарушение погранрежима. В ту неведомую строительную контору направят официальный акт о задержании, чтобы администрация применила к подчиненному соответствующие строгие меры, а его самого, завершив формальности, рано или поздно отпустят с внушением, и этим все кончится… Что касается настоящего горьковчанина, чьими документами он воспользовался, то истинное его нахождение, истинная судьба никому на свете, кроме него, неизвестны. Лежа в неподвижности, он удовлетворенно чмокнул губами: тут сработано чисто, не оставлено и малейших следов. Значит, выбросить из головы даже само напоминание. Что в итоге? Он прикидывал, не особо вникая, и другие вопросы, могущие возникнуть вскоре. Его новый знакомый, островной житель, чья жизнь закончилась так трагично? Да, крайне неприятно, он очень сожалеет, что так получилось, но ведь был шторм, светопреставление, а у стихии свои законы, и жертвы она выбирает сама. Дело случая, что за борт смыло одного, а не двоих: произойди иначе, и спрашивать, восстанавливая истину, было бы не у кого. Здесь Рыжий, вновь ярко, будто почтовая марка на конверте, возникнув в напряженно работающем сознании, уже не докучал почти натуральной свирепой игрой, а выступал чуть ли не в роли союзника и спасителя. Мертвый, он был ему не опасен, потому что уже самим фактом гибели снимал с напарника лишний обременительный груз, явные свидетельства его вины и причастности к преступлению, как именовались подобные деяния на юридическом языке враждебной, столь ненавистной ему страны, где приходилось отрабатывать куда как не сладкий хлеб. Упоминание о еде на миг приостановило логические построения, вожделенной болью набежавшей голодной слюны свело челюсти. С каким наслаждением он закусил бы сейчас бутербродом и выпил большую чашку кофе! Не того жидкого коричневого пойла за двадцать копеек в уличной забегаловке, а сваренного по-восточному в серебряной джезве на прокаленной мелкой гальке — так, как он обычно готовил себе, — в память о Востоке! — когда пребывал в хорошем расположении духа и дела его шли отлично. Правда, и сейчас нельзя было сказать, что фортуна явила ему вместо прекрасного лика костлявую спину, и сейчас он ни минуты не сомневался, что выпутается из щекотливого положения, в которое попал уже на финишной черте, сделав все, за что, собственно, и получал ежедневный кусок хорошего хлеба с хорошим маслом. Но сейчас под рукой у него не было ни привычной джезвы старого черненого серебра, ни банки жареных зерен томительного запаха, ни даже обычных домашних тапочек, в которые он облачался, когда ныли, давая знать о прошлых невзгодах, его натруженные ступни. «До рассвета еще далеко, — прикидывал он на глазок, потому что часы — не „Сейко“, не еще какой-нибудь суперхронометр, а обычный, ничем не примечательный „Луч“ Угличского часового завода — с него предусмотрительно, как и положено, сняли. — Надо уснуть. Обязательно постараться уснуть». Чувствительный до болезненности к различного рода запахам, он, едва дотянув одеяло до подбородка, тотчас уловил специфический душок не то карболки, не то еще какого-то дезинсекта, столь свойственный всему казенному, в том числе и гостиницам, где приходилось бронировать номера или останавливаться на ночлег. Правда, нынешний «номерок» мало напоминал комфорт «Интуриста» в Юрмале, но все же ниоткуда не дуло, не капало, что можно было счесть за благо в пору, когда отовсюду наползала осень, земля превращалась в слякоть и ветер обрывал с деревьев последнюю ненужную листву. Он всегда относился с неприязнью, раздражением и глухой враждебностью к этой поре года, потому что слишком хорошо помнил стылую, бесприютную осень в Гамбурге, где ему однажды пришлось особенно тяжко, где он загибался в полнейшем одиночестве и тоске, будто последний пес, пока его не подобрали и не выходили, пока впереди не забрезжил мучительный и желанный свет избавления и надежды… О, не хотел бы он такого повторения пройденного пути, врагу бы не пожелал изведать то, что изведал сам. Не надо подробностей, останавливал он себя. Не стоит углубляться в душу и ковырять иголкой в ране, которая давно отболела и затянулась розовой новой кожей, реагирующей на всяческие перемены и внешние раздражители… Он умел быть благодарным, никогда не забывал, в какой оказался яме с крутыми и осыпающимися краями, откуда самому не выбраться ни за что. Он умел помнить добро и готов был платить за это добро любые проценты, и тот, кто жестоко голодал без гроша в кармане, кто, покрываясь коростой, заживо гнил, кого кропил дождь и жгло немилосердное солнце, — о, тот знает, что это такое — плата за жизнь… Он спохватился, что забрел памятью не туда, куда нужно, когда почувствовал, что дыхание его сбилось с ровного привычного ритма, понеслось скачками, будто настеганная лошадь или, точнее, строптивый автомобиль в неумелых руках новичка. «Стоп! — сказал он себе. — Что-то я становлюсь сентиментальным. Или старею? Не о том теперь надо думать. Не о том, не о том, не о том…» В сущности, что о нем было известно тем, кому, может быть, уже наутро предстояло вести с ним беседу? Практически ничего. И узнают только то, что он сочтет нужным, сообразуясь с легендой, им заявить. Прежде ему это легко давалось — искренность, особая доверительность в разговоре, которые сразу располагали к нему людей. Отработанный механизм взаимоотношений, верил он, не подведет его и теперь. Главное — держаться избранной тактики, первую часть которой он уже осуществил: благополучно избежал первичного, самого результативного, в общем, допроса, убедительно изобразив донельзя изнуренного, измотанного вконец человека. Все остальное должно пойти как по накатанным рельсам. Иначе, считал он, все пройденное и приобретенное им за прошлую жизнь — очень специфичные навыки и собственное недюжинное чутье, поистине универсальное образование, включавшее знание четырех языков, — иначе все это ничто, шелуха, дым. А он пока что, до сего дня, ставил перед алтарем три свечки и твердо верил в три начала: себя, свои природные способности и, чего греха таить, капризную стерву — удачу — и потому не допускал мысли о случайном промахе или, упаси Бог, провале. «Ведь им даже не известно мое настоящее имя! — с тихой радостью подумал он и усилием воли вновь смежил веки, чтобы на сей раз уже без сновидений и нервотрепки докоротать ночь. — Для них я — всего-навсего Горбунов Николай Андреевич, ничем не примечательный инженер ничем не примечательной стройконторы. На том и будем держаться. Хороший бегун, если не может достичь призовой черты первым, сходит с дистанции. А мне до финиша еще далеко…» В минуты, когда пропахшая духотой закрытого помещения и карболкой ночь сомкнулась над ним спасительной темнотой, давая отдых уставшему телу и истрепанным нервам, когда сознание меркло, успокоенное радужной феерией цветных картин, возникавших под крепко сжатыми веками, — в эти бестрепетные минуты он даже не подозревал, как недалек собственный его сход с дистанции, как неумолимо реален и близок последний его финиш в сумасшедших гонках по круто изгибающейся спирали… Много позже, по привычке суммируя итоги, он с иронией подумает, что, пожалуй, трех свечей перед алтарем всевышнего было мало. Наверно, не столь безмятежен был бы его сон в ту душную осеннюю ночь, подскажи ему провидение, дай намек, что подлинное его имя — Джеймс Гаррисон — стало известно компетентным органам задолго до того, как в управление комитета государственной безопасности по Горьковской области поступил сигнал о странном пациенте — некоем Горбунове Николае Андреевиче, доставленном в травмопункт с тяжелейшей травмой черепа, в полуживом состоянии. Это был сильный и мужественный человек, который, едва обретя способность говорить, обрисовал приметы напавшего на него человека, в точности совпадавшие с обликом того, кто проходил по служебным документам под малопривлекательным псевдонимом Крот. А пока… Пока его чуткий мозг, по инерции довершая дневную работу, без устали всасывал поступающий кислород и насыщенную гемоглобином кровь, перегоняемую по миллиардам капилляров крепким сердцем, жаждущим жить. Дыхание спящего выравнивалось, пульс входил в норму.III
— Янис, я жду доклада. — Докладываю: объект — Рыжий — пересек трамвайные рельсы, вышел к аптеке. Заходил в два магазина — продуктовый и хозяйственный. Ничего не купил. Сейчас направляется к площади. — Как ведет себя? Динамик компактного переговорного устройства шипел и потрескивал, должно быть, питание «подсело», но голос руководителя слышен был хорошо. — Угрюм. По сторонам не смотрит. — Будь внимателен, не упускай его из виду. У них сегодня встреча. Круминьша не видишь? — Нет еще. Много народу. — Круминьш на связи, — вклинился в эфир приятный басок. — Илмар, как дела? — Крот сегодня с отличной форме, исколесил полгорода. Дважды брал такси. — Что-нибудь почувствовал? — Вряд ли. Проверяется, как обычно. — На тебе особая задача, Круминьш. — Понимаю… Крот вышел на площадь. Столкнулся с мужчиной. Кажется случайно. Попросил прикурить. — Ведь он же не курит, Круминьш! — Сейчас смолит вовсю, как заядлый курильщик. — Чего-нибудь необычного не заметил? — Нет. Как всегда. В руках «дипломат». Больше ничего. Смотрит на часы. Вошел в молочное кафе. — Что у тебя, Янис? — Объект пересек площадь. Он что-то ищет. Остановился у кафе. Вошел. Все. До связи! — До связи, Янис. До связи, Илмар.IV
Кафе в этот предполуденный час было пустынным. Вялые официантки, должно быть, еще не придя в себя окончательно после сна, погромыхивали посудой, нарезали салфетки и веером рассовывали их по вазочкам. Ожидая, пока на него обратят внимание, Джеймс выудил из «дипломата» книгу, нехотя пролистнул две-три страницы и положил ее на край стола. Что-то подгорало на плите в кухне, и оттуда в зал вился чуть заметный дымок, к которому Джеймс принюхивался с подозрением. Свято следуя правилу, что завтрак должен быть плотным, он заказал себе рисовую кашу, горку блинов и стакан кефира с творожной ватрушкой и, пока масло таяло, янтарной желтизной разливаясь по рису, медленно, с наслаждением отхлебывал кефир, держа в поле зрения весь небольшой зал кафе и входную дверь, за которой кипела в многолюдье и прощальном осеннем солнце центральная площадь. Прямо к его столику, неуклюже выбрасывая ноги, протопал через весь зал Рыжий, глухо спросил: — Можно? Тут свободно? Джеймс приглашающе взмахнул ладонью: — Прошу! — Спасибо. Видно было, как не по нутру Рыжему игра в вежливость и чуждый его натуре галантерейный этикет. Джеймс в душе рассмеялся внезапному желанию позлить этого островного бирюка утонченным европейским обхождением. В отличие от Рыжего настроение у него было отменным, а будущее сулило только хорошее. Еще день, максимум два — и тогда он вытянет голову из той петли, в которую добровольно дал себя всунуть, рискуя не где-нибудь в привычном Гонконге или Алжире, а здесь, в России. Минуют сутки, максимум двое — и спустя сорок восемь часов он с гордым и независимым видом ступит на привычную землю, доберется-таки до вожделенных тапочек и кофе, которые единственно и способны ослабить его уже потерявшие былую эластичность, ставшие чересчур хрупкими нервы. Где-нибудь на траверзе Копенгаген — Стокгольм, в максимальной близости от советских берегов, специальное пассажирское судно, сделав порядочный крюк, поднимет его с утлого рыбацкою плота, который за немалые деньги, отчаянно торгуясь, подрядился гнать Рыжий. И прощай, страна Муравия, прощайте, открытые и доверчивые славянские души!.. Джеймс вас не забудет и непременно бросит в благословение и память о вашей замечательной нации лишнюю монету в жертвенную копилку церкви своего прихода. Ведь он всегда был благодарным и до щепетильности верен принципу, когда платил проценты за полученное добро… Смешно подумать, но именно этот угрюмоватый рыжий дундук, что сейчас истуканом сидел напротив него и мучительно потел в непривычной обстановке, служил гарантом его будущего благополучия, единственным пока залогом освобождения от напряженки, в которой Джеймс пребывал последнее время. И это обстоятельство нельзя не учитывать, какую бы иронию, почти фарс, ни заключало оно в себе. — Рекомендую, коллега: закажите себе рисовую кашу. Здесь ее готовят прекрасно. Ерзая на пластиковом сиденье, не зная, куда убрать громадные руки, Рыжий буркнул, что предпочел бы сейчас закусить куском говядины. — Увы, в молочном кафе говядину не подают, здесь другой ассортимент, — с улыбкой склонил голову набок Джеймс и, не меняя тона, спросил: — Все готово? — Готово. Деньги принес? — Сначала дело, потом расчет. Рыжий убрал со стола руки, принялся мять ими мослатые колени. — Мы договаривались, что аванс сейчас. — Рыжий смотрел в упор не мигая, крылья носа с серыми складками от глубоко въевшейся пыли тревожно напряглись. — Я рисковать за здорово живешь не собираюсь. Джеймс осторожно промокнул тисненой бумажной салфеткой уголки губ. — Ты свое получишь. Немного погодя. Пока что сделай официантке заказ. Потом обсудим детали. Наблюдая, с какой неохотой Рыжий принялся поглощать молочный вермишелевый суп, обильно приправляя его хлебом, Джеймс сквозь отвращение к этому мужлану ощутил безотчетную тоску и тревогу. — Как ты намереваешься доставить меня на остров? Рыжий перестал бренчать ложкой. — Вместо груза. Мне надо купить в городе новую сеть и тюфяк, чтобы спать, старый совсем расползся по швам. Ну, еще кое-какие мелочи по хозяйству. — Рыжий бегло смерил взглядом фигуру собеседника. — Пожалуй, вместе столько и наберется. Джеймс разочарованно, в немалом сомнении уставился на Рыжего, снова принявшегося за свой суп и жевавшего с механичностью коровы. — Ты что же, намереваешься тащить меня волоком? — Я оставил грузовик у паромной переправы. Начальство разрешило. А соседи знают, что я уехал в город за большими покупками. — Добавлять что-либо еще Рыжий счел излишним. Тем не менее кое-что прояснялось, и к Джеймсу вновь вернулось хорошее расположение духа, Он с удовольствием расправился с пышными блинами из дрожжевого теста, раздумывая, не попросить ли еще порцию. Но официантка ушла куда-то за ширму, и Джеймс в ожидании рассеянно окинул зал, в котором за это время ничуть не прибавилось народу, исключая разве что опрятную старушку с ребенком, должно быть, внуком, которые чинно расположились в самом уголке зала, под длинными, как сабли, лаково-зелеными стеблями цветущей кливии. Помнится, в Филадельфии он видел точно такие же. А может, он ошибается и это было в одной из оранжерей Гамбурга? Тогда пышное их цветение, несообразное со стылым временем года, поразило его, как некий вызов окружающему, вызов и лютой стуже, и глазеющим изумленно на это чудо природы людям… Когда-то и в его отчем доме на подоконнике стоял раскидистый цветок, похожий вроде бы на герань, но цветок чах и загибался, будто старик, потому что, как говорила мать, вынужденный работать и по ночам отец задушил его табаком, а цветы не очень-то жалуют никотин. Однако отец, тихий конторский служащий, был вовсе тут ни при чем. Это Джеймс, желая проследить, как долго может продержаться цветок, один за другим подрезал ему корешки, лишая питания и влаги. Растение держалось молодцом, цеплялось за жизнь просто-таки отчаянно, как к одежде репей, но против ножа все же не устояло, и матери пришлось выбросить его на помойку. Ах, детство, детство… Джеймс повернул к Рыжему блестевшее удовольствием и отменной сытостью лицо: — Послушай, у тебя в детстве была кличка? Рыжий не удивился, зачем чужаку это знать, ответил: — Была. — Какая? — Пыж. А чего? — Почему именно Пыж? Жизнь, включавшая в себя и этот на редкость солнечный балтийский денек, и чудесный завтрак, и эту прехорошенькую официантку, подавшую ему новую порцию сложенных горкой блинов, все больше и больше нравилась Джеймсу — может, потому, что он видел в ней четкий сиюминутный смысл и скорый — уже скорый — конечный результат осуществления ближайших планов. — Так все же почему? Рыжий скривил рот: — Откуда я знаю? Пыж — и Пыж. Это была пока что работа «на нижнем уровне», которая не требовала от Джеймса ни малейшего напряжения. Его компаньон был не той фигурой, ради которой следовало держаться «верхних этажей», когда бешено расходуется энергия ума и сжигается неимоверное количество нервных клеток. Рыжий был ему до предела ясен, как ясна была рассыпчатая рисовая каша или вот этот тонкостенный стакан с наполовину выпитым кефиром. Такие натуры — однажды крепко задетые за больное место, озлобленные, недовольные всем и вся — после удара уже не способны были подняться, как не способны были ни к самостоятельности, ни к созиданию. Единственное, что их интересует и выдает с головой, — деньги и непомерная жадность. Ведь он, думал Джеймс, оглядывая малосимпатичное лицо собеседника, и понятия не имеет, кто Джеймс на самом деле. Его вполне удовлетворило простенькое объяснение, что там, куда стремится щедрый горожанин, ему выпало неожиданное наследство от безвременно покинувшей этот мир тетки, и что как только он уладит дела и получит денежки, то даст о себе знать перевозчику, и тот привезет его обратно — за отдельную плату, разумеется. Все, таким образом, складывалось благополучно, и у Джеймса были причины и повод, чтобы повеселиться. «Пыж! Отличная аллегория! — восхитился Джеймс, оглаживая языком шершавое небо. — Я охотник, а он пыж. И клянусь, я потуже забью его в патрон, чтобы мой выстрел наверняка достиг цели. Именно пыж. Ни на что другое этот вахлак не пригоден. Да, черт побери, он доставит меня на своем хребте прямехонько к дому и… гонорару. А сам, если уцелеет на переправе, пусть покупает на заработанные деньги дурацкие сети и мягкие тюфяки, побольше тюфяков, чтобы без продыху спать, когда вокруг тебя кипит, бурлит, когда сладко пенится и в бешеном темпе проносится мимо жизнь… Ах, хорошо!» Что ни говори, а не зря Джеймс считал себя везунчиком. Только удача, эта капризная девка, могла нос к носу столкнуть его именно с тем, кто был ему нужен позарез, кого он в другое время безуспешно отыскивал бы среди тысяч и тысяч, каждый раз рискуя свернуть себе шею на пустяке. С Рыжим все получилось просто. Ему не хватало денег, чтобы расплатиться за товар, какой-то сушей ерунды, около двадцатки. По всему, знакомых, чтобы перехватить, у него в городе не было. Он стоял посреди хозяйственного магазина, как пень, не обращая ни на кого внимания, и в который раз мусолил одни и те же бумажки. Перед ним на постаменте сиял эмалью цвета неба мотоблок с комплектом культиваторов, борон и прочих сельскохозяйственных насадок, в которых Джеймс мало что смыслил. — Хорошая штука, а! — вступил в разговор с ним Джеймс, зная наперед, что и на этот раз не испытает трудности в общении. — Еще бы! У нас на острове такой нипочем не достать. Не завозят, — отозвался покупатель. — А что она может делать? — Да все! — воодушевился рыжеволосый мужчина. — Хочешь — паши, хочешь — лущи, а то и борони… — И борони? — подогревал Джеймс чужой интерес. — Еще как! Сюда и тележку можно приделать, грузы возить. — Ну и… сколько вам не хватает? — с мягкостью, чтобы не обидеть, спросил Джеймс у рыжеволосого. Покупатель нахмурился, глянул исподлобья: тебе-то, человек, что за дело? Чужая беда — не своя… — Не удивляйтесь, я могу одолжить. После отдадите, когда сумеете. Так сколько? — Тридцать дашь… дадите? Двадцать на покупку и червонец — чтобы довезти. Не попрешь же на себе. Я сразу же отдам, только скажите адрес, я завезу, — разговорился Рыжий. Из всего разговора с мужчиной Джеймс сразу ухватил и выделил главное: «У нас на острове…» Редкая удача на сей раз сама подъезжала к нему, сидя верхом на мотоблоке. Остров — это то, куда Джеймс, нащупывая пути, так отчаянно, так осторожно и долго стремился. Оттуда до чистой воды, до выхода из залива в открытое морс — рукой подать… — Пустяки! — как можно небрежнее бросил рыжеволосому Джеймс. — Не утруждайте себя. Я буду здесь по своим делам в субботу. Скажем, в час дня вас устроит? Ну и отлично! Вот ваша сумма. Не укрылось от глаз Джеймса Гаррисона, как жадно схватил деньги рыжеволосый, с какой прытью, опасаясь, что магазин закроют раньше времени или какой-нибудь конкурент уведет из-под носа его мечту, кинулся к кассе. Джеймс не стал дожидаться, когда порозовевший обладатель мотоблока заполучит упакованный товар, и потихоньку покинул магазин. В субботу он задолго до назначенного срока обследовал все подходы к магазину. Только ничего подозрительного не обнаружил. Рыжий уже топтался у двери, был мрачен и проявлял беспокойство. Джеймс дотомил его ровно до тринадцати ноль-ноль и сразу, не оставляя должнику времени на рассуждения, объявил с приятной улыбкой, что для островного жителя найдется другая, более верная и легкая возможность заработать, чем выращивать укроп и редьку на собственном огороде. Увидев, что мужчина клюнул, Джеймс объяснил в чем дело. В принципе он мало чем рисковал. Заранее позаботясь о тыловом отходе, выбрав специально место, где улица просматривалась в обе стороны и делилась на два рукава, Джеймс держался настороже, так что при осложнении у мужика вряд ли хватило бы резвости догнать подрядчика и задержать. Да и назначенная за «выход на рыбалку» сумма была слишком фантастичной, чтобы кто-нибудь, случись при этом свидетели, воспринял ее всерьез. — Сколько? — выдохнул Рыжий. — Штука. — Видя, что его не понимают, Джеймс пояснил: — Тысяча вас устроит? Должно быть, оглушенный неслыханной цифрой, тем, что странный богач вернул ему и взятую в долг тридцатку, Рыжий не торговался. Джеймспредложил ему самому, хорошо знакомому с правилами проживания в пограничной зоне, обдумать подходящий план. На том и расстались. Эта их встреча в кафе была третьей, решающей. Кажется, Рыжий, к этому времени покончив с едой, почувствовал, что богатый чужак размышляет о нем, но истолковал это по-своему, опасаясь, как бы его не надули в самом начале. — Мне нужны деньги. Задаток, — сказал он твердо. — Деньги при мне. Я привык держать слово. — Хозяин, — начал Рыжий, уводя глаза в сторону, — я тут прикинул кое-что и решил: одной за такое дело мало. Надо немного изменить договор. Пришлось издержаться на плот, на бензин, с начальством договориться. Сейчас все не так просто… — Короче! — оборвал Джеймс его угрюмое длинноречие. — Твое условие? — Еще одну. — Ну ты и жук, дядя! — в искреннем восхищении присвистнул Джеймс. — Две штуки за какую-то паршивую морскую прогулку! Смеешься? Впрочем, такой вариант он предвидел, был готов, что жадный островитянин, поразмышляв на досуге, как бы не упустить верный куш, сдерет с нечаянного клиента семь шкур. Такой оборот тоже входил в расчет Джеймса, но вот немного осадить, попридержать нахала следовало, а то, чего доброго, примется набавлять за сложность, за точность и дальность, за погодные и климатические условия, будто Джеймс печет сотенные, как эти блины. — Послушай, а что если я шепну о тебе кому следует? Рыжий не повел и бровью, только засопел, склонясь ближе к столу: — Ты эти штучки брось! Не тобой пуганный. В случае чего я из тебя вот этими выжму все масло до капли. — Он тряхнул руками, едва не свалив пузатенькую керамическую вазу с салфетками. — Ну хорошо, хорошо, не будем. Я пошутил. Твой аванс — десять сотенных — в книге. — Джеймс кивнул на угол стола, где лежал обложкой кверху «Остров сокровищ» Стивенсона на плохой, чуть ли не макулатурного издания, пего-пестрой бумаге, делавшей неряшливым книжный обрез. — Потом возьмешь, когда будешь уходить. Кстати, о доверии… — Джеймс небрежно откинулся на спинку стула. — Я привык полагаться на людей, с которыми имею дело, и не хочу, чтобы в будущем между нами возникали недоразумения или какие-то трудности. Мне нравится, что ты так серьезно относишься ко всему, и мне кажется, на тебя можно положиться. Но ты боишься, что с тобой обойдутся нечестно, что тебя обманут… Рыжий с беспокойством следил за приглушенной речью напарника, пытаясь уяснить, куда он клонит. — Так вот, мое доверие к тебе абсолютно. Если ты решишь, что я нарушаю договор, пытаюсь надуть с твоей долей, можешь разделаться со мной, и это будет справедливо. Я решил отдать тебе пистолет, с которым никогда не расставался. Он там же, в вырезе книги. Не волнуйся, не выпадет, страницы подклеены, дома подрежешь. Можешь носить его при себе, можешь спрятать подальше. Дело твое. Будь осторожен. Случайно не выстрели, в нем полная обойма. Я хочу, чтобы в отношении ко мне у тебя ни в чем не оставалось и тени сомнений и чтобы ты понял: мы делаем одно общее дело, выгодное обоим. Судя по недоверчивому, смятенному выражению лица, Рыжий не совсем понял, на кой ляд ему еще и пистолет, но то, что давали, а не отнимали, ему явно понравилось, ибо упускать, что само плыло в руки, Рыжий не привык. На этом и строил Джеймс нехитрый расчет. — Значит, договорились? — Идет. Теперь, после завершения разговора, можно было и расслабиться, со скучающим видом оглядывая зал. Аккуратные старушка с внуком, завершив трапезу, чинно покинули столик, потянулись на выход. Джеймс с умилением проследил за этой парой, которую совершенно необъяснимо объединяло чудовищное, по сути, противоречие: у одной было уже все позади, в прошлом, а у другого, наоборот, впереди, у самого горизонта, и пропасть между ними лежала гигантская… Занавеска на входной двери колыхнулась еще раз. Вошел парень в добротном кожаном пиджачке и кепке с пуговкой, крутнулся на пороге и, не заходя в зал, тут же исчез. Ничего необычного не было в таком поведении, мало ли, перепутал человек заведения или передумал, решил перекусить позднее, но это не понравилось Джеймсу. — Вот что, — сказал он Рыжему, — сейчас уходи через кухню. Так надо. В случае чего — мы из санэпидемстанции, проверяем, как утилизируют отходы производства. — Он с сомнением еще раз оглядел нескладную фигуру Рыжего. — Тебе лучше помалкивать, я сам все улажу. По случайности, никто не встретился им в кухонном заповедном царстве и двери подсобок, за которыми ощущалось движение людей, тоже были прикрыты. Они благополучно миновали коридор и вышли во внутренний дворик, заставленный проволочной тарой из-под молочных бутылок. Почти вплотную ко входу был подогнан «Москвич» с надписью на фургоне «Продукты». Шофера нигде поблизости не обнаружилось, должно быть, оформлял накладные на привезенный товар, но ключ зазывно торчал в замке, и блестящий брелок из нержавейки в виде кукиша еще покачивался на кольце, будто его только что трогали. — Садись на правое сиденье! — приказал Джеймс. — Зачем? — удивился Рыжий. — Потом объясню. Садись, — повторил Джеймс, и потрепанный продуктовый фургон, в бешеном вращении с места черня колесами асфальт, устремился к овальной арке, которую уже на выезде пересекала косая солнечная полоса.V
— Что случилось, Круминьш? Докладывай. — Крот ушел. В кафе его нет. Эфир затаенно молчал. — Так… — вскоре вновь раздалось знакомое. Янис с тобой? — Радом. Рыжий тоже исчез. — Запасной выход проверили? — Пусто. Никто ничего не видел. Внутренний дворик глухой, посторонних там не бывает. Официантка утверждает, будто бы недавно у входа стоял продуктовый фургон, зеленый «Москвич». Номеров, конечно, она не помнит. — А шофер? — Пока не объявился. У него где-то неподалеку отсюда живет подружка. Видимо, решил к ней заскочить. — Ладно, с ГАИ я свяжусь, оповещение будет. Хотя вряд ли «Москвич» угнали надолго. Наверняка бросят за несколько кварталов. Сейчас надо отыскать шофера и установить Рыжего. Крот теперь в гостиницу вряд ли вернется. Ясно? Действуйте. И держите меня в курсе. Динамик умолк, и голос руководителя как отрезало.VI
— Эй, помоги мне! За что-то зацепился. В сарае было адски темно, но зажигать фонарь, не привлечь бы внимание, не решились. — Ты даже не спросишь, как меня зовут! — В темени Джеймс не видел собственной руки, но ощущал близкое дыхание Рыжего. — Зачем мне знать твое имя? Ты был и уйдешь. А мне оставаться. Нащупал? Джеймс освободил крученый фал от державшего его крюка в деревянной стойке сарая, подхватил груз снизу. — Пошли! В дверном проеме сарая свежим воздухом обозначилась ночь — необозримая в темноте, необъятная, будто сама Вселенная. — Заходи справа: тут лаги. — Теперь Рыжий отдавал команды, безраздельно властвуя в родной стихии, и Джеймс ему безропотно подчинялся. — Выше поднимай, черт побери! К самому борту. Кое-как, в несколько приемов, они взгромоздили тяжеленный плот в деревянной обрешетке для крепления мотора на борт грузовика, на сей раз ночевавшего не на стоянке гаража, а во дворе, под домом Рыжего. Оба дышали с натугой. В горле Рыжего что-то булькало, срываясь на хрип. Джеймса так и подмывало сказать ему, чтобы он закрыл рот и не будил округу. Но вокруг и без того было тихо: хутор Рыжего стоял на отшибе, защищенный с трех сторон густым ольховым колком, и лишние звуки сквозь него не проникали, увязали в ветвях. Ощущать себя и дальше затерянным в этой пустыне ночи для Джеймса было выше сил. — Ну что, пора? Рыжий подтянул выше рыбацкие сапоги с отворотами — резина под его руками противно скрипнула. — Часа три, наверно. Сейчас двинем. Народ дрыхнет. — А пограничники? — Они вон где… — Рыжий невидимо махнул рукой. — У них свои дела, не до нас. Похоже, будет ветер, а там, глядишь, и туман. Он громыхнул ключами от машины, ступил ближе. — Если застукают на берегу, выкручивайся сам как можешь. А уж в море я о тебе позабочусь, — добавил Рыжий, и Джеймс угадал в его словах второе, скрытое значение. Не говоря больше ни слова, Рыжий полез в кабину. Но Джеймс не поспешил следом за ним. У него были собственные соображения на этот счет, когда он сказал Рыжему, что останется в кузове. — Твое дело. Мерзни. Грузовик с потушенными фарами тронулся со двора, потом, когда дорога сразу за хутором пошла под уклон и Джеймс почувствовал, как его потянуло вперед, Рыжий и вовсе выключил мотор, старательно лавируя между редкими стволами вдоль обочин. Глаза привыкли к темноте и уже различали серое полотно петляющей прихотливо дороги, нагромождения валунов, зыбкую кромку стыка земли и неба. Уклон кончился, и Рыжий легко, без надрыва, запустил двигатель, по-прежнему держа одному ему ведомое направление к морю. Море угадалось издалека. Оно источало резкий йодистый запах влаги и гниющих растительных и животных выбросов. Джеймс представил, как, должно быть, отвратительно скрипят под ногами раздавленные ракушки, вынесенные на берег волной… В такие обостренные минуты внимания и тревоги ему еще доставало сил думать о постороннем, и эта раздвоенность, как Джеймс догадывался, вряд ли сулила хорошее. Однако прибыли благополучно. Рыжий приткнул машину в лесопосадках, на довольно высоком месте береговой отмели. — Ближе нельзя: увязнем, — объяснил он продрогшему в кузове пассажиру, хотя все было ясно без слов. От постороннего взгляда грузовик защищали густые заросли, так что можно было спокойно, без суеты, сгружать плот и тащить его к спуску. Две деревянные сходни, предусмотрительно заброшенные Рыжим в кузов грузовика, помогли смайнать немалый груз на землю, а дальше его предстояло тащить волоком. — Взяли! — скомандовал Рыжий, нимало не заботясь, в отличие от Джеймса, о маскировке. Не первый раз выходивший по разрешению в море, Рыжий и здесь действовал, как на обычной рыбалке, тогда как Джеймс напоследок чутко прослушивал и оглядывал молчаливое пространство. Глаза то и дело подергивались слезой — сказывались предутренний холод с тонко секущим, хотя и не сильным, ветерком и проведенная в сарае у Рыжего беспокойная, почти без сна, ночь. — Что ты копаешься? Тащи! Волоком они потянули надутый плот на деревянной раме по замусорившей землю листве ольхи и черемухи. Потом под днищем, сопротивляясь, зашуршал песок, и тут уж обоим пришлось попотеть, упираясь каблуками в рыхлую, податливую почву, все время норовившую уйти из-под ног. — Черт! — вдруг выругался Рыжий. — Кажется, где-то травит воздух. — Он бросил фал, принялся ощупывать плот. — Так и есть: борт обмяк. Хорошо, догадался захватить с собой клей. Но придется повозиться. — Он со свистом втянул в себя острый, будто нашатырь, запах моря. — Ох, не нравится мне все это! Похоже, будет шторм… «Дубина! — выругался в душе Джеймс, беспокойно оглядывая пустынное побережье залива. — Еще и здесь будет ломать комедию, цену набивать». — Ты что же, приятель, до рассвета метеорологией заниматься будешь? Прилаживай мотор! Рыжий сплюнул в нахлынувшую волну. — Прыткий какой, мне еще жить хочется. А потонуть я всегда успею.VII
В наглухо запечатанном кабинете, хозяин которого недавно перенес грипп и оттого всячески избегал сквозняков, было душно. Оперативка в неурочный час на сей раз проходила хотя и коротко, но вяло, без огонька: сказывался допущенный днем прокол. — Сейчас не время разбираться, почему Круминьш и Янис упустили подопечных. — Полковник Рязанов намеренно назвал Яниса по имени: Круминьш был старше, опытнее, и на нем, таким образом, лежала основная ответственность. С Яниса тоже не снималась вина, но его участие в этом деле как бы относилось на второй план, и это чувствительно задевало оперативника, работавшего в органах первый год. — Сейчас важно снова выйти на след Крота, чтобы нейтрализовать его деятельность и исключить возможность ухода за рубеж. Рязанов машинально кутал горло шейным платком, выглядевшим на фоне строгого цивильного костюма посторонней легкомысленной деталью, надетой по рассеянности. — Одно можно сказать наверняка: мы имеем дело не с дилетантом. Попытки выявить его связи результатов не дали. Горьковские товарищи тоже таких связей Крота не зафиксировали. Из этого следует вывод, что Крот — агент-одиночка, а значит, опасен вдвойне. Контакт с Рыжим… — Рязанов вновь коротко, бегло взглянул на Яниса. — Ну, здесь все ясно: он носит случайный, эпизодический характер. Скорее всего, Рыжий предоставил Кроту убежище, крышу. Или же выполняет какие-нибудь мелкие его поручения. Круминьш, что удалось выяснить? Коренастый, сосредоточенный Круминьш пригладил жесткий ежик волос, округлявший его и без того не худенькое лицо. — Ни в каких других гостиницах города, включая и для приезжих при рынках, Крот не объявлялся. В общественных местах или учреждениях тоже замечен не был. Транспортников мы предупредили: пока вестей от них нет. Рыжий устанавливается. Скорее всего, это житель пригорода, что значительно осложняет поиск. Завтра разошлем фотографии обоих. — Все? Круминьш прокашлялся: — Из разговора с продавцом хозмага выяснилось, что Рыжий приобрел мотоблок. — Выходит, хуторянин? — Вполне возможно. — Что же, неплохая зацепка. Поторопитесь с фотографиями. По всему, Крот решил сняться, и времени нельзя терять ни минуты. Если мы его уже не потеряли безвозвратно, — сказал Рязанов с особым нажимом. — Свяжитесь с товарищами на местах, подключите милицию, пусть помогут профильтровать пригород. Установим Рыжего, выйдем и на Крота. Круминьш, сегодня же оповестите пограничников, дайте им подробную ориентировку. Вопросы будут? Ну, тогда все. За дело. Настенные электрические часы, отчетливо щелкавшие в паузах во время разговора, показывали начало третьего. Город, видимый из окна, светил огнями скупо, будто при маскировке. Начинался ветер, и оголенные ветви деревьев, отбрасывая ломаные пересекающиеся тени, мотались неприкаянно.VIII
Щелчок прицельной планки Калинин различил явственно. Удар гальки о гальку звучал бы совсем иначе, глухо, но с переливом, как пуля при рикошете; металл издавал звук тугой, резкий, ни на что не похожий… Сержант остановился, усиленно щурясь в темень и пытаясь понять, о чем мог предупреждать напарника младший наряда. Спустя малый промежуток щелчок повторился, а это уже означало не просто внимание — призыв. Сержант по привычке зафиксировал собственное местонахождение или, по-военному, сориентировался на местности, чтобы после выяснения причин сигнала вернуться сюда же, и ходко поспешил на вызов напарника. Младший наряда поджидал его, низко пригнувшись на корточках к песчаной отмели. Оловянное море, чуть серея у него за спиной, шипело и выметывало волны, добегавшие до ног напарника, похоже, не замечавшего близкой воды. «Молится, что ли?» — Ты что, Мустафа? — позвал Калинин напарника ласковым словом. Мустафин поднял на старшего наряда глаза. — Тут странное что-то, товарищ сержант. — Руками он чуть ли не оглаживал песок. — След интересный, вот… След и впрямь оказался интересным — две длинные ровные полосы, как по линейке тянущиеся перпендикулярно к морю. Калинин такие видел — зимой, у себя в деревне, когда санный полоз, убегая вдаль, прочерчивал свежую порошу. — Волок? Что-то тащили? Он проследил, куда уходили глубокие вмятины — до того места, где только что на возвышении нес службу; расстояние оказалось порядочным, дойти еще не успел. — Подсвети-ка фонарем! След был недавним, края не успели заветриться и оплыть, завалиться вовнутрь. Сбоку шла оторочка — вмятины от косо вдавленных каблуков, как бывает, когда человек, упираясь в землю, пятится, чтобы легче было сволакивать тяжесть. — Хорошенько осмотри местность, Мустафин, приказал Калинин младшему наряда. — А я займусь обратной проработкой следа. Не успел он сделать и десяти шагов, Мустафин снова позвал его. В голосе напарника сквозила радость первооткрывателя, обнаружившего Бог весть какую удачную находку. Мустафин вложил в широкую ладонь старшего наряда обшарпанный пластиковый пенал, дал свет. — «Резиновый клей», — прочел Калинин едва сохранившуюся полузатертую надпись на тубе. — Там же нашел, у кромки. Калинин свинтил колпачок, принюхался: пластиковый контейнер с остатками содержимого струил свежий запах химии, еще недавно бывшей в употреблении. — Больше ничего не нашел? — на всякий случай спросил Калинин, хотя для начала и тубы было достаточно. Мустафин покачал головой и предусмотрительно, не дожидаясь команды, выдернул из чехла радиостанцию, брякнул гарнитурой. — Сообщай по обстановке, — одобрил действия напарника старший наряда. А ветер уже тянул с напором, и море, ворча, отзывалось на его порывы тугими накатами, громыхало поднятой со дна галькой и пеной завивалось у ног полностью экипированных для службы людей. Уходя от береговой кромки, куда доставала вода, Калинин потянулся по наклонной отмели к месту, в направлении которого вели следы волока, и встречный злой северный ветер, по-морскому норд-ост, выбивал слезу, сек его по щекам, выдувал из-под одежды тепло. Нет, не напрасно Калинин стремился проработать обратный след, не зря так упорно, увязая в песке, тащился сквозь норд к гребню плоских дюн, обозначенных в серой предутренней кисее только что начавшегося буса плотной грядой кустарников. — Иди сюда! — едва достигнув верха, позвал он напарника. — Смотри… В быстро намокавших от дождя лесопосадках, будто доисторическое ископаемое, мрачно высился грузовик, видавшая виды бортовушка. Калинин пощупал решетку мотора: радиатор еще хранил слабое, едва ощутимое тепло. «Полчаса, максимум час, как здесь были люди», — на глазок определил Калинин. Осторожно, дав знак напарнику и взяв оружие на изготовку, он приблизился к двери. Кабина оказалась пуста, и никакие предметы не могли навести пограничников на мысль, что же здесь недавно происходило. Заглянули для очистки совести и в кузов — кроме щепы и двух добротных лаг, там ничего не оказалось. Больше тут делать было нечего, и наряд, вторично выйдя на связь и сообщив дополнительные результаты осмотра, спустился к побережью, чтобы встретить выехавшую на место происшествия тревожную группу. Море из оловянного, тусклого, делалось жестяным, потом проблескивать ртутью на всем видимом протяжении вскипавшей белесыми гребнями волн. — Наверняка движется шторм, — обронил Калинин, вовремя вспомнивший предупреждение начальника заставы, и оба они посмотрели на беснующийся залив, не сговариваясь, попытались представить тех, кого понесло за неведомой надобностью в дождь и непогоду в открытое море. Обсудить предположение пограничники не успели — издалека, колебля фарами сумрак, прытко мчался к наряду «уазик», уже одним своим появлением вселяя в их души облегчение и обещая скорую развязку таинственному приключению ночи.IX
— Эй, чужак, ты бы лишний раз не высовывался. — Рыжий плавно переложил руль, глянул насмешливо, с превосходством. — Еще смоет ненароком. Видал, идет шторм? А то привязался бы на всякий случай. Мало ли… Джеймс захлопнул футляр компаса, по которому, часто выбираясь из-под купола надувного плота, определял по месту. Муторно было вылезать из укрытия к близко клокотавшей воде, но еще муторней оказывалось сидеть в неведении и темноте, даже отдаленно не намекавшей на появление долгожданных корабельных огней. — Ты ведь не за мою жизнь беспокоишься, верно? Тебя больше интересует мой карман. — Пассажир натужно расхохотался и достал из внутреннего кармана пиджака пачку банкнот достоинством по десятке. — Ты заполучишь содержимое моих карманов, когда сделаешь дело, или же все это уйдет на дно. — Держа пачку за уголок, Джеймс опасно покачал двумя пальцами деньги над самой водой. Рыжий облизнул губы, но удержался, чтобы не встать. — Дернуло меня связаться с тобой, ненормальным, — только и сказал он. Твердо решенная мысль поскорее избавиться от пассажира глубоко тлела в его душе, постепенно, исподволь дозревая на углях расчета и корысти, чтобы в какую-то подходящую минуту выплеснуться наружу жарким огнем и действием. — Еще минут сорок ходу — и мы у цели, а? Как думаешь? — Джеймс бодрился, прогоняя таким образом собственный страх и нехорошие предчувствия. — Посмотрим, — нехотя отозвался рулевой, не оборачиваясь больше в его сторону. — Однако с берега прожектором нас уже не взять: далеко. Снизу по днищу хлопнуло, проскрежетало, будто напоролись на скальный выступ, и плот с маху сначала вздыбило, потом обвально швырнуло вниз. Мотор даже не чихнул — смолк, как оборвался. Оглушенные, не до конца поняв, что случилось, пассажиры с минуту сидели не двигаясь. — Кажется, хана. — Рыжий включил маленький карманный фонарик, пощупал мотор. — Закидало. Теперь сносить будет ветром. — Куда сносить? Зачем сносить? — Джеймс подскочил к нему вплотную. Рыжий легко стряхнул его со своего плеча. — Обыкновенно куда. В море. Будем мотаться, как это самое в проруби… Не трепыхайся! Сядь и сиди, пока нас не опрокинуло. А то храбрый больно, размахался деньгами…X
Белесым рассветом мазнуло по линии горизонта, когда пограничный сторожевой корабль, получив задачу, снялся с линии дозора и взял курс на указанный квадрат, где предполагалось в данный момент нахождение неопознанного плавсредства. Одновременно с этим в небо поднялся со стоянки поисковый вертолет, ушел для осмотра акватории бухты, отчаянно меся лопастями тяжелый сырой воздух, который чем выше, тем плотнее обжимал со всех сторон пляшущую в одиночестве машину. — Борт, что наблюдаете? — запрашивали с земли. «Синее море и белый пароход», — буркнул себе под нос командир вертолета, не отвечая дерзко вслух лишь потому, что знал, какая сейчас внизу, на земле, идет работа, какой повсюду стоит начальственный телефонный трезвон и как ширится, вовлекая в себя все новых и новых людей, начавшийся пограничный поиск. — Штурман, сколько идем? — Тридцать, — едва метнув взгляд на часы, отрапортовал на запрос штурман. По блистеру, по всему остеклению кабины, лишая видимости, ползла влага, будто разливалась вазелиновая мазь; тенями промахивали и уносились назад клоки облаков. А надо было вырваться из этой проклятой каши, в которую увязли по самые уши, и надо было, черт побери, прозреть, чтобы не жечь напрасно горючку и не морочить пустым облетом так много ждущих от тебя людей на земле. — Потолок, командир. — Борттехник с треском расстегнул и застегнул «молнию» на куртке. — Выше «сотки» не поднимемся, обложило. — Не психуйте, ребятки. Прорвемся. Ведь что главное в машине? — Это была старая шутка, которую прекрасно знали и на которую всегда реагировали одинаково, и тем не менее командир докончил: — А главное в машине не портить воздух, а то задохнемся, не долетим… Он отдал книзу ручку циклического шага, и вертолет, охнув, как бы присев, выдрался из пены, враз очистился, и тотчас, едва немного развиднелось, машина легла на галс, выпевая винтами мелодию надежно работающей небесной «бетономешалки», дающей сейчас людям в этой сатанинской круговерти приют и тепло. А день тем временем попер, как на свежих дрожжах, выправился, замешав из света и влаги — взамен канувшей тьме — высокий плотный туман. — Уходим под облачность, — объявил экипажу командир. На миг высвободился от хмари и мороси, проглянул снизу порядочный кусок моря, в котором игрушечно, точно уменьшенной копией, обрисовывался красивыми строгими обводами и резал вспененную форштевнем воду пограничный сторожевик. Однако и новый вираж, явив на миг впечатляющую картину мощного хода корабля, оказался холостым, не принес желанного результата, наоборот, лишь гасил в душах экипажа не покидавшую их прежде искру надежды. А уровень топлива неуклонно стремился к нулю, и экипаж старательно отводил от прибора глаза, из суеверия не допуская в подкорку столь очевидную и грустную информацию. — Борт! — в самый подходящий момент прорезалась с земли команда. — Вам возвращаться. Дальше работает «ласточка». «Спасибо, понятненько, — облегченно вздохнул командир. — Дело, похоже, оборачивается нешуточно». Он положил машину на разворот, к берегу. «В принципе верно, что штаб округа решил задействовать АН. Видимо, придется утюжить не только бухту, но и морское пространство, а покрыть быстро такое расстояние нам одним не под силу…» АН-24, поднятый с далекого аэродрома, уже пилил навстречу, скоро должен быть на подходе, и получалось, что два экипажа как бы обменивались в воздухе рукопожатием, как бы передавали друг другу границу и все, что на ней было, из рук в руки. Только и время не стояло на месте, летело с катастрофической быстротой. Перевалило за полдень, и взявшийся было обманно разгуливаться день снова скис, пожух, как пожухивает тронутая морозом листва. Унылая и однообразная, снова придавливала землю кропящая водяная ерунда; и выволакивались незаметно, будто из-за угла, новые сумерки и новая ночь, уже почти не оставлявшая шансов на успех. Везение или нет, но «ласточке» посчастливилось больше, чем экипажу вертолета. Когда машина попала в болтанку, словно ее катили по стиральной доске, под ее брюхом мелькнуло нечто, сразу зацепившееся за внимательный взгляд. — Похоже, цель, командир! — с порога внезапно распахнувшейся двери в салон объявил борттехник Лопухов. — Конкретней, что именно: бочка, бревно, буй? Назвать конкретней — значило не оставить себе права на ошибку, на тот же простой оптический обман, которыми изобилует море и постоянно висящая над ним влага. И Лопухов угасшим голосом протянул: — Затрудняюсь. Цвет будто мелькнул оранжевый. Чуть бы спуститься… В такой ситуации не грешно было и примерещиться: экипаж работал предыдущие сутки, только-только вернулся с планового облета границы, не успел разбрестись по домам: «Воздух!» И снова небо, и снова перепады высот — далеко ли до галлюцинаций, до оранжево-красных кругов?.. Но существовало железное правило границы: не оставлять непроверенным ничего, что заслуживало внимания. И «ласточка», метя прямо в оловянно-жестяно-ртутную стынь, круто пошла вниз. На вираже, в выгодном для экипажа ракурсе, летчики почти одновременно различили дрейфующее плавсредство — обыкновенный спасательный плот, каким комплектуются все корабли на случай бедствия. А уж обозначить его для перехода было делом чистой техники. «Ах, Лопушок, ну, глазастый…» — причмокнул с особым удовольствием командир, чуя сердцем близкий конец и поиску, и выпавшей на его долю гигантской нервотрепке, и скорое возвращение людей на материк, отгороженный от здешних переменчивых мест не столько географией, сколько невыгодными условиями базирования. — Радист, сообщите на корабль: цель наблюдаем. И пусть поторопятся, скоро стемнеет. Координаты…XI
Неуправляемый плот перекатывало с волны на волку, но чаще швыряло зло, с размаху, будто морс наказывало за легкомыслие и небрежное к себе отношение беспечных людей. — Проклятье! — стонал Джеймс, закусывая губы. — Делай же что-нибудь с мотором! Нас же пронесет мимо корабля! Ты что, дьявол, оглох? У Рыжего сил отвечать не хватало. Привычный к морю и качке, он сломался, на удивление, раньше сухопутного пассажира и сейчас лениво, как бы нехотя отбивался от запасной канистры с бензином, все наезжавшей и наезжавшей на него немалой тяжестью, царапавшей ногу грубой самодельной заглушкой. Сквозь чередующиеся удары воды, уже ко всему равнодушный, он уловил посторонний шум, который заставил его встрепенуться, но не покинуть нагретое спиной место у борта. Он повернул серое от невыносимой качки лицо к овальной бреши тента, прислушался. — Кажись, по нашу душу, — произнес он мрачно, скорее для себя. — Что по нашу душу? Где? — Джеймс подгреб на коленях, оттолкнул в сторону Рыжего, намереваясь первым обнаружить судно — грезившийся ему и в забытьи океанский лайнер. — Там… — Рыжий выставил указательный палец в потолок и был в эту минуту похож на пророка. — Не слышишь? Летают… И тут сквозь пустоту в сознании, сквозь безразличие и отрешенность до него дошло, что ищут не просто заблудившихся, не просто попавших в беду людей, а нарушителей. Пограничный корабль рано или поздно выйдет на цель, каковой для него сейчас был плот, и когда на борту обнаружится посторонний, неведомо как проникший на остров, всплывет и все остальное, и тогда вряд ли поздоровится взявшему чужака в море владельцу плота. Второй на этой посудине лишний, оформилось в его затуманенном мозгу, и от второго, чтобы уцелеть самому, надо избавиться как можно скорей. Хищно глядя на узкую спину пассажира, он понял, что пришла долгожданная минута, которую он с самого начала лелеял и старательно оберегал, чтобы не обнаружить ее раньше времени. И Рыжий начал медленно подниматься с колен, чтобы наверняка, одним ударом расправиться со свидетелем. Оглохший от ударов волн, но вовсе не потерявший рассудок, Джеймс чутьем уловил неладное, понял, что сейчас произойдет. Он стремительно обернулся, и момент был упущен. Рыжий покачивался на полусогнутых ногах, и поза его со стороны выглядела нелепой, а несуразные руки как бы сами собой шарили по днищу в поисках опоры, не сообразуясь с движениями тела и выдавая намерения Рыжего с головой. — Сволочь! — со свистом прошипел Джеймс, отодвигаясь от проема под надежную защиту тента на выгнутых полусферой дугах. — Чистеньким захотел остаться, мразь! И ты думаешь, тебе удастся выкрутиться? Наверно, ты забыл, что на песке остались не только твои, но и мои следы? Рыжий смотрел озадаченно, размышляя. Это была правда, и этого он не учел. Но ярость уже клокотала в нем, выплеснулась наружу, и погасить ее уже было не так-то просто. Самоуверенный чужак действовал ему на нервы, как бы подсказывал, сам звал, чтобы с ним расправились, и Рыжий вовремя вспомнил о пистолете, прихваченном на всякий случай, потянул из кармана удобную рифленую рукоять. Совсем рядом, над головой, пугая грохотом моторов, пронесся невидимый из-за купола самолет, и это одновременно и испугало, и подхлестнуло Рыжего, дало решительный толчок. — За борт! — прорычал он чужому, налегая на «р». — Прыгай, собака! Считаю до трех… Пуля вошла Рыжему точно в лоб. Даже не успев понять, что произошло, он выронил оружие и кулем завалился вперед, лицом вниз, придавив плоской грудью подвернувшуюся канистру.XII
За бортом сторожевика шторм все так же перелопачивал неисчислимые кубометры воды, и от бесполезной этой работы, напрасно пропадавшей энергии корабль мотало, норовя опрокинуть, и выдерживать заданный курс удавалось с трудом. Верхнюю палубу, властвуя над ней безраздельно, облизывали волны, но там, за стальной обшивкой, вовсю кипела работа, жили и дышали, напряженно работали люди, привыкшие двигаться наперекор трудностям и стихии. Тридцатишестилетний командир корабля капитан 1 ранга Введенский, прикипев к месту, внимал окружающему, до поры не вмешиваясь в царившую вокруг деловую суету. Штурман мало-помалу счислял нужный курс, от командиров БЧ по трансляции исправно поступали доклады, и Введенский, возвышаясь над корабельным заведыванием, как Саваоф, правил службу. Но был в этой идиллии пренеприятный, хлестнувший по нервам каперанга момент, когда трудяга-штурман, откачнувшись от маленького столика с расстеленной на нем бледно-зеленой картой и разбросанными в кажущемся беспорядке циркулями и графитовыми карандашами, сообщил в унынии, что курс утерян. — Догадываюсь, — невесело пробасил Введенский, морщась от известия, как от зубной боли. — Запросим борт. Барражируя всего в каких-то полутораста метрах над акваторией, все время держа под наблюдением столь удачно обнаруженную цель, АН-24 качнулся с крыла на крыло. Корабль был еще далеко, к тому же отклонился от курса, и нужда заставила экипаж «ласточки» выходить на приводные радиостанции, чтобы заполучить точные координаты широты и долготы, по которым сторожевик пройдет к цели, как по нитке. — Значит так, орелики… — командир «ласточки» расслабленно откинулся на довольно-таки жесткую спинку кресла. — Вызываем вертолет. Он и подсветит морякам. А позволят условия — и подцепит пассажиров. Возражения? Возражений нет. Значит, принимается. На сторожевике тоже не дремали, и Введенский, получив от вахтенных радиотелеграфистов точные координаты цели, теперь с удовольствием потирали руки: худо-бедно, а корабль приближался к месту, и пяти-шестиметровые волны, выплясывая под чуткий маятник креномера, были ему в пути не помехой. — Что там, на камбузе? — спросил Введенский старпома. — Может, дадут чаю? И по стальной коробке, словно кто нашептал, понеслось: командир хочет чаю, командира обуяла жажда, а это всегда было верным признаком, что командир доволен и дела идут куда как хорошо…XIII
Теперь и Джеймс, придя в себя после случившегося с Рыжим, слышал, как время от времени, грохоча моторами, над головой проносился в месиве дождя и соленых морских брызг неведомый самолет. Зная наперед, какая его постигнет участь, рассчитав все, что было возможно в такой дохлой, тупиковой ситуации, он предусмотрительно опорожнил собственные карманы, скинул за борт все лишнее, что косвенно указывало бы на цель предпринятого им путешествия, потом в последний момент содрал с бездыханного Рыжего его латаную во многих местах рыбацкую куртку, напялил ее поверх своей одежды, чтобы при задержании выглядеть перед пограничниками не этаким ангелом с прогулочного катера, а взаправдашним рыбаком, решившим полакомиться свежей камбалой. Рыща взглядом по ограниченному пространству плота, почти притопленному рано пришедшими сумерками, он с трудом приподнял тяжеленное тело Рыжего и в два приема, отчаянно напрягаясь, перевалил его за борт. Теперь ничто не напоминало о недавнем присутствии здесь второго, ничто не наводило на эту губительную в его положении мысль. Оставалось сделать последнее — расстаться с тем, с чем Джеймс не расставался никогда. Минуту или две он ласкал пальцами бугристые стенки «дипломата» с цифровым замком, медлил. Потом рывком, не глядя, опустил руку за борт, и «дипломат», даже не булькнув, ушел в пучину, исчез, словно его не было. «Как все в этом мире призрачно! — усмехнулся Гаррисон, сжимая виски. — Призрачно и непрочно. Где Аризона, где Гавайи? Где ты, небесный цветок гамбургских оранжерей, посылающий вызов всему живому? Господи!..»XIV
Вертолет плыл, словно несли его не металлические лопасти, а крылья ангела. — Проходим над целью, командир! — Вижу! Сообщите на корабль… Введенскому тотчас депешировали: «Держите на „мигалку“, висим над целью». Каперанг, пока корабль не вышел на цель и репитер лага отсчитывал предельно возможную для таких условий скорость, с чувством прихлебывал норовящий выплеснуться чай. «Есть два удовольствия в жизни, — рассуждал он, вжимаясь от бортовой качки и быстрого хода корабля в подлокотники кресла. — Это добротно сделанное дело и… чай. Семья, служба, авторитет командира — это само собой. Но чай…» Он ждал, когда вахтенный или сигнальщик известят: «Вижу „мигалку“ вертолета», — и когда такое известие поступило, по внутрикорабельной трансляции, отдаваясь во всех отсеках, на сплошном мажоре грянуло прочищенное горьким чаем горло каперанга: — Корабль к задержанию! Осмотровой группе приготовиться… Поднять на корабль вымотанного штормом пассажира и принайтовать к правому борту спасательный плот осмотровой группе труда не составило. «Ходу, ноженьки, ходу!» — беззаветно чтивший Высоцкого каперанг Введенский приник к плашке микрофона: — Экипаж благодарю за службу! Корабль — в базу!..XV
Кутая горло, и без того закрытое высоко поднятым воротником демисезонного пальто, Рязанов объяснял смущенному визитом и высоким чином гостя начальнику заставы: — Хотелось бы самому взглянуть на место. Не возражаете? Снарядить всегда готовый к выезду тревожный «уазик» было минутным делом. — Вот здесь наряд обнаружил следы. А вот там — видите? — объяснял словоохотливый капитан, — сержант Калинин зафиксировал машину. Рязанов шествовал следом за капитаном, внимая словам начальника заставы, словно увлекательному рассказу гида. — Тубу с клеем обнаружил тоже Калинин? — Нет, это проявил бдительность младший наряда Мустафин. На обоих отправили представления на медали «За отличие в охране государственной границы СССР». — И правильно сделали. Капитан чуть приостановился, сдерживая широкий шаг гостя: — Товарищ полковник, можно вопрос? Рязанов усмехнулся: — Не церемоньтесь. Спрашивайте… Начальник заставы приободрился: — Зачем же нарушитель закатал Рыжему в лоб? Не поделили чего? Ведь с мотором — моряки рассказывали — и делать было нечего, вполне могли запустить. Или не разобрались?.. Рязанов расхохотался от души, и смех его, глуша и отдаляя, ветром прокатило по побережью. — Рыжий крепко надул своего сообщника. Тот и не предполагал, что напарник не утонет, а заранее привяжет себя за ногу к фалу. Сумеречно было, попробуй тут разглядеть. Да и волнение, само собой, усталость… Рязанов взглянул на капитана, как бы удостовериваясь, понятно ли он изъясняется. — Его потом уж обнаружили, когда моряки доставили плотик в базу. Рыжий с пулевой дыркой во лбу — основное свидетельство. Тут уж не прикинешься рыбаком… Молча прошли еще какое-то расстояние. — Меня только одно удивляет… — Рязанов пошевелил носком башмака на полиуретановой подошве жемчугом сиявшие из песка перламутровые створки раскрытой раковины беззубки. — Неужели пограничники не слышали шума подвесного мотора? Капитан даже приостановился, будто натолкнулся на валун. — А и невозможно было, — протянул он в растерянности. — Норд ведь дул, северный, значит… Сегодня какое? Рязанов отвернул на руке манжету, посмотрел на часы: — Третье… — Вот, числа с пятого переменится на зюйд. Глядишь, тепло возвратится… — Скажи-ка ты! — изумился Рязанов. — Это что, закономерность? — Так уж подмечено. Каждый год совпадает. Куда тут денешься: местная роза ветров.Репухов Дмитрий Семенович Диверсия не состоялась
Глава первая
Скрипнула дверь. Я услышал вкрадчивый голос. - Обер-лейтенант приглашает вас к себе. Следуйте! Мы ждали этого с минуты на минуту, но я вздрогнул от неожиданности. Усилием воли заставил себя сдвинуться с места и вслед за мальчишками направился к двери. В кабинете у Шварца под матовым стеклянным абажуром ярко горит карбидная лампа. Сам обер-лейтенант стоит за огромным канцелярским столом и добродушно улыбается. Я украдкой осматриваюсь. Справа от меня в золоченой раме - портрет Гитлера, чуть ниже тикают старые ходики. Мне кажется, что стрелки их замерли и стоят неподвижно. Но маятник стучит: тик-так, тик-так… Над циферблатом вращаются серые кошачьи глаза. Еще я вижу у окна квадратный коричневый чемодан, а рядом походные, защитного цвета, ранцы. Я их уже видел под городом Кассель, на немецком военном аэродроме, перед первым прыжком, и потому догадываюсь: «В них упакованы парашюты». - Подойдите ко мне! - говорит Шварц. - Ближе! Его цепкий, немигающий взгляд словно пронизывает бледные лица и тощие фигурки мальчишек. Слегка подталкивая друг друга, подходим к столу. - Внимание! Германская армия оказала вам особое доверие: вы нанесете советским войскам удар с тыла, парализуете движение воинских эшелонов в прифронтовой зоне. Вас сбросят на парашютах вблизи узловых железнодорожных станций. Взрывчатка должна попасть в тендеры паровозов и на угольные склады. В целях безопасности по советской земле за вами незримо будет следовать офицер немецкой разведки. Выполнив наше поручение, вы должны перейти линию фронта и передать любому немецкому солдату или офицеру вот такой приказ-пропуск… Шварц взял со стола маленькую розовую палочку, похожую на куколку бабочки. Осторожно сняв оболочку, поднес к глазам узенькую полоску белой бумаги и прочел сначала по-немецки, а затем перевел содержание приказа-пропуска на русский язык: «Особое поручение! Сейчас же доставить в 1-Ц!» Оглядев нас всех по очереди, с улыбкой доброго папаши добавил: - Ну, а здесь… Здесь вас ждет высшая награда фюрера! И в дальнейшем немецкая нация позаботится о вашем будущем! Задача всем ясна? - Ясна, господин обер-лейтенант! - разноголосо отвечаем мы. Матово ложится на стены свет настольной лампы. Я вижу застывшие лица. Мальчишки притворяются, что хотят спать: нет-нет да кто-нибудь зевнет, прикрыв рот рукой. Но я-то знаю: нервы у всех сейчас напряжены до предела и нам будет не до сна в эту ночь. Вытянувшись в струнку, рядом со мной стоят Толя Парфенов, Женя Хатистов, Ваня Селиверстов… Всего нас в этой группе девять. Каждый мысленно готовится к своему последнему прыжку, и мне кажется на миг, что все мы стоим на самой бровке обрыва, за которым далеко-далеко виднеется краешек родной земли, и мы слушаем ее глубокое, ровное дыхание. Обер-лейтенант еще раз обходит строй. Сегодня Шварц вырядился в форму гитлеровского офицера-танкиста. До блеска начищены хромовые сапоги, на черном мундире покачивается железный крест. И вот тут я впервые замечаю, что и глаза, и нос, и форма шварцевской головы точь-в-точь как у Гитлера на портрете. Только «прическу» Шварц носит другую: на макушке у него большая круглая лысина. - Перед тем как отправиться в путь, - обер-лейтенант останавливается и смотрит на меня, - я хочу от каждого получить ясный и точный ответ на очень маленький вопрос. Дима Репухов! Достаточно ли тебе десяти дней на выполнение особого поручения немецкой разведки? У меня в груди застыл колючий холодок: «Зачем он спрашивает? Ведь знает наперед, что я должен ответить». - Ну, что же ты? Отвечай! - Хватит, - почесав затылок, говорю я. - Как сделаем дело, сразу вернемся, - поддерживает меня Женя. - А раньше вернемся - отпустите нас по домам? - интересуется Ваня. - Даю слово немецкогоофицера. И, кроме того, тот, кто вернется раньше всех, первым получит высшую награду фюрера. - Шварц снова берет со стола розовую «личинку» с приказом. - Хранить это вы будете вот тут, - и показывает на ворот своего мундира. Унтер-офицер Краузе из открытого чемодана осторожно выкладывает на стол черные куски «антрацита», каждый величиною с кулак. Они красиво переливаются то стальным, то иссиня-дымчатым светом. «Как настоящий уголь», - думаю я. Краузе подает команду: - Получайте взрывчатку! Первым к унтер-офицеру подходит Петя Фролов с перекинутой через плечо холщовой, в заплатах сумкой. Краузе кладет в нее три куска взрывчатки, пожимает Пете руку и ласково говорит: - Я верю, ты с честью оправдаешь наше доверие. - Сквозь землю провалюсь, а не подведу, - заверяет Петя. Унтер-офицер дружелюбно подталкивает его к Шварцу: - Ну иди, получай парашют. Обер-лейтенант помогает каждому из нас надеть ранец, сам застегивает карабинчики, придирчиво ощупывает ремни. На меня все это действует ободряюще. Ведь Шварц на сто процентов уверен, что мы его не подведем! Краешком глаза я поглядываю на старенькие ходики и мысленно подсчитываю: «Каждому из двадцати девяти мальчишек Краузе уложил в сумку от двух до четырех кусков взрывчатки. Выходит, по замыслу немецкой разведки, в пути к фронту должны погибнуть более сотни воинских эшелонов!» В моей голове все отчетливее вырисовываются картины зловещих катастроф. Летят под откос вагоны с бойцами Красной Армии, танки, орудия… Вот-вот вырвется наружу весь сгусток моей ненависти и тогда… тогда повторится то, что случилось не так давно с Валей Беловым. А разве он не мечтал о жизни? Еще как мечтал! Я едва сдерживаю себя и, чтобы напоследок не сорваться, перевожу взгляд на застывшие в немом ожидании лица ребят. Женя Хатистов с унылым видом рассматривает драный башмак, из которого торчат голые пальцы. Женя не замечает, что к нему приблизился Шварц. - Не нравится? Женя вздрогнул, мгновенно преобразился. Его грязное, сплошь усыпанное веснушками лицо посветлело. Курносый маленький нос вздернулся, а в глазах сверкнули плутовские огоньки: - А мне так будет сподручней, господин обер-лейтенант! Шварц удовлетворенно кивает: - Вот и молодец! Маскировка под бродячего бездомного мальчишку - твой главный козырь. Этот козырь, между прочим, у вас на Руси имеет и другое название - спутник удачи. Он сослужит тебе добрую службу. Поймают тебя красные - тверди одно и то же: бродяга, мол я, бездомный. Будь уверен, твой обман примут за чистую правду. Шварц подошел к окну и приоткрыл его. В кабинет ворвался влажный холодный воздух. На подоконник упал желтый лист. На ходиках стрелки показывали уже десять вечера. Шварц чему-то усмехнулся: - Итак, вы скоро отправитесь в путь. Идите и отдохните несколько минут, по русскому обычаю, перед дальней и трудной дорогой. Мы побежали в свою комнату. Там уже успели убрать кровати и залить пол раствором хлорной извести. …В комнату стремительно входит младший инструктор - Иван Семенович Тоболин. Прикрыв за собой дверь, негромко, но твердо говорит: - Что от вас требовалось, вы сделали. Теперь возвращайтесь домой. Помните! Там ждут вас. В коридоре слышны глухие шаги. Тоболин отдает команду: - Смирно! На пороге Шварц: - Ну, ребятки, следуйте за мной! Обер-лейтенант шагает впереди. Фонарик в его руке горит едва заметно. Я иду следом, ориентируясь в темноте на красный огонек. Ребята за моей спиной не разговаривают, каждый наедине со своими мыслями. На черно-сером фоне вечернего неба впереди возникает темный силуэт самолета. Шварц подходит к металлическому трапу. Пожимая нам на прощание руки, еще раз желает успеха. Мы все рассаживаемся по скамейкам, и люк самолета захлопывается. Я ощущаю чужой пристальный взгляд. В затемненном уголке хвостовой части неподвижно сидит незнакомый человек в серой шинели. Наверное, это он будет, как тень, следовать за нами по советской земле… Смотрю в иллюминатор. Шварц еще топчется у самолета. Но ревут моторы… Самолет бежит по взлетной дорожке. Вот он отрывается от земли, набирает высоту. В этот момент мне хочется кричать и петь. С жадным любопытством вглядываюсь в иллюминатор. Вверху - звездное небо, внизу - кромешная тьма. Только на кончике крыла мигает огонек. Приблизительно через час замечаю далекое зарево пожара. По времени мы должны бы пролетать над линией фронта. Облегченно вздыхаю: «Все осталось позади. Просто как во сне!» Сквозь гул моторов слышу глухие разрывы зенитных снарядов. Значит, мы уже над своей землей! Сидим притихшие, сосредоточенные. Из-под прозрачной куполообразной башни стрелка-радиста на нас посматривает вороненый ствол пулемета: один неверный шаг и - смерть! Вспыхивает сигнальная лампочка. В дверях пилотской кабины появляется гитлеровский офицер. Одновременно из затемненного угла выходит человек в серой шинели. Твердым шагом он приближается к Павке Романовичу и указывает на открытый уже люк: - Прыгай! - И толкает Павку в черную бездну. За Павкой прыгают Ваня Селиверстов, Витя Корольков. Человек в шинели провожает каждого до люка. Когда в четвертый раз вспыхивает сигнальная лампочка, человек берет за плечо меня: - Приготовиться!… Мгновение - и я ныряю в пустоту. Сразу чувствую резкий толчок и сильный удар в лицо. На какой-то миг даже теряю сознание: это стукает по лицу сумка с хлебом и взрывчаткой. Придя в себя, смотрю на землю. С большим трудом отыскиваю внизу крошечный огонек - мой ориентир. Все ближе земля. Может, мне это только кажется, и ветер шумит у меня в ушах? Но вот еще минута и - сильный толчок: парашют цепляется стропами за ветви березы. Ухватившись одной рукой за корявый сук, другою я освобождаюсь от ремней и по шершавому стволу спускаюсь на землю. Вокруг меня рассыпались светлячки. Словно маленькие звездочки, они излучают изумрудно-голубой холодный свет. Таинственная тишина окутала меня непроницаемой мглой. Поправив сумку с хлебом и взрывчаткой, прихрамывая на левую ногу, двигаюсь в путь. Вскоре лес расступается, и я вижу на опушке табун лошадей, туман над серой лентой реки. Белесой змейкой выплывает из рассветных сумерек дорога. Радуясь такой удаче, я ускоряю шаг. Неожиданно чувствую едва уловимый запах дыма. Совсем близко деревня. Даже не верится. Первая избушка вырастает, как грибок, из-под земли, уставившись на меня темными глазницами окон. Подхожу к деревянному забору, толкаю калитку, стучу в окно: - Откройте!… - Кто там? - отзывается женский голос, слабый и дребезжащий. - Тетенька!… - задыхаюсь я от волнения. - Свой я! Свой! - И поспешно добавляю: - Только на чужом прилетел самолете, на немецком! - Чтой-то ты, малой, бадёкаешь - и поверить трудно. - Тетенька! Не бойтесь. Откройте! Покажите избу председателя. В черном проеме отворившейся двери вижу маленькую сгорбленную старушку. Она ощупывает мои плечи и голову и стонет: - Господи! Дите! Ну, проходи в избу, - и сторонится, давая мне дорогу. Я мотаю головой: - Нет, нет! Мне председателя надо, бабушка. Очень важное дело. Где он живет? Старушка задумывается ненадолго, потом говорит: - Ну, пойдем! Только смотри, председатель наш - фронтовик. Не любит шутковать. Она ковыляет вдоль домов по едва заметной тропке. - Как же тебя угораздило, внучек? Вроде, ты по-нашему балакаешь, а с немецкого ероплану? Я молчу. Да и старушка, видно, догадывается, что главный разговор будет у председателя. - Тут он живет, - говорит она, остановившись возле небольшой избушки. Помаргивая, горит керосиновая лампа. Председатель сидит за столом на деревянной лавке и пишет. Его широкое смуглое, словно бронзовое, лицо сплошь усеяно мелкими морщинками. Он искоса смотрит на меня. - Кого привела, Марфа? Старушка принимается рассказывать со всеми подробностями: - Лежу я, значит, на печи - что-то мне не спалось, - а тут он и забарабань в окна… Председатель встал. Опираясь на деревянный костыль, подошел к окну, свернул козью ножку и закурил. - Так, - протянул он, когда Марфа закончила рассказ, и выпустил изо рта сизый клубок дыма. Острым взглядом ощупал меня с ног до головы. - Так ты, говоришь, с самолета? Немецкого? - и недоверчиво покачал головой. - Честное пионерское, с немецкого. Мне сейчас же нужно связаться с нашими разведчиками. Это очень важно… Председатель хмуро посмотрел на меня и расстегнул ворот косоворотки. - Ну и дела!… - Он опять уселся за стол и подкрутил фитилек семилинейки. - Рассказывай все по порядку. Пока я говорил, он разрезал чистый листок бумаги на четыре части и, обмакнув перо в чернильницу, начал писать. Старушка топталась у порога и, словно для того, чтобы привлечь к себе внимание, время от времени покашливала. Ей, видно, не хотелось уходить. Но председатель рассудил по-своему: - Ты, Марфа, иди отдыхай. По дороге к Федору загляни. Накажи - к утру пусть подводу в район готовит. Бабка закивала и, охая, скрылась за дверью. - Как звать-то тебя? - спросил председатель. - Дима Репухов. - Вот что, Дима, - он опустил свою широкую ладонь на мое плечо: - Обрисуй-ка мне место, где тебя сбросили. - Это здесь, недалеко, - сказал я. - У лесной опушки. Там лошади пасутся. Председатель поправил фитилек семилинейки. - Ну, ладно. Пока хватит. Ложись на полати, спи. Завтра доставим тебя куда надо. Я медленно, трудно засыпаю. Иду через бесконечную ночь к родному дому. Сухонькая, измученная тоской женщина смотрит мне в лицо. Я хочу крикнуть: «Мама!»- - и не могу. Боюсь потерять ее след. Мать стоит у окна, а рядом старая ракита прижалась к замшелой тесовой крыше и ветками тихонечко ласкает мамины худые плечи. Внизу, у ракиты, голубые огоньки. Это светлячки. Я кладу на ладонь кусочек холодного света и бегу к матери. Вот слышится далекий родной голос: - «Сынок! Где ты?» - «Здесь! Я здесь, мама!» В дремотном полусне вскакиваю с лежанки, протираю глаза. Заря уже поднялась над горизонтом и опустилась на туманное поле. Она проскользнула в избушку через тусклое стекло покосившегося оконца и заискрилась оранжевым светом в темном углу подклети. Во дворе звякнули пустые ведра. Открылась дверь. С утренним солнцем в комнату вбежала девочка лет двенадцати. Она с любопытством и удивлением посмотрела на меня. - Ты, что ли, прилетел на немецком самолете? - А тебе кто сказал? - Бабка Марфа. Она всем в деревне про тебя рассказала. Как ты ночью к ней стучал. А твой парашют из лесу принесли! Ты сбежал от фашистов, да? - Я от них не убегал. Они сами прислали меня сюда… Девочка с испугом смотрит на меня и пятится к двери. - Значит, ты - шпион ихний? Ой… С языка у меня чуть было не срывается обидное слово. - Отстань, - говорю я, едва сдерживая себя. - И вообще ты у меня ничего не спрашивай. Все равно ничего не поймешь. С улицы доносится тихое ржание лошади. Я встаю и иду на улицу. Солнце уже висит над лесом. Серебристые зайчики весело пляшут по оранжевым листочкам молодой вишенки, растущей у крыльца. У подводы стоят деревенские мальчишки в красноармейских пилотках, с любопытством посматривают в мою сторону и о чем-то тихо спорят между собой… И вот тут-то я наконец верю: «Все страшное осталось позади!»Глава вторая
История, которая приключилась со мной и моими друзьями летом 1943 года, началась гораздо раньше - в самый первый день войны, когда мама проводила меня в пионерский лагерь «Мощинки». После обеда в «тихий час» в парке вдруг раздались звуки пионерского горна. Я толкнул в бок своего нового дружка Женю Хатистова: - Женя! Слышишь? Сбор играют! - Придумал еще, сбор! В тихий-то час? Но все мальчишки в нашей палате уже соскочили с кроватей и облепили окно. На спортивной площадке горнист трубил сбор. Был солнечный день, и горн горел золотым пламенем. У флагштока стояли военные и среди них - наш старший пионервожатый Николай Иванович, вихрастый юноша лет восемнадцати. - Ура! К нам летчики приехали. Подъем! Мы все выбежали на улицу и, влившись в шеренгу, замерли в общем строю. Вынесли знамя. - Ребята! Сегодня, в четыре часа утра, фашистская Германия напала на нашу Родину… Голос у старшего пионервожатого дрожал и часто срывался. Я никак не мог сообразить, почему Николай Иванович так волнуется. «Подумаешь, фашисты! Наколотим! Мало ли кто на нас нападал. И самураев били, и белофиннов. Да еще как!» - …В это тяжелое время каждый должен найти свое место в строю защитников Родины! В нашем пионерском лагере будут организованы добровольческие посты самозащиты. Наша задача - научиться, что надо делать во время воздушного и химического нападения противника. Под знамя! Смирно! Поплыло вдоль строя пионерское знамя. Барабанная дробь сжимала мои виски, кружила, туманила голову. Война! А какая она? Почему ее боятся взрослые? Женя потянул меня за рукав: - Бежим в красный уголок. Оружие по списку будут выдавать - настоящее! Пятому звену, в которое были зачислены и мы с Женей, поручили охранять водоем у колхозного скотного двора. Я ждал самого главного. Вот сейчас Николай Иванович принесет новенькие пистолеты и скажет: «Нате, ребята, охраняйте государственное добро!» Но он почему-то медлил. Я нерешительно спросил: - А когда нам будут выдавать оружие? - Ах да, совсем забыл! Идите к завхозу, у него и получите, что полагается. Взбивая пятками дорожную пыль, мы помчались к приземистому строению, где находилась кладовая. У двери Женя остановил меня: - Старье всякое не будем брать! Наганы не дадут - попросим винтовки. - Ладно, - кивнул я, открывая дверь. Дядя Костя, примостившись у окна, прилаживал черенок к лопате. Он равнодушно посмотрел на нас и, пошевелив пшеничным усом, спросил: - Из группы самозащиты? - Да. Пришли получить оружие. - Ну раз такое дело, получайте: две лопаты и одни трех-рожковые вилы, четыре ведра. Пока - все! - А наган? - растерянно спросил я. - Ишь чего захотел! Боевого оружия у меня нет. Оно все вон там, - завхоз кивком головы показал в ту сторону, где должен был находиться фронт. Новая необычная жизнь не казалась нам суровой. Мы даже были довольны. После завтрака бежали купаться на озеро, потом в красном уголке пели боевые песни. После полудня слушали радио, а вечером выпускали свою пионерскую «молнию». И конечно, наперебой обсуждали положение на фронтах. «Драпают фашисты!» - слышались радостные восклицания со всех сторон. Нам казалось, что Гитлер вот-вот испустит дух. Еще бы - прошло только три дня войны, а сбито уже семьсот пятьдесят пять самолетов противника. Здорово! Красная Армия громит остатки фашистских войск. Мне не терпелось трахнуть какого-нибудь фрица по рогатой башке. Вот только где его взять? В пионерский лагерь немцы на самолетах не залетают, и о диверсантах пока не слыхать. И еще на фронт не берут. Всыпал бы я этим фрицам по первое число. Но однажды и у нас в лагере завыла сирена. Тревожный голос из репродуктора оповестил: - Воздушная тревога! Воздушная тревога! Внимание! Дежурным звеньям подняться на чердак! Повторяю еще раз… Я медленно поднялся вверх по лесенке на чердак. Душный пыльный воздух щипал горло, резал глаза. Я дотянулся до слухового окна и посмотрел в серую вечернюю мглу. Где-то далеко с глухим вздохом зенитные снаряды рвали небо, и тогда вспышки бледным светом на миг озаряли его темный полог. Вот послышался слабый гул моторов. С каждой минутой он нарастал. - Чем же тушить зажигалки? - обеспокоенно шумели мы. - Берите их за хвостики и кидайте во двор! - подбадривал нас пионервожатый. - Ложись! - вдруг крикнул Николай Иванович. Послышались глухие раскаты. Пол чердака задрожал. Когда я поднял голову, то увидел яркое пламя у берега озера. Горела старая мельница. Я впервые почувствовал беду, которая повисла не только надо мной, но и над всем, что окружало меня. …Тревожные дни с необыкновенной быстротой обрастали потоком новых событий. После выступления по радио товарища Сталина мы собрались в красном уголке. Сначала пропели новую песню «Священная война». Затем выступил пионервожатый. Он сказал, что в форме милиционеров и командиров Красной Армии гитлеровцы проникают в наши ряды, убивают мирных советских людей, травят ядом питьевые колодцы, взрывают мосты. - Ваша задача, ребята, - немедленно сообщать о подозрительных лицах в пионерский штаб самообороны. - А как их распознать-то? Фашистов? - спросил я. Послышались насмешливые голоса: - Не знаешь, что ль? По рогатой башке. - В кино, небось, не раз видал! Пионервожатый поправил ребят: - Дима Репухов правильно задал вопрос. Действительно, врага распознать не так просто. Ведь фашисты переодеваются в нашу советскую одежду… Человек, который спрашивает: где проходит шоссе, или как пройти в деревню, или название какого-нибудь населенного пункта, невольно вызывает подозрение. На следующий день, сразу после завтрака, мы с Женей вышли в «секрет». Мы тихонечко сидели в ольховнике и охраняли питьевой колодец. У нас было и «оружие»: у меня - вилы, у Женьки - лопата. У колодца раскинулось небольшое озерцо студеной воды. Со дна его били ключи, и вода все время булькала. Листья на кустах шелестели от ветра. А нам с Женькой иногда казалось, что это на краю болота, в кустах и камышах, кто-то шевелится. Болото от родника тянулось до самого леса, что темнел вдалеке. Там, где кончалось болото, вдоль лесной опушки проходила дорога на Смоленск. - В лесу их, наверное, полно, - произнес я шепотом. - Тише ты! - оборвал меня Женька, но тут же сам спросил: - Кого полно? Диверсантов, что ли? - Думаешь, в лесу наших секретов нет? Сколько хочешь. - Хоть бы один фриц к нам сюда приполз, - высказывал я свою потаенную мечту. - Сейчас бы ему вилы в бок - раз!… - Да не ори ты! - снова оборвал меня Женька. - Может, он и правда там, в камышах. Ненароком спугнешь, и не поймаем. Затаив дыхание мы прислушались. Но, кроме бульканья воды в роднике и шороха листьев, до нас не доносилось ни единого звука. Я смотрел на ручеек, вытекавший из родникового озерца. Он бежал, извиваясь змейкой по низине, правее болота, постепенно превращаясь в речку. Вдалеке виднелись развалины мельницы, которая еще недавно стояла на речке. Женька вдруг толкнул меня локтем: - Слышишь?… Лицо у него было напряженное и немного испуганное. Он смотрел в сторону камышей. Мне тоже начало казаться - уже в который раз, - что там кто-то есть. - Женька, - шепнул я, - сползай туда, к болоту. - Уж лучше ты сползай, - ответил Женька. - У тебя - вилы. - На, возьми. Я готов был поделиться своим оружием. Но ползти к камышам мне отчего-то не хотелось. Я смотрел на Женьку и ждал, что он скажет. Но в этот момент Женька, подавшись вперед, тихо вскрикнул, и глаза у него округлились. Я быстро оглянулся и успел заметить упавшую из-за кустов на камыши тень. Вот камыши закачались, зашуршали… - Беги в штаб! - громким шепотом сказал мне Женька. Но мне страшно было оставить его один на один с фашистом. Я словно прилип к земле. - Женька, - прошептал я в ответ. - Лучше ты беги, а я останусь. Или давай вместе побежим… - Кому говорят! - цыкнул на меня Женька. - А ну, мотай живо! Тут я вспомнил, что он из нас двоих - старший, и уже без возражений, подчиняясь приказу командира, со всех ног помчался к лагерю. Влетел в ворота и что есть духу заорал: - Диверсант на болоте! И вот уже ребята - все, кто оказался поблизости, - схватили свои лопаты и вилы и побежали на болото. А я уже выбился из сил, запыхался и угнаться за ними не мог. Когда я прибежал к колодцу и увидел среди рыскающих за камышами мальчишек Женьку, у меня сразу отлегло от сердца. Я все боялся, как бы фашист не застрелил моего товарища. А что - очень просто мог бы! - Я видел его спину! Честное пионерское! В болото, гад, уполз… - взахлеб рассказывал Женька. Кто-то предложил прочесать болото, и мы уже двинулись было всей оравой к лесу, но тут за нашими спинами раздался сердитый оклик: - Назад! Марш все ко мне! Впопыхах я совсем забыл про Николая Ивановича, хотя должен был в первую очередь ему сообщить о случившемся. - Сейчас придут чекисты, - сказал Николай Иванович. Вскоре подошли военные с винтовками. Они о чем-то посовещались, попросили нас с Женькой показать точнее то место, где мы видели диверсанта, - они так и сказали: «диверсанта», а затем неровной цепочкой, держа винтовки наперевес, стали прочесывать болото. Они дошли до опушки и вернулись назад, не обнаружив никаких следов. И хотя никто ни единым словом - ни ребята, ни Николай Иванович, ни красноармейцы - не выразили нам с Женькой какого бы то ни было недоверия, - я чувствовал себя немного неловко. Наверное, я был единственным, кто в душе сомневался в достоверности всей этой истории. Ведь сам я не видел никакого диверсанта, не видел даже его спины. А та тень, которую я успел заметить, могла ведь и померещиться. Мои сомнения рассеялись самым неожиданным образом. Возбужденные, взволнованные нашим с Женькой «подвигом», ребята, конечно, не смогли на другой день усидеть в лагере и прямо с утра вновь отправились к колодцу. Мы с Женькой, разумеется, тоже были там. Мы уже в сотый раз, наверное, прошли через камыши, прощупывая ногами и руками каждый стебелек, каждый камешек, когда вдруг кто-то закричал: - Ой, ой!… Смотрите! Наган! Он был такой большущий, каких мы никогда не видали. Потом Николай Иванович объяснил нам, что это - ракетница, с помощью которой фашист сигналил своим самолетам. 13 июля в лагерь за мной приехала мама. Нам удалось попасть на автобус, и до Смоленска мы добрались довольно быстро. Город почти весь был разрушен. Дымились черные развалины домов. По улицам тянулись вереницы людей с узлами на плечах, тележки с домашним скарбом. Было много военных патрулей. Проезжали грузовики с красноармейцами. А перед самым въездом в город, на Витебском шоссе, навстречу нам прогромыхала большая колонна танков. Машин сто, не меньше. У некоторых были открыты башенные люки, и в них я видел танкистов в черных шлемах и комбинезонах. От грохота и лязга ломило в ушах, а я смеялся от переполнявшей меня радости: уж теперь-то фашистам придется жарко, столько танков на них идет! Еще бегали по городу трамваи - обгоревшие, с выбитыми стеклами. На одном из них мы доехали до Рославльского шоссе, а дальше пошли пешком. Мама очень торопилась и все прибавляла шагу. Я едва поспевал за ней. Она сказала, что фашисты уже недалеко от Смоленска, а значит, и от нашего села Богородицкого, которое всего в каких-нибудь пяти-шести километрах от города, к юго-востоку от него. Надо спешить, пока еще есть возможность эвакуироваться. - Почему же ты раньше не приехала за мной? - спросил я. - Не могла, - ответила мама. - Минуты свободной не было. Оказывается, ей, как и другим учителям нашей школы, парторганизацией сельсовета было поручено руководить эвакуацией населения из Богородицкого и окрестных деревень. - Многие уехали, - сказала она. - Деревни почти совсем пустые. И скот угнали на восток… Чтоб фашистам не достался. Я не мог понять, почему фашисты обязательно должны взять Смоленск, ведь у нас столько танков! От МТС нам надо было сворачивать с шоссе на проселок, но мама вдруг остановилась и посмотрела в сторону Волковского детдома, крыша которого - наполовину тесовая, наполовину железная - виднелась за зеленой кипенью лип. - Вывезли детей или нет? - негромко, раздумчиво, как бы сама себя спросила мама и вздохнула: - Ох, как мне жалко их! Дорога постепенно поднималась на взгорок, с которого уже видно было наше крошечное село: три жилых дома да три школьных здания (в них учились дети из окрестных деревень). Почти все жители села - учителя и их семьи. Недалеко от нашей школы я увидел извилистую полоску свежевырытой земли и головы красноармейцев в касках. Каски тускло отсвечивали в лучах заката и казались темно-красными. И еще я увидел бредущую по дороге высокую сутуловатую фигуру. - Дед Игнат идет! - крикнул я и припустил навстречу деду. Он остановился, погладил меня большой шершавой ладонью по голове и протянул балалайку. - Это тебе. Подарок. Я так и завертелся волчком от радости. Подошла мама. Она тревожно и вопросительно смотрела на деда: - Ну, что? Звонили из района? - Звонили. Завтра будут эвакуировать со станции Смоленск. Утром за вами пришлют подводу. Мама посмотрела на меня: - Как я с детьми-то… Куда повезут - не говорили? Дед Игнат покачал головой. - Мария Васильевна, позвольте мне… с вами поехать… Не буду я вам обузой… - Игнат Петрович, да что вы такое говорите! - воскликнула мама. - Конечно, конечно! Ведь я без вас как без рук. Игнат Лисовский не приходился нам родственником. Но с того времени, как наша семья после смерти отца переселилась в Богородицкое (до этого мы жили в соседней деревне Корюзино), дед Игнат стал для нас своим человеком. Он приходил в наш дом, чтобы помочь по хозяйству, присмотреть за Сашей, мной и Светланкой, пока мать вела в школе свои уроки. А то и просто так, посидеть, поговорить о том, о сем. А рассказать было что - биография у деда была богатая. В молодости, еще в прошлом веке, он каким-то образом очутился при дворе бухарского эмира и долгое время жил там на положении раба. Потом ему удалось бежать в Россию, и он пошел матросом на корабль. Он работал в школе столяром, вел уроки труда. В просторной мастерской в двух больших ящиках лежал инструмент. У нас, мальчишек, разбегались глаза от несметного количества рубанков, стамесок, пилок, долот, буравчиков и многого другого. А в свободное время дед Игнат делал скрипки. Я видел, как кропотливо он перебирал древесину, как выстругивал и выпиливал дощечки, сушил их, придирчиво простукивал и выслушивал, отбрасывая в сторону негодные. Наверное, он был хорошим мастером, потому что к нему за скрипками приезжали издалека, даже из Москвы и Ленинграда. …Утром подвода за нами почему-то не пришла, и мы впятером - мама, дед Игнат, Саша, Светланка и я навязали на себя узлы с едой и одеждой и отправились пешком в сторону Смоленска. Но там не было ни одного целого здания. Повсюду громоздились развалины из камня, бетона и кирпича. Кое-где дымились головешки от несгоревших бревен. Аня, мамина сестра, стояла у двери разбитого дома и, плача, прерывисто голосила: - Что делать? Что теперь мне делать? - Здесь оставаться опасно, - сказала мама. - Сейчас же собирай сына, клади в мешок самое необходимое, да поживей. К полудню мы должны добраться до Богородицкого. Но в село мы вернулись только к вечеру. Выкопали за домом яму и спрятали в ней вещи на случай пожара. Вскоре в село снова пришли наши войска. В парке играл баян:* * *
…По распоряжению немецких властей жители окрестных деревень жали на полях рожь, копали картофель. Весь урожай немцы забирали себе, а голодные сельчане бродили по тем участкам, с которых картофель уже был убран, и вновь перекапывали землю, выискивая случайно оставшиеся в ней клубни. Ходил на промысел и я. Когда один, а чаще с Виталькой. Бывало, насобираем за день по полведра - и довольнешеньки. Другой-то еды не было. И вдруг староста объявил, что впредь до завершения уборки жителям запрещается самовольно собирать картофель. Кто послушался, а кто и нет. Теперь с наступлением темноты, взяв мешок, я, крадучись, пробирался на картофельное поле. И тут уж я не церемонился: вырывал подряд десяток-другой кустов, собирал клубни и - давай бог ноги! И никто в доме не осуждал меня за это. Однажды - это было в конце марта - я встретил в поле Толю Парфенова из Волковского детдома. Разрывая палкой мерзлую землю, он тоже искал «тошнотики» - перемороженные клубни. Я его сперва даже не узнал, так он похудел и повзрослел. И одет был в какие-то лохмотья. Последний раз мы виделись еще до войны, на спортивных состязаниях. Толя тогда был в красивой детдомовской форме: черные брюки, белая рубашка, красный галстук… - Ну, как там у вас? - спросил я, кивнув в ту сторону, где находился детдом. - Помаленьку, - ответил Толя скучным голосом. - Пока что живы. Тогда я стал спрашивать про других детдомовских ребят, которых знал. Оказывается, разбежались кто куда, а детдом немцы переименовали в приют для сирот. Прежние воспитатели и учителя уволены, вместо них теперь расхаживали с плетками надзиратели. Новенькие, которых фрицы поналовили на чердаках, дорогах, в лесу, с утра до вечера копали картошку для отправки в Германию, а в классных комнатах, где до войны проводились учебные занятия, детей заставляли плести корзины и лапти, вязать веники. Толя сказал, что к ним в приют прислали попа и этот поп обучает их закону божьему. - И вы молитесь богу? - спросил я у Тольки. - Попробуй не помолись - живо розог получишь. А то и в карцер посадят. Кто там посидел - больше не захочет. - А что это - карцер? - спросил я. Толька бросил на меня презрительный взгляд: - Не знаешь… Яма такая, вся мокрая, а в ней ящик длинный, как гроб. Жратву через день только приносят. А жратва-то: похлебка из брюквы да кусочек жмыху… Глядя на съежившуюся от холода, одиноко бредущую Толину фигурку, я подумал, что мне еще хорошо живется - меня не заставляют молиться богу, не секут розгами и не сажают в карцер. Да и насчет еды полегче. Дело в том, что мы с Виталькой Шапуро со временем научились таскать продукты у немцев. Целыми днями мы шныряли по селу, высматривая, где что плохо лежит. Если повар на минуту отлучится из кухни - тут уж мы не зевали. Один оставался «на стреме», другой лез в окно, хватал, что попадало под руку. Когда удавалось поживиться консервами, а когда и хлебом. Однажды мы углядели, как кладовщик, разрубив тушу надвое, взвалил одну половину на плечи и понес на кухню, а другую половину туши оставил в сарае. Недолго думая, мы погрузили оставленное без присмотра мясо на санки и увезли домой. Была вьюга, и следы полозьев тут же замело снегом. Выходило-то как! У вора свое же добро выкрадывали. А в другой раз (это было в конце зимы сорок второго года) мы стащили из каптерки - она тоже находилась в школьном здании - ящик с мылом. Мыло было наше - красноармейское, разрезанное на квадратные кусочки. Домой сразу не понесли, спрятали в кустах. Не прошло и несколько часов, как в дом ввалилась орава разъяренных немцев. Сперва они зашли на половину Шапуро. Витальки, на его счастье, дома не было. Отдуваться за все пришлось мне. Двое немцев схватили меня, разложили на столе, задрали на голову рубаху, стянули штаны и один приставил к моему животу острие ножа: - Мило цап-царап? - Не брал я никакого мыла! - кричал я и извивался, как уж. - Пустите, не брал я мыла! Тут фашист надавил острием. Резкая боль пронзила мое тело. Я заорал благим матом. - Во ист мило? Немецкий солдат банья идет. Боль становилась невыносимой, я чувствовал, как по животу на стол каплями стекает кровь, но продолжал отпираться. И хорошо, что не признался, - наверняка они бы меня убили. Фашисты гоготали, кричали: - Где мило?! Кончилось тем, что подхватили меня за руки и за ноги и выбросили через окошко в огород. А спустя неделю я перенес в сарай мыло, и мы им пользовались почти целый год. Перед новым, сорок третьим годом дед Игнат подарил мне гитару. Мало-помалу я стал учиться играть по самоучителю и уже к началу весны знал несколько песен. Иногда вечерами мама, Светланка и Саша хором пели под аккомпанемент русские народные песни и наши советские: «Мы - кузнецы», «Катюша», «Светит месяц»… В один из таких вечеров к нам кто-то постучался в окно. Мама торопливо чиркнула спичкой и зажгла фитилек коптилки, сделанной из патрона крупнокалиберного пулемета. Всматриваясь в серую пелену вечерних сумерек, открыла форточку и тихо спросила: - Кто там? Колючий ветер и хлопья снега с шумом ворвались в комнату. - Ветер это, - сказала мама. Не успела она отойти от окна, как в коридоре послышались чьи-то шаги, потом отворилась дверь, и в комнату вошел незнакомый парень лет двадцати пяти. Он был высокого роста, в шапке-ушанке из собачьего меха, лихо надвинутой на левое ухо, и телогрейке. - Здравствуйте, Мария Васильевна, - сказал парень. - Здравствуйте, - ответила мама, пристально всматриваясь в незнакомца. - Это я, Сережа Уваров. Не узнаете? - Не узнала я тебя, Сергей Георгиевич. Вон какой вымахал! Уваров усмехнулся и, прищурив серые глаза, простуженно сказал; - А пришел я к вам вот по какому делу. До войны, знаю, была у вас большая домашняя библиотека. Сохранилась она? - Нет, Сережа. Немцы еще прошлой зимой сожгли. Удалось спасти самую малость. - Из политической литературы что-нибудь осталось? Мама отрицательно покачала головой. - Постой, постой! Кажется, четвертый том Ленина. Лежит в дровянике, в ящике из-под снарядов… - Так это же настоящий клад! - обрадовался Уваров. Когда мама вышла из комнаты, Сергей Георгиевич спросил у меня: - Твоя гитара? Я вспомнил про балалайку и насторожился. - Моя, а что? - Сыграй. - Ладно, - согласился я и тихонько запел под аккомпанемент гитары:* * *
На другой день явился к нам дед Игнат со скрипкой. - Давай попробуем сыграть вместе, - предложил он мне. Мама слушала, слушала, а потом сказала: - Ты бы в Мосолово сходил. Там ребята играют по вечерам. Вот бы и пристроился к ним. Все не так тоскливо будет. Я отправился в эту деревню. Еще издали увидел лохматые крыши деревенских избушек. Из почерневших, давно не кра-шенных труб кое-где курился дымок. Одним махом я пересек улицу и помчался к одиноко стоящему домику у оврага. Прежде чем зайти в избу, заглянул в окно. Павлик сидел у порога и топором рубил на куски немецкий телефонный провод. Я незаметно проскользнул в сени и тихонечко открыл дверь. - Вот хорошо, что ты пришел! - обрадовался Павлик и с ходу сунул в мою руку кусок телефонного провода. - Держи. Сейчас дело пойдет веселей. Я вытаращил глаза: - Ну, ты и даешь! К чему все это? - Понимаешь, на мандолине лопнула струна. А из провода можно вытащить несколько пар металлических стержней. Все лучше, чем играть на оборванной струне. - Ага, понимаю, - сказал я и потянул к себе свободный конец провода. Из-под черной прорезиненной оболочки показались стальные блестящие ниточки. Павлик снял со стены мандолину, вместо старой, оборванной струны поставил новую, настроил и бойко ударил по струнам:Глава третья
Я проснулся от протяжного стона, похожего на плач. Мне показалось, стонет кто-то рядом. Сашка? Поднял голову. Вроде бы не он. Скорчился от боли, стиснул зубы - молчит. И Светланка спит. Я вскочил на ноги, прошлепал к окну. Голоса доносились со стороны сельского кладбища. Я глянул на спящую мать и выскользнул на улицу. Перемахнув через овражек, увидел толпу людей на дороге. Притаился у кювета, за кустом, осторожно раздвинул ветки и стал наблюдать. Это были жители окрестных деревень. Но куда и зачем их гонят? Неужели будут расстреливать? Держась придорожных кустов, я следовал за толпой, высматривая знакомых. Здесь были все больше женщины, девчата и парни из деревень Мосолова Гора, Селифоново, Козине. Позади колонны, на некотором расстоянии от нее, тоже с воплями и душераздирающими криками шла группа пожилых женщин и стариков - родственников тех, кого гнали полицаи. Полицейский Арнольд из деревни Мосолова Гора метался вдоль нестройной колонны на рыжем приземистом жеребце. Гибкая ременная плеть свистела в воздухе и хлестала тех, кто случайно выбивался из общего строя. Я и не заметил, как кончились кусты. Слишком поздно увидел это. И Арнольд ухватил меня за шиворот: - Вот здорово! Попался, щенок! Староста этой же деревни Василевич удовлетворенно хмыкнул: - Набегался с гитарой, бездельник? Теперь побегаешь с тачкой на каменоломнях. - Отпустите! - закричал я, но тут же понял: не вырваться мне. Обернулся, увидел свой дом, и сердце больно сжалось в груди. - Что я вам сделал? Староста сверкнул глазами. - Дай-ка ему, Арнольд, напоследок меж глаз! Полицейский усмехнулся: - Приказано не трогать. Инспектор ему сам врежет. Останется живой - век будет нас помнить. Перед управой полицейский спрыгнул с жеребца. Одной рукой придерживая меня за ворот, другой поправил мундир и, поплевав на ладонь, вытер голенища сапог. У здания волости уже столпился народ. Разноголосо плакали женщины. Опустив голову, я прошел вдоль стонущей толпы. Василевич подтолкнул меня к крыльцу. Когда за спиной захлопнулась дверь, я увидел перед собой гитлеровского офицера в черном мундире и двух солдат. - Фамилия, имя, национальность, возраст, адрес?… Офицер поднялся из-за стола. Черный мундир заслонил солдат. - Молчать нехорошо. Молчать - значит, плохо думать о нас. Пока я соображал, к чему он все это, - в разговор вмешался староста. - Ваше превосходительство! Репухов он, Дмитрий. Русский. Тринадцати лет. Сын учительницы из села Богородицкое, Смоленского уезда. Вы его вот так! - Василевич сжал кулаки и сделал шаг в мою сторону. - Нейн, нейн! - офицер помахал пальцем перед носом старосты. Такого оборота староста не ожидал. Он отшатнулся к двери и покорно склонил голову. Гитлеровец приблизился ко мне и положил руку на мое плечо, что-то приказал солдату, стоявшему у окна. Тот вывел меня во двор, и я тотчас увидел среди других пожилых женщин и стариков мать. Она рванулась ко мне: - Сынок! Тяжелая рука солдата вцепилась в мое плечо и толкнула к машине. Непонятная слабость охватила меня. Я стал оседать на дорогу. Немец что-то выкрикнул, и подбежал еще один гитлеровец. Они подхватили меня и, как мешок, забросили в кузов автомашины. По дороге я пришел в себя. Огляделся. Машина мчалась к Смоленской МТС. Вот она въехала в ворота и во дворе остановилась. - Герман! - крикнул шофер из кабины. К нам подошел рыжий огромного роста ефрейтор. Солдат пальцем показал в мою сторону и что-то сказал по-немецки. Герман осмотрел меня с ног до головы, взял, как щенка, за шиворот и молча повел к деревянному сараю. Перешагнув через порог, я застыл, как будто прирос к земле. Серый полусумрак и тишина… Внезапно я услышал смех и увидел сидящих в дальнем углу мальчишек. Они были увлечены каким-то делом. В их движениях, разговоре было безмятежное спокойствие. Казалось, они сами забрались сюда, чтоб укрыться от посторонних. Мальчишки играли в карты. - Опять ты, Валька, дурак! - весело выкрикнул черномазый паренек лет тринадцати с вихром густых темных волос на макушке. Другой, белобрысый, маленький и очень худой, похожий на высохшую тростинку, покорно подставил лоб. Зашуршала солома, и передо мной выросла еще одна мальчишечья фигурка: - Отваливай, пока цел! - Ты что, сдурел? - я исподлобья смотрел на паренька и глазам не верил: Толя Парфенов! - Димка! Откуда ты взялся? Пацаны! Это Репухов! Его матушка еще с войны у нас в детском доме с отстающими занималась. Черномазый поднялся на ноги, шурша соломой, подошел ко мне и протянул руку: - Володька, Пучков. Тоже поедешь на экскурсию? - - На какую экскурсию? - озадаченно замигал я. - Будто и не знаешь? В Германию! - Врешь! - не поверил я. - Чтоб провалиться на этом месте! - Володька дружелюбно хлопнул меня по плечу. - Дурень ты бестолковый! Говорят тебе: на экскурсию едем! И точка. Полушепотом добавил: - Черный Ворон сказал. - Что, кто? - переспросил я. - Черный Ворон, инспектор нашего приюта. Слово у него - закон. Ежели пообещает задрать розгами - и задерет до смерти. Знал бы кто, чего мы только не видели в этом приюте! А теперь вот повезут в эту самую… Германию. - Тебя же не на смерть везут, а на экскурсию. По дороге, стало быть, а там лес рядом… Соображать надо, - вмешался в разговор Толя Парфенов и предложил: - Сыграем-ка лучше в подкидного на щелчки. Я присел на корточки, стал наблюдать за игрой. Со двора послышалось тихое ржание лошади и скрип колес. Звякнул запор. Распахнулись ворота, и в сарай, озираясь, плотной группкой ввалились новые ребята. От удивления я даже присвистнул, когда увидел весь наш «оркестр»: Ваню Селиверстова, Павку Романовича, Толю Сидорова, Витю Королькова, а еще Петю Фролова и Колю Минченкова из соседней деревни Корюзино. Я бросился к ним навстречу. Ваня, глядя на меня, не удержался от восклицания: - Вот гады! - Что же ты не сказал это фрицам? - с ехидной улыбкой спросил белобрысый Валька. - Заткнись! - прошипел Ваня. - Ну, чего ты взбесился? - удивленно произнес Володя. Селиверстов запальчиво замахнулся на него: - Дуешься здесь в карты, и горя тебе мало! Ишачить, что ли, на фрицев вздумал? Володя искоса посмотрел на него: - Ты, может, первый пойдешь. Немцы любят дураков. Они и рубаху тебе дадут полосатую. Знаешь для чего? Чтоб далеко не убежал. У Вани задрожали колени. Согнувшись, как бычок, он подскочил к Володе и треснул его по затылку. - Лапоть ты деревенский! - вспылил Володя и, сжав кулаки, бросился на Ваню. Я кинулся к ним. Толя Парфенов схватил Володю за рубаху и потащил в сторону. - Псих ненормальный, - процедил сквозь зубы Володя и снова сел играть в карты. Деревенские, нахохлившись, сгрудились у ворот и издали наблюдали за игрой. К вечеру принесли ужин. - Живем, пацаны! - закричал белобрысый Валька и вытащил из-за пазухи огрызок деревянной ложки. - Становись в очередь! - пробасил рыжий детина Герман, тот самый, что привел меня сюда. Каждый получил котелок наваристой каши, а впридачу еще полбулки хлеба. Я не верил глазам: неужели все это мне одному? - Отваливай! - цыкнул на меня повар. Кто-то из мальчишек хихикнул. - Беги, а то отберет кашу. В сарае царило оживление. Изо всех углов сыпались возгласы: - Здорово подфартило! - Как на курорте! Спи да ешь. - К чему бы это? Володя подошел к Ивану: - Про ссору забудь. Сам понимаешь, какая у нас жизнь в приюте. - Слыхал. Хуже каторги. - Это точно. - Да чего уж там, - по-деревенски добродушно проворчал Ваня и неторопливо стал рассказывать, что случилось в деревне после полуночи. Оказывается, Ваню захватили во время облавы. Мать запрятала его под печь, да староста все равно нашел, сказал: «В МТС до осени поработаешь на ремонте дорог, а будешь примерным, начальство, может, отпустит тебя домой и пораньше». Взяли они Ваню и повезли по деревне. Потом на подводу посадили Тольку Сидорова, Пашку Романовича и Витьку Королькова…* * *
Когда я проснулся, было уже утро. Во дворе накрапывал мелкий дождик. Часовой, прячась от непогоды, неподвижно стоял, прислонившись к старой сосне. Внезапно он встрепенулся, суетливо поправил френч и взял карабин наизготовку. Я отпрянул от щели. Загремело железо, ворота открылись, и в конюшню вошли двое - гитлеровец в черном мундире с железным крестом на груди и еще кто-то. Круглое лицо гитлеровца с прямым тонким носом и вытянутым вперед подбородком сияло улыбкой. Можно было подумать, что он всю свою жизнь только и мечтал о встрече с нами. А когда из-за спины немецкого офицера вынырнул человек в сером, я удивился еще больше. Передо мной стоял самый настоящий командир Красной Армии. Но странное дело - на армейской фуражке у него была прикреплена кокарда, а на плечах сверкали золотые погоны, на которых серебристыми блестками мерцали маленькие пятиконечные звездочки. - Заждались? - вкрадчиво спросили нас вошедшие. - Нисколечко, - за всех ответил Валька. - Так вот, - начал человек в сером. - Заботясь о будущем России, - а вы ее будущее, - германская армия добровольно, без каких-либо условий берет вас под свою защиту. Мы создадим вам новую жизнь. Она и определит в дальнейшем вашу судьбу. Для начала мы отправимся на экскурсию по новой Великой Германии. - Он стрельнул глазами в сторону гитлеровца и слегка поклонился: - Обер-лейтенант господин Шварц будет сопровождать вас на всем пути увлекательного путешествия. - О, да! - кивнул Шварц. - Лично я и Алексей Николаевич Федотов сделаем все, чтоб вы забыли свое прошлое и по-настоящему оценили нашу заботу о вас. - Дяденька, а вы кто будете? - поинтересовался Валя у человека в форме командира. - Я - ваш воспитатель. - Как в приюте? Воспитатель - надзиратель, да? - Э, нет! - Федотов легонько погладил Вальку по щеке. - Воспитатель, брат, это друг детей. Когда маленький человек, вот такой, как ты, еще не умеет управлять собой, мы, воспитатели, обязаны помочь ему найти правильную дорогу в интересах новой Германии и России. Перед тем как отправиться в путь, вам необходимо пройти карантин. Это не значит, что вы будете сидеть взаперти. У вас будет все: хорошая пища, игры и спортивные соревнования. - Форма-то у вас какая чудная, - громко сказал Ваня Селиверстов. - Советская. Там сейчас нет командиров. Все офицеры, как при белой армии. Вот я и надел новую форму большевиков. Решил показать ее вам. Между прочим, двадцать пять лет назад большевики рубили всех, кто носил такую форму. Теперь сами носят. Продались американским и английским колонизаторам за свиную тушонку. «Врешь, гад!» - чуть было не сорвалось у меня с языка, но тут же я опомнился и до боли сжал зубы. - Дяденька, а вы за кого? - спросил Толя и покосился на гитлеровского офицера. - Я уже говорил, - спокойно ответил Федотов. - За новую Германию, за вас и за Русь святую. Толя больше всего ненавидел закон божий, потому он спросил: - За Русь святую - значит, быть заодно с попом? - Нет, - усмехнулся воспитатель. - Поп вам не нужен. Вам потребуется другое воспитание. - Дорогу чинить будем, да? - спросил Витя Корольков. - Дорога нас пока подождет, - загадочно произнес Федотов. Снова заскрипели ворота. - Вот и завтрак принесли! Да еще какой! Яблочное повидло, кофе с молоком, бутерброды с маслом. Ну мы не будем мешать, заправляйтесь и без задержки - в баню, - сказал Федотов и вслед за Шварцем направился к выходу. Мы с жадностью набросились на еду. Я, правда, успел подумать: почему вдруг фашисты вспомнили о нас, о мальчишках? Разве они раньше не замечали, как с голодухи умирали пацаны? Баня оказалась вросшей в землю халупкой: голые, прокопченные стены, парилка в два аршина, печь, сложенная из камней, да еще предбанник из тонких жердей… Я стащил с себя одежду и пошлепал в парилку. Плеснув ковш воды на горку раскаленных камней, сел на деревянную скамейку и задумался: «Смогу ли я выбраться отсюда до того, как отправят в Германию?…» - Эй, Димка! Поддай-ка еще парку! - крикнул с верхней полки Ваня Селиверстов. - Может, в последний разок моемся. - Не каркай, ворона, - одернул его Володя. Я долго и старательно полоскался в горячей воде, а когда вернулся в предбанник, солдат-каптенармус подал мне изрядно поношенную солдатскую амуницию. Я запальчиво спросил: - А где мои тряпки? - Сгорели, - ответил со смешком солдат. - Одевай что дают! Делать было нечего. Я отошел в уголок и напялил на себя заплатанные галифе и мундир мышиного цвета. Он был настолько велик, что, казалось, вот-вот соскользнет с моих плеч. Потом вышел на улицу. По двору бродили не мальчишки, а живые огородные чучела. Так изменила всех гитлеровская солдатская форма. Когда построились, Федотов весело произнес: - Форма в самый раз. Хоть сейчас на парад - гвардейцы, да и только. «Вот трепло», - с удивлением подумал я. - Молодцы! - продолжал восхищаться воспитатель. - Коль вы гвардейцы, теперь необходимо вам настоящее походное жилье. Что, если мы будем жить в палатках, как Александр… - Федотов выжидательно посмотрел на нас. - Невский! - выкрикнул из строя Толя Парфенов. Воспитатель поморщился. - Дурачок! Вы будете жить как воины великого завоевателя - полководца Александра Македонского! Вскоре на лужайке, огороженной густой порослью акаций, вырос палаточный городок. Фрицы наверняка задабривали нас. - Дудки! Нас не купят. Вот подвернется подходящий случай, и улизнем! - хорохорились приютские ребята. - Дима, - сказал мне Ваня Селиверстов, - а что, если в самом деле мы попали в немецкую разведку? - Нам дела нет до ихней разведки, а бежать надо, - ответил я. - Попробуй, - предостерег меня Ваня. - А что, и попробую. Мне терять нечего. - Дурак, ну, уйдешь ты от фрицев, в лесу или под землей спрячешься. А немцы тем временем всю твою родню к ногтю… Как утопающий хватается за соломинку, так и я решил - будь что будет! - воспользоваться единственной возможностью, повидаться с мамой: если немцы такие добрые, то неужели не отпустят меня домой хотя бы на часок? Улучив удобный момент, я подошел к Федотову и, с трудом сдерживая волнение, изложил свою просьбу. - Я мигом, туда и обратно!… Федотов пытливо посмотрел на меня и вкрадчиво произнес: - Соскучился? Или нужда какая? - С мамкой не успел попрощаться, когда забирали… - Дима, скажи, только без утайки… Если бы я вот сейчас отпустил тебя на все четыре стороны, куда бы ты пошел? - Ясное дело куда - домой! - Ну, что мне делать с тобой? Отпустить? Так уж и быть, шлепай. Даю увольнительную на три часа. Кстати, у тебя будет попутчик. Василь! К нам подошел солдат-каптенармус. Воспитатель показал на меня. - Проводишь в Богородицкое. После обеда мы отправились в путь. По дороге солдат как бы невзначай бросил: - Завтра начнется двухнедельный санитарный карантин. Считай, что тебе повезло… Заметив издали тесовую крышу родного дома, я ускорил шаг. Увидел в дверях бледное лицо матери. На какой-то миг замер, потом рванулся вперед. Мама, вскрикнув, бросилась мне навстречу. Ее сухонькие, хрупкие плечи сильно дрожали, когда она приникла ко мне. Я с ненавистью посмотрел на солдата: - Чего уставился? Отвали. Мы вошли в комнату. Василь меня не послушал, подошел к окну и уселся на подоконник. - Оставьте нас, - резко сказала мама и так посмотрела на каптенармуса, что тому ничего не оставалось, как слезть с подоконника и выйти во двор. В комнате все было по-прежнему. Над моей кроватью мирно тикали ходики. В углу, у русской печи, стояли ведра с водой, а внизу, под лавкой, лежала корзина, в которую мы собирали весной щавель. За ситцевой шторкой, напротив окон, выходящих на улицу, стояла Сашкина кровать. За перегородкой, на этажерке и стеллаже, хранились остатки книг. Все осталось по-прежнему, будто я и не выходил из дому. Вот только у мамы прибавилось седых волос и морщинок на лице. С улицы прибежала Светлана. - Вернулся! - радостно затараторила она. - Насовсем? Я подошел к кровати, на которой лежал мой брат, и тихо позвал его. Он открыл глаза, посмотрел на меня помутневшим взглядом, хотел разжать губы, но не смог. Так он ослабел от хронической болезни желудка и вечного недоедания. Когда-то теперь поправится! Дрожащими руками мама открыла дверку кухонного стола и достала несколько сваренных в мундире картофелин. - Не надо, мама. Я сыт. Она с недоумением и растерянностью посмотрела на меня. - Нас хорошо кормят, мама. - Вот как? Чего они от вас хотят? - Говорят, в Германию повезут, а там - не знаю. Они говорят, что мы - будущее России. - И тут я не сдержался, заплакал: - Что делать-то мне? Не хочу я никуда ехать… слышишь, мама! Она вздрогнула, но твердо сказала: - Не уберегла я тебя, сынок. Не сумела вырвать из фашистских рук, - и, бросив взгляд на окно, за которым, переминаясь с ноги на ногу, стоял Василь, перешла на тихий шепот: - Потерпи еще несколько дней! Игнат Петрович обещал помочь вызволить тебя из беды. Как - не знаю. Но уверена - не подведет. Сделает все возможное. Тут мама начала объяснять, что дети легко поддаются психологической обработке, и фашисты это учитывают. Возможно, они задумали воспитать часть советских ребят в своем, фашистском духе, оболванить, лишить чувства человеческого достоинства, чувства Родины и затем использовать здесь, в России, в качестве своих верных слуг, хранителей «нового» порядка. К окну подошел Василь и показал на стрелки часов. Я прижался к матери. - Сынок! Береги себя. И не забывай, что ты - советский человек! Она повернула свое лицо в сторону ситцевой занавески, за которой стояла кровать брата, и поспешно добавила: - Поправится Саша, и мы тотчас уйдем - укроемся от немцев где-нибудь. И ты уходи от них при первой возможности в город - на Запольную, можно в Раздорово. Там они вряд ли будут тебя искать. Или постарайся переправить домой весточку. Может случиться, наши придут, ты вернешься и не застанешь меня. Так вот, под яблоней, которую мы посадили перед самой войной, я оставлю записку. Прочтешь ее и узнаешь, куда я с Сашей и Светланкой ушла. Прощай, сынок!Глава четвертая
В МТС меня ждала новая встреча. Еще издали я заметил среди мальчишек Женю Хатистова, с которым мы в пионерском лагере «Мощинки» охраняли питьевой колодец от немецких диверсантов. Женя не сразу признал меня. Он долго смотрел исподлобья и только потом радостно шагнул навстречу: - Димка! - Тише, - вполголоса сказал я и оттащил его в сторону. - Как ты сюда попал? - Из-за велосипеда, - вздохнул Женя. - Три дня назад стащил у одного фрица велосипед. Ну, меня поймали, выдрали и посадили в тюрьму. Там меня чуть не сожрали крысы. Под вечер, когда начало уже темнеть, в камеру к Женьке явился Шварц и спросил: «Мальчик, ты хочешь хорошо жить?» Женя подумал о крысах и сказал: «Хочу». - «Тогда пойдем со мной», - ответил Шварц и привел Женьку сюда. - А ты Шварцу взамен ничего не обещал? - Ничего. А что? - Да так. Я-то и сам еще толком не разобрался, что к чему. Но ты, на всякий случай, смотри в оба. Не зря же они одели нас, кормят. На следующий день, после завтрака, опять пришел Федотов: - Вот вам мяч. Будем играть в лапту. А это учебные гранаты. У нас от изумления расширились глаза. Впервые за многие месяцы войны мы видели настоящие снаряды для спортивных игр. Валька схватил гранату и закричал: - Ура-а-а-а! Я тоже взял гранату и сунул ее за пазуху. - Отряд! В две шеренги становись! Смирно! На месте шагом марш! И Федотов звонко запел:* * *
Мы учились жить двойной жизнью. На глазах у фашистов весело играли, пели песни. А когда оставались одни, с волнением передавали друг другу новости, которые узнавали за день. - Дом-то каменный за забором - это ведь штаб ихний!… - Зря, что ли, Шварц оттуда не вылазит. - Вот бы настоящие гранаты нам дали! - Жди, дадут! - А может, после когда-нибудь… Рано утром, 14 июля, проснувшись, я выглянул на улицу и заметил у палаток две машины. Должно быть, здорово я спал, что не слыхал, как они вкатились во двор. В глубине площадки промелькнула черная тень. Шварц? Такая рань, а он уже здесь! Потом я увидел солдат из охраны, воспитателя и прикрыл полог палатки. Послышался пронзительный крик: - Подъем! Мы выскочили из палаток. Последовала команда: - В две шеренги становись! Равняйсь! Смирно! - Итак, - торжественно произнес Шварц. - Настал долгожданный день. Через несколько минут вы покинете свой городок. Великая Германия ждет вас! Полусонные лица ребят выражали отчаяние и растерянность. Петя Фролов подбежал к обочине дороги и, присев на корточки, нагреб руками земли, набил ею карманы своих необъятных галифе. - По машинам, марш! Взревели моторы, и грузовики один за другим устремились к шоссе. Тени от кузовов, покачиваясь из стороны в сторону, бежали по серому асфальту… Остановились у вокзала. - Выходи! Быстро, быстро! - Федотов подталкивал нас. Мы попали в купе рядом с тамбуром. В нос ударил спертый воздух из отхожего места. Я протиснулся к окну. По перрону носильщики тащили тюки, чемоданы, ящики. Вслед за ними бежали фрицы и кричали: «Быстрей, быстрей!» Раздался паровозный гудок, состав вздрогнул и плавно тронулся с места. В соседнем купе заиграла губная гармошка. Гитлеровцы пели:* * *
Спустя двое суток поезд уже мчался по чужой земле. Немцы заметно оживились. За окном мелькали красные черепичные крыши домов, островерхие кирхи, сады и вдоль всего пути - аккуратные ряды подстриженных деревьев. Из репродукторов звучали армейские марши. Безногий ефрейтор из соседнего купе с радостной улыбкой смотрел на привокзальную площадь. Он ежеминутно восклицал по-немецки: - Кассель! Я - дома! Какое счастье! Я живой! Внезапно послышался тревожный звук сирены. Сухо затявкали зенитки. На станцию пикировали самолеты. Под вой сирен и протяжный стон падающих бомб мы высыпали из вагона и побежали к арке, на которой большими буквами было написано: «Бомбоубежище». Через подземный тоннель попали во вместительный зал ожидания. Но и тут было слышно, как шевелится земля. От взрывов, казалось, вот-вот обрушится потолок на наши головы. Стены содрогались от гула, грохота, стонов и душераздирающих криков обезумевших людей. Многие, всхлипывая, бормотали молитвы и крестились, прося помощи у бога. Шварц приказал солдатам потеснить толпу и освободить для нас несколько квадратных метров площади. Люди автоматически подчинились приказу. Мы, сбившись в кучу на крошечном пятачке, с возбуждением заговорили по-русски: - Во, бомбят! - А как ты думал? Все дома на камни перемолотят. - Русские! Смотрите! Здесь русские! Они убьют нас! - суматошно закричал по-немецки толстенький старичок лет шестидесяти со свастикой на рукаве. Глазами безумца он смотрел в нашу сторону и, захлебываясь в собственных словах, продолжал что-то выкрикивать. Потом размахался руками и сбил с моей макушки пилотку. Шварц, как коршун, налетел на него и размашисто ударил по щеке. Трудно было поверить, чтоб немца бил немец. И из-за кого! От удивления на какой-то миг я даже закрыл глаза. Впервые приходилось видеть такое. Шварц в самом деле хлестал по лицу старика со свастикой на рукаве, приговаривая: - Германия превыше всего, болван… Через час мы вышли из бомбоубежища. - Ничего себе экскурсия, - протянул Женя Хатистов. Витя Корольков показал рукой на горящий жилой дом, вокруг которого метались люди: - Смотрите, фрицы в пламя лезут! - Ну и пусть. Наших небось тоже немало сгорело, когда бомбили Смоленск, - сказал я. - Верно, теперь пусть и фрицы прочувствуют, как нам лихо было. Во всех концах города багровели отблески пожаров. Мы долго шли по каким-то закоулкам мимо разрушенных бомбами, дымящихся зданий. И всю дорогу мне казалось, что воспитатель с некоторой растерянностью смотрит на руины: американцы и англичане одновременно размолотили Кассель. Федотов привел нас в какой-то двор, в глубине которого стояли два уцелевших от бомбежки одноэтажных здания, выкрашенных в защитный цвет. Мы остановились возле одного из них. Федотов сказал: - Вот и приехали. Я с любопытством уставился на запыленное окно деревянной казармы, увидев в нем мальчишеское лицо. На меня смотрели недобрые глаза, холодные и колючие, как льдинки. - Там кто-то живет? - воскликнул я. - Это гитлерюгенд, - улыбнулся Федотов. - А кто они такие? - спросил Володя Пучков. - Дети Великой Германии. Ну, входите по одному! В большой, заставленной кроватями комнате пахло йодом и хлорной известью. Сверкали белизной простыни и подушки. - Посмотрите, что у каждого из вас лежит под подушкой. - Открытка! - ахнул Женя. - А на ней танк, совсем как настоящий! Федотов погладил Женю по рыжей макушке: - Это тебе подарок от мальчиков из «Гитлерюгенда». - Я их видел, они только что были здесь, - сказал я. - Почему же они спрятались? - Нас испугались! - засмеялись ребята. Воспитатель строго посмотрел на них: - Придет время, и они пригласят вас к себе. - Больно нужно! - проворчал Володька. - А я вот сейчас пойду и всыплю им, чтоб знали наших. - И Толя Парфенов швырнул открытку на подоконник. Федотов схватил Толю за ухо и потянул в угол. В комнату вошел Шварц. Поправив на новом мундире железный крест, обер-лейтенант произнес речь: - Только сейчас ребята из «Гитлерюгенда» подарили вам открытки с изображением непобедимого немецкого танка «Тигр». Для вас это событие должно быть особенно приятным еще и потому, что наши ребята готовы умереть за Великую Германию, хотя им, как и вам, не более четырнадцати лет. Теперь, когда вы вступили на священную землю Германии, мы постараемся сделать все, чтобы вы с благодарностью вспоминали наше гостеприимство. Завтра мы покажем вам грандиозное спортивное зрелище на стадионе в честь замечательных побед немецкого оружия над большевиками в России. Итак, до завтра! Когда на другой день я проснулся, в комнате было уже светло. В коридоре слышался веселый смех. Из репродуктора, прибитого к косяку оконца, раздавались звуки незнакомой маршевой песни. Во дворе затрубил горн. Иван посмотрел в окно. - Вот они, гитлерюгенд, смотрите! Рубашки, штаны и ботинки - все коричневое. А на поясах кинжалы. Настоящие, наверное. Кто-то из этого коричневого строя показал нам кулак. - Иди, иди сюда! - расхрабрился Ваня. - Я из тебя враз котлету сделаю. Мы кривлялись у окна, строили рожи, показывали языки до тех пор, пока за нашими спинами не раздался грозный окрик: - Кто разрешил вставать без сигнала? Федотов быстро подошел к окну и, опустив светомаскировку, велел нам одеваться. В комнате появился Шварц: - Не проспали? Молодцы! Ровно через час мы должны быть на стадионе. …Еще издали я заметил ревущие колонны солдат, а над ними разноцветные флаги со свастикой. Солдаты и флаги плыли по дороге к огромной зеленой чаше. Мы шли за ними вслед. На холме Федотов остановил наш строй. - Располагайтесь вот здесь, под деревьями. - И отошел, пообещав скоро вернуться. С холма нам хорошо было видно, как под неистовый гром барабанов, прижав к груди автоматы и сотрясая землю топотом кованых сапог, маршировали эсэсовцы, а следом за ними шли мальчишки из «Гитлерюгенда». Блестели на солнце штандарты, победно ревели медные трубы. И вдруг все стихло. В центре зеленого поля на трибуну забрался какой-то человек. Он стал что-то выкрикивать. И тысячи гитлеровских глоток повторяли за ним каждое слово. - Смотрите! Фрицы клятву дают! - прошептал Женя. - Наверное, клянутся быть верными своему Гитлеру. Ваня Селиверстов вполголоса сказал: - Давайте и мы дадим клятву! Свою, пионерскую! Чтоб никто из нас не помогал фашистам, а при случае бился бы с ними насмерть. Сказал он это так, будто мы находились не в самом центре Германии, а где-нибудь в пионерском лагере, у себя дома. Петя Фролов достал из-за пазухи маленький мешочек, который сшил из носового платка в поезде, и высыпал на ладонь землю: - Смоленская! К Пете потянулись руки мальчишек. Каждый просил отсыпать земли. Но Петя сказал: - Она наша, общая. Давайте поклянемся держаться друг друга до последнего, и если доведется вернуться домой, то чтобы всем вместе! Ваня накрыл своей рукой горсть земли и зашептал: - Провалиться мне на этом месте, если я буду помогать фрицам. Пусть только дадут мне автомат или гранату, уж я покажу им, гадам!… Буду биться с ними насмерть. Мы, до крайности возбужденные, шепотом повторяли за Ваней слова клятвы, может быть, и неумело составленной, но идущей от самого сердца. Петя каждому насыпал на ладонь по крошечной щепотке земли, и мы, как бы скрепляя нашу клятву, проглатывали эту землю. Сами того не замечая, мы вдруг переступили Невидимую черту, позади которой осталось украденное фашистами детство. Каждый теперь понимал: надо делать так, чтобы и здесь, в глубоком тылу врага, помогать своим. Витя Корольков восторженно сказал: - Теперь мы - настоящие бойцы. Как на фронте. Мы кружком расселись вокруг дерева и продолжали наблюдать за ревущей толпой на стадионе. Крики то утихали, то угрожающе надвигались на нас, порою переходя в дикий вопль. Вместе со всеми кричали Шварц и Федотов, сидевшие на скамейках неподалеку от нас. Вскоре трибуна на стадионе куда-то исчезла. На зеленом поле с кольцами и лентами в руках появились девочки в черных юбках, белых кофточках и черных галстуках на груди. Потом высыпали сотни солдат, и на поле распласталась живая свастика, а над ней на огромных шестах-рогульках поднялся в небо портрет Гитлера, написанный на холсте. На ветру у фюрера, казалось, шевелились и топорщились черные усики, а сам он, выпучив глаза, сердито уставился на нас. Вот-вот крикнет: «О чем это вы шептались? Ну, отвечайте!» - Зиг хайль! Зиг хайль! - остервенело вопили фрицы. Крики на стадионе не утихали, то переходили в суматошный, дикий вой. Ветер трепал и раскачивал портрет. Гитлер морщил лоб и упрямо смотрел в нашу сторону. - Повис, гад, как змей, и таращит глазища, - произнес кто-то из ребят со злостью. - Пусть висит. Скоро на самом деле повесят. И тем, кто больше всех дерет глотку, не поздоровится, - вполголоса сказал Ваня. Заиграли медные трубы. Свастика зашевелилась, распадаясь на мелкие кусочки. Портрет медленно опустился на землю. Эсэсовцы тут же подхватили его и потащили под арку. Шварц и Федотов поднялись и направились в нашу сторону. Въедливые глаза обер-лейтенанта улыбались. - Понравилось? - спросил он. - Очень! - дружно ответили мы.Глава пятая
У стадиона нас посадили в автобус, и часа два мы ехали по бетонированному шоссе. К нему с обеих сторон подступали мрачные, покрытые хвойным лесом холмы, которые загораживали небо и солнце. Когда холмы убегали назад, открывались поля с волнующейся рожью и стоящие в зелени садов аккуратные беленькие домики с красными островерхими крышами. Вот впереди показалось какое-то селение - с десяток домиков, расставленных словно детские кубики, по обе стороны шоссе. У одного из домиков - он был больше других, и над его крыльцом красовалась яркая вывеска - автобус остановился. Мы вышли, построились, и Федотов сказал, что селение называется Вальдек, а дом этот - трактир. В большой комнате на длинных столах стояли миски с жидким гороховым супом, и возле каждой миски лежало по две картофелины вместо хлеба. Вылезли мы из-за столов, словно и не обедали, такие же голодные. Был самый полдень. Солнце парило нещадно. Всех нас разморило в пути, но Федотов, не дав нам ни минуты передохнуть, подал команду: «Строиться! Шагом марш!» Мы шли, еле передвигая ноги, по усыпанной гравием проселочной дороге. Впереди синели покрытые лесом холмы. Справа волновалось поле ржи, за полем стеной стоял лес. По серой ленте шоссе непрерывным потоком в ту и другую сторону неслись автомашины. Навстречу нам шла женщина. Шварц, поравнявшись с ней, лихо выбросил руку вперед: «Хайль Гитлер!» Женщина посмотрела на него недоуменными глазами и, не проронив ни слова, прошла мимо. Шварц сделал вид, что ничего не случилось. Но мы-то видели, каким недружелюбным взглядом окинула с ног до головы обер-лейтенанта эта женщина. Шварц вытер платком потный затылок и принялся громко восторгаться красотой немецкой природы. Он рассказывал нам о таинственном средневековом замке на крутом берегу озера Вальдек и о своем маленьком домике, что стоит на опушке векового леса, неподалеку от замка. - У меня в этом доме настоящий музей, вы увидите чучела всех птиц и зверей, населяющих землю Гессен. О! Это очень интересно, и я уверен, вам понравится мой тихий лесной уголок. Послушать Шварца - так мы и взаправду попали в добрый и прекрасный мир. Показывая на опрятные домики немецких крестьян, Шварц сравнивал с ними вросшие в землю, крытые соломой русские избушки, с веселой издевкой говорил о непролазных русских дорогах и, наконец, указав на бетонную ленту шоссе, гордо воскликнул: - Это есть цивилизованная европейская страна! И как раз в это самое время, порядочно уже пройдя по дороге и поднявшись почти на самую вершину холма, я увидел впереди уходящие вдаль столбы и похожие на скворечники вышки. Между столбами была натянута колючая проволока, а на вышках стояли солдаты, топорщились дула пулеметов. За проволокой бродили люди в полосатой одежде и плоских матерчатых шапочках. Я чуть не вскрикнул от неожиданности. Точно такие же вышки-скворечни и опутанные колючей проволокой столбы я видел в Смоленске, у Молоховских ворот. Мы медленно приближались к концлагерю. Люди в полосатых жилетах, стоявшие по ту сторону колючей стены, что-то кричали нам. На огромных металлических воротах было написано по-немецки: «Каждому свое», а чуть пониже: «Вход в лагерь и разговор через проволоку воспрещен под угрозой расстрела». Мне стало не по себе. Ребята тоже притихли, втянули головы в плечи. Федотов заметил перемену в нашем настроении. - Эй, что носы повесили? - крикнул он весело. И, кивнув в сторону концлагеря, пояснил: - Это вас не касается. Ну-ка, запевай! И сам первый затянул:Глава шестая
У входа в подвал за кирпичной стеной притаились Ваня и Толя, а за металлической бочкой - Валя Белов. Женя вынул из кармана изогнутый гвоздь и сунул его в замочную скважину. Дверь со скрипом отворилась. Женя махнул нам и первым переступил порог. В полумраке я с трудом различал уходящие в темноту бетонные ступени. Держа над головой карманный фонарик, который немцы выдали на весь отряд, Женя шел впереди. Бледный луч света прыгал то по бетонному полу, то по стенам. Вот на мгновение он вырвал из темноты кучу тряпья. - Откуда это здесь? - спросил Толя, разворошив кучу ногой: то были старые мундиры и брюки, совсем как те, что носили теперь мы. Женя растерянно улыбнулся: - Идемте, я еще кое-что покажу. Наши тени заметались по серым каменным стенам и по бетонному полу. Иван нагнулся, что-то поднял; - Смотрите! Гильзы! Женя направил луч света на стену, которая вся была усеяна круглыми дырками. Я потрогал одну дырку пальцем. - Это следы от пуль, - сказал Женя. - Немцы кого-то тут расстреливали. Ваня толкнул рукой Женю в плечо. - Наверняка тех, кто в открытую пошел против фрицев. - Дураку понятно, - согласился Женя. Мы все затаили дыхание. Хотелось поскорее выбраться из сырого темного подвала. Но Женя не торопился. Он провел нас к бетонной нише и показал какие-то прорезиненные мешки. - В них, наверное, яд. В самом деле, там что-то было написано по-немецки, но никто из нас ничего не мог прочесть. - Ну да, яд, - засомневался Толя Парфенов, - к чему? - А к тому. Вот дадут тебе мешочек, отправят через линию фронта и скажут: «Подсыпай в колодцы!» - Брось зря болтать, Димка! Думаешь, фрицы дураки? Нет, к своим они нас не отправят. - Как сказать. Могут и отправить. А там?… Разве наши знают, кто ты в самом деле. - Что верно, то верно, - кивнул Женя. - Помнишь, в лагере ловили шпиона? А если б мы его поймали? Я бы первый его пристукнул. И тут я вдруг вспомнил разговор с Уваровым. Только сейчас до моего сознания дошел настоящий смысл сказанных им слов: «Какой-нибудь негодяй придет на твое место. И кто знает, как тогда обернется дело…» Так вот что означают эти слова. Едва сдерживая себя, я возбужденно произнес: - Если удастся продержаться до конца, мы обязательно сорвем замысел Шварца. Вот увидите, наши нам поверят. - Пацаны! - взволнованно прошептал Иван. - Надо предупредить всех, чтоб крепче держались друг за дружку, и пусть помнят - свои не предадут. Женя в последний раз фонариком осветил стены подвала: - Теперь тикайте по одному во двор! Мы выскользнули из двери и побежали к крыльцу, чтоб продолжить игру в прятки. Но были слишком взволнованы увиденным, и играть не хотелось. Немного покрутившись у террасы, мы, не сговариваясь, направились к навесу в дальнем углу двора. Там можно было разговаривать, не опасаясь, что кто-нибудь услышит. Но в это время Федотов крикнул нам: - Далеко не уходите. Обер-лейтенант хочет поговорить с вами, ну и заодно послушать наш маленький концерт. Баян заиграл «Раскинулось море широко». На террасе появились Шварц, Краузе и Таболин. Федотов закрыл глаза, запрокинул кверху голову и подал команду. Мы дружно подхватили песню. Воспитатель делал рукой то плавные, размашистые движения, то вдруг резко опускал ее, потом на миг открывал глаза и, уставившись на нас, шевелил губами. Шварц и Краузе пели вместе с нами как могли. У унтера на лице сияла восторженная улыбка. А когда мы спели песню про жареного цыпленка, сам Шварц похвалил нас: «Хорошо! Очень хорошо». И, скрестив руки, вдохновенно произнес: - Видит бог, что наша воля, желание и разум подчинены единственной цели - создать для вас такие жизненные условия, о которых раньше вы могли лишь мечтать. Мы будем играть в военно-спортивные игры и полученные навыки применим впоследствии практически. - А у нас, до войны, в детском доме… - начал было Валя. Иван толкнул его локтем в бок: - Помалкивай. - Находясь в любой обстановке, вы должны найти возможность вовремя укрыться от опасности, - продолжал обер-лейтенант, - незаметно приблизиться к вражескому объекту или скрытно преодолеть участок местности, находящейся под контролем противника. Все это не просто. Только продолжительные тренировки помогут сделать из вас выносливых солдат. Я напряженно вслушивался в эти слова, и мне казалось, что Шварц не говорит, а бьет чем-то тяжелым по голове. - Вы должны иметь нюх борзой собаки, зоркие и внимательные глаза степного орла и еще - быть быстрыми и коварными, как тигры. Вы должны привыкнуть к голоду и холоду. Да, да! С сегодняшнего дня отменяются купания с мылом, уменьшаются хлебный паек и другие продукты питания. Взамен вы получите немного картофеля и кружку пива к обеду. Обер-лейтенант круто повернулся, и на его место встал Федотов. Он загадочно посмотрел на нас: - С завтрашнего дня начнется самое интересное. А ну, кто из вас умеет определять страны света по солнцу, по Полярной звезде или по деревьям в лесу? Кто определит на глаз расстояние, скажем, вон до той сосны? А кто сумеет определить расстояние по звукам? Мы молчали. - Ничего, пройдет какой-нибудь месяц, и вы всему научитесь. Тогда любой, как колобок, сможет легко выбраться из самого дремучего леса и найти дорогу, по которой должен идти. Первые занятия Федотов проводил в присутствии обер-лейтенанта, недалеко от лесной дачи. На поляне, куда нас привели, тут и там были разбросаны огромные камни-валуны, покрытые желто-зеленым мхом. Из притоптанной травы выглядывали пни только что срубленных деревьев. А вокруг, разметав лохматые ветви, плотной стеной стояли сосны и ели. Упершись носком офицерского сапога в пень, Федотов опустил руку в нагрудный карман. Блеснула стальная цепочка, и круглый плоский предмет, похожий на карманные часы, повис в воздухе. - Что это такое? - спросил Федотов. Послышался неуверенный возглас: - Часы карманные! Кто-то возразил: - У часов стрелки не такие. Я оглянулся. Спорили приютские. - Это компас, - сказал Федотов. - Стрелка-то как бегает! - изумился Женя. - Знаешь почему? - спросил воспитатель. - Нет, - потупился Женя. - Да потому, что она магнитная, дурень! Когда стрелка успокоится, то синий ее конец покажет точно на север, а красный - на юг. Федотов достал из своих необъятных карманов еще четыре компаса, и мы, разделившись на группы, приступили к определению сторон света. - Ух сколько на нем черточек! - восклицал Валя. - Это деления. Всего их сто двадцать - по три градуса каждое, - пояснил воспитатель. Мы так увлеклись, что не заметили, как время подошло к обеду. После обеда снова пришли на поляну. Поиграли немного в чехарду. Потом Федотов собрал нас и сказал: - Вот этот пень, самый обыкновенный, расскажет нам кое-что о себе. Видите кольца? Если их посчитать, то можно точно определить возраст дерева. Теперь посмотрите: с одной стороны расстояние между кольцами уже, чем с другой. Почему? Да потому, что одна сторона дерева получает меньше тепла и света, чем другая. Скажи, Дима, какая сторона получает больше тепла и света? - Южная, - ответил я. - Правильно. А какая будет северная? Как ты думаешь, Хатистов? - А чего думать? Ясно, где кольца уже. - И в глазах у Жени сверкнули задорные огоньки. - Ничего, соображаешь! - похвалил Федотов. - Ну, а теперь посчитай кольца. Женя заторопился и сбился со счета. - Эх ты, недотепа! - добродушно проворчал Федотов. - Алексей Николаевич! Разве я виноват, что пень такой попался. - На пень не сваливай: смотри, как надо считать. Когда Федотов бывал в хорошем настроении, с языка у него так и сыпалось: «недотепа», «размазня», «болван», «дурень». Мы не обижались. У нашего воспитателя талант ругаться без раздражения, как бы по-приятельски. Вот когда он с улыбочкой ласково цедил сквозь зубы: «Что, милый дружок, напакостил?» - и смотрел на тебя неподвижными, словно застывшими глазами, тут уж мы знали: Федотов еще не раз припомнит промашку. Как-то во время занятий по ориентированию на местности Федотов спросил: - Репухов, расскажи-ка нам, чему я учил вас на прошлом занятии! - Забыл, - беззаботно ответил я. - Что? - рассердился воспитатель. Его указательный палец повис в воздухе. - За невнимательность ты лишаешься ужина. Мы учились определять на глаз расстояние до каких-либо предметов, зданий или сооружений. В ясный солнечный день двухэтажный дом, оказывается, можно было увидеть на расстоянии до семнадцати километров. Окна или печные трубы в домах - за четыре километра. Одиноких всадников и людей - за полтора километра, а ноги лошади или человека - за семьсот метров. В самом начале практических занятий Витя Корольков никак не мог по стволу дерева или камню, обросшему мхом, определить нужное направление. Вместо того чтобы следовать на север, он напропалую лез в другую сторону. «Дурень, ну куда тебя несет!» - то и дело восклицал Федотов. А когда ему становилось невмоготу, он звал на помощь Таболина: «Объясни этому болвану все сначала!» Шли дни за днями. По компасу, пенькам, мху, росшему на камнях-валунах, и ветвям деревьев мы без ошибок учились определять страны света. Особенно интересно было ходить с компасом по азимуту. У пня, дерева или камня Федотов прятал кусочек хлеба, потом указывал расстояние до него и чему равен азимут в градусах, а там уж мы знали, что дальше надо делать. Занятия заканчивались перед заходом солнца. После ужина, усевшись под навесом, мы чинили изорванную одежду. Здесь можно было говорить обо всем. Если к нам подходили, мы тотчас прекращали секретные разговоры. Главной их темой было воспоминание о доме. Вернемся ли мы в родные края? Если вернемся, то когда? Сколько времени будут держать нас фрицы в этой дыре? Все чаще проскальзывала щемящая душу тревога за завтрашний день - осознанная ответственность за свои поступки. Может, не стоит притворяться и жить, выдавая себя не за того, кто ты есть в самом деле? Но тогда на твое место придет другой. И фрицы в конце концов сделают свое черное дело. Нет. Надо держаться до конца. Только вот как? Того и смотри, с голодухи околеешь. На трехстах граммах суррогатного хлеба, без ничего, долго не протянешь. Еще хорошо, что в озере, у разбитого моста, под камнями, водится рыба. Лови себе на здоровье и, если поймаешь, грызи ее живую. Федотов не раз хотел послушать, о чем это мы так оживленно говорим, но, когда он подходил к навесу, мы враз умолкали и с еще большим усердием ремонтировали изорванную одежду. - Чем занимаетесь? - обычно спрашивал он. - Ремонтируемся, - бодро докладывали мы. - А ну покажи? Да, ботиночки ваши и взаправду того… Рассматривая изорванный в клочья китель, который я чинил, Федотов вдруг спросил: - Интересно, почему вы не докладываете мне о своих нуждах? - И так сойдет. Мы не сахарные, - бойко ответил я. Воспитатель ласково потрепал меня по щеке: - Молодец! Надеюсь, в скором времени из тебя получится настоящий солдат. И Таболин частенько завязывал с нами разговор. Больше всего расспрашивал, где мы жили до войны, чем занимались до того, как немцы притащили нас в МТС, и нравится ли нам то, что делаем мы сейчас. Он молча выслушивал придуманные нами небылицы и, мне казалось, ждал от нас каких-то других ответов. В свою очередь, мы пытались узнать, как он попал к Шварцу, но Таболин тут же поднимался, поднимал на ноги нас. Однажды он появился под навесом. - Чего притихли? Продолжайте беседу. - Иван Семенович, вы помните, как Шварц еще до начала игр говорил о риске? Вы в Красной Армии служили, потом опять же плен, да и здесь… знаете небось, что такое риск. - Видишь ли, Ваня - начал Таболин. - Есть такое понятие, как азарт. Обер-лейтенант имел в виду, что во время учений, а потом на «деле» у вас появится азарт, жажда риска. Вот ты, например, если тебя умело подтолкнуть, запросто пойдешь на риск и, поверь мне, даже не подумаешь о собственной жизни. Но при условии, если, скажем, тебе навязать посредством лжи и обмана раздражение, ненависть или злобу на кого-нибудь, - Таболин засмеялся: - Здорово, а? - Шли же люди на смерть в гражданскую, - сказал Толя Парфенов. - То другое дело, - возразил Иван Семенович. - Вот ты торжественное обещание давал, когда вступал в пионеры? Давал. И те люди присягу на верность давали. Верные присяге, они сознательно жертвовали собой. Кто из вас до войны проходил в школе русскую историю? Очень странным показался нам этот вопрос, и потому никто из ребят не ответил на него. Тогда инструктор предложил: - Хотите, я расскажу вам что-нибудь из истории? Мы недоверчиво посматривали на него и держали себя настороже. А он рассказывал нам про Степана Разина, Ивана Болотникова, Емельяна Пугачева. Потом мы уже сами просили «что-нибудь» рассказать. Он усаживал нас кружком и начинал: - …У каждого человека есть родина. Это не только деревня, где он родился, или город. Это вся его страна. Вот где твоя родина? - он в упор смотрел на Ваню Селиверстова. - Советский… - начинал Ваня и тут же поправлялся: - Россия, что ли? - Правильно, Россия. Сейчас я вам расскажу про человека, который отдал жизнь за свою родину. Это было давным-давно, еще при царе Михаиле Алексеевиче, и человека этого звали Иваном Сусаниным… - Дима, как ты думаешь, правильно ли поступил Сусанин, отдав свою жизнь за свободу России? И еще, умер ли он в самом деле? «Хочет поймать меня на слове! А если в самом деле ведет с нами разговор на равных, по-настоящему? Как его понять?…» - Не знаю, у него не спрашивал, - ответил я. - Так, - о чем-то думая, протянул Таболин. - Я знаю! Ежели его шашкой рубанули, ясное дело, умер. А за что рубанули, ему было видней, - выпалил Женя. Таболин отрицательно покачал головой: - Такие люди, как Иван Сусанин, не умирают. После минутного молчания Толя осторожно сказал: - Иван Семенович, я слыхал, что поляки убили его за то, что он их обманул. Это правда? - Да, - сказал Таболин. И посмотрел на часы: - Пора домой. Однажды во время учений по ведению разведки с наблюдательных пунктов я заметил, как примерно в километре от меня из-за скалы вынырнул маленький, словно игрушечный, паровозик. Он тащил за собой такие же игрушечные вагонетки. Пыхтя и отдуваясь, медленно катился к подножию горы. Потом вдруг куда-то исчез. Один за другим исчезли и вагоны… Вот так штука! Я посмотрел на схему, сверился с компасом. Квадрат-12! Мне было известно, что в этом квадрате, за скалистым холмом, примерно в четырех километрах от местечка Вальдек и в двух от «охотничьего» домика Шварца, расположен концлагерь. Значит, игрушечный поезд шел по концлагерю! Что же он вез? И что там, за горой? Я ползком взобрался на холм, за которым то появлялся, то исчезал железнодорожный состав из вагонеток, и увидел огромное пространство, огороженное колючей проволокой. И там, за проволокой, люди в полосатой одежде носили камень. Замкнутой бесконечной цепью шли они к узкоколейке и, сбросив камни, возвращались в карьер. С вышек-амбразур на них смотрели дула пулеметов, а вдоль дороги стояли подгонялы-надсмотрщики. Кто они, эти люди? Может, наши, русские? Тут я увидел, что по склону холма поднимаются трое наших ребят, и бросился им навстречу. - Ты куда пропал? - спросил меня Женя Хатистов. - Небось заключенных ходил смотреть? Я не успел ответить, как из-за кустов вышел Таболин. - Как вы здесь оказались? - строго спросил он. - Гнались за косулей, - неуверенно произнес Женя. Поочередно посматривая то на Женю, то на меня, то на Ваню, Иван Семенович сказал: - Ну, а теперь выкладывайте все начистоту. - Нам выкладывать нечего, - пробормотал Женя. - Мы правда гнались за косулей. - Ну что ж, за косулей так за косулей, - помолчав немного, произнес Таболин и тут же отдал команду: - Марш на пункты наблюдения! Проставляя на карте точки движения по азимуту, я запоздало подумал: «Почему Таболин оказался у ограды немецкого концлагеря? Следил за нами или случайно напал на наш след?» - Таболин так и не узнал, что мы ходили к концлагерю, - высказал предположение Хатистов. - А что, если он просто не хотел выдавать нас? - возразил я. - Верно! Ведь ему самому перепало бы за то, что был в неположенном месте.Глава седьмая
Унтер-офицер Краузе не вмешивался в нашу жизнь, а как бы со стороны, из окна своей комнаты на втором этаже, наблюдал за нами. Но однажды вечером он подошел к Вите Королькову и сказал: - Мне надо поговорить с тобой, мой мальчик. Пойдем ко мне наверх. Витя, пугливо озираясь, побрел следом за унтер-офицером, а мы, оставшиеся внизу, проводили его тревожными взглядами. Мы стояли безмолвно до тех пор, пока не перестали скрипеть ступени старой винтовой лестницы, что вела в кабинет Краузе. - Что он сделал? - шепотом спросил я у Жени. - Витька-то? - растерянно переспросил тот и развел руками: - Не знаю… Мы с беспокойством ждали возвращения Вити. А вдруг он проговорится, сболтнет лишнее? Затаив дыхание, я смотрел в окно, прислушиваясь, как часовой тяжелым, размеренным шагом шлифует вдоль стены цементную дорожку. Витя вернулся от унтера через час с небольшим. Женя и Ваня первыми подбежали к нему, затормошили: - Ну, чего он тебя? Витя начал было рассказывать, но, увидев меня, так и ощетинился: - Мотай отсюда! - Да ты чего? - удивился я. - Мотай, говорю! А то как дам!… Я его не узнавал. Ваня тоже спросил: - Чего это ты на Димку? - Сам знает, - сказал он и зло сплюнул в мою сторону. Тут вошел Федотов и велел всем спать. Но я слышал, как о чем-то долго еще шептались Витя и Ваня. А утром Ваня, когда я подошел к нему, молча отвернулся. В этот же день, после занятий, Краузе позвал меня к себе. По скрипучей лестнице я поднялся на второй этаж, постучал в дверь. - А, Дима! - Краузе впустил меня в свой кабинет. - Садись. А я вот приемник включил и как раз поймал русскую радиостанцию. Тебе знакома эта музыка? Печальная русская песня щемящей болью переполнила мою душу, унесла в родные края. До моего сознания доходили обрывки фраз… Бабьей доле поклонись… этой доле, горькой доле… Я видел бледное мамино лицо, и мне казалось, что это вовсе и не песня, а вымученный, тоскливый плач. У меня кружилась голова, горький ком подступал к горлу. Унтер печально говорил: - Твое детство было грустным, как эта песня. Но теперь все изменилось. Будущее твое светло и прекрасно. Краузе крутанул ручку настройки, и кабинет заполнили звуки армейского марша. - Вот твое будущее. Чтобы подчинить себе мир, ты должен быть жестоким. Жить только для себя. Но ты должен быть дисциплинированным, как солдат. Будущему разведчику германской армии нужно учиться переносить всевозможные лишения - и голод, и холод, а если потребуется, и физические страдания. Я насторожился. Вначале фашисты болтали об экскурсии. Потом Шварц намекнул на какую-то «маленькую услугу». А теперь, выходит, мы уже разведчики? Набравшись храбрости, я спросил: - Кроме топографии, мы будем изучать и другие предметы? - Нет. Для того чтобы перейти линию фронта или участок местности, находящийся под наблюдением врага, достаточно и того, что вы проходите сейчас. - А нас будут учить стрелять? - Вам оружие не потребуется. Краузе, пристально глядя на меня, вкрадчиво объяснил, что нам, ребятам, всегда следует советоваться со старшими и меньше всего доверять сверстникам. - Ну, кто твой самый большой друг? Наверное, Женя Хатистов? Я кивнул. Краузе криво усмехнулся: - А ты знаешь, что он выдал тебя с головой? Вчера ты говорил ребятам, что мы собираемся уморить вас голодом, и, как видишь, мне об этом уже известно… Я похолодел. Неужели Женька и вправду донес на меня? - Не бойся. Мы не собираемся тебя наказывать. Я даже могу понять твое недовольство, ведь голодать никому не хочется. Только в другой раз приходи со своими жалобами прямо ко мне. Я все равно все знаю… В этот день я с Женей Хатистовым не разговаривал. Я его видеть не мог. Мне хотелось сказать ему, что он предатель. А ночью в Женькин карман кто-то положил записку. - Пацаны! Смотрите, что я нашел! - Женя по складам прочел несколько строк, написанных кривым детским почерком: «Помни! Родная земля ждет тебя. Береги ее в своем пионерском сердце». Кто бы мог это сделать? Мы с любопытством смотрели друг на друга. - Таболин - вот кто, - уверенно сказал Толя Парфенов. - Может, Герман? - начал сомневаться Иван. - Ты что, спятил? Он же настоящий фашист. - В том весь и секрет, - озираясь по сторонам, вполголоса сказал Иван. - Они нарочно подложили ее, чтоб нас проверить. - Верно! Женя тотчас разорвал записку. Вечером унтер вызвал его на допрос. Вернувшись в комнату, Женя плотнее закрыл за собой дверь и зло процедил сквозь зубы: - Где Валька? - Только что был здесь. Не видел его в коридоре? - отозвался Толя. - Если бы видел, не спрашивал! - и, обведя ребят растерянным взглядом, Женя задиристо произнес: - Валька-то… предатель! Приютские угрожающе надвинулись на него. - Что ты сказал? Повтори! - Предатель ваш Валька! Забыл, как клятву давал и землю смоленскую жрал. И не подавился, зараза! - Ты полегче, а то знаешь!… У Жени дрожали губы: - Я-то знаю! Бесшумно открылась дверь. Появился Валька. - Вот он! - заорал Женя. - А ну, шлепай во двор, гад! У навеса Женя с силой рванул Вальку за ворот френча. В следующий миг мальчишки клубком завертелись по земле. - Сам ты меня продал, шкура! - визжал Валька, отчаянно колотя Женю кулаками. - А Димка тоже немцам продался! - услышал я за спиной голос Вани, и в тот же миг сильный удар по голове свалил меня с ног. Я попытался подняться, но на меня набросилось сразу несколько пацанов. Не знаю, чем бы все кончилось, если бы вдруг над нами не раздался голос Таболина: - Нечего сказать, молодцы! А ну-ка, всем встать! Смирно! Я еле держался на ногах, все плыло у меня перед глазами. У Вальки из носу шла кровь, и он, откидывая голову назад, хватал ртом воздух. Женя Хатистов прикрывал ладонью разбитую губу. - Эх вы, герои! Из-за чего подрались-то? Мы молчали. - Тоже мне, друзья-товарищи. В следующий раз подумайте как следует: может, в вашем споре замешан еще кто-то. Увижу еще раз такое безобразие - в карцер посажу. Таболин ушел по тропинке в сторону особняка, а Ваня воскликнул: - Женька, Димка, Валька! Ну-ка, признавайтесь, кто что сболтнул унтеру. - Я ничего не болтал! - ответил я. - И я не болтал! - сказал Валька. - И я не болтал! - сказал Женя. Тогда я перешел в наступление: - Это Женька нашептал унтеру, будто я на голодуху жаловался. Мне унтер говорил. - Я ему нашептал?! - вытаращил глаза Женя. - Да чтоб мне домой не вернуться, если я ему хоть слово про тебя сказал! Это вон Валька на меня шептал. - Женя сжал кулаки и угрожающе придвинулся к Вальке: - Может, ты и про автомат не рассказывал, который я весной у солдата спер? - Да чтоб мне!… - забожился Валька. - Я и не знаю ни про какой автомат. - Я же рассказывал. - Рассказывал, - подтвердил Ваня. - Вчера, когда мы с занятий вернулись. - Так я вчера Герману на кухне помогал! - запротестовал Валька. - Я и на занятия не ходил. Мы переглянулись: вот те раз! Если никто ничего не говорил унтеру, откуда же ему известно про автомат и про мои слова насчет голодухи? - А может, нас подслушивают? - шепотом высказал предположение Ваня. - А зачем унтер наговаривает нам друг на друга? - спросил я, чувствуя, как от Ваниной догадки у меня по спине побежали мурашки. - Не понимаешь? - Нет. - Так вот слушай. Они хотят, чтоб мы горло друг другу перегрызли. - Для чего? - снова спросил я. - Вот, бестолковый. Чтоб мы остерегались друг друга. А нам надо держаться вместе. Понял теперь? - Понял. Ваня был самым старшим среди нас, и его мнение чаще всего принималось всеми безоговорочно. А теперь авторитет Вани еще больше возрос в наших глазах. - Кто первый начнет драться, тот, значит, с унтером заодно… Ваня что-то зашептал сидевшему рядом Вальке. Тот кивнул и так же шепотом передал мне: - Если что - говори: мол, в сад за яблоками сговаривались слазить… Идея слазить ночью за яблоками вынашивалась нами давно. Помещичий сад находился километрах в двух от «охотничьего» домика и часто по дороге на топографические занятия мы поглядывали на зреющие плоды. Пунцовыми яблоками усыпаны были и деревья, растущие вдоль шоссе. Эти деревья казались нам ничьими, захотел яблоко - сорви! Но, когда однажды Витя Корольков поднял с земли червивую падалицу, Федотов схватил его за шиворот, с силой тряхнул и с расстановкой негромко стал внушать: - Это тебе, братец мой, не Россия! Положи-ка на место, поближе к дереву, - и, наградив Витю затрещиной, Федотов толкнул его в строй.Глава восьмая
Серый туман плотной стеной окутал и лес, и дорогу, и озеро. Небо, казалось, слилось с землей. Цепочкой мы шли по обрывистому склону холма. «Значит так, - мысленно повторял я. - Главное при движении - правильно измерить азимуты на карте и определить расстояния по ней, а затем на местности уточнить направления и правильно вести счет шагов…» Под ногами угрожающе шуршала каменистая осыпь. Все чаще и чаще скатывались вниз увесистые булыжники. Ребята сталкивали их ради забавы и смотрели, как, подпрыгивая и увлекая за собой попадающиеся на пути более мелкие камни, булыжники летели на дно оврага. Таболин остановил строй: - Здесь идти опасно, поэтому - никакого баловства! - Кто хочет жить - не сорвется, - возразил Федотов. Он первым, прыгая с камня на камень, продвигался вперед, а Таболин замыкал группу. Все произошло мгновенно. Позади меня раздался крик. Я оглянулся, но в тумане ничего не мог разобрать, И тут по цепочке передали: - Таболин разбился! Когда я подбежал к месту происшествия, то увидел растерянных ребят. На корточках, в обнимку с березкой, сидел Толя Парфенов. Это он закричал, когда, оступившись, потерял равновесие. Таболин успел подхватить Толю и отбросить к березке, а сам оступился и кувырком покатился вниз по крутому склону. Мальчишки поодиночке выползали из тумана и, сгрудившись, настороженно смотрели вниз. Широко расставляя ноги, к нам подошел Федотов, распорядился: - Парфенов, Репухов, Селиверстов, Хатистов - со мной спуститесь на дно оврага. Остальным следовать в безопасное место, к северному склону холма! Таболин лежал, раскинув руки. Лицо его было в крови. Мы уложили Ивана Семеновича на березовую волокушу. Его полузакрытые глаза неподвижно смотрели в мутное небо. Казалось, будто он спит. Федотов достал из кармана бинт и наложил на кровоточащую рану у виска Таболина тугую повязку. К вечеру небо нахмурилось. Пошел дождь. Федотов во время вечерней проверки объявил: - Завтра продолжим игру в «разведчика-невидимку». - В слякоть-то? - вздохнул Валя. - Не сахарный, не растаешь, - произнес Ваня, когда воспитатель ушел из нашей комнаты. - Чтоб обмануть фрицев, играть надо в любую погоду. Главное, до конца продержаться, а там каждый знает, что делать. - Надоела мне вся эта жизнь. Понимаешь, надоела! Пусть к стенке ставят, никуда я не пойду. - Ты соображаешь, чем все это может кончиться? - повышая голос, сказал Ваня. - Завтра же на твое место пришлют другого. И тогда весь наш план провалится. Тут с шумом распахнулась дверь. - Встать! Селиверстов - три шага вперед! Смирно! За мной,ша-а-гом ма-а-рш! Я впервые видел у Краузе такие глаза - не глаза, а студеные камни. Петя Фролов кинулся к окну, зашептал: - Краузе что-то разнюхал. И тогда я вспомнил, как вчера каптенармус во время вечерней проверки дольше обычного задержался у стены без окон и с каким-то особым вниманием посмотрел на медвежью морду. Я забрался на скамейку, заглянул в полураскрытую медвежью пасть и, увидав едва заметную светящуюся щель, отпрянул в сторону. Женя тоже забрался на скамейку: - Что, не спишь, косолапый? Покажи-ка свою зубастую морду. У Жени на лбу выступили капельки пота: - За нами следят. Мог ли кто из нас подумать, что зубастая медвежья морда прикрывала щель в стене, через которую фрицы вели за нами слежку? После отбоя, когда мы все готовились ко сну, вдруг явился Федотов и увел с собой Валю. У порога Валька обернулся и помахал нам рукой. Когда он скрылся за дверью, Володя Пучков процедил сквозь зубы: - Доболтались!… Ежели крутанут на всю катушку, тогда держись. - Без тебя тошно, - сказал Петя. Через час Валя вернулся. Он был бледен, а глаза, мокрые от слез, по-прежнему улыбались. - Ну, что там? - спросил у него Женя. - Нормально. - А это что у тебя? - я заметил на Валиной шее красную полоску. - Герман хлыстом стеганул. Валька задрал рубаху и показал нам спину: красный след проходил наискось от шеи до ягодицы. Мы пересели в дальний от двери угол. - Допрос вел унтер, - полушепотом начал Валя. - Он поставил меня на колени. Молись, говорит, проси прощения. Ну, думаю, все. И захныкал понарошке, чтобы пыль им пустить в глаза. Не тут-то было. Герман как рванет меня, а потом уцепился за горло. У меня потемнело в глазах. Когда я пришел в себя, Шварц спрашивает: «Скажи, о чем с тобой беседовал Селиверстов?» Я говорю: «В сад за яблоками договаривались идти». Шварц тогда постучал по столу: «Ну зачем ты врешь? Мы знаем все, но мы хотим, чтобы ты сам во всем признался, начистоту». А Федотов, как змей, шипит: «Даю слово благородного человека: мы тебя в обиду не дадим». Ухватил меня за грудь и потянул к себе: «Ну!» - «Я уже сказал, в сад мы собирались». Тут Шварц подал мне листок бумаги: «Читай!» «Наш уговор… не бойся… к стенке не поставят». Тут я догадался - фашисты подслушивать-то нас подслушивали, да слыхали не все. «Так ведь это мы, наверное, о драках. Сколько раз уговаривались не драться, а все равно кто-нибудь да задерется. Ваня им говорит: не хватало, чтоб мы тут дрались. Ну, а пацаны не слушают…» - Ребята! - сказал Володя Пучков. - Как хотите, а надо спасать Ванюху. - Как мы его спасем? - Надо сегодня ночью забраться в сад к помещику, нарвать яблок. Тогда фрицы поверят, что мы, и правда, об этом договаривались. - А кто пойдет? - спросил Женя. - Хочешь - ты, еще Володька, Павлик, Димка и я? - Петя посмотрел на нас. - Идет? - И я пойду, - сказал Валя. - Сиди уж… - замахали мы на него руками. На ночь ворота запирались, и возле них расхаживал часовой. Перелезть через трехметровую ограду тоже было нам не под силу. Но мы и не собирались перелезать. Мы знали одно заросшее бурьяном местечко, где под ограду неизвестно кем и для какого случая был сделан лаз. Темное, сырое небо все ниже и ниже опускалось к земле. Среди ночи я услышал едва уловимый шепот: - Буди ребят. Кто-то из мальчишек метнулся к окну. В следующий миг я вскочил на ноги. - Часового не видать, - сказал Женя. Я прыгнул через окно во двор и побежал к потайному лазу…Утром на тарантасе приехал разъяренный помещик. Казалось, он вот-вот лопнет от злости. Унтер-офицер построил нас во дворе. - Кто из вас ночью ходил в сад? Я спрашиваю, кто посмел нарушить установленный порядок и дисциплину? Сквозь стекла очков блеснули ледяные глаза. Позеленевшее от ярой злости лицо покрылось багровыми пятнами. - Зачинщики хулиганского проступка три шага вперед, марш! Володя Пучков, переминаясь с ноги на ногу, нерешительно вышел из строя. - Еще я ходил в сад, - низко опуская голову, признался Павлик Романович. Сильный удар опрокинул Павку на землю. Упершись руками в песок, Павлик медленно поднял голову, потом стремительно, словно пружина, вскочил на ноги и замер в стойке «смирно». Обер-лейтенант назидательно сказал: - За то, что вы натворили, следует очень строгое наказание: пять лет каторжных работ. - Его рука повисла в воздухе, сжатый кулак с хрустом уперся в железный крест на груди. - Но мы есть подлинные ваши друзья. Сохранить вашу безопасность можно, однако, только путем более легкого наказания, и вы должны быть благодарны нам за это. Указательный палец Шварца, как шпага, повернулся в сторону Романовича и Пучкова: - Вы сейчас же отправитесь в карцер. Федотов добавил: - Нашкодили, мерзавцы, и не подозреваете, что господин обер-лейтенант из дружеских соображений взял на себя всю ответственность за ваш хулиганский проступок. В тот день Шварц и Краузе куда-то внезапно уехали. Федотов нам сказал: - Владелец сада жалобу на вас накатал, вот господа и уехали в Берлин. Тут Женя вспомнил о приемнике, который стоял в кабинете унтера. Запасной ключ от комнаты, мы знали, лежал у Германа в коробке с инструментом, на пожарном ящике. Женя глазами показал на дверь. Я медленно вышел на террасу. Женя протянул мне руку и шепнул на ухо: - Иди послушай, что творится на фронте. В кабинет унтера мне сегодня идти не хотелось. Но отказаться нельзя было. Это ведь я вытянул жребий! Несколько дней назад Женя Хатистов высказал такую мысль: унтер-офицер, этот переодетый гитлеровский офицер-разведчик, почище самого Шварца, частенько отлучается днем из «охотничьего» домика, а в комнате у него приемник… Если действовать осторожно, без шума, наверняка можно пробраться в кабинет. Вот бы послушать наших. Валя сказал: - Я пойду! Я знаю, где надо крутить. - Не сдрейфишь? - спросил Ваня. Валька даже обиделся: - Иди ты! Сдрейфишь… - Дело-то рискованное. По совести надо, - возразил Женя. - Как это - по совести? - переспросил его Валя. - По жребию - вот как. Выгорит - будем знать, что и как там… Сорвешься - бери все на себя. Бросили жребий. Моя рука, слегка дрогнув, зажала конец шероховатой палки, по спине пробежал колючий холодок. Витя облегченно вздохнул. Женя украдкой посмотрел на меня: - Ежели что, откажись. Но я, конечно, не отказался. И вот теперь с зажатым в руке ключом осторожно прокрался вверх по лестнице. Скрип рассохшихся ступенек заставлял неистово колотиться мое сердце, и, когда я оказался на площадке второго этажа и ступени перестали скрипеть, мне почудилось, что вокруг наступила мертвая тишина. Вскоре я услышал доносившийся снизу дробный перестук: та-та-та, та-та-та… Да ведь это Женька выбивал на крыльце чечетку, «прикрывая» меня! Почти машинально я вставил ключ в замочную скважину. Дверь бесшумно отворилась. Вот он, приемник, на деревянной подставке у окна! Рядом стол, покрытый зеленым тонким сукном, и кресло у стены. Знакомая обстановка. Несколько секунд я оцепенело смотрел на молчаливый приемник и вдруг вспомнил: дверь-то осталась открытой! И снова метнулся к порогу. Прислушался. Внизу, у воспитателя в комнате, тихонечко пел баян. Закрыв за собой дверь, я облегченно вздохнул и на цыпочках подошел к приемнику. Включил его и, зажав ручку настройки, перевел шкалу в ту точку, откуда при «беседах» у Краузе слышал русскую печальную песню. Затаив дыхание, я уставился на зеленый огонек. Беспокойно подумал: почему он молчит? Но вот издалека послышалась русская речь. Передавали про зверства фашистов на орловской земле. Потом в приемнике затрещало, запикало, и я не мог разобрать начала новой передачи. Когда же трескучие звуки пропали, я снова услышал твердый и сильный голос диктора: - «…наши войска на Брянском направлении продолжали наступление и, продвинувшись на отдельных участках от шести до десяти километров, заняли свыше сорока населенных пунктов. На Харьковском направлении наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки противника, продолжали наступление и, продвинувшись на отдельных участках от семи до десяти километров, заняли свыше пятидесяти населенных пунктов…» Я выключил приемник, потом перевел шкалу настройки на прежнюю волну и, не помня себя от восторга, бросился к двери. У порога опомнился. Остановился. На лестничной клетке было тихо. Я осторожно спустился вниз. Тут же радостная весть облетела всех мальчишек. В их глазах вспыхнул счастливый огонек. - Наши-то бьют фрицев! Да еще как! - по цепочке передал мне Толя Парфенов, не подозревая, что фронтовую сводку ровно полчаса назад, как эстафету, я передал Хатистову… Несколько дней на домах немецких обывателей дрожали, извиваясь на ветру, меченные фашистской свастикой флаги с черной каймой. Мы сразу догадались: здесь и Курская дуга, и Орел, и Брянск, и Харьков. Нас же беда миновала только через два дня. Унтер-офицер самолично освободил из карцера Володю, Павлика и Ивана. Это была маленькая, но наша победа. Иван, когда пришел в себя, поведал: - Поначалу меня избили и уже потом в нательном белье бросили в каменный мешок. Там до того тесно, что я не мог ни встать во весь рост, ни сидеть - ног нельзя вытянуть, ни тем более лечь. Как я там столько пробыл, не знаю. - Самое интересное - меня ни разу не вызывали на допрос, - с улыбкой рассказывал Ваня. - Когда все уходили, Герман даже кофе с бутербродами приносил. Говорил, что тайком. Иногда беседовал со мной. Все спрашивал, что я стану делать, если окажусь на Советской земле. Вступай, говорит, сразу в комсомол. - «Ни в жизнь, - говорю, - не вступлю. Сбегу, мол, обратно сюда. Мне, говорю, пока в карцер не посадили, совсем неплохо жилось. Век бы гостил у господина Шварца». - Смотри, как твой Герман меня разукрасил, - Валька задрал рубаху и показал Ване спину. - Вот гад! - со злостью сплюнул Ваня. - На пушку, значит, хотел меня взять! Ребят из карцера раньше срока освободили еще и потому, что на завтра была назначена генеральная репетиция по преодолению «линии фронта». Вечером в особняк прибыло отделение немецких солдат, чтобы охранять этот участок. Нам объявили трехкилометровый маршрут по сложной местности. Мы должны были скрытно обойти посты охранения и выйти на исходный рубеж.* * *
В лесу было тихо. Я старался втиснуть свое тело в каменистую землю. Впереди, в полумраке, бродили какие-то тени. Вдруг над головой что-то застучало. От неожиданности я оцепенел, но тут же взял себя в руки. Да ведь это дятел, лесной доктор! Бестолковый, нашел время обедать. Примостился под самой кроной и стучит о ствол своим длинным носом-молоточком. Я пополз вниз по скату оврага. Внезапно передо мной вырос завал. Он был уложен вдоль ручейка извилистой грядой. Я осторожно раздвинул колючие ветки и почти рядом услышал сдавленный крик. Бросился в заросли и, прячась за стволы деревьев, ползком стал двигаться вперед, к обозначенной на карте поляне. Там и увидел мальчишек. Они стояли неподвижно и исподлобья наблюдали, как два солдата суетливо возились возле кого-то, лежащего на траве. Обер-лейтенант, нервно жестикулируя, что-то быстро говорил ребятам. Что там могло произойти? До слуха долетали отдельные отрывки фраз Шварца: - …Я не допущу… Бог мой… Я встал в полный рост и приблизился к месту происшествия. - …Это поразительный случай… - возбужденно говорил Шварц. - Он мог стоить жизни доблестному немецкому солдату, но я тем не менее восхищен находчивостью и решительностью моего юного друга и надеюсь, что там, за линией фронта, вы все будете действовать столь же храбро и решительно. Я спросил у Жени Хатистова, что произошло. Оказывается, Валя стукнул солдата из охраны дубовым дрыном по башке. - Видать, живучий - шевелится, - сказал Толя. Солдат, и правда, приподнял голову и поглядел вокруг затуманенным взглядом. Шварц поспешил заявить, что генеральная репетиция прошла успешно, и мы отправились в обратный путь, в лесной особняк. После ужина между Ваней и Валей произошла короткая перепалка. - Едва избавились от одной беды, - возбужденно шептал Селиверстов Белову, - так тебе мало, на вторую полез, как медведь на рожон. Ну зачем ты его стукнул? - Я не хотел, - виновато сказал Валя. - Не хотел, - передразнил его Иван. - Руки зачесались, да? - Я сперва думал: это пенек торчит из-под земли, а когда ближе подполз, гляжу - фашист. Тут я и сообразил, что он ведь может увидеть меня и вывести из игры. Ну и долбанул по макушке. - Зря ты, Иван, - вмешался в разговор Женя. - Ведь обер-лейтенант даже похвалил Вальку за находчивость. Значит, все правильно. Однако Ваня стоял на своем; - Еще не известно, чем все кончится. Думаешь, Шварц такой дурак и ничего не понимает? Как бы не так! За час до отбоя в нашу комнату заглянул Федотов. - Мы знаем, что вы соскучились по своим родным, и потому вот вам бумага, карандаши. Пишите кратко: «Дорогая мама, я жив, здоров. Все хорошо». - Помолчав немного, добавил: - Предупреждаю: не кисните над бумагой, чтоб никаких жалобных слов. Я взял карандаш и аккуратным почерком написал;«Дорогая мама! Я пока здоров. Все хорошо. Скоро вернусь домой, за меня не беспокойся. Передай Светланке, чтоб слушалась тебя крепко».Потом я еще подумал немного и в правом уголке нарисовал цветок полевой ромашки с оборванными с одного края лепестками. Зачем я это сделал? Уже потом сообразил, что если, конечно, письмо дойдет - моя ромашка только добавит матери седых волос, а мне все равно ничем не поможет. Назавтра нам объявили, что нас ждет большое событие: интересная прогулка на военном самолете. Она будет замечательна еще и тем, что каждый из нас совершит свой первый прыжок на автоматическом парашюте. - Подумаешь, радость, - сказал Валя и сплюнул на землю. - Век бы не видать такую радость. Шварц сделал вид, что не обратил на эти слова никакого внимания, наоборот, приветливо улыбнулся. На следующий день после завтрака во двор особняка пришла крытая черным брезентом автомашина. В ней мы и уехали на аэродром. Внешне никто из ребят не проявлял какого-либо беспокойства, и уж, конечно, никто не хныкал, хотя всем было не по себе. Федотов был доволен нашим настроением. Заботливо поправил за моей спиной парашют: - Ты, Дима, прыгай смелее, не бойся. Немецкие парашюты - самые надежные в мире. - Понятно, Алексей Николаевич, - бодро ответил я, - С опаской или без опаски, а прыгать все равно надо. Самолет с ревом оторвался от земли и взмыл в небо. Когда загорелась сигнальная лампочка, Федотов подал команду: - Встать! Построиться вдоль правого борта! - Он прошел вдоль шеренги и подтолкнул первого - Толю Парфенова - к открытой двери. Толя, взмахнув руками, исчез в голубой дыре. Затем прыгнул Женя. Вслед за Петей я нырнул в бездну и через несколько мгновений повис под куполом разноцветного парашюта. «Все хорошо», - подумал я и с удовольствием огляделся. Лес, озеро, речка… Домики крошечные, крошечные. А вон там, на зеленом поле, словно кто-то рассыпал бобы. Да это же стадо коров пасется! Выше и ниже меня висели белые купола парашютов, а под ними медленно раскачивались темные скорченные фигурки. Все ближе земля… И вдруг я услышал крик. Кто-то из мальчишек на полураскрытом парашюте стремительно пролетел мимо меня к земле, до которой было каких-нибудь пятьдесят метров. Я увидел, как зелено-белый комок ударился о землю, перевернулся и замер на желтой траве. Кто это?… Я не помнил, как приземлился, освободился от ремней парашюта и бросился, припадая на ушибленную ногу, к лежащей неподалеку фигурке. Через несколько минут вокруг собрались почти все ребята. Судорожно глотая воздух и нахмурив лбы, мы смотрели на мертвого Вальку. От гнетущей тоски подергивались веки и губы. Казалось, вот-вот кто-либо из нас разревется. Со стороны ангаров выкатилась машина «скорой помощи». Она остановилась в нескольких метрах от места происшествия. Из кабины вышли врач и обер-лейтенант, а из кузова санитары вынесли носилки. Врач мельком взглянул на Вальку и приказал класть в машину. Шварц стоял в сторонке с прижатой к груди фуражкой и печально смотрел на нас. Вскоре появился Федотов. - Невероятно! - вздохнул он и вытер вспотевший лоб рукавом. - Я не могу найти слов, чтобы выразить всю скорбь. Смерть несчастного мальчика… Нет! Я не могу. - Шварц низко склонил голову и, вытирая платочком глаза, медленно побрел к ангару. «Врешь, гад», - чуть было не сорвалось у меня с языка, но я тут же опомнился, сжал зубы. И только тут взглянул на свою ногу. На голени расплылось красное пятно. До утра я не мог уснуть. Мое тело пронизывала тупая, пульсирующая боль. Беспокойные мысли одолевали меня: денек-два как-нибудь перетерплю, а если не заживет нога? Убьют - как Вальку. Его сбросили с самолета на неисправном парашюте, меня пристрелят в подвале. Зачем я им хромой? На рассвете я кое-как уснул, но утром, попытавшись встать, тотчас вскрикнул от боли. Женя обеспокоенно спросил: - Что с тобой? Я сказал ему о своей беде, показал ушибленное место. Голень вся распухла и посинела. Но я, пересиливая боль, прихрамывая, пошел к крыльцу, где нам велел собраться Шварц. Когда все собрались, обер-лейтенант печальным голосом сказал: - Мы вместе с вами скорбим по поводу смерти нашего юного друга… А что в самом деле было у него на душе? Его взгляд ощупывал хилые наши фигурки. Шварц улыбнулся: - Я вижу, вы устали, и вам необходимо отдохнуть. Сегодня вы увидите образцовую жизнь немецкого крестьянина и на себе испытаете подлинное германское гостеприимство. Через два часа мы отправляемся на ферму в гости к добрым немецким труженикам.
Глава девятая
Ферма встретила нас поросячьим повизгиванием. Ваня ахнул от удивления, увидав двухметрового породистого хряка: - Вот это да! Хозяин фермы, высокий худой старик, разъяснил: - Таких у меня четыре пары. Один из них даже имеет золотую медаль. Настоящую. - Он буржуй, - шепнул мне Женя и, глядя на старика фермера, пнул хряка. Но тот и ухом не пошевелил. Я подошел еще ближе к изгороди и кинул кусочек палки под нос борову. Он резво схватил ее зубами и, уставив на меня свои белесые глаза, стал чавкать и за какую-нибудь минуту сожрал палку, похрустывая. Тогда Ваня быстро опустил руку в карман, оглянулся по сторонам и сунул круглый хлебный серенький шарик в рот хряку. Тот ухватил шарик зубами, пожевал немного и со слюной вывалил себе под ноги. Я хлопал глазами: палку сожрал, как конфетку, а то, чем угостил его Ваня, есть не стал. Фермер показал нам чистеньких овец, гладких, сытых коров и наконец повел в подвал, где каждому вручил по бутылке фруктовой воды. Шипучий кисло-сладкий напиток всем понравился. Ребята попросили добавки и выпили еще по бутылке. Тут Федотов посмотрел на часы: - Пора домой. Обратно шли через лес. Приметив небольшую зеленую лужайку, Федотов разрешил нам немного поиграть. Мы разбрелись среди сосен. Неожиданно кто-то воскликнул: - Белка! Белка сидела на ветке и лапками мыла рыжую мордочку. Ребята на миг сбились в кучу. - Какая красивая! - вздохнул Ваня. - Белочка, иди к нам. Мы тебя не обидим. Будешь жить у нас. Но белочка только посмотрела на нас глазками-бусинками, махнула хвостиком и прыгнула повыше. - Чего стоите? Ловите ее! - закричал воспитатель. - Хватайте за рыжий хвост! - и громко расхохотался. - Кто смелый, лезь на дерево! Прыгнув на соседнее дерево, белочка не рассчитала, упала на траву. Женя схватил ее и, прижимая к груди, ласково замурлыкал: - Не бойся, тебе будет у нас хорошо! Ребята сгрудились вокруг счастливца: - Покажи! Но Женя посадил зверька за пазуху, прикрыл от посторонних глаз. - Потом. Пусть успокоится. - Дай-ка, - протянул руку воспитатель. - Я поймал, белочка моя! - насупился Женя и отступил назад. - Что-о-о? - Федотов как бы шутя, с усмешечкой, взял у Жени белку. Перед нашими глазами мелькнуло пушистое тельце. Воспитатель ухватил белку за задние лапки и секунду выжидательно смотрел на мальчишек. В следующее мгновение он сделал резкое движение и разорвал зверька. Теперь это уже была не белочка, а два окровавленных трепещущих лоскута. У меня перехватило дыхание. И ребята широко раскрытыми глазами смотрели на Федотова. - Чего уставились? - хмуро сказал он. - Вот так будет с каждым из вас, если попадете в руки НКВД. За науку, между прочим, вы должны сказать мне спасибо. Да и кто, кроме меня, о вас позаботится?* * *
Спрятавшись в зарослях акации, мы решали, как нам теперь быть. - Ну и жизнь, - подавленно шептал Витя. - Тут смерть по пятам ходит, да и дома, если вернемся, не известно, что будет. - Чего раскис? - перебил его Ваня. - Думаешь, наши не поймут, не разберутся, что к чему? - Ты, Витька, небось забыл, как в Касселе клятву давал! - Ничего не забыл! - Тогда не хнычь. Неужели не понятно, что фрицы у нас слабину ищут? Запугивают они нас, вот что! - Тебе, может, все понятно, а мне не очень. Выходит, я сразу должен податься к своим и сказать: «Я, Павел Романович, такой-сякой, у немцев по компасу учился ходить, в разведчика-невидимку играл и, как бы между прочим, около сорока дней водил фрицев за нос и вдобавок кашу ихнюю ел!» Да никто же мне не поверит! Вы, пацаны, как хотите, а я поначалу сбегаю домой, к мамке, а уж потом пойду в НКВД. Витя Корольков сказал: - Я домой не пойду. В Красную Армию подамся. - А я первому, кого встречу на нашей земле, скажу, кто я такой, - решил я. Прошло еще два дня. Учебные тренировки в поле не проводились. Немцы словно бы махнули на нас рукой и даже разрешили большую часть времени, отведенного на военно-спортивные игры, проводить, как мы сами хотели. За это время у меня на ноге открылось небольшое отверстие - свищ. Я с трудом скрывал хромоту. Однажды вместе с ребятами отправился на озеро. Но чего мне стоила эта прогулка! Я собрал все силы, стиснул зубы и старался не хромать. Шел медленно-медленно. Невыносимая боль остановила меня на полпути. Я сел возле ручейка, журчащего в нескольких метрах от дороги, и опустил больную ногу в холодную воду. Женя, заметив, что я отстал, вернулся, участливо спросил: - Здорово болит? Я вытащил ногу из воды. - Теперь немного полегче. - Да у тебя кровь! - испуганно воскликнул он и растерянно посмотрел на меня. - Что делать-то будешь? - Не знаю. Иди к пацанам. - А ты? - Посижу немного, отдохну, потом притопаю. Женя побежал к озеру. И тут я вдруг увидел приближавшегося ко мне младшего инструктора Таболина. Он шел со стороны особняка. По-честному, я растерялся: никогда не думал, что снова встретимся. Сейчас он увидит мою ногу и тогда… тогда фрицы узнают про мою беду. С разбитой-то ногой разве я им нужен? Ясное дело: убьют и бросят в помойку. Натянув на ногу ботинок, я встал. Боль несколько притупилась. Сделав несколько шагов, я оказался лицом к лицу с Таболиным. Он протянул мне руку: - Ну, здравствуй! Я отпрянул в сторону, оступился и невольно вскрикнул. - Что у тебя с ногой? Он уже поднял мою штанину и внимательно, чуть нахмурившись, стал осматривать рану. - На летном поле, когда прыгали, расшиб, - признался я и дрожащим голосом стал уверять: - Это ничего, заживет. На мне быстро болячки заживают… - Подожди меня здесь, никуда не уходи, - сказал Таболин и исчез в кустарнике. Вскоре он вернулся, достал из кармана пузырек с какой-то жидкостью, смазал мне рану, перевязал и вдруг ни с того ни с сего спросил: - Ты - пионер? С языка у меня чуть не сорвалось: «Конечно!» Но я вовремя спохватился и замотал головой. - Так я тебе и поверил, - сказал Таболин. Он закурил и, время от времени поглядывая на меня, несколько раз прошелся вдоль ручейка. «Поймать хочет», - думал я, сидя на траве. Вспомнил, как в карцере к Ване Селиверстову подбивал клинья повар Герман. Советовал идти к своим… Таболин бросил окурок в воду и подсел ко мне: - Нас тут двое, ты и я, и этот разговор останется нашей тайной. Я обязан предупредить тебя, что немцы на днях забросят вас всех на территорию Советского Союза со специальным заданием. - А как это? - спросил я. - Не прикидывайся дурачком. Ты знаешь как. Таболин досадливо поморщился. Очевидно, он был в затруднении. Но, как ни в чем не бывало, продолжал: - Когда вы окажетесь у своих, немедленно свяжитесь с представителями местных властей - идите в райисполком, к председателю сельсовета, в милицию - словом, не теряйте ни минуты. - Ну да! - протянул я. - Чтобы нас схватили, как ту белку. Алексей Николаевич лучше вас знает… - Алексей Николаевич запугивает вас, - сердито произнес Таболин. - Он служит фашистам. А я - нет. Понял? Впрочем, все равно, веришь ты мне или нет, но ты должен знать, что галстук советского пионера имеет красный цвет - цвет пролитой крови. Льется она и сейчас. Я думаю, что многие ребята уже поняли, ради чего немцы вас кормят и так много говорят о вашем будущем, - Иван Семенович положил свою руку на мое плечо: - Конечно, все это я должен был сказать раньше, но сам подумай, разве я мог пойти на риск? Во всяком случае, я должен был хоть что-то знать о вас. Он посмотрел на мою ногу: - Я постараюсь помочь тебе. Ступай к ребятам. Он поднялся и пошел назад, к «охотничьему» домику. У развилки, где тропка раздваивалась, вдруг круто повернул в сторону озера. Я пристально смотрел ему вслед и думал о том, как бы получше рассказать обо всем мальчишкам. Сейчас, после разговора с Таболиным, у меня на душе стало спокойнее и легче. Я почувствовал уверенность в правильности наших действий. Я потихонечку побрел к озеру. В воде вместе с ребятами весело и шумно барахтался и Таболин. Иван Семенович что-то с увлечением рассказывал. Я подошел еще ближе и понял, что он вспоминает свое детство. - …Возле деревни, где я родился, протекает маленькая речушка. Однажды я присел на бережок. Слышу, кто-то кличет: «Ванюша! У тебя под носом щука плавает. Держи ее!» Я и бултыхнулся в воду. Потом вынырнул и поплыл. - Сразу вот так и поплыл? - удивился Толя. - Сам не знаю как, но в один раз научился плавать. - А я по-собачьи два года плавал, пока по-настоящему научился, - признался Женя. - Ты и сейчас плаваешь, как головастик, - с веселой ухмылкой произнес Иван. Женя показал ему язык: - А ты - как лягушка-раскоряка. Послышался веселый смех. Таболин увидел меня и сказал: - Ну, а теперь одевайтесь! Пора идти на ужин. На следующий день унтер-офицер Краузе назначил меня дневальным и приказал к двенадцати часам дня почистить сапоги. Когда я вышел с начищенными до блеска сапогами на террасу, ко мне подошел Таболин: - Не тяжело? - И негромкой скороговоркой сообщил: - Завтра отправляемся в Россию. Скоро увидишь свою маму. Ребят предупреди. Вечером опять у нас состоялся совет, и мы пришли к единодушному мнению, что Таболин по-честному хочет помочь нам. Все было за него. Во-первых, он, рискуя собственной жизнью, при переходе скалистого перевала, спас от верной смерти Толю Парфенова. А гитлеровец разве пошел бы на это? Ни в жизнь! И потом наша встреча с младшим инструктором у концлагеря…, Таболин часто говорил нам: «Рисковать жизнью надо сознательно, ребята». Шварц же учил все делать наоборот. Рано утром нас разбудил зычный федотовский басок: - Подъем. Эх вы, сони! Одевайтесь и живо в столовую. А после завтрака собирайтесь в дорогу. Едем в Россию. Мы покидали дачу обер-лейтенанта Шварца с радостью. Гремела песня:* * *
В большой квадратной комнате ярко горела электрическая лампочка. Она как бы просвечивала нас всех насквозь. Краузе подал команду: - Раздевайтесь! Он открыл дверь в смежную комнату. Там мы получили советскую одежду, деньги, спички и хлеб. Таболин помогал каждому из нас подобрать обувь по размеру. Он подошел и ко мне. Спросил: - Готов? - Всегда готов! - тихонечко, но твердо ответил я.Эпилог
Что же было дальше? Все двадцать девять мальчишек явились в советские органы и выложили из сумок взрывчатку. Все двадцать девять до конца выполнили свой пионерский долг. Фашистам не удалось нарушить движение поездов на прифронтовых железнодорожных линиях. По-разному сложились потом наши судьбы. После возвращения на родную землю около пяти месяцев я пролежал в больнице. Мне сделали две операции на ноге. Когда дело пошло на поправку, я поступил в Мытищенское ремесленное училище и получил специальность столяра четвертого разряда. Настал долгожданный День Победы, и я вернулся домой. До сентября изготовил для школы несколько парт и скамеек и уже потом пошел сам учиться в седьмой класс. Однажды поздней осенью из окна своего класса я увидел парнишку в солдатской форме. Его лицо мне показалось знакомым. Была перемена, и я выбежал на улицу, догнал солдата и не сразу поверил глазам: передо мной стоял Витя Корольков! Он протянул мне руку. - Ну, здравствуй, Дима. Мы обнялись. - Ты откуда? - спросил я у него. - Из госпиталя. До самого Берлина чуть было не дошел: на мину налетел. Только сейчас я обратил внимание на орден Славы, блестевший на груди у Вити, и медали «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией». - Здорово небось жигануло? - А вот, - с неохотой ответил Витя и похлопал себя по ноге. - Протез у меня. Ну, а ты как? Я сказал, что учусь и работаю и что недавно в комсомол вступил. И наконец спросил о самом главном: - Ты как тогда приземлился? - Обыкновенно приземлился. В ту же ночь пришел в воинскую часть. Сдал взрывчатку и рассказал все как было. Тут же попросил выдать мне винтовку. «Для чего она тебе?» - спросил полковник, который со мной разговаривал. - «Ясное дело, бить фашистов», - ответил я. Винтовку мне, конечно, не дали. Направили в хозвзвод чистить картошку. Тогда я решил сам пробраться ближе к фронту. Сбежал из части. Через несколько дней меня задержали, учинили допрос: кто? откуда? куда иду? Я сказал, что сбежал из детского дома. Поверили. Да и как было не поверить - тогда много бездомных пацанов бродило по прифронтовой полосе! Пристроился я к взводу связи учеником линейного надсмотрщика. Поначалу шесты носил, а потом научился на изоляторы накручивать медную проволоку. Приходилось иной раз тянуть провода по минным полям… Ты молодец, и учишься и работаешь, и в комсомоле состоишь, а я… - внезапно меняя тему разговора, сказал Витя. - Витька, так ты настоящий герой! Это я должен завидовать тебе. Помолчали. Потом Витя полушепотом спросил: - Ребята, которые были вместе с нами, вернулись домой? - А куда же еще? Петя работает в колхозе «Искра» Козинского сельсовета, Володя уехал в Москву к матери. Женя Хатистов живет в Смоленске. Ваня Селиверстов работает помощником комбайнера в совхозе Талашкино Смоленского района, а Толя живет с мамой под Москвой, в Загорске. Пишет, в техникум учиться поступил. Мы побрели вдоль парка к домику на краю оврага. Витя не узнавал знакомые места. Ему казалось, здесь только-только отгремели бои. - Села-то как не бывало, - с дрожью в голосе воскликнул он. - Свою деревню видел? - спросил я. - Нет еще. Иду вот домой. Отец писал: фашисты перед отступлением сожгли там все дотла. Живут в землянках. Витя перешагнул через порог нашей комнаты и, осмотревшись, тихонечко спросил: - Мария Васильевна где? - В школе. Нынче у мамы четвертый класс. Сам знаешь, за войну ребята многое забыли из того, что проходили. Вот она и задерживается после уроков. Я достал из печи котелок с вареной картошкой в мундирах, но Витя вдруг заторопился: - Ну, мне пора. Еще свидимся. И, припадая на одну ногу, зашагал к двери. Свидеться, однако, нам больше не пришлось: Витя Корольков умер в феврале 1946 года в Смоленском военном госпитале. С тех пор прошло более 25 лет. За это время я разыскал многих своих друзей - героев этой повести. И очень многое узнал о младшем инструкторе немецкой разведывательной школы Таболине. Я случайно встретил его фамилию, просматривая подшивку смоленской областной газеты «Рабочий путь». В декабрьском номере за 1969 год в воспоминаниях бывшего начальника особого отдела партизанского полка «Тринадцать» А. А. Милехина я прочел о Таболине. Теперь я вспоминаю о том, как Иван Семенович пытался установить с нами, мальчишками, контакт и как мы из-за осторожности перед очередной провокацией фашистов отказывали ему в доверии. Думаю, что он тем не менее очень многое сумел для нас сделать. От Марии Венедиктовны Голосовой, матери Ивана Семеновича Таболина, я получаю письма. Привожу одно из них здесь почти дословно.«Дмитрий Семенович! Получила я от вас письмо, которое вы прислали на мою родину, а мне его из сельского Совета переслали в город Запорожье, где я сейчас проживаю по улице Патриотической, дом 64, квартира 2. Я как прочла ваше письмо, так со мной случился обморок. Ведь о своем Ванюше я ничего не знала до 1969 года. Как сообщили мне из Смоленска, мой сынок погиб в ночь с 4-го на 5-е марта 1944 года в Могилевской области, в деревне Ланьково. Я ездила на могилу своего сокола. Могила недалеко от школы. На ней поставлен памятник. Люди встретили меня очень хорошо. Они водили меня на то место, где Ванюша сражался с врагом. Как, рассказали мне, он попал в засаду и бился до последней пули. Когда его нашли, то возле моего сыночка было разбросано около пятисот пустых гильз, а чуть поодаль - восемнадцать человек убитых фашистов. Вот так бился мой соколик, защищая свою Отчизну. Теперь я уже старая. Мне 70 лет. Я очень больная. У меня ревматизм руки сводит, но я кое-как себя обслуживаю. Есть у меня еще одна беда - ноги почти не ходят. Но я благодарю людей. Они меня не бросают. И до сих пор я все время думаю: а может, мой сокол где живой и еще вернется на родину. Я все ожидала от него весточку, надеялась… Вот я и рассуждаю, что не он один, а тысячи полегли за нашу родную Советскую власть. Конечно, мне было бы во много раз легче, если б я не знала о его смерти. Тогда я его ожидала бы до конца своих дней. Он был у меня очень смелый и быстрый. Никогда бы я не подумала, что враги его уничтожат. Еще раньше, когда он был в партизанском отряде, на своей родине, мой соколик один на пятьдесят фашистов шел. Ты, мой сынок, Дмитрий Семенович, напиши, может, он что передавал тебе словесно, что-нибудь для меня. И еще. Прошу я тебя убедительно, ежели будет отпуск или командировка какая в нашу местность, приезжай. Я тебя встречу как родная мать. И я на тебя посмотрю как на своего любимого сына Ваню. Ох, как мне тяжело вспоминать это имя. Стоит он у меня перед глазами такой, каким я видела его последний раз. Пиши. Буду читать ваши строки, как от своего родного сына…».
Ростовцев Эдуард Завещание профессора Яворского
На первый взгляд дело не стоило выеденного яйца - ординарное хулиганство, и жаловаться по начальству на нерасторопность Мандзюка было неразумно. Галина понимала, что у сотрудников уголовного розыска Шевченковского райотдела предостаточно забот без Анатолия Зимовца, которого задержали вечером 28 июня в нетрезвом состоянии и с которым вряд ли стоило тотчас разбираться - весь следующий день он приходил в себя, задав немало хлопот врачу следственного изолятора. Судя по всему, у парня было алкогольное отравление, что объясняет (но, разумеется, не оправдывает) совершенное им деяние: напился до умопомрачения и не ведал, что творил. Но это было лишь предположение, поскольку Анатолия еще не допрашивали - дескать, не до него сейчас, - а Галине, которая тоже, между прочим, не бездельничала и, тем не менее, нашла время приехать в райотдел, Мандзюк отказал в беседе с задержанным. Анатолию исполнилось восемнадцать лет, и отныне он уже не мог рассчитывать - как не без сарказма заметил Мандзюк на заступничество сердобольных тетушек из инспекции по делам несовершеннолетних. Тут жаловаться можно было только на непонимание начальником Шевченковского угрозыска роли и значения инспекции. Но Галина не хотела мелочиться. Тем более, что Мандзюк вскоре пошел на попятную и предложил решение, которое должно было устроить всех. Но все-таки эта история не выходила у нее из головы. С Анатолием Зимовцем она познакомилась год назад, когда парнем еще могли были заниматься "тетушки" из Шевченковской инспекции, где в ту пору Галина проходила практику. Варвара Степановна Химченко - начальник инспекции доверила ей разобраться со всеми "художествами" Зимовца, так как видела в ней не только практикантку, но и коллегу - тем летом Галина окончила вечернее отделение юрфака, и вопрос о ее переводе из секретариата городского Управления внутренних дел в инспекцию по делам несовершеннолетних был предрешен. И Галина разобралась с Зимовцем как нельзя лучше (это было общее мнение), хотя попыхтеть пришлось изрядно: характер у Анатолия был нелегкий. К тому же он обиделся на участкового инспектора и свою обиду переносил на всех работников милиции. В какой-то мере его можно было понять - участковый обвинил парня чуть ли не во всех смертных грехах. Если бы тогда она приняла за чистую монету все, чтоизложил в своем рапорте участковый, Анатолия следовало бы привлечь к уголовной ответственности: хулиганство, мошенничество, вымогательство. Но вот что установила она, тщательно проверив все факты. Несколько лет назад отец Анатолия - высококвалифицированный слесарь-монтажник Иван Прокофьевич Зимовец - получил тяжелую травму, в результате которой стал инвалидом. И если бы не искусство известного нейрохирурга, профессора Яворского, сделавшего Ивану Прокофьевичу очень сложную операцию, вряд ли бы остался в живых. Больше двух лет Иван Прокофьевич пролежал в гипсовом панцире, прежде чем смог подниматься, ходить на костылях. Беда, как известно, не приходит одна: отец еще лежал в больнице, когда в родительский дом вернулась, да не одна, с грудным ребенком, старшая сестра Анатолия - Тамара, не выдержавшая бесконечных ссор с мужем-пьяницей. Натерпевшись всякого, потрясенная несчастьем с отцом, укорами матери и - как ей казалось - собственной никчемностью, Тамара пыталась наложить на себя руки. Мать Анатолия и Тамары, отличавшаяся крепким здоровьем, наверное, свалилась бы с ног, если бы не сын. Анатолий безропотно принял на себя заботы по дому: ходил в магазин, убирал, стирал, возился с племянником, присматривал за сестрой как бы снова глупостей не наделала. Было туго с деньгами, и он стал подрабатывать переплетным ремеслом, которому его обучил товарищ отца. У Анатолия были умелые руки, завидное терпение, книги он любил с детства и вскоре от оформления студенческих рефератов, курсовых и дипломных работ (заказчиков направлял к нему сосед-аспирант) перешел к переплетению обветшалых фолиантов из обширной библиотеки профессора Яворского. Наловчившись делать красивые переплеты из коленкора, да не какие-нибудь с тиснением, он выпрашивал у товарищей, заказчиков комплекты старых журналов, брошюровал их, одевал в такие вот переплеты, а затем продавал на книжном рынке. Вырученные деньги Анатолий отдавал матери. После того, как Ивану Прокофьевичу разрешили ходить, он недолго искал применение своим, увы, отныне ограниченным возможностям: пошел в подмастерья к сыну, а, овладев переплетным ремеслом, освободил Анатолия от значительной части работы - парню надо было еще учиться и учиться. Однако с учебой у Анатолия не ладилось: начитанный, неглупый, он, вместе с тем, был слишком категоричен в своих суждениях, оценках. Увлекался историей, литературой, а вот математикой и физикой пренебрегал, что не скрывал и в чем отчасти были повинны преподаватели этих предметов - их возмущал сам факт такого нигилизма. Переубедить его было трудно, укорять, а тем более ругать, небезопасно: он был обидчив, вспыльчив, за словом в карман не лез - мог надерзить преподавателю, классному руководителю, даже директору школы. По той же причине, случалось, конфликтовал со сверстниками: он не задирался первым, но себя и своих товарищей в обиду не давал. И плохо приходилось тем забиякам, которые пытались объясниться с ним на кулаках рука у Анатолия была сильная, задир он не щадил, дрался зло, напористо, не считаясь с тем, сколько перед ним противников. Однажды набросился на великовозрастного оболтуса, из тех, которые по вечерам околачиваются в подворотнях и задевают прохожих. Избил его на глазах его же дружков за то, что парень бросил грязную реплику в адрес сестры Анатолия. Родители пострадавшего пожаловались участковому, а тот, не разобравшись, составил протокол о мелком хулиганстве, который не замедлил направить в школу, где учился Анатолий. Отношения с преподавателями, директором, и до того не идеальные, обострились еще больше. Да и участковый, которому Анатолий выложил все, что думает о нем, взял его на заметку и уже вскоре доставил парня в инспекцию по делам несовершеннолетних, как злостного нарушителя общественного порядка. В рапорте участкового приводился целый список правонарушений, допущенных Анатолием Зимовцем за последнее время. Галине понадобилось больше недели, чтобы разобраться во всех обвинениях. Хулиганство она отбросила сразу: Анатолий вступился за честь сестры, и его можно было понять. Хотя пускать в ход кулаки даже в этом случае не следовало. Сложнее было дать оценку другим его проступкам, которых набрался целый букет, и за которым участковому далеко ходить не пришлось - они были взаимосвязаны и как бы вытекали один из другого. Но Галина разобралась и с этим. Как-то возвращаясь из школы, Анатолий встретил двух пятиклассников, которые волокли набитые макулатурой плетеные сумки. Он решил помочь ребятам: взял у каждого по сумке, пошел с ними. Они разговорились и мальчишки рассказали, что ходят по квартирам, выпрашивают макулатуру по заданию классной руководительницы. Сегодня им повезло, старушка-пенсионерка, которая живет в особняке на улице Сагайдачного, пустила их на чердак, где они обнаружили целую кучу старых книг. Анатолий поинтересовался содержимым сумок и обнаружил в них несколько томов из полного собрания сочинений Джека Лондона издательства "Земля и фабрика" 1927 года. И хотя книги, изданные на плохой бумаге и мягких потрепанных переплетах, выглядели плачевно, для Анатолия они были сущим кладом. Он любил Лондона и мечтал если не приобрести, то хотя бы прочитать все, что тот написал. Он уговорил ребят отдать ему книги, пообещав восполнить недостающие килограммы макулатуры из своих ресурсов. Но так получилось, что в тот день он не смог выполнить свое обещание, и один из мальчишек рассказал классной руководительнице о парне-вымогателе. Та провела служебное расследование и установила, что вымогателем является не кто иной, как учащийся их школы Анатолий Зимовец, о чем не замедлила доложить директору, а тот, в свою очередь, сообщил об этом "крайне возмутительном факте" участковому. Тем временем, Анатолий успел побывать на улице Сагайдачного у старушки-пенсионерки и, получив разрешение, обнаружил на чердаке остальные томики Лондона и еще с десяток заинтересовавших его книг. Он попросил хозяйку продать их. Старушка запросила недорого, деньги у Анатолия были - он загодя одолжил их у сестры, и сделка состоялась. Зная, что у сестры деньги не лишние, Анатолий в тот же день взял из своей библиотеки двухтомник Джозефа Конрада (книги были подарены ему профессором Яворским, что Галине подтвердил сам профессор), отправился на книжный базар, надеясь продать их и таким образом вернуть долг сестре. Однако продать книги не успел - его задержал участковый, который уже шел, так сказать, по следу правонарушителя. Когда Галина установила эти факты, участковый вынужден был признать, что несколько сгустил краски. Однако он считал, что поведение Зимовца нельзя признать образцовым - парня надо наставить на путь истинный, с чем Галина согласилась. Она потратила еще немало времени на беседы с Анатолием, его родителями, сестрой, учителями и убедила всех, что будет лучше, если парень по окончании 8-го класса (в котором он остался на второй год) поступит в ПТУ полиграфической промышленности, где безусловно найдет применение своим способностям и энергии. Труднее всего было убедить самого Анатолия: даже после того, как между ними установились доверительные отношения, он еще упорствовал, признавшись Галине, что мечтает о поступлении в мореходную школу. О море и мореходах он обладал почти энциклопедическими знаниями и спорить с ним было не просто. Однако Галина сумела переубедить его: Анатолий не ладил с математикой, физикой, а без этих наук в современном мореходном деле даже на дно, как следует, не пойдешь. В конце концов он согласился с ней. А через несколько месяцев он пришел к Галине в городскую инспекцию, где она к тому времени работала, и подарил ей книгу "Сто лет криминалистики" в кожаном тисненом переплете с фасонной медной застежкой (чудо - не переплет!) собственного изготовления. Она хотела заплатить ему: не говоря о самой книге, он, должно быть, потратился на материал, но Анатолий обиделся, сказал сердито: - Я такие переплеты на продажу не делаю! Пришлось принять подарок. Что ни говори, приятно получить признательность даже в такой вот материализованной форме от человека, который поначалу смотрел на тебя исподлобья и не верил ни одному твоему слову. Галина была уверена: парень нашел себя и теперь все будет хорошо. Но она ошиблась. Прошло немногим больше года, как Анатолий снова накликал на себя беду. И на этот раз очень серьезную. О том, что произошло, Галина узнала от сестры Анатолия: Тамара прибежала к ней на работу и, плача, умоляла выручить Толика, которого накануне арестовали якобы за то, что он приставал к какой-то женщине, а потом ударил ножом ее спутника. Подробностей Тамара не знала: в Шевченковском райотделе с ней не стали объясняться, сказали только, что минувшим вечером (стало быть, 28 июня) Анатолий, находясь в нетрезвом состоянии, ворвался в ресторан "Сосновый бор" и учинил там дебош: приставал к посетителям, а затем ударил одного из них ножом. Тамара не верила этому: - Анатолий не пьет! Даже от пива отказывается: говорит, что не любит. Как же он мог напиться до такого состояния! Считала клеветой, оговором, что брат приставал к женщине. - Да он не то, что к женщине, к девушке незнакомой не подойдет. Одна любовь у него была, да и та ребяческая - к Ларисе Яворской. Не верила она и тому, что Анатолий ударил кого-то ножом: - Если бы кулаком, я бы поверила - Толик вспыльчив, вы знаете. Но за нож он бы не взялся. Да и нет у него такого ножа! Разве что перочинный. Но это его инструмент: там и шило, и ножницы, а лезвие пустяковое сантиметра четыре, от силы... Лезвие в четыре сантиметра, да еще отточенное как бритва, вовсе не пустяк. Тем не менее, Галина нашла нужным позвонить в Шевченковский райотдел. Она тоже не верила, что Анатолий мог ударить кого-то ножом - не иначе как Тамара что-то напутала. Она разговаривала с дежурным по райотделу, потом с Мандзюком, но толком ничего не выяснила. Узнала лишь, где находится ресторан "Сосновый бор" - о таком слышала впервые. Этот небольшой и, как выразился Мандзюк, "интимный" ресторанчик располагался в лесопарке, примыкающем к Октябрьскому поселку, что довольно далеко от дома, где живут Зимовцы и еще дальше от ПТУ, где учился Анатолий. Как он оказался там, да еще в вечернее время? На этот вопрос никто ответить не мог. Насторожили Галину и слова Мандзюка о том, что Зимовец был пьян до умопомрачения. Что-то не похоже на парня. Не иначе, как Мандзюк преувеличил. И Галина решила поехать в райотдел, благо имелся предлог: ей надо было решить один служебный вопрос с Варварой Степановной Химченко. Однако в тот день была срочная работа, над которой пришлось корпеть до вечера. Зато на следующий день поехала в райотдел прямо из дому, поскольку хотела поговорить лично с Мандзюком. Она хорошо знала начальника Шевченковского угрозыска Алексея Мандзюка: когда работала секретарем городского отдела уголовного розыска, он был инспектором того же отдела. Большой, широкоплечий, несколько грузноватый для своих тридцати лет, Алексей вместе с тем был на удивление подвижным, быстрым. Однако двигался и работал он быстро, когда в этом возникала необходимость. В иных случаях Мандзюк замирал в своем кресле (единственном на весь отдел, другие сотрудники довольствовались стульями), как статуя Будды, уверяя товарищей, что в такие - надо заметить довольно продолжительные минуты он занимается аутогенной тренировкой по системе доктора Шульца. Правда, капитан Ляшенко считал, что Алексей скромничает, ссылаясь на немецкого доктора - это открытие принадлежит ему самому и по справедливости должно быть названо по имени автора - "синдром Мандзюка", суть которого раскрывается в простой для запоминания формуле: "Не торопись делать то, что за тебя сделают другие". Тем не менее, Мандзюка считали хорошим оперативником: инициативным, сообразительным (по мнению Ляшенко, даже слишком) и со временем он был выдвинут на самостоятельную работу. Надо признать, он не зазнался: с товарищами был по-прежнему прост, дружелюбен, а с коллегами-женщинами (особенно с молодыми) даже галантен. Но на этот раз он встретил Галину не очень приветливо: - Кого мне не хватало с утра, так это несовершеннолетней инспекции! Галина знала, что Мандзюк и его помощники не сидят без дела: Шевченковский район - самый большой в городе, через него проходят оживленные транспортные магистрали, в его состав включены лесопарки, зоны отдыха, куда летом, особенно в выходные дни, выезжает чуть ли не весь город. А где большое движение, скопления людей, хлопот работникам милиции хватает. И все же, Галина считала, что Алексей мог встретить ее любезнее. Видя, что она обиделась, Мандзюк смягчился: - Я пошутил. Возможно, неудачно, ты уж извини. Надо признать, он был самокритичен. Сделав виноватое лицо, Мандзюк подошел к Галине, заглянул в глаза: - Не сердишься? Правильно: на меня сейчас не надо сердиться. Веришь ли, зашился совсем: заместитель в отпуске, два инспектора-заочника на сессии. А дела сыплются как из мешка: здесь хулиганство, там кража; этот подрался с соседом, та со свекровью: угнали машину, пригнали барана... в школу на выпускные экзамены - нашлись такие остроумные ребятишки; кончился месяц - подавай отчетность. Понимаю, это тебя не очень волнует, как говорится, у кого что болит... Так о ком твоя забота? Ах, Зимовец! Есть такой. Есть! Он что же, родственник тебе или знакомый? - Подопечный, скажем так! - вспыхнула Галина и тут же отстранилась от него: Алексей снова поддел ее - родственник или знакомый? Да она и за родного сына (если бы он у нее был) не стала бы просить. Но в деле Зимовца она обязана разобраться - это ее долг. - Так вот не уберегла ты своего подопечного, мать! - Мандзюк изменил тон на сочувственный, шумно вздохнул: - С ножичком парень играться стал. А за такие игры, как тебе известно, по головке не гладят. Ну да ладно, учитывая твое ходатайство, мы этот ножичек к делу не подошьем. - То есть как не подошьете? - больше насторожилась, чем удивилась Галина: что-то очень уж подобрел старший лейтенант Мандзюк, подобный либерализм за ним раньше не замечался. - А как посмотрит на это человек, которого он ранил? Мандзюк наморщил лоб, словно вопрос поставил его в тупик. Но затем осклабился в улыбке: - Думаю, положительно. - Это шутка? - В отличие от Ляшенко я предупреждаю, когда шучу, и в любом случае не требую аплодисментов. Надеюсь, не передашь ему эти слова? Ну вот один вопрос решили! Что касается эпизода с перочинным ножом, то в нем есть нюанс, о котором я сейчас подумал. Дело в том, что потерпевший - ну тот мужчина, которого твой Зимовец ножичком царапнул - пожелал остаться, как говорят, в телепередачах "Очевидное-невероятное", неопознанным объектом. Правда, не летающим, а удирающим на автомашине марки "Лада"... - От кого удирающим? - не поняла Галина. - Полагаю, от скандала. Когда на место прибыл милицейский патруль, потерпевший быстренько сел в свою машину и уехал, не оставив визитной карточки. Конечно, при очень большом желании эту "Ладу" и ее владельца найти можно. Но возникает вопрос: а надо ли? Человек и без того пострадал, а мы ему эскалацию скандала навязываем. Негуманно! - Он что же, не заявил, не обратился к вам? - удивилась Галина. - В том-то и нюанс! Тут вот еще что надо учитывать: в загородные ресторанчики, на ночь глядя, с женами не приезжают. А если приезжают, то, как правило, не со своими. - Он был с женщиной? - И говорят с очень миловидной, - подхватил Мандзюк. - Не исключено, что именно из-за нее и разгорелся сыр-бор. А теперь представь, как прореагирует жена нашего инкогнито, когда ей станет известен этот факт. Он, я уверен, очень хорошо представляет это. Потому-то и удрал. В доводах Мандзюка был определенный резон. - Но что в таком случае ты вменишь Зимовцу? - Остается немало: пьяный дебош с битьем казенной посуды, оскорбление обслуживающего персонала ресторана: он обругал буфетчицу, пнул ногой официанта. Одним словом, хулиганство чистейшей воды; так что отвечать твоему Зимовцу все же придется. До суда, пожалуй, отпустим его, учитывая твое поручительство. Вот допросим сегодня и отпустим... На этом их прервали - Мандзюка куда-то вызвали. Галина не стала его дожидаться: вроде бы все выяснила. Конечно, обидно за Анатолия распоясался парень, но к Мандзюку у нее уже не было претензий: хулиганство есть хулиганство, и Зимовец должен отвечать за содеянное. Что же касается эпизода с ножом, который, несомненно, усугубил бы его вину и который, строго говоря, Мандзюк не должен был исключать, то здесь, по ее мнению, Алексей покривил душой. Не ей, Галине, он делал одолжение, а себе: искать потерпевшего, который не хочет, чтобы его нашли, - дело хлопотное. Здесь безусловно, сказался "синдром Мандзюка". Хотя с другой стороны, если потерпевший желает оставаться неизвестным, это его дело. Очевидно, его рана не так уж серьезна - царапина, не более. Иначе бы он не стал думать о том, как отреагирует жена на эту не очень приглядную, но отнюдь не роковую историю: серьезно раненный человек в первую очередь подумает о себе, своей ране. Инстинкт самосохранения - никуда не денешься! А он сел в машину и укатил. Значит, ничего страшного не произошло, и Мандзюк прав: нет нужды проявлять этот эпизод. Однако о своем разговоре с Мандзюком Галина сочла нужным сообщить Варваре Степановне Химченко, к которой зашла, поднявшись на этаж выше. Варвара Степановна выслушала ее, но от комментариев воздержалась и вскоре перевела разговор на другое. Решив служебный вопрос, они еще минут десять поболтали о том, о сем (что ни говори - женщины), и Галина поехала в Управление. Там ее ожидала убитая горем Тамара Зимовец. Не вдаваясь в подробности и ни на кого не ссылаясь, Галина сказала, что Анатолий действительно совершил хулиганский поступок, возмутительный и дерзкий, за что будет привлечен к уголовной ответственности. О том, чтобы дело не передавать в суд - не может быть и речи: Анатолий - взрослый парень и должен отвечать за свои поступки. Однако, увидев, что Тамара совсем поникла, она смягчилась и сказала, что до суда Анатолия, видимо, освободят из-под стражи и, если из ПТУ будет положительная характеристика, то суд, безусловно, примет ее во внимание. - В тюрьму его не посадят? - заглянула ей в глаза Тамара. - Думаю, что мера наказания не будет связана с лишением свободы, как можно сдержанней сказала Галина. Тамара немного успокоилась, вытерла слезы, передала ей характеристику на Анатолия, которую уже успела получить в ПТУ. Характеристика, как следовало ожидать, была положительной, однако не формальной: обстоятельной, написанной живым языком: "...Анатолий Зимовец - отличник учебы, параллельно с основной специальностью овладел профессией реставратора... По характеру вспыльчив, но отходчив... Не терпит обмана, несправедливости..." - Матвей Петрович называл его правдоборцем, но укорял за то, что Толик лезет на рожон, - следя за скользящими по строчкам глазам Галины, сказала Тамара. - Кто такой Матвей Петрович? - оторвалась от документа Галина. - Покойный профессор Яворский. Он нашего отца, можно сказать, с того света вытащил, а потом еще два года колдовал над ним, пока на ноги не поставил. Толик чуть ли не молился на него: что Матвей Петрович скажет, то для Толика закон; когда Матвей Петрович давал ему переплетать книги из своей библиотеки, Толик над ними ночами сидел, каждую страничку ремонтировал. Галина вспомнила свой визит к профессору Яворскому, его самого коренастого, пожилого, одутловатого, с выпуклым лбом, пристальными, но не строгими глазами. Это было год назад. Тогда она обратилась к нему в связи с Толиком Зимовцем. Яворский пригласил ее к себе, вышел навстречу, провел в свой кабинет, все стены которого были заставлены стеллажами с книгами, посадил в вольтеровское кресло, угостил кофе, который сам приготовил тут же в кабинете. Был внимателен: расспрашивал о работе ("Не трудна ли для женщины?"), о семейном положении ("Не замужем? Не огорчайтесь, эту глупость вы еще успеете сделать"), показал свою библиотеку, которой гордился ("Здесь больше семи тысяч томов. А первую свою книгу я на башмаки выменял. Пять лет мне было. Представляете?"). Об Анатолии сказал только то, что действительно подарил ему двухтомник Конрада. Но от характеристики парня воздержался. - Об Анатолии у меня сложилось определенное мнение, но вам его высказывать не буду - боюсь подавить своим авторитетом. Вам необходимо собственное мнение о нем составить. Я правильно понимаю вашу задачу? Галина согласилась с ним... Заверив Тамару, что характеристика будет передана кому следует, Галина попрощалась с ней. До обеда занималась текущими делами, отодвинув на второй план мысли об Анатолии Зимовце - после допроса все станет ясно. Без четверти час ей позвонила Химченко: - Галочка, я забыла передать отчет о правовой пропаганде. После обеда пришлю с нарочным. Возможно, подъедет сержант Бессараб. Он водитель-оперативник... - Варвара Степановна сделала продолжительную паузу, а затем сказала, почему-то понизив голос: - Бессараб участвовал в задержании Зимовца. Поговори с ним. Возможно, он чем-то дополнит полученную тобою информацию... Сержант Бессараб зашел к ней в половине третьего. Моложавый, подтянутый, он показался вначале Галине недавно отслужившим срочную службу, но потом она заметила морщинки у висков, блестки седины в светлых волосах и поняла, что сержанту уже за тридцать. Разговорить его оказалось нетрудно. Он не счел нужным что-либо скрывать от младшего лейтенанта Юрко, которая была не просто офицером милиции, но и сотрудником городского Управления - какое ни есть, а начальство! И вот он поведал. Вечером 28 июня сержант Бессараб и лейтенант Кленов патрулировали на служебном "Москвиче" в поселке Октябрьском. В 21:15 они выехали на Окружную дорогу, как раз в это время их вызвал по радио оперативный дежурный и велел ехать к ресторану "Сосновый бор", где хулиганит какой-то парень. Через восемь минут они были на месте происшествия. Как потом выяснилось, этот парень (фамилия его Зимовец) появился в ресторане около двадцати одного часа. Был уже пьян. Играла музыка, посетители танцевали. Зимовец начал приставать к танцующим, и официант Шерстюк вывел его на улицу. С Шерстюком Зимовец драться не стал: официант на голову выше его, а комплекцией со старшего лейтенанта Мандзюка будет. С таким не подерешься! А вот с молодым мужчиной, который вскоре вышел вслед за ним, Зимовец схватился. Это произошло на примыкающей к ресторану бетонированной площадке для паркования машин. В то время там стояло шесть автомобилей. Очевидцы рассказывают, будто Зимовец подошел к одному из автомобилей новенькой "Ладе", стал пинать ее ногой. К нему подбежал упомянутый мужчина, оттолкнул, а потом ударил. Это видели туристы с турбазы "Сокол": двое мужчин и одна женщина. Турбаза расположена напротив ресторана, а вход в нее - наискось, метрах в семидесяти. Очевидцы стояли у ворот базы, разговаривали между собой и не сразу поняли, что происходит. Когда парень подошел к машине и стал пинать ее, туристы подумали, что он ударяет по скатам - пробует, хорошо ли накачаны. Но потом обратили внимание на подбежавшего мужчину и на то, как он оттолкнул, а затем ударил Зимовца. От удара парень упал, мужчина начал осматривать свою машину, но тут Зимовец поднялся и бросился на него с ножом: полоснул по правому плечу и руке. Мужчина левой рукой сумел перехватить руку противника, в которой был зажат нож, но едва удерживал Зимовца; оно и понятно, что сделаешь одной, да еще левой рукой! Очевидцы сообразили, что дело приняло серьезный оборот, и бросились выручать мужчину... Милицейский патруль подоспел, когда Зимовца уже унимали двое туристов и выбежавший на крики официант Шерстюк. Потерпевший стоял тут же и смотрел, как усмиряют парня... Нет, он не вмешивался, раненному в такую возню лезть незачем... - Почему вы решили, что владелец "Лады" ранен? - перебила его Галина. - Вы видели на нем кровь? - Как же ее было не видеть! Вся рубашка с правой стороны окровавлена была, хоть выжимай. Он без пиджака был, в шерстяной темно-серой рубашке навыпуск. А такая рубашка от ножа не предохранит. Мы с лейтенантом Кленовым потому и не задержали его для объяснений, что ему немедленно медицинская помощь требовалась. На какое-то мгновение Галина потеряла дар речи. Вот тебе и царапина! Мелькнула мысль: а не присочиняет ли Бессараб? Однако подозрение не имело под собой почвы: какой смысл сержанту лгать? Но в таком случае получается, что лгал Мандзюк. И она вспомнила дипломатическое помалкивание Варвары Степановны, а потом ее неожиданный звонок, некоторую неловкость в разговоре по телефону. Варвара Степановна - большой дипломат, она не хочет ссориться с Мандзюком, но и грех на душу брать не желает. Вот и нашла выход - прислала с пакетом этого бравого сержанта. - Но как же он... Что же этот мужчина... - Галина по-прежнему не находила слов. Но потом собралась с мыслями, спросила: - Как же он тяжело раненный сел за руль? - Девушка, которая была с ним, за баранку села. - Девушка?! - Ну да. Я, сказать по правде, хорошо ее не разглядел, уже темнело, да и впопыхах все произошло - мы только подъехали, а они почти тут же и уехали. Заметил только, что рослая, стройная, светловолосая. Лет двадцать, не больше. В белых джинсах и водолазке была. Но я на мужчину больше внимание обращал. Вел он себя как-то странно: здоровой рукой раненую придерживал, но на само ранение не реагировал, смотрел на парня-хулигана. Девушка уже за баранку села, волнуется, торопит, а он стоит и смотрит как Зимовца унимают. Я тоже сказал ему, что надо немедленно в медпункт ехать там неподалеку в доме отдыха "Заря" круглосуточно фельдшер дежурит. Объяснил: как туда добраться. - И что же он? - Поблагодарил. Спокойно так поблагодарил, будто не к спеху ему было. И снова на Зимовца посмотрел, внимательно так посмотрел. Потом сказал лейтенанту Кленову, что парня надо показать врачу. - Зачем? - не поняла Галина. - Видно, считал, что тот рехнулся. Ну, а потом сел в машину рядом с девушкой, и они уехали. - А Зимовец? - Похоже, что он действительно был не в себе: рвался из рук, брыкался... Мы почему на номер машины не посмотрели? Как подъехали и увидели такую ситуацию, Кленов сразу бросился на помощь тем, кто с правонарушителем боролись, а я около потерпевшего задержался. Тем временем, его девушка развернула машину, поставила ее к нам правым бортом, я открыл дверцу, помог мужчине сесть в кабину. Потом оглянулся, чтобы посмотреть, как там сладили с хулиганом, а девушка, как рванет "Ладу" с места и сразу за поворот. Я не успел заметить номер. Очень уж быстро все произошло. Да и подозрений в отношении этого мужчины не было... Я так понимаю, Галина Архиповна: что драка не случайно возникла. Зимовец искал эту девушку в джинсах. Официант Шерстюк рассказывает: как только Зимовец вошел в ресторан, так стал подходить к танцующим, заглядывать в лица женщинам. Там темновато было, вот он и присматривался. Выходит, на почве ревности это произошло - и хулиганство, и драка. Галина не знала, что и думать. Рассказ Бессараба по-иному очерчивал столь небрежно нарисованную Мандзюком картину происшествия: Анатолий, безусловно, знал девицу в белых джинсах, очевидно, был увлечен, а, может, даже влюблен в нее. Но она предпочла другого: преуспевающего мужчину средних лет, элегантного и самоуверенного, волевого и умелого в обращении с такими девицами. Ситуация в общем-то банальная, но, при определенном стечении обстоятельств, взрывоопасная. Сейчас трудно гадать, где впервые встретилась эта троица и как возникла ссора. Но уже ясно, что конфликт начался не в ресторане. Скорее всего, ссора вспыхнула где-то в другом месте и была усугублена каким-то оскорблением, глубоко задевшим восемнадцатилетнего парня, с которым мужчина надеялся разделаться погодя, так сказать, одним щелчком. Но Анатолий Зимовец был не из тех, кто дает себя щелкать по носу. И мужчина, поняв это, счел за лучшее отделаться от парня, благо под рукой была машина. Анатолий каким-то образом узнал, куда подался обидчик, и бросился следом. Перед тем, как появиться в ресторане, он выпил для храбрости. Гнев, замешанный на водке, породил взрыв; ярость помрачила рассудок. Мужчина не ожидал такого накала и был ошеломлен не столько своей раной, сколько неистовством восемнадцатилетнего парня. Вряд ли он думал в тот момент о своей жене, о том, как она прореагирует на эту историю: его собственная реакция не успела сформироваться: мозг пытался, но еще не мог дать оценки происшедшему. А вот его спутница была не столь впечатлительна, она меньше всего думала о причинах, больше - о последствиях и, едва появилась милиция, бросилась к машине, села за руль. Она сразу поняла, что ее приятель не сможет вести машину, и надо побыстрее покинуть место происшествия. И не пострадавший, как это хотел представить Мандзюк, а девица в белых джинсах опасалась скандала. Есть такие ушлые девицы, которые дома, на работе, в учебном заведении ведут себя куда как благонравно, тщательно скрывая порочность своих мыслей и устремлений, равно как и свои отношения с щедрыми на угощение и подарки женатыми мужчинами, в чьих интересах (и ушлые девицы это учитывают) не афишировать такие отношения. Хотя могло быть и другое. В интимные ресторанчики случается приезжают не только с чужими мужьями, но и со своими начальниками. Бойкая, сообразительная, умеющая водить машину, девица могла быть сослуживицей, или - что скорее всего - секретарем этого мужчины. А кто имеет личных секретарей? То-то и оно! Вот где замыкается круг не только ее, Галины, рассуждений, но и рассуждений старшего лейтенанта Мандзюка. Хотя надо полагать Мандзюк рассуждал недолго - он уже вчера наверняка знал, кто этот мужчина, и теперь думал только о том, как бы замять эту историю, представить ее пустяковой, не заслуживающей внимания. Но его уловка шита белыми нитками: установить личность пострадавшего проще простого - достаточно позвонить в медпункт дома отдыха "Заря". Даже начинающий милиционер догадался бы. А сержант Бессараб, вероятно, уже навел соответствующую справку. Из профессионального любопытства должен был поинтересоваться. Однако спрашивать его напрямик неудобно - зачем ему знать, что она думает о старшем лейтенанте Мандзюке... - Михаил Ильич, что говорит фельдшер дома отдыха "Заря"? У этого мужчины серьезное ранение? - Не обращался он в медпункт. - То есть как не обращался?! - А так: не заезжали они туда. И в другие медучреждения не обращались. Галина не поверила своим ушам: какая-то фантастика! - Откуда вам это известно? - Мы с лейтенантом Кленовым сегодня все городские больницы объехали, а в доме отдыха "Заря" и в войсковой части, что на Воздушной - там есть медсанчасть - еще вчера побывали. По регистрации за 28-ое и 29-ое числа смотрели. Нигде такой случай не отмечен. - Ничего не понимаю! - Галина обхватила руками голову и так сидела с полминуты, потом посмотрела на Бессараба. - Михаил Ильич, а вы что-нибудь понимаете? - Нет... Да что я! Перед обедом, когда мы с Кленовым вернулись в райотдел ни с чем, старший лейтенант Мандзюк вот так же, как и вы сейчас, за голову взялся. - Мандзюк?! - едва не подскочила Галина. Это нельзя было так оставить. Какими бы соображениями не руководствовался Алексей Мандзюк, он не имел права морочить голову ей, инспектору городского Управления милиции. И тасовать факты по своему усмотрению, вуалируя одни и выпячивая другие, тоже не имел права. И если утром Галина еще раздумывала над тем, жаловаться или не жаловаться на него, то после разговора с Бессарабом, твердо решила доложить руководству отдела о более чем странном поведении старшего лейтенанта Мандзюка. Подполковник Билякевич был в Киеве на совещании, майор Уфимцев болел. Из руководителей отдела на месте оставался только капитан Ляшенко, к которому Галина обратилась не без колебаний. Она почти не сомневалась, что он высмеет ее подозрения - ему только повод дай! - либо посчитает это дело не заслуживающим внимания. К тому же Ляшенко был давнишним приятелем Мандзюка и стоило крепко подумать, прежде чем обращаться к нему по такому поводу. Было еще одно обстоятельство, которое смущало Галину всякий раз, когда приходилось обращаться по тому или иному вопросу к капитану Ляшенко. В свое время она была влюблена в Валентина Ляшенко, как влюблялась до этого поочередно в киноактера Олега Янковского, космонавта Шаталова, доцента кафедры судебной медицины Сторожука. К счастью (а может, к сожалению), девичья влюбленность не долговечна и уже через год-полтора, за которые старший лейтенант Ляшенко не удосужился раскрыть ее тайну (сыщик, называется!), Галина не то, чтобы разочаровалась, а как бы взглянула на него другими глазами. Она уже не розовела от ляшенковских комплиментов, любезностей (он расточал их не только ей!); перестала восхищаться его элегантностью (угрозыск - не дом моделей!); не спешила умиляться его остроумным шуточкам (не всегда уместным и чаще всего небезобидным), а его покровительственно-фамильярное отношение к ней - в ту пору уже студентке-заочнице, призеру областных соревнований по легкой атлетике даже раздражало (с его легкой руки чуть ли не все сотрудники городского Управления называли ее не иначе как Галочкой). При этом, она отдавала ему должное: умен, находчив, умеет быть сдержанным, корректным (это последнее качество, по мнению Галины, Валентин заимствовал у начальника отдела). Тем не менее, встречи с ним уже не волновали ее. Но потом случилось, что Ляшенко уехал в длительную спецкомандировку, и в отделе разом стало тихо, и как-то неуютно. Когда же он вернулся (уже в звании капитана и ранге начальника отделения), все пошло по-прежнему. Впрочем, Валентин Георгиевич - отныне его надо было величать так - стал менее категоричен в своих суждениях, оценках и, пожалуй, мягче в отношениях с товарищами. А еще спустя год Галина встретила его в оперном театре с очень красивой, но высокомерной женщиной, которую знала как ведущую телевизионной передачи "Новости киноэкрана". Ляшенко растерялся, но затем любезно раскланялся с Галиной и даже представил ее теледаме. Но представил так, что Галина едва не сгорела со стыда: "Это наша Галочка, о которой я тебе рассказывал". Теледама окинула Галину бесцеремонным взглядом, профессионально улыбнулась, сказала снисходительно: - Милая девочка. Только очень худенькая. Вам надо поправиться, Галочка, килограмма на три, не больше. Галина тут же возненавидела и ее, и его. Но с теледамой было проще: она выключала телевизор, как только начиналась передача "Новости телеэкрана", а вот Ляшенко выключить не могла - куда денешься от сотрудника! Работа же, как известно, есть работа; и как-то случилось, что Ляшенко оградил Галину от крупной неприятности (она несвоевременно отправила подготовленный им важный документ); более того - получил заработанный ею выговор. Когда же она, вдосталь наревевшись, собралась духом, пошла к начальнику отдела и покаялась, подполковник Билякевич не отменил свое решение: "Ему этот выговор полезнее, чем вам". Из чего Галина заключила, что Ляшенко вовсе не любимчик шефа, как считала до этого, и ему видимо попадает не меньше, чем другим сотрудникам. Она решила взглянуть на Ляшенко без предвзятости и уже вскоре отметила, что он грамотный, толковый юрист, хороший аналитик, что для оперативного работника немаловажно, и товарищ в общем-то неплохой. Тем не менее, Галина не была уверена, что Валентин Георгиевич отнесется серьезно к ее докладу. Но иного выхода у нее не было. Ляшенко был занят. Обосновавшись в кабинете Билякевича, он одновременно разговаривал по двум телефонам, подписывал документы, которые ему подкладывала Катя Ткачук - секретарь отдела, а в паузах что-то диктовал инспектору Глушицкому, который терпеливо ждал каждую следующую фразу. Галина хотела сдать назад - здесь не до нее! - но Ляшенко приветливо кивнул ей, и указал на свободный стул. Он даже ухитрился спросить, как ее дела, но она не успела ответить - затрещал третий телефон. Наконец Катя ушла, Глушицкий дописал последнюю фразу в блокноте, спросил: "Может, телеграфом передать?" и, получив утвердительный ответ, побежал отправлять телеграмму. Ляшенко бодро отчеканил в одну из телефонных трубок: - Вас понял. Будет сделано! - Положил трубку на аппарат, спросил в другую: - Ты понял, что он хочет? Я, признаться, нет... Ну тогда делай, как понял. - Взял со стола третью трубку, сказал: - Задерживайте и привлекайте. Хватит церемониться с хулиганами! Окончив разговор, он переключил телефон на секретаря, вызвал по селектору Катю: - Меня нет и сегодня уже не будет. Какое-то время смотрел на Галину, не то собираясь с мыслями, не то пытаясь отрешиться от них. Потом улыбнулся, спросил: - Где успела так загореть? - На горке, - удивилась вопросу Галина. - Рядом с нашим домом есть горка, и мы с соседкой каждое утро бегаем по ней. Вместо физзарядки. - Завидное дело! А я, признаться, давненько не бегал, разве что за трамваем, когда на работу опаздываю, - затем сказал уже серьезно. - Ну, выкладывай, что там у тебя. Выслушав Галину, спросил: - Характеристика на этого парня с тобой? - Вот, - Галина передала ему характеристику. Ляшенко прочитал, почему-то покачал головой. - Да, похоже, что ссора была не случайной. Этот Зимовец, по всему видно, не из забулдыг-хулиганов. Какая-то причина, несомненно, была. Мандзюк считает, что они повздорили из-за девушки? - Я тоже так считаю. - Что ж, не исключено. Когда-то из-за прекрасных дам копья ломали, не говоря уже о более серьезных уронах. И милиция, между прочим, не вмешивалась. - Но прекрасные дамы не шастали по кабакам с чужими мужьями, - нашла нужным заметить Галина. - Как знать!.. А почему считаешь, что этот мужчина женат? - Не случайно он выбрал ресторанчик поукромнее. - По-твоему, холостяку до такого не додуматься? - Валентин Георгиевич, давайте говорить серьезно! Я уверена, что Анатолий хорошо знал девицу в белых джинсах. - Но объяснялся почему-то не с ней. А не кажется ли тебе, что мужчину в темно-серой рубашке он знал не хуже? Галина не сразу нашлась, что ответить. - Возможно, наконец согласилась она. - Но к чему гадать? Это выяснится на допросе. - На допросе? - о чем-то задумавшись, переспросил Ляшенко. - Да-да... А выяснится ли? Он как-то необычно усмехнулся: скупо и невесело, потянулся за телефонной трубкой, но, вспомнив, что телефон выключен, опустил руку. - Говоришь, Мандзюк схватился за голову, когда узнал, что потерпевший не обратился за медицинской помощью? - Так утверждает Бессараб. - Н-да... - задумчиво протянул Ляшенко. - Едва ли этот факт сам по себе мог вызвать столь бурную реакцию Алексея. - Но мужчина серьезно ранен. - Из чего исходишь, делая такой вывод? - Он был окровавлен. - Обилие крови еще ни о чем не свидетельствует. Серьезные проникающие ранения, как правило, не кровоточат. Нельзя забывать судебную медицину, младший лейтенант Юрко. Галина вспыхнула, но тут же возразила: - Но потерпевший не изучал судебную медицину, а потому не мог знать, серьезно или несерьезно ранен. - А я думаю, мог, - откинулся на спинку стула Ляшенко. - И не только мог - знал. Безусловно, знал, что рана неопасна. Об этом свидетельствует его поведение. - Считаете, он - медик? - догадалась Галина. - Думаю, не просто медик - врач. И не просто врач - хирург. Окулист или, скажем, терапевт, возможно, запаниковал бы на его месте. А тут сработал профессиональный рефлекс. Ведь он не просто придерживал здоровой рукой раненную, как показалось Бессарабу, он зажимал поврежденный сосуд. Он поставил себе диагноз, едва почувствовав, что ранен. А разобраться так сразу мог только хирург. По той же причине не обратился в медпункт: в машине хирурга найдется все, что требуется для перевязки. Доводы Ляшенко поразили Галину: как она сама не догадалась! Ну, конечно, только хирург, для которого кровь, повреждение сосуда - дело обычное, мог повести себя так после того, как сам был ранен. Безусловно, тут требовались еще и выдержка, присутствие духа, но и эти качества должны быть у хирурга. И все-таки она снова возразила: - Но он был ранен в правую руку. Как же он мог остановить кровотечение, наложить повязку? - Ты забыла о его спутнице, - поднимаясь из-за стола и разминая затекшие ноги, сказал Ляшенко. - Она тоже не растерялась: села за руль, увезла своего приятеля. Такая женщина, следуя наставлениям опытного консультанта, сумеет и кровотечение унять, и наложить повязку. - Но к чему такая самодеятельность, когда неподалеку были медпункт и фельдшер? - Это как раз тот вопрос, над которым сейчас ломает голову Алексей. - А мне он говорил... - начала было Галина, но Ляшенко перебил ее: - Он разговаривал с тобой утром, а сейчас уже конец дня. - Но что могло измениться? - Не знаю, но что-то, видимо, изменилось. Есть одно малоутешительное предположение. Как говорится: дай Бог, чтобы я ошибался! - О чем вы, Валентин Георгиевич? - встревожилась Галина. - Сейчас поеду в Шевченковский райотдел, посмотрю, что там и как, уклонился от ответа Ляшенко. - А ты передай своему начальнику, что включена в оперативно-розыскную группу. Сдай свои дела, и, не мешкая, поезжай в автоинспекцию. Надо установить, кто из женщин в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет имеет водительские права. - Бессараб говорит, что спутнице потерпевшего лет двадцать, не больше. - А я говорю: от восемнадцати до двадцати пяти, - строго сказал Ляшенко. Но тут же улыбнулся: - Знаешь, почему нынче женщины пристрастились к джинсам и водолазкам? Такой наряд взрослит юных и молодит не совсем уже юных - скажем так - особ. Разумеется, не всех и не при любом освещении. Но это нельзя упускать из виду. Ляшенко был не совсем откровенен с Галиной - он знал о том, чего еще не знала она: в потасовке у ресторана Зимовец получил серьезную травму, куда серьезней, чем та, которую он нанес мужчине в темно-серой рубашке. К сожалению, это выяснилось сутки спустя после задержания Анатолия: черепно-мозговые травмы коварны и зачастую дают о себе знать не сразу: может пройти несколько дней, пока такая травма заявит о себе со всей очевидностью... Они были друзьями, хотя, казалось, ничем не походили друг на друга. Валентин - стройный, подтянутый, энергичный, подчас нетерпеливый, резкий. Алексей являл собой тип борца-тяжеловеса: большой, могучий, неторопливый, с простоватым маловыразительным лицом. Но эти чисто внешние качества никоим образом не отражали внутреннее содержание: быстроты, гибкости ума Алексею было не занимать. Он, как и Валентин, любил шутку, острое слово, но в отличие от товарища - пользовался ими осторожно, считаясь с тем, что не все понимают и принимают юмор. А если говоритьначистоту, он был мягче, добродушнее Валентина. В уголовный розыск они пришли почти одновременно, с разницей в несколько месяцев. Но, если Валентин, за плечами которого был университет, уже вскоре получил офицерское звание, то Алексей еще долго носил сержантские нашивки, честно заработанные в десантных войсках и подкрепленные затем двумя годами милицейской патрульной службы. Среднюю и высшую школу милиции он окончил заочно, уже будучи инспектором уголовного розыска. При всем несходстве характеров, их дружба была объяснима: у одного имелись прочные теоретические знания, у другого - опыт, оперативное чутье. Со временем, когда процесс взаимообогащения исчерпал себя, а дальнейший опыт стал общим, выявились различия во взглядах на саму суть оперативной работы. Алексей считал основной и главной задачей оперативника - раскрыть преступление, найти и обезвредить преступника; что же касается прочего, в том числе причин и обстоятельств, обусловивших преступное деяние, то это, по его мнению, должно уже заботить следователя, суд. Валентин на этот счет придерживался иного мнения, так как полтора года работал следователем и не понаслышке знал, как трудно задним числом устанавливать факты, обстоятельства, показавшиеся кому-то несущественными, но потом, когда время упущено, вдруг заявляющие о себе (вернее о своем отсутствии) провалами в обвинительном заключении, ироническими улыбками адвокатов, а то и судебным определением о возвращении дела на доследование. Эти различия во взглядах, нередко приводили к спорам между товарищами. Однако на их дружбе это не отражалось. Валентин не разделял мнения Галины Юрко о том, что Мандзюк маневрирует, "крутит" с делом Зимовца. Все было проще: Алексей не торопился разбираться с Анатолием Зимовцем, полагая, что это дело пустяковое, задержанный никуда не денется, а потерпевший не явился, а из спецбольницы, куда вчера поместили Зимовца, сообщили, что у него сотрясение мозга, и Мандзюк начал принимать меры. Но у него что-то не ладилось, и он заморочил голову Юрко, которая так некстати пришла справиться о своем подопечном. Это можно понять. Непонятно другое: почему Алексей запаниковал после визита Юрко... Мандзюк встретил Ляшенко невесело: поднял и тут же опустил глубоко посаженные глаза. - Что с Зимовцем? - с порога спросил Валентин. - Плохо с Зимовцем, - глядя перед собой, буркнул Мандзюк. - Перелом основания черепа. Это уже точно. - Так! - Ляшенко сел напротив, рванул воротник модной рубашки. - Что же ты Юрко голову морочил? - А кто такая Юрко, чтобы я ей обо всем докладывал? - Но и мне ты неправду сказал! - Почему неправду? - поднял глаза Мандзюк. - Это ты зря, Валентин! О том, что у Зимовца перелом, выяснилось только сегодня. - Точнее? - Когда консилиум собрался - пополудни. - А сейчас уже 18 часов! Почему до сих пор не доложил? Надеялся, что обойдется? - Не скрою - надеялся. Консультант - профессор и тот поначалу сомневался. - Кто консультировал? - Заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии, профессор Пастушенко. По его настоянию Зимовца перевели в областную больницу. Возможно, придется делать сложную операцию. А это клиническая больница, базовая для кафедры Пастушенко - там самые лучшие специалисты. Я только оттуда. Отвез туда мать и сестру Зимовца. - Выходит, ты все как положено сделал, - невесело усмехнулся Валентин. - И тебя не ругать - хвалить надо. - Мордой меня об стол бить надо, - тяжело вздохнул Алексей. - За что же, Лешенька, позволь узнать? - За то, что беспокоился о том пижоне с поцарапанной рукой, а о Зимовце не подумал. А еще за то, что никак не могу найти этого пижона! - Плохо ищешь! - повысил голос Ляшенко. - Не так уже сложно отыскать в городе с семисоттысячным населением человека, о котором известно все, за исключением фамилии. - Да-да, - меланхолично закивал Мандзюк. - Он врач, скорее всего хирург. У него автомашина марки "Лада" бежевого цвета. Возраст в пределах от тридцати до тридцати пяти. Выше среднего роста. Шатен. Хорошо сложен, очевидно, занимается спортом. Особые приметы - свежая ножевая рана на правом плече и предплечье. - За чем же остановка? - Из двенадцати врачей-хирургов городских больниц, приметы которых приблизительно совпадают с названными, ни у одного нет свежей ножевой раны на правой руке. - Не исключено, что он - военный или железнодорожный врач, - уже менее уверенно предположил Валентин. - Мы выяснили через прокуратуру гарнизона, в железнодорожной больнице тоже справлялись. Даже наших врачей потревожили. Безрезультатно. - Тебе не откажешь в оперативности, - счел нужным заметить Ляшенко. Надо будет еще в районных, сельских больницах проверить. Возможно, он приезжий. - Возможно. Хотя сомневаюсь. А вот в том, что он сукин сын - убежден. Все понимаю: прицепился пьяный, полез драться, схватился за нож. За такое можно и надо давать по зубам. Одно до меня не доходит, он же видел, как парень упал, как треснулся затылком о бетонное покрытие площадки. Врач-хирург - он должен был сообразить, к чему это может привести. И он сообразил. Понимаешь, Валентин, он сразу сообразил, что сталось! Никто еще не понял, а он понял. Поэтому-то и удрал! В логике Мандзюку отказать было нельзя. И все-таки Ляшенко мысленно возразил ему. Что бы не говорили об этом человеке, трусом он не был. Трус непременно запаниковал бы, будь он хоть трижды хирург. А этот человек меньше всего думал о себе. Да, он заподозрил, что Зимовец получил черепную травму - несмотря на свою рану и вполне понятную неприязнь к тому, кто ее нанес, подумал об этом. И не только подумал - предупредил работников милиции. К сожалению, его неправильно поняли... Нет, Алексей прав. Ход рассуждений верный, а вывод неправильный. Очевидцы не только не внесли ясности, но еще больше озадачили оперативников, следователя. Официант ресторана "Сосновый бор" Шерстюк богатырского роста и сложения человек - показал, что молодой мужчина в темно-серой рубашке и девушка в белых джинсах зашли в ресторан около девяти вечера, сели за столик в противоположном от входа углу зала, заказали две чашки кофе, пирожные, сигареты. Когда они проходили через зал, с мужчиной поздоровался старший инструктор турбазы Бортник, который отмечал с двумя товарищами начало своего отпуска. Бортник пригласил мужчину и девушку к своему столу, но те отказались, сели за столик в углу. Не прошло и пяти минут, как появился Зимовец. Как раз в это время включили свето-музыку: в зале воцарился полумрак, несколько пар пошли танцевать. Зимовец стал подходить то к одной, то к другой паре, заглядывать в лица. Это не всем понравилось. Солидный на вид армянин, лет сорока, оттолкнул Зимовца от своей партнерши, выругал его. - Вы знаете этого посетителя? - спросил следователь Кандыба, молодой, серьезный парень, всего год назад пришедший в райотдел после окончания университета. - Нет! - быстро, словно он ожидал этого вопроса, сказал Шерстюк. - А почему вы решили, что он армянин? - По наружности определил, - отвел глаза официант. Шерстюк говорил неправду, это было ясно, и Кандыба начал его "прижимать". - Вы уверены, что не ошиблись? Но Мандзюк сделал предостерегающий жест: дескать, уходи от этого вопроса. Кандыба недовольно хмыкнул, но упорствовать не стал и спросил свидетеля о другом: - Раньше вы встречали этих посетителей: мужчину в темно-серой рубашке и девушку в белых джинсах? - Не встречал, - поднял глаза Шерстюк. - Правду говорю, товарищ следователь: первый раз видел. Мужчину, как я понял, хорошо знает старший инструктор Бортник, а с девушкой вроде бы наша буфетчица Марта Чижевская знакома. Марта на крытой веранде работает, там вечером тоже посетители бывают. Когда на стоянке поднялся шум, Марта выбежала на улицу. И девушка в белых джинсах выбежала из зала. Марта еще удержала ее, потому что девушка чуть было в перепалку не бросилась. - Вот как! - подал реплику Ляшенко. - Отчаянная девчонка! - подхватил Шерстюк. - Как заметила на своем кавалере кровь, взъярилась, что твоя тигрица: с земли какую-то железяку подняла и к этому парню рвется, кричит: "Ах ты, подонок!" Хорошо, что Марта ее удержала, а то свободно могла парня железякой рубануть. - Вы сказали, что Чижевская знает эту девушку. - Так мне показалось. Когда подъехал милицейский "Москвич", Марта что-то сказала девушке, и та сразу угомонилась: пошла к "Ладе", села за руль, кликнула своего дружка. - Вы спрашивали Чижевскую об этой девушке? - Спрашивал, но Марта отмолчалась. - Чижевскую вызывали? - спросил Валентин у Мандзюка. - Она в отгуле, в село поехала, - опередил Мандзюка Шерстюк. - У нее в селе родственники живут, а здесь она у кастелянши турбазы квартирует. - Скажите, Шерстюк, оказывал ли вам сопротивление Зимовец, когда вы выводили его из ресторана? - Да вроде бы брыкался, - хмыкнул Шерстюк, расправляя саженные плечи. - Вы били его? - Что вы, товарищ следователь! Мне драться нельзя - я покалечить ненароком могу... Старший инструктор турбазы Бортник был в отпуске, который проводил где-то под Одессой, но где именно, никто сказать не мог. Туристы Сошников (рабочий-литейщик из Жданова, 25 лет) и Попелястый (бухгалтер райпотребсоюза с Тернопольщины, 38 лет) в основном подтвердили показания Шерстюка. Что же касается бежевой "Лады", то и они, к сожалению, не запомнили ее номера. - Я на машину посмотрел только, когда они уже сели в нее. Но на номер не обратил внимания, - сказал Попелястый. - Возможно, Лена запомнила номер, - сказал Сошников. - Это наша туристка: мы с ней у ворот базы стояли, когда драка началась. Но она там стояла и до этого. Мы с Попелястым из города возвращались, и когда подошли к базе, Лена уже стояла у ворот. Потом она рассказывала, что видела, как этот мужчина и девушка в белых джинсах подъехали к ресторану. А минут через пять этот самый Зимовец с приятелем на мотоцикле подкатил. - На мотоцикле, с приятелем? - быстро переспросил Ляшенко. - Зимовец сидел позади, а мотоцикл вел второй парень. Так рассказывала Лена. - Вы видели, как началась драка? - Мужчина в темно-серой рубашке подбежал к Зимовцу, когда тот ногой по кабине "Лады" ударял. Со злости надо думать. "Лада" - новенькая без одной царапинки, а он ее ботинком. Мужчина, понятно, оттолкнул его. Нет, поначалу не бил - оттолкнул. А вот, когда Зимовец схватил его за рубашку и что-то стал выкрикивать, мужчина отступил на шаг и ударил его прямым в челюсть. По всем боксерским правилам врезал! И нокаутировал - парень упал. Но затем поднялся и снова к мужчине, как ошалелый, кинулся, полоснул его ножом. - Скажите, Сошников, когда Зимовец первый раз к мужчине подступил, был у него в руке нож? - спросил Кандыба. - Боюсь утверждать: мужчина к нам спиной стоял, а Зимовец к нему лицом, так что правую руку Зимовца нам не было видно. - Вы видели, как Зимовец упал после удара? - Видел. Навзничь упал. Полминуты, не меньше, лежал. Оно и понятно: с одной стороны - нокаут, а с другой - водка. - Почему вы решили, что он пьян? - Запах спиртного от него исходил, это, во-первых. Машину ногой бил, во-вторых. Разве трезвый будет автомобиль лягать? - Куда делся товарищ Зимовца, который привез его на мотоцикле? спросил следователь. - Мотоциклиста мы с Попелястым уже не застали. Я о нем со слов Лены знаю. - Фамилия Лены? - Точно не скажу. Она из Ровно, студентка. В 32-й туристической группе была. Ляшенко сделал знак Мандзюку, и они вышли в соседнюю комнату. - Елена Волкова, 1958 года рождения, студентка Ровенского института водного хозяйства, - предупреждая вопрос, сказал Мандзюк. - Вчера у нее окончилась путевка, но она задержалась в городе у знакомых. Собирается уезжать сегодня в 21:45. Билет на поезд заказывала через турбазу. Так что номер вагона известен. Я сам поеду на вокзал. Прихвачу с собой Сошникова и поеду. - Надо искать мотоциклиста. Исходи из того, что он товарищ Зимовца: себе за спину первого встречного не сажают. - Уже дал задание участковому. Он знает Зимовца и его приятелей. - Это тот участковый, который на Зимовца протоколы составлял? - Тот, старший лейтенант Вох! - Эх, Алексей, Алексей! - укоризненно покачал головой Ляшенко. - Если бы вчера проявил такую оперативность. Всего две минуты разговора со старшим инструктором Бортником избавили бы нас от изрядного куска работы. Ты уверен, что он уехал в Одессу? - Вчера рейсом в 16:00 улетел. - А с Зимовцем говорил? - Врачи не разрешают с ним разговаривать: он то и дело теряет сознание. - А сразу после задержания? - Я считал, что он пьяный и потому не стал беседовать. Ляшенко взволнованно заходил по комнате. - Понимаешь, что ты наделал? - Понимаю. Дай мне сутки, и я найду этого сукина сына. - Сутки - много! Сейчас каждая минута промедления отдаляет нас от цели на часы, а то и дни. Упущен оперативный момент. Практически ты начал действовать только сегодня - на третий день после задержания Зимовца - и до сих пор не можешь сказать, кто его травмировал. А парню все хуже и хуже. Вот и представь, что сейчас думают его родные, близкие. - Его сестра уже высказала мне, что думает, - нахмурился Мандзюк. - В милиции его, видите ли, избили. - Вот-вот! - подхватил Ляшенко. - Сегодня она так думает, а завтра полгорода так думать будет. - К утру я найду этого сукина сына, - буркнул Мандзюк. - Ночь спать не буду и своим ребятам спать не дам, но найду. - Не имеешь права ночью людей тревожить, - уже мягче сказал Ляшенко. - Я не твоих ребят имею в виду. До темноты еще два часа. Будем искать вместе. - Зачем же тебе... - начал было Мандзюк, но Валентин перебил его: - А затем, что завтра я вместе с тобой буду стоять на ковре у шефа и докладывать это дело. - Билякевич вернулся? - Завтра должен вернуться. Так что я не из одного дружеского расположения к тебе, напрашиваюсь в помощники - мне достанется не меньше... Вызывай дежурную машину и сержанта Бессараба. - Куда поедешь? - Вместе поедем, Лешенька. Вместе! Поедем беседовать с солидным на вид армянином лет сорока, которого ты и официант Шерстюк оберегаете от такого пассажа, как вызов в милицию. Кстати, кто он такой? - Акопян Стюарт Суренович, директор автотранспортного предприятия, смутился Мандзюк. - Надеюсь, тебе известен его адрес? - Я знаю, где он живет. Но может не надо к нему домой ехать? У него в семье не все ладно. А тем вечером в ресторане он с женщиной был. Я разговаривал с ним по телефону: он сам мне позвонил, рассказал, что видел. - Предупредил события! - усмехнулся Ляшенко. - Испугался, что милицейский патруль записал номер его машины. - Он - автомобилист и, естественно, не исключал такой возможности. Но поверь, я его давно знаю, он порядочный человек. Погоди, не иронизируй. У него такая катавасия с женой - никому не пожелаешь: с психикой у нее не все в порядке. И оставить ее не может, и жизни, как говорится, нет... А что тебе даст разговор с ним? Этого мужчину и девицу в белых джинсах он не знает. - А его дама? - Как-то неудобно было спрашивать. - Деликатность украшает человека. Но украшениями надо пользоваться умеренно. Тем более, работникам милиции. Поехали! Вызовешь его на улицу, поговорим в машине. ...Акопян уступил не сразу. - Не могу ее назвать. Поймите меня правильно, товарищи... Нет, не замужем - разведена. Но она занимает определенное положение, и я не вправе компрометировать ее. Скажу больше: она просила меня сделать все возможное, чтобы ее не вызывали в милицию, не впутывали в эту историю. - В какую историю, Стюарт Суренович? У нас нет претензий к вашей знакомой, но мне необходимо поговорить с ней. - Видите ли, - замялся Акопян. - Дело в том... В общем Инна Антоновна не любит и не умеет лгать, а, как я понял, она знакома с этой девушкой, но почему-то не хочет, чтобы ее расспрашивали о ней. - Координаты Инны Антоновны! - сразу изменил тон Валентин. - Я все понимаю, Стюарт Суренович, но поймите и вы: когда речь идет о преступлении, нельзя ссылаться на соображения нравственного порядка. Да и не может быть нравственным укрывательство преступника, при любых обстоятельствах! - Хорошо, я позвоню ей, - после довольно продолжительного раздумья сказал Акопян. - Пусть ваш водитель проедет метров двести вперед, там есть телефон-автомат. Переговорив по телефону со своей приятельницей, Акопян вернулся к машине, протянул Ляшенко вырванный из блокнота листок. - Это ее адрес. Она будет ждать вас в воскресенье после семнадцати часов. - Мне надо поговорить с ней безотлагательно, - настаивал Ляшенко. - Это невозможно, - развел руками Акопян. - Мой звонок застал ее на пороге: она собиралась уходить сейчас, верно, уже ушла на встречу со своими австрийскими коллегами. А завтра она принимает экзамены в институте. Ляшенко ничего не оставалось, как только спросить: - В каком институте? - В медицинском... На Рогатке Мандзюк остановил "Волгу" ГАИ, пересел в нее - ему надо было вернуться в райотдел за Сошниковым и вместе с ним поехать на вокзал к отходящему в 21:45 поезду. Ляшенко остался в "Москвиче", велел Бессарабу ехать на Окружную дорогу. - Тем же маршрутом, которым вы следовали вечером 28 июня. Миновав квартал новостройки, металлобазу и заправочную станцию, Бессараб вывел машину на высокую призму Окружной дороги, влился в поток автомобилей, идущих в сторону Киевского шоссе. Ляшенко опустил боковое стекло - в кабине было душно. Встречный ветерок приятно освежил лицо. Промелькнули поворот к Лесному озеру, автобусная остановка, на которой толпились люди с пляжными сумками, рюкзаками. - С озера, - заметил Бессараб. - Сегодня к воде было не подступиться: суббота! - На озере есть павильоны, буфеты? - спросил Ляшенко. - Есть продовольственные киоски. Но спиртное там не продают, сообразив, куда клонит капитан, сказал Бессараб и тут же предположил: Они, должно быть, с собой имели. Я имею в виду Зимовца и его приятеля. Знаете, как бывает, когда на озере собираются: кто плавки берет, а кто бутылку. Мы с лейтенантом Кленовым тоже считали, что они к той паре на озере пристали. Выпившие были, вот и прицепились. Версия была не хуже любой другой... До ресторана "Сосновый бор" было уже недалеко. Не прошло и трех минут, как Бессараб сделал правый поворот, и "Москвич" скатился на бугристую неровность боковой дороги, что углублялась в поредевший лес. Уже смеркалось. Между деревьями то здесь, то там вспыхивали светлячки ламп. - Дом отдыха "Заря", - сказал Бессараб, включая фары. Машину потряхивало на выбоинах. Из-за поворота навстречу выдвинулась громада "Икаруса". Бессараб прижал "Москвич" к обочине. "Икарус" величественно проплыл мимо. Из его окон выплеснулась многоголосая песня. - Турбазовский. Довезет их до Скального приюта, там заночуют, а утром по маршруту на перевал пойдут, - со знанием вопроса прокомментировал Бессараб. - Разве туристы ходят со Скального на перевал? - удивился Ляшенко. Когда-то этот маршрут альпинистским считали. - Сейчас и ребятишки этим маршрутом идут, через Южную расщелину мостик переброшен, а на Большой Орлиной скале ступеньки вырублены, да еще перила из труб поставлены. Ляшенко едва сдержал вздох - давненько он не был в Карпатах! А когда-то чуть ли не каждую пятницу выезжал: летом на Скальный приют, зимой - на горнолыжные трассы. Последний раз он был на горнолыжной базе с Региной. Это было год, а точнее, год и пять месяцев назад. Они тогда еще масленицу отмечали: блины на костре пекли... Ресторан "Сосновый бор" был стилизован под сельскую хату с крытой соломой крышей и приподнятым на ступеньки крыльцом. Бессараб остановил "Москвич" у ворот турбазы. Отсюда хорошо просматривались ресторан и примыкающая к нему бетонированная площадка для паркования автомобилей. На площадке теснилось несколько "Жигулей", три "Лады", две "Волги", микроавтобус. Автобус стоял на том месте, где, по утверждению Бессараба, вечером 28 июня произошла драка. Ляшенко попытался обойти автобус, но тот стоял впритык к плотной шеренге разлапистых елок. - Сегодня много посетителей, - заметил Бессараб. - В будние дни потише. А в выходные и туристы, и отдыхающие приходят. Но туристы в основном на крытую веранду идут. Там попроще и дешевле получается. Он показал куда-то за частокол елок. Ляшенко посмотрел по указанному направлению, но ничего не увидел. Зато услышал оживленные голоса, чей-то переливчатый смех, негромкую танцевальную мелодию. - Где стояла "Лада"? Бессараб показал, где и как стояла бежевая "Лада". Ляшенко топнул каблуком о бетонное покрытие площадки. В пятку словно током ударило. - Не хотел бы я здесь падать, - невесело усмехнулся он. За елками, на веранде, заглушая танцевальную мелодию, ударили гитарные басы. Низкий женский голос с хрипотцой "под Высоцкого" запел: Парня в горы тяни - рискни! Не бросай одного его! Пусть он в связке одной с тобой, - Там поймешь, кто такой... ...Несколько лет назад школьный товарищ - альпинист и горнолыжник Гарик Майсурадзе потащил его с собой на Скальный приют, где к ним присоединился Павел - внештатный тренер горнолыжной базы, и они втроем двинулись на перевал. Валентин шел в свой первый альпинистский поход, который едва не стал для него последним: на Большой Орлиной скале еще не было ни перил, ни ступенек, и он - как и следовало ожидать - очень скоро начал скатываться вниз. Павел едва удержал его... ...Значит, рядом с тобой - чужой. Ты его не брани - гони... Словно насмехаясь над ним, пела женщина за елками. - Вот же интересно: песня чисто мужская, а поет женщина. И не зря, видать, поет: туристки - девчонки отчаянные, - улыбнулся Бессараб. - Когда бы только туристки отчаянными были, - пробурчал Ляшенко. Иная выше ресторанных ступенек не поднималась, а работу всей городской милиции задает. Администратор ресторана - бритоголовый плотный мужчина в накрахмаленной рубашке и подчеркнуто строгом костюме, встретил Ляшенко без излишнего любопытства, всем своим видом показывая, что понимает озабоченность капитана и готов ему помочь. Говорил он много, но ничего заслуживающего внимания не сказал. Ляшенко уже собирался уходить, когда администратор предложил: - Может, с буфетчицей Лисович поговорите? Она вчера у Чижевской смену приняла. Чижевская, безусловно, рассказала ей об этой истории - такого у нас еще не бывало. Ляшенко пошел с ним на веранду. Администратор хотел представить его буфетчице, молодой, начинающей полнеть женщине, но Ляшенко узнал ее. - Я сам представлюсь, - остановил он администратора. Два года назад Виктория Лисович - в ту пору официантка ресторана "Летний", что в Суходольском парке, проходила как свидетель по делу Панченко-Роговика... Ляшенко подошел к стойке, взобрался на высокий табурет, кивнул Лисович. - Здравствуйте, Вика. Не знал, что вы здесь работаете. Она пристально посмотрела на него, стараясь припомнить их знакомство. Ляшенко не стал испытывать ее память - назвал себя. Она вспыхнула, но затем натянуто улыбнулась: - Добрый вечер, товарищ капитан. Извините, не узнала. Я уже второй год здесь работаю. Сразу, как замуж вышла, перевелась сюда. Мы в этом районе квартиру получили... Она говорила быстро, словно боясь, что он остановит ее, и она не успеет рассказать, что со времени их первого - не очень-то приятного для нее знакомства, в ее жизни многое переменилось, и она уже не та безответственная девица, которая была причастна к печальной памяти Панченко-Роговика. - Рад за вас, Вика, - как можно искреннее сказал Ляшенко. - Мамой еще не стали? Она смущенно прыснула, прикрылась рукой: - Скоро стану: в августе уже в декрет! Они поболтали немного, а потом Ляшенко спросил о том, что его интересовало. - Марта мне рассказала. Она знает эту девушку в белых джинсах. И я ее, между прочим, знаю: она медицинской сестрой в детской поликлинике работает. Я туда в консультацию хожу, встречаю ее. И здесь у нас несколько раз видела. - Вы не ошибаетесь? - Ляшенко даже подался вперед. Признаться, он не ожидал такой удачи. - Марта ее подробно описала. А потом имя такое же - Ляля. Ее трудно с кем-то спутать: крупная, фигуристая, интересная. И одета по моде, да не в простенькое - в такое, что за медсестринскую зарплату не купишь. Но она не из таких. Понимаете? Я таких за версту вижу. А эта с гонором: с кем бы ни была, сама за себя рассчитывается. И по манерам, разговору, видно, что воспитанная. Хотя конечно, ни за что ручаться нельзя. Тем более, что у меня как-то сомнение в отношении нее появилось. Было это вскоре после майских праздников. Приехала она с одним мужчиной. До этого в компаниях парней, девушек приезжала. А тут вдвоем с мужчиной. И не на автобусе - на "Ладе" подкатили. А главное, что я знаю этого мужчину. Когда-то знала, быстро поправилась Лисович. - Доном его зовут. Помните Роговика? Это его дружок был. На вид он, конечно, солиднее Роговика: умеет держаться, пьет умеренно, не хамит. Но это внешне, а по существу тот еще тип! Можете мне поверить. Я предупредила Лялю, чтобы она была поосторожнее с ним. Выбрала момент, когда он отлучился, и предупредила. Жалко ее стало: Дон - такой, что своего не упустит. А она, что ни говорите, еще девчонка. - Как она реагировала на ваше предупреждение? - Поблагодарила, но так это - свысока: дескать, нашла кого учить! - Вика, не Дон был здесь с Лялей вечером двадцать восьмого? - Как Марта описала, вроде бы он. - Марта его не знает? - Не знает. Раньше он у нас не бывал. Что ему, с его размахом, на такой веранде делать, где только кофе, да сухое вино продают? Из вин он лишь шампанское признает, а кофе вообще не пьет. - И тем не менее, он появился здесь. - Это потому, что Ляля здесь бывает, а он ее на прицел взял. Я так понимаю. - Чем занимается Дон? - Когда-то он мне доцентом медицины представился. Думаю, соврал. Какой из него доцент! Хотя к медицине какое-то отношение имеет: в болезнях более или менее разбирается, может рецепт выписать, а потом - не буду скрывать - в свое время доставала через него дефицитные лекарства для знакомых. - По спекулятивной цене? - Само собой! Дон что хочешь достанет. Я не только лекарства имею в виду. К примеру, в тот раз, когда он здесь был, я попросила его достать однотомник Сент-Экзюпери - мой любимый писатель. Обещал, но такую цену заломил, что я отказалась. - Значит, он и книгами спекулирует? - Он и себя продаст, если кто заплатит! - усмехнулась Лисович. - А книги - его хобби. Я как-то была у него дома, там полным-полно книг. И все такие, которые так просто не купишь. - Дефицитные? - Есть и дефицитные. Но больше старых: в таких, знаете, толстых переплетах с уголками. Я почему решила, что тем вечером с Лялей был Дон? Марта показала мне книгу, которую нашла на стоянке после драки. - Что за книга? - Старинная: листы пожухлые, хрупкие, а переплет новый: кожаный, не потертый, с металлической застежкой. Видно, ценная книга, если ее наново, да еще в такой переплет переплели. Названия не запомнила - оно какое-то чудное, но на медицинскую тему - это я поняла... Ляшенко был доволен собой: завтра же он отыщет и Лялю в белых джинсах, и дипломированного спекулянта Дона - это уже вопрос времени, причем минимального. Что же касается деталей, то их выяснением пусть занимается Мандзюк - к чему-то и ему надо приложить руки. Впрочем, он может подбросить Мандзюку и одну немаловажную деталь: причиной конфликта была не девушка, а книга. Очевидно, редкая, пользующаяся спросом библиофилов. И Дон, и Зимовец были завсегдатаями книжного рынка. И тот, и другой ходили туда небескорыстно. Редкая, дорогая книга стала предметом вожделения обоих. Кто-то из них надул другого, скорее Дон - он старше, а стало быть, опытней, изощреннее. Остальное решили эмоции. Вот и вся предыстория! До этого, рано или поздно, докопался бы и сам Мандзюк. Но он Валентин - сделал это быстрее и не только потому, что хотел утереть нос Алексею. Строго говоря, речь шла о чести городской милиции. Уже стемнело. На небе замерцали звезды. Стрелки часов приблизились к одиннадцати. Он не стал заезжать в райотдел - пусть Мандзюк сам беседует с Леной из Ровно, вряд ли она сообщит что-то существенное. Дома был в половине двенадцатого. Мать только вернулась с работы: она подменяла в студии Регину и вела вечернюю передачу "Новости киноэкрана". Отец хлопотал на кухне: - Кто будет ужинать? - спросил он. - Я, - поднял руку Валентин. - Вот только умоюсь. - Ребенок проголодался, - улыбнулась мать. - Где нагулял аппетит? - В ресторане, мамочка. - Не смешно. - Ты права: это было скорее грустно. Когда он пришел на кухню, мать уже допивала свой кефир. - Вернулась Регина, - покосившись на него, сказала мать. - Она была на кинофестивале. И знаешь, кого там встретила? Синьорину Клару. Пожалуйста, не делай вид, что ты не помнишь эту потрясающую мулатку. - Я помню ее, мама, - не поднимая головы, буркнул Валентин. - Регина привезла от нее привет тебе и твоему приятелю с горнолыжной базы. Ты, очевидно, догадываешься, о ком я. Напомни, пожалуйста, его имя. - Пожалуйста: Павел. Но он приятель не мой - Гаррика Майсурадзе, которого Регина знает не хуже меня. Мать уже не впервые заводила разговор о Регине. Она никак не могла примириться с мыслью о том, что из-за вздорного каприза сына (ну, подумаешь, не так и не то сказала девушка!), не обрела столь респектабельную невестку. Но у него на этот счет было другое мнение. - У Регины есть какое-то дело к тебе, - не отступала мать. - Если не возражаешь, я приглашу ее завтра к обеду. - Завтра я буду занят, - нахмурился Валентин. - Можешь сообщить ей номер моего служебного телефона: делами я занимаюсь на работе. Мать неопределенно улыбнулась. - Валя, прости, чуть не забыл, - сказал отец, - тебя спрашивала младший лейтенант Юрко: просила, чтобы ты - когда бы ни пришел - позвонил ей домой. - Кто такая Юрко? - насторожилась мать. Валентин едва сдержал улыбку: с такой мамой не соскучишься! Сказал, как можно равнодушнее: - Кто такая Юрко? Наша Галочка. - Не прикрывайся коллективом, Валентин! - Мама, от твоей проницательности никуда не денешься. Признаюсь: влюблен, но безнадежно. - У нее есть другой? - Возможно, я не уточнял. Но дело не в этом: она слишком молода для меня. - Прости, но сколько ей лет? - Я не задаю женщинам бестактных вопросов. - Валентин, ты невыносим! Мать надулась, ушла в свою комнату. Отец хмыкал, прикрывшись газетой: то ли смеялся, то ли возмущался - его не всегда поймешь. Валентин пошел к себе, отыскал в справочнике телефон Юрко, позвонил ей. - Галина Архиповна? - сам не зная почему, официально спросил он. Это Ляшенко. Извините, что поздно беспокою. Собственные слова показались ему вычурными, непривычными. Но Галина не обратила на это внимания. Сбивчиво и торопливо, очевидно волнуясь, она доложила, что весь вечер просидела в госавтоинспекции, перебирая карточки женщин-водителей. Их оказалось довольно много, даже в интересующем их возрастном диапазоне. Еще подумала, что вот будет морока беседовать со всеми. Но потом, неожиданно для себя, встретила фамилию, которая сказала ей о многом. - Ну не то, чтобы сказала, - натолкнула на определенную мысль, поправилась Галина. - Понимаете, Валентин Георгиевич, это не совпадение я интуитивно чувствовала, что без нее не обошлось. - Без кого? - невольно улыбнулся Ляшенко. Он подумал, что Галина увлеклась своим заданием, которое хотела исполнить как можно лучше, и в работу включилась фантазия, что ей было не занимать. - Без Ларисы? - Ясно, хотя и не совсем. Кто такая Лариса? - Дочь профессора Яворского. У нее "Лада" бежевого цвета! Это ее - не мужчины того - машина; по наследству после смерти отца досталась. Я документы подняла... - Галочка, ты, видимо, устала, - как можно мягче сказал Ляшенко. Поговорим завтра. - Валентин Георгиевич, ну как вы не понимаете! - чуть ли не простонала Галина. - Да если хотите знать, Лариса в свое время флиртовала с Зимовцем! Правда, это было год назад, но она сама мне призналась, когда я приходила к ее отцу по поводу того же Зимовца. Причем сказала об этом с бравадой: вот, дескать, какие у нас отношения! Представляете? - Я не только представляю, но совершенно точно знаю, что уже полночь и тебе, и мне пора спать, - все еще мягко, но уже настойчиво сказал Ляшенко. - А еще я знаю и тоже абсолютно точно, что девицу в белых джинсах зовут Лялей. - Правильно! - подхватила Галина. - Так зовут ее дома. - Ты уверена? - Ну конечно! Ведь это уменьшительное от имени Лариса. Покойный Матвей Петрович так и называл ее. Кстати, сержант Бессараб оказался прав: ей двадцать лет... Валентин уснул не сразу: беспокоили мысли, что наскакивали одна на другую, толкаясь и путаясь, не желая увязываться, строиться в ряд. Дон... Книга... Лариса - Ляля, которая в свое время - это надо же! - флиртовала с Зимовцем. Любопытно, сколько лет было Толику Зимовцу, когда его искушала эта демоническая Ляля в белых джинсах? Семнадцать. Что ж, вполне могло быть! Но при чем здесь книга? И зачем Дон прихватил ее с собой в ресторан?.. Ему приснились события и люди, весьма далекие от его служебных дел: Регина и потрясающая Клара (кофе со сливками в обрамлении бриллиантов) актриса Бразильского теле-радио-кино и еще чего-то, которую Регина прямо из студии притащила домой к Ляшенко как раз вовремя: Валентин с рюкзаком за спиной и лыжами на плече стоял в дверях, а на улице его ждал газик горнолыжной базы. Негодование Регины улеглось, едва потрясающая Клара заявила, что тоже хочет в горы и непременно сейчас (время близилось к полуночи), ее только смущает отсутствие таких ботинок, как у синьора Валентина (декольтированное эстрадное платье и ажурные чулки она, видимо, считала подходящим нарядом для такой прогулки). Конечно, это был чистейший абсурд - газик был набит до отказа, но все вышло так, как пожелала Клара. Мать одолжила ей фетровые бурки и спортивные шаровары, отец - свитер и шерстяные носки, сосед - рыбацкий полушубок. Оставшиеся в доме теплые вещи пошли на экипировку Регины. Перед стартом все хлебнули для обогрева из корчажки, которую так это, на всякий случай, прихватил с собой Гаррик Майсурадзе. В корчажке оказался коньяк и всю дорогу старенький газик трясся от смеха: Регина воевала с рюкзаками, ведрами, лыжами, которые дружно сваливались на нее при каждом повороте; Гаррик безуспешно пытался выбраться из колодца, сооруженного предусмотрительным шофером из запасных скатов; доктор Год восседал на бидоне с соляркой; Валентин на плечах Саноцкого из Института общественных наук, а потрясающая Клара на коленях у Павла. Она оглушала Павла попеременно то своим бархатным меццо-сопрано когда все пели о крокодиле Гене и еще о чем-то экзотическом, но не страшном - то субтропическими поцелуями - очевидно, она не представляла, как вести себя иначе на коленях у мужчины. И все было бы хорошо, когда бы Регина при каждом удобном случае не шептала в самое ухо Валентина: "Я сказала синьорине Кларе, что мой жених - адвокат. Надеюсь, ты не станешь уличать меня во лжи?" Он не стал ее уличать, но настроение у него испортилось даже во сне. Как, впрочем, и тогда - полтора года назад - на горнолыжной базе... Утром было все, как обычно: встал в половине седьмого, поупражнялся с гантелями, эспандером. Пока принимал душ, брился, мысленно перебрал незавершенные дела - на свежую голову думается лучше. Подивился себе: чего вчера обрушился на Мандзюка, вмешался в дело, которое не стоило разговоров, что о нем вели? Очевидно, поддался настроению Галочки Юрко. Ох уж эта Галочка с ее вежливой настойчивостью и чрезмерными эмоциями! Вчера, в шутку он сказал матери, что влюблен в Галочку. А может, это не шутка, и он действительно влюблен в нее, но не явно - подсознательно? Бывает ли такое? Придется проконсультироваться с психологами... Насвистывая веселую мелодию, он уже направился завтракать, когда отец позвал его к телефону. Звонил Мандзюк. - Вчера допрашивал Волкову. Ну, эту Лену из Ровно, - забыв поздороваться, сразу забубнил Алексей. - Она показала, что Зимовец, когда соскакивал с мотоцикла, упал навзничь и ударился затылком о дорогу... Понимаешь, какая петрушка теперь получается! - Извини, Леша, я тороплюсь, - недовольно поморщился Валентин. - Да и дело не стоит того, чтобы его докладывать поэтапно. Доложишь, когда закончишь. Сам закончишь. Правда, вчера я кое-что уточнил, да и Галочка немного поработала на тебя, но об этом в двух словах не скажешь. Заскочи ко мне днем, я передам тебе наши сведения. У тебя все? Мандзюк ответил не сразу: вначале откашлялся, словно у него запершило в горле, и только затем сказал: - Зимовец умер. Сегодня на рассвете. Областная клиническая больница размещалась в продолговатом трехэтажном здании на улице Коцюбинского. Вход и въезд были со двора. Несмотря на ранний час - еще не было восьми - возле приемного отделения стоял "рафик" скорой помощи, несколько поодаль разворачивалась вторая машина с красными крестами на бортах. В длинном без окон коридоре на свежепокрашенных стенах висели график дежурств младшего медперсонала, стенгазета, расписание дней и часов посещения больных. У двери приемного отделения прямо на полу стояли носилки, на которых лежал человек с окровавленным лицом и стиснутой плоскими шинами ногой. Одной рукой он прикрывал глаза, другой показывал на бок: - Вот здесь, под ребрами, больнее всего, - сдерживая рвущийся стон, говорил он склонившемуся над ним врачу. - Во вторую операционную, - распрямляясь, сказал врач топтавшимся рядом санитарам. - У него, должно быть, внутреннее кровотечение. Пусть сразу кладут на стол. Я буду оперировать. Быстрее! - А раненному бросил сердито: - Долихачились, молодой человек! Санитары схватили носилки, заспешили к лифту. Врач пошел следом. Из приемного покоя выглянул второй врач - худощавый с русой вьющейся бородкой, окликнул рослую санитарку: - Мария, ради Бога, заберите отсюда эту кошмарную бабу! Она мешает работать. Санитарка решительно шагнула за дверь и тут же вывела в коридор простоволосую женщину в домашнем халате. - Ой, мамочка, что я наделала! - причитала женщина. - Он же весь ошпаренный. Места живого нет. Не хотела я. Так вышло: кастрюлю с плиты снимала, а он под руку подвернулся. Ой, мамочка, он же теперь меня совсем бросит! - Мужа кипятком окатила, - пояснил всезнающий Мандзюк. - Вот еще одно дело придется заводить. - Думаешь, она не случайно плеснула на него? - недоверчиво спросил Ляшенко. - Зачем думать? Я знаю. И ее знаю, и ее распрекрасного мужа. Пять лет женаты и все пять лет дерутся. Правда, до кипятка еще не доходило... Он раздобыл два халата, которые пришлось набросить на плечи. Свернув в боковое ответвление коридора, они по служебной лестнице поднялись на второй этаж. В кабинете заведующего нейрохирургическим отделением застали следователя Кандыбу, судебно-медицинского эксперта Сторожука - красивого мужчину лет сорока пяти, профессора Пастушенко - степенного, неторопливого, в массивных роговых очках, придававших его крупному, ухоженному лицу внушительность, монументальность, лечащего врача, дежурившую всю ночь медсестру - полную блондинку с настороженными глазами. Пастушенко сидел за столом завотделения, листал историю болезни, то и дело подзывал лечащего врача, молча тыкал пальцем то в одну, то в другую запись. Врач почтительно склонился к нему, что-то объяснял полушепотом. Кандыба беседовал с медсестрой, а Сторожук, расположившись на застеленном простыней топчане, просматривал материалы следственного дела, прихваченного с собой Кандыбой. Потом пришел еще один врач, показал Пастушенко рентгеновские снимки, которые они стали смотреть на свет, о чем-то советуясь... - Я, пожалуй, пойду, тут и без меня тесно, - сказал Мандзюк. - Если понадоблюсь, буду в отделе кадров. Ляшенко не стал его задерживать - в кабинете, действительно, было многолюдно. Пастушенко продолжал разглядывать снимки, удовлетворенно кивал, несколько раз повторил так, чтобы слышали все: - Это трудно было предвидеть: смещение по трещине. К тому же ушиб мозга. - ...Вечером была его сестра, допоздна сидела, - рассказывала следователю полная блондинка. - Он был в сознании, разговаривал с ней. Когда она ушла, уснул. А в половине четвертого наступило резкое ухудшение: он захрипел, стал дергаться. Санитарка позвала меня, я вызвала дежурного врача, позвонила на дом лечащему врачу - доктору Самсонову. Но Самсонов приехал, когда он уже был мертвый... Медсестра сокрушенно развела руками. - Вчера вечером вы разговаривали с Зимовцем? - спросил следователь. - Разговаривала. Он спрашивал, можно ли ему читать: сестра принесла книгу. Я сказала, что нельзя, и велела его сестре забрать книгу. - Что еще он говорил? - Спрашивал, работает ли у нас доктор Новицкий. - Кто такой Новицкий? - Ассистент, хирург. - Зимовец был знаком с ним? - Очевидно... Наконец Пастушенко передал историю болезни следователю, и Ляшенко сумел заглянуть в нее. В разделе "анамнез", где фиксируются обстоятельства, связанные с началом заболевания, была такая запись: "...По словам больного, ему был нанесен сильный удар кулаком в подбородок, в результате чего он упал, ударился спиной и затылком о бетонированное покрытие площадки, на некоторое время (приблизительно до минуты) потерял сознание..." - Удар был нанесен с расчетом сбить с ног, - вырвалось у Ляшенко. - Боксерский удар, - подхватил Кандыба, - так бьют, стараясь послать в нокаут. Но опытному противнику не так-то просто нанести такой удар, да и об пол ринга не расшибешься. А тут был вышедший из себя парнишка, едва знакомый с боксом, а под ногами - бетонированная площадка. Учитывал ли это мужчина в темно-серой рубашке? - Должен был учитывать! - резко сказал Валентин. Однако Сторожук усомнился в первопричине травмы. - Не исключено, что он был травмирован еще до драки, когда неудачно соскочил с мотоцикла, - отложив следственное дело и бегло просмотрев историю болезни, сказал он. - Но он потерял сознание только, когда упал на стоянке, - возразил Кандыба. - Дискутировать на эту тему рано. Вскрытие прояснит картину. Хотя при таких обстоятельствах... - Сторожук сделал неопределенный жест. - Учитывая ваше нетерпение тянуть не буду: после обеда постараюсь дать предварительное заключение. Он положил историю болезни в портфель. Пастушенко сказал, что хочет присутствовать при вскрытии. - Пожалуйста, Александр Григорьевич, - пряча в глазах усмешку, сказал Сторожук. Пастушенко не торопился: поерзав в кресле, он положил руку на телефон, весьма недвусмысленно посмотрев на Ляшенко и следователя. Пришлось выйти в коридор. Сторожук вышел вместе с ними. - И это он должен согласовать с начальством. Удивляюсь, как он оперирует без телефона, - не оченьпочтительно отозвался он о Пастушенко. - Видимо, эта смерть задевает престиж кафедры, - предположил Кандыба. - Не столько кафедры, сколько личный престиж, - возразил Сторожук. Профессор Яворский в таких случаях шел на риск. - Вы знали профессора Яворского? - спросил Ляшенко. - Великолепно знал. Мы жили по соседству. Талантливейший был хирург! И человек прекрасный: простой, отзывчивый. В него верили, как в бога и больные, и врачи... Он не договорил: в коридор вышел Пастушенко, и они направились к выходу. С ними пошел Кандыба. Ляшенко отыскал отдел кадров больницы. Мандзюк был еще там. Валентин застал его непринужденно беседующим с двумя кадровичками: дородной женщиной неопределенного возраста и востроносенькой смешливой девушкой. Когда бы не записная книжка в руках Алексея, можно было бы подумать, что он треплется от нечего делать. Они вышли в коридор, и Мандзюк перелистал книжку, удовлетворенно хмыкнул: - Знаешь, мне иногда приходят в голову неплохие мысли, - сказал он, пряча книжку в карман. - Пока ты беседовал с титулованными докторами, я вот о чем подумал: а не является ли Дон ассистентом кафедры Пастушенко? Кафедрой-то раньше заведовал Яворский. - И что из этого? - А то, что ассистенты обычно очень внимательны к дочерям заведующих кафедрами. - Яворский умер полгода назад. - Значит, это был отголосок прежних отношений. - Ты уверен? - На девяносто пять процентов. Пока ты беседовал с Пастушенко и Сторожуком, я немного посплетничал с кадровичками. Младшая говорит, что ассистент Боков одно время претендовал на роль жениха Ларисы Яворской, хотя старшая утверждает, что по возрасту и замашкам он больше подходит Ларисиной мачехе. Но последнее суждение, на мой взгляд, чересчур субъективно - уж очень хмурилась старшая кадровичка, когда младшая пела дифирамбы Бокову. - Сколько Бокову лет? - Тридцать два и, судя по рассказам кадровичек, он весьма недурен собой. - Поэтому ты заподозрил его? - Есть еще некоторые нюансы. На следующий день после событий у ресторана "Сосновый бор", то есть позавчера, ушли в отпуск сразу три ассистента: Боков, Гаркуша, Новицкий. - Ничего удивительного - начались летние каникулы. - Эти ассистенты работают не только на кафедре, но и числятся ординаторами больницы. - Ординаторам тоже полагается отпуск. - Верно. Но по графику Боков и Новицкий должны идти в отпуск в середине июля, а позавчера было только 29 июня. Причем и тот, и другой передали заявления об отпуске через своих коллег и в больнице 29-го уже не появлялись. - Новицкий, говоришь? - Я на Бокове остановился. - Фамилия не понравилась? - Почти угадал. Только не фамилия - имя. Необычное у него имя Донат. - А уменьшительное, очевидно, Дон. Другого не придумаешь! - Просто, как все гениальное! - недоверчиво усмехнулся Ляшенко. Адрес узнал? - Узнал. Но младшая кадровичка высказала предположение, что сейчас Донат живет на даче. - Она посвящена в такие детали? - Неженатые ассистенты на дороге не валяются! Координаты дачи кадровичка не знает или запамятовала, уточнять было неловко. Но надеюсь, что товарищ Бокова, доктор Самсонов, который, кстати, передал в кадры заявление Доната, информирован лучше. Сейчас Самсонов должен быть в ординаторской. Заглянем по пути? ...Дверь в ординаторскую была полуоткрыта, оттуда доносились голоса. Разговаривали двое: женщина и мужчина. Мандзюк сделал предостерегающий жест. Ляшенко невольно прислушался. Говорила в основном женщина, а мужчина только подавал неуверенные реплики. - Как это могло случиться, доктор? - спокойно, пожалуй, слишком спокойно, спросила женщина. - Вчера ему стало лучше, он даже разговаривал со мной. Недолго, но разговаривал. Я все понимаю: тяжелая травма, сразу не разобрались - ошибаются и врачи. Но потом, когда все стало ясно, почему его не оперировали? Такие операции делают. Матвей Петрович запросто делал такие операции. - Не так уже и запросто, - возразил врач. - Запросто, - упрямо повторила женщина. - Я знаю: он нашего отца оперировал. У отца почти такая же травма была, даже хуже: у него был перелом позвоночника. - Трудно сказать, что хуже, - осторожно заметил врач. - А почему профессора Пастушенко не вызывали? - Кризисное состояние наступило внезапно. Я, признаться, не ожидал. Уже ничего нельзя было предпринять. - Но об операции говорили еще вчера. - Разговор такой был, но профессор Пастушенко... - врач замялся. - Понимаю, профессор не рискнул, - горько усмехнулась женщина. - Он осторожный человек, ваш Пастушенко. За свою репутацию боится, а за чужую жизнь не очень-то переживает. Она ведь чужая! А почему Пашу не позвали? Я же просила вас, если Толику будет совсем худо, чтобы Пашу разыскали. Он бы все сделал, чтобы Толика спасти. Когда с нашим отцом несчастье произошло, он всех на ноги поднял и вместе с Матвеем Петровичем оперировал его. Я рассказывала вам, как он к Толику, ко мне, ко всей нашей семье относится! - Ассистент Новицкий - хороший врач, но сравнительно недавно занимается нейрохирургией и вряд ли смог бы... - Смог, - перебила его женщина. - Он - ученик Матвея Петровича. Я уверена, он смог бы спасти Толика... - Сестра Зимовца, - шепнул Мандзюк. Ляшенко кивнул, он уже сам догадался. Неожиданно Мандзюк попятился: из ординаторской, зябко кутаясь в долгополый белый халат, вышла Тамара Зимовец. Заметив Мандзюка, она пошла прямо на него. Ляшенко преградил ей дорогу. - Спокойно, Тамара Ивановна. Я все понимаю и искренне соболезную вам, но, поверьте, вы неправы в своем предположении. Она удивленно посмотрела на него, спросила, кто он такой. Ляшенко назвался. Ему было не по себе: молодая женщина смотрела на него в упор, и он с трудом выдерживал ее режущий взгляд. - Можете не переживать за свои погоны, - недобро усмехнулась она. - И оправдываться передо мной не надо. Перед собой лучше оправдайтесь... Я разговаривала вчера с Анатолием. Последний раз разговаривала с ним... У нее задрожали губы, но она пересилила себя: - Можете не переживать, снова повторила она. - Толик сказал, что он один во всем виноват. Видно, чувствовал, что ему уже не жить, и все на себя взял. Он такой был: отходчивый, незлопамятный... Она не выдержала, заплакала, быстро пошла к выходу. Мандзюк платком вытер вспотевший лоб: - Я найду этого сукиного сына, даже если он улетел на Марс, негромко сказал он. - Какой теперь в этом смысл? - пожал плечами Ляшенко. - Большой, Валентин, очень большой! Я хочу посмотреть ему в глаза. Понимаешь, просто посмотреть. Мандзюк до хруста сжал кулаки... Ляшенко разделял его негодование, но вместе с тем рассуждал здраво: показания свидетелей о том, что противник Анатолия Зимовца оборонялся, теперь подтверждены предсмертным признанием самого Анатолия. А это значит, что Донат Боков (если это только был он) действовал в пределах необходимой обороны. Правда, есть одна существенная и до сих пор не выясненная деталь - был ли нож в руке Анатолия, когда он впервые подступил к своему противнику? Если был, дело надо прекращать за отсутствием состава преступления: Боков действовал правомерно. Но даже, если это не так и роковой удар был нанесен еще безоружному парню, то доказать это сейчас практически невозможно. Боков не станет давать показания против себя. Однако начальник отдела, подполковник Билякевич, который тем утром вернулся из командировки и прямо с вокзала заехал в Управление, не согласился с Ляшенко: - Не торопитесь с выводами, Валентин Георгиевич. Оценивать чьи бы то ни было действия можно лишь, когда выяснены их цели и подоплека. А в этом деле много белых пятен. Мы не знаем, из-за чего возникла ссора и кто ее затеял; нет однозначного объяснения поведения человека, которого вы считаете врачом, хотя, возможно, он биолог, преподаватель физкультуры люди этих профессий хорошо знают анатомию, а в их машинах, - если таковые имеются, - всегда найдется дорожная аптечка, или, на худой конец, бинт. Подозрения в отношении ассистента Бокова имеют определенный смысл, но пока ничем не подкреплены. Непонятна роль девушки в белых джинсах, которую вы определили как Ларису Яворскую, хотя, возможно, Лариса - не Ляля. У Ларисы собственная машина, а по словам буфетчицы Лисович, Ляля приезжала в ресторан, как правило, рейсовым автобусом. Даже в последний раз не она вела "Ладу" - села за руль, лишь когда ее спутник выбыл из строя. Вас насторожило, что они поспешили убраться с места происшествия, едва появился милицейский патруль. И меня это настораживает. Но что за этим стоит, мы еще не знаем. Так что, как видите, делать выводы рано. Валентин считал, что Билякевич чересчур скрупулезен - на начальника отдела порой находила эдакая дотошность. Правда, он достаточно корректно указал на недоработки, поспешность выводов, но по существу отчитал как мальчишку. Однако шевельнувшееся в душе чувство обиды не родилось формально Билякевич был прав, а форма для юриста не пустяк. Тем не менее, Валентин ни на миг не усомнился в своем предположении, не сомневаясь, что оно будет подкреплено соответствующими доказательствами, за которыми дело не станет - основные события произошли на глазах у многих людей. Предположение вскоре подтвердилось. Но лишь отчасти... То, что вечером 28 июня в ресторане "Сосновый бор" с мужчиной в темно-серой рубашке была не кто иная, как Лариса Яворская, установила Галина Юрко. Желая как можно скорее подкрепить свою догадку неопровержимым доказательством, она тем же утром выяснила, что Лариса является студенткой третьего, а, вернее, уже четвертого курса педиатрического факультета мединститута, и к тому же с начала марта нынешнего года работает на полставки медицинской сестрой 6-й детской поликлиники в поселке Октябрьском, откуда до ресторана "Сосновый бор" не больше десяти минут езды рейсовым автобусом. Не довольствуясь этими сведениями, Галина вызвала сержанта Бессараба и вместе с ним поехала в 6-ю поликлинику. И хотя она утверждала, что опознание произошло незаметно для Ларисы, Ляшенко не был уверен в этом. Он отчитал Галину за такую самодеятельность. Она надулась, но затем была вынуждена признать, что погорячилась. - Опознать по всем правилам ее смогут другие свидетели, - глядя виновато на Валентина, сказала она. - Главное, что мы теперь знаем достоверно: это была Лариса Яворская. В какой-то мере Галина была права, и Валентину - в который раз передалось ее нетерпение, желание безотлагательно выяснить все в этом, казалось бы, несложном, но почему-то не дающемся в руки деле. Едва Галина ушла, Валентин вызвал дежурную машину и поехал в бюро судебно-медицинской экспертизы. Сторожук еще не мог сказать что-либо определенное. - Характер перелома таков, что надо говорить о двукратном травмировании: падение с мотоцикла, как я предвидел, не прошло для Зимовца бесследно. Кроме того, имел место ушиб головного мозга, что, очевидно, сказалось на последующем поведении Зимовца - так считает профессор Пастушенко. Судить о том, когда был получен ушиб: во время первого или второго падения, трудно. Я направил материал на гистологический анализ. Послушаем, что скажут лаборанты. - Но второе падение усугубило первичную травму? - Безусловно. Это было, пожалуй, самое главное. Они помолчали, потом Ляшенко спросил: - Зимовца можно было спасти? - Радикальное вмешательство при таком положении было рискованным. Врачи имели основание надеяться, что молодой организм преодолеет кризисное состояние. Валентин отметил, что на сей раз Сторожук более осторожен в своих выводах. - И все-таки на операционном столе были бы какие-то шансы? - решил не отступать он. - Все зависит от искусства хирурга. - Профессор Яворский пошел бы на такую операцию? - Скорее всего. - А ассистент Новицкий? - Паша? - неожиданно улыбнулся Сторожук. - Не думаю. Хотя парень он рисковый, но такие операции ему еще не по плечу. Вопросы на судебно-медицинские темы исчерпали себя, но Ляшенко подумал, что Сторожук может помочь ему и в другом: коллега и сосед покойного профессора Яворского, он, несомненно, знает Ларису... - Валентин Георгиевич, я не готов к такому разговору, - нахмурился Сторожук. - Вы хотите, чтобы я характеризовал дочь человека, которого глубоко уважал, и при этом рассчитываете на мою объективность. Но мне известно, для чего вам нужна такая характеристика, и я волей-неволей буду кривить душой, опасаясь, как бы не сказать того, что могло бы повредить Ларисе, к которой, признаться, отношусь с симпатией - до сих пор она мне казалась порядочной девушкой. И вообще, почему вы обратились ко мне? Мы с Ларисой отнюдь не ровесники, у нас с ней мало общего, и поэтому я не могу судить о ней. Не лучше ли вам обратиться в деканат факультета, к ее однокурсникам? - Вопросы, которые у меня возникли, касаются семейных отношений, и я посчитал, что лучше задать их вам, чем кому бы то ни было. Я понимаю: вы всего лишь сосед, но какое-то мнение о Ларисе и окружающих ее людях у вас сложилось. - А вы хитрец, - погрозил ему пальцем Сторожук. - Хитрец и дипломат. Вот уж не знал, за вами таких качеств... Ну, ладно, коли так обстоит дело, придется удовлетворить ваше любопытство. Но предупреждаю, что буду опираться только на достоверно известные мне факты. - Это меня вполне устраивает, - поспешил заверить его Ляшенко. - Сюда Матвей Петрович приехал, когда Ларисе было лет тринадцать, или что-то около этого, - начал рассказывать Сторожук. - Его первая жена умерла, и переезд в наш город был связан не только с предложением возглавить кафедру неврологии и нейрохирургии, но и с довольно смелым для его возраста решением сочетаться вторым браком - ему уже перевалило за пятьдесят. Хотя, с другой стороны, его можно понять: в ту пору Надя Волощук была еще хоть куда! Я так фамильярно называю ее, потому что она моя сокурсница. А вообще-то она, Надежда Семеновна, ассистент кафедры патологической анатомии, весьма импозантная и, надо сказать, деятельная женщина. До встречи с Яворским она была замужем за доцентом Хоминым. Несколько лет они жили за границей - Хомин работал экспертом Всемирной организации здравоохранения. Общих детей у них не было, что, как мне кажется, явилось причиной развода. Для Матвея Петровича, в силу понятных обстоятельств, этот вопрос не был принципиальным: он довольствовался тем, что Надежда Семеновна взялась за воспитание Ларисы. - Что представляет собой Лариса? - Интересная девушка. Не нежная, но и не из тех девчонок, которых называют "свой парень" - женственности ей не занимать. Одевается модно и со вкусом, но, по-моему, это уже заслуга Надежды Семеновны, не глупа, воспитанна. Вот, пожалуй - все. - Какие отношения у нее с Надеждой Семеновной? - Затрудняюсь сказать: в их доме я не принят, - почему-то усмехнулся Сторожук. - Но внешне отношения нормальные: я часто вижу их вместе. - Не знаете, Лариса встречается с кем-нибудь? - Поклонников у нее, насколько мне известно, немало, и в их числе мой младший сын Олег. Но, по-моему, у него не больше шансов, чем у других претендентов на ее внимание. - Вам знаком ассистент Боков? - Более-менее. Моя жена знает его лучше, поскольку работает с ним на одной кафедре. Она называет его адъютантом их превосходительств. - Почему во множественном числе? - Для таких людей, как Боков, специализация кафедры не имеет значения. Если мне не изменяет память, он перебывал на двух или даже на трех кафедрах и только затем перешел к Матвею Петровичу. - Чем же он руководствовался при этом? - Сделать диссертацию, защититься. - Разве шансы на защиту повышаются или убывают в зависимости от специализации кафедр? - По убеждению Боковых их шансы на получение степени прямо пропорциональны расположению к ним заведующего кафедрой. - Матвей Петрович покровительствовал Бокову? - К нему благоволили Надежда Семеновна и Лариса, а этого было достаточно. - Боков часто бывал у Яворских? - При жизни Матвея Петровича ежедневно. Что-то приносил, что-то уносил, как и положено адъютанту. - Как он относился к Ларисе? - По-моему, осмотрительно. С дочерью шефа шутки плохи! - А после смерти профессора? - Думаю не ошибусь, если скажу, что его приверженность к семье Яворских пошла на убыль. Это относится и к Ларисе. - Надежда Семеновна и Лариса живут вдвоем? - С ними живет старшая сестра Надежды Семеновны, весьма педантичная и строгая особа. Все в доме, я имею в виду и соседей, называют ее тетей Аней. Своей семьи у нее нет. Она опытная акушерка, но свою главную задачу, как мне кажется, видит в заботах о сестре и ее сыне - своем племяннике. - Вы говорили, что у Надежды Семеновны нет детей. - У нее не было детей с Хоминым и Яворским. Но одно из увлечений ранней молодости не прошло для нее бесследно, ее сыну уже двадцать восемь лет. Это доктор Новицкий, о котором мы говорили. - Новицкий - сын Надежды Семеновны?! - удивился Валентин. - Представьте себе. Правда, детские годы он провел с отцом, а когда тот обзавелся новой семьей, опеку над Пашей взяла и не снимает по сей день тетя Аня. Надежда Семеновна при этом только присутствует. Впрочем, последние несколько лет Паша живет отдельно и не особенно докучает родственникам. Человек он вполне самостоятельный и, надо заметить, ненавязчивый, что характерно для спортсменов, а он не только спортсмен, но и сын спортсмена, - его отец был первоклассным биатлонистом, многоборцем, потом тренером. - Новицкий так же, как Боков, ассистент кафедры нейрохирургии? - Между ними существенная разница: Паша - настоящий врач и настоящий хирург. Чертовски способный парень! Я говорю это не с чьих-то слов: в свое время он работал у нас, здесь, санитаром, а затем прозектором. Это было в пору его студенчества. - Не очень приятная работа для молодого человека. - Я так не считаю! - живо возразил Сторожук. - Если студент намерен стать хирургом, он должен начинать с анатомического театра и не забывать о нем впоследствии. Когда-то над входом в анатомический театр было написано: "Здесь мертвые учат живых". И это так! Паша набил себе руку здесь настолько, что уже на четвертом курсе смог работать фельдшером в травматологии, а на шестом - ассистировать опытным хирургам. Последнее время Матвей Петрович без него в операционную не шел. Он возлагал на Пашу большие надежды. - Они не оправдались? - Этого я не говорил! Паша стал хорошим хирургом, а это уже не мало. Со временем, если ничего не изменится, будет и нейрохирургом. - А что может измениться? - Паша человек своеобразный, иные его поступки трудно понять. Три года назад он оставил аспирантуру, клинику и уехал в сельскую больницу, чем досадил Матвею Петровичу. Конечно, способные врачи нужны и в сельских больницах, но будем говорить прямо: если хочешь стать нейрохирургом, учись у маститого. - Какая-то размолвка с профессором? - Скорее с самим собой: он переоценил свои возможности. - Сейчас Новицкий работает на кафедре? - На кафедре и в клинике. Вернулся незадолго до несчастья с Матвеем Петровичем. - Как это воспринял Матвей Петрович? - Бурчал, но был рад. Он любил Пашу, как сына. - Новицкий женат? - Убежденный холостяк. - Как относится к нему Лариса? - Они дружны. Когда он работал у нас, она часто прибегала сюда, приносила ему бутерброды, пирожки. Еще девчонкой-школьницей была. Наше заведение, как вы понимаете, не привлекает посторонних, а уж подростков тем паче. А ей было хоть бы что! Как-то застал ее в анатомке. Выставил, конечно, немедленно. А Пашка смеется: "Ничего, пусть привыкает!" Я и ему шею намылил. - Вы знакомы с Инной Антоновной Билан? - Она работает с моей женой. Милая женщина, большая умница. Вы спросили о ней очевидно, в связи с семьей Яворских? Матвей Петрович был руководителем ее кандидатской работы: невропатология и нейрохирургия тесно связаны. Инна блестяще защитилась и сейчас уже работает над докторской. В доме Яворских она - свой человек. Валентин насторожился. Похоже, что Инна Антоновна Билан не случайно уклоняется от встречи с ним, как не случайно она была не совсем искренна со своим приятелем - Акопяном: Инна Антоновна узнала не только девицу в белых джинсах, но и ее кавалера. Друг семьи Яворских, очевидно еще молодая (недавно защитилась), не чуждая флирту и ресторанам женщина, она не могла не знать предмета увлечения Ларисы. Тем более, что этот самый "предмет" ее коллега, и, надо думать, принят в респектабельном профессорском доме (Лариса доверяет ему отцовскую машину). Больше того: у Инны Антоновны есть какие-то причины не давать показаний работникам милиции по поводу драки на автостоянке, непосредственным свидетелем которой она, кстати отметить, не была. Что же она имела в виду, когда просила Акопяна сделать все возможное, чтобы ее не впутывали в "эту историю"? Видимо, она что-то знает, или, по меньшей мере, догадывается о первопричине конфликта. Да и Зимовец, надо думать, знаком ей: он бывал у Яворских, переплетал профессорские книги... Сторожук выжидающе поглядывал на Ляшенко, занятого своими мыслями. Перехватив взгляд судмедэксперта, Валентин смутился, спросил первое, что пришло в голову: - После смерти Матвея Петровича между родственниками не было раздоров из-за наследства? - Не могу знать, я не был его душеприказчиком, - усмехнулся Сторожук. - А кому перешла его библиотека? Говорят, у профессора была знатная библиотека. - Говорят, что в Москве кур доят! - неожиданно рассердился Сторожук. - Я не прислушиваюсь к сплетням, даже тогда, когда они выносятся на страницы газет! Ляшенко не понял, что он имел в виду, но уточнять не стал - вопрос был почему-то неприятен собеседнику. Тем не менее, решил, что надо непременно поинтересоваться судьбой библиотеки профессора Яворского, так же как и довольно странной позицией Инны Антоновны Билан. А еще подумал, что Билякевич прав: конфликт на автостоянке нельзя выводить из самого себя... Сторожук пошел проводить его. В небольшом палисаднике перед приземистым, таящимся за разросшимися кустами сирени здании бюро судебно-медицинской экспертизы, он придержал Валентина за локоть. - Не завидую, Валентин Георгиевич: потреплют вам нервы с этим делом. - Почему так думаете? - Видимо, вам придется высвечивать неблаговидное поведение Ларисы, что, так или иначе, бросит тень на семью Яворских-Волощук, реноме которой тщательно оберегается всеми ее членами. Не улыбайтесь, смешного тут мало. К вашему сведению: отец Надежды Семеновны, ныне персональный пенсионер, в свое время был заместителем министра здравоохранения, ее старший брат Роман - академик, второй брат, Василий - главврач правительственного санатория. О покойном профессоре Матвее Петровиче уже не говорю, но не сомневаюсь, что при необходимости Надежда Семеновна не постесняется обратиться за поддержкой к его бывшим пациентам из числа власти предержащих, и ее просьба, скорее всего, будет уважена. - Предостерегаете от гнева медицинской элиты? - Элита - понятие не профессиональное - социальное, - невесело усмехнулся Сторожук. - В обществе, где существуют чины и звания, номенклатурные должности и адъютанты, спецсанатории и персональные пенсии, декларация: "Все равны перед законом" остается всего лишь декларацией. Готов держать пари, что телефонный звонок вашему начальству академика Романа Волощука, или, скажем, товарища Н. из Совмина республики, будет весомее любых ваших доводов. Так, что готовьтесь к начальственным окрикам, в лучшем случае к визитам заступников, ходатаев... Сторожук, словно в воду глядел: не успел Валентин вернуться в управление, как к нему явился первый ходатай. Впрочем, майор Великанов из отдела кадров не считал себя таковым и держался с Валентином покровительственно, то и дело подчеркивая, что беседует с ним как старший товарищ, желающий лишь одного - предостеречь не в меру ретивого капитана от опрометчивых шагов. Валентин не принимал всерьез Великанова, сама фамилия которого, словно в насмешку, была дана низкорослому тщедушному человеку с приплюснутым носом-пуговкой на округлом полудетском лице; непомерным у него было только самомнение. Но сейчас Ляшенко едва сдерживал себя, ибо Великанов не просто урезонивал его, но и весьма недвусмысленно намекал что, коли Валентин станет упорствовать в своей опрометчивости, ему не избежать неприятностей. - Скоро майором будешь, если наше представление не задержат там, наверху, - ткнув пальцем куда-то в раскрытое окно, за которым виднелась круто вздыбленная крыша железнодорожных билетных касс, говорил Великанов, - И, если за это время на тебя какая-нибудь серьезная телега не поступит. Несерьезную мы в металлолом препроводить можем. А вот серьезную... Он многозначительно оборвал фразу, вприщур посмотрел на Валентина. - Бог не выдаст, свинья не съест, - как можно благодушнее сказал Валентин. Он не хотел заводиться с Великановым, и ляпнул первое, что пришло в голову, но майор побагровел и спросил: - Это ты кого и в каком качестве подразумеваешь? - Того, кто своих не выдает, - нашелся Валентин. - То-то и оно! - погрозил ему пальцем Великанов. - Ты, Валентин Георгиевич, говорить говори, но не заговаривайся. - Чем еще обязан, товарищ майор? - чувствуя что вот-вот вспылит, в свою очередь насупился Валентин. - Хочешь товарищеский совет? - Я - весь внимание. - Не мешай Мандзюку; не лезь в это дело. Я о драке в загородном ресторане. Говорят, помер парнишка. Трагедия, конечно, для родственников. Но ты себя поставь на место того человека, к которому этот самый Зимовец с бандитским ножом подступил. Как бы ты себя вел? Стоял бы и ждал пока он тебе полное харакири сделает? Не ждал бы - оборонялся. Я тоже не позволил бы себя резать. И подушечку для смягчения удара от падения хулигану, между прочим, не подкладывал бы. Так зачем, спрашивается, огород городить и уважаемую в народе фамилию по милицейским протоколам трепать? - Не понял, товарищ майор, о какой фамилии речь? - Не хитри, Валентин Георгиевич. Ты все прекрасно понял! Так вот, голос Великанова обрел металлические нотки, - не мешайся в это дело. Мандзюк сам сообразит, как его наилучшим образом для архива оформить. А не сообразит, ему подскажут. Оттуда! Великанов снова ткнул пальцем в сторону крыши железнодорожных касс. Валентин не стал возражать - это было бессмысленно, но о визите Великанова, также как и о своей беседе со Сторожуком, счел нужным доложить начальнику отдела. Ожидал, что Билякевич возмутится, пойдет к начальнику управления, потребует призвать к порядку зарвавшегося кадровика. Но подполковник повел себя необычно: сначала испытывающе посмотрел на Валентина, затем чему-то усмехнулся, забарабанил пальцами по отполированной до зеркального блеска крышке стола, что делал в затруднительных случаях. - А может в самом деле не стоит беспокоить Ларису Яворскую? - после продолжительной паузы, произнес он. - Если иметь в виду только драку, то свидетелей и без нее достаточно. К тому же подоплека конфликта, скорее всего, носит интимный характер, а с учетом этого на откровенность Ларисы рассчитывать не приходится. Что же касается личности противника, Зимовца, то полагаю, Мандзюк правильно определил круг подозреваемых: это кто-то из ассистентов кафедры нейрохирургии. Уличить этого человека теперь уже несложно. Но боюсь, что мы не сможем предъявить ему обвинение в умышленном нанесении Зимовцу тяжелой травмы: судя по всему, он действовал в пределах необходимой обороны. Немного помолчав, Билякевич снова, как-то необычно - не то вопрошающе, не то испытывающе - посмотрел на Валентина. - Так может быть последуем совету майора Великанова? Валентин оторопел. Не далее как утром, подполковник говорил прямо противоположное; они как бы поменялись местами. Но если утром Валентин согласился с ним - это дело надо довести до конца - то сейчас терялся в догадках: чем вызван такой крутой поворот в позиции шефа? Не Великанова же он испугался, в конце концов! Валентин уважал Билякевича и, если не всегда и не во всем соглашался с ним - начальник отдела был порой излишне скрупулезен, придирчив, то его принципиальность никогда не брал под сомнение. И вот - на тебе! - Извините, Виктор Михайлович, не могу согласиться с вами, - резко сказал Валентин. - Пока следствие не закончено, я буду предпринимать те дозволенные законом действия, которые сочту необходимыми. Если вы, конечно, не отстраните меня. - Упрямство, Валентин Георгиевич, само по себе, не лучший довод в споре с начальством. Я имею в виду не только вас. Валентин смутился, наконец-то сообразив, в чем дело. Видимо, Билякевича уже взяли в оборот в связи с этим делом. Но отступать не пожелал. - Вот мои доводы. Всех, кто знал Анатолия Зимовца, удивляет, что парень схватился за нож - не похоже на него. Но факт остается фактом. И нельзя исходить только из него. Убежден: за этим стояла не сиюминутная вспышка, не пьяная ярость. Тут было что-то другое. Причем очень серьезное. Перед смертью Зимовец сказал своей сестре, что один во всем виноват. Но только ли драку он имел в виду? Думаю, не только. И вот почему. На месте происшествия обнаружена какая-то старая, видимо, ценная книга. Зимовец был завзятый книжник. Библиофилом считает себя и ассистент Боков. И тот, и другой бывали в доме Яворских, где имелась уникальная библиотека. - Имелась? - быстро переспросил Билякевич. - На этот вопрос пока не могу ответить. Я задавал его Сторожуку, но он отмолчался. Теперь другое: от встречи со мной по какой-то причине уклоняется доктор Билан, которая должна быть в курсе событий, так или иначе касающихся семьи Яворских. И, наконец, эта закулисная возня вокруг дела Зимовца, которая, как догадываюсь, не миновала и вас. Я не ошибся? - Допустим. Но как вы увязываете все это с дракой? - Многое должно проясниться в ходе допроса Ларисы Яворской. Ее высокопоставленные родственники очевидно не случайно нажали на все кнопки. Я уверен, что конфликт на автостоянке имеет какую-то неприглядную предисторию. Вот почему я завтра же вызову Ларису и вместе со следователем допрошу, какие бы пакости мне потом не делал Великанов. Билякевич подошел к Валентину, положил руку на его плечо. - Передайте Великанову и прочим, кто будет обращаться к вам с подобными советами, что следственно-оперативную группу по делу Зимовца отныне возглавляю я. - Вы отстраняете меня? - вспыхнул Валентин. - Состав группы остается прежним. Я беру на себя роль куратора и в какой-то степени громоотвода. Не спорьте, за это я зарплату получаю. - За то, чтобы быть громоотводом? - И за это тоже. Билякевич улыбнулся, слегка сжал плечо Валентина, отошел к окну, присел на низкий подоконник. - Теперь о Ларисе Яворской. Не спешите ее вызывать. В делах, касающихся семейных отношений, официальный допрос свидетеля не лучший способ выявления истины. Тем более, когда этот свидетель не горит желанием общаться с работниками милиции, следователем. Целесообразнее сначала побеседовать с доктором Билан, которая, надеюсь, поможет разобраться, если не во всех, то во всяком случае, в некоторых из интересующих нас вопросах. Судьбой библиотеки профессора Яворского я сам поинтересуюсь. А Мандзюк пусть побыстрее выявляет человека, травмировавшего Зимовца. Полагаю, этот человек не помешает нам, - Билякевич усмехнулся. - Посоветуйтесь с Мандзюком, составьте план оперативных действий и завтра с утра заходите ко мне. Мандзюк явился не с пустыми руками в прямом и переносном смысле. При нем был портфель-дипломат, который он, надо думать, прихватил с собой не случайно. В кабинете Билякевича Алексей отложил "дипломат" в сторонку, но так, чтобы он оставался на виду, и Ляшенко понял, что новость у него не одна, но для начала придется выслушать менее важную: Алексей не был бы Алексеем, если бы главное выкладывал сразу. Неторопливо и деловито, останавливаясь на незначительных деталях, Мандзюк рассказывал, что участковый инспектор отыскал парня-мотоциклиста, который подвез Анатолия Зимовца к загородному ресторану. Парня зовут Игорем, фамилия Кобко. Он ровесник Анатолия, некогда учились в одном классе, жили на соседних улицах: Игорь на Пасечной, Анатолий на Харьковской. Приятелями не были, но Игорь, по его словам, уважал Анатолия за справедливость, а также за то, что Толик давал ему читать интересные книги. Вечером 28-го июня Игорь катался на мотоцикле в районе Пасечной - Песковой, испытывая машину на крутых подъемах, спусках, этих сбегающих с Высокого Холма улочек. Примерно в 20:25 на перекрестке Пасечной и Харьковской улиц он увидел Анатолия, который нетерпеливо оглядывался по сторонам. Заметив товарища на мотоцикле, Зимовец окликнул его, а когда тот подъехал, взобрался на заднее сиденье и тоном, не терпящим возражений, велел: "Быстро вниз по Харьковской!" Игорь не стал ни о чем расспрашивать: Анатолий был взволнован, нетерпелив и, очевидно, на то имелись причины. Они проехали Харьковскую, выскочили на оживленную Первомайскую улицу, по указанию Анатолия Игорь повернул направо, миновал Сенной базар, а затем свернул на Черниговскую. Завидев впереди светлую "Ладу", Анатолий крикнул товарищу: "Газуй за той машиной и не выпускай из виду!" Его взволнованность передалась Игорю, он стал следовать за "Ладой". На углу Черниговской и Зеленой улиц "Лада" притормозила, в кабину рядом с водителем села высокая девушка в белых джинсах. Других пассажиров в машине не было. Затем "Лада" выехала на проспект Шевченко, далее на Рогатку, оттуда на Окружную дорогу. Игорь висел у "Лады" на "хвосте" по всем правилам оперативного слежения, изученным им по многочисленным кино-теледетективам. Вначале это увлекло его, но когда они миновали Рогатку и вслед за "Ладой" выехали на Окружную, затея Анатолия показалась ему уже не столь привлекательной - могло не хватить бензина на обратный путь. К тому же Анатолий был выпивший - Игорь это почувствовал по запаху и по тому, как тот цедил сквозь зубы необычные для его лексикона ругательства... Кого он ругал? Вначале водителя "Лады", а потом девушку в белых джинсах. Но девушку ругал уже как бы заодно. Нет, по именам их не называл и о том, чем они досадили ему, не говорил, хотя Игорь спрашивал. На Окружной дороге между товарищами возник спор: Игорь не хотел ехать дальше, а Анатолий настаивал. Пока препирались, "Лада" скрылась из виду. Но они заметили, куда она повернула. Анатолию удалось настоять на своем, и вскоре они съехали на лесную дорогу. Анатолий не знал, куда направилась "Лада", оглядывался по сторонам, всматривался в лес. Через некоторое время они обнаружили "Ладу" на стоянке около ресторана "Сосновый бор". Водителя и девушки в машине уже не было... Едва завидев "Ладу", Анатолий велел остановиться и быстро соскочил с мотоцикла. При этом упал, ударился затылком о гудрон дороги. Игорь поспешил ему на помощь, но Анатолий уже пришел в себя, поднялся и, оттолкнув пытавшегося урезонить его товарища, бегом направился в ресторан. Запахло скандалом. Это уже совсем не понравилось Кобко, и он не стал ждать, пока развернутся события: сел на мотоцикл и был таков... - Полагаю, что вечером 28 июня "Лада" начала свой путь из района Песчаной - Песковой, где имеются кооперативные гаражи. Возможно, один из этих гаражей принадлежит Яворским. К концу дня я буду знать точно. Заключил свой рассказ Мандзюк. - Остается выяснить, кому Лариса разрешает пользоваться своей машиной, - заметил Ляшенко. Мандзюк небрежно пожал плечами, - этот вопрос для него был совершенно ясен. Билякевич забарабанил пальцами по столу, потом встал, прошелся по комнате. - Я о другом думаю, - сказал он, присаживаясь на низкий подоконник. Кобко увидел Анатолия на перекрестке Харьковской и Песковой. Анатолий метался в поисках транспорта, на котором можно было броситься вдогонку за "Ладой". Вряд ли он заметил ее проезжающей мимо - слишком сильны были эмоции. Очевидно, перед этим он разговаривал, а, быть может, даже объяснялся с водителем "Лады". Но разговор был прерван и, надо полагать, не по инициативе Анатолия, с чем он не хотел примириться. Согласны с такими предположениями? - Согласны, - за себя и Мандзюка сказал Ляшенко. - Тогда подумаем вот о чем: случайной или неслучайной была эта встреча? - Мне кажется, что водитель "Лады" не искал ее. - А Зимовец искал и готовился к ней, - уверенно сказал Мандзюк. - Считаешь такой подготовкой принятие горячительного напитка? усмехнулся Ляшенко. - Это было уже следствием, не причиной, - возразил Мандзюк. - А причиной конфликта, как я теперь понимаю, была книга, которую буфетчица Чижевская нашла на автостоянке после драки. Между прочим, Кобко подтвердил, что у Зимовца была при себе какая-то книга, которую он сунул за пояс, когда садился на мотоцикл. - Книга была у Зимовца? - удивился Ляшенко. - Была, когда он садился на мотоцикл, а когда его задержали, книги при нем уже не было. Элементарная логика подсказывает, что книгу он потерял. Я не стал дожидаться, пока Чижевская выйдет на работу, послал за ней лейтенанта Кленова. Он привез ее и книгу. Очень любопытная книга. Мандзюк наконец раскрыл свой "дипломат" и выложил на стол книгу в нарядном кожаном переплете с тиснением и исполненной на старинный манер медной застежкой. Книга была старая, а переплет новый, недавно сработанный. - Не Зимовца ли работа? - разглядывая переплет, сказал Ляшенко. - Я видел такой же у Юрко на книге, которую Зимовец подарил ей. Он еще сказал тогда, что такие переплеты для продажи не делает. - Разрешите? - протянул руку Билякевич. Он раскрыл книгу на титульном листе: - Авиценна. "Медицинский канон". Перевод с латинского по миланскому изданию 1463 года. Санкт-Петербург. Год тысяча восемьсот... Две последние цифры не читаются. Очевидно, первое издание на русском языке. Редкая книга! - Из-за такой библиофилы и подраться могут, - подхватил Мандзюк. - Библиофилы - люди интеллигентные и свои споры решают другими путями, - возразил Билякевич, пытаясь разнять прилипшие друг к другу страницы. - Нет правил без исключений, - не отступал Мандзюк. - Верно. Но к данному случаю это не относится. Вот взгляните. Он разнял неподатливые странички, показал одну из них Ляшенко и Мандзюку. Это была разделительная страница между титульным листом и началом текста "Канона". В первом верхнем углу стоял оттиск мастичного штампа - бесхитростная виньетка, внутри которой можно было прочитать: "Из книг М.П.Яворского". Ляшенко едва не присвистнул. - Вот и разгадка всей истории! - Всей ли? - усомнился Билякевич. - Боюсь, что это только начало разгадки - первое действие, которое помог решить случай. А все последующие придется формулировать и решать нам самим. Пока ясно одно: для Анатолия Зимовца эта книга не могла быть предметом торга, он слишком уважал профессора Яворского и книгу в собственноручно исполненном дарственном переплете не обратил бы в предмет купли-продажи. - У Яворского была богатейшая библиотека! - взволнованно сказал Ляшенко. - Зимовец знал его библиотеку, знал, как много значили для Матвея Петровича книги! - Боков знал об этом не хуже, - возразил Мандзюк. - И к тому же понимал толк в редких книгах, а вернее, в их истинной стоимости. Он был вхож в дом Яворских, мог прийти туда запросто. - Что ты хочешь этим сказать? - Только то, что, в отличие от Зимовца, Боков не обременял себя такими высокими чувствами, как уважение к кому-то или чему-то. По данным ОБХСС он спекулирует книгами, не гнушается мошенничеством, был причастен к махинациям с фиктивным списанием в макулатуру ценных книг, так называемых раритетов, по библиотеке Дома ученых. К сожалению, его причастность к этой довольно крупной афере не удалось доказать - он очень хитер, изворотлив. - А при чем Зимовец? - не понял Ляшенко. - Очевидно, к книгам профессора Яворского Боков относился также как к раритетам библиотеки Дома ученых, а Зимовец поймал его на горячем. - Не совсем логично. Ты считаешь, что книга похищена Боковым из библиотеки Яворского. Но ведь она была у Зимовца. - Зимовец прихватил ее с собой, как доказательство нечестности Бокова. - Ох, сомневаюсь, что Бокова можно смутить таким доказательством! - А Зимовец не сомневался - у него не было твоего опыта, - хмыкнул Мандзюк. - Это несерьезный спор: сомневаюсь - не сомневаюсь, - вмешался Билякевич. - Прежде чем строить предположения, надо выяснить, оставил ли профессор Яворский завещание, а также установить все ценные книги его библиотеки, проследить их судьбу. Поэтому давайте вернемся к вопросу, который надо решить безотлагательно. Алексей Алексеевич, как я понимаю, вы считаете, что вечером 28-го в ресторане с Ларисой был Боков. - Убежден! - А вы, Валентин Георгиевич? - У меня такой убежденности нет. - Что вас смущает? - Вечером 28-го Лариса и ее спутник, зайдя в ресторан, заказали кофе, а Боков кофе не пьет. Это одно. Теперь другое. Когда началась потасовка и спутник Ларисы был ранен, она едва не бросилась в драку. Столь бурную реакцию не объяснишь одним возмущением. Так вступаются только за очень близкого человека. - Боков считался ее женихом, - возразил Мандзюк. - Но считала ли так Лариса? По словам Лисович, девушка знала или, по меньшей мере догадывалась, что представляет собой Боков. - Сомневаюсь, что это мешало их близости. Нравственная позиция Ларисы далеко не безупречна. По имеющимся у меня сведениям, она ведет себя не лучшим образом... - Погодите, - остановил их Билякевич. - Мы уходим от предмета обсуждения. Давайте, наконец, определим: Боков это был или не Боков? Я послушал вас, теперь выскажу свои соображения. Представьте себе Доната Бокова. Лисович характеризует его как спекулянта, аморального человека. Немногим лучшего мнения о нем Сторожук. Сотрудники ОБХСС подозревают его в мошенничестве, соучастии в замаскированных хищениях... Я понимаю, Алексей Алексеевич, такой тип как бы сам напрашивается на роль подозреваемого и по нашему делу. Но стал бы Боков так остро конфликтовать с Зимовцем, зная, что парень располагает доказательством его бесчестности или даже преступления, - если книга была похищена? Скорее всего Боков попытался бы как-то выкрутиться, что-то придумать, соврать, но не драться с Зимовцем. И во всяком случае, не оставил бы на месте драки такую книгу. А как повел себя противник Зимовца после того, как был ранен? Не слишком ли много самообладания для пройдохи-спекулянта? И никакой реакции на появление милиции. Его увезла Лариса. Это она по каким-то соображениям не хотела давать показания нашим сотрудникам. Кстати, Алексей Алексеевич, что сказала буфетчица Чижевская Ларисе, когда подъехал милицейский патруль? - Сказала, что Ларисе и ее приятелю лучше покинуть место происшествия, так как в противном случае у Ларисыбудут неприятности. Чижевская считала, что конфликт возник на почве ревности, а это свидетельствовало не в пользу Ларисы, которой она симпатизировала. - Ревность - это понятно. Это объясняет все, или почти все, словно в раздумье сказал Билякевич. - Но мы не сможем согласиться с версией Чижевской: мешает "Канон" Авиценны. Так, Алексей Алексеевич? Мандзюк промолчал. Билякевич вернулся на свое место, снова забарабанил по столу. - Вот теперь кому-то из вас надо встретиться с Ларисой, поговорить. Разумеется, беседа будет не из легких. Очевидно, Лариса убеждена, если не в своей правоте, то в защищенности, во всяком случае. - Билякевич вопросительно посмотрел на Алексея, а затем на Валентина. - Не получаются у меня доверительные разговоры с женщинами, торопливо сказал Мандзюк. - Особенно с незнакомыми: внешность моя настораживает, а голос даже пугает. Притом, чем мягче стараюсь говорить, тем больше они настораживаются. Так что лучше поручите мне Бокова: с ним я найду подходящий тон и тему разговора. - Валентин Георгиевич, по-моему, и вы уже не горите желанием встретиться с Ларисой, - обратился Билякевич к Ляшенко. - Нет, почему же! Если надо... Но мне кажется, что с учетом всех обстоятельств, с Ларисой должна говорить женщина. - А если поручить это Юрко? - предложил Мандзюк. - Лучшей кандидатуры не подберешь! - поддержал его Ляшенко. - Галочка сумеет. - Сумеет, если вы поможете, - резюмировал Билякевич, - Юрко придется коснуться неприятных для девушки тем: смерти отца, отношений с мачехой, тем же Боковым. Тут надо быть предельно деликатной и, по возможности, отсечь все, что не имеет прямого отношения к конфликту на автостоянке. Но чтобы отсечь несущественное для дела, мы должны определить, что отсекать. Поэтому следует получить как можно более полную информацию о Ларисе и окружающих ее людях... В этом смысле беседа с Инной Антоновной Билан - старшим преподавателем кафедры неврологии и ординатором областной клинической больницы - имела немаловажное значение. Но надо было учитывать, что Инна Антоновна не очень охотно согласилась на встречу с сотрудником милиции. Акопян характеризовал ее как прямодушного, не способного на ложь человека. Однако Ляшенко усомнился в этом после того, как выяснил, что первого июля Инна Антоновна не была со своими австрийскими коллегами, а вчера не принимала никаких экзаменов. Несомненно, у нее были причины не спешить знакомиться с капитаном милиции Ляшенко. Валентин рассчитывал, что выяснит эти причины в ходе предстоящей беседы, примерный план которой заранее обдумал. Однако ошибся в своих расчетах: Инна Антоновна оказалась весьма проницательным человеком, что в полной мере он оценил не сразу... Она встретила Ляшенко сдержанно, но вежливо, не подчеркивая, что воспринимает его только как официальное лицо, но вместе с тем давая понять, что готова к серьезной беседе, о содержании которой догадывается. Пригласила в комнату, где он мог убедиться, что даже дома хозяйка работает, не покладая рук - в глаза сразу бросились: пишущая машинка с заложенным в нее листом бумаги, стопка уже отпечатанных листов на большом столе, там же пирамида медицинских книг, журналов с торчащими во все стороны закладками. На машинописном столике - пепельница с дымящейся сигаретой, очки в позолоченной оправе, недопитый кофе в фарфоровой чашечке. Шкаф был забит книгами. И только с верхней незастекленной полки неприятно скалился лобастый белый череп. На хозяйке было нарядное платье расклешенное, в меру декольтированное, с замысловатой брошью, что не вязалось с рабочей обстановкой комнаты. - Это я к вашему приходу принарядилась, - перехватив его взгляд, сказала Инна Антоновна. - Ценю вашу любезность: вы пришли лично, не передоверили этот визит своим подчиненным. К тому же, польщена, как женщина: такая любезность оказана мне самым элегантным офицером городской милиции... Прошу присаживаться. В ее тоне проскользнули иронические нотки. - Вы готовились к моему визиту два дня, пожертвовав даже встречей с австрийскими коллегами? - решил сразу контратаковать Валентин. Хозяйка не смутилась и на этот раз: - Боже, какой вы недобрый! Так безжалостно уличать во лжи бедную женщину. Вы уже все узнали обо мне. - Как я догадываюсь, вы тоже успели навести соответствующие справки. Она удивленно вскинула брови, подошла к машинописному столику, надела очки, через них посмотрела на Ляшенко: - У вас плохая память, Валентин... простите, не знаю отчества. В свое время нас познакомили. Правда, тогда вы были поглощены другой. Надо признать: у вас недурственный вкус - Регина красивая женщина. Но уже тогда я поняла, что ваш роман недолговечен: Регина из тех особ, которые требуют к себе постоянного и безраздельного внимания, а вы, как мне кажется, человек общительный и свободолюбивый. Рабство не для вас. - Вы правы, - натянуто улыбнулся Валентин. Он был сбит с толку столь неожиданным началом и уже не думал о том, как перехватить инициативу, а лишь пытался вспомнить, где встречал эту по-девичьи стройную женщину с ироническим прищуром слегка раскосых глаз. Попытался представить ее без очков, в джинсах, с другой прической. Не вспомнил. Не помогло даже упоминание о Регине. То, что они где-то встречались, - несомненно. Но где? - Плохо, товарищ капитан! У вас должна быть профессиональная память, - уже не иронически - мягко улыбнулась хозяйка. Она сняла очки, заложила ногу за ногу. - Ну так и быть, помогу: нас познакомил Павел прошлой зимой на горнолыжной базе. Я была там с другой, до ужаса скучной компанией, а за вашим столом было весело, и я попросила Павла ввести меня, так сказать, в ваш круг. Это было в баре. Неужто не помните? - Помню, - неуверенно сказал Ляшенко. Он вспомнил, что тогда, действительно, Павел пригласил за их столик какую-то женщину в меховой шубке, наброшенной поверх вечернего платья, которая оказалась знакомой Регины и доктора Года. Но тогда ему, признаться, было не до нее: капризы Регины, экстравагантные выходки потрясающей Клары и коньяк Гаррика Майсурадзе уже сделали свое дело... - Мир тесен, - усаживаясь напротив, сказала Инна Антоновна. - Я понимаю: неловко допрашивать знакомых, так же как неловко их лечить, но порой приходится это делать: мы приезжаем на работу не из космоса и, надевая белый халат или милицейский мундир, не перестаем быть кому-то родственниками, друзьями, знакомыми. - У меня нет мундира, - почему-то счел нужным признаться Ляшенко. - Вы, очевидно, хотели сказать другое - что не считаете меня своей знакомой. - Нет, почему же! Мы знакомы, у нас много общих друзей. - Это уже вопрос? - Не понял? - Об общих друзьях. Да вы не смущайтесь, спрашивайте, о чем хотите. Я - врач и сама нередко задаю бесцеремонные вопросы пациентам. - И вы ответите на любой? Она внимательно посмотрела на него, потом сказала неторопливо, словно задумываясь над тем, что говорит: - Если сочту возможным. Как догадываюсь, наш разговор коснется щекотливых тем. Лично я не боюсь щекотки, но учитываю реакцию других - не безразличных мне людей. Так что прошу правильно понять меня в дальнейшем. - Постараюсь. - Несколько слов о себе, чтобы вам сразу стало ясно: что и почему. Мне тридцать семь. Это уже много. Но в трамваях меня еще называют девушкой, и я не отчаиваюсь. Я врач и, говорят, неплохой. Как преподаватель, пожалуй, либеральна: дебилам и патологическим лентяям ставлю положительные оценки, каждый раз убеждая себя, что это у них от Бога. Была замужем. Развелась из-за полной непригодности к семейной жизни - не могла и не научилась рожать, готовить флотский борщ, разбираться в футболе, мириться с маниакальным вниманием к телевизору и невниманием к моей особе. Кандидат меднаук. Диссертацию сделала и защитила благодаря Матвею Петровичу Яворскому, которого считаю своим учителем. Но думаю вас интересует не это. Я часто бывала в доме Матвея Петровича. Это были в основном деловые и отчасти верноподданические визиты, хотя кое-кто усматривал в них большее. Меня это не задевало по двум причинам: я преклонялась перед Матвеем Петровичем, как преклоняются перед богами, и считала лестным для себя такое мнение. - А вторая причина? - напомнил Валентин, поскольку хозяйка замолчала. - Мой жизненный и врачебный опыт позволили сделать парадоксальный вывод: мнение гораздо точнее характеризует того, кто его высказывает, чем тех, кому оно адресуется. А проще говоря, люди судят о других в меру своей испорченности... Ну вот о себе в основном все. Теперь об общих друзьях, если не возражаете... - Не возражаю, - невольно улыбнулся Валентин. Ему нравилась эта женщина, хотя он уже понимал: она не скажет того, что он хотел бы услышать. - С Региной я давно знакома, но стараюсь принимать ее в малых дозах при всей ее эрудиции она слишком категорична, безапелляционна, а это, знаете ли, раздражает. Доктора Года считаю своим наставником: он никогда не отказывает мне в советах, терпеливо выслушивает мои излияния по любому поводу. Павла люблю, он - чудесный парень и, когда бы не разница в годах я старше почти на десять лет - ей-богу, женила бы его на себе! Конечно, шучу. Я не терплю принуждения в какой бы форме оно не выражалось, да и жена из меня - никакая. Она бросила быстрый взгляд на Ляшенко, и он подумал, что хозяйка, должно быть, не случайно завела этот ничего не значащий разговор, скорее всего она испытывала его терпение. Но он не хотел перехватывать инициативу - пусть говорит. Инна Антоновна неопределенно улыбнулась: - Валентин... простите, вы так и не назвали своего отчества. - Георгиевич. - Валентин Георгиевич, я понимаю, вы пришли по делу, а я болтаю бог знает что. Поэтому давайте, наконец, определим круг интересующих вас лиц, и я не буду понапрасну судачить о других людях. Валентин насторожился: ему показалось, что в предложении хозяйки кроется какой-то подвох. Но, поразмыслив так и эдак, он не нашел каких-либо подводных камней в предлагаемом русле беседы. - Меня интересует Лариса, ее мачеха, ассистент Боков, молодой человек, который столь бесцеремонно заглянул вам в лицо в ресторане, доктор Новицкий. - Доктор Новицкий? - Полагаю, вы знаете его? Инна Антоновна недоуменно посмотрела на Валентина: - Разумеется. - Она ненадолго умолкла, словно подыскивая нужную фразу, потом улыбнулась каким-то своим мыслям. - Я ответила слишком категорично. Мы не всегда можем разобраться в себе. Чего уж говорить о других: о тех, с кем мы встречаемся в силу необходимости, или по воле случая. Ведь мы детерминируем свое поведение, заранее настраиваемся на определенную волну. Так же поступают те, с кем мы общаемся. - Но все-таки мы составляем мнение об этих людях, - Ляшенко счел нужным поддержать это несколько вольное и, надо полагать, не случайное отступление от темы разговора. - И часто ошибаемся. Конечно, дурака сразу видно, и умного с ним не спутаешь; пошляка выдает язык, сластолюбца - взгляд. А если человек не дурак, но и не гений, не мерзавец, но и не святой, можно ли утверждать, что он хороший? - Человека судят по делам. - Я плохо разбираюсь в праве, но мне кажется, что судят не по делам, а за дело, - усмехнулась хозяйка. - Так вот имейте в виду, я - не судья. К тому же, как большинство женщин, субъективна в своих оценках. - Я это учту. - Прекрасно. Так с кого начинать? Вопрос был задан неспроста: она ожидала, что он пойдет напрямик, спросит о том, кто его больше интересует, и таким образом раскроется перед ней. Невропатолог, педагог - она неплохо знала психологию. Но Ляшенко учитывал это. - Мы говорили о Ларисе. - Это вы говорили, я еще не приступала. - Она помедлила, очевидно оценивая его маневр. - Что сказать о Ларисе? Современная девушка. Неглупа, но бывает вздорной: если что-то взбредет в голову, пойдет напролом. Общительна, хотя подчас замыкается, уходит в себя. Не прочь флиртануть это ее выражение, но, как мне кажется, в своих увлечениях не заходит далеко - она достаточно самолюбива. Воспитанна, вежлива, но маменькиной дочкой ее не назовешь, что не удивительно, она выросла без матери. Очень любила отца. Одно время люто ревновала его к мачехе. Но потом они нашли общий язык, чему во многом способствовал Новицкий. Она не то, чтобы оборвала, а как-то скомкала конец последней фразы, и это не укрылось от Валентина. - Вы знаете парня, который хулиганил в ресторане? - Видела два или три раза у Яворских. Он переплетал книги: у Матвея Петровича была обширная библиотека. Мне он тоже как-то сделал одолжение: переплел диссертацию. Но непосредственно с ним я не общалась: диссертацию передала через Новицкого, они в одном доме - на Харьковской - живут. Ляшенко едва сдержал готовую вырваться реплику: "Вот как?" - Кажется, его зовут Толиком, - продолжала Инна Антоновна. - Звали. Она растерянно посмотрела на него, ткнула сигарету мимо пепельницы: - Он умер? - Сегодня утром. - Какой ужас! Она потянулась за новой сигаретой. Кажется, ее огорчение было искренним. - Спасибо, что сказали, не то бы я наболтала всякую чушь. - Она прикурила, окуталась дымом. - Что вы подразумеваете под чушью? - Чушь! Но если вас интересует и это, извольте. Одно время Толик был влюблен в Ларису. По-мальчишески, конечно: краснел-бледнел в ее присутствии, что Лариса, разумеется, замечала, что отнюдь не шокировало ее. А вот Надежда Семеновна на этот счет рассуждала иначе. Она не раз выговаривала падчерице за то, что слишком снисходительна к этому парню. То ли за нравственность ее опасалась, то ли считала, что он неровня Ларисе. Скорее - последнее. - Лариса послушала мачеху? - Этот флирт был несерьезен с самого начала. - На этой почве раньше возникали конфликты? - Мне об этом неизвестно. - Чем увлекается Лариса? - Всем понемногу: отдает дань моде, любит потанцевать, не гнушается барами, вечерними кафе. Но вместе с тем занимается спортом: велосипед, плавание, лыжи. Собирает книги по киноискусству. - Хотела стать киноактрисой? - Кто из девчонок не мечтает об этом! - В мединститут пошла по призванию? - Вероятно. У нее было с кого взять пример. - У Ларисы есть автомашина. Как часто она пользуется ею? - В основном на ней ездит... - Инна Антоновна замялась, но поскольку фраза была уже начата, закончила принужденно: - ...бывший шофер Матвея Петровича и Новицкий. - Ездить может один человек, двое, очевидно - ездят. В неладах с грамматикой Инну Антоновну упрекнуть было нельзя. Значит, кто-то из этих двух был добавлен уже в начатую фразу. И добавлен не случайно... - Лариса ладит с Новицким? - сделав паузу, чтобы не подчеркивать связь вопроса с предыдущим, спросил Ляшенко. - Она любит его, считает братом. Названым, разумеется, родство тут ни один ЗАГС не установит, - на какое-то мгновение быстрее, чем можно было ожидать, ответила Инна Антоновна. - И он так считает? - Мне кажется, да. В свое время он уделял ей много внимания: приобщил к спорту, туристским походам, научил водить ту же машину, помогал готовиться к вступительным экзаменам. - А сейчас? - Лариса стала взрослой, и это породило определенные проблемы. - Он стал смотреть на нее по-иному? - Не думаю. Лариса приехала сюда тринадцатилетней девчонкой, а он уже был студентом-старшекурсником и смотрел на нее, как на девчонку. Такой взгляд редко меняется. - И взгляд Ларисы не изменился? - Я уже сказала: в их отношениях появились определенные проблемы. По-моему, она ревнует Пашу к его поклонницам. - Новицкий - нравственный человек? - Не знаю, что вы вкладываете в это во многом субъективное понятие. Он честен, правдив - порой даже чересчур, что не всегда и не всем нравится. Однако в чужие дела не вмешивается без особого на то приглашения. Аккуратен, пунктуален. Любит свою профессию: готов дневать и ночевать в операционной. Но вместе с тем, подвержен депрессиям - это я как специалист отмечаю, - бывает ни с того ни с сего бросает все, в том числе работу, и исчезает на день-два неизвестно куда. Потом появляется как ни в чем не бывало. Его уже разбирали на месткоме, членом которого я имею честь быть; так что говорю об этом не понаслышке. Что еще? Нравится женщинам и порой уступает их домогательствам, хотя сердцеедом его не назовешь. Может выпить и даже напиться, я наблюдала один такой случай. Не курит, поскольку всерьез занимается спортом... Ответ был чересчур многословен - Инна Антоновна умела давать более сжатые характеристики. Некоторая доля иронии не меняла положения. Но акцентировать внимание на этом, пожалуй не стоило. - Как он смотрит на то, что Лариса встречается с Боковым? - Искоса смотрел, и Лариса перестала встречаться с Донатом. - Новицкий имеет на нее такое влияние? - Лариса сама не очень серьезно относилась к поползновениям Дона. Она девушка неглупая и понимала, что для Доната ухаживание за ней не самоцель, но средство. - Средство для чего? - Ну хотя бы для того, чтобы стать зятем профессора Яворского. - А как относилась к этому Надежда Семеновна? - По-разному. Когда Матвей Петрович был здоров, она считала, что Ларисе не следует торопиться с замужеством. Но едва он слег, как Надежда Семеновна воспылала к Донату почти материнской нежностью. Она - женщина трезвая и понимала, что рискует потерять не только мужа, но и поставщика. - Поставщика чего? - В основном, дефицитных промтоваров. Надежда Семеновна большая модница и не допускает мысли, что в осенне-зимнем сезоне останется без югославской дубленки, или, допустим, итальянских сапожек. - Лариса тоже пользовалась услугами Бокова? - А чем она хуже мачехи! Мне кажется, это лишний вопрос. - Простите, по своей наивности я подумал, что интеллигентным женщинам не пристало прибегать к услугам фарцовщика, - усмехнулся Ляшенко. - Ну что вы! Разве так можно говорить о человеке с хорошими манерами, который был принят в доме Надежды Семеновны? О нем следует говорить: наш друг Донат. - Кажется, вы не очень любите Надежду Семеновну? - Это у нас взаимно! - Тем не менее, бываете у нее. - И она порой заглядывает ко мне. Мы мило улыбаемся друг другу и так же мило говорим друг другу гадости. А куда денешься! У нас слишком много общего: профессия, институт, приятели, память... - Что за человек Боков? - Неотразимый мужчина - это его основная специальность. По совместительству врач, по призванию великий комбинатор. Но при всем том, ужасно респектабельный: носит кольцо с печаткой, бреется два раза в день, говорит на трех языках, посещает секцию йогов. - Матвея Петровича удовлетворяли эти качества? - Я уже сказала, что Боков - великий комбинатор, а на каждой практической кафедре всегда чего-то не хватает, на что-то не достает денег. В этом смысле Боков не заменим. Матвей Петрович не вдавался в детали, довольствовался результатом. Кроме того, их связывали книги: Донат снабжал Матвея Петровича всеми новинками. - Профессор, увы, не был лишен человеческих слабостей! - Какова судьба библиотеки Матвея Петровича? - Часть книг Новицкий передал нашему институту. - Так завещал Матвей Петрович? - Очевидно. - Оставшимися книгами распоряжается Новицкий? - И Лариса. Но, на мой взгляд, они делают это не очень удачно: некоторые книги, как в воду канули. - Что за книги? - Обо всех не скажу, но недавно я попросила две книги по средневековой медицине - они мне понадобились для работы. Покойный Матвей Петрович берег их, как зеницу ока, даже мне давал их просматривать только в своем кабинете. - Редкие книги? - Уникальные! Лечебники двенадцатого века. Язык универсальный латинский. Но содержание более широкое - многие сведения почерпнуты из практики современных автору медицинских авторитетов, а также из трудов античных врачевателей, чьи рукописи, увы! - не дошли до наших дней. Латынь я знаю неплохо и кое-какие разделы заинтересовали меня. Я просила лечебники буквально на день-два. - Их не оказалось? Инна Антоновна развела руками. - Вы просили лечебники у Новицкого? - Да... Ответила и тут же бросила на собеседника настороженный взгляд, видимо пожалев, что ответила утвердительно. Валентин сделал вид, что не заметил ее настороженности и счел за лучшее на время отойти от этой темы. - Боков и сейчас бывает у Яворских? - Последнее время он обходит их дом за версту. - Что так? - Новицкий спустил его с лестницы, - оживилась хозяйка. - Вместе с каким-то чемоданом. Хотя, возможно, чемодан был спущен раньше, точно не скажу. - Из-за чего произошла ссора? - Я уже сказала, точными сведениями не располагаю, хотя об этой истории мне стало известно от самого Доната. Я встретила его в тот же день в нашей поликлинике, куда он вынужден был обратиться после объяснения с Новицким. - Донат сообщил вам только о факте? - Он комментировал его и довольно пространно. Но я не решаюсь повторять этот комментарий по причине его абсурдности и непристойности содержания. - Что вы думаете о причине их ссоры? - У Новицкого давно чесались руки на Доната, но приходилось считаться с Матвеем Петровичем. - И все-таки должны быть какие-то причины. - Их было немало: начиная от попыток увлечь Ларису, кончая импортными вещами, которыми Донат ублажал Надежду Семеновну. - Не сыграли ли своей роли книги Матвея Петровича? - Возможно. - И в частности, лечебники двенадцатого века? Инна Антоновна развела руками, то ли затрудняясь, то ли не желая отвечать на этот вопрос, но затем сказала: - Я не присутствовала при их объяснении. Спрашивала Пашу, но он не счел нужным посвятить меня в это. - Во время выдворения Боков сопротивлялся? - Судя по синякам на физиономии Доната, такая попытка была. Дон не учел, что спорить с Пашей опасно: когда тот выходит из себя, его не остановит и танк. - Как реагировала на это Надежда Семеновна? - Была огорчена, но пришлось смириться. Паша не часто переходит ей дорогу, но если делает это, то весьма решительно. - Не слишком ли смело для сына? - Для сына? - усмехнулась Инна Антоновна. - Надежду Семеновну передергивает, когда ей напоминают, что у нее такой взрослый сын. Паша называет ее Надей, и это ее вполне устраивает. Странно? А как по-другому называть женщину, которую ты до своего совершеннолетия видел считанные разы, когда она возвращалась из очередной загранкомандировки и уже через неделю уезжала в Ялту, Сочи, на Рижское взморье с чужим дядей, оставив тебе ворох подарков и запах французских духов? - Как давно Новицкий выставил Бокова? - Примерно месяц назад. Погодите, сейчас скажу точно. В тот день, когда я встретила Доната, было заседание ученого совета... 3 июня. Ляшенко прошелся по комнате, остановился у книжного шкафа, с верхней полки которого скалился лобастый череп, заглянул в пустые глазницы. - Конечный итог всех наших треволнений, споров, проблем, - следя за ним, сказала Инна Антоновна. - Я поставила его на виду, чтобы не забывать об этом. - Кто был с Ларисой в ресторане вечером двадцать восьмого? - все еще глядя на череп, спросил Валентин. - Этого я не скажу. - Причина? - Сугубо личная. - Этот человек близок вам? - Валентин Георгиевич, побойтесь бога! - Так или иначе мы установим его личность. - Но без моей помощи. Странная позиция? А вы не торопитесь давать оценку моей позиции. Определите лучше свою. Это не упрек - совет. - Что вы имеете в виду? - пристально посмотрел на нее Ляшенко. Она выдержала его взгляд, улыбнулась. - У вас красивые глаза, Валентин Георгиевич, и они смущают меня. Но не в том плане, в котором вам хотелось бы. - Улыбка исчезла с ее лица. Валентин вспыхнул, но сдержался, отошел к машинописному столику, взглянул на заложенный за валик машинки наполовину уже отпечатанный лист. Непривычные слова, мудреные фразы... - Научная статья? - Увы! - Инна Антоновна, позвольте быть бесцеремонным? - Любопытно, как это у вас получится... Ну что же вы? Валяйте! - С кем вы советовались по поводу предстоящей беседы со мной? Она сняла очки, положила их рядом с машинкой. - Считаете, что я нуждаюсь в чьих-то советах? - Думаю, что после того, как мы договорились о встрече, вы были заняты не только статьей. - Вы правы, но лишь отчасти. По ряду соображений я не хотела этой беседы и пыталась сделать так, чтобы она не состоялась. Но ваш шеф оказался слишком принципиальным. - Вы ему звонили? - Что вы? Я бы не посмела... Да, кстати о звонках: Регина не звонила вам вчера, сегодня? - Нет. Ему понадобилась вся выдержка, чтобы не спросить: откуда ей известно, что Регина собиралась позвонить ему. Не спросил, потому что догадался: и Регина угодила в число ходатаев. Что ж, надо признать: люди, которыми он интересуется, не сидят сложа руки. Он уже собирался уходить, когда Инна Антоновна спросила: - Вы удовлетворены нашей беседой? Я готовилась к ней, как к защите диссертации. - Я это понял, - серьезно сказал Валентин. - Но защищаться, очевидно, все-таки легче, чем защищать. - Вы о чем? - Полно, Инна Антоновна! Вы все прекрасно понимаете. Скажу больше: я нечасто встречал таких проницательных людей. Вот только с компромиссами у вас не получается: вы старались не лгать, но и всей правды не хотели говорить. Наивная позиция в разговоре с работником милиции, который, помимо элегантности, обладает кое-какими профессиональными навыками. - А вы злопамятный, - натянуто улыбнулась хозяйка. - Возможно. Тем не менее, передайте Новицкому, что мужчине, а я считаю его таковым, не пристало прятаться за спинами женщин. Я имею в виду не только вас... Это хорошо, когда за тобой остается последнее слово, когда ты делаешь правильный ход и столь эффектно преподносишь его. И все-таки полного удовлетворения Валентин не испытывал: у него было такое чувство, словно в последний момент он допустил непростительную бестактность, чем не столько смутил, сколько обидел хозяйку. А она этого не заслуживала. Инна Антоновна ничего не скрывала, кроме имени того, кто был с Ларисой в ресторане тем вечером. Но этого человека было нетрудно угадать из ее рассказа о других событиях. Странно, что она не учитывала это. Хотя возможно учитывала, но считала, что милиции уже все известно, и не хотела, как говорится, брать на душу лишний грех. Тем более, не следовало похваляться своим открытием, ставить ее в неловкое положение. Что же до самого Новицкого, то, невзирая на старания Сторожука и Инны Антоновны, мнение Валентина о нем не стало лучше. Похоже, что наиболее ценные книги из библиотеки профессора Яворского попали в чужие руки не без ведома ученика и воспитанника профессора. А это, по меньшей мере, хамство! Не в пользу Новицкого свидетельствует и его бегство из города. Очевидно, придется объявить местный розыск... Но Билякевич рассудил иначе: - На каком основании объявлять розыск Новицкого? Только потому, что вам не нравятся его поступки? Мне тоже не все его поступки нравятся. Но их нельзя брать изолированно, выводить из самих себя. Вы говорите скрылся. А с какой стати ему скрываться? Вечером 28-го еще никто не знал, что Зимовец травмирован. - Новицкий догадывался. - О чем? Что парень ушиб голову при падении? Возможно. Но при всех способностях Новицкого он не мог так сразу определить степень тяжести травмы Зимовца, предусмотреть, чем это кончится. Чего было ему опасаться? Драку затеял не он, в ходе ее сам был травмирован. И травмирован явно, наглядно. Я о другом думаю. Для Новицкого Анатолий Зимовец не был посторонним. Он хорошо знал Анатолия, его родителей, сестру, был их соседом. Вы сами рассказывали, как отзывается о нем Тамара Зимовец. Если принять во внимание эти обстоятельства, то можно предположить, что причиной исчезновения Новицкого был арест Анатолия. Он не хотел усугублять вину парня своей раной, которая, судя по всему, была не такой уж пустяковой. Ляшенко должен был признать, что об этом не подумал. Ему стало неловко за свою горячность, но вместе с тем что-то мешало согласиться с Билякевичем. - Извините, Виктор Михайлович, но я не склонен объяснять все поступки Новицкого высокими чувствами, - наконец нашелся он. - Нельзя забывать о первопричине конфликта: книгах Яворского. Лечебники, о которых рассказала доктор Билан, представляют большой научный интерес. Мандзюк справлялся в библиотеке медицинского института. Эти книги относятся к категории инкунабул. Они уникальны, им нет цены! А первое русское издание "Канона" Авиценны? Да, только ли эти книги исчезли из библиотеки Яворских? Боюсь, что их список будет продолжен. - Я разделяю ваше опасение, кивнул Билякевич. - Но и в этой части мы пока не можем говорить о деликте. Нотариально удостоверенного завещания профессор Яворский не оставил. - Как не оставил? - растерялся Валентин. - Не оставил, я узнавал. - Значит, у нас нет оснований вмешиваться! Книги перешли в собственность Ларисы и Надежды Семеновны, и она вправе распоряжаться ими, как угодно. - Анатолий Зимовец так не считал. Не считает так и автор очерка "Заметки книголюба", что был опубликован в областной газете месяц назад. Видимо, эту публикацию имел в виду Сторожук, когда говорил вам о сплетне, вынесенной на страницы газет. Вот прочитайте. Билякевич передал Ляшенко сложенную вдвое газету. - Эту газету отыскал не я: ее прислал по почте некий аноним не далее как сегодня утром. А чтобы мы не терялись в догадках, он любезно обвел очерк красным карандашом. Смотрите четвертую страницу. Ляшенко прочитал очерк, обведенный красным карандашом. Очерк был как очерк, в нем отмечались положительные и отрицательные явления в деятельности местного общества любителей книги, клеймились стяжательство и даже мошенничество некоторых личностей, поименованных в очерке начальными буквами (как можно было понять, указанные личности только прикидывались библиофилами и под этой удобной маской занимались спекуляцией); воздавалась хвала тем здравствующим и ныне уже усопшим библиофилам, которые за долгие годы упорного собирательства, находок и потерь, надежд и разочарований не утратили главного - любви к книге, как к таковой, не забыли: что книги пишутся и издаются для того, чтобы их читали, а не таили за семью замками; перечислялись имена тех энтузиастов, кто раскрыл свои книжные шкафы и полки для широкого круга читателей, а также тех, кто передал в дар общественным и государственным библиотекам плоды многолетнего собирательства. В числе последних упоминался и профессор Яворский. Однако за этим следовало, казалось бы, ничего не значащая оговорка о том, что, дескать, не все завещанные покойным профессором книги переданы библиотеке медицинского института, и выражалось сожаление по этому поводу. Очерк был подписан неким Верхотурцевым. - Значит, завещание все-таки было! - воскликнул Ляшенко. - Как я уже сказал, официального завещания Яворский не оставил. Но, судя по всему, какое-то завещательное распоряжение было им сделано: после его смерти Новицкий передал библиотеке мединститута более тысячи книг. В их числе довольно ценные, относящиеся к категории раритетов. - Однако не инкунабулы! - Этот факт уже трудно отрицать. Но все дело в том, что неизвестно, какие из завещанных профессором книг не были переданы институту. - А Верхотурцев намекает, что это ему известно. Любопытно только, из каких источников? Кстати, кто такой Верхотурцев? - Бывший секретарь общества любителей книги, журналист. Это ответ на ваш второй вопрос. А на первый мы не скоро получим ответ. После того, как был опубликован очерк, Верхотурцев уехал в творческую командировку в Восточную Сибирь. Отыскать его не так-то просто. Ляшенко взволнованно заходил по кабинету. - Тонко сработанно, ничего не скажешь. Скромненько, но со вкусом. Никто персонально не назван, но людям, знающим семью Яворских, такое уточнение не требуется, они сразу поймут, кто именно огорчил этого болвана Верхотурцева! - Зачем же так грубо? - А затем, что это наилучший эпитет для него! Он сварил в своей журналистской кастрюле то, что ему подсунули, даже не попробовав на вкус. - Почему так считаете? - Вы сказали, что официального завещания Яворский не оставил. Об устном завещательном распоряжении могли знать только близкие профессору люди, в числе которых Верхотурцев, насколько понимаю, не входил. Возникает вопрос: каким образом он узнал о предсмертной воле Матвея Петровича? - Видимо, кто-то проинформировал его. - И информировал тенденциозно! Очерк бьет по Новицкому. Это совершенно очевидно. - В таком случае можно предположить, что Зимовец был ориентирован на Новицкого: те же книги, те же упреки только в более резкой форме, заметил Билякевич. - И еще. Если мы правильно рассуждаем, то и в первом, и во втором случаях за спиной действующих лиц стоял человек, который хорошо знает, что делалось и что делается в семье Яворских. - Этим человеком может быть только Боков! - Если может, значит, уже не только, - сдержанно улыбнулся Билякевич. - Поэтому давайте все-таки отправляться от исчезнувших книг, так будет вернее. В первую очередь надо установить, как "Канон" Авиценны попал к Зимовцу. Не менее важно выяснить судьбу средневековых лечебников. Поручите это Мандзюку. Пусть займется лично... Алексей Мандзюк был человеком действия. Он томился на оперативных совещаниях, где анализировалось предполагаемое поведение преступников, обсуждались меры противодействия их, варианты задержания, изобличения, что очень редко реализовывались в первозданном виде - в последний момент приходилось что-то менять, дополнять, импровизировать, сообразуясь с конкретной обстановкой. Но когда Алексей оказывался в такой обстановке, он чувствовал себя, как рыба в воде. Дело Зимовца поначалу не заинтересовало его: на первый взгляд оно казалось простым, обыденным - драка на почве ревности не ахти какое преступление. Оперативнику в таких делах простора нет, тут все становится ясным после первого допроса. Когда Алексей понял, что ошибся, то выложился, как говорится, весь, но результата не достиг. Это дело нельзя было брать с наскока. Он был зол на Новицкого, хотя интуиция подсказывала ему, что эту кашу заварил кто-то другой, осторожный и изощренный, и едва стала проявляться фигура Доната Бокова, как Мандзюк понял: тут будет над чем поработать. Зацепка была одна - "Медицинский Канон". Мандзюк считал, что книга попала к Зимовцу не без стараний Бокова, у которого были какие-то счеты с Новицким. Сыграть на чувстве уважения к покойному профессору, разжечь обиду, а быть может, и ревность вспыльчивого паренька, напоить его, а затем спровоцировать, для Бокова было все равно, что чихнуть. Но каким образом Донат реализовал столь изощренную комбинацию? Алексей не стал гадать, начал действовать. Рассудил просто: Зимовец был пьян, возбужден, озлоблен вечером 28 июня. Если это связано с книгой, то, очевидно, он заполучил ее в конце дня, поскольку до 16:30 находился в училище, и его товарищи утверждают, что настроение у Анатолия было нормальное. Книги у него при себе не было, учащиеся-полиграфисты непременно обратили бы внимание на такую книгу. Стало быть, он заполучил ее где-то после 16:30. Дома Анатолий появился около 20 часов, заскочил на несколько минут. Сестры не было, мать купала внука, отец работал за верстаком. От разговора с отцом Анатолий уклонился, на предложение матери поужинать что-то буркнул в ответ, когда умывался, едва не опрокинул выварку с бельем. Если к тому же учесть, что через 15-20 минут он уже метался на перекрестке Харьковской и Пасечной улиц в поисках транспорта, то можно смело утверждать - разволновался и выпил он еще до того, как заскочил домой. Значит, надо установить, где он был и с кем встречался с 16:30 до 20 часов. И здесь Мандзюку недолго пришлось ломать голову - один из товарищей Анатолия надоумил его: 28 июня в сквере, что на улице Валовой, был книжный базар, а Анатолий не пропускал таких базаров. Все это Алексей установил, не дожидаясь указаний свыше. В едва таковые поступили, отложил все другие дела и разыскал капитана Чопея из ОБХСС, с которым уже говорил о Бокове, поделился своими заботами. Внешне Чопей никак не походил на офицера милиции: долговязый, нескладный, с костистым бледным лицом и близорукими глазами, он скорее сошел бы за школьного учителя или ревизора-бухгалтера. Но Чопей был знатоком своего дела: в необозримом книжном море ориентировался не хуже городских библиофилов, а спекулянты книгами были объектами его служебных рвений. Выслушав Мандзюка, Чопей призадумался и некоторое время, близоруко щурясь, смотрел куда-то за окно. - Толика я знал, - наконец сказал он. - Любители называли его Переплетчиком, дельцы - Корешком. - Дельцы - это спекулянты? - Не только. Среди книжных дельцов встречаются мошенники, даже воры. А чему удивляться? Наша страна по праву считается самой читающей в мире. Вы можете назвать человека, у которого нет десятка-другого книг? А я знаю людей, у каждого из которых по нескольку тысяч томов, и они не считают свои библиотеки полными. Спрос на книги растет из года в год. Бумажная и полиграфическая промышленность пока не могут за ним поспеть. А неудовлетворенный спрос, как известно, рождает ажиотаж, взвинчивание цен, спекуляцию и прочие аномалии. Но суть не в правовой оценке этих аномалий: для дельца книга представляет интерес только как средство наживы, ее познавательная, нравственная, эстетическая ценность ему, как говорится, до лампочки... Покажите еще раз эту книгу. Мандзюк передал ему "Канон". Чопей открыл книгу на титульном листе: - ...Авиценна. Санкт-Петербург... Это не первое издание на русском языке, есть более раннее. Но книга редкая. Сотни полторы-две может потянуть. Если, конечно, на соответствующего любителя. Делец вам больше четвертной не даст, такую книгу не просто сбыть, далеко не все любители интересуются историей медицины. За переплет могут набросить десятку-другую... Толика работа? - Его. - Способный был паренек, что и говорить... В общем ваши заботы понятны. Постараюсь помочь. Надо кое с кем встретиться. - Если можно, не затягивайте, - попросил Мандзюк. - Я не волокитчик. Договоримся так, в пятнадцать часов ждите меня в кафе "Мороженое" на Валовой. Вы любите мороженое? - Не очень. - Тогда заказывайте себе кофе, а мне - пломбир с орехами. Мандзюк не ограничился разговором с Чопеем: снова побывал в областной больнице, разговаривал с доктором Самсоновым, младшей кадровичкой, медсестрой второго отделения и таким образом уточнил место нахождения Доната Бокова, а также координаты его дачи. Затем посетил библиотеку медицинского института, букинистический магазин, позвонил Инне Антоновне и даже отважился просить аудиенции у профессора Пастушенко. К моменту второй встречи с Чопеем у него уже был список полутора десятка редких книг, что при жизни профессора Яворского составляли гордость его библиотеки. В их числе были не только труды медиков - в списке значились и пятитомные "Русские картинки", издания 1881 года. Непосвященному человеку это название ничего не говорит и даже может вызвать недоверие к букинистическим достоинствам пятитомника. Подумаешь, какие-то картинки! Но эти самые "Картинки" официально оценены каталогомпрейскурантом 1977 года в сногшибательную сумму - две тысячи пятьсот рублей. Не меньше стоят и "Древности Российского государства", также занесенные Мандзюком в свой список... Чопей не заставил себя долго ждать, пришел точно в назначенное время. Едва взглянув на список, он уважительно посмотрел на Алексея, сказал, что "Русские картинки" примерно месяц назад приобрел скульптор и художник Саенко по цене чуть ли не вдвое превышающей прейскурантную. - Как понимаете, такая сделка не осталась без внимания местных книголюбов. Саенко искал "Картинки" несколько лет, они нужны ему для работы... Спекулятивная цена? Прейскурантная тоже не из милосердных. Но вы попробуйте их купить!.. Саенко не говорит, у кого купил. - А вы как думаете? - Есть у меня на примете один делец, некий Рубашкин. Когда-то он по вашей епархии проходил: был вором, имел две или три судимости. Помнить этот период его жизни вы не должны, потому что вот уже лет десять, как он переквалифицировался в дельца, занялся спекуляцией книгами, за что заработал еще одну судимость. Делец он мелкотравчатый, собственного товара у него на грош, в основном работает как посредник. Но последнее время за ним стоит кто-то из крупных спекулянтов. - Боков? - С учетом и того, что вы рассказали, можно думать и о Бокове. Но Боков, имейте в виду, крепкий орешек и ключи к нему надо без ошибки подобрать. Мандзюк напомнил о средневековых лечебниках, спросил, не появились ли они на рынке. - Инкунабулы на рынок не выносят. Это все равно, что продавать на барахолке подлинные полотна Репина или Куинджи. Вы представляете себе эти лечебники хотя бы внешне? - Что-то наподобие Библии дореволюционного издания. Эдакие тяжеловесные фолианты в толстых изъеденных тараканами переплетах. Пожелтевшая ломкая бумага с истрепанными углами... - Алексей Алексеевич, библиофил из вас не получится! В двенадцатом веке в Европе бумага ценилась на вес золота. Эти лечебники напечатаны на пергаменте с наборных форм, их переплетные крышки сработаны из серебряных пластин, корешки из кожи, крытой муаром. Это абсолютно точное описание интересующих вас книг. А теперь попробуйте угадать их цену. - Что-то на уровне "Картинок"? Чопей рассмеялся: - Простите, Алексей Алексеевич, вы наивный человек! К сумме, за которую были проданы "Картинки", припишите справа еще один ноль. Именно столько предложил профессору Яворскому за эти лечебники пять лет назад некий американский турист. Причем дал понять, что названную сумму не считает предельной. Но Яворский отклонил его предложение. - Откуда сведения? - Об этой истории местные библиофилы до сих пор судачат на разные лады. - Ваш "лад" - один из них? - Обижаете, Алексей Алексеевич! В серьезных разговорах я оперирую только достоверными данными. Есть у меня знакомый старичок-боровичок, который в курсе всех более или менее значительных событий в книжном мире. Имя у него непритязательное: Иван Иванович. Книголюбы называют его Патриархом, дельцы - Книжным червем, я - Ходячей Букинистической Энциклопедией. К нему обращаются за консультациями и любители, и дельцы. Он никому не отказывает, но при этом блюдет свой интерес. - А какой его интерес? - Знать все, что делается в мире книг, - улыбнулся Чопей. - Я к нему обращаюсь нечасто, но мои просьбы он всегда уваживает. Вот сегодня утром, после разговора с вами, я посетил его, озадачил. А уже к обеду он передал мне информацию, полученную из надежных источников, что должна заинтересовать вас... Если верить источникам ИванаИвановича, в конце дня 28 июня на книжном базаре произошло событие, которое не было сочтено из ряда вон выходящим, а потому не привлекло особого внимания очевидцев. Где-то около пяти часов на базаре появился Толик-Переплетчик, хорошо известный как любителям, так и дельцам. Толик появился на базаре без определенной цели: книг для продажи или обмена у него при себе не было, а покупает он редко, так как свободными деньгами не располагает. Откуда у учащегося ПТУ свободные деньги! Чаще всего он меняет. Обмен для книголюба - процесс творческий и увлекательный сам по себе. Допустим, ты хочешь заполучить однотомник Бабеля, но его владелец меняет книгу только на Эжена Сю, у тебя Сю нет, но есть лишний Эдгар По, к которому уже давно приглядывается третий книголюб. У него тоже нет Сю, но он знает четвертого любителя, который готов отдать Сю за Булгакова... Опять не получается? Тогда ищи, у кого есть Булгаков... Сложно? А вы думали быть книголюбом просто! На одной любви далеко не уедешь - тут соображать надо. Так вот Толик уже умел решать такие ребусы... На этот раз он тоже стал приглядываться к какой-то книге, которую владелец - шофер 3-го таксопарка Габа менял на рассказы Зощенко. Толик обратился за содействием к знакомым любителям, но ему ничем не могли помочь: Зощенко ни у кого не было. Как раз в это время к Толику подошел Рубашкин и предложил заказ на кожаный переплет с медной застежкой. Толик отмахнулся от него, дельцов он не уважал и старался держаться от них подальше. Но Рубашкин посулил ему Зощенко с тем, однако, условием, что Толик сделает для него такой же переплет, как на книге, которая лежала в портфеле Рубашкина. Он раскрыл портфель, показал книгу в кожаном переплете с застежкой. Едва завидев книгу, Толик разволновался, вцепился в Рубашкина, затащил его в ближайший подъезд, стал допытываться, как попала к дельцам книга в сработанном им переплете. Рубашкин сначала юлил, но потом стал оправдываться (что на него не похоже - человек он довольно грубый и в излишней совестливости до сих пор не замечен). Толик кричал на него, тряс за плечи. Но потом они вроде бы поладили и пошли в бар "Медовица" о чем-то договариваться. А в этом баре только за вход трешку берут и там не столько разговаривают, сколько балдеют от поп-музыки и водки с медом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что из бара Толик вышел нетвердой походкой. Книга в кожаном переплете была у него в руке... - Не Рубашкина это затея! - выслушав Чопея, убежденно сказал Мандзюк. - Рубашкин сделал то, что ему велели, - согласился Чопей. - Но беседовать с ним на эту тему бесполезно: мужик он тертый и битый не единожды. - Бокова проделка, чует мое сердце! - Сердце к делу не подошьешь. - Надо что-то придумать. - Давайте думать вместе, - предложил Чопей. - Я на Бокова большой зуб имею за библиотеку Дома ученых. И еще кое-какие делишки за ним по нашему ведомству числятся. Но он имеет высоких заступников, а потому брать его надо только с поличным. Идея возникла вдруг, как выстрел. Чопей поддержал ее, Ляшенко отредактировал. Билякевич не возражал, но советовал поторопиться. Как догадывался Валентин подполковника не оставляли в покое покровители семьи Яворских. Остановка была за Инной Антоновной. Согласится ли? Учитывая деликатность предстоящего разговора, Ляшенко счел нужным взять его на себя. Не откладывая дела в долгий ящик, он позвонил Инне Антоновне, договорился о встрече. Она не удивилась его звонку, лишних вопросов не задавала и это обнадежило Валентина. Он заехал за ней в институт на оперативном "Москвиче". - Вы прекрасно водите машину, - заметила Инна Антоновна, когда он повернул на оживленный Октябрьский проспект. - Но все-таки давайте выберем улочку потише, станем у какого-нибудь забора и сосредоточимся на беседе. А то мешают: вам - светофоры, обгоны, девичьи ножки, мне - недостаточное внимание собеседника. Валентин негромко рассмеялся, но просьбу уважил. Обогнув парк Богдана Хмельницкого, он свернул в узкий проулок, остановился у высокого каменного забора, увитого плющом... Билан не перебивала его, когда он окончил, спросила: - Вы ни с кем меня не спутали? - Инна Антоновна, поймите меня правильно, мы вынуждены обратиться к вам, потому что другого выхода нет. - Абсурд! - Она достала из сумочки сигарету, закурила. - Вы предлагаете мне - рафинированной интеллигентке, человеку с давно определившимися этическими воззрениями, возможно не безупречными и даже в чем-то сомнительными, но сложившимися, прочными, как эта монастырская стена, - предлагаете стать сыщиком! - Ну почему же сыщиком! Я прошу помочь в деле, которое не может не волновать и вас. Надеюсь, вы не сомневаетесь, что совершена подлость, и скорее всего, это дело рук Доната Бокова. Или считаете, что Боков не способен на подлость? - Боков способен на все! Он - негодяй, каких мало. Но, понимаете, это лежит не на поверхности. Пока я разобралась в нем, он стал моим хорошим знакомым, знакомым моих знакомых. И до сих пор у меня не было повода указать ему на дверь. О многом я уже догадалась, но у меня нет доказательств. А человеку свойственно сомневаться до тех пор, пока его не ткнут носом в эти самые доказательства. - Если вы согласитесь помочь нам, доказательства будут. - И вы ткнете меня в них носом? Ой, что-то не по себе от этой затеи! Не говоря уже о прочем, я берегу свой нос. - Значит, нет? - огорчился Ляшенко. - Сыщик, - усмехнулась Инна Антоновна. - А в женском роде как будет? Сыщица? Какой кошмар!.. Хорошо, я согласна. Только не воображайте, что уговорили меня: с аналогичной идеей я ношусь уже второй месяц. И когда бы не этот разговор, сама бы реализовала ее. - Толик Зимовец тоже пытался действовать самостоятельно, - счел нужным заметить Валентин. Инна Антоновна погасила улыбку: - Вы правы, дилетантом в таком деле быть нельзя. Они обсудили план действий, что не отличался сложностью, но учитывал отношения, характеры, устремления действующих лиц. В тот же день, а точнее - вечером, Инна Антоновна должна была как бы случайно встретиться с Донатом Боковым в оперном театре, куда Донат пригласил младшую кадровичку областной больницы (это последнее обстоятельство загодя установил Мандзюк). В театр Инна Антоновна пойдет не одна - со своим австрийским коллегой, профессором Цингером (оказывается, группа австрийских невропатологов действительно приехала в их город). С профессором Цингером Инна Антоновна познакомилась накануне и была уверена, что он не откажется посмотреть балет "Спартак" (как потом выяснилось, профессор в основном смотрел на Инну Антоновну). Встретившись с Донатом в фойе (буфете, курительной комнате), Инна Антоновна должна рассказать ему о своем новом поклоннике из Вены и как бы между прочим обронить, что профессор Цингер страстный книголюб, интересуется средневековой медицинской литературой и при этом не стоит за ценой (он очень состоятельный человек!). Расчет был прост: если исчезнувшие из библиотеки Яворского лечебники находятся у Бокова, то он, безусловно, соблазнится сделкой с Цингером - другого такого случая может и не представится. Но Боков не сказал ни да, ни нет. Он поверил Инне Антоновне: все было обставлено так, что сомнений у него не возникло. Тем не менее не дал определенного ответа, сказал, что книг, интересующих профессора Цингера, у него нет, но он поговорит с одним человеком, у которого они должны быть. Обещал позвонить Инне Антоновне на следующий день. Тем же вечером, передав этот разговор Ляшенко, Инна Антоновна высказала предположение, что лечебники, несомненно, у Бокова, но он по своему обыкновению крутит-вертит, то ли для того, чтобы свободнее торговаться потом (дескать, книги не мои, я только посредничаю), то ли для того, чтобы уйти от ответа на возможный вопрос, каким образом к нему попали книги? Валентин нашел ее доводы убедительными. Но следующим утром подумал о том, что Боков мог и не соврать. Лечебники исчезли два месяца назад, а он до сих пор не предпринял попытки реализовать их, или хотя бы найти соответствующего покупателя. Стало быть, этих книг у него действительно нет. Но он знает, у кого они находятся. Поэтому не далее как сегодня встретится с этим человеком (Инна Антоновна предупредила его, что профессор Цингер уезжает в пятницу). Валентин позвонил Мандзюку на квартиру - тот еще спал - поделился своими соображениями. Алексей понял с полуслова. - Беру под наблюдение. Сейчас шесть часов двадцать пять минут. Считай, что с семи ноль-ноль Дон у меня на телеэкране. Буду докладывать каждый час... До десяти утра ничего заслуживающего внимание не произошло. Правда, в 8:15 дачу Бокова покинула и поспешила на автобусную остановку младшая кадровичка. Донат не провожал ее. Только в 9:30 он - еще в пижаме - зашел на соседнюю дачу, где был городской телефон, чтобы позвонить. С кем и о чем он говорил, неизвестно, но разговор длился недолго. Вернувшись к себе, Боков переоделся и без пяти минут десять вышел из дома, сел в свою машину, поехал в город. В городе он останавливался около двух магазинов: табачного и парфюмерного. В табачном он купил блок сигарет "БТ", в парфюмерном французские духи номинальной стоимостью 62 рубля. Этих духов на витрине не было, но после недолгих переговоров с продавщицей таковые были извлечены из-под прилавка и вручены Донату. В 10:45 Боков остановил "Ладу" неподалеку от кинотеатра "Сосновск", зашел в телефонную будку, снова кому-то позвонил. На этот раз удалось установить, что он соединился с кафедрой патологической анатомии мединститута и говорит с какой-то женщиной. Подключение произошло в конце разговора и можно было понять только, что женщина согласилась встретиться с Донатом. Правда, неохотно - она разговаривала довольно сухо, - но все-таки согласилась. В 11:10 Боков подъехал к третьему корпусу медицинского института, припарковал машину, зашел во двор, направился к скамейке, что крылась за декоративным кустарником, присел, забросил ногу за ногу, закурил. Спустя пятнадцать минут, в течение которых Донат трижды смотрел на часы и выкурил две сигареты, - та, которую он ждал, явно запаздывала, - наконец появилась женщина в ладно пошитом и не менее ладно сидящем на ней белом халате, оригинальной белой шапочке, из-под которой расчетливонебрежно выбивались темно-золотистые волосы, на затылке собранные в большой узел. Женщина была еще хороша собой, хотя лет ей было немало - за сорок. Завидев ее, Донат вскочил, почтительно улыбнулся, галантно приложился к полной ухоженной руке, которую женщина подала ему после некоторого колебания. Она смотрела на него строго, можно даже сказать, неприязненно. Но Доната это не смутило: он стал что-то говорить вежливым полушепотом, продолжая улыбаться и время от времени как бы ненароком касаясь ее оголенной по локоть руки. Женщина начала оттаивать, смотрела уже не так строго, в глазах у нее зажегся интерес, а когда он приподнес духи, растерянно улыбнулась, сказала: "Ну что вы, Донат. К чему это?" - Он что-то шепнул ей на ушко, она порозовела, отстранилась, но не очень далеко, сказала скорее кокетливо, чем укоризненно: "Вы неисправимы, Дон!" - После чего взяла духи, опустила в карманчик халата. Но затем разговор пошел уже о серьезных вещах, потому что женщина перестала улыбаться, а через некоторое время снова сдвинула брови, сунула руки в карманы халата, сказала остывающим голосом: "Мы уже говорили на эту тему, и я сказала, что вы ошибаетесь". Ее строгость осталась без внимания, более того, Донат усилил напор и хотя по-прежнему говорил вкрадчивым полушепотом, лицо его раскраснелось, а глаза зажглись неприятным блеском. "Все это очень соблазнительно, - уже совсем сердито перебила его женщина, - но у меня их нет". Но Боков не поверил ей, продолжая настаивать. В пылу красноречия он даже ухватил женщину за руку. - "Я не стану объяснятся ни с ним, ни с ней! В конце концов это оскорбительно, - раздраженно сказала женщина, пытаясь освободить свой локоть. - Пустите, Донат! Вы переходите все границы, Мне с вами больше не о чем говорить!" Она вырвала руку, быстро пошла к корпусу. Проходя мимо урны, демонстративно бросила в нее французские духи. Боков беззвучно ругнулся, а затем огорченно прикусил губу... Кто эта женщина Мандзюк уже догадался, но для полной уверенности, подождав, когда Боков покинет двор, справился у санитара, курившего у подъезда третьего корпуса. Тот подтвердил его догадку - это была Надежда Семеновна. ...Встреча с Ларисой Яворской приобретала первостепенное значение. - Поторопите Юрко, - велел Билякевич Валентину. - Ждать больше нельзя. Юрко должна встретиться с Ларисой сегодня же, расположить к себе девушку, убедить к необходимости откровенного разговора. ...Смерть Анатолия Зимовца потрясла Галину. Она отказывалась верить, что уже нет в живых этого не по годам серьезного паренька с симпатичными конопушками на нетронутом бритвой мальчишеском лице. Он был ершистым, взрывным, но способным, работящим - удивительно работящим для своих восемнадцати лет. Хороший сын, заботливый брат, верный товарищ, он не мог быть плохим человеком. И он не был плохим. Только жизнь оказалась сложней, чем он хотел ее видеть, чем она казалась ему со страниц любимых книг. Да, конечно, ему следовало посоветоваться со старшими товарищами, чьим мнением он дорожил, и ему помогли бы разобраться в хитросплетении событий, которые, скорее всего, не требовали его вмешательства. К сожалению, он все решил сам. Он считал себя взрослым человеком, мужчиной, который не только вправе, но и обязан принимать самостоятельные решения в острых ситуациях, что порой подбрасывает нам жизнь. Увы, для истинной взрослости ему не хватало выдержки, самокритичности. И вот результат - он мертв. А те, кто так или иначе причастны к его смерти, очевидно, утешают себя искупающей (как им представляется) все, до омерзения убогой мыслишкой: "Кто мог знать, что так получится!" Должны были знать! Предвидеть. Понимать, что творимая ими подлость есть подлость и не все смогут пройти мимо, сделать вид, что это их не касается. Вывести на чистую воду, разоблачить этих людей будет нелегко: Зимовец мертв, а они, эти люди, не станут откровенничать, говорить себе во вред. Как их разоблачишь? Подлость не улика: ее не найдешь при обыске, не приобщишь к делу, как вещественное доказательство. Но разве все заключается в доказательствах? Должна быть у этих людей какая-то совесть. Пусть куцая, но все-таки совесть. Ведь они считают себя порядочными. Попробуй скажи такому, что он подлец, негодяй, непременно обидится, возмутится, а то еще жалобу на тебя настрочит. Как же, оскорбление личности! Так вот, интересно знать, как эти личности, считающие себя порядочными людьми, поладили со своей совестью? Неужто на все хватило той самой убогой мыслишки? Нет, деликатничать с этими людьми она - Галина Юрко - не будет и непременно задаст им такой вопрос, прямо, без околичностей. И в первую очередь Ларисе... Но Ляшенко охладил ее пыл. - Ты оперативный работник, и твоя задача устанавливать факты, а не давать им произвольные оценки. Не уподобляйся тем, кто, едва заметив муху, делает из нее слона и, не получив на то патента, уже собирается торговать слоновой костью. Это я к тому, что тебе предстоит доверительная беседа с Ларисой... Спокойней, без эмоций, младший лейтенант Юрко! Доверительная беседа получается лишь тогда, когда в ее основу кладутся не эмоции, но взаимное доверие. А посему тебе надлежит говорить с Ларисой дружелюбно, с пониманием положения, в котором она оказалась... Что значит не смогу? А зарплату ты можешь получать? Так вот, имей в виду: это не моя прихоть, а служебное предубеждение, от которого ты должна отрешиться, мне тоже было не просто, но помог разговор с умным человеком. Надеюсь, и тебе поможет наш разговор, ибо - в ином случае - я не смогу считать тебя умным... А если серьезно, то подумай, как юрист: в чем виновата Лариса? Забудь на время финал этой истории, который мог быть иным и только в силу стечения ряда обстоятельств приобрел трагическую суть... Над этим стоило подумать. Конечно, если отрешиться от печального финала, то эта история и в самом деле ничего ужасного в себе не таила. Ну, поехала с названым братом в загородный ресторан выпить кофе, потанцевать, послушать музыку. Что тут предосудительного? Ну, прицепился подвыпивший парень - знакомый, который приревновал ее к ее же брату (правда, к сводному, да еще такому, от которого всего можно ожидать). Разве Лариса виновата? Какие бы ни были у нее отношения с Новицким, это только ее и Новицкого дело... Ну, допустим, раздавала доставшиеся ей по наследству книги. Книги унаследовала, а любовь к ним не переняла. Не казнить же за это... Поспешила убраться с места происшествия, едва появился патруль? А кому охота, если на то пошло, быть героиней скандала, фигурировать в милицейских протоколах, оправдываться потом на месткоме, комсомольском бюро? Конечно, со стороны такая позиция выглядит не лучшим образом. Но это, если смотреть со стороны... На чем же, в таком случае, зижделось ее, Галины, предубеждение? На годичной давности короткой встрече с заносчивой девицей в японском спортивном костюме, которая неожиданно появилась в отцовском кабинете, вмешалась в разговор старших? А что, собственно, она сказала тогда? Надо, по возможности, припомнить каждое слово. Тон был задиристый, вызывающий, и это хорошо запомнилось, заслонило собой суть. А сказала она вот что: "Толик может убить, но не украсть. Это у него на лице написано. Надо быть хоть немного физиономистом, товарищ сотрудник милиции!" Да, так и сказала. А потом на лестничной площадке, совсем уже дерзко: "Послушайте, оставьте парня в покое! Он порядочнее нас с вами... Откуда мне известно? Я целовалась с ним!" Если отбросить вызов, браваду, а это надо было сделать сразу, то что же остается? Она защищала Толика: открыто, настойчиво защищала. Даже в ущерб себе... А почему, собственно, в ущерб? Призналась, что целовалась с ним? Возможно, выдумала это для хлесткости ответа - есть такие девчонки, которые себя не пощадят, лишь бы за ними осталось последнее слово. Но даже если это была правда, то ничего страшного нет и в этом. Кто из девушек не целуется с парнями? Конечно, для Толика Зимовца это было целым событием: он был влюблен и влюблен впервые, что Ларисе следовало учитывать. Но так ли велик грех влюблять в себя парней? К тому же, надо думать, она не связывала себя никакими заверениями - нынче клятвы не в моде - и, очевидно, вообще не придавала значения этим поцелуям. Понимал ли это Толик? Трудно сказать. Но совершенно ясно, что объясняться с Ларисой он должен был раньше и в любом случае избрать для этого более подходящее место. Нет, здесь было что-то не так, и Ляшенко прав: надо поговорить с Ларисой начистоту. Вот только, где встретиться с ней? Вызвать повесткой? Вряд ли у них получится откровенный разговор в этом случае. Надо что-то придумать... Придумывать не пришлось - они встретились в тот же день на похоронах Анатолия Зимовца. Галина не думала, что Лариса осмелится прийти на похороны: не говоря уже о прочем, она рисковала нарваться на крупный скандал. Тамара Зимовец, каким-то образом прослышав о ее причастности к потасовке у ресторана, метала на Ларисину голову громы и молнии. Галина сама колебалась: ехать или не ехать на кладбище. От Ляшенко она знала о выпадах Тамары по адресу работников милиции, и это нельзя было сбрасывать со счетов. Но накануне ее вызвал Билякевич и рассказал, что к нему приходил Иван Прокофьевич Зимовец, извинился за дочь. Иван Прокофьевич не разделял ее подозрений, считал их вздорными, и в итоге сумел переубедить Тамару. Он просил Билякевича посодействовать в отношении оркестра - в ПТУ сомневались, можно ли хоронить Анатолия с оркестром, а также выразил надежду, что Галина Архиповна Юрко, которую в их семье очень уважают, придет отдать последний долг его сыну. А еще Иван Прокофьевич опасался, как бы не было никакого инцидента на кладбище: трагическая смерть Анатолия вызвала на их улице и окрест ее разные толки, что будоражит кое-кого из товарищей Анатолия, далеких от него при жизни, но сейчас воспылавших обидой за него, парней-бузотеров... С оркестром Билякевич уладил, а учащиеся ПТУ, в котором учился Анатолий, приняли меры, чтобы не допустить эксцессов со стороны любителей дешевых сенсаций, скандалов. Надо отметить, что таких оказалось немного. К тому же дружинники наблюдали за порядком и все обошлось более или менее спокойно. Только Тамару нельзя было унять: она плакала, причитала, кляла. Вначале Галина не поняла, против кого теперь обратила свой гнев сестра Анатолия? Она не хотела подходить к ней, но Тамара сама подошла, обняла, заплакала у нее на плече. - Галина Архиповна, вы его понимали. Только вы! Потом оборвала плач, сказала зло: - Ну ничего, я этой твари испорчу прическу! Разукрашу ее без помады! Пусть только попадется. И тут же объяснила, кого имеет в виду - Ларису Яворскую. Оказывается, она уже узнала все. Знала даже больше того, что было на самом деле. И хотя спор на похоронах неуместен, Галина все же сочла нужным возразить: - Это не она... - Она! - перебила ее Тамара. - Я эту дрянь давно раскусила. Знала ее, когда она еще в бантиках-рюшечках ходила, ангелочка из себя корчила. Уже тогда на ней пробы негде было ставить! Думала, если папа профессор, ей все дозволено. Ни стыда, ни совести! За Пашей как собачонка бегала, а Толик у нее только так, между прочим, был. И не один: она с любым могла... Я знаю, что говорю! Паша ее со временем раскусил. И у Толика на нее глаза открылись, наладили они ее подальше. И Паша, и Толик. Вот она и решила отомстить - столкнула их, дураков, между собой. Вы не спорьте: я о ней побольше вашего знаю! Тамара чуть ли не кричала, и Галина уже пожалела, что заговорила с ней. Но вместе с тем она была в недоумении. Еще недавно Тамара говорила о Ларисе без осуждения и даже вроде бы сетовала, что та не разделила чувство ее брата. И вдруг такой поток грязи. Очевидно, какую-то неприязнь к девушке она таила давно, но не было причин ее подогревать, выплескивать. А сейчас, когда на нее обрушилось горе, и ее разум не находил его истоков, молодая женщина искала виноватых. Для нее так было легче, проще воспринять непоправимое. Но вот что странно: она обвиняла не Новицкого, хотя уже знала, что это он нанес ее брату трагический удар. Больше того, находила ему оправдание. И это было трудно понять. Возможно, Тамара в самом деле знает что-то такое, что неизвестно ни Мандзюку, ни Ляшенко, и это нечто дает ей право говорить так... Когда засыпали могилу, Галина обратила внимание на долговязого парня с ассиметричным лицом, который подошел к Тамаре, что-то зашептал ей. Его лицо, как бы скошенное с одной стороны, показалось Галине знакомым. Всмотревшись, она узнала его и даже вспомнила его уличную кличку - Бим. Это был тот самый оболтус, которому полтора года назад Анатолий намял бока. Если Галине не изменяет память, тогда они подрались из-за какой-то сплетни. Ну, конечно! И вот что удивительно: та сплетня касалась Тамары, чернила, порочила ее. Точно так же, как сейчас Тамара поносит Ларису. Вряд ли это было случайным совпадением, скорее всего и в том, и в другом случае источник сплетен был один. Неужто Тамара не понимает этого? И вообще, что может быть у нее общего с этим негодником Бимом? Однако на возмущение уже не оставалось времени. Лицо Тамары исказил гнев. Она резко повернулась, посмотрела за частокол памятников, куда показывал Бим. Потом что-то сказала, а вернее, процедила сквозь зубы. Бим только этого ждал: метнулся за памятники, прихватив с собой двух патлатых парней. Заподозрив недоброе, Галина отыскала командира дружинников рослого, плечистого парня, рассказала о настораживающем поведении Бима. Четверо дружинников бросились в сторону, где скрылся Бим с дружками. Галина старалась не отставать от них. Они подоспели вовремя: хулиганы скрутили какую-то девушку, заломили ей руки. Бим обмотал ее голову своей курткой и, осыпая ее площадной бранью, бил кулаками куда попало. Завидев дружинников, хулиганы бросились врассыпную. Дружинники устремились за ними. Как только Бим отпустил девушку, она рухнула на колени, сгорбилась, сжалась, не пытаясь даже освободиться от намотанной на голову куртки. Галина наклонилась к ней, размотала куртку и едва не ахнула - Лариса! Девушка плакала молча, без всхлипов, содроганий: слезы, будто струйки дождя, омывали ее лицо, разбитые в кровь губы. Галина взяла ее под руку. Девушка послушно поднялась, прислонилась спиной к березе, склонившей ветви над чьей-то могилой, закрыла глаза и так стояла некоторое время. Потом сказала: - Поделом мне. Мало еще надавали, надо было как его - головой о камень! Кровь сочилась из ее подрагивающих губ. Галина спросила, есть ли у нее носовой платок. - Был в сумочке, но я не знаю, где она, - девушка приоткрыла глаза, украдкой посмотрела на Галину из-под густых темных ресниц. Уголки ее рта дернулись в усмешке - узнала. Галина не нашла ее сумочки, дала свой платок, Лариса прижала его к губам. - Благодарю, вы очень любезны. Я постираю, верну. - Она помолчала, а затем добавила со знакомой Галине задиристостью: - Или в милиции их выдают вместо индивидуальных пакетов? - Идемте, я провожу вас, - оставляя без внимания ее выпад, предложила Галина. - Нет, - мотнула головой девушка, и ее лоб, глаза захлестнула волна рыжеватых волос. - Я должна подойти к нему, к его могиле. Галина пыталась отговорить ее - такая демонстрация могла вызвать новый скандал, но Лариса стояла на своем. Они подождали, пока все уйдут, подошли к свеженасыпанному холмику, прикрытому шалашом погребальных венков. Лариса опустила голову, и волосы крылом закрыли ее лицо. - Оставьте меня с ним, - попросила она. Галина отошла в сторону. Лариса опустилась на колени, зарылась ими в разрыхленную землю, отняла ото рта платок, беззвучно зашевелила разбитыми губами. Галине показалось, что она молится, и это удивило ее. Но вот Лариса поднялась, отряхнула колени, поправила платье, подошла к Галине и сказала вполне серьезно: - Я просила у него прощения, но он ничего не ответил. Глупо... Все это очень глупо! И хотя она говорила спокойно, без надрыва, ее тон, слова не понравились Галине: было в них что-то выспренное, показное. "Нашла где и перед кем представление устраивать", - неприязненно подумала Галина. Но тут же одернула себя: "Опять спешишь с выводами!.." Кладбище покидали вместе. Галина не без опаски поглядывала по сторонам: уже смеркалось, кладбищенские кварталы опустели. У ворот их поджидали два крутоплечих парня. Галина нащупала в кармане платья милицейский свисток, но, узнав дружинников, успокоилась. Старший из парней отозвал ее в сторону, передал небольшую изящную сумочку-кошелек. - Это, должно быть, ее, - имея в виду Ларису, сказал он. - Хулиганы бросили, когда мы гнались за ними. - Догнали? - полюбопытствовала Галина. - Двух догнали, передали вашим сотрудникам, третий убежал. Как поняла Галина, третьим был Бим... Неподалеку от кладбищенских ворот у обочины шоссе стоял милицейский "рафик". Лариса замедлила шаг, покосилась на Галину. - Я арестована? - вовсе не испуганно, скорее с любопытством, спросила она. - За что вас арестовывать? - удивилась Галина. - Это все из-за меня произошло, - неожиданно сказала девушка. - Я во всем виновата. Только я! Галина внимательно посмотрела на нее, стараясь понять, насколько она искренна. За год, что они не виделись, Лариса заметно повзрослела: приосанилась, раздалась в плечах, что не портило ее рослую спортивную фигуру. А еще она стала сдержаннее: расчетливей в жестах, словах. Но именно эта ее сдержанность беспокоила Галину: была в ней какая-то напряженность, отчего казалось, что вся она сжата, как до отказа заведенная пружина, которая вот-вот сработает или лопнет с оглушающим звоном. Но Лариса держалась спокойно, ровно, хотя разговор у них шел непростой. Правда, Галине не сразу удалось разговорить ее, убедить в искренности своих намерений... Они сели в троллейбус, проехали несколько остановок. Лариса молчала, все еще прижимая платок к губам, хотя в том уже не было надобности - кровь запеклась. Видимо, это был предлог не разговаривать, собраться с мыслями. У Дома ученых Лариса начала пробираться к выходу, хотя выходить ей надо было не здесь. Галина растерялась: бежать за ней, останавливать, вразумлять было так же глупо, как отпустить ни с чем. Но вот девушка - она была уже в дверях - оглянулась, кивком головы пригласила Галину выйти вместе. Пассажиры, которые не собирались выходить на этой остановке, уже сомкнули плечи, спины, и Галина с трудом протиснулась к двери. Едва успела выскочить из уже отправляющегося троллейбуса, на тротуаре столкнулась с дородной дамой, наступила на ногу пожилому военному, забормотала извинения. Лариса успела отойти к газетному киоску и как ни в чем не бывало листала пухлый литературный журнал. Когда Галина подошла, она спросила, не отрываясь от журнала: - Значит, меня не арестуют? - Пока в этом нет необходимости, - сухо сказала Галина. Она была сердита на Ларису за ее дурацкую выходку и такое вот позерство - можно подумать, что ей наплевать, арестуют ее или нет. - А мне сказали, что меня арестуют, даже советовали уйти из дома на день-два. - Куда уйти? - К подруге, тете... Мало ли куда можно уйти! - Почему только на день-два? - За это время обещали все уладить. - Кто обещал? - Не имеет значения. - Вас никто не собирается арестовывать, - сделав над собой усилие, как можно дружелюбнее, сказала Галина. - Я хочу поговорить с вами. Просто поговорить. Лариса недоверчиво прищурилась, но затем согласно кивнула. - Зайдемте в Дом ученых, я приведу себя в порядок. В туалетной комнате Лариса намочила платок, вытерла им колени, умылась, причесалась, осторожно накрасила помадой разбитые губы. - Еще хорошо, что глаза не подбили, а то вообще был бы видик! сказала она Галине и тут же предложила: - Идемте в бар, выпьем по пятьдесят граммов. Так положено после похорон. Галина не стала возражать. Но им не повезло: бар был закрыт. - Знаете что, - предложила Лариса, идемте ко мне. У меня отдельная комната. И выпить у нас найдется. - Я не буду пить, - предупредила Галина. - Дело ваше. А я буду, хочу напиться. - В таком случае отложим наш разговор. Лариса удивленно посмотрела на нее. - Но это в ваших интересах: пьяная я выболтаю все. - Мне характеризовали вас как умную девушку, а вы говорите глупости, - рассердилась Галина. Лариса зарделась. - Извините. Но я действительно хочу напиться, чтобы не думать ни о чем. А еще хочу перевернуть вверх дном одну фешенебельную квартиру. Трезвая я не сумею это сделать: как-то пробовала, не получилось. - Странное желание! - Не такое уж странное, если учитывать... - Она осеклась, а затем неожиданно взяла Галину под руку: - Вы правы: я говорю глупости. Это потому, что ищу себе оправданий, а их нет. Идемте, я расскажу то, что вас интересует. И снова ее тон - слишком уж покаянный и слишком доверительный, не понравился Галине. Должно быть, все, что сейчас расскажет Лариса, будет неправдой или, в лучшем случае - полуправдой. Но то, что она услышала, ошеломило ее. Они свернули на тихую Садовую улицу, затененную густыми кронами каштанов. Лариса чуть наклонила голову, заговорила неторопливым полушепотом: - Год назад я сошлась с Толиком и не видела ничего ужасного в этом. Толик мне нравился своей непосредственностью, робостью, которую он пытался скрывать за напускной грубоватостью. Но вскоре поняла, что сделала глупость: Толик был наивен, как ребенок, и все принимал всерьез. Он настаивал, чтобы мы поженились. Это было бы смешно, когда бы он не был так настойчив. В общем он надоел мне быстрее, чем я ему. Отделаться от него было нелегко, и мне ничего не оставалось, как сказать, что выхожу замуж за Новицкого. Конечно, это была неправда, но я знала, что Толик поверит: с первого дня нашего знакомства он ревновал меня к Паше. Пашу я не предупредила, поскольку не думала, что Толику взбредет в голову объясняться с ним. А оно вон как получилось! О книге она умолчала. Но дело было даже не в этом - Галина не поверила ей. Все, о чем она рассказала неторопливым, ровным полушепотом, было уже сказано Тамарой Зимовец, которая подхватила пущенную кем-то сплетню. Тем не менее, Лариса повторила ее почти дословно, не пощадив себя и не сделав никакой попытки оправдаться, очевидно, ничего другого придумать не успела... - Надежда Семеновна знала о ваших отношениях с Толиком? - Догадывалась. - А Новицкий? Лариса вспыхнула, да так, что запылали уши. - Нет... То есть, возможно, знал... догадывался. Но с некоторых пор он избегал в разговорах со мной таких тем. - Почему? Она не ответила, отстранилась, опустила голову, и ее лицо снова накрыла волна рыжеватых волос. "Ах вот в чем дело! - подумала Галина. - Как я раньше не поняла. Еще на автостоянке, не удержи ее Чижевская, она бы бросилась в драку, стала бы под нож. И не из любви к острым ощущениям, а потому, что Новицкому, ее Паше, угрожала опасность. И сейчас решила пожертвовать собой, лишь бы отвести от него беду..." И, если до этой минуты у нее еще оставалось предубеждение к девушке, то сейчас оно исчезло, словно испарилось. Захотелось обнять ее крепкие плечи, по-дружески встряхнуть, сказать, что нечего тревожиться, переживать - все должно обойтись для ее Паши. Но тут же вспомнила Толика Зимовца и невольно отстранилась от Ларисы... - Вечером 28-го у Толика при себе была книга "Медицинский Канон" Авиценны из вашей библиотеки. - Книга? - переспросила Лариса, видимо, для того, чтобы выиграть время, сообразить, как и что ответить. - При чем тут книга? - Не знаю, поэтому спрашиваю. - У папы было больше семи тысяч книг, я не могу помнить все! раздраженно сказала девушка. - Это ценная книга. В свое время Толик одел ее в кожаный переплет, это был его подарок Матвею Петровичу, - не отступала Галина. - Может быть. Не знаю! Она насупилась и Галина решила не настаивать - иначе у них не получится откровенный разговор. Они подошли к ее дому, и Лариса подчеркнуто церемонно пропустила Галину вперед. - Прошу вас. Квартира была большой - пять просторных комнат, не считая холла, подсобных помещений, кухни; богатой - узорчатый паркет, лепные потолки, хрустальные люстры, ковры; ухоженной - все сверкало безукоризненной чистотой, в полированные поверхности сервантов, шкафов можно было смотреться, как в зеркала, а на ворсистые, причесанные подушки дивана, кресел даже неловко было садиться. Год назад, когда Галина пришла сюда впервые, это не бросалось в глаза, возможно потому, что во всех комнатах стояли высокие, под потолок, стеллажи с книгами и не было столько ковров, хрусталя. Теперь же не было стеллажей, а те немногие книги, что ровными шпалерами, подобранными по размерам и цветам переплетов, жались друг к другу за стеклами стилизованных под старину шкафов и полок, принужденно соседствуя с чайными сервизами, коллекциями вино-водочных бутылок, морских раковин, принадлежали скорее к комнатному интерьеру, чем к библиотеке. Только в кабинете покойного профессора все осталось, как прежде: заваленные книгами стеллажи, шкафы, старомодное потертое кресло, жестковатый диван, портреты Пирогова и Павлова, бюст Гиппократа, массивный письменный стол, чернильный прибор из потемневшей бронзы с дарственной надписью какого-то благодарного пациента. В доме никого не было, и Лариса провела Галину по всем комнатам, хотя та не просила об этом, показала даже ванную, выложенную цветным кафелем, кухню с навесными шкафчиками, газовой плитой, холодильником, посудомойкой и дверью, выходящей на внутренний балкон. Сказала с усмешкой: - Вот как живут простые советские медики! - Ваш отец был большим ученым, замечательным врачом и то, что ему предоставлялось, было заслуженно, - сочла нужным заметить Галина. - Отец довольствовался кабинетом: там работал, там же спал. И я поначалу спала рядом - в холле, потому что боялась пустых комнат. - Потом привыкли? - Привыкла: стала ездить по ним на велосипеде - Паша надоумил. - Сейчас не ездите? - Смеетесь? Сейчас надо снимать туфли в прихожей, а еще лучше на лестничной площадке, чтобы не затоптать паркет, ковры... Нет, нет, не снимайте! Видите, я тоже не сняла. Сегодня можно позволить такую вольность. - Надежда Семеновна не будет к нам в претензии? - За порядком у нас следит тетя Аня. Но сейчас ей не до поучений... В столовой Лариса открыла бар, взяла две непочатые красиво оформленные бутылки: с коньком и виски. Галина укоризненно посмотрела на нее. - Считайте, что это начало переворота, - без тени усмешки сказала Лариса. - Мачеха держит их для демонстрации гостям: не угощает, только показывает. А мы их пустим по прямому назначению: что не выпьем дворнику, газовщику отдадим. Они дяденьки пьющие, пусть отведают заморских зелий... Не беспокойтесь, всю ответственность беру на себя. - Не много ли берете? - строго спросила Галина, видя, что вслед за баром Лариса открыла сервант. - Авось не надорвусь, - усмехнулась девушка, заваливая мельхиоровый поднос коробками с соблазнительными этикетками. - Поминать так по всем правилам! - Вас, кажется, больше занимает обрядовая процедура, - вырвалось у Галины. Она хотела добавить: "чем смерть Толика", но вовремя сдержалась. Однако Лариса поняла ее, вспыхнула, нахмурилась, но глаз не отвела. - А что прикажете делать? Кататься по полу? Рвать на себе волосы? Я делала так, когда умерла мама. Меня утихомирили тем, что предупредили: останешься без волос. Мне было десять лет, но я запомнила это предупреждение, и когда хоронили папу, уже не трогала свои кудри. - Вы не так поняли меня, - смутилась Галина. Лариса подхватила поднос и чуть ли не бегом направилась в свою комнату. Галина растерянно топталась в гостиной, не зная, как быть откровенного разговора никак не получалось. Зазвонил телефон. Лариса бросилась к аппарату, схватила трубку. Но выражение взволнованного нетерпения на ее лице тут же погасло, - звонил явно не тот человек, чей голос она надеялась услышать. - Нет... Не знаю... Возможно... Пожалуйста. - Положив трубку, она сказала, как бы объясняя свое разочарование: - Надежду Семеновну спрашивали, - а затем, очевидно, спохватившись, натянуто улыбнулась: Чего вы здесь остановились? Идемте ко мне... Ее комната была обставлена не столь помпезно, как гостиная, спальня Надежды Семеновны; встроенный в стену шкаф, тахта, низенький столик, замысловатая пирамида книжных полок, секретер. Лариса вышла, и Галина начала рассматривать книги. Всемирная библиотека, сочинения Толстого, Куприна, Вересаева, Шолохова, Флобера, поэзия, десятка два переводных романов, книги по киноискусству, альбомы фотографий актеров. Букинистических, антикварных книг не было. Впрочем, Галина не спешила об этом судить: в кабинете покойного Матвея Петровича, куда она мельком заглянула, когда Лариса показывала квартиру, еще оставалось немало книг. Вернулась Лариса, поставила на низенький столик вазу с черешней, открыла бутылки со спиртным и еще две с минеральной водой, придвинула Галине пуф, а себе взяла ковровую подушку, бросила ее на пол, села, поджав ноги под себя. Она успела переодеться - на ней был знакомый Галине японский спортивный костюм. - Что-то знобит, - призналась она, наливая в хрустальный бокал виски и смешивая его с водой. - Верно, простыла. Что будете пить? - Немного коньяку... Достаточно. Ну что ж, помянем без речей. Галина сказала так, чтобы как-то сгладить вырвавшийся у нее перед этим упрек. - Не нам судить! - Судить надо нас, - неожиданно сказала Лариса. - Я подтолкнула его, вы - проглядели. Но у вас есть оправдание: таких Толиков немало, и вы не можете держать каждого за руку. А я... Она не договорила, горько усмехнулась, залпом выпила виски. Немного помолчали, а затем Лариса спросила напрямик: - Что будет Паше за это... За Толика? - Не знаю, - хотела уклониться от ответа Галина, но, увидев, как задрожали Ларисины губы с неровной корочкой запекшейся крови, сказала: Если будет установлено, что его действия не вышли за пределы необходимой обороны, дело прекратят. - А как это установить? - Есть определенные критерии... - Кто их определяет? - Многое зависит от того, как будут истолкованы не только действия, но и мотивы, которыми руководствовался Новицкий. - Я уже рассказала, как все произошло, - отвела глаза Лариса. - Лариса, поговорим начистоту? - Поговорим, - несколько помедлив, а затем тряхнув головой, сказала девушка. - То, что вы рассказали, - неправда. Никакой связи у вас с Толиком не было. Я хорошо его знала. Он бы не посмел, не согласился бы просто так. Да и вы не настолько распущены, как стараетесь представить. Я допускаю, что какие-то отношения между вами были, и Толик имел основания ревновать вас к тому же Новицкому. Но не это выбило его из колеи, взвинтило тем вечером. Даже по вашей версии получается, что не то. Вы перестали с ним встречаться за несколько месяцев до того, как произошел конфликт с Новицким. А ведь они жили по соседству и, стало быть, Толик имел возможность объясниться с Новицким гораздо раньше. Не так ли? Что же вы молчите? - Слушаю вас, вы так складно рассказываете. - Перестаньте! Хотите выгородить Новицкого и замыкаете все на себя. Думаете, не понимаю? - Не понимаете! - крикнула девушка. - Я - дрянь. Это вы можете понять! Говорите, ничего у меня не было с Толиком? Верно: до физиологии не дошло. Но то, что я позволила, было достаточно, чтобы он ревновал меня потом к моей же тени. Меня это забавляло. Он переживал, терзался, а мне доставляло удовольствие. Вот так, Галина Архиповна! Могу признаться и в другом. Когда я села в машину на Черниговской, Паша сказал, что Толик пытался объясниться с ним, а потом увязался за машиной на мотоцикле. Я и сама заметила мотоцикл с двумя парнями. Можно было оторваться от них: не сворачивать к "Сосновому бору", а выехать на Киевское шоссе и там газануть, как следует. Вы знаете, какую скорость развивает "Лада": им было бы не угнаться за нами. Паша хотел так сделать - я это чувствовала, но ему было неловко передо мной: сильный, здоровый мужчина удирает от двух подвыпивших мальчишек. Вот если бы попросила его об этом - другое дело. Но я молчала, хотя понимала, что добром это не кончится. Мне было интересно поглядеть, как они станут объясняться. Конечно, не думала, что Толик схватится за нож, а Пашка так ударит его. - Но вы должны были подумать, что двое не таких уже хлипких парней могли разом наброситься на Новицкого. - Этого я и хотела. - Почему? - Потому что я - дрянь! - Это не ответ. - Другого не будет. - Хорошо оставим это. Давайте вернемся к книге. - При чем тут книга! - снова крикнула Лариса. Она закричала так, что у Галинызазвенело в ушах. - Какое вам дело до моих книг! - продолжала орать она. - Почему все попрекают меня этой старой трухлятиной, от одного вида которой нормального человека должно тошнить! - Но ваш отец... - попыталась возразить Галина. - Оставьте в покое моего отца! - не унималась Лариса. - Профессор Яворский мог позволить себе такое чудачество. Но это не означает, что и я должна чудить. Да, раздавала, дарила, выбрасывала эту допотопную муть, от которой меня воротило всю жизнь! Кому до этого дело! - Многие из этих книг представляли научный интерес. - Библиофильские бредни!.. Авиценна? Какой научный интерес может представлять книга дважды переведенная на чужие языки малограмотными переводчиками, которые переврали даже имя автора? На Востоке не знали никакого Авиценны! Был великий врач, философ и поэт Али Ибн-Сина. И писал он не на латыни, - на таджикском языке! Лариса вскочила, выбежала из комнаты, но вскоре вернулась, бросила на стол перед Галиной две хорошо сохранившиеся книги: - Пожалуйста! Читайте, изучайте, цитируйте. Ибн-Сина, Канон врачебной науки, академический перевод с текста подлинника, Ташкент, середина двадцатого века. Устраивает? - И все-таки, кому вы отдали ту книгу? - Не помню! - Бокову? - Может быть. - А средневековые лечебники? Два объемистых фолианта? - Впервые о них слышу! - Почему вы пошли работать? Нелегко совмещать работу с учебой. Галина сочла нужным перевести разговор на другое. - Пошла, чтобы научиться кое-что делать своими руками. - Значит, работаете для практики? - Конечно, но и зарплата мне не мешает. - Часть денег отдаете Надежде Семеновне? - С какой стати! Мне есть на что тратить и зарплату, и стипендию. Что так укоризненно смотрите? Да, и на рестораны. Кто-то ведь должен ходить в рестораны, если они существуют. - Но есть определенные расходы по дому. - Ну и что? Отец получал больше чем достаточно. Надежда Семеновна тоже не бедненькая. Только он тратился на книги, а она на наряды, хрусталь... Паша мне покупал больше, чем они. Когда он уехал в село, я два года проходила в одних и тех же джинсах. Она капризно надула губы. - Паша и сейчас помогает вам? - Сейчас у него есть на кого тратить деньги, - насупилась Лариса. - К тому же теперь я не нуждаюсь в его помощи. В конце концов, кто он мне! - Вам лучше знать... В комнату заглянула сухопарая женщина, вежливо поздоровалась с Галиной, спросила Ларису многозначительно: - Не звонил? Лариса не ответила, но метнула на женщину сердитый взгляд. Та обиженно поджала тонкие блеклые губы, вышла из комнаты. - Тетя Аня! - вдогонку ей крикнула Лариса. - Пожалуйста, приготовьте нам кофе! "А у тебя что, руки отнялись?" - едва не вырвалось у Галины. Лариса вызывала в ней противоречивые чувства - в этой рослой, красивой девушке было немало привлекательного, рождающего симпатию: непосредственность, совестливость, готовность к самопожертвованию и, в то же время, она как бы стыдилась этих своих качеств, маскируя их то экстравагантными, большей частью неуместными выходками, то вызывающим цинизмом, ложью, что было скорее всего напускным, заимствованным, но уже привычным. - Так вот, к вопросу о Новицком, - обхватив колени и подтянув их к подбородку, сказала Лариса: - До семнадцати лет я была влюблена в него, хотя влюбляться в родственников старомодно. Это когда-то вовсю флиртовали с кузенами, сейчас - не принято. Но у меня так получилось: надо было в кого-то влюбиться, лучшего не нашла. Вначале таилась от себя и от него, потом только от него, потом осмелела - попыталась кокетничать, но получила по затылку. Конечно, обиделась, но вскоре поняла, он прав; любовь явление преходящее, не успеешь оглянуться, а ее уже нет. Так что лучше держаться друг друга без этих излишеств. Тем более, что, кроме него, у меня никого не осталось. - А Надежда Семеновна? - С Надеждой Семеновной я сосуществую и только. - Говорят она неплохо относится к вам. - Неплохо. Но если бы не Пашка, я бы пропала! Особенно после того, как умер папа... Тетя Аня принесла кофейник, сахарницу, печенье. Заметив на столе бутылки со спиртным, строго посмотрела на Ларису: - Опять? - Ага, - сказала Лариса. - Очередной запойчик. - Типун тебе на язык! - Вы всегда были добры ко мне, тетя Аня. - У Надежды взяла? - Любовник принес. - Эх ты! Постыдилась бы подруги. Девушка первый раз в доме. Что она подумает о тебе? - Что я взяла с кого-то дурной пример. - Не слушайте ее! Неправда это, - как показалось Галине, испуганно обратилась к ней тетя Аня. - В этом доме плохого не было и нет. Болтает невесть что! - Она пошутила, - сказала Галина. - Не очень удачно, но я поняла она шутит. Когда тетя Аня ушла, Лариса ткнулась в колени лицом. - И вы даете мне подзатыльники! - не глядя на Галину, буркнула девушка. - Зачем вы рассердили ее? - А затем, что надоело! С утра до вечера только слышишь: не делай этого, делай то. Хотя бы в унисон поучали, а то каждая на свой лад дрессирует: одна в святую подвижницу норовит обратить, другая - в светскую львицу. В этом доме только с одним человеком можно по-человечески говорить! - Что вас связывает с Донатом Боковым? - выдержав паузу, спросила Галина. - Сейчас - ничего. - А раньше? - Он был моим женихом. - Вы его любили? - Я уже сказала, кого любила и с кем флиртовала. А он был моим женихом. - Что-то не совсем понимаю. - Ну как вам объяснить? Он сделал мне предложение. Вначале я растерялась - все-таки разница двенадцать лет, до этого не представляла себя с ним. Но он не торопил меня, и я подумала: а почему бы нет? Других серьезных предложений не было, а мне уже шел двадцатый год. - А что случилось потом? Вы поссорились? - Нет. Но после того, как умер папа, Донат раздумал жениться на мне. Меня это нисколько не обидело - к тому времени я поняла, с кем имею дело, и мы расстались. Тихо, мирно, как воспитанные люди. В комнату опять заглянула тетя Аня, сказала, обращаясь в Ларисе: - Ухожу на дежурство. Борщ на плите, жаркое и компот в холодильнике... - Она неуверенно потопталась в дверях, потом добавила просительно: - Ты уж побудь сегодня дома. Неспокойно что-то на душе. Какой-то мужчина дважды звонил, Надежду спрашивал. Назвался доктором Самсоновым. Но это не Самсонов, - я голос Самсонова знаю. И Надежда что-то мается - места себе не находит. Так что, побудь дома. Хорошо? Лариса поднялась, подошла к ней, обняла, поцеловала в щеку. - Хорошо, тетя Аня. Я побуду с ней. Когда она ушла, Лариса предложила пообедать: - Идемте, за компанию. Сделайте одолжение: я голодна, а одной скучно есть. Они пошли на кухню, Лариса разогрела обед, приготовила селедку, накрыла стол. Проделала она это быстро, ловко - очевидно, было не впервой. Галина подумала, что и в этом смысле ее мнение о девушке было поспешным. К спиртному больше не обращались - Лариса оставила бутылки в комнате, и казалось, забыла о них. За обедом говорили о ничего не значащих вещах. Но потом Лариса снова упомянула о Новицком, и Галина решила, что девушка хочет вернуться к разговору о нем. - Что за конфликт произошел между Новицким и Боковым в начале июня? - Что-то, связанное с больницей. Вроде бы Донат взял у пациента деньги за операцию, которую сделал Паша. - Они не поделили деньги? Лариса недоуменно посмотрела на нее: - Паша никогда не брал деньги у больных. Поэтому и завелся, отлупил Доната. - Только поэтому? Девушка промолчала. - Незадолго до их ссоры вы с Боковым были в ресторане. - И это известно! - усмехнулась Лариса, но тут же стерла усмешку. Вскоре после майских праздников Донат позвонил в поликлинику, сказал, что ему необходимо встретиться со мной, поговорить. Я не стала возражать. Он заехал за мной, и мы подались в "Бор" - днем там почти никого не бывает, Донат сказал, что Надежда Семеновна собирается замуж за вдовца - академика из Киева, к которому намерена переехать. Советовал не соглашаться на переезд в Киев, где я - как он выразился - буду на правах бедной родственницы, а настоять на размене квартиры с тем, чтобы у меня была отдельная жилплощадь. Обещал помочь с разменом. - Чем объясняете его заботу о вас? - Думаю, он хотел сделать пакость Надежде Семеновне: она отказала ему, как у нас говорят, в доме. - И только? А не ставил каких-либо условий? Ничего не требовал за обещанную помощь? - Хотите убедить меня в моей же глупости? Конечно, потребовал. Но не прямо - косвенно: попросил уступить ему несколько книг по искусству. - Что за книги? - "Русские картинки" в пяти томах. Когда-то отец подарил их мне. - И вы отдали! - ахнула Галина. - Сменяла на стереомаг и десяток кассет с модными записями. - Да вы знаете, сколько стоят эти книги! - не могла успокоиться Галина. - Теперь знаю: Паша объяснил так же, как и то, что я - дура. - Боков не упоминал о средневековых лечебниках? - Упоминал. Но, во-первых, эти лечебники куда-то запропастились, а во-вторых, папа завещал их институту, и я в любом случае не продала бы их. - Как вы думаете, куда они могли исчезнуть? - Не знаю. Когда папа умер, а он умер дома, - у нас перебывали сотни людей. Все могло случиться, нам тогда было не до книг. - Какие еще книги завещал Матвей Петрович институту? - Он много книг завещал. Когда ему стало совсем плохо, он позвал меня и Пашу, продиктовал список книг, которые следовало передать институту. Паша составлял список, а я брала со стеллажей книги, которые называл папа, и складывала их в шкаф. - Не помните, какого числа это было? - Это было в день его рождения - 14 декабря. Как раз пришел Толик поздравить его и принес в подарок этот самый трижды неладный "Канон". Папе было приятно, хотя у него был "Канон" ташкентского издания, что я показывала вам. Но книге, которую принес Толик, папа обрадовался, как ребенок: обнял, поцеловал Толика, велел Надежде Семеновне принести в кабинет - он лежал там - чай, пирог... Этот эпизод объяснял многое. Но Ларисе было нелегко вспоминать о последних днях отца - на глазах у нее навернулись слезы - и Галина перевела разговор на другое. - После драки на автостоянке вы виделись с Боковым? Девушка снова подтянула колени к подбородку, ткнулась в них лицом, сказала, не поднимая головы: - Он позвонил 1-го июля, сказал, что Толик умер, и теперь дело осложнится: будут судить не только Пашу, но и меня. - Это он сказал, что вас должны арестовать? - Он. - И посоветовал уйти из дому? - Пока он не уладит все. Намекнул, что у него есть знакомый в милиции, который обещал помочь. Но это не так-то просто и надо где-то перебыть день-два. - Он сказал об этом тогда же - 1-го июля? - Он звонил еще раз: сегодня где-то около часа дня. - И посоветовал что говорить, если вас все-таки задержат? Лариса промолчала. - А каким образом он узнал о том, что произошло у ресторана? - не отступала Галина. - Об этом уже весь город знает! - И все-таки? - Я не говорила ему. - Он ставил какие-то условия? - Я сама сказала, что если он уладит это дело, я отдам ему все оставшиеся у нас книги... В гостиной снова зазвонил телефон. Лариса вышла, не прикрыв за собой двери. Говорила достаточно громко, и Галина поняла, что она разговаривает с Надеждой Семеновной. Судя по всему, разговор шел о Новицком. - Не звонил... Не знаю... Спрашивала, он тоже не знает... Я волнуюсь не меньше вашего... Ушла на дежурство... Несколько раз звонил какой-то тип... Вам типы не звонят? Значит, он ошибся номером... На кухню Лариса вернулась сердитая: убирая со стола, загремела посудой, пнула ногой подвернувшийся под ногу табурет. Чтобы отвлечь ее от невеселых мыслей, Галина спросила первое, что пришло в голову: - Почему вечером 28-го вы поехали с Новицким в "Сосновый бор"? Был какой-то повод? Лариса испытывающе посмотрела на нее, но ничего, кроме участливого интереса, не прочитала в глазах Галины. - В тот день у Паши была сложная операция, - надев передник и открыв краны посудомойки, начала рассказывать Лариса. - На третьем часу у больного остановилось сердце. Вы не знаете, что это такое, а я знаю - отец рассказывал, в его практике бывали такие случаи. Тут может быть два исхода: либо хирург растеряется, запаникует и тогда больному конец, либо до конца выложится хирург, и тогда у больного появится какой-то шанс. Так вот, Пашин больной остался жив... Мне сказали, что Паша пошел на сложную операцию, и я переживала за него: каждые полчаса звонила в клинику. Как только кончилась операция, он сам позвонил мне, сказал, что страшно устал и хочет поехать куда-нибудь за город, где потише и где можно выпить чашечку кофе - он очень любит кофе, послушать человеческую музыку - он терпеть не может модные какофонии. Я посоветовала поехать в "Сосновый бор", где уже бывала. Он предложил составить ему компанию. Я согласилась. - Вы говорили, что перед тем, как Новицкий заехал за вами, он встретил Толика. - Толик был под градусом, и Паша не стал с ним объясняться - он терпеть не может пьяных. Сел в машину, поехал за мной. Что было потом, вы уже знаете. - Почему вы поспешили уехать с места происшествия? - Паша, как вам известно, был ранен: нож задел плечевую артерию, кровь лила ручьем. Надеюсь, вы не считаете, что в таком состоянии он должен был ожидать, пока ваши сотрудники составят протокол? - Но вы не обратились в медпункт. - А что сумел бы дежурный фельдшер? Наложить жгут и вызвать "скорую"? Жгут я наложила не хуже фельдшера, и до травматологии доехала быстрее "скорой". - Значит, все-таки обратились в медицинское учреждение? - В областную больницу, где круглосуточно дежурят опытные хирурги... Рану ему обработал его товарищ. Он уговаривал Пашу лечь, но тот не согласился. - Что было потом? - Паша заехал к нам, переоделся - часть своих вещей он держит у нас. Взял свою сумку и ушел, хотя ему надо было лежать как минимум неделю. - Вы не пытались его остановить? - Пыталась, но... - Лариса безнадежно махнула рукой. - Он воспользовался вашей машиной? - Нашей машиной, - поправила ее Лариса. - Да, он уехал на ней. Позвонил товарищу, тот пришел, увез его. - Куда? - Он не сказал. - А товарищ? - Товарищ есть товарищ. Паша не велел ему говорить. - Почему? Лариса неопределенно повела плечами. - И Надежда Семеновна не знает, где он? - Нет. - Как думаете, куда он мог податься? - Мало ли что я думаю! - насупилась Лариса. - И все-таки? - Об этом вам лучше спросить Тамару. Хотя сейчас вряд ли... Послушайте, Галина Архиповна, не выворачивайте меня наизнанку! Галина уже собиралась уходить, когда пришла Надежда Семеновна. Она открыла дверь своим ключом, заглянула в комнату падчерицы, вежливо улыбнулась Галине, позвала Ларису, увела ее в гостиную. Лариса отсутствовала недолго, вернулась минут через пять. - Паша приехал, - взволнованно сказала она. - Оказывается, все эти дни он был на горно-лыжной базе и не знал, что Толик умер. А сегодня утром позвонил Инне Антоновне, и она сказала ему. Он сразу приехал и сразу пошел к вам... в милицию. У нее задрожали губы, и она с надеждой посмотрела на Галину: - Вы сказала правду: его не арестуют? - Его не арестуют, - успокоила ее Галина. - Тем более, что он явился сам. - Надежде Семеновне тоже так сказали. Но она не верит, волнуется. Он приехал еще днем и до сих пор находится там, у вас. - Я сейчас поеду в Управление, выясню и позвоню вам, - заторопилась Галина. Она была рада, что события повернулись таким образом - Новицкий явился сам. Теперь все должно выясниться, а возможно, и утрястись. Откровенно говоря, она хотела, чтобы все утряслось - нашло свое объяснение, а еще лучше - оправдание в этой печальной, но очень уж необычной истории, в которой столкнулись на крутом повороте столь разные характеры, взгляды, устремления. Но ее надеждам не суждено было сбыться не все действующие лица этой истории могли быть оправданы. К тому же сама история не была закончена: скрытые пружины, что двигали ее, не утратили своего завода... От Яворских Галина вышла в половине девятого - время она отметила машинально. Думала, как поскорее добраться до Управления - доложить Ляшенко о своей беседе с Ларисой, ряд аспектов которой представлял несомненный интерес, заодно взглянуть на Новицкого (какой он из себя?) и, если предоставится возможность, высказать ему все, что думает о нем (с дозволения Ляшенко, разумеется). Занятая своими мыслями, она не обратила внимания на двух мужчин, которых встретила на лестничной площадке второго этажа. Заметила только, что один из них брюнет, выше среднего роста, с правильными чертами холеного лица, был одет в хорошо пошитый песочного цвета костюм, второй плотный, коренастый, с неопределенным цветом редких волос, был не так элегантен, как первый: его потертая замшевая куртка едва сходилась на вздутом животе, с которого сползали изрядно помятые брюки. У первого мужчины в руке был дорогой портфель из крокодиловой кожи. Мужчины тоже не обратили на Галину внимания. Впрочем, элегантный брюнет посторонился, уступая ей дорогу. Только спустившись вниз, Галина сообразила, что мужчины поднялись на третий этаж, где как-то разом стихли их шаги и где находилась квартира Яворских. Отметив это, Галина насторожилась, отступила в глубь подъезда, напрягла слух. Минуту-другую сверху не доносилось ни звука: тишину подъезда нарушали лишь ворчание проносившихся мимо дома автомобилей, да пробивающийся через двери квартиры задорный голос Аллы Пугачевой: "Все могут короли, все могут короли..." Галина решила, что ей, должно быть, почудилось, и те двое вошли в какую-то другую квартиру, когда с площадки третьего этажа в узкую щель лестничной клетки просыпался двухголосый шепот: - Ушла. Тебе показалось... - Я крещусь, когда мне кажется. Видел я эту девку на кладбище. Из лягавых она... - Не выдумывай. Давай звони, пока никого нет... У Галины екнуло сердце. Это к Яворским! А брюнет в песочном костюме, несомненно, - Боков. Как она сразу не сообразила! Это надо было предвидеть - Донат Боков не из тех людей, которые действуют наобум, и, если он после разговора с доктором Билан обратился к Надежде Семеновне, то очевидно, знал наверняка, что инкунабулы остались в доме Яворских. Все решилось еще днем, когда он потерял последнюю надежду заполучить по-хорошему то, главное, к чему стремилась его алчная душа: "Канон" и "Картинки" лишь разожгли его аппетит. И вот пошел на крайность. Поверить в это было нелегко - все-таки врач, ассистент клиники. Но в этом была своя логика. Нечестность не имеет правил: спекулянт, мошенник в определенных ситуациях не остановится перед воровством и даже перед ограблением. Тут дело не в принципе - в куше, который манит, да еще, пожалуй, в степени риска. Боков посчитал, что инкунабулы Яворского стоят любого риска, все остальное было для него непринципиально. Он считал, что Новицкого нет в городе, Анна Семеновна на дежурстве, Лариса, напуганная угрозой ареста, ушла к подруге. Лучшего момента нельзя было представить... Галина не слышала звонка, щелканья замков, до нее донесся лишь хрипловатый мужской голос: - Я понимаю... Понимаю - спит. Но у меня посылочка от ее брата Романа Семеновича из Киева. Позвольте занесу, оставлю... Говорил не Боков - мужчина в замшевой куртке. Это было ясно потому, что говорил он с Ларисой. Куда подевался Боков? Отпрянул в сторону, прижался к стене, едва услышав голос своей бывшей невесты? Что-то не похоже на растерянность, испуг - уж больно гладко звучит "легенда" о посылке. Да и сама посылка может быть только в портфеле, который перед этим нес Боков. Значит, портфель он передал сообщнику, а сам спрятался. Он предусмотрел, что Лариса может не послушать его совета и остаться дома: не случайно же прихватил с собой коренастого... - Вы не беспокойтесь: я на минутку, - прохрипел наверху коренастый. Галина почувствовала, как у нее взмокла спина. Неужели впустит?.. На площадке третьего этажа скрипнула, а затем клацнула входная дверь. Впустила! Сердце Галины рванулось, так, что казалось вот-вот выпрыгнет из груди. Она представила Ларису и этого коренастого в сумеречном коридоре за массивной, плотно прикрытой дверью, и... выхватила милицейский свисток. Помешать... Вспугнуть... Не дать совершиться самому худшему, других мыслей не было. Свисток был уже у рта, когда ее руку сжали, отвели чьи-то большие сильные пальцы. Галина попыталась вырвать руку, но тот, кто стоял позади, обхватил ее подбородок, запрокинув голову, прижав затылком к крутому мускулистому плечу. - Тихо, Галочка! Свои, - плеснул в самое ухо спокойный шепоток. У Галины отлегло от сердца - узнала Мандзюка. Как и когда он появился здесь? Впрочем, этот вопрос занимал ее недолго, потому что главное сейчас было не в этом. А еще потому, что на площадке третьего этажа снова скрипнула и почти тут же негромко стукнула дверь. - Вот и Дон туда же устремился, - отпуская Галину, удовлетворенно сказал Алексей. - Скорее. Там Лариса... Лариса дома, понимаешь, - взволнованно прошептала Галина. - Она будет сопротивляться, и они могут... - Нет, - успокоил ее Мандзюк. - Рубашкин на "мокрое" не пойдет. Да и Боков этого не допустит. Мы его чуток подсветили: когда он подходил к дому, ему навстречу Сторожук попался. По нашей просьбе, понятно. Донату пришлось раскланяться с ним. А это уже подсветка, что Донат не может не учитывать. - С Ларисой они не договорятся, - не успокаивалась Галина. - Трудно сказать, - покачал головой Мандзюк. - Дело это во многом семейное, а потому тонкое, по-всякому может обернуться. Пока у нас нет оснований без приглашения в квартиру ломиться. А потом, кто знает, где эти книги спрятаны? Пусть поищут. Мы тоже без дела не останемся. Он извлек из кармана портативную рацию, выдвинул антенну, сказал вполголоса: - Объекты на месте. Можно начинать... Из второй квартиры вышли и стали подниматься по лестнице оперативники: Женя Глушицкий, Кленов; со двора вошли и тоже поднялись наверх Бессараб и курсант-стажер. Они ни о чем не спрашивали Мандзюка, видимо, все было обговорено заранее. - Послушаем, на какой стадии там переговоры идут, - подмигнул Галине Алексей. - В соседней с Яворскими квартире сидит Дымочкин из научно-технического отдела со своей аппаратурой. Там же находится Чопей. Он велел ей дожидаться Ляшенко, который должен вот-вот подъехать, и последовал за товарищами. Галина слышала, как они поднялись на третий этаж, вошли в соседнюю с Яворскими квартиру. И снова в подъезде воцарилась обманчивая тишина. Что происходило в квартире Яворских, можно было только гадать... Прошло несколько томительных минут, показавшихся Галине вечностью. Наконец приехали Ляшенко и следователь Кандыба. Ляшенко был чем-то озабочен. Он велел Галине доложить самую суть, но и эту суть слушал невнимательно, то и дело поглядывая наверх. Прервал Кандыбу, который стал задавать уточняющие вопросы: - Потом уточнишь! - Сам же спросил только о завещании: - Список книг составил Павел? - Вы что знали, его раньше? - удивилась Галина. - Оказалось, что знал. ...Сказать было легче, чем осознать этот факт, мимо которого он капитан Ляшенко - за минувшие четыре дня проходил не раз, не просто не замечая его, но не допуская мысли о возможности его существования. Даже, когда Инна Антоновна, которая, очевидно, была лучшего мнения о его сообразительности, весьма недвусмысленно намекнула на то, что интересующий его человек и есть тот самый Павел с горно-лыжной базы, с которым их обоих связывали товарищеские отношения, он не понял намека. Возможно потому, что за время их знакомства он встречался с Павлом лишь в туристических походах, да на лыжной базе - так уж получалось - в дружных веселых компаниях ненадолго вырвавшихся их городской суеты, от повседневных дел и забот людей, которые там - в горах - были только туристами, или только лыжниками, и не о чем другом ни говорить, ни слышать не хотели. Но возможно - и это скорее всего - сказался стереотип профессионального мышления, согласно которому преступник загодя наделяется отрицательными качествами, не всегда явными, подчас тщательно скрываемыми, но в экстремальных ситуациях непременно проявляющимися вовне. Павла Валентин знал как хорошего лыжника, альпиниста, надежного напарника, на которого можно положиться на крутой горной лыжне, и на самом трудном маршруте; как доброго парня, которому можно довериться уже не в столь опасных, но не менее важных делах: Павел никогда не отказывал ему ни в месте в стареньком базовском "газике", ни в ключе от небольшой, заваленной спальными мешками инструкторской комнаты, ни в запасной, прибереженной для себя, паре лыж. Этого было достаточно, чтобы не задавать лишних вопросов. Тем более, что общие знакомые: Гаррик Майсурадзе, Регина, доктор Год отзывались о Павле как нельзя лучше, считали его своим парнем. И у Валентина за все время их знакомства не было причин думать иначе - он тоже считал Павла своим: простым, понятным. А поступки доктора Новицкого были непонятны, предосудительны, чужды. И потому казалось, что своим он быть никак не может... Несколько часов назад, возвращаясь после обеденного перерыва в свой кабинет, Валентин увидел в коридоре Павла и обрадовался ему. Он всегда был рад Павлу: их встречи оставляли живые яркие воспоминания о небезопасных восхождениях на перевалы, вихревых спусках по сбегающим с горных склонов лыжням, соревнованиях по гигантскому слалому, веселому празднику масленицы. Но на этот раз их встреча ничего хорошего не сулила... Валентин не сразу понял о чем говорит Павел и какое отношение к нему имеет Новицкий. А понять это уже было несложно: словесный портрет Новицкого был известен, и о том, что Павел - медик Валентин тоже знал. К тому же правая рука Павла висела на предохранительной косынке. Но это не сразу выстроилось в ряд, улеглось в сознании... Первая мысль была о том, каким, должно быть, остолопом выглядит он Валентин - в глазах Инны Антоновны. Но тут же вспомнил ее слова о космосе и милицейском мундире и мысленно поблагодарил ее. Умница, она понимала, каково ему будет, когда он встретится с Новицким... Да, мы остаемся кому-то товарищами, друзьями и в белом халате, и в милицейском мундире и не можем уйти в сторону, отмежеваться от этих людей только потому, что они попали в беду. Куда как просто заявить самоотвод, занять место стороннего наблюдателя. Закон позволяет это, совесть - нет. Но как помочь человеку, которого ты обязан изобличить? Посоветовать признаться во всем? А если, послушав тебя, он станет говорить себе во вред? Эти мысли не давали Валентину вникнуть в то, что говорил Павел. Но потом сумел взять себя в руки, сосредоточиться. ...Признает себя виновным в непреднамеренном убийстве Анатолия Зимовца? Ну, это уж слишком! На худой конец речь может пойти лишь о нанесении тяжелого телесного повреждения при превышении пределов необходимой самообороны. К сожалению, он не может сказать это Павлу. Пока не может... - Когда ты ударил Зимовца, в его руке был нож? Вопрос вырвался невольно, потому что это было самое главное: любой следователь спросил бы Павла об этом в первую очередь. Понимал ли Павел значение своего ответа даже в такой вот полуофициальной беседе? Очевидно, понимал, потому что ответил не сразу: наморщил лоб, затем пальцами разгладил набежавшие морщины. Если бы он сказал: "Был" и продолжал настаивать на этом, ни один свидетель не сумел бы опровергнуть его утверждение потому, что наверняка об этом знали только двое: он - Павел Новицкий и уже мертвый Толик Зимовец, а еще потому, что через несколько мгновений все увидели нож в руке Зимовца, как он взмахнул им... - Нет. В тот момент в его руке ножа не было. Валентин отвел глаза: по существу, Павел расписался под своим приговором. И он - Валентин - подвел его к этому. Называется, помог товарищу! Но вместе с тем он был рад, что услышал такой ответ, что не ошибся в Павле. Зато последующие откровения товарища неприятно удивили Валентина: - Я ударил его потому, что он нахамил мне: схватил за рубашку, обругал, плюнул в лицо... Да, он был пьян, но прости - я не испытываю сострадания к пьяным. Я ударил его так, чтобы он знал, чем платят за хамство. Какой-то мальчишка... Впрочем, о мертвых плохо не говорят. Мне жаль, что так получилось, и я готов отвечать. Но признаюсь: совесть не мучает меня. Я не хотел его увечить, но желание поколотить его возникало у меня не раз. Я уже говорил, что мы жили по соседству. Одно время, когда Иван Прокофьевич - его отец, болел, я захаживал к ним в дом, помогал Ивану Прокофьевичу чем мог - в основном болтовней, которую мы - медики называем психотерапией. Уже тогда Толик задирался со мной, дерзил... Причины? Я их не видел. Возможно, его обижало, что я обрывал его попытки вмешиваться в наши с Иваном Прокофьевичем разговоры. А возможно, ревновал меня к Тамаре, с которой у меня тогда - и это самое смешное - ничего не было. У него вообще была дурная манера совать свой нос в чужие дела. Помнишь Клару? После того, как мы познакомились, она пару раз была у меня. Ее экстравагантность тебе известна. Как-то ей взбрело в голову съехать вниз по лестничным перилам. Увидела, как съехал Толик, и туда же. Едва не свалилась. Я догнал ее, стащил с перил. Она укусила меня за руку. Я разозлился и отшлепал ее. Она стала визжать. Подлетел Толик, заорал: "Как смеешь бить женщину! Негодяй!" и все такое прочее. Удивляюсь, как я сдержался тогда... Потом очередь дошла до Ларисы: он и ее мне приплел - у парня было больное воображение... Ерунда какая! С Лялькой у меня ничего не было и быть не могло, я не сумасшедший. Правда, года три назад она вбила себе в голову, что влюблена в меня. Знаешь, когда семнадцатилетняя девчонка вбивает себе в голову такое, ее не вразумишь, не обуздаешь. Я решил на время перевестись в сельскую больницу. Откровенно говоря, это была не единственная причина моего отъезда, но она сыграла свою роль. И правильно сделал: Ляля сравнительно легко перенесла эту неизбежную в таком возрасте болезнь. Со временем у нее появились новые, но уже не столь безудержные увлечения: Донат, тот же Толик, а наши отношения пришли в норму. Но знаешь, что сказал мне Толик, когда я вернулся? "Зачем ты приехал?" По-твоему, я должен был объяснять? Вечером 28-го? Я заскочил домой, чтобы переодеться. Перед этим у меня была тяжелейшая операция и нервы были напряжены. Я загнал машину во двор, поднялся к себе, принял душ, переоделся. Когда спускался вниз, столкнулся с Толиком. Он был пьян. И пошло! Начал с Тамары, кончил Ларисой. Я не хотел связываться с пьяным, оттолкнул его, сел в машину... Нет, не разговаривал с ним. Но что-то, кажется, сказал. Вроде бы, что это не его собачье дело... А что другое скажешь пьяному мальчишке? Валентин слушал его со все возрастающим чувством тревоги. Сочувствия исповедь Павла не вызывала: каждый из его поступков можно было понять и даже оправдать, но взятые вместе они настораживали, внушали тревогу. Что это? Непонимание элементарных истин или нежелание понимать их? - Павел, какое отношение к конфликту имеет "Канон" Авиценны? Новицкий ответил не сразу: некоторое время смотрел перед собой, потом разгладил пальцем набежавшие на лоб морщины, и лишь затем сказал: - "Канон" и еще несколько ценных книг из библиотеки профессора Яворского взял я. Взял и продал какому-то перекупщику. Мне были нужны деньги. Это была неправда, но другого ответа Валентин не ожидал... Доклад Галочки Юрко подтвердил его предположения. Он велел ей идти в оперативный "рафик" и там дожидаться - возможно, она понадобится, а сам с Кандыбой поднялся на третий этаж. На лестничной площадке между вторым и третьим этажами, уткнувшись в какую-то брошюру, стоял сержант Бессараб, на площадке двумя пролетами выше покуривал курсант-стажер - Мандзюк предусмотрел все. Сам же находился в соседней с Яворскими квартире, где лейтенант Дымочкин с помощью капитана Чопея уже наладил свою аппаратуру. Женя Глушицкий и Кленов по карнизу перебрались на кухонный балкон квартиры Яворских, справились с дверью и сейчас только ждали сигнала. Это последнее обстоятельство вызвало недовольство Кандыбы, который сомневался в правильности действий оперативников. Мандзюк, которому он высказал эти сомнения, неопределенно хмыкнул. За него ответил Дымочкин, не отрываясь от аппаратуры. - Рубашкин, как вошел, пригрозил Ларисе ножом. Старшей Яворской, кажется, тоже досталось. Это мы уже из разговоров поняли. - Так чего вы медлите? - заволновался Кандыба. - Поспешишь - людей насмешишь, - философски изрек Мандзюк. - Мы подключились, когда они уже к переговорам перешли. Боков только для острастки пригрозил. А сейчас уговаривает их. - И Ларису уговаривает? - удивился Ляшенко. - Она принимает участие в разговоре. Неохотно, но принимает. - У меня такое впечатление, что Рубашкин привязал ее к креслу, добавил Дымочкин. - Где они находятся сейчас? - В кабинете. Надежда Семеновна ищет лечебники. Или делает вид, что ищет. Рубашкин помогает ей. Он уже дважды показывал Бокову какие-то книги, но, очевидно, его букинистическая эрудиция ограничена, потому что Боков начал сердиться, - сказал Мандзюк. - Сорочкиным называет, - добавил Дымочкин. - Сперва по имени-отчеству величал, а сейчас Сорочкиным... Ищут. Поэтому молчат. Молчание в кабинете Яворского длилось недолго. Дымочкин подался вперед, торопливо повернул варьер настройки, замахал руками: дескать, тихо - слушайте! В динамике раздалось чье-то недовольное бормотание, покашливание, затем хрипловатый голос сердито произнес: - Нету здесь. Одни старые журналы лежат. Брешет она, ваньку валяет! - Не нервничайте, Сорочкин, - насмешливо урезонил его Боков. - А то упадете со стремянки. На соседнем стеллаже посмотрите. - Смотрел. Нету там никаких книг. Бумаги, отпечатанные на машинке, в стопках и папках лежат. - Это рукописи, Сорочкин. Пора уже разбираться в категориях печатной продукции... Надежда Семеновна, как же так? Вы вводите нас в заблуждение, а это нехорошо. - Я положила их здесь наверху, среди журналов. Не понимаю, куда они запропастились, - послышался озабоченный женский голос. - Может, Ляля взяла? - Лялечка, ты брала эти книжечки? - вкрадчиво спросил Боков. - Пошел к черту, сволочь, вор! - крикнула Лариса. - Тише, лапонька. Не в твоих интересах поднимать шум. И вопрос так ставить не следует. В ином случае мне придется доказывать, а это я сделаю очень легко, что вор не я. Но вообще-то согласен с тобой - воровать грешно. - Вы не смеете! - возмутилась Надежда Семеновна. - Я не называл вас, Надежда Семеновна, - ухмыльнулся Боков. - И вообще давайте не заострять этот весьма и весьма скользкий вопрос. Мне представляется, что так будет лучше для всех присутствующих, да и, пожалуй, для отсутствующих членов вашей уважаемой семьи. В конце концов завещание могло и не быть. - Было завещание! Было! - крикнула Лариса. - Но ты его выкрал! - Надежда Семеновна, успокойте падчерицу: она ведет себя крайне неприлично. И, пожалуйста, объясните ей, что будет с вами и вашим дражайшим Пашенькой, если этот самый завещательный список - вот он, Лялечка, взгляни еще раз - станет достоянием общественности, прокуратуры, суда. Списочек-то Пашиной рукой составлен, а в нем эти самые утаенные кем-то из вас инкунабулы значатся. - Ну и гад же ты! - со стоном выдохнула Лариса. - Не пойму твоего упрека, Лялечка. Список составлял не я и лечебники не я припрятывал. Больше скажу, перепрятывал их тоже не я. За что же ты оскорбляешь? - Ты пришел, чтобы украсть их! - Вздор! Я хочу избавить вас от этого яблока семейного раздора и эфемерного соблазна. Надежда Семеновна, простите, но та астрономическая сумма, которую некогда с перепоя назвал полупомешанный библиофил из Штатов и которая с тех пор дурманит ваше воображение, не более как фантазия. Вам не продать лечебники и за сотую долю этой суммы. Я же предлагаю хорошие деньги. Могу рассчитаться дубленками. Две импортных дубленки с меховыми воротничками и такой же оторочкой в фабричной упаковке. Согласитесь, что это не хуже, чем два изъеденных червями фолианта. К тому же, я готов аннулировать свои счета с Пашкой и этот неудобный для вас и для него список предать забвению. Надежда Семеновна, мне думается, что такие условия нельзя назвать грабительскими. - Донат, клянусь, я не знаю, куда они подевались, - простонала Надежда Семеновна. - Лялечка, а ты? - Отдай список, получишь книги. - Вот это другой разговор! Я всегда считал тебя умницей. - Ляля, как ты могла! - ахнула Надежда Семеновна. - Дурной пример заразителен, - отрезала Лариса. - Вот так семейка, один другого лапошит, - подал реплику Рубашкин. - Помолчите, Сорочкин, это не вашего примитивного ума дело, - осадил его Боков. - Лучше развяжите девушку, а то у нее уже, верно, ручки затекли... На какое-то время динамик утих. Чопей встал на подоконник раскрытого окна, ступил на карниз и, страхуемый уже согласным со всем Кандыбой, перебрался на кухонный балкон квартиры Яворских, в подмогу Глушицкому и Кленову. Валентин вопросительно смотрел на Мандзюка. Хотя он был старшим, но сейчас дело было не в старшинстве - в оперативном моменте, который надо чувствовать нутром, ибо речь уже шла о секундах, что ни упускать, ни торопить нельзя. Мандзюк, как никто, чувствовал бег последних решающих секунд. Не отрывая глаз от динамика, словно это был телевизионный экран, он сделал предупреждающий жест - дескать, внимание. Неожиданно в динамике прозвучал хлесткий звон пощечины. - Ты что спятила?! - прохрипел Рубашкин. - Волю рукам не давайте. - Да я тебя... - Сорочкин, не грубите, - одернул его Боков. - Она права: сейчас не до этого. Вот когда окончится деловая часть нашей встречи, - пожалуйста. Только имейте в виду, она любит нежное обращение. - Заткнись, подонок!! - крикнула Лариса, но тут же сбавила тон, сказала почти спокойно: - Давай список. - Вначале книги. - Вначале список! - Сорочкин, вы рано отвязали ее. Верните красавицу в предыдущее положение, да ручки ей покрепче заверните. К лопаточкам, к лопаточкам! Послышался шум возни, кряхтение, сдержанный стон. - Не трогайте ее: вмешалась Надежда Семеновна. - Донат, учтите, я брошу этот пресс в окно и закричу. Мне уже все равно! - Какой порыв самопожертвования! Нади, вы выросли в моих глазах. - Не смейте меня называть так! Я не давала вам повода. - Прошу простить, я забылся. Хотя о поводах можно было бы поспорить. - Замолчите! И сейчас же отпустите ее! Иначе я разобью окно. - Оставь ее, - велел Рубашкину Донат. - Ну как, угомонилась, лапочка? - Я не волновалась, - на удивление спокойно сказала Лариса. - Так где лечебники? - Я принесу. - Не получится, Лялечка. Я не доверяю тебе. Прости, но это так. - Я сказала, значит, принесу. - Хорошо, примем компромиссное решение: пойдем вместе. - Вначале список. - О, боги! Что меня всегда восхищало в тебе, так это твое ослиное упрямство. Вот, держи! Послышался шелест бумаги. - Здесь не все листы, - спустя непродолжительное время сказала Лариса. - Их было девять, я помню, а тут только восемь. - Неужто? В самом деле. Должно быть, в кармане остался... Вот, пожалуйста. - Как раз тот, где расписался папа. - Ты удовлетворена? - Вполне. - Куда идем? - За тем шкафом есть тайник. Пусть ваш подручный отодвинет его. - Этот? - Второй, что подальше... - Ты что? Куда?! Рубашкин, держи ее! Раздался грохот опрокинутой мебели, звон разбитого стекла, топанье ног, стук двери, испуганный вскрик Надежды Семеновны, хриплая ругань Рубашкина... - Вот сейчас в самый раз, - удовлетворенно сказал Мандзюк. Но Ляшенко уже не слышал его - вскочив на подоконник, он махнул рукой стоящим на балконе оперативникам, и те устремились в квартиру. Карниз был узок, но отделявшие от балкона метры Валентин преодолел в одно мгновение. Спрыгнув на балкон, он устремился вслед за товарищами в квартиру, где двое здоровенных мужчин избивали лежащую на полу девушку, выкручивали руки, силясь отобрать зажатые в ее кулаке замусоленные тетрадные листки. Появление работников милиции вызвало шок. Надежда Семеновна рухнула в кресло, закрыла лицо руками, прошептала в ужасе: - Какой позор! То, что Боков и Рубашкин избивали ее падчерицу, она почему-то позором не считала. Рубашкин пытался бежать, даже сумел оттолкнуть Кленова, проскочить коридор, открыть дверь, но лишь затем... чтобы впустить в квартиру Мандзюка. Рубашкин отпрянул назад, прижался к стене, а затем сполз на пол. Все произошло за какие-то считанные мгновения. Валентин подоспел, когда Женя Глушицкий уже замкнул наручники на запястьях Бокова, а Чопей возражал выкрикам задержанного: - Не торопитесь оправдываться, Донат Владимирович. У вас будет достаточно времени, чтобы объясниться с нами по всем вопросам. Велев Кленову пригласить следователя и понятых, Валентин подошел к сидящей на полу Ларисе, осведомился, не требуется ли ей помощь. Девушка подняла голову, отбросила волосы с лица, и он увидел ее глаза: залитые кровью белки, суженные от боли зрачки, высоко вскинутые к ровным бровям густые ресницы и почему-то с неприязнью подумал о Павле. Лариса все еще сжимала в руке тетрадные листки. Решив, что она не поняла его, Валентин назвал себя, повторил вопрос. Лариса принужденно улыбнулась: - Благодарю вас. Все в порядке. Меня уже второй раз за сегодняшний день колотят. Начинаю привыкать. Она пыталась шутить, и это успокоило Валентина. Он помог ей подняться. Но едва она стала на ноги, как покачнулась, охнула, схватилась за бок. Валентин поддержал ее, хотел усадить на диван, но она отстранилась: - Не беспокойтесь, сейчас пройдет. Я знаю, о чем говорю: как-никак я медичка... - Она помолчала, потом добавила, отводя взгляд: - Извините мне надо выйти. Тетрадные листки по-прежнему сжимала в кулаке, и у Валентина не хватило духу попросить их. Возможно, потому что понял: она не отдаст их. Умрет, но не отдаст. Мандзюк уже сдал Рубашкина под опеку Бессараба и сейчас стоял в дверях кабинета, закрывая своей большой плотной фигурой весь проем. Он уступил Ларисе дорогу, так же как Ляшенко сделав вид, что не заметил тетрадные листки в ее руке. О них напомнил Боков, который стоял у одного из стеллажей, привалясь к нему плечом: - Заберите у нее завещание, блюстители. Не будьте лопухами! Она его сейчас в канализацию спустит. Ляшенко и Мандзюк не прореагировали, ему ответил Чопей: - Донат Владимирович, вам не давали слова. Отныне и надолго вам придется усвоить правило: говорить будете только, когда вас спросят. Но поскольку вы уже затронули этот вопрос, я - так и быть - дам юридическую консультацию. Завещанием признается лишь документ, удостоверенный нотариусом. А такого документа профессор Яворский не оставил, так что напрасно старались. Он позвонил своим помощникам, дал "добро" на обыск квартиры Бокова и Рубашкина, а также боковской дачи. Появился Кандыба, понятые. Началась неторопливая процедура осмотра места происшествия, составления протоколов. Как и следовало ожидать, никакого тайника за книжным шкафом не было. Объясниться по этому поводу с Ларисой тотчас же не удалось, ей стало плохо, началась рвота, и одна из понятых отвела ее в соседнюю комнату, побежала за врачом, благо по соседству жило немало врачей. При личном обыске Рубашкина были обнаружены: складной нож с пружиной, что угрожающе выбрасывало широкое лезвие, и два золотых кольца, которые он ухитрился стянуть в спальне Надежды Семеновны. В портфеле Бокова нашли иллюстрированный словарь-травник издания 1898 года, который он прихватил со стеллажа во время поисков инкунабул двенадцатого века. Попытка Бокова утверждать, что это словарь, успеха не имела: на титульном листе книги стоял штамп: "Из книг М.П.Яворского". - Жадность фраера сгубила, сказал сам о себе Боков. - За мелкую кражу сяду. - Не скромничайте, Боков, - усмехнулся Ляшенко. - Вы обманом завладели дорогостоящими "Русскими картинками", а затем продали их через подставное лицо по спекулятивной цене. Вот вам мошенничество и спекуляция в крупных размерах. О книгах подешевле, что вы выманивали у своей бывшей невесты, уже не говорю. Но к "Канону" Авиценны и тому, как он попал к Анатолию Зимовцу, мы непременно вернемся. Попытку ограбления этой квартиры доказать будет нетрудно. Так что, как говорится, наскребем по сусекам. В разговор вмешался Чопей, который еще раз связывался со своими помощниками: - При обыске вашей дачи, Донат Владимирович, найдено несколько книг из числа тех, что были фиктивно вписаны в макулатуру по библиотеке Дома ученых. Приплюсуйте и это. При подписании протокола осмотра места происшествия возникла неожиданная заминка: Надежда Семеновна заявила, что должна проконсультироваться со своим адвокатом. Кандыба объяснил ей, что это не предусмотрено законом, но, если она с чем-то не согласна, он готов выслушать ее возражения. Надежда Семеновна начала издалека, и в итоге попросила исключить из протокола упоминание о том, что интересующие преступников книги были спрятаны ею среди старых журналов, а затем перепрятаны кем-то в другое, пока не установленное место. Посоветовавшись с Валентином, Кандыба согласился заменить эту фразу другой, смысл которой состоял в том, что названных книг не оказалось в домашней библиотеке. Когда задержанных увели, к Валентину подошла одна из понятых, сказала, что с ним хочет поговорить Лариса, которой стало несколько лучше, но около которой все еще хлопотала доктор Сторожук - жена доцента Сторожука. Однако в комнату Ларисы его впустили не сразу. Пока он топтался в коридоре, уехали следователь и Чопей, ушли понятые, явилась сестра Надежда Семеновны - Анна Семеновна, которой кто-то сообщил в больницу о происшедшем. К Валентину дважды подходила Надежда Семеновна, справлялась о Павле, а затем, прижимая к глазам платочек и негромко всхлипывая, клятвенно уверяла его, что лечебники перепрятала не она и ей не известно, где они сейчас находятся. И тут же роняла, как бы между прочим: - Я консультировалась с адвокатом и он заверил меня, что, поскольку официального завещания Матвей Петрович не оставил, все книги по закону принадлежат нам: мне и Ларисе. Первый раз, когда она сказала об этом, Валентин отмолчался. Однако, во второй не выдержал: - Но надеюсь, вы не будете отрицать, что Боков пытался завладеть инкунабулами путем ограбления? - Как вы могли подумать, что я намерена защищать этого негодяя! сделала попытку возмутиться Надежда Семеновна, но тут же сказала: - Только в суд я не пойду. Он обольет меня грязью! Он уже грозил. - Чем? - Ну этими лечебниками, что я положила сверху на стеллаж, потупилась Надежда Семеновна. - А потом он как-то перехватил одно письмо. Это было еще при жизни Матвея Петровича. Клянусь, чем угодно, с автором письма меня связывали чисто дружеские отношения. Но он допускал некоторые шутливые иносказания, которые могут быть превратно истолкованы... Донат иногда брал нашу почту из ящика. И таким образом перехватил письмо. - Наш друг Донат, - усмехнулся Валентин. - Что вы сказали? - насторожилась хозяйка. - Это просто так, к слову. Читать нравоучения сорокапятилетней женщине было неловко. Да и вряд ли в этом был какой-то смысл: при всей показной респектабельности Надежда Семеновна не отличалась ни критическим складом ума, ни высокой нравственностью. О чем тут говорить! Наконец Валентину разрешили войти к Ларисе. Жена Сторожука предупредила: - Вы помягче с ней. Не говоря уже о синяках, вывихе плечевого сустава, у нее сильное нервное потрясение. Удивляюсь, как она еще держится. Похоже, на одном характере. Я позвонила доктору Билан, Лариса верит ей. А это очень важно при таком ее состоянии. Лариса лежала на топчане, укрытая теплым одеялом. Несмотря на это, ее знобило: она ежилась, постукивая зубами. Ляшенко спросил о ее самочувствии. - Ничего, бывает хуже, - натягивая одеяло до подбородка, сказала Лариса. - Вы хотите спросить о лечебниках? Я не знаю, где они. Честное слово! Донату соврала, чтобы заполучить документ, которым он мог шантажировать... Она не стала уточнять, кого именно мог шантажировать Боков, но это было и так ясно. - Не будем говорить о документе, которого уже нет, - сказал Ляшенко. - Но как думаете, кто мог перепрятать лечебники? - Ума не приложу. Когда Паша обнаружил их исчезновение, а это было месяца два назад, он взял в оборот сначала меня, потом Надежду Семеновну. Но я ничего не знала, а Надежда Семеновна... - Лариса оборвала фразу, закрыла глаза и так лежала с полминуты, потом взмахнула ресницами, сказала негромко, словно в раздумье: - Но сегодня она не хитрила: я это поняла по тому, как она растерялась, когда лечебников не оказалось там, где она их припрятала... Ничего не могу понять! Только перепрятал их не Паша. Поверьте! - В этом его никто не подозревает, - успокоил ее Валентин. - А статья в газете? - Пусть она останется на совести того, кто ее накропал. Лариса внимательно посмотрела на него: - Спасибо. - Не за что. Он верил ей, но так же, как она, не мог понять: куда исчезли инкунабулы профессора Яворского? Впрочем, этот вопрос уже не должен был занимать его. И он сказал о другом - более важном: - Лариса, Бокова будут судить. Он попытается представить эту история как семейную неурядицу, в которой оказался замешанным в качестве вашего жениха. Разумеется, это не более как позиция для самозащиты, но думаю, он изберет именно такую позицию - ничего другого ему не осталось. С такой позиции легче всего выкручиваться, клеветать, шантажировать... - Зачем говорите об этом? - перебила его Лариса. - На что способен Донат, я уже знаю. Но я не Надежда Семеновна и мне плевать на то, что будут судачить по углам. Я пойду на суд, даже если он состоится на стадионе, и расскажу об этом подонке все. И о себе расскажу. Как кокетничала с ним - просто так, от нечего делать; как принимала потом его ухаживания. Думала Пашке на зло делаю, он его терпеть не мог, а оказалось - себе. Но дело не только в этом. Как жених, Донат меня вполне устраивал: он не торопил события и в то же время был внимателен: потакал моим прихотям, капризам. Он сразу расшифровал мою цыплячью философию: не распускает руки - значит, уважает, не хамит - значит, воспитанный, не напивается до одурения - стало быть, порядочный, дарит цветы - вообще прелесть! Паша предостерегал меня, но я думала, что он из-за неприязни к Донату так говорит. Даже когда всплыла история с "Картинками", и он выгнал Доната из нашего дома, я все еще не считала, что он прав. А сегодня поняла: он тысячу раз прав! Я была нужна Донату как зайцу стоп-сигнал. Мой папа был ему нужен, наши книги нужны, знакомства, связи Надежды Семеновны, наш дом - "фирма", как он однажды выразился, - ему требовались. И что самое дикое: я ведь не слепая была - видела, слышала, понимала. Но почему-то считала, что это как бы параллельно идет и не влияет на его отношение ко мне... Он умел быть ласковым, осторожным - с цыплятами нельзя грубо обращаться, не то испугаются, убегут, или, чего доброго, окочурятся до срока. Но сегодня как раз вышел срок, и я узнала, какой он осторожный. Он меня ногой в живот бил. Сорочкин этот или Рубашкин - я не знаю как его, - только разок меня по затылку треснул, да руки потом заламывал. А Донатик ножкой меня в живот. Да с размаху, чтобы посильнее было! Вот как цыплят свежевать надо... Она в изнеможении откинулась на подушки. Вошла Инна Антоновна, сердито посмотрела на Валентина: - Вы соображаете, что делаете? - Уже ухожу, - смутился Валентин. - Все в порядке, Инна Антоновна, - не поднимая головы, с трудом выдохнула Лариса. - У нас был неприятный, но очень нужный разговор. Для меня нужный. И я благодарна Валентину Георгиевичу за этот разговор. - У Валентина Георгиевича удивительная способность приходить с неприятными разговорами и оставлять приятное впечатление о себе, - все еще строго глядя на Валентина, сказала Инна Антоновна. - Будем надеяться, что когда-нибудь он придет с приятным разговором. - Постараюсь оправдать ваши надежды, - тушуясь под ее взглядом и пятясь к двери, натянуто улыбнулся Валентин. В гостиной Мандзюк беседовал о чем-то с Анной Семеновной. Только сейчас Валентин разглядел ее как следует. Она была такая, какой ее описал Сторожук: седовласая, прямая, как жердь, с тонкими белыми губами и сердито-настороженным взглядом старой девы. Мандзюк говорил с ней вежливо, но Анна Семеновна то и дело обиженно поджимала тонкие сухие губы. Когда Валентин вошел в гостиную, разговор подходил к концу. - Не понимаю вас, Анна Семеновна, хотя это уже не столь важно, - как бы резюмируя все, что было перед тем сказано, заметил Мандзюк. - Но, быть может, вы снизойдете до моего неслужебного любопытства? - Мужчине этого не понять, - отрезала Анна Семеновна. - Возможно вы правы, - неожиданно согласился Мандзюк. - Мужская логика слишком прямолинейна. Он уложил в свой "дипломат" какие-то металлические пластины, обернутые газетой, встал, церемонно поклонился Анне Семеновне, сказал Валентину: - Идемте, товарищ капитан. Хозяевам надо прийти в себя после волнений сегодняшнего вечера. Уже в машине он чему-то улыбнулся, а затем обратился к Валентину: - Чего не спрашиваешь об инкунабулах Яворского? - Не вижу в том смысла. Завещания нет и, строго говоря, не было. А коли так, пусть наследники сами разбираются. - И все-таки хотя из любопытства. - Хочешь, чтобы я спросил, кто и куда перепрятал инкунабулы? - На этот вопрос не смогу ответить по той простой причине, что лечебников двенадцатого века, некогда составлявших гордость библиотеки профессора Яворского, уже не существует. - Не понял, - насторожился Валентин. - От них остались только серебряные переплеты, кстати, очень искусно инкрустированные средневековыми чеканщиками. Хочешь взглянуть? Они в моем портфеле. Мандзюк потянулся за "дипломатом". - Потом, - остановил его Валентин. - Но что стало с самими книгами? - Анна Семеновна сожгла их. В кафельной печке, что стоит в ее комнате. - Сожгла? - Еще месяц назад, когда поднялся шум вокруг этих лечебников. Она обнаружила их случайно во время уборки, среди вороха старых журналов. Догадалась, что они спрятаны кем-то из членов семьи, и решила таким вот образом убрать этот камень преткновения. - Она сошла с ума! - Вначале я тоже так посчитал, но мое суждение было поспешным. Скандал-то уже начался, и кто-то должен был подумать, чем он кончится. Анна Семеновна подумала. Хорошо ли, худо ли, но подумала. - Она призналась тебе? - Еще месяц назад, сразу после того, как были сожжены книги, она написала об этом в газету, которая опубликовала очерк Верхотурцева. Но по каким-то соображениям не отправила письмо. А сегодня, едва я завел разговор об исчезнувших лечебниках, передала мне письмо и переплеты, как доказательство содеянного. Письмо маловразумительное: свои действия объясняет антибиблиофильскими настроениями. То же самое говорила мне. И, видимо, это отчасти так. - Но эти книги бесценны! - не мог успокоиться Валентин. - Она - не безграмотная женщина, должна была соображать! - Она не очень сильна в юриспруденции и, имея это в виду, можно понять ее опасения. Даже мы - юристы - не сразу разобрались в этой довольно запутанной истории с завещанием. Чего уж от нее - акушерки требовать! Знаешь, Валентин, женщины иногда, я подчеркиваю - иногда, понимают сердцем больше, чем мужчины умом. Анна Семеновна очень любит сестру, племянника, ради них пожертвовала многим: институтом, возможностью создать свою семью. А что по сравнению с этим какие-то старые книги, будь они даже отлиты из золота. Эпизод драки у ресторана "Сосновый бор" был выделен в отдельное производство. По этому делу, кроме Новицкого, были привлечены Донат Боков и Рубашкин. Им вменялось в вину подстрекательство. Боков все отрицал и, как предвидел Ляшенко, пытался опорочить свидетелей: Ларису Яворскую, Тамару Зимовец, Романа Гулько (уличная кличка Бим) и даже своего сообщника Рубашкина. Но он переборщил: Рубашкин обиделся на него (в судебном заседании Донат нелестно отозвался о его умственных способностях, назвал Сорочкиным) и рассказал о том, как он, по наущению Бокова, спровоцировал Анатолия Зимовца на конфликт. Гулько тоже не стал упорствовать и поведал суду о клеветнических измышлениях о Ларисе, Анатолии и Новицком, которые распространял за обещанное Боковым вознаграждение. На суде всплыла и подоплека подстрекательства. Дело было не только в книгах покойного профессора Яворского - Новицкий уличил Бокова в вымогательстве взяток у больных, пригрозил разоблачением. На вопрос председательствующего, почему он ограничился предупреждением и не поставил об этом в известность администрацию больницы, руководство кафедры, Новицкий сказал: - Неловко было: все-таки коллега. Кроме того, он был вхож в дом Яворских, считался женихом моей сводной сестры. Я поговорил с ним, как мне казалось, достаточно серьезно. Думал, он поймет... Участь Новицкого предрешили медицинские эксперты, приглашенные из соседней области, которые единодушно заявили, что невозможно определить, когда Зимовец получил опасную для жизни травму: во время падения с мотоцикла, или в последующей затем драке на автостоянке. И хотя прокурор, ссылаясь на показания самого Новицкого, утверждал, что у обвиняемого был умысел на нанесение Зимовцу телесного повреждения, судьи не согласились с ним: объективно действия Новицкого не вышли за пределы необходимой обороны. Дело в отношении него было прекращено за отсутствием состава преступления - вынести оправдательный приговор судьи все-таки не решились. Зато Боков и Рубашкин получили предельные сроки. И это было только началом возмездия: велось следствие по делу о попытке ограбления квартиры Яворских, краже личной собственности, мошенничестве, спекуляции в крупных размерах, вымогательстве взяток, соучастии в махинациях со списанием ценных книг по библиотеке Дома ученых. Суд по второму делу состоялся только в октябре: Донат Боков и Рубашкин получили сполна. Ляшенко не довелось присутствовать на этом суде: его вызвали в Киев, где он был включен в специальную оперативно-следственную бригаду по многоэпизодному делу о квартирных кражах с двумя убийствами и поджогом, что совершались хорошо организованной группой воров-гастролеров. Преступников удалось задержать уже в конце сентября, но хлопоты оперативников на этом не кончились: еще больше месяца ушло на поиски похищенных вещей, ценностей, трупа одного из преступников, которого сообщники убили в пьяной ссоре. Домой Валентин вернулся накануне ноябрьских праздников. Его ожидал приятный сюрприз: пришел приказ о присвоении ему майорского звания, а начальник Управления внутренних дел объявил ему несколько запоздалую благодарность за изобличение Бокова, Рубашкина, и весьма кстати предоставил недельный отпуск за неиспользованные в командировке выходные дни. Сказать по правде, Валентин порядком намотался за эти месяцы, и отдых был ему необходим. Но отойти напрочь от служебных забот он не сумел и в первый же день по приезде позвонил Алексею Мандзюку: поинтересовался служебными делами, а заодно спросил о Новицком и Ларисе. Алексей мог сказать только то, что Новицкий перевелся в районную больницу, кажется, в ту самую, в которой он уже работал, а Лариса взяла в институте академический отпуск и тоже куда-то выехала. Более полную информацию о них Валентин надеялся получить от Инны Антоновны, но не торопился звонить ей по двум причинам. В канун праздников такой звонок поставил бы ее в неловкое положение: она могла подумать, что он - чего доброго - напрашивается в гости, а у нее, верно, были другие планы на эти дни. Вторая причина заключалась в том, что Валентин ожидал из Киева светокопии с текста лечебника ХV века, которые обещали сделать и прислать ребята из научно-технического отдела министерства. Что же до самого лечебника, то его владельцем был известный профессор судебной медицины, с которым Валентину довелось познакомиться во время командировки, и который любезно разрешил снять светокопии со своей инкунабулы. Бандероль со светокопиями Валентин получил 10 ноября - в День милиции - и сразу позвонил Инне Антоновне на кафедру. Повезло - застал. Она не удивилась его звонку: и по ее тону - приветливому, веселому Валентин понял, ей приятно, что он позвонил. - Я знала, что вы позвоните сегодня, - сказала она. - Телепатия? - улыбнулся он. - Как все колдуны, я обладаю даром ясновидения. - Вы колдунья? - Увы! Поэтому осталась без мужа: я читала его мысли, а это ему не нравилось. Она весело рассмеялась, поздравила Валентина с праздником милиции, а затем сказала: - Вы не поздравили меня седьмого, чтобы не показаться навязчивым. Угадала? - Это не совсем так, - растерялся Валентин. - Не лгите. Я читаю мысли даже по телефону, так вот, ваша хитрость не удалась: я все-таки приглашаю вас к себе. У вас есть девушка? - Строго говоря, нет. - Тогда берите ту, которая вам нравится больше других, и приходите к семи часам. Но непременно с ней. - Что-то не совсем понимаю. - Объясняю по элементам. Вы хотите встретиться со мной, не отпирайтесь - я знаю. Я тоже этого хочу. Но чтобы наши желания не зашли слишком далеко, приглашаю вас с девушкой. Теперь понятно? - Инна Антоновна, можете быть уверены. - Чувствуя, что краснеет, начал было Валентин. Но она перебила его: - Я не уверена в себе. Такая постановка вопроса не задевает ваше самолюбие? Вот и отлично! Берите свою девушку и приходите. Нам есть о чем поговорить. Валентин раздумывал недолго - позвонил Галине Юрко. Предстоящий разговор с Инной Антоновной должен был заинтересовать ее. К тому же они не виделись больше двух месяцев, и Валентину хотелось увидеть Галину: порасспросить о суде по делу Бокова-Рубашкина, управленческих новостях, просто так поболтать о пустяках - с ней всегда приятно говорить. Галина сразу согласилась, но почему-то зарделась, а потом засуетилась: - Надо что-то понести. Так неудобно. Я сбегаю в гастроном. Валентин смотрел на нее как бы другими глазами. Может потому, что не видел ее больше двух месяцев, а возможно, потому что за все время их знакомства они, кажется, впервые обсуждали неслужебный вопрос. Но как бы то ни было, он ловил себя на том, что любуется ее порозовевшим от волнения лицом, которое до этого считал кукольным, но которое вовсе не было кукольным, - просто оно было бесхитростным, непосредственным и очень милым. - Лучше цветы, - предложил он. - Будем идти мимо цветочного магазина, что-нибудь выберем. Они купили хризантемы. Инна Антоновна встретила их радушно, обняла Галину, с которой была уже знакома - их познакомила Лариса во время многодневного процесса Бокова и Рубашкина, и они как-то сразу почувствовали расположение друг к другу; шепнула Валентину: "Я знала, что вы придете с ней. Когда она говорит о вас, у нее зажигаются глаза"; восхитилась хризантемами: "Мои любимые цветы!", ахнула, когда он преподнес ей светокопии: "Валентин Георгиевич, вы меня убили наповал! Это то, о чем я грезила наяву". Стол был уже накрыт. Инна Антоновна попросила Валентина откупорить шампанское. Когда бокалы были наполнены, хозяйка произнесла тост за гостей и их праздник. Так получилось, что разговор сразу пошел о деле, к которому все они имели непосредственное отношение, и которое все еще занимало их мысли, чувства. Инна Антоновна попросила разъяснить ей понятие необходимой обороны, внимательно слушала Валентина и Галину, которые наперебой трактовали это понятие, его составные элементы, такие, как интенсивность нападения и защиты, реальная и нереальная угроза, момент начала и окончания посягательства. Она не задавала вопросов, и Валентин уже решил, что ее любознательность удовлетворена, когда Инна Антоновна, еще раз пригубив свой бокал, сказала: - Объяснить можно все. В наш интеллектуальный век мы научились объяснять даже непонятные нам самим вещи. Недостаточная эрудиция ставится в укор. Есть такой анекдот о фаргелете. Не слышали? Один старичок-возник аккуратно посещал все лекции на научно-популярные темы и неизменно задавал вопрос: что такое фаргелет? Разные лекторы отвечали по-разному. А потом выяснилось, что старичок с похмелья прочитал наоборот вывеску телеграфа... Так и с Пашей получилось. Мы считали, что знаем его и были о нем наилучшего мнения. А те его поступки, что были непонятны, объясняли, как лекторы из анекдота: кто депрессией, кто негативным биоритмом момента, кто еще каким-то наукообразным словом. И все было приемлемо, пока не произошел этот дикий случай. Как юристы, вы уже разобрали его по косточкам, дали ему оценку, и я не спорю с ней. А теперь, если не возражаете, попытаемся рассмотреть эту историю с точки зрения общей психологии. Я не настаиваю на точных определениях: чем проще - тем лучше. Спорить тоже не будем. Выскажем мнения и дело с концом. Ну, кто первый? - Новицкий - эгоист! - Тотчас же выпалила Галина. - Я сказала об этом прямо в глаза. Конечно, Толика спровоцировали, да характер у него был далеко не ангельский. Но как мог Новицкий - взрослый человек, врач - не понять, что парень не просто пьян, выведен из себя, что причины, заставившие его так резко говорить со старшим, очень серьезны? Да, он не хотел понимать! Посчитал ниже своего достоинства вникнуть в то, о чем говорил честный порядочный паренек, возмущенный подлостью взрослых. А как он ударил Толика на автостоянке? Это был жестокий, можно даже сказать, садистский удар человека, который знает силу своих мышц, знает, как и куда бить! Кстати, он не скрывал этого даже на суде... Честность? Ну, уж извините - подальше от такой честности! Знаете, что он сказал мне после суда? "Гуманность хороша до известного предела, переступив через который она становится аморальной". Представляете? У меня язык отнялся. Ведь это даже не цинизм - философия жестокости! - Вы согласны с Галей? - Не во всем. Гуманность действительно не безгранична: нельзя быть слишком добреньким в этом не совсем еще устроенном мире. Но меру гуманности надо четко знать. Это не столько нравственное, сколько правовое понятие, соизмерять с которым свои поступки человек не всегда может: в минуты сильного душевного волнения не все способны мыслить правовыми категориями. Вопрос, конечно, спорный, но я высказываю свою точку зрения. Что же касается темы обсуждения, то, думаю, дело тут в следующем: Павел лишен душевной чуткости. Нет, он не жестокий человек в буквальном смысле этого слова - мы с Инной Антоновной знаем его как доброго товарища. Но доброта у него от ума, не от сердца. А это, как говорит одна моя знакомая, - Валентин улыбчиво посмотрел на Инну Антоновну, - уже воля Всевышнего: чего он тебе не дал, того не дал. Если исходить из материалистических позиций, то надо отметить, что корни этого уходят в детские и юношеские годы Павла: он рос без матери среди людей, не склонных к сантиментам. - Лариса тоже рано лишилась матери, - горячо возразила Галина, - но ее чуткости, самоотверженности можно позавидовать. Впрочем, она - женщина, а у женщин это чувство присутствует всегда! Она замолчала, очевидно поймав себя на излишней запальчивости. - Если говорить о женщине вообще, то можно привести диаметрально противоположный пример - Надежда Семеновна, - возразила хозяйка. - Но вернемся к Новицкому. Как понимаю, подошла моя очередь высказываться. Вот мое мнение: Новицкий вовсе не бесчувственный человек, но жестковатый - это правда. Хирург не должен быть размазней, и его нельзя упрекать за то, что он не жил по определенной им самим довольно жесткой схеме и не видел причин для снисхождения к другим людям, к другим схемам. А это уже максимализм. В возрасте Толика он не был таким, как Толик, стало быть, по его схеме, - Толик не должен быть таким. Вместе с тем он в общем-то неплохо относился к Толику - об этом на суде говорили все: был его первым заказчиком, сделал рекламу его переплетам, брал с собой в горы. И это трудно объяснить. А возьмите его отношения с Ларисой. Три года назад он оставил аспирантуру, уехал в село только потому, что понял: в их отношениях может произойти то, что по его схеме не должно происходить. И он пожертвовал аспирантурой. Но и от Ларисы, как мне кажется, ожидал, если не жертвы, то хотя бы раскаяния. Увы! - Вы осуждаете Ларису? - спросила Галина. - Я констатирую факт. - Но он оставил ее не в лучшем окружении: Надежда Семеновна, Боков. И это в то время, когда ей, как никогда, нужны были поддержка, совет, - не унималась Галина. - Я могла бы возразить, но мы договорились не спорить. - Инна Антоновна, каковы сейчас их отношения? - спросил Валентин. - Лариса работает медицинской сестрой в том же районе, что и Паша, но в другой - участковой больнице. Они видятся: Лариса приезжает к нему, он бывает у нее. Мы часто перезваниваемся. Обещали приехать на праздник, но почему-то не приехали. - Почему он не женится на ней? - вырвалось у Галины. - Она любит его до сих пор, несмотря ни на что. Я знаю! Инна Антоновна сдержанно улыбнулась: - Видите ли, Галя, односторонне чувство - не лучшая основа для брака. И Паша это понимает. - Но он хорошо относится к ней. Не каждый муж так заботится о своей жене, - не отступала Галина. - Очевидно, опыт иных отношений удерживает его от привнесения таких элементов во взаимоотношения с Ларисой. - Понимаешь, Галочка, это очень рискованно менять такие вот установившиеся, ровные отношения, на нечто зыбкое и не совсем ясное, поддержал Инну Антоновну Валентин. - А я сказала, что, если он не женится на ней, я перестану считать его мужчиной! - выпалила Галина. Инна Антоновна и Валентин дружно засмеялись. - Так и сказала? - все еще смеясь, спросил Валентин и обнял Галину за плечи. Как-то так уж получилось само собой. - Так и сказала, - разом сбавив тон и розовея, подтвердила Галина. - И что он ответил? - Что подумает. Серьезно ответил, даже очень. Я не преувеличиваю. Улыбка на лице Инны Антоновны погасла. Валентин принял это на свой счет, смутился, отодвинулся от Галины. - Вот вам еще одна непонятная вещь, - сказала Инна Антоновна. - Мы уже объяснили ее, а тот, за кого мы расписались, все еще думает над ней.Ростовцев Эдуард Человек из тоннеля
ИЗ СВОДКИ ПРОИСШЕСТВИЙ ПО ГОРОДУ ЗА 4 ИЮНЯ 198... ГОДА: "...В городскую клиническую больницу из района Высокого Холма доставлен в бессознательном состоянии мужчина двадцати восьми - тридцати лет. Пострадавший обнаружен в 23:10 в пятидесяти метрах от летнего кафе, с проникающим ранением головы. Личность пострадавшего не установлена". ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ НЕИЗВЕСТНОГО: "Общее соматическое состояние удовлетворительное, заживление раны идет хорошо. Со стороны нервной системы: глубокое помутнение сознания (вследствие травмы и операции), постепенно проясняется. Время от времени больной приходит в себя, отвечает на несложные вопросы (о самочувствии, естественных потребностях). Однако быстро утомляется, теряет контакт с окружающими. О себе и происшедшем с ним ничего не сообщает - говорит, что не помнит. Не может назвать даже свое имя. Несколько раз упоминал о каком-то тоннеле, но безо всякой связи с другими понятиями и неконкретно..."1
Сознание возвращалось как бы нехотя - издалека, одним и тем же назойливым эпизодом... Тоннель был набит темнотой, грохотом, паровозной гарью. Свет в вагоне не зажигали, и мальчик не отходил от матери. Ему было страшно: темнота давила на виски, тряский пол уходил из-под ног, грохот колес рвал барабанные перепонки. И от этого нельзя было спастись - бежать, укрыться. Мальчик чувствовал себя беспомощным, жалким. Он цеплялся за долгополый, выскальзывающий из рук халат матери и негромко хныкал, потому что плакать во весь голос ему было стыдно, а не плакать он не мог. Мать ласково гладила его и говорила неуверенно - ей тоже было не по себе: - Взрослый парень, осенью уже в школу пойдешь. Тоннеля испугался, чудик-лохматик! Закрой глазки и считай до ста. Тычась мокрым от слез лицом в шелк халата, он считал до ста, и еще раз до ста, но темнота и грохот не отступали. Холодея от ужаса, он думал, что произошло непоправимое - они въехали в тоннель, который никогда не кончится. Мальчик готовился к самому худшему, и оно не заставило себя ждать. Вагон резко качнуло, он накренился, послышался скрежет металла, звон разбитых стекол, истошные крики пассажиров. Мальчика отбросило в сторону, затем назад, он больно ударился обо что-то спиной и затылком; шелк халата выскользнул из рук, мать исчезла. Время остановилось, словно обессилев в своем беге, и мальчик не мог сказать, как долго продолжалось это оцепенение - минуту или больше. Стихли грохот, скрежет, тряска. Но осталась темнота. Нежданно умолкшая, пугающая своей немотой, неизвестностью. Это было все, что он помнил. Тоннель окончился неожиданно, вдруг. Свет не ослепил - удивил прозрачностью, легкостью. Эта легкость тут же передалась мальчику, всему его телу. Казалось, бесшумная волна, теплая и ласковая, бережно подняла его на свой гребень, понесла куда-то. Он закрыл глаза, но ощущения света и легкости остались. Порой кружилась голова, и он не мог сообразить, где верх, где низ, кто подходит к нему, что говорит. Но свет не исчезал, обступал его со всех сторон, пробивался сквозь веки, оконные шторы, двери больничной палаты. Это успокаивало: тоннель, темнота остались позади, и он верил, что теперь все будет хорошо... - Боюсь, Лилечка, что вы принимаете желаемое за действительность. Я не вижу здесь улучшения. - Утром он улыбался. - Улыбаются и идиоты. Причем, заметьте - куда чаще, чем мы с вами. У них ведь нет никаких проблем! - Думаете, он не выйдет из этого состояния? - Из этого выйдет, но неизвестно, в какое войдет: такие травмы не проходят бесследно. - Это ужасно! Когда утром он улыбнулся, кивнул, я обрадовалась, решила, что наконец-то он пришел в себя. У него такая приятная улыбка... Василий Романович, есть хоть какая-то надежда? - У кого: у меня, у вас? - У него. - Сейчас он находится по ту сторону надежд. И кто знает, хуже это или лучше для него. - Не понимаю, как вы можете говорить так! - Видите ли, дорогая, в нашей профессии следует отправляться не только от объективного, но и непременно учитывать субъективные факторы. Когда человеку проламывают голову, мы, естественно, жалеем его. Иных эмоций этот, в любом аспекте прискорбный факт, не вызывает. Но вот выясняется, что кроме нас, да еще двух-трех сугубо официальных лиц, никто не беспокоится о нашем больном в течение довольно продолжительного времени. Не беспокоится и даже не интересуется его судьбой. И это при том, что речь идет о молодом и, как вы успели заметить, привлекательном человеке. Невольно возникает вопрос, почему? Почему родные, близкие, соседи, каковые имеются даже у последнего забулдыги, столь легко отмежевались от этого субъекта? А может, не просто легко, но и с облегчением? - Чепуха!.. Извините, Василий Романович, но мы не имеем права так думать. Я уверена, что он приезжий, и поэтому родные не знают, где его искать. - Когда вы уезжаете в другой город, разве не сообщаете об этом матери, подругам? - Тут могли быть исключительные обстоятельства. Я слышала, что работники милиции, которые приходили сюда, говорили об этом. - Работникам милиции, конечно, видней. Но когда сопоставляешь эти факты, то опять-таки невольно приходишь к выводу, что жалеть нашего больного надобно с оглядкой. Полагаю, вам будет не лишним запомнить это. - Простите, Василий Романович, но я не умею жалеть с оглядкой! ...Вначале он увидел глаза. Большие, широко распахнутые, светлые. Он не сразу определил их цвет: то ли голубые, то ли серые. Но то, что они участливы, доброжелательны, по-детски непосредственны, отметил тут же. И только затем обратил внимание на маленький вздернутый нос, сосредоточенно сжатые губы, родинку-кляксу на четко обрисованной скуле, обтянутой блекло-золотистой кожей, на выбившуюся из-под белой шапочки каштановую прядку. "Лилечка" - понял он. Это имя, журчащее словно ручеек, как нельзя лучше подходило девушке. О том, что она медсестра, догадался еще до того, как открыл глаза: ее голос, звонкий, как мартовская капель, был сродни свету, вырвавшему его из темноты. Захотелось коснуться губами родинки на ее щеке, каштановой прядки и этих удивительных светло-серых глаз. Но он тотчас устыдился своего желания - девушка могла неправильно понять его... - Василий Романович, он открыл глаза! Смотрит! И вполне осмысленно! Лицо Лилечки отразило чуть ли не всю гамму чувств: радость, любопытство, надежду, нетерпение. - Вы полагаете? Что ж, это легко проверить. Добрый день, больной! Как себя чувствуете? Понимаете, что я говорю? Если трудно ответить, опустите веки. Скошенный к затылку лоб. Большой крючковатый нос. Толстые губы с обиженно опущенными уголками. Выпуклые немигающие глаза. Окунь, да и только! Впрочем, у окуня нет седины на висках... - Понимаю... Здравствуйте, доктор. Чувствую себя хорошо. - Вот даже как? Но это превосходно! Признаться, не ожидал. - Толстые губы расплываются в широкой лягушачьей улыбке. - Узнали меня? - Нет. - А почему решили, что я врач? - На вас белый халат, шапочка и эта штука, - больной показывает на змеящийся резиновыми трубками прибор, свисающий на грудь врача. Этой штуковиной выслушивают сердце, легкие, но как она называется, больной не помнит. - Имеете в виду фонендоскоп? - Да-да, - быстро уточняет раненый. - Стетофонендоскоп. Врач живо и многозначительно переглядывается с сероглазой Лилечкой, затем пересаживается со стула на кровать больного, ощупывает его забинтованную голову. - Но фонендоскопом, или, как вы точнее назвали его стетофонендоскопом, пользуются не только врачи, но и фельдшеры, медсестры... Больно? - Нет. - А здесь? - Немного. Врач оттягивает веки больного, удовлетворенно хмыкает. - Превосходно! - Он возвращается на стул, забрасывает ногу на ногу. А теперь вернемся к вопросу о фонендоскопе и врачах. Помните мое возражение? Могу повторить... Что ж, тогда объясните, почему решили, что я - врач? "Он что же, считает меня ненормальным?" - с неожиданным раздражением думает больной и резко отвечает: - Ну, хотя бы потому, что вы сидите, а девушка в таком же халате, как ваш, стоит. И вы считаете это в порядке вещей. Лилечка розовеет, осуждающе сдвигает темные брови, а врач взрывается громоподобным смехом. - Да вы, оказывается, шутник! - хохочет он и хлопает больного по плечу. - Это превосходно. Веселые люди выздоравливают быстрее: чувство юмора подобно спасательному кругу. Он обрывает смех, недоверчиво вглядывается в лицо больного. - Понимаете, где находитесь и что с вами? - Понимаю, что нахожусь в больнице и что у меня разбита голова. Но как это случилось, не помню. - А что помните? - Тоннель. Врач снова переглядывается с медсестрой, лицо которой принимает озабоченное выражение. "Напрасно я ляпнул о тоннеле, - мысленно досадует больной, от которого не укрылось многозначительное переглядывание медиков. - Очевидно, что-то в этом роде я уже говорил, и они восприняли это как "сдвиг по фазе". Но ведь тоннель все-таки был. Когда-то, очень давно, но был. Странно, почему я помню только тоннель, а все остальное видится как в тумане..." - Какой тоннель? - допытывается врач. - Не могу сказать, не помню. - Если он станет объяснять то, чего еще сам не может понять, его и в самом деле сочтут умалишенным. - Ну хорошо, оставим это, - соглашается врач. - А как вас зовут? Кто вы такой? Согласитесь, что нам пора познакомиться. Я - ваш лечащий врач, Василий Романович, а это, - он берет за руку медсестру, - Лилечка, пардон, Лилия Евгеньевна, палатная медсестра. Которая, заметьте, выходила вас. Больной приветливо улыбается вновь порозовевшей Лилечке и даже протягивает ей руку, но врач настойчиво повторяет вопрос: - Ну-с, а как все-таки прикажете величать вас? Улыбка на лице больного гаснет, глаза устремляются в невидимую точку на чисто выбеленном потолке, левая бровь круто поднимается, упираясь в кромку бинта. Вопрос застигает его врасплох, хотя неожиданным его не назовешь, к этому шло. Но, странное дело, он не знает ответа. Неужто он не вспомнит собственное имя? Что бы ни произошло с ним в прошлом, но он уже пришел в себя и вроде соображает, что к чему. А вот поди же... Надо вспомнить. Во что бы то ни стало! Иначе его сочтут умалишенным и переведут в другую палату, с решетками на окнах. Кто-то когда-то говорил ему, что больных с устойчивыми изменениями психики помещают в такие палаты. Ну нет, только не это! Имя... Конечно, у него было имя. И отчество было, и фамилия. Но поначалу было имя. Дома, в школе его называли по имени. Это потом его стали величать по имени-отчеству. А сперва по имени. Значит, имя он должен помнить лучше. Так как же его зовут? Как называла его мать? Чудик-лохматик... Нет, это прозвище. У матери была странная манера давать всем прозвища. Но, очевидно, она называла его и по имени. Помнится, когда сердилась, называла по имени. Но это случалось редко, у матери был веселый, легкий нрав - она не любила расстраиваться, сердиться... - Помните своих мать, отца? - пытается помочь врач. Отца он не помнил, хотя видел его два или три раза и даже как-то ходил с ним на пляж, а потом в кафе на Набережной - ел изумительно вкусный фруктовый пломбир с орехами. Отец был моряком, жил в другом городе, а к ним приезжал однажды, чтобы помириться с матерью. Но из этого ничего не вышло. Вскоре он женился вторично и больше не приезжал - так рассказывала потом тетя Даша. Он же помнит лишь сверкающую золотом шевронов форменную тужурку отца да фруктовое мороженое с орехами. Впрочем, не только это. Отец подарил ему игрушку - большущего синтетического медведя и все повторял, что это тезка сына. Медведь - тезка? Медведей часто называют мишками, мишами. Ну, конечно! Его зовут Мишей, Михаилом. Так называла его тетя Даша, соседские ребята. Слава Богу, вспомнил. Но радоваться рано: что-то мешает его воспоминаниям, и он не может, хоть убей, вспомнить самые простые вещи, события, лица. К примеру, мать. Сейчас ее лицо видится ему расплывчато, словно не в фокусе, хоть по логике вещей, он должен помнить ее хорошо. Она была красивой и на удивление молодой. Но это в общем, а образно, наглядно он не может сейчас представить ее лицо. Возможно потому, что они виделись редко: мать то и дело уезжала куда-то. Его воспитывала тетя Даша, которую он помнит отлично: полная, гладко причесанная, с тронутым блеклыми оспинками неулыбчивым лицом и проворными, не знавшими отдыха руками, что прибирали, готовили, шили, стирали, давали подзатыльники, дарили леденцы. А какая была мать? То, что она была намного моложе тети Даши, - несомненно. Но что еще? Надо припомнить какую-то черту, движение, жест, свойственные только ей. Голос у нее был звонкий, девчоночий, но вместе с тем невыразительный. Он не всегда узнавал ее по телефону и часто путал с Алиной - племянницей мужа тети Даши. А какие у нее были руки? Она не раз ласкала его, теребила его вихри. Белые, холеные, с наманикюренными ногтями, всегда пахнущими парфюмерией. Но такие же руки были и у другой женщины, которую он знал много позже и к которой питал отнюдь не сыновьи чувства. Что-то не получается, хотя голова уже гудит, как пустой котел... Халат! Шелковый, долгополый, цветастый, с поясом, который она завязывала большим бантом. Халат он помнит отлично. Мать неизменно прихватывала его в дорогу - она часто ездила по разным городам с какой-то бригадой. Случалось, брала с собой сына, и он помнит, как, войдя в вагон, мать первым делом облачалась в этот халат, и все тотчас же обращали на нее внимание - такого красивого халата не было ни у кого. Шелк был тяжелый, прохладный на ощупь, но скользкий: его нельзя было ухватить, как следует, удержаться за него. Это не значит, что в детстве он всегда держался за материнский подол - у него хватало самолюбия, чтобы не скулить по пустякам. Тогда, в тоннеле, он так цеплялся за мать только потому, что боялся остаться один. Семилетнему мальчишке можно простить такое. А она? О чем она думала, какие чувства испытывала, когда бросила его, исчезла в темноте? Чудик-лохматик... Это, пожалуй, все, что осталось после нее. - Помните, как называли вас товарищи, учителя? - не унимается врач. - Михаилом. - Вы уверены? "Что ты пристал, как смола! - едва не вырвалось у больного. Михаилом меня зовут, Мишкой. Только не в этом дело: я не могу вспомнить многое другое из того, что нормальный человек не вправе забывать. Я это прекрасно понимаю и, тем не менее, ничего не могу поделать с собой. И если уж на то пошло, то у меня нет ни охоты, ни сил ломать и без того проломленную голову. В тоннеле все осталось. Понимаешь - в тоннеле!" Голову будто сжали в тисках и продолжали сжимать. Кажется, она треснет, лопнет сейчас, как перезрелый арбуз... - Василий Романович, он побледнел! Смотрите: покрылся потом. Оставьте его, очень прошу. Нельзя же так - сразу! Это Лилечка, милая сероглазая девушка. Если бы не она, он завопил бы от нестерпимой боли в виске. - Доктор, болит голова. Пожалуйста, лекарство, - с трудом размыкает губы больной. - Лилечка, введите ему анальгин внутримышечно. Н-да, похоже на амнезию. Но не классическую. Хотя какая может быть классика при черепно-мозговых травмах!.. Он что-то сказал, Лиля, что он сказал? - Что-то опять о тоннеле...2
Утро было не по-летнему холодное. Вторые сутки шел дождь, торазражаясь шумными ливнями, то надоедливо морося. Низкое темно-серое небо опустилось на город, поглотив телевизионную вышку на Высоком Холме, тяжело легло на купол университетской обсерватории, шпили кафедрального костела, крыши высотных домов Новозаводского района. "Волга" с трудом преодолела скользкий мокрый асфальт Червоноказачьей улицы. Миновав общежитие коммунального техникума, Валентин повернул на Замковую и, не доезжая недавно отреставрированной Сторожевой башни, где собирались открыть то ли архитектурный музей, то ли молодежное кафе, съехал на мощеную булыжником дорогу, круто взбегавшую по лесистому склону Холма. Справа мелькнуло и скрылось за деревьями здание телецентра. За обзорной площадкой, откуда в ясные дни видна была панорама центральной части города с неповторимым нагромождением средневековых церквей, соборов, причудливых острокрыших домов, дорога сузилась, пошла над обрывом, огороженным шеренгой молодых тополей. Валентин повернул вправо. Машину занесло на мокром булыжнике. Он не растерялся: сбросил газ, переложил руль и только затем выжал сцепление, переключил скорость. К паркингу у ресторана подкатил как ни в чем ни бывало. Однако его пируэт на повороте не остался без внимания. Коренастый степенный автоинспектор, чья машина стояла несколько поодаль, у летнего кафе, подошел к "Волге", укоризненно покачал головой. - По такой дороге в дождь даже на оперативной машине гонять не рекомендуется. - Виноват, исправлюсь, - выходя из "Волги" и поднимая воротник модного плаща, извинился Валентин, а затем представился. Инспектор почтительно дернул руку к фуражке: - Госавтоинспектор, старший лейтенант Кузишин. Прибыл по вашему вызову. Валентин протянул ему руку, спросил, приехал ли старшина Швачко. - Никак нет. Отпросился на выходной в село, сестру замуж выдает. Еще до того как вы позвонили, отпросился. Но вы не сомневайтесь, товарищ майор, я в курсе, потому как можно сказать, первым обнаружил того мужчину. Если желаете, покажу то место. Валентин не торопился. Отступив под навес густого каштана, достал сигареты, протянул Кузишину, закурил сам. - Иван Семенович, в рапорте вы указали, что обнаружили потерпевшего в 23:10, но время своего прибытия к ресторану не уточнили. В журнале дежурного имеется запись, что приказ следовать сюда вам был дан в 22:35, когда вы находились на улице Богдана Хмельницкого около полиграфического института. Сейчас я проделал тот же путь и затратил на него десять минут. - У нас со Швачко около пятнадцати вышло: мы потише ехали, - скупо улыбнулся Кузишин, но тут же погасил улыбку. - Тем вечером дождь посильнее этого был. А потом "Москвич" - не "Волга". - Расскажите подробнее. Вечером четвертого июня Кузишин со своим напарником - старшиной Швачко патрулировали в районе улиц Богдана Хмельницкого - Валовой. Тогда, как и сейчас, шел дождь. Несмотря на это, движение автотранспорта в районе названных улиц было интенсивным, что создавало напряженную дорожную обстановку. Однако к началу одиннадцатого колонны идущих в опасной близости "Волг", "Жигулей", "Запорожцев", интуристских "татр", "мерседесов", "фольксвагенов" значительно поредели. Инспекторы уже подумывали о возвращении в гараж ГАИ, - время их дежурства подходило к концу. Но в половине одиннадцатого Кузишина вызвал по радио оперативный дежурный и велел ехать к ресторану "Высокий Холм", где скопилось много легковых автомобилей и куда было вызвано еще с десяток такси. К чему это скопление могло привести на узкой, во многих местах идущей вдоль обрывов дороге, Кузишину и Швачко не надо было объяснять. Тем не менее скорость они не форсировали, ехали, как обычно - оснований для тревоги пока не было. К ресторану подъехали в 22:50. В паркинге, на площадке перед рестораном и летним кафе, стояло до тридцати машин. Удивляться нечему: тем вечером справляли две свадьбы и банкет по случаю полувекового юбилея главного бухгалтера горжилстройтреста. Кроме этих машин, к закрытию ресторана прибыли служебный ЛАЗ стройтреста и семь такси. Обстановка сложилась головоломная: разъехаться такому количеству машин на неширокой, к тому же мокрой площадке непросто: малейшая оплошность водителя грозила аварией, а то и катастрофой - с площадки до обрыва рукой подать. Хлопот у Кузишина и старшины Швачко хватало. Видимо поэтому Кузишин не отреагировал на фразу, брошенную из салона проезжающей мимо "Волги" одним из пассажиров - подвыпившим круглолицым бородачом: - Лейтенант, на петле голый мужик лежит! Вроде бы загорает. Штрафани его за халатность - солнце-то вторую неделю не показывается! Кузишин не придал значения этим словам - мало ли что болтают люди после веселого застолья. Но спустя минуту или две около него притормозил "Москвич-412". Его водитель - пожилая женщина в толстой вязаной кофте, натянутой поверх вечернего платья, заметно волнуясь, и то и дело оглядываясь назад, сказала Кузишину, что в том месте, где разворачиваются машины (это место водители прозвали "петлей") на обочине лежит раздетый человек. На этот раз Кузишин не стал мешкать: велев напарнику регулировать разъезд машин, он направился на "петлю", прихватив с собой фонарь. Раздетого мужчину Кузишин обнаружил в пятидесяти метрах от летнего кафе, чуть ниже того места, где дорога, углубляясь в лесопарк, делает кольцевой поворот. Ночью это место не освещается, и лежащего на обочине человека можно было заметить только при свете фар проезжающих мимо автомобилей. Мужчина лежал головой к дороге, уткнувшись лицом в землю и привалясь боком к дереву. Его тело было испачкано землей. Создавалось впечатление, что он полз от обрыва, пытаясь достичь дороги, но силы оставили его. Сперва Кузишину показалось, что человек пьян (близость ресторана и кафе наталкивала на такую мысль), и то ли сам разделся в состоянии алкогольного умопомрачения, то ли над ним, пьяным, кто-то зло подшутил. Однако, всмотревшись пристальнее, он заметил кровь на щеке лежащего, а затем обнаружил рану у него на виске. Кузишин наклонился над раненым, взял за плечо и едва не одернул руку - тело было холодным. Инспектор решил, что мужчина мертв. Тем не менее, опустился на колени, припал ухом к мокрой спине, чуть ниже левой лопатки и вскоре уловил слабые удары сердца. Остановив разворачивающееся на "петле" такси и высадив из него пассажира, Кузишин с помощью водителя втащил раненого в салон, уложил на заднем сиденье, примостился рядом, коротко бросил водителю: - В первую городскую больницу! Жми в темпе под любой знак, я отвечаю. Однако на площади перед рестораном изменил первоначальное решение: велел водителю затормозить, окликнул старшину Швачко, в двух словах объяснил ситуацию, посадил на свое место, и еще раз наказав водителю ехать как можно быстрее в больницу, направился к служебному "Москвичу". Связавшись по радио с дежурным по городу, Кузишин доложил о происшедшем, после чего поставил свою машину поперек дороги при выезде с площадки и объявил по громкоговорящей связи о временном запрещении движения. Вскоре к ресторану прибыла оперативно-розыскная группа во главе с начальником Шевченковского уголовного розыска капитаном Мандзюком. Вот, собственно, все, что он может доложить... Порыв ветра встряхнул крону каштана: задержавшаяся на листьях и собравшаяся там в крупные капли дождевая морось ринулась вниз, окатив Ляшенко и Кузишина холодным душем. Оба разом отпрянули от дерева, стали отряхивать не успевшую впитаться в одежду воду. - Укрылись, называется, - недовольно пробурчал Кузишин. - Наказание сверху, - коротко рассмеялся Валентин. - За то, что в воскресенье работаем. Очевидно, Всевышний не хочет, чтобы мы раскрыли это дело. - Бог за порядок, он против милиции не пойдет, - улыбнулся автоинспектор, но тут же добавил серьезно, - только скажу откровенно, товарищ майор, непростое это дело. Очень даже непростое. Я сам когда-то в розыске работал и понимаю, что почем. Он замолчал, явно ожидая, что майор из областного управления пожелает узнать, как и почему он пришел к такому выводу. Валентин не стал испытывать его терпение - задал вопрос, которого Кузишин ждал. Тот удовлетворенно кивнул и для начала откашлялся: - Капитан Мандзюк и следователь связывают это дело с ограблением. А я так рассуждаю: что грабителя интересует? Деньги, ценности, какая-нибудь дорогая вещь из одежды. Но станет ли он снимать с человека летнюю безрукавку, майку, и, извиняюсь, носки? На мой взгляд, не станет. - Но преступник это сделал. - Сделал, чтобы личность потерпевшего скрыть. По одежде нетрудно определить положение человека в материальном плане, а иногда даже место, где одежда куплена. Какой-то документ: билет, квитанция могут за подкладку завалиться. И преступники учитывали это. А раз так, значит не в ограблении был смысл. Валентин окутался дымом, чтобы скрыть усмешку. Ценные мысли, как правило, приходят задним числом. Это не в укор Кузишину. Но, спустя полтора месяца после происшедшего, к таким мыслям можно прийти без особого напряжения мозговых извилин. Тем более, что тот же "недогадливый" Мандзюк и следователь Кандыба успели добросовестно отработать с полдюжины версий, поначалу суливших многое, но в итоге не давших ничего, кроме недоумения: ни устроители двух свадеб и банкета, ни их многочисленные гости, ни обслуживающий персонал ресторана и кафе не могли утверждать, что знают потерпевшего или хотя бы видели его тем злополучным вечером. Было чему удивляться! - Какую же цель, по-вашему, преследовал преступник? - Убийство, - несколько помедлив, сказал Кузишин. - Этого человека хотели убить. За что и почему, не знаю. Но такое намерение у преступников, на мой взгляд, было. Он говорил так уверенно, что Валентин невольно поежился - как-то не по себе стало. Это при том, что за последнее время такая мысль приходила в голову и ему, но он всякий раз старался найти убедительные возражения. - Считаете, что преступник был не один? Спросил первое, что пришло в голову, не торопясь оспаривать основной тезис - об убийстве, но уже заинтересовавшись ходом мыслей автоинспектора. - Такое дело в одиночку совершать рискованно, - неторопливо и рассудительно начал Кузишин. - Почти рядом сотни людей находились. Теперь другое: потерпевший - мужчина крепкого телосложения и, случись у преступника промашка, он бы непременно оказал сопротивление. Значит, требовалась страховка. И, как я понимаю, такая страховка у преступника была. Удар потерпевшему куда нанесли? - В висок. - Значит, сбоку. Вот вы сейчас со мной разговариваете и стоите ко мне лицом. И это правильно, потому что как иначе к собеседнику станешь. Но если вас кто-нибудь окликнет, допустим, справа, вы повернетесь лицом уже к этому человеку, а ко мне станете левым боком. В этот момент я могу ударить вас предметом, который до того в кармане держал. Тяжелым портсигаром или кастетом. - Понятно, Иван Семенович, - удовлетворенно кивнул Валентин. И тут же спросил, не скрывая интереса, словно Кузишин знал то, о чем ему, Валентину, еще не было известно: - Но если целью преступления, как вы сказали, было убийство, почему в таком случае злоумышленники ограничились одним ударом? - Удар был такой, что потерпевший сразу сознание потерял, - так говорят врачи. Значит, преступники могли считать его мертвым. - Могли. Но тем не менее не оставили его: раздели, поволокли к обрыву. Зачем? - Видимо, вниз хотели сбросить. - В таком случае должны были оставить следы. А таковых при осмотре места происшествия не обнаружили. Так может Мандзюк и следователь плохо искали? - Никак нет! Я присутствовал при этом. Очень тщательно все осмотрели. - За исключением самого потерпевшего, - невесело усмехнулся Валентин. - Не понял, товарищ майор? - Вы сказали, что тело потерпевшего было выпачкано землей. Но в материалах следственного дела этот факт не отражен. Больше того, в протоколе осмотра места происшествия указано, что обочина сплошь покрыта травой. Кстати, густая была трава? - Густая и мокрая, поскольку дождь шел. - Где же, в таком случае, измазался потерпевший? - У самого обрыва, должно быть, там оголенные участки земли имелись. - Допустим. Допустим, что у обрыва он был ранен и раздет. Допустим также, что потерпевший, повинуясь инстинкту самосохранения, в бессознательном состоянии прополз затем несколько метров по направлению к дороге, - практика знает такие случаи. Но опять-таки возникает вопрос о следах потерпевшего и преступников. - На траве, да к тому же в дождь, трудно обнаружить следы, - начал было Кузишин, но затем согласился с Валентином. - Какие-то следы, конечно, должны были остаться. - Стало быть, их не нашли? - Их не было... Понимаю, не вяжется. Мы с Швачко уже думали над этим, но ни к чему серьезному не пришли. - А к несерьезному? - быстро подхватил Валентин. - Швачко пошутил в том смысле, что этот человек вроде бы как с другой планеты прибыл, но неудачно приземлился. - А что, версия не хуже любой другой, - без тени улыбки заметил Валентин. - Но, к сожалению, и она не выдерживает критики. Пришелец не явился бы из глубин Вселенной нагишом - там, говорят, достаточно холодно. К тому же парикмахеры внеземных цивилизаций, по имеющимся у меня сведениям, не стригут клиентов под канадку и не освежают одеколоном "Красная Москва". - Это точно? - усомнился Кузишин. - Так утверждает санитарка, которая брила голову нашему подопечному перед операцией. А потому давайте все-таки исходить из его земного происхождения... Покажите, где обнаружили его! Верхняя площадка Высокого Холма округлым мысом нависает над крутосклонами, чьи карнизы цепко держат, не давая им сползать вниз, корневища густо посаженных деревьев и кустов. Разлившийся перед рестораном и летним кафе асфальт, углубляясь на северо-западе в лесопарк, сужается до размеров дороги-тротуара, по которой даже на "Москвиче" не проедешь без того, чтобы не съехать влево или вправо на обочину, не задеть бортами о ветки кустов, деревьев. Уже через тридцать метров дорога скрывается из виду, если смотреть от летнего кафе, за плотной стеной разросшихся каштанов, а еще через полтора десятков метров, у старого дуба, делает полупетлю, разворачивая машины в обратном направлении. Сразу от дуба начинается уклон... Кузишин проехал еще метров двадцать в обратном направлении и остановил "Москвич". - Здесь, - сказал он, выходя из машины и показывая на кособокую сосенку, что росла на обочине. - Как раз у этой сосны я обнаружил его. А за теми кустами сразу обрыв. Потерпевший лежал ногами к кустам. Поэтому создалось впечатление, что он полз к дороге. А раз так, то решили, что у обрыва он не сам оказался - преступники затащили. - С какой целью? - Чтобы сбросить вниз. Этой стороной Холм к городской товарной станции обращен, прямого сообщения оттуда с верхней площадки нет, почти вкруговую через центр города надо добираться. Так что когда бы мертвое тело обнаружили там внизу, могли б и не догадаться, что оно сброшено отсюда. - Почему же, в таком случае, преступники не сбросили его? - Видно, кто-то помешал им. Валентин задумался. То, о чем поведал сейчас Кузишин, было известно ему. Тем не менее беседа с автоинспектором дала пищу для новых размышлений, которые нахлынули как-то разом, еще не выстраиваясь в строгий ряд, но уже беспокоя какой-то неясной догадкой. - Иван Семенович, какие части тела потерпевшего были испачканы землей? - Весь он был испачкан. Не так чтобы очень, но весь. - У вас не создалось впечатление, что он скатился по уклону? - Была такая мысль, и я высказал ее капитану Мандзюку. Но потерпевший мог скатиться только по обочине, а она - смотрите - сплошь травой покрыта. Валентин бросил взгляд вверх по уклону. Действительно, вся обочина покрыта высокой густой травой. Уклон начинался от старого дуба, чьи выступающие из земли узловатые корни напоминали щупальцы гигантского спрута. Дуб стоял в нескольких метрах от дороги, но его корни-щупальцы упирались в асфальт. И вдруг словно что-то толкнуло Валентина. Не говоря ни слова, он направился к дубу, шагнул с асфальта на узловатые корни, сделал несколько шагов по направлению к обрыву и... замер. От его ног вниз по уклону, параллельно обрыву, шла неширокая глинистая прогалина, обрывающаяся на полпути к кособокой сосне. Валентин наклонился, коснулся рукой мокрой глины и едва не упал - подошвы туфель заскользили по корням. - Осторожней, товарищ майор! - крикнул подоспевший Кузишин. - Там сразу обрыв. - Прогалина, - словно оправдываясь, сказал Валентин и, как бы в доказательство своих слов, показал испачканную глиной ладонь. - Да-а! - удивленно протянул Кузишин, разглядывая глину на руке майора. - Похожа на ту, которой потерпевший испачкался. Не заметили при осмотре эту прогалину - ни от сосны, ни с асфальта ее не видно. А оно, значит, вон как было. Одно только не пойму: почему они его по обочине скатили? Возможно, не разобрались в темноте и посчитали, что в овраг бросают? - Или уронили впопыхах, - подхватил Валентин. - Ноша была не легкой, а корни скользили под ногами. - И все-таки действовали продуманно, - несколько помедлив, сказал Кузишин. - Продуманно, - согласился Валентин. - А чтобы обдумать все, надо определенное время. Таким временем здесь - на месте, преступники не располагали. - Это вы верно заметили, - уважительно посмотрел на него Кузишин. Что же теперь получается? Вопрос был риторическим, на него можно было либо не отвечать, либо отделаться неопределенным ответом - новый факт требовал осмысливания. Тем не менее Валентин решил ответить незамедлительно и не столько Кузишину, сколько самому себе. - Надо думать, что потерпевший был ранен и раздет не здесь, а в другом месте. Сюда его привезли уже в бессознательном состоянии, считая мертвым, с целью избавиться от трупа и заодно замести следы. - Считаете? - Предполагаю, - осторожно начал Валентин, но тут же добавил решительнее, - а если вы со Швачко припомните все автомобили, которые тем вечером встречались вам по пути от улицы Богдана Хмельницкого до ресторана, то не исключено, что это предположение перерастет в уверенность. - Сложно будет, больше месяца прошло, - озабоченно покачал головой Кузишин. - И все-таки постарайтесь вспомнить. Заодно расспросите водителей, которые были тогда у ресторана, возможно, кто-то из них обратил внимание на машину, что ездила здесь без видимой надобности. При этом исходите из того, что преступник или его сообщник, находясь за рулем, нервничал, или, по меньшей мере, торопился - в машине была опасная поклажа, от которой следовало поскорее избавиться... Давать советы легче всего. Месяц назад, перед уходом в отпуск, Валентин познакомился с этим делом. К тому времени оно уже успело вырасти до внушительного тома. Алексей Мандзюк и следователь Кандыба признались ему, что зашли в тупик. Отметив ряд упущений следственно-оперативной группы Шевченковского райотдела, Валентин дал несколько, как ему казалось тогда, дельных советов, на том успокоился. По возвращении из отпуска, он убедился, что Мандзюк и Кандыба сделали все, что он посоветовал, но дело не сдвинулось с мертвой точки. И вот теперь начальник областного уголовного розыска полковник Билякевич передал это дело ему, Валентину Ляшенко. Все правильно: если ты такой умный, то бери и делай, как знаешь. Но за результат спрос будет уже с тебя. А дело такое, что хуже не придумаешь. Не беда, что до сих пор не установлен субъект преступления, сиречь преступник. Если бы таковых находили тотчас же, да еще с уликами под мышкой, сотрудникам уголовного розыска можно было бы переходить на сокращенный рабочий день. Не страшно и то, что неясны цели и мотивы преступления - со временем прояснятся. Несколько хуже, что пострадавший ничем не может помочь следствию. Но и это не трагедия - лишь бы не мешал. А он мешает! Самим фактом своего необычного существования мешает: человек не знает, кто он и откуда, что с ним произошло и почему. Врачи объясняют это амнезией - потерей памяти. Но как объяснить тот неординарный факт, что этот человек появился в их городе словно из небытия? Ясности не внесли ни показ возможным свидетелям рисованного портрета неизвестного (до операции его не успели сфотографировать, а послеоперационные снимки могли сбить с толку свидетелей), ни ответом центра информации Министерства внутренних дел - ранее этот человек не вступал в конфликт с уголовным законом; ни - что самое удивительное! переписка с отделом розыска лиц, пропавших без вести. Вот и думай, как быть и что делать оперативно-розыскной группе, которую ты отныне возглавляешь...3
"...Я чувствую себя неплохо. Боли в виске, головокружения и слабость прошли, рана затянулась, теперь ее закрывает лишь небольшой кусочек пластыря. Сплю нормально, на аппетит не жалуюсь, настроение хорошее, я всем доволен. Меня перевели в двухместную палату, разрешили выходить в холл, смотреть телевизор. На процедуры, в столовую тоже хожу самостоятельно и не путаю, как это было вначале, этажи, палаты, имена санитарок, медсестер. Поэтому не понимаю, чем вызван повышенный интерес медиков к моему заболеванию: меня чуть ли не ежедневно показывают разным консультантам, врачам из других отделений, студентам. Мой лечащий врач Василий Романович говорит, что у меня редко встречающееся заболевание потеря памяти о прошлом. Он опытный врач, кандидат наук и ему, конечно, видней. Я действительно мало что помню из своего прошлого. Но это не значит, что я начисто все позабыл и смотрю на белый свет глазами новорожденного. То, что произошло со мной с того момента, когда я пришел в сознание, помню отлично. Да и не все, что было раньше, выветрилось с головы: я не поразился рентгеновскому аппарату, телевизору в холле, а увидев по первой программе встречу футбольных команд высшей лиги, сразу поинтересовался счетом. Не удивили меня ни электробритва сопалатника, ни выщипанные брови санитарки Зои, ни золотые зубы Василия Романовича, ни аквариум с меченосцами в кабинете заведующего отделением - все это я нашел в порядке вещей. И руками, между прочим, не ем - довольно ловко орудую ложкой, вилкой. Читать тоже не разучился. Тем не менее и консультанты, и врачи из других отделений, не говоря уже о студентах, каждый раз засыпают меня поистине идиотскими вопросами и удивляются, получив исчерпывающие ответы на них. У меня такое впечатление, что все они, за редким исключением, не верят в мое здравомыслие, видимо, это противоречит их науке. Но я здоров. Уже здоров! Если, конечно, не считать утраты той части памяти, которая относится к прошлому. Однако я не испытываю больших неудобств от этой потери, а те пробелы в памяти, что еще ставят меня в неравное положение с окружающими (первое время я плохо запоминал цифры, имена собственные), постепенно восстанавливаю с помощью тех же медиков. Особенно усердствует в этом палатная медсестра Лилия Евгеньевна, которую я уже осмеливаюсь называть Лилечкой. Лилечка не просто добрая, милая девушка, она - само чудо! Становится светлей, когда она заходит в палату, в чем нет никакого преувеличения: ее белоснежный халат, такая же шапочка, золотистая кожа лица, светло-серые глаза сами по себе излучают свет. Если бы не Лилечка, я не поправился бы столь быстро, не пристрастился к книгам, к которым первое время в больнице был равнодушен. Едва я начал поправляться, она заставила меня читать. Впрочем, я употребил не то слово - Лилечка пожелала, чтобы я читал, а затем рассказывал ей о прочитанном. Этого было достаточно. Также получилось с физзарядкой, водными процедурами, которых я поначалу избегал (теперь сам не могу понять почему). Мой сопалатник - Кирилл Самсонович - рослый крупный мужчина лет сорока, посмеивается над нами, называя Лилечку Пигмалионом, а меня Галатеей. Признаться, и я не сразу врубился в эту метафору, пришлось проконсультироваться с библиотекаршей и кое-что почитать. А вот Лилечка сразу все поняла, но не обиделась. Мне кажется ей даже приятно, когда ее сравнивают с мифическим скульптором. Но однажды Кирилл Самсонович, чьи шутки не всегда отличаются добротой, сказал: - Не переусердствуйте, Лилия Евгеньевна. Пигмалион изваял свою Галатею из послушного камня, а вы имеете дело с довольно своеобразным материалом, над которым, надо думать, успели потрудиться другие ваятели и уж, конечно, ваятельницы. Лилечка нахмурилась, потемнела лицом, и я готов был убить Кирилла Самсоновича, хотя, признаться, не понял, почему она обиделась. Сегодня перед обедом мне разрешили выйти в больничный парк. Я нашел его великолепным: тенистые аллеи, ухоженные газоны, красочные клумбы, беседки, фонтан. Мне показалось, что когда-то я уже здесь был. Доверясь этому чувству, свернул в боковую аллею, уверенный в том, что через полсотни шагов увижу лестницу, спускающуюся к морю и... уперся в глухой забор. Кирилл Самсонович, который шел следом, утверждает, что я пытался перелезть через забор. Но это было не так: просто я растерялся, увидев перед собой забор, возможно даже подпрыгнул, чтобы разглядеть, что за ним, не больше. Но вот что странно: всю вторую половину дня мне было как-то не по себе... Кирилл Самсонович - неплохой человек: добрый, отзывчивый. Правда, очень нервный и заводной, конфликтует по пустякам с врачами, медсестрами, санитарками. Только я его не раздражаю, хотя и со мной он бывает резок, даже груб. Но я не обижаюсь: человек занимал большое положение - был начальником строительного управления, считался передовиком, новатором, его прочили в управляющие трестом, но потом контрольные органы обнаружили факты приписок, разбазаривания материалов, и его освободили от должности. В результате - реактивный невроз. Врачи считают причиной невроза потерю должности. А я не понимаю, как можно столь остро реагировать, губить здоровье из-за такого. Ну, подумаешь - отстранили от руководства! Невелика беда: будет трудиться на работе попроще и к тому же нервы сбережет. Но если говорить строго, то его еще мало наказали. Ведь это черт знает что, расходовать строго фондируемые материалы на неплановые объекты! Я не знаю, как он выкручивался с цементом, стройматериалами, но уложить в сооружаемый хозспособом бассейн пять тонн арматурного железа - преступление. Ему на плановые объекты это железо занарядили, да и то, видимо, по сильно урезанным нормативам, а он его в плавательный бассейн швырнул. Мои рассуждения выводят Кирилла Самсоновича из себя - он начинает волноваться, кричать, дескать, я ничего не понимаю из-за своей некомпетентности и ограниченности кругозора. Потом остывает, извиняется. Я охотно прощаю его и даже ругаю себя за то, что веду неприятные для него разговоры, на которые он, надо сказать, сам порой напрашивается. Вне этих разговоров Кирилл Самсонович относится ко мне по-товарищески. Вначале называл меня Михаилом Михайловичем (отчество, как и фамилию, мне дали по схожести с именем - Михаил Михайлович Михайлов), но сейчас уже зовет Мишей и говорит "ты". Особо разговорчивым его не назовешь: бывает, целыми днями лежит на кровати, глядит в потолок или делает вид, что читает книгу, забывая при этом переворачивать страницы. Я догадываюсь, что он думает о чем-то важном для него, хотя не представляю, как можно молчать целыми днями. Сам я не могу долго думать: начинает гудеть, кружиться голова. Лучше всего чувствую себя, когда вообще ни о чем не думаю. Не думать ни о чем не так-то просто: когда общаешься с людьми или чем-то занят, мозг начинает работать сам собой. Но я уже приноровился думать недолго. Секрет прост: не следует все усложнять, делать проблему из того, что тебе не по силам решить. Я заметил, что люди портят себе нервы не столько из-за споров, неурядиц, сколько из-за того, что придают этим спорам, неурядицам чрезмерное значение, питая их горючим растревоженного воображения. Недаром, желая успокоить человека, говорят: "Не думай об этом". Так вот, я знаю место, где можно отключиться от всего и ни о чем, абсолютно ни о чем не думать. После того, как мне разрешили прогулки в больничном парке, я отыскал уединенную скамейку в боковой аллее. Эта скамья с высокой, причудливо изогнутой спинкой, на которую можно откинуться, как в шезлонге, прячется за большим дубом в самом конце аллеи. В одну из моих первых прогулок на нее указала Лилечка, которая дежурила в тот вечер и вышла со мной в парк. Мы сели на эту скамейку и, откинувшись, стали смотреть на звезды. Лилечка предложила находить знакомые звезды и радовалась, когда я узнал Большую Медведицу, Полярную звезду, отыскал Марс, а затем Венеру. Это походило на игру, хотя названия звезд я вспоминал с трудом. Но мне было приятно участвовать в игре уже потому, что она доставляла удовольствие Лилечке. Так вот, на этой скамейке я мог отключаться. Кирилл Самсонович тоже старается помочь: занимается со мной математикой, физикой, то покрикивая на меня, то расхваливая на все лады. У него есть на то основания: если алгебру в объеме восьмилетки я одолел за неделю, то с геометрией у меня не все ладится, а когда мы дошли до тригонометрии, я вынужден был признать, что эта наука мне не по силам... Лилечка ушла в отпуск. У меня появилось такое ощущение, словно я лишился чего-то крайне необходимого мне ежедневно, ежечасно. Это чувство угнетает меня: ничего не хочется, ни к чему не тянет, даже телевизор перестал смотреть. Если бы Лилечка не взяла с меня слово прочитать за время ее отпуска "Войну и мир" Толстого и учебник географии, я бы целыми днями валялся на койке. Но я дал слово и держу его - ежедневно одолеваю до сотни страниц. А когда темнеет, выхожу в парк, стараюсь незаметно пробраться к скамейке за большим дубом, чтобы за мной не увязались любители пустых разговоров - таких немало среди больных - откидываюсь на изогнутую спинку и смотрю на звезды - благо ясная сентябрьская погода благоприятствует этому. Но я уже не пытаюсь узнавать звезды - просто смотрю на них. Впрочем, вру - не совсем просто: каждый раз внушаю себе, что рядом сидит Лилечка, и наши устремленные вверх взгляды сходятся где-то на тускло мерцающей россыпи Млечного пути..."4
Старший ординатор неврологического отделения Василий Романович Крыжанский был словоохотлив, но осторожен в выводах. - Процесс стабилизации психики у больного Михайлова не окончен. Физически он здоров. Да и мыслит в общем-то логично. Но это относится к конкретному мышлению - непосредственной реакции мозга на окружающую обстановку, события, контакты. А вот с абстракциями у него плохо. Беда не в том, что ему уже не быть физиком-теоретиком или, скажем, вашим коллегой, - есть немало других, не менее достойных профессий. Но взрослый человек, независимо от профессии, должен уметь анализировать, обобщать, видеть в частном общее и наоборот. Иначе он не сможет претендовать на взрослость. - Значит, дело не только в памяти? - спросил Валентин. - Память и мышление взаимосвязаны. А у Михайлова поражен участок мозга, ведающий так называемой долговременной памятью, которая лежит в основе нашего интеллекта. Образно говоря, его мышление напоминает сейчас ладью без руля и ветрил. Вроде бы ладья как ладья, держится на воде, но куда она приплывет, не угадаешь. - Вы сказали, что процесс стабилизации не окончен. Стало быть, возможно улучшение? - Суть не в том, сумеет или не сумеет Михайлов вспомнить то или иное событие. Хотя вас, как я понимаю, интересует именно это. - Не только, - живо возразил Валентин. - Нам не безразлична и перспектива его полного выздоровления. - Ну, в этой части не буду обнадеживать, - развел руками Крыжанский. - Мы делаем все возможное, но травмированный мозг - это травмированный мозг. - Михайлов отдает себе отчет в своих поступках? - В настоящее время - да. А как будет завтра, не знаю. При амнезии осложнения - не редкость. - Но сейчас он контролирует свое поведение? - Скажу больше: при контактах с врачами, незнакомыми людьми он обдумывает каждое слово. - Свое? - И свое, и обращенное к нему. Я отношу это за счет осознанности своего заболевания, боязни показаться неполноценным. - А может, он боится сказать лишнее, проговориться? - Не думаю. По своему нынешнему характеру Михайлов нескрытен, прямодушен, в чем-то даже наивен. - Вы сказали - нынешнему характеру? - Такие заболевания подчас резко меняют характер. - В какую сторону? - В любую. Валентин машинально достал сигареты, но тут же спрятал - они сидели в кабинете завотделением, где, судя по стерильной белизне занавесок и отсутствию пепельниц, не было принято курить. - Василий Романович, повышенное критическое отношение к себе не сказывается ли на общем состоянии Михайлова? Ведь это ведет к постоянному напряжению нервной системы. - Самоконтроль не подорвал еще ничье здоровье. К тому же Михайлов не всегда напряжен: в общении со своим однопалатником, другими больными, медсестрой Прокопенко, которой он явно симпатизирует, Михайлов держится раскованней. - И откровенней? - Я уже сказал: он не пытается ничего скрывать. За исключением навязчивой идеи, что довлеет над ним. - Тоннель? - И темнота. Он боится темноты, хотя и не говорит об этом. - Это связано с травмой? - Трудный вопрос! Безусловно, травма так или иначе повлияла на эти отклонения. Но думаю, что первооснова была заложена раньше. Человеческая психика обладает специфическим свойством накапливать негативное из пережитого. Если положение нормализуется, негативное теряет остроту, уходит из сознания, изживает себя. Другое дело, когда нервные перегрузки входят в систему - тут и без травмы психика может дать отклонения. - Полагаете, Михайлов испытал такие перегрузки? - Похоже на то. - Василий Романович, каковы особенности поведения, привычек Михайлова? Можно ли по ним судить о его профессии, прошлом образе жизни? - Это уже милицейский вопрос? - улыбнулся Крыжанский. - Других я не задавал. - Видите ли, долговременная память как раз и хранит определенный объем профессиональных знаний, а также связанные с ним навыки, словарный запас. - Все это Михайлов утратил? - Всего он утратить не мог. Помимо основной словесно-логической памяти, человек наделен и другими ее видами. Это память двигательная, зрительная, слуховая, эмоциональная. Но заставить эти памяти говорить вместо основной чрезвычайно трудно. - Но в принципе возможно? - Многое зависит от самого больного, от его желания, воли. - У Михайлова слабая воля? - Я бы этого не сказал. Однако нахлестывать свой мозг не каждый сумеет. Легче уж примириться с неполноценностью, подобрав ей иное приемлемое для самолюбия название, чем изо дня в день заниматься изнуряющими упражнениями. - Такие упражнения болезненны? - Безусловно. Однако дело не только в этом. Возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что Михайлов подсознательно противится какому-то воспоминанию. - Вот как! - насторожился Валентин. - Не связано ли это с событиями, приведшими его в больницу? - То, чему подсознательно противится больной, не мимолетное - нечто такое, что запало в душу давно и накрепко. - Н-да, - озадаченно протянул Валентин. То, что сказал доктор Крыжанский, было весьма любопытно и могло пригодиться впоследствии. Однако сейчас эта информация ничего не давала, и Валентин спросил о другом: - Какое мнение о его прошлом вы составили? - Довольно неопределенное, под которым не берусь расписываться. - И все-таки поделитесь, как говорится, не для протокола. - Михайлов - человек умственного труда. Это безусловно. Пунктуален, усидчив, умеет сосредоточиться, ухватить суть вопроса, при чтении заинтересовавших его книг делает заметки в тетради, с которой не расстается. - Кабинетный работник? - Возможно преподаватель, нормировщик, ревизор - люди этих профессий, обладают названными качествами. По словам его однопалатника - инженера Грищенко, Михайлов разбирается, хотя и неглубоко, в некоторых вопросах строительства, хозяйственного планирования, общей инженерии. Однако делать из этого какой-либо вывод нельзя - у Михайлова туговато с математикой. А что за инженер без математики? Знаком с медицинской терминологией, но опять-таки поверхностно. Так что определить, хотя бы приблизительно, его профессию не берусь. - Характер, привычки, вкусы? - Покладист, добродушен, коммуникабелен. Но порой замыкается, уходит в себя. Любит смотреть по телевизору футбольные матчи, "болеет" за киевское "Динамо". Непривередлив: ест, что подадут. Больничной униформой не тяготится, хотя нельзя сказать, что не следит за собой: ежедневно бреется, тщательно застилает постель, наглаживает пижаму, сам стирает носки, платки. Недавно заштопал прохудившуюся на локтях куртку. Причем очень умело. - Холостяцкие привычки? - В наш эмансипированный век многим женатым мужчинам приходится этим заниматься. Ваша жена штопает вам носки? - Это делает моя мама, - рассеянно улыбнулся Валентин. Он думал над тем, что услышал от Крыжанского, пытаясь извлечь из его наблюдений хоть какую-то пользу для следствия. Но ухватиться было не за что. - Каковы особенности его речи? - предпринял он последнюю попытку. - Говорит правильно, грамотно, но словарный запас ограничен. Одинаково хорошо изъясняется на русском и украинском. Профессиональных, жаргонных словечек не употребляет. - Произношение? - Южное. Оно не всегда улавливается, но когда говорит быстро или спорит, у него пробивается южный акцент. Очевидно, вырос где-то на юге Украины или на Тамани - усвоенная в детстве фонетика неистребима. Это не только мое мнение, но и мнение филологов, с которыми мы консультировались. А если к тому же учесть, что некоторые отрывочные воспоминания Михайлова так или иначе связаны с морем, то можно смело предположить, что его детство прошло у Черного моря. Впрочем, не исключается и Азовское побережье. Предположение, действительно, было смелое, но Валентин считал, что и оно пока ничего не дает следствию. А вот Алексей Мандзюк думал иначе. Зайдя в тупик с версией нападения, он уже второй месяц скрупулезно работал над новой "железной" версией покушение на убийство из ревности. - Это то, что надо - юг, Черное море! - не дослушав Валентина, довольно потер большие огрубевшие ладони Алексей. - Их-то мне и не хватало. Теперь смотри, как играет тот самый нюансик, от которого ты отмахивался всю дорогу. Невеста из Голубого зала в первой половине мая отдыхала по профсоюзной путевке в Одессе. И при том, зафиксируй, одна. А что порой случается на курортах с молодыми скучающими в одиночестве женщинами, известно из литературных источников: он увидел ее и не смог отвести глаз, она не сочла это за дерзость и поначалу неопределенно улыбнулась. Далее - смотри по тексту источников. Но затем появились накладочки: у него оказалась жена, а у нее - жених в родном городе; ему надо было выехать в командировку, а у нее окончилась путевка. И вот она вернулась домой, и то ли назло искусителю из южного города, то ли из раскаяния перед истомившимся женихом, форсировала события. Искуситель узнал, что она выходит замуж, прилетел объясниться. Но не рассчитал и угодил прямехонько на свадьбу. Жених быстро смекнул, в чем тут дело. Остальное решили эмоции, водка и темная ночка. Версия была не столь поверхностной, как это могло показаться. Тяжело раненый Михайлов был обнаружен неподалеку от ресторана, где тем вечером справляли свадьбы. Любви же, особенно на первых ее этапах, нередко сопутствует ревность. А к чему может привести это отнюдь не похвальное чувство под влиянием горячительных напитков, за которыми на свадьбах дело не стоит, знает только случай. В тот вечер играли разом две свадьбы. И внушительное количество гостей приводило в отчаяние не только родителей молодоженов, но и обслуживающий персонал ресторана. Мандзюк был уверен, что в сонме гостей оказался тот, кому не следовало являться на такое торжество. Кого, возможно, даже не приглашали, но кто тем не менее пришел, самим этим фактом создав конфликтную ситуацию. Однако доказать это было нелегко - оперативники прибыли на место происшествия около полуночи, когда часть гостей уже уехала, а с оставшимися можно было вести лишь предварительный разговор. Да и то не со всеми - в финале таких торжеств абсолютно трезвых людей не бывает. Пришлось возвращаться к этим расспросам (и не раз) спустя неделю, месяц, два. А тут еще вдобавок лето - кто в отпуск подался, кто на каникулы. Но Алексей не терял надежды. И вот, три недели назад, при повторном опросе, подружка той невесты, чья свадьба справлялась в Голубом зале, проговорилась о неком инциденте, который произошел в разгар свадьбы, но в силу определенных причин был замечен лишь немногими гостями. Как выяснил Алексей, к упомянутому инциденту были причастны на первом этапе элегантный молодой мужчина, подъехавший к ресторану на красном "Москвиче" в начале одиннадцатого и выбежавшая ему навстречу невеста из Голубого зала; а на втором - жених, имевший в свое время судимость за хулиганство, и друг жениха, устремившиеся за первой парой в лесопарк. По утверждениям свидетелей, разговорить которых удалось не сразу, невеста вскоре вернулась в ресторан с заплаканными глазами, а жених и его друг отсутствовали примерно с полчаса. Когда же вернулись и они, то свидетели заметили на сорочке жениха пятно крови, а на лице друга багровую припухлость, что наплывала на глаза. Все было бы объяснимо и не стоило бы внимания оперативников, если бы через некоторое время объявился или хотя бы дал о себе знать элегантный молодой мужчина. Но тот словно в воду канул. Насторожило Алексея и другое: по словам одной из свидетельниц - другие сочли за лучшее умолчать об этом - в тот вечер невеста прослышав о тяжело раненном мужчине, которого нашли на "петле", лишилась чувств. Сама невеста (к моменту беседы с Мандзюком и следователем она была уже молодой женой) ничего толком не объяснила, плакала, ломала руки, просила не позорить ее, клятвенно уверяла, что с элегантным мужчиной у нее ничего не было ни тогда в парке, ни до этого, и что вообще она знает его лишь с виду. Не лучше повел себя на допросах и бывший жених (ныне - молодой муж). Его показания, мягко говоря, не отличались последовательностью, а его заявление (правда, сделанное в запальчивости и только на первом допросе), что он хотел убить соперника, развеяло, казалось бы, последние сомнения. Конечно, следовало допросить и друга жениха - военного моряка, приехавшего тогда, в июне, на побывку. Но искать моряка по морям-океанам дело не скорое. Мандзюк и следователь Кандыба не торопились пускаться в поиски еще и потому, что бывший жених взял всю вину на себя: "Витька этоготипа не бил, так как сразу получил от него прямо в глаз. А после только за глаз держался". Это обстоятельство косвенно подтвердили свидетели. Но не все известные факты укладывались в рамки этой версии. Непонятно было, куда девался красный "Москвич", на котором элегантный мужчина подкатил к ресторану, и зачем было жениху раздевать поверженного соперника, тащить к обрыву. Кстати, этот последний факт парень категорически отрицал. Не вязалось с его показаниями и заключение судебных медиков по делу о покушении на Михайлова: они утверждали, что потерпевшему был нанесен только один удар, тогда как бывший жених настаивал на множестве ударов. И вот, чтобы как-то свести концы с концами, Мандзюк настоял на опознании бывшей невесты Михайловым. Вопрос был не так-то прост и имел как юридический, так и медицинский аспекты. Врачи согласились: конечно, надо попробовать. При этом они преследовали не только свой, но и Михайлова интерес - если он узнает в бывшей невесте свою знакомую, то тем самым всколыхнет память. Но такая постановка вопроса не устраивала следователя, прокурора - это не опознание, если нет гарантий, что опознающий в состоянии вспомнить. Приняли компромиссное решение: опознание провести, но не оформлять протоколом. При положительном результате применить другие разрешенные законом методы, которые позволили бы окончательно изобличить подозреваемого. Валентину не нравилась эта затея, но Алексей и доктор Крыжанский уговорили его - чем черт не шутит! Вот именно: чем только не шутит черт, когда допускаешь недопустимое. Бывшая невеста была близка к обмороку, когда в комнату, где проводилось опознание, вошел... Валентин. А вот на Михайлова, который вошел следом, даже не взглянула. В свою очередь, Михайлов долго всматривался в трех молодых женщин, две из которых были приглашены в качестве статисток, а затем нерешительно улыбнулся и шагнул к... Симочке Лащук - официантке управленческой столовой. - Мы кажется, знакомы? Вас зовут Таней, да? На этом эксперимент с неофициальным опознанием исчерпал себя. Мандзюк хмурился, но упрямо твердил, что, дескать, бывшая невеста не пожелала, а Михайлов, к сожалению, не смог вспомнить их знакомство. Однако, в его словах не было уверенности. А спустя еще несколько дней в областное управление внутренних дел явился моложавый, приятных манер и внешности мужчина, который отрекомендовался инженером Н. Он сказал Валентину, что пришел по делу взятого под стражу бывшего жениха, и тут же буквально ошарашил присутствующего при этом Алексея: - Товарищи начальники, за что держите парня в кутузке? Ну, помахали немного кулаками из-за дамы и разбежались. Подумаешь, делов! Правда, мне вышибли зуб, но и я не остался в долгу. Стоит ли из-за этого сажать человека в тюрьму?.. Сразу не пришел потому, что не знал о вашем интересе к этой довольно тривиальной истории. Потом уехал в отпуск. И вот только вчера вернулся. Вчера же ко мне прибежала Люда и слезно просила выручить ее муженька. При этом, как сами понимаете, она хочет остаться в тени. Валентин не то чтобы не поверил ему, но счел необходимым вызвать бывшую невесту. Едва та переступила порог кабинета, как Н. сказал: - Людочка, только, пожалуйста, не падай в обморок. Я сказал товарищам, что мы уже виделись после той истории. А о характере наших былых отношений они сами догадались. На что бывшая невеста ответила гневно: - Какой же вы непорядочный человек, Константин Андреевич! Валентин покосился на Алексея и не сдержал улыбки - таким насупленным он давно не видел товарища. Но как ни огорчен был Алексей Мандзюк выявившейся несостоятельностью своей новой версии, именно он задал инженеру Н. тот самый вопрос, который придал этому почти анекдотическому эпизоду иное звучание. Протоколируя показания Н. - как-никак драка в лесопарке тем вечером имела место - Алексей, как бы между прочим, спросил о красном "Москвиче", на котором инженер подъехал к ресторану. - Не вспоминайте, товарищ капитан! - сокрушенно вздохнул Н. - Машина не моя - товарища. Правда, у меня есть доверенность на ее вождение. Но лучше бы я туда пешком пришел! - В аварию угодили? - Я никогда не допускал аварий! - обиделся Н. - К вашему сведению, еще не так давно я профессионально шоферил, первый класс имел, в ралли участвовал! А тому кретину, из-за которого я тогда чуть было с холма не спикировал, и велосипедом управлять противопоказано. - Нельзя ли поподробнее? - Я уже восвояси направлялся. Настроение, естественно, не из лучших было: и даму сердца увели, и зуб вышибли. Но на управление машиной это никоим образом не сказалось: я и в бессознательном состоянии правил движения не нарушу. В общем, развернулся на "петле" и уже в обратном направлении мимо ресторана следую. А тут, откуда ни возьмись, этот болван поперек встречного движения разворачивается - мне наперерез. Хорошо, что я среагировал - выскочил на обочину, чуть было с обрыва не загремел. Скажете - мгновение. Так вот, после этого мгновения у меня виски седеть начали. - В котором часу это произошло? - поинтересовался Валентин. - Около одиннадцати. - Что за машина была? - "Лада" последней модели. - Номер? - Номерные знаки были заляпаны грязью. Цвет машины салатный. - Сколько человек в ней находилось? - Кажется, двое. Откровенно говоря, я не стал объясняться с этими кретинами - был уже сыт объяснениями по горло. - Только поэтому не стали объясняться? - В основном. Но если совсем начистоту, то признаюсь: выпил перед этим. После перепалки зашел в бар, принял сто граммов для успокоения нервной системы. Ну, а в таком состоянии затевать скандал нельзя. - Значит, сразу уехали? - Только вырулил обратно на асфальт, газанул, чтобы поскорее убраться с этого клятого Холма! - А салатная "Лада"? - Ее застопорили таксисты, чьи машины тоже едва не пострадали... Это была та самая ниточка, в реальность которой Валентин тотчас же поверил. Но куда и к кому она приведет, он еще не мог знать...5
"Санитарка Зоя - полная крашеная блондинка лет тридцати пяти с нарисованными карандашом бровями, считает меня подозрительной личностью. Дважды я заставал ее копающейся в моей тумбочке, в которой, кроме дорожного несессера, подаренного мне Василием Романовичем, да нескольких квадратиков оставшегося после ужинов печенья, ничего нет. По словам Кирилла Самсоновича, с которым Зоя как-то поделилась своими мыслями, она подозревает, что я - либо скрывающийся от уплаты алиментов многоженец, либо бежавший из-под следствия мошенник. Но в любом случае убеждена, что я - симулянт. В какой-то мере ее можно понять: рассуждаю я здраво, моя нынешняя память не страдает изъянами, веду себя спокойно, без особой нужды не беспокою медперсонал. А вот тем не менее... Ко всему, ее, видимо, настораживают частые визиты опекающего меня со стороны официальных властей майора милиции Валентина Георгиевича Ляшенко, с которым у меня установились хорошие отношения. Валентин Георгиевич - умница, наблюдательный человек. Он обратил внимание на подозрительность Зои и, как я догадываюсь, объяснился с ней по этому поводу. Но это ничего не изменило, за исключением того, что теперь Зоя считает меня еще и ябедой. Не возьму в толк, почему она невзлюбила меня - ничего плохого я ей не сделал... Вчера я забрел в больничный гараж и все свое прогулочное время проторчал в боксах, помогая водителям в ремонте автомобилей - оказывается, я неплохо разбираюсь в этом. Познакомился с милейшим человеком заведующим гаражом Николаем Федосеевичем. Понаблюдав за моими усилиями по подгонке клапанов старого уазовского двигателя, Николай Федосеевич сказал, что у меня, как минимум, третий слесарный разряд, и тут же предложил, коли у меня нет других планов, после выписки из больницы поработать в гараже. Я согласился - сколько себя помню, меня всегда тянуло к автомобилям. ...Моя память выделывает довольно странные кренделя: порой я вспоминаю из школьного курса то, о чем нормальный взрослый человек вправе не помнить, а вместе с тем не узнаю иные предметы, вещи, которые известны даже детям. Незадолго до Лилечкиного отпуска, мы гуляли по парку. Ее заинтересовал растущий на газоне папоротник. Неожиданно для себя я прочитал ей целую лекцию о папоротниках и их распространении в мезозойскую эру. Лилечка была потрясена моей эрудицией и тут же предложила игру на узнавание деревьев, птиц - благо в парке имеется достаточное разнообразие тех и других. К ее удовольствию, я узнал акацию, лиственницу, орех, плакучую иву, а из птиц - ласточку, синицу. Но вместе с тем не смог отличить сосну от ели, не узнал в вороне ворону, удивился красногрудому снегирю... Я помню детство. Разумеется, не все, но достаточно, чтобы иметь о нем представление, школьные годы примерно до восьмого класса, книги, которые прочитал тогда. Правда, не все: случается прочитать чуть ли не до конца ту или иную приглянувшуюся мне книжку и лишь затем начинаю осознавать, что уже читал ее когда-то. С именами собственными и того хуже - до сих пор не могу вспомнить свою настоящую фамилию... На левом плече и предплечье у меня шрам, расходящийся у локтевого сгиба. Шрам неглубок и едва заметен. Судя по всему, я был ранен много лет назад. Один из врачей высказал предположение, что рану мне нанесли в драке, и, видимо, ножом. Но я что-то не помню такого. - Ты счастливый человек, Миша, - как-то сказал Кирилл Самсонович, вместе со своим прошлым ты позабыл свои обиды, промахи, неудачи. Тебя не тяготит груз постылых связей, перегоревших чувств, неоплаченных долгов... Возможно, он прав, но не во всем. Прошлое и память о нем не равнозначны - это я уже знаю наверняка. Можно позабыть, где и кем ты работал, но если твои руки обучены ремеслу, они не забудут его. Вчера в гараже я разобрал задний мост ЗИЛа, хотя поначалу не мог сообразить, с чего начать. А вот руки сообразили сами. А сегодня утром, едва проснулся, казалось бы ни с того ни с сего вспомнил ремонтные мастерские большого автохозяйства, себя - подростка-пэтэушника в перепачканном машинным маслом комбинезоне, горбоносого мастера Савельича, который за что-то отчитывал меня. Воспоминание было ярким, но отрывочным, как на рекламном киноролике. Попытка прокрутить ленту памяти дальше ни к чему не привела, если не считать разболевшейся головы. - Не мучай себя, - говорит Кирилл Самсонович. - Это должно прийти само собой. Василий Романович тоже советует не перенапрягать мозг. Но, по-моему, он не верит в возможность моего полного выздоровления. Сомневается и в том, что я был слесарем. - Посмотрите на свои руки, вслушайтесь в свою речь. Это руки и речь интеллигента. Если вы работали слесарем, то недолго. Потом, очевидно, где-то учились, приобрели другую профессию, с которой была связана ваша дальнейшая жизнь. Когда вам снова придет охота будить память, постарайтесь припомнить что-нибудь из этого периода. Совет разумный, но кажется невыполнимым: парнишка-пэтэушник - предел моих нынешних возможностей. Однако я, сегодняшний, уже не тот парнишка, и Василий Романович прав: что-то, несомненно, было приобретено, а что-то утрачено за эти канувшие в забвение годы. - Не переживай, - успокаивает меня Кирилл Самсонович. - Злодеем за это время ты не стал, иначе бы милиция уже вычислила твою первую фамилию. И о своей интеллигентной профессии не горюй: то не профессия, если ее одним ударом вышибить смогли; благодари Бога и больничного завгара за то, что они рабочую профессию тебе не дали позабыть. С ней ты всегда на кусок хлеба с маслом и кружку пива заработаешь, да еще на отпуск сможешь отложить. А там время покажет... Мне выдали пособие - двести рублей, на которые я купил темно-серый костюм и туфли. Вернее, сказать, эти вещи мне купили, потому что в универмаг со мной поехали завгар Николай Федосеевич и его жена. Николай Федосеевич выбрал фасон, его жена цвет, я при этом только присутствовал. Но я не в претензии к консультантам: костюм словно сшит на меня и цвет нравится. И хотя я надевал его всего дважды, когда купил и на следующий день, когда фотографировался, меня уже тешит сознание, что отныне я в любой момент могу сбросить порядком осточертевшую больничную пижаму и облачиться в свой костюм и подаренную Николаем Федосеевичем кремовую рубашку. Хотя, к сожалению, перспектива выписки из больницы еще весьма неопределенна - что-то не устраивает врачей в моей психике. Озабочен и майор Валентин Георгиевич, который навещает меня. Он признался, что мое необычное положение поставило в тупик людей, ведающих выдачей паспортов - они не знают, как удостоверить мою личность. Скорее всего, мне выдадут временное удостоверение. Временное, так временное - меня это, как говорит Зоя, абсолютно не колышет. А вот просьба Валентина Георгиевича дать согласие на показ моей фотографии по телевидению, смутила меня. Сколько помню себя, в знаменитости меня не тянуло, а тут еще такие обстоятельства. Но он уговорил. Я не видел этой передачи, был на процедурах, но многие видели. Зоя утверждает, что на фотографии у меня самодовольный и глуповатый вид. Больные из соседних палат при моем появлении теперь как-то разом умолкают, многозначительно переглядываются. Василий Романович стал по-особому вежлив со мной. И только Кирилл Самсонович делает вид, будто ничего из ряда вон выходящего не произошло. Даже пошутил, что на фотографии я похож на молодого ученого, успешно защитившего диссертацию. Но мне кажется, что у человека, только что защитившего диссертацию, еще нет оснований для самодовольства - а вдруг ВАК не утвердит? Я не улыбнулся шутке еще и потому, что как-то не по себе было после этой передачи. Правда, Валентин Георгиевич заверил, что никаких эксцессов, подобных тому, что привел меня в больницу, не будет, поскольку приняты соответствующие меры. Однако не это волнует меня - меньше всего я думаю о том, что на меня могут снова напасть, ведь я никому не мешаю в настоящее время. Дело в другом, Валентин Георгиевич предупредил, что теперь возможны визиты в больницу моих бывших знакомых, и я должен быть готов к ним. А я не особенно жажду этих встреч, вдобавок мною теперь владеет беспокойство, которое не могут ничем объяснить. Очевидно, что неопределенность, а тем более ожидание неопределенного, не лучшим образом сказывается на нервах. А сегодня утром произошел случай, который и вовсе выбил меня из колеи. Сразу после завтрака в палату заглянула Зоя. Окинув меня, как обычно, подозрительным взглядом, она сказала, что минут пять назад в больничном парке ее остановил какой-то толстяк в солнцезащитных очках и стал расспрашивать обо мне, называя меня по имени. Я опрометью бросился в парк, оттолкнув пытавшегося удержать меня Кирилла Самсоновича, но никакого толстяка не нашел. Очевидно, Зоя что-то напутала. Тем не менее позвонил Валентину Георгиевичу и рассказал о толстяке. Валентин Георгиевич постарался успокоить меня, согласившись с тем, что Зоя, скорее всего, ошиблась..."6
Однако санитарка не ошиблась: толстяк в солнцезащитных очках действительно появился в тот день в больничном парке между десятью и десятью с половиной часами утра. Судя по тому, что первоначально он околачивался возле третьего корпуса, где помещалось нейрохирургическое отделение и расспрашивал санитара, а затем сестру-хозяйку этого отделения о Михайлове, не называя его по фамилии, а лишь оперируя историей его травмирования, это была первая попытка со стороны получить информацию о пострадавшем. Если к тому же учесть, что попытка была предпринята через два дня после обнародования по местному телевидению фотографии Михайлова с соответствующим обращением областного Управления внутренних дел, то становится ясным, что любопытство толстяка не было праздным. Появившись возле пятого корпуса, толстяк уже знал, к кому и с каким вопросом обратиться. К сожалению, санитарка Стеценко насторожилась только спустя какое-то время, а поначалу выложила все, что толстяку требовалось. Но и толстяк допустил, по меньшей мере две оплошности: слишком долго околачивался в больничном парке, переходил от корпуса к корпусу, разговаривал с двумя женщинами и одним мужчиной из обслуживающего персонала - и в результате его словесный портрет был составлен довольно точно. Другая его ошибка заключалась в том, что к больничному городку он приехал на легковой машине, которой управлял сам. И хотя пожилая привратница не обратила внимания ни на номер, ни на марку машины, тем не менее после беседы с ней инспектор Глушицкий пришел к выводу, что машина была класса "Москвич" или "Жигули". Автомобилем того же класса интересовался и капитан Мандзюк. Показания инженера Н. во многом облегчили его задачу и уже вскоре он отыскал водителей такси Кочугурного и Воронина, которые не только подтвердили показания Н., но и дополнили их существенными деталями. Кочугурный и Воронин вспомнили, что вечером четвертого июня около двадцати трех часов к ресторану "Высокий Холм" подкатила "Лада" светло-зеленого цвета с заляпанными грязью номерами. Шел дождь, и факт загрязнения номерных знаков сам по себе, возможно, не привлек внимания, если б водитель "Лады" не нарушил правил движения. Увидев у ресторана скопление машин, он вначале затормозил на проезжей части - похоже растерялся, а затем пытался развернуть "Ладу" в обратном направлении, при этом едва не столкнувшись с проезжающим мимо красным "Москвичем". А затем, когда сдал назад - с машиной Кочугурного. Реакция Кочугурного и его товарища Воронина была соответствующей. Водитель "Лады" не оправдывался, за него это сделал пассажир - мужчина средних лет, который вышел из машины и не только принес Кочугурному извинения, но и угостил его импортной сигаретой и рассказал смешной анекдот. Велев водителю "Лады" припарковаться, мужчина вошел в ресторан, но вскоре вернулся. Этого человека Кочугурный и Воронин хорошо запомнили: выше среднего роста, плотный, с аккуратно подстриженными светлыми усами, в модном костюме. А вот на водителя "Лады" не обратили внимания, хотя из-за его оплошности едва не произошла авария. Правда, Кочугурному показалось, что водитель был в очках и надвинутом на лоб берете, но точно утверждать не брался. После того, как "светлоусый" вернулся в машину, "Лада" двинулась по направлению к "петле" и скрылась в темноте. Как и когда она выехала с верхней площадки Высокого Холма, Кочугурный и Воронин не могли сказать. Более подробно о "светлоусом" рассказал швейцар ресторана Молибога, который еще в июне упомянул о нем в беседе с инспектором Глушицким. Упоминание было сделано вскользь, и потому Глушицкий пропустил его мимо ушей - не тем тогда интересовались. На этот раз с Молибогой беседовали Ляшенко и Мандзюк - все-таки больше двух месяцев прошло, надо помочь человеку вспомнить. Но помогать Молибоге не пришлось. - Ему около сорока. Моего роста, а у меня метр семьдесят пять. И комплекция приблизительно моя. Но в движениях поживее, конечно. Одет был в фирменный темно-серый блейзер, голубые брюки. О рубашке не скажу, не помню. Но на руке было золотое кольцо, это точно. Голос густой, хорошо поставленный. - У вас отличная память, - заметил Валентин. - Не жалуюсь пока. Профессия такая, что без памяти не обойтись. Люди у нас разные бывают и на лбу у них не написано, приличные они или шантрапа. А мы - швейцары - за порядок отвечаем. Вот и смотришь на посетителя, как только заходит, чтобы понять, порядочно ли он себя после выпивки поведет или это тот самый, который прошлым летом зеркало в туалете разбил. - А если впервые человек пришел? - спросил Алексей. - Тоже определить надо, каков он: по поведению, разговору. - Не ошибаетесь? - Редко. Опыт имею, больше двадцати лет при своей должности состою. - Солидный стаж, - подхватил Валентин. - А вот интересно, как вы определили "светлоусого", порядочный он или нет? К слову, раньше его видели? - Видел впервые. Но скажу так: человек он к ресторанам привыкший. Это я по его поведению заключил. "Любезным" меня назвал, но на "ты". "Послушай, любезный!" Старое это обращение, и можно сказать пренебрежительное по отношению к обслуживающему персоналу. Но я не обиделся, потому как на другом тогда внимание сосредоточил. Вел он себя нервно: зашел в вестибюль быстрой походкой, потом остановился, начал головой по сторонам вертеть, будто кого искал. Но когда я подошел, сразу о местах в зале спросил. - Об одном или двух местах? - Не помню. Но, как понимаю, о местах он только для разговору интересовался. В тот вечер посетителей было много: две свадьбы и банкет в залах не протолкнуться. Посетители танцевать в вестибюль выходили. Привыкшему к ресторанам человеку сразу должно быть понятно, что свободных мест нет. А он спросил, значит, только так, для разговору. Я еще, помнится, испытать его решил, сказав, что место можно найти. Внизу, в баре, действительно были места. Но он будто не расслышал. Потом спросил импортные сигареты, дал пятерку, сдачи не взял. - После этого ушел? - Ушел. Напоследок фразу бросил. Не мне, а так вообще. - Какую фразу? - опередив Валентина, спросил Алексей. - Что это не то заведение, которое ему подходит. - Так и сказал - "заведение"? - Так и сказал. У Валентина не было сомнений, что "светлоусый" имел отношение к покушению. Не сомневался он и в том, что в салатной "Ладе" в тот вечер находился тяжело раненный Михайлов. Смущал лишь предпринятый "светлоусым" демарш в вестибюль ресторана. Что это: ловкий ход опытного преступника или импровизация дилетанта? А вот Алексея эти вопросы не волновали. - Меня больше интересует тот, что оставался в "Ладе". - Почему? - Он не хотел светиться. Это ясно. Значит, опасался, что его могут узнать. - Кто? - Хотя бы швейцар. - Думаешь, он бывал в ресторане до этого? - Уверен. А "светлоусый" - приезжий, это тоже понятно. Он не боялся, что его узнают. - По-твоему, "светлоусый" засветился, чтобы отвлечь внимание от водителя? - Другого объяснения не нахожу. Но вообще похоже, что это у них как бы экспромтом получилось. - Покушение? - И покушение, и попытка замести следы. Очень уж примитивно и наскоро все сделано: заляпанные грязью номера, очки, берет на водителе, и это пижонство в вестибюле. Ни по задумке, ни по исполнению не выдерживает критики. - Пока что выдерживает, - невесело усмехнулся Валентин. - Уже три месяца как выдерживает! - Теперь-то мы их найдем. - Будем надеяться. Поиск был сразу ограничен старой частью города, с трех сторон примыкающей к Высокому Холму. Рассуждали просто: водитель "Лады" хорошо знал Высокий Холм - дорогу на верхнюю площадку, "петлю", место, где можно сбросить жертву. Следовательно, он бывал здесь не раз. В городе есть немало других более или менее укромных мест, где преступники могли осуществить задуманное, не привлекая к себе внимания - парки, лесопарки, пустыри. И если они выбрали Высокий Холм, где риск вызвать стороннее любопытство был достаточно велик, то лишь потому, что Холм находился неподалеку от места совершения преступления. Валентину пришла мысль поездить с Михайловым по прилегающим к Высокому Холму улицам - может что вспомнит. Зрительной памяти подчас достаточно небольшого толчка, чтобы она пробудилась. Врачи не возражали, и Михайлов согласился, раз надо - значит надо. Часа три колесили по узким улочкам, небольшим, стиснутым громадами толстостенных домов, площадям. Михайлов разглядывал дома, средневековые церкви, часовни с любопытством впервые приехавшего в город человека. Валентин уже стал терять надежду, когда на мощеной крупным булыжником площади перед доминиканским собором Михайлов попросил остановить "Волгу", вышел из машины, минуту-другую рассматривал скульптурную композицию на фронтоне собора, потом сказал неуверенно: - В переулке направо должно быть кафе: средневековое здание, но внутренний интерьер современный. Кофе с коньяком и бутерброды. Он не ошибся. Правда, кофе отпускали с ликером, но это было не суть важно. И хотя больше ничего Михайлов не вспомнил, Валентин остался доволен - направление поиска было определено верно...7
"Произошел дикий случай: я подрался с Кириллом Самсоновичем! До сих пор не могу прийти в себя. Он нервничал с самого утра. Был день посещения больных; к нему пришли товарищи по работе, сын и дочь - симпатичные ребятишки. Но он ждал жену, а она не пришла. Причин не знаю, но теперь догадываюсь - они поссорились. Этого я не учел. Хотя поди знай, что так получится. А получилось вот что: из отпуска вернулась Лилечка. Точнее, она вернулась из Крыма, где отдыхала, а отпуск у нее еще не кончился. Но в первый день по приезде, это было накануне драки, отпускница пришла меня проведать. Лилечка загорела и немного похудела, но это я отметил позже, а первые минуты смотрел только в ее глаза, которые светились хорошо знакомым мне лучистым светом. Не помню, о чем мы говорили, и дело тут не в изъянах памяти, просто слова ничего не значили для меня - я вбирал в себя переливающийся свет ее глаз, нежную мелодию голоса, на большее не хватало. Лилечка куда-то торопилась, и это расстроило меня. Заметив мое огорчение, она обещала прийти на следующий день и сдержала слово. Принесла яблоки, домашнее варенье, учебник географии с картами - решила устроить проверочный экзамен. Я не стал возражать, мне было приятно ее внимание. Но едва мы принялись разглядывать контурные карты, как пришел Кирилл Самсонович туча-тучей и сразу начал придираться к Лилечке: брючки ее, видите ли, не понравились - слишком откровенны, вызывающи. Лилечка вспыхнула, чуть было не расплакалась, выбежала из палаты. Я упрекнул его в нетактичности. Он хмыкнул и сказал по адресу Лилечки такое, что я неожиданно для себя взорвался. Подскочил к нему, ударил. Как и куда ударил, не помню, но он, словно мячик, отлетел к стене, вытаращил глаза. Его удивление понять нетрудно: Кирилл Самсонович - мужчина крепкий, почти на голову выше меня и силой не обижен - еще не так давно занимался тяжелой атлетикой. Правда, я тоже не из хлипких, но разница в весовых категориях слишком явная. Он это понимал и, видимо, не столько из желания расквитаться со мной, сколько из потребности рассеять мое заблуждение, пошел на меня бульдозером и... снова отлетел к стене. На этот раз его реакция была другой: он рассмеялся. Насмеявшись, сел на кровать, хлопнул себя по могучим бедрам. - Ну ты молоток, Миша! А я тихоней тебя считал. Спасибо за урок. Мне стало неловко и я что-то пробормотал в свое оправдание. - А вот это уже интеллигентщина из тебя поперла, - поморщился он. Мужчина не должен извиняться за то, что он мужчина. Все было правильно, я задрался и получил свое. Но вообще-то, учти, женщины не стоят того, чтобы из-за них в нокдаун товарища послать... Это только поначалу кажется, что они - ангелы во плоти, а как дашься такому ангелу в руки, пеняй на себя. Твоя Лилия - не исключение: мягко стелет, да жестко спать будет. Я возразил в том смысле, что между мной и Лилечкой ничего такого нет и быть не может - она скромная девушка и не позволит себе флиртовать с больным. - Не смеши, - хмыкнул Кирилл Самсонович. - О том, что она влюблена в тебя, знает вся больница. Думаешь, она случайно в опереточных штанишках сегодня пришла? Как бы не так! Не спорю - девушка она скромная, по нынешним временам даже чересчур. Но если такая девушка является к мужчине в таких брючках, то это уже, как говорится, крик души. Я снова хотел возмутиться - как он смеет говорить такое о Лилечке, но его доброжелательный тон охладил меня. - Бог с ним! Что же касается Лилечки, то те доверительные, теплые отношения, которые сложились между нами, вполне устраивают меня - о других я и не помышляю. Да и она до сих пор не давала повода надеяться на другие отношения - тут уж Кирилл Самсонович дал волю своей необузданной фантазии. ...Николай Федосеевич подарил мне часы. Я не хотел принимать такой подарок, но он силой надел их мне на руку, сказал, что передо мной в неоплатном долгу. Не сомневаюсь в его искренности, но не пойму - хоть убей! - почему он считает себя так обязанным мне. Дело не стоило выеденного яйца. В мастерской при гараже был допотопный токарный станок фантастической металлоемкости - тонн на восемь. Под ним уже прогнулись швеллерные балки, а работал он - хуже нельзя. Я посоветовал предложить его какому-нибудь заводу в обмен на более легкий и, разумеется, более исправный станок. Сказал, что такую махину производственники охотно возьмут и тут же спишут, порежут, поскольку приближается конец квартала и заводам надо - кровь из носу! - выполнить план сдачи металлолома. Николай Федосеевич не поверил, но я оказался прав: стоило ему заикнуться об этом сименсовском монстре какому-то заводскому снабженцу, как на следующий день тот привез не очень новый, но вполне исправный малогабаритный станок, а эту допотопную махину забрал. Вот так появились у меня часы. ...В ночь на субботу мне приснилось, что дядя Петя взял меня на рыбалку. Еще затемно мы вышли в море на лодке с подвесным мотором и к рассвету были у Песчаной косы. Я ловил на спиннинг, дядя Петя - на закидку с грузилом. За три часа я намахался так, что заломило спину, но улов был отменный - полное ведро скумбрии. А дядя Петя поймал только три рыбешки. Но когда вернулись домой, в моем ведре почему-то оказалось всего несколько тощих салак, которых тетя Даша тут же отдала кошкам (их у нее с полдюжины было). Зато дядипетины рыбешки превратились в большущих лобанов, и мы их ели потом целую неделю, да еще квартирантов-курортников угощали. Кирилл Самсонович, которому я рассказал свой сон, неопределенно пожал плечами, но затем спросил, не в Одессе ли это было - там вроде бы есть такая коса, а по дворам полным-полно кошек. Но я не смог удовлетворить его любопытство, поскольку не помню, как назывался город, в котором жили дядя Петя и тетя Даша. Зоя, которая убирала нашу палату и слышала мой рассказ, истолковала сон в том смысле, что я разменял жизнь по мелочам, поскольку крохоборничал и за малым не видел большого. Кирилл Самсонович прикрикнул на нее - дескать, пусть не плетет ерунды. А я подумал, что, возможно, Зоя права, и этот сон как бы раскрывает мою былую сущность. Кирилл Самсонович, очевидно, угадал мои мысли и возразил: - Крохобор - это тот же стяжатель. А стяжательство не в голову, в кровь человеку входит. Никаким кастетом его не выбить. Будь ты в прошлом крохобором, непременно бы чувствовал себя обиженным, обездоленным - ведь вместе с прошлым ты утратил определенные материальные ценности, блага, которые человек так или иначе обретает к тридцати годам. А у тебя такого чувства нет. Это верно - такого чувства я действительно не испытываю. И вообще, когда бы не наш разговор, не подумал бы об этом. Видимо, потеря была не столь велика. Разумеется, это не значит, что мне ничего не надо. Но как будет дальше, загадывать не хочу, а в данный момент у меня есть все необходимое: крыша над головой, кровать, меня кормят, одевают, лечат, и за это я никому ничего не должен. А раньше? Был ли я кому-то должен и за что? Эта нежданно пришедшая мысль почему-то обеспокоила меня. Но как я ни старался докопаться до причины, вызвавшей беспокойство, ничего не получилось только разболелась голова... Я боюсь темноты в замкнутом пространстве. Это чувство необъяснимо по своей натуре я вроде бы не трус: вечерами в больничном парке меня не смущают даже самые темные аллеи. Но в палате, холле, подъезде темнота пугает меня. Сегодня после ужина в нашем корпусе погас свет. Я шел по коридору, который не имеет окон, и темнота обрушилась на меня лавиной. Я оцепенел. Шага не мог сделать, даже перестал дышать. Свет зажегся через полторы-две минуты, но мне показалось, что прошла вечность. Когда я вернулся в палату, Кирилл Самсонович встревожился - по его словам, я был бел, как стена. Прибежала взволнованная Лилечка - сегодня она дежурит, захлопотала вокруг меня: уложила в постель, дала какие-то таблетки, микстуру, присела рядом, стала гладить мою руку, успокаивать, как ребенка. - Не надо об этом думать, - говорила она. - Это плод вашего воображения, навязчивая идея. Больше никогда не думайте об этом. Очень прошу! Я не понял, спросил, что она имеет в виду. Ее милое лицо исказила гримаса отчаяния, отчего родинка-клякса на щеке метнулась к виску, спряталась за каштановой прядкой. - Да поймите же наконец, что за этими страхами в вашем подсознании стоит все тот же злосчастный тоннель! Я вздрогнул - она напомнила о том, о чем я не хотел думать..."8
В старой части города проживает около двухсот тысяч человек, и владельцы легковых автомобилей среди них не исключение. Обнадеживали приметы разыскиваемой машины - "Лада" салатного цвета. Но и таких набралось более сотни. Помог старший лейтенант Кузишин, который обратил внимание оперативников на проживающего на улице Валовой гражданина Бурыхина, у которого имелась "Лада" последней модели. Когда Кузишин показал Мандзюку эту "Ладу" с номерным знаком 72-96, Алексей вежливо осведомился: не страдает ли инспектор дальтонизмом, ибо горчичный цвет, в который была окрашена бурыхинская "Лада", даже отдаленно не напоминала салатный. - Он ее перекрасил, - невозмутимо возразил Кузишин. - Раньше она светло-зеленой была. Это было уже любопытно. А когда выяснилось, что с перекраской новенькой "Лады" ее владелец поспешил после четвертого июня, любопытство переросло в подозрение. Последние сомнения рассеял инспектор Глушицкий: занимаясь розыском толстяка в солнцезащитных очках, он неожиданно для всех вышел на того же гражданина Бурыхина. Казалось бы, дело можно считать раскрытым и остается лишь просить у прокурора санкцию на арест Бурыхина. Но Валентин не торопился к прокурору. И вовсе не потому, что личность гражданина Бурыхина внушала доверие. Напротив, никакого доверия Жора Бурыхин не внушал не только работникам милиции, но даже городским фарцовщикам, с которыми был тесно связан и от которых получил не очень-то красивую кличку - жмот. За свои 29 лет Жора освоил довольно широкий и не менее своеобразный круг профессий - от водителя мусороуборочной машины до экспедитора магазина детских игрушек. Имел судимость за посредничество в спекуляции подержанными автомобилями. Однако в этих и других своих махинациях не отличался размахом - плутовал по мелочам, был на подхвате у более крупных мошенников. "Примитивен, как самовар на твердом топливе, - охарактеризовал его один из фарцовщиков, мнивший себя интеллектуалом. - За рваный рупь может горло человеку перегрызть, а предложи ему долю в солидной сделке, откажется - не его масштаб". Ко всему тому Жора панически боялся своей жены - маленькой тщедушной женщины, которой безропотно отдавал все добытые, как честным, так и нечестным путем деньги; себе оставлял лишь на пиво. Поэтому приходилось только удивляться, на какие доходы он приобрел "Ладу" последней модели - еще полгода назад пределом Жориной мечты был подержанный "Запорожец". Валентин считал, что пока эта несообразность не будет объяснена, беспокоить Жору не следует. Предположение о том, что вечером 4 июня на верхнюю площадку Высокого Холма "Ладу" с номерным знаком 72-96 привел ее официальный владелец, не выдерживало критики - Бурыхин был профессиональным водителем и не допустил бы оплошности, которая была допущена тем, кто сидел за "баранкой" "Лады". К тому же "светлоусый" прикрыл собой водителя, а таких, как Жора, не прикрывают - много чести. Разумеется, это не означало, что оперативники напрочь исключали возможность его участия в покушении - на определенных этапах он мог быть сообщником. И в любом случае - это уж несомненно - был близко знаком с одним из организаторов преступления. А если учесть, что последний мог не только распоряжаться бурыхинской "Ладой" по своему усмотрению, но и послать Жору средь бела дня в небезопасную разведку в городскую больницу, то вывод напрашивался сам собой - во всей этой истории Бурыхин был фигурой второстепенной. Преждевременный арест его мог еще больше усложнить дело. А вот проверить связи Бурыхина, выявить круг его знакомств, следовало незамедлительно. И в первую очередь надо было выяснить, кому фактически принадлежит в прошлом светло-зеленая, а ныне горчичного цвета "Лада" под номерным знаком СВБ 72-96. На решение этой задачи Валентин нацелил всю группу. Однако благодетель Жоры не спешил являть себя взорам оперативников. Было установлено лишь, что из кооперативного гаража на улице Бочной Валовой, где, начиная с марта Бурыхин держал свою "Ладу", последнюю несколько раз брал пожилой мужчина в замшевой куртке, у которого имелись свои ключи от гаража. Но словесный портрет этого мужчины не отличался точностью, и оставалось ждать, когда он снова появится в гараже. А время шло. И надо было уже отчитываться о проделанной работе. Билякевич предупредил Валентина о назначенном на понедельник расширенном оперативном совещании. До понедельника ничего, заслуживающего внимания, не произошло, и Валентин пошел на совещание по существу ни с чем, не считая пухлой папки с оперативными материалами. Настроение у него было не из лучших. На совещании должен был присутствовать майор Шитиков из областного штаба - известный придира, мнящий себя непревзойденным аналитиком; врачи, эксперты-криминалисты, от которых тоже жди каверзных вопросов. Билякевич едва ли будет оберегать Валентина от этих вопросов, нападок Шитикова, сарказма Кривицкой - преехидной бабы из научно-технического отдела. - Сделаем так, - предложил Мандзюк, которого тоже вызвали на совещание. - Ты доложишь дело, а на вопросы отвечу я - как перворуководитель группы. - Посмотрим, как получится, - хмуро буркнул Валентин. Получилось неважно: вначале говорил Валентин, стараясь не реагировать на реплики Шитикова и колкие замечания Кривицкой, потом следователь Кандыба, затем взял слово Шитиков, который раскритиковал все и всех, за ним выступила Кривицкая, потом еще кто-то, и вскоре Валентин перестал понимать, кто и о чем говорит. Помалкивал только Билякевич, от которого надо было ожидать, что он, по меньшей мере, прекратит этот базар. Но Билякевич позволил говорить всем порознь и вместе, сидел, слушал, никого не перебивал, лишь время от времени барабанил пальцами по столу. Только когда снова поднялся Шитиков и разошелся, что называется вовсю, Билякевич предложил ему стакан воды. Вежливо предложил, даже любезно, но Шитиков сразу осекся, сел. Однако молчал недолго и вскоре снова обрушился на Валентина. Больше всего он возмущался тем, что до сих пор не установлена личность потерпевшего. - Как можно при современной технике учета, информации, связи в течение трех месяцев биться над элементарной задачей и в итоге не решить ее - ничего не узнать о человеке, который практически находится в вашем распоряжении! - Пока он находится в распоряжении врачей, - принял на себя удар Мандзюк. - Человек - не иголка: если он появился в нашем городе, значит, в каком-то другом месте его не стало и его безусловно ищут, - не унимался Шитиков. - Не обязательно. - У него должна быть семья. - Тоже не факт: мне известно немало тридцатилетних холостяков, невозмутимо парировал Мандзюк. - А родители? - Их может уже не быть. - Но товарищи, сослуживцы у него были, есть? Или вы считаете его тунеядцем? - Судя по всему, он не привык бездельничать. - Значит, по-вашему, товарищам безразлична его участь? - Я так не думаю. Не исключено, что он находится в отпуске. - Отпуск три с половиной месяца? - У тех, кто работает в отдаленных местностях, отпуск бывает и больше. Я уже не говорю о моряках дальнего плавания, полярниках. - Считаете его полярником? - Считаю, что наш поиск должен вестись в более ограниченном диапазоне. - Как вы определяете этот диапазон? - Есть основания полагать, что Михайлов - фамилия пока условная детские и юношеские годы провел в одном из южных приморских городов. Учился в производственно-техническом училище на автослесаря. После окончания ПТУ, видимо, некоторое время работал по этой специальности. Его отец, который жил в каком-то другом городе, был моряком; мать предположительно - актриса эстрады или цирка. Известно имя его тетки, у которой он воспитывался. - Не слишком ли широк этот диапазон? Плотность населения на юге достаточно высока. И городов там немало. - Скажите, товарищ капитан, - вмешалась Кривицкая, как бы в раздумье поправляя роговые очки. - Почему считаете, что мать условного Михайлова была актрисой цирка? - Она часто разъезжала с какой-то бригадой и у нее был красочный, очевидно, сценический халат. - Но почему именно цирк? - Я не настаиваю на цирке: возможно, эстрада, мюзик-холл, хореографический ансамбль. - Это все подсказал вам халат? - И частые разъезды с бригадой. - Представьте, я тоже часто выезжаю с бригадой, и у меня тоже есть красочный, возможно, даже сценический, халат. Правда, при выездах на места происшествия я не беру его с собой. Раздался смех. Мандзюк насупился. Билякевич забарабанил по столу. Валентин старался держать себя в руках: глядел перед собой на папку с оперативными документами и помалкивал. - Я понимаю, - продолжала Кривицкая, подождав, пока стихнет смех, командировка на юг в разгар бархатного сезона очень заманчива. Но, простите, капитан, за бестактный вопрос: что и кого вы рассчитываете отыскать на юге? Потерпевший находится в нашем городе, преступники - надо думать - тоже. Не проще ли заняться розыском последних, предоставив потерпевшего - как вы сами предложили - заботам врачей? - Дельная мысль! - не выдержал Валентин. - Мы так и поступим. Спасибо за совет, Диана Максимовна. Кривицкая подозрительно посмотрела на него поверх очков. После совещания Билякевич задержал Валентина. - В каких приморских городах в середине шестидесятых годов были производственно-технические училища, которые готовили автослесарей? Валентин перечислил. - Многовато, - покачал головой Билякевич. - Может, мы действительно работаем не в том диапазоне? - В этом деле надо работать во всех диапазонах, - возразил Билякевич. - Покушение на Михайлова не так элементарно, как кажется. За ним стояло что-то посерьезнее, чем бытовая ссора. И в то же время похоже, что к конфликту был причастен человек, хорошо знакомый не только с Михайловым, но и с близкими ему людьми. Именно поэтому преступники впоследствии сумели придумать и преподнести родным и товарищам Михайлова более или менее правдоподобную версию его исчезновения. А это значит, что пока мы не установим личность Михайлова, следствие не выйдет из тупика. К слову, о тупиках и других железнодорожных сооружениях. Я советовался с профессоромПастушенко: он считает, что навязчивая идея Михайлова о каком-то тоннеле имеет под собой реальную почву. Очевидно, в свое время Михайлов пережил сильное нервное потрясения, каким-то образом связанное с железнодорожным тоннелем. Возможно, авария, крушение поезда. - Скорее всего, - согласился Валентин. - Но в каком тоннеле и когда это произошло - вот вопрос! - На вторую часть вопроса можно ответить сразу, если довериться воспоминаниям Михайлова - в ту пору ему было шесть или семь лет. Что же касается конкретного тоннеля, то его придется искать. К счастью, их не так уж много. А если отбросить Дальний Восток, Забайкалье, Сибирь, Алтай, Урал, Север - в столь далекий вояж мать не взяла бы маленького сына, то остаются Карпаты, Крым, Кавказ. - Я понял, Виктор Михайлович. - Да и крушения в тоннелях случаются редко, - продолжал Билякевич. Свяжитесь предварительно с Министерством путей сообщения, это во многом облегчит вашу задачу. А потом поезжайте на место, покопайтесь в архивах. Считаю, что такая командировка не будет лишней даже в разгар бархатного сезона...9
"...Я смущаюсь, когда мои новые знакомые - Кирилл Самсонович, Николай Федосеевич, больные из соседних палат, врачи, медсестры, даже майор Валентин Георгиевич - одаривают меня предметами первой необходимости: от безопасных бритв и туалетных принадлежностей до выходных рубашек и галстуков (галстуки в основном дарит Лилечка). По-моему, большинство из них делают это не только из-за доброты (хотя все они, безусловно, добрые люди), но и из чувства неловкости передо мной, словно они виноваты, что в тридцать лет я должен начинать свою жизнь с нулевого цикла (выражение Кирилла Самсоновича). С нулевого так с нулевого, меня это нисколько не огорчает. Без работы я не останусь, место в общежитии мне обещают, товарищи у меня есть. Чего же еще? Однако находятся люди, которые попрекают меня непротивлением болезни. Тот же Кирилл Самсонович как-то сказал: - То, что у тебя нет претензий к людям, обществу в целом - неплохо, скромность украшает тридцатилетнего мужчину. Но у того же мужчины должны быть определенные претензии к себе, иначе жизнь потеряет смысл. Согласись, что мелкий ремонт автомобилей и созерцание ночного неба на досуге - не предел возможностей гомо сапиенс конца двадцатого столетия. Мне известно, кто такой гомо сапиенс - человек мыслящий. Тем не менее, ирония Кирилла Самсоновича не достигла цели - я не виноват, что мне проломили голову. Не реагирую я и на высказывания Зои о том, что, дескать, многие мужчины, подобно мне, хотели бы забыть об обязанностях по отношению к своим семьям. В том, что у меня была семья, Зоя не сомневается. А я сомневаюсь: сколько помню себя, безответственность не была свойственна мне. Да и к детям я неравнодушен - не могу пройти мимо малыша, непременно остановлюсь, заговорю с ним. И малыши - они появляются здесь в дни посещения больных со своими папами, мамами, бабушками - охотно вступают со мной в контакт. Я не верю, что мог бы позабыть своего ребенка, если бы он у меня был. Это исключено. Совершенно исключено! Однако не все подобного рода упреки мне удается парировать. Недавно профессор-консультант задел меня, что называется, за живое. - Да вы, батенька мой, просто ленитесь или, скорее всего, не хотите покопаться в своей памяти! - расшумелся он. - И не бравируйте травмированным виском! Это безграмотная отговорка. У вас остались миллиарды нервных клеток, которые частично уже взяли на себя функции поврежденного участка. А они могут взять все - есть у них такое свойство. Надо только заставить их. Но первоначально надо заставить себя не лениться! Василий Романович, который присутствовал при этом разговоре, вступился за меня. Но профессор рассердился и на него: - Вы идете по линии наименьшего сопротивления, коллега, - как выдержит организм. Это не лечение! Надо заставить больного бороться с недугом: он должен денно и нощно копаться в двигательной, образной, эмоциональной памяти, в своем подсознании. Потрудитесь объяснить ему, что это такое. А он должен вспоминать, вспоминать, вспоминать. До головной боли, до крика! Ничего, не помрет. Человек не вправе терять свою личность, а ваш больной может, я уверен, обрести ее вновь. Надо только захотеть. Очень захотеть. А он не хочет. И вы потакаете ему в этом. Весь следующий день я не давал покоя своему мозгу. Увы, безрезультатно, если не считать, что вспомнил, как по наущению приехавшей на каникулы дядипетиной племянницы - она была старше, а потому хитрее меня - пытался добыть мед из пчелиного улья и был жестоко наказан за это рассвирепевшими пчелами. Василий Романович прочитал мне целую лекцию о видах памяти, ее физиологической основе, характере запоминаний. Особо отметил эмоциональную память: - Есть память чувств: она ярче, цепче словесно-логической, втолковывал он мне. - Это давно известно. На это обращали внимание не только врачи, но и писатели, поэты. У Пушкина есть такая строка: "О память сердца, ты сильней рассудка памяти печальной..." Очень верно замечено. Так вот, постарайтесь вспомнить какое-либо из пережитых вами в возрасте семнадцати-двадцати лет сильных чувств. Ну, скажем, первое чувство к женщине. Сейчас вам тридцать или что-то около этого. Вы недурны собой и не производите впечатление схимника. Значит, в вашей жизни были женщины. Много или мало - не стану гадать, но одна, несомненно, была. Не могла не быть! И вы любили ее или, по меньшей мере, испытывали к ней влечение. Если вспомнить это чувство, вспомните и ее. А это уже брешь в стене вашего забвения... Какая-то женщина в моей жизни была: я даже помню - правда нечетко, ее руки, губы, черные, как смоль, волосы. Но лица не помню. И голос забыл. Не исключено, что моим воспоминаниям мешает Лилечка. Ее присутствие я ощущаю даже, когда она находится в других палатах. Не знаю, как это назвать - мне достаточно только видеть ее, слышать ее голос, знать, что она где-то поблизости, рядом. А от той женщины мне надо было другое. Но такие вещи не хочется вспоминать. Тем более сейчас, когда я не могу не думать о Лилечке. Есть в этих воспоминаниях нечто безудержное, выключающее разум, и, дай им волю, они нахлынут, завертят меня в круговороте, как уже было когда-то. А главное, Лилечка тут же догадается, о чем я думаю - она читает мои мысли, как раскрытую книгу - и, конечно же, станет презирать... Не знаю, что было бы со мной, если б не Лилечка. Вот уже действительно мой Пигмалион, а вернее - профессор Хиггинс, который, в отличие от Пигмалиона, имел дело с достаточно беспокойным материалом. Впрочем, я стараюсь не доставлять Лилечке огорчений. На днях она принесла альбом репродукций картин известных художников и затеяла очередную игру на узнавание. Я узнал только репинских бурлаков и "Девятый вал" Айвазовского. Лилечка так расстроилась, что я попросил оставить альбом и уже через день сумел назвать еще три картины. Чего это мне стоило, знаю только я. Но мои мучения были вознаграждены с лихвой: Лилечка поцеловала меня. Это был восхитительный поцелуй - щека до сих пор хранит ощущение ее губ. Однако Кирилл Самсонович, от которого я не сумел скрыть свой восторг, охладил мой пыл. - Ты счастливый человек, Миша, - серьезно, даже несколько раздумчиво сказал он. - Потеряв все, ты обрел то, чего очевидно, никогда не имел бесхитростную любовь хорошей девушки. Но смотри, не потеряй и этого. Это легко потерять даже при здравой памяти. Именно при здравой памяти и так называемом трезвом рассудке это теряют легче всего. И словно напророчил. Это произошло в среду. Сразу после завтрака я попрощался с окончившим курс лечения Кириллом Самсоновичем. Он оставил мне свою электробритву и номер домашнего телефона. - Кончай болеть, Миша, - дружески похлопав меня по плечу, сказал он. - Когда выпишешься, обязательно позвони: подумаем, как и куда тебя пристроить. Больничный гараж - не твоя стихия, я уверен. Да и заработки здесь не ахти какие. Тебе с нулевого цикла надо начинать. В общем, подыщем работу поосновательней. Он был в хорошем настроении: за ним пришла жена, да не просто так - с цветами, а накануне ему сообщили, что принято решение о назначении его главным механиком треста. Кирилл Самсонович доволен - все-таки оставили на руководящей работе. А я остался в палате один и, признаться, почувствовал себя неуютно. Мы успели повздорить и подружиться, а теперь он вернулся в свою обычную, но чужую для меня жизнь. Терять товарища нелегко, тем более такого, понимающего тебя с полуслова. Но меня ждал более жестокий удар: около полудня пришла Лилечка и, отведя глаза, сказала, что ее переводят в другое отделение, которое находится в противоположном конце больничного городка, поэтому теперь мы будем видеться редко. Вначале я не понял, потом бросился к ней, схватил за руки, сказал, что никуда ее не отпущу, а она не имеет права уходить из нашего отделения. Ни в каком другом случае я не позволил бы себе такую смелость. У Лилечки навернулись слезы, она попыталась отнять руки, но я удержал их силой. - Михаил Михайлович, поймите это решила не я, но так будет лучше для вас и, видимо, для меня. Пожалуйста, отпустите. Я сказал, что не отпущу ее, потому что без нее не то что выздороветь - дышать не смогу. Это вырвалось как бы само собой, но это была правда так я думал в тот момент: Лилечка негромко ахнула и не то чтобы отпрянула, а как-то осела. Мне показалось, что она падает, я подхватил ее, невольно привлек к себе, ощутил упругость ее тела. И тут произошло неожиданное: она обняла меня, стала целовать и плакать. На меня обрушился ураган чувств, из которых самым сильным было пьянящее восторгом открытие, что Лилечка любит меня. А в том, что я люблю ее, у меня не было ни малейшего сомнения. Я тоже стал целовать ее, на какой-то миг отметив, что делаю это достаточно умело и отнюдь не робко. А еще я хотел сказать, что сделаю все, чтобы быть достойным ее чувства. Но сказать этого не успел, потому что в палату вошла Зоя, всплеснула руками: - Ну вы даете, ребята! Среди бела дня, в палате... Двери хотя бы заперли. Лилечка вскрикнула, вырвалась, убежала. Я взорвался и выложил Зое все, что думал о ней. - Гляди-ка разошелся, нервный! - не столько обиделась, сколько удивилась она. - Какая муха тебя укусила? Это из-за того, что Лильку обжимать помешала? Так тут, между прочим, больничный корпус, а не подворотня. Нашли место, где миловаться! В какой-то мере она была права, и мне стало неловко. Я сказал, что люблю Лилечку. Но Зою трудно было смутить таким признанием. - Люби на здоровье! Только подумай, как это у вас получится. Она девчонка, обижать ее нельзя, сам должен понимать. Значит, без загса не обойдется. А что ты скажешь в загсе? Не помню, женат или не женат? То-то и оно! Думать, между прочим, головой надо, больной Михайлов. Я не нашел что возразить. Такая, казалось бы, обывательская постановка вопроса озадачила меня. Была ли у меня семья? До сих пор я не думал об этом всерьез. Но сейчас этот вопрос встал передо мной со всей неумолимостью. Дело уже не в Лилечке, а вернее, не только в ней. Я понял, что должен вспомнить все, хотя бы для того, чтобы меня не тыкали каждый раз носом в мое прошлое, о котором - и сейчас я отдаю себе в этом отчет - можно думать что угодно. Понял и другое: беспричинные тревоги, что последнее время охватывают меня, порождены не моим заболеванием, как это считает Василий Романович, а беззащитностью спины - я не ведаю, кто и что у меня позади. А я должен знать, иначе мне не отделаться от этого гнетущего чувства. Должен... Должен Лилечке, Валентину Георгиевичу, людям, спасшим мне жизнь. А коли так, я вспомню все, во что бы то ни стало. Я понимал, что это не так-то просто. Но у меня уже был некоторый опыт, обнадеживали уверенность профессора-консультанта, советы Василия Романовича, многое дали мне игры-уроки Лилечки, занятия с Кириллом Самсоновичем. Чего все это стоило, я должен был узнать до утра следующего дня - такой срок я отмерил сам. День и вечер прошли с нулевым результатом. Память словно играла со мной в пятнашки: хлопнув по спине и показав язык, она тут же убегала в темноту. Я гонялся за ней до изнеможения. Потом решил не бегать, а заставить ее прийти ко мне. Для этого надо было сосредоточиться на чем-то одном. Эмоциональная память - память чувств. Она ярче, цепче других памятей... Какие сильные чувства я мог пережить в свое время? Радость, страх, восторг, отчаяние. Эти чувства я познал еще ребенком. А какие страсти волновали меня в семнадцать лет? - Любовь: женщина, которую я любил когда-то. Тонкие ухоженные руки, длинные гибкие пальцы, черные, как ночное море, волосы, чувственные губы... - Ты хочешь слишком много, дружочек. Не забывай, что я замужем... Я неправильно поняла тебя?.. О-ля-ля, что за милая лирика! Это из какого фильма? И что же делает герой затем?.. Ты что, спятил?! А ну отпрянь! Тоже мне, Ален Делон нашелся. А вот дуться не надо - надо соображать: сейчас вернется тетя Даша... Что-то не похоже на любовь. Какая-то интрижка, скорее всего со скучающей квартиранткой-дачницей, из тех, кто летом снимал у тети Даши крытую веранду. ...Длинноногая девчонка, задорно смеясь, бежит по мокрому береговому песку. Босые загорелые до черноты ноги словно парят над белой пеной морского прибоя. Запрокинутая назад голова, развевающаяся по ветру густоволосая грива. - Догоняй, слабосильный! Это из детства. Это я должен помнить. Но я помню только задорный смех, худенькую гибкую спину, крепкие босые ноги и волосы, развевающиеся по ветру, словно пиратский флаг, наподобие того, что мы с Юркой Томчуком сшили из старой дядипетиной форменки. Этот флаг мы поднимали на корме ялика, когда уходили на нем за Песчаную косу. Юрка был Флинтом, я одноглазым Билли Бонсом до тех пор, пока черногривая девчонка не выдала нашей тайны дяде Пете, который не замедлил надрать мне уши... Не то. Явно не то! ...Светловыкрашенная парная гичка стремительно несется по заливу. Ощущение скорости, единение своего тела с несущейся по воде лодкой, упругой силы мышц, свежего плещущего в лицо ветра рождает веселый задор. "Берег, принимай обломки кораблей, разбитых в прах! Не забудут нас потомки - подвиги морских бродяг!" - горланим мы с Юркой, дружно налегая на весла. За моей спиной на носу гички сидит длинноногая, модно подстриженная девица в морском бушлате, любезно одолженном ей дежурным по лодочной станции и тотчас же наброшенном на мокрый купальник. Девица полна чувства собственного превосходства - гичку нам дали только благодаря ей - и снисходит к нам лишь тем, что то и дело подает команды, щеголяя при этом матросскими словечками: - Налегай, салажата! Самый полный! Курс на зюйд. Так держать! Это уже не детство, но еще и не взрослость - для девицы в бушлате, на которую заглядываются крутоплечие парни из яхт-клуба, мы с Юркой не более как салажата - мелюзга. Впрочем, меня девица отмечает особо: время от времени, как бы невзначай, толкает в спину мокрым коленом. То ли задирает, то ли заигрывает - я еще не понял. Но даже если заигрывает, то это только так - от нечего делать. Где уж мне, восьмикласснику, тягаться с молодцеватыми яхтсменами! И все-таки я хочу заглянуть ей в лицо, узнать ее. Но я сижу к ней спиной и изо всех сил работаю веслами - мокрая коленка предупреждает: не смей оглядываться, пожалеешь... Скоро полночь, а я все еще насилую свой мозг. Чертовски болит голова, но это не останавливает меня. Я должен вспомнить или рехнуться - другого выхода нет. Что-то подсказывает, что я на верном пути, надо сделать лишь очередное усилие, и стена забвения пошатнется, а затем рухнет... Мешает свет настольной лампы: режет, щиплет глаза. Надо выключить лампу, что стоит на тумбочке, перебороть страх перед темнотой - обычно лампа горит всю ночь... Почему я боюсь темноты? Не в ней ли осталась моя утраченная память? Значит, в моем прошлом есть нечто такое, о чем я, нынешний, не хочу вспоминать, против чего восстает мое подсознание? И все-таки я не отступлю... Ну вот погашен свет, опущена штора. Темно, хоть глаз выколи. Меня берет оторопь, но я креплюсь, стараюсь не думать о темноте - только о той женщине. Ну, покажись хотя бы раз - я узнаю тебя, черноволосая... - Зачем я тебе? У тебя есть Лилечка - милая девочка, с которой ты смотришь на звезды, - насмешливо звучит манерно растянутый голос. - Я хочу видеть не звезды - тебя. - А как же Лилечка? - Это больничный флирт, не больше. Хочу видеть тебя. - Только меня? - Только. - Что ж, смотри! Черное покрывало волос падает на опущенные плечи, дерзко вздыбленную грудь, втянутый живот... - Насмотрелся? Так вот, будет тебе донкихотствовать, Мишенька, не в такое время живем. Смотри на вещи реально, иначе проглядишь себя настоящего. Ты всегда выдумывал: себя выдумывал, свою любовь ко мне. А выдумкой жить нельзя. Доказательства? Ты уже забыл меня. Разве не так? И себя, выдуманного, забыл. А какой ты настоящий, знаю только я. Но я не скажу тебе, сам разберись... Это она - нет сомнений - женщина, которую я любил. Вот только лица не могу разглядеть - все вижу, а лицо она прячет за покрывалом волос. И голос незнакомый: равнодушный, глухой, не ее это голос. Но главное в другом: по существу я еще ничего не знаю, ничего не вспомнил об этой женщине. А она уже отступает, уходит в темноту... Боль в виске становится невыносимой. Нет сил даже крикнуть, позвать дежурную медсестру. Надо зажечь свет, встать, выйти в коридор. Но я не могу дотянуться до выключателя: темнота стала весомой, тяжелой, она придавила меня, сковала руки, как тогда - в том проклятом тоннеле." ...По узкому, как простенок, коридору неуверенно, наощупь пробирались люди. Натыкаясь в темноте на мальчика, они извинялись или ругали его за то, что он стоит в проходе, путается под ногами. Он бормотал что-то в свое оправдание, втайне надеясь, что кто-нибудь поймет, как страшно и плохо ему сейчас: остановится, погладит его. Но люди проходили мимо, им было не до него. Вагон качнулся, подался вперед, одновременно кренясь набок. Снова послышался скрежет металла, звон стекол, задрожал пол. Мальчик ухватил чью-то ногу, вцепился в нее. Нога была худая, но сильная, она уверенно стояла там, где ее поставили, слегка пружиня крепким обтянутым джинсами бедром. У мальчика затеплилась надежда: его не выругали, не оттолкнули. Правда, ласкать, утешать не стали, но он уже не претендовал на это, лишь бы не быть одному. Высокий, манерно растянутый голос произнес насмешливо: - А ты хорошо сориентировался, дружочек! Несмотря на насмешку, в голосе проскользнули участливые нотки, и это приободрило мальчика. Но страх не пропал, лишь отступил, притаился неподалеку, готовый снова нахлынуть: сжать сердце, подломить коленки. Так продолжалось долго, очень долго - он даже не представляет, сколько времени прошло - час или годы. - Ну что, так и будем стоять, ждать у моря погоды? - наконец не выдержала женщина, чей голос загустел, стал ниже разом на несколько тонов, словно охрип от простуды. Не дождавшись ответа, она шагнула в темноту. Он удержал ее, стал урезонивать, приводя, как ему показалось, достаточно веские доводы. - Не нуди - надоело! - раздраженно перебила женщина. - Я сделаю так, как сказала, потому что так хочу... Ну и катись, тебя никто не держит. Это ты всю жизнь держался за меня! Он возмутился, ударил ее по лицу. На какой-то миг похолодел - как он мог, как посмел ударить ее! Но возмущение было сильнее укора совести и, позабыв о страхе, он пошел в темноту. Назло всем, и, в первую очередь себе. Пошел наугад, поскольку не знал дороги, не знал, куда и зачем идет. И случилось то, что должно было случиться, чего он уже не боялся - даже хотел: на него обрушилась боль, да такая, что не продохнуть - вонзилась в висок, сдавила голову, вытеснила все другие ощущения...10
По данным МПС в интересующий Валентина период в тоннелях не было крушений поездов. Нигде. Валентин дважды разговаривал по телефону с заместителем главного ревизора по безопасности. Тот доказывал, что такие крушения практически исключены, во всяком случае за последнюю четверть века таковых на дорогах страны не было. Валентин позволил усомниться в достоверности этих сведений, что возмутило заместителя главного ревизора. - Вы рассуждаете о вещах, о которых не имеете понятия! О любом крушении, а тем более о крушении пассажирского поезда, нам докладывают незамедлительно. - Очевидно, поймав себя на горячности, он сбавил тон, сказал уже миролюбиво: - "Возможно, имел место сход вагона без тяжелых последствий. О таких сходах нам, чего греха таить, - не всегда докладывают. Тем не менее служебное расследование таких случаев руководители дорог проводят неукоснительно, а материалы расследований всегда можно найти в архивах управления дорог..." В двух управлениях Валентин не нашел и намека на какие-либо происшествия в тоннелях. Ревизоры по безопасности беспрекословно раскладывали перед ним свои архивы - они уже получили соответствующие указания, но загодя пожимали плечами или разводили руками - дескать, такого не было и не могло быть. В управлении третьей дороги в большом южном городе дорожный ревизор - пожилой степенный человек, подобно своим коллегам, положил перед Валентином пожелтевшую от времени архивную папку и так же, как его коллеги, развел руками. Но затем наморщил лоб: - В августе 196... года на Юго-Западном отделении был сход нескольких вагонов пассажирского поезда в тоннеле по причине уширения пути, разглаживая пальцами набежавшие на выпуклый лоб морщины, вспомнил ревизор. - Однако этот случай вряд ли заинтересует вас. Машинист локомотива, помнится, своевременно обнаружил сход, применил экстренное торможение, чем предотвратил возможные тяжелые последствия. Если желаете убедиться, поезжайте в отделение дороги, посмотрите материалы служебного расследования... Валентин так и сделал. Прибыв на место, он первым делом зашел к начальнику линейного отдела транспортной милиции, поделился своими проблемами. Начальник линоотдела озабоченно поскреб затылок: - Своих дел невпроворот, а тут еще вы. Но так и быть, дам вам толкового парня. - И тут же крикнул секретарю: - Тося, лейтенанта Пирумяна ко мне! Пирумян оказался коренастым крепышом с буйной копной смоляных волос и меланхолическим выражением выпуклых темно-карих глаз. Его франтовские в ниточку усики, цветастая рубашка навыпуск и надетые на босу ногу сандалии не внушали доверия. К тому же он сразу попросил называть его Рафиком. Но Валентин решил не спешить с выводами о деловых качествах нового помощника, хотя от предложения подкрепиться для начала в шашлычной отказался наотрез к явному неудовольствию Рафика. В отделении дороги, где Валентин без толку переворошил целый ворох документов, Рафик скромно помалкивал. Не стал он разговорчивей и на улице, пока Валентин не согласился отведать шашлык. Тактика была выбрана правильно: в шашлычной Рафик оживился и, опередив Валентина, заказал шашлыки, вино. - Красное сухое вино - запаха не будет, голова не болит, стоит недорого - предвидя возражение гостя, скороговоркой сказал Рафик. - Его даже космонавтам дают, мне дядюшка Арно говорил. А дядюшка Арно все знает - он кассиром на вертолетной станции работает. Валентин решил не спорить. Запротестовал только, когда после первой порции шашлыка последовала вторая. - Невкусный шашлык? - обеспокоился Рафик. - Вкусный, но... - Никаких но! - закричал Рафик так, словно ему наступили на мозоль. Что такое один шашлык для мужчины? Пфе! Плохо кушаешь - плохо думать будешь. А нам думать надо. - О чем, позвольте вас спросить? - невесело усмехнулся Валентин. Он был уверен, что его снова постигла неудача. - Сейчас скажу, - разливая остатки вина по стаканам, кивнул Рафик. И тут же начал рассуждать: - Кто такой пострадавший на железной дороге? Тот, кого в больницу на "скорой" привезли. А если сам в больницу пришел, ты уже не пострадавший. Подумаешь - синяк, царапина, небольшой перелом, легкое сотрясение! Зачем шум поднимать, в акт записывать? Я правильно говорю?.. Это не я так думаю, это те, кто акты составляет, так думают. Конечно, были пострадавшие! Два вагона с рельсов сошли, вы сами акт читали. А что такое вагону с рельсов в тоннеле сойти? Вы когда-нибудь ходили по тоннелю? Совершенно верно - без пропуска туда не пустят. А я ходил - мне можно без пропуска. Так вот, от габарита поезда до стены тоннеля расстояние меньше метра. Что будет, если в такой тесноте вагон с рельсов сойдет?.. В акте написано: обшивка повреждена, часть оконных стекол разбита, шпалы немножко порезаны. Ерунда, пустяк, текущий ремонт, да? А теперь представьте, как это было. Скорость шестьдесят километров, вагон бьет о стену, стекла летят как брызги семибальной волны, колеса режут шпалы; грохот, скрежет такой, что с ума сойти можно. В вагонах чемоданы падают с верхних полок, горячий чай на платья льется, света нет, люди друг друга толкают. Почему толкают? Они еще не знают, что это небольшой сход, а не крушение, и хотят спасаться. Будут пострадавшие? Не очень сильно, но немного пострадавшие будут? - Должны быть, - с трудом сдерживая улыбку, сказал Валентин. - Значит, в больницу идти надо, архив смотреть, - взмахнул рукой Рафик. В узловой больнице провозились допоздна: то не было главврача, то ушла медрегистратор, ведающая архивом, потом оказалось, что исчез журнал регистрации больных за нужный год. Наконец отыскали этот журнал, стали смотреть регистрацию за интересующие их сутки - 19 августа 196... года. Рафик оказался прав: в этот день одновременно поступило пять человек: трое с ушибами, двое со скрытыми переломами конечностей - пассажиры потерпевшего аварию поезда. Однако мальчика Миши среди них не оказалось. И вообще в тот день дети в больницу не поступали. Валентин уже пал духом, но потом ему пришла мысль просмотреть записи за следующие сутки и - удача! есть мальчик Миша шести с половиной лет из города Приморска. Фамилия Нагорный, отчество и домашний адрес не указаны. И о матери - ни слова. А ведь, если воспоминания условного Михайлова верны, с ним в то время была его мать. - Значит, мама не пострадала, - заключил Рафик. - А домашний адрес в истории болезни найдем. Но истории болезни Михаила Нагорного в архиве не оказалось. - Не надо волноваться, - успокаивал Рафик. - Фамилию теперь знаем. Год рождения, город, где родился, известны. Запросите ЗАГС, паспортный стол, полную биографию получите. - Вы оптимист, Рафик, - невесело улыбнулся Валентин. - Не так-то просто найти человека, который потерял самого себя. - Значит, в Приморск ехать надо, родственников, соседей, товарищей искать. - Да уж придется, - согласился Валентин. В четырнадцать часов к гостинице, где остановился Валентин, должна была прийти дежурная машина, чтобы отвезти его на вертолетную станцию. Но в начале первого в гостиничный номер заглянул Рафик Пирумян. Неуверенно потоптавшись в прихожей, он спросил разрешения войти. - Ты уже вошел, - рассмеялся Валентин, но, увидев, что Рафик ставит на низкий гостиничный столик бутылку вина, нахмурился. - А вот это уже лишнее. Убери. Рафик сосредоточенно глядя перед собой, опустился в кресло и вдруг ударил себя ладонью по лбу. - Вот что убрать надо! Голову эту глупую. Не думала она вчера! - О чем она должна была думать вчера? - насторожился Валентин. - С какой болезнью поступил мальчик Миша в узловую больницу? - Ушибы головы, плеч, нервное потрясение. - Ушибы - пфе! Каждая бабушка лечит ушибы. Нервное потрясение - вот что доктора должны лечить. А нервное отделение в узловой больнице было? Не было такого отделения в узловой больнице! - Думаешь, его перевели в другую больницу? - Зачем думать? Уже знаю - в городскую больницу его перевели. - История болезни сохранилась? - не скрывая нетерпения спросил Валентин. - Найдут. Уже ищут! Но я кое-что получше нашел - женщину, которая помнит мальчика Мишу. - Что за женщина? - удивился и вместе с тем обрадовался Валентин. - Старая женщина, армянка. Она тогда санитаркой в нервном отделении работала. Сейчас уже на пенсии. - Ты с ней виделся, разговаривал? - От нее пришел. Она рядом с больницей живет, здесь недалеко. Если хотите, поведу к ней. Но вы ее не поймете - она по-русски совсем плохо говорит. - Она помнит Мишу? Столько лет прошло, - усомнился Валентин. - Помнит. Говорит: красивый мальчик был, только худенький, слабый и совсем не разговаривал. Потому что нервное потрясение. Эта женщина, очень добрая, привязалась к мальчику: ухаживала за ним, фрукты, печенье ему приносила. Он тоже, когда поправляться стал, привязался к ней. Тетушкой Гоар называл - ее Гоар Аракелянц зовут. А потом за ним родная тетя приехала. - А мать? У него была мать? - Тетушка Гоар говорит - была. Вместе с Мишей в поезде ехала. Но она не пострадала. Два-три раза приходила к нему в больницу, а потом уехала. Деньги тетушке Гоар дала, чтобы та лучше за Мишей смотрела, обещала прислать еще, но не прислала. А потом его родная тетя из Приморска приехала, забрала Мишу. - А мать не приезжала? - Не приезжала. Странно, да? Но о маме нельзя плохо говорить. Мама это мама! Тетушка Гоар говорит: молодая, красивая была, с одним мужем разошлась, за другого еще не вышла. Может, судьбу свою устраивала. - Тетушка Гоар помнит такие детали? - Она с Мишиной тетей очень подружилась. Говорит, совсем другая женщина, чем ее сестра была: серьезная, уважительная к старшим. Она тетушку Гоар за заботу о племяннике очень благодарила, к себе в Приморск в гости приглашала. Тетушка Гоар один раз ездила к ней, очень хорошо принимали. Потом каждый год поздравляли друг друга с праздниками. - Тетушка Гоар помнит фамилию Мишиной тети? - У нее даже адрес в старой тетрадке записан. Вот я переписал. Рафик достал из кармана цветастой рубашки квадратик бумаги: - Приморск, Баркасный переулок, 9, Шевчук Дарья Андреевна. Это была удача! Валентин решил, что в Приморске он все узнает за каких-то полдня. Но не тут-то было. Михаил Нагорный не значился уроженцем Приморска, его тетя - Дарья Андреевна Шевчук умерла двенадцать лет назад, всего на полгода пережив мужа. Своих детей у Шевчуков не было. Дом номер девять в Баркасном переулке снесли вместе с четырьмя соседними домами, а на их месте построили кинотеатр. - Ничего не вечно под луной, - прокомментировал эти факты начальник городского угрозыска - молодцеватый подтянутый майор. - В какой период, по вашим сведениям, Михаил Нагорный жил в Приморске?.. Что ж, будем искать людей, знавших его в ту пору. Но заранее предупреждаю: на исчерпывающую информацию не рассчитывайте. Город наш курортный - порт невелик, сухой док, домостроительный комбинат, автотранспортное предприятие, завод безалкогольных напитков. Ну, естественно, санатории, дома отдыха, пансионаты, организации торговли, бытового обслуживания. Но это объекты сезонного действия: уже в октябре добрая половина из них закрывается. Так что особых перспектив у молодых людей, оканчивающих общеобразовательные школы, здесь нет. После армии многие ребята оседают в других городах, поступают в торгфлот, вербуются на большие стройки. Это я о сверстниках Нагорного речь веду. - Но кто-то из его товарищей, соседей все же остался здесь? Валентин с надеждой посмотрел на майора. - Выясним.11
ИЗ ОБЪЯСНЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ ПРИМОРСКА ПО ПОВОДУ УТОЧНЕНИЯ ЛИЧНОСТИ МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВИЧА НАГОРНОГО (МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА МИХАЙЛОВА). ТОМЧУК - ВРАЧ. Я узнала Михаила Нагорного по фотографии, которую мне показал майор милиции Ляшенко. Миша очень изменился - много лет прошло, но узнать его можно. В детском и подростковом возрасте Миша дружил с моим сыном Юрой, часто бывал у нас. Он был хорошим мальчиком. Ну, конечно, не без того, чтобы не пошалить. Они с Юрой большие выдумщики были: то в пиратов играли, то в мушкетеров... Как-то, расшалившись у нас дома, Миша разбил вазу. Очень расстроился, сказал, что купит такую же. Я не придала значения его словам - где мальчику деньги взять? Но через некоторое время он принес точно такую вазу. Оказалось, что он чуть ли не месяц демонстрировал иностранным туристам свое искусство нырять за монетами. Это очень опасно и категорически запрещено - нырять около теплоходов. Но он пошел на это, чтобы загладить свою вину. Да, у него был решительный характер. Вы, верно, будете беседовать с владельцем дома номер пятнадцать Швыденко - бывшим завскладом. Он вам всякие гадости про Мишу наговорит. Кляузный человек, при гитлеровцах здесь оставался, спекулировал, ловчил. Миша его иначе чем фашистом не называл. Так вот, этот Швыденко как-то обвинил Мишу в том, что тот поджог сарай, где Швыденко самодельное вино для продажи держал... Ерунда какая! Не мог Миша этого сделать. Он был собранный, целеустремленный. Спортом, техникой увлекался: мог починить пылесос, швейную машину, даже телевизор. Разумеется, когда подрос. Юра в нем души не чаял. Но потом разошлись их пути: Миша на слесаря выучился, Юра в мореходное училище поступил. Сейчас Юра уже помощник капитана большого сухогруза, в загранку, как здесь говорят, ходит... Нет, с Мишей он не переписывался: Юра - не любитель писать. Он и мне месяцами не пишет, только радиограммы шлет... ШВЫДЕНКО - ПЕНСИОНЕР. Михаил Нагорный был хулиган и босяк, как все мальчишки с Баркасного переулка. Но он отличался от своих дружков тем, что на вид приглаженный, тихонький был, а свои подлости исподтишка делал. Пройдет бывало мимо и с эдакой вежливой улыбочкой прямо мне в лицо оскорбления наносит. Я эти оскорбления не заслуживал, поскольку в сотрудничестве с оккупантами замечен не был, о чем имею справку. А вот Мишка со своими дружками постоянно костры разжигали в Сухом овраге, с непонятной целью, о чем я неоднократно сообщал участковому, но он мер не принимал. Попустительство это привело к тому, что Мишка впоследствии мой сарай с имуществом спалил, который, правда, на складской территории находился, но был лично мной построен и мне принадлежал. По этому поводу я три года справедливости добивался, но так и не добился, потому что у Мишкиного дяди, Петра Шевчука, большие связи имелись, и это дело замяли. В результате Михаил Нагорный распоясался настолько, что со временем в городском парке человека убил... Какие у меня факты? Это, извините, у милиции должны быть факты, а мое дело - заявить... СЕМЕНОВА - ПРОДАВЕЦ. Я жила по соседству с Шевчуками. Плохого о них сказать не могу: если что одалживали, то непременно отдавали. Петр Егорович характер имел крутой, но не скандальный. Выпивал, но не запойно. Дарья Андреевна тоже серьезная женщина была и хозяйка хорошая. Детей у них своих не было и поэтому, когда племянника на воспитание взяли, не совсем правильно к нему отнеслись - очень уж в большой строгости держали. Не скажу, что Петр Егорович или Дарья Андреевна к нему руки прикладывали, но Миша их не смел ослушаться: скажут домой идти - в ту же минуту, велят двор убрать или воду из колонки наносить - беспрекословно. Уважительный был: если встретит меня с тяжелой поклажей, непременно поможет донести... Не курил, как другие мальчишки - это я точно знаю, потому что на всем квартале только в моем киоске табачные изделия имелись. А еще он каждое утро в одних трусах до сухого дока и обратно бегал. Ну, как бы физкультурой занимался. И что интересно - не зря занимался, мальчонкой он щупленький был, неприметный, а за каких-то два-три года вытянулся, окреп, как молодой дубок. Симпатичный такой парнишечка стал. На него не то что соседские девчонки, дамочки-курортницы заглядывались. А такие дамочки кого хочешь с пути-дороги сведут. Так и с Мишей получилось: спутался он с какой-то курортницей и из-за нее человека, взрослого мужчину, покалечил. Ему тогда уже лет семнадцать было. И за такие свои действия он должен был отвечать перед судом. Но его не судили потому, что мужчина часть вины на себя принял: написал заявление, что первым задел Мишу. Так это было или не так, сказать боюсь. Но в любом случае не оправдываю Мишу... КАРПЕНКО - ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ. С Мишей Нагорным я училась с первого до восьмого класса. Он был хороший товарищ: добрый, отзывчивый. Характер имел покладистый, охотно шел на компромиссы. Но безвольным я бы его не назвала - если что задумывал, то своего добивался. В младших классах он худенький, слабый был, и его часто обижали мальчишки. Но однажды Миша сказал мне: "Буду заниматься спортом и через год отколочу Пузыря". Был такой Леня Пузырев - самый сильный и задиристый мальчик в нашем классе. Я, конечно, посчитала эти слова за похвальбу - где ему с Пузырем тягаться! Но через год или полтора, точно не помню, Миша, действительно, задал трепку Пузыреву. Оказывается, все это время он занимался боксом... Нет, Леня с ним после этого не враждовал. Они помирились, стали друзьями. Но Миша всерьез увлекся боксом и через несколько лет стал чемпионом области среди юниоров... Шрам на плече и предплечье? Как-то нырял при большой волне с причала и его о старую сваю ударило. Помню хорошо, поскольку это, можно сказать, из-за меня произошло. Я первой тогда прыгнула, по глупости, конечно, с причала, да еще при такой волне, когда прыгать нельзя. Но я в Осводе занималась, умела нырять под волну. А он не рассчитал... Драка в парке? Слышала об этом, подробностей не знаю. Спрашивала Мишу, но он не поделился. Меня это очень обидело: к тому времени мы подружились и у нас не было друг от друга секретов. А тут замкнулся, не отомкнешь. Безусловно, за этим что-то стояло, просто так Миша не набросился бы на человека... Встречался ли он с девушками? До того, как я уехала в институт, не встречался. Он многим девушкам нравился, но на пляж, танцы, в кино ходил только со мной, а у нас чисто дружеские отношения были. Случалось, с нами шла Алина - его родственница из Киева, которая каждое лето сюда отдыхать приезжала. Но она была старше нас, и мы ей только как прикрытие требовались... Знала ли я мужчину, с которым Миша в парке подрался? Наглядно. Этот мужчина - ему тогда лет 25 было - в порту по снабжению работал. Очень высокого мнения о себе был. Одевался по последней моде - и только в импортное. Наши девчонки так и прозвали его: Гена-Импорт. Не помню его фамилии, он не из местных... После того, как Миша уехал, он ни с кем из оставшихся здесь товарищей не переписывался. Очевидно, его дальнейшая жизнь сложилась либо очень хорошо, либо очень плохо - Миша не любил хвастаться, но и жаловаться не любил... УСОЛЬЦЕВА - ПЕНСИОНЕРКА. С Дарьей Андреевной Шевчук я познакомилась вскоре после войны, когда она вышла замуж за демобилизованного по ранению главстаршину Шевчука Петра Егоровича. Первое время они снимали у меня комнату, а потом купили полуразвалившийся дом, отремонтировали его. Петр Егорович в порту плотничал, рыбачил для себя, за садом ухаживал. Дарья Андреевна медицинской сестрой в санатории "Октябрь" работала. Ну, конечно, и домашнее хозяйство вела, шила. Летом они флигель и крытую веранду курортникам сдавали. Но не всем - с разбором. К тому же к ним часто брат Петра Егоровича с семьей на отдых приезжал. А брат Петра Егоровича, Матвей Егорович, большое положение в Киеве занимал: не то профессор, не то замминистра. Когда он приезжал, все портовое начальство к нему на поклон являлось. Ну, само собой: приемы, банкеты, рыбалки с ухой. В общем, забот Дарье Андреевне хватало. Однако жили они в достатке, а главное - спокойно. Но потом к ним приехала Вера, младшая сестра Дарьи Андреевны, да не одна с маленьким ребенком. Вера - несерьезный человек была, легкомысленная: в семнадцать лет выскочила замуж за флотского офицера, родила сына. А потом, видите ли, не ужилась со свекровью, приехала к сестре, упала на колени: прости-впусти. Весь день ревела, руки ломала, а вечером на танцы убежала. Мишутку своего, понятно, сестре оставила. Если бы только на вечер! А то не прошло и полгода, как она спуталась с приезжим иллюзионистом и только ее и видели. Дарье Андреевне что оставалось? Стала растить племянника. Надо сказать, неплохой мальчик был: спокойный, послушный. Но если что в голову себе вобьет, колом не вышибешь. Покойный Петр Егорович хотел, чтобы Миша десятилетку окончил, в экономический институт поступил - была такая возможность через Матвея Егоровича его туда определить. Но Миша, всем наперекор, после 8-го класса в ПТУ пошел, слесарем стал... О том, что сталось с Михаилом Нагорным после смерти Дарьи Андреевны, Усольцева не знала. - На похороны Дарьи Андреевны приезжала Вера - мать Миши. К тому времени она уже третий раз замужем была, жила в Ростове. Предлагала Мише к ней переехать, но не очень настаивала. Он это понял и отказался. Собирался в Днепропетровск податься, в инженерный институт - он с детства пристрастие к технике имел. Но поступил или нет, мне неизвестно. Уехал сразу после похорон. А примерно через полгода вернулся, чтобы дом по наследству принять - Дарья Андреевна завещала ему дом. Но нашлись родственнички со стороны Петра Егоровича, которые тоже на этот дом требования заявили. При жизни Петра Егоровича я их в глаза не видела. А как умер, нагрянули со всех сторон. Как же, дом с садом в курортном городе упустить! Они еще Дарье Андреевне хорошо нервы потрепали, а как умерла и она, совсем обнаглели - самовольно в дом вселились, замки сменили. Миша увидел такое дело, отступиться решил. Но тут уж я не выдержала - как можно такое нахальство прощать! - Дала телеграмму Матвею Егоровичу, он к Мише хорошо относился. Сам он, конечно, не приехал, но прислал кого надо дочку свою Алину. А эта Алина, я вам скажу, сам черт в юбке была. Я ее еще девчонкой помню: когда она к Шевчукам приезжала, весь дом ходуном ходил. О парнях уже не говорю - она кому хочешь голову вскружить могла. Такого жениха в свое время отсюда увезла, что все мамаши, у которых дочери на выданье были, крик подняли. Так вот эта Алина - она тоже к Мише хорошо относилась - всех родственников-нахалов по сторонам разметала, на Мишу накричала, заставила доверенность написать, дом продала или обменяла на другой город - точно не скажу. Только Мишу этим не обидела - для него постаралась... Валентин был удовлетворен показаниями людей, некогда знавших Михайлова-Нагорного. И не беда, что их знания ограничивались лишь подростковым и юношеским периодом его жизни. Именно в эти периоды формируется самосознание, нравственные основы личности. В случае, который интересовал Валентина, учет этих факторов мог облегчить решение задач, стоящих как перед следствием, так и перед медиками. Каков же был Михаил Нагорный двенадцать лет назад, когда покинул Приморск, дом в котором вырос, воспитавшую его тетку, товарищей - покинул безоглядно, в какой-то спешке, обрубив за собой, как говорят моряки, все концы? Собранный, целеустремленный, непритязательный, с развитым чувством долга. Казалось бы, не парень - заглядение. Но, вместе с тем, упрям, решителен,смел. Хорошо это или плохо? Смотря когда и в чем. Поставить на место, проучить самоуверенного задиру-одноклассника, конечно, стоило. Говорить в глаза старому прохиндею, кляузнику что о нем думают люди, тоже допустимо, хотя и бессмысленно - прохиндеям плевать на то, что о них говорят. А вот избивать до полусмерти человека, полагаясь на свой уже немалый к тому времени боксерский опыт, в любом случае негоже. Да и роман с некой дамой-курортницей не украсил юношу. Какие из этих качеств сохранил Михаил Нагорный на протяжении последующих двенадцати лет, стертых из его памяти? И имели ли они значение в роковом для него конфликте? Волевые, решительные люди с годами, как правило, не теряют этих качеств. Не потерял их и Нагорный - достаточно вспомнить недавнюю трепку, которую он задал здоровяку-сопалатнику, по существу, из-за пустяка. Впрочем, свое отношение к медсестре Прокопенко Нагорный не считает пустячным. Но дело не в этом - в характере. Его нынешнее благодушие, покладистость не безграничны: в конфликтных ситуациях он по-прежнему взрывоопасен. И, судя по всему, люди, вступившие с ним в конфликт четвертого июня, учитывали это, равно как и его упрямство, боксерский опыт. Поэтому решили убить. Одним подленьким ударом, исподтишка. Значит, конфликт был не случайным и, надо думать, в его основе лежали серьезные противоречия. И еще один вывод: преступники - прав старший лейтенант Кузишин - не хотели, чтобы милиция установила личность их жертвы. Не потому ли, что ранее были связаны с Нагорным и эти связи, до поры не носили предосудительного характера, а потому не скрывались от близких Нагорному людей? Теперь уже нетрудно этих людей отыскать. Достаточно установить координаты Матвея Егоровича Шевчука или его дочери Алины, которым наверняка известна дальнейшая судьба Нагорного, а возможно и его последнее местожительство, круг его близких. Надо, не откладывая дела в долгий ящик, слетать на денек в Киев, побеседовать с Матвеем Егоровичем, Алиной. А там уже, как говорится - вперед. И лучше это сделать самому... Нетерпение майора Ляшенко можно было понять: уже больше трех месяцев он и его товарищи изо дня в день ломали головы над этим необычным делом, которое кто-то из управленческих острословов назвал "уравнением со всеми неизвестными". И вот наконец появился обнадеживающий просвет. Однако поездку в Киев пришлось отложить. Утром следующего дня Валентин связался по телефону с Билякевичем, начал докладывать о результатах своих поисков, но начальник отдела перебил его: - Немедленно возвращайтесь. Михайлов исчез. - Михайлов? - не сразу сообразил Валентин. - Если вам удобнее, называйте его Нагорным. Но, к сожалению, это ничего не меняет. - Он, что же, удрал из больницы? - только и нашел что спросить Валентин. - А вот это как раз и надлежит выяснить вам.12
Пока добирался до аэродрома, пытался хотя бы в общих чертах понять, что произошло. Но ничего вразумительного придумать не смог. Вспомнил неутешительный прогноз доктора Крыжанского о негативных последствиях черепно-мозговых травм. Тут сам Бог не предугадает, что такой человек может натворить. Мелькнула мысль о медсестре Лилии Прокопенко, которой Нагорный симпатизировал. Не исключено, что Нагорный таким образом выразил свой протест в связи с переводом Прокопенко в другое отделение. В таком случае он должен, следуя логике, искать встреч с Лилей, а она достаточно благоразумная девушка, чтобы не скрывать этого от администрации больницы. Но Валентин тут же отмахнулся от этой мысли. Какая к черту логика в поступках душевнобольного! Да и в поступках влюбленных девиц ее, эту самую логику, подчас днем с огнем не сыщешь...13
В Сосновск самолет прибыл во второй половине дня. Алексей Мандзюк встречал Валентина. Его обычно улыбчивое лицо выражало уныние и вину одновременно. Валентин знал эту манеру товарища - предупреждать начальство о неприятностях таким выражением лица - и не раз отчитывал его ("Ты не в театре пантомимы работаешь!"). Но на этот раз подумал, что у Алексея есть основания для уныния - проворонил Михайлова. Впрочем, такой же упрек можно было адресовать и ему, Валентину. Их ожидала управленческая "Волга", но Валентин пересек привокзальную площадь, зашел в сквер, опустился на свободную скамейку, предварительно смахнув с нее ворох осенних листьев. Алексей присел рядом. Валентин протянул ему сигареты, но Алексей отрицательно мотнул головой: - Тошнит уже от них. За полдня пачку выкурил. - Тогда береги здоровье, - невольно поддавшись минорному настроению товарища, буркнул Валентин и закурил сам. Затем спросил напрямик: - Когда это произошло? - Вчера, после обеда. Накануне он плохо спал. Дежурная сестра говорит, что около трех часов ночи Михайлов вышел в коридор, пожаловался на сильную головную боль. Сестра сделала ему укол, отвела в палату - по ее словам, он едва держался на ногах. К завтраку он не встал, проспал до полудня. Но потом поднялся как ни в чем не бывало, умылся, побрился, пошел в столовую. После обеда доктор Крыжанский осмотрел его, но ничего настораживающего не обнаружил. В начале пятого Михайлов сказал палатной сестре, что спустится в больничный парк погулять, но в парке не остался, направился в гараж. Зашел в конторку завгара, поговорил с ним о каких-то пустяках, а затем попросил разрешения позвонить по телефону. - Куда? - насторожился Валентин. - Сказал, что ему необходимо связаться с тобой. - Со мной?! - Валентин повернулся к Алексею, посмотрел на него в упор, решив, что товарищ шутит. Но Алексею было не до шуток. - С тобой, - выдерживая пристальный взгляд Валентина, кивнул он. - И о чем же он говорил со мной? - недоверчиво усмехнулся Валентин. - Завгар не прислушивался. Но разговор был короткий: две-три фразы. Потом Михайлов попросил у завгара ключ от шкафа, где держал свой костюм. - Почему его костюм висел в гараже? - У Михайлова с завгаром приятельские отношения: костюм они покупали вместе. Завгар сам предложил Михайлову повесить костюм в шкафу в конторе. В общем, Михайлов переоделся и сказал, что ему надо срочно в город. - Ко мне? - Завгар так понял. У него тоже были дела в городе, и он предложил подвезти Михайлова на машине. - Тот согласился? - Немного помялся, но потом согласился. К нашему управлению они подъехали в семнадцать часов. По дороге Михайлов одолжил у завгара двадцать пять рублей, сказал, что вернет с получки: он зачислен на полставки слесарем больничного гаража, и ему уже причиталось около сорока рублей. - Зачем Михайлову понадобились деньги? - Сказал, что хочет сделать подарок медсестре Лилии Прокопенко. - Как я понимаю, Прокопенко не получила подарка? - В том-то и дело, что получила! Но не за 25 рублей, а за 310. Хрустальная ваза. И это не все: тем же вечером, то есть вчера, он и Прокопенко были в ресторане. - Как он объяснил ей свое появление в городе? - Она не спрашивала об этом, считая что лечащий врач разрешил ему отлучиться. - В ресторане расплачивался Михайлов? - Естественно. - Любопытно. Прокопенко не поинтересовалась, откуда у него деньги? - Спрашивала, но он ушел от ответа. - В котором часу они встречались? - Михайлов пришел к ней домой около двадцати часов. - А с завгаром расстался в семнадцать. Разница три часа. За три часа можно успеть немало. - Прокопенко говорит, что он побывал в парикмахерской. - Бросим на это полчаса. - Покупал вазу. - Еще полчаса, от силы. - Об оставшихся двух часах ничего не знаю. - Когда они расстались? - Утром. Он ночевал у Прокопенко. - Вот даже как! - усмехнулся Валентин. - Прокопенко утверждает, что близости у них не было, Нагорный на этом не настаивал. Был чем-то озабочен, но своими проблемами с ней не поделился. Сказал только, что ему необходимо вернуть какой-то очень важный долг. - Денежный? - Он не уточнил. Ушел от Прокопенко в половине седьмого утра. - Куда? - Сказал, что едет в Киев, но через два-три дня вернется, чтобы оформить выписку из больницы. К слову: после того, как ты позвонил из Приморска и дал ориентир на Киев, я связался с тамошней горсправкой и выяснил, что Нагорный - киевлянин. - То, что он киевлянин, не так уж важно сейчас, - заметил Валентин. Главное выяснить, где и как он провел эти два часа до встречи с Прокопенко. Он неспроста ушел из больницы. И деньги у него тоже не случайно появились. Причем немалые деньги - только за вазу триста целковых выложил. Мандзюк неопределенно развел руками. Валентин задумался. Судя по всему, вчера Михайлов-Нагорный вспомнил нечто такое, что имело отношение к истории покушения на него. Это побудило его уйти из больницы, с кем-то встретиться и... Но в том-то и загвоздка, что угадать его поступки невозможно. Видимо, к этой истории надо подходить с другой стороны. Закурив очередную сигарету, Валентин поинтересовался результатами проверки связей Жоры Бурыхина с директором комиссионного магазина Дерюгиным. Об этом Дерюгине Алексей докладывал незадолго до отъезда Валентина в командировку. Алексею удалось установить, что во второй половине июля - начале августа Дерюгин со своей женой ездил в турне по Крыму на бурыхинской "Ладе" с Бурыхиным в качестве водителя. Однако дальнейшая проверка показала несостоятельность подозрения. - Дерюгин - не босс Бурыхина, - убежденно сказал Алексей. - Всякий раз он рассчитывается с Жорой наличными. А последнее время Жора отказывает ему в машине. - Значит, снова осечка? - нахмурился Валентин. - Я бы этого не сказал, - неожиданно улыбнулся Алексей. - На фоне Дерюгина проявилась другая, не менее колоритная фигура - Григорий Борисович Липницкий, пятидесяти трех лет от роду, проживает в доме номер пятнадцать по улице Червоноказачьей. - Это же почти рядом с Высоким Холмом! - оживился Валентин. - И до кооперативного гаража, где стоит бурыхинская "Лада", рукой подать, - подхватился Алексей. - Да и в ресторане "Высокий Холм" Григория Борисовича хорошо знают: он любитель обильно и вкусно поесть, может выпить рюмку-другую коньяка, но не сверх того - у него пошаливает сердце. В деньгах не стеснен: заказывает самые дорогие блюда, всегда дает официантам на чай и не меньше пятерки. Имеет водительские права. Жора Бурыхин вытягивается перед ним, как ефрейтор перед генералом. - Значит, он? - Несомненно. На этот раз улыбнулся и Валентин - наконец-то вышли на преступника! - Чем занимается Липницкий? Я имею в виду его официальное положение. - Снабженец с большими связями в Киеве, Москве, где его, по слухам, принимают как родного. Разумеется, не министры, но те служивые люди, от которых зависит выдача нарядов на внеплановые материалы. Как он выбивает эти материалы, не скажу - снабженец из меня неважный, но знающие люди считают его асом в этих делах. Работает Липницкий на сравнительно скромной должности инженера отдела снабжения машиностроительного завода. Но истинное его призвание, как я уже сказал, выбивать внеплановые материалы. - Откуда информация? - От наших коллег из ОБХСС, Липницкий им хорошо знаком. - Судимости? - Несколько лет назад привлекался по делу о незаконной реализации строго фондируемых материалов, но как-то выкрутился. И недавно - месяца четыре назад - у ОБХСС был выход на него по наряду на металл, выданному одним из снабженческих главков по фиктивной заявке. Однако накрыть его с поличным не удалось: в последний момент Липницкий почувствовал опасность и дал отбой - наряд был аннулирован. - Ловкий делец, - заметил Валентин. - ОБХСС недооценил его. Кто из них занимался этим делом? - Сам Жмурко. Подполковник Жмурко возглавлял городской отдел борьбы с хищениями социалистической собственности, и тот факт, что он лично занимался Липницким, говорил сам за себя. - Считаешь, что бурыхинская "Лада" фактически принадлежит Липницкому? - Вместе с Жорой Бурыхиным заодно. Надо сказать, Григорий Борисович сам неплохо водит машину. Но когда едет кутнуть или поразвлечься с девицами, к которым до сих пор неравнодушен, за баранку сажает Жору. Тут вот еще что следует отметить: минувшим летом, а точнее, после событий на Высоком Холме, Григорий Борисович не пользовался "Ладой" и вообще делал вид, что не знаком с Жорой. - А сейчас? - Наверстывает упущенное: гоняет Жору в хвост и в гриву. - Вместе с "Ладой"? - Само собой. Сейчас как раз подходящий момент: жена Григория Борисовича отдыхает в Кисловодске. - Значит, решил, что вышел сухим из воды? - Четыре месяца прошло, а его не беспокоил никто. - Но Бурыхина на разведку все-таки послал. - Подстраховаться лишний раз не мешает. - Кто, кроме жены, проживает с Липницким? - Никто. Его сын и дочь имеют свои семьи, живут отдельно. - Сейчас Липницкий в городе? - Два дня назад был на работе. Можно уточнить, у меня записан его служебный телефон. Валентин посмотрел на часы. Было начало шестого. - Позвони ему на работу. Если поднимет трубку, спроси первое, что придет в голову, и дай отбой. - А если не окажется на месте? - Узнай, где он находится. Мандзюк вернулся минут через пятнадцать. Валентин встретил его вопросительным взглядом. - На работе его нет и не было. - А вчера? - Вчера был. И сегодня должен был прийти. Я разговаривал с начальником отдела, тот высказал предположение, что Липницкий захворал, так как вчера жаловался на боли в сердце. - В котором часу он пожаловался на боли? - быстро спросил Валентин. - В конце дня. - Не поинтересовался, звонил ли ему кто-нибудь перед этим? - Начальник отдела - приятель Липницкого, и такой вопрос мог насторожить его. К тому же снабженцам, а тем более таким, как Липницкий, звонят чуть ли не каждую минуту. - Знаешь что, рискнем позвонить ему домой. - Уже звонил. - Когда? - Сразу после разговора с начальником отдела. - Алексей замялся, но потом добавил, не глядя на Валентина, - трубку не подняли. Валентин встал, глубоко засунул руки в карманы куртки, словно что-то отыскивал в них, и так стоял с полминуты. Потом сказал, следя за парящими в воздухе красно-желтыми листьями: - Худо дело, Леша. Хуже не бывает! - Думаешь, он мертв? - упавшим голосом спросил Мандзюк. - Боюсь, что так. Вчера ночью Михайлов-Нагорный вспомнил, кому и что должен. А свои долги он всегда платил аккуратно и сполна... Вызвали оперативную группу, сообщили следователю, пригласили понятых - так или иначе предстоял обыск. Но подтвердились худшие опасения: хозяин трехкомнатной богато обставленной квартиры (румынская мебель, бухарские ковры, чешский хрусталь), которая с холлом, кухней, подсобными помещениями, занимала весь второй этаж дома-особняка на улице Червоноказачьей, пятнадцать, был мертв. Входную дверь пришлось вскрыть, что не составило особого труда, поскольку она была заперта только на верхний самозакрывающийся замок. Григорий Борисович Липницкий лежал во второй от входа комнате на диване с подушкой под головой. На нем были пижамные брюки, носки, расстегнутая на груди вельветовая рубашка, которую сослуживцы видели на нем накануне. Костюм, в котором он ходил на работу, висел в шкафу, туфли стояли в коридоре у вешалки, комнатные тапочки - у дивана. В квартире был почти идеальный порядок: дочь покойного, за которой съездил Глушицкий, осмотрев все комнаты, шкафы, тумбочки, не нашла каких-либо бросающихся в глаза пропаж. Создавалось впечатление, что, придя вчера домой, Григорий Борисович начал переодеваться, но почувствовал себя настолько плохо, что не смог снять рубашку, лишь расстегнул ее, добрался до дивана, лег и уже не встал. Это предположение подтверждалось оброненным на ковер пластмассовым цилиндриком с таблетками нитроглицерина. Судебно-медицинский эксперт не нашел на теле каких-либо следов насилия. Он констатировал, что смерть наступила примерно сутки назад, то есть вскоре после того, как Липницкий вернулся с работы. Если учесть, что вчера днем Григорий Борисович жаловался на боли в сердце и что в оброненном у дивана пластмассовом цилиндрике недоставало нескольких таблеток, то, казалось, можно было сделать единственный вывод: Липницкий умер естественной смертью. Однако судмедэксперт не спешил подтверждать это предположение и увез тело на вскрытие. Его, как и оперативных работников, насторожили два отнюдь не пустячных факта. Как показали соседи, живущие на первом этаже, Григорий Борисович последнее время тщательно запирал входную дверь на два замка и внутреннюю цепочку. А тут дверь была лишь захлопнута на верхний "английский" замок. Второй, более разительный факт, который бросался в глаза каждому, кто заходил в квартиру, заключался в том, что в кабинете на журнальном столике стояли распечатанная бутылка марочного коньяка, две рюмки, наполненные тем же коньяком, прикрытая и уже неполная коробка с шоколадным набором "Ассорти", ваза с фруктами, пачка сигарет "Мальборо", пепельница. Вывод напрашивался сам собой: незадолго до того, как Липницкий почувствовал себя плохо, у него был гость. Очевидно, гость явился следом за хозяином, поскольку тот не успел завершить переодевание. Тем не менее Липницкий поспешил с угощением, из чего можно заключить, что он был либо очень рад гостю, либо напуган его появлением. Если допустить, что этим гостем был Михайлов-Нагорный, такая реакция хозяина понятна - он хотел задобрить Нагорного и, надо полагать, не только коньяком. Ну с коньяка было легче начать малоприятный для Григория Борисовича разговор. Вот он и засуетился: стал потчевать Нагорного. А вот что произошло затем, предстояло установить. Мандзюк считал, что хозяин и гость мирно побеседовали и о чем-то договорились, но затем Липницкому стало плохо: коньяк - не подходящее лекарство для сердечников, и он оставил недопитую рюмку, лег на диван. Нагорному же не оставалось ничего другого, как уйти. Но это предположение было поколеблено экспертом-криминалистом, тщательно осмотревшим бутылку и рюмки. - Они не выпили ни грамма, - сказал эксперт. - Бутылка свежераспечатана: вот в пепельнице обрывки фольги, которой было обернуто горлышко. А объем налитого в рюмки коньяка соответствует недостающему до первоначального в бутылке. И конфеты они не трогали: разве что гость унес обертки с собой. - Значит, Липницкому стало плохо, едва он наполнил рюмки, упорствовал Алексей. - Или гость отказался от угощения, - возразил Валентин. Последнее предположение было более вероятным. В какой-то мере можно было составить мнение и о характере визита Нагорного. Парикмахер Димаров, из первой квартиры, рассказал, что вчера около восемнадцати часов он вышел во двор вытрясти половики и услышал громкие голоса, доносящиеся из квартиры Липницкого: окно кабинета Григория Борисовича было приоткрыто. О чем шел разговор, Димаров не может сказать, поскольку голоса доносились неясно. Он разобрал лишь несколько слов, произнесенных Григорием Борисовичем в сильном волнении. О том, что тот волновался, можно было судить по громкости и тону его голоса. Обычно Григорий Борисович говорит спокойно, с чувством собственного достоинства, а тут чуть ли не кричал. Слова же, которые расслышал Димаров и которые Григорий Борисович повторил несколько раз, можно было понять как возражение собеседнику (что-то вроде "Я уверяю: вы ошибаетесь!"). Потом окно закрыли, и Димаров больше ничего не услышал. Нет, гостя Липницкого он не видел и не может сказать, когда тот ушел. Не видели его и другие соседи. Зато домохозяйка Костецкая из второй квартиры показала, что в тот же вечер, приблизительно в половине восьмого, наверх к Липницкому поднялась, но, не дозвонившись, ушла девица в комбинезоне стального цвета. Эта девица не впервые посещала Липницкого: она приходила к нему, когда его жена уезжала на курорт, к сестре в Ялту, к брату в Чернигов - супруга Григория Борисовича любит разъезжать. Что же до "стальной" девицы, то зовут ее Нелли, живет она неподалеку - на улице Богдана Хмельницкого. Последнее время ее часто видели с Григорием Борисовичем в машине, которую водит помощник Григория Борисовича (так он его представил соседям) - Жора. Валентин приказал Глушицкому немедленно задержать Бурыхина, Алексей направился на поиски "стальной" Нелли. Сам же Валентин остался со следователем, экспертами, понятыми в квартире Липницкого, где было совершено по меньшей мере одно преступление - покушение на убийство Михаила Нагорного. Шансы на то, что удастся распутать это, уже намного отступившее во времени преступление, были невелики, но пренебрегать ими не следовало. Не исключалось, что при обыске будут обнаружены свидетельства других темных дел Липницкого, особый интерес к которым проявляли работники городского ОБХСС во главе с подполковником Жмурко. Жмурко не заставил себя долго ждать. Вместе с ним приехал Билякевич. Выслушав Валентина, Билякевич забарабанил пальцами по столу, уже осмотренному экспертами, и лишь затем сказал: - Согласен, что этим гостем был Михайлов-Нагорный. Но с какой целью он приходил? Высказать Липницкому свое негодование и только? - Еще нет окончательного судебно-медицинского заключения. - Будем ориентироваться на предварительное. В совокупности с другими обстоятельствами оно позволяет утверждать, что смерть хозяина дома все-таки была естественной. Это не исключает сильного душевного волнения, вызванного визитом Нагорного. Но ставить такое в вину Нагорному, по меньшей мере, несерьезно - он не мог предвидеть, что его визит сам по себе убьет Липницкого. - После визита к Липницкому у Нагорного появилась значительная сумма денег. Очевидно, у них были какие-то расчеты. - Очевидно, - согласился Билякевич. - И все-таки Нагорный пришел сюда не за этим. В ином случае он не одалживался бы перед тем у завгара. Это одно. Теперь другое: расчет с кредитором, в том числе нежелательный, вынужденный расчет - не такое уж исключительное событие для дельца, каковым являлся Липницкий, инфаркта от этого он не получил бы. И еще. Уже после визита к Липницкому, Нагорный говорил Прокопенко о каком-то важном долге, который предстоит отдать. А это значит, что расчет с Липницким не исчерпал всех его намерений. - "Светлоусый"? - Не исключено. - Видимо, Липницкий сумел убедить Нагорного в своей непричастности к покушению, - после недолгого раздумья предположил Валентин. - Я тоже верю, что голову Нагорному проломил не Липницкий. Что ни говорите, пожилой человек с больным сердцем. Да и преступная квалификация у него иная. Он мог быть организатором, пособником, но не исполнителем. - Значит, Липницкий назвал исполнителя, и теперь Нагорный намерен предъявить счет этому человеку. - Можно допустить и другое, - возразил Билякевич. - В июне, когда Нагорный приехал сюда, он ставил перед собой какую-то задачу, в ходе решения которой вступил в конфликт с Липницким или его сообщником. По-другому конфликт с таким финалом не объяснишь - дельцы не проламывают друг другу головы из-за пустяков. Следовательно, была серьезная причина. Настолько серьезная, что не утратила своего накала спустя четыре месяца. Стало быть, необходимо определить, вычислить, угадать - как уж получится, эту причину. При том безотлагательно. - Теперь, когда Нагорный вспомнил все, установить эту причину будет нетрудно. Билякевич внимательно посмотрел на Валентина. - Не разделяю вашего оптимизма. Все говорит за то, что Нагорный, решая свои проблемы, меньше всего уповает на помощь милиции. К ним подошел Жмурко. В руке у него были две записные книжки, которые оперативники, производящие обыск, нашли в письменном столе и костюме Липницкого. - Натолкнулся на любопытный адресок, - показывая потрепанную книжку, сказал Жмурко. - Очевидно, хозяин позабыл об этой книжке - валялась среди старых бумаг. Не то бы давно уничтожил и этот адресок, и саму книжку. - Что за адресок? - полюбопытствовал Валентин. - Вот, читай, - ткнул пальцем Жмурко. - Киев, бульвар Шевченко... Редченко Геннадий Константинович. Вам знаком этот человек? - Встречаться не доводилось, но кое-какими сведениями о нем располагаю. Редченко ведает распределением фондов на металлы в одном из республиканских снабженческих главков. Несколько месяцев назад он побывал в Сосновске на межобластной базе, подчиненной его главку. Такой визит можно было бы считать закономерным (почему не поинтересоваться, как идут дела на местах?), если бы накануне отдел, в котором работает Редченко, не выдал наряд на внеплановое железо под липовую заявку. Получателем значилась несуществующая организация, поставщиком - Сосновая база. Улавливаете связь? - Не совсем, - признался Валентин. - Редченко приехал посодействовать кому-то в получении железа по этому наряду, - сказал Билякевич. - Наряды на внеплановые материалы поставщики неохотно принимают к исполнению. К тому же здесь, на месте, могли установить, что организации-получателя, как таковой, не существует. - Метишь на мое место? - весело прищурился Жмурко. - Меня вполне устраивает мое, - улыбнулся Билякевич, но тут же спросил: - Считаешь, что Липницкий был причастен к махинации? - Капитан Годун из УБХСС республики убежден в этом. К сожалению, ни он, ни я тогда не смогли этого доказать. Редченко приехал на базу третьего июня в конце дня. Ни заведующего базой, ни его заместителя на месте не оказалось, других работников он не знал. Проформы ради Редченко представился, поинтересовался общим положением дел, а затем куда-то заторопился, сказав, что придет на следующий день, и велел заведующему ждать его. Однако на следующий день, это было уже четвертого, он на базу не явился. А еще через день поступила телеграмма главка об аннулировании наряда на это железо: кто-то из проверяющих обнаружил подлог. - Почему подозрение пало на Липницкого? - спросил Валентин. - Второго июня, когда был выдан этот наряд, Липницкого видели в главке. А на следующий день, едва вернувшись в Сосновск, он явился на базу. Как раз в то время, когда там находился Редченко. С базы они ушли вместе. И еще один факт: наряд не был отправлен поставщику по обычным каналам, а выдан кому-то на руки. Но кому? К исполнению наряд не предъявлялся. Значит тот, кто имел его, был своевременно предупрежден, что подлог обнаружен. Такую информацию здесь, в Сосновске, столь оперативно мог получить только Редченко. А его контакты с Липницким не вызывают сомнений. - Виктор Михайлович, - обратился Валентин к Билякевичу, - по-моему, уже прослеживается связь: Редченко - Липницкий - Нагорный. Редченко и Липницкий, несомненно, соучастники в преступной махинации. Четвертого июня они должны были осуществить задуманное, но их предупредили об опасности. И в тот же день, здесь, в квартире Липницкого, было совершено покушение на Нагорного. Несомненно, эти события связаны. - Нагорный? - переспросил Жмурко. - Я встречал эту фамилию. И кажется в связи с этим же делом. Сейчас попробую уточнить. Пока он звонил в свой отдел, а затем еще куда-то, Валентин и Билякевич вышли в соседнюю комнату, где эксперты-криминалисты, взобравшись на кухонные табуреты, исследовали какое-то пятно на стене. На этом месте висела только что снятая картина, изображавшая пасторальную идиллию. По нарушенному слою пыли на стене и тыльной стороне картины эксперты установили, что за картиной продолжительное время лежал какой-то небольшой плоский предмет, который был изъят из этого своеобразного тайника буквально день или два назад. Валентин тоже хотел взобраться на табурет, разглядеть пятно, но его и Билякевича вызвал в коридор Жмурко. - Имя, отчество Нагорного? - Михаил Алексеевич. - Подходит! - Значит, и Нагорный имел отношение к этой махинации? - сам не зная почему, огорчился Валентин. - Только с другой стороны. Он был одним из тех, кто обнаружил фиктивность заявки и забил тревогу. Подробностей не знаю - это разработка УБХСС республики. - Почему же он... - начал было Валентин, но Жмурко остановил его. - У меня не меньше вопросов. Но ответы на них мы сможем получить только в Киеве. - Езжайте, Валентин Георгиевич, - поддержал его Билякевич. - Я помогу Мандзюку. - Надо предупредить киевских коллег, - озаботился Жмурко. - Как бы Нагорный не наделал новых глупостей...14
Он не собирался делать глупостей ни вчера, ни тем более - сегодня. Глупость он сделал четыре месяца назад, когда, не зная брода, сунулся в воду и поплатился за это. На берег его вынесло случайно - сейчас он осознавал это - и в какой-то мере понимал состояние Липницкого, очевидно принявшего его вчера за выходца с того света. Недаром же схватился за сердце, стал глотать таблетки. Это не вызывало жалости: Липницкий оказался не только негодяем, но и отчаянным лгуном. Слушать его оправдания было противно, видеть его покрытое потом одутловатое лицо - тем более. В июне Липницкий держался куда увереннее: нагличал, хамил, хотя уже тогда изрядно струсил - вначале отдал наряд и только затем, видимо опомнившись, вызвал своих подручных - "стальную" красотку и того, кто притаился в коридоре за вешалкой. Это было сделано довольно ловко, и он, Михаил, едва не попался впросак. Хорошо, что в последний момент сообразил, для чего к нему приставлена девица в "стальном" комбинезоне, и ухитрился спрятать наряд за картиной в кабинете. Этим идиотам не пришло в голову искать его там. Собственно, из-за наряда он вчера и пришел к Липницкому. Но тот этого не понял и дрожал, как суслик, умолял не губить его, показывал фотографии детей, внуков, свою последнюю электрокардиограмму, совал деньги. Это было противно, но деньги Михаил взял, потому что тогда, в июне, у него при себе было больше тысячи рублей, не говоря уже о костюме, портфеле, часах. Какого дьявола он должен прощать негодяю и это! Теперь оставалось то последнее, ради чего он полез в это болото. Михаил не помнил, как и от кого узнал о подложном наряде, почему догадался о причастности к этой махинации Алины - память вернула ему прошлое с изъянами. Но у него складывалось впечатление, что и до этой истории он подозревал Алину в махинациях с нарядами. Однако почему-то не решался поговорить с ней начистоту: то ли отмахивался от своих подозрений, то ли боялся нарушить тот непрочный мир, который еще удерживал их вместе. Наряд послужил толчком к объяснению, которое давно назревало и которое уже нельзя было откладывать. Наряд и конверт со сторублевками, который он обнаружил в ее сумке. Вначале Алина изворачивалась, потом все валила на Геннадия - дескать тот ее подвел. Когда же Михаил сунул ей под нос конверт с деньгами, она стала кричать, не выбирая выражений, и только получив затрещину, сникла, расплакалась, назвала Липницкого... В купе вошла молоденькая проводница, начала собирать постельное белье. Задев Михаила плечом и бедром, смутилась, порозовела. Он невольно улыбнулся, но тут же погасил улыбку: вспомнил Лилечку - проводница чем-то походила на нее. Очевидно, молодостью и этим вот непритворным смущением. Подумал, что минувшей ночью, будь он понастойчивей, мог бы круто изменить свою судьбу, но быстро прогнал эту мысль. Есть чувства, над которыми мы не властны, пока не ослаб их накал, пока память выталкивает их на поверхность. Нельзя в одночасье перестать негодовать, считать себя униженным и виноватым только потому, что случай предложил тебе более приятное чувство. С ноля можно начинать лишь, когда за спиной ничего нет, когда память сама отреклась от прошлого... За окном в сгущающихся сумерках замелькали дачные платформы приближался Киев. В вокзальной сутолоке Михаил на какое-то время отрешился от своих мыслей. Люди спешили на трамваи, троллейбусы, в метро, а ему некуда было спешить - то, что оставалось сделать, не требовало спешки. Вспомнил, как двенадцать лет назад впервые приехал в Киев, и толпа пассажиров вынесла его, как и сейчас, в привокзальную сумятицу. Михаил тогда еще не видел такой большой площади, роящейся людьми, автомобилями. Можно было подумать, что всех приехавших в этот город тотчас же охватывала боязнь опоздать, не успеть куда-то, что-то упустить, кого-то не застать. Это чувство не передалось ему: он был уверен, что те, к кому он приехал, будут рады ему и сегодня, и завтра. Ему было восемнадцать, многое виделось в розовом свете, а те небольшие сомнения, что не оставляли его всю дорогу, рассеялись без следа, едва он ступил на площадь. Было летнее погожее утро с нежарким ласковым солнцем, легким освежающим ветерком, веселыми звонками трамваев, которые, казалось, приветствовали его - молодого вихрастого парня в линялых джинсах, с рюкзаком на плече. Он катался на метро, бродил по Владимирской горке, гулял по набережной, ел мороженое сначала в одном, а потом в другом кафе, поехал на пляж, искупался, поиграл с парнями в волейбол, а с девушками в бадминтон, вернулся в город, пообедал в вареничной, сходил в кино. И только вечером направился туда, где его ждали, где он мог пожить некоторое время, пока не решится вопрос его поступления в институт. В какой институт он поступит, где и на что будет жить пять лет, он еще не знал. Все решил телефонный разговор с Алиной - она настояла на его приезде, заверила, что все будет в порядке: в нем примут участие и она, и Матвей Егорович. Ему было приятно такое внимание. Тем более, что оно исходило не только от Алины, но и от Матвея Егоровича, чей авторитет был для него непререкаем... - Гражданин, у вас найдутся спички? - Небольшого росточка мужчина с объемистым дорожным портфелем смущенно улыбнулся Михаилу. Спичек у него не было. Мужчина извинился, отошел, но затем снова подступил, спросил, как добраться до Крещатика. Михаил объяснил. Ему тоже захотелось спуститься в метро, доехать до Крещатика, пройтись по широким оживленным тротуарам, мимо уже расцвеченных огнями витрин, купить в киоске "Вечерку", взглянуть на таблицу игр футбольного чемпионата, зайти в кафе и выпить чашечку кофе. Но едва ступив на Крещатик, он поймал себя на том, что хитрит с собой, оттягивая момент встречи с Алиной. Так было двенадцать лет назад - он приехал сюда не потому, что ему некуда было податься, а потому, что в телефонном разговоре с Алиной уловил взволновавшие его нотки, которые сулили куда больше, чем ее слова. И в то же время он робел при одной мысли о встрече с ней в ее доме. Он не мог предугадать, чем обернется для него эта встреча - настроение Алины менялось, как погода в ноябре: она могла броситься ему на шею, расцеловать при всех, даже при Геннадии, но могла и едва кивнуть, уронив небрежно: "А-а, это ты!" и тут же повернуться спиной. Невольно усмехнулся: теперь-то ему нечего робеть. Поднялся вверх по Прорезной, зашел в подъезд старого дореволюционной постройки крепкостенного дома, поднялся на третий этаж. Свет в подъезде еще не зажгли, и на лестничной площадке было темновато. На этот раз не пришлось отыскивать в рюкзаке фонарик, включать его. Тем не менее Михаил замешкался у массивной двухстворчатой двери с медной ручкой и такой же поблескивающей в полумраке табличкой, словно еще сомневаясь, та ли это дверь. При том, что отлично знал не только дверь, но и то, что находилось за ней: узкий, сумеречный даже при свете стилизованных бра коридор, по обе стороны которого располагались утопленные в нишах двери: первая направо гостиная, вторая - кабинет "патриарха", напротив - спальня, рядом комната Алины, а за поворотом, впритык к кухне, узкая комнатушка, заставленная громоздкой мебелью, некогда перемещенной за ненадобностью из других комнат. В комнатушке поочередно жили Анисимовна - дальняя родственница "патриарха", потом Геннадий, а уж затем он, Михаил. Не только комнаты - каждая вещь в доме имела свое место и назначение, менять которые не имел права никто, кроме хозяина. Тут все было настолько отлаженно, солидно, незыблемо, что внушало трепет непосвященным. А посвященным во все здесь был только "патриарх". Михаил уже поднял руку к кнопке звонка, когда его взяла оторопь, да такая, что холод пробежал по спине, сжалось сердце. Это чувство нельзя было объяснить ничем - даже в тот, первый приезд его робость не достигала такого накала. Видимо потому, что тогда его окрыляла надежда, казалось бы, несбыточная, почти фантастическая, но намертво уцепившаяся за мимолетное, явившееся ему однажды ослепляющим ночным видением, которое заслонило собой все сущее, растворило его в себе. Чтобы опомниться, прозреть, понадобились годы. И вдруг он понял: тот злосчастный тоннель продолжился для него здесь - у этой двери. Надо было войти в нее, прожить за ней двенадцать лет, поступиться всем и не приобрести ничего, пытаться совместить несовместимое, возненавидеть себя, а затем Алину, свести знакомство с Липницким, операционным столом, невыносимой болью, страхами и снова вернуться сюда, чтобы понять это... Дверь открыла Анисимовна, предварительно включив "персональный" плафон на лестничной площадке и рассмотрев Михаила в "глазок". Она была такая, какой он помнил ее: сухонькая, сморщенная, востроглазая, с закрученными на затылке седыми косицами. Старуха встретила его неприветливо. Презрительно опустила уголки тонких бескровных губ: - Чего явился? - Алина дома? - решив не задираться, но в то же время решительно шагнув в коридор, спросил Михаил. - А тебе какое дело до нее? - Об этом я сам ей скажу. - Грубиянишь, - строго сдвинула брови Анисимовна. Но затем, несколько смягчившись, ответила: - Скоро должна быть. Стой здесь, я Матвею Егоровичу доложу. Она шмыгнула в нишу, за остекленную дверь. Михаил окинул взглядом коридор. Та же вделанная в стену вешалка с дюжиной бронзовых псов-держателей, те же бра, овальное зеркало в замысловатой раме, столик для телефонного аппарата, навесная полка для газет. И только в стояке для зонтов, рядом с набором английских тростей, гуцульским резным посохом, сказочной клюкой появился бамбуковый шест, инкрустированный перламутром - новая причуда "патриарха". Эти палки "патриарх" начал собирать полтора года назад, когда ушел на пенсию. Порой он выходил на улицу то с одной, то с другой, хотя никакой нужды в этом не было - в свои шестьдесят три года Матвей Егорович обладал завидным здоровьем... - Иди, зовет тебя, - выглянула из ниши Анисимовна. В кабинете тоже ничего не изменилось: мореного дуба письменный стол, отделанный под старину книжный шкаф, мраморный бюст Сократа на выдвижной полке, обитый темно-красной кожей диван, текинский ковер, вольтеровское кресло с подножником, корабельный барометр на одной стене, картина Айвазовского (подлинник) - на другой, бронзовая нимфа, поддерживающая абажур торшера. Михаил бывал в кабинете не раз, но только сейчас осознал, что каждая вещь здесь рассчитана на определенный эффект - внушить почтение к хозяину. А еще он подумал, и тоже впервые, что все эти антикварные вещи стоят немалых денег. "Патриарх" сидел в кресле у открытого, несмотря на холодную погоду, окна. На нем была теплая стеганая куртка, ноги укрывал шерстяной плед, на коленях лежала раскрытая книга, от которой он не отрывал глаз, слегка наклонив крупную, увенчанную гривой голову. До сих пор он не пользовался очками, и это тоже внушало уважение. Когда Михаил вошел, "патриарх" держал у поросшего волосами уха телефонную трубку, шнур от которой тянулся к аппарату на письменном столе, косился в книгу и лишь время от времени бросал в трубку неопределенно: - Да... Возможно... Надо подумать... Михаил замешкался в дверях: когда "патриарх" говорил по телефону, входить в кабинет не полагалось. Но его позвали, и он не знал, как быть. На всякий случай поздоровался. "Патриарх" даже не взглянул, продолжал ронять в трубку негромкие отрывистые фразы: - Трудно сказать... Пожалуй... Не обещаю, но прозондирую... Михаил хорошо знал эту манеру придавать своим словам предельную значимость, весомость. И то была не пустая рисовка - еще не так давно одного телефонного звонка "патриарха" было достаточно, чтобы решить судьбу той или иной производственной программы, стройки, проекта, не говоря уж о судьбах отдельных людей. Положение, которое долгие годы занимал Матвей Егорович, давало ему такую власть. И от этого трудно было отвыкнуть. Окончив разговор, "патриарх" передал трубку Анисимовне, которая подхватила ее и преданно отнесла к столу, возложила на аппарат. - Оставь нас, - все еще косясь в книгу, бросил хозяин старухе, и только когда она вышла, поднял на Михаила немигающие водянистые глаза, спросил строго: - Что с головой? Михаил невольно тронул заклеенный пластырем висок, но тут же усмехнулся: - Пустяк, ушибся. - Надолго приехал? - выдержав приличествующую паузу, спросил "патриарх". - Улажу одно дело, заберу свои вещи и больше не стану беспокоить вас. - Это надо было сделать двенадцать лет назад, - изрек "патриарх", не отрывая, однако, глаз от заклеенного пластырем виска Михаила. Пластырь и угадывающаяся под ним вмятина чем-то смущали его. Но вот он отвел взгляд, осведомился уже деловито: - У этой женщины есть квартира? - У какой женщины? - не понял Михаил. - Тебе лучше знать, к кому ты ушел... Молчишь? Значит, и она тебя выставила. - Меня никто не выставлял, - растерялся Михаил. - Понятно, - губы Матвея Егоровича дернулись в усмешке. - Будешь настаивать на размене, бегать по судьям, адвокатам? - Ах, вот вы о чем! Спрашивать, кто наврал, что он, Михаил, ушел от Алины к другой женщине, бессмысленно - если "патриарх" говорит утвердительно, никакие возражения не принимаются во внимание. Невольно подумал, что эта сплетня вряд ли исходит от самой Алины, скорее всего, ее пустила Анисимовна старуха всегда недолюбливала его. Такую небылицу мог сочинить и Вартанов, долгие годы ходивший в помощниках "патриарха" и не оставивший его затем верноподданическим вниманием, а также партнерством по субботнему бриджу. Правда, тот же Вартанов не раз предостерегал Михаила от Геннадия и тех козней, которые тот строит. Но Михаил не хотел думать слишком плохо о Геннадии, потому что некогда сам перешел ему дорогу, отлучив от клана "патриарха"... - Не беспокойтесь, на квартиру я не стану претендовать. "Патриарх" неопределенно кивнул и снова уставился в книгу, давая понять, что им не о чем говорить. Но Михаил думал иначе. Стоило ему войти в эту комнату, увидеть тестя, заговорить с ним, как поднявшаяся из глубины забвения волна вынесла на поверхность все, что произошло в начале июня и раньше, когда Алина по настоянию отца перешла из института в главк. Вспомнил и то, о чем наушничал ему Вартанов, когда обнаружилась фиктивность заявки и Вартанов не на шутку струсил. Задним числом понял, что ему следовало объясняться не с Алиной - с "патриархом", но тут жеосознал, что тогда в июне у него не хватило бы духу говорить об этом. Сейчас же ему нечего было терять, и он позволил себе то, чего раньше не позволял в этом доме - взял стул, сел напротив хозяина: - Матвей Егорович, когда вы были начальником главка, кто, кроме вас, подписывал наряды на внеплановый металл? Старик поднял голову, вонзил в собеседника немигающий взгляд грозно округлившихся глаз. Так он смотрел лишь однажды - много лет назад, когда Михаил объявил, что расписался с его дочерью. Но на этот раз зять не оробел. Возможно потому, что патриарший гнев погас так же быстро, как вспыхнул, едва водянистые зрачки натолкнулись на квадратик пластыря. На какой-то миг Михаилу показалось, что в глазах тестя мелькнул испуг. Но если это было так, то "патриарх" - надо отдать ему должное - быстро овладел собой. - Зачем это тебе? - Хочу знать. - Ну так знай: все эти годы я терпел тебя только потому, что ты не совал нос не в свои дела. - Вопросы снабжения металлом - тема моей научной работы. - О Господи, до чего докатилась наука! То, с чем раньше запросто справлялась экономист Мария Ивановна, нынче стало проблемой для целого научно-исследовательского института. - Губы Матвея Егоровича дернулись в пренебрежительной усмешке. - Но насколько мне известно, ты уже не работаешь в институте и этой, с позволения сказать, проблемой больше не занимаешься. - Сейчас меня интересует не наука - практика. И то лишь потому, что ею занимается Алина в том самом главке, о котором идет речь. - Группой металлов, как тебе известно, руководит Геннадий. - Но Алина визирует наряды, которые он готовит. А Геннадий уже не раз подводил ее. И не потому, что не разбирается в этом, а потому, что он делец и пройдоха! - Это твоя ревность сочинила, - хмыкнул "патриарх". - Не можешь забыть, что он был у Алины до тебя? Так вот, имей в виду: в личные дела дочери я не вмешиваюсь. Полагаю, она сама в состоянии разобраться со своими бывшими мужьями. - Дело не в мужьях, в незаконной выдаче нарядов, - едва сдерживаясь, возразил Михаил. - А тебе известно, что такое законный наряд? "Патриарх" пристально посмотрел на Михаила, словно пытался угадать, что стоит за его словами. Не дождавшись ответа, принялся разглагольствовать: - Законный наряд - это то, что в целом ряде случаев тебе уже не надо, а надо мне, но что, тем не менее, получаешь ты. Но как быть мне - вот вопрос? Когда бы все делалось, как пишут в инструкциях, справочниках, диссертациях, не было бы нужды в снабжении и снабженцах: заложи в вычислительную машину план, фонды, заявки, нормативы и только успевай нажимать кнопки. В действительности же тысячи людей мотаются по командировкам, жуют холодные котлеты, спят на раскладушках в гостиничных коридорах, обивают пороги плановых снабженческих организаций, ловят в вестибюлях таких людей, как Геннадий и твоя бывшая жена, заглядывают им в глаза, просят, умоляют. Причем не для себя просят - для завода, фабрики, стройки, которые завтра станут, не выбей снабженец сегодня баржу леса, вагон цемента, полсотни тонн проката... Он уводил разговор в сторону, но Михаил не сразу понял это и невольно потер лоб, пытаясь удержать разбегавшиеся мысли. - Я понимаю... знаю, что бывают просчеты в планировании, что корректировки производственных программ не всегда подкрепляются материальными ресурсами, - обдумывая каждое слово и вместе с тем стараясь не потерять нить разговора, сказал Михаил. - Случается, поставщики не выполняют своих обязательств... Осекся, поймав себя на том, что пошел на поводу у тестя. Разозлился на него и на себя, повысил голос: - Я не считаю всех снабженцев проходимцами! Но то, что делается с распределением металлов в главке, которым вы руководили... - Вот когда я руководил, и надо было говорить со мной, - перебил его "патриарх". - А сейчас ты обращаешься не по адресу, мой милый. Он кривил душой: Вартанов и Геннадий, вплоть до июня, когда разразился скандал, бегали к нему чуть ли не каждый день, шушукались в этом кабинете по каким-то только им известным делам. Михаил достал из кармана и показал тестю потертый на сгибах наряд, из-за которого заварилась вся эта каша. - Это подпись Полудня? Вы должны знать его подпись, он был вашим заместителем. "Патриарх" мельком взглянул на наряд и снова уставился на Михаила, сказал почти безразлично: - Этот наряд аннулирован. Он был выдан ошибочно. Михаил опешил - такого он не ожидал, но затем пересилил себя, усмехнулся: - Значит, и вы имели к этому отношение? Матвей Егорович небрежно пожал плечами: - Уже больше года, как я ушел из главка. - Но там остались люди, которые прислушиваются к каждому вашему слову! - вырвалось у Михаила. Однако "патриарха" нелегко было смутить: - Ты наивен, как ребенок. Отставным пророкам внимают разве что из любопытства, а к руководству и исполнению принимают только то, что вещают действующие оракулы, какие бы глупости они не изрекали. Он снова уводил разговор в сторону, но на этот раз Михаил не поддался: - Откуда же вам известно, что наряд был аннулирован? - Алина сказала после того, как ты закатил ей истерику. - По-вашему, лучше было бы, если б она угодила в тюрьму? - взорвался Михаил. - Неужто не понимаете, что от такого не отопрешься? Он потряс нарядом. - Дай-ка взглянуть. Не разгадав подвоха, Михаил передал ему наряд. "Патриарх" скомкал документ и сунул за отворот стеганой куртки. Михаил рванулся к нему, но его остановил насмешливый голос тестя: - Ты что, драться намерен? Ну давай, колоти старика за все, что он сделал для тебя. - Верните наряд! - Михаил сжал кулаки. - Он тебе без надобности. В ОБХСС его не понесешь - духу не хватит. А трясти им перед Алиной я не позволю. И без того ты измотал ей нервы. Звучащая в его голосе насмешка уступила место гневным интонациям. - Когда женщина, которая была тебе не только женой, но и сестрой, матерью, нянькой, совершает ошибку, ты должен поклониться ей в ноги, а не бить по физиономии. - То была не ошибка - преступление! Наряд выдан под фиктивную заявку, подпись в нем подделана, его получил негодяй и прохвост Липницкий. Вы хорошо знаете этого человека: он не раз бывал в этом доме! На этот раз "патриарх" промолчал. - Уверен, что Алина связалась с Липницким не по своей инициативе, не унимался Михаил. - Последнее время ее окружали такие пройдохи как Вартанов, Геннадий. Не сомневаюсь, что ее запутали, обманули, поставили перед свершившимся фактом. - Нашел наивную девочку тридцати пяти лет от роду, - хмыкнул Матвей Егорович. - Она не святая, я знаю. И все-таки она была честным человеком, пока вы не втянули ее в темные дела. - Я втянул? Соображаешь, что говоришь?! - попытался возмутиться "патриарх". - Да, вы! - снова повысил голос Михаил. - Вы знали, как к ней подойти, как уговорить, задобрить - ведь она ваша дочь. Вы принудили ее оставить институт, перейти на работу, в которой она не разбиралась только потому, что так было надо вам. Чтобы избежать неприятностей, вы были вынуждены уйти из главка, который уже не воспринимали иначе как свою вотчину. Правда, там оставались ваши присные Геннадий и Вартанов, но они отреклись бы от вас на следующий день, если бы вы не связали с ними Алину. У нее были дипломы, звания, незапятнанное имя, сильный характер - в общем все, что требовалось для уготованной ей роли. А то, что она ничего не смыслила в материалах, было вам даже на руку! "Патриарх" отбросил плед, на удивление прытко для своих лет вскочил, размашистым шагом подошел к столу, нацедил из сифона воды, выпил залпом и только затем заговорил, отступив к кафельной печке и привалясь к ней спиной: - Ты никогда не блистал умом, Михаил, но я не предполагал, что ты такой дурак. А может, притворяешься таким, потому что тебе так выгодно? Впрочем, это уже не суть важно. Мы говорим начистоту: я выслушал тебя, теперь послушай меня. Твой брак с Алиной никогда не вызывал у меня восторга: ты был желторотым юнцом, она - взрослой и в общем-то разумной женщиной. Но ты был ее прихотью, а я не привык отказывать дочери ни в чем. Ты жил в моем доме, ел за моим столом, учился и работал там, куда я устроил тебя, ездил на моей машине. Чего тебе не хватало?.. Мои дела! Что ты знаешь о них? То, что накропал в своей диссертации? Но прости, это бред! Рациональные схемы хороши там, где все рационально, где все имеется в наличии, разложено по полочкам, складам, базам. А когда нет того, не хватает другого, это устарело, а то не лезет ни в какие ворота, с твоими схемами можно сходить только в одно место... Да, выдавал незаконные наряды! Незаконные с точки зрения твоих схем, а с точки зрения нужд предприятий - необходимые. Шел навстречу людям - каюсь! Вникал в суть вопроса, а инструкции откладывал в сторону - виноват! Делал одолжение одним и одалживался у других - расстреляй меня! - И все это вы делали бескорыстно? - усмехнулся Михаил. - Дурацкий вопрос! - рассердился Матвей Егорович. - Но ты задал его, и я отвечу. Да, меня благодарили порой, и я не отклонял этих благодарностей потому, что и заслуживал их и что, в свою очередь, должен был кое-кого благодарить. Однако знал меру и никогда не зарывался. Для тебя это новость? Странно. Мы жили под одной крышей, встречались каждый день. Где были твои глаза? Выходит, ты ничего не видел, кроме своей распрекрасной Алины. Но в таком случае скажи, пожалуйста, на какие средства твоя бывшая жена обновляла и пополняла свой гардероб, для которого в доме уже не хватало шкафов? На какие шиши она и ты ездили на пикники, в круизы, принимали гостей, шатались по ресторанам? А машина, дача, годы ее и твоей учебы в институте, аспирантуре? Ты же экономист, кандидат наук, вот и посчитай, во что это обходилось. Тут не потребуется уравнений, интегралов, сетевых графиков - соверши элементарные арифметические действия: сложи ваши доходы и вычти расходы. Заранее скажу, что получится отрицательная величина. И довольно значительная. Так вот, этот дефицит покрывал я. Да, представь! Понимаю, за любовью, наукой, мировыми проблемами, что вы решали, было недосуг думать о таких пустяках. Но как-то твоя бывшая жена взяла карандаш и подсчитала. Она помышляла о норковой шубке, а ты был непрочь приобрести новую машину - старую вы заездили вконец. Вот ей и пришлось заняться арифметикой. Не скрою, я посоветовал - взял такой грех на душу! Но не жалею. Потому что цифры, имей в виду, категория неумолимая. И Алина это поняла. Советую и тебе на досуге поупражняться в арифметике. А когда закончишь подсчеты, подумай: вправе ли ты претендовать на роль прокурора? Михаил не нашел что возразить. В словах Матвея Егоровича была доля правды. Но была и ложь, окрашенная под правду настолько ловко и беспардонно, что отличить ее от правды так вот сразу Михаил не мог. А еще он подумал, что не зря боялся своей памяти - от такого не отрешишься ни за день, ни за год. Наивным было и его стремление одним махом рассчитаться с прошлым: он был должен не прошлому - себе нынешнему...15
В Киев вылетели первым утренним рейсом, Жмурко задремал, едва опустился в кресло, не мудрено - работали всю ночь. А Валентину не хотелось спать - нервы были напряжены, и сбросить это напряжение сейчас, когда дело не просто сдвинулось с мертвой точки, но и стремительно приближалось в развязке, было не просто. Результат выхода на Липницкого не замедлил сказаться, невзирая на то, что самого Липницкого уже не было в живых. При обыске его квартиры на одном из ковров эксперты обнаружили замытое пятно. Подозрительное капельное пятно отыскали и в багажнике бурыхинской "Лады". Анализами, которые по настоянию Билякевича были произведены незамедлительно, эксперты установили, что оба пятна были оставлены кровью, по составу идентичной крови Михайлова-Нагорного. Одновременно были исследованы соскобы пыли со стены кабинета Липницкого - с того места, где висела картина. Конфигурация нарушенного пылевого слоя и химический анализ соскобов позволили сделать вывод, что за картиной до недавнего времени лежала какая-то сложенная то ли вдвое, то ли вчетверо бумага, скорее всего документ, исполненный на бланке: в соскобах удалось обнаружить элементы как типографской краски, так и краски, которой покрывают ленты пишущих машинок. И это было не все. Начал проявляться сообщник Липницкого "светлоусый": свидетель Димаров не только опознал по фотороботу мужчину, которого видел несколько раз с Липницким, но и внес коррективы в сам фоторобот. Парикмахер Димаров знал толк в пластике человеческого лица. Уточненный фоторобот Валентину вручили на аэродроме, перед самым вылетом. Некоторые сведения о "светлоусом" сообщила и "стальная" Нелли, которая после недолгого препирательства начала давать показания. Давала она их торопливой скороговоркой, а умолкала лишь затем, чтобы вытереть слезы, высморкаться и в очередной раз спросить со всхлипом: "А что мне за это будет?" От нее Валентин и Жмурко узнали немало любопытного о покойном Липницком. "Светлоусого" Нелли знала хуже и даже путала его имя - не то Альберт, не то Эдуард (всех не упомнишь!). Но у Валентина сложилось впечатление, что Нелли по какой-то причине говорит о "светлоусом" не все, что знает. С Бурыхиным было еще труднее: он отрицал все и вся. При этом так врал и путал, что нельзя было верить ни одному его слову, а допустить можно было все... В Бориспольском аэропорту Валентина и Жмурко встретил капитан Годун из УБХСС республики. Долговязый, в очках, он чем-то напоминал Паганеля из кинофильма "Дети капитана Гранта". Но сходство было лишь внешнее, Годун оказался толковым человеком, вопросы понимал с полуслова, говорил по существу, оттеняя главное и в то же время не опуская деталей, которые в таком деле могли сыграть немалую роль. Пока добирались до города, успели обменяться взаимной информацией, после чего Валентин уже мог в общих чертах представить ход событий, которые привели Нагорного в Сосновск, столкнул с дельцом Липницким и его "командой". Все кажется простым и понятным, когда располагаешь необходимой информацией... Сотрудник научно-исследовательского института кандидат экономических наук Михаил Алексеевич Нагорный последние несколько лет занимался разработкой рациональных схем снабжения предприятий республики прокатом черных металлов. Вопрос этот непростой: практика планирования и снабжения металлом промышленных, сельскохозяйственных, строительных, транспортных, торговых предприятий далеко не идеальна. Изучая работу ряда снабженческих учреждений, Нагорный часто бывал в главке, которым до середины прошлого года руководил его тесть - Матвей Егорович Шевчук. В этом же главке работала жена Нагорного - Алина Матвеевна, тоже кандидат наук. На практическую работу Алина Матвеевна перешла сравнительно недавно года полтора назад, а до этого была таким же научным сотрудником, как Нагорный. Впрочем, не совсем таким. Занимаясь в институте теоретическими вопросами, Алина Матвеевна плохо представляла организационно-техническую работу снабженческого главка. Тем не менее она согласилась возглавить один из самых сложных отделов - отдел материалов, в состав которого входила группа металлов. Очевидно полагала, что ученая степень дает ей на это право. Ее неопытностью воспользовался руководитель группы металлов Редченко, еще до назначения Алины Матвеевны не раз нарушавший планово-снабженческую дисциплину. С приходом в отдел Алины, Редченко и вовсе распоясался: в целом ряде случаев дефицитные сортименты металлов занаряживались тем предприятиям, которым они не планировались, а предприятия, которые должны были получать эти металлы в плановом порядке, недополучали их. Первое время это списывалось на неопытность нового начальника отдела, потом на ошибки, которые могут быть в любом деле, а потом в контрольные органы стали поступать сигналы о том, что распределение проката целиком и полностью дано на откуп Редченко, который вершит этим распределением далеко небескорыстно. Схватить его, что называется за руку, было нелегко. Но в начале июня его все-таки поймали на горячем - наряд на внеплановый металл под "липовую" заявку был такой уликой, от которой Редченко, казалось бы, не отвертеться. И вот что любопытно: фиктивность заявки была установлена не кем иным, как Нагорным, которого руководители главка попросили помочь разобраться в той путанице с распределением проката, что за последнее время воцарилась в отделе материалов. Однако при этом не было учтено, что за беспорядки в группе металлов наряду с Редченко несет ответственность и Алина Матвеевна. Очевидно, руководители главка не подумали об этом, а возможно, - и это скорее всего, - не ожидали такого финала: в задачу Нагорного не входила ревизия. Тем не менее, обнаружив фикцию, Нагорный не счел возможным скрыть это. Больше того - обратил внимание и на то, что в контрольном экземпляре наряда, который остался в главке, отсутствует подпись руководителей последнего. А это уже наводило подозрение и на Алину Матвеевну. Понимал ли Нагорный, что, разоблачая подлог, он тем самым ставит под удар свою жену? Несомненно. Но Алина Матвеевна могла отделаться легким испугом, если бы удалось перехватить уже выданный наряд и заставить молчать инициаторов этой махинации. И Нагорный принимает такое компромиссное решение - сейчас это уже ясно: на следующий день после обнаружения фикции подает заявление об увольнении и, не дожидаясь приказа, выезжает из Киева в неизвестном направлении. Собственно, теперь уже известно, куда и зачем он ехал. Надо думать, что к такому решению он пришел не без внутренней борьбы. И хотя его поступок оправдать нельзя, но понять можно: что ни говорите - жена... Последующие события развивались так: против Редченко было возбуждено уголовное дело. Но поскольку наряд не был предъявлен к исполнению, Алина Матвеевна утверждала, что первые его экземпляры начальник главка подписал в ее присутствии, сам начальник не мог сказать ни "да", ни "нет" - за день он подписывает сотни нарядов. Редченко категорически отрицал соучастие в подлоге ("Проглядел, но не умышленно!"), а Липницкий вообще не пожелал говорить на эту тему ("Не понимаю, о чем вы? Эту заявку вижу впервые!"), дело пришлось прекратить. Редченко отделался дисциплинарным взысканием, Алина Матвеевна получила выговор. Небезынтересно отметить, что в ходе следствия Редченко, Вартанов и даже Алина Матвеевна все непорядки в работе группы металлов ставили в вину... Нагорному, чьи схемы якобы внесли путаницу в распределение строго фондируемых сортиментов металлов... - Все понимаю, за исключением одного, - как бы подводя итог, сказал Валентин: - Почему Липницкий пошел на крайнюю меру? Оставим в стороне моральные соображения - у такого Липницкого их не могло быть. Но как делец он должен был все рассчитать. Допустим, что Нагорному удалось изъять у него наряд. Ну и что? - Липницкий терял крупный куш, - сказал Жмурко. - Представляешь, сколько бы он получил, пусти налево сто двадцать тонн кровельного железа? Кто из застройщиков, владельцев дач не помышляет о железной крыше? У тебя нет дачи? - Счастливый человек! - Это не повод для убийства. Смерть Нагорного ничего не меняла: подлог был уже обнаружен, и предъявить наряд к исполнению Липницкий не мог. - Видимо, он опасался разоблачения. - Не в интересах Нагорного было изобличать его, Липницкий мог указать на Алину Матвеевну как на соучастницу преступной махинации... Они спорили до тех пор, пока Валентин из кабинета Годуна не позвонил в Сосновск Билякевичу. Были новости. Переговорив с шефом, Валентин сообщил Жмурко и Годуну, что Бурыхин стал более откровенен. Не всему из того, что он говорит, следует верить и сейчас, но в одном его показания совпадают с показаниями "стальной" Нелли - незадолго до покушения в квартире Липницкого появился "светлоусый". Ни имени, ни фамилии его Бурыхин не знает, так как видел его лишь однажды - вечером четвертого июня, да и то недолго. Тем не менее Бурыхин утверждает, что "светлоусый" вошел в квартиру Липницкого, когда там уже находился Нагорный. И вошел не просто, а таясь от Нагорного - сразу прошмыгнул в ванную комнату, притаился там, чему способствовал хозяин и отчасти Нелли. - По-моему, Бурыхин продолжает врать, - выслушав Валентина, сказал Жмурко. - От себя главный удар отводит. Поэтому и приплел "светлоусого". - Но, надеюсь, вы не сомневаетесь, что "светлоусый" был заодно с Липницким? - стал горячиться Валентин. Годун, до этого не вмешивавшийся в их спор, попросил показать фоторобот "светлоусого". Валентин открыл свой дипломат и, порывшись в бумагах, нашел фоторобот. Годун долго рассматривал его, затем удовлетворенно кивнув, сказал таким тоном, словно речь шла о чем-то несущественном: - Хорошо сделан, добротно. Особенно похожи усы. Как две капли воды. Только он их уже сбрил. - Кто? - не понял Валентин. - Редченко.16
Попасть на прием к Алине Матвеевне оказалось непросто: в коридоре у двери, на которой красовалась зеркальная табличка с ее фамилией, переминались с ноги на ногу шесть или семь солидного вида мужчин, судя по их пухлым портфелям - приезжие. - У Алины Матвеевны совещание, - предупредил один из них. - Мы уже полтора часа ожидаем. Вот, занимайте очередь. - А мы как раз на совещание, - нашелся Годун и толкнул дверь. За дверью оказалась небольшая приемная, где восседала остроносенькая надменная девица - секретарь отдела. - Алина Матвеевна не принимает, - не глядя на вошедших, строго предупредила она. - Обращайтесь к Геннадию Константиновичу. - Мы на минутку, - сказал Годун и, прежде чем строгая девица успела помешать, толкнул еще одну, обитую лоснящейся кожей дверь... Валентин представлял эту женщину другой: эдакой ответственной дамой, подчеркнуто официальной даже в своих улыбках. Ну, разумеется, прическа от парикмахера, скромный, но хорошо пошитый костюм или же платье деловой женщины. А у нее были черные, как смоль, волосы, непослушной волной спадавшие на лоб, быстрый, но не бегающий взгляд, мягкая полуулыбка, что не сходила с красиво очерченных губ, тонкие, ухоженные, но сильные в пожатии руки. И наряд ее не соответствовал занимаемому положению: кожаная куртка, под ней свитер, и совсем уже неожиданно темно-синие вельветки, что надо признать, подчеркивали стройность фигуры. Никакого совещания у нее не было. Алина Матвеевна сидела в одиночестве за письменным столом перед раскрытой папкой со служебной почтой и, судя по горе окурков в пепельнице и белесым волнам дыма, курила сигарету за сигаретой. Узнав Годуна, она не удивилась его приходу, встала, подала руку, спросила, не гася улыбки: - Что, опять по мою грешную душу? - Такова наша служба, - серьезно, но нестрого сказал Годун, а затем представил приезжих. - Уголовный розыск? - удивилась Алина Матвеевна, подавая руку и Валентину. - У нас серьезное дело, Алина Матвеевна, а потому предупредите секретаря и товарищей, которые ожидают приема, что вы будете заняты до конца дня. Не надо выходить, позвоните по телефону. - Даже так! - Алина Матвеевна пристально посмотрела на Валентина, и он отметил, что у нее воспалены глаза, то ли от табачного дыма, то ли от слез. Она не стала спорить, включила селектор, сказала секретарю то, что велел Валентин - ни слова больше. Затем погасила сигарету, открыла окно, взяла стул, села напротив Валентина, заложила ногу за ногу, обхватила руками колено. - Можно так сидеть? Когда волнуюсь, я принимаю такую вот непротокольную позу. Вас это не будет шокировать? - Почему вы волнуетесь? - счел нужным спросить Валентин. - Офицеры уголовного розыска не приходят из-за пустяков. - Она прикусила губу, потупилась, но затем вскинула голову, посмотрела Валентину в глаза: - Это связано с Нагорным, да? Спрашиваю потому, что виделась с ним не далее как вчера вечером и сегодня утром, а до этого он пропадал невесть где несколько месяцев. Он не счел нужным объясниться со мной по этому поводу. Но я заметила, что у него какая-то рана на голове. Вот здесь, - она показала на висок. - Что еще заметили? - На нем было все новое: плащ, костюм, туфли. С плаща даже не снята торговая бирка - признаюсь, полюбопытствовала тайком. Других вещей при нем не было. Это показалось мне странным... Что с ним произошло? Пожалуйста, если можно, скажите. Ее голос дрогнул, и Валентину показалось, что она вот-вот заплачет. Вряд ли это было наигранным. Тем не менее он не ответил и, в свою очередь, спросил: - Где вы виделись с ним? - Дома. Он пришел около девяти часов вечера, переночевал в своей комнате, а утром сложил в чемодан вещи и ушел. - С чемоданом ушел? - Да. - Куда направился, не знаете? - Сказал, что подастся в Приморск, где намерен обосноваться. Но перед тем заедет в какой-то город, чтобы оформить какой-то документ. В подробности не вдавался, а я не сочла удобным расспрашивать. - Поссорились? - Мы поссорились давно. - Но какой-то разговор был? Она опустила голову, и волосы черным крылом прикрыли ее лоб, глаза. - Нам уже давно не о чем было говорить. Что нового могут сказать друг другу люди, прожившие в браке двенадцать лет! - Но что-то все-таки было сказано? - Ничего из того, что могло бы заинтересовать милицию. - Ваша размолвка не связана с фиктивной заявкой на кровельное железо? - спросил Годун. - Последний год мы часто ссорились, а в конце апреля разошлись окончательно. История с заявкой была уже после этого. - Из-за чего вы разошлись? - полюбопытствовал Валентин. - Это важно? - Да. - Полтора года назад я перевелась из института, где долгое время работала, в главк. Михаил не одобрил мое решение. Но пока я работала в плановом отделе, он еще кое-как мирился с этим. А вот когда мне предложили возглавить отдел материалов, он, как говорится, встал на дыбы. - Почему? - Считал, что не справлюсь, зашьюсь. Но я поступила так, как сочла нужным. С тех пор мы перестали понимать друг друга. - Только из-за этого перестали понимать? - Была еще одна причина, о которой мне не хотелось бы говорить. - И все-таки? - Он ревновал меня к моему первому мужу - Редченко. - Вы были замужем за Редченко? - удивился Валентин. - Я развелась с ним давно, прожив с Геннадием меньше года, о чем не люблю вспоминать. - Алина Матвеевна поморщилась, как бы подчеркивая, что воспоминание и в самом деле неприятно ей. - Тем не менее сохраняю с ним нормальные служебные отношения, ведь мы - коллеги. Год назад, когда меня назначили начальником отдела, Геннадий оказался в моем подчинении. Так получилось. Но, поверьте, это ничего не изменило. - Так-таки и ничего? - снова вмешался Годун. - Представьте себе, товарищ капитан! - Алина Матвеевна недобро посмотрела на него. - Ведь даже, если я, как вы считаете, ворую вместе с ним, то это опять-таки связано только с работой. - Я не считаю, что вы воруете, - спокойно возразил Годун. - Но подозреваю, что Редченко берет взятки и делится с вами. - Что в лоб, что по лбу, все равно - тюрьма! - нервно рассмеялась она. - Ну, это будет видно: тюрьма или что-то другое. Вы - умная женщина, Алина Матвеевна, и должны понять, что у нас есть основания задавать вам неприятные вопросы. - И в ваших интересах не уходить от них, - подхватил Валентин. - Чистосердечное признание будет принято во внимание? - невесело усмехнулась она. И вдруг вскочила, подбежала к канцелярскому шкафу, распахнула дверцы, стала сгребать с полок какие-то коробочки, комплекты фломастеров, сувенирные фигурки. Все это взяла в охапку, бросила на стол. - Вот: духи, конфеты, сувениры, есть еще бутылка марочного вина, все это взятки! Как их всовывают в шкаф посетители, не знаю, я не в состоянии уследить за каждым. Но в конце недели все это выкладываю на стол и раздаю сотрудникам. Себе оставляю коробку-другую конфет, да и то не всегда. Можете спросить кого угодно! Понимаю: не оправдание, и я готова отвечать. - На вашем месте я бы не бравировал этим, - сказал Годун. - Но это не ответ на мой вопрос. Какую сумму вы получили от Липницкого за наряд на железо под фиктивную заявку? - Деньгами я не беру ни за наряды, ни за другое! - вспылила она. - Не будем осложнять этот и без того нелегкий разговор, рассудительно заметил Годун. - Но поскольку мы уже затронули эту тему, разрешите полюбопытствовать, кто подарил вам, коли деньгами вы не берете, дачу в Боярке, "Жигули", норковую шубу и, скажем, кольцо с бриллиантами, которое у вас на руке? О менее ценных вещах не будем уже упоминать. - Мы беседовали на эту тему четыре месяца назад! - Верно, беседовали, - согласился Годун. - Но я не помню всех деталей. - Что ж, извольте. Дачу мы с мужем приобрели, продав принадлежащий ему дом в Приморске. Машину купили на сбережения - все пять лет, что Нагорный учился в институте, он подрабатывал слесарничанием на станции автотехобслуживания и таким образом собрал значительную сумму. Правда, часть денег дал мой отец, но не так уж много - что-то около тысячи. Можете проверить! - Проверяли, все верно. Но скажите, если это не семейный секрет, почему и дача, и машина оформлены на ваше имя? Деньги-то были Нагорного. - Так получилось, - впервые отвела глаза Алина Матвеевна. - Сейчас уже не помню, почему. - Кто оформлял покупку дачи, машины? - Мой отец. Там были какие-то сложности, а отец - человек со связями. - Нагорный не возражал против такого оформления? - Нет. - А вчера и сегодня не заходил разговор о даче, машине? Нагорный, насколько я понимаю, уходил от вас насовсем. - О даче разговора не было. Что касается машины, то я предложила Нагорному взять ее, но вмешался отец... Алина Матвеевна осеклась, опустила голову. - Нагорный не спорил? - Нет, хотя отец был не прав. - В прошлый раз вы говорили, что норковую шубу вам подарил отец. Когда это произошло? - Полтора года назад. Он как раз уходил на пенсию. - Странно. - В чем вы усматриваете странность? У отца были сбережения, а я - его единственная дочь! - И все-таки в подобных случаях принято делать подарки тем, кто уходит на пенсию, а не наоборот. Не являлся ли этот довольно щедрый дар своего рода компенсацией вам за согласие оставить относительно спокойную работу научного сотрудника и взвалить на себя нелегкий груз руководителя отдела материалов? - Это ваши домыслы! - снова вскинула голову Алина. - Когда не получаешь вразумительного ответа, поневоле домысливаешь его. - Ну что ж, если угодно: мне осточертела наука или науке осточертела я, это как посмотреть, и нам пришлось расстаться. Вы удовлетворены? - Почти. Но почему отдел материалов? - Мне предложили - и я согласилась. Как та девица, которая мечтала выйти замуж за космонавта, а в загс пошла с бухгалтером. На вещи надо смотреть реально. - В том числе и на норковую шубу? Алина Матвеевна не ответила. - Ну хорошо, - примирительно сказал Годун. - Будем считать этот вопрос исчерпанным. Остается кольцо с десятикаратовым, если не ошибаюсь, бриллиантом. Помнится, когда мы беседовали в июне, на вас не было этого кольца. Губы Алины Матвеевны дернулись в усмешке, что не укрылось от Валентина. - Я сняла его тогда, чтобы не вводить вас в заблуждение. Ведь в вашем понимании драгоценности носят только преступницы. - Я так не думаю, но тем не менее жду объяснений. - Мне нечего скрывать! Это подарок моей первой свекрови - реликвия досточтимого семейства Редченко - уже по-другому, недобро усмехнулась Алина Матвеевна. - Свадебный подарок? - не отступал Годун. - Геннадий еще не был моим мужем. Мы только встречались, а его маман всячески препятствовала этому, считая, что я неровня ее сыну. - Чем же объяснить ее последующее расположение к вам? - Сущим пустяком. Я забеременела, ее сынок испугался и потащил меня к знакомому гинекологу, который едва не отправил меня на тот свет. Достаточно сказать, что после этого я лежала в реанимации, и ни один врач ни за что не ручался. Это случилось в Приморске, куда тотчас же прилетела Редченко-маман, чтобы замять скандал. Вот так я получила это кольцо, взамен надежды стать когда-либо матерью. Пикантная история, не правда ли, товарищ капитан? - Простите. - Пожалуйста! Валентин, не пропустивший ни одного слова Алины Матвеевны, пытался понять, насколько она искренна сейчас. Вопросы были для нее неприятны, но неизбежны. Очевидно, она понимала это и говорила если не всю правду, то значительную часть ее. Но чего-то безусловно не договаривала, и это тоже было понятно. Как ни странно, Алина Матвеевна производила приятное впечатление и как женщина - ничего наигранного, жеманного, все в меру, не исключая желания казаться оригинальной, привлекательной, - и как собеседник - умна, сообразительна, находчива. Вот только юмор ее несколько мрачноват. Впрочем, в ее положении веселые шуточки вряд ли были уместны. Понимает ли она, чем вызван их визит? Очевидно догадывается: не случайно же сразу спросила о Нагорном. И спросила заинтересованно, взволнованно. Судя по всему, о происшедшим с ним в Сосновске не знает; скорее всего ей преподнесли какую-то иную, более-менее убедительную версию его исчезновения. Какие бы ни были у нее отношения с Редченко и Липницким, ни тот, ни другой не рискнули бы признаться ей в содеянном. Одно дело махинации с нарядами, другое - убийство, да к тому же человека, который многие годы был ей близок: не тот характер у Алины Матвеевны, чтобы двенадцать лет прожить с нелюбимым, постылым. Да и сейчас похоже, несмотря ни на что, Нагорный не безразличен ей. Это надо иметь в виду. Но для начала Валентин напомнил ей о Липницком. - Меня об этом уже спрашивал, а вернее, допрашивал капитан Годун, Алина Матвеевна отбросила волосы от глаз. - Я сказала тогда и повторяю сейчас, что не знаю никакого Липницкого. - Но вы визировали наряд на железо для несуществующей организации. - И об этом мы говорили с товарищем Годуном. Ежедневно я визирую десятки нарядов, доверяя руководителям групп, которые их готовят. - Доверять, конечно, надо, но и контролировать необходимо. - Виновата! - Алина Матвеевна, я готов поверить в вашу искренность: многое из того, что вы сказали, похоже на правду. Но одно ваше утверждение не могу принять - что вы не знали Григория Борисовича Липницкого. Он не раз бывал у вас по делам своего завода. Махинациями он занимался, если так можно сказать, попутно. - У меня ежедневно бывают десятки представителей всевозможных заводов, объединений, трестов. Я не могу помнить всех! - Разрешите не поверить. Вы не могли не запомнить Липницкого. Правда, ему перевалило за пятьдесят, но он был весьма представительным, галантным, красноречивым. - В этом кабинете все посетители становятся галантными, красноречивыми. Но я обращаю внимание - признаюсь - только на тех, кому до сорока. Пятидесятилетний мужчина пока что - не мой идеал. - Значит, не помните? - Не помню. - Кто же, в таком случае, указал Нагорному на Липницкого как на инициатора махинации с фиктивной заявкой? - Нагорному? - растерялась Алина Матвеевна. - При чем здесь Нагорный? - Мне кажется, вы знаете, при чем. Она опустила голову, принялась раскачиваться на стуле. - Нагорный - мальчишка! - глядя в пол, глухо сказала она. Тридцатилетний мальчишка с дипломом кандидата наук. Он знает, как оно должно быть, но не хочет понять, как оно есть. - Оно - это распределение проката металлов? - вступил в разговор Жмурко. - И проката в том числе. - А вы знаете, как оно есть? - Досконально об этом знает только Бог! - А может и Редченко? - Может быть, но сомневаюсь. Когда Нагорный поднял тарарам из-за этого наряда, Редченко заметался, как угорелый... Она осеклась, видимо поймав себя на том, что сказала лишнее. - Считаете, что Нагорный должен был замять эту историю? - Нет, почему же! У него свои принципы. - Но они не совпадают с вашими? Алина Матвеевна неопределенно повела плечами. - Вас не обеспокоило исчезновение Нагорного четыре месяца назад? спросил Валентин. - Обеспокоило. Но потом я узнала, что он уехал к какой-то женщине, в связи с которой состоял. - А вам не показалось странным, что он оставил дома свои вещи и уехал в одном костюме? Алина Матвеевна настороженно посмотрела на Валентина. Прошло с полминуты, пока она произнесла неуверенно: - Михаил - своеобразный человек. Он всегда был равнодушен к вещам, к тому, как и во что одет. А потом я думала, что его неприязнь возросла настолько, что он готов пожертвовать чем угодно, лишь бы не встречаться со мной. - Он дал вам повод так думать? - Другого объяснения не было. А повод, вернее, причина, была и есть я старше его на пять лет. Раньше это было не так заметно, а сейчас... она невесело усмехнулась, - когда он приходил в наш главк, с ним заигрывали девчонки - секретарши, вчерашние школьницы. Где уж мне до них! - Вы убедились в его неприязни и вчера вечером? Алина Матвеевна растерянно посмотрела на Валентина, затем развела руками, попыталась улыбнуться, но улыбки не получилось. - Я была настолько удивлена его появлением, что не подумала об этом. А сегодня... Когда мы прощались, он вдруг обнял меня, поцеловал и сказал: "Уйдем вместе!" - Она снова развела руками и попыталась улыбнуться, а потом добавила, как бы оправдываясь: - Он стал какой-то странный. Раньше таким не был. Наступила неловкая пауза. Валентину понадобилось некоторое время, чтобы собраться с мыслями, сформулировать следующий вопрос: - В начале июня, когда Нагорный ушел из дома, он говорил вам, что уходит к другой женщине? - Нет. Об этом я узнала позже. - От кого? - Не все ли равно. - Я настаиваю на ответе. - Мне сказал об этом Редченко, спустя день или два после того, как уехал Михаил. Валентин переглянулся с Жмурко. Тот согласно кивнул. - Алина Матвеевна, теперь я могу ответить на вопрос, который вы задали в начале нашего разговора, - сказал Валентин. - Вас интересует, что в действительности случилось с Нагорным? - Да, конечно. Она встала, подошла к столу, взяла сигарету, закурила. Валентин заметил, что у нее дрожат пальцы. Вернувшись на место, Алина Матвеевна обхватила плечи руками, словно ей стало холодно. Слушая Валентина, не проронила ни слова. Он рассказал о том, что было известно следствию до выхода на Липницкого. По мере его рассказа Алина Матвеевна все больше сутулилась, а затем уронила голову и расплакалась. - Вчера я почувствовала, что с ним произошло нечто страшное, но что, не могла понять, - сквозь слезы сказала она. - О своих бедах, неприятностях Миша и раньше не любил распространяться, а тон и тема нашего вчерашнего разговора не располагали к откровенности. Но я хорошо знаю его: когда он сталкивается с несправедливостью, хамством, то заводится с полоборота, лезет на рожон, в драку. Верно, завелся с какими-то хулиганами. - Я бы не назвал Липницкого хулиганом, - счел нужным заметить Валентин. - Нет! - Она вскочила, побледнела. - Да, - сказал Валентин. - Подробности узнаете несколько позже. А сейчас прошу ответить на вопрос, который вам уже задавали, но ответить правду. Как получилось с нарядом на кровельное железо? Алина Матвеевна, словно в нерешительности, опустилась на стул, закрыла лицо руками и так сидела некоторое время, но потом опустила руки и стала рассказывать: - Наряд выписал Редченко, принес мне на визу, сказал, что документ надо срочно выслать поставщику, и он сам даст его на подпись начальству. С ним был Липницкий, которого - вы правы - я знала как снабженца Сосновского машиностроительного завода. Липницкий был заинтересован в этом наряде и преподнес мне коробку конфет "Ассорти", чему я не придала значения - он всегда дарил мне знаменитое сосновское "Ассорти", и я находила это в порядке вещей. Но о том, что заявка была фиктивной, я, клянусь, не знала. Фиктивность заявки установил Нагорный на следующий день, так получилось. Произошло это то ли второго, то ли третьего июня. Редченко на месте не было, он выехал в командировку, и Нагорный взял в оборот меня. Вначале я отпиралась, но потом назвала Липницкого. - Как вы объясните, что контрольный экземпляр наряда не подписан начальником главка? - спросил Годун. - В июне вы сослались на то, что руководители главка подчас в спешке оставляют не подписанным последний экземпляр. - Я считала, что так оно и было. Редченко сказал, что сам отнесет наряд на подпись. Обычно в таких случаях он прибегает к содействию своего товарища Вартанова, который, как референт начальника главка, может заходить к шефу в любой момент. Уже после того, как стало известно о фиктивности заявки, я спросила Вартанова, давал ли он на подпись начальству этот наряд. Вартанов ответил отрицательно. Тогда я поняла, что подпись подделал Редченко. - В своем объяснении вы указали другое - что наряд дали на подпись лично, и начальник главка подписал его в вашем присутствии. - Меня просили так указать. - Она отвела глаза. - Редченко просил? - Не только, - Алина Матвеевна замялась, но потом все же сказала: Меня просил об этом и мой отец. - Нагорный знал, что подпись в наряде подделана? - Утверждать это можно только имея первые экземпляры наряда, а они были выданы. Но Нагорный догадался о подлоге и обвинил в этом меня. Я уже рассказала, как оно было. Такого обвинения я не заслуживала. - А вы понимаете, с какой целью Нагорный поехал к Липницкому? - не выдержал Валентин. - Понимаете, из-за чего, а вернее, из-за кого он едва не поплатился жизнью? Алина Матвеевна не ответила.17
У Годуна и Жмурко еще были вопросы к ней, и Валентин оставил их, поднялся этажом выше, зашел в отдел кадров, попросил разрешения позвонить в Сосновск. Связавшись со следователем, он уточнил ряд моментов, а заодно узнал о новых и, притом немаловажных откровениях Бурыхина и "стальной" Нелли. То были как бы завершающие мазки на холсте: все обрело последовательность и ясность. Тем не менее Валентин не ощутил ни радости, ни облегчения, которые обычно приходили с окончанием трудного дела. Он даже не мог сказать, что удовлетворен собой - все оказалось проще, но куда грязней, чем этого можно было ожидать от людей, всерьез претендующих на интеллигентность, респектабельность. На лестничной площадке, где висела табличка, указывающая на место для курения, Валентин достал сигарету, стал разминать ее, но так и не закурил. Мысль, осенившая его, как бы подводила итог. Преступление, которое он раскрыл, на первый взгляд явилось результатом стечения обстоятельств. Не переплетись столь необычно события и помыслы действующих лиц, не было бы и столь печального финала. И люди, так или иначе причастные к этой истории,чувствовали бы себя сейчас в полном порядке. Однако никакого порядка ни в делах, ни в помыслах этих людей не было уже давно. И то, что произошло четвертого июня в доме Липницкого, было в общем-то закономерно... С этими мыслями Валентин вернулся в кабинет Алины Матвеевны, спросил, на месте ли сейчас Редченко. - Должен быть, если не ушел домой, - гася в пепельнице очередной окурок, ответила Алина Матвеевна. - Хотите поговорить с ним? Валентин ответил не сразу, думал как быть. То, что предстояло сейчас, не требовало, а, строго говоря, даже исключало присутствие хозяйки кабинета. Но случай был особый, и Валентин вопросительно посмотрел на Жмурко. Тот неопределенно развел руками: дескать, поступай, как считаешь нужным. И Валентин решился: - Да. Пригласите его. Алина Матвеевна подошла к аппарату селекторной связи, сказала в микрофон: - Геннадий Константинович, зайдите ко мне. Гладко выбритый, аккуратно подстриженный, несколько полноватый, но держащийся молодцом, в такой же, как на Алине Матвеевне кожаной куртке, Редченко вошел в кабинет уверенной походкой человека, знающего себе цену. Увидев Годуна, холодно кивнул ему, недоуменно посмотрел на Валентина и только потом заметил, что Алина Матвеевна сидит посередине кабинета на стуле, обхватив руками плечи и понурив голову. Очевидно, смекнул, что дела его начальницы обстоят не лучшим образом и, уповая на свое начальство, сразу полез на рожон: - Что случилось, Алина? Они опять мотают тебе нервы? - Он повернулся к Годуну, поскольку из посторонних знал только его: - Ну вот что, капитан, хватит издеваться над женщиной! Уже полгода вы терроризируете ее. Один раз вас одернули. Так вот, учтите, теперь вам это обойдется дороже! Я знаю, к кому обращаться. Алина, почему ты не вызвала меня сразу? - Я вызвал вас, Редченко, - подошел к нему Валентин. - Простите, не имею чести знать!.. - продолжал хорохориться тот. - Майор Ляшенко из уголовного розыска. А чести, вы верно заметили, у вас нет. Какая может быть честь у убийцы! - Что?! - отпрянул Редченко. Но путь к двери ему преградил Жмурко. - Руки, Редченко! - повысил голос Валентин и с помощью Жмурко защелкнул на его запястьи наручники. - На каком основании?! - пронзительным фальцетом взвизгнул Редченко. - На основании ордера на ваш арест, - уже спокойно сказал Валентин. Пока что, я подчеркиваю - пока что, - вам предъявляется обвинение в покушении на убийство Михаила Алексеевича Нагорного, которое вы совершили вечером четвертого июня в Сосновске, в квартире хорошо известного вам Липницкого. - Чушь! Клевета! Я не знаю никакого Липницкого! Алина, что он говорит? Это какой-то бред! Редченко заметался по кабинету, но Жмурко перехватил его, усадил на стул. - Почему бред? - усмехнулся Жмурко. - Мы располагаем свидетельскими показаниями, заключениями экспертов, вашим словесным портретом... - Я не убивал! - снова стал выкрикивать Редченко. - Это неправда. Нагорный жив! - Остался жив, - уточнил Валентин. - Его спасли врачи, хотя шансов на то, что он выживет, было немного. - Это неправда! - Если вы страдаете забывчивостью, могу напомнить, как это произошло. В Сосновск вы приехали вместе с Липницким, чтобы помочь ему реализовать незаконный наряд на кровельное железо. На базе, где надо было предъявить наряд, вы не застали нужных людей и отправились в гостиницу. Вечером к вам пришел Липницкий со своей знакомой Нелли, и вы неплохо провели время. Нелли вам понравилась и вы, тайком от Липницкого, назначили ей свидание на следующий день. Но утром четвертого июня ваши планы были нарушены: вам сообщили, что в главке обнаружена фиктивность заявки, на основании которой вы выписали наряд. Не буду гадать: вы ли позвонили в Киев своему человеку или этот человек позвонил вам в гостиницу, но такая неприятная для вас информация поступила. На базу вы уже не поехали, а для Липницкого придумали какую-то отговорку. Почему вы так поступили, не знаю, но думаю, что еще надеялись получить от Липницкого хотя бы часть обещанного вознаграждения. Определенную роль сыграла и Нелли, свиданием с которой вы не хотели пренебречь. Она пришла в гостиницу около полудня. В ее обществе вы забыли о неприятности с нарядом. Но о них вам напомнил Липницкий: в конце дня он позвонил в гостиницу и сообщил, что к нему на работу явился Нагорный, который угрожает разоблачением и требует наряд. Вы испугались: не говоря о фиктивности заявки, под которую был выдан наряд, в самом наряде была подделана подпись руководителя главка, о чем не знал даже Липницкий. Вы велели ему под любым предлогом задержать Нагорного и стали лихорадочно искать выход из создавшегося положения. Вам надо было изъять у Липницкого наряд, ибо, при сложившейся ситуации, наряд сам по себе уличал вас в подлоге. Кроме того, необходимо было как-то обезвредить или, по меньшей мере, угомонить Нагорного, а это была трудная задача. Нелли еще находилась в вашем номере, и вам пришла мысль использовать ее как орудие: за определенное вознаграждение она должна была увлечь, а затем скомпрометировать Нагорного. Нелли согласилась не сразу, но вам удалось уговорить ее. Тем временем Липницкий привез Нагорного к себе домой, о чем сообщил вам по телефону. Вы посвятили его во вторую часть вашего плана и велели прислать машину за Нелли. В последний момент решили поехать вместе с ней... - Ничего подобного. Это было не так! - уже не столь громко, но все же еще деланно-возмущенно попытался возразить Редченко. - Так, Редченко, так, - не меняя тона, продолжал Валентин. - Мы располагаем показаниями Бурыхина, который заехал за вами и Нелли в гостиницу. Да и сама Нелли не стала отмалчиваться. Вы не намеревались попадаться на глаза Нагорному: он знал вас не хуже, чем вы его, и сразу бы понял, в чем дело. Квартира Липницкого позволяла незаметно для находящегося в комнате Нагорного войти и спрятаться в ванной. Что вы и сделали. Нелли пошла знакомиться и увлекать Нагорного, которого через некоторое время должна была попросить проводить ее домой. По вашему замыслу, уже в подъезде дома Липницкого ей надлежало спровоцировать скандал, а ожидавший этого момента Бурыхин должен был прийти ей на помощь, вызвать милицию. Пока Нелли испытывала свои чары на Нагорном, Липницкий готовил ужин и одновременно инструктировал Бурыхина. А вы сидели в ванной, пили коньяк и время от времени принимали доклады исполнителей о ходе "операции". Все шло хорошо, пока вы не вспомнили о первооснове ваших хлопот - наряде. И тут выяснилось, что Липницкий уступил требованию Нагорного - отдал наряд. Липницкий не понимал всей пагубности такой уступки - аннулированный наряд уже не представлял для него интереса. Но утратив свое значение как документ на получение материальных ценностей, этот наряд оставался уликой против вас. Вступить в переговоры с Нагорным вы не рискнули - надежд на то, что удастся найти с ним общий язык, не было, а запугать его - и вы это отлично знали - было непросто. Не оправдала ваших надежд и Нелли, чьи соблазны не произвели на Нагорного никакого впечатления - он предпочел телевизор. Более того, к тому времени, когда вы запаниковали, Нагорный уже собрался уходить, поскольку окончился футбольный матч, который он смотрел. И вот тут-то в вашу одурманенную коньяком голову пришла мысль физически расправиться с человеком, который вам уже не раз становился поперек дороги. Липницкий предложил другой вариант. Но вы уже не хотели отступать от задуманного. Страх уступил место злобе, которую вы давно таили, а злоба, как известно, не имеет пределов и плохо согласуется с рассудком. Вы не стали спорить с Липницким, но велели отпустить Бурыхина - лишний свидетель вам не требовался. Потом вызвали Нелли и, не посвящая ее в свой замысел, велели под любым предлогом вывести Нагорного в коридор, а сами спрятались за вешалкой. Когда Нагорный вышел из комнаты, вы нанесли ему удар по голове. Нелли упала в обморок - так она утверждает, и вы отнесли ее в ванную комнату и заперли там. Потом вдвоем с Липницким, которому ничего не оставалось, раздели Нагорного, так как считали его мертвым и думали уже о том, как бы скрыть улики, завернули тело в ковер, вынесли во двор, бросили в багажник машины. Липницкий сел за руль, а вы... Рассказывать дальше? - Это неправда! - осевшим голосом простонал Редченко. - Поверьте, он оклеветал меня! Это не я - он ударил Мишу молотком. Он, а не я! - Имеется в виду Липницкий? - спросил Жмурко. - Да, да! Это он слиповал заявку. Это он все закрутил, а потом втравил меня в эту аферу! Он и ее отец! - скованными руками Редченко показал на Алину Матвеевну. - Какая же ты мразь, Генка! - вырвалось у Алины Матвеевны. - Ты ненавидел Мишу еще с тех пор, как он пересчитал тебе ребра из-за меня в Приморске. Но я не думала, что ты дойдешь до такого, что ты такая мразь! Валентин хотел оборвать ее - гневная риторика Алины Матвеевны показалась ему наигранной и неуместной, но, повернувшись к хозяйке кабинета, тут же прикрыл собой Редченко - в руке Алины Матвеевны невесть откуда появилась тяжелая металлическая линейка. Годун подскочил к ней, отобрал линейку. - Алина Матвеевна, что за глупости! - Товарищ майор, - обратилась она к Валентину. - Я расскажу все, хотя знаю немного. Я была манекеном, болванчиком еще с той поры, когда здесь владычествовал мой отец, которому я ни в чем не смела перечить. По образованию я - текстильщик; диссертацию писала по мягкой таре; кое-что смыслю в нормативах на технические ткани, спецодежду. Но в металлах разбиралась, как свинья в апельсинах. А они: отец, Вартанов и Редченко разбирались. Они хорошо разбирались во всем! Я расскажу все, что знаю о Липницком и его махинациях. Только прикажите увести эту мразь, иначе я не отвечаю за себя... ...Каждый вечер он приходил на старый пирс у Южного мола, где некогда швартовались прогулочные теплоходы, а нынче чалились сейнеры рыболовецкой артели, чтобы запастись горючим из емкостей, врытых неподалеку в береговые дюны, садился на поржавевший кнехт спиной к молу и смотрел на море, но не на идущие от горизонта бесконечной чредой неторопливые волны, а в сторону едва различимой отсюда Песчаной косы. Смотрел долго, неотрывно и, казалось бы, бездумно. И все же какие-то мысли, чувства владели им, ибо время от времени он опускал голову и прикрывал рукой глаза, словно пытаясь удержать перед внутренним взором, нечто всплывшее из глубин забвения. Но это "нечто" тут же ускользало испуганной тенью в сгущающиеся сумерки. Его не смущала непогода, столь частая осенью в этих местах: резкий напористый ветер, секущий лицо дождь, штормовые волны, что с грохотом разбивались о стенку мола и, подчас перехлестывая через нее, доставали злыми стекловидными щупальцами до старого причала... Куртка с капюшоном плохо защищала его от рушившихся потоков, и он уже не раз уходил отсюда промокший с головы до ног. Но уходил лишь тогда, когда наползавшая с пологих черных склонов ночная мгла достигала линии прибоя - не раньше и не позже. Он ни с кем не заговаривал, а на вопросы любопытствующих отвечал односложно либо вовсе не отвечал - проходил мимо. Впрочем, ему не докучали расспросами: с тех пор, как морской вокзал перенесли на курортную набережную, напротив памятника морякам-десантникам, здесь, в районе Южного мола, было немноголюдно: в хорошую погоду мальчишки с ближних улиц ловили удочками рыбу, женщины стирали замасленные робы, половики; парни, укрывшись за вытащенными на берег лодками, перекидывались в картишки, прикладываясь к бутылке; хромоногий старик чинил ветхий баркас. К тому же жители Приморска, узнав его печальную историю, уже успели посудачить о ней и так и эдак, дополнить ее немудреными фантазиями, от которых уже не хотели отказываться. Да и уточнять подробности, детали этой истории у человека с поврежденной головой, который, имея (шутка ли сказать!) звание кандидата наук, слесарит на автобазе, вне работы ни с кем не общается, сторонится даже товарищей детских лет, как-то неловко и видимо бесполезно. Но однажды его остановил хромой старик - владелец баркаса, попросил закурить, хотя знал, что мужчина в болоньевой куртке не курит. Это был лишь предлог и, когда мужчина, смущенно улыбнувшись, развел руками дескать, некурящий, старик удовлетворенно кивнул, словно другого ответа не ожидал, и тут же тронул его за рукав, заглянул в глаза: - Ты и вправду не узнаешь меня, Миша? Мужчина расстерялся, стал вглядываться в изборожденное глубокими морщинами лицо, но вскоре покачал головой. - У меня с памятью, знаете ли... - Слыхал про твою беду, - перебил его старик. - Я с твоим дядей Петром Шевчуком с фронта еще приятельствовал. Опосля и с теткой твоей Дарьей знакомство водил. Дома у вас бывал. Алексей Карпенко я. Ты меня дядей Лешей звал. Не вспомнил? Ну, на нет и суда нет. Да и какой тебе интерес меня, старика, помнить? А вот внучку мою - Лизочку Карпенко, поднатужься, будь добр, припомни. Обижается она, что не признаешь ее на улице. Ей, бедолаге, тоже не повезло: позапрошлым летом мужа схоронила. Вы в одном классе учились, друг без дружки шагу не делали. Неужто забыл? Мужчина прикрыл рукой глаза и так стоял с полминуты, но затем тряхнул головой. - Нет, не помню... Извините. Старик сочувственно посмотрел на него. - Приходи к нам. Поглядишь на нее, на фотокарточки ваши детские, школьные, и, Бог даст, вспомнишь. Нельзя это забывать - начало свое. Мужчина задумчиво улыбнулся: - Да, наверно, вы правы...Самбук Ростислав 'Портрет' Эль Греко
ЯКУБОВСКИЙ
Роман Панасович не поверил своим глазам: в павильоне на площади к пиву продавали раков, красных вареных раков. И не было очереди. Буфетчица приветливо улыбалась посетителям и, очевидно, говорила им что-то приятное, потому что они тоже улыбались в ответ; это было правда удивительно - пиво, раки и улыбки. Роман Панасович долго стоял, колеблясь: может ли он вот так, как другие, выпить кружку пива и полакомиться раками? Искушение было велико, и, наконец, он отважился. Буфетчица налила ему полную кружку. Роман Панасович отхлебнул прозрачного, остро-горького пива и с наслаждением ощутил, что оно и в самом деле свежее и крепкое, вздохнул и разломил рака: в конце концов, и следователь, хоть он и из столицы республики, тоже человек и может позволить себе выпить пива во время командировки. Роман Панасович ел раков, а взгляд его блуждал далеко от павильона. На глаза ему попались руины крепости. Строили ее, должно быть, навечно, но беспощадные годы сделали свое: от нее остались камни, поросшие травой. Сразу же за руинами начинался сквер, где буйно цвела таволга. Слева площадь обступили дома - может быть, еще времен средневековья - с узкими окнами и массивными воротами. Они прижались друг к другу, мрачные серые гиганты со стрельчатыми черепичными крышами. За ними высились современные многоэтажные здания. А еще дальше тянулись частные усадьбы. В одной из них и произошло событие, ради которого Козюренко приехал сюда. При мысли об этом Роман Панасович заторопился. Быстро доел раков и, не допив пива, вышел на улицу. Шел и думал, сумеет ли распутать клубок. А может, и нет клубка, потянешь за ниточку - и все объяснится?.. Такое случалось, изредка, но случалось. Взглянул на часы и замедлил шаг - у него было еще десять минут, а до районного отделения милиции два квартала... Еще вчера в это время он сидел в своем кабинете в Киеве, а вечером уже выходил из самолета во Львове. От Львова до этого городка всего полчаса езды - двадцать пять километров асфальтированного шоссе. Если бы одиночные прохожие, которые встречались Роману Панасовичу, знали, что этот немолодой, лысеющий мужчина - известный криминалист, они немало бы удивились. Что делать ему в тихом Желехове? Правда, позавчера городок всколыхнуло известие об убийстве на Корчеватской улице. Но чтобы ради этого приезжал следователь из столицы! Ведь убили всего-навсего начальника цеха по переработке овощей районной заготконторы. Видно, не поделили что-то между собой заготконторовцы, поссорились и порешили его... И все же Роман Панасович Козюренко приехал в Желехов, чтобы расследовать обстоятельства именно этого убийства. Вчера утром его вызвал заместитель прокурора республики. - На Львовщине убит человек, - сказал он, - и дело это, очевидно, связано с ограблением фашистами в годы войны городской картинной галереи... Вам ехать - дело это очень серьезное! Из оперативного донесения Роман Панасович узнал, что во время обыска в доме убитого работники местной прокуратуры и милиции нашли хорошо замаскированный тайник, из которого извлекли три картины. Директор областной картинной галереи сразу узнал в них произведения Сезанна, Ван-Гога и Ренуара, исчезнувшие при таинственных обстоятельствах во время войны и вот уже свыше четверти века разыскиваемые. Незадолго до своего бегства из Львова гитлеровские грабители решили вывезти из городской галереи ценнейшие произведения искусства, в частности картины из коллекции Эрмитажа, экспонировавшиеся тут перед самым началом войны. Однажды к галерее подъехала крытая машина, в которую погрузили ящики с полотнами всемирно известных мастеров. Обоз с награбленными ценностями двинулся из города на рассвете - гитлеровцы рассчитывали до вечера миновать опасную зону, где действовали партизаны. Но все -же, несмотря на усиленную охрану, партизаны напали на обоз. Им удалось захватить несколько машин, в том числе и с сокровищами картинной галереи. Попал в руки партизан и список всех вывозившихся ценностей. Как потом выяснилось, среди трофеев не было одного ящика - с полотнами Эль Греко, Сезанна, Ван-Гога и Ренуара, значившимися в списке. На этих картинах уже давно поставили крест - и вот шедевры мировой живописи найдены в тайнике, в захолустном Желехове. Три картины, но их было четыре... Как очутились полотна в тайнике? Куда девался "Портрет" Эль Греко? Кто убийца владельца дома на Корчеватской улице - Василя Корнеевича Пруся? На эти и многие другие вопросы и должен ответить следователь по особо важным делам. Почти всю ночь он провел в доме на Корчеватской. Вместе с работниками прокуратуры и областного управления внутренних дел еще раз внимательно, сантиметр за сантиметром, осмотрел дом Пруся. Здесь уже побывал помощник районного прокурора, который вместе с сотрудниками райотдела милиции начал предварительное следствие. Их работа почти удовлетворила Козюренко: осмотр дома был произведен квалифицированно, не говоря уже о том, что именно работники районного угрозыска нашли в подвале хорошо замаскированный тайник. Он был пуст, но это не ввело в заблуждение опытных криминалистов. Обстучав его стены, они наткнулись еще на одно укрытие, а в нем обнаружили полотна Сезанна, Ван-Гога и Ренуара. Помощник прокурора выдвинул версию, что Прусь берег в первом тайнике деньги или документы, которые попали в руки убийцы или убийц. Преступники не знали о существовании еще одного тайника, найти его человеку, даже опытному, не так уж и просто - нужно иметь чутье криминалиста, чтобы установить, что дно тайника раздвигается. И все же работники районного угрозыска допустили ошибку. Эксперты областного управления внутренних дел обнаружили, что в передней части тайника тоже хранилась картина - на его стенках нашли несколько ворсинок с холста, а также следы засохшей краски. Можно было сделать вывод, что Пруся убили, чтобы завладеть "Портретом" Эль Греко. Убили ударом топора, когда он вылезал из подвала. ...Начальник районного отделения милиции подполковник Раблюк встал из-за стола навстречу Козюренко. Должно быть, ждал его и предупредил подчиненных, потому что в приемной и в кабинете было непривычно пусто. Раблюк еще не знал, как вести себя со столичным криминалистом: слова официального рапорта готовы были слететь с его уст. Но Роман Панасович опередил Раблюка: - Рад вас видеть, уважаемый Иван Терентьевич. Спасибо за заботу - номер в гостинице чудесный, и я хорошо выспался... Он пожал Раблкжу руку, стараясь не дышать на него пивным запахом, но вдруг засмеялся и искренне признался: - Вот впервые в жизни в вашем городке завтракал раками с пивом. В Киеве о раках уже давно позабыли, а у вас, оказывается, еще не всех выловили... С лица Раблюка сразу же исчезло настороженное выражение. - Пиво?! - радостно улыбнулся он. - На нашем маленьком заводике варят такое, какого в больших городах и не нюхали. "Что верно, то верно, - подумал Роман Панасович. - В одном городе пиво, в другом какие-то необыкновенные конфеты местного производства или копченые лещи, считающиеся в Киеве деликатесом. Ну что ж, каждому свое. Если бы в Желехове не варили такого пива, чем бы он мог похвалиться?" - Пиво и правда вкусное, - охотно согласился он и скользнул взглядом по бумагам, разложенным на столе. Но и это не укрылось от внимания Раблюка Подполковник положил на стол обыкновенную картонную папку, наконец сел и сказал: - Тут результаты нашей вчерашней работы. - Он вытащил из папки лист бумаги. - Вчера вечером я лично разговаривал с директором заготконторы. Он утверждает, что дней десять назад Прусь поссорился со своим подчиненным мастером Галицким. Они заперлись на складе и долго спорили: о чем выяснить не удалось. Даже кладовщица, женщина любопытная и болтливая, ничего не выведала. А если уж и женщина не выведала... Козюренко понимающе улыбнулся. - Когда они выходили из склада, - продолжал подполковник, - кладовщица услышала только, как Галицкий раздраженно бросил Прусю: "Я не позволю лезть к себе в карман!" - Ну-ну, интересно... - пробормотал Роман Панасович. Этого было достаточно, чтобы подбодрить Раблюка. В его голосе зазвучали победные нотки: - Директор заготконторы свидетельствует, что в последние дни у Пруся ухудшились отношения с Галицким, хотя раньше они были друзьями - водой не разольешь... - Подполковник замолчал, ожидая, вероятно, козюренковского комментария, но Роман Панасович ничего не сказал. - Собственно, о заготконторе все... Козюренко понял, что это был самый главный козырь начальника милиции. - Во-вторых, - продолжал Раблюк, - наш участковый инспектор опросил соседей Пруся. Большинство утверждает, что Прусь и его сосед по усадьбе Якубовский почти ежедневно ругались по всякому поводу. Достаточно было курам Якубовского покопаться на грядках у Пруся, и уже возникала ссора. А то начинали ссориться из-за какой-то сливы... Якубовский угрожал, что убьет Пруся... - Убьет Пруся... - машинально повторил Роман Панасович. - Вы полагаете? - даже перегнулся через стол Раблюк. - Нет... нет... Рассказывайте дальше, пожалуйста... Кстати, ваши сотрудники допрашивали Якубовского? - Он был понятым, когда предварительно осматривали дом убитого. Разумеется, его расспрашивали, не заметил ли он что-нибудь подозрительное. Говорит - нет... Возможно, мы тут допустили ошибку, но что поделаешь... - Ничего... - Козюренко понравилось, что Раблюк сказал "мы" - не выкручивался, не валил на инспектора угрозыска, выезжавшего на место преступления. - Как утверждают судебно-медицинские эксперты, убили Пруся между одиннадцатью и двенадцатью ночи. Утром восемнадцатого мая его видели у заготконторы с каким-то гражданином. Потом они вместе обедали в чайной. Понимаете, - почему-то виновато улыбнулся подполковник, - городок у нас небольшой, и свежий человек бросается в глаза. - Приметы? - Роман Панасович чуть пошевельнулся в кресле - сообщение заинтересовало его. Подполковник быстро сказал: - Пожилой мужчина в потертом темно-синем костюме и серой фуражке армейского образца, но с мягким козырьком, среднего роста, лицо в морщинах. Дежурная заготконторы сказала: "Как печеное яблоко..." Роман Панасович кивнул: видно, попалась женщина наблюдательная. - А это ответ из области на ваш вчерашний запрос, - Раблюк подал телефонограмму. Роман Панасович пробежал глазами неровные строчки: записывали быстро и не очень разборчиво, но Козюренко научился свободно читать любой почерк. - Действительно любопытно... - сказал неопределенно, словно сомневался в подлинной ценности сообщения, хотя это было не так: из области подтверждали, что во время войны Василь Корнеевич Прусь находился в партизанском отряде, действовавшем на Львовщине, и что именно этот отряд напал на гитлеровский обоз и захватил несколько машин с ценностями, которые враг пытался вывезти в Германию. - Интересно... Давайте сделаем так, Иван Терентьевич. Во-первых, вызовите сюда, в райотдел, Якубовского. Я хочу поговорить с ним. Во-вторых, ознакомьте всех ваших работников с приметами неизвестного, с которым видели Пруся. Дежурной заготконторы покажите паспорта обитателей гостиницы - может, среди них опознает человека, приходившего к Прусю. Поинтересуйтесь теми, кто выписался из гостиницы вчера и позавчера. Если кто-то похож, - он улыбнулся, - на печеное яблоко, немедленно сделайте запрос - пусть сразу же пришлют фотографию для опознания. Козюренко выдержал паузу, и подполковник понял его. - Будет исполнено! - встал он. - Мы приготовили вам для работы кабинет моего заместителя, на третьем этаже. Там уютнее... Но если вас устраивает мой... - Ну что вы, Иван Терентьевич! Мне нужны стол, телефон и диван - больше ничего. Правда, еще... Не сможете ли вы достать какое-нибудь одеяло и подушку? Иногда жаль терять время... - Еще как, - махнул рукой Раблюк. - Кстати, если не возражаете, я хотел бы пригласить вас на обед. - Благодарю, но не хочу связывать вас обещанием. Когда вы обедаете? О, в три? Чудесно, постараюсь быть. Однако не обижайтесь, если не удастся. У нас же с вами служба такая. Раблюк кивнул: действительно, служба беспокойная - не знаешь, где будешь через полчаса. Кабинет заместителя Раблюка понравился Козюренко. Из его окна открывался красивый вид - перспектива длинной улицы, с одной стороны одноэтажные коттеджи, утопающие в садах, с противоположной - парк. Козюренко немного постоял у открытого окна, с наслаждением вдыхая аромат цветов, вздохнул и сел к телефону. Набрав номер начальника областного управления милиции и услышав, как громко задребезжала мембрана, удовлетворенно сказал: - У тебя, Юрко, чувствую - все в порядке. Буду рад скоро увидеться, а то черт знает что творится: ты в Киеве - меня нет, я во Львове - ты где-то пропадаешь. - Старина! Жму твою лапу. Приезжай вечером. Нина будет рада. И никаких отговорок, здесь я начальство. Вчера хотел тебя встретить в аэропорту, да, понимаешь, такое вышло... Короче, приедешь - расскажем... Ну, а у тебя как дела? - спросил без всякого перехода. - Идут, - не совсем уверенно ответил Козюренко. - А чтобы они шли быстрее, ты вот что, дружище, сделай... - Представил, как Юрко нажал кнопку магнитофона, боясь что-нибудь упустить... Хотя нет, Юрко, может быть, потянулся за карандашом и прижал локтем лист бумаги, чтобы удобнее было писать. По привычке причмокивает губами, совсем как ученик первого класса, а ему уже за пятьдесят... Черт, как незаметно бегут годы! Кажется, совсем недавно закончили с Юрком юридический факультет, и вот оба уже в чинах, у самого - лысина, а у Юрка от забот побелела голова Но голос у него не изменился. Такой же бодрый и густой. Девушки, бывало, влюблялись в него по телефону... - Ты меня слышишь, Юрко? - спросил Козюренко, потому что показалось, что тот молчал чуть не минуту. - Конечно. - Свяжись с облпотребсоюзом. Надо, чтобы оттуда послали в Желеховскую заготконтору на должность убитого Пруся хорошего человека. Да, правильно, начальником цеха по переработке овощей. В этой заготконторе, как я понимаю, есть комбинаторы и сукины сыны, а желательно было бы, чтобы они этого нового человека приняли как своего... Я хотел бы с этим человеком поговорить перед тем, как он приедет в Желехов. И еще... ужинать буду у тебя, если организуешь сегодня репродукцию этой проклятой картины... - Как тебе не стыдно, - даже захлебнулась мембрана. - Это же шедевр мировой живописи! - И этот шедевр может исчезнуть, если я не буду иметь репродукцию. - Можешь считать, что она уже у тебя. - Ты уверен? - Я знал, что она тебе понадобится. Директор картинной галереи уже привез ее. - Ну, дружище, ты меня растрогал. Нужны также данные о деятельности партизанского отряда Войтюка. - В котором был Прусь? - А ты, вижу, в курсе .. - К нам такие криминалисты приезжают не каждый день. Сейчас я пошлю кого-нибудь из ребят в архив. - Тогда, возможно, тебе придется угощать меня сегодня еще и обедом.. - С радостью. Сейчас позвоню Нине... - Не надо, зачем ей лишние хлопоты? - Э-э, голубчик, мне же потом достанется - почему не предупредил... Положив трубку, Роман Панасович придвинул к себе дело Пруся. Уже просматривал его, но должен знать все досконально. С маленького фото на него смотрел человек с лохматыми бровями и мясистым носом. Смотрел так сурово и подозрительно, что Козюренко показалось - улыбка никогда не касалась его губ. Этот мрачный человек родился в тринадцатом году в небольшом селе под Львовом. Родители его крестьяне, и сам он тоже жил в селе. С сорок третьего года - в партизанском отряде. После войны все время в Желехове, в заготконторе. Только сначала он был обыкновенным рабочим, потом мастером и, наконец, начальником цеха. Что ж, рост закономерный. Прусь заочно окончил техникум пищевой промышленности. Был он человеком не очень-то и грамотным, судя по нескольким ошибкам в автобиографии, но, конечно, дело свое знал, ибо в райпотребсоюзе отзывались о нем как о специалисте хорошо, не раз премировали и объявляли благодарности. Жил скромно. Дом, правда, построил большой, с мансардой. Но он был почти пуст. В трех нижних комнатах стояли почерневшие от времени стол, стулья, дешевенький шкаф и продавленный диван. Только в мансарде, где Прусь жил, весь пол закрывал красивый ковер, а над широкой тахтой, застланной пушистым гуЦульским покрывалом, нависал импортный торшер. На сберкнижке лежало всего триста рублей. И денег у убитого не нашли. Прусь жаловался сотрудникам, что задолжал, строя дом, и вынужден считать копейки. Но люди видели, как он навеселе приезжал из Львова на такси. Высаживался, правда, где-нибудь на безлюдных улицах. Да разве можно что-нибудь скрыть от любопытных глаз желеховцев? В дверь постучали, и Козюренко оторвался от бумаг. - Пришел Якубовский, - доложил дежурный по райотделу. - Пусть войдет. Якубовский чем-то походил на Пруся, и в то же время был совсем не похож на него. "Такой же мрачный и подозрительный, - подумал Роман Панасович. Не даст никому спуску, особенно соседу, построившему себе дом лучше, чем у него". - Я - следователь, - отрекомендовался Козюренко и подвинул Якубовскому стул. - Надеюсь, догадываетесь, почему пришлось побеспокоить вас? Якубовский посмотрел исподлобья и еле заметно шевельнул губами. - Знаю, - ответил хмуро. - Ищете убийцу Пруся. - И питаем надежду, что вы поможете нам. - Извините, пан начальник, я ничего не знал и не знаю. - Ну зачем же так категорично? - засмеялся Роман Панасович. - Вы приобрели дом на Корчеватской улице четыре года назад? - Да. - До этого знали Пруся? - Нет. - Итак, вы знакомы четыре года. Этого достаточно, чтобы изучить друг друга, а может, и подружиться, как и надлежит добрым соседям. Как вы думаете? - Да, достаточно, - утвердительно кивнул Якубовский. - Вы были в хороших отношениях с покойным? - Что нам делить? - И не ссорились? - Иногда, по-соседски . С кем не бывает? Курица перебежит или что-нибудь еще... - Правда, разве можно из-за курицы убить человека? - Роман Панасович заметил, как шевельнулись брови у Якубовского. Но тот ответил твердо. - Конечно, нельзя. - И все же вы хватались за топор? - спросил Козюренко ровным тоном Почему? Якубовский не поднимал глаз. - Это, прошу пана начальника извинить, так уж случилось, не отказываюсь. Я был крайне раздражен и только погрозил Прусю. - Но все же грозили ему. Вот и люди слышали... Есть свидетельство... - У нас люди все слышат! - зло сверкнул глазами Якубовский. - А разве это плохо? Якубовский вдруг повернулся к Козюренко всем телом Положил узловатые руки на стол, будто хотел опрокинуть его на Романа Панасовича. С нажимом сказал: - Я знаю, вы заподозрили меня. Но я не убивал. Твердо говорю: не убивал! - А мы вас ни в чем не обвиняем. Кстати, где вы были ночью с восемнадцатого на девятнадцатое мая? - Где же я могу быть? Дома. Раньше со старухой в кино ходили, а после ее смерти я даже телевизор не включаю. - В котором часу легли спать? - Как всегда, в десять. - Во двор выходили? - Да. - И ничего подозрительного на соседней усадьбе не заметили? У Пруся еще горел свет? - В верхней комнате. - А Прусь не выходил на балкон или в сад? - Нет. Правда, мне показалось... Но, может, я и ошибся... - Что вам показалось? - Сперва увидел какую-то тень у крыльца. Вроде бы кто-то мелькнул там. Я подошел - за смородиной никого. Но было уже темно, плохо видно, да и к Прусю никто не ходил. - Вообще никто не ходил? Или просто вы не видели? - Извините, я уже на пенсии, и жена год как померла, так приходится по хозяйству крутиться. Все время во дворе - увидел бы. Иногда кто-нибудь из заготконторы заглянет - вот и все гости. - Ас кем Прусь вернулся домой вечером восемнадцатого мая? - Один. - Но ведь вы видели тень возле крыльца. Окно в мансарде в то время светилось? - Я подумал, что Прусь мог выйти, не выключив свет. - Вы были у Пруся дома до обыска? Знаете расположение комнат? И снова брови Якубовского дрогнули. - На первых порах бывал.. Но потом... - махнул он рукой. - Когда в последний раз заходили к Прусю? - Уже и позабыл. Может, года два... - Что ж, товарищ Якубовский, мне хотелось бы побывать в вашей усадьбе. Если не возражаете, конечно. - Заходите. - Можно сейчас? Якубовский поднялся. - Почему нельзя? Пошли. Усадьба Якубовского, огороженная невысоким заборчиком, понравилась Козюренко. Он постоял на дорожке, ведущей к калитке, взошел на крыльцо. Окна мансарды Пруся отсюда не увидел. Спустился в сад. Из-под яблонь было видно и мансардное окно, и крыльцо соседнего дома. Якубовский мог незаметно, прячась за кустами смородины, подойти к самому забору и перелезть через него - не забор, а одно название... Но почему он должен подозревать Якубовского? Козюренко попрощался с хозяином и вернулся в райотдел."ПЕЧЕНОЕ ЯБЛОКО"
Козюренко сидел за столом заместителя начальника райотдела, пил невкусный и несладкий растворимый кофе и задумчиво рисовал на листе бумаги чертиков. Они у него получались удрученные, худые и несчастные. Заметив, что один из чертей чем-то похож на Якубовского, Роман Панасович скомкал бумагу и с отвращением выбросил в корзинку. Вынул чистый лист, написал: "Якубовский" - и поставил с обеих сторон по вопросительному знаку. Перешел на диван, прилег, подложив под бок подушку. Это помогло сосредоточиться. Еще раз освежил в памяти все детали - не допустил ли он где-то ошибку? Труп Пруся увидел рабочий заготконторы, которого привез на Корчеватскую на мотоцикле его товарищ. Это произошло около девяти утра во вторник девятнадцатого мая. В восемь Прусь должен быть на работе, но не явился, а без него не могли открыть подсобное помещение цеха. Входная дверь дома Пруся была закрыта, но не заперта. Рабочий позвал Пруся и, не услышав ответа, вошел в дом. Труп лежал в кухне у крышки над лазом в погреб. Видно, убийца выбрал удобную позицию - за кухонной дверью: Прусь, вылезая из подвала, непременно должен был повернуться к нему спиной. В том, что Прусь достал из тайника картину и выносил ее из погреба, у Козюренко не было сомнения: падая, убитый зацепил свернутым полотном крышку над люком в полу - на ней остались следы краски и ворсинки, идентичные найденным в тайнике. Итак, убийца точно знал, за чем Прусь спустился в подвал, и ждал его с топором. Потом он тщательно обыскал погреб - об этом свидетельствовали чуть сдвинутые со своих мест вещи. Убийца старался не оставлять следов, но все же несколько раз ошибся. Наконец он нашел тайник и открыл его, вероятно, ножом. Ничего не увидев в нем, инсценировал ограбление: вывернул у Пруся карманы, снял часы, забрал деньги (в тот день Прусь получил зарплату, вряд ли успел много потратить) и исчез. Убийство произошло, как установила экспертиза, между одиннадцатью и двенадцатью часами ночи. Перед этим Прусь распил с кем-то бутылку вина: на журнальном столике возле тахты стояли два стакана один пустой, в другом было немного вина. На этом стакане еще во время первого обыска работники милиции обнаружили отпечатки пальцев. Настораживало то, что человек, убивший Пруся и шаривший потом в погребе, почти не оставил там следов, не было и отпечатков пальцев - очевидно, действовал в перчатках. И вдруг такой недосмотр. Хотя его могло что-то испугать, и у него уже не было времени, чтобы подняться в мансарду и обтереть стакан. Следы на стакане оставил не Якубовский. Вообще у него с Прусем были не такие отношения, чтобы поприятельски распивать в мансарде портвейн. Но ведь гость Пруся мог уйти, не заперев дверь, и Якубовский воспользовался этим. Только навряд ли он полез бы в погреб и искал тайник, а тем более картины... Тут могли быть десятки вариантов, версий, ходов, и Козюренко не ломал над ними голову. Считал, что прежде всего его задача - найти человека, пившего в тот вечер с Прусем портвейн, а также человека, которого заметила дежурная заготконторы и с которым Прусь обедал в чайной. А может, это одно и то же лицо? Начальник райотдела доложил Козюренко, что среди тех, кто жил в гостинице "Красная звезда", дежурная не опознала "печеного яблока". Восемнадцатого вечером из гостиницы выписались трое: двое львовян и один житель Ковеля. Несколько часов назад спецпочта доставила их фотографии, и теперь участковый уполномоченный вместе с работником областного управления внутренних дел старшим лейтенантом Владовым, которого выделили в помощь Козюренко, разыскивали тетку Марусю - вахтера заготконторы, которая отдежурила свою смену и куда-то ушла. Роман Панасович, пересев к столу, начал перелистывать материалы о партизанском отряде, в котором находился Прусь. Отряд был небольшой, и масштабы его деятельности не очень впечатляли. Положение отряда осложняло то, что приходилось отбиваться и от гитлеровских карательных частей, и от местных бандеровцев. Партизаны все время маневрировали, иногда перебазировались в карпатские леса, где отсиживались в особенно опасные зимние месяцы. Организовал отряд и руководил им односельчанин Пруся - бывший председатель сельсовета Войтюк. Он погиб во время нападения на гитлеровский обоз. Пока партизаны нагружали возы, к гитлеровцам подоспело подкрепление. Завязался бой, Войтюк с группой бойцов задерживал врага, чтобы дать возможность партизанским подводам отъехать как можно дальше. Потом партизаны разделились на группы и стали отходить к базе. Войтюк на сборный пункт уже не вернулся. Последним, кто его видел, был Прусь. В архиве сохранилось свидетельство Пруся: гитлеровцы подстрелили его коня, и он начал разгружать подводу, чтобы спрятать ящики. В это время на него наткнулись Войтюк с Ивасютой - бойцом их отряда. Командир уже был ранен и приказал отступать: враги были совсем близко. Партизаны перебежали поляну, гитлеровцы убили Ивасюту и вторично ранили Войтюка. Однако Прусь не оставил его, нес на плечах почти полтора десятка километров, но, к сожалению, спасти командира не удалось: Войтюк умер у него на руках, и Прусь сам похоронил его. Рассказ был настолько правдоподобен, что никто в нем не усомнился. Новый командир отряда представил Пруся к награде, и после освобождения Львова тот получил медаль "За отвагу". Роман Панасович заварил себе еще полстакана кофе. Представил, как все это могло произойти на самом деле. Поставив на подводу ящики с ценными трофеями, Прусь погнал коня не к месту сбора партизанского отряда, а хорошо знакомыми ему лесными дорогами в свое село. Козюренко проверял по карте: село в восемнадцати километрах от дороги, где отряд напал на гитлеровский обоз. Оставил трофеи у родных или знакомых, а может, просто спрятал где-нибудь ы. уже потом двинулся на базу. Тут его встретили Войтюк с Ивасютой. Возможно, командир и правда был ранен. Конечно, он не мог не спросить у Пруся, почему тот едет от села да еще на пустом возу. И тогда Прусь уничтожил их - предательски скосил автоматной очередью. Командира похоронил, а труп Ивасюты просто бросил в лесу. Рассказывая в отряде о гибели Войтюка, изобразил свои действия как геройские... Козюренко вздохнул: конечно, это лишь его догадка. Но, скорее всего, так оно и было, хотя доказать преступление Пруся теперь уже невозможно. Зазвонил телефон: Владов сообщил, что дежурную наконец разыскали и привезли в райотдел милиции. Роман Панасович разложил на столе с десяток фотографий. Женщина, которую привел старший лейтенант, с любопытством посмотрела на него, сознавая, что нужна милиции: сам участковый привез ее на машине. Она подошла к Козюренко и таинственно зашептала: - Я, товарищ, прямо скажу: он, и больше никто... Лицо у него, что у того ворюги, а глаза так и бегают, так и бегают. Я сразу хотела позвонить в милицию, да взяло меня сомнение: товарищ Прусь такой солидный человек, что не станет водиться с ворами. Роман Панасович попросил позвать понятых и пригласил женщину к столу. - Посмотрите, нет ли его здесь? Дежурная сразу ткнула в одну из фотографий. - Вот он, голубчик. Точно он. Я его узнала, ворюгу. Теперь не выкрутится... Немножко помоложе тут. Убийца проклятый! Козюренко подчеркнуто официально сказал: - Гражданка Коцюба, прошу вас еще раз внимательно посмотреть на это фото. Вы утверждаете, что на снимке человек, с которым вы видели восемнадцатого мая Василя Корнеевича Пруся? - А то как же, утверждаю. Да я его и средь тысячи узнала б. - Ну что ж, тогда благодарю вас. - Роман Панасович подал ей руку. - До свидания. Видно, тетка Маруся не ожидала такого финала, надеялась, что ее станут подробно расспрашивать, составлять протоколы, наконец, советоваться, как задержать убийцу, а тут - до свидания... Сделала шаг к Козюренко, хотела что-то сказать, но Владов хорошо знал службу - открыл дверь и велел: - Пройдите, гражданка! Коцюба крепко сжала губы и обиженно посмотрела на Романа Панасовича: вот какое уважение за раскрытие преступления. Но Козюренко уже снова погрузился в делаи не заметил ее взгляда. Он достал из папки сопроводительную записку и фотографии. Яков Григорьевич Семенишин. Рабочий Ковельского кирпичного завода. 1917 года рождения. Адрес... Взглянул на часы. Только половина одиннадцатого, и если сейчас выехать, можно после обеда быть в Ковеле. Бросил в портфель бумагу, зубную щетку и приказал Владову подать машину... ...На Ковельский кирпичный завод они приехали вместе с инспектором уголовного розыска местной городской милиции. Заведующему отделом кадров объяснили, что расследуют заявление, которое пришло в милицию, - что-то связанное с продажей краденых вещей. Попросили вызвать начальника цеха, где работает Семенишин. Ожидая его, Козюренко углубился в личное дело, принесенное заведующим. Чуть не свистнул от неожиданности: Яков Григорьевич Семенишин воевал в одном партизанском отряде с Прусем. Но ничем не обнаружил своего удивления. Профессиональная привычка обуздывать эмоции, скрывать их. И все же сознание того, что, возможно, наконец, напал на настоящий след, всегда возбуждало и приносило удовлетворение. Ведь Прусь с Семенишиным могли быть сообщниками еще во время войны, а может, Семенишин в чем-то подозревал Пруся и шантажировал его . Пришел начальник цеха - солидный, седеющий мужчина с хитрыми глазами. Роман Панасович спросил у него, что тот думает о Семенишине. - Выходит, вы из прокуратуры.. - то ли удивился, то ли одобрил начальник цеха и разгладил свои пышные усы. - И интересуетесь Яшком? Что же он, разрешите спросить, натворил? Козюренко увидел, как вспыхнул инспектор уголовного розыска, и остановил его незаметным движением руки Знал: таких людей, как этот начальник цеха, лучше не раздражать и не кичиться перед ними своим положением. Видно, вышел из рабочих и знает себе цену. Роман Панасович придвинул начальнику цеха стул и откровенно сказал: - Поверьте нам, уважаемый товарищ: дело это, может, и не такое простое. Но вы, вероятно, понимаете, что работа у нас специфическая - должны держать язык за зубами. Поэтому, если можно, не расспрашивайте нас. Начальник цеха покосился на него хитрым глазом. - Хорошо, - согласился он. - Стало быть, что я думаю про Яшка? План он выполняет, инициативный. Работник неплохой, не сачок, если надо, со своим временем и выгодой не считается. - Сейчас он на заводе? - Рабочий день еще не кончился... - И на этой неделе каждый день работал? - В понедельник брал отгул... - Начальник цеха только на мгновение запнулся и сказал твердо: Но не вышел на работу и во вторник. Я ему, правда, прогул не записал. Яшко - работник добросовестный и обещал отработать сверхурочно. Роман Панасович невольно переглянулся с Владовым. - Скажите, пожалуйста, - спросил быстро, - вы видели Семенишина во вторник? - Видел После работы Яшко заходил ко мне. Он живет неподалеку, - счел нужным пояснить, - извинился: мол, в поезде встретилась компания и хорошо хлебнули. Приехал и лег отсыпаться. - В котором часу он был у вас? - Около пяти - Вы знаете, по какому делу отлучался Семенишин? - Как не знать? Все знают. Очередь у него на "Запорожец" подходит ездил к какому-то своему старому знакомому занять деньги. - И занял? - Кажется. - И последнее. Вы говорили, что живете поблизости от Семенишина. Бывали вы у него? Какой он семьянин? Начальник цеха развел руками. - Семья как семья... Живут... Ну, случается, когда Яшко поддаст лишнего, так и разговоры, конечно, ведутся нежелательные. - Говорите уж прямо: скандалы, - вмешался местный инспектор. - Можно и так назвать, - согласился начальник цеха. - Но Семенишин порядочный человек. Дети у него хорошие, и жену свою он уважает. - К вам просьба, - доверительно нагнулся к нему Козюренко. - Не могли бы вы задержать Семенишина после работы, скажем, на полчасика? Но о нашем разговоре... - прижал палец к губам. - Это в интересах самого Семенишина. Начальник цеха недовольно хмыкнул, но спорить не стал. Когда он вышел, Роман Панасович приказал Владову: - Немедленно свяжитесь с вокзалом. Уточните расписание движения поездов в Желеховском направлении. И автобусов. А вас, - обратился он к инспекТОРУ, - прошу позвонить в милицию, чтобы опергруппа была наготове. Роман Панасович устало откинулся на спинку стула. Владев украдкой поглядывал на него, стараясь угадать о чем думает следователь по особо важным делам, наверно, составляет план допроса преступника... В это время Роману Панасовичу просто хотелось спать: жаркий день и не очень хорошая дорога давали себя знать... Незаметно потер виски, отхлебнул из стакана тепловатой воды и нетерпеливо спросил у старшего лейтенанта: - Ну что там у вас, Петр? Тот, дописав несколько цифр в блокноте, положил трубку. - Поезда из Желехова на Ковель ходят трижды в сутки Прямой из Львова в Ленинград проходит через Желехов в двенадцать часов четыре минуты прибывает в Ковель через шесть часов. Пригородный Львов Ковель. Этот выходит из Желехова в двадцать один двадцать семь. Прибывает в половине седьмого утра. И еще один на Брест. Время отправления из Желехова - пятнадцать ноль семь, прибытие в Ковель - двадцать два восемнадцать. - Автобусы? - Есть только два из Львова до Ковеля через телеков Ночной останавливается в Желехове около пяти и прибывает в Ковель в одиннадцать или чуть позже. И дневной. Этот выходит из Львова в девять двадцать пять приблизительно час идет до Желехова и еще шесть до Ковеля. Таким образом, сюда он прибывает около семнадцати часов. - Семенишин мог вернуться ночным автобусом, - быстро прикинул Роман Панасович. - Ночь прослонялся по Желехову или просидел где-нибудь в парке... А впрочем, нечего гадать, едем. Небольшой, из красного кирпича домик Семенишина утопал в зелени. Под окнами цвели какие-то желтые цветы, а вдоль дорожки, ведущей к крыльцу, красовались огромные белые и красные пионы. Ьладов толкнул калитку-не заперто. Взошли на крыльцо позвонили - никто не ответил. Позвонили еще раз, вдруг их окликнули из сада тонким голоском. - Что вам надо, дяденьки? Козюренко нагнулся над перилами крыльца, под деревом стоял мальчик лет десяти в коротких штанах и клетчатой рубашке. Беленький, курносый. - Папа или мама дома? - спросил Роман Панасович. - Ты же Семенишина сын? - А то как же, Семенишина. Но родители на работе. - А можно их подождать? Мальчик пожал плечами. - Они скоро должны быть. - Он смотрел открыто, но все же настороженно. Козюренко понимал, что мальчика следует как-то успокоить. Но как? Он неуверенно сказал: - Мы из области, и нам надо поговорить с твоим отцом. Как тебя зовут? - Олегом. - Так где можно подождать? - А заходите в дом. Там есть радио и газеты. - А ты не хочешь вместе с нами за компанию? Где Лида? Незнакомые дяди знали, как зовут его сестру, и это окончательно убедило мальчика, что они свои люди. - В школе. Она же во второй смене. - А-а... - сказал Владов таким тоном, будто знал и только случайно забыл. - Говорят, скоро вы на "Запорожце" будете ездить? - спросил Роман Панасович, сев на диванчик. - Папа говорил, что этим летом получим... - И радостно прибавил: - Он хочет красного цвета. - А ты? - И мне тоже нравится. - Ну и хорошо, - вмешался Владов. - Если собрали деньги, то какие тут могут быть разговоры... Роман Панасович бросил на него неодобрительный взгляд - зачем провоцировать ребенка? И Владов осекся. Но мальчику было приятно поболтать на эту тему. - Еще не собрали, но папа говорил, что как-нибудь выкрутимся. Займем, а потом отдадим. - Ну... ну, - хмыкнул Козюренко. - А как у тебя дела в школе? поспешил он перевести разговор на другую тему. - Так... - немного смутился мальчик. - Есть тройки? - Не часто... Роман Панасович встал, выглянул в коридор. Нарочно пришел к Семенишиным, пока хозяин не вернулся с работы - хотел узнать о нем побольше. Даже бытовые мелочи имели значение. Ведь они часто подчеркивают или обнаруживают ту или иную черту характера человека. Кроме того, Козюренко хотел поговорить с женой Семенишина. Может, она что-то знает, а если и нет, то не исключено, что влияет на мужа: бывали случаи, когда самые закоренелые преступники, которые вели со следователем долгую и запутанную игру, не выдерживали взгляда жены... Из коридора дверь вела в детскую комнату. Там стояла этажерка с учебниками, на стенах были развешаны карты и цветные вклейки из журнала "Украша", а на письменном столе лежала кучка тетрадок. Из открытой двери третьей комнаты выглядывала никелированная спинка кровати, на которой высшгась гора подушек - обыкновенная скромная обстановка рабочего человека. Стукнула калитка, и Олег высунулся в окно. - Мама пришла! - радостно воскликнул он и побежал встречать. - У нас гости, мама, - сказал на крыльце, - так я пригласил их в дом. - Молодец! - похвалила мать. Она поставила в коридоре тяжелую сумку с картофелем, мимоходом поправила перед зеркалом прическу и остановилась в дверях гостиной. - Вы к Якову? - Надо поговорить с вами, уважаемая Вера Владимировна, - учтиво поклонился Козюренко, - только... - он показал глазами на мальчика. - Сбегай, Олежка, за хлебом, - нашлась та. Мальчик недовольно поморщился - ведь интересно послушать разговор взрослых. Но в семье, видно, поддерживалась дисциплина: схватил авоську и побежал в магазин. - Разговор у нас, Вера Владимировна, будет долгий и неприятный, так уж садитесь поближе. Мы, правда, не очень-то и желанные гости... Из следственных органов, вот мое удостоверение. Женщина побелела как полотно. - Неужели мой Яшко что-нибудь натворил? Он, товарищ следователь, как чуть выпьет, дурным становится... - Всему свое время, Вера Владимировна. Сначала мы попросим вас ответить на некоторые вопросы. Это не допрос, и если вы не согласны... Хозяйка подвинула к себе стул и наконец села. - Что он натворил? - прошептала она. - Я понял, что вы согласны помочь следственным органам, не так ли? настаивал Козюренко. - Спрашивайте, - женщина тяжело вздохнула. - Вы знали, что ваш муж ездил на днях в Желехов? - Да. - Зачем? - Занять денег. - Когда должен был вернуться? - Восемнадцатого мая. - А приехал? - Девятнадцатого. - В котором часу вы его увидели? - Вот как сейчас, после работы. Но он вернулся утром. Сказал, что был выпивши и не хотел нас беспокоить. Заснул в сарае на сене. - Он занял деньги? - Нет, но договорился, что тот его знакомый переведет по почте пятьсот рублей. - И ничего ваш муж не привез? Никаких пакетов, свертков? - А мы сейчас ничего не покупаем. На машину собираем. Женщина отвечала сразу, не колеблясь. В ее глазах Роман Панасович читал удивление и тревогу. - В Желехове ограбили человека, - произнес он, пристально следя за выражением ее лица. - Этого человека хорошо знал ваш муж. К нему и ездил за деньгами. Женщина облегченно вздохнула, даже улыбнулась. - Ерунда, - ответила уверенно. - Яков этого не сделает. А я думала - по пьянке... - Хорошо, что вы так верите мужу... - Я знаю: Яков не способен на преступление. На выложенной кирпичом дорожке за окнами послышались шаги. Вошел Семенишин. Изумленно посмотрел на Козюренко, перевел взгляд на жену и Владова. Его покрытое мелкими морщинами лицо, действительно похожее на печеное яблоко, растянулось в улыбке. - Здравствуйте, - сказал растерянно. - Кто вы такие? Потому как вроде бы не знаю вас... - Мы из прокуратуры, - перебил Козюренко. - К вам, Яков Григорьевич. По делу. - Из прокуратуры? - Семенишин спокойно прошел к столу, сел, положив на него руки. - Ну, если к нам есть дело, так говорите, зачем пришли... Козюренко внимательно посмотрел на него: совершенно спокоен, никаких признаков волнения. - Вы встречались в Желехове с Василием Корнеевичем Пру сем? - спросил. - Ездил к нему. - Когда? - В воскресенье уехал, так? - повернулся Семенишин к жене. - Отвечайте только мне! - Козюренко придвинулся к столу. Теперь они сидели друг против друга, и Роман Панасович смотрел прямо в глаза Семенишину, будто хотел прочитать его мысли. - В воскресенье, семнадцатого? - Конечно. Приехал в Желехов поздно ночью и остановился в гостинице. - Почему не пошли к Прусю? - А где бы я узнал его адрес? Если бы знал, пошел бы к Василю - в гостинице ведь надо деньги платить... - Но утром вы разыскали Пруся? - Так я же знаю, где он работает! Утром пошел в заготконтору и там дождался его. - Просили у него денег? - На машину у нас очередь подходит, должен... - И Прусь вам дал? Семенишин покосился на жену. Ответил неопределенно: - Да нет... Обещал одолжить пятьсот рублей. - Когда в ы ушли от него? - Ну, пообедали в чайной... Выпили, и он на работу пошел. А я еще немножко посидел на скамеечке, до поезда у меня времени много было, - и на вокзал. - Когда выехали из Желехова? - В полдесятого вечера. - Чем можете доказать? - Как чем? Где-то билет у меня... - Он озабоченно начал шарить в карманах и не находил. Наконец облегченно вздохнул - положил на стол железнодорожный билет. Роман Панасович посмотрел на свет - да, билет был продан восемнадцатого мая и на вечерний поезд. - Итак, вы ехали поездом Львов - Ковель, который прибывает в ваш город в половине седьмого утра. Кто может засвидетельствовать, что вы приехали именно этим поездом? Семенишин пожал плечами. - А я знаю? - Почему не пришли прямо домой? - А где же я был? - снова тревожно посмотрел на жену. - И почему это вы меня допрашиваете? - вдруг повысил голос. - Какое имеете право? - Не волнуйтесь, гражданин Семенишин, - перебил его Козюренко. - Нам нужно, чтобы вы просто ответили на несколько вопросов. Жена увидела вас девятнадцатого мая только после работы. Где вы были весь день? - Спал. На сене в сарае спал. Компания в поезде подобралась, хорошие парни, так? Ну, пол-литра выпили, а потом еще в карты играли. Чуть не до Ковеля. Они раньше сошли. Был я немножко выпивши, так? А с женой у нас... - Он не досказал и бросил на нее взгляд. Та встала со стула, хотела вмешаться, но Козюренко поднял руку, попросив не делать этого. - Назовите, с кем ехали в поезде. - С ребятами, я же говорю. Трактористы они, так? - Фамилии, имена помните? Семенишин заморгал, сокрушенно опустив голову. - Пьяный был, - сказал смущенно. - Забыл... Пол-литра, значит, взяли, а потом еще, так? - Вы тоже покупали водку? - прищурил глаза Роман Панасович. - Ночью, да еще на вокзале, не продают. - А я еще перед отъездом. Пол-литра... - Имели при себе деньги? Сколько? Семенишин заерзал на стуле. Козюренко обратился к его жене: - Сколько дали мужу на дорогу? - На проезд да еще трешницу. - Из нее вы рубль заплатили за койку в гостинице... - Роман Панасович уставился немигающим взглядом на Семенишина. - Завтракали? - Тот кивнул Еще полтинник на завтрак. Откуда же взяли деньги на водку? Лицо Семенишина покрылось красными пятнами. Щеки обвисли. - У Пруся. Он одолжил мне семьдесят рублей. Десятку пропили, поэтому и не сказал жене. Козюренко вспомнил тело с раскроенным черепом. И вывернутые карманы. Вряд ли Семенишин отважился бы на убийство ради семидесяти рублей. Конечно, мог надеяться, что возьмет больше. Но при чем тут картина? Может, Прусь через Семенишина хотел ее куда-то переправить? Спросил коротко: - Где деньги? - Пожалуйста... Тут они... - Семенишин полез в шкаф, вытащил из нижнего ящика завернутые в платок деньги. Роман Панасович незаметно посмотрел на женщину: глаза у нее наполнились ужасом, губы дрожали. Внезапно подумал: "А если все это правда? Все так, как рассказывает Семенишин? Могло быть? Конечно, могло. А "Портрет" Эль Греко тем временем..." - Следовательно, вы утверждаете, что не знаете, где живет Прусь, и никогда не были у него дома? - Это истинная правда! - Семенишин приложил обе ладони к груди. "Если его отпечатки пальцев не идентичны отпечаткам на стакане с недопитым портвейном... подумал Козюренко. - Прямых доказательств пока что нет. Конечно, если не найдем тут картину. Итак, обыск..." Вышел с Владовым в коридор, приказал вызвать оперативную группу и попросил взять у прокурора постановление на обыск. Вернувшись, спросил у Семенишина: - Насколько мне известно, Прусь не очень щедрый человек и никому денег не одалживает... - Он сознательно говорил о покойнике как о живом, надеясь, что Семенишин как-то прореагирует на это. Но тот сидел потупившись. - Почему же он отдал вам всю зарплату и еще пообещал полтысячи? Семенишин поднял голову, и Козюренко заметил, как забегали у него глаза. - Почему? - настаивал следователь. Семенишин потер свои сморщенные щеки кончиками пальцев. Он явно колебался. - Пожалуйста, не скрывайте от нас ничего, - посоветовал Роман Панасович. - Прусь был у меня, так сказать, в долгу, - нерешительно, запинаясь, начал Семенишин. - Уже давно, со времен войны, когда вместе партизанили. Я никому не рассказывал, так? Потому как и сам тут не оченьто... - покачал головой и продолжал твердо, как человек, сделавший первый шаг и терять которому уже нечего. - Когда-то я видел, как Прусь снял обручальное кольцо с пальца мертвой женщины, так? Он заметил, что я смотрю. Испугался. Да и было чего. Если бы наш командир Войтюк прознал про это, худо бы Прусю пришлось. Ну, начал умолять, так? Мол, черт попутал. Я говорю: "Выбрось кольцо!" Он и выбросил. Потом обещал: "Я тебе всю жизнь буду благодарен, что понадобится, рассчитывай на меня". А тут очередь на машину, я и вспомнил, так? Но ведь это могло выглядеть как шантаж... - Да нет. Столько лет прошло. Надеялся на благодарность. Думаю, деньги у него есть. Живет ведь один. А он мне - семьдесят рублей... Я знаю, что полтысячи не пришлет. Пообещал, только бы отделаться, так? "Если придумано, то неплохо", - отметил Козюренко. А вы помните, как появился в вашем отряде Прусь? - Почему же, помню. Мы не очень-то и доверяли ему, так? Полицай поглумился над девушкой Пруся, а Василь убил его. Пришлось бежать. К бандерам ему было не с руки, потому как этот полицай имел среди них в нашем районе много дружков. Ну, и пристал к нам, так? Наш командир товарищ Войтюк из ихнего села был - пожалел и взял. "Верно, на свою голову!" - чуть не вырвалось у Романа Панасовича. - Мы вынуждены произвести в вашей усадьбе обыск, - сказал он. - Скоро приедет оперативная группа. Но перед этим я хотел бы еще раз убедиться: все ли вы рассказали правдиво и не утаиваете ли чегонибудь? - Яшенька, - подошла к нему жена, - ты уж... если что натворил, лучше сознайся. И нам будет легче... Семенишин посмотрел на нее как-то отчужденно. - Пьяный я был, может, чего-то и не помню... В чем меня обвиняют? - обернулся к Козюренко. - Дело в том, что Прусь убит и ограблен. А вы были с ним в тот день. Ездили за деньгами. - Не выйдет! - вдруг закричал Семенишин. Он выпятил губы, и морщины неожиданно разгладились на его лице. Это было сказано так решительно, что Роман Панасович встал со стула. А Семенишин вдруг безвольно осел, и руки его опустились как плети. - Так уж лучше сознайся, - шептала жена, склонившись над ним. - Прочь! - Семенишин оттолкнул ее от себя. - Вы мне дело не пришьете! погрозил он пальцем Козюренко. - Вспомните фамилии тех, кто был с вами в поезде, - предложил следователь спокойно. - Имена, приметы... Это для вас очень важно. Семенишин удивленно воззрился на него. Закрыл глаза, немного подумал и покачал головой. - Нет, - сказал стыдливо. - Пьяный был, все из головы вылетело. - Вдруг какая-то мысль, видно, промелькнула у него. Нерешительно начал: - Но был там такой долговязый... - Потер лоб и радостно воскликнул: - Тимком его звали, вспомнил - точно Тимком, так? - Тракторист Тимофей? - повторил Козюренко, и нельзя было понять, иронизирует он или говорит серьезно. - А фамилия? - Не знаю. Тимко - и ладно. - Теперь в тоне Семенишина ощущалась уверенность. - Он сошел где-то перед Ковелем. - Ну... ну... - Роман Панасович хотел что-то прибавить, но на улице остановилась машина. - Вера Владимировна, - попросил он, - встретьте сына и уведите его куда-нибудь. Эта процедура не для детей... А вы, - приказал Владову, - сходите к соседям и попросите их быть понятыми. ...Когда они вернулись вечером в городской отдел милиции, Владов сказал Козюренко: - Почему вы не приказали арестовать Семенишина? Я бы задержал его. Ведь он же ничего не может доказать... - А мы? Что-нибудь нашли у него? - остудил пыл старшего лейтенанта Роман Панасович. - Нарушать законы никто не волен. Завтра увидим, если сойдутся отпечатки пальцев... - Их уже повезли во Львов. - Вот и подождем до утра. Утром позвонили из Львова. Оказалось, что отпечатки пальцев Семенишина не идентичны отпечаткам, оставленным на стакане в доме Пруся. Козюренко как раз умывался, когда Владов сообщил ему об этом. Тот повесил полотенце. Причесался. - Дайте команду, - приказал он, - чтобы поискали в селах около железной дороги Львов - Ковель тракториста по имени Тимко. Тимофей то есть... Высокого роста... - Но ведь Семенишин определенно лжет, - осмелился возразить старший лейтенант. - Чтобы запутать следствие. - Нас не так-то легко запутать, - улыбнулся Козюренко. - А что, если не лжет? И убийца, укравший картину, разгуливает на свободе и смеется над нами? Нет, если у Семенишина есть алиби, мы сами немедля должны подтвердить его. Это в наших интересах, дружище. - Натянул рубашку и добавил: - А у Семенишина возьмите подписку о невыезде. И пусть ваши ребята наблюдают за ним...ГАЛИЦКИЙ
Директор заготконторы собрал работников плодоовощного цеха. - Вот ваш новый начальник, - представил еще молодого - лет под тридцать - светловолосого мужчину с темными, выразительными глазами. - Дмитро Семенович Серошапка. Сегодня он принял дела. По рекомендации руководства облнотребсоюза, - подчеркнул он. Директор конторы хотел поставить начальником цеха мастера Галицкого, и все были уверены, что именно он займет должность Пруся. И вдруг - такое. К Галицкому привыкли, знали его. А кто такой этот Серошапка" Расходились недовольные. Директор конторы уловил это настроение и нарочно оставил своего нового подчиненного на произвол судьбы, злорадно подумав: "Пусть сам выкручивается!." Серошапка попросил Галицкого остаться в каморке, которая считалась его кабинетом. Смотрели друг на друга изучающе. Галицкий, солидный человек с толстой красной шеей и огромными кулаками, не скрывал своей неприязни. Серошапка будто читал его мысли. Мастер считал, что ему перебежали дорогу, и решил при случае подставить ножку новичку. Это ведь дело торговое, тут дебет и кредит не так просто свести. Голову надо иметь на плечах. А у этого, по всему видно, кочан капусты. Молодой и зеленый... Серошапка невольно улыбнулся. Вероятно, Галицкий уловил в этой улыбке иронию, потому что насупился и хотел что-то сказать, наверно, обидное, но Серошапка опередил его. Не будем играть в жмурки, Эдуард Пантелеймонович, - сказал он самым доверительным тоном. - У вас есть причина относиться ко мне, так сказать, без симпатии. К сожалению, мне лишь сегодня намекнули в райпотребсоюзе, что я перебежал вам дорогу. - Галицкий протестующе поднял руки, но Серошапка продолжал тем же мягким, доверительным тоном: - Мы же с вами не дети и знаем, что такое жизнь... Если бы я знал, что иду на живое место, то, может, и не согласился бы на эту должность. Но, как говорят, после драки кулаками не машут. Теперь нам надо либо работать вместе, либо... - Вы хотите сказать, что я... - Галицкий положил на стол свои огромные кулаки. - Я ничего не хочу сказать, уважаемый Эдуард Пантелеймонович. Прошу вас внимательно следить за моей правой рукой. - Серошапка вдруг сильно стукнул указательным пальцем по краю стола. - Видите - раз... два... Стукну третий раз - и вас не будет... Галицкий убрал кулаки со стола, откинулся на спинку стула. В глазах его появились насмешливые искорки. - Как вас величать? - спросил он. - Забыл я... - Дмитром Семеновичем. - Так вот что, Дима, - пренебрежительно улыбнулся Галицкий, - иди ты... Серошапка этого не ожидал. Захохотал, обошел стол, сел на его краешек и подал Галицкому руку. - На, Эдик, держи, - сказал примирительно. - Вижу, ты свой человек, и мы сработаемся. Галицкий пожал руку Серошапке без энтузиазма. Думал: сколько им будет стоить этот желторотый? Впрочем, прикинул, не так уж и много - ведь в нем нет ни цепкости Пруся, ни такого знания тонкостей дела, ни прусевского аппетита... Что бы там ни было, а то, что Прусь отошел в иной мир, - обстоятельство очень положительное. "Хапуга проклятый!" - чуть не вырвалось у Галицкого, но он овладел собой и посмотрел на свое новоиспеченное начальство любезнее. "Юный друг мой, - подумал он растроганно, - мы будем подкармливать тебя. Ты будешь благодарен, а нам... Нам делать свое..." - И правда, Дима, - повеселел он, - что нам делить? Лишних двадцать рублей в месяц? Как-нибудь и без них обойдусь. Они тебе нужнее. У тебя дело еще молодое, а нам, старикам... - Старый черт! - Серошапка хлопнул его по плечу. - Три года разницы, а уже в монахи записываешься. - Он что-то еще говорил, а Галицкий мысленно прикидывал: во-первых, не следует баловать этого желторотого - сотен пяти в месяц, кроме зарплаты, ему вполне достаточно. Лишь бы только не мешал... Может, и хорошо, что начальником цеха поставили этого слепого котенка. Всегда можно свалить на него вину. А он и рад будет: пятьсот шайбочек с неба упало... Вдруг что-то важное дошло до сознания Галицкого, и он насторожился. - Что вы сказали? - переспросил. - Как дела с договорами на сбыт нашей продукции? Ведь уже май, и если прозевать это дело... У Галицкого вдруг кольнуло под ложечкой. Договоры о поставках - святая святых его и Григория Котляра - помощника мастера. Они не позволят, чтобы этот выскочка совал туда свой нос. Ответил с деланным равнодушием: - Прусь был хороший хозяин и вовремя заботился о сбыте продукции Эти операции поручал мне и Котляру, - солгал он О том, что Прусь брал почти половину договоров на себя, решил умолчать. - У нас есть определенный опыт и связи. Цех будет работать на полную мощность. План выполним и прогрессивку получим, - заверил он. - Хорошо, выясним... - Серошапка вернулся на свое место. Выдвинул и задвинул ящик стола, переложил какие-то бумажки Сказал, будто речь шла о мелочи: - В крайнем случае я могу договориться с одним из южных комбинатов о поставке пятисот или шестисот тонн яблочного пюре .. Галицкий даже попятился. - Скольких? - переспросил. - Тонн пятисот, а может, и больше... - Серошапка сделал вид, что разглядывает что-то в ящике. И так, не глядя на Галицкого, знал, какой удар нанес ему сейчас. "Я тебя, мерзавца, насквозь вижу, - торжествовал он. - А ты думал меня голыми руками взять? Интересно, как теперь запоешь?" Но Галицкий, оказалось, был достойным партнером... - Тогда придется поработать... - задумчиво произнес он. И прибавил с энтузиазмом: - Зато план перевыполним. Возможно, переходящее знамя получим! - Первое место в области завоюем! - поддержал его Серошапка. - Мы с вами еще прогремим! "Как бы не загреметь... - подумал Галицкий. - Но ведь пятьсот тонн! С каждого килограмма... Да еще и сколько пойдет без нарядов... Интересно, знает ли этот Серошапка, сколько можно положить в карман?" Но Серощапка смотрел на него простодушно, и Галицкий встал. Надо было посоветоваться с Котляром. У Гриши светлая голова, как Гриша скажет, так и следует делать - имеет, зараза, нюх настоящей гончей, видит на десять саженей вглубь. Григорий Котляр - титан коммерции. Его еще никто не обводил вокруг пальца. Серошапка посидел в кабинете, машинально перебирая бумаги. Фактически стол был пуст - несколько писем, оставленных Галицким, копия приказа по заготконторе... Вчера Серошапка долго беседовал со следователем из Киева. Тот рассказал ему про убийство Пруся и просил помочь следственным органам. По его просьбе Серошапка просидел полночи, разбирая бумаги Пруся, привезенные в область работниками милиции. Правда, Прусь был осторожным человеком и не держал ничего, что могло бы скомпрометировать его. Не отличался аккуратностью - бумаги бросал в папки без всякой системы, приказы не подшивал, как полагалось по инструкции, и принципиально не признавал нумерации входящих и исходящих... Серошапку заинтересовало недописанное письмо, точнее записка - всего несколько торопливо написанных слов: "Поля... Я вчера не мог быть дома, потому..." На этом записка обрывалась. Серошапка показал ее Козюренко, и полковник просил его, если будет возможность, выяснить, кто эта Поля. Правда, всего несколько слов, но они свидетельствовали о каких-то отношениях Пруся с женщиной по имени Поля: возможно, это любовница Пруся, которая бывала у него дома, заранее договорившись о встрече, а может, просто приходила, чтобы навести порядок в квартире, выстирать белье... Серошапка вышел в цех. Сейчас, перед началом сезона, там было мало рабочих. Через месяц-полтора, когда начнут завозить ягоды и фрукты, заготконтора наберет сезонных рабочих, и тогда работа закипит. А теперь готовили тару, ремонтировали оборудование. Галицкий, увидев Серошапку, приветственно помахал ему рукой. Мастер занимался очень прозаичной работой: осматривал бочки, в которых должны отправлять заказчикам соки и яблочное пюре. Брезгливо пинал их ногой, командовал: - На эту набейте обручи! Откати ее, Микола, в сторону. А для этой нужно новое дно, пометь мелом... Серошапка прошел мимо. Конечно, можно было бы расспросить Галицкого о Поле, но Козюренко отсоветовал: может, она общается с Галицким, может, причастна к преступлению, и расспросы только насторожат ее. Серошапка хотел посмотреть, как ремонтируют пресс, но его остановила молодая женщина, повязанная платком. - На два слова, Дмитро Семенович... - проговорила, смутившись. Серошапка подошел к ней. Внимательно посмотрел. Женщина не отвела глаз, и Серошапка прочитал в них какую-то глубоко затаенную тревогу. - Вы меня знаете, а я, к сожалению... - Меня зовут Мартой Васильевной, - женщина метнула взгляд на Галицкого, и зрачки ее сузились, а лицо приобрело решительное выражение. - Хочу поговорить с глазу на глаз! "Ну что ж, - решил Серошапка, - пресс подождет". - Идемте ко мне, - предложил он. Когда они проходили мимо Галицкого, тот с интересом посмотрел на них и демонстративно отвернулся. Женщина села у стола, сняла платок, разгладила его на коленях. Видно, что-то волновало ее, и она не знала, с чего начать. Серошапка помог ей: - Я вас внимательно слушаю, Марта Васильевна. Прошу, говорите все, что думаете. Женщина собрала платок, стиснула в кулаке. - Тут вот что... - начала не совсем уверенно, - и может быть, не мое это дело, хотя мое, потому что я здесь профгрупорг. Выбрали недавно, пояснила она. - Да если б и не выбрали, все равно... Вижу я вас впервые, но все же хочу предупредить: что-то не так у нас делается. - Как это не так? - Серошапка сделал вид, что не понял. - Насколько мне известно, план выполняется... Верно, ему не следовало говорить это, потому что женщина как-то сразу увяла. - Вот так все, - сказала растерянно, - кому ни скажешь... - Извините, Марта Васильевна, хочу выслушать вас до конца. - Тут меня считают скандалисткой, - вдруг быстро заговорила женщина,- но, нравится или не нравится, буду говорить в глаза. Прусь с работы хотел выгнать, да профгрупорг я... Галицкий - видели, как посмотрел! К сожалению, нет у меня никаких доказательств, хотите - слушайте, не хотите - уйду... - Но я же вас слушаю внимательно. - Прусь был жулик, и Галицкий тоже, - отрубила женщина. - У вас есть факты? - Если бы были. С фактами я бы в милицию пошла. Я с вами потому и разговариваю, что человек вы здесь новый и этот пройдоха Галицкий будет стараться обвести вас вокруг пальца. Вот и предостерегаю. - Благодарю, - ответил Серошапка не совсем искренне. Если бы знала эта женщина, какое у него самого мнение о Галицком! - Я учту ваши предостережения. Но почему вы так думаете? - Да все знают, что они жулики. - Так я могу о каждом сказать. - Не о каждом. Сколько Галицкий получает? Зимой - сто рублей, ну, летом значительно больше, но жена его не работает, двое детей, а посмотрите, какой дом поднял! К себе они не приглашают, но люди все знают, чего только в доме нет! Вот Прусь - тот был похитрей. Берег копейку. - Говорят, ссорился в последнее время с Галицким? Марта Васильевна сокрушенно покачала головой. - Одного поля ягоды. Сегодня поссорились - завтра помирились! - И все же могли что-то не поделить... Тем более, что Прусь, говорят, был нелюдим... - На глазах - нелюдим, а любовницу имел... Полину какую-то... - Откуда знаете? - Да слыхала... - Вот что, Марта Васильевна, - сказал Серошапка, - вы сегодня мне много наговорили. Этот разговор останется между нами, сами понимаете. Скажите только еще, что вы знаете о Полине? - Знаю, что она живет во Львове, и Прусь зачастил к ней. Но лучше Нину расспросите. Это она мне говорила. - Кто такая? - Вместе работаем. - Попросите ее зайти сейчас ко мне. Нина, пухленькая красивая молодица, рассказала, что весной Прусь и Галицкий ехали во Львов на заготконторовском "газике". Попросилась и она. Прусь сперва не хотел ее брать в машину, но потом все-таки согласился. В машину бросили два ящика яблок, и Прусь завез их на Тополиную улицу. Еще слышала, как Галицкий спросил: "Завтра вернешься? Привет Полине..." Потом Прусь с шофером выгружали ящики. Нет, Нина не помнит номера дома, но вокруг усадьбы зеленый забор и возле калитки растет каштан. Когда Серошапка вышел во двор, Галицкий окликнул его. - Надо обмыть твою новую должность! - и заговорщицки подмигнул. Вечером махнем во Львов, я тебя с девушками познакомлю. - Ну что ж, - согласился Серошапка. Козюренко подчеркнул, что нужно войти в доверие этого типа, а в ресторане Галицкий может разговориться... - Зачем к тебе эта сплетница приходила? - полюбопытствовал Галицкий. Жаловалась? - Ерунда... - махнул рукой Серошапка. - Всем не угодишь! - Это точно, всем не угодишь! - повеселел Галицкий. - Значит, до вечера?..ДОМ НА ТОПОЛИНОЙ
Гриша Котляр на собственной "Волге" отвез Серошапку в облпотребсоюз. Тот сидел сзади вместе с Галицким - украдкой вздыхал и жаловался на головную боль. Гриша предложил опохмелиться, но Серошапка решительно отказался. - Сегодня должен быть у начальства, - пояснил он. - Надо оформить личное дело. Неудобно, когда пахнет... - А завкадрами тебе знаком? - начал осторожно выпытывать Галицкий. Его тоже не мешало бы... - Познакомились два дня назад. - Может, мы тебя подождем? - предложил Галицкий. - А если я задержусь? Цех останется без глаза - ни начальника, ни мастера... Так совсем до ручки дойдем. - Резонно, - похвалил Галицкий. - Дело прежде всего. Ты, Дима, начинаешь мне еще больше нравиться. - Говоря это, он бесстыдно лгал: хотел иметь начальником человека безынициативного или пьянчужку. Вздохнул и подумал, что напрасно сетует: могли бы вместо Серошапки прислать кого-нибудь непьющего и тогда... Серошапка постоял в вестибюле облпотребсоюза. Убедившись, что синяя "Волга" исчезла в конце улицы, позвонил Козюренко и условился о встрече. ...Роман Панасович хмурился. Молча слушал Серошапку, и тот, стыдясь подробностей вчерашней выпивки, краснел. А Козюренко думал о том, какая у них все же тяжкая работа: парень этот, Серошапка, хороший и чистый, но вот попросили помочь следствию - и уже столкнулся с грязью. Рассказывал обо всем с отвращением, Козюренко невольно вспомнил свое первое столкновение с преступным миром. Это было давно, но он помнил даже малейшие детали, так они запечатлелись в его памяти... Серошапка уже кончил рассказывать, а Козюренко все еще молчал, будучи не в силах стряхнуть тяжесть воспоминаний. Налил себе полстакана воды и, перехватив взгляд Серошапки, подвинул бутылку к нему. - Дом на Тополиной и любовница Пруся - это любопытно, - сказал он наконец. - Теперь вот что: алиби Галицкого не подлежит сомнению. Мы проверили: он восемнадцатого мая был в Николаевской области. Котляра восемнадцатого приблизительно до половины одиннадцатого ночи видели во львовском ресторане "Интурист". Но, имея свою "Волгу", можно за полчаса доехать до Желехова. Думаю, там, где речь идет о деньгах, рука у него не дрогнет. Ну, что жулики они - понятно. Галицкий и Котляр, должно быть, уже немножко поверили вам... Позвольте им и дальше обрабатывать себя. Они признают вас своим, когда Галицкий хоть в чем-то возьмет верх. Но сразу сыграть с ним в поддавки опасно - этот лис может что-то почуять. Не поддавайтесь, боритесь за власть. - Подумал и добавил: - Недолго уже им гулять... А дом на Тополиной проверим сегодня же... ...Сперва "работники инвентарного бюро" зашли в соседние дома, - всякое может случиться, и лучше, чтобы все знали: инвентаризация касается не только дома номер пятнадцать. В двух предыдущих домах ограничились лишь поверхностным осмотром зданий. В доме номер пятнадцать им открыла сама хозяйка, Полина Герасимовна Суханова - женщина еще молодая и красивая, с черными цыганскими глазами, мягко очерченными губами и ямочками на щеках. Такие ямочки, как утверждают наблюдательные люди, чаще бывают у блондинок и свидетельствуют о мягком характере. Однако Полина Суханова не считала себя особенно мягкосердечной - имела энергичную натуру и была женщина практичная, умела взять от жизни как можно больше. Лет шесть назад Полина сошлась с Прусем. Было ей тогда за двадцать. Она только что окончила училище и работала медсестрой в больнице. Пруся положили на операцию, и они познакомились в предоперационной палате. Потом Полина несколько раз навещала его в палате, а когда выписывался, наняла такси и отвезла в Желехов. "Что такое больница? - рассуждала она. - Зарплата небольшая, общежитие, в перспективе - влюбленный студент... А старик намекнул, что у него есть деньги, и я хоть сегодня могу бросить больницу. Правда, нужна ширма, дармоеды теперь не в почете - ну что ж, потом найду легкую работу..." Ночь, проведенная в мансарде прусевского дома, окончательно убедила Полину в правильности ее намерения: Василь Корнеевич, или Вася, как она его уже называла, будет не очень докучать ей; они договорились, что все останется по-старому - он будет жить в Желехове, она - во Львове. Правда, Прусь обещал найти для нее квартиру и взять все хлопоты и затраты на себя. Через два года Прусь построил и записал на ее имя хороший особнячок. Полина распустила слух, что у нее умерла бабушка и оставила ей в наследство немало денег на сберкнижке. Они с Прусем решили пожениться, когда Василь Корнеевич уйдет из заготконторы, продать дом в Желехове, чтобы быть подальше от острых глаз обэхаэсовцев. А пока что отделать гнездышко на Тополиной. Гнездышко и правда поражало комфортом: ванная, выложенная чешской плиткой, немецкие торшеры и люстры, венгерская спальня-люкс полированного дерева, большой румынский сервант, кресла и рояль в гостиной. И всюду ковры. Василь Корнеевич любил ковры и скупал их, не жалея денег, китайские, персидские, бухарские и бог знает какие. Один из них закрывал весь пол в его кабинете. Да, Василь Корнеевич Прусь - узкий специалист соковыжимательного дела, почти ничего не читавший, кроме накладных, договоров и разных приказов по заготконторе, имел персональный кабинет, всю стену которого занимали стеллажи с подписными изданиями. Энциклопедия и Жан-Жак Руссо, Шекспир и НовиковПрибой... Как-то Василь Корнеевич подержал в руках Вольтера, пытаясь прочитать страничку, но, ничего не поняв, снова поставил за зеркальное стекло. Зато у них как у людей. За такими изданиями очередь. А он может позволить себе роскошь заплатить в несколько раз дороже и не толкаться у магазина. Пускай стоят, места не жалко... Однажды Василя Корнеевича пригласили на семейную вечеринку к начальнику заготконторы. У начальника тоже всю стену занимали стеллажи. Особенно понравилось Прусю объявление, выполненное печатным способом, предупреждавшее довольно категорично: Не шарь по полкам жадным взглядом, Ты не получишь книги на дом. Лишь безнадежный идиот Знакомым книги раздает! Прусь украдкой переписал текст. И теперь это объявление охраняло его библиотеку на Тополиной от жадных на чужое гостей, хотя их в этом доме почти не бывало: Прусь не афишировал свои отношения с Полиной, запрещал и ей приглашать знакомых... Иногда забегали только соседки, которых принимали в коридоре, или самые близкие Полинины приятельницы, перед которыми она не могла не похвастаться своим достатком. Полина Герасимовна встретила "работников инвентарного бюро" сначала не то что враждебно - настороженно. Но они заверили, что их визит - чистейшая формальность, и хозяйка даже предложила гостям коньяку. Они категорически отказались, да и Полина, в конце концов, сообразила, что ее щедрость ни к чему. У нее все в порядке, документы законные и зарегистрированные осматривайте и катитесь ко всем чертям... А "работники инвентарного бюро" были действительно дотошные: один даже попросил разрешения спуститься в подвал; второй в это время уточнял, не делала ли хозяйка пристроек к дому, не ремонтировала ли сарай... Они закончили работу быстро - за полчаса - и начали уже прощаться, когда вспомнили, что хозяйка должна подписать какой-то документ. Один из них вынул из папки несколько бумаг, дал Полине подержать папку, быстро нашел нужную и предложил расписаться. А через час он докладывал Козюренко, что отпечатки пальцев на стакане с недопитым портвейном совпали с отпечатками, оставленными Полиной Сухановой на папке "работников инвентарного бюро", и что в подвале дома на Тополиной улице устроен тайник, аналогичный хранилищу в доме убитого. Правда, Суханова, вероятно, не знает о его существовании: когда один из оперативников попросил разрешения осмотреть подвал, она восприняла это спокойно, не возражала против того, чтобы он спустился сам, и во время его отсутствия не проявляла ни малейших признаков волнения. Козюренко приказал Владову: - Будем делать обыск. Возьмите у прокурора постановление и вызовите оперативную машину. Полина Герасимовна, увидев постановление на обыск и понятых, разволновалась. Начала требовать объяснений, но Козюренко ответил: - Сейчас все узнаете. Обыск начали с подвала. Осторожно раскрылитайник, - даже опытные работники милиции ахнули, увидев пачки денег в больших купюрах, облигации трехпроцентного займа, несколько сберкнижек на предъявителя и бриллианты в обыкновенной спичечной коробке. Когда положили все это перед понятыми, Полина отшатнулась. Щеки у нее покрылись пятнами. - Боже мой! - воскликнула она. - И все это лежало так близко! Козюренко все время следил за ней. Теперь он был почти уверен, что Суханова не знала о тайнике. Быстро осмотрел найденное. Внимание его привлекла бумажка, исписанная неровным почерком. - Ваша расписка? - показал Сухановой. - Да... - сказала она растерянно. - Дайте взглянуть. Козюренко положил бумажку обратно. - Пока тут разберутся и подсчитают, - похлопал ладонью по деньгам и облигациям, - пройдемте в соседнюю комнату. Суханова молча пошла за ним. Была поражена тем, что такое богатство находилось рядом, а она не знала. Прусь не очень баловал ее. Для дома всегда был щедр, да и ей покупал наряды - две шубы, костюмы, платья, обувь... Но денег давал мало. Иногда сотню в месяц, иногда меньше. А тут... Столько денег! И расписка... Нашла бы расписку - и дом стал бы ее собственностью. Козюренко устроился напротив Сухановой в удобном кожаном кресле. Улыбаясь, спросил: - Чьи это деньги? Василя Корнеевича Пруся? Ведь не станете отрицать, что знаете его? - Конечно, я знаю Василя Корнеевича, - ответила Суханова, не колеблясь. Она как бы подчеркнула слова "я знаю". Козюренко с любопытством взглянул на нее. - И как вы знаете его? Полина смутилась. Опустила ресницы и беспомощно улыбнулась, потом посмотрела, как и раньше, настороженно. - Мы с ним друзья, - покраснела. - Он нравится мне. - Вы хотите сказать, что находитесь с Василем Корнеевичем Прусем в близких отношениях? - Да. - Когда он бывал здесь? Или вы встречались в других местах? - Нет. Как правило, он приезжает ко мне. В последний раз был четырнадцатого или пятнадцатого мая. Простите, когда у нас было воскресенье? Значит, пятнадцатого. - И после этого вы не виделись? Полина покачала головой. - Ну что ж, - предупредил Козюренко, - я посоветовал бы вам быть откровеннее. Мы можем доказать, что вы недавно ездили в Желехов. Суханова обиделась: - Я уже и забыла, когда была там. - Тогда придется задержать вас. Полина беспомощно кивнула головой. Обыск продолжался до позднего вечера. "Портрета" Эль Греко в доме Сухановой не нашли. Оставив здесь двух оперативников, Козюренко вернулся в управление. Суханову отвезли в камеру предварительного заключения. Ночью Козюренко разбудил телефонный звонок: старший лейтенант Владов доложил, -что несколько минут назад на Тополиную к Сухановой зашел мужчина, назвавшийся водителем троллейбуса Вадимом Леонтьевичем Григоруком. Он задержан. - Ну-ну, - пробормотал в трубку Козюренко. - В девять его и Суханову ко мне. И вот что, дружище... Если это вас не очень затруднит, попросите, чтобы кто-то проверил с утра в диспетчерских, не заказывали ли восемнадцатого мая такси на Желехов. И пусть поинтересуются в таксопарках - кто восемнадцатого днем возил туда пассажиров. Сначала Козюренко начал допрашивать Полину. Суханова, как и вчера, отрицала, что недавно была в Желехове. Следователь перебил: - Я знаю даже, какой марки портвейн вы пили восемнадцатого в мансарде Василя Корнеевича. Вы оставили на стакане отпечатки пальцев. Надеюсь, знаете, что это доказательство считается бесспорным? Суханова опустила голову и какое-то время молчала. - Мы условились с Василем, что я никому не скажу об этом свидании. Он вообще запретил мне бывать в Желехове. Козюренко отметил, что Суханова ни разу не ошиблась: говорила о Прусе как о живом. - Зачем вы ездили в Желехов? У вас были какиенибудь веские причины? - Просто скучала по Василю. - На чем ехали? - - На автобусе. - Одна? - Да. - А может, с Вадимом Григоруком? Суханова резко повернулась на стуле. Спросила с вызовом: - - А какое это имеет значение? - Имеет. И большое. - Козюренко постучал пальцем по столу. Следовательно, вы утверждаете, что были с Прусем одни? - Нет... Собственно, да... - Полина зябко съежилась. - Меня возил Вадим Григорук. - Он заходил в дом? - Ждал меня внизу. - Когда вы ушли от Пруся? - Точно не помню. Кажется, в половине одиннадцатого. - Для чего брали с собой Григорука? - Я люблю его! - Это признание будто придало Полине сил. - Я люблю его, поэтому и ездила. Я хотела уговорить Пруся, чтобы он не преследовал нас. Однажды он вынудил меня написать расписку на пятнадцать тысяч рублей. Дом стоит больше, и я согласилась. Тогда у меня не было Вадима .. Кто знал, что так случится? - Что случится? - быстро спросил Козюренко. - Что вы арестуете Пруся Он говорил, что уже в этом году оставит работу и женится на мне. А потом я встретила Вадима. Василь Корнеевич просил меня оставить Вадима, потом начал угрожать. - Так вы не знали о тайнике в подвале вашего дома? - Этот вопрос Козюренко поставил совсем формально: Суханова, конечно, так тщательно не хранила бы собственную расписку на пятнадцать тысяч. - Разумеется, не знала. - И вы поддались на уговоры Пруся и решили не разлучаться с ним? - Он же сказал, что вскоре будет иметь много денег - хватит на всю жизнь. И тогда он женится на мне. Я люблю Вадима. А он живет в общежитии. - Следовательно, если бы Прусь подарил вам дом на Тополиной, вы бы вышли замуж за Григорука? - Мы даже хотели выплачивать Прусю мой долг. Козюренко улыбнулся. - Лет пятнадцать?.. Не так глуп Прусь! - Я тоже могла причинить ему неприятности! - зло бросила Суханова. - Значит, Прусь понимал это и потому не пошел на конфликт? - Он любит меня, - возразила Суханова. - Любил? Суханова выдержала пристальный взгляд Козюренко. - Думаю, и будет любить! - ответила уверенно. - Но теперь, когда все выяснено, почему меня держат здесь? Не обвиняют же меня в том, что я сознательно прятала в своем доме чужие деньги? - она сделала ударение на слове "своем", и Козюренко снова невольно улыбнулся. - Построенном на чужие деньги, - уточнил он. - Ну что вы! Иногда я просто занимала у Пруся. В конце концов, я верну долг. - Кому? - Прусю. - Девятнадцатого мая утром, - сказал Козюрейко ровным голосом, - Пруся нашли с раздробленным черепом в кухне его дома в Желехове. Последними были у него вы и Григорук. На вас, гражданка Суханова, падает подозрение в убийстве. Мы устроим вам очную ставку с Григоруком. Хочу еще раз напомнить: чистосердечное раскаяние смягчит вашу вину. Суханова сидела, обхватив голову руками, и полными ужаса глазами смотрела на Козюренко. Внезапно слезы потекли по ее щекам, оставляя две мокрые полоски. Мы не убивали... - еле слышно прошептала она. - Нет, не убивали! - Руки ее упали на колени, и она всхлипнула. Но Козюренко невозможно было тронуть слезами. Он видел и лучше разыгранные сцены, привык верить только фактам и логике фактов, а слезы, истерики давно уже не действовали на него. Правда, было одно обстоятельство, противоречащее логике: добровольное признание Сухановой в том, что она полюбила Григорука и поэтому ездила к Прусю. Эта сметливая и практичная женщина не могла не понимать, что ее признание против них, если бы они с Григоруком действительно убили Пруся. Но, может, была уверена, что они не оставили следов, и поэтому не успела придумать лучшую версию. Вы когда-нибудь спускались в подвал Прусевого дома? - спросил Козюренко. - Не находили там тайник с картиной? - Какая картина? - перестала всхлипывать Суханова. - Я ни в чем не виновата, и вы скоро убедитесь в этом! Козюренко вызвал конвоира. - Советую вам, Суханова, хорошо подумать, - должны понимать: мы все равно узнаем правду. Допрос любовника Сухановой ничего не прояснил. Григорук сразу же признался, что сопровождал Полину в Желехов. Суханова хотела упросить своего бывшего поклонника, чтобы тот не преследовал их. Вышла из дома Пруся в отчаянии, и они поссорились. Насколько понял Козюренко, у Григорука были только меркантильные интересы: хотел стать хозяином особняка на Тополиной. Он показал, что в ответ на его вопрос, договорилась ли Полина с Прусем, Суханова устроила истерику и, вместо того чтобы сесть в такси, которое ждало поблизости от усадьбы Пруся, направилась на автобусную станцию. Григорук догнал ее и отвез домой на Тополиную. Все сходилось, кроме одной детали: Суханова утверждала, что вернулась домой автобусом... ...Роман Панасович только что прилег на диванчик, положив под бок подушку, когда на столе снова зазвенел телефон. - Как дела, Роман? - загудел в трубке голос начальника управления. - Как тебе сказать... - почесал затылок Козюренко. - Двигаются понемножку. - Ага, - засмеялся тот. - Понимаю, тупик. Вот что, брось все, и едем обедать. Ты не забыл, что обещал Нине? А сам уже два дня носа не показываешь. Козюренко вспомнил, какими варениками угощала их Нина Павловна, и внезапно ощутил такой голод, что проглотил слюну и признался: - Знаешь, дружище, я и правда ужасно хочу есть... Они съели ароматный рассольник, и Нина Павловна поставила на стол тарелки с жарким. Роман Панасович засмотрелся на картошку, от которой шел пар, и не мог сообразить, какие ассоциации она вызывает у него. Наконец вспомнил и рассказал, как они с сестрой когда-то продавали подушки. ...Было это давно. Он тогда был восьмилетним мальчиком. Они недавно приехали в Киев из села, где мать учительствовала, и еще как следует не устроились. Мать захворала, лежала с высокой температурой и послала Романа с Надийкой на толкучку. Перед этим долго советовались, что продать. Лишних вещей не было - вот и решили сбыть подушки: ведь под голову всегда можно что-нибудь подложить. Надийка и Ромко взяли две большие, в красных наперниках подушки и бодро двинулись на базар. Но настроение у них сразу испортилось, когда они увидели огромное скопище людей. Это была подлинная стихия. Человеческая толпа бушевала как море, а над ней стоял неимоверный шум. Здесь господствовали свои неписаные базарные законы. С краю имели свои постоянные места "раскладники". Они продавали всякий хлам: проволоку разного диаметра, букинистическую литературу, старорежимные замки с секретами, медные краны, старые туфли и "крик моды" - вышитые гладью коврики с гномами и лебедями. За раскладкой топтались те, что продавали старые пальто, платья и белье - одежду, которая тут же примерялась под увлеченные возгласы спекулянтов. Еще дальше, на длинных столах, стояли закутанные в старые ватные одеяла кастрюли с горячим борщом, супом, домашним жарким, от которого исходил душистый запах лаврового листа и тушеного мяса. Среди толпы сновали предприимчивые мальчишки и девчонки с ведрами воды, алюминиевыми кружками и горланили во все горло: "Ка-аму вады ха-а-лодной, ка-аму вады?" Им будто вторили хриплые пропитые голоса мужчин, вращавших ногами деревянные станки с насаженными на ось точилами: "На-ажи та-ачить, ноожни-ицы!" Ромко с Надийкой робко вошли на базар и выставили впереди себя подушки. Ромко был уверен, что сейчас на них набросятся, будут вырывать подушки ДРУГ У Друга и заплатят значительно больше, чем они определили дома, - не по десятке за каждую, а по крайней мере по пятнадцать. Он уже знал цену деньгам. Но к ним никто не подходил, и Надийка решила, что они стали не на том месте. Начали проталкиваться через всю толкучку к "раскладке". Ромко крепко жал подушку к груди, созерцая базарные чудеса. Постоял немножко перед дяденькой, который держал на ладони два шарика. Дяденька время от времени подбрасывал один из них, и он ловко падал ему на ладонь, и тогда звучал выстрел - возле дяденьки приятно пахло серой. Эта забава так понравилась мальчику, что он готов был стоять тут хоть целый день, но Надийка повела его дальше. Вдруг через плечо Ромка протянулась рука с черными полумесяцами ногтей и схватила подушку. Мальчик испуганно прижал ее к груди. - Продаешь? - послышалось где-то вверху. Ромко задрал голову и увидел, что на него смотрит хитрый, прищуренный на солнце глаз. Второй глаз смотрел в другую сторону, будто что-то выискивая в толпе. - А то как же, продаю! - робко ответил Ромко, не сводя взгляда с прищуренного глаза. Старый оборванец изо всех сил потащил к себе подушку, и мальчик выпустил ее. Пальцы с грязными ногтями смяли подушку, перебрали наперник не заштопан ли где. Подняли подушку за уголок, пренебрежительно покачали. - Хе, и это называется подушка? - иронически воскликнул человек. - Чтоб мои дети никогда не спали на таких подушках! И сколько же ты хочешь за такое рванье? - Двадцать рублей!.. - не совсем уверенно ответил Ромко. Так его научила мать: следует называть двойную цену, чтобы потом, торгуясь, сбросить. - Ой, не смеши меня - пупок развяжется! - Старик прижал свободную руку к сердцу и вдруг заметил Надийку со второй подушкой. - И это тоже твоя? Надийка кивнула, и человек рванул подушку из ее рук. - И вы хотите за эти старые вещи сорок рублей? Да я помру, если кто-нибудь даст за них хоть пятерку... Ромко потянулся к подушкам, но старик поднял их выше. - Отдайте! - решительно сказал мальчик. - А где ты взял эти подушки, мальчик? Мне сердце подсказывает краденые! Ай-я-яй, мальчик, как нехорошо красть... - Это наши подушки! - выступила вперед Надийка. - Ну, ваши, ваши... Но меня душит смех - сорок рублей... Я дам восемь и, клянусь, переплачиваю... - За обе? - не поверил Ромко. - А ты думал - за одну? Толстая тетка с развешенными на левой руке платьями высунулась из-за старика. Проворно выхватила одну подушку. - Сколько? - спросила. - Пятнадцать... - не посмел уже назвать предварительную цену Ромко. - Я же торгуюсь - не видите? - окрысился на нее старик. - Ну, детоньки, даю вам два червонца, и квиты.. Женщина переложила подушку на левую руку и хотела взять вторую. - Двадцать пять. Беру я. - Чего нос суешь? Разве не видишь, что я торгуюсь... Ромко подпрыгнул и вцепился в подушку. Вырвал ее у старика. - Давайте, тетенька... Та, подобрав юбку, зажала подушку между ног. Достала из-за пазухи два червонца и пятерку. Надийка схватила деньги, потащила за собой брата: боялась, что женщина передумает. Когда затерялись в толпе, радостно предложила: - У нас есть лишняя пятерка, можем пообедать. Им дали две миски жаркого. Надийка только-только развернула деньги, чтобы заплатить тетке, как кто-то неожиданно выхватил их у нее. Девочка резко обернулась и увидела здоровяка в кепке, повернутой козырьком назад. Он шмыгнул под стол. Тетки загорланили: "Вор, держите его!" Ромко метнулся вслед, но вор был проворнее - выкрутился из рук человека, пытавшегося задержать его, и исчез за лотками. Ромко стоял растерянный. Дома же нечего есть! Что они скажут маме?.. Юрий Юрьевич отодвинул тарелку - рассказ взволновал его. - Эх, - сказал он с горечью, - нам с тобой, Роман, немало пришлось пережить... Но я не в претензии. Детство закалило нас! Понимаешь, я не хотел бы, чтобы мои дети пережили такое. Моему бездельнику уже двадцать, а он, вероятно, и до сих пор не знает настоящего вкуса хлеба. Неплохой парень, учится хорошо, но малейшая неудача вырастает для него в проблему. Не умеет бороться с трудностями, собственно, их у него и нет. А характер все же формируют трудности. - Да еще как! - согласился Роман Панасович. - Слишком мы опекаем своих детей, оберегаем их от житейских невзгод. Где только можем, протаптываем им дорожку. Меня, например, каждый раз поражала толпа родителей перед институтом, когда абитуриенты сдают вступительные экзамены... Нас в свое время за ручку не водили. Мы сами себе выбирали дорогу в жизнь. - То-то и оно... - взволнованно сказал Юрий Юрьевич. - Некоторые родители готовы на все, лишь бы только устроить своего ребенка в институт. Мой коллега-прокурор рассказал мне историю, которую ему пришлось расследовать. Фактически моральная кража... В одном вузе начались вступительные экзамены. В аудиторию входит достаточно авторитетная комиссия. А экзаменуют как раз абитуриента, которому экзаменатор протежирует. Отвечает абитуриент не ахти как. А чтобы пройти по конкурсу, должен получить только пятерку. Если бы не комиссия, преподаватель как-нибудь вытащил бы этого лоботряса. А тут такая оказия. Что же он делает? Спокойно спрашивает у ассистента: "Тройка?" - "Конечно", - подтверждает тот. "А вы как считаете?" обращается к членам комиссии. В конце концов, с тройкой можно было согласиться, и те закивали. Однако экзаменатор незаметно пишет в экзаменационной карточке "пять", и эту же самую оценку ставит и в своей ведомости. И ты думаешь, этот юнец возмутился, увидев у себя в карточке пятерку? Ничего подобного. Спокойно вышел из аудитории. У него украли элементарную совесть те, кто якобы желали ему добра. Что же из него выйдет за человек! - Да, некрасивая история! - сказал Козюренко. - К сожалению, не единичная. Мне рассказывал знакомый ректор, - Козюренко назвал учебное заведение. - Как-то, за два или три дня до начала экзаменов, звонят ему. Из телефонной трубки гудит авторитетный бас известного деятеля. В голосе интимно-игривые нотки. "Рад слышать тебя, дорогой Иван Иванович! Есть у меня просьба - поступает к тебе мой племянник. Фамилия та же, что и у меня, так не мог ли бы ты силой своей власти?.." Ректор говорил, что сперва хотел послать этого деятеля ко всем чертям, обратиться в обком и призвать к порядку, но засомневался: в принципе человек неплохой, должно быть, жена упросила его позвонить. Улыбнулся и говорит: "Не верю. Товарищ имярек не может звонить мне по такому поводу"... И положил трубку. Через час является к нему тот самый товарищ, разводит руками. "Извини, - говорит, - пришел к тебе, как в Мекку, ради искупления грехов!" - Вот голова твой Иван Иванович! - восхищенно воскликнул Юрий Юрьевич. - Его бы на дипломатическую работу! - А нам, кажется, пора спешить на нашу грешную... Козюренко спохватился, посмотрел на часы и заторопился. На работе его ждала новость: нашли шофера, возившего в Желехов Суханову и Григорука. Шофер был наблюдательный парень - опознал обоих. Рассказал, что эта пара взяла такси на стоянке поблизости от памятника Мицкевичу, женщина села сзади, а молодой человек - возле него. Между собой почти не разговаривали, разве что обменялись несколькими незначительными словами. Водитель предупредил их, что будет ждать не больше полутора часов. Женщина дала ему десятку аванса и сказала, что, может быть, они несколько задержатся, но пусть это его не беспокоит - заплатят. В четверть двенадцатого появился только молодой человек. Он был чем-то взволнован или удручен, велел возвращаться во Львов, но тут же передумал: попросил заехать на автобусную станцию. Там он выскочил на несколько минут и вернулся уже со своей спутницей. Шоферу показалось, что та плакала. Теперь они оба сидели сзади, снова почти не разговаривали. Единственное, что сказал пассажир, видно утешая женщину: "Все, что ни делается, к лучшему!" Таксист привез их на Городецкую улицу, туда, где она проходит над железнодорожными колеями. Заплатили ему еще десять рублей - неплохо за пятьдесят километров и полтора часа ожидания. Конечно, шофер выложил все, что знал, - не утаил даже своего заработка, хотя о таких вещах таксисты рассказывают крайне неохотно. - Были ли у пассажиров с собой вещи? - спросил Козюренко у шофера. У женщины - сумочка, она еще долго искала в ней деньги. У молодого человека - большой новый импортный портфель. Таксист еще позавидовал: в этот портфель может уместиться очень много. Молодой человек ни на секунду не оставлял портфель в машине. Даже когда выскочил на несколько минут на автобусной станции, взял его с собой. - А не было ли у пассажиров, когда они вернулись, свертка или какой-нибудь вещи, похожей на свернутую в рулон картину? - Роман Панасович показал приблизительные размеры. - Только портфель и сумочка, - покачал головой шофер, - больше ничего. Козюренко сразу ухватился за эту деталь - новый импортный портфель. При обыске у Григорука портфеля не нашли. Собственно, вещей у него почти не было: чемодан, где хранились сорочки и белье, два костюма, плащ и пальто в общем с двумя другими рабочими шкафу, предметы туалета. Куда же мог деться портфель? Козюренко прикинул: картину в портфель не запихнешь - что же у него могло быть? А что, если топор? Туристский топорик с металлической ручкой, каких полно во всех магазинах спорттоваров, конечно, уместится в портфеле. А по выводам экспертов (правда, они категорически не утверждали этого), именно таким топориком и был убит Прусь. В конце концов, если обрезать топорище, в портфель можно засунуть даже плотницкий топор... Вадим Григорук, стройный, широкий в плечах, русоволосый парень с серыми глазами, производил впечатление сильного и волевого человека. Но мягко очерченный подбородок и пухлые губы свидетельствовали о нерешительном характере. Такие легко попадают под влияние более сильных и настойчивых, они способны на всплеск энергии, но долго носить в себе ее заряд не могут. Григорука сразу же после ареста одолела апатия. Иногда его надо было дважды спрашивать, чтобы он понял, чего от него хотят. Козюренко не стал тратить время на всякие психологические опыты. Спросил коротко: - Григорук, когда вы ездили в Желехов, у вас был портфель. Где он? Руки парня, лежавшие на коленях, дрогнули. Он потер правой щеку, прищурился и неуверенно ответил: - Портфель? А, забыл в трамвае... Этот ответ не поражал оригинальностью: преступники, уничтожив вещественные доказательства, как правило, ссылаются на то, что оставили их в трамвае или троллейбусе. - И что же было в портфеле? Ценные вещи? Григорук опустил глаза. Немного подумал и, сложив пальцы, словно считал на них, ответил: - Откуда у меня ценные вещи? Достаток мой невелик... - Водитель троллейбуса зарабатывает не так уж и плохо! - Другим хватает, а мне - нет... А в портфеле у меня были только бутерброды, бутылка пива, еще новые носки купил да свежие газеты... - Интересовались в бюро находок? - А как же. Черта лысого кто-нибудь вернет. - Такое тоже случается... - Козюренко выдержал паузу и спросил вроде бы равнодушно: - А что вы везли в портфеле из Желехова? И снова руки Григорука вздрогнули. - А так, ничего... - спрятал он глаза от следователя. - Газеты и журналы. - Почему же тогда боялись оставить портфель в такси? Григорук пожал плечами: - Портфель ведь новый. На него каждый может позариться. - Как-то оно не логично: из такси вы не забывали брать его каждый раз, как выходили, а вот в трамвае забыли... Вдруг лицо у Григорука просветлело. - Мы же непривычны к такси, - ответил уверенно, - а в трамвае каждый день. Привык ездить без портфеля - встал и пошел... Козюренко отметил, что в этом есть определенный смысл. - В каком трамвае забыли портфель? - спросил он. - Какого числа? В какое бюро находок обращались? С кем разговаривали? Запротоколировав ответы, Козюренко спросил так, будто портфель был уже в его руках: - Значит, вы утверждаете, что забыли портфель в трамвае? А что, если мы найдем вашу пропажу? Губы у парня растянулись в презрительной улыбке. - Поблагодарю за находку. - Рады будем оказаться полезными, - в тон ему ответил Козюренко и вызвал конвоира. Теперь должен был побеседовать еще и с Сухановой. Посадил ее не у стола, а в кресло, сам удобно устроился напротив, на диване. Мог ничего не фиксировать в памяти - их разговор записывался на магнитную пленку. - Что будете пить, Полина Герасимовна? - спросил. - Чай или кофе? - Дайте мне полный стакан кофе. - А я пью чай.. - Козюренко словно извинялся за свою неаристократичность. - А пока нам принесут все это, давайте побеседуем. Должен сказать, что я не снимаю с вас подозрения в убийстве Пруся, так как есть факты, свидетельствующие против вас, и я не могу ими пренебрегать. Но если вы не виновны, помогите следствию найти настоящего преступника. Надеюсь, вы понимаете, что это в ваших интересах. - Конечно, - согласилась Суханова. Она сидела в кресле в непринужденной позе, будто отдыхала. А может, и правда отдыхала: камера предварительного заключения - не гостиная, кресла и диваны туда не ставят. - Конечно, - повторила она, - я поняла вас. Но я не знаю, чем смогу быть вам полезной. Принесли чай и кофе. Суханова бросила в стакан все четыре кусочка сахара, лежавшие на блюдечке, и сразу, не ожидая, пока растают, жадно отхлебнула. Поставила стакан, уже спокойно помешала ложечкой. Вопросительно посмотрела на следователя. - В протоколе допроса записано, - начал Козюренко, - что Прусь обещал в ближайшее время оставить работу и жениться на вас. Что у него было много денег, которых вам хватило бы на всю жизнь. Это правда? - Он так обещал, - ответила Суханова. - Поймите, зачем мне было убивать человека, который обещал обеспечить меня всем? - Ну, могут быть разные мотивы. Хотя бы для того, чтобы выйти замуж за человека значительно моложе и красивее, - объяснил Козюренко. - Впрочем, дело сейчас не в этом. Как вы думаете: говоря о больших деньгах, Прусь имел в виду те, что хранились в тайнике или еще какие-то? Суханова задумалась. - Трудно что-либо утверждать... - Внимательно посмотрела на Козюренко, словно хотела догадаться, что именно кроется за его вопросом и как ей лучше ответить. Вздохнула и продолжала: - Я знала, что деньги у него водятся. Но чтобы такая сумма! - Сплела пальцы на коленях. - Василь Корнеевич был хватким, любил деньги и, может быть, хотел на прощание гребануть в заготконторе. - Та-ак... - вяло произнес Козюренко. - Скажите, а не приходил ли кто-нибудь к Прусю домой? Или, может, он где-то встречался с кем-то? - Василь Корнеевич позвонил мне, когда в последний раз приезжал во Львов... - начала Суханова. - Пятнадцатого мая? - уточнил Роман Панасович. - Да, пятнадцатого. Возможно, он приезжал еще, но не заходил ко мне. А пятнадцатого я была свободна от дежурства в больнице. И мы решили походить по магазинам. Мне нравилось так ходить с ним, - призналась она, непременно что-нибудь купит и подарит. Мы прошли по Академической, и тут Прусь попросил меня подождать, мол, у него назначена встреча. Вошел в гостиницу "Интурист", и его не было минут десять или чуть больше. - Вышел один? - Да. - А вы не заметили, какое у него было настроение? - Василь Корнеевич был возбужден... А когда я спросила, кого он там разыскал, сослался на дела. Однако о своих делах он мне никогда не рассказывал. - В голосе Сухановой почувствовалось плохо скрытое раздражение, и Козюренко понял, что она не может простить этого Прусю. - Потом мы прошли до оперного театра, сели тут в трамвай и доехали до Валовой. Василь Корнеевич попросил подождать его в скверике, а сам свернул направо к площади. Мне стало любопытно, и я пошла за ним. Думала: не с женщиной ли свидание. Тогда я ему сразу скандал - и расходимся... Но он вошел в собор. Я постояла немного: что ему делать в церкви? Ведь не верит в бога... А его нет и нет. Подождала еще немного и тоже вошла. Народу мало, стала в притворе, осматриваюсь. Вдруг вижу - идет Василь Корнеевич со священником и о чем-то тихо разговаривают. Священник проводил его до дверей, поклонился и вернулся обратно. Я незаметно за Прусем. Он ищет меня, а я иду позади. Наконец увидел. "На отпущение ходил?" А он смеется: "Может, про венчание хотел договориться?.." - "Мне и загса хватит, - говорю. - И какие же у тебя дела с попом?" - "Он мой земляк, отвечает, - так захожу иногда к нему, чтоб узнать сельские новости". Вот, собственно, и все, - закончила Суханова. - Потом мы еще в магазинах были. Прусь взял такси и отвез меня домой, а сам отправился в Желехов. - Когда говорил о делах в гостинице "Интурист", не уточнял, какие именно? Связанные с его работой или с чем-нибудь другим? - Я не расспрашивала - он этого не любил. - А как выглядит священник? - Ну, такой, обыкновенный... Высокий воротничок, ага, лысый и голова круглая, как луна... Когда Суханову увели, Козюренко вызвал Владова. - Утром мне понадобится список всех постояльцев "Интуриста" на пятнадцатое мая. И сведения о священнике собора святого Павла. Возможно, у него был приход в селе, откуда родом Прусь.КАНОНИК ЮЛИАН БОРИНСКИЙ
Козюренко остановился на фамилиях двух постояльцев "Интуриста". Виталий Сергеевич Крутигора - работник отдела поставок Николаевского консервного завода, и Павел Петрович Воронов - заместитель директора одного из московских антикварных магазинов. Правда, Крутигора уехал из города шестнадцатого мая, а Воронов восемнадцатого, - таким образом, к событиям в Желехове оба, определенно, не имели прямого отношения. И все же следовало точно выяснить, где они находились вечером восемнадцатого мая и не имеют ли каких-то связей со знакомыми Пруся. Особенно заинтересовал Романа Панасовича Воронов. Антиквар приехал во Львов как раз накануне преступления. И в день его отъезда из дома Пруся исчез "Портрет" Эль Греко. Случайность? Возможно. Но такие случайные стечения обстоятельств происходят редко... Воронов выписался из гостиницы в двадцать один час. В тот вечер в Москву уходили еще три поезда - в двадцать один пятьдесят, двадцать три тридцать три и четверть первого. Следовательно, если антиквар выехал ночным экспрессом, убийца Пруся имел возможность передать ему картину. Но мог убить и сам Воронов. Козюренко записал в блокноте: "Попросить московских товарищей уточнить, когда и каким поездом прибыл в Москву Воронов. Запрос в Николаев относительно Крутигоры". - А как со священником? - спросил он у Владова. Тот подал папку. Фото... Человек с острым взглядом и шарообразной, как арбуз, лысой головой. Каноник Юлиан Евгенович Боринский. Пятидесяти семи лет. Во время войны и в первые послевоенные годы имел приход в селе Песчаном, откуда родом Прусь. Потом добился, чтобы его перевели в город. Живет на Парковой улице, дом номер восемь, квартира семнадцать. Имеет автомобиль "Москвич". - Давайте-ка мы с вами, Петр, съездим в автоинспекцию, - предложил Козюренко. - Простите, еще одно... - Старший лейтенант подал папку. - Рапорт начальника Ковельской милиции. Они нашли тракториста Тимка - Тимофея Васильевича Вальченко. И не только его, а и еще двух попутчиков Семенишина. Все трое опознали его. И подтвердили, что Семенишин действительно ехал с ними в одном вагоне поезда, вышедшего из Желехова в двадцать один час двадцать семь минут восемнадцатого мая. Какие будут указания? - Верните Семенишину подписку о невыезде. Поблагодарите ковельских товарищей. И спросите, не забыли ли они извиниться перед Семенишиным? ...Каноник собора святого Павла Юлиан Боринский отдыхал после обеда, когда к нему пришли работники автоинспекции. Домработница - некрасивая пожилая женщина с бельмом на глазу - подозрительно посмотрела на них и заявила, что его милость спят и беспокоить их в такое время неучтиво, особенно из-за мелочей. А мелочами она считала все, кроме церковных дел, так как была убеждена, что настоящая жизнь существует где-то там, на небе, и путь туда открывает ей церковь и лично отец Юлиан. Работники инспекции начали доказывать, что дело у них очень серьезное, когда на пороге появился сам святой отец. Он довольнотаки невежливо отстранил женщину и поинтересовался, что происходит. Козюренко показал удостоверение старшего автоинспектора. - Вы - Юлиан Евгенович Боринский? - спросил сурово. Домработница всплеснула руками, увидев такое непочтение к его милости. Хотела уже вмешаться и проучить нахалов, но каноник остановил ее. - Ступайте в кухню, Настя, - велел он и пригласил уважаемых гостей в комнату. Козюренко вынул из планшета бумажку, заглянул в нее. - Вы - владелец автомобиля "Москвич"? - спросил официальным тоном и назвал номер машины. Его милость сложил на груди пухлые руки, пошевелил пальцами. - Да, это моя машина, - ответил он с достоинством. - Двухцветная, сине-белая? - уточнил Козюренко. - Да, будьте любезны, сине-белая, - подтвердил каноник. - Мы расследуем автомобильную аварию, - посмотрел на него Козюренко, и проверяем все двухцветные сине-белые "Москвичи". Отец Юлиан сокрушенно покачал головой, как бы сочувствуя работникам инспекции, которым приходится возиться с таким нудным делом. - Но я же не попадал ни в какую аварию, - развел он руками. Козюренко не обратил внимания на это возражение. Спросил: - Вы выезжали из гаража восемнадцатого мая? Отец Юлиан опустил глаза вниз. Снова сложил руки на груди, пошевелил пальцами. Наконец отвел взгляд от пола, словно прочитал там ответ. Спокойно объяснил: - Восемнадцатого мая я не мог выезжать, ибо заболел и пролежал целых три дня. - И у вас есть документ, который засвидетельствовал бы это? поинтересовался Козюренко. Каноник поднял глаза к потолку и ответил: - Разве гражданин инспектор не знает, что мы не берем в поликлинике бюллетеней? - Но вас же навещал какой-нибудь врач? - Обыкновенная простуда, - пожал плечами отец Юлиан. - Зачем же беспокоить врача? Я лежал у сестры. Настя как раз уехала домой. Живет она за городом, в Подгайцах, - счел нужным объяснить. - Так что мне и пришлось полежать у сестры. - И она может это подтвердить? - Разумеется. - Ее адрес? - Вот, будьте любезны, - сладко улыбнулся каноник, - тут рядом. Через два дома над оврагом. - Может быть, вы проводите нас? - Ну, конечно. Прошу только немного подождать, пока оденусь. Через несколько минут они вместе с каноником поднялись на третий этаж старого дома в конце Парковой улицы, упирающейся в Кайзервальд полупарк-полулес на холмах под Львовом. Сестра отца Юлиана была совсем не похожа на каноника. Сухая, сморщенная женщина лет шестидесяти, с недобрым, пронизывающим взглядом. Она примостилась на диване рядом со старушкой, значительно старше ее. Козюренко сел на предложенный стул, откашлялся и начал грубовато: - Находился ли в вашей квартире с восемнадцатого по двадцатое мая ваш брат Боринский Юлиан Евгенович? Женщина с удивлением посмотрела на каноника. Козюренко уставился на него - не подаст ли какойнибудь знак? Но священник даже не смотрел на сестру. - Да, - ответила та, - Юлиан хворал и три дня пролежал у нас. Вот в этой комнате, - показала она на дверь справа. - Значит, вы утверждаете, что гражданин Боринский с восемнадцатого по двадцатое мая неотлучно находился в вашей квартире? - переспросил Козюренко. - Да. - Кто еще может подтвердить это? - Я, - кивнула старушка и чуть приподнялась с дивана. - Хворали они и из комнаты не выходили. - Кто вы такая? - приготовился записывать Козюренко. - Пелагея Степановна Бондарчук, - охотно пояснила старушка. - Живу я здесь вместе с Катериной Евгеновной. - Из села она, - вмешалась сестра каноника, - и прописана у меня. Козюренко, предупредив женщин, что они будут нести ответственность за ложные показания, дал им расписаться под протоколом. Подумал: любопытное алиби. Но надо хотя бы ради формальности осмотреть автомобиль. Спросил у каноника: - Где ваш гараж? - Тут, рядом, прошу, машина на месте. - Пойдемте! Неподалеку за домом тесно прижались друг к другу с полдесятка каменных гаражей. Автомобиль каноника стоял чистенький, поблескивая никелированными деталями. Козюренко обошел вокруг "Москвича", зачем-то заглянул под кузов. Открыл дверцы, залез на переднее сиденье. Нажал на тормоз: берет хорошо. Внимательно осмотрел салон - чисто; видно, кто-то пылесосит попу машину. Заглянул под сиденье - какая-то скомканная бумажка застряла между полозьями, - посмотрел и положил в карман. - Машина в порядке, - обтер руки платком. - Можете запирать гараж, отче. Каноник закрыл железную дверь. Искоса взглянул на Козюренко. - А что это за авария, которую вы расследуете? - спросил он. - Если не секрет, конечно? - Да не авария это... - Козюренко махнул рукой с досады. - Значительно серьезнее - убийство! - Что? - отец Юлиан повернулся всем туловищем. - Какое убийство? - Не волнуйтесь, отче, - сказал Козюренко. - У вас все в порядке полное алиби. - А я и не волнуюсь. - Каноник запер большой замок на двери гаража. Сбили кого-то машиной? - полюбопытствовал он. - Да нет, топором зарубили... - Как - топором? - Кожа на лбу у каноника покрылась морщинами. - При чем тут автомобиль? - Поблизости от дома убитого видели "Москвич". Как раз двухцветный, сине-белый. Вот мы и проверяем... - Надеюсь, я не похож на убийцу, - улыбнулся отец Юлиан. - Разумеется, - подтвердил Козюренко. - Не так ли, сержант? - обернулся он к Владову. Тот смотрел широко открытыми глазами. - Порядок... - наконец выдавил он. - И кого же убили? - поинтересовался каноник. - Да не во Львове... в райцентре - Желехове... - Козюренко говорил небрежно, словно это дело надоело ему и вообще гроша ломаного не стоит. Какого-то заготовителя или вроде этого... Как его? - (просил у Владова, не сводя глаз с каноника. - Ага, вспомнил: Прусь Василь Корнеевич. - Что? - отец Юлиан выронил ключ. - Как вы сказали? - Прусь Василь Корнеевич... А вы знали его? - Василь Корнеевич... Не может быть, - растерянно пробормотал отец Юлиан. - Отвечайте, вы знали Пруся? - схватил его за руку Козюренко. - Да, конечно. - Тогда... - Козюренко поднял ключ. - Придется вам, гражданин Боринский, поехать с нами в управление. - Это какое-то недоразумение! - запротестовал отец Юлиан. - Дикое стечение обстоятельств. - Там выяснят, - сурово произнес Козюренко. - И прошу вас, гражданин, без эксцессов. Сержант, подгоните машину. Они привезли каноника в городскую милицию и оставили под присмотром дежурного. Козюренко зашел в кабинет начальника, вызвал следователя. Они быстро договорились относительно процедуры допроса, и дежурный привел отца Юлиана. Козюренко сел так, чтобы видеть лицо каноника. Откинулся на спинку стула и всей своей позой подчеркивал формальность этого допроса. А следователь вел допрос по всем правилам: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и еще много подобных вопросов, предшествующих одному-двум основным, ради которых эта вся процедура фактически и ведется. Каноник отвечал не спеша, обстоятельно и ясно, подчеркивал свое почтение к закону и в данном конкретном случае - к его конкретным представителям. Узнав основные вехи биографии отца Юлиана, следователь поинтересовался, где и при каких обстоятельствах каноник познакомился с Василем Корнеевичем Прусем. Тот ответил, что настоящий пастырь душ человеческих всегда находится в близких отношениях со своей паствой - вот он и знает не только Василя Корнеевича Пруся, а также его отца и мать, как и многих иных прихожан. Встречались ли они во время войны? Конечно, жить в одном селе и не встречаться! Правда, потом Прусь, отец Юлиан намекнул, что не без его тайного благословения, - вступил в отряд народных мстителей, и до прихода Советской Армии в селе не появлялся. Сам отец Юлиан не смог установить контактов с партизанами. Но ведь, счел он нужным заметить, один воюет с оружием в руках, другой словом... Следователь сурово оборвал его: - Таким образом, вы утверждаете, что во время оккупации не встречались с Василем Корнеевичем Прусем после того, как он вступил в партизанский отряд? Каноник ответил твердо: - Нет. Ни разу. - А если подумать, - начал традиционное в таких случаях зондирование следователь. Но отец Юлиан категорически возразил: - Мне думать нечего, и я помню, что отвечаю перед законом. - Так и запишем, - согласился следователь. - И когда же вы виделись с Прусем последний раз? - Совсем недавно, - ответил каноник. Приложил руку ко лбу. - Постойте, когда же это было? Да за дватри дня до моей болезни, кажется пятнадцатого. Точно, пятнадцатого, потому что в тот день я читал проповедь. Василь Корнеевич заглянул в наш собор и подошел ко мне. - О чем же вы беседовали? - Пустяки, - махнул рукой отец Юлиан. - Я даже не помню о чем. О родственниках, о бывших односельчанах. От таких разговоров в памяти почти ничего не остается... Это было логично, и следователь не мог не согласиться с каноником. Спросил только: - Вы не уславливались с Прусем об этой встрече? - Нет. - А знали ли вы о мошенничестве Пруся? - неожиданно вмешался Козюренко. - Мерзавец, говорят, накрал более ста тысяч! Следователь недовольно посмотрел на него, даже поднял руку, словно предостерегая. - Неужели сто тысяч! - всплеснул руками отец Юлиан. - Боже мой, страшные деньги! - Страшные, - подтвердил Козюренко, не обращая внимания на следователя. - Два дома имел, негодяй, один в Желехове, другой во Львове. Правда, один вроде принадлежит любовнице... Понимаете, любовницу содержал, а к вам на отпущение грехов ходил. Вот как люди устраиваются! - захохотал он. - Ай-яй-яй, как некрасиво! - покачал похожей на арбуз головой отец Юлиан. - Не ожидал от Пруся. Красный партизан, - произнес возвышенно, - и сто тысяч, два дома, любовница! Святая церковь осуждает его! - Да какой еще дом! - Козюренко даже приподнялся на стуле. Двухэтажный и в хорошем районе, углу Горной Тополиной. Любовница собирается половину дома кому-нибудь сдать... - Это не относится к делу! - наконец оборвал Козюренко следователь. Повернулся к канонику. - Из протокола, подписанного вами, явствует, что с восемнадцатого по двадцатое мая вы болели и никуда не выходили из квартиры вашей сестры... - Конечно, - кивнул каноник. - Придется мне самому осмотреть квартиру, - решил следователь. "Капитан автоинспекции" воспринял это как недоверие к себе и недовольно прикусил губу. Но не возражал. Он сам сел за руль, и "Волга" с желтой полосой вдоль кузова запетляла по узким львовским улицам в направлении Высокого замка. Козюренко довез следователя и отца Юлиана до дома на Парковой, а сам решил уже не идти с ними. Постоял у парадного осматриваясь. Весь первый этаж занимал продовольственный магазин с подсобными помещениями. Как раз подъехал грузовик, и грузчик, пререкаясь с шофером, сердито бросал в кузов деревянные ящики. Целая гора ящиков лежала с тыльной стороны дома, - грузчик таки был прав, упрекая шофера за несвоевременную вывозку тары. Козюренко подошел к пожарной лестнице, постоял, мысленно прикидывая расстояние от нее до земли. Высоко, не спрыгнешь... В кустах, которыми зарос склон горы, щебетали птицы. Козюренко полез в кустарник. Вылез, недовольно отряхиваясь. В руках держал длинную палку. Положил ее в машину. Еще раз обошел вокруг дома и встретил отца Юлиана и следователя, выходивших из парадного. - Пришлось извиниться перед попом, - сказал следователь, когда Козюренко вывел машину с Парковой. - Не причастен он к этому делу. - Да, алиби у него солидное, - согласился Роман Панасович. Они подъехали к управлению. В кабинете Козюренко уже ждал Владов. Ни о чем не спросил, но смотрел так внимательно, что Роман Панасович вынужден был объяснить: - Откровенно говоря, не понравился мне святой отец. Эмоции, правда, плохой советчик... Но черные сутаны не вызывают у меня уважения. Сделаем вот что, Петр. Надо сегодня же поселить на Тополиной кого-нибудь из управления. Желательно женщину. Соседям, если что, назовется сестрой Сухановой. Возможно, к ней заглянут, чтобы снять полдома, и пожелают осмотреть, так пусть покажет... Второе. - Он передал Владову разовый талон на телефонный разговор. Выясните, когда этот абонент вызывал Желехов. - Будет исполнено, Роман Панасович! - Владоз не уходил, ожидая дальнейших указаний. - Все, дорогой мой Петр, все. Завтра у нас выходной. Меня, очевидно, не будет. Еду в Карпаты. На перевале весна только начинается, все цветет. А впрочем, может, и ты со мной? - Владов колебался, и это не укрылось от внимания Козюренко. - Ну, если у тебя другие планы, смотри... А то бери с собой жену, рад буду познакомиться... - Для нее это было бы праздником, - обрадовался старший лейтенант. - Мы давно мечтали поехать в горы.АНОНИМКА
На перевале еще цвели яблони, а в долине за Карпатами уже созрели черешни. Козюренко купил полное лукошко. Они ели черешни, купались в ледяной быстрой Латорице под Свалявой и вернулись на перевал поздно вечером голодные и веселые. Жена Петра была с характером. Владов безропотно слушался ее, хотя иногда снисходительно улыбался, подчеркивая, что просто потакает супруге. Но Козюренко заметил, что это даже нравится ему. Они заняли столик в ресторане "Перевал", и Роман Панасович заказал чуть не все меню. Любил быть хлебосольным, ему нравились щедрые столы, чтоб ломились от блюд, хотя сам ел мало. Козюренко смотрел, как девушка в красочном гуцульском костюме расставляла на их столе тарелки, и почему-то вспомнил свое голодное детство. Перед глазами предстал сбитый из грубых досок, потемневший от времени стол, а на нем - кусок клейкого ржаного хлеба с разными примесями. Какой же душистый и вкусный это был хлеб! За столом - маленький Ромко, его брат и сестра. Дети следят голодными глазенками, как дед разрезает хлеб на три равные части. Они знают, что он никого не обидит. Но они никогда не задумывались над тем, что он ест сам. Из-за своего детского эгоизма, точнее, неумения заглядывать в сущность вещей, они считают, что дед не голоден, по крайней мере ему не хочется есть так, как им. Дед ставит посреди стола блюдечко с подсоленным подсолнечным маслом на донышке такое выпадает нечасто (густое, желтое, как мед, масло было тогда чуть не царским блюдом), - они макают в него хлеб и, подержав над блюдечком, чтобы ни капельки не пропало, осторожно несут в рот. Козюренко отодвинул от себя тарелку с заливной осетриной - так захотелось ароматного масла, но подумал, что Владов с женой вряд ли поймут его, и поднял бокал за их здоровье. Они решили заночевать в горной гостинице, чтобы встать на рассвете и в девять быть во Львове. ...В управлении Владов ознакомился с бумагами, присланными во время их отсутствия, и положил перед Козюренко распечатанное письмо. - Пришло с утренней почтой, - доложил он. Верно, хотел что-то добавить, но сдержался. Сел и внимательно смотрел, как Роман Панасович вынимает из конверта лист, покрытый небрежно наклеенными разного размера буквами, вырезанными из газеты. Козюренко разгладил лист, быстро пробежал глазами анонимку. Посмотрел на Владова и прочитал еще раз - внимательнее. Неизвестный доброжелатель сообщал: "Пусть знает милиция, что Якубовский после убийства Пруся что-то закапывал на своем огороде, в малине. Я увидал, но не хотел сообщать боясь мести брат Якубовского сидел в тюрьме и сам он такой". Козюренко взглянул на почтовый штемпель: письмо бросили вчера во Львове. - Передайте экспертам, - вручил письмо Владову. - Пусть выяснят, из какой газеты вырезаны буквы и от какого числа газета. Отпечатки пальцев... На территории какого района города брошено... - Владов встал, но Козюренко остановил его: - Есть ли новости с Тополиной и что выяснено с телефонным талоном? - Извините, спешил с письмом и еще не успел узнать. Роман Панасович недовольно постучал пальцами по столу, и старшего лейтенанта как ветром сдуло из кабинета. Через несколько минут просунул голову в дверь. - На Тополиной все спокойно, никто не приходил... - с грустью доложил он, словно был виноват в этом. - А талон не использован. Что прикажете? - Оперативную машину в Желехов. Владов кивнул, будто знал, что начальство даст именно такое распоряжение, и исчез за дверью. ...Якубовский рыхлил клубнику, когда возле его усадьбы остановилась машина. Оперся на мотыгу и смотрел, как идут к нему. Пальцы задрожали выронил рукоятку, отступил на шаг и оглянулся, будто хотел убежать... Козюренко подошел к нему, указал на беседку, где стояли стол и скамейка. - Садитесь, Якубовский, - сказал властно, - так как дело к вам имеем неприятное, и придется подождать, пока придут понятые... - Уже не привыкать к неприятностям, - ответил тот мрачно. - Люди и так начали чураться меня... Козюренко разложил на столе бумаги, вынул авторучку. Сухо начал: - Выходили вы в сад ночью с восемнадцатого на девятнадцатое мая? После одиннадцати часов? И ничего не закапывали в малине? Якубовского вдруг начало трясти. - Н-ничего... Я уже говорил... Н-ни-чего... Я не закапывал и н-ничего не делал... - А где сейчас находится ваш брат? - Какое это имеет значение? - почти закричал Якубовский. - Он сам по себе, я - сам по себе! Я не видел его уже год!.. - Как зовут вашего брата и где он живет? Якубовский бессильно оперся на спинку скамейки, щеки у него обвисли. - Якубовский Константин Николаевич, - чуть шевельнул губами. - Живет в Нововолынске, на улице Горького, тридцать четыре. - За что и когда его привлекали к судебной ответственности? - В шестьдесят пятом году за кражу. Отсидел свое и вернулся. - И вы утверждаете, что не виделись с ним целый год? - Да. Козюренко спрятал протокол допроса в портфель. Поинтересовался: - Понятые прибыли? Тогда приступим к работе. При современном уровне техники найти железо, зарытое даже на метр и глубже, очень просто - топор вытащили сразу. Топор с металлическим топорищем был очень острый, с рыжими пятнами ржавчины и крови. Якубовский тупо смотрел на топор и молчал. В конце концов в его признании сейчас и не было особой необходимости - вещественное доказательство свидетельствовало само за себя. Владов ждал, что сейчас они поедут в Нововолынск - был уверен, что к преступлению причастен брат Якубовского. Но Козюренко решил вернуться во Львов. Роман Панасович остановил машину у Главпочтамта и, приказав выяснить, где находился Константин Якубовский восемнадцатого и девятнадцатого мая, вошел внутрь. А через два часа уже был в своем кабинете. Вечером связался по телефону с Москвой и что-то уточнил. Оставил кабинет в полночь. Отвез Владова домой и сам поехал спать. На следующий день Козюренко снова связался с Москвой и долго разговаривал с разными людьми. Снова поинтересовался у Владова, есть ли новости с Тополиной и, узнав, что нет, удивленно пожал плечами. ФИНАЛ Около двенадцати Владову позвонила сотрудница управления, которую поселили на Тополиной. - Только что приходила снимать полдома какая-то женщина, - сообщила та. - Уже пожилая, длинная и сухая. Осмотрела дом и приняла все наши условия. Сказала, что завтра въедет. Ее сфотографировали, а ребята из опергруппы пошли за ней. - Спасибо, Верочка, продолжай роскошествовать в особняке Пруся. До особого распоряжения. - Надоело... - пожаловалась Верочка. - Там же столько книг! Читай, - посоветовал Владов. - Повышай свой уровень. Это полезно даже таким красоткам, как ты! Верочка что-то буркнула в трубку, но Владов уже нажал на рычаг аппарата. Бросился к двери и еще с порога начал докладывать Козюренко. - Так, говоришь, длинная и сухая женщина? - переспросил тот. - И ребята пошли за ней? - Приказал: - Две оперативные машины. Владов не понимал, зачем две, но приказ есть приказ, и его надо исполнять .. Машины с оперативными работниками уже стояли во дворе, а Козюренко все не выходил из кабинета. Прошло с полчаса, Владов сидел как на иголках, однако за дверью царила тишина. Зазвонил городской телефон, и какой-то мужчина попросил соединить его с Козюренко. Обменялся с Романом Панасовичем несколькими словами, и тот сразу вышел в приемную. - Едем, Петр! - сказал весело и, как показалось Владову, даже задорно. Обе машины одновременно остановились на Парковой улице: у дома каноника Юлиана Боринского и у дома его сестры. Козюренко в сопровождении Владова, двух оперативников и понятых поднялся на четвертый этаж. Открыл сам отец Юлиан. В легких летних брюках и полосатой пижамной куртке он был похож скорее на канцелярского работника, чем на почтенного каноника. Удивленно отступил, узнав Козюренко. - Снова что-нибудь с автомобилем? - спросил. - Но я болен и никуда не выхожу... Козюренко показал ему постановление на обыск. Кожа на лбу у каноника покрылась морщинами, но он ни о чем не спросил и первым прошел в комнату. Молча сел в глубокое кресло и только после этого сказал, глядя Козюренко прямо в глаза: - Прошу вас исполнять свои обязанности, хотя не знаю, чем вызваны такие... - запнулся он, - крайние меры. Я ничего не скрываю от власти, у меня все на виду. Ну что ж, ищите... Но что?.. - "Портрет" Эль Греко! - Роману Панасовичу показалось на мгновенье, что зрачки у каноника расширились и глаза потемнели. Но отец Юлиан не отвел взгляда. - Что вы сказали? - переспросил он. - Мы ищем картину Эль Греко. Вы взяли ее у Василя Корнеевича Пруся, которого убили восемнадцатого мая, - с ударением сказал Козюренко и сел напротив отца Юлиана. - Где она? Каноник прикрыл глаза. Сложил пухлые руки на груди, пошевелил пальцами. Спокойно ответил: - Вы уже были у меня, уважаемый гражданин начальник. И убедились, что я восемнадцатого мая лежал больной и не выходил из дому. - Да, алиби как будто у вас есть, - подтвердил Козюренко. - Но все-таки убили вы и картиной завладели тоже вы. Где прячете? - Бессмыслица какая-то... - Каноник прижал руки к сердцу. - Эль Греко... Это художник с мировым именем. Я немного разбираюсь в искусстве и знаю, что такое полотно Эль Греко. Его картины - огромная ценность. Не понимаю, откуда Эль Греко может взяться у Пруся... Это какая-то ошибка... Козюренко дал знак оперативникам, и те начали обыск. Отец Юлиан молча смотрел, как они заглядывают в шкафы, выдвигают ящики письменного стола; смотрел с иронией и даже укоризненно: и зачем, мол, люди создают себе лишние хлопоты?.. Взял молитвенник и сделал вид, что полностью углубился в чтение. Но от внимательных глаз следователя не укрылось, что каноник уставился в одну страничку, - верно, не видя даже букв. У Боринского была небольшая двухкомнатная квартира, и обыскали ее быстро; через два часа Козюренко окончательно убедился, что картины Эль Греко здесь нет. Не нашли ее и в квартире сестры отца Юлиана. На мгновение у Романа Панасовича мелькнула мысль: а что, если он ошибся? Нет, ошибки не могло быть. Роман Панасович придвинул стул к креслу каноника. Полюбопытствовал: - Где ваша домработница? Заметил, как по лицу каноника промелькнула тень. Отец Юлиан отложил молитвенник. - Что-то там у нее с сыном, - объяснил он. - Отпросилась и уехала. Сын у нее работает где-то под Ивано-Франковском. Кажется, в Долине. - А где она сама живет? Каноник опустил глаза. - В Петривцах, - ответил он. - Но я же говорю, она поехала к сыну на Ивано-Франковщину. - Неправда, - решительно возразил Козюренко. - Неправда, Боринский. Она уехала совсем не туда и живет не в Петривцах, а в Подгайцах. Вы же сами говорили. Руки каноника скользнули по мягкой коже подлокотников, и он еще глубже осел в кресле. - Да, кажется, я ошибся - Петривцы, Подгайцы... Похожие названия... Сделал над собой усилие и улыбнулся, но улыбка только искривила его лицо. - А зачем она вам, моя Настя? Одевайтесь, гражданин Боринский, и сейчас поедем, - решительно произнес Козюренко. - Почемуто мне захотелось тотчас же повидаться с вашей домработницей. Отец Юлиан надел обычную рубашку и серый, совсем мирской, с разрезом пиджак. Его посадили на заднее сиденье между Владовым и оперативным работником. Козюренко сел на переднее, и "Волга" вскоре вырвалась на загородную магистраль. Все молчали. Так, молча, и доехали до Подгайцев. Отец Юлиан сделал вид, что не знает, где Настин дом, но через минуту это объяснили в сельсовете, - дом стоял у шоссе, и "Волге" даже не пришлось съезжать с асфальта. Настя возилась во дворе у летней кухни - бросилась навстречу отцу Юлиану, но Козюренко остановил ее и попросил разрешения войти в дом вместе с председателем и секретарем сельсовета. Настя зачем-то вытерла руки фартуком и открыла перед ними дверь. Роман Панасович переступил порог и остановился, пораженный: на чисто побеленной стене висел "Портрет" Эль Греко. Козюренко сразу узнал картину: задумчивый и чуть грустный взгляд человека, постигнувшего окружающий мир и несколько разочаровавшегося, но неразуверившегося. Портрет был прикреплен к стене обыкновенными канцелярскими кнопками, словно чертежный лист к доске. А возле него такими же кнопками Настя пришпилила дешевенькие картинки духовного содержания, увенчав все это цветной базарной мазней, на которой были изображены сусальные влюбленные и голубь, сладко смотревший на них одним глазом. Эль Греко и базарный ширпотреб... - Откуда у вас эта картина? - спросил Козюренко у Насти. Женщина вопросительно посмотрела на отца Юлиана. Тот сидел в углу на табуретке, уставившись в пол, равнодушный и безвольный. - Его милость сказали, - произнесла нерешительно, - что этот святой образ принесет счастье моему дому... - Перекрестилась и снова посмотрела на каноника. - Когда он дал вам эту картину? - В тот самый вечер, когда вы приходили. - И велел, чтобы не возвращались из Подгайцев, пока он не позовет? уточнил Козюренко. - Да, так... - произнесла женщина, будто провинилась в чем-то. - Я говорила, как они там будут без присмотра, но они накричали на меня... - Вы подтверждаете это ? - обратился Козюренко к канонику. Тот наконец поднял глаза. - Да, подтверждаю... - ответил устало. .. Они ехали обратно, и Козюренко держал на коленях полотно Эль Греко. Думал, как быстро все кончилось. Вдруг вспомнил, что не все, и спросил каноника: - В котором часу назначена у вас встреча с Вороновым? - Каким Вороновым? - встрепенулся тот. - Э-э, святой отец, - сказал Козюренко весело, поздно отпираться. Следственным органам все уже известно... Я не имею права ничего обещать, но все же у вас есть последний шанс... Отец Юлиан опустил голову. - Пусть будет хоть последний шанс, - тяжело вздохнул он. - Где у вас назначена встреча с Вороновым? Еще не знаю. Он должен прилететь вечерним рейсом и позвонить. Вы его пригласите к себе домой, - приказал Козюренко, - откроете и проводите в комнату. Мы будем в соседней. Покажете картлну и получите деньги. Кстати, на чем вы сошлись? - На сорока тысячах. - Продешевили. - Но ведь десять тысяч валютой... - несколько стыдливо уточнил отец Юлиан. - Все равно. Воронов мог бы дать вдвое больше. Неужели? - раздраженно вырвалось у каноника, будто он уже держал в руках деньги и их нахально вырвали у него. Владов захохотал - такой анекдотичной показалась ему ситуация. о А сколько вам платил Прусь за то, что во время войны вы прятали все, что он награбил? - неожиданно спросил Козюренко. Не плата - слезы... - пожаловался отец Юлиан и осекся: откуда этот следователь знает, что Прусь привез трофеи к нему? Какую серьезную ошибку допустил тогда отец Юлиан! Они с Прусем поделили все пополам: несколько отрезов сукна, белье, кипу немецкого обмундирования, золотые кольца и часы... Прусь бросил в свой сундук, который временно оставил у отца Юлиана, несколько картин, сказав, что выменял их на базаре за две буханки хлеба. Отец Юлиан подумал, что это какие-то дешевенькие копии, и даже не взглянул на них... Разве он знал, что Прусь стащил с немецкой машины ящик с подлинными шедеврами мирового искусства? Собственно, полуграмотного Василя Пруся больше интересовали иные трофеи, и на картины он позарился только потому, что командир партизанского отряда4 рассказывая бойцам о значении операции, особенно подчеркнул ценность полотен, которые вывозили фашисты. Но все же отцу Юлиану, любившему живопись и собиравшему картины, Прусь решил не говорить, где добыл их на самом деле. - Ну, так уж и слезы! - с иронией сказал Козюренко. - Вы же человек практичный и своего никому не уступите. Каноник ответил твердо: - Правда, уверяю вас, Прусь заплатил мне копейки. Он надул меня... Да, надул - каноник был уверен в этом. Когда год назад Прусь приехал к нему и попросил найти покупателя на полотна Ренуара, Сезанна, Ван-Гога и Эль Греко, отец Юлиан только захохотал. Он и забыл о картинах, когда-то небрежно брошенных Прусем на дно сундука. Но Прусь объяснил теперь, откуда у него полотна, и у отца Юлиана чуть язык не отнялся. Он почти год прятал сундук Пруся, и ни разу господь не надоумил его заглянуть туда. Хотя вряд ли он сумел бы определить, что это - оригиналы... Они договорились с Прусем, что отец Юлиан получит двадцать процентов от суммы, вырученной за картины. Несколько раз Боринскому пришлось ездить в Москву, искать связи с дельцами черного рынка, пока, наконец, один знакомый спекулянт из комиссионного магазина не дал ему адрес своего московского напарника, а уже через того удалось связаться с Павлом Петровичем Вороновым. Они уже въехали в город и приближались к Высокому замку. Каноника под присмотром оперативника оставили в дальней комнате. А Козюренко с Владовым уселись у телефона. - Поражаюсь я вашей интуиции, Роман Панасо вич. Были почти прямые улики против Сухановой с ее любовником и против Якубовского, а вы вышли на каноника... - сказал Владов. Козюренко улыбнулся. - Не интуиция, а опыт, - возразил он. Мне кажется, вы сразу же догадались, что убил каноник, - продолжал старший лейтенант. - Козюренко посмотрел на Владова. Хочешь знать, как я узнал, что именно поп убил Пруся? - Если не секрет... - Ну, какие же от тебя секреты? Откровенно говоря, первое сомнение зародилось у меня тогда, когда я узнал, что у каноника был приход в селе, расположенном в районе, где действовал отряд Войтюка. Но лишь сомнение, больше ничего, - подозревали же мы и Семенишина, и Якубовского, и Суханову с Григоруком... Когда каноник доказал свое алиби, я подумал, что он действительно непричастен к преступлению. Но потом увидел у окна комнаты, где, как утверждает Боринский, он три дня пролежал больной, пожарную лестницу. Став на карниз, можно дотянуться до нее, спуститься и спрыгнуть вниз... Я тоже обратил на нее внимание, - добавил Владов, - но она кончается почти на уровне второго этажа. - Вот именно, - кивнул Козюренко. - Сперва и меня это сбило с толку. Но мое подозрение окрепло, когда я нашел под сиденьем поповского "Москвича" разовый талон на телефонный разговор с Желеховом. Талон, купленный четырнадцатого мая, накануне приезда Пруся во Львов и его встречи с Юлианом Боринским в соборе. Но ведь мы же выяснили, что каноник не использовал талон, - сказал Владов,с недоумением глядя на начальство Козюренко усмехнулся. - Его погубила жадность, - объяснил он. - На Главпочтамте я узнал, что было продано два талона - оба на телефонный разговор с Желеховом. Каноник сомневался, удастся ли ему сразу же связаться с Прусем, и купил два талона. В тот же день пришел в епархиальное управление и заказал Желехов. Поговорил с Прусем и пригласил его во Львов, назначив встречу в соборе. Дело в том, что отец Юлиан был посредником между Вороновым и Прусем. Он вызвал Воронова во Львов и пообещал Прусю, что сведет его с антикваром. За определенное вознаграждение, конечно. Восемнадцатого мая в одиннадцать вечера каноник, как они и договорились во время встречи в соборе, приехал к Прусю, чтобы отвезти его к Воронову. В действительности же Боринский и не думал сводить их. Проценты его не устраивали, поэтому и взял с собой топор, на всякий случай обеспечив себе алиби. А неиспользованный телефонный талон оставил жалко, наверно, стало полтинника. Потом потерял этот талон в машине, и мы нашли его. Тогда я сразу решил прощупать каноника, - помните, как старший автоинспектор разгласил служебную тайну, рассказав об убийстве Пруся? - Я не мог понять, зачем это? - откровенно признался Владев. - Хотел увидеть, как отреагирует на мои слова святой отец, ведь нам было известно, что он знал Пруся и встречался с ним. Если бы промолчал выдал бы себя... Но каноник не дал нам ни одного козыря. Однако у меня появились основания привезти его в управление милиции и допросить. Правда, тогда я еще не знал о его телефонном разговоре с Прусем, но все же подозрение меня не оставляло. И я решил поймать каноника. Попасться в западню мог только человек, знавший, что у Пруся, кроме "Портрета" Эль Греко, были еще картины Ренуара, Ван-Гога и Сезанна. Человек убивший Пруся, искал эти полотна и не нашел... Я подумал: если каноник узнает, что Прусь построил в городе еще один дом, то попытается проникнуть туда. Его привлекут не найденные еще картины. Он решил, что Прусь держал в Желехове только Эль Греко, а другие полотна предусмотрительно спрятал в тайнике на Тополиной. И вот во время допроса каноника в гоподском управлении милиции тот самый недалекий автоинспектор разбалтывает, что у Пруся был особняк на Тополиной и что его любовница решила сдать комунибудь полдома... После этого каноника отпускают. Правда, следователь еще едет с ним на Парковую, чтобы допросить свидетелей. А меня все еще беспокоит вопрос: если каноник воспользовался пожарной лестницей, то как же он попал обратно? Помните, на первом этаже там магазин и рядом куча ящиков? Я прикинул: если сложить ящики друг на друга, даже человек небольшого роста сможет взобраться на лестницу... - Но ведь под ней останется пирамида из тары, возразил Владов. - Резонно, - кивнул Козюренко. - Но можно взять длинную палку и уже с лестницы разбросать ящики. А потом забросить палку в кусты. Кстати, в тот вечер я и нашел ее там... - И все же отпустили каноника! - вырвалось у Владова. - Ну, дорогой, палка - еще не доказательство преступления! Ребятишки могли набросать в кусты чего угодно. Для чего я и отдал палку на экспертизу. Отпечатки пальцев на ней не обнаружены. Итак, мы отпустили каноника и стали ждать, не заинтересуется ли он домом на Тополиной. Но он, как оказалось, был умнее и осторожнее: сперва прислал нам анонимку, чтобы милиция схватила преступника и окончательно успокоилась. Отец Юлиан после убийства Пруся сам закопал топор в малине Якубовского, и думаю, что буквы на анонимке наклеены этим клеем, - он показал глазами на письменный стол, где стояла бутылочка. - А может, и нет. Скорее всего, нет. Не оставил же на анонимке отпечатков пальцев, вероятно, и клеем пользовался другим... Мы арестовали Якубовского, собственно, не могли не арестовать: ведь топор прямая улика. Отец Юлиан узнал об этом. Как - пока что еще не знаю. То ли звонил в Желехов, то ли сестра ездила туда автобусом, или еще как-нибудь - это мы выясним. Но узнал и окончательно успокоился: преступник арестован, милиция закрыла дело - можно действовать... И он посылает на Тополиную свою сестру. Посылает сразу, на следующий же день, боится, что любовница Пруся сдаст квартиру другому. Сестра соглашается на все условия. Хотя цена названа высокая. Теперь у меня не осталось сомнений, и мы начали действовать. - А Воронов? Почему он тогда так поспешно уехал из Львова? - Случайное стечение обстоятельств. У него заболела жена, а Павел Петрович - хороший семьянин. Он предупредил отца Юлиана, что вернется через несколько дней, и... Козюренко посмотрел на часы. - Самолет, на котором должен прилететь Воронов, наверно, уже садится... Все же самолет опоздал. Но вот наконец зазвонил телефон. Позвали каноника. Тот снял трубку и пригласил Воронова сразу приехать на Парковую. Отец Юлиан открыл дверь антиквару и, льстиво кланяясь, проводил в гостиную. Козюренко наблюдал в узкую щель между шторами, как вцепился Воронов в полотно Эль Греко. Видно, понимал в живописи. Отец Юлиан честно зарабатывал свой последний шанс: равнодушно сидел в кресле, по привычке переплетя пальцы на груди. Наконец Воронов отвел глаза от картины. - Подлинный Эль Греко... - сказал он глуховато. Свернул полотно и засунул в чехол. Вытряс из чемодана деньги прямо на письменный стол и весело воскликнул: - Считайте, отче! Козюренко вышел из соседней комнаты и приказал: - Отдайте картину, Воронов! Тот попятился в прихожую, но на пороге уже стоял Владов. - Спокойно! Воронов положил чехол на стол. - Так-то лучше, - одобрил Козюренко. - Завтра мы препроводим вас в Москву. Там все и расскажете. - Он взял картину. - А она будет снова висеть в Эрмитаже.Самбук Ростислав Коллекция профессора Стаха
Майор Шульга сидел в кабинете главного врача. - Я должен еще раз напомнить вам, - сказал он подчеркнуто официально, - что от моего разговора с раненым зависит розыск опасного преступника, а может целой банды. Профессор только развел руками. - Сочувствую... сочувствую... - заговорил он быстро, - однако... Сейчас придет Юрий Юрьевич - врач, который лечит вашего сержанта. Вероятно, он разрешит... Понимаете, Омельченко в очень тяжелом состоянии, и любые разговоры с ним категорически запрещены. Шульга упрямо наклонил голову. - Он - работник милиции и хорошо знает, зачем я пришел сюда. Уверен, что разговор не взволнует его. В конце концов всего несколько слов... Только несколько слов... - Я все понимаю, но без Юрия Юрьевича... А вот и он. В кабинет вошел живой, с быстрыми глазами мужчина в белом халате. Он торопливо прошел от двери к столу главврача, будто скользя по блестящему паркету. Полы его незастегнутого халата развевались как крылья. Выслушав просьбу Шульги, не колеблясь сказал: - Можно. Ваш милиционер - счастливчик. Если бы нож прошел на несколько миллиметров правее... - щелкнул пальцами. - А так... Будет жить ваш старшина... - Сержант, - уточнил Шульга. - Возможно... возможно... Итак, вы хотите поговорить с ним? Только кратко и в моем присутствии. Шульга бросил на него неприязненный взгляд - разговор же не личный, а служебный, и этому коротышке, очевидно, нет дела до всех инструкций, относящихся к следствию, не говоря уж о служебной тайне. Шульга вздохнул и, вместо того чтобы сказать сурово и официально, как собирался, произнес с наигранной бодростью: - Благодарю вас, Юрий Юрьевич. Я согласен на все. Сержант Омельченко вымученно улыбнулся майору. Улыбка у него получилась жалкая. Он как бы извинялся за то, что лежит в больнице и отнимает время у старшего инспектора городского уголовного розыска. Хотел что-то сказать, но Юрий Юрьевич властным жестом остановил его. - Майор будет задавать вам вопросы, - он сел возле кровати. Отвечайте не спеша. Не напрягайтесь. - Он пощупал пульс у больного и показал Шульге на табурет. - Начинайте, майор. Шульга склонился над сержантом. Успокаивающе сказал: - Я не хочу утомлять вас, сержант, но надо выяснить некоторые вопросы. На вас напал один или несколько человек? - Один... - Губы у сержанта были бледные, как у покойника. Он едва шевелил ими, и Шульге показалось, что Омельченко вот-вот потеряет сознание. Бросил тревожный взгляд на врача, но тот ободряюще кивнул головой. - Вы видели его? Помните? - Да... - Сержант закрыл глаза, вспоминая. - Среднего роста. Может, даже ниже меня. В темном костюме, длинные волосы. Голос хриплый... - Лицо запомнили? Можете описать его?.. Сержант снова закрыл глаза. - Нет... - покачал головой. - Не припомню... Хотя... Кажется, горбоносый, или тень падала... Темно там было... - пожаловался он. - И, кроме того, все произошло так быстро... - Никто вас ни в чем не обвиняет, сержант, - успокоил его Шульга. Но ведь вы понимаете, - искоса посмотрел на врача, - наша задача обезвредить преступника. Как это случилось? После того, как старшина Вовкотруб с Рыжковым пришли в ресторан? - Я остался... - начал сержант. - Да... да... - кивнул майор. - Все это мы знаем. Скажите, откуда появился тот?.. Преступник... И как?.. - На дорожке... к ресторану, - прерывисто ответил сержант. - Он крикнул мне: в кустах кто-то стонет. Ну, и я... попался на удочку... Успел сделать лишь шаг налево... И все... Ничего больше не помню... - И вы не слышали стона в кустах? Губы сержанта задрожали, и врач сделал майору знак прекратить разговор. - Хватит... - Юрий Юрьевич положил ладонь на лоб сержанта. - Майор благодарен вам. Да? Шульга понял его. Встал. - Поправляйтесь, сержант, я загляну, когда вам полегчает. А преступника мы непременно поймаем! - бодро пообещал он, хотя сам не очень верил в это. Действительно, либо преступник был достаточно опытен, либо ему просто повезло: не оставил следов. А приметы, которые запомнил сержант, не очень проясняли дело... ...Это произошло так. Около одиннадцати вечера милицейский мотоцикл остановился на одной из аллей городского парка... С него слезли старшина Вовкотруб и сержант Рыжков. Оставив возле мотоцикла сержанта Омельченко, пошли посмотреть, что делается в парковом ресторане... Вернулись минут через двадцать. Сержанта Омельченко возле мотоцикла не было. Немного подождали его. Сержант не возвращался. Тогда, обеспокоенные, начали звать его и наконец решили осмотреть кусты. Омельченко уже истекал кровью. Хорошо, что до больницы было недалеко. Старшина Вовкотруб и Рыжков перенесли его туда на руках. Через несколько минут у места преступления остановилась оперативная машина. Подогнали два милицейских мотоцикла, включили фары. Шульга осмотрел кусты, но ничего не нашел: сухая земля не сохранила следов, только трава, на которую упал сержант, пропиталась кровью. Решив еще раз осмотреть место преступления при дневном свете, Шульга направился в больницу. Возвращаясь в управление, Шульга всматривался в пустые улицы, провожал глазами одиноких прохожих и со стыдом думал, что преступник блуждает где-то на свободе, теперь уже вооруженный... Майор пошевелился на сиденье, усаживаясь поудобнее. Понимал, что нападение на сержанта Омельченко случайное, не подготовленное заранее, старшина мог и не оставить Омельченко возле мотоцикла. Итак, случайность. Но устроил нападение смелый и опытный преступник, будто готовился к нему - сделал все чисто и почти не оставив следов... Разве что сломанная веточка. Так ее мог сломать, падая, и Омельченко... То, что преступник не оставил следов и украл пистолет, очень беспокоило Шульгу. Разговор с Омельченко дал майору не очень много, но и не так уж мало. По крайней мере, у Шульги уже был материал для первого доклада начальнику уголовного розыска: он составил список всех бывших преступников, живших теперь в городе и области, и участковые инспекторы получили задание проверить, где они были десятого мая между десятью и одиннадцатью часами вечера. Десятого мая Балабан проснулся поздно. Увидел на столе холодную картошку и кусок вареной колбасы, поморщился: дрянь, а не завтрак. Съел только колбасу, выпил стакан холодного чаю и, взяв оставленный сестрой на буфете рубль, направился в город. Послонялся по улицам и поднялся по крутой аллее к парку над рекой, сел на скамейку. Было страшно жалко себя. Со злостью посмотрел на девушек в коротких юбках, проходивших мимо него, громко и беззаботно смеясь. Он бросил им вслед грязное слово, но от этого не стало легче. Тоска давила, какая-то черная, беспросветная тоска, злоба. Второй месяц после освобождения из колонии Алексей Балабан жил преимущественно у двоюродной сестры в городе. У матери, имевшей дом в пригородном поселке, бывал редко - мать бранилась и требовала, чтобы он шел работать. Балабан даже устроился было на кирпичный завод, но выдержал только неделю и убежал к двоюродной сестре. Считал, что Анна многим ему обязана. Когда-то он провернул прибыльное дельце. Один только японский транзистор стоил по крайней мере сотен пять. Балабан же продал его какому-то пижону на сочинском пляже за две с половиной, сославшись на нужду. И не жалел. Две с половиной так две с половиной, не все ли равно. Деньги тогда текли у него сквозь пальцы, и, вернувшись к сестре, у которой оставил краденые вещи, он даже не спросил у нее, кому и за сколько она их продала. Их с напарником взяли через несколько недель. Следователь собрал неопровержимые доказательства, провел даже очную ставку с сочинским покупателем транзистора. Тот, оказывается, сдал радиоприемник в московский комиссионный магазин. Не назвал Балабан только Анну. И вот тебе благодарность - рубль... Балабан выпил на этот рубль стакан портвейна и купил сигарет. У него не осталось денег даже на воду. А ему так хотелось выпить холодного бочкового пива. У Балабана даже пальцы задрожали, когда вспомнил его вкус. Пиво продавали в киоске в боковой аллее парка. Балабан представил, как сдунет пенную шапку с кружки, и решился. Медленно встал, потянулся и направился к киоску. В будний день тут не было очереди - стояли лишь три-четыре человека. Лёха оперся спиной о шершавый ствол каштана, под которым стоял киоск, начал наблюдать. Вскоре к киоску подошел парень. Балабан тронул его за плечо. - Поставь кружку, - подмигнул, - когда-нибудь отблагодарю... Тот отстранился. - Еще чего захотел! - пренебрежительно усмехнулся парень. Этого уже Балабан не мог стерпеть: высунул из рукава лезвие ножа так, чтобы видел только парень. - Поставишь? - спросил угрожающе. Тот посерел, оглянулся на двух пожилых мужчин, пивших пиво в нескольких шагах, но те стояли спиной к ним. Жалобно улыбнулся буфетчице. - Две... - еле выдавил из себя. Буфетчица равнодушно выставила кружки - какое ей дело, кто кого угощает, пивной киоск - не павильон минеральных вод: тут всего и насмотришься, и наслушаешься... Парень подвинул Балабану кружку, и тот едва удержался, чтобы одним духом не опорожнить ее, однако злорадно усмехнулся и вылил пиво на землю. - Что даешь, падло! - ткнул пустой кружкой парня в подбородок. Муха, не видишь? Заказывай еще! - Извините... - пробормотал тот. - Не было никакой мухи... - Ну! - сверкнул глазами Балабан. - Еще к-кружку... - попросил парень. На этот раз Балабан выпил. Хотелось заказать еще, но увидел: к киоску направляется мужская компания. Толкнул парня в бок. - Спасибо, - подмигнул, искоса бросив взгляд на буфетчицу. И поспешил на берег реки. Он нашел тихую полянку среди кустов, растянулся на траве и незаметно заснул. Проснулся, когда уже стемнело. Домой идти не хотелось. От одной мысли об Анне и ее косых взглядах стало тоскливо. Начнет попрекать, что кормит его... Балабан вспомнил, как беззаботно жилось ему в детстве. Отца он не помнил. Тот бросил их, когда Лесик был еще младенцем. Мать, безумно любившая сына, работала с утра до ночи, чтобы ее Лесик имел все, что пожелает. Балабан сызмальства привык ничего не делать. Мать кормила и одевала. А он слонялся по улицам с двумя-тремя такими же лоботрясами, как и сам. Учиться не хотел - сидел почти в каждом классе по два года и насилу кончил пятый класс. Вечерами перепродавал билеты у кинотеатра и уже в двенадцать лет начал курить и пить. Мать не знала, что с ним делать. Соседки советовали ей обратиться в милицию. Но она и слушать не хотела - чтобы ее Лесика таскали в милицию! и пыталась купить привязанность сына мелкими подарками... Но это только еще больше избаловало его. Как-то Олексе с дружками не повезло с перепродажей билетов. Подростки уже привыкли к папиросам и вину. А денег не было. В двух кварталах на довольно тихой улице стоял киоск, за витринами которого заманчиво выстроились на полках бутылки. В тот вечер и произошла первая серьезная кража, инициатором которой стал Балабан. А потом первое отбывание срока в колонии для несовершеннолетних. Он вернулся домой через год, мать устроила его на работу. Однако Балабан работать не захотел. Связался с опытными преступниками. Несколько краж остались безнаказанными, и Балабан поверил в свою счастливую звезду. Но угрозыск уже следил за ним, и скоро Балабана поймали с поличным. Снова колония, потом, после отбытия срока, еще... И вот он на свободе. Балабан вышел по центральной аллее на многолюдные, залитые светом улицы. Постоял на пятачке у станции метро, с завистью глядя на хорошо одетых людей, выходивших из ресторана. "Хоть бы четвертак, - думал с тоской. - Ну, два червонца..." Легонько кольнул себя острием ножа в бок и побрел обратно в парк... На центральной аллее заметил пьяного, который шел, покачиваясь и что-то мурлыча себе под нос. Уже хотел остановить в темном месте, да вовремя увидел на противоположной стороне аллеи молодую пару под развесистой липой. Дальше было людно - повернул обратно, выругавшись. В конце концов, у этого пьянчужки, должно быть, денег нет... Балабан слонялся по аллее допоздна, пока из летнего ресторана не начали расходиться последние посетители. Остановился за шашлычной у дорожки, ведущей к реке, надеясь, что, может быть, какая-нибудь нетрезвая пара свернет туда. Но вдруг из-за поворота выскочил милицейский мотоцикл с коляской и остановился рядом. Балабан повернулся к милиционерам спиной и медленно двинулся следом за веселой компанией, вышедшей из ресторана. Так он добрался до асфальтированной дорожки, круто сворачивавшей еще к одному летнему ресторану. За спиной снова зарокотал мотоцикл, и Балабан инстинктивно спрятался в кустах в нескольких шагах от дорожки. - Ты покарауль тут, Омельченко, а мы посмотрим, что делается в ресторане! - приказал кто-то хриплым голосом, очевидно старший патруля. Мимо Балабана шли двое. Он невольно прижался к стволу ясеня. Сердце бешено билось от страха. Стук каблуков затих, и Балабан успокоился. В конце концов, чего ему бояться? Ничего он не сделал, даже не пьян. Правда, он нездешний. Но что из этого? Приехал в гости к родным, разве это запрещено? И все же какой-то страх лежал в груди и мешал свободно дышать, раздвинуть кусты и выйти независимо, не обращая внимания на патрульного, сидевшего почти рядом на мотоцикле. Очевидно, это был извечный страх преступника перед стражами порядка. Милиционер закурил и приятный запах табака защекотал Балабану ноздри. Он бесшумно выскользнул из кустов, сделал два шага по асфальтированной дорожке. - Товарищ милиционер... Тот оглянулся. - Там... кто-то стонет, слышите? - с притворным возбуждением сказал Балабан. Милиционер встал с мотоцикла, постоял, прислушиваясь. - Может, кого-то там... - убеждал Балабан. Милиционер оторвался от мотоцикла, бросил окурок и, на ходу расстегивая кобуру, пошел навстречу незнакомцу бесшумной, легкой походкой. - Где стонет? - вдруг донеслось до сознания Балабана, и он снова ткнул пальцем в кусты. Теперь милиционер был совсем рядом, он ощупывал Балабана внимательным и недоверчивым взглядом, но тот не отвернулся и не смутился. Твердо произнес: - Там, в кустах, кто-то стонет... Я слышал не совсем ясно... Милиционер шагнул под деревья, сделав незнакомцу знак следовать за ним. Это и погубило его. Балабан не стал ждать, пока милиционер углубится в кусты, он ударил финкой сразу, ударил изо всех сил - милиционер даже не успел крикнуть: захрипел, покачнулся и упал в кусты... Балабан дрожащей рукой нащупал пистолет, сунул его в наружный карман пиджака и бросился вверх. Уже добравшись до аллеи, вспомнил, что оставил финку, метнулся назад, вытащил ее, огляделся и, увидев, что никого вокруг нет, направился к лестнице, ведущей к верхнему парку. Хотелось что есть сил бежать отсюда, но заставлял себя идти не спеша. На лестнице переложил пистолет во внутренний карман пиджака и, перепрыгивая через ступеньки, поднялся наверх. Пересек верхний парк, вышел на улицу и сел в трамвай. Только через несколько остановок понял, что едет не в ту сторону. Пересел и доехал до вокзала. Вскоре он уже сидел в электричке. С утра Балабан любил понежиться в постели: во-первых, избегал лишних разговоров с матерью, почему-то считавшей, что ему непременно надо самому зарабатывать на хлеб; во-вторых, наверстывал недоспанное в колонии с ее ранними подъемами и суровым режимом. Но сегодня, услышав, что мать уже хлопочет у печки, зевнул и вылез из-под теплого одеяла. В сенях выпил кружку холодной воды, протер заспанные глаза и вышел в кухню. Мать испытующе посмотрела на него. Балабан поскреб небритый подбородок. - Ты, мама, того... - начал он не очень уверенно. - Денег не дам - нету! - оборвала его мать. - Иди работать. Вот и у нас рабочие нужны. - Сотня в месяц, - пренебрежительно поморщился Балабан, - целый день спину гнуть! Дураков нет. "И все же хоть для видимости надо куда-то устроиться, - подумал он, потому как милиция не даст покоя. Протянуть два-три месяца и уволиться. Потом полгода можно искать работу". - Я что-то плохо себя чувствую, - сказал он матери. - Тяжелая работа не для меня. Мать смерила сына пренебрежительным взглядом, и тот понял, что сейчас, постепенно распаляясь, она начнет пилить его, и все кончится обычным скандалом. В другой раз он даже подлил бы масла в огонь. Но сегодня не хотел пререкаться. Заискивающе попросил: - Ты, мама, скажешь, если спросят, конечно... Ну, что я больной и второй день уже лежу... Усекла? - Тьфу! - плюнула в сердцах мать. - Ты по-человечески можешь разговаривать? - Ну, того... - Лёха почесал пальцами босой ноги под коленом другой. - Я с одним типом поссорился, и милиция может расспрашивать... Так скажешь, что я болен, вчера никуда не выходил из дому. Мать всплеснула руками и заплакала. - И когда же ты ума наберешься? Снова за старое?.. Мало тебя жизнь учила? Онасердито высыпала из кастрюли картошку в корыто. Сунула в руки сына мялку. - Накормишь кабана! - велела. И Балабан покорно начал толочь картошку. Но, как только мать вышла со двора, он с отвращением оттолкнул ногой корыто и достал папиросы. Выпустив несколько аккуратных колец дыма, встал и направился к сараю, где под дровами лежал пистолет. Ему так хотелось посмотреть на него, однако заставил себя остановиться. Высыпал картошку кабану, с любопытством наблюдая, как тот жадно жрет, и вышел в сад. Встал за развесистой яблоней так, чтобы видеть соседний двор. Дождался, когда на крыльце появилась бабка Соня, подошел к невысокому забору, разделявшему усадьбы. - Хороша у вас клубника! - начал он громко: бабка Соня плохо уже слышала и видела, хотя притворялась, что все в порядке, и сердилась, когда кто-нибудь сочувствовал ей. Бабка не услышала, однако утвердительно закивала головой. Ответила на всякий случай равнодушно: - Будь здоров, Лёшка. Как жизнь? - Хороша у вас клубничка, - повторил Балабан громче, чуть не крича. Я вчера вечером смотрел, как вы поливали грядки, и думал: что вы с таким урожаем будете делать? Мешок денег наторгуете. Бабке Соне почему-то не понравились подсчеты Балабана, подозрительно стрельнула в него глазами и замахала руками. - Какие там деньги?! Слезы, а не деньги... "У-у, ведьма, у тебя по сундукам бы пошмонить - не одну сотню заначила!" - со злобой подумал Балабан, но, сладко улыбнувшись, проговорил: - Я вчера вечером смотрел, как вы работаете, и думал: "Молодец бабка Соня, нам бы вот так... Никакая болезнь ее не берет". А я вот... закашлялся, - совсем расклеился... - Погоди! - категорично сказала бабка. - Я тебе, Лёша, малинки дам, забеспокоилась вдруг. - Как рукой снимет. - Пил уже, - остановил ее Балабан. - Я вчера хотел попросить у вас банки, но вы были заняты на огороде... - Он знал, что бабка Соня каждый вечер поливает клубнику. - И не заметили меня... Это уже был намек на ее, бабкину, подслеповатость. - Как не заметила! - обиделась она. - Видела как облупленного, еще хотела спросить, почему вечер зря тратишь? Молодежь идет на танцы, а ты же, бедный, сколько лет жизни не видел!.. Балабан решительно остановил ее: - Да болен же я - говорю вам! - Вот я сейчас банки принесу... - засуетилась бабка. Она сбегала домой. - Пойдем, поставлю - мать же на работе. Когда бабка Соня, поставив банки, ушла домой, Лёха плюнул ей вслед и начал завтракать, да не удержался - злодейски огляделся и шмыгнул в сарай, плотно закрыв за собой двери. Вытащил из-под поленницы черный, вороненой стали пистолет, перезарядил, прицелился, поискав мушкой цель, однако стрелять в сарае не стал, с сожалением вздохнул, переложил патрон в обойму, завернул пистолет в чистенькую тряпочку и, спрятав под дрова, пошел завтракать. Не успел запить яичницу свежим молоком, как увидел в калитке знакомую фигуру участкового инспектора Хохломы. Этот настырный лейтенант уже надоел Балабану; почувствовал, как заныло под ложечкой, а ладони вспотели. Лёха нырнул в кровать, натянул одеяло до подбородка. Услышав стук в дверь, не ответил, дождался, пока участковый забарабанит еще, и потом вяло отозвался: - Входите... Встретившись с внимательным и вопросительным взглядом Хохломы, съежился под одеялом, но глаза не отвел. Лейтенант, не попросив разрешения, сел на стул. - Что, Балабан, захворал? - спросил сочувственно, хотя глаза остались серьезными и даже колючими. Лёха повернулся на бок, будто невзначай оголив спину, чтобы показать следы от банок. - Угу... - пробормотал он. - Простудился... - Летом! - сокрушенно покачал головой участковый. - Как же ты умудрился? - Пивка холодного глотнул. - Пивка... потом водки! - в голосе лейтенанта появились поучающие интонации. - Снова за старое, Балабан... Предупреждаю, если не устроишься на работу... Лёха сел в кровати, умоляюще прижав к груди руки. - Гражданин начальник, - произнес вполне искренне, - вот оклемаюсь и сразу на работу! Мать уже говорила с агрономом на плодорассаднике - там рабочие нужны. Лейтенант одобрительно кивнул головой. - Работа хорошая, и коллектив там неплохой. - А то как же, - согласился Лёха, имея в виду совсем другое. В плодорассаднике бригадиром был его бывший одноклассник, и Балабан надеялся, что тот не станет придираться к его прогулам, да и вообще будет покрывать его. - Да, коллектив там неплохой, - подтвердил он и добавил: Он поможет мне перевоспитаться. - О-о! - улыбнулся Хохлома. - Вижу, ты начинаешь осознавать... Очевидно, он прочитал бы Балабану небольшую лекцию о роли коллектива в воспитании бывших преступников, но вовремя вспомнил о цели своего посещения, запнулся и начал издалека: - Я вот вчера проходил мимо вас, хотел наведаться, но окна уже были темными... - Мать допоздна возилась во дворе, а я лежал... Видно, участковому надоело ходить вокруг да около. - Ты никуда вчера не отлучался? - спросил он сурово. - Да я же болен... - Я спрашиваю. - Никуда, гражданин начальник. Вот спросите хотя бы у бабки Сони... - Спросим у кого надо. Поправляйся и оформляйся. Лейтенант вышел. Балабан подождал, пока хлопнет дверь на крыльце, вскочил с постели и припал к щели между занавесками. Удовлетворенно усмехнулся: участковый свернул к бабке Соне. Знал старуху: коль уж сказала, что видела Лёху в саду, то не отступится, что бы ни было. Балабан держал в руках небрежно свернутую газету, делая вид, будто читает. Тем временем его глаза внимательно следили за людьми, на минуту-другую садившимися к покрытому чернильными пятнами столу, чтобы заполнить кассовые ордера. Сберкассу в помещении Главпочтамта Балабан избрал вполне сознательно, забраковав перед этим с полдесятка других. Тут сиди хоть час, и никто не обратит на тебя внимания, потому что в этом же зале помещается и междугородный переговорный пункт. Да и сберкасса перспективная: в самом центре - среди ее клиентов должны быть люди денежные. Надо было только дождаться того, кто возьмет большую сумму. Хотя бы рублей четыреста или пятьсот, ну, пускай хоть триста, все прочее зависело от многих обстоятельств: куда пойдет клиент, один или с кем-нибудь, каким транспортом воспользуется... Балабан заметил, что одна женщина получила семьсот рублей. Он двинулся следом, но ее ждало такси, и Балабан проводил ее злым взглядом. ...Спиридон Климунда так спешил, что не обратил внимания на парня в полосатом пиджаке, который, подняв голову от газеты, цепким взглядом следил, как он считает десятки. Климунда спрятал деньги и направился к троллейбусной остановке. В тот же троллейбус сел и парень в полосатом пиджаке. Климунда вышел на площади, и Балабан выпрыгнул вслед за ним. Подумал: сейчас тот зайдет в магазин и истратит деньги на какое-нибудь барахло. Но эта мысль не смутила его. Он уже жалел, что увязался за этим молодым человеком со спортивной выправкой. Лучше было бы дождаться какой-нибудь женщины, догнать ее в пустом подъезде. Тогда можно было бы отобрать деньги культурно и вежливо, даже поблагодарить... Тем временем молодой человек пересек улицу. Шел быстро, помахивая левой рукой. Правую не вынимал из кармана. Он уже видел нужный дом. Зоя говорила: парадное между хлебным магазином и кафе. Так и есть - огромные старые двери, да и дом, вероятно, стоит сотню лет. Ему на предпоследний этаж, квартира справа, звонить дважды. Зоя пообещала дубленку. Они сразу договорились о цене. Спиридон знал, что на этой дубленке он что-нибудь заработает. Был у него клиент, давно уже просивший достать дубленку и обещавший хорошо заплатить. Климунда торопился: нести дубленку домой не годилось, надо было еще съездить к клиенту, а в двенадцать быть уже в институте, где Спиридон работал тренером по настольному теннису. Вспомнив о работе, Климунда недовольно поморщился: мороки много, платят копейки... И все же для отвода глаз он вел кружки в трех учреждениях. Не будешь работать - осудят как тунеядца. К тому же тренерская работа давала ему возможность развернуть иную деятельность скупать у спортсменов, приезжавших из-за границы, а также у зарубежных туристов разные вещи и продавать с выгодой для себя. Не брезговал Климунда и валютой, небольшими суммами долларов, фунтов, франков и лир. Но тут проявлял особую осторожность - знал, что за операции с валютой по головке не погладят, поэтому и сбывал доллары и франки только старому школьному товарищу - Омельяну Иваницкому. Еще учась в школе, Спиридон с Омелей повадились в "Интурист". А вскоре уже занимались "коммерцией". Начинали с мелочей - авторучек, жевательной резинки, зажигалок... Потом Омельян поступил в художественный институт, и их пути на какое-то время разошлись. Но как-то Спиридону надо было спешно продать полсотни американских долларов, выменянных им у туриста. Омельян взял их без разговоров и намекнул, что возьмет еще. Это снова сблизило их. Правда, Омельян - искусствовед и в компании всегда хвалится своим знакомством с известными художниками. Какой Омельян искусствовед, Климунда не знал, а вот что спекулирует картинами, ему было известно доподлинно. Однажды случайно подслушал разговор Омельяна с каким-то типом - тот предлагал Иваницкому приобрести этюд передвижника и хотел тысячу рублей. Омельян давал шестьсот и жаловался, что интерес к передвижникам в последнее время не очень велик. "Вот это коммерция, - с завистью подумал тогда Спиридон. - На одной картине "навару" триста - четыреста рублей, попробуй заработать столько на продаже рубашек и джинсов..." Ну, сегодня и он заработает неплохо... Климунда прибавил шагу. Вспомнил вчерашний вечер в "Эврике", где он познакомился с Зоей. Правда, ему больше понравилась Зоина подруга - Клара. Она сидела с Зоей за отдельным столиком. Спиридон пригласил ее потанцевать, потом - Зою. Знал, что понравился девушкам, - не возражали, когда он оставил свою компанию и пересел за их столик. А потом пришел Кларин знакомый - Роберт и испортил Климунде настроение на весь вечер. ...В огромном парадном стоял запах то ли кислой капусты, то ли гнилого картофеля. Шаги Спиридона звучно отдавались на лестнице... - Эй, ты! - услышал он неожиданно. - Минуточку... Оглянулся и увидел чуть не под самым носом дуло пистолета. - Тихо... - Балабан запнулся - вспомнил, что не снял пистолет с предохранителя. Но произнес уверенно: - А то сделаю дырку в башке! Ну, быстрее!.. Деньги сюда! - Деньги?.. Какие деньги?.. - Ну, гнида! - угрожающе прошипел Балабан. - Давай быстро четыреста монет! На мгновение у Климунды оборвалось сердце: значит, следил за ним еще в сберкассе и шел по пятам. Но ведь четыреста монет! Отдать их... Дуло пистолета смотрело ему прямо в глаза. Внезапно Спиридон сильным и точным ударом выбил пистолет из руки Балабана. - У-у, гад... - Балабан ударил левой, этот удар раздробил бы Климунде челюсть, но тот успел увернуться, присел и бросил напавшего через себя прямо на лестницу. Схватил пистолет. В ту же секунду Балабан вскочил на ноги и бросился на Климунду, но снова почувствовал, что земля ускользнула из-под его ног, резкая боль затуманила ему голову. Климунда, злорадно улыбаясь, сунул пистолет в карман. - Ну, - шагнул к неизвестному, - еще дать денег? Балабан лежал на грязном полу, неудобно подвернув ноги. - Ну, самбу знаешь, - пробормотал он плаксиво. - Знаешь самбу, ну и хорошо. Зачем только на людей бросаться? - Это я бросаюсь? - возмутился Климунда. - А ну, вставай! - Не трогай меня! - заслонился Балабан руками. - Я просто хотел пошутить... - Хороши шутки... - Климунда пошлепал себя по карману, где лежал пистолет. - Вставай, сказано тебе! Тот встал на колени и жалобно попросил: - Отпусти меня... Я же тебе ничего не сделал. Где-то наверху, наверно на шестом этаже, хлопнули дверью. "Может, позвать милицию?" - мелькнула у Климунды мысль. Но что это даст ему? Всякие свидетельства, вызовы в уголовный розыск... И оружие придется отдать... Это, может, единственный в жизни шанс завладеть пистолетом. Оружие - не кулаки. Еще учась в школе, Климунда увлекся самбо. Это давало преимущество перед товарищами и тешило его тщеславие. Но, почувствовав, что без особых усилий сможет победить любого из одноклассников, он неожиданно бросил самбо и увлекся настольным теннисом. Вскоре стал перворазрядником, а потом и кандидатом в мастера спорта. Климунда глубже засунул пистолет в карман. Наверху послышались шаги кто-то спускался по лестнице. Климунда уже решил: он не сдаст этого бандита в милицию, пусть катится ко всем чертим. - Мотай отсюда! - отступил, давая Балабану дорогу. - Быстрее, пока я не передумал. Балабан сделал несколько шагов, еще не веря. - Извини, браток, - лепетал он. - Я не хотел... Ты уж извини меня. И спасибо. - Подожди! - вдруг остановил его Климунда. Он еще не знал, почему именно так поступил, единственное, что осознавал: сейчас за этим бандитом закроются двери, и он уже никогда его не увидит. А его можно использовать... - Ну, что?.. Ты же отпустил меня, - заканючил Балабан. А шаги все приближались... - Отпусти меня... - Тиш-ше! - оборвал его Климунда. - Идем со мной. Тут рядом, в скверик. Надо поговорить. И попробуй только сбежать. Сдам в милицию! Подтолкнул Балабана к дверям, и они вышли на шумную площадь. Лёха со страхом посмотрел на Климунду: чего от него хочет этот пижон? Но тот и правда свернул в сквер, и Балабан немного успокоился. Они сели на свободную скамейку. Климунда все еще держал руку в кармане. Балабан заметил это и пренебрежительно скривил губы: все же тот боится его. На всякий случай немного отодвинулся: кто знает, что нужно этому пижону, может, он легавый? Наконец Климунда вынул руку из кармана и, вытерев вспотевшую ладонь о джинсы, подал Балабану. - Будем знакомы. Меня зовут Семеном. А тебя? - Познакомились уже! - недовольно пробормотал Балабан, но все же руку подал и назвался. Климунда не стал терять время. - Давно оттуда? Балабан не отпирался. - Два месяца... - Где взял? - похлопал себя по карману Климунда. - Где взял, там уже нету... - И все же? - Ты что? Мент? - злобно сверкнул глазами Балабан. - Или, может, из прокуратуры? - Ша! - властно поднял руку Климунда. - Если бы я был милиционером, то не цацкался бы с тобой. Вон видишь, - кивнул, - постовой... Хочешь познакомиться? Балабан насторожился. - А ты кто такой? - Семен я... - захохотал Климунда. - Сеня. Свое настоящее имя Климунда считал безнадежно устаревшим и в глубине души обижался на родителей за это проявление безвкусицы. Он еще раз пристально посмотрел на Балабана, как бы изучая его возможности. На то, что он сейчас собирался предложить этому преступнику, подсознательно решился уже давно. Правда, если бы час назад кто-нибудь сказал Климунде, что он поступит именно так, наверно, возмутился бы. Но это был реальный шанс поправить свое материальное положение: на вечера в ресторанах с девушками нужны были деньги. Того, что он имел, явно не хватало. Он уже задолжал нескольким знакомым. Вероятно, сама судьба послала ему этого бандита. Климунда подал знак Балабану придвинуться. - Есть выгодное дело, - прошептал он, хотя поблизости никого не было. - Согласен? - Я же не знаю, кто ты и что за дело... - В свое время узнаешь. - Мне до этого времени еще дотянуть надо... - признался Балабан, бросив взгляд на карман Климунды, где лежала записная книжка с деньгами. - Дотянешь, - пообещал Климунда, - пока что я тебя финансирую. У Балабана загорелись глаза. - Дай сотню. Мне сотня во как нужна! - А все четыре не хочешь? - с издевкой спросил Климунда и вынул из кармана бумажку. - Вот пока что для поддержания штанов. Балабан покачал головой: он стоит большего. - Еще одну! - потребовал он. Климунда вздохнул и вынул еще бумажку. - Считай, что тебе сегодня подфартило. Но не надейся, что я всегда буду так щедр. Балабан спрятал деньги, развалился на скамейке. Почувствовал, что Климунде без него не обойтись. - Но я стою тоже недешево, и усеки, если действительно наклевывается дело, должен сидеть тихо, - с достоинством пояснил он. - Должен, - согласился Климунда. - И поэтому сейчас дернем по банке, а потом - ни капли... Завтра встретимся тут же. ...Собака сразу взяла след, и старшина вместе с ней исчез в кустах. За старшиной побежал еще один оперативник, а майор Шульга остался на месте преступления. На обочине стояло такси - новенькая блестящая светло-зеленая "Волга". Водитель сидел на переднем сиденье, выставив ноги. Шульга подошел к нему. Видно, таксист уже разобрался, кто тут старший, потому что тотчас же выскочил из машины и даже вытянулся перед майором. - Я из уголовного розыска, - отрекомендовался Шульга. - Расскажите, как все это случилось. - Я привез компанию к ресторану "Островок", - начал таксист чуть ли не шепотом и оглянулся, будто и действительно кто-то мог подслушать их, а он делился с майором страшной тайной. - Этот тип уже стоял там, - выходит, ждал... - Как выглядел - одежда, внешность? - перебил его майор. - Мужчина в светлой сорочке с короткими рукавами. - Пожилой или молодой? - Ну, такой представительный. Красивый парень. - Приблизительный возраст?.. Внешность? - Я же говорю, в светлой сорочке, стоит возле ресторана и ждет. - Но вы же видели его лицо, запомнили? Таксист, переступив с ноги на ногу, признался: - Вроде видел, да не запомнил. Представительный, точно представительный, красивый парень. - Говорите, парень, значит - молодой? На сей раз у таксиста промелькнула какая-то мысль, и в его голосе появились победные нотки: - А кто же такие кепки носит? Такие знаете, почти без козырька. Только молодые. - Пьяный или трезвый? - Вы что, я же на работе! - обиделся водитель. - Да не вы, а пассажир ваш? - Пассажир! - вдруг чуть не закричал таксист. - Какой там пассажир бандюга! Он меня чуть не убил! - Спокойно, - положил ему руку на плечо Шульга, - верно - бандит, и мы задержим его. Итак, пьяный или трезвый? - Очевидно, трезвый. Держался хорошо. Хотя запах был. Это когда он ткнул мне в затылок пистолетом, нагнулся, значит... Тут я и почувствовал чуток пахнет. Теперь вспомнил, а тогда мне было все равно - он же чуть не убил меня. - Но ведь не убил! - оборвал его Шульга. Не было времени слушать жалобы потерпевшего. Это потом, если они сразу не задержат преступника. Он назвал адрес, куда ехать? - В Вишнянку. По окружному шоссе. - По дороге разговаривали? - Молчал. Сел на заднее сиденье за мной и молчал. Я сразу подумал почему на заднее? - И он приказал остановиться тут? - Да. Я, конечно, на обочину, он тут меня и ткнул в затылок. Велел заложить руки назад... - Таксист показал, как именно. - Ну, обыскал меня, забрал деньги и убежал... Что случилось дальше, майору было известно из рассказа автоинспектора - тот первый пытался задержать преступника. Лейтенант Голота ехал на мотоцикле в контрольный пункт ГАИ поблизости от Вишнянки. Проехал мимо такси с выключенными подфарниками, не обратив на него особого внимания. Но вдруг таксист резко и требовательно засигналил, выскочил из машины и побежал вдогонку за мотоциклом, размахивая руками. Лейтенант съехал на обочину, оглянулся и увидел, что таксист показывает на кусты за придорожной канавой. Ему даже показалось, будто там мелькнула какая-то тень. - Грабитель! - кричал таксист. - Он ограбил меня! Догоните его, вот он!.. Голота сразу понял, в чем дело, и, не раздумывая, бросился в кусты. - Осторожно, он вооружен!.. - крикнул ему вслед таксист, и лейтенант на бегу вытащил из кобуры пистолет. За кустами начинались густые посадки. Лейтенант вскоре потерял ориентацию, остановился, прислушался, но ничего не услышал, вернулся к мотоциклу, включил рацию и вызвал оперативную группу. Расследование дела о нападении на сержанта Омельченко у Шульги почти застопорилось, и в душе майор даже обрадовался, услышав о случае на окружной. Подумал: может быть, это тот самый преступник, что чуть не убил Омельченко. Наверно, наследил так, что удастся его взять сразу, и надо сразу, ведь это счастье, что из омельченковского пистолета еще не сделано ни одного выстрела... Майор попросил таксиста еще раз точно показать, в каком направлении исчез грабитель, и распорядился поставить милицейские машины и мотоциклы так, чтобы осветить фарами как можно большую площадь. Днем прошел дождь. Преступник оставил на мягкой почве четкие следы. Он прошел вдоль кювета с десяток метров, до того места, где кювет становился более пологим. Тут он круто свернул к придорожным зарослям. Шульга поручил эксперту снять гипсовые слепки с двух самых четких следов. Они были какие-то необычные. Майор стоял, смотрел на них и никак не мог понять, чем его так поражают эти следы. Кажется, ничего особенного, просто бандит не спешил, шагал широко. И все же походка преступника чем-то отличалась от походки обычного человека. Шульга постоял еще немного, потом сделал несколько энергичных шагов - так шел грабитель, чувствуя на затылке взгляд таксиста, - повернулся к машине. Теперь рядом тянулись два следа, и майор понял, что так беспокоило его. Обычно люди ходят, ставя ноги носками чуть в стороны, следы же грабителя были параллельными. А это типичная примета профессиональной походки строителя, которому приходится ходить по узким лесам. Правда, так ходят и цирковые эквилибристы, - что ж, эту версию тоже не следует отбрасывать. Шульга сбежал в кювет. На твердом дерне следы были уже не так выразительны и скоро пропали совсем. Углубляться в кусты, да еще в такую темень, не было смысла, и майор решил еще раз поговорить с таксистом. В этот момент от контрольного пункта вынырнула "Волга" автоинспекции и, не выключая фар, затормозила рядом. Стукнули дверцы. Из машины выскочили шофер и старшина. - Леда довела нас до той развилки, - старшина показал рукой на кустарники. - Чуть не до центра Вишнянки, где магазин и маленький базарчик. Видно, в поселке преступник поймал машину или сел на попутную. Но вот оставил... - он подал майору что-то завернутое в газету. Шульга развернул и увидел кепочку почти без козырька, как и утверждал таксист. - Потерял он ее тут недалеко, - объяснил старшина, - в кустах перед канавой. Видно, испугался лейтенанта, шастнул в лес и зацепился за ветки. И вот что, товарищ майор, мне кажется - тутошний он. Там мелиораторы канаву прокопали, глубокую, и мостки через нее. Не зная местности, не найдешь их - вокруг густой лес, а он продирался напрямик через кусты и молодняк к мосткам. На контрольном пункте майор дал распоряжение наблюдать за всеми окружающими дорогами. И поспешил в город. Крепко держал завернутую в газету кепочку, как драгоценное сокровище. В конце концов, так оно и было - единственная неопровержимая улика против пока еще неизвестного вооруженного грабителя. Балабан ковырялся в замке, а Климунда нетерпеливо переминался с ноги на ногу за его спиной. Проклятый комбинатор - запирает квартиру двумя такими замками, что и не подступишься. Балабан уже кое-чему научил Климунду, и тот разбирался в конструкции самых распространенных замков. Но замки, с которыми они сейчас возились, были нестандартными, и Лёха тихонько ругался, выбирая отмычки. Хозяина этой квартиры Романа Кирилловича Недбайло Климунда знал давно - они жили в соседних домах. Недбайло работал на мясокомбинате. Жил скромно. Не имел ни машины, ни дачи. Но его сосед, постоянный партнер Климунды в домино, уверял, что "мясокомбинатор" - человек с достатком. Его жена с ребенком все лето отдыхает в Сочи. А какая у них квартира! Хрусталь и ковры! Сосед был слесарем и видел, когда Недбайло вызывал его отремонтировать кран в ванной. Именно квартиру Недбайло имел в виду Климунда, разговаривая с Балабаном в сквере. Наконец лязгнул первый замок, второй поддался сразу, и Климунда вслед за Балабаном проскользнул в квартиру. Лёха задержался в коридоре, закрыл за Спиридоном дверь. Выглянул из-за спины Климунды, остановившегося на пороге гостиной. - Чего стал столбом? - прошипел он. Климунда отступил, пропустил вперед Балабана. Стоял и растерянно смотрел, как тот быстро и уверенно перебирает вещи в шкафу. Довольно усмехнувшись, Балабан снял каракулевую шубу, свернул и положил в чемодан. - Погляди, что там... - кивнул он на письменный стол у окна. - Если заперт, попробуй... - подал отмычки. Стол и правда был заперт, но Климунда легко справился с замками. Выдвинул ящики - какие-то тетради, папки с бумагами, журналы. Его внимание привлекла старинная бронзовая шкатулка. Попробовал отпереть, но замок не поддался. Позвал Балабана. Тот неохотно оставил шкаф. Увидев шкатулку, нетерпеливо сказал: - А может, там деньги! - В его глазах вспыхнула жадность. Он сильно надавил на отмычку, очевидно, сломал замок, потому что в шкатулке хрустнуло. Открыл ее и даже свистнул от удивления. На дне лежали три пачки аккуратно перевязанных зеленых ассигнаций. - Пять...пять и две тысячи... - прочитал цифры на наклеенных крест-накрест полосках. - Двенадцать тысяч! - охнул Климунда. - Подфартило! - выдохнул Балабан. - Пересчитывать не будем... - счастливо засмеялся Спиридон. Недбайло считал для себя. Балабан отдал ему одну пятитысячную пачку, но Климунда проворно выхватил у него из рук и вторую - двухтысячную. - Ты что! - угрожающе поднял кулак Балабан. - Все пополам! - Возьмешь себе барахло. Там больше чем на две тысячи. - Но ведь его еще надо сбыть... - пробормотал Лёха, однако отступил. Климунда вынул из шкатулки золотые дамские часы на цепочке, золотые запонки и две сберкнижки. Бросив Балабану часики, запонки взял себе. Заглянул в книжки. - Двести рублей... - пробормотал презрительно. - И сто пятьдесят... Осторожный, денег на книжке не держит, да и эти, - подбросил на ладони пачку, - наверно, только мелочь... - Прячет, свинья! - согласился Балабан. - Давай поживее! - поторопил его Спиридон. Знал, что Недбайло раньше семи не возвращается и у них еще добрых четыре часа форы. Но у него все время было такое ощущение, будто кто-то уже стоит у двери. Сейчас она отворится - и тогда конец... Закурил, глядя, как Лёха упаковывает уже второй чемодан, найденный у Недбайло. Оперся на тумбочку, где стояла высокая китайская ваза, - вдруг тумбочка закачалась, и ваза наклонилась. Спиридон успел дотянуться до нее, но не удержал - ваза упала, ударилась боком об пол и разлетелась на куски. Балабан испуганно огляделся... - Ты что?.. Климунда прислушался: казалось, что звук разбившейся вазы услышали во всем доме. Но вокруг, как и до сих пор, царили тишина и спокойствие... Нервно раздавил папиросу о полированную поверхность тумбочки. - Ну, долго ты еще? - крикнул. - Готово, шеф! - Балабан поднял чемоданы. - Ты иди вперед и бери такси. А я - за тобой. - А-а, должничок пришел... - Губы у Иваницкого растянулись в деланно приветливой улыбке. Это напоминание о долге сразу испортило настроение Климунде. Иваницкий отступил, пропуская его вперед. Климунда остановился перед зеркалом, поправляя прическу. А Омельян стоял сбоку и иронически кривился. "Кривись, дружище, кривись, в душе все равно завидуешь мне, - думал Спиридон, - чем не настоящий мужчина! Какая фигура, мускулы! Девушки сами пристают. А ты? Жалкий, плюгавый, жаба какая-то надутая". Но достаточно было Климунде войти в комнату, как чувство превосходства над Иваницким сразу же исчезло. Просторная однокомнатная квартира, импортная мебель, холодильник, бар, заставленный бутылками, а на стенах - целый музей старинного и современного искусства. Климунда почувствовал себя никчемным среди этой роскоши. Он неудобно, с краешка, сел в кресло и уставился на Омельяна, будто впервые увидел его: грушевидная голова с узким лбом, утиный нос, бледные губы, усеянные веснушками щеки и большие глаза, цвет которых словно то и дело менялся. Да, красотой Иваницкий не мог похвалиться. Зато хватка - куда Климунде. Климунда хорошо знал Омельяна - как-никак вместе учились в школе, хотя Иваницкий пришел в их десятый класс в середине учебного года. До того жил и учился в каком-то районном городке. Сначала Иваницкого в классе не замечали. Не замечал его и Климунда, хотя новичка посадили за его парту. Да и нечего было замечать: слишком невзрачен, бледен, раз ударишь - и готов... И все же новичок скоро заставил уважать себя. Через какой-нибудь месяц его авторитет признал даже первый ученик класса Борис Сойченко, попросив посмотреть, правильно ли он решил задачу по алгебре. Домашняя работа была действительно сложной, и только Иваницкий справился с ней... И Спиридону стало немножко легче учиться. Поскольку он сидел с Иваницким за одной партой, то получил право первым списывать домашнее задание, не говоря уж о контрольных. Как-то, возвращаясь вместе с Иваницким домой, Климунда начал расспрашивать Омельяна о его районном городке, но тот отвечал неохотно и перевел разговор на другое. Иваницкий не любил открываться посторонним. Омельян и теперь, через много лет, даже в мыслях неохотно возвращался к своему детству. Родители его жили незаметно, немилосердно экономили на всем, держали в черном теле и своего единственного сына. Потом Омельян понял почему: как-то ночью он подслушал их разговор. Из соседней комнаты доносился возбужденный шепот: - Думаешь, все забыто? А дудки! Крота когда взяли? Через пять лет. Фраер был, фраером и остался. Пошиковать захотелось, два камушка спустил, а на третьем и погорел. - А если умненько? Уехать куда-нибудь, найти перекупщика... - И не думай... Пять лет еще сиди тихо. Они дело в архив спишут, а мы и развернемся. Мать вдруг всхлипнула: - Надоело прибедняться, считать копейки, делать вид, что едва дотягиваем от получки до получки. Иметь камешки, золото - а как нищие... - Замолчи! - В голосе отца послышалась неприкрытая угроза. Забудь... Только разочек взять, оно и потянется... А от людских глаз ничего не спрячешь, новые туфли - и те заметят... Мать зашлась сухим кашлем. Отдышавшись, тоскливо сказала: - Помру я скоро, так хоть напоследок хотелось пошиковать. - Сдурела! - разозлился отец. - И не думай!.. - Где прячешь золото? - вдруг спросила мать. - А тебе зачем? Где прячу, там и лежит. - Хотела бы знать, надежно ли? - Не волнуйся! Сам черт средь бела дня не найдет. - Эх, - вздохнула мать, - обидно. Кто вас тогда с Кротом на ювелирку навел? Я навела. Ты мне мою долю отдай... - У-у, сука!.. - прошипел отец. - Завалить хочешь? Тебе что - вышку не дадут, а меня шлепнут. Крота шлепнули, и меня... За мной мокрое дело, понимаешь, мокрое, они нам сторожа ни в жисть не простят. - Не простят, - согласилась мать. - Так сиди и не рыпайся. Подслушанный разговор поразил Омельяна. Ему уже шел тогда пятнадцатый год, и не понять того, о чем разговаривали родители, он не мог. Значит, он сын бандита... Вот почему они живут как бы в стороне от всех, вот почему у них нет ни друзей, ни хороших знакомых. Омельян не сомкнул глаз до утра. Лежал неподвижно, уставившись в потолок, который наискось пересекала широкая щель. Отец уже несколько раз говорил, что надо отремонтировать дом, однако все время отговаривался тем, что нет денег. И обещанного пальто так и не купил ему, Омельян бегает в школу в старом, потрепанном. А от отца только и слышал - много ешь, быстро ботинки изнашиваешь, даже на тетрадки и учебники приходится выклянчивать. Да и сам отец три года ходит в одних сапогах - мол, ему, скромному счетоводу "Межколхозстроя", только и хватает получки, чтоб прокормить семью... Правда, есть у них одна действительно ценная вещь: лучший приемник из тех, что когда-то завезли в район. Отец по вечерам слушает передачи из-за границы, ловит всякие "голоса" и очень радуется, когда передают что-нибудь обидное про советскую власть. Омельян с детства привык не любить эту власть. И мать, и отец не раз говорили, как хорошо им жилось бы, если б не революция. У деда Омельяна было имение где-то под Могилевом, и отец радостно встретил фашистов, надеясь, что ему вернут усадьбу, в которой до войны был открыт дом отдыха. Но немцы устроили там госпиталь. Омельян как-то пробовал расспросить отца, чем тот занимался во время войны и сразу после нее, но убедительного ответа так и не получил А оно вон что значит - бандит: с каким-то Кротом ограбили ювелирный магазин и убили сторожа. Омельян вспомнил, как отец учил его быть скрытным, не болтать лишнего посторонним. И главное - не выражать своих мыслей. А потом, когда Омельян пошел в школу, наставлял, как и что следует говорить учителям и товарищам, как выслуживаться перед классным руководителем, донося на учеников, не брезгуя ничем ради собственной выгоды. "Так, сынок, - любил он повторять, - лучше дурачком прикинься, а с дурака что возьмешь, ты же в подходящий момент всяким там умникам ножку и подставишь..." Учился Омельян легко и в классе пользовался авторитетом. Страдал лишь оттого, что не мог носить такие же костюмы и ботинки, как у товарищей. Подслушанный ночной разговор, с одной стороны, встревожил Омельяна, но, с другой, придал некое душевное равновесие. Встревожил, потому что Омельян хорошо сознавал, что бы случилось с ними, если бы кто-нибудь узнал о прошлом отца. Сын бандита, у которого руки в крови! В конце концов, он не отвечает за отцовские преступления, но пятно все же останется... Несколько успокаивало то, что родители, как оказалось, были весьма находчивыми людьми и переменили фамилию. Наверно, сразу после ограбления магазина купили чужие документы и ловко воспользовались ими. И совсем уж придало уверенности то, что у них было золото, драгоценности. Теперь он равнодушно проходил мимо пижонов в модных куртках, знал, что когда-нибудь он сможет приобрести все, что захочет, когда у него будет много-много денег - ведь отец непременно поделится с ним... Летом умерла мать. Она месяц пролежала в больнице. Когда Омельян приходил, мать смотрела на него грустно, словно хотела что-то сказать. Омельян знал, что именно, но и вида не подавал, что узнал ее тайну. А мать так и не решилась открыться сыну, умерла тихо и незаметно. Так же тихо и незаметно отец и похоронил ее - на похоронах были только соседи и несколько сотрудников конторы, где мать работала уборщицей. Через месяц после смерти матери отец предложил Омельяну пойти на заработки. "Межколхозстрою", где он работал, нужны были подсобные рабочие, и платили там неплохо. Омельян долго смотрел прямо в глаза отцу, взвешивал, сказать или нет и что может из этого выйти, наконец все же произнес тихо, так, что сам едва слышал сказанное: - А для чего мне подрабатывать? Денег у тебя столько, что и мне еще останется... Они разговаривали вечером при тусклом свете маленькой электрической лампочки, и все же Омельян заметил, как побледнел отец, потом щеки его покрылись красными пятнами, он сжал кулаки и угрожающе спросил: - Это ты о чем? О каких деньгах? Омельян знал, что теперь не имеет права отступать. Если отступит, проиграет: будет, как и мать, клянчить у отца каждый рубль. И он решительно сказал, будто речь шла о предмете давно обсужденном и выясненном: - А о золоте. О том, что в тайнике. Отец даже передернулся. Нагнулся к Омельяну близко-близко и поднял руки, будто хотел схватить за горло. Спросил хриплым чужим голосом: - Что ты мелешь? Спятил, что ли? "Золото, деньги"... Омельян на всякий случай чуть отодвинулся. - Папа, - сухо заговорил он, - я знаю все о тебе. О том, как ограбили с Кротом ювелирный магазин и убили сторожа. И про золото, спрятанное вами с мамой. - У-у, сука! - рубанул отец ладонью перед самым носом Омельяна. разболтала... Омельян не защищал мать: пусть отец думает что хочет... - Залежались у тебя деньги, папа... - сделал он попытку пошутить. Заплесневели. - Не твое дело, - насупился отец. - Нет у меня ничего. - Есть, папа, есть! - Омельяну почему-то стало весело. То ли почувствовал, что выиграл дуэль с отцом, то ли просто избавился от груза, лежавшего в последнее время на его плечах. - И вот что скажу тебе: давай все пополам! Он не успел уклониться и получил звонкую оплеуху. Схватился за щеку, хотел заплакать, но все же преодолел боль и обиду, веско сказал: - Я бы не советовал тебе, папа... А то если кто-нибудь узнает... - Ты мне угрожаешь - родному отцу! - Он даже захлебнулся от ярости. Да я тебя собственными руками... Отец потянулся к горлу сына. Омельян знал, что действительно может задушить, но у него был беспроигрышный козырь, и он швырнул его прямо в отцовское лицо: - Попробуй только тронуть! Я оставил у товарища письмо, и если что, он распечатает его. А там обо всем написано. Отец опустил руки. - Вот воспитал на свою голову... - сокрушенно покачал головой. - На свою, на мою! - глумился Омельян. Знал, что победил отца, и захотелось немного поиздеваться над ним. - Отдай мне мою часть. Золото и камешки. - Ишь какой шустрый! Подождешь. После моей смерти получишь. - Долго ждать! - нагло возразил Омельян. - Я хочу сегодня и чтобы по-честному. Отец задумался, руки у него мелко дрожали. - Мальчишка ты еще... Начнешь роскошествовать, люди заметят... - Не бойся, папа. Не такой уж я мальчишка. Поеду к тетке в город, там и школу окончу. Чтобы тебе тут не мешать. - Испугался? - Ироническая усмешка скривила отцовские губы. - Что ж, я не возражаю. Только вот что, золота тебе дам, а о камнях и не думай. На учете они все у милиции, засыпешься сам и меня потянешь... - Где ты спрятал золото? - только и спросил Омельян. Он уже осмотрел обе комнаты, чердак и погреб, обстучал стены и пол, но тайника не нашел. Отец взял в сенях лопату, и они вышли в сад. Все оказалось очень просто: под забором отец выкопал из земли обвязанную тряпкой крынку, отряхнул с нее землю и понес в дом. Омельян сдержал свое слово: через неделю он отправился к тетке Вере. Как и где продавал он в городе золотые вещи, отец не знал, да и делал это Омельян ловко. По крайней мере, ни тетка Вера, которой он ежемесячно от имени отца платил по сорок рублей, ни товарищи по школе, а потом по институту никогда не видели, чтобы Омельян Иваницкий транжирил деньги. Единственный одноклассник, с которым по окончании школы Иваницкий поддерживал знакомство, был Спиридон Климунда. Хотя на первый взгляд ничего общего у них не было и не могло быть. Спиридон вообще вряд ли кончил бы школу, если б не был чемпионом по настольному теннису и не выступал за школу на разных соревнованиях. Чемпиону прощалось многое, и учителя натягивали ему тройки. Иваницкий окончил художественный институт и стал искусствоведом. Климунда так и не поднялся выше тренера пинг-понга. Омельян относился к Спиридону снисходительно, но все же несколько раз покупал у него иностранную валюту. Климунда иногда приводил к нему знакомых девушек, время от времени занимал у Омельяна деньги. Как-то Иваницкий организовал прогулку на своем "Москвиче". Они попали в район красивых коттеджей на окраине, и Омельян, ткнув пальцем в один из них, сказал, что тут живет профессор Стах и у него очень ценная коллекция икон. Ради этой коллекции Климунда и посетил сегодня Иваницкого. - Кофе хочешь? - спросил Омельян, глотнув из чашки. Климунда покачал головой. - Дело есть, не до кофе. В глазах Омельяна мелькнула искра интереса. Потянулся к сигарете. Взяв себе, подвинул пачку Климунде. - А впрочем, - махнул рукой, - ты любишь эту гадость. Спиридон размял пальцами дешевую "Любительскую" папиросу. Привык уже к таким репликам и не реагировал на них: каждый курит что ему по вкусу. Он видел даже одного доктора наук, дымившего "Памиром" и не стыдившегося этого. - Так что же у тебя за дело? - немного помолчав, спросил Омельян, и в его глазах снова вспыхнула искра интереса. - Есть небольшое предложение... Помнишь, ты говорил мне про того профессора? Ну, у которого иконы... - Ну и что же? - Я познакомился с одним парнем... Замки для него не проблема... Говоря это, Климунда пристально смотрел на Иваницкого. Неужели откажется? Ведь любит же превыше всего деньги и должен решиться на риск. - Так можно эту коллекцию... - Откуда знаешь этого парня? - Зачем тебе? - Так, любопытно. - Не догадываешься, откуда такие берутся? Иваницкий задумался. - Твое предложение мне в принципе нравится, - наконец вяло заговорил он. - Может, все-таки выпьешь кофе? - Охотно... - облегченно вздохнул Климунда. На подкладке кепки, потерянной преступником у окружного шоссе, эксперты нашли несколько волосков. Утром майор Шульга знал, что кепку носил мужчина лет тридцати - тридцати пяти, брюнет, начавший лысеть, и что он недавно стригся. Майор даже узнал группу его крови. Круг поисков сразу сузился. Грабитель был из Вишнянки, очевидно, строитель, примерно сорок второго года рождения. По всему видно, что он хорошо знал местность... Весь день майор просидел с участковым инспектором Вильченко, изучая список обитателей поселка. Оказалось, что среди них было много строителей - десятки маляров, штукатуров, столяров... Постепенно список уменьшался... Сначала вычеркнули всех совсем молодых и пожилых. Потом Вильченко, знавший каждого жителя Вишнянки работал тут полтора десятка лет, - вычеркнул всех белобрысых. Вне подозрений были еще двое. - Владимир Пухов, - объяснил Вильченко майору, - вместе с женой четыре дня назад поехал на Азовское море. А вот этот, Мазуренко, уже две недели в больнице. В списке осталось четверо... ...Вильченко шел впереди, а Шульга с оперативником в штатском - на некотором расстоянии за ним. Участковый держал под мышкой портфель... Они условились, что Вильченко будет заходить в дома будто бы для проверки паспортного режима, заглядывать в домовые книги и незаметно выяснять, где было позавчера вечером подозреваемое лицо. Дальше надо было действовать, учитывая, что кто-то из четырех имеет оружие и может применить его. Из первого дома Вильченко вышел довольно быстро. Сообщил: Казанцев в командировке. Уже вторую неделю. Их бригада что-то монтирует в Конотопе. - Теперь Набоченко? - спросил Шульга, хотя они заблаговременно условились о порядке проверки подозреваемых. Вильченко кивнул. - Его дом в переулке направо. Набоченко больше всего интересовал Шульгу. Сидел в тюрьме за кражу и после отбытия наказания успел "заработать" пятнадцать суток за мелкое хулиганство. Дом Набоченко выходил окнами прямо на улицу. Вдоль дорожки - цветы. По обеим сторонам - яблони. Нарядный двор заботливых хозяев. Борис Набоченко спал на раскладушке под кустом сирени. Участковый огляделся вокруг, увидел старушку, спешившую к нему из огорода, приветливо улыбнулся ей. Бывает же такое: родители Бориса - образец для всех в Вишнянке, настоящие труженики, честные и уважаемые люди, а сын, как связался еще в школе с компаниейлоботрясов, так и до сих пор не разойдется. - Как дела, Катерина Власьевна? - приветливо спросил у старушки. Та вытерла правую руку фартуком, подала лодочкой, боязливо бросив взгляд на Бориса. - Натворил что-нибудь мой? - Поговорить надо, Власьевна. - Вильченко подвел старушку к калитке, чтобы Борис, если бы случайно проснулся, не мог ничего услышать. - Где ваш сын был позавчера вечером? У старушки испуганно задрожали губы, она неопределенно пожала плечами. - Не хотите, не говорите, Власьевна, - сердито буркнул участковый. Сами выясним. Но вы же не сможете не сказать правду. Хотя это и повредит вам... Старушка махнула рукой. - Борис поздно вернулся позавчера пьяный... - Не говорил, где был? - А мы уже и не спрашиваем. Все равно не скажет. Еще и ругается, угрожает... - На работе в тот день был? - Ушел утром. - Деньги у него есть? - А кто ж его знает? Иногда что-нибудь старик у него и возьмет, а вообще спускает все, что получает. - Вы побудьте тут, Власьевна. - Вильченко сделал знак Шульге, и они втроем направились к раскладушке. Участковый нагнулся над Набоченко. - Вставай, Борис! - Тот сладко храпел, и Вильченко потормошил его за плечо. - Вставай! Набоченко недовольно пробормотал что-то, раскрыл глаза и вдруг сел на раскладушке, напрягшись, словно и не спал. - Ну, что тебе? - заморгал глазами, огляделся, но, увидев еще двоих, испуганно улыбнулся. - Что вам? Вильченко быстро обыскал его, заглянул под подушку. Борис не сопротивлялся, неуклюже поднял руки, пока его ощупывали, недобро смотрел исподлобья. Потом участковый принес скамейку, они сели перед Набоченко, оперативник стал на всякий случай у него за спиной. Вильченко спросил: - Где ты был позавчера вечером? По лицу Бориса пробежала тень. - Где был, там меня уже нет. - Отвечай, не то вынуждены будем задержать тебя. - А мне не привыкать... - Вы, Набоченко, не шутите, - вмешался Шульга. - У нас нет времени на шутки. Отвечайте на вопросы, понятно? - Чего уж тут не понимать, начальник! - сразу посерьезнел Борис. - Но ведь надоело: что бы где ни случилось - сразу к Набоченко... - Сами даете для этого повод, - сурово проговорил Вильченко. - Так где вы были позавчера? - Гулял. С ребятами у магазина постояли, на троих скинулись. - Вечером в магазине водку не продают. Набоченко хитро подмигнул. - Это кому и как... Верка там работает, а она в Валеру влюблена. Если захотим, и пол-ящика вынесем. - Так... - недовольно поморщился Вильченко и бросил взгляд на майора: все же непорядок на его участке. - И с кем же вы пьянствовали, Набоченко? До какого часа? - Ну, Валера был... И Петро Логвинчук. Потом еще Хомко приперся. У него пятерка нашлась. Ну, мы и ее... - Когда разошлись? Борис почесал затылок. - В пятницу это было, а в субботу не работаем. Вот и задержались. Часов до одиннадцати. Нападение на таксиста произошло около десяти, и если Набоченко говорил правду, то он имел безупречное алиби. - А Вера, продавщица, была с вами? - уточнил Вильченко. - А то как же... Где Валера, там и Верка... Участковый отозвал Шульгу к калитке. - Тут рядом есть телефон, и можно позвонить в магазин. Он вернулся через несколько минут. - Да, пьянствовали возле магазина, - подтвердил хмуро. - Мы с тобой еще поговорим! - сурово бросил Набоченко. На учете у участкового был еще Тарас Онисько. Поговаривали, что он продает краденые стройматериалы. Но у Вильченко не было прямых доказательств. Тарас сидел на скамейке перед калиткой и разговаривал с каким-то парнем. Увидев Вильченко, встал, посмотрел на участкового, побледнев. - Зайдем... - кивнул Вильченко. Они вошли в дом, и Шульга показал Онисько кепку. - Ваша? Тот сразу расплакался. - Моя... Не хотел я... Это же просто шутка... - Где оружием - посуровел майор. - Какое оружие? Нет у меня никакого оружия... - Которым угрожали таксисту. Лицо у Онисько вытянулось. - Пошутил я... Вон там, - показал на угол, где лежали детские игрушки, - там пугач... Сына моего... Пистолет игрушечный... Я купил его, ну и показал таксисту, а он почему-то испугался. - И сам предложил вам деньги? - не без иронии спросил Шульга. - Какие там деньги? Сорок семь рублей... Вдруг в комнату, оттолкнув оперативника, вбежала жена. Заголосила: - И что же ты натворил, дурак! За что вы его? Шульга подал знак оперативнику, и тот вывел женщину в соседнюю комнату. Майор вытащил из кучи игрушек пистолет - почти точную копию ТТ. Подбросил на ладони. - Итак, вы утверждаете... - Пошутил я... Честное слово, пошутил. А этот таксист ничего не понял, отдал деньги. Шульга еще раз подбросил пистолет на ладони. Приказал Вильченко: - Вызовите оперативную машину, сделаем обыск. - Покосился на Онисько. - Тоже мне шутник нашелся! Знаете, сколько за грабеж полагается? Еще раз спрашиваю, где пистолет? Все равно найдем - вам же хуже будет! Лицо у Онисько внезапно покрылось пятнами, он шмыгнул носом и заплакал. - Нет у меня оружия... Пошутил я... Майор прошелся по комнатам: три красиво обставленные комнаты и кухня. Завтра они покажут Онисько сержанту Омельченко, и, если тот не опознает Онисько, это дело доведут до конца уже другие. Ведь кто-то завладел-таки настоящим ТТ с полной обоймой патронов, и Шульге надо найти преступника, пока тот не начал стрелять. Узкая улица круто шла вверх и упиралась в чей-то сад. Тишина. Только чирикают воробьи и где-то поблизости жалобно скулит щенок. Климунда медленно поднялся к саду, немного постоял там, спрятавшись за кустами жасмина, посаженного прямо на улице. Бросил пустой рюкзак под ноги, жадно закурил. Все утро нервничал. Собственно, особых оснований для волнения не было. Они с Иваницким взвесили и предусмотрели даже детали, и пока все шло так, как было предусмотрено. "Москвич" профессора Василя Федотовича Стаха четверть часа назад выехал из ворот - жена профессора направилась с домработницей на базар. Климунда знал, что она ездит на базар дважды в неделю - в понедельник и в среду или четверг. За рулем сидела жена профессора - немолодая уже, лет за сорок, но еще красивая женщина. Она, наверно, знала, что хороша, и молодилась - носила модную прическу, ярко красила губы, а под глазами накладывала густые тени. Спиридон предложил познакомиться с ней, войти в доверие, стать своим человеком в доме Стахов, а потом уже действовать соответственно обстоятельствам. Но Иваницкий решительно забраковал этот вариант. Мол, лучшего подарка работникам милиции не сделаешь. Уголовный розыск сразу установит круг знакомых Стахов, а все остальное - дело техники, причем достаточно несложной. Самонадеянность Климунды была воистину безграничной. Что ж, Омельян, вероятно, был прав. Спиридон и сам чувствовал какое-то несовершенство этого плана, хотя очень верил в силу своей мужской привлекательности, даже надеялся, что жена профессора Стаха сама подарит ему кое-что из коллекции своего мужа. Климунда потушил свою "Любительскую" о ствол акации. "Москвич" уже стоял возле базара. А сейчас выйдет из дому и сам профессор. В это время он всегда прогуливает огромного черного дога Марса. Профессор Василь Федотович Стах жил в красивом двухэтажном коттедже, обвитом с северной стороны диким виноградом, а с южной текомой растением, похожим на глицинию, с большими красными, как лилии, цветами. Текома оплела огромную террасу второго этажа, на которую выходили окна кабинета профессора. Одну его стену целиком занимала коллекция Василя Федотовича - собрание древних икон. Иваницкий сказал, что коллекция профессора Стаха - достаточно велика и очень ценная, а Иваницкий разбирался в этом. После того как Омельян доверил Климунде свои планы, тот специально пошел в церковь, долго стоял перед иконостасом, рассматривал фрески, удивляясь, почему так гоняются за этой стариной? Постные удлиненные лица. И что в них красивого? Иваницкий нарисовал ему схему расположения икон, обозначив крестиками самые ценные, и Климунда выучил ее на память. Омельян долго ломал голову, как проникнуть в дом профессора. Конечно, можно было позвонить, отрекомендоваться и попросить разрешения ознакомиться с коллекцией. Ведь Омельян Иванович Иваницкий - искусствовед, работает в государственном учреждении, и его интерес к собранию вполне естествен. Но, поразмыслив, Иваницкий отбросил этот план. После исчезновения икон милиция непременно составит список всех, кто интересовался коллекцией, а Омельяну вовсе не нужно, чтобы его имя фигурировало в милицейских протоколах. Иваницкому помог случай. Их музей посетила группа американских туристов, среди которых был известный коллекционер. Иваницкий сопровождал их - и вдруг его осенило. Рассказал, как бы между прочим, коллекционеру о собрании профессора Стаха и намекнул, что, если тот пожелает, можно посмотреть на эти уникальные иконы. Правда, профессор не очень любит посетителей, но директор их музея мог бы попросить его. И тогда уже он, Иваницкий, любезно возьмет на себя хлопоты по организации осмотра коллекции. Директор действительно договорился с Василем Федотовичем. Тот немного поворчал, но согласился принять американцев. Так Омельян Иваницкий попал в дом Стаха. Он не назвал свою фамилию профессору, держался в стороне, - тем более что Василь Федотович свободно говорил по-английски и рассказывал о своей коллекции сам, - но запомнил все, словно сфотографировал. Его мозг фиксировал реплики гостей профессора, только фиксировал, Иваницкий не позволил себе никаких эмоций, не проявил их даже тогда, когда Василь Федотович подвел гостей к неброской иконе в центре коллекции и сказал, что это - Рублев. Гости щелкали языками, громко переговариваясь, выражая свое восхищение, а Омельян тем временем запоминал - второй ряд снизу, седьмая икона слева... Потом профессор угощал американцев кофе, водил по саду. Иваницкий, воспользовавшись этим, осмотрел все, обращая особое внимание на замки в парадной двери, а также на той, что вела в сад. Через окна первого этажа в дом проникнуть было невозможно - их закрывали узорчатые решетки: профессор очень дорожил своей коллекцией и оберегал ее. ...Радостно и басовито залаял пес, и Климунда весь напрягся. Итак, сейчас профессор выйдет и направится к реке - обычный получасовой маршрут... Климунда поднял рюкзак, нащупал в наружном кармане пиджака отмычки. Как знать, сумеет ли он справиться с замком - вот где пригодился бы опыт Балабана. Но тому не удалось замести за собой следы после кражи в квартире Недбайло, и милиция арестовала его. Он не явился на назначенную встречу с Климундой. Тогда Климунда позвонил сестре Балабана, работавшей вахтером в каком-то общежитии. Та долго расспрашивала его, кто он и откуда, и, наконец, узнав, что звонит именно тот человек, о котором она слышала от брата, сообщила, что Балабана четыре дня назад арестовали в пригородном поселке Городянке. Климунда полюбопытствовал, не оставил ли Лёха чего-нибудь у нее в квартире. Сестра ответила, что сама не лыком шита, и повесила трубку. "Жаль, что нет Лёхи", - вздохнул Климунда и прижался к тонкому стволу акации, будто тот мог защитить его. Калитка профессорской усадьбы открылась, и на улицу вырвался огромный черный дог, запрыгал вокруг суховатого и непредставительного на вид мужчины с седой бородкой. "Раз профессор, так можно и постановление горсовета не выполнять! неприязненно подумал Спиридон. - Пса должен прогуливать на поводке и в наморднике. Распустились..." Профессор с псом уже исчез за углом, а Климунда все еще стоял в кустах жасмина, глядя им вслед. Потом натянул тонкие нитяные перчатки и прокрался, оглядываясь по сторонам, к калитке. Оперся боком на ее железное кружево, взялся за ручку - конечно, заперто... Теперь должен сделать самое сложное - быстро и незаметно перелезть через калитку. Это было нелегко. Калитка была высокая и заканчивалась длинными железными копьями. Правда, можно было бы попробовать отпереть замок, но на это нужно время: случайный прохожий мог заметить Климунду... Еще раз внимательно огляделся вокруг: тишина и покой, только воробьи не поделили чего-то и устроили настоящий скандал в саду напротив. Климунда легким движением перебросил через калитку рюкзак. Ухватился за стальные прутья, подтянулся - и вдруг перестал ощущать свое тело. Оттолкнулся ногой от ручки и попробовал протиснуться между острыми прутьями, но только оцарапал плечо. Тогда, рискуя напороться на острие, перебросил свое тело через копья и чуть не упал на асфальтированную дорожку, ведущую к парадному коттеджа. Поднял рюкзак и, не оглядываясь, обежал дом. Профессор, видно, любил цветы - вся открытая веранда, выходившая в сад, была обсажена вьющимися розами. Под их прикрытием Климунда почувствовал себя увереннее. Иваницкий рассказал, что дверь, ведущая из коттеджа на веранду, достаточно массивная, но запирается только на один, несколько устаревший французский замок. Спиридон имел набор отмычек и думал, что сразу справится с замком. Однако прошло пять, десять минут, а дверь не поддавалась. Нервы Климунды напряглись до предела. Тело покрылось холодным, липким потом. Встревоженный, изо всех сил надавил на стальную ручку отмычки. Замок вдруг лязгнул. Дверь легко поддалась, будто и не была заперта. Климунда, не оглядываясь, проскользнул в узкий коридорчик. Знал на память по описанию Омельяна расположение комнат. Вот просторная гостиная первого этажа, крутая деревянная лестница на второй. Спиридон схватился за перила, но ему вдруг не хватило воздуха, ноги стали какими-то ватными, тело отяжелело. Тупо смотрел на пушистый ковер, застилавший весь пол гостиной, ощущая предательскую слабость под коленями, и вдруг понял, что и правда может умереть от страха. Эта мысль не оглушила, а, наоборот, сразу прибавила сил. Тело снова стало упругим, и Спиридон, перепрыгивая через ступеньки, взлетел на второй этаж, толкнул дверь слева - она вела в кабинет - и растерянно остановился. Казалось, на всю жизнь запомнил схему размещения икон, но то ли память вдруг изменила, то ли его что-то неожиданно так поразило в этой коллекции, - стоял и смотрел, оцепенев под суровыми взглядами святых, уставившихся на него со стены. Что-то стукнуло сбоку, и Климунда испуганно отшатнулся. Неужели кто-то на террасе? Стукнуло снова, и вдруг понял: форточка, он не закрыл за собой дверь, и начался сквозняк. Спиридон снова посмотрел на святых. Теперь иконы показались ему обыкновенной мазней. Он и рубля не дал бы за самую ценную из них. Климунда туже натянул перчатки, чтобы не мешали ему. Действовал решительно и точно, рассчитывая каждое движение. Нижний ряд, третья икона слева. Спиридон, не глядя, бросил ее в рюкзак. Почти рядом - самая ценная, какой-то Рублев; ее снял осторожно и положил так, чтобы не поцарапать. Вдруг Климунда вспомнил про Иваницкого. Тот сейчас ждет его в своем "Москвиче" в нескольких кварталах отсюда. Сначала они хотели поставить машину за углом, но потом решили не делать этого. Улица достаточно тихая, усадьба от усадьбы в полсотне метров, машина может привлечь внимание, кто-нибудь запомнит номер или лицо водителя. Климунда добрался уже до верхнего ряда. Придвинул стул и, снимая иконы, бережно складывал их в рюкзак. Когда снял последнюю из обозначенных в схеме Иваницкого, увидел, что в рюкзаке осталось немного места. Не раздумывая, снял еще две - святого с постным лицом и богородицу с младенцем. Спиридон завязал рюкзак, легко бросил его себе за спину. Выскользнул из кабинета, прыгнул через ступеньку, но вдруг остановился, неудобно подавшись всем телом назад. Рука невольно скользнула в карман пиджака, который оттягивал пистолет. В дверь гостиной входил профессор. Огромный черный пес прыгал возле него. Первым заметил Климунду дог... Замер, присев на передние лапы, и неожиданно прыгнул к лестнице, но в то же мгновение Спиридон успел выхватить пистолет. Он выстрелил не задумываясь, еще не сообразив, что делает, в оскаленную пасть дога. Толкнул ногой собаку в грудь - большое черное тело сползло по лестнице... Климунда опустил пистолет и уставился на сухонького седобородого человека, застывшего у входа в гостиную с собачьим поводком в руке. Очевидно, профессор еще ничего не понял, потому что стоял и обескураженно смотрел на молодого человека с рюкзаком на лестнице. Климунда видел его полные ужаса глаза - они сверлили и притягивали Спиридона, он боялся и ненавидел их. Знал, что сейчас что-то случится, знал даже, что именно. Ведь ему надо немедленно уйти отсюда, а эта маленькая, жалкая фигура загораживает дорогу... Климунде осталось преодолеть две или три ступеньки. Он остановился, чтобы перешагнуть через труп дога, и тут профессор бросился ему наперехват. Он гневно поднял руку с кожаным поводком и закричал тонким голосом: - Назад, мерзавец! Климунда поднял пистолет, еще секунда - и выстрелил бы, но в этот момент маленький человечек больно хлестнул его поводком по руке. Спиридон опустил руку и неожиданно для самого себя бросился по лестнице вверх. Только очутившись на втором этаже, понял, что тут спасения нет. Профессор сейчас поднимет шум, позвонит в милицию... Климунда поднял пистолет, но тут же снова опустил его - наверно, подумал, что вторично стрелять опасно. Хорошо, что первый выстрел не привлек ничьего внимания. Он на секунду заколебался, только на секунду, перепрыгнул через ступеньки и ударил профессора, преградившего ему дорогу, рукояткой пистолета в висок. Увидел, как тот пошатнулся, схватился руками за грудь и упал прямо на пса. Климунда хотел бежать, однако ноги у него снова подломились, и он опять сел на ступеньки, опершись рюкзаком на перила. Положил пистолет на колени и уставился на два тела, неподвижно лежавшие у его ног. Внезапно ощутил на себе десятки взглядов, словно во всех углах гостиной притаились маленькие седые человечки. Сняв перчатки, Климунда нащупал в кармане папиросу, жадно затянулся несколько раз, обжигая пальцы, потушил папиросу и эта боль заставила его опомниться. Спрятал пистолет в наружный карман пиджака, подобрал окурок и, перешагнув через трупы, вышел на залитую солнцем асфальтированную дорожку. Калитка теперь не была заперта. Спиридон выглянул, подождал, пока скрылись из виду какие-то двое прохожих, и направился к улице, где стоял "Москвич". Иваницкий завел мотор, еще издали увидев Климунду. Спиридон плюхнулся на заднее сиденье, и Омельян, ни о чем не расспрашивая, рванул машину. Иваницкий все время смотрел в зеркальце, не преследует ли кто-нибудь. Но улица была пуста. Только далеко позади вынырнула из-за поворота грузовая машина. Омельян круто взял вправо, обогнал троллейбус и выскочил по проспекту на мост. Только переехав его, Иваницкий нарушил молчание: - Я вижу, у тебя порядок.. Климунда вцепился в спинку переднего сиденья, жарко выдохнул в ухо Иваницкому: - Убил я его! Понимаешь убил... Омельян крутанул руль, чуть не попав под колеса тяжелого грузовика. Выровняв машину, прижался к тротуару и остановился. Обернулся к Климунде. - Ты что, спятил? Кого убил? - Обоих... профессора и пса... Увидел, как побледнели щеки у Иваницкого, и это почему-то успокоило его, придало уверенности. Продолжал, будто речь шла о чем-то будничном, не стоящем особого внимания: - Он вернулся не вовремя, профессор... Дог бросился на меня... Я стрелял... а потом ударил рукояткой профессора по голове. - Ну, влипли... - растерянно проговорил Иваницкий. - Что же теперь будет? - Ничего не будет. Ты всегда преувеличиваешь. - Дай боже! Убийство профессора не шутка - поднимется вся милиция! - Ищи ветра в поле! Иваницкий пристально посмотрел Спиридону в глаза. - Ты не наследил там? Климунда ощупал карманы. Переложил пистолет во внутренний, достал перчатки, зачем-то натянул на левую руку. - Сожги, - приказал Омельян, - перчатки сожги, а пистолет выкинь в реку. Сегодня же, - немного подумал и добавил: - встречаться не будем. Немедленно бери отпуск и катай на Черное море. Иконы сложи в чемодан и возьми с собой. Сдашь в камеру хранения - так надежнее. - Какие еще будут указания? - В тоне Климунды чувствовалось пренебрежение. Он уже немного оправился от страха и считал, что имеет право на первую роль. - Никуда мне не хочется ехать. Сказал так, лишь бы только возразить Иваницкому, потому что и самому хотелось как можно скорее сесть в самолет, чтобы быть подальше от коттеджа, оплетенного текомой, от этих двух тел, от милиции, которая сегодня же начнет расследование. Омельян не обратил внимания на его возражение. - Напишешь мне в Пицунду до востребования. Я буду там через неделю. Сообщишь, где сможем встретиться. Климунда похлопал по рюкзаку. - Скорее бы сплавить этот хлам. - Это уж моя забота. Ты понял? Климунда в ответ пробурчал что-то неопределенное. Иваницкий остановил машину. - Держи, - подал Спиридону руку. - И я тебя прошу: не швыряйся деньгами на курорте. Милиция всегда принюхивается к таким. - Угу... - Климунда и сам знал это. - Ты куда сейчас? - Поставлю машину в гараж... - Иваницкому почему-то не хотелось говорить, что уже пятый день, как он находится в командировке в Москве прилетел утренним самолетом и возвращается через два часа. На всякий случай - железное алиби, билет в оба конца взял для него один московский приятель, и фамилия Иваницкого не будет значиться в списках пассажиров. Вот только бы незаметно поставить машину в гараж... "Москвич" тронулся, Климунда посмотрел ему вслед, закинул рюкзак за плечи и направился домой. Вечером того же дня, когда убили профессора Стаха, следователю по особо важным делам Роману Панасовичу Козюренко сообщили: экспертиза установила, что убийца стрелял из пистолета, принадлежавшего когда-то сержанту Омельченко. А еще через несколько минут майор Шульга доложил Козюренко о результатах своих поисков. Козюренко хмурился. Шульга не мог сказать ничего утешительного, Розыски его фактически зашли в тупик. А первый выстрел прозвучал! Да еще и как. - Плохо, майор, - констатировал Козюренко и, увидев, как смутился Шульга, несколько подсластил пилюлю: - Но в случае с ограблением таксиста вы действовали находчиво. Я включил вас в состав своей группы, - закончил он неожиданно. Шульга приготовился к разносу, ждал даже административных взысканий, и вдруг такое... Но ничем не выдав своей радости, сдержанно сказал: - Благодарю, хотя я не проявил... Роман Панасович остановил его скупым жестом. - Не будем разводить церемоний, майор, дело не терпит проволочек пистолет может выстрелить вторично. Хотя я лично придерживаюсь иного взгляда. Ибо преступление незаурядное, и грабители рассчитывают на большие деньги. - Счел нужным объяснить: - Из коллекции профессора Стаха украдены ценнейшие иконы - преступник или был хорошо информирован о расположении икон, или сам занимается искусством. - У человека, чуть не убившего сержанта Омельченко, - воспользовался паузой Шульга, - твердая рука. Думаю, профессиональный преступник. - Все может быть, - неопределенно ответил Козюренко. - Это нам и надо выяснить, и начнем мы, майор, с изучения круга людей, вхожих в дом профессора. Мы должны также установить лиц, случайно побывавших там в последнее время. Козюренко принялся излагать Шульге план, как это лучше сделать. Но его прервал телефонный звонок. Положив трубку, пояснил: - Капитан Запорожцева - у нее неотложное дело. В кабинет вошла красивая женщина, внешне ничем не похожая на капитана милиции. Русые волосы, широко поставленные зеленые глаза и свежие губы. Молодежная блуза с клетчатым галстуком и широкий ремень с блестящей пряжкой, которым она туго затягивалась, еще больше подчеркивали ее девичью фигуру. Козюренко вышел из-за своего большого полированного стола и придвинул Запорожцевой стул. Сел и сам. - Какое же у вас неотложное дело, уважаемая Людмила Константиновна? спросил, внимательно глядя не нее. - Я сделала анализ пепла, оставленного преступником на лестнице в доме профессора Стаха... - Ну... ну... - даже заерзал на стуле заинтересовавшийся Козюренко. Запорожцева положила перед ним бумажку. - Хочу обратить ваше внимание, Роман Панасович. Около месяца назад, точнее четырнадцатого июня, на экспертизу принесли окурок папиросы "Любительская", найденный в квартире некоего Недбайло. Вульгарная квартирная кража, - уточнила она. - В доме Стаха преступник также курил "Любительскую". Козюренко помолчал несколько секунд, оценивая услышанное. Повернулся к Шульге: - Что скажете, Яков Павлович? - Я слышал об этой краже. Дело вел инспектор районного уголовного розыска. - Спасибо, - обратился Козюренко к Запорожцевой, - за ваше очень важное сообщение. Да, думаю, очень важное. А вас, Яков Павлович, немедленно прошу найти дело об этой краже. Как вы сказали - Недбайло? Дело о краже в квартире Недбайло было уже передано в прокуратуру. Шульге пришлось разыскать помощника районного прокурора, и через час папка лежала на столе Козюренко. Следователь нетерпеливо перелистывал подшитые в ней бумаги. - Просто, - недовольно сказал он, - элементарно просто. Никаких тебе хлопот. Милиция составляет опись украденных вещей и список рассылает по назначению. Через неделю в Городянке предлагают одной женщине дешево купить каракулевую шубу. Она покупает, конечно, показывает приятельницам... Короче, об этом узнают в милиции, а там в списке вещей Недбайло фигурирует каракулевая шуба. Дальше еще проще: что у кого купил, обыск на квартире хорошо известного милиции вора-рецидивиста Алексея Балабана, неопровержимые доказательства содеянного, признание Балабана - и точка. Дело сдают в прокуратуру и ставят галочку - еще одно преступление раскрыто. Следователя отмечают в приказе за хорошую работу. А я бы ему, сукиному сыну, - похлопал он ладонью по папке, - выговор с предупреждением. Во-первых, часть вещей не нашли. Почему? Балабан уверяет, что продал на толкучке. Но ведь лжет, не мог этого сделать. Толкучка для него - смерть. А следователь верит ему... Верит, ибо так легче - не надо усложнять себе поиск... К тому же Балабан мог совершить преступление не один, а с кем-то. Они могли поделить вещи. Возможно, еще один прохвост гуляет на свободе, а другой нарочно не выдает его - то ли из солидарности, то ли из страха, потому что за групповую кражу дают больший срок... - Правильно ли я понимаю вас? - перебил Шульга. - Утром допросим Балабана? - Да, конечно. Надо взяться за этого "домушника". ...Лёха с любопытством смотрел на этих двух новых начальников в штатском. Несомненно, начальников: сюда, в тюрьму, неначальников не пускают, а это начальство, и небось достаточно высокое, потому что один уже пожилой и держится властно, а другой - сухощавый, глазами так и сверлит, будто в самую душу к тебе заглядывает. Что ж, гляди на здоровье, а увидишь ли что? Балабан сел на предложенный ему табурет. Под ложечкой засосало: что им надо? Дело его в прокуратуре довели до конца, скоро суд, а потом знакомая жизнь в колонии, нельзя сказать, чтоб роскошная, но там своя "братия", и можно как-нибудь перекантоваться... Балабан испытующе посмотрел на этих двух. Старший, чуть лысоватый, закурил и придвинул Балабану две пачки сигареты с фильтром и папиросы "Любительские". Балабан вытащил длинную сигарету высшего сорта, прикурил и пустил дым под потолок - таких сигарет давно не курил, даже у прокурора, не говоря уже о районном милицейском начальстве, угощали только "Памиром". Что ж, большее начальство - и сигареты получше. - Хорошие сигареты? - спросил его следователь. Балабан утвердительно кивнул и искоса посмотрел на пачку. Это не прошло мимо внимания Козюренко. - Возьмите еще, - предложил он. - Или вам больше по вкусу эти? пододвинул "Любительские". Балабан пренебрежительно отодвинул папиросы. - Если уж нет ничего другого, - пояснил он. - Не накуриваюсь я ими, и дым не тот. Кислый. - А я иногда курю, - возразил Козюренко, - для разнообразия. Лёха посмотрел подозрительно: не издеваются ли над ним? - Итак, - уточнил Козюренко, - вы утверждаете, что последнее время, по крайней мере перед арестом, не курили папирос "Любительские". - Нет. - А среди ваших знакомых были такие, что курили "Любительские"? Какая-то искорка мелькнула в глазах Балабана: вспомнил Семена и узкую красноватую пачку у него в руках. Но ответил твердо: - Не припоминаю. - Подумайте. Балабан на мгновение задумался и снова покачал головой: - Нет, не знаю. - Нехорошо, Балабан, получается, - наклонился к нему через стол Козюренко. - Вы утверждаете, что во время кражи на квартире Недбайло разбили вазу, и что в этой квартире были один. Как же вы можете объяснить тот факт, что на тумбочке, где стояла ваза, найден потушенный о нее окурок папиросы "Любительская"? Балабан пожал плечами. - А может, кто-нибудь приходил после меня? Я двери не запер... - Зашел, посидел, спокойно покурил, ничего не взял и ушел себе... Не делайте из нас дурачков, Балабан! - Зачем бы я это делал... Такие большие начальники. - Не паясничайте! - сурово перебил его Козюренко. - Экспертизой установлено, что папиросу "Любительская" в обокраденной квартире курили не вы. Курил человек с совсем другой группой крови. И вы знаете этого человека. Балабан прижал руки к сердцу. - Я был один, - произнес как можно убедительнее. Подумал, что какая-то там группа крови - это еще не доказательство. Ты выложи на стол козыри, тогда поговорим, а так... Он ничего не скажет, пока есть малейшая возможность отбрехаться, потому что, если выйдут на Семена, докопаются до пистолета, а это уже... У Балабана мороз прошел по телу. - Да, гражданин начальник, я взял квартиру один, и вы мне больше ничего не пришьете. - Допустим, Балабан, что я вам поверил, - согласился Козюренко. Теперь скажите мне, где вы ночевали, когда оставались в городе. Глаза у Лёхи забегали: неужели выйдут на сестру? Он закопал у нее в погребе металлическую коробку из-под леденцов, а в ней - его доля, пять тысяч рублей. Теперь он будет жить одной надеждой, которая скрасит его тяжелую и однообразную жизнь в колонии, - пороскошествовать на эти пять тысяч, когда выйдет на свободу. Ответил, преданно и честно глядя прямо в глаза Козюренко: - А на вокзале... Иногда в Гидропарке... - Не соврал, потому что именно там провел одну ночь. - В парке молодежь на ночь палатки ставит, костер разжигает. Возьмешь бутылку, прибьешься к компании. И тепло, и весело. - Итак, знакомых и родных, у которых вы могли бы остановиться, в городе нет? - Нет, - покачал головой Балабан. Козюренко вызвал конвоира. Балабана увели. - Что скажете, Яков Павлович? - спросил Шульгу. - Надо начинать с Городянки. Крутит Балабан, и что-то за этим кроется. - Ладно, вероятно, вы правы, майор. Вызывайте машину - и в Городянку. А я попробую показать Балабана сержанту Омельченко. Стрелял, правда, в Стаха не Балабан. И все же беспокоят меня эти "Любительские". Может быть, совпадение обстоятельств, но чем черт не шутит... ...Пятерых, приблизительно одного возраста, мужчин посадили на длинной скамье у стены. Вторым слева сидел Балабан. Знал - неспроста все это, но бодрился, даже деланно улыбался, а руки его мелко дрожали, и он спрятал их между коленями. В дверях появился Козюренко с понятыми. Он даже не взглянул на Балабана, стал, словно подчеркивая свою непредвзятость... Но Балабан почувствовал такую ненависть к этому спокойному и уверенному в себе человеку, что едва сдержал желание броситься на него. Вошел сержант Омельченко. Козюренко что-то говорил - это была обычная в таких случаях процедура. Но Балабан не слышал ни слова. Он сразу узнал сержанта и не мог отвести от него взгляда, хотя понимал, что этим может выдать себя. Однако ничего не мог поделать, это было свыше его сил: захотелось встать и сознаться во всем, покаяться, упасть на пол, биться об него головой, чтобы заглушить в себе жар, почему-то поднимавшийся к сердцу и звучавший гулкими ударами в висках. Козюренко предложил Омельченко внимательно посмотреть на пятерых у стены, нет ли среди них человека, напавшего на него. Эти слова как бы подали Балабану сигнал опасности, и он сумел наконец преодолеть себя, ощутил, как отхлынула кровь от сердца, и как оно опустело. Лицо его посерело, он сразу осунулся: смотрел вроде бы на сержанта, но ничего не видел, взгляд его не задерживался ни на чем - удивительное состояние человека, когда он чувствует себя почти несуществующим, потусторонним, когда ничего не страшно и все кажется суетою сует, ничтожным... Сначала Омельченко растерялся: все пятеро были вроде бы на одно лицо. Но он заставил себя сосредоточиться, взгляд его стал твердым. Представил себе лицо того, кто вышел тогда из темноты. Оно ожило перед ним - и не похоже было ни на одно из тех, на которые смотрел сейчас. - Нет... - проговорил нерешительно, - нет... Тут его нет... Вдруг его взгляд скрестился со взглядом второго слева. Что-то заставило сержанта всмотреться в лицо молодого парня. Нет, оно мало чем походило на то, что снилось ему в больнице, что время от времени представало в воображении, но теперь Омельченко знал: раньше он ошибался, а сейчас - нет. Вон тот, второй слева, позвал его тогда в кусты, а потом ударил ножом в спину. Омельченко на мгновенье снова ощутил боль, как и тогда. Он сделал шаг к тому, кто его так предательски обманул. Поднял руку, ткнул в Балабана и уверенно сказал: - Он! Произнес это категоричное слово и сразу испугался, ибо знал, что ждет человека, ударившего ножом, пытаясь убить, и только чудом не убившего. Подумал: а может, это заговорило в нем чувство мести. Он всегда считал себя порядочным и справедливым человеком. Да и минуту назад он представлял себе преступника совсем другим, - сержант отступил, вздохнул и виновато взглянул на Козюренко. - А может, и не он... Следователь смотрел равнодушно. - Подумайте, Омельченко, - холодно сказал он. - Мы не торопим вас. Посмотрите внимательно еще раз: нет так нет. Сержант на секунду закрыл глаза. Теперь он начал с крайнего справа. Короткоухий, веснушчатый, и выражение лица безнадежно мрачное, даже подавленное. Нет, не он. Второй - черный, с большими карими глазами. И это не он. Третий - крепкий парень, курносый, с волнистым чубом и мягкими, по-женски припухлыми губами. Точно не он. Четвертый... - Он! - сержант снова ткнул пальцем в Балабана. - Да, это он! Сперва Балабан никак не отреагировал на утверждение Омельченко. Может, оно и не дошло до его сознания, потому что он пребывал в состоянии прострации: стоял бы сейчас под дулом винтовки - все равно не боялся бы. Но когда сержант отступил и заколебался, обрадовался так, что на щеках выступил румянец. Но вот следователь что-то сказал сержанту, и тот снова повернулся к ним, их взгляды еще раз скрестились. Теперь Балабан понял: его опознали, и это - конец... И вдруг с облегчением подумал: он же не убил этого милиционера таким образом, "вышку" не дадут... Он будет жить, а там поглядим. Может, попадет под амнистию или сбежит. Когда их выводили, оглянулся и еще раз перехватил взгляд сержанта. Опустил глаза, не было к нему злобы: такая уж у них служба... Конвоир приказал Балабану остаться в узком темном коридоре. Тот оперся о холодную стену, почесался об нее - душевное равновесие вернулось. В конце концов, то, что его узнал милиционер, не имеет решающего значения. Ведь у него железное алиби, которое может подтвердить участковый инспектор лейтенант Хохлома. Эта мысль утешила его. Гордый начальник останется с носом, хотя, должно быть, думает, что уже подцепил на крючок Лёху Балабана. Не на того нарвался. Когда Балабана снова привели к Козюренко, следователь сразу обратил внимание на то, как уверенно он держится. Это несколько удивило его, но он и вида не подал, спокойно сказал: - Итак, Балабан, отпираться тщетно. Вас опознали - вы совершили нападение на сержанта Омельченко, чтобы завладеть оружием, и тяжело ранили его. - Гражданин начальник! - Балабан прижал ладони к сердцу. - Ошибся ваш милиционер, поверьте, ошибся. Впервые вижу его... - Ну что ж, тогда выясним все по порядку. Балабан с собачьей преданностью в глазах уставился на следователя. - Вы можете вспомнить, где были вечером десятого мая от десяти до двенадцати? Балабан задумался, делая вид, что вспоминает. Сейчас он огорошит этого самоуверенного следователя. - Не помню... - сокрушенно покачал головой. Знал, что ни один порядочный игрок не выкладывает сразу все свои козыри. - Разве ж можно все в голове держать? Сколько времени прошло... - И все же вспомните, - с нажимом сказал Козюренко. - Вечером десятого мая? Балабан поднял глаза к потолку, как бы силясь что-то припомнить. - Десятого? - повторил он. - Что же было десятого? Нет, не помню. Козюренко пристально смотрел на него. Балабан покачал головой, сморщил лоб и вдруг оживился. - Десятого? - начал он нерешительно. - Так это же было... Постойте! даже просветлел лицом. - Вспомнил, это же на следующий день ко мне заходил участковый, лейтенант Хохлома. Теперь точно вспомнил - болел я десятого, несколько дней подряд болел. Это же после Дня Победы было - лежал в постели. Лейтенант Хохлома может подтвердить! А что, - наклонился он к Козюренко, - что десятого случилось? Что-нибудь с этим милиционером? Козюренко улыбнулся: этот негодяй, оказывается, еще и нахален. - Мы проверим ваши показания, Балабан. Но предупреждаю, все равно установим истину, а искреннее раскаяние всегда учитывается судом. Если же будете лгать и запутывать следствие, это только отяготит вашу вину. "Раньше докажите что-нибудь, потом должен каяться! - подумал Балабан. - А так - дураков нет. Лейтенант Хохлома не отступится - знаем его, упрямый черт, как и бабка Соня". Дом на окраине города, снаружи неброский - давно не крашенный, ободранный, окна покривились, - внутри поражал достатком и уютом. Чисто покрашенный пол в двух больших комнатах, тисненые обои, ковры, импортная мебель, хрусталь. Но на всем лежала печать безвкусицы: полированный журнальный столик украшала старомодная плюшевая салфетка, а в серванте гордо выстроились семь слоников. Анна сидела на мягком стуле и не спускала глаз с работников милиции, только что начавших обыск. Майор Шульга не зря ездил в Городянку. Узнал он там много интересного. Соседка Балабанов, бабка Соня, рассказала ему о всей их семье, помянув недобрым словом почти всех, в том числе и Лешину двоюродную сестру Анну Кириллову. Спекулянтка, мол, живет в областном центре, а скупает в Городянке и в окрестных селах раннюю клубнику и фрукты, корзинками и ящиками возит в Москву и продает. Говорят, денег у нее - что мусору. И для чего человеку столько денег, одна с дочкой живет, а дочка придурковатая, никто даже замуж не берет... Установить адрес Анны Кирилловой было нетрудно. На следующий день Козюренко получил постановление на обыск и поручил сделать его Шульге. Кириллова не испугалась, увидев работников милиции. Майор, которому не впервые приходилось принимать участие в таких операциях и который по поведению хозяев уже научился почти безошибочно определять, не прячут ли они что-нибудь, наблюдал за Кирилловой, чем дальше, тем больше убеждаясь, что обыск ничего на даст. Кириллова смотрела, как работники милиции роются в шкафу, и презрительно кривилась. Если бы нагрянули неделю назад, имели бы поживу. Она тогда не успела еще реализовать вещи из чемодана, оставленного ей Лёхой, да и сам чемодан мог стать неопровержимым доказательством. Но позавчера у нее купили последнюю ценную вещь - пальто с бобровым воротником. Она отдала его за три сотни и весь день казнилась, что продешевила. А оно оказалось, что напрасно казнилась - есть-таки на свете бог, он справедлив, все видит и всегда помогает обиженному... А в том, что сейчас ее обижают, у Анны Кирилловой не было никаких сомнений. Ну, зачем врываться в порядочный дом, если там ничего нет, зачем перебрасывать вещи в шкафу? Сказано, ничего нет, деньги и сберкнижка - вот, на виду. Все заработано честным трудом. Но почему перешептывается этот майор с милиционером, роющимся в комоде? Анна нервно сжала пальцы. И как она могла забыть об этом? Так грубо ошибиться! Когда Лёха приплелся однажды вечером пьяный в стельку, она обыскала его карманы и вытащила красивые золотые часики на цепочке. Такие часы только недавно вошли в моду, их носили на шее вместо медальонов. Вещица так понравилась Анне, что она решила оставить ее себе. Черт попутал. Все равно не носила бы сама и не дала бы дочке. А впрочем, чего она волнуется? Это же брат подарил ей часы. Разве брат не может подарить ценную вещь сестре? Она краденая? Что ж, Кириллова, конечно, знает, что ее двоюродный брат отсидел за кражу. Но ведь в колонии его перевоспитали, и она даже не могла представить себе, что это вещь краденая. Так она и ответила Шульге, когда тот попросил ее объяснить, чьи часы и откуда. Перед обыском майор ознакомился со списком украденных у Недбайло вещей. Был уверен, что найдет что-нибудь у Кирилловой, и его предвидение оправдалось... В комнатах уже осталось мало работы, и Шульга поручил одному из оперативников осмотреть погреб, вход в который вел прямо из сеней. - А вы не задумывались над тем, - обратился майор к Кирилловой, - на какие деньги брат мог купить вам такой ценный подарок? Ведь после освобождения из колонии он нигде не работал. - Леша сказал, что продал кое-что из своих вещей. - Вот как! - удивился майор. - Никогда не думал, что Балабан такой щедрый. - Просто вы плохо знаете его. - Скоро узнаем лучше! - уверенно пообещал майор. - Но мне кажется, что и вы не до конца знаете его. - Я люблю его как родного брата, - возразила Кириллова. - А брат есть брат... одна кровь... Тем временем из погреба вылез оперативник. В руках он держал коробку из-под леденцов. Молча и как-то торжественно поставил ее на стол. - Вот, - сообщил кратко, - была закопана в погребе. Шульга посмотрел на Кириллову: женщина даже вся подалась вперед, смотрела удивленно и растерянно, и майор сначала подумал, что Кириллова и правда видит коробку впервые. Но не было времени для психологических упражнений - придвинул к себе коробку и снял с нее плотно пригнанную крышку. Подозвал понятых. - Обратите внимание, - показал он, - коробка закрыта сравнительно недавно - не успела заржаветь. Видите, на крышке только кое-где пятнышки ржавчины... Но понятым неинтересно было смотреть на крышку, заглядывали в коробку, где лежало что-то завернутое в целлофан. В конце концов, содержимое коробки прежде всего интересовало и майора. Он не стал испытывать терпение свидетелей - развернулцеллофан, и на стол легли аккуратно крест-накрест заклеенные пачки денег. - Пять тысяч рублей, - констатировал Шульга. - Пять тысяч! - вдруг воскликнула Кириллова. - Неужели правда пять тысяч? Шульга обернулся к ней. - Вы хотите сказать, что эти деньги не принадлежат вам? - Боже мой, пять тысяч! - схватилась за голову женщина. - Вы не ответили на заданный вопрос. Деньги - ваши? Кириллова обескураженно посмотрела на майора. - Если бы были мои! Я разве так их прятала бы! Это бы мне до конца жизни... Она сказала так искренне, что Шульга чуть не поверил ей. Но продолжал сухо и официально: - Гражданка Кириллова, откуда вы взяли эти деньги и с какой целью закопали их в погребе? Кириллова всплеснула руками. - Я - закопала? Зачем бы я закапывала?! - Вдруг смысл всего, что произошло, окончательно дошел до нее, глаза у женщины недобро загорелись. - Это он, - погрозила пальцем, - только он. И это называется брат! Ведь сел - для чего тебе деньги, ирод проклятый! Для чего, спрашиваю я вас? 0на обвела присутствующих отчаянным взглядом, но, поняв, что никто не сочувствует ей, обиженно сжала губы. И села на стул. - А вы уверяли, что хорошо знаете своего брата, - не удержался от укола майор. Кириллова исподлобья посмотрела на него и ничего не ответила. Шульга быстро закончил формальности, связанные с обыском. Сообщил Кирилловой: - Сами понимаете, мы вынуждены задержать вас, чтобы выяснить все аспекты дела. Кириллова, не отвечая, кивнула, а майор раздраженно потер подбородок. Черт возьми, как он сказал - "аспекты дела"? И почему это человек не умеет выражать свои мысли просто? ...Козюренко сидел на диване и заинтересованно хмыкал, слушая доклад Шульги об обыске в доме Кирилловой. Прошелся вдоль кабинета, совсем по-мальчишески стараясь ступать только по линии паркета, тянувшегося вдоль ковровой дорожки. - Думаете, Кириллова не знала о коробке с деньгами? - спросил он. - Так мне показалось. - Может быть... Балабан - пройдоха... Но где же он взял деньги? - Сначала я подумал: сбыл украденное у Недбайло. Однако этих вещей было тысячи на две, ну, на две с половиной. Кроме того, пачки ассигнаций по пятьдесят рублей... Балабан не так глуп, чтобы ходить по магазинам и менять деньги. Кто-то может и заподозрить... - Поговорим с Кирилловой. Может, она что скажет. - Козюренко сел за стол. - Прикажите привести ее. Кириллова уже пришла в себя. Успела поразмыслить над ситуацией и выработать линию поведения. Она сидела, крепко сжав губы и положив руки на колени, смотрела прямо перед собой и отвечала кратко, хорошо все обдумывая, прежде чем что-нибудь сказать. - Мы ведем предварительное следствие, Кириллова, - начал Козюренко, и я еще не знаю, в какой роли на нем будете фигурировать вы. По крайней мере, нам следует выяснить несколько обстоятельств. Надеюсь, вы поможете нам, потому что это и в наших, и в ваших интересах. - Да, - едва разжала губы Кириллова. - Вы утверждаете, что найденная у вас коробка с деньгами не принадлежит вам? - Конечно. - Как она попала к вам в погреб? - Не знаю. - Кто, кроме вас, лазит туда? - Дочка. Ну, еще брат. - Алексей Балабан? - Да. - Дочка могла спрятать деньги? Губы Кирилловой растянулись в пренебрежительной усмешке. - Наверно, за всю свою жизнь она не увидит таких денег. - А Алексей Балабан? - Это он! - вдруг сорвалась на фальцет Кириллова. - Он, только он! Обвел меня вокруг пальца! Я его кормила, обстирывала, а он обдурил меня, паразит проклятый! - Так уж и обдурил! А золотые часы? - Чего они стоят? Пусть сотню... А я на Лешку сколько потратила!.. - Итак, Кириллова, вы считаете, что деньги в вашем погребе закопал Алексей Балабан? Откуда он мог взять такую сумму? И снова уголки губ Кирилловой тронула презрительная усмешка. - Может, нашел? - ответила ехидно. - Да, такие деньги на дороге не валяются, - в тон ей ответил полковник. - Но мы еще вернемся к этой теме. Скажите, пожалуйста, часто бывал у вас Алексей Балабан? - Да... - отказываться не было смысла, и Кириллова призналась: - Не выгонишь же, брат все-таки... - Когда был в последний раз? - За два дня до этого... до ареста. - Откуда узнали об аресте? - быстро поинтересовался следователь. - А я в Городянке была. Дело было... - Так, дело... - иронически сказал Козюренко, уже слышавший от Шульги о "делах" Кирилловой. - А вы не помните, был ли у вас Алексей Балабан десятого мая? - Десятого?... Может, и был... - Это сразу после Дня Победы, - уточнил Роман Панасович. - А-а, - вспомнила Кириллова, - приезжал. И в праздники был, и на следующий день. Ушел, правда, около полудня. Я ему еще рубль дала на обед... Сидел без копейки, а мне что, рубля жаль? - У вас хорошая память, - поощрил ее Козюренко. - Однако Алексей Балабан утверждает, что и девятого, и десятого мая болел и никуда не выезжал из Городянки. Кириллова поиграла пальцами на коленях - больше ничем не проявила своих чувств. Что ей до Лёхи, до этого подонка, - иметь столько денег и не поделиться с ней. Она так спрятала бы их, что даже полк милиции никогда не нашел бы... Злость на Лёху, обманувшего ее, поднялась в ней, и Кириллова твердо сказала: - Врет Лёха, ей-богу, врет... Да вы дочку мою спросите. Гулял у нас Лёха девятого. Еще пол-литра ему выставила... - Воспоминание о пол-литре, должно быть, больше всего уязвляло ее, потому что повторила: - Да, пол-литра, и он сам ее выдул. Мы же не пьем с дочкой, разве что красного изредка, сладенького. Козюренко подумал: вот тебе и Балабаново алиби... Ведь заходил к Балабану участковый. Вот балда. Еще тогда могли выйти на Балабана. Прервал Кириллову: - Сейчас мы устроим вам очную ставку с Алексеем Балабаном, и вы повторите только что сказанное. Женщина дернулась, наверно, испугалась, но сразу овладела собой. В конце концов, у нее не было выхода - ведь следователь мог подумать, что деньги и правда принадлежат ей, а это уже была серьезная угроза для нее. - Конечно, скажу, - кивнула угодливо. - Это правда. Я и подписку дам... Следователь приказал увести ее в соседнюю комнату. Конвоир привел Балабана. Козюренко сел на стул напротив подследственного, совсем близко, мог дотронуться рукой. Он угостил Балабана сигаретой, спросил его о чем-то, лишь бы спросить, и незаметно сделал знак Шульге. Тот выставил на стол коробку из-под леденцов. - Вам знакомо это? - неожиданно спросил Балабана. Тот отшатнулся, выронив сигарету. Глаза его наполнились ужасом. - Где вы?.. - начал, но, судорожно глотнув воздух, замолчал. Нагнулся за сигаретой, взял, неудобно держа ее двумя пальцами, вид у него был беспомощный. - Вы выдали себя, Балабан, - сказал Козюренко, - нет смысла выкручиваться. - И, не давая Балабану опомниться, продолжал: - Советую вам рассказать всю правду. Мы и сами знаем многое. Сейчас вы убедитесь в этом. Но у вас еще есть шансы смягчить свою вину... Такие слова Балабан, наверно, слышал уже не раз, но теперь они прозвучали особенно весомо. Ведь перед Балабаном на столе лежало неопровержимое вещественное доказательство - коробка из-под леденцов. Он уже собирался было рассказать этому проницательному следователю все, что знал, но в последнее мгновение снова заколебался и упрямо покачал головой. - Ладно, - сказал как-то уж слишком мягко Козюренко, - оставим эту коробку. Не в коробке дело, в конце концов. Назовите фамилию человека, которому вы передали пистолет. - Не видел я никакого пистолета! Вы не пришьете мне этого дела, начальник! Я же говорил, что был болен! - Ну что ж, Балабан, тогда мы будем вынуждены провести очную ставку, - предупредил Козюренко. - Пригласите понятых, - приказал Шульге, - и Кириллову. Понятые сели на стулья около стены. Кириллову следователь посадил напротив Балабана. Объяснив понятым, в чем заключается их задача, Козюренко обратился к Кирилловой: - Итак, вы утверждаете, что Балабан десятого мая был у вас? И еще накануне - девятого - пьянствовал в вашем доме? - Утверждаю, - ответила твердо. У Балабана от обиды задрожала нижняя губа. Еще немного, и он, казалось, заплачет. - Врет она... - начал неуверенно. - Я вру? - взвизгнула Кириллова. - Это ты , падло, обдурил меня! А как пьянствовал девятого, видели даже соседи, они докажут! И утром десятого видели. Балабан совсем раскис. И чтобы хоть немножко досадить Анне, пробормотал: - Но ведь она не рассказала вам, начальник, что сбывала краденое. Я крал, а она продавала. И знала, что краденое. - Врет! - даже задохнулась от злости Кириллова. - И такое возводить на меня за мою доброту! Козюренко приказал увести Кириллову и отпустил понятых. Балабан засунул руки под мышки - они у него снова начали дрожать - и тупо смотрел в пол. - Кому передали пистолет? - спросил Козюренко. - Он сам забрал его, - бросил в свое оправдание Балабан. - Подсек меня самбой и положил на пол!.. Он ограбил меня. - Кто? - Семен. - Кто такой Семен? Фамилия? - Фамилии я не знаю. - Где он живет? - А он меня в гости не приглашал... - Не паясничайте, Балабан. Не советую... - Да нет, начальник, я и правда не знаю. Оно так получилось... И Балабан рассказал историю знакомства с человеком, назвавшимся Семеном, знакомства, кончившегося кражей в квартире Недбайло. Когда Балабана увели, Козюренко пересел на диван, вопросительно посмотрел на Шульгу. - Ну и ну, - покачал он головой, - кажется, и много, а подумаешь только ниточки... Майор придвинул к себе клочок бумаги, на которой делал заметки во время допроса Балабана. Разговор записывали на пленку, но Шульга по привычке не расставался с карандашом. Обвел толстой линией какое-то слово и сказал, подытоживая: - Теперь мы знаем точно, что Балабан совершил покушение на сержанта Омельченко. Это первое. После этого у него отбирает пистолет некий Семен. Возможно, самбист. Это второе. Потом Семен вместе с Балабаном обкрадывает квартиру Недбайло. Балабан получает свою долю, причем немалую - пять тысяч. Это третье. Через месяц этот же Семен убивает профессора Стаха и забирает часть его коллекции. Четвертое. Мне только непонятно, почему Недбайло не заявил об украденных деньгах. Очевидно, потому, что сам приобрел их нечестным путем. - Этим Недбайло пусть занимаются обэхаэсовцы. А нам надо все силы бросить на поиски Семена. Завтра следует поинтересоваться в спортобществах всеми Семенами, занимающимися самбо. Это сделает лейтенант Пугач. А вас я попрошу пойти в сберкассу. Тринадцатого мая Семен получил в сберкассе, что на Главпочтамте, четыреста рублей и шел в дом на центральной площади. - В этом что-то есть, - пробормотал Шульга. - Возьмите у прокурора разрешение и поинтересуйтесь вкладчиком, получившим тринадцатого мая четыреста рублей. Вот вам и Семен. Омельян Иваницкий стоял в очереди на такси на остановке возле Смоленской площади. Приезжая в Москву, он всегда испытывал сложное чувство духовной подавленности и в то же время какой-то раскованности. Город давил его своими масштабами. Раздражали людские потоки, рев автомобильных моторов на проспектах. Но, с другой стороны, именно эта безграничность человеческого моря придавала ему и уверенности, приглушала острое чувство опасности, иногда мучившее в родном городе. Там все время казалось, что уже напали на его след, что вот-вот позвонят ночью или же, вежливо остановив на улице, предложат сесть в машину... А тут никому нет дела до Омельяна Иваницкого, тут можно позволить себе кой-какие вольности. Правда, в этот свой приезд в Москву Иваницкий пока что ничего не позволил себе, хотя ему и хотелось позвонить нескольким знакомым девушкам. На сей раз у него было очень серьезное дело... Иваницкий немного нервничал. Получил командировку на семь дней, прошло уже шесть, а он все еще нащупывал связи с нужными людьми, боясь даже намекнуть на подлинные масштабы операции. Только сегодня утром один знакомый дал ему телефон и адрес какой-то Марины Алексеевны Яковлевой, которая должна была свести его с нужным человеком. Иваницкий сразу позвонил Марине Алексеевне. Сказал, что обращается к ней по рекомендации Юзефа Тадеевича, и та ответила, что в шесть будет ждать его. Наконец подошла машина, и Иваницкий назвал адрес. В район Кунцева, когда-то там был чуть не край света, а теперь это в черте города. Такси мчалось по широким московским улицам, а Иваницкий - с тревогой думал о встрече, которая должна была состояться. Его предупредили, что разговаривать придется с молодой женщиной, что она красива и эксцентрична. И это особенно беспокоило. Разговоры с женщинами всегда немножко пугали его. Он знал, что не вызывает у них симпатий, и поэтому волновался. Лифт поднял его на шестой этаж комфортабельного кооперативного дома. Иваницкий позвонил, но ему долго никто не открывал. Было, правда, такое ощущение, будто кто-то пристально разглядывает его в глазок. Наконец дверь открылась, в щель выглянула женщина. - Вы к кому? - Марина Алексеевна здесь живет? - Это я. - Меня рекомендовал Юзеф Тадеевич... Я звонил вам сегодня. Брякнула цепочка, и дверь распахнулась. Иваницкий вошел в прихожую, с любопытством разглядывая хозяйку. Она и правда была молода и красива. Они прошли в просторную комнату. Марина Алексеевна кивнула Иваницкому на кресло, сама принялась возиться у бара. Хозяйка поставила на журнальный столик перед гостем бутылку коньяка и наполнила рюмки. - Юзеф Тадеевич сказал мне, - сухо начал Иваницкий, - что вы интересуетесь иконами... - Давайте сначала немножко выпьем, - игриво сказала Марина Алексеевна, - а потом уже поговорим о серьезных делах, У меня сегодня алкогольное настроение. К тому же Юзеф знает свое дело, и если уж рекомендует он!.. - Марина Алексеевна улыбнулась. Иваницкий не понял, то ли это дань уму Юзефа Тадеевича, то ли признание его, Иваницкого, деловой весомости. На всякий случай заявил несколько надменно: - Я, правда, не знаю, сможете ли вы удовлетворить мои интересы. Речь идет о достаточно большой сумме... - Не беспокойтесь, - махнула рукой хозяйка. - У нас хватит денег, чтобы купить и не такую мазню. Но не надо сейчас об этом. Выпьем. Она поставила долгоиграющую пластинку, выдавила в свою рюмку пол-лимона, выпила все, не поморщившись и не закусив, одним духом и закурила ароматный "Кент". Улыбнулась и снова наполнила рюмки. Потом, анализируя свое поведение в гостях у Марины Алексеевны, Иваницкий очень упрекал себя: ведь держался как последний дурак, - должно быть, сразу опьянел. Он закурил из хозяйкиной пачки и зачем-то начал рассказывать о вчерашней встрече с известным художником. Омельян Иванович и правда встречался с ним. Его познакомили с мэтром, назвав "нашим коллегой". Известный равнодушно, едва взглянув, пожал ему руку, и это задело за живое Иваницкого. Он мысленно перебрал последние произведения мэтра, придумывая им язвительные характеристики. Но теперь хвалился, что высказал все это мэтру прямо в глаза. Московские коллеги, мол, были страшно довольны, что он утер нос маститому. Марина Алексеевна кивала головой и подливала ему в рюмку, Омельян чем дальше, тем выше поднимался в собственных глазах. А долгоиграющая пластинка все вращалась, звучала нежная интимная мелодия, и Марина Алексеевна, очевидно проникшись уважением к Омельяну, вдруг назвала его на "ты" и пригласила потанцевать. Она так и сказала: "Я люблю танцевать с красивыми мужчинами", и Иваницкий не мог не согласиться с ней: что-то в нем все-таки есть... Вдруг он подумал: наплевать на все, когда рядом такая удивительная женщина... Очевидно, Марина думала иначе, потому что она поправила прическу и сказала: - Сейчас придет один человек. С ним и решим ваши иконные дела... Но Иваницкий был настроен на лирический лад. - Зачем нам третий? - просюсюкал он. Марина оттолкнула его. - Не будь остолопом. Я же говорю: сейчас придет Павел Петрович. С ним и договоришься. - А я думал, что буду иметь дело... - несколько растерянно сказал Иваницкий. - Со мной? - обернулась Марина. - Нет, я только познакомлю тебя с Павлом Петровичем. Кстати, - в ее голосе зазвучали бархатные интонации, я беру двадцать процентов. - Каких двадцать процентов? - не понял Омельян. - Не придуривайся, мой милый. От общей суммы сделки. Иваницкий позеленел. - Больше чем шесть процентов ты не получишь, - решительно сказал он. - Будь здоров, милый... - указала красивым длинным пальцем на дверь. - Чао. - Если б ты знала, во что выльются эти шесть процентов, то прикусила бы язык. - Все так говорят... - Сколько же ты собираешься заработать на мне? - Вообще меньше тысячи я не беру. А с тебя? - смерила она Иваницкого острым взглядом. - С тебя тысячи полторы... Омельян сел напротив Марины, нагло положил ногу на ногу так, что носок туфли очутился чуть ли не перед ее носом. - Шесть процентов составят приблизительно такую сумму только от одной иконы. - Десять процентов, - настаивала Марина. - Хорошо, семь. И ни копейки больше! - Ладно. Семь так семь! - Марина потянулась к коньяку. - Хочешь выпить? - А сколько ты берешь с этого?.. - щелкнул пальцами Иваницкий. - С Павла Петровича? - Платит клиент, - ответила Марина. - У нас с Павлом Петровичем свои расчеты. - В конце концов, меня это не касается, - согласился Омельян. Он хотел прибавить еще что-то, но прозвучал звонок, и Марина пошла открывать. Вернулась с мужчиной лет под пятьдесят, одетым в светлый костюм. Широкий яркий галстук выглядывал из-под пиджака. Он крепко пожал Омельяну руку, сел в кресло, где только что сидела Марина, и бросил взгляд на нее. - Я приготовлю вам ужин... - поняла та и вышла. Павел Петрович многозначительно посмотрел ей вслед. - Золото, а не женщина! - воскликнул он. - Все есть - и тут, - ткнул пальцем в лоб, - и тут... - показал ниже. - Но не будем терять времени. Что можете предложить? Иваницкий решил сразу пойти ва-банк. - Рублева... - сказал он тихо. - Вас интересует Рублев? - А ты не того? - бесцеремонно покрутил пальцем возле виска Павел Петрович. - Разве я похож на сумасшедшего? - Нет, конечно, нет. Но, может, ты ошибся? Дай взглянуть. - Вы же сами понимаете, что такие вещи с собой не возят. - Кота в мешке не покупаем. - Я приехал, чтобы установить непосредственные контакты... Павел Петрович откинулся на спинку кресла. - Рублев? - вдруг переспросил он и испуганно посмотрел на Иваницкого. - А ты из... - Он назвал город, где жил Иваницкий. - Мне говорили, что Рублев там есть только в одной частной коллекции профессора... А позавчера я узнал... - Меня не интересует, о чем вы узнали, - перебил его Иваницкий. - Я предлагаю вам икону Рублева, которая оценивается по крайней мере в пятьдесят тысяч долларов. - Но ведь за этой иконой будет охотиться милиция... - Вы говорите так, будто все, что мы делаем, скрепляется подписью участкового инспектора. Павел Петрович расхохотался. - А ты мне нравишься. Ты прав, по канату ходим. Ну что ж, такова уж наша судьба! - вдруг глаза его посуровели. - А вы там не наследили? - Я вас не знаю, вы - меня... - Так-то оно так, - согласился Павел Петрович, - и рекомендовал тебя Юзеф. А он плохих людей не рекомендует. Итак, если Рублев подлинный, даю двадцать пять. - Тридцать пять тысяч долларов! - бросил Иваницкий. - Риск... Рискованное дело, икону придется вывозить за рубеж, а это, сам понимаешь, как сложно! - А мне плевать! - вдруг рассердился Иваницкий, но сразу же дал задний ход: горячность в таких делах неуместна. - А-а... - махнул рукой Павел Петрович. - Тебе плевать, а мне деньги платить. Хорошо, тридцать - и считай, что я щедрый. - А я сегодня уступчивый, - повеселел Иваницкий. - Все долларами не получишь. Часть золотом. - Вполне устраивает. Но у нас есть не только Рублев... - Будто я этого не знал! Давай, на все найдется свой покупатель. - Приятно иметь дело с деловым человеком, - Иваницкий налил коньяку, и они чокнулись, скрепляя сделку. Шульга задумчиво шел по центральной улице города. Первая неудача постигла его в сберкассе. Балабан не солгал: правда, тринадцатого мая сберкасса выплатила одному из клиентов ровно четыреста рублей. Но установить личность этого клиента было невозможно - вкладчик получил деньги по книжке на предъявителя. "Ну что ж, - утешал себя Шульга, - было бы очень просто: в сберкассе тебе называют фамилию бандита, дают его адрес и даже знакомят с образцом подписи. И тебе остается только вызвать оперативную машину..." Шульга позвонил Козюренко и доложил о неудаче. Но тот не смутился. Только посочувствовал: - Дом на центральной площади большой - придется повозиться. Я могу выделить вам в помощь... - Не надо, - не совсем вежливо перебил его Шульга. - Справлюсь и один. - А я хотел себя предложить в помощь, - засмеялся в трубку Козюренко. - Ну что ж, снимаю свою кандидатуру. Он положил трубку. Майор вытер платком вспотевшее ухо. Неловко как-то вышло. Следователь хорошо проучил его. Шульга позвонил в квартиру на последнем этаже. Очевидно, это была большая коммунальная квартира - об этом свидетельствовало несколько кнопок звонков. Открыл майору старичок с седой козлиной бородкой. Приветливо улыбнулся и попятился, уступая дорогу. Майор знал, что этот дом после войны отстраивался с помощью работников университета. Конечно, большинство из них уже получили квартиры в новых комфортабельных домах, но кое-кто еще остался, и Шульга подумал, что старичок, должно быть, университетский доцент или профессор. - Простите, - начал он, - я из милиции. Мы выясняем одно дело - хотел бы поговорить. Старичок улыбнулся еще приветливее, захлопнул дверь и засеменил по коридору. - Входите... входите, пожалуйста. Дело на ногах не решишь, а мы - с открытой душой... Он усадил Шульгу на старомодный диван с высокой спинкой, зеркалом и полочками, а сам примостился напротив, на крепком, обитом кожей дубовом стуле. Смотрел с любопытством и весьма доброжелательно. Шульга показал свое удостоверение, но старичок, даже не взглянув на него, назвался сам: - Федор Якимович Перепелица. Бывший столяр, а теперь пенсионер. Времени у меня достаточно. Итак, слушаю вас. "Вот тебе и профессор!" - подумал Шульга. Но не разочаровался: может быть, этот непоседливый старичок любит поговорить с соседями и знает такое, о чем настоящий профессор и не догадывается. - Вот какое дело, уважаемый, - начал без церемонии Шульга, разыскиваем мы одного человека. Случилось это тринадцатого мая. В подъезде вашего дома ограблен человек. Мы задержали преступника. Теперь ищем потерпевшего? Знаем, что зовут его Семенем, лет ему около тридцати, брюнет, высокий и длинноносый, шел он к кому-то из жителей этого дома. Не к вам ли? - Сына у меня Семеном зовут, - дернул себя за бородку старичок. - Но я определенно знаю, не грабили его. Майор насторожился. - А может, он не сказал, не хотел волновать? - А я не из нервных И не таимся мы друг от друга. Я Семена на ноги поставил и в люди вывел, доцент он, работает в университете, новую квартиру получил - четыре комнаты. А мы уж со старухой доживаем свой век тут... - закончил он вдруг непоследовательно. Но, поняв, что не сказал главного, прибавил; - Я и говорю: если бы с Семеном что-нибудь случилось, я бы знал. Да и не брюнет он и не высокий. Шульга подумал: да, от старика вряд ли что-нибудь утаишь, но все же поинтересовался адресом сына - мол, для порядка надо будет поговорить... - Через две недели... - ответил старик. - Что через две недели? - не сразу понял Шульга. - А поговорить. Уехал мой Сеня с женой и тремя детьми в Крым. Пансионат у них там какой-то в Алуште. - Когда уехал? - Отпуск начался, так сразу... недели три назад... На этом Семене следовало поставить точку, и майор поинтересовался: - А больше у вас нет знакомых Семенов, которые бы могли наведаться сюда тринадцатого мая? Старичок покачал головой: - Нет. - А может, есть Семен, который тут живет или посещает кого-нибудь? Шульга спросил "тут живет" на всякий случай. Еще ночью они узнали в райотделе милиции, что в доме на центральной площади не прописано ни одного Семена. - Посещает? - Старичок потер лоб, - Многие тут ходят - дом в самом центре да и большой... Шульга побывал еще в двух квартирах последнего этажа, спустился ниже и нажал на кнопку, возле которой была табличка: "3. Баркова". Зоя Баркова была дома. Работала диспетчером в таксопарке, дежурила целые сутки и накануне поздно вернулась. Она только что проснулась и успела только умыться. - Проходите, - пригласила она, стесняясь своего утреннего вида. - Я на минутку... Минутка эта растянулась на десять, зато Зоя появилась перед майором хорошо одетая и причесанная... Даже губы подкрасила. Старалась держаться непринужденно, но это ей не удавалось, и она то и дело бросала на Шульгу тревожные взгляды: зачем заглянул сюда этот необычный гость? Майор спросил, есть ли у Зои знакомый по имени Семен? Назвал приметы. Девушка неопределенно пожала плечами, мол, кто его знает, и удивилась вслух, почему ее знакомые заинтересовали милицию. Шульге пришлось объяснить: Зоя не исключение - он будет разговаривать со всеми жителями дома. - Нет у меня таких знакомых, - ответила Зоя. - И все же подумайте. - И думать нечего. - Тринадцатого мая кого-то из жителей вашего дома имел намерение проведать Семен... Сеня... Молодой человек лет тридцати. Я уже говорил: брюнет, высокий и с длинным носом. Какая-то тень промелькнула по лицу Зои. - Сеня? - заморгала она. - Сеня... какого, вы говорите, мая? Тринадцатого? - Да, утром тринадцатого мая. - Кажется, я припоминаю... Да, конечно, это было на следующий день. Он обещал прийти в одиннадцать... - Кто? - не сдержался Шульга. - Да парень... - опустила глаза Зоя. - Накануне мы были в "Эврике" и познакомились там. - Его звали Семеном? Фамилию знаете? - Ну что вы! Представляете, как знакомятся?.. - Догадываюсь, - недовольно пробурчал майор. - И вы назначили ему свидание, дали адрес? Зоя чуть покраснела, но тут же вызывающе откинула голову: в конце концов, какое кому дело до того, где и с кем она назначает свидание. И все же начала оправдываться: - У нас была назначена деловая встреча. Он хотел приобрести дубленку, а у одной моей подруги как раз была... Майор задумался на несколько секунд. - Сколько стоит дубленка? - спросил он. - В "Эврике" шла речь о предварительной цене? - Не помню. И вообще... - Никто не собирается обвинять вас в спекулятивных намерениях, понял ее майор. - Это очень важно. Припомните, вы говорили о цене? И должен ли был этот Семен принести с собой деньги? - Если хотел приобрести дубленку, конечно, должен был принести. Кажется, говорилось о четырехстах рублях... У майора даже просветлело лицо. - Четыреста? - переспросил он. - Да. - Именно этого Семена ограбили в вашем подъезде, - сказал Шульга, понизив голос, словно делясь важной тайной. - И вы должны помочь нам найти его. - Но как? Может, я и не узнаю его, когда встречу... Вы говорите, брюнет, высокий и длинноносый?.. На самом деле не такой уж он высокий, и нос... Ну, не курносый, но и не длинный... Зоя хорошо запомнила Семена - парень понравился ей, и она была довольна, что нашелся повод для встречи. Однако Семен не пришел на следующий день. Сначала Зоя рассердилась, но в круговерти дней быстро забыла о своем новом знакомом. Думала - совсем, однако оказалось - нет: лицо его, как живое, стояло перед глазами. - Кто был вместе с вами в "Эврике"? - спросил Шульга. - Может, они знают фамилию Семена? - Подумал, что Балабан мог ошибиться, описывая внешность Семена. Балабан коротышка, и мужчина даже среднего роста мог показаться ему высоким. - Вряд ли они знают его фамилию, - ответила Зоя. - Была Клара, это моя подружка. И Кларин парень потом пришел. - Фамилия Клары? Где работает? Адреса?.. И парня... - майор приготовился записывать. - Лучше вы узнайте об этом у самой Клары. Она сейчас на работе, можно позвонить. Через час все трое - Зоя, Клара и Роберт - сидели у Козюренко. Следователь беседовал с ними прямо так, не придерживаясь формальностей, стремясь вытянуть из них как можно больше фактов и деталей. Постепенно образ Семена все больше вырисовывался в его воображении, но, к сожалению, без характерных черт: обыкновенный мужчина лет тридцати, брюнет, курит папиросы "Любительские", часто бывает в кино, любит пофлиртовать с девушками. Роберт вспомнил, что Семен начал ухаживать за Кларой и у него с новым знакомым чуть не дошло дело до конфликта. - Как же случилось, что Семен очутился с вами? - спросил Козюренко. И с кем был раньше? Или, может, только что пришел в кафе? Девушки помнили: Семен был несколько навеселе, потому что сидел уже в какой-то компании. Какой - трудно сказать: кафе модерновое, зал выгибается полукругом, а Семенова компания расположилась в противоположном конце когда-то там был бар и продавали коктейли... - Когда Семен уже сидел с вами, никто не подходил к нему? поинтересовался Шульга. - Нет, но во время танцев с кем-то разговаривал, - вспомнила Зоя. Обычные реплики: у вас хорошо получается, мой любимый танец... - Постойте, - вдруг радостно воскликнул Роберт. - Кажется... Нет, точно, я вспомнил... Он сказал, что работает рядом, в Доме проектов... Еще говорил, - посмотрел на Клару: как среагирует? - что у них там много красивых девушек. Я хотел заметить: чего же тогда к чужим пристаешь? Это уже было немало: Дом проектов - и в нем работает Семен. Возможно, занимается самбо. Даже известна его внешность, возраст... Круг поисков сразу сузился, и Козюренко, отпустив молодых людей, возбужденно заходил по кабинету. Майор думал, что они вдвоем тут же поедут в Дом проектов, но Козюренко решил несколько неожиданно. - Придется вам съездить одному, - то ли приказал, то ли попросил. Поговорите с заведующим кадрами, посмотрите личные дела, фотографии... И подготовьте для опознания. А я хочу еще раз проверить круг знакомств профессора. Судя по рассказам, этот Семен совсем не разбирается в искусстве, а ограбил профессора квалифицированно. Знал, какие иконы снимать со стены... Вероятно, кто-то руководил им... Лейтенант Пугач обнаружил в спортивных обществах только двух Семенов, занимающихся самбо. Но они сразу доказали свое алиби: один, Семен Новожилов, тринадцатого мая был на соревнованиях в Ворошиловграде, второй, Семен Степанов, весь день был на работе. Фотографии этих Семенов показали среди других Балабану, а также Зое, Кларе и Роберту - никто не опознал их. Второй день Шульга просматривал личные дела в Доме проектов, отбирая материалы обо всех Семенах. И не только Семенах. Сеней могли звать также Симона, Овсея, Северина, Спиридона, Сильвестра, Софрона. Майор составил себе целый список таких имен. Шутил, что скоро станет семеноведом и что Семены будут сниться ему. Вглядываясь в наспех сделанные снимки, майор пытался угадать характеры тех, кто был на них, прикидывал, совпадает ли их внешность с портретом преступника, нарисованным Балабаном, Зоей, Кларой и Робертом. Наконец на столе перед ним выросла стопка личных дел, и Шульга вызвал машину. Отнес папки в "Волгу" и поехал в управление. Начинался ответственнейший момент следствия - опознание преступника. Трое молодых людей - Зоя, Клара и Роберт - сидели в кабинете Козюренко. Шульга показывал им фотографии Семенов. Они внимательно разглядывали каждую. Пока что все шло гладко, споров между свидетелями не возникало. Никто из изображенных на фотографиях не был похож на парня, с которым все трое познакомились в кафе. Зоя задумала: если она первой узнает Семена - судьба улыбнется ей. Невезучий парень: ограбили, отняли столько денег, а он даже не пожаловался. Должно быть, не такой скупой, как другие. Она не любила скряг, ей нравились щедрые и компанейские люди. Всматриваясь в каждый новый снимок, украдкой вздыхала - снова не он... А стопка папок на столе постепенно уменьшалась, осталось уже совсем немного. Когда осталось только две, Зоя знала: вот эта предпоследняя. И снова не он... Итак, последняя. Это не понравилось ей. Такая гора - и почему-то последняя. А может, работники милиции умышленно оставили ее напоследок? Может, они уже давно нашли Семена и только проверяют правильность своих выводов? На последней фотографии был изображен черноволосый парень с мягкими чертами лица. Зоя даже потянулась к снимку, и майор с надеждой взглянул на нее: неужели и правда такая ирония судьбы - Семен Ярощук, личное дело которого он отложил первым и которое именно поэтому очутилось внизу, и есть преступник! Но Зоя покачала головой и вынесла окончательный приговор: - Нет, не он... Когда свидетели ушли, Шульга выразил удивление: - Я учитывал даже то, что этот Семен мог уволиться с работы, и взял дела всех, кто работал там в мае. Или эти трое ошибаются, или... Мог же этот Сеня просто пристать к компании работников Дома проектов и солгать о месте работы... - Мог, - подтвердил Козюренко. - Но наше расследование только начинается. Сейчас покажем фото Балабану - может, он опознает? Балабан, внимательно рассмотрев фотографии, заявил, что Семена, отобравшего у него пистолет, здесь нет. Когда его вывели, Шульга задумчиво сказал: - Я понимаю свое задание так: найти в Доме проектов людей, которые провели вечер двенадцатого мая в "Эврике", и расспросить у них о Семене. - Точнее трудно сформулировать, - похвалил Козюренко. - Начинайте завтра с утра, а я займусь еще одним человеком - искусствоведом Иваницким. Был у профессора с группой туристов незадолго до убийства. Поговорю с ним, а потом приеду к вам в Дом проектов. Омельян Иваницкий рассказывал экскурсантам о Ренессансе в искусстве. Роман Панасович стоял в толпе посетителей и внимательно слушал, пытаясь поймать взгляд экскурсовода. И не мог. Глаза Иваницкого перебегали по лицам слушателей, не останавливаясь надолго ни на одном. Все лица для него сливались в одно, абстрактное, без выражения и эмоций, и он говорил ровно, законченными, округлыми фразами: давно знал, где следует чуть помолчать, на каком слове сделать ударение, а где - эффектный жест. Он не спеша переходил от картины к картине, и экскурсанты толпились за ним. Иногда это внимание толпы возвышало его в собственных глазах... Тогда он сам казался себе значительно умнее и талантливее. Он начинал говорить с пафосом, не понимая, что становится в такие моменты смешным. Но сегодня Омельян Иваницкий не ощущал того подъема духа, что делал из него оратора. Он просто был на службе с ее размеренным ритмом, скукой и будничностью. Ему так хотелось послать ко всем чертям свою должность в музее и наслаждаться бездумной и легкой жизнью. Ведь давно мог это себе позволить. Но для вида ему, конечно, придется работать еще долгие годы. С нетерпением ждал отпуска. Вот тогда он наверстает упущенное - потешится на черноморском курорте всласть... Экскурсанты остановились у картины известного художника. Иваницкий рассказывал что-то казенно-холодное. Козюренко потихоньку протиснулся поближе к нему, стал в первом ряду слушателей. Наконец ему удалось заглянуть в глаза экскурсовода, но тот быстро отвел взгляд, и все же это секундное скрещение взглядов вывело Иваницкого из равновесия - посмотрел на Козюренко внимательнее. Теперь следователь не сводил с экскурсовода глаз. Иваницкий заметил это и забеспокоился, стараясь не смотреть на Козюренко, но непроизвольно поглядывал украдкой. В конце концов, то ли эта незаметная для других игра встревожила Иваницкого, то ли между ним и посетителем с настойчивым взглядом установился какой-то контакт, то ли просто он пересилил себя, но обращался только к Козюренко. Они стояли у портрета старого седобородого человека с тяжелыми, мертвыми глазами. Иваницкий, рассказывая о мастерстве художника, спросил: - Ну, что вы можете сказать об этом человеке, жизнь которого уже кончается? Вот вы, товарищ? - злорадно посмотрел на Козюренко. Хотел отплатить незнакомцу за наглые взгляды, поставить его на место. На секунду-другую воцарилось молчание. Экскурсанты с любопытством воззрелись на Козюренко. А тот, не ожидая такого выпада, немного растерялся. Но конечно, следователь подсознательно был готов к любому вопросу. Неторопливо ответил: - Я вижу в его глазах страх смерти. Жизнь этого человека была тяжкой и греховной, и теперь он не то что раскаивается и сожалеет о сделанном, а боится расплаты. Этот человек уже мертв, ибо страх убил в нем человека... - Субъективное толкование, весьма субъективное, - попробовал улыбнуться Иваницкий. - Но в основном вы правильно поняли художника... Экскурсовод продолжал свой рассказ, а Козюренко думал, что, вероятно, он ошибся, потому что, кроме равнодушия, в глазах Иваницкого он ничего не заметил... Козюренко отстал от группы и зашел к директору музея. Он попросил припомнить все обстоятельства, связанные с посещением американскими туристами квартиры профессора Стаха, пояснив, что это имеет важное значение для расследования убийства. - Надеюсь, - директор поднял на лоб выпуклые очки, посмотрел доброжелательно-грустным взглядом близорукого человека, - вы не подозреваете в этом злодеянии наших искусствоведов? Ибо там, я слышал, было применено оружие, а оружие и искусство несовместимы. - Мы никого не подозреваем, - сухо перебил его Козюренко, - а выясняем факты, и ни одна мелочь не должна пройти мимо нашего внимания. Директор сдвинул очки на нос, смотрел теперь из-под стекол по-птичьи пристально. Пояснил, что среди американцев был один достаточно известный коллекционер. Он, бесспорно, не мог не слышать о собрании профессора Стаха, и поэтому его просьба о возможности ознакомления с этой коллекцией не вызвала ни у кого возражения, наоборот, администрация музея отнеслась к нему с пониманием, связалась с профессором, и тот разрешил осмотреть свою коллекцию икон. Кстати, обо всем этом он, директор, уже рассказал работнику милиции, и ему странно, что следователь снова затронул этот вопрос. - К сожалению, приходится! - сказал Козюренко, и директор понял, что отказываться тщетно. - Спрашивайте! - согласился он. Снял очки и начал протирать их белоснежным платком. - Кто из экскурсоводов сопровождал американских туристов в музее? - Омельян Иванович Иваницкий, наш научный сотрудник. Он хорошо знает свое дело и свободно владеет английским. Иваницкий, как правило, работает у нас с иностранцами. - Именно Иваницкий и передал вам просьбу американцев ознакомиться с коллекцией Стаха? - Нет, он был только переводчиком. Ко мне лично обратился мистер Берри - коллекционер, о котором я вам говорил. - И Иваницкий договаривался с профессором? - Нет, я звонил ему сам. - Но сопровождал иностранцев Иваницкий? - Да, я поручил ему это. Козюренко немного помолчал. Наконец спросил о главном: - Не помните, Омельян Иванович был на работе двадцать четвертого июля? С утра между десятью и двенадцатью часами? Директор укоризненно посмотрел на следователя: - Он не мог быть в этот день на работе, так как находился в командировке в Москве. С двадцатого по двадцать седьмое июля включительно. И вернулся, как и полагалось! Эти слова - "как и полагалось" - будто ставили точку на вопросах следователя. Козюренко понимал это, но он знал чуть больше, чем директор музея, - ведь алиби Иваницкого, хотя само по себе действительно много значило, все же не ставило окончательно точку на его непричастности к убийству профессора. - Чем была вызвана необходимость командировки? - спросил Козюренко. - Мы планируем организовать выставку мастеров портрета. Должны были договориться с администрацией нескольких московских музеев. Я сам предложил товарищу Иваницкому поехать в командировку. Говоря это, директор не кривил душой: он не знал, что Омельян Иванович перед этим звонил знакомому московскому искусствоведу. Они поговорили несколько минут, Омельян намекнул, что хотел бы побывать в Москве, провести вечер где-нибудь в "Метрополе". Знакомый обещал позвонить начальству Омельяна, организовать командировку и сдержал свое слово. Все факты, сообщенные директором, свидетельствовали в пользу Иваницкого, и все же Козюренко попросил директора устроить ему встречу с глазу на глаз с Омельяном Ивановичем. Тот предложил ему свой кабинет. Омельян Иванович вошел в кабинет через несколько минут. Очевидно, шеф сказал ему о том, кто именно хочет поговорить с ним, и Иваницкий приготовился к встрече, но все же не ожидал увидеть здесь своего экскурсанта - растерянно остановился на пороге. Козюренко молча смотрел на Иваницкого, умышленно не говоря ни слова. Это было невежливо, но очень необходимо. И Иваницкий сразу понял всю неопределенность своего положения: переступил порог, доброжелательно улыбнулся и приветливо сказал: - Вы?.. Вот не думал... Мне говорят - из прокуратуры, а это - вы... Хотя, - улыбнулся еще приветливее, - почему прокуратура не может поинтересоваться искусством? А вы еще так красиво сказали о портрете Ганса Гольбейна Младшего! Он непринужденно произнес слова и улыбнулся почти развязно, однако в его глазах Козюренко заметил глубоко спрятанный страх. Это придавало лицу Иваницкого странное выражение - он как бы надел маску клоуна, который должен веселить публику в минуты своего душевного смятения. - Мы не хотели вызывать вас к себе. Это прозвучало бы как-то официально, - начал Козюренко. - Собственно, вы не можете быть даже свидетелем по этому делу, но все же нам интересно знать ваше мнение, вот я и осмелился побеспокоить вас... - Прошу! - бодро воскликнул Иваницкий, и искра удовлетворения мелькнула в его глазах. - Чем могу быть полезен? - Речь идет об ограблении коллекции профессора Стаха... - Мне говорили, что его убили... - Иваницкий сокрушенно склонил голову. - Такой человек, и у кого-то поднялась рука! Но, - он бросил взгляд на следователя, - какое я имею отношение?.. - Конечно, к убийству - никакого... - ответил Козюренко. - Нас интересует ваше мнение как специалиста. Незадолго до убийства вы были в доме профессора, и Василь Федотович показывал вам свою коллекцию... - Не мне, - счел нужным уточнить Иваницкий. - Я был гидом-переводчиком, если хотите, но профессор чудесно владеет... простите, владел английским, и мои функции свелись фактически к наблюдению. - Как вы лично оцениваете коллекцию профессора Стаха - Козюренко решил выглядеть этаким простачком. - Недавно в какой-то газете я читал о любителях-коллекционерах икон, и точка зрения автора статьи... - Я читал эту статью, - перебил Иваницкий, - автор, безусловно, прав. Но коллекция Стаха - не дилетантское собрание мазни посредственных иконописцев, у него в собрании есть даже Рублев! - Это икона, которая висела в центре коллекции? -Неужели ее украли? - К сожалению. И мы разыскиваем ее. - Найдете! - категорично заявил Иваницкий. - У нас продать Рублева невозможно. - Я тоже придерживаюсь такого мнения. Однако, как вы считаете, эти иностранцы, что были с вами, не могли?.. Козюренко не договорил, но все и так было понятно. Выжидательно смотрел на Иваницкого. - Исключено! - уверенно ответил Омельян Иванович. - Американцы, которых я водил к профессору, уехали из Советского Союза через три дня. - Справедливо. Но вы не ответили на вопрос: икона Рублева висела в центре коллекции? - Какое это имеет значение? Ведь уже не висит. - И все же? Иваницкий немного подумал. - В центре, третий ряд снизу... Нет, простите, второй. - А слева от Рублева? - Кажется, какой-то старообрядческий образ. Да, он. Профессор говорил, времен патриарха Никона. - Коллекция ограблена квалифицированно, - заметил Козюренко. Украдены ценнейшие иконы. Иваницкий чуть покраснел. - Думаете, - спросил он, - не обошлись без профессиональной помощи? - Уверен. Я и пришел к вам, чтобы выяснить некоторые вопросы. Вот вы, например, человек, прекрасно разбирающийся в живописи, смогли бы в течение нескольких минут отличить шедевры от ординарных полотен? Иваницкий как-то растерянно улыбнулся: кажется, этот следователь начинает прижимать его к стенке. Ответил неопределенно: - Все зависит от обстоятельств... профессиональных способностей, если хотите... - Немного поколебался и уверенно прибавил: - Думаю, что отличил бы подлинное искусство от подделки. Козюренко кивнул. Это и волновало его: грабитель забрал лучшие экземпляры коллекции и еще две иконы, имевшие только относительную художественную ценность. А может, он сделал это, чтобы сбить с толку следствие - точно рассчитанный и дальновидный ход?.. Все может быть, но пока что все факты за Иваницкого. У Козюренко ничего нет к нему, кроме неприязни, а неприязнь противопоказана следователю. Роман Панасович встал. - Я благодарен вам, - сказал он, - и просил бы об одном: если вы услышите что-нибудь об украденных из коллекции профессора Стаха иконах, проинформируйте нас. Преступники попытаются продать иконы, возможно, обратятся за консультацией к искусствоведам. - Не думаю, - Иваницкий ответил ослепительной улыбкой. - Но, конечно, в случае чего сочту своим долгом... В здании, которое в городе привыкли называть Домом проектов, размещались не только проектные организации. Несколько этажей правого крыла было отведено, например, управлению местной промышленности. Однако преобладали в доме все-таки различные научные и научно-исследовательские организации, связанные с проектированием всего, что можно проектировать, начиная с городов и кончая какими-то геологическими работами. Козюренко постоял немного у главного подъезда, читая вывески: "Государственный институт инженерно-технических изысканий". "Научно-исследовательский институт планирования и нормативов". "Производственно-полиграфическое предприятие "Патент". "Гипропром". Он поднялся на предпоследний этаж. Длинный коридор был заставлен щитами с разной наглядной агитацией. На одном из них висела старая, еще первомайская, стенгазета. Козюренко взглянул на статьи об успехах коллектива и направился к завхозу, отрекомендовался инспектором противопожарной охраны и долго и нудно отчитывал завхоза за то, что в коридоре нет ни одной таблички с призывом звонить по "01" в случае пожара. Завхоз пообещал заказать даже несколько таких табличек, лишь бы только избавиться от занудливого пожарника. Но, видно, не так легко было от него отделаться. Инспектор принялся рассказывать о разных случаях пожаров, сказал, между прочим, и о том, что в молодежном кафе задержали нескольких хулиганов. Завхоз, любивший от нечего делать поболтать, оживился. Он похвалил решительные действия оперативных работников и начал сетовать, что молодежь теперь не та: ведет себя развязно, не хочет признавать авторитетов и не слушает старших. Козюренко понял, что завхоз, так сказать, созрел для серьезного разговора, и пожаловался на компанию молодых людей, пьянствовавших в середине мая рядом, в кафе "Эврика". Мол, пренебрегая всеми правилами противопожарной безопасности, подожгли на столе спирт и чуть не устроили пожар. Поговаривают, что компания была именно из этого НИИ. Не может ли завхоз узнать, кто был в "Эврике" двенадцатого мая? Если посчастливится выяснить, пусть позвонит ему, и они выпустят в институте листок, в котором осудят этих молодчиков... Козюренко поднялся на этаж выше, тут тоже прошелся вдоль плакатов и лозунгов на щитах, заглянул в какую-то заставленную письменными столами комнату, но, увидев вопросительные взгляды сотрудников, не вошел. В конце коридора сладко пахло табачным дымом. Возле дверей в туалеты большая табличка уведомляла, что тут можно курить. Козюренко вынул сигарету и присоединился к компании мужчин, оживленно беседовавших в углу. Никто не обратил на него внимания, видимо, разговор интересовал всех. Только совсем еще молодой парень в канареечной тенниске смерил Романа Панасовича отсутствующим взглядом, но сразу же и отвел глаза, бросив какую-то реплику высокому черноволосому мужчине. Тот страстно говорил, забыв о сигарете, почти обжигавшей ему пальцы: - Этот комплекс не имеет никакого ни архитектурного, ни исторического значения, - услышал Козюренко, - его надо снести, поставив вместо этих, я бы сказал, ужасных сооружений светлые здания из стекла и бетона. Представляете себе: над рекой высятся стекло и бетон и солнце отражается в окнах! - Ну-у! - осуждающе прогудел басом приземистый толстяк. Он нервно швырнул не докуренную и до половины сигарету. - Тебе бы дать волю, ты бы и на месте Московского Кремля поставил сооружения из стекла и бетона! А то, что Кремль - гордость народа и символ его стойкости, на это тебе наплевать! - Э-э, нет... Ты не равняй Кремль с нашими башнями. Когда их возводили? Не больше, как два столетия назад... - Сейчас мы раскапываем древние срубы. Этими строениями своего времени никто не гордился. Люди просто жили в них. А теперь они бесценные, и ученые считают эту находку уникальной. - Ну так что? - А то, что через тысячу лет эта круглая башня станет таким же уникальным сооружением. А для коробок из бетона и стекла найдется другое место... Толстяк посмотрел на часы, заспешил: - Заговорился я с вами, а у меня работа горит... Высокий осуждающе посмотрел ему вслед. Пренебрежительно сказал: - Пупом земли себя считает. Сделали тебя завотделом, ну и сиди, руководи потихоньку... - Он ушел за толстяком, что-то бурча под нос. Козюренко остался с юношей в канареечной тенниске. Тот уже докуривал, делая последние торопливые затяжки. Следователь хотел завязать с ним разговор, но вдруг его взгляд зафиксировал что-то важное. На мгновение вспомнил коттедж профессора Стаха: узкую деревянную лестницу и пятно от папиросы, раздавленной прямо на ступеньке. То же самое было и в квартире Недбайло. И тут, на подоконнике, следы от погашенных папирос, черные следы на белой масляной краске... А в углу урна, в которую все бросают окури. Парень тоже бросил туда окурок и пошел. - Постойте, - остановил его Козюренко, - минуточку... Тот обернулся, выжидательно глядя. Козюренко указал на следы от окурков. - Как-то некрасиво получается, - сказал сурово. - Культурные люди, да и урна поставлена, а непорядок! Так и пожар можно устроить... - У нас такой привычки нет, - начал оправдываться парень. - Как нет! - изумленно воскликнул Козюренко. - Следы есть, а привычки нет. - А-а... - поморщился парень. - За всеми не уследишь. Разные люди тут... - И все же, не знаете, кто имеет привычку гасить папиросы именно так? - настаивал Козюренко. - А кто ж его знает?.. - Юноша ушел. Козюренко зашел в местком института. Отрекомендовался председателю, рассказал, какое у него дело, и попросил немедленно созвать дружинников. Те собрались в комнате месткома минут через пятнадцать, с любопытством поглядывая на незнакомца в сером костюме. - Мы разыскиваем опасного преступника, - сказал Козюренко. - Знаем, что зовут его Семеном, он курит папиросы "Любительские" и имеет скверную привычку тушить окурки обо все, что под руку подвернется. Мужчина лет под тридцать, может, моложе, черноволосый, высокий. Не исключено, что занимается самбо. Вот, вероятно, и все, что мы знаем. А у вас в конце коридора, где курят, на подоконнике следы от потушенных папирос... В комнате воцарилась тишина. Козюренко испытующе вглядывался в лица присутствующих. - Семен? - наконец переспросил один дружинник. - Кажется, есть такой Сеня... - Кого имеешь в виду, - вмешался его сосед, - этого пижона? - Правда, кого? - спросил Козюренко. - Семена, который курит "Любительские"? - "Любительские", - сказал дружинник. - Точно. "Любительские". Другой парень оживился: - Так это же наш тренер! - воскликнул он. - Какой тренер? - забеспокоился председатель месткома. - Климунда, кто же еще. - Наш тренер по настольному теннису, - пояснил председатель. - Из "Авангарда". - Климунда? - переспросил Козюренко. - Семен Климунда? Брюнет, высокий? - Да, - подтвердил первый дружинник, - все сходится. - Когда он был тут в последний раз? - Недавно. - Но сейчас в отпуске, - пояснил председатель. - Прошу держать наш разговор в секрете, - попросил Козюренко. - Сами понимаете почему. И благодарю вас за ценное сообщение. Дружинники разошлись, а Козюренко еще раз осмотрел следы на подоконнике. Они хорошо сохранились. Надо немедленно вызвать экспертов. Итак, Климунда, Семен Климунда... Может, он, а может, и не он... По крайней мере они установят это уже сегодня... Следователь зашел в приемную и позвонил в отдел кадров управления местной промышленности, где был Шульга. Майор взял трубку почти сразу, будто ждал звонка. - Иду, - ответил он, выслушав короткий приказ Козюренко, - уже спускаюсь... Они вместе поехали в общество "Авангард", и через несколько минут Козюренко держал в руках папку с делом Климунды. - Климунда Спиридон Иванович... - прочитал громко и поднял глаза на Шульгу... - Видите, его зовут не Семеном! - Молодежь... - заискивающе сказал заведующий отделом кадров. - Имя, мол, у него несовременное... Хе... Хе... Взял и перекрестился на Сеню... - Нам сказали, что он в отпуске? - спросил Козюренко. - Да, отдыхает. - И где? - Говорил, что собирается на Черное море. Минутку, надо спросить Таню. Кажется, получила от него открытку... - Давайте сюда вашу Таню! - оживился Козюренко. Таня Войнарук удивилась, когда ее начали расспрашивать о Климунде. Кому какое дело, с кем она переписывается? Покраснела, и Козюренко понял, что Климунда ей не безразличен. Он объяснил девушке, что Семена Климунду спешно разыскивает какой-то родственник. Таню это удовлетворило, и она принесла открытку, полученную от Спиридона: высотные дома на фоне синего моря и реликтовые пицундские сосны... Климунда сообщал, что отдыхает хорошо и собирается пробыть в Пицунде до начала сентября. А еще через час Балабан, перед которым разложили десяток фотографий разных мужчин уверенно ткнул пальцем в карточку, на которой был Климунда. Узнали его также Зоя, Клара и Роберт. У Зои даже просветлело лицо. - Адрес его... Можно адрес? - спросила она нерешительно. Козюренко только переглянулся с Шульгой. - Сами еще не знаем, - ответил он. - Но скоро узнаем. Непременно. Когда свидетелей отпустили, Козюренко позвонил и попросил заказать два билета на самолет до Адлера. - На завтра, на утренний, - приказал он. - Обязательно на утренний, ибо дело срочное! В Адлере Козюренко и Шульгу встретил капитан Саная. Они сразу двинулись в Пицунду. - Райский уголок, - сказал, широко улыбаясь, Саная, будто сам был причастен к его созданию. - В Пицунде нет гагринской влажности. Там тучи лежат в горах прямо над городом, а тут, смотрите, простор! Действительно, мыс вдавался глубоко в море, горы отступили, надвигаясь на берег небольшими холмами, только с противоположной, гудаутской стороны залива. С моря веяло прохладой. Козюренко и Шульге захотелось искупаться. Они с завистью смотрели на тех, что плескались в море. Но должны были сразу же приступить к работе. Козюренко провел небольшое совещание с работниками пицундской милиции, они получили фотографии Спиридона Климунды и приказ немедленно задержать преступника. На то, что Климунда прописался, было мало надежды, и действительно, паспортный отдел сообщил, что такой фамилии в их списках нет. Участковые инспекторы и несколько оперативных работников уже начали незаметно "прочесывать" курортников в селах Алахадзе и Лидзава. - И все-таки быть около моря и не искупаться - грех! - поддался искушению Козюренко - Даже исполняя служебные обязанности! Они долго плавали в теплом и удивительно прозрачном море. Потом обедали - милицейская машина повезла их на птицефабрику, где в рабочей столовой делали таких цыплят табака, каких, по мнению начальника райотдела милиции, не съесть нигде, даже в лучших тбилисских ресторанах. Цыплята и правда были вкусные, и к ним пошла бутылка "Гурджаани". - Хорошая работа, - заметил Козюренко. - Едим райскую птицу и пьем чудесное вино. Ну что ж, и работникам милиции выпадают светлые дни... Вечером они навестили бар на верхнем этаже комфортабельного четырнадцатиэтажного пансионата. Тут было весело и шумно. Это настроение передалось и работникам милиции. Козюренко даже пригласил потанцевать молодую женщину, сидевшую за соседним столом. А в полночь он уже слушал донесения оперативных работников милиции и давал им задания на завтра. К сожалению, ничего радостного Козюренко не услышал - на след Климунды пока что никто не напал. - Ну, хорошо, - резюмировал следователь. - Должен же он есть и пить, как думаете? - Еще бы! - поддержал его Шульга. - Утром следует взять под контроль все рестораны, столовые, шашлычные, кафе. Также базары. Я уж не говорю о магазинах и киосках... - Может столоваться у хозяйки, - вставил кто-то. - Не исключено. Но ведь днем должен появиться на пляже. - Шульга вспомнил вчерашние слова Козюренко и добавил: - Быть у моря и не искупаться - грех. Правда, Роман Панасович? Козюренко едва заметно подмигнул ему. На ночлег их устроили в доме одного из работников милиции недалеко от древнего храма. Козюренко попросил постелить на открытой веранде, - долго не мог заснуть, слушал шум ветра в верхушках сосен, смотрел на звездное небо и вдруг увидел движущуюся звездочку. Обрадовался, как мальчишка, ведь раньше никогда не видел спутников. Хотел показать майору, но Шульга прозаично храпел, свесив с постели голую ногу. Спал Козюренко мало и встал очень рано. Собрался тихонько, чтобы не разбудить Шульгу, и пошел купаться. Заплыл далеко и долго лежал, раскинув руки, наблюдая, как из-за деревьев поднимается солнце. Шульга ждал его чисто выбритый, и Козюренко заторопился. Хозяйка принесла на завтрак огромную сковороду яичницы, зажаренной на сале. Они ели ее с помидорами, приправляя аджикой, от которой жгло в горле. Когда Козюренко и Шульга вышли из дому, на центральной улице поселка было уже многолюдно. Они смешались с красочной толпой отдыхающих, спешивших на пляж. Вдруг следователь замедлил шаги и спрятался за спину Шульги. Майор удивленно обернулся. Но Козюренко легонько подтолкнул его: мол, не оглядывайся. - Видите, вон там, впереди... низенький такой, в цветастой рубашке с чемоданом? Это сам Омельян Иванович Иваницкий. Я говорил вам о нем... Думаю, приехал он сюда не зря. Я сейчас отстану, а вы займитесь им, не спускайте с него глаз. Я пришлю помощь... Козюренко направился в комнату милиции, а Шульга обогнал Иваницкого, только разок посмотрел цепким взглядом, словно сфотографировал, и сразу отстал. Иваницкий свернул к почте и стал в очередь у окошечка, где выдавали корреспонденцию до востребования. Шульга сделал вид, что пишет письмо. Иваницкий должен был ждать минут десять, и майор, чтобы не терять времени, и правда принялся писать письмо жене. Представил, как она обрадуется, неожиданно получив открытку с роскошным видом Пицунды. Писал, время от времени поглядывая на Иваницкого - не разговаривает ли с кем-нибудь... Вскоре на почте появился капитан Саная. Он сел на свободный стул рядом. Санаю звали Капитоном. Это звучало несколько забавно - капитан Капитон. И было предметом шуток в милицейской среде. Но Саная - веселый и доброжелательный человек - в ответ вполне серьезно заявлял, что ему очень повезло: скоро начальство поймет всю нелепость ситуации и присвоит ему звание майора. Саная нагнулся к Шульге, и тот глазами показал ему на Иваницкого. Капитан сообщил, что на улице на всякий случай стоит оперативная машина новенькая белая "Волга" с мощным форсированным мотором, от нее не сбежать самому виртуозному водителю. Саная занял удобную позицию возле двери. Шульга дописал письмо и бросил его в ящик, когда наконец Иваницкий подал в окошечко свой документ. Девушка быстро перебрала толстую пачку корреспонденции и проворно вытащила из нее письмо. Иваницкий разорвал конверт, пробежал глазами написанное. Вышел на улицу, купил несколько газет и сел на скамейку возле киоска с сувенирами. Он читал, а Козюренко, сидевший в другой оперативной машине, мог спокойно следить за ним. Из-за угла вынырнула светлая машина с шашечками. Она затормозила напротив киоска. Какой-то молодой мужчина с бородкой выглянул из окна, махнул рукой, и Иваницкий сразу же встал... Полковник удобнее уселся в кресле. Итак, Климунда отрастил бородку, а борода и черные очки неузнаваемо меняют человека, Не потому ли они так долго разыскивают Климунду? А может, он бывает в Пицунде только наездами, как вот сейчас? Тем временем Иваницкий сел в машину. Сели в белую новенькую "Волгу" и Шульга с Санаей. Козюренко нагнулся к микрофону и спросил: - Это Климунда, майор? Я отсюда не рассмотрел... - Он, Роман Панасович. Что прикажете? - Надо проследить, что будут делать?.. Если брать сейчас, можем потерять иконы, понятно? - Понятно! - Ни пуха ни пера... Такси с Иваницким и Климундой свернуло на дорогу, ведущую в глубину мыса, в село Лидзава. Таксист был опытен и знал цену времени, мчался быстро, не обращая внимания на знаки. - Вот сукин сын, - только ахал Саная, - сегодня же позвоню в автоинспекцию, лихач паршивый! - Все они из одного теста сделаны... - спокойно резюмировал Шульга. Таксист - всегда таксист! - Я ему покажу - всегда таксист! - произнес Саная так, что майор понял - покажет!.. Они шли следом за таксистом на некотором расстоянии, иногда отставая для приличия, как выразился их водитель, хорошо разбиравшийся в правилах игры, - преследовал уже не одного преступника. Проскочили по узким улицам селения и выехали на прямую, ведущую к рыбозаводу. - Куда же это они? - удивлялся Саная. - Дальше горы, ну, студенческие лагеря в ущельях, больше некуда... На площади перед рыбозаводом прилепилось несколько домиков: столовая, магазин, рядом небольшой базарчик. Тут же автобусная остановка. Таксист остановился у базарчика в тени огромного инжира. Сначала вылез Иваницкий, за ним - Климунда. Клац... клац... - сфотографировал этот торжественный момент Саная. Он уже вышел из машины и толкался возле рядов с помидорами, грушами и сливами. Весело торговался и буквально наступал на пятки Климунде и Иваницкому. Омельян купил слив, завернул в газету и положил в дипломат. Климунда дал ему какую-то бумажку. Они перебросились несколькими словами, и Спиридон сел в такси, а Иваницкий пошел в село. Саная вскочил в "Волгу" и доложил Козюренко по рации: - Климунда что-то передал Иваницкому... Не успел рассмотреть, какую-то бумажку. - Вас понял. Преследуйте Климунду. Не спешите брать. Установите, где живет. Возможно, прячет иконы на квартире. Сейчас подключим к преследованию еще одну машину. Не мозольте глаза Климунде: меняйтесь... Иваницкого беру на себя. - Козюренко помолчал и попросил совсем другим тоном: - Помните, Яков Павлович, этот мерзавец может быть вооружен... - В курсе... - уверенно ответил Шульга. - Счастливо вам! - Теперь не упустим! - весело засмеялся Козюренко. Таксист, пугая полудиких свиней, промчался по длиннющей улице села Алахадзе и свернул по направлению к Гудауте. - Гудаута, Новый Афон, Сухуми... - начал перечислять Саная. - А может, он остановится в Эшере? - толкнул Шульгу локтем. - Ты был когда-нибудь в Эшере? - Где уж нам! - О-о, ты не знаешь Эшеры! - оживился Саная, - Я тебя, миленький, приглашаю. Поймаем этого негодяя и отпразднуем. Понимаешь, ресторан прямо под открытым небом в ущелье. Форель тут плавает, лови и жарь, под белое вино - лучше не придумаешь... - Форели я еще не ел, - признался Шульга. - Завтра - в Эшеру! - категорично произнес Саная. - Вот скоро будем проезжать мимо, увидишь. Но его предвидению не суждено было сбыться. Вскоре за развилкой дорог, одна из которых шла на озеро Рица, таксист взял вправо - тут начиналась извилистая горная дорога, ведущая на Золотой берег... - И зачем он попер сюда? - удивился Саная. - Если на Золотой берег, лучше ехать дальше по шоссе, потом - направо. Здесь же не дорога, а сплошные повороты... Они пропустили впереди себя другую оперативную машину и отстали на полкилометра, чтобы не вызвать подозрения у Климунды. Минули поворот к Мюсерскому ущелью, поднялись еще выше в горы и вдруг выскочили на открытое место. Казалось, шоссе обрывается прямо в море, безграничное сине-золотистое море. А сбоку на крутых зеленых склонах прилепились домики, чуть дальше сползавшие к морю, стоявшие в зелени садов у самого берега глубокой бухты. Это и был Золотой берег... Климунда вышел из такси на краю села. Оперативная машина проехала еще метров сто и свернула на крутую боковую улочку. А в село уже въезжала белая "Волга". Шульга видел, как Климунда толкнул ногой калитку усадьбы у самого берега. Майор остановился за деревьями и ждал, что будет дальше. Климунда, взяв на веранде полотенце, начал спускаться по выдолбленным в земле ступенькам к морю. На пляже стояла маленькая палатка, рядом, в саду, - большая, оранжевая. Людей было немного. Надо было действовать немедленно. Майор сделал знак оперативникам, приехавшим в "Волге", обыскать комнату, а сам с Санаей и еще с одним милиционером спустился вслед за Климундой. Тот уже был в море. Плавал далеко, рассекая воду, как дельфин. К берегу возвращался медленно, наслаждаясь водой и солнцем. Вылез, снял купальную шапочку, растерся пушистым полотенцем. Два грузина, а с ними еще один, в дешевенькой полосатой рубашке, шли по пляжу у самой кромки прибоя. Они оживленно разговаривали о чем-то, и Климунда уступил дорогу. Вдруг почувствовал, что его схватили за руки. Еще ничего не понимая, рванулся, но эти двое держали крепко. - Спокойно, - произнес ровным тоном Шульга, - спокойно, Спиридон Климунда, без эксцессов. Твоя песенка уже спета. Преступника, голого, в мокрых плавках, повели к милицейской машине. ...Иваницкий съел дешевенький обед в рабочей столовой, сел в автобус, который шел в Гагру. Спустился по лестнице у вокзала и направился в камеру хранения. Получил огромный чемодан, должно быть тяжелый, потому что вызвал носильщика. Тот погрузил чемодан на тележку и покатил к выходу. Иваницкий двинулся за ним. - Минуточку, Омельян Иванович! - неожиданно прозвучало у него за спиной. Оглянулся и, увидев Козюренко, побелел как полотно, непроизвольно прижав дипломат к груди. Но тут же овладел собой, заставил себя даже улыбнуться. - Добрый день, - ответил он. - Вот так встреча! Отдыхать приехали? - Не совсем... - Козюренко дал знак оперативнику, и тот задержал носильщика. - Чемодан ваш, Омельян Иванович? Иваницкий уже все понял. - Нет, не мой... - пробормотал он, охваченный ужасом. - Это меня попросили... Он не знал, что сказать, а следователь насмешливо смотрел на него. Протянул руку. - Ключи, - приказал он, - ключи, которые вы взяли у Климунды. - Я не знаю никакого Климунды! - закричал Иваницкий. - Не надо шуметь, Омельян Иванович! - жестко сказал Козюренко. Сделал знак оперативнику, тот взял Иваницкого за локоть. - Идемте! - приказал он. - Но ведь... - запнулся Иваницкий. - Вот ключи, прошу вас. Я только обещал продать иконы... Да, только продать, а это не преступление... - Хватит, Иваницкий, вы же умный человек и, надеюсь, поняли все. Козюренко двинулся к выходу. Иваницкий, опустив голову, поплелся за ним.Самбук Ростислав Скифская чаша
Роман и повести известного украинского писателя Ростислава Самбука основываются на материалах расследования крупных уголовных преступлений. Ярко и убедительно показывает писатель работу людей, которые с риском для жизни борются с нарушителями социалистической законности.ВЗРЫВ
1
Близилось отправление самолета в Одессу. Объявили посадку, и пассажиры, сдав багаж и зарегистрировав билеты, толпились в небольшом узком помещении перед выходом на летное ноле. Девушка в ладно подогнанной аэрофлотовской форме, лавируя между пассажирами, направлялась к дверям. Шла она слегка запрокинув голову, гордо и как-то отчужденно, будто и не улыбалась только что, регистрируя билеты: женщинам приветливо, с едва ощутимым превосходством, а мужчинам кокетливо и чуть вызывающе. Парень в пестрой рубашке и полинявших джинсах попытался остановить девушку, но та не удостоила его даже взглядом, а он в восхищении бросил приятелю через плечо: — Чертовка, стоит познакомиться. Тот ответил рассудительно: — Пустой номер. Через час будем в Одессе. — Скоро вернемся... — За месяц забудешь. На одесских пляжах знаешь сколько таких! — Жаль пропускать... — Парень подтянул джинсы и поправил рубашку. У него был вид человека, не сомневающегося, что ему должно принадлежать все. Пожилая женщина, стоящая перед молодыми людьми, недовольно обернулась, видно, хотела сказать что-то осуждающее, но только хмыкнула сердито. — Осторожно, бабуля... — нагло хохотнул парень в джинсах, он явно хотел поддеть ее, однако женщина лишь вздохнула глубоко и сделала вид, что не заметила обидных слов. Лысоватый человек, розовощекий и курносый, воровато скосил глаза на крутые девичьи бедра, он не осмелился глянуть выше, но даже этот робкий взгляд не остался без внимания его сухощавой, плоскогрудой и суровой супруги. Она крепко сжала локоть мужа и прошипела угрожающе: — Куда пялишься? — Я — ничего... — Он испуганно шмыгнул носом и заверил угодливо: — Ты же знаешь, кроме тебя, для меня никого не существует. — Вот и смотри на меня, — отрезала супруга, и муж, демонстрируя свою преданность, поспешил повернуться спиной к девушке. Седая женщина с модной прической, в шерстяном костюме английского покроя и блузке с высоким воротником смерила девушку в форме внимательным холодным взглядом и, обратившись к соседке, тоже в летах, но полной и краснолицей, процедила сквозь зубы так, что трудно было понять, какой смысл вкладывает в слова: — Красивая девица, не так ли? Толстуха презрительно наморщила нос. — А-а... — махнула рукой, — все мы в таком возрасте были красивыми. Однако не кичились этим. Седая изучающе глянула на соседку, ироническая улыбка коснулась ее уст. Видно, она ни на секунду не поверила несколько смелому и чересчур категорическому утверждению полной женщины, но не возразила, лишь покачала головой и ответила как-то жалобно: — Молодость так самоуверенна и так скоротечна. Кто из нас не верил в ее бесконечность?.. — Когда работаешь, да еще дети на руках, некогда о глупостях думать, — не совсем вежливо заметила краснолицая. Женщина в строгом костюме, вероятно, не согласилась, но спорить не стала. Девушка в форме исчезла в дверях, не подозревая, какое смятение посеяла в душах пассажиров. Возвратившись тотчас, остановилась на пороге и объявила: — Граждане пассажиры! В связи с изменившимися метеоусловиями в Одессе вылет переносится на час позже. Прошу пройти в зал ожидания. Толпа зашумела тревожно и возмущенно, девушка выдержала паузу и объяснила коротко и как-то совсем по-домашнему: — Понимаете, с моря надвинулся туман, и Одесса не принимает. Большинство пассажиров, умудренных опытом, уже привыкло к аэрофлотовским неожиданностям и потому быстро смирилось с неприятным известием, лишь старушка в темном платке никак не могла успокоиться и причитала в отчаянии. — Как же так? Меня должны встретить, дала телеграмму, что же будет? — Подождут, — успокоила ее девушка. — Теперь лето, туманы не застаиваются... — Едва уловимая улыбка мелькнула на ее лице, по-видимому, она не очень-то верила самой себе, как не поверили и бывалые пассажиры. Однако, вопреки логике, они успокоились и вереницей потянулись назад в аэропортовский зал. Молодой человек в полинявших джинсах задержался, ожидая приглянувшуюся ему сотрудницу Аэрофлота, но у нее появились провожатые, два пилота, девушка и не посмотрела в его сторону, и парень скривился, будто глотнул чего-то кислого. В зале аэропорта каждый устроился как мог. Старушка, тревожившаяся, что ее не встретят, заняла место на скамье у самого выхода — сидела, вскидываясь при каждом объявлении по радио, вероятно, все еще надеялась, что задержка окажется кратковременной. Высокий мужчина в хорошо сшитом пиджаке и белых, выстроченных как джинсы, модных брюках коснулся локтем соседа — полного, с большим животом, в вышитой рубашке и нейлоновой шляпе. — Может?.. — предложил, выразительно щелкнув пальцами. — Составите компанию? Толстяк заерзал нерешительно. — В ресторане рассиживаться некогда, — возразил, — а в буфете разве дают? Высокий похлопал по кожаной сумке, висевшей через плечо: — Найдем. — Моя закуска, — охотно согласился толстяк, и они дружно направились к стойке, где вкусно пахло кофе. Седая женщина в английском костюме накупила в киоске газет и журналов, нашла свободное кресло под окном, отгородилась от аэрофлотовской суеты газетой, видно, не думала ни о вынужденной задержке, ни об одесском тумане — счастливая человеческая черта: уметь углубиться в себя, забыв о житейских невзгодах. Пожилой человек в больших дымчатых очках и с папкой из черной кожи постоял посредине зала, он явно не знал, как и где пристроиться, наконец тоже выбрал кресло у окна, наверно, не терпел безделья: вынул из папки, украшенной бронзовой монограммой, обычную ученическую тетрадь в клеточку и принялся что-то быстро писать в ней, совсем как школьник, не выполнивший домашнего задания и спешащий в последнюю минуту наверстать упущенное. Парень в полинявших джинсах, окончательно потерявший надежду познакомиться с сотрудницей Аэрофлота, осмотрелся и потянул своего товарища к креслу, где расположилась молодая женщина в таких же поношенных джинсах и полосатой блузке. Он устроился напротив, нагло уставившись на женщину, очевидно, не привык церемониться в таких случаях, и попытался завести разговор: — Где-то я вас видел... Женщина, смерив его презрительным взглядом, отвернулась, однако это совсем не обескуражило парня, он продолжал вкрадчиво: — Точно, я знаю вас... — Задумался на секунду, вдруг счастливая улыбка озарила его лицо, и он заявил уверенно: — В «Метро», да, встречал в ресторане «Метро», вы там официантка. — Ну и что? — Приятно встретить знакомую. — Нас не знакомили... — Давайте без церемоний. — Парень протянул руку. — Андрей. Женщина не подала ему руки, но, чуть запнувшись, назвалась: — Надя. Он сразу же пересел в соседнее с ней кресло, видно, не привык терять время, заглянул Наде в глаза и хотел уже одарить ее одним из банальных комплиментов, которые почему-то благосклонно воспринимают даже умные женщины, но не успел: совсем близко громыхнуло, будто что-то взорвалось или в землю ударила молния. Надя испуганно отшатнулась, и молодой человек, воспользовавшись секундной растерянностью, схватил ее за руку. — Гроза, — успокоил, — и нечего бояться, — наклонился к ее уху и зашептал что-то. Мужчина в сером пиджаке, отгородившись от стойки сумкой, достал еще не начатую бутылку. — «Арарат», — сказал не без гордости, — видите, коньяк высшего сорта. Нюхали? Но его партнера в нейлоновой шляпе не обидело это пренебрежительное «нюхали». Спокойно осушил стакан, тыльной стороной ладони вытер губы и изрек: — Вполне может быть... Мужчина в сером пиджаке не стерпел такого: — Оценить вкус этого коньяка может не каждый... — начал поучительно и не без раздражения, но собутыльник прервал его весьма бесцеремонно: — Согласен. Я говорил то же самое в Марселе, когда французы уверяли нас, что нет лучшего коньяка, чем высокосортный «Мартель». — В Марселе?.. — не поверил высокий. — Вы? — Да, мы ездили туда на несколько дней из Парижа. Владелец коньяка вытаращил глаза, вероятно, не собирался больше угощать этого увальня в нейлоновой шляпе, какие еще носили разве только в отдаленных селах, но невольно проникся уважением, услышав о Марселе, и налил ему снова. Толстяк взял стакан, понюхал коньяк и сказал вроде бы не по делу: — Никак истребитель преодолел звуковой барьер. Он воспринял взрыв абсолютно безразлично, как и все пассажиры. Седая женщина не оторвалась от газеты, мужчина в дымчатых очках, увлекшись расчетами, даже и не услышал его, только старуха у выхода тревожно перекрестилась, но сразу же успокоилась и подошла к служащему в аэрофлотовской форме, надеясь, что тот наконец сообщит время вылета в Одессу... И ни у кого из них — пассажиров самолета, который несколько минут назад должен был взять курс на Одессу, — ни на мгновение не возникло и мысли, что этот взрыв касался их всех. А жизнь в зале ожидания шла своим чередом — молодой человек в джинсах ухаживал за официанткой Надей, двое в буфете закусывали, мужчина в дымчатых очках довольно улыбался, терзая шершавую бумагу ученической тетради золотым пером паркеровской ручки, седая женщина листала «Огонек», — видно, никто, кроме старушки, и не услышал тревожного воя сирены, последовавшего за взрывом.2
Хаблаку изрядно надоели не очень вкусные борщи и стандартные бифштексы в управленческой столовой, и он решил перекусить в кафе, помещавшемся в подвале одного из соседних домов. Ему нравилось, что к сосискам тут всегда была свежая и крепкая горчица, а кофе буфетчица Клава — полная, неповоротливая, с грустными и добрыми глазами — варила по-настоящему ароматный. Зная вкус Хаблака, она, не спрашивая, сделала двойной, положила на тарелку сдобную булочку и кекс, улыбнулась ласково, пожелав приятного аппетита. Хаблак подумал, что, вероятно, успех многих дел, изобретений, расчетов зависит и от благожелательного слова, и от улыбки какой-нибудь тетки Клавы. Покончив с сосисками и потянувшись за кофе, он увидел на крутых подвальных ступеньках Леню Кобыша. Лейтенант явно разыскивал его, а увидев, счастливо улыбнулся, но Хаблак сделал вид, что не заметил ни Кобыша, ни его многозначительности, глотнул кофе и откусил сразу чуть ли не половину кекса, лишь потом поднял глаза на лейтенанта, подвинулся, освобождая место у высокого столика, но Кобыш энергично махнул рукой и выдохнул ему в самое ухо: — Сергей, к полковнику. Аллюр — три креста! Хаблак догадался: случилось что-то серьезное и неотложное. Он допил кофе, аккуратно вытер губы бумажной салфеткой и только тогда направился к выходу, не забыв посоветовать лейтенанту: — Бери, Леня, две порции сосисок. Чудо: свежие, вкусные... Вышел степенно, и лейтенант проводил Хаблака затяжным взглядом — он, услышав, что сам полковник Каштанов разыскивает его во время обеденного перерыва, конечно, помчался бы стремглав, а майор Хаблак (майор в тридцать два года, много ли таких?), видно, знал себе цену, и лейтенант с уважением смотрел ему вслед... Каштанов взглянул на часы, покачал головой и сказал: — Немедленно в Бориспольский аэропорт... Хаблак догадывался, что его нашли в кафе не для душеспасительной беседы с полковником, однако попробовал разыграть недоумение: — Неужели, кроме Хаблака, во всем управлении... Каштанов предостерегающе поднял руку. — Нет времени, Сергей. Дробаха уже выехал. Там произошел взрыв. Вероятно, кто-то подложил взрывчатку в багаж, а рейс задержался, вот служба контроля и замешкалась с проверкой багажа. Какой-то мерзавец хотел уничтожить самолет в воздухе, наверно, подсунул в чемодан мину с часовым механизмом. Конечно, — добавил полковник, — эту мину обнаружили бы перед взлетом, если бы не отложили контроль багажа. Короче: кроме Дробахи в Борисполь уже выехал прокурор города. Просил подключить к расследованию именно тебя. Машина внизу. Собственно, полковник сказал все, и Хаблак понял: нет ни минуты, чтобы позвонить жене и отменить запланированный на вечер поход в кино. Дробаха уже ожидал его возле выхода из аэровокзала. Увидев майора, он замахал руками, даже поднялся на цыпочки. Это имело бы смысл в толпе, подумал Хаблак, а возле турникетов стояли лишь двое пассажиров, один из них насмешливо посмотрел на Дробаху и сказал, вероятно, что-то колкое. Конечно же этот тип в черном кожаном пиджаке не знал, что возле него суетится следователь по особо важным делам, да и мог ли он догадаться, что низенький толстяк в поношенном костюме тянет по условной иерархии не ниже, чем на полковника, а может, и выше. Правда, уже через минуту Хаблак понял, что попал впросак, так как, поздоровавшись, Дробаха представил ему мужчину в черном пиджаке: — Павел Сергеевич Деркач. Вижу, вы незнакомы. Павел Сергеевич из научно-исследовательского института криминалистики. Он — наш эксперт. Честно говоря, Хаблаку не очень нравились мужи, подвизающиеся в криминалистике, особенно если от них так и веяло самоуверенностью, однако ничем не выказал своего отношения к Деркачу, справедливо рассудив, что внешность и первое впечатление бывают обманчивы. — Кого ждем? — спросил Хаблак. — Прокурора города, — объяснил Дробаха. Прокурор появился в сопровождении высокого пожилого человека в форме — как выяснилось, начальника аэропорта, и все направились к площадке, где складывали багаж для контроля перед загрузкой в самолет. — Сколько пассажиров должны были лететь этим рейсом? — спросил Хаблак у Дробахи. — Сорок четыре. И учтите, мину подложили в чемодан кому-то из пассажиров. Одному из сорока четырех. — Конечно, — согласился Хаблак, — какой же дурак сам возьмет ее с собой? Для самоубийства — слишком шикарно. А о том, что контролируется не только ручная кладь, а и весь багаж, преступник не знал. — Несомненно. — А значит, был замысел уничтожить кого-то из сорока четырех, — задумчиво произнес Хаблак. — Да, — кивнул Дробаха. — Пассажиров задержали? — Все ждут нас. Хаблак представил себе нетерпеливых и раздраженных пассажиров в аэропорту: в центре большого пустого зала собрались совсем разные люди и смотрели на них с Дробахой — одни с надеждой, другие подозрительно или гневно, просительно, заискивающе, угодливо, иронически — что ни человек, то свое, особое выражение лица и особое настроение, но за всем этим угадывалась уверенность, будто они с Дробахой виноваты в чем-то и достаточно одного их слова, чтобы все волнения и переживания закончились, чтобы наконец подали самолет и доставили всех в столь желанную Одессу. На площадке, где произошел взрыв, прибывших встретили начальник службы контроля и высокий сутуловатый человек в милицейской форме. Хаблак немного знал его — подполковник Устименко, встречались на каком-то республиканском совещании, запомнил не так самого Устименко, как копну его жестких волос, казалось, дотронься — и оцарапаешься. За годы, что они не виделись, Устименко поседел, стал как-то солиднее, но волосы, как и раньше, беспорядочно торчали из-под фуражки. От чемоданов, сложенных на площадке, мало что уцелело. Эксперт стал фотографировать место происшествия, Хаблак с Дробахой начали внимательно осматривать остатки вещей. Устименко подошел к Хаблаку и констатировал, сокрушенно покачав головой: — Тут все разнесло в клочья. И никто не скажет, какой именно чемодан взорвался. Начальник аэропорта, услышав эти слова, развел руками и произнес возмущенно: — Мы-то знаем, что мину все равно нашли бы и обезвредили. Но каковы мерзавцы: задумали свести счеты с кем-то из пассажиров и сознательно шли на то, чтобы уничтожить десятки людей! — Где пассажиры? — хмуро спросил Хаблак. — Мы пригласили всех в гостиницу. Попросили подождать два-три часа. Все согласились, ведь пришлось рассказать, из-за чего произошла задержка. — Пошли, — предложил Дробаха, — тут разберутся и без нас. А пассажиры и так перенервничали. Кстати, — поинтересовался, — самолет ждет их? — А как же! — ответил начальник аэропорта. — Теперь все зависит от вас. — Тем более, — засуетился Дробаха и направился к гостинице, глубоко засунув руки в карманы пиджака. Старушка, с которой Хаблак начал вести разговор, смотрела на него испуганно, отвечала невпопад, наконец спросила: — Подожди, что ты про чемойдан? При чем тут мой чемойдан? Ты скажи, почему такое... Почему пустили этих самых?.. Говорят, напали на самолет? Хаблак едва спрятал улыбку: надо же! Правда, и бабка старая-престарая. Такая что ни придумает, сразу и разнесет по белу свету... — Что вы, бабушка, говорите, — успокоил он, — обычная авария. Однако старуха оказалась не такой уж простой. — Ежели обычная, зачем тебе знать про мой чемойдан? — возразила весьма резонно. — Авария произошла перед загрузкой багажа в самолет, — не очень конкретно объяснил майор, — может, что-то случайно попало в вещи пассажиров... — Нет, — отрезала бабка твердо, — я хоть и старая, а чемойдан сама паковала. — А потом? — поинтересовался Хаблак. — Вы нигде его не оставляли? В чужие руки не попадал? — Нет. — Большой чемодан имели? — Зачем большой! Гостила в Киеве у дочки, ну идома, в Одессе, тоже внуки, гостинцев им купила, дочь кое-что дала: конфет, куклу, курточку. — И дочь отвезла вас в аэропорт? — Она сама, зять на работе. — Автобусом? — Такси вызвала, я говорила, не нужно, но разве ее переупрямишь? Почитай, денег много, она учительница, а муж ученый, в институте работает. — Итак, — на всякий случай уточнил Хаблак, — чемодан вы сдали в аэропорту, когда регистрировали билет? А до того все время видели его? — Глаз не спускала, — подтвердила бабка, — как можно, не ровен час украдут... Там на аэродроме столько народа и все глазами так и стреляют... — Ну знаете! — обиделся за пассажиров Хаблак. — Так зачем спрашиваете? — не без ехидства заметила старуха. Логика у нее была, что называется, железная, и майору ничего не оставалось, как только проводить ее до дверей, извинившись за беспокойство и объяснив, что не позже, чем через два-три часа, она будет в Одессе. От следующего собеседника пахло хорошим одеколоном и коньяком. Он расположился на стуле перед столом дежурного по гостинице, за которым сидел Хаблак. Закинул ногу за ногу, и майор немного позавидовал его белым брюкам, действительно красивым и модным. Хаблак слышал, что у перекупщиков такие стоили чуть ли не больше, чем половина его месячной зарплаты, значит, сидел перед ним человек явно с достатком, о чем свидетельствовал и пиджак из мягкой серой шерсти, не стандартный, купленный в магазине, а явно сшитый у дорогого портного. Майор заглянул в список пассажиров, с которыми должен был поговорить, и попробовал угадать, кто именно сидит перед ним. — Если не ошибаюсь, — начал он, немного поколебавшись, — Леонид Эдуардович Русанов? — Этот элегантный мужчина средних лет обязан был иметь и элегантную фамилию — Русанов, Боярский, Мещерский, а не какую-то простецкую, вроде Хаблака, Дзюбко или Кобеляка. Однако предположения Хаблака не оправдались — его собеседник погладил складку на отутюженных брюках и ответил с достоинством: — Ошибаетесь, меня зовут Михаилом Никитовичем. А фамилия Манжула. — Очень приятно, — улыбнулся Хаблак, хотя, честно говоря, этот пижонистый мужчина не вызвал у него симпатии. Хаблак хотел уже перейти к сути разговора, но дверь приоткрылась и в комнату заглянула старушка. Она поманила пальцем Хаблака, и не успел он подойти, как спросила: — А где же мой чемойдан? Ты чего о нем расспрашивал? Может, украли? Хаблак подумал, что разговор с бабкой грозит затянуться до бесконечности, потому и поспешил заверить: — Нет. — Чай, я говорила: игрушки там и гостинцы, как же я домой без них? — За ваше имущество, — уклончиво ответил Хаблак, — несет полную ответственность Аэрофлот. Понимаете, полную? — Ну ежели так... — Старушка, кажется, успокоилась, но все же пробурчала: — Лучше б чемойдан был при мне. Хаблак едва заметно улыбнулся: не мог же сказать потерпевшей, что в принципе согласен с ней. Оглянулся и поймал насмешливый взгляд Манжулы. Тот, не ожидая, пока Хаблак возобновит разговор, спросил сам: — Если не ошибаюсь, наша беседа вызвана неприятным эпизодом с багажом? — Если, конечно, это можно назвать лишь неприятным эпизодом... — Извините, с кем имею честь? — Майор Хаблак, старший инспектор Киевского уголовного розыска. — Оперативно работаете. Хаблак промолчал: какое дело этому пижону до методов работы милиции? Спросил сухо: — Разрешите поинтересоваться, Михаил Никитович, где вы живете — работаете? Манжула прищурился. — Извините, — спросил сам, — я тут в какой, так сказать, роли? Свидетель, потерпевший? — Видите, — Хаблак кивнул на пустой стол, — я не веду протокол. Если не возражаете, надо выяснить кое-что. — Не возражаю, — на удивление кротко согласился Манжула. — Как меня зовут, уже знаете. Живу в Одессе, улица Степная, сорок семь. Работаю в отделе снабжения машиностроительного завода. — Кем? — Заместителем начальника отдела. «Сто семьдесят — сто девяносто рублей в месяц. Плюс прогрессивка, — быстро прикинул Хаблак, — не шибко разгонишься». Спросил: — Были в командировке? — В Киеве наш главк. — Что-то выбивали? — Работа... — развел руками Манжула. — Станки, топливо, металл... Без снабженцев — хана. — Долго были в Киеве? Манжула вздохнул. — Две недели... — Успешно? — Более или менее... — Где жили? — В гостинице. — Вещей имели много? — Какие у нас вещи!.. Малый джентльменский набор: белье, носовые платки, плащ, пижама и зубная щетка. — Может, что-то приобрели в Киеве? Манжула хитро сощурился. — Чего вы ходите вокруг да около?.. Давайте уж прямо... — Давайте, — согласился Хаблак. — Чемодан сами в багаж сдавали? — Конечно. — Упаковывали его сами? — Кто же еще? — И чужие руки к нему не прикасались? — Вот вы о чем! — Манжула посмотрел на Хаблака холодно. — Нет, товарищ, ищите где-то в другом месте. В моем чемодане, кроме обычной дребедени, не было ничего. Гарантия. — А если гарантия, — поднялся майор, — то не смею больше задерживать. Они попрощались, довольные друг другом, по крайней мере, так решил Хаблак, увидев, как приветливо улыбнулся ему Манжула, затворяя дверь. В комнату вошла седая женщина в темно-синем английского покроя костюме и белой блузке. Она взглянула на Хаблака сурово, как учительница на нерадивого ученика, и майор в самом деле почувствовал себя проштрафившимся мальчишкой. Стоял у стола и смотрел на нее — строгую и неприступную, казалось, сейчас отчитает за неуместную шутку или неблаговидный поступок. Потому и начал чуть ли не заискивающе: — Извините, что побеспокоили, но вынуждены поговорить со всеми пассажирами... — Чего там, — махнула рукой властно, будто отпуская майору этот грех. И, не дожидаясь обычных вопросов, назвалась: — Мария Федотовна Винницкая. Доктор медицинских наук. Этого достаточно? — Работаете? — Заведую кафедрой в мединституте. Хаблак подвинул Марии Федотовне стул. Она опустилась на него, опираясь на спинку, и смотрела, как прежде, холодно и вопрошающе. — Нам надо выяснить лишь один вопрос — Хаблак стоял перед профессоршей, сообразив, что именно это внешнее проявление почтительности может пойти ему на пользу. — У вас есть бирка к чемодану, который сдавали в багаж? — Две... — Винницкая щелкнула замком сумочки и вытянула два картонных номерка. — От чемодана и сумки. — Вы сами укладывали вещи? Профессор смерила Хаблака с ног до головы внимательным взглядом, подумала немного, и майор услышал исчерпывающий ответ, — видно, привыкла к неожиданным вопросам в аудиториях и никогда не тушевалась: — Я еду в санаторий на месяц и не хочу ограничивать себя. Вещи отбирала сама, кое-что дочка, они вместе с зятем уложили чемодан и сумку, я не имею времени заниматься такими мелочами, слава богу, мои домочадцы еще понимают это... — Стало быть, дочь и зять... — раздумчиво протянул Хаблак. — Но кто же именно? Винницкая лишь пожала плечами, вероятно, она и в самом деле не придавала этому значения, но Хаблак должен был докопаться до истины. — Вы сами сдавали вещи в багаж? — спросил. Профессор посмотрела на него так, что майор сразу понял неуместность своего вопроса. — Зять, — ответила, — зять отвез меня в аэропорт и уладил все формальности. — Значит, хороший зять... — то ли резюмировал, то ли спросил Хаблак, однако Винницкая ничем не выказала своего отношения к этим словам, и майор подумал: традиционные отношения тещи с зятем, тем более тещи титулованной, властной, привыкшей во всем играть первую скрипку. И еще подумал, что зять в конце концов мог взбунтоваться, и трудно представить, в какие формы может вылиться такой протест. — Кто ваш зять? — поинтересовался. Винницкая пренебрежительно выпятила нижнюю губу, будто само обсуждение этого вопроса унижало ее достоинство. — Обычный инженер, — объяснила. — Бывают необычные? — Еще бы, — она подняла глаза на Хаблака: неужто в самом деле не понимаете? И продолжала с нажимом: — Рядовой всюду останется рядовым, средним, разве среди вас нет таких? Ну, знаете, одному суждено всю жизнь ходить в лейтенантах, а другой в сорок уже генерал. Что ж, в принципе Винницкая была права, но Хаблаку не понравилось, как откровенно она высказывала неприязнь к собственному зятю. — Где он работает? — Какой-то мостоотряд. Майор прикинул: люди, сооружающие мосты, могут пользоваться взрывчаткой, это взволновало его, и, видно, наблюдательная дама заметила перемену в настроении майора, потому что сказала с ощутимой иронией: — Мой зять и мухи не обидит. К сожалению, человек без взлетов, но добрый и тихий. Вероятно, для семейной жизни это подходит, конечно, смотря кому, но мою дочь вполне устраивает, может, так и надо. — Весьма признателен вам за информацию, — сдержанно поклонился Хаблак. Винницкая поняла, что беседа окончена, и направилась к выходу, наверно, и не оглянулась бы, но Хаблак остановил ее: — Фамилия вашего зятя? Профессор несколько секунд постояла и только потом повернулась к майору. Ответила уверенно: — Напрасно. Я имею в виду, что напрасно подозреваете его. Тишайший человек. Он не способен на что-либо серьезное, надеюсь, вы понимаете меня? К сожалению, не способен, — добавила. — И все же? — Иван Петрович Бляшаный... — Она произнесла слово «Бляшаный» так, что сразу стало понятным ее отношение к человеку, который, помимо всех недостатков, носит еще и столь непредставительную фамилию. И вышла, сердито хлопнув дверью. Хаблак постоял немного, словно переваривая полученную информацию, и пригласил следующего собеседника. Примерно через полчаса он закончил разговор с половиной пассажиров злосчастного самолета, записав в блокнот четыре фамилии. И пошел в кабинет директора гостиницы, где беседовал с пассажирами Дробаха. По-видимому, они работали почти синхронно: в коридоре сидела лишь одна женщина, крашеная блондинка с длинными волосами, спадавшими ей на плечи. Она с интересом посмотрела на Хаблака, едва не столкнувшегося в дверях с краснолицей женщиной, буквально кипевшей от возмущения. Оттеснив майора, она подскочила к блондинке и затараторила в ярости: — Идите, спешите, они еще смеют допрашивать нас, вместо того чтобы защитить, я уже и так едва жива, чуть не умерла от переживаний и страха! Она явно говорила неправду: ее здоровья хватило бы на трех, а то и больше обычных пассажиров, однако Хаблак не стал возражать, зная, что зацепить такую сварливую особу мог разве что самоубийца. Вслед за краснолицей женщиной в коридор выскочил Дробаха. — Ну зачем же так, уважаемая?.. — пробурчал примирительно и, увидев Хаблака, едва заметно подмигнул ему. Майор понял следователя без слов: с такими женщинами разговор на равных вести почти невозможно, они сразу идут в наступление, а почувствовав хоть немного шаткость позиции противной стороны, буквально уничтожают ее. Но Дробаха видел-перевидел и не таких агрессивных особ, видно, все же заполучил нужную ему информацию — улыбался довольно, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. — Прошу вас, Людмила Романовна, — обратился он к блондинке. Та подняла удивленные глаза: откуда этот кругленький и по-домашнему уютный человек знает ее? А Дробаха и правда улыбался ей как старой знакомой, блондинка прошла в любезно распахнутую дверь кабинета, обдав майора и следователя густым и сладким запахом духов. Если бы Хаблак разбирался в них, то тут же сообразил бы, что Людмила Романовна не ровня той краснолицей пассажирке — такие духи могут позволить себе только люди весьма состоятельные, да и то не все, а особо заботящиеся о собственной персоне. Дробаха, опередив Людмилу Романовну, любезно пододвинул ей стул, сам устроился напротив на диванчике, сплел пальцы на груди и произнес, как бы извиняясь: — Мы задержим вас, уважаемая, лишь несколько минут, видите, разговаривали со всеми пассажирами, вы — последняя, если бы я знал, что вы скучаете в коридоре, давно отпустил бы... Хаблак усмехнулся: Дробаха покривил душой, но сделал это тонко и непринужденно — расположил женщину к себе и направил разговор в нужное русло. Людмила Романовна подарила следователю искреннюю улыбку и успокоила его: — Не все ли равно, где ожидать самолет — тут или в зале аэропорта? Кстати, долго еще? Дробаха заверил: — Минут через тридцать, может, раньше. — Он знал, что одесский самолет готов к вылету, и посадку объявят сразу же после их команды, собственно, после разговора с последним пассажиром. — О, боже, — засуетилась Людмила Романовна, — вы не задержите меня? — Всего несколько вопросов. Женщина нетерпеливо заерзала на стуле, и Дробаха начал, не теряя времени: — Вы замужем, Людмила Романовна? — Конечно, — ответила она с достоинством, даже немного обиженно — неужели не понятно: женщина с такими данными редко бывает одинокой. — Живете в Киеве? — В новом доме на улице Ленина, — ответила не без гордости. Дробаха задумался лишь на секунду — вспомнил: на улице Ленина за последнее время сооружен только один жилой дом. — На углу Коцюбинского? — уточнил. — Прекрасный район, в самом центре. Квартиры улучшенной планировки... — Да, квартира у нас неплохая. — Двухкомнатная. — Три. — Замечательно, — одобрил Дробаха. — Ваш муж?.. — Директор комбината. Юрий Лукич Лоденок. Может, знаете? — Лоденок?.. — процедил, будто припоминая, Дробаха. — Кажется, знаю... — Он бросил взгляд на Хаблака, как бы советуясь с ним, и майор понял, что Дробаха впервые слышит эту фамилию, просто ловко подыгрывает чванливой блондинке. — Говорят, прекрасный руководитель. — Да, мужа ценят. — Главное, чтоб ценила жена. — Не без того. — Он провожал вас в аэропорт? Людмила Романовна посмотрела на Дробаху как на абсолютного невежду. — Муж заботится обо мне. Дробаха подумал: небось намного старше и бегает на цыпочках вокруг своей крали. — Какой багаж имели? — Два чемодана. — Вы сами укладывали вещи? Женщина презрительно хмыкнула. — Юра не позволяет мне заниматься бытом. «Ну и ну, — подумал следователь, — неужели эта кукла не удосужилась даже вещи свои уложить?» Сверкнул глазами и уточнил: — Летите в Одессу на отдых? — Муж достал путевку в санаторий. — И вы позволили мужу подбирать вам платья? — Я вытащила из шкафа, а Юра укладывал. — Он умеет это? — Мой Юра все умеет. А зачем вам мои чемоданы? Дробаха вроде бы пропустил этот вопрос мимо ушей. — Итак, — уточнил, — ваш муж сам укладывал вещи? Без вашего вмешательства? — Да. — И сам сдал их в аэропорту? — Он же муж! — Вы всегда ездите на курорт одна? — вмешался Хаблак. Людмила Романовна перевела на майора любопытный взгляд, губа у нее дрогнула, видно, хотела ответить резко, но сдержалась. Хаблак почувствовал, что проявил бестактность, и пошутил: — Оставлять дома такого руководящего мужа в одиночестве небезопасно. — Считаете?.. — улыбнулась легко, но вдруг наморщила лоб, вероятно, иногда и сама думала так, помрачнела, взглянула на Дробаху и повторила: — Считаете, так?.. Потому и расспрашиваете о чемоданах? Говорите прямо... — Ну что вы, просто надо уточнить некоторые детали... Людмила Романовна переплела пальцы, сжала так, что суставы побелели, и вдруг сказала твердо и непреклонно: — Он завел себе любовницу и решил избавиться от меня. А я как последняя дуреха... Да, немедленно возвращаюсь домой!.. Дробаха обошел вокруг стола и наклонился к женщине. — Вы воспринимаете наши вопросы чересчур серьезно, — попробовал успокоить. — Просто мы разыскиваем некоторые вещи, произошел несчастный случай, вот и расспрашиваем пассажиров. — Ага, значит, это несчастный случай... — Черты лица у Людмилы Романовны смягчились, она сразу поверила Дробахе, конечно же ей хотелось верить ему, и Хаблак подумал, что перепады в настроении женщин редко подчинены логике и зависят преимущественно от эмоций. — Ну вот, случай, а я наговорила на мужа бог знает что, надеюсь, вы не приняли за чистую монету? — Ни в коей мере, — заверил Дробаха, — и не нужно вам возвращаться домой, тем более, — взглянул на часы, — что через несколько минут объявят ваш рейс. Когда Людмила Романовна ушла, Хаблак устроился на ее стуле и вытянул блокнот. — Четверо, — сообщил, — у меня четверо таких, которые требуют проверки. — И у меня трое. — Дробаха кивнул на исписанный листок бумаги. — Одну из них вы видели: уважаемая Людмила Романовна Лоденок. Не очень верится, что ее муж мог прибегнуть к таким... — запнулся, подыскивая слова, — крайним мерам, но проверить обязаны. Еще имеем Николая Васильевича Королькова. Академик, директор научно-исследовательского института. Летит в Одессу на симпозиум, чемодан укладывал дома сам, жены у него нет, разведен, но потом в институте чемоданом мог распорядиться кто угодно: оставил его возле вешалки в приемной. — Но ведь в приемной сидит секретарша, — возразил Хаблак, — и от ее бдительного ока... — Но она, конечно, выходила из приемной, и не раз, затем, может, у нее есть основания не любить начальника. К тому же Николай Васильевич не может вспомнить, кто положил в его чемодан бутерброды, принесенные из буфета. Академик весь в своей физике, ни на что другое его не хватает. — Да, — склонил голову Хаблак, — у таких людей много учеников, друзей, много и недругов. — Представил, какой переполох вызовет расследование дела с чемоданом академика не только в институте, и нахмурился. Дробаха аккуратно сложил листок с пометками, спрятал во внутренний карман пиджака. — Наконец Ярослав Нестерович Залитач, студент-заочник и рабочий. Его дорожную сумку паковали товарищи в общежитии. Основательно набрались и поехали в аэропорт. Хаблак постучал пальцами по красной обложке своего блокнота. — У меня четверо. Профессор медицины Мария Федотовна Винницкая. Раз. Евгений Емельянович Трояновский. Скульптор. Два. Григорий Андреевич Дорох. Председатель колхоза из села Щербановка. Три. И наконец, четвертая. Надежда Мирославовна Наконечная. Официантка ресторана. — Итак, семеро, — подытожил Дробаха торжественно, как будто сделал большое научное открытие. — И все из Киева. Кроме председателя колхоза. Но — Киевская область. Они возвратились в аэропорт и вышли на летное поле. Хаблак увидел цепочку пассажиров, потянувшуюся к самолету, стоявшему неподалеку. Во главе ее шла седая женщина в темном английском костюме. Шагала, помахивая сумочкой, суровая и независимая, будто прокладывала путь людям, измученным ожиданием, нервотрепкой и разговорами со следователем. «С характером женщина», — подумал Хаблак и сказал: — Началась посадка на Одессу. — А нам назад в город, — ответил Дробаха. — Кстати, несколько пассажиров отказались лететь — возвратились домой за вещами. Другие позвонили домой, чтобы родственники упаковали новые чемоданы и завезли их в Борисполь. Очень спешат, а аэропорт гарантирует, что сегодня же чемоданы будут доставлены в Одессу. — Пошли, Иван Яковлевич, может, эксперты что-нибудь подкинут нам. Надо также составить протокол осмотра места происшествия. Однако надежды Хаблака оказались напрасными. Как первоначально констатировали специалисты, в одном из чемоданов или в сумке взорвалась, несомненно, самодельная мина с часовым механизмом. Уцелели только остатки трех чемоданов, владельцев которых можно было установить. Но среди них не было ни одного из «великолепной семерки», как прозвал ее майор. Оставив эксперта Деркача подводить окончательные итоги, Дробаха с Хаблаком возвратились в город.3
Солнечный зайчик скользнул по стене, остановился, затрепетал и внезапно исчез, вроде его и не было и этот мерцающий свет пригрезился Юлии. Почему-то сделалось обидно и тоскливо, будто ее одурачили, наобещали бог знает чего и не дали, обвели вокруг пальца да еще и посмеялись. Юлия закрыла глаза, все еще думая, что шаловливый зайчик, и скрип створок открытого окна, и запах роз — все это снится ей, и сон этот такой светлый и радостный, что лучше не просыпаться вовсе. Но оконные рамы поскрипывали как наяву, посаженные в прошлом году Евгением розы пахли сладко, и Юлия, вздохнув, сбросила одеяло. Тотчас над кроватью распахнулись дверцы деревянного часового домика, оттуда выглянула кукушка, подала голос, оповестив, что уже час дня, казалось, хитро скосила глаз на Юлию и незамедлительно отправилась восвояси. Юлия окончательно проснулась, села на кровати, прижав к груди мягкую подушку и свесив голые ноги. Подумала: вот наконец она одна. Одна в этом большом четырехкомнатном доме, не считая дурашливого солнечного зайчика от оконного стекла. Утренний ветерок раскачивает раму, зайчик прыгает по стене, Юлия потянулась, чтобы поймать, удержать, но увертливый зайчик скользнул на потолок и даже, кажется, показал ей язык. Юлия вскочила с кровати и закружилась на пушистом ковре, сплошь покрывавшем пол спальни, кружилась раскинув руки, будто утверждая так свою абсолютную свободу и независимость. Вдруг подумала, что это занятие не подстать ей, что времена девичьей резвости давно прошли, ей уже тридцать, успела несколько округлиться и даже отяжелеть. Но у нее месяц свободы, целый месяц, она сбросит лишний вес, а сколько того лишку, никто, наверно, не замечает, никто, кроме нее... Главное, что ей так легко дышится, а тело такое упругое и загоревшее, роскошное тело тридцатилетней женщины, у которой еще все впереди... Юлия провела ладонями по крутым бедрам, будто проверяя их упругость, засмеялась счастливо и побежала под душ. Включила воду, взвизгнула, не выдержав резкой обжигающей свежести, мотор гнал воду из-под земли, и мало кто мог устоять под таким душем, но Юлия привыкла к такой процедуре, она серьезно относилась к своей красоте, зная, что это, возможно, единственное богатство, отпущенное ей в жизни. На завтрак Юлия сварила два яйца и позволила себе целую чашку крепкого несладкого кофе, в холодильнике лежала, дразня ее, половина пражского торта, привезенного позавчера Евгением из города, но Юлия поборола искушение и ограничилась ломтиком черного бородинского хлеба. Ела и думала: как все же хорошо, что нет Евгения. Муж любил основательно позавтракать, для него она должна была жарить котлеты и неизменные деруны. Этих картофельных оладьев он мог умять десяток или больше, а попробуй очистить и натереть столько картошки! Юлия представила, как смачно жует и чавкает Евгений, ей сразу стало противно, но только на мгновение, сегодня ничто не могло испортить ей настроение, и, разделавшись с завтраком, она устроилась на пуфике перед зеркалом. Проверила, не появилась ли где-нибудь на лице случайная морщинка. — не нашла, вздохнула облегченно и расчесала густые пепельные волосы. Прищурившись, долго смотрела на себя и осталась довольна. Коснулась маленькой родинки под левым глазом. Родинка придавала ей пикантность, и Юлия каждое утро дотрагивалась до нее, это вошло в привычку, прикосновение стало как бы магическим, будто охраняло ее, сберегало красоту, и, ощутив родинку под пальцем, Юлия будто убеждалась, что первые морщинки на ее лице появятся не скоро. Потянулась за тушью. Красота красотой, но и она требует усовершенствования. Тем более сегодня. Ведь день обещает стать особенным, через час она увидит Арсена, ради него она все и устроила так, что Евгений вчера вылетел в Одессу Юлия сама отвезла Евгения на «Ладе» в Бориспольский аэропорт, смотрела, как самолеты взмывают в небо, и думала — случаются же аварии, наверно, не опечалилась бы, узнав, что белый лайнер где-то упал на землю. Никогда б не увидела лоснящегося лица мужа и губ, блестящих от жира, которые он вытирает тыльной стороной ладони... Ей даже в голову не пришло, что вместе с ним разбились бы другие люди — чужие трагедии не волновали ее. ей предостаточно собственных хлопот... Когда она вышла замуж за Евгения, конечно, о любви не было и речи. Просто знала, что за его спиной можно чувствовать себя спокойно и уютно. «Лада» и дача, тысячные заработки. Не говоря уж о том, что быть женой скульптора как-то престиж нее, чем инженера или хотя бы доцента. Скульпторы на дороге не валяются, даже на уготованной ей. Другое дело, что скульптором Евгения можно было назвать лишь условно — кому какое дело, что он лепит, жаль, конечно, что не мог выставиться, да и вряд ли сможет, она пришла б на его выставку в норковой шубке, кто смотрел бы на скульптуры, если бы она появилась на вернисаже — слово-то какое: вернисаж, и она в норковой шубке... Увы, надежды на вернисаж тщетны, никто пока еще не выставлял надгробий и памятников, каким бы спросом они ни пользовались... Единственное утешение: подлинный вернисаж Евгения на Байковом кладбище. Иногда он возил Юлию туда: показать что-нибудь новенькое — в мраморе или граните, массивное и впечатляющее. Юлия ахала от удовольствия, она знала: белый мраморный памятник — это половина ее норковой шубки плюс красные австрийские сапожки, а вот бронзовый бюст на гранитной колонне еще не отоварен, она хочет, чтоб Евгений поменял «Ладу» на «Волгу». «Лада», правда, удобна и комфортабельна, но «Волга» престижнее, черная или белая «Волга», она выходит из нее в вечернем платье, из черной «Волги» — в белом, а из белой — наоборот, но платья обязательно открытые, они подчеркивают округлость и привлекательность ее плеч, и черт с ним, пусть позади плетется Евгений со своим лоснящимся лицом, какое это имеет значение, кто именно плетется за ней, хотя если бы Арсен... Воспоминание об Арсене приятно пощекотало нервы, и она подумала, что вечером можно податься с ним в город, завалиться куда-нибудь в «Курени» или «Ветряк», подальше от центральных ресторанов, где можно встретить знакомого художника или скульптора — как правило, коллеги Евгения не без денег и привыкли вечером шататься по злачным местам. А потом домой. Ведь тут. на даче, все видно, все подходы как на ладони, а от всевидящих очей тетки Марьяны вообще ничто не скроется. Юлия вздохнула. Проклятая тетка, если бы не она. Арсен мог бы каждый вечер приходить сюда, в конце концов можно выломать пару досок в заборе позади дома, но тетка учла и такую возможность: привыкла по вечерам без приглашения приходить в гости, попить чаю или попросить чего-нибудь, а глазами так и шарит, и все она учует — даже секундное смущение Юлии или терпкий запах одеколона Арсена. Юлия достала из ящика туалетного столика флакон мужского французского одеколона, купленного вчера в Киеве. «Drakkar» парижской фирмы, двадцать пять рублей, но она заплатила бы и больше, лишь бы услышать радостный смех Арсена. Почему он так редко улыбается ей? Ведь она такая красивая, ну немного старше его, но какое это имеет значение сейчас, когда еще ни одна морщинка не появилась на ее лице, а голубые глаза излучают любовь, нежность и страсть? Не говоря уже о родинке, из-за нее мог бы потерять голову не один мужчина... Юлия еще раз на счастье коснулась родинки, просто на купальник накинула халатик, схватила пляжную сумку и вышла в сад. С улицы и от соседей слева усадьбу Трояновских отгораживала лишь проволочная сетка, Юлия уговаривала Евгения поставить сплошной деревянный забор, но не хватало времени, спрос на памятники увеличился, теперь даже в селах начали ставить не сваренные из железных труб кресты, а гранитные плиты. Евгений едва успевал обрабатывать их, взял даже двух помощников, создал маленькую нелегальную артель, но все же почти что разрывался на части и забором только обещал заняться. Правда, если бы Юлия хоть немного нажала на него, давно бы сделал, однако у нее тоже была голова на плечах и она умела считать: забор отвлек бы Евгения от работы, по крайней мере, на неделю (достать подходящий материал, договориться с шофером, построгать доски, найти рабочих), а за это время они потеряли бы кучу денег... И Юлия мирилась с проволочной сеткой. Соседка кормила птицу. У нее было несколько гусей и десятка два кур, Юлия не обращала внимания на шумное соседство, ведь всегда покупала свежие яйца, что, учитывая аппетит Евгения, было очень важно. — Доброе утро, Настя, — поздоровалась Юлия первая. Хоть и ездила в «Ладе» и сама не копалась на грядках, но не гнушалась сельскими женщинами, и те, в душе не весьма уважая ее, относились к ней дружелюбно. Может, потому, что мать Евгения выросла и умерла на этом приднепровском хуторе, а может, благодаря авторитету односельчанина. Настя посыпала курам пшеницы, вытерла руки полинявшим фартуком, смерила Юлию внимательным взглядом и спросила: — Выспались? Юлия подставила лицо уже горячим солнечным лучам. В Настином вопросе она уловила довольно выразительный подтекст. Еще бы: Настя поднималась на рассвете — работала в соседнем пионерском лагере, кроме птицы имела еще корову и пять овец, она должна была одна крутиться по хозяйству — муж пил и только в редкие трезвые дни помогал жене. Но при том торговался: дашь рубль, выкопаю яму или отброшу навоз... И Юлия знала точно: Настя, как ни бранилась, все же платила, потому что ей это было выгодно — вряд ли кто-нибудь взял бы за яму дешевле. Как-то Юлия спросила у соседки, почему она мирится с бездельником. Настя только отмахнулась, зато всезнающая тетка Марьяна объяснила, что Настин Сидор время от времени бросает пьянку — косит траву, вскапывает огород, а без этого им с двумя детьми не прожить. Сидор хоть и последний из последних в хуторе, но обеспечивает скотину сеном, к тому же работает, а вернее, числится кочегаром в том же лагере, где работает Настя, и ей иногда удается опередить мужа, получив за него в бухгалтерии деньги. В такие дни Сидор скандалил с Настей, его ругань слышна была чуть ли не на весь хутор, и умолкал он, лишь завидев на соседском крыльце Юлию. В зависимости от собственного настроения, а также от крепости выражений Сидора, она, чтоб утихомирился, выносила ему рубль или два, хотя в общем-то не любила раскошеливаться. Юлия пропустила мимо ушей иронический вопрос Насти и то ли попросила, то ли велела, — впрочем, ей было все равно, как воспримет Настя ее тон, ведь платила не меньше, чем на базаре, а до базара Насте надо было тащиться пять километров: — Сделайте к вечеру творог. — Сделаю, — сразу же согласилась Настя и предложила: — Может, еще и свежей сметанки? — Возьму, — ответила Юлия и подумала, что с такими харчами не похудеть. Настя еще раз вытерла руки и спросила вроде между прочим, но смотрела внимательно, и Юлия почувствовала, что ее соседка не так уж проста, как кажется: — Без Евгения Емельяновича как будете? — А что нам, молодым? — парировала Юлия, в конце концов от Насти она могла и не таиться, Настя — кремень, из нее никто и слова не вытянет, не то что тетка Марьяна. И действительно, соседка расплылась в приветливой улыбке и ответила убежденно: — Недаром говорят: живи, пока живется... Юлия махнула пляжной сумкой и направилась к калитке по выложенной бетонными плитами дорожке, даже спиной ощущая восхищенный Настин взгляд. Что ж, все правильно: одной доить коров, другой загорать, но Юлии было абсолютно безразлично, кто и как оценивает ее образ жизни — главное, брать от этой самой жизни все что возможно. Тетка Марьяна полола огород. Наклонилась над грядкой, повернувшись к улице спиной, казалось, ничего не слышит и не видит, однако ее поза и сосредоточенность нисколечко не поколебали уверенности Юлии: Марьяна и сейчас замечает все, что происходит на улице, вероятно, она все слышала и видела даже во сне. Юлия на всякий случай остановилась и почтительно поклонилась Марьяниной юбке, из-под которой выглядывали полные загоревшие икры. Ее предположения оказались небезосновательны: тетка Марьяна сразу же оторвалась от огурцов, выпрямилась, поправила косынку и пропела чуть ли не с нежностью: — Доброго здоровья, красавица. — Огурцов у вас будет!.. — бросив взгляд на грядки, подбодрила соседку Юлия. — Бочку, а то и две насолите. — Да, будет, — согласилась Марьяна. — Немного будет, — уточнила. — Может, жара помешает или град выбьет цвет... И ты бы посадила. Земли вон сколько гуляет, а свежий помидор или редька к столу всегда кстати. «Началось, — неприязненно подумала Юлия, — опять мораль прочтет!» Дело в том, что Юлия никогда не сажала на своем участке овощей. Немного цветов возле дома — розы, пионы, георгины, флоксы, чтоб пахли и радовали глаз, остальную территорию, соток пятнадцать или немного больше, засеяли травой — газон выглядел прекрасно, на нем можно было играть в бадминтон или загорать. — Если я посажу морковь, кто же у вас станет покупать? — пробовала отшутиться Юлия, но тетку Марьяну трудно было сбить с правильного пути. — Грех, земля гуляет, — возразила твердо. — Каждый должен работать на земле. Юлия хотела сказать, что от работы и кони дохнут, однако промолчала: этой упрямой тетке вряд ли можно доказать что-либо — мораль заурядного человека, себя же Юлия считала чуть ли не аристократкой, по крайней мере, ставила на несколько ступеней выше простых крестьянок, но старалась ничем не выказывать этого. Вот и теперь вздохнула и стала оправдываться: — Не приучена я к земле. — Посидела бы голодная, быстро приучилась. — Ой, тетенька, в нашей стране нет голодных. — Оттого, что все люди работают. — Вы же не знаете, тетенька, я пишу... — Нашла работу! — Вы ничего не читаете, вот для вас и не работа. — А что же ты пишешь? Юлия сделала таинственное лицо. — Рассказы и повесть. Действительно, попросила Евгения привезти хорошей бумаги и иногда, облачившись в пеньюар, просиживала часок за столом. Даже исписала два или три листка, называлось написанное «Мои записки и наблюдения». Как-то она прочла кое-что оттуда Евгению: «В глубине его живота затрясся смех», «Среди прохожих промелькнули знакомые серые глаза, подернутые грустью», «Не оскорбляйте землю топорными сапогами». «Соловьи безумствовали от любви»... «Мысли и наблюдения» Евгению понравились, Юлия искренне верила, что все еще впереди и что ее ждет громкая литературная слава: она станет известной, как автор «Консуэло», фамилию писательницы забыла, но какое это имеет значение? — Книгу пишешь? — все еще не верила Марьяна. — Ну да, тетенька. — А не врешь? — Видно, эта новость сразила Марьяну так, что она даже рот раскрыла от удивления. — Вы же, тетенька Марьяна, все равно ничего не читаете! — Твою книжку прочту, — пообещала Марьяна. — Обязательно прочту. Когда дашь? — Не так быстро это делается. — уклончиво ответила Юлия, повернулась и пошла, гордо вскинув голову, — сегодня она одержала победу над проклятой въедливой теткой, день вообще начался прекрасно, и Юлия зашагала по тропинке к речке, уверенная, что никто и ничто не испортит ей настроения. Тропинка вилась в ивовых зарослях, сразу за болотом взбегала на пригорок, тут Юлия постояла немного, чувствуя, как ветер щекочет ее голые ноги. Видела уже речку и пляжников на берегу, летом даже на этот богом забытый хутор съезжались дачники не только из Киева, случались москвичи и ленинградцы — их привлекали чистые песчаные пляжи, свежее молоко и овощи, не очень разбалованные хуторяне продавали их сравнительно дешево. Юлия сбежала с пригорка и направилась к пляжу, подпрыгивая и пританцовывая, совсем как школьница, получившая пятерку. Луговые травы мягко ложились ей под ноги, сладко пахло медуницей, с Днепра веяло свежестью, там на пляже ждал ее Арсен — хорошо, когда все в жизни улыбается тебе и ложится к ногам, да еще к таким стройным и загорелым... Пересекши луг, Юлия замедлила шаг, разыскивая взглядом Арсена, не нашла и встревожилась: должен был прийти, впрочем, куда ему деться? Стала, осматриваясь, вдруг увидела, и сердце екнуло. Неужели случилось наихудшее? Юлия почувствовала, как тоска подкатилась к сердцу, оно еще раз екнуло и оборвалось, но никто б не заметил этого — стояла праздничная и улыбчивая, высокая, стройная и красивая, и ветер играл ее густыми пепельными волосами. А Арсен лежал в десяти шагах на коврике, и рядом с ним сидела, обняв колени, девушка в пестром купальнике, лет семнадцати-восемнадцати, Юлия это определила сразу. Не очень красивая, худая, но самоуверенная, ишь как наклонилась над Арсеном, улыбаясь. Юлия чуть не задохнулась от гнева и неожиданности. Однако сразу овладела собой, повернулась к ним боком, не теряя, правда, обоих из поля зрения, и медленно сбросила халат. Стояла, облитая солнцем, и точно знала, что нет на пляже лучшей, просто не могло быть, почему так случилось? Почему Арсен лежит на коврике рядом с какой-то голенастой девчонкой и до сих пор не заметил ее, Юлию? Почему? Скосила глаза, рассматривая внимательно. Может, ошиблась, может, ревность сделала ее несправедливой и девчушка не так уж плоха? Нет, разве может быть привлекательным существо с острыми коленями, курносое и еще, кажется, веснушчатое? Да, физиономия у нее в веснушках, рот чуть ли не до ушей, губы тонкие. Постепенно Юлия успокаивалась. Видно, Арсен заждался, ну увидел на пляже знакомую, отчего же не покалякать? Но мог бы уже и заметить Юлию, хоть раз оглянуться... А веснушчатая девчонка наклоняется к нему совсем близко, и Арсен кладет руку на ее колено. Да еще поглаживает. Юлия подхватила халат, пляжную сумку и направилась вдоль берега так, чтоб Арсен обязательно заметил ее. Шла, смотря прямо перед собой, но краем глаза видела, как Арсен снял руку с колена девчонки и попытался спрятаться за нее. Значит, знает кошка, чье сало съела... Юлия отошла шагов на десять, вытянула из сумки махровую простыню, постелила на нагретом песке, достала черные очки и, растянувшись на простыне, начала бесцеремонно следить за его маневрами. Казалось, смотрит совсем не на них, а на речку, но не пропускала ни одного их движения. Девчонка заметила ее и что-то сказала Арсену, может, это веснушчатое создание знало об их отношениях и торжествовало... Юлия едва подавила в себе желание подойти к ним и как-то унизить, она только не знала как, и это секундное колебание спасло ее: в самом деле, устроила бы скандал, наделала бы глупостей и лишь унизила себя, а так опомнилась, сделав вид, что углубилась в книгу. Однако следила за Арсеном исподлобья, хорошо, что темные очки прятали глаза. Не без злорадства заметила: испугался и отодвинулся от девчонки, но та, вероятно, тоже разгадала его тактику, видно, съязвила по этому поводу, и Арсен расхохотался вызывающе, обнял и притянул ее к себе, начал что-то шептать на ухо — она смеялась громко, даже слишком громко, с расчетом, чтобы Юлия услышала. Это был смех победительницы, Юлия побледнела от обиды, но овладела собой, отбросила книгу и легла навзничь, раскинув руки, будто издевательский смех и коварство Арсена не касались ее. Захотелось плакать, и слезы действительно навернулись на глаза. Дома забилась бы в угол, выплакалась бы, а тут, среди веселых, оживленных людей, должна была делать вид. будто наслаждается жизнью и, как все, спешит воспользоваться летним теплом, днепровской водой, надышаться напоенным луговыми ароматами воздухом. Немного погодя слегка успокоилась: подумала и поняла, что особых оснований для тревоги нет, должно быть, Арсен нарочно разжигает ее ревность, не может быть, чтобы он променял ее на это веснушчатое чучело. Кто-кто, а Арсен не соблазнится острыми коленками девчонки, ничего не смыслящей в любви... Она-то знает Арсена, пожалуй, больше, чем он сам себя... Юлия засмеялась довольно, будто замурлыкала кошка в предчувствии вкусной еды. И как она сразу не разгадала этот не очень хитроумный маневр? Поднялась, разморенная солнцем и переживаниями, медленно подошла к коврику, увидев, как отодвинулся Арсен от девчонки и как та притихла и напряглась, будто в ожидании грозы, но Юлия, сняв очки, остановилась над ними и спросила чуть ли не ласково: — Как тебя зовут, дурочка? Девчушка невольно потянулась к Арсену, ожидая от него помощи, но он лежал, подложив руки под голову, отчужденный и холодный, вроде все это не имело к нему никакого отношения. Девушка съежилась, даже как будто сгорбилась и ответила покорно: — Татьяной. — И ты, Таня, действительно вообразила, что взяла верх надо мной? Юлии вдруг стало смешно — она представила эту сцену со стороны: стоит под солнцем молодая, красивая женщина, длинноногая, загорелая, с высокой твердой грудью, а в ногах у нее гадкий утенок, которого она может невзначай раздавить. — Что вы хотите от меня? — донесся снизу испуганный голос. — Думаешь, закадрила Арсена? — Он сам... — Вот то-то и оно, а ты, дурочка, размякла от счастья. Но не по тебе же... — Что вам нужно? — Ничего, — ответила вполне искренне, да и действительно, чего требовать от котенка, едва научившегося выпускать коготки? Перевела взгляд на Арсена. Лишь демонстрирует равнодушие и независимость, а глаза бегают и весь подобрался. — Ну!.. — только и вымолвила. — Чего тебе? — ощетинился Арсен, и Юлия поняла, что не должна унижать его, хоть знала: проглотил бы и это. Все же дала ему возможность отступить с достоинством. — Пошли купаться, — предложила. Арсен понял, что гроза миновала, и бодро вскочил па ноги. — Пошли. — Направился к реке, ни разу не оглянувшись на девушку, которую только что обнимал так нежно, и Юлия побежала за ним, тоже забыв о ней, — лишь на секунду мелькнула мысль, что когда-нибудь Арсен так же легко бросит и ее, уйдет не оглянувшись и сразу же позабыв. Но когда то еще будет, и стоит ли сейчас забивать себе этим голову? Они поплыли к песчаному островку, заросшему ивами, Юлия устала, растянулась под кустами и смотрела, как Арсен, загребая ногами песок, идет к середине островка. Высокий и стройный, мышцы так и играют, волосы до плеч, капли воды поблескивают на бронзовом загорелом теле. Арсен с утра и до вечера на пляже, больше на хуторе делать нечего, а в город возвращаться боится. Говорит, надо перекантоваться здесь, в Дубовцах, — его партнера но денежным операциям вроде замела милиция, и неизвестно, что тот говорит на допросах. — Вечером поедем в Киев, — сказала Юлия, внимательно наблюдая заАрсеном. Тот остановился, глянул недоверчиво. — Зачем? — Гульнем. Надоело прятаться. — Я не против. — Посидим в «Театральном». — Там не повара, калеки. — Можно в «Дубках» — Лучше. Но я сухой. — У меня найдется. Арсен подсел к Юлии, нежно обнял за плечи. Заглянул в глаза. — Хорошо, что своего тюфяка спихнула, — сказал беззлобно. — Крутился под ногами. А в Киеве мне один звоночек нужно заделать. — Двушку одолжу. — Заночуем?.. — У меня. Машину в гараж, а сами в «Дубки». Возьмем такси. — Это ты хорошо придумала. — Не то что ты... — А-а, — махнул рукой, — ты об этой веснушчатой плюгавке... — Вот что, — вдруг закипела Юлия, — если еще раз увижу!.. — Нашла к кому ревновать! — Слушай меня, дорогуша, внимательно: глаза этой выдре выцарапаю. И тебе тоже. — Там же не на что смотреть! — Может, меня обнимал? Арсен погладил плечо Юлии, она отстранилась, и он сказал примирительно: — Забудь. — Я ничего не забываю, учти, — ответила, зло блеснув глазами. — Это же надо: я Евгения из дому выпихнула, думаешь, легко было? А ты в тот же день... — Ну, побаловался немного. Ради спортивного интереса. — Тоже мне, спортсмен... — ответила Юлия уже совсем другим тоном, покосившись на широкие плечи Арсена. Она откинулась на горячий песок, подложив ладони под мокрые волосы, и предложила: — Может, в Киеве несколько дней пробудем? Арсен упрямо покачал головой: — Я же сказал, для меня это небезопасно. — Да что такое? — Вообще чепуха. Купили полторы сотни долларов, подумаешь, вшивых полтора куска, кто-то капнул, и Чебурашку замели. — Чебурашку? — Костика, мы вместе с ним это провернули. Юлия брезгливо выпятила губы: какие-то полторы сотни, на двоих и вовсе мизер. Правда, если копнут глубже, у Арсена могут возникнуть большие неприятности. Как-то по пьянке намекнул, что «балуется» валютой и руководит целой шайкой фарцовщиков. Может, и в самом деле ему не стоит мозолить глаза милиции?.. Но ведь здесь, на хуторе, им нужно взвешивать каждый свой шаг, прятаться от всех... Предложила: — А зачем тебе на Крещатик подаваться? Перекантуешься у меня. Несколько дней. — Скучно. — Со мной не соскучишься! — пообещала Юлия вполне серьезно, и Арсен сумел оценить перспективы, открывающиеся перед ним. Упал на песок рядом с Юлией, потянулся к ней, но она решительно отодвинулась: — Ты что, с ума сошел? И вправду, мимо островка буквально в нескольких десятках метров от них промчалась «Ракета», сверху надвигалась огромная баржа... — Потерпи до вечера, — попросила, стыдливо опустив глаза, как девушка, впервые услышавшая слова любви. — Ну ты и даешь! — восхищенно воскликнул Арсен. Его лексике явно не хватало разнообразия, но Юлия не замечала этого. Шепнула: — После обеда за селом возле старого дуба. Но подумала: зачем ожидать вечера, лучше приехать в Киев засветло, она сможет примерить несколько вечерних платьев, и Арсен увидит, как она в них пикантна. Юлия медленно направилась к воде, с наслаждением ощущая, как ноги погружаются в горячий песок, закинула назад голову, знала, что Арсен не сводит с нее глаз, вильнула бедрами, едва прикрытыми полосками «бикини», но сразу же одернула себя: ведь она не какая-то потаскушка, а вполне пристойная замужняя женщина, иногда позволяющая себе некоторые развлечения... Бросилась в воду, нырнув с головой, и поплыла, не оглядываясь, к берегу. Плыла и знала, что жизнь прекрасна и неповторима, особенно если сама куешь свое счастье. Как поется в песне, «люби, покуда любится...». ...Хаблак попал на хутор Дубовцы в обеденное время. Последний километр пришлось преодолевать пешком по разъезженной песчаной дороге: в «Москвиче», выделенном ему полковником Каштановым, испортилось зажигание, водитель начал копаться в трамблере, а майор, чтоб не терять время и размяться, направился к домам, видневшимся за редкими деревьями. Сегодня утром выяснилось, что жена скульптора Евгения Емельяновича Трояновского находится на даче — об этом сообщили соседи Трояновских, они знали, где именно дом Евгения Емельяновича, так как гостили у него в Дубовцах. Хаблак прикинул, что от Дубовцов не так уж далеко до Щербановки, села, где председательствовал в колхозе один из пассажиров самолета Григорий Андреевич Дорох, и можно сегодня же, если, конечно, ничто не помешает, побывать и там. И вот тебе, испортился трамблер. Дом Трояновских Хаблаку показали сразу. Верно, не нашлось бы в Дубовцах человека, не знавшего своего знаменитого земляка, и тетка, объяснявшая майору, как лучше добраться к Трояновским, говорила о скульпторе с уважением, называя его почтительно «они». В Дубовцах все жили зажиточно: дома кирпичные, на высоких фундаментах, крыты железом или шифером. Хаблак насчитал только три усадьбы, где сохранились старые, под камышовой кровлей, хаты. Единственное, что отличало дом Трояновских, — огромная, по всему фасаду, веранда, должна же в чем-то проявиться индивидуальность скульптора, она выразилась еще и в том, что калитка, от которой к веранде вела вымощенная бетонными плитками дорожка, запиралась. Хаблак подергал ее, но безрезультатно. Майор прошел вдоль проволочной сетки, надеясь увидеть кого-либо в усадьбе, которая будто вымерла, и, если б не белая «Лада», стоявшая во дворе, Хаблак мог бы подумать, что супруга Трояновского куда-то уехала. О том, что Юлия Александровна водит машину и сама отвезла скульптора в Бориспольский аэропорт, Хаблак узнал из разговора с Евгением Емельяновичем. Правда, Трояновский не сказал ему, что жена находится на даче, но мог ведь и не знать, возможно, Юлия Александровна предполагала жить в Киеве, но что-то изменилось в ее планах, вот и решила побывать в Дубовцах. Однако где же она? С таким вопросом Хаблак и обратился к пожилой женщине в светлой льняной кофте, трудившейся на огороде соседнего участка. Женщина ответила не сразу, с полминуты рассматривала Хаблака из-под приставленной козырьком ладони, наконец подошла к нему ближе и спросила сама: — А вы кто будете? — По поручению Евгения Емельяновича, — не совсем конкретно ответил Хаблак, но, оказалось, столь туманное объяснение ее вполне удовлетворило, потому что сказала: — Ищите на речке. И, считая свой ответ исчерпывающим, направилась в огород, но Хаблак задержал ее, объяснив, что, во-первых, никогда не встречался с Трояновской, во-вторых, не знает даже, как пройти к речке, и все это значительно усложнит поиски Юлии Александровны. — А на речку вон туда, через луг, — показала женщина в сторону видневшегося заулка. — А Юльку и сами увидите, другой такой нет. Эта реплика, вероятно, свидетельствовала об ее отношении к соседке, как показалось Хаблаку, не весьма благосклонном, и он незамедлительно воспользовался этим: — Как понимать — такой? Женщина смерила майора оценивающим взглядом, презрительно хмыкнула, и Хаблак понял: небось причислила его к одной с Трояновскими компании, и совсем уже не рассчитывал на теткину симпатию, но она все же продолжила: — А такой вертихвостки. Муж выехал, а она сразу голая на пляж... — Голая? — искренне удивился Хаблак. — Ну если это у вас называется одеждой... Неужто и в городе так ходят? Тряпочкой прикроется, а все видать. — Лишь тряпочкой? — хитро прищурился Хаблак. — Наверно, в купальнике. Тетка сердито покачала головой: — А по селу зачем? Ты на речке раздевайся, а по селу не смей так шататься! Хаблак хотел сказать, что, несомненно, она права, но по улице, обдав их пылью, промчались красные «Жигули», машина затормозила возле калитки Трояновских, какой-то человек выскочил из нее, подергал калитку и, убедившись, что она заперта, поехал дальше. — Юлькин брат из Киева, — объяснила тетка. — А она не очень-то и обрадуется ему. — Почему? Тетка глянула на него испытующе. — А вы кем Евгению приходитесь? — спросила. — Просто знакомый. — Знакомый, — молвила презрительно. — Друзья и товарищи... Ездят тут, пьют и гуляют, а чтоб другу глаза открыть... — На что? — А на то, что жену одну бросать негоже. — К тому же молодую и красивую? — подыграл Хаблак. — Вертятся тут разные... — И вокруг Юлии Александровны? — А вокруг кого же! Эта информация навела Хаблака на некоторые размышления, он знал из практики уголовного розыска несколько дел, когда неверная жена и любовник объединялись против мужа, было даже убийство, правда, давно, жена отравила немилого, но времена меняются, и в нашем столетии технического прогресса... Но чтоб так, замахнуться на жизнь стольких... Сказал серьезно: — Я никогда не поверю, что такая приличная и уважаемая женщина, как Юлия Александровна, может что-то позволить себе. — Не хотите, не верьте, а мы видим. От людских глаз никто не спрячется... «Да, не спрячется, — подумал Хаблак, — особенно от таких всевидящих, как у тебя». Махнул рукой: — Говорить можно все. Ну подошел кто-то на пляже, поболтали... — Поболтали... — злобно скривила губы женщина. — Евгений в Киев, Арсен в дом... — Арсен? Кто такой? Вот и сказали бы Евгению Емельяновичу. — Так он и поверит... Намекали, да разве он... — Арсен... — Хаблак сделал вид, что припоминает. — Что-то не знаю. — Откуда можете знать? Дачник, раньше в Дубовцах им и не пахло. — Знакомый Трояновских? — Теперь даже близкий, — сказала ехидно. Из-за угла вынырнули красные «Жигули», затормозили возле усадьбы Трояновских. Из машины выскользнула молодая женщина в цветастом халатике, машина сразу отъехала, женщина помахала рукой и отперла калитку. — Вот и сама... — неприязненно выдохнула тетка. — Вам и искать не нужно. — Она сердито поправила платок, резко повернулась и пошла к дому, а Хаблак пересек улицу и окликнул Трояновскую: — Юлия Александровна! Женщина уже прошла половину расстояния к дому. Совсем не удивилась незнакомому мужчине. Остановилась, поджидая. Хаблак шел, приглядываясь к ней. Трояновская понравилась ему. В самом деле хороша — стройная, красивая, халатик полурасстегнут, и загоревшее тело едва прикрыто. Подумал: обычно женщины, увидев чужого человека, застегиваются, но Юлия не спешила с этим, чуть-чуть помахивала пляжной сумкой и смотрела изучающе. — Кто вы? — спросила. — Из милиции. — Ко мне? — К вам. — Что случилось? — Есть несколько вопросов. — Тогда прошу. — Лишь теперь поправила халатик на груди и засеменила к веранде. — Милиция?.. А-а, знаю, это в связи с Евгением? — Она не вошла в дом, указала Хаблаку на плетенное из лозы кресло. Сама опустилась в такую же качалку. — Я не ошиблась? — переспросила. — Да, — подтвердил Хаблак. — разговор касается вашего мужа. — Какой ужас! — Юлия Александровна несколько театрально сжала пальцами виски. — Евгений мог погибнуть! — Откуда знаете? — насторожился майор. — Только что приезжал брат Евгения. Муж утром звонил ему из Одессы и просил передать вещи. Какой ужас! — повторила, но не очень взволнованно, по крайней мере, глаза смотрели спокойно. — Взрыв! В наше время... Но при чем тут милиция и я? — Скажите, Юлия Александровна, вы сами укладывали вещи мужа в чемодан? — А как же. — И он не мог попасть в чужие руки? — А-а, вот вы о чем! — сразу сообразила Юлия. — Подозреваете меня? — Скажем иначе: должны выяснить некоторые обстоятельства. Глаза у Трояновской потемнели, ответила резко: — Чемодан укладывала я лично, и чужие руки его не касались. Евгений сам положил чемодан в багажник машины, а потом вместе сдали в аэропорту. Выходит, можете подозревать только меня. — Пока что мы никого не подозреваем. — Расследуете? — Если хотите, да. Юлия откинулась на спинку качалки, крепко сжала поручни. — Значит, — сказала сухо и даже жестко. — кто-то положил в вещи взрывчатку. И вы разыскиваете преступника? Этой женщине нельзя было отказать в уме и наблюдательности. Хаблак оценил это сразу, вероятно, она ожидала подтверждения, но майор промолчал, и Трояновская продолжала, не сводя с него глаз: — Вот почему вы и вертитесь тут, в Дубовцах. И беседовали с теткой Марьяной. Представляю, что она наговорила обо мне! — Просто расспрашивал, как найти вас. — И тетка Марьяна навела вас на кое-какие размышления? Хаблак опять не ответил. — Просветила вас, рассказала об интимных сторонах моей жизни? Так вот, товарищ из милиции... — Она перестала покачиваться, наклонилась к Хаблаку и спросила: — Надеюсь, наш разговор не для третьих ушей? — Несомненно. — Так вот, уважаемый товарищ, вы можете подозревать меня сколько хотите, а я вам скажу откровенно... Ведь все равно докопаетесь. Ну есть у меня человек, которому симпатизирую. Понимайте это слово как хотите, — добавила, заметив невольный жест Хаблака. — Но мужу плохого не делала и никогда не сделаю. Больше того, я вам за Евгения горло перегрызу, вот что! У меня сейчас и квартира, и дача, и машина, а что я сама?.. Машинистка или секретарша у староватого начальника? Уже была и больше не хочу. А Евгений обеспечивает меня всем. — И не очень вмешивается в вашу интимную жизнь? — не без иронии спросил Хаблак. — Если хотите, да. — ответила не стыдясь. Покачнулась, и халатик разошелся на коленях, оголив ноги, но она не запахнулась, смотрела на майора насмешливо — знала цену своей привлекательности. Хаблак подумал, что эта внешне обаятельная женщина — настоящая хищница, милая и обольстительная хищница с перламутровыми коготками, и сказал, будто размышляя вслух: — Но ведь можно иметь квартиру, дачу и «Ладу» и без не очень любимого мужа... Трояновская поняла майора сразу и среагировала мгновенно: — Черта с два! Машину можно разбить, да и вообще железо ржавеет, надеюсь, вам это известно? За дачу тут в Дубовцах мне дадут тысяч пятнадцать, ну, может, немного больше. А мне эти тысячи — тьфу, Евгений Емельянович знаете сколько зарабатывает? Так какой же мне резон, понимаете, мне, делать ему плохое? Юлия Александровна посмотрела на Хаблака торжествующе и вдруг заметила, что этот милиционер, и, верно, не простой милиционер, а офицер милиции — ведь в цивильном, и сорочка модная, сафари, — что этот милицейский офицер красив, даже очень, глаза большие и серые, умные и пытливые, лоб высокий, а каштановые волосы поблескивают в солнечных лучах. Совсем ничего себе мужчина, может, даже лучше Арсена, что с Арсена возьмешь — лишь фигура да красота, а ум куриный, собственно, какой ум может быть у мелкого фарцовщика, все у него «клево»... А если?.. Мысль зародилась у Юлии, только зародилась и сразу же овладела ею. Юлия Александровна вдруг запахнула халат на коленях и молвила сконфуженно: — А впрочем, не верьте мне. Наболтала... Сама не знаю, что говорю. Борис приехал, рассказал, и я вся какая-то не своя... Сквозь полуопущенные ресницы видела, как воспринимает пришелец ее перевоплощение, и думала, что стоило бы заманить его вечером на киевскую квартиру. Черт с ним, с Арсеном, никуда он не денется, а этот милицейский офицер действительно хорош — такие не всегда попадаются даже ей. — Как вы добрались в Дубовцы? — спросила. — Наша машина испортилась, какой-то километр не доехали... — Так я вас отвезу, — обрадовалась Юлия. — Давайте пообедаем вместе и поедем в Киев. Хаблак усмехнулся: не так уж трудно было понять истинные намерения Юлии Александровны. Впрочем, подумал, не каждый мужчина устоял бы перед ее чарами. А еще подумал: и ему, если откровенно, она нравится, вот и надо иметь силу воли, чтоб устоять. А в том, что она только что фактически предложила себя ему, почти не сомневался. Вдруг Хаблак вспомнил лейтенанта Устимчика, своего бывшего коллегу, погоревшего в свое время из-за такой женщины, и это совсем отрезвило майора. — Но, вероятно, вы не собирались в Киев... — сказал. — Вещи... — возразила собеседница. — Евгению надо передать вещи. Борис говорит, что Аэрофлот незамедлительно доставит их в Одессу. Хаблак поднялся. — А вот и моя машина. Спасибо за приглашение. — Нет так нет, — быстро и без сожаления согласилась Юлия. Она смотрела, как идет этот стройный и красивый милицейский офицер к калитке, но уже не думала о нем. Сколько таких — стройных и красивых, на ее женский век хватит.4
Старший научный сотрудник института Грач пришел на работу, как всегда, на десять минут раньше. Его уже во второй раз избрали председателем месткома, и он заботился о своей репутации, постоянно выступал против разгильдяйства и распущенности, и все должны были воочию убеждаться, какой он принципиальный и аккуратный. Другое дело, что Грач редко досиживал в институте до конца работы — всегда находил повод, чтоб уйти раньше, конечно, абсолютно убедительный повод: вызов в горком профсоюза, собрание актива, научная конференция, — боже мой, нескончаемы обязанности председателя месткома и заместителя заведующего отделом института, и если умело манипулировать ими, то в таком большом хозяйстве, как научно-исследовательский институт, можно просуществовать, так сказать, с наименьшими для себя потерями. Грач давно уже понял нехитрую механику институтских порядков и взаимоотношений. Конечно, царь и бог — директор — известный ученый, академик, лауреат Николай Васильевич Корольков. Одно его слово весит больше, чем целая речь председателя месткома. Но до Николая Васильевича, как до каждого уважающего себя «царя» и «бога», далеко, он где-то там, в высших научных сферах, на заседаниях, съездах, конференциях и симпозиумах, а тут, на земле, на твердом научном «грунте» хозяйничают совсем другие, тут все вопросы решают заместитель директора Михаил Михайлович Куцюк-Кучинский и его ближайший помощник и советник Ярослав Иванович Курочко, доктор наук и непосредственный шеф Федора Степановича Грача. Иногда они консультируются и с председателем месткома, это как-то подымает авторитет, отвечает амбициям Грача, хотя Федор Степанович очень хорошо знает свое место на иерархической лестнице, сам высовывается редко, все более или менее принципиальные вопросы согласовывает с Ярославом Ивановичем, догадываясь, что в таком случае его всегда поддержит и заместитель директора. Сегодня Грач немного нервничал. Время от времени снимал очки или сдвигал их на кончик маленького, похожего на пуговицу носа, закатывал глаза, будто на потолке или даже где-то выше мог прочитать ответ на мучившие его вопросы. Еще бы, возможно, сегодня решится то, к чему он шел долгих три года, наконец материализуются плоды его не очень обременительных размышлений. Может, сегодня фортуна улыбнется ему, должна улыбнуться, ведь на его стороне Ярослав Иванович, а шеф, если захочет, может сделать все. Да, докторская диссертация — предел желаний кандидата наук Федора Степановича Грача. Защитить докторскую диссертацию — и точка. Конец интригам и унижениям, хватит консультироваться, советоваться, благодарить и кланяться. Доктор есть доктор. Это — положение и зарплата. Это, в конце концов, независимость, это — осуществление тщеславных устремлений Грача, твердо знавшего, что он ничуть не хуже по всем, так сказать, показателям самого Ярослава Ивановича Курочко, а по некоторым даже превосходит его. Да, превосходит. Во всяком случае, умнее и дальновидней Курочко, к тому же моложе и половчее, так что должность заведующего отделом по праву принадлежит ему. А вам, уважаемый Ярослав Иванович, придется уступить место. Впрочем, можно вас и выдвинуть: сколько почетных должностей разных референтов и консультантов, правда, без власти и соответствующего авторитета, зато денежных. А что вам нужно теперь, когда перевалило за пятьдесят? Небось только деньги. Власть — кусок вкусного пирога, — пусть насладятся вволю другие. Федор Степанович иногда, в минуты душевного просветления, представлял себя на месте Курочко. Как впервые после приказа появится в институте, конечно опоздав на час или больше, пренебрегая унизительной месткомовской пунктуальностью: это вам не кто-нибудь, а доктор наук Грач, и все должны сразу постичь это. Ведь никто еще не знает, какая у него твердая рука. Грач поправил дрожащими пальцами очки и снова закатил глаза. Потом вытащил из ящика письменного стола кожаную папку и сделал вид, что занят бумагами: сотрудники отдела должны видеть, что профсоюзный босс с утра начинает заботиться о них. Первой влетела в комнату Верочка, Верунчик-красунчик, как называли ее в институте, предмет неразделенной любви Грача. Она остановилась в дверях, мигая густо накрашенными ресницами, и послала Федору Степановичу воздушный поцелуй. Грач оторвался от бумаг, взглянул на Верунчика сурово, хоть сердце и екнуло. Подумал: вряд ли Верунчик-красунчик откажет ему, если он наконец станет доктором. Эта мысль сладко пощекотала его, захотелось уже сейчас сказать Верунчику что-то едкое, как-то поставить на место, однако сдержался и снова углубился в бумаги. Всему свое время, и лишь терпеливый достигает высот. Только бы защититься! Он согласен на все, даже принесет этому осточертевшему Юре, жалкому репортеришке, газетчику, подправлявшему его диссертацию — расставлял запятые и выискивал грамматические ошибки, — две-три бутылки пива, тот пожелал именно такого вознаграждения за свою ничтожную работу — так и сказал, чтобы похвастаться в кругу таких же бездарных писак, что, мол, вчера ему, Юре, всякие там докторишки наук носили пиво. Ну и пусть, он переживет все, даже унижение. Ведь только униженный умеет по-настоящему отомстить. Грач здоровался с сотрудниками, занимавшими места за столами или заглядывавшими в их большую комнату, а сам считал минуты. Гнусная все же привычка у этого Ярослава Ивановича — опаздывать. Тебе же, посредственности и сучьему сыну, деньги платят за работу, и большие деньги, так хоть являйся вовремя... Наконец появилась Людмилочка. И сразу к столу Верунчика — хи-хи, ха-ха, щебечут, стрекочут, вроде и не в институте, а где-то на Крещатике: ни стыда, ни совести... Прикрыв глаза ладонью, Грач тоскливо поглядывал на девушек. Когда-то он, улучив момент, обманув внимание своей суровой, не очень красивой, на год старше его жены, пригласил девушек в пригородный дом отдыха. Верунчика-красунчика и Людмилочку, а для баланса — знакомого Юру-газетчика. Смог устроить этот выезд через местком без особых затрат, приобрел лишь для девушек три бутылки красного игристого. И все складывалось хорошо. Комнаты у них отдельные, есть где уединиться. Людмилочка выпила и, как не без оснований решил Грач, была готова на все, да и Верунчик, кажется, наконец смягчилась. Предварительно они с Юрой договорились о сферах, так сказать, влияния. Юра должен был ухаживать за Людмилочкой — и он не нарушал конвенции. Но, наблюдая, как разомлевшая девушка жмется к нахальному газетчику, Грач вдруг ни с того ни с сего начинал ревновать, втирался между ними, сам прижимался к Людмилочке, но глазами ел Верунчика. Боже мой, нет предела человеческой алчности, и не доводит она до добра! Так и тогда. Допили красное игристое, Юра уже потянул Людмилочку в другую комнату, но какой-то бес попутал Федора Степановича: загородил двери, схватил девушку за руку, отобрал у соперника, а спросить бы — зачем? В конце концов девушки рассердились и пошли к себе — до сих пор Верунчик-красунчик не может простить ему той поездки... Ничего, простит, дай боже только, чтоб устроилось с докторской! Минул почти час, девушки нащебетались и занялись наконец работой. Грач уж совсем было потерял терпение, и только тогда приехал Ярослав Иванович. Он вошел в комнату, как всегда, предельно деловой, сосредоточенный и даже хмурый, будто и в самом деле научные мысли не давали покоя, ни на кого не посмотрел, лишь встретился глазами с Грачом, едва заметно кивнул и исчез в дверях. Сердце у Федора Степановича замерло: зав вызвал его, значит, разговор, как и планировалось, состоится именно сегодня. И Грач, бросив ненужные бумаги в кожаную папку, поспешил в кабинет шефа. Стал перед его столом, ощущая, как дрожат кончики пальцев, поправил очки и наконец спросил: — Вызывали, Ярослав Иванович? — Да, Федор. — Шеф все еще обращался к нему, как к мальчишке. — Сейчас я пойду к Михмиху. У тебя все готово? — Диссертация отпечатана, проспект тоже. С оппонентами разговаривал... Курочко досадливо поморщился: — Не об этом... Если Михмих изъявит желание?.. Грач заморгал глазами: действительно, какой он недогадливый. — Есть договоренность в ресторане «Днепр». Отдельный столик, икра, красная рыба... — Годится, — подтвердил Ярослав Иванович. — Сиди тут, никуда не отлучайся. Он мог бы и не говорить этого: Грач сколько угодно будет ожидать здесь, в тесноватом кабинете шефа, он с удовольствием сидел бы этажом ниже в приемной Михмиха, прислушиваясь к малейшим звукам, долетающим из-за обитых дерматином дверей, да неудобно. Курочко вышел, а Грач, сняв очки, зашевелил губами, можно было подумать, что он молится, однако Федор Степанович не просил у бога милости, знал, что бог не в силах помочь ему. Как человек суеверный, просто повторял слова детской считалки, которые, как думалось, имеют магическое значение и всегда приносили ему счастье: — Эники-беники ели вареники, эники-беники клец... И снова: — Эники-беники... — Приветствую вас, Михаил Михайлович! — Курочко едва не лег весьма объемным животом на зеркальную поверхность стола. — Рад видеть в добром здравии. Заместитель директора пошевелился в кресле — он едва не утонул в нем, только лысая голова возвышалась над столом и очки в золотой оправе блестели предостерегающе и сурово. Куцюк-Кучинский подал Курочко маленькую, чуть ли не детскую пухлую руку, обошел стол и устроился в кресле напротив Ярослава Ивановича, что означало высшее проявление гостеприимства и уважения, однако Курочко воспринял это спокойно, как должное, даже вытянул сигарету и поискал глазами пепельницу. Это было нахальство, все знали, что Михаил Михайлович не курит и не терпит табачного дыма, в его кабинете курили лишь Корольков и высокие гости: жест Курочко означал определенную демонстрацию силы, Михаил Михайлович понял это и сам нашел пепельницу. Большую, хрустальную. Вообще хозяин кабинета любил все большое и объемное, может, потому, что сам был низенький, пухленький, чем-то похожий на колобок. Сходство было настолько разительным, что в институте его называли только Колобком, прозвище прилипло к нему, но когда в новогоднем номере стенгазеты художник изобразил Куцюка-Кучинского колобком, кое-кто посчитал, что Михаил Михайлович обидится, но у него хватило здравого смысла вместе со всеми посмеяться над шаржем — правда, через полгода художник попал под сокращение штатов. Курочко закурил, но пустил дым в сторону, хоть так проявляя уважение к начальству. Михаил Михайлович принюхался и вздохнул с облегчением, пахло «Золотым руном» — хорошо, что у этого неотесанного Ярослава Ивановича хватило такта закурить душистую сигарету, а не какую-то вонючую «Приму», которой задымил все комнаты своего отдела. Это улучшило Куцюку-Кучиискому настроение, Михаил Михайлович потер мягенькие ладони и сказал приветливо: — Всегда приятно видеть вас, уважаемый, а если вы принесли еще хорошее известие... — Без добрых вестей не ходим. — Говорили с Норвидом? — Даже дважды. — Успешно? — Со скрипом, уважаемый Михаил Михайлович, со страшным скрипом, но в конце концов он понял, что наши предложения только на пользу ему. — Болван! — вдруг возмущенно воскликнул Колобок. — Сопротивляется, вместо того чтоб благодарить. Я же согласился поставить свою фамилию! — Это я и объяснил ему. Ну кто такой Норвид? Ноль без палочки. Если ж сам Куцюк-Кучинский поставит под изобретением свою фамилию, премия обеспечена. И не какая-нибудь... Михаил Михайлович втиснулся в кресло. Сказал тихо и даже как-то грустно: — Вот и делай людям добро. Никто не знает, сколько времени отбирает у меня этот кабинет, да, дорогой Ярослав Иванович, размениваемся на мелочи, кадры, хозяйственные вопросы, а мог бы, мог бы и я сказать свое слово в науке! Курочко осторожно, ладонью отогнал дым. Не поддакнул Колобку, хотя тот явно напрашивался на это, да и, собственно, почему должен был поддакивать? И так половину научных заслуг Михаила Михайловича организовал он, Курочко. Заглянуть только в последний научный вестник: шесть статей подписаны Куцюком-Кучинским как соавтором, а спросить бы у Колобка, хоть прочитал их? — Наука, дорогой Михаил Михайлович, — сказал наконец, — баба вредная, подхода требует осторожного и вдумчивого, иногда каждый шаг следует взвешивать. — Кому как, — недовольно покрутил головой Колобок. — Другим везет, лезут напролом, ногой двери в науку открывают. — Да, — вздохнул Курочко, — не то что мы, трудяги... — Хитро взглянул из-под косматых бровей и добавил осторожно: — На одних все сыплется: академик, лауреат, почетный член... Колобок поежился и, казалось, совсем растворился в большом кресле. Как приятно было слышать эти слова, сам думал так, но никогда не осмеливался вслух... А Курочко!.. Ох, прохиндей проклятый, позволяет себе замахнуться на самого... От этих мыслей ему стало страшно, и Колобок поднял руки, как бы отгораживаясь от Ярослава Ивановича. Но тот не заметил этого жеста или сделал вид, что не заметил, и продолжал вкрадчиво: — Кое-кому выпадает всю жизнь быть тенью. Ходить под кем-то и, как луна, отражать чужую славу. — Ну что вы, дорогой, все мы под богом, а бога имеем одного, Николая Васильевича. Курочко выпятил губы и свирепо выпалил: — И не стыдно вам? С вашей головой, вашими способностями? Представьте себе, нет нашей звезды, ну закатилась, умер или погиб, гибнут же люди, машины разбиваются, самолеты... — запнулся и облизал пересохшие губы. — Это я так, чисто теоретически... Но бывает же... И тогда восходит новая звезда. Не так ли? Куцюк-Кучинский пошевелился в кресле, но чуть-чуть, чтоб даже Курочко не заметил, ведь прав прохиндей, бьет просто в яблочко. Однако Михаил Михайлович промолчал, лишь вздохнул тихонько и жалобно. А Курочко совсем забылся, забылся и обнаглел до того, что выдохнул дым ему в лицо. Затем сказал без обиняков: — Не надоело ли вам быть тенью Королькова? — Что вы, что вы! — замахал руками Куцюк-Кучинский. — Я так уважаю Николая Васильевича! — И век будете ходить в замах. — Горжусь этим. — Но ведь мечтаете стать членкором? Я не говорю уж... Вдруг Колобок покраснел, стал даже как-то выше и прокричал визгливо: — Прекратите! Я приказываю вам прекратить эти недостойные разговоры! — Конечно, я могу прекратить, — рассудительно ответил Курочко. — Но станет ли вам лучше? Пока мы вдвоем, уважаемый Михаил Михайлович, представляем хоть какую-то силу, а сами вы?.. — Ну хорошо, — пошел на попятную Колобок, — все правильно, однако вы так неожиданно... — Привыкайте, уважаемый, и знайте, тень Королькова никто членкором не сделает. — Но не все же зависит от нас... — Да, не все. — Вот я и говорю: под богом ходим. — Крепить ряды надо, уважаемый. — Это в нашем институте! На Королькова же молятся! — Далеко не все, Михаил Михайлович, и со своими людьми считаться должны. Потихоньку, уважаемый, но не медлите. Пока кое-кто парит в академических высотах, мы все земные позиции займем. — Легко сказать... — Если б все было легко... Но недаром же говорится: капля камень точит. Куцюк-Кучинский пристально посмотрел на Курочко. — А вы неспроста пришли ко мне, — догадался наконец. — С идеями? Ну что ж, выкладывайте. — Всегда ценил вас за острый ум, — с едва заметной иронией ответил Курочко, подумав, что этого спесивого петуха обвел бы вокруг пальца и не такой хитрый лис, как он. — Идеи есть, уважаемый. Надо поддержать своего человека, и человека нужного. — С радостью, но смогу ли? — Если уж не вы, Михаил Михайлович... — Кого? — Грача. — Федор Степанович — человек достойный, — осторожно согласился Колобок. — И заслуживает поддержки. Я слышал — он закончил докторскую. — И отдел рекомендует ее к защите. — За чем же остановка? — пожал плечами Куцюк-Кучинский. — Кто может сомневаться в решении отдела? — Я убежден в объективности ваших суждений. Но вы сами знаете, кое-кому вожжа под хвост попадет — и все, его слово на ученом совете... — Да, ученый совет не пойдет против Николая Васильевича, — согласился Куцюк-Кучинский. — И потому следует созвать его немедленно, — подсказал Курочко, — пока наш уважаемый академик не вернулся. — Трудно. — Но возможно. — Ничего невозможного и в самом деле нет, — как-то злорадно блеснул очками Михаил Михайлович. — Но Корольков может усмотреть в самом факте внеочередного созыва ученого совета ну что-то... подозрительное, если хотите. — Пустяки! — уверенно возразил Курочко. — Ему совсем необязательно знать об этом заседании, протокол подпишете вы, а Николаю Васильевичу некогда углубляться в мелочи, текущие дела не должны его интересовать, более того, мы просто должны беречь время академика для науки. Куцюк-Кучинский вздохнул и снова блеснул очками. Сказал приглушенно: — Я догадывался, что диссертация Грача не имеет большой научной ценности, теперь вы окончательно убедили меня в этом. — Для чего же так прямо? — Мы свои люди, Ярослав Иванович, и не нужны нам дипломатические экивоки. — Итак, ученый совет созовем... — До возвращения Королькова. — Одно удовольствие иметь с вами дело. — И я тоже понимаю вас с полуслова. Курочко погасил окурок, разогнал рукой дым. Хотел уже идти, но Куцюк-Кучинский остановил его. Спросил: — А как же ВАК, Ярослав Иванович? Не возникнут ли непредвиденные сложности? — Будем надеяться... — Ну что ж, — Куцюк-Кучинский махнул рукой, то ли соглашаясь, то ли отпуская Курочко. — Полагаюсь на вас. Ярослав Иванович улыбнулся и пошел, а Куцюк-Кучинский смотрел ему вслед и думал, что, в конце концов, если даже диссертацию Грача ВАК и зарежет, с него как с гуся вода. Ну созвал срочно ученый совет, кто же поставит это на вид? Облегченно вздохнул и открыл окно: хоть и «Золотое руно», а дышать нечем. Курочко вышел в приемную в хорошем настроении: дело сделано и ужин в ресторане обеспечен. Вспомнил, что не пригласил Колобка, хотел даже вернуться, но решил: не надо. Да, не стоит, кто-нибудь может увидеть Грача в ресторане вместе с заместителем директора, пойдут нежелательные слухи, возможны анонимки, а диссертанту это совсем ни к чему. Ярослав Иванович широко улыбнулся секретарше, хотел сказать ей что-то приятное, но увидел в приемной незнакомца. Сидит скромно возле дверей, скрестив руки на груди, и смешно шевелит большими пальцами. Этот толстяк, вероятно, не ученый — у Курочко была цепкая память, и был уверен, что раньше никогда и нигде не встречался с ним. А если не ученый и не какая-нибудь важная птица (а «птица» вряд ли сидела бы, терпеливо ожидая приема у Куцюка-Кучинского), так и не заслуживает внимания. Курочко еще раз улыбнулся секретарше и поспешил в отдел порадовать Грача приятным известием. Секретарша, заглянув в кабинет, доложила: — К вам, Михаил Михайлович, следователь из прокуратуры, товарищ Дробаха. — И сразу отошла от дверей, пропуская: — Прошу вас... Смотрела, как боком протискивается в кабинет человек в мешковатом костюме, проводила его любопытным взглядом и плотно прикрыла дверь. Куцюк-Кучинский встретил Дробаху, стоя за столом. Приветствовал его легким наклоном головы и указал на кресло. Дробаха, прежде чем сесть, подал удостоверение — заместитель директора внимательно изучил документ, видно, должность следователя по особо важным делам поразила его, так как, возвратив красную книжечку, протянул Дробахе руку и спросил услужливо: — Что же именно может заинтересовать вас в нашем скромном учреждении? Дробаха спрятал удостоверение, медленно опустился в кресло, выдержал паузу и наконец сказал: — Не такое уж и скромное учреждение возглавляете, Михаил Михайлович. Не прибедняйтесь. — Заместитель, только заместитель директора, товарищ Дробаха. А директор у нас, вероятно, слышали — академик Корольков. — Только вчера разговаривал с ним. — Случайно не ошибаетесь? Именно вчера Николай Васильевич вылетел в Одессу. — Мы встретились с ним в аэропорту. — Ничего не понимаю. — Неприятная штука, Михаил Михайлович, однако должен поставить вас в известность: в одном из чемоданов пассажиров, отправляющихся в Одессу, взорвалась мина, к счастью, никто не пострадал. — Диверсия? — широко раскрыл глаза Куцюк-Кучинский. — Хотели убить Николая Васильевича? Дробаха снисходительно улыбнулся. — Не совсем так, — уточнил, — но имеем основания считать, что кого-то из пассажиров... — Невероятно! — искренне воскликнул Куцюк-Кучинский и вдруг запнулся. Неужели?.. Вспомнил: несколько минут назад Курочко сказал... Как же он сказал? Точно: «Машины разбиваются и самолеты...» Неужели?.. Ишь прохиндей проклятый... А может, пустое... — Невероятно... — повторил дрожащим голосом. Посмотрел на Дробаху растерянно. — И вы пришли к нам искать злоумышленника? — Ну зачем так категорично? Скажем: выяснить некоторые обстоятельства. — Чем же я могу?.. — Николай Васильевич рассказал, что его чемодан стоял в приемной. Как вы считаете, не мог ли кто-нибудь воспользоваться этим? Может, секретарша? — Наташа? — Наталья Павловна Яблонская, если не ошибаюсь? — Считаете, она причастна? — Я ничего не считаю, Михаил Михайлович, я только знаю, что в одном из чемоданов, сданных в Борисполе в багаж, была мина с часовым механизмом. — Но ведь Наташа!.. Что она может? — Николай Васильевич сообщил, что не закрывал чемодан на ключ и после того, как дома уложил необходимые вещи, не заглядывал в него. — Не верю, что Наташа могла сотворить такое. — Кто кроме вас и нее знал, что Николай Васильевич вылетает в Одессу? Куцюк-Кучинский задумался на несколько секунд. — Конечно, шофер, — ответил, а сам подумал: «Неужели Курочко? Неужели мог пойти на такое? Какой прохиндей! Однако следует молчать. Только молчать, иначе начнут распутывать клубок и сразу выяснят, кто поддерживал Курочко... Станут известны некоторые негативные аспекты их дружбы, темные пятна...» — Фамилия шофера? — Петр Лужный. — Еще кто? — Неужели вы думаете, что отъезд директора института на симпозиум — государственная тайна? — улыбнулся Куцюк-Кучинский. Ему хватило нескольких секунд, чтобы овладеть собой и трезво взвесить ситуацию. Даже принять решение. — Конечно, я так не думаю, — ответил Дробаха серьезно. — С вашего разрешения я хотел бы поговорить с Натальей Павловной. — Пожалуйста, — с облегчением согласился Куцюк-Кучинский: по крайней мере, еще несколько минут на размышления. Сидя в приемной, Дробаха успел присмотреться к секретарше, и она произвела на него приятное впечатление. Не какая-то миленькая вертихвостка, женщина еще молодая, но серьезная и время не теряла: разбирала утреннюю почту, а не читала какой-нибудь припрятанный в ящике увлекательный роман. И сейчас вошла в кабинет сосредоточенная и остановилась у дверей выжидательно. — У товарища следователя, Наташа, несколько вопросов к вам, — сказал Михаил Михайлович и пригласил: — Идите сюда и садитесь. Не удивилась и не встревожилась, прошла к столу спокойно, расположилась удобно в кресле и уставилась на Дробаху. — Когда вчера приехал в институт Николай Васильевич? — спросил следователь. — В десять. Может, немного позже. — Он принес с собой чемодан? — Ну что вы!.. — удивилась несообразительности следователя. — Чемодан занес шофер. — Петр Лужный? — Нет, за директором послали машину Михаила Михайловича. У Петра что-то испортилось. — А я и не знал, — вставил Куцюк-Кучинский. — Не хотела вас отвлекать: вы принимали представителей завода. — Точно. — Итак, — продолжал Дробаха, — шофер принес чемодан... — И оставил его в приемной. — Когда Николай Васильевич выехал в Борисполь? — В начале двенадцатого. — Значит, чемодан стоял в приемной немного больше часа? — Да. — Вы не интересовались чемоданом? Не прикасались к нему? Возмущенно пожала плечами: — Зачем? — Прошу вас, — мягко сказал Дробаха, — припомните, вы все время, с десяти до отъезда директора, сидели в приемной? Наташа задумалась на мгновение и ответила не колеблясь: — Выходила дважды. Николай Васильевич просил принести из буфета бутерброды, а потом относила письма в канцелярию. — Сколько времени заняло у вас хождение в буфет? — Минут восемь — десять. — А канцелярия далеко? — Я еще задержалась там, — вспомнила секретарша. — Поговорили немного... Тоже минут десять. — Не видели, кто-нибудь из посторонних заходил в приемную? — Но ведь вход в институт только по пропускам. — Может, застали кого-либо? — Директор вызывал Андрусечко. — Доктор наук, — вставил Куцюк-Кучинский. — Заведующий отделом. Известный ученый. — Не заметили, кто выходил из приемной? — Кажется, Курочко, да, — кивнула утвердительно, — Ярослав Иванович тоже заходил. «Боже мой, — чуть не вырвалось у Куцюка-Кучинского. — И тут Курочко!» — Больше никто не беспокоил директора? — спросил Дробаха. — Потом к Михаилу Михайловичу заходил инженер Кремибский. Ну и шофер Петр. Сообщил, что машина исправна. Дробаха увидел, как нетерпеливо заерзал в кресле Куцюк-Кучинский, и отпустил секретаршу. Когда та закрыла за собой дверь, молвил: — Мне почему-то показалось, Михаил Михайлович: вы хотели что-то рассказать?.. — Да, один разговор, может, и не стоящий вашего внимания... — Может, и не стоящий, — легко согласился Дробаха, — но на всякий случай... — Был сегодня у меня доктор наук Курочко... — Куцюк-Кучинский снял очки: когда волновался, почему-то лучше видел. Вдруг подумал: сейчас он расскажет все о Курочко и в результате лопнет как мыльныйпузырь их альянс с Норвидом. И плакала премия... Но для чего ему раскрывать перед следователем все карты? Разве поступает так опытный игрок? Достаточно и намека, туманного намека, и всегда можно будет оправдаться и перед одним, и перед другим. — Да, — повторил он, — заходил ко мне как раз перед вами один из наших заведующих отделами Ярослав Иванович Курочко. Человек уважаемый, доктор наук... — Объяснял так долго, чтоб найти нужные слова, чтоб и бросить тень на Курочко, и в то же время не очень большую. Наконец снова надел очки и закончил после паузы: — Показалось мне, что Ярослав Иванович настроен против директора и относится к нему как-то не так... А тут Наташа видела, как он выходил из приемной... Дробаха подул на кончики пальцев, внимательно посмотрел на несколько смущенного Куцюка-Кучинского. — И в чем это проявилось? — спросил. — Не могли бы вы немного конкретнее? «А это уж дудки! — злорадно подумал Михаил Михайлович. — Посмотрю, как развернутся события, тогда, может, что-то и припомню, а сейчас — туман, белый туман, молоко, так сказать...» — Пожалуйста, — ответил уверенно. — Товарищ Курочко жаловался на предубежденность директора по отношению к проблемам, разрабатываемым сотрудниками его отдела. Если хотите, на некоторую необъективность. — Но это не возбраняется никому. — Конечно, конечно, — даже обрадовался Куцюк-Кучинский. Подумал: он сделал свое дело и в случае чего всегда может сослаться на этот разговор. Он не утратил бдительности и своевременно сигнализировал. Если же Курочко ни в чем не виноват, это его предположение просто забудется. Довольный собой, незаметно потер пухлые ладони. Дробаха поднялся. — Не смею больше задерживать вас. Надо еще поговорить с шофером. Петром Лужным, если не ошибаюсь? Куцюк-Кучинский проводил следователя до дверей. — Наташа вызовет Лужного, — заверил прощаясь. Широко улыбнулся Дробахе и долго стоял возле закрытых дверей, все так же улыбаясь. Надо же такое... Повернись все чуть иначе, и возможно, его личные проблемы разрешились бы сами собой... Потрогал щеки, как бы стирая с лица улыбку, и подумал: нужно сегодня же поговорить с Норвидом. Так, ни о чем, но приголубить, чтоб потом не сопротивлялся. Хорошее настроение вернулось к Михаилу Михайловичу. Все же жизнь удивительна и прекрасна, если точно знаешь, чего хочешь, и умеешь достичь поставленной цели.5
Перед входом в магазин лежал, вывалив язык и тяжело дыша, рыжий пес. Стецюк остановился перед ним и спросил благодушно: — Жарко? Пес посмотрел на него умными глазами и, почуяв в вопросе доброжелательность, благодарно пошевелил хвостом. — Вот так, дружище, — продолжал Стецюк, — сейчас всем жарко, но ты разлегся в тени и отдыхаешь, а люди в поле и в такую жару работают. Выходит, ты самый настоящий лентяй... Видно, пес не обиделся: еще раз пошевелил хвостом и сделал вид, что хочет подняться, но только дернулся и растянулся еще удобнее. — Точно, лентяй, — повторил Стецюк и подумал, что этого рыжего пройдоху надо было бы прогнать от крыльца, но не захотел связываться и тратить хоть какую-то энергию — еще может зарычать или укусить, а ему, Сидору Стецюку, сегодня никак нельзя портить настроение. Ведь сегодня хоть и обычная среда, а для него, что ни говори, день праздничный. Вон и Прасковья, покалякав с соседкой, направилась к магазину, еще услышит его панибратский разговор с рыжим псом и подумает, что ее муж совсем одурел от счастья. Но то, что сегодня у них счастливый день, Прасковья знала так же твердо, как и Сидор. Еще недавно в их семье все шло нормально, работа у Сидора была необременительная, но, как он любил говорить, ответственная и авторитетная — фактически исполнял обязанности адъютанта председателя колхоза Григория Андреевича Дороха, а точнее, как называли его сельские кумушки, был «магарычным бригадиром». Действительно, еще несколько лет назад их председатель не мог обойтись без Сидора Стецюка: больной человек, что-то с давлением и сердцем, пьет лишь чай да пепси-колу, иногда в жару позволит себе стакан холодного пива, а уж про коньяк или водку и речи нет... А где ты в городе или в райцентре достанешь запчасти без магарыча? Как уладишь дела на межрайонной базе или выбьешь минудобрения? Вот и выходит, что договаривается Григорий Андреевич, а замачивает Сидор. И хорошо замачивает, со знанием дела, щедро — в следующий раз и на базе, и в межколхозстрое для них зеленая улица. Ну и пусть в селе называют Сидора «магарычным бригадиром», это ему до лампочки. Зато сколько марочных коньяков перепробовал — дай бог самому товарищу... Какому именно товарищу, Сидор, правда, не говорил, но колхозники знали: Стецюк не врет, и в самом деле чин должен быть высокий. «Профессия» Сидора наложила отпечаток и на его одежду (у него был купленный за счет колхоза костюм, белые рубашки и галстуки, однако он любил лишь галифе да кирзовые сапоги и со стоном засовывал свои ноги в хромовые туфли сорок четвертого размера). Язык Сидора тоже стал особенным, даже его воспоминания. Они, как правило, начинались одинаково: «Когда мы с самим товарищем Кристопчуком заказали две бутылки «кавэвэка»...» Или: «В тот вечер мы с товарищем Александровым культурно отдыхали в ресторане «Мельница» и закусывали бастурмой...» Почему-то больше злились на Сидора сельские женщины (мужчины уже привыкли: что ж, человеку пофартило — организм спиртостойкий, а это талант, все равно что голос у Соловьяненко) — потому ли, что, собираясь в райцентр, Стецюк повязывал модный галстук в крапинку, или потому, что в мужской компании иногда намекал, что познакомился в ресторане с какой-то молодухой... Что там, мол, наши бабы? Наши — малокультурные, юбки носят, как и двадцать лет назад, и обращение неинтеллигентное: ты ее обнимать, а она дулю скрутит или еще хуже — огреет, а в городе образованные, сами коленками светят... Но размах Сидоровой деятельности постепенно сужался, в районе навели порядок, самых заядлых магарычников поснимали, и наконец Сидор, как ни страдало его самолюбие, пошел работать на ферму. — Разжаловали в рядовые, — жаловался он, но пить стал значительно меньше, за свои не очень-то разгонишься, и этот поворот в его судьбе первой оценила жена. — Рядовой, зато трезвый, — утешала. Сидору такой аргумент не очень нравился, но что оставалось делать? Хотя, пожалуй, времени теперь имел больше и мог крутиться возле своих любимых ульев. Десять пчелиных домиков стояли у Сидора в саду — аккуратные, покрашенные в зеленый цвет, крытые оцинкованным железом. Даже журнал «Пчеловодство» начал выписывать Сидор и хвалился, что дело поставлено у него на научную основу. Сидор не сунулся первым в магазин, видел, как мужчины в ресторанах пропускают впереди себя женщин, вот и уступил дорогу Прасковье, жена бросила на него удивленный взгляд, но уверенно поднялась на высокое крыльцо и направилась в открытую дверь. Магазин в Щербановке назывался сельским универмагом, занимал он новое и весьма пристойное помещение: торговали тут всем — начиная от сахара и консервов и кончая одеколоном и готовой одеждой. Чета Стецюков постояла в дверях магазина, разглядывая, не завезли ли случайно что-нибудь дефицитное. Продавщица Люба взвешивала доярке Анне конфеты и лениво переговаривалась с ней, в окно билась и жужжала муха, и черный кот не спускал с нее бдительного глаза. Прасковья вздохнула раздосадованно. Ей хотелось, чтоб в магазине было как можно больше народа, вот бы она и высказалась: работа Сидора на ферме оказалась временной, ведь в колхозе, как и во всей стране, умеют ценить умных людей: что б ни случилось, в конце концов снова замечают и выдвигают. А тут слушателей только двое: продавщица и Анна. Правда, слушатели что надо. Анне скажи слово, придумает еще десять и разнесет по селу, да и Любка не умеет хранить секретов, к тому же, кто ни идет мимо магазина, заглянет обязательно — просто поглазеть или купить чего-то: сельский информационный центр во главе с языкатой Любкой. И Прасковья, лишь кивнув уважительно продавщице, направилась в угол, где лежала и висела готовая одежда. Нарочно стала спиной к продавщице и спросила не оборачиваясь: — А где у тебя, Люба, шляпы? Люба высыпала в ладонь Анне мелочь, лишь потом удивленно взглянула на Стецючку: шляп в селе, особенно летом, почти никто не покупал. — Для чего вам? — спросила. Прасковья только и ждала такого вопроса. — Не понимаешь! — воскликнула торжествующе. — Сидору! — Он же фуражку носит. — Носил, — уточнила Прасковья, ликуя. — Носил, а сейчас он снова на руководящей работе и негоже... — На руководящей? — не поверила Анна. — Это куда же его? Магарычных, говорят, всех ликвидировали... Прасковья медленно повернулась к женщинам, смерила их уничтожающим взглядом. — Так где у тебя шляпы? — повторила. — Сейчас, тетенька, вынесу из подсобки. — Люба исчезла за открытой дверью с марлевой, от мух, занавеской, а Анна остановилась с кульком конфет и выжидающе смотрела на Прасковью. Потом перевела взгляд на Сидора, тот снял старый, помятый, в пятнах картуз, вытер рукавом вспотевший лоб. Улыбнулся смущенно, но вроде бы и победно. — Бригадиры как будто у нас есть... — нерешительно начала Анна, — и завфермой... В парторги ты, Сидор, не годишься, поскольку беспартийный. Куда же? Стецюк сделал таинственное лицо, хотел что-то сказать, но заметил предостерегающий жест жены и лишь переступил с ноги на ногу. А Прасковья выбрала из вынесенных Любой нескольких шляп зеленую, с большими полями, велюровую, надвинула на лоб Сидору и отступила, любуясь. — Хорошо, — польстила Липа, — ну совсем руководящий товарищ. — Сколько? — спросила Прасковья. — Девятнадцать сорок. — Сколько-сколько? Люба повысила голос: — Я же говорю, девятнадцать сорок, не так уж и дорого. Прасковья хотела отчитать продавщицу: может, для кого-то и недорого, но целых два червонца за какую-то паршивую шляпу!.. Однако сдержалась — сегодня ее счастливый день и за это, в конце концов, можно заплатить. И все же, поколебавшись немного, потянулась к серой, не такой шикарной, с узкими полями и явно более дешевой. — Слишком большая! — решительно сняла с головы Сидора зеленую шляпу. — Вот эта, кажется, подойдет, — взяла серую, фетровую. — К лицу, — похвалила Люба, — совсем здорово выглядит товарищ Стецюк. — Считаешь? — подозрительно взглянула Прасковья: а вдруг подтрунивает? Однако Люба смотрела серьезно, и только любопытство светилось в ее глазах. — Такую шляпу сам Сергей Владимирович носит, — осмелился наконец вставить Сидор. — Директор кирпичного завода. Когда-то мы с ним обмывали в ресторане «Янтарь» кирпич на свинарники и выпили, значит, две бутылки трехзвездочного... Прасковья предостерегающе подняла руку: этот может испортить ей все торжество. Но, сказать по правде, упоминание об известном во всем районе директоре кирпичного завода все же было кстати, поправила шляпу у Сидора на голове, сдвинув на затылок, и молвила степенно: — Сам Сергей Владимирович, говоришь? — Да Сидор-то в каких же чинах теперь? — не выдержала Анна. Счастливая улыбка вдруг растянула лицо Прасковьи: почувствовала, женщины теряли терпение от любопытства, да и сама уже не в силах была молчать, снова поправила Сидору шляпу, коснулась подбородка, чтоб держал голову выше, и объяснила: — Выдвигают его, значит. Заведующим колхозным пчеловодством. В магазине стало тихо, только муха жужжала и билась о стекло. — Неужели? — наконец вырвалось у Анны. — А как же!.. — почему-то Прасковье захотелось сунуть под нос фигу этой сплетнице, но она улыбнулась и сказала небрежно: — Дед Григорий ушел на пенсию, а кто же в селе лучше Сидора в ульях разбирается? Прасковья снова победно взглянула на женщин, но вдруг услышала такое, что даже ее закаленное в сельских перебранках сердце екнуло. Показалось даже, что просто ослышалась, настолько поразили ее эти слова. — Что-что? — переспросила она. — Что ты сказала? Но Люба повторила и не проглотила свой поганый язык, не захлебнулась слюной, а повторила, бесстыдно не отводя глаз: — Выходит, пасечником? Прасковья едва сдержалась, чтобы не взорваться. Потом подумала: как хорошо, что не вскипела. Поругались бы, обмениваясь колкостями, и совсем забыли бы о Сидоре и его руководящей должности. А так Прасковья, лишь побледнев, изобразила на лице улыбку и сказала тихо: — Пасечником у нас дядька Петро, разве не знаешь? А Сидор — заведующий пчеловодством, так сам Григорий Андреевич сказали, это тебе не завмаг, а сельская номенклатура, поняла? Видно, продавщице не очень понравился подтекст, вложенный Прасковьей в слово «завмаг», глаза у нее потемнели и губы задрожали, небось готова была уже обругать Стецючку, однако Прасковья вовремя почувствовала это и сразу воспользовалась преимуществом всех покупателей перед продавцами. — Сколько? — спросила, — Сколько стоит эта шляпа, моя дорогая? Ведь у нас нет времени тут лясы точить. Сидор Иванович как руководящий человек... Люба хлопнула глазами, верно, сообразила, что ссориться ей негоже, и ответила сухо: — Двадцать восемь рублей и шестьдесят пять копеек. — Ого! — не выдержала Прасковья, но сразу запнулась. С сожалением посмотрела на зеленую велюровую, с широкими полями шляпу. Пожалуй, лучше этой и, главное, дешевле, сурово прикусила нижнюю губу, но воспоминание о директоре кирпичного завода примирило ее со шляпой — достала из кармана три десятки, пересчитала, хотя сразу видела, что только три, и подала Любе. Продавщица пошла за сдачей, а Прасковья сказала громко, все же последнее слово должно было принадлежать ей: — Носи на здоровье, Сидор Иванович, нам для руководящего мужа ничего не жалко, скоро тебя в колхозное правление изберут, тогда уж кое-кто свой поганый язык совсем прикусит. Получив сдачу, небрежно сунула в карман, хотя подмывало пересчитать, и, подтолкнув Сидора к выходу, прихватила его старый картуз и пошла за мужем не оглядываясь. Знала: уже сегодня известие о его должности разнесется по селу, и это приятно щекотало ей душу. Они пошли мощеной центральной улицей села, Сидор степенно вышагивал впереди. Встретили колхозного конюха Степана Подлипача, тот поздоровался, и Стецюк ответил ему, приложив два пальца к полям новой шляпы, он видел, что так отвечает на приветствия сам заместитель председателя райпотребсоюза — почему же не последовать примеру уважаемых людей? Дальше дорога взбиралась на пригорок, повернув налево, можно было спуститься к лугу, но они остановились возле нарядного кирпичного дома, сплошь обсаженного сиренью. Хозяйка усадьбы копалась на грядках, увидев, улыбнулась приветливо и пригласила в дом, но Прасковья, остановившись у веранды, вытянула из сумки двухлитровую банку меда, поставила на подоконник и молвила сладко: — Тебе, Аленка, самого лучшего принесли, ведь знаешь, нет вкуснее меда, чем у Сидора, а этот, с гречихи, целебный, ешь на здоровье. Наверно, она говорила бы еще, но хозяйка, сполоснув руки в выварке с нагретой на солнце водой, остановила ее: — Это почему же, Прасковья, ты стала угощать меня? — Потому что Сидора назначили заведующим пчеловодством, а ты сама этого меда не съешь, значит, и Григория Андреевича подкормишь — такой мед как раз для его больного сердца... Хозяйка укоризненно покачала головой: — Так бы сразу и сказала: Григорий Андреевич тебя выгнал бы, так через меня... — Что ты, соседка, — быстро, но не очень уверенно начала Прасковья, — как тебе не стыдно! Но Алена решительно подняла руку, останавливая ее. — Сейчас чайник поставлю, — сказала, — попьем чаю, я давно уж собиралась. Еще и медком полакомимся, целебный, говоришь? — Ох и добрый же мед! — облегченно вздохнула Прасковья, поняв, что ее дар принят. — Так и тает во рту, так и тает... Алена не пожалела заварки, всыпала в небольшой фарфоровый чайничек пол-ложечки сахара, объяснив, что чай с сахаром лучше настаивается, они уселись просто во дворе под старой грушей-лимонкой, и Сидор, глотнув огненного и в самом деле душистого чая, сказал уважительно: — Хорошая ты хозяйка, Алена, и огород у тебя, и сад... Вот только ульев нет, отчего не заведешь? — Так ведь мужское дело... Прасковья громко дунула в чашку, осторожно хлебнула и заметила: — Удивляемся мы тебе, Алена. Женщина ты еще в соку, да и Григорий Андреевич к тебе привязан... — Опять за свое! — возмутилась Алена, но не очень сердито. — И когда вы прекратите это сватание? — Смотрела на Прасковью доброжелательно, и та сообразила, что разговор этот ей приятен, хотела еще польстить, но хлопнула калитка, и во дворе появился незнакомый высокий человек в темной рубашке с короткими рукавами. Не здороваясь, подошел просто к столу, Прасковья уже хотела прочитать ему мораль, но он, опередив ее, спросил: — Тут живет председатель колхоза? Хозяйка уже привыкла к таким неожиданным вторжениям и ответила, нисколько не удивившись: — Нет Григория Андреевича, в санаторий уехал. — А вы Елена Демидовна? — Откуда знаете? — Записка у меня к вам. — От кого? — Григорий Андреевич написал. — Как так? — изумилась. — В Одессу же только улетел... Вот, — кивнула на Стецюка, — Сидор Иванович на самолет посадил. Хаблак достал сложенный вдвое конверт. Догадавшись, что майор из Киевского уголовного розыска не ограничится беседой с ним, а поедет в Щербановку, Григорий Андреевич Дорох написал письмо и просил передать хозяйке дома, где жил. Хаблак помнил, как Дорох сказал ему: «Я бы на вашем месте не проверял ее. Хорошая женщина, душевная и вообще... — запнулся, и Хаблак понял, что этот преждевременно поседевший, с нездоровым лицом человек неравнодушен к Елене Демидовне. — Вообще честный человек, и я ей верю, как самому себе. Да и кому же тогда верить? — спросил как-то удивленно. — Впрочем, ваше дело, но было бы просто смешно подозревать Елену Демидовну. Но если уж так, передайте письмо. Пусть соберет мне еще чемодан — сама знает, что нужно, скажете, чтоб Алеша завез в Борисполь». Хотел еще что-то добавить, но махнул рукой и ушел; Хаблак понял Дороха: Григорию Андреевичу было виднее, но и он должен понять Хаблака с его обязанностями. Елена Демидовна засуетилась, вытерла фартуком табурет, пододвинула к гостю. — Чаю, — предложила, — с медом? А может, хотите есть? По дороге из Дубовцов Хаблак пообедал в райцентре, потому решительно отказался. А чаем пахло так вкусно, к тому же, говорят, в жару он великолепно утоляет жажду. Хаблак сел напротив полного мужчины с красным от крутого горячего чая лицом, положил себе в блюдце немного меду и с удовольствием принялся за чай. Елена Демидовна прочла письмо и удивленно уставилась на Хаблака. — Что случилось? — всплеснула руками, — И где делся его чемодан? Хаблак внимательно рассматривал ее, помешивая чай ложечкой. В самом деле, было бы глупо хоть на мгновение заподозрить эту женщину — настолько искренне удивилась и огорчилась, узнав о том, что случилась в аэропорту неприятность. Но она еще не знала истинного положения вещей, Хаблак просил Дороха не писать о взрыве, и майор ответил, стараясь успокоить ее: — Да, несчастный случай. Кстати, вы не клали в чемодан Григория Андреевича ничего запрещенного? Спирта, например? Или чего-нибудь такого?.. — Так не пьет же наш председатель, — вмешалась Прасковья. Хаблак сурово взглянул на нее, мол, не тебя же спрашивают, и снова повернулся к Елене Демидовне. — Нет, — подтвердила та, — я утром как поднялась, сразу же упаковала чемодан. Белье, костюм, рубашки, ну бритву, конечно, положила, мыло. А Григорий Андреевич еще радио попросил. Говорит: там в санатории скучно, и транзистор пригодится. Неужто и радио пропало? — Не знаю, — немного покривил душой Хаблак, — я только вчера познакомился с товарищем Дорохом. Он и попросил съездить в Щербановку. В долгу, сказал, не останемся... — Конечно, не останемся, — ввязался в разговор толстяк, — у нас такой закон... Видно, ему надоело молчать и захотелось побеседовать с приезжим, но Хаблак знал, какими нескончаемыми бывают подобные разговоры, и перебил его. — Вы провожали Григория Андреевича? — спросил. — Ну да. — Извините, мы незнакомы... Толстяк поднялся и подал майору через стол большую огрубевшую руку. Назвался: — Стецюк Сидор Иванович. Заведующий колхозным пчеловодством. — Очень приятно, — крепко пожал ему руку Хаблак. — Случайно не видели, никто из посторонних не прикасался к чемодану Григория Андреевича? Стецюк ответил уверенно: — Что вы! Я сам вот на этом месте взял его, сам и отнес из машины в аэропорт. И здесь все было ясно и понятно: Хаблак подумал, что только напрасно тратит время в Щербановке, однако должен был довести дело до конца — ведь мог лишь догадываться о характере отношений Дороха с Еленой Демидовной Грицик, в доме которой жил. Может, искреннее удивление и огорчение Елены Демидовны умело разыграны? — Чай у вас вкусный, — похвалил, — а мед — нет слов. — Еще бы! — назидательно поднял палец Стецюк. — Я вывожу ульи на гречиху, а там рядом еще эспарцетовое поле. — Пофартило Григорию Андреевичу, — несколько бесцеремонно прервал его Хаблак, — ежедневно такие вкусные чаи распивать... — Вот-вот, — подтвердила Прасковья, сладко взглянув на Елену Демидовну. — С такой женщиной как сыр в масле катается... Мужчины только у нас несознательные: им что хорошо, что плохо... Мало кто может настоящую женщину оценить. Разговор стал приобретать желаемую окраску, и Хаблак попытался направить его в нужное русло. — Сразу видно, — оглянулся на ухоженные грядки и обвел руками накрытый стол, — хорошую хозяйку сразу видно. — Вот это мужчина! — восхищенно воскликнула Прасковья. — А говорят, что городские не смыслят в этом ничего! Хаблак внимательно посмотрел на нее и решил, что разговор на подтекстах тут, пожалуй, не пройдет. Сказал просто: — А Григорий Андреевич холостякует. Но ведь тут рядом такая женщина — не каждый устоит. У Прасковьи загорелись глаза. — Да кто же устоит против Алены? — застрекотала. — Нет такого, вы только гляньте, еще молода, красавица, работяга, женщина в соку, и пропадает такое добро. Я ей уже сколько раз твержу: дуреха, Григорий Андреевич тебя на руках носить будет, а она кочевряжится... Хаблак заметил, как покраснела хозяйка, и подлил масла в огонь: — Григорий Андреевич — мужчина видный. Болен вот немного... — Так ведь сам виноват, — безапелляционно заявила Прасковья, — не жалеет себя. А ты, Алена, не жалеешь его, стала бы женой да поберегла для людей. — Вы что, отказали Григорию Андреевичу? — спросил, изобразив на лице удивление, Хаблак. Майор увидел, как снова покраснела женщина, видно, этот разговор нравился ей и окончательная точка в их отношениях с Дорохом еще не была поставлена. И все же Елена Демидовна махнула рукой и сказала, правда, не очень категорично: — На черта мне муж, так я сама себе бог и царь, встала не мятая, легла не клятая. — Что ты, Алена! Разве Григорий Андреевич тебе хоть одно плохое слово сказал? — Нет, — созналась и вдруг улыбнулась так счастливо, что, без сомнения, не только Хаблаку, но даже не очень тонкокожему Стецюку стало понятно, что у них с Дорохом свои особые отношения, что все идет к своему логическому завершению и нужно лишь время, чтобы поставить эту самую последнюю точку. Наверно, Елена Демидовна поняла, что немного выдала себя, поднялась и захлопотала. — Пейте чай, — предложила, — печенье ешьте, вы, товарищ, — придвинула к Хаблаку вазочку с домашним печеньем, — еще даже и не отведали... А я пойду соберу вещи Григорию Андреевичу. Это же надо, — всплеснула ладонями, — чтобы такое случилось... Прасковья поспешно допила чай, поставила чашку на блюдце донышком кверху и направилась следом за Еленой Демидовной. Стецюк вытер рукавом пот на лбу — теперь без женщин двое мужчин могут поговорить спокойно. — Вы, товарищ, видели много, самолетами летаете... А я скажу вам, когда-то мы обедали в ресторане с товарищем Стыкой. Не слышали о таком? Да вы что! Это же наш районный ветеринар, его все знают. Так выпил Семен Семенович первую рюмку и говорит: «Ты, Сидор Иванович, сам не знаешь себя. Ты вот сколько в колхозе на руководящей работе?..» Стецюк говорил что-то дальше, но Хаблак не слушал — уже стал торопиться. Солнце вон совсем садится, до Киева же из Щербановки часа полтора езды, может, и два, надо спешить, день потерян, а дело со взрывом, к сожалению, не продвинулось у него ни на шаг. Интересно, а как у Дробахи?6
Юрий Лукич встал с постели в половине седьмого — для города это совсем рано, но Лоденок умел ценить время, точнее, себя в этом бесконечном времени и, если нужно было, рассчитывал каждую минуту. Юрий Лукич сделал легкую зарядку, чтобы немного размяться после сна, кроме того, в каком-то солидном журнале, получаемом Людмилой, вычитал, что утренняя зарядка, хоть и не очень способствует похудению, оказывает влияние на обмен веществ, а к процессам, происходящим в его организме, Юрий Лукич относился серьезно. После зарядки Юрий Лукич выстирал белые трикотажные трусы и майку — к личной гигиене относился не менее серьезно, да и не любил, чтобы в квартире был беспорядок. Правда, Людмила не всегда разделяла его убеждения. Сначала Юрий Лукич пытался перевоспитать ее, однако вскоре убедился: женщины упрямы в своих привычках, и Людмиле иногда легче полдня просидеть перед туалетным столиком, изучая и совершенствуя свою красоту, чем положить рубашки в стиральную машину. Честно говоря, у Юрия Лукича даже возникла мысль развестись с Людмилой, но он по здравом размышлении отбросил ее. Все равно когда-то придется жениться, и неизвестно, кого еще возьмешь. Все они до замужества прикидываются и работящими, и влюбленными... К Людмиле Юрий Лукич присматривался почти полгода, но все же немного ошибся, правда, не совсем: у любимой жены бывали приступы трудолюбия, тогда она стирала все до последней тряпочки и вылизывала квартиру так, что Юрий Лукич даже при желании не мог найти ни пылинки. Однако это случалось не так уж и часто, а Юрий Лукич всегда и во всем ценил систему и порядок. В конце концов, взвесив плюсы и минусы, Лоденок решил оставить все как есть: моложе и красивее Людмилы вряд ли нашел бы. Хотя, пожалуй, если бы очень захотел, может, и нашел бы, но у его Людмилы было еще одно неоценимое качество — насколько мог убедиться Юрий Лукич, она не изменяла ему. Так стоит ли разводиться с красивой, молодой, стройной и верной? Из-за того, что вовремя не постирает майку? Юрий Лукич решил эту проблему довольно просто. В дни Людмилиной бездеятельности сам стирал и наводил порядок в квартире, скоро привык к этому и убедился, что такой образ жизни требует меньших затрат энергии и нервных клеток, которые, как известно, почему-то не восстанавливаются. Выстирав белье, Юрий Лукич прошелся по квартире с тряпочкой, вытер пыль на югославской стенке «Рамона» и на белой широченной кровати из румынского гарнитура «Людовик», где под розовым одеялом любила понежиться Людмила. В эту минуту подумал о ней с нежностью, но не позволил эмоциям взять верх над собой, поспешил в ванную, принял холодный душ, оделся и, не ожидая лифта, сбежал по лестнице. Выяснилось, спешил напрасно: машины еще не было у подъезда. Юрий Лукич недовольно сощурился и нетерпеливо топтался на месте — что за порядки, уже три минуты, как вышел на улицу, а машины все нет... Наконец черная «Волга» показалась из-за угла, затормозила перед Юрием Лукичом, и шофер открыл дверцу. — На перекрестке перекрыли движение, — стал оправдываться водитель, — пришлось объезжать... Лоденок лишь скосил на него сердитый глаз. Не приехать вовремя за начальством, — был в этом твердо убежден, — значит, проявить разгильдяйство, разгильдяйства же он не прощал. Однако с утра не хотел портить себе настроение. Плохо начнется день, — не войдешь в нужный ритм, а он уважал и себя, и свой рабочий день, и свое умение по-настоящему организовать дело. Каждый день — когда не был в командировке или не вызывало утром начальство — Юрий Лукич начинал с теннисной разминки. У него было два партнера — заместитель председателя райисполкома и начальник строительного треста, тоже энтузиасты тенниса. Иногда приходил играть довольно известный композитор, песни которого все чаще исполнялись по радио. Лоденок был уверен, что личное знакомство с представителями творческой интеллигенции никак не повредит ему. Наоборот, такие контакты теперь считались престижными. Юрий Лукич переоделся в легкие летние брюки и рубашку с короткими рукавами. В глубине души он завидовал композитору. Тот мог позволить себе роскошь играть в шортах — они удобнее, но что бы подумали о Лоденке — директоре такого огромного комбината, если бы он посмел предстать перед публикой в коротких штанишках, с оголенными ногами! Правда, композитор показывал ему фотографию какой-то заграничной знаменитости, кажется председателя правления крупнейшего концерна, в шортах — но это где-то там... Вот и сегодня Лоденок вышел на корт с чувством законной гордости. В нем всегда пробуждалось это чувство при созерцании величественного комбинатовского Дворца спорта с плавательным бассейном и теннисным кортом: его, Юрия Лукича Лоденка, рук дело, он добился утверждения проекта и ассигнований. Сорок — пятьдесят минут на корте, потом, после короткого отдыха, две пятидесятиметровки в бассейне, тепловатый душ, уже второй в течение дня, — и как раз время завтракать, а затем браться за работу. Завтракал Юрий Лукич в комбинатовской столовой, и сам шеф-повар мог наблюдать, нравятся ли его блюда начальству. После тенниса и плавания пробуждался аппетит, и Юрий Лукич съел заливную осетрину, бифштекс с картофелем и запил черным кофе. Черный кофе пил и потом, в кабинете, — после бифштекса клонило в сон. Юрий Лукич гордился своим кабинетом: не в старом стиле — с огромным столом, бронзовыми чернильницами, массивными креслами и шкафами. Такие кабинеты, по его мнению, свидетельствовали о консервативных вкусах руководителя, о его нежелании идти в ногу с современностью и вообще непонимании технического прогресса. В кабинете Лоденка было много света, натертый до блеска пол отражал легкую современную мебель, на стенах висели эстампы, а подле стола возвышался пульт селекторной связи, с помощью которого директор мог быстро и без секретарши вызвать любой участок производства. Юрий Лукич был наблюдателен — за несколько секунд, пока шел по приемной, успел определить, кого следует принять раньше, а кто может и подождать. Комбинат сдавал очередной жилой многоквартирный дом, и это предопределяло характер сегодняшнего директорского приема. Лоденок шел по ковровой дорожке к своим обитым черным дерматином дверям, улыбаясь и любезно здороваясь с присутствующими. Что производит наилучшее впечатление? Приветливость, умение запомнить рабочего, подойти к нему в цехе, пожать руку, спросить о чем-то — эти детали формируют общественное мнение. Или остановить на территории комбината какую-то женщину — лучше не очень красивую, улыбнуться многозначительно и сказать: «Какая вы сегодня привлекательная!» И все — пошел дальше, забыл... Для тебя это так, что-то наподобие шутки. А для женщины — счастье и память. Вечером она мужу все уши прожужжит, какой у них славный директор, — ты, мол, ничего не замечаешь и не ценишь, но вот же не перевелись еще настоящие джентльмены... В кабинете Юрий Лукич придирчиво осмотрел себя в зеркале и остался доволен. Темно-серый хорошо сшитый костюм, свежая рубашка и чисто выбритые щеки. Что ни говори, уже за сорок, а он хорошо сохранился. Лет тридцать или немного больше еще впереди, боже мой, как мало, и неужели ему придется когда-то умереть? Несправедливо как-то, и, безусловно, для руководящего состава необходимы исключения. Недавно Юрий Лукич читал (дай бог память, где же это? — ага, в «Комсомолке»), что человек сможет жить несколько сот лет, и проблема эта практически будет решаться уже в конце нынешнего столетия или в начале следующего. Дожить бы! Конечно, сначала не смогут продлить жизнь всем, но Юрий Лукич почему-то не сомневался, что попадет в число избранных. И все же стало жаль себя, сел за полированный стол, на котором лежали лишь блокнот и японская ручка «pilot». Нажал кнопку, приглашая первого посетителя. Женщину, вошедшую в кабинет, Юрий Лукич знал: да и как не знать, если портрет ее висит на Доске почета напротив управления комбината, выгляни в окно — и увидишь... — Рад приветствовать вас, Мария Петровна! — Директор обошел стол и помог женщине сесть в кресло. — Давно не виделись, почему-то забываете нас, уважаемая... Женщина села, на краешек кресла, деловитая, неприветливая, даже подчеркнутая вежливость директора не изменила выражения ее лица. — Я вот о чем... — начала волнуясь. — Неудобно как-то, не привыкла я просить за себя, но приходится, и вы, Юрий Лукич, уж извините... — Ну что вы, уважаемая, — улыбнулся Лоденок совсем по-дружески, — мы тут для того и сидим, чтобы заботиться о вас! Женщина облегченно вздохнула. — Дело у меня не такое уж значительное, вроде бы и беспокоить директора не годится, да начальник квартирного сектора уперся. Тот дом, что готов, девятиэтажный, возле парка, в этом районе города... От него до работы два шага... А живу я далеко. Есть люди из железобетонного, да и те, что на ТЭЦ работают... Им там удобнее... Говорю: обменяй, а он — не имею права. Я, мол, не обменное бюро, а вы, гражданочка, сами варианты ищите. Юрий Лукич развел руками. Действительно, бюрократ этот Стеренчак, но, пожалуй, вышло к лучшему — он ведь сможет вмешаться и помочь женщине без особых хлопот. Нажал на кнопку селектора. Такие разговоры любил вести при людях, чтобы посетители воочию убеждались в степени его директорского влияния. — Леонид Кириллович? — Слушаю вас, Юрий Лукич... — послышалось в кабинете, словно начальник квартирного сектора сидел в кресле напротив стола: директор преклонялся перед техническим прогрессом и велел поставить несколько динамиков. — У вас была на приеме Мария Петровна Громова — наша крановщица из сборочного? — Не помню. — Я прошу вас выглянуть в окно и посмотреть на второй портрет слева. Стыдно, Леонид Кириллович. Женщина просит обменять квартиру, ей и в самом деле так удобнее, а нам сделать это ничего не стоит... — Извините, я уже вспомнил... — загудело в динамиках. — Но ведь новый дом лучше: отдельные комнаты, лифт, и если каждый захочет... Юрий Лукич увидел, как передернуло женщину. Предостерегающе поднял руку. — Слушайте меня внимательно, — сказал тоном, исключающим возражения. — Во-первых, не каждый, а передовая работница. Во-вторых, я прошу вас (это прозвучало как «приказываю») немедленно найти вариант и предоставить товарищу Громовой квартиру в новом доме. Вы меня поняли? Все... Известите ее завтра... Директор щелкнул выключателем и — откинулся на спинку стула. Женщина поднялась. — Не знаю, как и благодарить... — Ну что вы, Мария Петровна! — Лоденок встал и пожал ей руку. — Рад помочь. Следующий посетитель стал доказывать, что его несправедливо обошли в списках: он стоит в очереди уже два года, вместе с женой и двумя детьми слоняется по частным квартирам, а есть люди, меньше его работающие на комбинате и тем не менее получающие квартиры. Директор и слушал его, и не слушал. Перед каждым заселением одна и та же история: всегда находятся недовольные. Что ж, квартирный кризис еще не ликвидирован, комбинат расширяется, а темпы жилищного строительства еще не отвечают, к сожалению, производственным нуждам. Так и объяснил посетителю: терпите, дескать, это вас не дирекция вычеркнула из списков, а профком, он хозяин в распределении квартир. Через два-три месяца будет сдан новый дом, вот тогда обязательно получите жилье, кстати, как ваша фамилия? Прекрасно — Самохвалов, подсобник из арматурного... Юрий Лукич вроде бы сделал какую-то пометку в блокноте, на самом же деле расписался дважды или трижды — хорошая ручка, умеют же делать проклятые капиталисты, и как это им удается? Лоденок скучающе взглянул на дверь — кто следующий? — и лицо его поневоле расплылось в улыбке. Шла, легко ступая по блестящему паркету модными лакированными туфлями, чернушка, с большими, широко поставленными глазами, веки чуть подкрашены чем-то голубым, а губы сверкают перламутром. Юрию Лукичу захотелось встать, таких редко увидишь на комбинате, однако он ничем не выдал своих настоящих чувств, пригласил девушку сесть сдержанно и даже холодновато. Она достала из сумочки бумаги, положила на стол, чуть задержав руку, и Юрий Лукич увидел, какие у нее красивые длинные пальцы. — У меня назначение на ваш комбинат, — начала девушка, — я просила бы вас решить некоторые неотложные вопросы. — Были в отделе кадров? — Да, мне предложили там место старшего экономиста в плановом отделе. — И это вас не устраивает? — Почему же, но комбинат должен обеспечить меня жилплощадью. — Вам предложили общежитие? — Да, но я никогда не жила в таких условиях. Другой Юрий Лукич ответил бы резко: «Придется пожить...» или «Мы не можем обеспечить всех даже общежитием», однако подумал, что у него впереди целый месяц, пока вернется Людмила, и эта смуглянка, если правильно себя повести, может скрасить его одиночество. Лоденок обошел стол и сел напротив девушки. Она все больше нравилась ему: держалась как-то вызывающе, не сидела в кресле, а будто демонстрировала себя — дышала прерывисто, и тугая грудь подымалась под прозрачной кофточкой. Видно, хорошо знала, чем завлечь — улыбнулась, и глаза у нее затуманились. — Ну что ж, — сказал Лоденок, вроде раздумывая, хотя все уже решил. — А позовете на новоселье? — Вы будете моим первым и единственным гостем... «И единственным гостем», — сообразил Юрий Лукич. Теперь он должен был продемонстрировать свою власть. Решительно обогнув стол, нажал на кнопку селектора. — Товарищ Стеренчак, — сказал твердо. — Однокомнатную квартиру из резерва дирекции выделите Оксане Владимировне Ворониной. Молодой специалист, у нее назначение на комбинат. Сейчас она зайдет к вам. — И выключил селектор, не ожидая ответа. Девушка смотрела на него восхищенно. Поднялась медленно, наклонилась через стол, и Лоденку показалось, будто даже потянулась к нему. — Как же?.. — спросила неуверенно. — Мне позвонить вам? Юрий Лукич задумался на секунду. Небезосновательно решил, что железо следует ковать, пока оно горячо. Предложил: — Давайте встретимся сегодня вечером. Поужинаем. В восемь возле памятника Богдану... — Хорошо, — согласилась сразу без колебания. — Значит, в восемь возле памятника... Она шла по блестящему паркету, возле дверей оглянулась, улыбнулась, и у Юрия Лукича появилось чувство, что прикоснулся к чему-то драгоценному: сидел, ухмыляясь и думая, что надо ускорить заселение нового дома — ведь рабочие с нетерпением ждут... Вдруг резко зазвонил телефон, Юрий Лукич взял трубку и услышал голос секретарши: — Вас вызывает Одесса, будете говорить? «Почему Одесса?» — успел подумать Юрий Лукич. С Одессой он никогда не вел деловых переговоров, и не было у него там близких знакомых. Но тут же сообразил, что звонит Людмила, будто почувствовала, что он только что позволил себе пофлиртовать с красивой девушкой, и решила вмешаться. Лоденок улыбнулся иронично. Не мог же объяснить жене, что флирт — это так, нечто быстротечное и пустое, просто для возбуждения, как бутылка хорошего шампанского: взорвется, запенится, поиграет брызгами, на миг затуманит голову, а хмель пройдет, и не останется ничего, кроме приятных воспоминаний. Услышав взволнованный Людмилин голос, и правда сразу забыл смуглянку с ее привлекательными формами. — Что случилось, милая? — спросил. — Такой ужас, — услышал в трубке, — авария, взрыв в аэропорту, и все мои вещи погибли. У Юрия Лукича похолодело в груди. — Какой взрыв? — воскликнул. Но сразу сообразил: если Людмила звонит, значит, все обошлось, все не так уж и страшно, речь идет лишь о вещах. — Объясни, что случилось, — попросил. — Я уже в Одессе, но вчера наш рейс задержали на полдня. Никак не могла к тебе дозвониться. Не знаю, как там и что, пожар или взрыв, но все мои вещи пропали. Осталась сумка, я уже кое-что купила, однако нет ни одного платья. Запиши, милый, и сегодня же передай. Аэрофлот доставит нам посылки немедленно, я тут составила список, что мне нужно. Юрий Лукич уже успел успокоиться. Придвинул ближе лист бумаги, прижал трубку плечом к уху и стал записывать, раздраженно махнув рукой секретарше, появившейся в дверях, — видно, та поняла, что приема больше не будет, потому что никто уже не появлялся в кабинете, и Юрий Лукич спокойно составлял список платьев и костюмов, которые следовало отвезти в Бориспольский аэропорт. Людмила попросила подкинуть ей еще немного денег, и Юрий Лукич, который уже было совсем успокоился, подумал, что эта просьба весьма некстати. Ведь встречи с Оксаной потребуют дополнительных расходов: он уже снова с приятностью представлял себе сегодняшний вечер, однако все же решил, что и жене при таких обстоятельствах отказывать негоже, — пообещал выслать деньги сразу и телеграфом. Поговорив с Людмилой, Юрий Лукич объявил секретарше, что продолжит прием посетителей — у него еще оставалось свободное время: чемодан в Борисполь должен был завезти после обеда. Но теперь Лоденок не получал никакого удовлетворения от общения с людьми, и обнадеживал, и отказывал как-то подсознательно, случай с Людмилой все же взволновал его. Представил себе, что эта авария могла бы кончиться значительно хуже, и подумал: без Людмилы ему было бы трудно, по крайней мере пришлось бы менять весь привычный и размеренный образ жизни; нет, как-никак, а он любит и уважает жену, его мужские шалости и чудачества — это совсем другое дело, и никто из людей, хорошо разбирающихся в жизни, неосудит его. Приближался обеденный перерыв, и Лоденок приказал секретарше вызвать машину. Но та сообщила: Юрия Лукича хочет видеть следователь из республиканской прокуратуры, он только приехал на комбинат, ждет в приемной не больше минуты. К прокуратуре и милиции Юрий Лукич привык относиться серьезно, грехов за собой не чувствовал, однако знал, что следователей надо уважать. Потому и распорядился немедленно пригласить следователя — встретил его посредине кабинета и предложил не традиционное, для посетителей, место возле стола, а посадил гостя на диван и устроился рядом, подчеркивая свое расположение к представителю власти. Хотя этот представитель и не произвел на Лоденка должного впечатления: не было в нем начальнического шарма, надлежащей уверенности, не говоря уже о пусть едва заметном, но все же превосходстве, которым обязательно, как полагал Юрий Лукич, должен отличаться следователь по особо важным делам, — Лоденок уже успел ознакомиться с удостоверением Дробахи. Но, подумал, кто их разберет, судейских и прокурорских деятелей: свои законы... — Чем могу? — спросил просто и по-деловому, без угодливости и любопытства, как и следовало вести разговор людям приблизительно равным по служебному положению. — Я уж и не припомню, когда видел в последний раз прокурора, тем более работников вашего ранга. В этих словах был двойной подтекст. Во-первых, дескать, и мы не лыком шиты — видели в приемной и не таких... Во-вторых, тонко намекнул следователю: у нас все в порядке, и прокуратуре на комбинате нечего делать... Но то, что Лоденок услышал от этого неказистого внешне следователя по особо важным делам, и вовсе удивило его: неужели Дробахе нечем заниматься, кроме как Людмилиными чемоданами? Так и ответил Дробахе: в конце концов, не такие уж большие расходы, к тому же в подобных случаях, наверно, вступают в силу определенные инструкции. Аэрофлот должен возместить убытки — жена уже звонила ему из Одессы, после обеда он завезет в Борисполь чемодан с вещами и надеется, что, кроме неприятных воспоминаний, от этой истории со временем ничего не останется. Дробаха согласно кивал, слушая несколько затянувшийся монолог Лоденка — директор высказывался спокойно и уверенно, без какой-либо фальши, и это подтверждало мнение Дробахи, что вряд ли Юрий Лукич причастен к взрыву. Однако, дослушав Лоденка, все же спросил, внимательно наблюдая за выражением лица собеседника: — Ничто постороннее не могло попасть в чемоданы вашей супруги? — Откуда? — Людмила Романовна сообщила, что вы вместе упаковывали их. Точнее, вы сами. — Неужели? — искренне удивился Лоденок. — Неужели вы успели поговорить с Людой? Каким образом? — Дело не такое уж простое, как вам кажется. — Люда сказала: авария, и я не придал значения... — Взрыв! — объяснил Дробаха, уставясь на Лоденка. — В одном из чемоданов пассажиров, собиравшихся лететь в Одессу, произошел взрыв... — О-о! — наконец до Юрия Лукича дошло, почему этим делом занимается следователь такого ранга. — И вы ищете?.. — Мне надо установить, не попало ли что-нибудь постороннее в чемодан Людмилы Романовны? — То есть бомба? — Называйте это как хотите. Юрий Лукич подумал, что следователь, наверно, может подозревать и его. Какая нелепость!.. И все же факт остается фактом... Лоденок неестественно улыбнулся, понимая, что именно эта неестественность может укрепить подозрения, однако какая-то растерянность и смятение овладели им: спросил, сам ощущая фальшь в своем тоне: — И вы считаете, что бомбу подложил я? В чемодан собственной жены? — Нет, нет... Просто выясняем, не побывали чемоданы в чужих руках? — Нет! — Юрий Лукич сразу успокоился. — Я сам запер чемоданы и потом сам сдал их в багаж. — Был уверен в этом, — поднялся Дробаха. Лоденок проводил следователя до дверей, закрыл их и постоял немного, анализируя их кратковременную беседу. Честно говоря, он бы сразу и забыл о ней, если бы не назначенное на вечер свидание. Со всех других точек зрения его позиции были безупречны, впрочем, и ужин в ресторане с красивой девушкой еще ни о чем не говорит, но есть во всем этом что-то нехорошее, какой-то риск для него. Лоденок подумал, что в принципе ему следовало бы отложить встречу с Оксаной, ситуация, пожалуй, требовала этого, но как сообщить ей? Где найти ее? Не явиться на свидание — девушка может обидеться, небось привыкла, что парни вьются возле нее — молодые, энергичные, красивые, а ему, как известно, за сорок... Правда, не все из ее ухажеров директора комбинатов, отметил не без самодовольства, но не был абсолютно уверен в преимуществе своего положения и решил рискнуть. К тому же риск минимальный. Он возьмет такси и повезет Оксану в «Наталку» — есть такая богом забытая корчма на Бориспольском шоссе. Полная гарантия, что там их никто не увидит. У Юрия Лукича сразу улучшилось настроение, и он поехал домой упаковывать Людмилины платья.7
— Нет, я не хочу и не пойду! — заявил Иван Петрович и разлегся на диване. Варвара остановилась посредине комнаты, удивленно глядя на мужа. Впервые услышала от него подобное да еще и выраженное столь категорично. Она уже успела отвести дочку в детский сад и попросила Ивана сбегать за молоком, хлебом и сосисками: уже девять часов, а он разгуливает по квартире в одних трусах и небритый. И вдруг такое... Иван растянулся на диване в гостиной, примостив под нечесаную голову приобретенную в салоне художественного фонда вышитую подушку, положил ноги на мягкую диванную спинку, не сбросив тапочек — худые ноги, покрытые рыжеватыми волосами, одна туфля сползла с ноги на велюр, и Варвара всплеснула руками от возмущения. — Чего разлегся! — закричала. — На диване с грязными ногами! — Думала, что муж сразу вскочит, ну хотя бы снимет мерзкие рваные шлепанцы, однако Иван никак не среагировал на ее возмущение, наоборот, отвернулся, давая понять, что ему глубоко безразличны и ее гнев, и ее приказания. — Ты слышал? — удивленно пожала плечами Варвара. — В доме нет хлеба и молока. Иван повернулся к ней и, глядя чистыми глазами, спросил равнодушно: — Ну и что? — Пойди в гастроном. — И не подумаю. Да, это было впервые — впервые за всю их шестилетнюю семейную жизнь Иван отказал в чем-то Варваре, и это настолько взволновало ее, что не смогла даже ответить подобающим образом. Стояла посредине гостиной и хлопала глазами, наконец не нашла ничего лучшего, чем спросить: — Ты что, заболел? — Нет, — ответил и улыбнулся, как показалось Варваре, нахально. — Ты же знаешь, я здоров. — Так почему же?.. — Не хочу. — Но ведь нужно. — Иди сама. — А кто уберет квартиру? — Вернешься из гастронома и уберешь. — А ты? — У меня отгулы, и я отдыхаю. — Но ведь и я в отпуске и тоже нуждаюсь в отдыхе. — Так отдыхай. — А что будем есть? — Как-нибудь перебьемся. — Ребенок-то как без молока? Иван заерзал на диване и отступил, как показалось Варваре, весьма неохотно. — За молоком я потом смотаюсь. — Могут разобрать. — Проживет ребенок день и без молока. Варвара растерянно развела руками: ну что можно ответить на это? Придвинула к дивану стул с высокой спинкой, села возле мужа и спросила спокойно: — Что с тобой, Ваня? — Ничего. — Может, ты чем-то недоволен? — Сейчас — нет. — Как тебя понять? — А вот так и понимай: лежу на импортном диване, под торшером за двести рэ, смотрю на «стенку» с хрусталем и плевать хотел на все. — Увидела бы мама! — О-о! — вдруг вскочил с дивана Иван. — Наконец сказала, что думаешь. А я заодно и на твою мамочку плевать хотел. С ее хрусталем и диваном. — Ты что? — ужаснулась Варвара. — Что мелешь? — Не мелю, а теперь уж говорю, что наболело. Дай хоть три дня пожить свободно. Сбросил кандалы, неужели не понимаешь, хоть на три дня сбросил, а может, и больше... — он запнулся, — может, навсегда!.. Дошло? — Как тебе не стыдно говорить такое о маме? Она обеспечила нас всем. — Не хочу! — сорвался чуть ли не на крик Иван. — И не нужно! Плевать! Надоело ходить на цыпочках... «Доброе утро, Мария Федоровна, как спали, уважаемая Мария Федоровна?» А мне плевать, как спала родная теща, пусть хоть совсем не спит... — Ты не справедлив, Ваня. — Ну конечно, один я — сукин сын, а вы все — паиньки! А ты подумай: квартира у нас четырехкомнатная, а мы с тобой и с ребенком в одной комнате ютимся. — Не равняй себя с мамой! — Вот тебе на! Выходит, нам вечно кланяться? — Сам знаешь, мама не может без кабинета! — Да, наша мамахен — большой ученый, ей нужен кабинет, а потом она устает и хочет отдохнуть в спальне, а вечером к маме приходят гости, боже мой, сам Маркиан Гаврилович, академик, всемирно известная величина, и идет эта величина в гостиную, садится под торшер за двести рэ и пьет с родной тещей португальский портвейн — шесть с половиной рэ за бутылку... А ты, Иван, ничтожный инженеришка, сиди в это время в своем углу вместе с любимой женой и ребенком, а если в туалет, то на цыпочках, потихонечку, по ковровой дорожке, чтобы не потревожить академика с сиятельной мамахен. А квартиру, кстати, на всех получали, и нам с тобой и Оленькой три комнаты полагаются по закону, может, не так? — Кто б тебе дал четыре комнаты, если б не мама? — Опять мама! — Может, на твои деньги обставили квартиру? — А зачем мне хрусталь и импортные «стенки», плевать на них, я у себя дома хозяином хочу быть, ясно? — Как будто кто-то ограничивает тебя... — Ну ты и скажешь! А позавчера: «Тише, Ваня, забери Олю, пойдите с ней на улицу, мама спит, у нее сегодня операция...» — Так она же потом три часа возле операционного стола простояла. И ты это прекрасно знаешь. — А я когда с работы возвратился? Около двенадцати ночи, забыла? И то, что у нас авария случилась, впервые слышишь?.. — Ты же ничего не сказал. — А ты бы спросила. Почему муж в двенадцать ночи возвращается? К тому же трезвый... — Не хватало, чтобы пьяный. — Скоро запью, — пообещал Иван вполне серьезно. — Я скоро стану вести себя как настоящие мужчины. — Может, и любовницу заведешь? — Может, и заведу. По лицу Варвары пошли красные пятна. — Ты меня еще не знаешь. — Вижу. — Точно, не знаешь, — сказал как-то хвастливо и чуть ли не торжественно. — Но скоро... — Что «скоро»? — Ничего. Злорадная улыбка мелькнула на губах Ивана. — Совесть не будет мучить меня, — ответил уклончиво. — Так могут говорить лишь неблагодарные. — Ну на кого-кого, а на неблагодарного я не похож, — процедил сквозь зубы. — Это с какой стороны посмотреть... — С какой хочешь. Варвара решительно поднялась со стула. — Ты сегодня не в своей тарелке, — констатировала. — Хорошо, пусть будет по-твоему. Пойду за молоком сама. Направилась, не оглядываясь, в кухню, а Иван подцепил босой ногой туфлю и яростно швырнул ее в «стенку». Не долетела, зацепилась за стул, на котором только что сидела Варвара, и Иван вдруг горестно и со страхом подумал: все, что он замыслил, не осуществится, наверно, такая уж у него планида — типичного неудачника. От этих мыслей мороз пошел по коже. Все напрасно, а он рассчитывал... Но Иван не признался сам себе, на что же он в самом деле рассчитывал, — нет, лучше об этом не думать и не вспоминать... Со стоном растянулся на диване и сжал ладонями виски. В комнату заглянула Варвара. — Успокоился? — спросила мирно. Вот так: золотая женщина, он ей скандал, а она — успокоился?.. На мгновение Ивану стало стыдно, однако лишь на короткое, неуловимое мгновение, — сердито засопел и бросил резко: — Прикидываешься? — Нет, я вот о чем. Вчера ты говорил: машину надо смазать. Так пойди в гараж, я сегодня Оленьку раньше заберу, на Жуков остров поедем, искупаемся. — На маминой машине? — спросил не без ехидства. — А ты бы сам на «Волгу» накопил? — Мамина машина, пусть сама и смазывает. Вероятно, Варвара представила себе эту картину: седая женщина с высокой прической в элегантном английском костюме берет автомобильный шприц и лезет в яму. Не выдержала и хохотнула. — Смешно? — Иван вскочил с дивана. — Нашли себе шофера, да еще и слесаря! — Но ведь ты же сам ездишь на «Волге»... — Не езжу, а вожу. «Ваня, завтра отвезешь меня в Борисполь!» — передразнил тещу. — Не гневи бога, и мы с тобой... — Да, и мы. Однако... — Натянуто улыбнулся, поклонившись торшеру, и даже шаркнул ногой. — «Позвольте, Мария Федотовна, воспользоваться вашей машиной...» — «Тебе сегодня, мама, машина не нужна? Мы с Иваном хотели бы...» Вот так: мы с тобой... Приемыши мы с тобой, иждивенцы у многоуважаемой Марии Федотовны. — И все же ты не можешь отрицать: мама нам помогает. — Нет, — помахал он платком перед самым Варвариным носом. — Мы квиты. Может, она нам обеды готовит, а не ты ей? А кто на базар ездит? — На маминой машине. — А она мне, как шоферу, платит? Знаешь, сколько надо?.. Сто рэ в месяц. — Кто Оленьке коляску купил? И шерстяной импортный костюмчик? Иван зажал ладонями уши. — Снова... — чуть ли не простонал, — Снова ты свое!.. Не нужны нам ее подачки, пусть лучше Оленька наши костюмы носит, на черта ей импортные? — Скажешь! Разве не видел, во что своего Олега Шевчуки одевают? Гонконгская рубашка... — Нет лучше бердичевских... Местного швейного объединения, дешево и сердито. По-видимому, Варвара сообразила, что зашла довольно далеко, и сказала примирительно: — Давай лучше не будем... Так починишь машину? Ивану и самому хотелось поехать куда-то — на Жуков остров или даже дальше, в Илютовский лес, а потом на дамбу, там, правда, стоит «кирпич», однако все ездят — справа Днепр, слева Козинка и луга, сотни гектаров лугов и дубовые рощи. Еще можно и блесну побросать, смотришь, какой-то неопытный щуренок и вцепится... Но сдаваться так просто не хотел — не позволяло самолюбие. Видно, Варвара поняла Ивана, она всегда понимала мужа и умела взять верх — прижалась к прямой, напряженной спине Ивана, задышав ему в затылок, прошептала: — Я могу сразу забрать Оленьку... Почувствовала, как расслабилась его спина. — А потом твоя мама глянет на спидометр — куда, спросит, ездили? — Не бурчи. Ивану уже и самому хотелось отправиться в гараж: он любил не так ездить, как возиться с машиной. Сам регулировал зазоры клапанов, зажигание, менял масло и фильтры, не говоря уже о мытье и полировке — белая «Волга» Марии Федотовны, казалось, никогда не была грязной, блестела даже в дождь и заводилась с пол-оборота. — Хорошо, — согласился Иван вроде бы неохотно, — но надо еще переставить колеса, будь готова к часу дня. Варвара захлопотала радостно. — Как ты мил, Ваня. Так я сварю картошки, а ты по пути заскочи на базар, купи луку и огурцов, может, редьки, пообедаем уже на речке... А Иван с облегчением думал, что проклятое напряжение, не отпускавшее его уже чуть ли не двое суток, спало, и он как-то сразу смягчился, пришел в себя. Варвара о чем-то щебетала у него за спиной, но Иван не слушал. Пусть себе заливается, хорошая жена тем и хороша, что умеет одной ей известным способом повлиять на мужа, не переча ему. Пусть щебечет, некоторых это раздражает, а ему нравится, лучше уж такое щебетанье, чем тещино гордое или снисходительное молчание. И еще подумал: все же как хорошо без уважаемой и весьма умной Марии Федотовны. Черт с ними, машиной и квартирой, могли б они с Варварой и Оленькой жить в обычной малогабаритной двухкомнатной квартире — но отдельно! Впрочем, не мог все же отделаться от мысли, что неплохо бы жить в этой большой, красиво обставленной квартире без Марии Федотовны. Он бы сколько угодно, балуясь с Оленькой, валялся на толстом китайском ковре и, не нуждаясь в разрешении тещи, ездил на Козинку. Иван быстро собрался и отправился приводить машину в порядок. Варвара, довольная, что все обошлось и удалось малой кровью победить мужа, побежала в гастроном. Купила молока, хлеба и пирожных Олюсе, возвращалась домой возбужденная предчувствием приятной поездки на природу, но все же какой-то червячок шевелился внутри — чувствовала, хоть и не хотела себе признаться в этом, что бунт Ивана небезоснователен: в последнее время ее тоже стали тяготить властность и категоричность матери, но она с детства привыкла к ним и даже не представляла, как можно вслух, да еще при людях, возразить маме. Затем подумала и сама ужаснулась этой мысли, что, может, им действительно лучше жить отдельно, правда, считали бы каждый рубль, а она не приучена к этому. Кроме того, пришлось бы разменять квартиру. Варвара испугалась: наверно, легче перенесла бы землетрясение или другое стихийное бедствие, чем разговор с матерью на эту тему. Варвара поднялась в лифте на седьмой этаж и увидела, что в их дверь кто-то звонит. Высокий и еще молодой человек в рубашке с короткими рукавами, она никогда не видела его, значит, знакомый Ивана либо к маме. Достав ключи, Варвара спросила, кто именно интересует незнакомца, и тот ответил: Варвара Владимировна Бляшаная — дочь Марии Федотовны Винницкой. Вероятно, Варвара немного растерялась или даже испугалась, мужчина сразу заметил это и, достав красную книжечку, объяснил: он из милиции и пришел поговорить. Наверно, полагал, что это успокоит женщину, и в какой-то степени достиг своей цели, по крайней мере, теперь Варвара не смотрела на него как на квартирного вора, но не совсем успокоилась. Встреча с милиционером не предвещает ничего хорошего, к тому же ей никогда еще не приходилось вести серьезный разговор с милицией, если, конечно, не считать кратковременную беседу с постовым сержантом, когда однажды перешла улицу на красный свет. А этот мужчина в гражданском, как успела узнать Варвара из удостоверения, майор милиции. Майор Хаблак Сергей Антонович из Киевского уголовного розыска. И Варвара пропустила майора в квартиру если не с легким сердцем, то и не очень-то испугавшись. Она предложила Хаблаку место на диване, недавнем свидетеле Иванова бунта, под торшером «за двести рэ», а сама устроилась немного поодаль, за обеденным столом, подсознательно выбрав в комнате наилучшую защитную позицию. Однако, оказалось, обороняться ей было вовсе не нужно: милицейский майор начал с приветливой улыбки и предупреждения — хочет выяснить лишь несколько вопросов, связанных с рейсом самолета в Одессу. Рейсом, которым летела ее мать Мария Федотовна Винницкая. Варвара облегченно вздохнула: значит, визит майора не касается непосредственно ее или Ивана. Но что она может знать о самолете? Так и ответила этому любезному майору из уголовного розыска. — Мария Федотовна не звонила вам из Одессы? — поинтересовался тот, явно игнорируя ее вопрос. — Нет. «Придется объяснять, что к чему», — подумал Хаблак без особого удовольствия, впрочем, это давало ему некоторые преимущества, и майор незамедлительно воспользовался ими. — Вы слышали о взрыве в Борисполе? — спросил, не сводя с Варвары пристального взгляда: если причастна к этой трагедии, обязательно как-то выдаст себя. Но Варвара повела себя так, как, вероятно, каждая дочь, узнав, что с ее матерью случилась беда: глаза у нее округлились, нижняя губа выпятилась, лицо побледнело. — Что? — воскликнула. — Какой взрыв? Где мама? «Нет, — подумал Хаблак, — так имитировать испуг невозможно». — Успокойтесь, — поднял руку. — С Марией Федотовной все в порядке. — Но вы же сказали — взрыв... — Вы забыли: раньше я спросил, не звонила ли Мария Федотовна из Одессы. Варварины щеки порозовели, она глубоко и с облегчением вздохнула. — Слава богу, — сказала, — с мамой ничего не случилось. Но почему она должна звонить? — Сейчас все объясню, — пообещал Хаблак. — Однако сначала прошу вас ответить на несколько вопросов. — Пожалуйста. — Было видно, что Варвара и в самом деле настроена отвечать с готовностью: ведь главное — с мамой все в порядке, а остальное — ерунда. — Ваш муж на работе? — Нет, Иван взял отгулы, сегодня и завтра дома. — Могу его видеть? — Пошел к машине и скоро вернется. — Он отвозил Марию Федотовну в Борисполь? — спросил Хаблак, хотя и знал это со слов Винницкой. — Да. — А вещи упаковывала Мария Федотовна? — Я помогала ей. — Потом ваш муж снес их в машину? — Конечно. — Почему вы не провожали мать в аэропорт? — Дочь приболела, не пошла в садик, и не было с кем оставить ее. — А почему Мария Федотовна не спустилась к машине вместе с вашим мужем? — Не знаю. Да и разве не все равно — пошла мама сразу или задержалась? — Именно это я и хотел уточнить. — Странный вопрос. — Да и вообще эти милицейские работники странные, — усмехнулся Хаблак. Но сразу же спросил серьезно: — Надолго ли задержалась Мария Федотовна в квартире после того, как ваш муж понес чемодан? Прошу припомнить. Варвара замигала глазами. — Иван сказал, — стала вспоминать, — что должен проверить давление в скатах. Он вечно крутится возле машины, все свободное время что-то ремонтирует, завинчивает... Мать сказала, чтобы не медлил, так как через четверть часа должны выехать. Через четверть часа и пошла. «Пятнадцать минут, — подумал Хаблак, — четверть часа было у Ивана Петровича Бляшаного, чтобы положить взрывчатку в тещин чемодан». А сказал совсем другое: — Хорошо живете, — похвалил, обведя взглядом со вкусом обставленную комнату. — Квартира у вас уютная. Варвара довольно улыбнулась. — Да, четыре комнаты и почти в центре, лучше не может быть. Вспомнила: а еще несколько минут назад хотела поменяться — стало стыдно, будто и впрямь провинилась. — В такой квартире только жить не тужить, — начал осторожно Хаблак. — В мире и согласии... — Конечно! — радостно согласилась Варвара. Мелькнула мысль: правду говорит этот милицейский майор, вот, посторонний человек, а понимает все, не то что Иван... Ну чего он бесится? Да, у мамы характер — не подарок, но к каждому характеру можно приспособиться, живет же она с Иваном уже шесть лет тихо и спокойно... Вдруг встревожилась. — Вы скажите все-таки, — попросила, — что с мамой? Милиция ведь даром не приходит... — Не приходит, — согласился Хаблак. — Я сейчас объясню все, однако хотел бы еще спросить вас, Варвара Владимировна, извините, может, это не очень тактично, но должен: в вашей семье все в порядке? — То есть у меня с Иваном? — И это... Но меня интересует, какие отношения у Ивана Петровича с вашей мамой? — Нормальные, — ответила вполне искренне. — Не ссорятся, ну, конечно, не без трений, но дай бог, чтобы у всех было не хуже. — Внезапно насторожилась. — А почему это вас интересует? — Потому, — ответил Хаблак, — что в чемодан одного из пассажиров самолета, которым летела в Одессу Мария Федотовна, была положена взрывчатка. Майор увидел, как снова кровь отлила от щек Варвары Владимировны, она буквально побелела и испугалась — но отчего так пугаться сейчас, когда знает: все обошлось и мать жива-здорова? — Ваш муж работает в мостоотряде? — спросил. — Да, — подтвердила. — Инженером. — Варвара Владимировна, только что вы подумали о муже нехорошо, не так ли? Покраснела, и глаза налились слезами. Но все же возразила: — Ошибаетесь. — Какие у вас были основания так думать о нем? Но Варвара уже взяла себя в руки. Ответила твердо: — Я же говорю, вы ошибаетесь. У меня прекрасный муж, и все ваши вопросы ни к чему. — Вдруг глаза у нее снова округлились, и она заговорила быстро, словно убеждая себя в чем-то: — И что за манера — подозревать? Сказано вам: живем нормально, уважаем друг друга, а вы лишь бы внести раздор!.. Хаблак поднялся. Варвара Владимировна не убедила его, теперь следовало побывать в мостоотряде — если Иван Петрович действительно соорудил мину с часовым механизмом, должен был оставить там хоть какие-то следы. Взрывчатка ведь на улице не валяется.8
Кузьма поставил на стол три бутылки сухого вина, выложил пакет с закуской, начал разворачивать, мурлыча под нос:9
В ресторане только начинался рабочий день, посетители лишь начали сходиться, уже появились и официанты. Хаблак остановил одного из них, спросил: — Борис сегодня работает? Борис Шафран? Тот указал на столик в углу слева: — Там обслуживает. Майор расположился в удобном, обитом искусственной кожей кресле. О Борисе Шафране ему сказала официантка, Надежда Наконечная. Они довольно долго беседовали, Надя рассказала Хаблаку о ресторанных порядках и посоветовала поговорить с Борисом. Человек, как она считает, порядочный и скажет все, что знает. Надя так и говорила тогда майору: «Мне не верите, Шафрана расспросите. У нас в ресторане такие порядки...» Но сначала Наконечная молчала. Узнав, почему Хаблак расспрашивает ее о чемодане, сидела с потемневшими глазами и молча смотрела на него. Потом сказала тихо и как-то утомленно: — Этого не может быть... — Факт остается фактом, — ответил Хаблак, имея в виду то, что случилось в аэропорту. Надя тяжело вздохнула, будто приходя в себя, и прошептала нерешительно: — Это они... Я для них как кость в горле. — Кто? — поинтересовался Хаблак, внешне оставаясь спокойным. — Никогда не поверю, что кто-то поднял руку на такую молодую и красивую. — Они! — повторила Надя уверенно. Тогда же она рассказала майору историю, которая и привела его сегодня в один из киевских ресторанов. Хаблаку не пришлось долго ждать. Борис Шафран появился возле столика как-то незаметно, если бы майор сидел в углу, мог бы подумать, что официант вынырнул из-за спины — без пиджака, в отутюженной белой рубашке с традиционной черной бабочкой и не менее традиционной улыбкой. Был он невысокого роста, коренастый, косая сажень в плечах. Хаблак подумал — сильный. И еще подумал: такому бы не скользить меж ресторанных столиков с подносом на вытянутой руке, а держать в ней, скажем, кувалду. Майор усмехнулся, вспомнив, как назвал когда-то кувалду один из строителей — Хаблак тогда лишь начинал службу в уголовном розыске, какое-то дело привело его на строительство гостиницы на бульваре Дружбы народов и он увидел, как ловко управляется с кувалдой парень в мокрой от пота майке. Хаблак что-то спросил у него, тот бросил кувалду, сказал сердито: «Ну, сиротка, отдохни...» «Почему — сиротка?» — не понял Хаблак. «А потому, что никто брать не хочет, — объяснил строитель. — Кроме меня, дурака...» Тот парень был чем-то похож на Бориса Шафрана. Хаблак еще раз внимательно посмотрел на официанта и подумал, что грязноватая, мокрая от пота майка больше была бы под стать ему, чем черная бабочка. Видно, официант прочел во взгляде Хаблака недоброжелательность, с лица его исчезла заученная улыбка, и сухо спросил: — Что вам нужно? — Если вы Борис Александрович Шафран, то нужно поговорить с вами. — В связи с чем? — настороженно спросил официант. — И, извините, кто вы? — Из милиции, — не стал таиться Хаблак. — Мне посоветовала поговорить с вами Надя Наконечная. Шафран невольно оглянулся, будто кто-то мог подслушать их и даже само упоминание фамилии Нади — крамола. Сказал, приглушив голос: — Но ведь я на службе... — Лишь несколько вопросов, Борис. Принесите мне черного кофе и бутерброд или пирожное. И еще стакан минеральной воды. — Слушаюсь, — ответил, наклонив голову. Хотел уже идти, Хаблак увидел, как Борис облегченно вздохнул — теперь имел несколько минут, чтоб приготовиться к разговору, а в том, что разговор будет не очень приятным, оба не сомневались. Майор задержал Шафрана: — А метр ваш тут? — спросил. — Валерий Саввич Лапский, если не ошибаюсь? И снова Шафран невольно оглянулся, но сразу овладел собой и даже махнул рукой, мол, какое это имеет значение: ресторанная жизнь размеренна и регламентированна, независимо от присутствия или отсутствия какого-то Лапского. Но все же объяснил: — Валерий Саввич так рано не появляется. Ближе к вечеру, когда настоящие клиенты приходят. — Значит, я ненастоящий? — с сожалением и как будто обиженно вздохнул Хаблак. Борис подтвердил: — Выходит, так. Разве настоящий клиент заказывает кофе и пирожные? Хаблаку стало весело. — И минеральную воду вместо коньяка? — Вот-вот, — поддакнул Борис — А что вам сказала Надя? — Он взглянул тревожно и даже испуганно. — Где могли ее увидеть? Ведь она вылетела в Одессу. — Об этом и поговорить нужно, — ответил Хаблак. — Принесите кофе, Борис, немного побеседуем, пока нет Лапского. Посетителей у вас, кажется, негусто. — Нет, и пусть это вас не волнует: я скажу ребятам, они моими клиентами займутся. Борис скользнул между креслами, машинально поправил цветы на соседнем столике, Хаблак увидел, как вежливо остановился Шафран, пропуская посетителя, и подумал, что, может, он и не прав относительно кувалды, кому-то нужно работать и тут, может, в основном это и женское дело, вон какая симпатичная девушка стоит в дверях, ожидая клиентов, а случаются ведь и хулиганы... Хаблак расправил складку на белоснежной, еще не запятнанной скатерти и подумал, что ресторанная жизнь совсем не простая, что тут немало своих подводных рифов и сложностей и что этот крепыш Борис с черной бабочкой и приветливой улыбкой на скуластом лице повидал всего. Еще раз расправил складку — никак не повиновалась ему — и вспомнил Надю Наконечную и ее рассказ в аэропорту. Взволнованный и не очень складный. «Ну и ну, — покрутил головой Хаблак, — если то, что она говорила, правда...»Лапский, не спрашивая разрешения, зашел в директорский кабинет и щелкнул дверным замком. — Плохие дела, Федя, — сказал коротко. Сел в низкое кресло и вытянул ноги, обутые в лакированные черные туфли. — Налей мне рюмку коньяку. Налей и себе, дела в самом деле скверные, надо все обсудить. Федор Федорович с готовностью, будто только и ожидал такой просьбы, вынул из ящика дешевого и поцарапанного письменного стола бутылку марочного коньяка «Карпаты» и два хрустальных бокальчика. Налил Лапскому полный, а себе немного. «И тут хитрит, — неприязненно подумал Лапский. — Привык ловчить везде. Но по мелочам, как жулик, без масштаба и перспективы. Нет у него размаха. Однако, — решил, — может, это и к лучшему. Размах есть у Валерия Саввича Лапского, есть и голова на плечах, у Федора же Федоровича только директорский кабинет с потрепанным столом и марочным коньяком в нем». — А не паникуешь? — Федор Федорович отхлебнул коньяку и сощурился от удовольствия. «Алкаш проклятый... — чуть не вырвалось у Лапского. — Я бы тебя на месте нашего начальства давно выкинул из ресторана без выходного пособия». Однако был вынужден признать, что именно это качество их директора и устраивает его, Лапского, да третьего их компаньона — Анну Бориславовну Утку. А Федор Федорович пусть тешится марочным коньяком: ежедневно получает наличными тридцать — сорок рублей, иногда даже полсотни, это подумать только, зеленуюбумажку ни за что, фактически за невмешательство. — Ну что же случилось, Валера? — спросил директор не очень озабоченно. — Неужели сам не можешь уладить? — А случилось то, Федя, — не без злорадства сообщил Лапский, — что сегодня твоя тридцатка гавкнула. — Не ври. «Этот болван еще и не верит!» — возмутился Лапский. Сказал, понюхав коньяк и едва пригубив: — И не только сегодня, а и в ближайшем обозримом будущем. Наконец до директора дошло. Поставил недопитый коньяк и спросил недоверчиво: — Ты имеешь в виду?.. — Да, я имею в виду, что придется тебе, Федя, перебиваться на зарплату в размере двести пятьдесят рублей ежемесячно. Вместе с прогрессивкой за перевыполнение плана. Если, конечно, мы этот план будем перевыполнять. — Ты что, с ума сошел? — Видишь, двести пятьдесят тебе уже мало... Федор Федорович автоматически долил свой бокальчик и осушил его одним духом. — Плохие шутки, Валера, — бросил хмуро. — Я не шучу, Федя. — Лапский закинул ногу на ногу, покачал ею, глядя на блестящий носок лакированной туфли. — Эта шлендра, Надька Наконечная, подговаривает официантов и свою пятерку сегодня не внесла. Директор беспечно махнул рукой. — Уволим! — решил. — Надьку уволим — и с концами. — Не выйдет. — Это почему же? Запишем ей выговоряку, найдем за что, потом рассмотрит местком, а я — приказ. На жалобы клиентов спишем. — Нет, — покачал головой Лапский, — эта пройдоха языкатая — совесть у нее, видите ли, заговорила — пойдет по инстанциям, а нам сие ни к чему. — Что же делать? Теперь Валерий Саввич увидел неподдельную тревогу в бегающих глазках директора. Отпил коньяку и сказал тоном, исключающим возражения: — Сделаешь так, Федя. Этой Наконечной вместо выговора — благодарность. И в отпуск ее, я уже договорился с месткомом, путевку ей в Одессу выделили. Санаторий, теплое море, пляж — все для передовиков производства. Директор недовольно покрутил головой: — Вернется — на голову сядет. — Нет, — блеснул глазами Лапский. — Не вернется. — Как так? — А ты что-нибудь придумай. Впереди целый месяц на размышления. Выдвинь ее куда-то как передовика производства. Надька к тому же студентка торгового института, ей расти надо, а не в официантках бегать. — Трудно, — грустно возразил директор, — она же у нас лишь три недели... Лапский разозлился. — А мне, думаешь, легко было ей путевку выбить? — воскликнул. — Она ведь к нам по переводу попала, другие же годами работают!.. И все же сделал! — Путевка в наших руках, а выдвижение от треста зависит. Сомнительное дело... Лапский подумал, что директор на этот раз прав. Но подумал также, что отказ платить ежедневную десятку или пятерку — только начало, в конце концов, эти десятки — тьфу, на ежедневные мелкие расходы директору и еще кое-кому, лишь бы молчали. Главный же источник их доходов, его и заведующей производством Утки, — совсем другой, о нем не знает ни директор, ни официантка Надька, правда, может, Надька или кто-либо из других официантов догадывается, поэтому следует немедленно под корень рубить — Надежда Наконечная не должна вернуться в ресторан. Валерий Саввич насупился: вообще-то есть разные способы, только о них не должен знать никто, даже этот болван в директорском кресле. И еще: надо обсудить эту проблему с Уткой. Умная женщина, энергичная и решительная, светлая голова, и умеет найти подход к человеку. Не разбрасывается деньгами — одному пятерочку, другому — красненькую, все шито-крыто, аккуратно, все признательны ей, благодарят и кланяются. А за что, спросить бы, благодарить? Лапский самодовольно усмехнулся. У них все организовано, все продумано и выверено. Ну кто может даже представить себе, что в основном все махинации делаются не в ресторане, а в скромной столовой самообслуживания на первом этаже? В ресторане — ажур, ресторан — под колпаком трестовских ревизоров и работников отдела борьбы с разными расхитителями, то, что, к примеру, официант припишет к счету рубль или десятку, это его личное дело: попался — отвечай, официанту можно записать выговор, уволить с работы, даже в крайнем случае, если уж точно поймали за руку, отдать под суд... Все правильно, и он первый выступит на общем собрании коллектива с гневным осуждением недостойного поведения любителя чаевых. А что: знай, у кого брать. Для этого ты поставлен тут, для этого ты и бегаешь с черной бабочкой, знай, перед кем вилять, клиент должен платить за все... Даже за вареники с мясом или обычной картошкой, вдруг подумал Валерий Саввич, подумал не без удовольствия, ибо помнил, сколько они с уважаемой Анной Бориславовной нагребли на этих варениках. Не считая уже бифштексов, отбивных, закусок... Да и кто сосчитает блюда, которые съедаются в обычной столовой самообслуживания — и кто может знать, что с каждого вареника или бифштекса идут отчисления... От этих мыслей Валерию Саввичу стало приятно и одновременно жутко, жутко за свое светлое будущее, подумал: может, следует и остановиться, нагребли уже достаточно, одних сберегательных книжек на предъявителя десять, кажется, и каждая на семь тысяч, стоп, десять или одиннадцать, боже мой, он даже забыл, сколько у него книжек, да, конечно, одиннадцать, значит, только на сберегательных книжках... А когда-то сладкой мечтой было пятьдесят тысяч. Пятьдесят — и точка. Сумма казалась недосягаемой, ее хватило бы на всю жизнь, безбедную, даже с комфортом, однако он давно уже определил новую цифру, давая слово остановиться на ней и заранее зная, что ничего из этого не выйдет: жажда потребления была в нем неистребима — ковры, сервизы, хрусталь, ювелирные изделия. Да и что для них с Уткой золото? Анна Бориславовна рассказывала: позавчера ехала в переполненном троллейбусе и потеряла золотые часы с браслетом. Так даже и не стала искать. Попробуй растолкать пассажиров! Себе дороже... Лапский подумал: он бы все же растолкал, не такой уж он гордый, как Утка. Вот проклятая баба, ума и спеси хватит на десятерых, и это — с такой фамилией!.. Валерий Саввич допил коньяк и покрутил в мясистых пальцах хрустальный бокальчик. — Итак, — сказал как-то неопределенно, — я тебя, Федя, предупредил. Так делай выводы, — Вздохнул и поднялся, не сомневаясь, что решать за директора придется ему, Валерию Саввичу Лапскому. Что ж, он выберется и из такого переплета, в конце концов, овчинка стоит выделки.
Борис принес все сразу: кофе, бутылку минеральной воды, бутерброд и пирожные. Хаблак с удовольствием выпил полстакана холодной воды и указал Борису глазами на кресло рядом. — Садитесь, — попросил, — а то вроде неудобно разговаривать. Как-то не на равных. Шафран присел на краешек кресла, будто приготовился вскочить, и выжидательно уставился на Хаблака. Майор не стал испытывать его терпение: — Надя рассказала кое-что о ваших порядках. Ну о ежедневных пятерках и десятках Лапскому. Борис заерзал в кресле. — Было, — ответил не очень уверенно. — Бывало, — поправился, очевидно вспомнив, что разговаривает все же с работником милиции. Хаблак решил немного успокоить его. — Видите, Борис, — сказал, — я не веду протокол, и разговариваем мы с вами неофициально. Понимаю: и вы некрасиво выглядите в этой истории, но никто не собирается привлекать вас к ответственности. Борис кивнул, облизал сухие губы и молвил чуть ли не шепотом: — Надя Наконечная рассказала вам о наших ресторанных порядках, и я подтверждаю... — Кому шли эти деньги? — Валерий Саввич говорил: директору и ревизорам. — Таким образом, Лапский сам наталкивал вас на обсчитывание клиентов и поборы с них в виде чаевых? — Почему наталкивал? И сейчас — тоже... — Надя говорила: вы отказались. — Думаете, все? — Нет, я так не думаю. — То-то же. — И легко набрать эту ежедневную десятку? Ведь должны что-то оставить и себе... — Смотря какие клиенты... — ответил неопределенно. — Ну, Борис, мы же с вами откровенны и без протокола. — Если деловые люди гуляют, самое меньшее — четвертак... — Деловые? Борис посмотрел недоверчиво: — Неужели не знаете? — Догадываюсь. — Но деловые гуляют не каждый вечер. Кроме того, знают, где сесть. У них свои официанты и свои столики. — Правда? — Если даже загодя не заказали, Лапский устроит. — И сколько за вечер оставляют у вас деловые? Борис задумался лишь на секунду или две. — Обычная компания из пяти-шести человек оставляет рублей сто — сто пятьдесят. Если с девушками, немного больше. Как правило, но не всегда. А деловые — рублей шестьсот — семьсот. — Ну да? — удивился Хаблак. — Разве один человек за вечер может съесть и выпить на сотню? — Одна бутылка марочного коньяка у нас, — уточнил Борис, — не меньше тридцатки. А деловой, когда еще в ударе, и с двумя справится. Вот и считайте... — А сколько у вас официантов? — В этом зале семеро. — Семьдесят рублей чистого налога? — Было. — Значит, вы теперь прекратили давать Лапскому на лапу, — улыбнулся каламбуру Хаблак, — и что же он? — Приходится мне держать ухо востро. Балансировать, как канатоходцу. Один неверный шаг и... — Почему не жаловались? — Одна пробовала: съели и костей не осталось. К тому же как доказать? — Есть разные способы. — А вы учтите: люди всякие работают, и кое-кого такие порядки вполне устраивают. — Вас — нет? — Не разговаривал бы с вами. Меня, Надю, еще нескольких... — По-моему, скрутить Лапскому голову не так уж и сложно. Борис возразил: — Вы не знаете его: зверь! — Кстати, — как бы между прочим поинтересовался Хаблак, — когда улетала Надя, Лапский был тут, в ресторане? — Да, Надя прибежала к двенадцати — попрощаться. И сам Валерий Саввич пришел. — К двенадцати? — Да. — Но сейчас ведь его нет... — А он в это время никогда не появляется. — Позавчера же пришел? — Выходит, так. Информация была очень интересной, и Хаблак продолжал: — Наконечная сказала, что прямо из ресторана поехала в аэропорт. Значит, пришла с чемоданом? — Наверно, я не видел. — Скажите, Борис, вы же не приходите на работу в этой рубашке с бабочкой? — Конечно. Есть комната, где переодеваемся. — А женщины? — И они тоже. — И Надя, возможно, оставила чемодан в этой комнате? — А где же еще? — Лапский или кто-либо другой могли зайти туда? — Комнаты на ключ не закрываются. — И кто-то мог залезть в Надин чемодан? — Что вы, у нас этого никто себе не позволит. Сколько работаем, не было случая. — А в принципе? — Я же говорю: комнаты не закрываются. Хаблак подумал, что он, пожалуй, получил от Шафрана максимум нужных сведений. — Спасибо, — сказал, — вы помогли нам. Официант нерешительно поднялся. — И это все? — спросил недоверчиво. — А что будет с нами? И с Лапским? — Со временем все решится, — уверенно пообещал Хаблак. — А вы держитесь своей линии. Сами понимаете: честному человеку ничто не угрожает.
10
Хаблак вскипятил в чашке воду, бросил бумажный пакетик с чаем, сидел, думал, машинально помешивая ложечкой, и совсем забыл о чае, вспомнил, когда тот уже почти остыл, но подогревать не хотелось, хлебнул холодного. На чистом листке бумаги написал две фамилии: Бляшаный Иван Петрович. И немного ниже: Лапский Валерий Саввич. Решил, что Валерий Саввич, наверно, уже появился в ресторане, вечерние посетители, правда, еще не занимают столики, но к их приходу следует подготовиться, вероятно, уже есть заказы, и надо сориентироваться, кого куда посадить и кто кого должен обслуживать. Однако с Лапским можно увидеться и вечером, никуда не денется, тем более что у Хаблака не было твердой уверенности, стоит ли разговаривать с Валерием Саввичем, по-видимому, следует раньше собрать о нем кое-какие сведения — может, кто-то и заметил, как он лез в чемодан Наконечной. Собравшись побывать прежде в мостоотряде, Хаблак вызвал машину. Допив холодный и невкусный чай, бросил в ящик листок с двумя старательно выписанными черным фломастером фамилиями, подумал, что надо бы позвонить Дробахе, набрал номер, но безрезультатно — Иван Яковлевич не ответил. Только положил трубку — звонок, оказалось: Одесса. Знакомый Хаблака, заместитель начальника областного управления уголовного розыска подполковник Гурий Андреевич Басов сообщил такое, что майор сразу забыл о вызванной машине и поспешил к Каштанову. Как ни торопился, пришлось посидеть в приемной — полковник разговаривал с каким-то посетителем, Хаблак счел, что слишком долго, хотя прождал всего четыре минуты. — Что-то новое о взрыве? — спросил Каштанов. — Да, десять минут назад позвонили из Одессы. На берегу моря за Лузановкой погиб один из пассажиров того самолета — Михаил Никитович Манжула. Упал в море с крутого берега и разбился на камнях. Или столкнули. — Когда? — Тело нашли около десяти. Был еще теплый. — Как установили, что именно Манжула? — Мне звонил Басов, вы знаете его? — Слышал. — Зубы съел в розыске. Он не исключает случайной трагедии. Во-первых, у Манжулы нашли много денег, около двух тысяч, еще документы, японские часы. Значит, не грабители. Во-вторых, тропинка там проходит по самому краю обрыва. Мог оступиться и упасть. Ну а список пассажиров того рейса был в милиции. — Дробаха знает? — Еще нет, я прямо к вам. Каштанов покрутил телефонный диск, ему повезло: Дробаха ответил, видно, только появился. Выслушав сообщение, Иван Яковлевич попросил передать трубку Хаблаку. — Не помню я Манжулу, — сказал недовольно, — вероятно, вам пришлось разбираться с ним? Хаблак припомнил элегантного мужчину в белых джинсах и сером пиджаке, сшитом дорогим портным. Манжула, как и тогда в гостинице Бориспольского аэропорта, улыбался ему вежливо и разглаживал складки на отутюженных брюках. Улыбался, как живой, — уверенно и даже был весьма оживлен. Человек с зарплатой сто семьдесят рублей, в кармане которого находят две тысячи. Рядовой снабженец, ну, может, не совсем рядовой, заместитель начальника отдела, однако белые джинсы, японские часы и деньги... Деньги, которых не взяли... Не в его ли чемодане тикал часовой механизм мины? А как он сказал тогда? Хаблак еще раз представил себе Манжулу. Сидит на стуле непринужденно, заложив ногу за ногу, смотрит ему прямо в глаза и отвечает убежденно: «Нет, товарищ, ищите в другом месте, в моем чемодане не было ничего постороннего. Гарантия». Может, это было сказано немного иначе, но последнее слово «гарантия» Хаблак помнил абсолютно точно. Как и уверенный тон, каким оно было произнесено. Выходит, соврал. И соврал на свою голову, видно, провинился перед кем-то, и провинился основательно, раз все-таки дотянулись до него. А может, и в самом деле оступился или споткнулся на узкой тропинке над обрывом. — Да, Иван Яковлевич, — ответил Дробахе, — помню я Манжулу, снабженец Одесского машиностроительного завода. Тогда он не вызвал у меня никаких подозрений. — А теперь? — Не нравится мне эта история. — Кому же понравится? А что тут, в Киеве? — Двое из четверых отпали. — У меня требует выяснений один. Доктор наук из научно-исследовательского института. Но, кажется мне, все это пустое. Знаете анекдот о внутреннем голосе? — Слышал. — Так вот внутренний голос подсказывает мне... — Что надо лететь в Одессу? — Немедленно, первым же рейсом. — А вы? — Буду разрабатывать киевские версии. — Мы должны увидеться. Времени достаточно, ближайший одесский рейс через три часа. — Сейчас я подскочу к вам. Домой заедете? — Подкинете меня на Русановку? — Моя машина будет в вашем распоряжении. Хаблак положил трубку и встретился с укоряющим взглядом Каштанова. Сразу сообразил, чем недоволен полковник, и объяснил: — Конечно, негоже следователю по особо важным делам ехать к простому смертному, но у нас с Иваном Яковлевичем свои отношения, и он не обидится. — Скоро и с генералами на дружеской ноге будешь... — пробурчал незлобиво полковник. Спросил: — Одесситы как там, все осмотрели? — Басов сам выезжал на место преступления. — Ну и что? — Басов — это фирма. — Молодежь теперь говорит: не фирма, а фирма́, — будто и не кстати сказал Каштанов. — Надеюсь, они догадались поставить там милицейский пост? — Догадались. — Какие-то следы есть? — Кажется, не очень... — А ты говоришь: фирма. Хорошо, лети, я на тебя полагаюсь. С Мариной Хаблак увидеться не успел, лишь предупредил по телефону, что вылетает в Одессу, а вот со Степаном попрощался — садик сразу за их домом, и дети из младшей группы как раз резвились на воздухе. Сын сидел на деревянном коне, крепко обняв его за шею, а другой малыш пытался стянуть его, Степан отбрыкивался, сопел, но держался, и Хаблак подумал: пусть так будет всегда — лишь бы на коне. Он сам снял Степана, тому это не очень понравилось, но Хаблак посадил его себе на шею, теперь сын был выше всех, он оседлал отца и весело хохотал, Хаблаку было весело и радостно, он с сожалением ссадил сына, ведь времени оставалось совсем мало, и Дробаха ожидал за живой оградой садика. В самолете Хаблак думал: неплохо было бы подключить к расследованию старшего лейтенанта Волошина. Когда-то Волошин здорово помог ему, тогда Хаблак вышел на целую группу валютчиков, крутившихся около бармена одесского ресторана «Моряк». Хаблак с удовольствием вспоминал это дело. Тогда им пофартило, хотя, казалось, не было никаких следов. Будут ли они сейчас? Как говорил ему тогда Волошин? У нас — порт, все смешалось, сам черт шею сломает. А они не черти, а обычные милицейские офицеры, и шеи ломать никак не хочется. Хаблак снова представил Манжулу и его пижонские белые джинсы. Прошло всего несколько дней, как виделись, а уже нет человека. Видно, знал что-то или догадывался, но промолчал. Если бы рассказал, может, остался бы жив. А он — «гарантия»... Значит, были у него серьезные основания. Вот его и убили. Наверно, убили... И называется он сейчас, согласно казенной терминологии, «потерпевший». А если не потерпевший, а тоже преступник? Первое, о чем подумал Хаблак в Одесском аэропорту: вероятно, телепатия все же существует, ну не в ее шарлатанских крайностях, а в каких-то еще неизвестных человечеству формах и проявлениях, поскольку возле выхода с поля увидел знакомое круглое и симпатичное лицо старшего лейтенанта Захара Волошина. Невдалеке стояла и «Волга». Хаблака встречали по первому разряду; он это понял сразу, но набрался нахальства и поинтересовался, где же Басов. Волошин обиделся, но, пожалуй, не очень. — Тебе уже старших лейтенантов мало, — хохотнул, — подавай подполковников! Перебьешься. Хаблак почувствовал, что допустил бестактность, и начал оправдываться: — Мне очень приятно тебя видеть, в самолете даже мечтал об этом. Но Басов ведь был на месте происшествия, хотел сразу расспросить его. — Подполковник на совещании в облисполкоме. — Но рабочий день заканчивается. — Однако не закончился. Сейчас мы устроим тебя в гостиницу, тем временем Гурий Андреевич освободится, можете даже поужинать вместе, объедините полезное с приятным. — А ты знаешь, где это произошло? — Происшествие с Манжулой? — Ну да. — Чего я только не знаю! — Тогда сделаем так: гостиница и ужин, надеюсь, от нас не уйдут. Поехали прямо туда. — Невтерпеж? — Слушай, старик, а если ночью дождь пойдет? — И смоет и так едва заметные следы? — Ты догадлив. — На том стоим. Но ведь, видишь, солнце, и синоптики говорят, что такая погода... — Ты им веришь? — Не очень. — Поехали? — Поехали. — Волошина не надо было убеждать, понимал: Хаблак прав, и он на его месте поступил бы так же. Путь от аэропорта к Лузановке пролегал чуть ли не через весь город, потом они выскочили на приморское шоссе, ведущее в Николаев, шофер гнал «Волгу» уверенно, и не успели они с Волошиным наговориться, как свернул на боковую грунтовую дорогу, машину начало бросать на колдобинах, проехали еще немного и остановились. Грунтовая дорога тут, собственно, кончалась, кто-то перекопал ее, чтоб машины не подъезжали к морю — оно было совсем рядом, метрах в ста пятидесяти — двухстах, тихое, синее, даже золотистое: солнце садилось в него и, казалось, растворялось в воде. Хаблак машинально направился к морю, вероятно, каждый так бы повел себя, море гипнотизирует и притягивает к себе, но Волошин указал майору на тропинку, круто поднимающуюся из ложбины на гору, и Хаблак пошел за старшим лейтенантом, все время оглядываясь на море. Белый пассажирский корабль шел вдоль берега, совсем недалеко, а под самой горой, на которую они взбирались, стояла рыбачья шаланда, и чайки скандалили над нею. Ссорились, бросались на воду, горланили резко и требовательно, а на корме шаланды лежал человек, подложив руку под голову, и дремал, не обращая внимания ни на крикливых чаек, ни на вековечное морское раздолье. Хаблак позавидовал ему: они карабкаются по извилистой тропинке, сейчас засуетятся в поисках следов, а человек тот раскинулся на солнце, он далек от их, пусть и важных, хлопот, сети поставлены и рыба ловится, шаланду покачивает легкий ветерок, пахнет морем и сухой полынью с берега, и хоть горланят чайки, под их крики даже лучше спится. Вверху, опершись спиной о шероховатый ствол акации, сидел милицейский сержант, небось ему надоели чайки, жаркое солнце, пожалуй, и море, он видел их каждый день, и Хаблак подумал: сам он сейчас мечтает сбежать по тропинке и окунуться в море, а сержант, может, не купался уже неделю или больше, так ему осточертели и море, и солнце. Сержант обрадовался им, как ближайшим родственникам, его можно было понять, чуть ли не весь день протомился тут. К тому же, наверно, был твердо убежден, что это его сидение ни к чему — ну оступился человек, не удержал равновесия, покатился с горы, такая уж судьба. Сам виноват, надо быть осторожнее и не шляться над обрывом, тут высота, костей не соберешь... А если даже подтолкнули человека? Попробуй установить это... Пускали и собаку, довела до шоссе, а тут и без собаки понятно: человек мог прийти сюда только со стороны шоссе. Откуда же еще? Дальше — пионерский лагерь, территория его огорожена, посторонних не пускают, справа — санаторий, да и вообще тут каждый клочок морского побережья занят: санатории, дома отдыха, дачи, лагеря. Вон только за полкилометра ложбинка заболоченная и эта гора свободны — напротив через шоссе село, и людям нужен выход к морю, попробуй его занять, жалоб не оберешься. — Никто тут не шатался? — спросил Волошин. Сержант, сбив сухую траву с брюк, совсем по-домашнему развел руками и объяснил: — Кому ж охота сюда карабкаться? Разве только детишкам и дачникам... Петька с мальчишками интересовались, но я отогнал. — Сержант Биленко, — представил Волошин. — Живет тут... — кивнул в сторону, где за шоссе виднелись домики под шифером и черепицей, — в совхозном поселке, и всех знает. Хаблак подошел к самому краю крутого берега. Море подмывало его, он медленно и неохотно отступал, последний оползень, видно, был совсем недавно, море не успело еще смыть каменистую землю. — Где нашли тело погибшего? — спросил Хаблак у сержанта. Тот указал на прибрежные камни. — Вон там, видите, немного правее. Если споткнулся, удержаться трудно, пошатнулся и упал, тут ничто не спасет. И в самом деле, крутой берег нависал над самым морем. Хаблак представил, как падал Манжула, и содрогнулся, закрыв глаза. Вероятно, Манжула несколько раз ударился об острые выступы горы, прежде чем разбился на прибрежных камнях. Майор вздохнул и сошел с тропинки. Сказал недовольно: — Место такое опасное, я бы запретил тут шататься. — Как? — не удержался от ироничной улыбки сержант. — Милицейский пост не поставишь. Да и не ходят тут, иногда только пацаны и дачники. Те всюду пролезут, будет пост или нет. Но до этого времени как-то обходилось. — Объявление бы написали, — поддержал Хаблака Волошин. — На фанере или доске. Опасная зона и ходить запрещено. Хотя бы предупредили людей. — Скажу председателю сельсовета, — пообещал сержант, но без энтузиазма, без сомнения, знал, что это объявление все равно ни на кого не повлияет, только раззадорит любопытных. Хаблак взглянул на часы — около шести, значит, у них с Волошиным есть часа три, чтоб осмотреть гору и подходы к ней. — А дачников в вашем селе много? — спросил сержанта. — Не так уж, но есть. До моря километра три, три с половиной, да и через шоссе переходить, в жару не очень приятно. Не то что в прибрежных селах. Там люди деньгу лопатой гребут, а у нас не очень. Есть, конечно, и у нас дачники — из Одессы и других городов, кто беднее, ну и родственники приезжают. У нас дорого за комнату не берут, а в совхозном магазине овощи всегда по государственной цене, не то что у приморских спекулянтов, у них попробуй докупиться! За помидоры знаете сколько дерут?.. А персики и виноград!.. Хаблак дал сержанту фотографию Манжулы, которую предусмотрительный Волошин догадался прихватить с собой. — Вот что, Биленко, — попросил, но просьба его прозвучала как приказ. — Пока мы со старшим лейтенантом тут будем трудиться, покажите этот снимок в селе. Может, кто-нибудь и узнает. Сержант с радостью взял фотографию: наконец покинет это осточертевшее место, к тому же, наверно, еще не обедал, перебился бутербродами, вон под акацией портфель, из которого выглядывают термос и промасленная бумага. — Сделаем, — пообещал твердо, — я тех, кто комнаты сдает, знаю, у них прежде всего и поспрашиваю. — Вот-вот, — одобрил Хаблак, — это очень важно, надеюсь, понимаете? — Как не понимать, — вытянулся сержант, — все будет сделано, товарищ... — Майор, — подсказал Волошин. Сержант вытянулся еще старательнее: майор из самого Киева не приедет из-за какой-то мелочи на пустынный черноморский берег. Биленко ушел, а Хаблак с Волошиным внимательно, метр за метром, начали осматривать местность. Грунт был тяжелый, глинистый. Дождь прошел трое суток назад, днем, когда туман затянул Одесский аэропорт, с того времени стояла жара и солнце высушило землю. Следов на тропинке и возле нее не нашли, валялись только окурки, но уже намоченные дождем и пожелтевшие на солнце. Волошин ругался сквозь зубы, проклинал южный зной, так усложняющий работу одесситов: все у них, мол, как-то не так, и слава о них какая-то подмоченная — порт, Привоз, жаргон, оперетта с Водяным. Вон в Ленинграде, хоть и тоже порт, все солидно и капитально, памятник Петру, а не какому-то малоизвестному дюку Ришелье, дожди не такая уж редкость и грунт не каменеет за каких-нибудь пару дней. Он ругался и бурчал, однако все же первый заметил след от каблука на узком промежутке между тропинкой и краем обрыва, как раз над камнями, где разбился Манжула. Хаблак стал на колени и чуть ли не обнюхал этот след: каблук и половина подошвы отпечатались более или менее выразительно, каблук резиновый или из какого-то заменителя, совсем новый, с рубчиком, чтобы обувь не скользила. Волошин снял со следа гипсовый отпечаток, и они продолжили поиски. Следов больше не нашли, да и вообще не попалось больше ничего, кроме свежего окурка сигареты «Кент», зацепившегося за высохшую полынь метрах в семи от тропинки. Окурок взяли осторожно, пинцетом, и спрятали в целлофановый пакетик, как будто это была невероятная ценность — докуренная почти до фильтра сигарета. — А мы молодцы, — хвастливо промолвил Хаблак. — Группа Басова не все заметила. — Не критикуй мое начальство, — возразил Волошин. — Не знаем, что у них. Еще два часа лазили они по горе, осматривая каждый клочок земли, каждый кустик полыни или ковыля. Солнце закатилось за тучу над самым горизонтом, когда прекратили поиски. Волошин закурил и сел над обрывом, а Хаблак начал медленно спускаться тропинкой. Вдруг остановился и позвал Волошина. Тот неохотно поднялся, бросил окурок, посмотрел, как летит с высоты, и спустился к майору. Хаблак присел на тропинке там, где она только начинала свой крутой подъем. — Глянь-ка сюда, Захар, — попросил, — как считаешь, что это такое? — Он ткнул пальцем в едва заметную полоску в пыли рядом с тропинкой. Волошин опустился на колени. — Может, мальчишка тянул палку по земле, — предположил. — Не исключено. А представь себе: мы с тобой тянем третьего... Ты взял его под мышки, я за ноги. И одну ногу на мгновение выпустил... — Думаешь, она и оставила эту борозду? — Может быть такое, Захар? — Почему бы и нет... Хаблак сделал несколько фотографий этого следа. Волошин посмотрел, как майор щелкает аппаратом, и сказал: — Преступники могли оглушить Манжулу тут, в ложбинке. Место безлюдное, пляжники ходят редко. Оглушили или даже убили. Потом отнесли тело наверх и сбросили с обрыва. — Угу, — подтвердил Хаблак. — Но ты забыл про след каблука. Завтра утром эксперты сравнят его с каблуками туфель Манжулы и, допустим, установят идентичность... Что тогда скажешь? — Скажу, что этот Манжула несусветный болван. Если это его след, не о чем говорить: оступился и сорвался с кручи. Шофер спал на заднем сиденье «Волги», Хаблак тоже с удовольствием подремал бы часок или больше, с сожалением посмотрел на потемневшее вечернее море — купание сняло бы усталость, но они должны были еще найти сержанта Биленко. Правда, долго искать его не пришлось: шофер подвез их к нарядному, сложенному из песчаника домику, Биленко пригласил офицеров в беседку, пошептался с женой, та побежала в летнюю кухню, а сержант налил всем по стакану холодной воды и, глядя, как жадно пьют, сказал не без гордости: — Нашел. Этот Манжула снимал комнату здесь неподалеку, у Григория Ахремовича Граба. Позавчера. «На следующий день после возвращения в Одессу, — отметил про себя Хаблак. — Спешил». — Ведите нас, сержант, к Грабу, — распорядился. — Но, — предложил Биленко не очень решительно, — сейчас жена сообразит ужин. Проголодались же... — Не пропадет твой ужин, — заверил Волошин. — Пока жена соображает, дело сделаем. Григорий Ахремович Граб, человек пожилой и рабочий, судя по мозолистым рукам и продубленному ветрами и солнцем морщинистому лицу, — это было видно даже в сумерках, — сидел на лавочке возле ворот и грыз семечки. Вероятно, сержант предупредил его, что возможны визитеры, потому что нисколько не удивился их приходу, лишь подвинулся, освобождая место, и предложил гостям семечки. Хаблак отказался, а Волошин взял полгорсти, бросил семечку в рот и выплюнул шелуху подальше от скамейки, чтоб не сорить возле усадьбы. Видно, хозяину понравилось это, он улыбнулся и сам начал разговор. — Жаль человека, — сказал, — неплохой был мужик — Манжула, мой постоялец то есть, не жадный и побеседовать мог. — Но ведь знали вы его только два дня, — усомнился Хаблак. — Человека и за полдня раскусить можно, — безапелляционно возразил Граб. — А то и за час. Я к ним, дачникам, уже привык, с первого взгляда распознать могу. — Неужели? — не поверил Волошин. — Да, с первого взгляда, — продолжал Граб. — Все оно, выходит, в компоненте. Я ему цену за комнату и гляжу, как он на это... Сразу человека видно. — И сколько же ты с него слупил? — без церемоний поинтересовался Биленко. — В меру, сержант, без запроса. — Знаем вас, без запроса... — Зелененькая, разве много? — Зелененькая — это еще по-божески. И он не торговался? — Я же говорю: сразу человека видно — вперед заплатил. — Манжулины вещи у вас? — спросил Волошин. — В комнате, куда же денутся! — Сержант, — приказал Хаблак, — организуйте понятых. Биленко пошел к соседней усадьбе, а майор спросил: — Значит, Манжула приехал к вам позавчера? — Утром. — Кто-то рекомендовал его вам? — Для чего? Приехал на такси, остановился возле магазина, интересуется, не сдает ли кто-нибудь комнату. Я и подвернулся. Пожалуйста, говорю, ежели понравится... На такси и подъехали, комната ему подошла, вытащил чемодан и остался. — Номер такси запомнили? — на всякий случай ввернул Волошин. — Зачем нам? Обычное такси, одесское и с шашечками. Как все... — Говорите, Манжула вам понравился? — А что? Он — коньяк, я — закусь. Посидели немного... — Рассказывал что-то о себе? — Конечно. Где работает, как живет. — Где же? — А на Одесском машиностроительном. Снабженцем. С женой разошелся, живет не тужит. Зарабатывает хорошо, сам себе хозяин. — Никто к нему не приходил? — Не видел. — Паспорт показывал? — А как же, у нас порядок. Я его в сельсовете должен был прописать, не успел только. А так — чин чинарем. — Как же он питался? — Яйца у нас есть, молоко у соседки. Творог также, овощи, фрукты... На завтрак яичницу жарил, а обедать в рабочей столовой можно. — Не заметили за Манжулой ничего такого? — Хаблак щелкнул пальцами. — Не таился ли он? — А чего скрываться? На пляж ходил... Что ж дачнику делать-то? Вернулся сержант с понятыми. В комнату Манжулы можно было попасть просто из сада, сама комната оказалась неплохо обставленной: кровать, диван, стол и гардероб, шерстяная дорожка у кровати. — Вот тут... — открыл хозяин дверцы зеркального шкафа. Чемодан лежал внизу, прекрасный желтый чемодан с ремнями и блестящими замками, а на плечиках висел вельветовый костюм, также недешевый, как определил Хаблак по ярлыку, японского производства. Этот Манжула и в самом деле был пижоном: то белые джинсы и пиджак от хорошего портного, теперь вельветовый костюм пепельного цвета, за такими гоняются поклонники моды. И галстук рядом, не очень пестрый и вызывающий, в каких красуются молодчики с Дерибасовской или Крещатика, а в спокойных тонах с зеленоватым отливом, как раз под пепельный костюм. Волошин положил чемодан на стол и открыл его. Вынул несколько пар белого трикотажного белья, рубашки, электробритву, полотенца и несессер черной кожи, затем несколько книжек и журналов — «Огонек», «Человек и закон», «Вокруг света». Особой оригинальностью вкусов Манжула не отличался. Составили акт — осмотр вещей Манжулы почти ничего не дал, лишь некоторые штрихи, проливающие свет на характер и увлечения потерпевшего. Хаблак поинтересовался у хозяина: — Когда сегодня встал Манжула? — Дачники... — ответил Граб не очень почтительно. — Им что, горит? Вылеживаются... — Когда же? — В девять или немного раньше. — И сразу на море? — Позавтракал. — Что-то готовил? — Нет. Говорит: яичница и дома надоела, выпил молока, творогу хозяйка принесла. Это точно: нет лучшей еды, чем свежий творог. — А потом — на пляж? — Выходит, да. — Не видели, никто не ожидал Манжулу на улице? — Я что, провожал его? С самого утра работал, землю из компостных ям выбирал. Каждому свое: ему отдыхать, нам трудиться. Верно, Граб сказал все, что знал и что думал о своем постояльце, к тому же Хаблак заметил, как нетерпеливо топчется на месте Биленко, и правда, пробыли тут уже больше чем полчаса, а жена сержанта ждет их с ужином. Она действительно ждала и накормила варениками с творогом в сметане — много есть на свете вкусных яств, но Хаблак, уплетая Биленковы вареники, думал, что вряд ли хоть одно из самых изысканных блюд может соперничать с этими обычными сельскими варениками. Пожалуй, Хаблак не был весьма оригинален в своих суждениях: втроем они умяли глубокую миску вареников и запили их холодным молоком, полный кувшин которого хозяйка принесла из погреба. По дороге в Одессу Хаблак, разморенный вкусной едой, понемногу дремал, Волошин тоже не был склонен к разговорам, лишь изредка перекидывался словами с шофером, они быстро примчались к гостинице «Моряк», где Хаблаку снова довелось жить, и майор спал уже через несколько минут — тревожные мысли о том, что прошел день, который так и не внес ничего весомого в расследование взрыва, почему-то не мучили его, спал спокойно, и снилось ему золотистое, бескрайнее и поистине вечное море. С мыслями о море Хаблак и проснулся. Пожалел, что вчера, будучи в трех шагах от него, так и не искупался. Волошин должен заехать за Хаблаком в девять. Майор позавтракал в буфете и спустился в холл. За стеклянными дверями бара наводила порядок уборщица, Хаблак вспомнил, как брали они тут Гошу — теперь бармен занят более общественно полезной работой: стоит за станком в колонии строгого режима или валит лес где-то на Севере, — конечно, это труднее, чем торчать за стойкой в белом пиджаке и смешивать коктейли, что ж, каждому свое; варил бы ты кофе и делал коктейли до конца дней своих, если бы не связывался с валютчиками. Волошин подъехал ровно в девять, будто щеголяя своей пунктуальностью, и сообщил: Басов уже в управлении и ждет их. Есть уже постановление на обыск в квартире Манжулы, и опергруппа готова к выезду. Более того, еще вчера вечером Гурий Андреевич установил, что в Одессе живет сестра Манжулы — ее должны разыскать и привезти на квартиру брата. Подполковник встретил Хаблака приветливо, вообще был он человеком доброжелательным и даже, как предвзято считало начальство, благодушным, но все эти качества никак не мешали ему, а в глазах подчиненных, без сомнения, возвышали, несмотря на то что подполковник Басов в случае необходимости мог, как говорят, снимать с них стружку. Гурий Андреевич ознакомил Хаблака с выводами судмедэкспертов. Собственно, ничего нового они не сказали, смерть наступила после сильного удара головой о камень и перелома шейных позвонков, на теле погибшего обнаружено много синяков и повреждений, переломы ног и ребер, что является результатом ударов при падении Манжулы с обрыва. То есть он мог сам оступиться и упасть, его могли оглушить и сбросить с крутого берега, по крайней мере, по этому поводу эксперты не могли сказать ничего путного. Не порадовали Хаблака и выводы относительно обнаруженного на краю обрыва следа от каблука в рубчик. Манжула носил мягкие кожаные босоножки, а след был оставлен, как утверждали эксперты, ботинком или туфлей значительно большего размера, приблизительно сорок четвертого, кроме того, на толстой подошве. Окурок «Кента» тоже не мог принадлежать Манжуле — он не курил, это также было отмечено в акте вскрытия тела погибшего. Хаблак поинтересовался, сохранились ли остатки слюны на окурке. К счастью, их выявили — будет известна хотя бы группа крови человека, курившего «Кент» и бросившего окурок на горе. Правда, может, курил случайный прохожий, дачник, ведь сельские мальчишки вряд ли и нюхали такие дорогие сигареты. «А курили «Кент» вчера, — подумал Хаблак, — возможно, и позавчера». Если именно так, окурок им не пригодится. Басов не поехал на квартиру Манжулы, у него были какие-то неотложные дела, да и зачем ему ехать — Хаблак, Волошин, еще два офицера, не говоря уже об участковом инспекторе, с утра ожидавшем возле дома Манжулы, — более чем достаточно для тщательнейшего обыска в квартире Михаила Никитовича. Дом находился в глубине тенистой улицы, обычный пятиэтажный дом без лифта, вокруг росли молодые грецкие орехи, под ними — удобные скамейки со спинками. На одной из них примостился милицейский лейтенант в голубой рубашке с погонами, сползавшими с плеч, а рядом — пожилая женщина с красными заплаканными глазами, как догадался Хаблак, Манжулина сестра. Напротив них сидели два седых старика: видно, участковый знал свое дело и заранее подготовил понятых. Все было так, как и представлял себе Хаблак. Сначала участковый отрекомендовался сам, назвавшись Петром Петровичем Деребой, потом кивнул на женщину и сообщил, что это Марьяна Никитична Ковалева, сестра погибшего, а дедки — понятые, видать, понадобятся. Старики сразу поднялись и с готовностью закивали головами, им было интересно пообщаться с милицией, временем располагали, его сколько угодно, что-что, а время стало для них категорией неопределенной, это и подтвердил один из них, заявив, что могут помогать милиции хоть целый день. Хаблак ответил так же церемонно: мол, с благодарностью воспринимает предложение общественности и охотно воспользуется их услугами. Поднялись на третий этаж, и Волошин открыл дверь ключом, найденным в кармане Манжулы. Михаил Никитович занимал стандартную, не очень большую однокомнатную квартиру, и обставлена она была просто: сервант, широкий диван, письменный стол и два кресла, но жил покойный, это сразу бросалось в глаза, с размахом. На письменном столе стоял японский стереомагнитофон, когда-то Хаблак слышал, что такая аппаратура стоит около двух тысяч рублей и даже больше, стены комнаты сплошь покрывали ковры, мягкий и толстый китайский ковер с розами лежал на полу, а сервант был заставлен хрустальными вазами, фужерами и еще какими-то безделушками. В огромной хрустальной вазе на журнальном столике торчали увядшие цветы, и Хаблак подумал, что Манжула спешил, оставляя квартиру — видно, был аккуратистом: квартира блестела чистотой, и каждая вещь стояла на своем месте, но вот о розах забыл, он бы обязательно выбросил увядшие, но ведь три дня назад цветы были еще совсем свежие, а если спешишь, не думаешь о том, что розам красоваться недолго. Сестра Манжулы, которой Волошин успел сообщить, что милиция расследует обстоятельства гибели Михаила Никитовича и в связи с этим нужно осмотреть его квартиру, остановилась в дверях, ведущих из прихожей в кухню, достала платочек и вытерла слезы. Хаблак налил ей воды из крана, тепловатой и невкусной — холодильник был выключен и стоял открытый: деталь, свидетельствующая о том, что хозяин квартиры не собирался возвращаться сюда в ближайшее время. Женщина отказалась от воды, она прошла в кухню и села, опершись локтями о стол, затем посмотрела на Хаблака и спросила: — Что случилось? Почему?.. Как погиб Миша? Майор примостился напротив нее — Марьяна Никитична сама начала нужный ему разговор. Он сочувственно наклонился к женщине через стол и ответил: — Может, случай, а может, и хуже... — Сердце предсказывало мне беду, — всхлипнула женщина. — Да и Миша... Он возвратился сам не свой, был чем-то встревожен... Хаблак вспомнил самоуверенного и даже немного надменного Манжулу в аэропорту, там Михаил Никитович выглядел совсем спокойным. Но перед сестрой мог и не таиться, а в Борисполе разыграл самый настоящий спектакль. Хаблак хотел спросить у Марьяны Никитичны, откуда у ее брата ковры и хрусталь, ведь зарплаты снабженца вряд ли хватило бы на такие расходы, однако передумал, это могло бы насторожить ее, а он хотел, чтобы разговор получился непринужденный, доверительный, когда собеседник понимает тебя, стремится помочь и говорит только правду. Потому и переспросил: — Говорите, Михаил Никитович возвратился из Киева встревоженный? В чем это проявлялось? Может, что-то рассказал вам? — Да нет, ничего конкретного. Но я хорошо знаю Мишу, мать у нас рано умерла, а я на десять лет старше его. На ноги поставила. — Должны понимать без слов. — Вот и вижу — не в своей тарелке. Расспрашиваю — отмалчивается. Говорит: устал и хочу отдохнуть. Еду в село, сниму комнату, чтоб никто не знал где — пусть не беспокоят. Сразу и уехал. Побросал вещи в чемодан и вызвал такси. Я его обедать приглашала, Миша всегда у меня обедает, когда выходной, но на этот раз отказался — уехал, и все. — Сказал куда? — Зачем ему от меня скрывать? Конечно, сказал, он в том селе уже когда-то отдыхал, не очень понравилось, но почему-то снова поехал. А мне наказал: никому ни словечка, молчок, чтоб друзья не пронюхали, а то весь отдых накроется. — И вы никому? — Конечно нет. Одной только секретарше, Галине Ивановне, а больше никому. — Что за Галина Ивановна? — Секретарша Мишиного директора. Из машиностроительного. Он уехал, а на следующий день она является. Я на соседней улице в газетном киоске работаю, так она подходит, выручайте, говорит, Марьяна Никитовна, директор срочно Михаила Никитовича разыскивает, до зарезу нужен, что-то там со снабжением, железо или прокат какой-то, конечно, грех, мол, человека беспокоить во время отпуска, но случай крайний. Ну надо, так и надо, я и сказала. Хаблак заерзал на стуле: сообщение Марьяны Никитовны заинтересовало его. — А как она вас нашла? — спросил. — Секретарша? Откуда узнала, что вы в киоске? — Зачем же скрывать? Наверно, Михаил и рассказал на заводе. Меня многие знают: видите, ей было даже известно, как меня зовут. Так и сказала: «Выручайте, Марьяна Никитовна», это я хорошо помню. И на директора сослалась: мол, сам Герасим Валерьянович просил, а директора точно так зовут, когда-то мне Миша говорил, ну рассказывал, какой у них директор хороший, и именно так называл. — Она сама к вам подходила, секретарша? — Сама. — Как выглядела? — Полная такая блондинка, но, знаете, не естественная, теперь их совсем мало, в общем, крашеная, красивая женщина, в теле и блузка кружевная, хорошая блузка, сейчас такие модны. — Галиной Ивановной сама себя назвала? — Да. А что? Может, я что-то не так сделала? — Может, и не так, — неопределенно ответил Хаблак, — никто ничего не знает... Майор прошел в комнату, где стоял аппарат, дозвонился до справочного и попросил номер телефона приемной директора машиностроительного завода. Ответила секретарь. — Галина Ивановна? — Да, слушаю вас. Майор назвал себя и спросил: — Вы приезжали позавчера в Аркадию к сестре Михаила Никитовича Манжулы? — Я?.. — искренне удивилась она. — А вот Марьяна Никитична утверждает, что именно вы. Интересовались, где можно найти ее брата. — Извините, это какое-то недоразумение. — И ваш директор не разыскивал Манжулу? — Зачем? Товарищ Манжула уже полгода назад уволился с завода. Это была ошеломляющая новость, и Хаблак не нашел ничего лучше, как спросить: — Это точно? — Вас интересует точная дата и номер приказа? — Нет, пока что это не так уж и важно. — Дать вам номер телефона отдела кадров? — Пожалуйста. Хаблак записал номер телефона, уже твердо зная, что дело начинает принимать совсем неожиданный и необычный поворот. — И еще один вопрос, Галина Ивановна, — попросил, — может, он покажется вам странным, но скажите: какого цвета у вас волосы? Вы блондинка? — Скорее наоборот. — То есть? — Брюнетка. Какое это имеет значение? — Для нас — имеет. Положив трубку, Хаблак заметил вопросительный взгляд Волошина, однако не стал ничего объяснять и поспешил на кухню. Видно, Марьяна Никитична пришла в себя, она вытирала влажной тряпкой пыль, успевшую покрыть стол за время отсутствия хозяина. — Припомните, пожалуйста, — обратился к ней Хаблак, — заводская секретарша, Галина Ивановна, когда расспрашивала вас о брате, была одна? Или, может, кто-то ее сопровождал? Возможно, она поспешила к кому-то? Женщина положила тряпку. — Галина Ивановна подошла одна. Она еще купила у меня журнал «Украина», дала рубль и забыла сдачу. Я хотела ее догнать, но не успела. Она перешла улицу, там у нас скверик, пересекла его и села в машину. Это я точно видела, ее ждала машина, «Волга» вишневого цвета. Я звала, но Галина Ивановна не услышала, машина сразу же отъехала. — Номер? — спросил Хаблак. — Номер не заметили? — Нет, машина стояла ко мне боком, еще и за деревьями, я же говорила, там скверик. — Кроме водителя, кто-то был в машине? — Не знаю. Галина Ивановна села на переднее сиденье, а сзади... Может, кто-то и был... — Постарайтесь припомнить. Марьяна Никитична старалась, даже зажмурила глаза, но ответила неопределенно: — Кажется, был, но утверждать не могу. Хаблак вышел на балкон, подозвал Волошина. Коротко рассказал об услышанном, и старший лейтенант сумел сразу оценить всю важность полученной только что информации. — Считаешь, они отправились потом в совхозный поселок? — спросил. — Для чего же иначе мистификация с Галиной Ивановной? — Вишневая «Волга»! — воскликнул Волошин. — Если они поехали той же «Волгой», в поселке их могли запомнить. Видная машина, не так ли? — Надо ехать туда. — Даже очень надо. — А тут? — Что тут... Ребята, собственно, уже заканчивают. Славно жил Манжула, роскошно. Но пока нет ничего существенного, вот только, — показал маленький блокнот в кожаном переплете, — адреса, номера телефонов. Пригодится. — Точно, пригодится, — согласился Хаблак. — Значит, едем? — Квартиру хлопцы опечатают, если нужно, возвратимся. Волошин позвонил Басову и договорился о дальнейших действиях. Оставив оперативников в квартире Манжулы, они снова помчались в злосчастный поселок на черноморском берегу.Биленко сидел в сельсовете, составлял акт о каком-то нарушении, напротив него возвышалась на стуле необъятных размеров молодица с большой хозяйственной сумкой, из которой виднелся зеленый лук. Женщина что-то доказывала сержанту, и доказывала весьма азартно — раскраснелась и вспотела. Она недовольно оглянулась на тех, кто помешал их разговору, даже махнула рукой, чтоб вышли и подождали, но Биленко уже вскочил — сообразил: вряд ли случайно возвратились в поселок Хаблак с Волошиным, и сказал молодице: — Мы с тобой, Валерия, разберемся потом. Сейчас у меня неотложные дела. — Это почему ж неотложные? — возразила крикливо, но сержант решительно оборвал ее: — Сказано, иди домой. Если хоть раз увижу... — Он не договорил, но, видно, женщина поняла, что ей и в самом деле лучше уйти, подхватила сумку с луком и не оглядываясь направилась к выходу. Но пожалуй, не была бы женщиной, если бы не оставила за собой последнее слово. Остановилась в дверях и бросила на прощанье: — Легче всего акты составлять, а ты попробуй в поле повкалывать... — Озорно блеснула глазами и исчезла, оставив в комнате крепкий запах лука. Выслушав офицеров, Биленко немного подумал и предложил: — Вам по селу шастать негоже. Да и не станут откровенничать с вами, яснее ясного. У меня актив есть, хлопцев отправлю, они и дознаются обо всем. И я пойду. А вам лучше на море податься. Час или полтора у вас есть, чего тут в сельсовете торчать? Хаблак покрутил головой: выходило как-то неудобно, пока они будут купаться, другие делом займутся... Однако Биленко, без сомнения, был прав, и майор вопросительно взглянул на Волошина, мол, на твое усмотрение, ты тут начальство, тебе и решать. Волошин отнесся к предложению сержанта положительно. — Точно, — подтвердил, — мы тебе, Биленко, только помешаем. Задание ясно: вишневая «Волга»? — Если была, люди обязательно видели, — резонно ответил Биленко. — А коль видели и запомнили, скажут. Сержант пошел поднимать по тревоге своих дружинников, а милицейская машина направилась к морю, и Хаблак без особых угрызений совести залез в воду, заплыл далеко, так, что крутой берег, с которого сбросили Манжулу (теперь майор почти не сомневался, что именно сбросили), казался совсем не страшным, чуть ли не игрушечным. Майор лег навзничь, смотрел в бездонную небесную синеву, и вдруг все будничные хлопоты — вишневая «Волга», квартира с хрустальными вазами, милицейский сержант на сельских улицах — показались мелкими и недостойными внимания. Представил всадника-скифа, остановившегося на круче, и греческую галеру, идущую под высоким берегом в Ольвию, ведь и у тех людей были свои хлопоты, воевали, убивали, брали в плен, да забылось. Прошли степями скифы, сарматы, гунны, половцы, не осталось от них ничего, только курганы и каменные бабы в степи, а теперь на черноморском берегу стоят города и села, живут в них новые люди со своими хлопотами, счастьем и тревогами, под вечным небом, на берегу вечного моря, и неизвестно, может, лет через тысячу его, Хаблака, потомок подумает о нем так же, как он сейчас о скифе на крутом берегу... И не являются ли его хлопоты со взрывом в аэропорту и вишневой «Волгой» совсем мизерными — пройдет время, и все забудется, а история складывается из более весомых и значительных событий, чем те, которыми он занимается, — песчинка на нескончаемом одесском пляже... Хаблак погрузил лицо в воду, нырнул и поплыл в глубине с открытыми глазами. Совсем рядом — кажется, мог бы дотянуться рукой — играли рыбки, должно быть, ставрида. Хаблак попробовал поймать одну, конечно, безуспешно. Ему не хватило воздуха, вынырнул, набрал полные легкие и повернул к берегу, быстро и ритмично выбрасывая руки. Берег приближался и вырастал — крутой, каменистый, суровый, — и Хаблак уже не думал о себе и своем деле уничижительно: время складывается из секунд, каждая из них исполнена смысла, и стоит ли хулить их? В беседке у Биленко сидели трое мальчиков, двое приблизительно одного возраста, лет одиннадцати-двенадцати, а третий, вероятно, дошкольник, но, оказывается, уже закончил первый класс, о чем и сообщил не без гордости. И еще выяснилось, что эти трое вчера бежали к морю и сделали небольшой крюк, так как должны были нарезать в роще рогачей для рогаток, там наткнулись на вишневую «Волгу» и двух мужчин возле нее. Сейчас мальчики сидели на старом, продавленном диванчике, доживающем свой век в беседке, и не без удивления смотрели на дядей, интересующихся почему-то такими мелочами, как «Волга» под акациями, — сколько «Волг», «Жигулей», «Москвичей» шныряет по приморскому шоссе и грунтовым дорогам, особенно теперь, в разгар курортного сезона. А Хаблак думал: эти трое мальчишек только вчера видели преступников, убийц, вчера утром, сейчас он расспросит их и, возможно, сразу выйдет на след. Но потихоньку-полегоньку, чтоб не спугнуть удачу, чтоб не выпустить жар-птицу, которую уже держишь в руках... Хаблак подвинул стул к диванчику, чтоб хорошо видеть лица мальчиков, и начал издалека: — Для чего же вам так срочно понадобились рогатки? Переглянулись, видно поражаясь недогадливости взрослого, внешне солидного и как будто разумного человека. Рыжий нестриженый мальчишка с задиристыми косоватыми глазами ответил: — Да ворон стрелять или голубей. Их знаете сколько развелось! — Тебя как зовут? — Степаном. — А за сколько шагов ты, Степа, попадаешь в голубя? Глянул на друзей — если бы не было свидетелей, мог бы немного и приврать. А так постыдился и сказал правду: — Ну шагов за пятнадцать. — Хорошо, — похвалил Хаблак. — Глаз у тебя зоркий. От такого глаза ничто не спрячется. Так скажи мне, Стена, ты, конечно, запомнил номер той вишневой «Волги»? — Я же не знал, что надо запоминать... — А вы? — перевел взгляд Хаблак на других мальчишек. Ровесник Степана тоже смутился под взглядом майора, а самый младший вдруг заявил уверенно: — Не наша «Волга», не одесская. — Почему? — не удержался от поспешного вопроса Хаблак. — Почему так считаешь? Видел номер? Мальчик покачал головой и объяснил: — Нет, задний номер полотенце закрывало. Багажник дядька поднял и полотенце повесил — на солнце, чтоб подсохло. — А передний? — Там не подлезешь. Ежевичные кусты, и машина впритык к ним стояла. Мотором... — Откуда же знаешь, что не одесская? — Техникой я интересуюсь... — «Волги» и в Киеве и в Одессе совсем одинаковые. — У нас другие талончики про техосмотр. Видели, на машинах частники лепят?.. — Видел, — подтвердил Хаблак, — на лобовом стекле. — Точно. Только у нас в Одессе белый квадратик и цифры красные — тысяча девятьсот восемьдесят один, а на той «Волге» цифры были черные. «Киевская!» Хаблак припомнил киевские частные машины. Да, в Киеве в этом году частники лепили белые квадратики с черными цифрами, в прошлом году — зеленые, а в этом — белые. — Ты точно помнишь, что белый талончик? — переспросил. — С черными цифрами? — Могу побожиться. — Не надо, — Хаблак встретился глазами с Волошиным, тот давно все понял, майору показалось, даже подморгнул незаметно. — Ну а дядьки возле «Волги»? — взял на себя инициативу Волошин. — Кто из вас запомнил их? Рыжий Степан поднял руку, совсем как на уроке в школе. — Я, — начал уверенно и немного оттер плечом меньшого, заметившего какой-то никому не нужный бумажный квадратик, и приезжие почему-то похвалили его за это. — Я точно видел, один стоял возле акации, такой высокий, в черном берете, с биноклем. И на дорогу смотрел. — Хорошо, — подзадорил его Волошин, — кажется, ты как следует его запомнил. И этот дядька смотрел на дорогу в бинокль? — Нет, бинокль в руке держал. Но для чего же бинокль, только чтоб смотреть. — Это ты правильно заметил: бинокль, чтоб смотреть. Значит, дядька высокий? Худой или толстый? — Здоровила! — наконец подал голос третий мальчуган, чернявый и курносый. — Высокий и здоровый, рубашка на нем с короткими рукавами, а мускулы!.. — Согнул руку, показывая какие. — Как у борца. — Нет, он на боксера похож, — возразил Степан, — не на борца, а на боксера. На этого... — оглянулся на товарища, рассчитывая на поддержку. — Мы с тобой по телику видели, когда наши с американцами бились... Он судил как раз, говорили, бывший боксер, и фамилия его Энгибарян. — На Энгибаряна? — сделал вид, что не поверил, Волошин. — Это почему же? Степан подумал немного и ответил растерянно: — Как почему? На Энгибаряна — и все. Но чернявый мальчик оказался более наблюдательным. Шмыгнул носом и объяснил: — У него нос такой прямой... К тому же лысый и скуластый. Широкоплечий, а лоб немного назад. Хаблак припомнил Энгибаряна — пожалуй, мальчик более или менее точно нарисовал его портрет. — Говорите, дядька с биноклем был в тенниске? — спросил. — Белой или голубой? — Нет, желтой, — оживился чернявый. — Такая красивая рубашка, с погончиками. — А брюки? — В джинсах. Они оба в джинсах. — Как же выглядел другой? — спросил Волошин. — Тот, похожий на Энгибаряна, стоял с биноклем возле акации, а другой? — Тот в машине лежал, на заднем сиденье. Спал, только ноги выставил. — И ноги его были в туфлях? Еще каблуки у них в рубчик... Мальчики переглянулись. Наверно, хотелось поддакнуть, но рубчика на каблуках никто не запомнил. — Может, и с рубчиком, — наконец робко сказал Степан, но Хаблак перебил его: — Второй дядька случайно не лысый? И снова ответил чернявый: — А он платочком накрылся. От мух, а то мухи летом спать не дают. Хаблак подумал, что тот, второй, может, и не спал, а только прикидывался: платочком накрылся совсем не от мух. Наверно, опытный и хитрый, ему свидетели вовсе не нужны, даже такие сомнительные, как сельские мальчишки. А оказалось, замечательные, наблюдательные и умные мальчики, и вряд ли бы взрослые подметили больше и описали чужаков в акациевой роще лучше, чем эта ребятня. Правда, не маленькие они, старший небось в классе четвертом... Хаблак спросил у Степана: — Ты в четвертом учишься? — Перешел в пятый. Мы — вместе с Васькой, — ткнул пальцем в курносого. — В пятом — это хорошо, — похвалил Хаблак. — А родители ваши дома? — Мать. Отец поехал в Одессу. Он шофер и повез молоко, — ответил Степан. Волошин понял Хаблака: должны в присутствии взрослых записать показания мальчиков. Но еще успеют, раньше надо было осмотреть акациевую рощу, где стояла вишневая «Волга». Они все втиснулись в милицейскую машину: Хаблак взял на руки самого меньшего, а четверо разместились на заднем сиденье: хорошо, «Волга» не «Жигули», а впрочем, подумал Хаблак, разместились бы и в «Жигулях», машина хоть и не резиновая, но сам видел, как везла семерых взрослых. Роща раскинулась метрах в ста пятидесяти от мощеной дороги, соединявшей поселок с магистральным шоссе. К роще вела ухабистая грунтовая дорога. Хаблак приказал шоферу остановиться на брусчатке: дальше пошли пешком — на грунтовой дороге могли остаться оттиски протекторов вишневой «Волги» и было бы неразумно самим затереть их. Мальчики точно показали место, где стояла «Волга» — на увядшей траве не осталось следов, однако в нескольких метрах отсюда, где машина разворачивалась, на глинистой почве протектор отпечатался довольно четко — след шин именно «Волги», в этом не было никакого сомнения. Волошин начал фотографировать следы, а Хаблак попросил ребят показать, где стоял человек с биноклем. Оперся о ствол той акации. Отсюда хорошо видел дорогу, его же закрывали ежевичные кусты — отличное место для наблюдения: все, кто едет или идет из поселка к шоссе, как на ладони, тебя же никто не может заметить. Потом они с Волошиным прошли грунтовой дорогой к брусчатке и еще в двух местах нашли и сфотографировали оттиски протектора. — Нет проблем, — бодро воскликнул Волошин. — Все на блюдечке с голубой каемочкой. Киевская вишневая «Волга», снимки протекторов, словесный портрет одного из преступников, возможно, оттиск каблука и подошвы ботинка одного из них. Есть где разгуляться... — Есть, — согласился Хаблак, — даже не мечтал. — Фокус с чемоданом не удался, — начал вслух размышлять Волошин. — А кому-то надо убрать этого Манжулу. Срочно убрать — они узнаю́т, что пассажиры самолета не пострадали, и выезжают в Одессу. Не совсем оригинальная мистификация сестры Михаила Никитича, разведали, куда тот спрятался, а Манжула таки спрятался, знал или догадывался, кто за ним охотится, вот и забился в село. Сестру предупредил, чтоб никому не говорила, да вышла осечка. Хаблак машинально кивал. Волошин перечислял все то, что стало очевидным, а он думал, что дело только начинается, даже если ему удастся быстро выйти на след убийц, придется решать много сложных вопросов, а в том, что они действительно сложные, Хаблак не сомневался. И один из них — двойная жизнь Манжулы. Откуда у простого служащего, заместителя начальника отдела завода, который к тому же уже полгода не работал, две тысячи в кармане пиджака, японская радиотехника, ковры и хрусталь дома? За двести рублей в месяц всего этого не приобретешь... Он тепло попрощался с мальчиками и Биленко, милицейская «Волга» (уже в который раз) мчала их по приморскому шоссе, и Хаблак думал, что сегодня должен обязательно поговорить с сестрой Манжулы. Марьяна Никитична должна что-то знать, несомненно знает, хотя, наверно, вытянуть из нее самую малость будет нелегко, но нужно, и на сегодня это главное его задание. В управлении милиции их ожидала новость. Оказывается, тщательный обыск квартиры Манжулы не был безрезультатным: после того как Хаблак с Волошиным уехали в совхозный поселок, оперативники нашли тайник. Хорошо замаскированный тайник в подоконнике. И в нем сберегательные книжки и деньги — всего на сумму пятьдесят семь тысяч рублей. Не говоря уже о двух десятках золотых червонцев, аккуратно завернутых в льняную тряпочку. Сообщив эту новость, подполковник Басов только озадаченно развел руками: — Вот это фрукт! И чует мое сердце, Сергей Антонович, на большую панаму выйдете. Хаблак не мог не согласиться с Басовым: преступники действовали с размахом, один взрыв в аэропорту чего стоит!.. А пятьдесят семь тысяч и золото в подоконнике обычного заводского снабженца! Откуда? Марьяна Никитична Ковалева жила в коммунальной квартире на старой одесской улице — четырехэтажный дом с большим квадратным двором, квартиры большие, шумные, населенные коренными одесситами, которым, как принято считать, пальца в рот не клади. В квартире жили еще две семьи — один раз надо было звонить Кременецким, два раза — Дорфманам и три — Ковалевой. Майор позвонил три раза, надеясь, что откроет сама Марьяна Никитична, но послышались легкие шаги, дверь немного приоткрылась, и в щели показалась девочка. — Вам кого? — спросила, блеснув глазами. — Ковалеву. — Сейчас. — Девочка не сбросила цепочку, исчезла и появилась минуты через две. Поинтересовалась: — А вы кто? Бабушка спрашивает... — Скажи, из милиции. Девочка округлила глаза и снова понеслась по коридору. В этот раз пауза затянулась минуты на четыре. Хаблак раздраженно переступал с ноги на ногу, наконец услышал шаркающие шаги, теперь в щель смотрела сама Марьяна Никитична, увидела Хаблака, узнала, но не открыла сразу. — Вы ко мне? — процедила. «Нет, к папе римскому...» — чуть не прокричал Хаблак, но ответил на удивление вежливо: — У меня к вам разговор, и если не возражаете... — Возражай не возражай... — пробурчала сердито, — все равно, попробуй отделаться... Сбросила цепочку и засеменила по загроможденному какими-то старыми шкафами и сундуками коридору. Хаблак решил, что и комната у Марьяны Никитичны такая же захламленная — старый клеенчатый диван, дубовый буфет, этажерки, комоды и венские стулья, но, оказалось, ошибся: в большой тридцатиметровой комнате стояла современная импортная «стенка», а между модным, обтянутым золотистой тканью диваном и такими же креслами приютился полированный журнальный столик. Правда, вместо журналов и газет тут совсем по-королевски лежала белая косматая собачка — увидев Хаблака, зашевелилась, показала зубы и недовольно зарычала. — Не бойтесь, — успокоила Марьяна Никитична, будто и в самом деле болонка могла кого-то испугать. Взяла собачку вместе с подушкой и прижала к груди, совсем как малое беззащитное дитя. Помня сердитую реплику Ковалевой в коридоре, Хаблак приготовился к беседе неприятной, когда надо преодолевать недоброжелательность и даже враждебность, однако Марьяна Никитична то ли овладела собой, то ли изменила тактику — предложила майору мягкое удобное кресло и поинтересовалась, не хочет ли чаю. Хаблак не хотел: пообедал вместе с Волошиным в столовой и выпил вместо компота бутылку пепси-колы, но не отказался, зная, что разговор за чашкой чая становится менее официальным, приобретает какую-то интимную окраску, а ему хотелось побеседовать с Марьяной Никитичной именно так, когда в человеке исчезает напряженность и предвзятое отношение к собеседнику, олицетворяющему власть. Марьяна Никитична пошла в кухню — с чайником в одной руке и прижав собачку другой. Хаблак поудобнее устроился в кресле, цепко оглядывая комнату, — рассчитывал минимум на десятиминутное ожидание, но Ковалева появилась минуты через две с подносом — на нем стояли чашки с сахарницей, из-под мышки у хозяйки квартиры выглядывала неизменная собачка, никак не хотевшая примириться с вторжением Хаблака и все еще рычавшая на него. — Как раз у Дорфманов закипел чайник, — объяснила Марьяна Никитична свою оперативность. Она достала из серванта вазочку с вареньем и миниатюрные блюдца, все это разместила на журнальном столике, где раньше лежала болонка, теперь собачка устроилась у нее на коленях, периодически показывая Хаблаку зубы, почему-то майору расхотелось пить чай, но все же зажал чашку в ладонях, пригубил, поставил назад на столик и сказал: — Надеюсь, Марьяна Никитична, что наш разговор не покажется вам очень обременительным, вижу, вы женщина мужественная и найдете в себе силы, чтоб ответить на несколько вопросов. Марьяна Никитична положила себе полное блюдечко варенья, остро взглянула на Хаблака и ответила твердо: — Да, я найду в себе силы, хоть и трудно. Бедный Миша, он так любил меня, кстати, у меня есть доказательства этого, — вставила вдруг совсем иным тоном, по-деловому, — он любил меня, потому что потерял веру в женщин, боже мой, как он страдал! — внезапно воскликнула, закатив глаза. «Подпольный страдалец и прохвост, — не без раздражения подумал Хаблак. — Страдал и воровал у государства...» Да, майор был уверен, что Манжула обкрадывал именно государство, попробуй наворовать в квартирах или награбить у прохожих на пятьдесят семь тысяч рублей, не считая золота, хрусталя, ковров... А сколько еще растранжирил, пропил, прогулял... Хаблак почувствовал, как злость подступила к сердцу, и, чтоб скрыть свои чувства, взял чашку и стал помешивать чай серебряной ложечкой. Сказал, подыгрывая Ковалевой: — Я почему-то уверен, что вы единственный человек, которому доверял Михаил Никитович. Потому и пришел именно к вам. — Кому же доверять, как не сестре! — заявила безапелляционно и вдруг спросила как будто между прочим, но смотрела на него во все глаза: — Когда я смогу получить деньги? — Вы имеете в виду?.. — поразился такому нахальству Хаблак. Однако Марьяна Никитична не шутила. — Да, — продолжала, — я имею в виду деньги, которые вчера почему-то забрала милиция. Незаконно забрала. Эти деньги принадлежат мне, поскольку я — единственная наследница и имею право... — Вот об этих деньгах я и хотел поговорить с вами, — перебил ее Хаблак. — А для чего разговаривать? Их надо возвратить, я буду жаловаться — до чего дошли, вламываются в частную квартиру, забирают трудовые сбережения!.. Хаблак предостерегающе поднял руку. — Минуточку! — попробовал остановить Ковалеву, но та не заметила жеста и, вероятно, не слышала слов. — Трудовые сбережения!.. — повторила громко. — Надеюсь, вы знаете, что по закону они принадлежат мне. — Знаю, — наконец подал голос Хаблак, — если вы единственная наследница... — Единственная. — Законом предусмотрено, что можете получить наследство через полгода. Этот срок установлен... — Знаю. Чтобы выявить всех наследников. Но больше никого не будет, я и только я должна получить все. — Если положено, получите. — Но зачем же тогда милиция забрала деньги и ценности? — Мы расследуем дело об убийстве вашего брата и собираем вещественные доказательства. — Разве деньги тоже вещественные доказательства? — Конечно. И никуда они не денутся, вы получите их, если не выяснится, что они нажиты нечестным трудом. — Почему это нечестным! — рассердилась Марьяна Никитична так, что бросила на диван подушку с болонкой. Но собачка отчего-то зарычала не на нее, а на Хаблака, даже залаяла. — Извини, Манюня, мама обидела тебя... — просюсюкала Марьяна Никитична, но сразу забыла о болонке и бросила Хаблаку: — Вы смеете сомневаться в порядочности моего брата! — Пока что нет, — покривил душой майор. — И хочу, чтоб вы объяснили, откуда у Михаила Никитовича такие деньги. Ведь его зарплата... — Миша получал триста рублей в месяц, — несколько преувеличила доходы брата Марьяна Никитична, — и жил экономно... — Да уж, — не удержался от иронии Хаблак, — об этом свидетельствуют японский магнитофон и хрустальные вазы, а стоят они... — Вазы он получил в наследство от мамы. И ковры. Наша мама умерла шесть лет назад и все оставила Мише. — И деньги? — И деньги, — Ковалева даже не запнулась. — И много зарабатывала ваша мама? — Она получала пенсию за отца. — И отложила пятьдесят семь тысяч? — Но ведь нашего отца знала вся Одесса. Никита Львович Манжула, известный педиатр, спросите у каждого... Он был человеком зажиточным, а мама не сорила деньгами. Кроме того, наши родители имели виллу на берегу моря, и мама продала ее после смерти отца. Ковалева говорила так уверенно и убедительно, что Хаблак засомневался: а что, если его подозрения безосновательны — действительно, вилла на берегу моря стоит большие деньги, да и известный на всю Одессу педиатр, вероятно, зарабатывал много, не говоря уже о левых поступлениях... — Хорошо, — сказал примирительно, — не о том сейчас речь. — Вдруг одна мысль мелькнула у него, и майор спросил: — Значит, ваша мама оставила все деньги Михаилу Никитовичу? А вам ничего? Почему не пополам? Глаза у Ковалевой забегали, но она сразу овладела собой и ответила спокойно: — Почему только Мише? И мне тоже. Но ведь я, сами видите, живу в коммунальной квартире и боялась держать такую сумму при себе. Я доверяла брату и хранила свои сбережения у него. Вот и требую, чтобы половину денег, те, что принадлежат лично мне, отдали немедленно. Понимаю, остальные надо ждать полгода — я подожду, это не так уж и важно... — Но почему, когда мы начали осмотр квартиры вашего брата, вы не сообщили о тайнике? — Чтоб иметь неприятности? Так, как сейчас, доказывать, что деньги мои и ждать полгода? — То есть вы хотели потом забрать деньги из тайника сами? — Э-э, нет... — Марьяна Никитична решительно помахала указательным пальцем чуть ли не под носом у Хаблака. — Вы намекаете на что-то незаконное, а незаконного тут ничего нет. Разве не дозволено человеку забрать свое, то, что принадлежит ему по праву? — Если по праву, конечно, дозволено, — согласился Хаблак и попытался заговорить о другом: — А скажите, Марьяна Никитична, вы не знали, что ваш брат последние полгода не работал? — Почему же... — хотела возразить, но вовремя вспомнила историю с секретаршей, немного смутилась и поправилась: — Да, не знала, видно, Миша не придавал этому значения и просто забыл сказать мне. — Но вы утверждаете, что у него не было от вас секретов. Как-то не вяжется... — Ну, знаете! — рассердилась. — Подумать только — работа... Сегодня тут, завтра там. Думаете, мне было интересно, на заводе он или в каком-то тресте... Не все ли равно? — Вы сами говорили, что характер ваших отношений с братом исключал недомолвки. Марьяна Никитична задумалась на несколько секунд, вероятно, поняла, что немного переиграла, и решила хоть как-то загладить неблагоприятное впечатление от ее слов. — Подождите, — замахала руками, — я вам сейчас докажу, что все это не так. Миша, когда уезжал из Одессы, всегда помнил обо мне и часто писал. Я же говорю: не мог существовать без меня. Вот письма, — достала из резной деревянной шкатулки. — Кстати, и эту штуку подарил мне, видите, какое чудо: ручная работа, гуцульская. Наверно, Миша просто забыл сказать мне, что уволился, его не было в Одессе чуть ли не полгода, я полагала — в командировке, он же снабженец и только и делал, что ездил... — И эти письма, — подзадорил Хаблак, — написал в последнее время? — Да, из Ивано-Франковской области. Я же говорю: была уверена, что он там в командировке, а он, видно, решил передохнуть. Бедный, утомился, а с его сердцем... Хаблак вспомнил уверенного, лощеного, самодовольного человека в белых джинсах и не очень поверил Марьяне Никитичне. Однако ничем не выказал своих сомнений. — Говорите, Михаил Никитович полгода пробыл в Ивано-Франковской области? — уточнил. — Можете убедиться. — Ковалева подала майору письма. — Читайте, я позволяю, они адресованы мне. Видите, Миша не забывал свою сестру, писал дважды в месяц, не реже. Писал Манжула Ковалевой и в самом деле регулярно. Не письма, а открытки, всего в несколько строчек, одиннадцать открыток, первая отправлена в январе из самого Ивано-Франковска, другие из Коломыи, Яремчи, Косова, опять из Ивано-Франковска... Последнюю, судя по почтовому штемпелю, опустил в ящик месяц назад в Снятине. Хаблак быстро пробежал глазами написанное. Из Яремчи:
«Дорогая Марьяна! Я в Карпатах. Тут снежно. Люди ходят на лыжах, а я никак не выберусь. Много дел. Такая уж наша доля. Целую. Михаил».На другой с видом какого-то карпатского городка:
«Дорогая Марьяна! Две недели не писал, немного закрутился. Стояли морозы, я приобрел себе дубленку. Морозы в Карпатах — чудо. Все белое, и снег скрипит под ногами. Целую. Твой Михаил».Эту открытку Манжула отправил из Коломыи. Еще одна из Рахова:
«Дорогая сестра! Лежу на кровати в гостинице, немного приболел, но, к счастью, не грипп. Обычная простуда, день-два — и встану на ноги. А так у меня порядок, работаю, езжу, Карпаты уже немного надоели, соскучился по Одессе. Целую. Михаил».Остальные приблизительно в таком же духе. Хаблак попросил у Ковалевой разрешения и записал, когда и откуда они посланы — Манжула ездил по Карпатам как-то бессистемно: сегодня в Коломые, через десять дней в Рахове — Закарпатье, а еще через две недели в нескольких десятках километров от той же Коломыи в Кутах. Но Ивано-Франковскую область, судя снова-таки по открыткам, покидал только раз: лежал больной в раховской гостинице. Правда, несколько дней прожил на границе двух областей, на Яблонецком перевале в гостинице «Беркут». Видно, отдыхал от трудов праведных. Так и писал:
«Дорогая сестра! Третий день живу в чудесной местности, в сердце Карпат, на перевале. Красивая деревянная гостиница, пристойные номера, ресторан и бар, есть где отвести душу. Вокруг леса — удивительно красивые ели, их тут называют смереки. Немного отошел от дел, отдыхаю. Твой Михаил».Датирована эта открытка девятнадцатым мая, и Хаблак подумал: в конце мая в Карпатах действительно рай, даже позавидовал Манжуле — это же надо бить баклуши среди смерек да и еще с ежевечерними коктейлями. К тому же пижон в белых джинсах, наверно, не ограничивал себя обществом ресторанных официантов. Марьяна Никитична внимательно следила, как Хаблак записывает в блокнот отдельные места из открыток Михаила. Восприняла его любопытство по-своему: — Теперь вы убедились, что мы жили душа в душу? И что между нами не было секретов? «И вы, уважаемая, знали о некоторых аспектах жизни вашего брата...» — подумал майор. Ведь «крутился», по его собственному выражению, в Карпатах недаром, как и недаром уволился с работы именно перед этой поездкой. Вероятно, у него были какие-то левые дела в Карпатах, возможно, что-то связанное с лесом или изделиями гуцульских умельцев, ибо на какой еще бизнес может рассчитывать делец в этом краю? — Да, я убедился в нежных чувствах Михаила Никитовича к вам, — ответил суховато. Понял: вряд ли вытянет еще что-то из Марьяны Никитичны, хорошо, хоть показала ему открытки Манжулы, они дали немало материала для размышлений. Басов встретил Хаблака вопросом: — Что-то выудил у старой пройдохи? — Немного. — Она замыливала тебе глаза россказнями об отце и вилле? — Говорила. Басов покрутил головой. — Нашим ребятам тоже заливала. После того как они нашли тайник с деньгами и золотом. Я поинтересовался, что к чему. Отец у них действительно был врачом, обычным педиатром в детской поликлинике, середняком, скромным человеком. К тому же разошелся с первой женой, матерью Марьяны Никитичны. Дачу они имели, виллу, как называет Ковалева. Деревянная халупа по дороге в Затоку. Есть у нас такое приморское село. И продала мать Ковалевой эту халупу за полторы тысячи, фактически взяла деньги за участок, а вот теперь там какой-то завмаг виллу отгрохал, каменный дом с мансардой. — Полторы тысячи... — задумчиво повторил Хаблак. — Меньше, чем нашли в кармане Манжулы. — Ничего себе — карманные деньги... — поддакнул Басов. — Что будешь делать? — Ночным рейсом в Киев. Почему-то мне кажется, оттуда нити тянутся: киевский рейс, потом вишневая киевская «Волга»... Посоветуемся с Дробахой и завтра тебе позвоним. Билет на самолет устроите? — Это в наших руках, — усмехнулся Басов, — пока что не отказывали.
11
Дробаха слушал рассказ Хаблака об одесских событиях и потихоньку, сосредоточенно дул на кончики пальцев. — К какому же выводу вы пришли? — спросил наконец. — Надо искать вишневую «Волгу». — Резонно. — И человека, похожего на Энгибаряна. Это не так уж и сложно. — Согласен, майор, рассуждаете логично, но, честно говоря, меня больше интересует карпатский вояж Манжулы. — Может, последние события связаны именно с этим вояжем, как вы изволили выразиться? — О-о, мы уже перешли на дипломатический лексикон... — мягко улыбнулся Дробаха. — Наверно, из меня никогда не выйдет дипломата. — Ну, — возразил Иван Яковлевич, — можно считать, уже вышел, товарищ майор. Должны знать: хороший криминалист — ничто без дипломатических способностей. — Вы думаете? — Уверен. Имею в виду не внешний дипломатический лоск, а умение владеть собой в любых обстоятельствах, умение найти подход к человеку, нужные слова. — Затуманить противнику голову, обвести его вокруг пальца? — Если хотите, и это... — Дробаха не воспринял легкой иронии Хаблака. — Итак, все силы на поиски вишневой «Волги»... Но не забывайте о Бляшаном и Лапском, все может быть, уважаемый Сергей Антонович. — А научно-исследовательский институт? — поинтересовался Хаблак. — Вы называли какого-то Курочко? — Ставим точку, — отмахнулся Дробаха. — Вчера позвонил мне из Одессы академик Корольков. Извинялся... Оказывается, совсем забыл, что в Борисполе перед посадкой достал из чемодана папку с какими-то расчетами. Хотел посмотреть их в самолете. Папка лежала на дне чемодана, и если бы в нем было что-то постороннее, скажем, мина, Корольков обязательно заметил бы ее. — Черт его знает что! — рассердился Хаблак. — Водят нас за нос... — Бросьте, — сказал спокойно Дробаха, — не забывайте: сам Корольков! Он весь в своих формулах и расчетах, для чего ему забивать голову чемоданами? Слава богу, хоть вспомнил... Но, — сдвинул брови, — и вы не занимайтесь второстепенным. Проверку Лапского и Бляшаного поручим кому-нибудь другому. А вам следует заняться гостиницами. — Какими гостиницами? — изумился Хаблак. — Не станете же вы подменять автоинспекцию... Вишневая «Волга» — их дело, а Манжула, вероятно, жил где-то в гостинице. — Да, в гостинице, он ведь говорил об этом. — В какой? Хаблак лишь пожал плечами, а Дробаха поучительно сказал: — В гостинице могли запомнить Манжулу. Вы говорите, человек он видный — поинтересуйтесь у дежурных, горничных, может, за что-то и зацепитесь. Конечно, Иван Яковлевич был прав, и Хаблаку даже стало стыдно, что сам не додумался до таких элементарных вещей. Однако не занялся самобичеванием, в конце концов они с Дробахой подстраховывают друг друга, да и вообще давно известно, что один в поле не воин. Через час Хаблаку доложили, что Михаил Никитович Манжула в течение двух недель (он выписался из гостиницы в день злосчастного одесского рейса) снимал двухкомнатный номер «люкс» в гостинице «Киев». Хаблака это рассердило: он, майор милиции и старший инспектор киевского уголовного розыска, только раз жил в «люксе» более скромной гостиницы «Моряк» — и только благодаря тому, что приехал в Одессу вместе со следователем по особо важным делам, а тут какой-то прохвост, нах-хал, как мысленно обозвал его Хаблак, да, нах-хал в белых джинсах или японском вельветовом костюме, дармоед, который позволяет себе не работать полгода, роскошествует в комфортабельном «люксе». Почему? Так и спросил у администраторши: не помнит ли случайно постояльца Манжулу Михаила Никитовича и на каком основании тот поселился в «люксе»? Администратор, симпатичная женщина с густо накрашенными губами, наморщила свой симпатичный носик, немного подумала, но Манжулу не припомнила или сделала вид, что не припомнила. Она полистала какой-то журнал и сообщила: гражданин Манжула Михаил Никитович поселился по броне министерства, и назвала какого именно. Сколько ему стоила эта бронь? — хотел спросить майор, но удержался и все же подумал, что, возможно, французская помада, которой красит губы хорошенькая администраторша, приобретена также за деньги Манжулы. Однако что поделаешь: не пойман — не вор, определенный круг людей еще пользуется этим, но он, майор милиции Хаблак, именно для того и существует на свете, чтоб доказать им — всему этому приходит конец. А может, он зря напустился на женщину, ведь как приветливо улыбается ему, в самом деле симпатичная и смотрит доброжелательно. Хаблак поднялся в лифте на одиннадцатый этаж (и тут Манжула заботился о себе: подальше от городского шума и автомобильного смога), дежурная смерила его внимательным взглядом, видно, она знала всех своих постояльцев, потому что спросила: — Поселяетесь? Этот вопрос понравился Хаблаку, он свидетельствовал о наблюдательности дежурной. Майор присел возле ее столика и показал удостоверение. Женщина не удивилась, только стала серьезнее и как-то вся подобралась — конечно, знала, что попусту из уголовного розыска к ней не придут. Хаблак положил на стол фотографию Манжулы. — Пять дней назад в семнадцатом номере вашего этажа жил этот человек, Михаил Никитович Манжула. Помните его? Дежурная взяла снимок, поднесла ближе к глазам, но сразу положила назад, на стол. — А как же, помню. Он из «люкса». — Что можете сказать о нем? — А ничего. Человек как человек. Не напивался, не скандалил. Хаблак решил начать издалека. — Расскажите немного о нем, — попросил. — Когда вставал, когда шел на работу? Вероятно, приехал в «Киев» по делам? Дежурная посмотрела на Хаблака внимательно. Наверно, наконецдошло, почему именно Манжулой интересуется работник уголовного розыска. — Неужто преступник? — От удивления у нее дернулась губа. — Такой солидный и респектабельный человек. Видно, у нее были устаревшие представления о преступниках: в насунутой на лоб кепочке, с расстегнутым воротником рубашки, сигаретой, прилипшей к губе, и татуировкой на оголенной груди. — Никто ничего не знает, — поспешил успокоить женщину Хаблак, — ваш бывший постоялец погиб, и мы расследуем обстоятельства его смерти. Женщина вздохнула почему-то с облегчением: бывает же такое, ей легче было воспринять известие о смерти человека, чем разочароваться в нем. — Другое дело, — сказала, — а я подумала... Что именно она подумала, Хаблак уже знал, потому и переспросил: — Значит, говорите, респектабельный... И в чем это проявлялось? — Солидных людей сразу видно. Даже по одежде. «Ну, — мысленно возразил Хаблак, — это уж дудки. Теперь и грабитель в японском вельвете пижонит». — Вероятно, Манжула вел себя тихо, утром шел на работу, вечером отдыхал? Дежурная немного подумала и предположила: — Мне почему-то показалось — он в отпуске. Приехал в Киев отдыхать, так как никуда не спешил и вставал поздно. Иногда полдня в номере просиживал. — Не расспрашивали: как он себя чувствует в Киеве, не скучает ли? — Был разговор. Когда-то сел он тут, где вы сейчас. Немного разговорились, сказал: нравится мне ваш город, с удовольствием переехал бы, потому что у нас, в Одессе, летом пыльно и курортники надоедают. И еще сказал: занимается в Киеве каким-то делом. Я догадалась — ученый или художник, ведь во всем заграничном и очень хорошо пахло от него. — Теперь пахнуть так каждый может: на Крещатике вон парижский одеколон продают... Дежурная сурово поджала губы. Спросила: — Почему же от вас так не пахнет? Вы можете заплатить за парижский, а я, извините, нет. — И я не могу, — честно согласился Хаблак. Представил: флакон парижского одеколона — чуть ли не велосипед для Степашки, так на что же стоит потратиться? — А гости к Манжуле ходили? — поинтересовался. — Женщин имеете в виду? — хитро прищурилась дежурная. — Не только. Мужчин также. — Все бывает, — махнула рукой. — Есть девушки, которые по номерам бегают. Но ведь у нас строго: до одиннадцати часов... — И к Манжуле бегали? — Не припомню. Однажды, правда, компания завалилась. Он утром объяснял: в ресторане познакомились, вот и пригласил к себе на шампанское. Двое мужчин с девушками. Сидели до половины первого, я ему звонила, чтоб гостей выпроваживал. — Подождите, и один из этих гостей — высокий и лысоватый? Нос приплюснутый, как у боксера, лицо скуластое? Похожий на армянина? Лет пятидесяти? Дежурная, раздумывая, покачала головой. — Да нет... — Потом припомнила и ответила уверенно: — Молодые, лет по тридцать. Я еще удивилась: такой солидный человек и с молодыми... Но, — презрительно выпятила губы, — я уже ничему не удивляюсь. Девушки с парнями были, красивые девушки, хотя и такие... Ну кто из порядочных девушек к незнакомому человеку в номер пойдет? А он выпил, раскис, ну и пригласил... — Утром небось извинялся? — Я же говорю: совесть еще имел. Другие напьются, скандалят, и ты же виновата, а Манжула все-таки совесть имел — образованного человека издали видно. — А днем? — начал зондировать Хаблак. — Приходили к нему коллеги? — Конечно, не на хуторе же... — И кто же? — Ну приходили какие-то мужчины. Раз или два, меня это не интересовало. Тут, знаете, столько народу ходит! Приезжают, уезжают, посетители, компании. Нам в это вмешиваться нельзя. Лишь бы ночью был порядок. — Как часто вы дежурите? — Раз в трое суток. «Расспросить еще двух дежурных», — отметил про себя Хаблак. Видно, женщина угадала его мысли, так как посоветовала: — А вы еще с Ниной поговорите. Горничная, убирает в номерах. Они иногда больше нас знают. Да еще дежурных расспросите, моих сменщиц. — Нина тут? — Куда денется! Дежурная поднялась, и Хаблак пошел за ней по коридору. Остановилась у открытых дверей, за которыми гудел пылесос. Дежурная позвала горничную — и Нина вышла: пожилая женщина в белом халате и такой же белоснежной косынке, вероятно, поэтому показалась Хаблаку не горничной, а медсестрой, не хватало разве только красного креста на косынке. И глаза у нее были усталые и добрые, как у настоящей медсестры. — Вот товарищ из милиции, хочет поговорить, — отрекомендовала его дежурная, но не ушла, видно, разговор интересовал ее и не хотела оставить их наедине. — В семнадцатом сейчас кто-то живет? — спросил Хаблак. — Сегодня уехали, — ответила дежурная. — Двое из Москвы, ревизоры. — Выходит, номер свободен? — Я там еще не прибрала, — предупредила Нина. — Не успела. — А можно туда? Горничная вопросительно взглянула на дежурную. — Вообще не положено... — начала нерешительно. — Я могу договориться с директором. — Зачем? У Нины есть ключи. Дежурная тут же взяла с тумбочки связку ключей. — Открыть? — спросила. — Проводи в семнадцатый, — приказала дежурная и первая направилась к номеру. Она дождалась, пока горничная открыла двери «люкса», и уже собиралась войти туда, но Хаблак придержал ее за локоть. — Благодарю, — сказал вежливо, но твердо, — наверно, у вас дела... Не смею задерживать. Дежурная удивленно посмотрела на него: не могла поверить, что ее так бесцеремонно устраняют, а Хаблак, пропустив вперед горничную, пошел за ней не оглядываясь, и дежурная, раздраженно пожав плечами, возвратилась в холл. В номере царил беспорядок, на столе и на полу валялась оберточная бумага и обрывки шпагата, на подоконнике стояла недопитая бутылка вина, а рядом с холодильником пустые бутылки от воды, на кое-как прикрытых кроватях лежали смятые подушки. Горничная нерешительно остановилась посреди первой комнаты, служившей гостиной. В мягком кресле виднелась оставленная постояльцами коробка от обуви. Хаблак убрал ее и указал горничной на кресло: — Садитесь, прошу вас, извините, Нина?.. — Илларионовна. — Прекрасно, Нина Илларионовна, я хотел бы поговорить с вами об этом человеке. — Положил на стол фотографию Манжулы. Горничная не взяла снимок в руки, посмотрела издали, но сразу узнала — Хаблак понял это по выражению ее лица: оно как-то потвердело, а глаза стали суровее. — Знаю, — ответила лаконично. — Он жил тут, — обвел рукою комнату Хаблак, — несколько дней назад. — У меня хорошая память. — Это облегчит наш разговор. — Хотите расспросить меня о нем? — ткнула пальцем в фотографию. — Непременно. — Что же я должна отвечать? — Горничная так и не села, как бы подчеркивая свою занятость и нежелание тратить время на пустые разговоры. — Не нанималась я за людьми следить. — Никто этого и не требует. — Так ведь из милиции... И фото подсовываете... Пожалуй, у нее были основания поершиться. Нина Илларионовна производила приятное впечатление, да и резкий тон в данном случае свидетельствовал в ее пользу. — Погиб он, — закрыл ладонью Хаблак снимок Манжулы, — может, убит, потому и пришел я к вам, Нина Илларионовна. Горничная посмотрела на Хаблака все же недоверчиво, но опустилась в кресло и спросила: — Откуда знаете? — Так ведь из милиции я... Вдруг женщина поняла все: смягчилась и даже сразу вроде бы стала ниже ростом. — Такой здоровый мужчина... — начала раздумчиво. — Кто же его? — Не знаю. Пока еще не знаю, — понравился Хаблак. — Ищете? — Ищем, — ответил, как будто извиняясь. Видно, доверительный тон Хаблака подействовал благотворно: устроилась в кресле поудобнее и сказала властно: — Должны найти! Это что ж такое: среди белого дня людей убивают!.. — Вот и обращаемся к вам, — продолжал Хаблак в том же духе, — может, поможете поймать преступников. — Я? — Именно вы, Нина Илларионовна. Вижу, глаз у вас зоркий и знаете вы немало, от вас ничто не скроется. Вспомните, кто приходил к Манжуле, — постучал указательным пальцем по фотографии, — и с кем он общался? Нам это крайне необходимо знать. Женщина прищурилась, изучающе взглянула на Хаблака, и майор вдруг понял, что первое впечатление его обмануло, и эта женщина не такая уж и добрая, как ему сначала показалось. Глаза у нее стали холодными и прозрачными, видно, решала, стоит ли открываться перед этим назойливым милиционером и до какой степени. Сообразив это, Хаблак развивал наступление: — Вам ничто не угрожает. Если видели людей, с которыми встречался покойный, скажите, когда и с кем. Может, помните их? Горничная подумала еще немного, наконец отважилась и сказала: — Ходила тут одна... Енесой зовут, и путалась с ним, — указала на снимок. — Манжулой, говорите? — Так уж и путалась! — сделал вид, что усомнился. Хаблак. — Не хотите, не верьте, эту Енесу я знаю, горничной работала тут, в гостинице, как и я, девка молодая и ничего себе, все имеет, кроме ума. Раньше Сонькой была, а стала Енесой... Знаете, тут, в гостинице, жизнь такая, что девке, да еще красивой, трудно держаться, мужики, они все одинаковые... Ну разбаловали Соньку, распустили, а потом она, значит, во вкус вошла: деньги завелись, шмутки разные. Мужчины ухаживают, шампанское, водка, ужины, вот она и в Енесу превратилась. — Вы что, видели Инессу вместе с Манжулой? — поинтересовался Хаблак. — А как же, утром убираю в пятнадцатом, смотрю — из «люкса» Енеса шмыгнула. Я тут ее и застукала. Откуда, спрашиваю. А она — хи-хи, тетенька, земляка проведывала, Михаила Никитовича, хи-хи, ха-ха, давно не виделись, приехал в Киев, позвонил, неудобно не прийти. А какой он Енесе земляк? Он — из Одессы, она — из Иванкова, будто я не знаю. Да, в конце концов, мне это до фени, нам лишь бы в номерах чисто было, а кто с кем... — Может, и в самом деле знакомый? — Подождите, я еще не закончила. Думаю, земляки, ну и пусть земляки, иди с богом. Однако через день или два зовет меня тот, Манжула, говорите? С самого утра, я только на работу пришла. Пальчиком так из номера, зайдите, мол, по делу. Захожу. Он мне — полсотни. Сбегайте в магазин, тетенька, а то ресторан еще не работает, купите бутылку коньяку и закуски спроворьте, торт еще возьмите или пирожных. И вдруг из ванной она высовывается, Енеса, значит, непричесанная и в нижней сорочке. Шампани еще возьми, приказывает, я шампань с утра уважаю. А сдачи не надо, сдачу, тетка Нина, себе забери... — Вдруг горничная запнулась, видно, сообразила, что и сама не очень-то привлекательно выглядит в этой истории. Сдача с пятидесяти рублей за получасовые хлопоты — плата немаленькая. — Ну-ну, — успокоил ее Хаблак, — ваши доходы не такие уж и большие, почему не заработать? — И я так считаю, — обрадовалась горничная. — Принесла все, что заказывали, Енеса уже одетая, в этом же кресле сидит, где я сейчас, они и мне коньяку налили, но не употребляю я. Еще вино сладкое могу, но шампани не предлагали... Рассказ горничной заслуживал внимания, и Хаблак спросил: — И где можно ее найти? Эту вашу Соню-Инессу? — Она такая же наша, как и ваша, — решительно отрезала Нина Илларионовна. — Может, знаете, где работает? — Енеса? — Да. — В баре ищите, — указала большим пальцем на пол. — Енеса в баре крутится. А уж потом сюда с клиентами. — Фамилия Инессы? — Сподаренковой зовется. Соня Сподаренко, я же вам говорила, из Иванковского района. Она в баре и сейчас, наверно, сидит, у нее дети не плачут и на работу не нужно... — Обязательно найду ее, — сказал Хаблак: встреча с Соней-Инессой представлялась ему многообещающей. — А кто еще к Манжуле приходил? С Инессой ясно, а вот мужчины? — Не видела, но, думаю, ходили. — Почему так считаете? — Ведь Манжула не курил, а утром пепельницы были полные. — Будто женщины не курят... — Конечно, курят. Еще заграничные, с фильтром. Но женщины помаду на сигаретах оставляют. — Не все губы красят. — Кто к нам ходит, все, — ответила так категорично, что Хаблак подумал: небось, она права. — К тому же женщины таких не курят — толстых, из листьев. — Сигар? — Я видела — в деревянных коробках продаются, дорогие, рублей двадцать или сколько? — Дорогие, — вздохнул Хаблак, — гаванские сигары очень дорогие. — И смердючие, — добавила безапелляционно. — Так вот, их мужчины курят, а я такие окурки в этой пепельнице находила, — переставила на столе большую хрустальную пепельницу. — Однако сама тут мужчин не видела: чего им с утра приходить? Где-то вечером, выпить, поболтать... С Енесами позабавиться, — выпалила жестко. В ее рассуждениях был резон: за годы работы в гостинице досконально изучила этот микромир с его официальными и негласными порядками, сумела приспособиться к нему. По крайней мере, воспринимала как абсолютную реальность. А Хаблак думал: Софья Сподаренко — Инесса, как найти к ней подход? Пожалуй, не так уж и трудно, и, если все действительно так, как рассказывает горничная, Инесса сама должна вцепиться в него. Спросил: — Какая она из себя, Инесса? — Познакомиться желаете? — усмехнулась с неприкрытой иронией Нина Илларионовна. Хаблак пропустил насмешку мимо ушей. — Да, — подтвердил, — как ее найти? — У бармена Саши расспросите. Сегодня работает и всех енес знает. Хаблак спускался в бар, ощущая, что прикоснулся к чему-то неприятному, и это чувство было настолько сильным, что зашел, в туалет и вымыл руки. Просушивая их под струей горячего воздуха, внимательно оглядел себя в зеркале и остался доволен. Так сказать, средний стандарт. Не новые, но и не очень потертые джинсы, широкий пояс, черная тенниска с белыми пуговицами... Ажур, порядок, фирма́... Так выглядит и майор уголовного розыска, и подпольный бизнесмен, только в кошельке у Хаблака восемнадцать рублей с мелочью, капля в сравнении с деньгами, которыми бросаются «деловые» люди. Хаблак расположился возле стойки и заказал легкий коктейль. Бармен, высокий молодой человек с темными, казалось бы, равнодушными, но острыми глазами, встряхивал шейкер. Майор, потягивая через соломинку сладкую, холодную и довольно вкусную жидкость, наблюдал за ним краешком глаза и, когда бармен приблизился к нему, спросил, как у старого знакомого: — Саня, ты Инессу знаешь? Бармен не удивился и не обиделся на такую фамильярность, верно, он никогда не удивлялся и не обижался, неуязвимость стала его второй натурой, без нее он не выдержал бы тут долго. Искоса посмотрел на Хаблака и ответил коротко: — Знаю. — Она сейчас тут? Бармен не поинтересовался, кто Хаблак и для чего ему Инесса, в конце концов, и так было ясно. И все же нагловатая улыбка мелькнула на его лице, но Хаблак спокойно проглотил эту пилюлю. Был на работе, и никакие догадки бармена не могли выбить его из колеи. Саня снова взялся за шейкер и объяснил: — Второй столик справа — под окном. В черной кофте. Хаблак поблагодарил легким наклоном головы, взял свой коктейль и направился в зал. Инесса сидела за столиком в одиночестве. Хаблак нерешительно остановился рядом, будто наткнулся на что-то. Девушка подняла на него глаза — большие, светлые и наивные, она умела производить впечатление, Хаблак оценил это сразу: сделал вид, что колеблется, и спросил: — Можно возле вас? Инесса опустила ресницы. Не ответила, но и не возразила, только усмехнулась и едва заметно пожала плечами: мол, решай сам, никто тебе не навязывается. Хаблак сел напротив Инессы, разгадав ее тактику: она не предлагала себя, тот, кто предлагает, всегда проигрывает, а умный должен выжидать. Девушка, не поднимая глаз, занялась стаканом с пепси-колой, а Хаблак тем временем разглядывал ее. Она понравилась ему, и, если бы не недвусмысленная характеристика тети Нины, никогда бы не подумал о ней ничего плохого. Рассчитывал увидеть размалеванную Соню из Иванкова, которая вертелась постоянно в отелях, барах, а сидела перед ним девушка изящная, правда, веки подкрашены темнее, чем нужно, и зачем-то наклеила искусственные ресницы. Черные распущенные волосы падали на плечи, черная блузка оттеняла белизну кожи. И вся она была какая-то утонченная и нежная, даже беззащитная. Однако вдруг уставилась на Хаблака — внимательно и холодно, и майор понял, насколько ошибочны бывают иногда первые впечатления. Хаблак достал пачку, вытянул сигарету, закурил и спросил коротко: — Ты — Инесса? Девушка снова опустила глаза и чуть отодвинулась от стола, как будто вопрос этот вовсе и не адресован ей, а навязчивый молодой человек зря теряет время, заигрывая с ней. Но тут же заученным жестом поправила блузку на груди, искоса взглянула на Хаблака, секунды или двух ей хватило, чтоб оценить майора и принять решение. Ответила совсем не то, чего мог ожидать Хаблак, — слова ее так не гармонировали с присущим ее внешности изяществом или, пожалуй, даже изысканностью: — Чего тебе надо? Хаблак вздохнул облегченно. Куда только делся внешний блеск, и разговаривать с Инессой стало до смешного просто. По крайней мере, Хаблак имел некоторый опыт бесед с такими особами. — Тебе привет от Михаила, — сказал. Инесса бесцеремонно вытянула сигарету из его пачки. — Какого Михаила? — Из Одессы. Девушка оживилась. Вероятно, воспоминание было и в самом деле приятным, так как улыбнулась Хаблаку нежно. Майор понял, что обязан этим щедротам Манжулы. — Как он там? — поинтересовалась. — Хорошо. — Хаблак подумал: Инесса не очень бы огорчилась, узнав правду. — Он говорил, что с тобой в Киеве будет весело. Глаза у Инессы сузились и потемнели. — Это зависит не только от меня. — Намек понял. — Догадливый, значит... Хаблак пренебрежительно ткнул пальцем в бутылку пепси, стоявшую перед Инессой. Спросил: — Коктейль заказать? — Лучше шампанского. «Ну и ну, — едва заметно покрутил головой Хаблак, — половина моих капиталов...» Но молча поднялся и принес бутылку, извлеченную Саней из холодильника. Несомненно знал, что клиенты, интересующиеся Инессой, не ходят с пустыми карманами и соответственно требуют внимания. Инесса жадно выпила сразу полфужера, постучала по стеклу красно-черными ногтями и спросила: — Миша ничего не передал мне? За этим вопросом таился подводный риф, но Хаблак ловко обошел его. — Мы встретились случайно на Дерибасовской, — соврал не очень умело, будто одесситы встречаются только на Дерибасовской. — Я спешил на самолет... Михаил сказал, что скоро возвратится в Киев. — Хаблак смерил Инессу взглядом и многозначительно добавил: — Теперь я начинаю понимать — почему. Девушка допила шампанское и снова налила полный фужер. — Тебе? — спросила. Хаблак решительно покачал головой. — Через два часа у меня важное деловое свидание. Но зато вечером... Если не возражаешь, могли бы что-нибудь придумать. Инесса сделала вид, что колеблется. — А что именно? — Отпраздновать наше знакомство. — Ты где остановился? Хаблак показал глазами на потолок. — Девятый этаж. — В «люксе»? — Не вышло. — Но ведь номер отдельный? Хаблак не стал ее разочаровывать. — Поужинаем в ресторане? — предложил. — Вообще-то вечер у меня сегодня свободный... — Значит, составишь мне компанию. Кстати, ты лучше, чем я себе представлял. — Чем же? — Девушка моей мечты! — Хаблак шел напролом, справедливо считая, что особые дипломатические хитромудрости с Инессой не нужны. Девушка утолила жажду и пила шампанское маленькими глотками. Немного опьянела, глаза у нее заблестели и щеки порозовели. — Твоей мечты? — переспросила. — И ты мне нравишься. — Из нас выйдет неплохая пара. — Что ты имеешь в виду? — насторожилась. — Ты стройная и высокая, и я парень что надо... — Мне нравятся высокие. — И Михаил? — Миша — чудо. — Говорил: хорошо повеселились. И еще, что ты — класс... — Нам было клево. — Да, Михаил — компанейский товарищ. А ты любишь компании? — Когда больше народу, веселее. — И я так считаю. Тебя Михаил с кем познакомил? — А у него в Киеве никого нет. Один Бублик. — Это тот — высокий и лысый? С перебитым носом? Кажется, бывший боксер? — Бублик — боксер? Да ты что? — Я был уверен... — Хоть видел его? — Нет, но Михаил говорил: свой парень. — Свой — это точно. — Подожди, это у него «Волга»? Вишневая? — Шикарная машина. С холодильником. Хаблак замер, боясь спугнуть миг удачи. Еще один вопрос, один короткий, небольшой вопрос: — А кто же он. Бублик? Однако сегодня фортуна и так уже побаловала его. — Какая-то шишка, — ответила Инесса, — из обслуживания. — Ну-ну, — подзадорил ее Хаблак, — это меня очень интересует. По моей линии... Если бы эта Соня знала, насколько Бублик интересует Хаблака! Если бы была немного наблюдательнее, обязательно поняла бы... Но сейчас Бублик был ей ни к чему: глотнула шампанского и покрутила фужер — чтоб Хаблак полюбовался ее маникюром. — Объявится, — махнула рукой. — Бублик всегда объявляется. Без приглашения. «Появлялся, — мысленно поправил ее Хаблак, — а теперь — черта лысого...» — Бублик... — процедил презрительно. — Имя хоть имеет? Как его фамилия? — Не знаю. Михаил его Бубликом называл. И я также. Хаблак понимал, что его любопытство чрезмерно, но остановиться не мог. Тем более что Инесса вроде бы не усматривала в его настырности ничего удивительного. — Слушай, — сказал, — а как нам найти Бублика? Мне нужен человек именно из сферы обслуживания. Он телефон не оставлял? — Нет. — А какой он внешне? Я тут многих знаю, может, мы с ним и знакомы? — Толстый. — объяснила. — Мужчина уже подтоптанный, за сорок, и денежный. — Такой низенький? — Не очень, немного ниже Миши, но я же говорю толстый. Брюнет, круглолицый, ничего себе, еще хорошо сохранился, и щедрый. У него в машине всегда коньяк и закуска в холодильнике. Класс. — И холодное шампанское? — Точно, Бублик умеет жить. — И куда же вы ездили? — В лес за Броварами. — А потом? — Привез сюда. — В гараж не заезжали? — Ну тебя: расспрашиваешь, как милиционер. — Скажешь!.. Просто мы с Бубликом одно дельце обтяпали бы! Инесса пошевелила кончиками пальцев: — Такое? — Догадливая. Вот покутили бы... — Объявится, — сказала уверенно. — Никуда он не денется. — А где Бублик живет? Не знаешь? — Скорее всего, на Сырце. — Сам говорил? — Нет, Михаил. Когда из леса возвратились, Бублик к нам в номер хотел попасть, чтоб выпить, а Миша не пустил. Сказал: тебе еще до Сырца добираться, а и так уже клюкнул. Информация не очень точная: у Бублика могли быть дела на Сырце или держал там машину. Хаблак подумал немного и спросил: — А номер его «Волги» помнишь? — Зачем это мне? — Может, случайно... — Нет. — Жаль. — А ты Мише в Одессу позвони. Он и скажет, как найти Бублика. — Точно! — притворился, что обрадовался, Хаблак. — И как я сразу не допетрил. — Поднялся, так как вытянул из Инессы все, что мог. — Пойду закажу разговор. — До вечера? — Тут, в восемь. — Хаблак ушел, зная, что Инессе придется долго ждать, но совесть не очень мучила его: вряд ли она будет скучать в одиночестве.12
Президент сидел в мягком кресле-качалке в лоджии высотного кооперативного дома на набережной, видел, как на Днепре за Гидропарком резал воду белый теплоход, как садилось солнце у Лавры, вызолотив ее купола, — видел и не видел, во всяком случае, ни теплоход, ни днепровские склоны не радовали его, просто не придавал всему этому никакого значения — был человеком деловым, и красоты природы редко восхищали его. Слева от Президента за столиком на колесиках сидел полный круглолицый человек. Удивительно, как он ухитрился поместиться на пуфике, и при этом еще улыбался, угодливо наблюдая, с каким удовольствием Президент закусывает коньяк лимоном, слегка покачиваясь в кресле. — Дальше, — приказал Президент. — Итак, приехали в Одессу, остановились у Майки... — В гостиницу не рискнули. — Правильно, — похвалил Президент, — лишний след... — Позвонили тому фрайеру, не отвечает. Послали Майку, чтоб разнюхала. А что там нюхать: двери закрыты, в окнах не светится — усек, что к чему, и дал деру. Президент поморщился. — Надо же такое! — раздраженно махнул рукой. — Невезение... Взрыв в воздухе — и с концами. Никаких следов и красиво! — Взрыв вы придумали здорово! — польстил толстый. — И сделали мы все так, что не подкопаешься. Он сам чемодан упаковывал, потом Рукавичка его в соседнюю комнату для разговора позвал, я мину и подложил. Сам завел и проверил. Плюс-минус пять минут, даже учел, что рейс может немного задержаться. Перед Одессой должны были взорваться. — А скажи мне, Бублик, — вдруг хитро прищурился Президент, — тебе не жаль было?.. — Манжулу? — Нет, ведь самолет полон... — На всех жалости не хватит. — Вот-вот, — согласился Президент. — О себе должны заботиться, на всех прочих начхать. — И наплевать. Так слушайте же дальше. Какая-то бабусенция сказала Майке, что сестра Михаила неподалеку в газетном киоске сидит. Ну мы не лопухи, позвонили на завод секретарше, она нам все и выложила: фамилию, имя и отчество директора, себя тоже назвала. Майка и подалась к киоску. А та бабка уши и развесила, все чин чинарем, мы его и выследили. На морском берегу и взяли. Президент заметил: — Не нравится... Как хочешь, Бублик, а это мне не нравится. Днем и на берегу — могли вас засечь. — Нет, — возразил Бублик, — не волнуйтесь. Место там пустынное, никто не шатается, дачники за полкилометра на пляже... — А как же он с вами пошел? — Не хотел, — недовольно покрутил головой Бублик, — догадывался, что плохо ему будет, и не хотел. Не шел, пока Рукавичка ему нож не предъявил. Даже уколол немного. Тогда пошел... — Ну-ну... — А дальше все как по маслу. Берег крутой, обрыв, и камни внизу. Он удрал бы, да посредине шел. Я впереди, а за ним — Рукавичка. Рукавичка и подтолкнул его... — И никто не видел? — Там пляж, повторяю, в полутора километрах, а место совсем нелюдимое. Президент потянулся к бутылке, и Бублик увидел, как дрожат у шефа пальцы. Улыбнулся снисходительно и сам наполнил рюмки. Президент выпил поспешно и жадно. Коньяк успокоил его, откинулся на спинку кресла и сказал умиротворенно: — Все хорошо, что хорошо кончается. — Падло! — свирепо воскликнул Бублик. — Он полез в наш карман. Сколько, вы говорили, заграбастал? — Пятьдесят, не меньше. Чистых пятьдесят тысяч, а может, и больше. — Разве можно простить? Президент закрыл глаза, подставив лицо солнечным лучам. Сказал рассудительно: — Можно, даже это можно простить, Бублик, ну вытащил Манжула из твоего кармана десять кусков. Ты бы не умер... — Так почему же вы распорядились... Победная улыбка засияла на лице Президента. — Потому, Бублик, что наследил он. Деньги мы с тобой имеем и будем иметь, а из-за Манжулы на нас бы вышли. — Откуда знаете? — Господь бог анонимку подкинул. — Ну вы и даете! — Милиция ему на хвост села, в Карпатах где-то оступился, обэхээсовцы в Манжулу и вцепились. — Вот оно что! А я думал... — И правильно думал, Бублик. Ты у меня разумный: так будет с каждым, кто захочет обмануть Президента. — Это прозвучало несколько патетично, да и не совпадало с предыдущим заявлением Президента о том, что из-за десяти тысяч они не умерли бы, однако Бублику было не до психологических наблюдений. Сказал, потирая руки: — Теперь оближутся... Манжула уже ничего не скажет. Президент не ответил. Посидел немного с закрытыми глазами и наконец спросил, будто и некстати: — Ты когда машину перекрасил? — На вишневую? — Ага. — Прошлым летом. — А инспекцию поставил в известность? — Что перекрасил? — Ну да. — Зачем? — Завтра отдашь Лазарю. Пусть снова сделает белой. — Но мне же больше нравится вишневая. — Скажите, пожалуйста, — преувеличенно вежливо, даже с издевательскими нотками сказал Президент, — а нравится ли вам это? — скрестил пальцы обеих рук. — Нет! — Бублик не заметил иронии. — Не нравится. — А если не нравится, делай как сказано. — Лазарь за срочную покраску знаете сколько сдерет? — сделал последнюю попытку отбиться Бублик. — Пять сотен. — А свою голову во сколько оцениваешь? Бублик с уважением похлопал себя по лбу: — Пока что тут кое-что есть... — Нет, если вшивых пять сотен считаешь. А ты подумал: кто-то в Одессе или там, ну на берегу моря, увидел вишневую «Волгу»? Убит человек — и «Волга» неподалеку... — Нет, — уверенно ответил Бублик, — милиция у нас... Кому на себя убийство вешать хочется? Спишут на несчастный случай. Мы с Манжулы даже часы не сняли, а у него японские, никто его не грабил и не убивал, шел тропинкой над обрывом и споткнулся... — Я сказал! — Сегодня загоню машину к Лазарю. — И поменяешь скаты. — Но ведь совсем новые еще... — А эти сожги где-нибудь в лесу. — Еще ездить и ездить на них... — Камеры можешь оставить, если уж такой жадный. И запаску. — Сделаем. — Рукавичке скажешь, чтоб слинял из Киева. На месяц. — Денег потребует. — Дашь пять сотенных. — Полкуска Рукавичке хватит, — согласился Бублик. — Еще какие будут указания? — Позвони Леониду. Вечером хочу с ним встретиться. — Где? — Скажешь Валере, чтоб оставил столик. — К восьми. — Приблизительно. — Девушки? — Без них. Разговор деловой. Если понадобятся, Валера найдет. — Да, у Валеры всегда есть кто-то на подхвате. Президент еще раз наполнил рюмки, они выпили и закусили дольками лимона, посыпанными кофе и сахаром — закуска, изобретенная, как узнал Президент, самим царем Николаем Вторым, а он ценил и уважал как старинные титулы, так и мишуру, связанную с ними. Любил носить дома приобретенную в комиссионке атласную стеганую куртку, в передней повесил зеркало в бронзовой раме и заставил сервант саксонским фарфором. Правда, рядом с изящными статуэтками стоял вульгарный хрустальный сервиз для крюшона. Крюшона у Президента не пили и в ближайшем будущем не собирались пить, однако сервиз занимал в серванте целое отделение и должен был свидетельствовать о респектабельности и финансовых возможностях хозяина. — Можешь идти, — сказал Президент бесцеремонно, но Бублик не обиделся. Наоборот, поднялся с облегчением, так как пуфик уже успел надоесть ему. Незаметно потер ягодицу и все же перед тем, как исчезнуть, спросил: — Пятьсот для Рукавички?.. Президент вытянул из кармана куртки пачку денег: — Тут кусок. На машину и для Рукавички. Бублик засунул деньги в задний карман джинсов. Хотел сказать, что и скаты недешево стоят, но не осмелился: в конце концов, решил, за шефом не пропадет. Бублик ушел, а Президент, сняв куртку, в которой он немного вспотел, направился в комнату и растянулся на диване Включил стереомагнитофон, Мирей Матье пела что-то меланхолическое. Президент любил энергичные ритмы, поменял бобину, теперь пел немецкий вокально-инструментальный ансамбль, и Президент, возбужденный коньяком и лимоном с кофе, подрыгивал в такт музыке голой ногой. Начал даже подпевать, немецкого, конечно, не знал, просто повторял отдельные слова, и на душе было приятно и легко. Правда, если бы знал, кто именно в этот момент шагает по набережной под окнами его дома, вероятно, не напевал бы так беззаботно, но откуда Президенту было знать, что майор Хаблак, который только сегодня услышал о Бублике, едва не столкнулся с ним на станции «Левобережная»? И что этот самый майор живет тут же на набережной, через один дом? И что теперь их пути чуть ли не все время будут незримо перекрещиваться? Но каждому свое. Хаблак, пообедав дома, что мог разрешить себе далеко не всегда, поехал в прокуратуру, чтоб сообщить Дробахе о встрече с Инессой, а Президент, утомившись от музыки, выключил магнитофон и задремал. Да и почему не поспать? С женой разошелся, дети не докучают, на работу спешить не нужно... Вообще Президент с презрением относился к тем, кто был обременен хоть какой бы то ни было должностью, то есть должен был в определенное время занимать свое место где-либо за столом, станком или даже в отдельном кабинете. Хотя когда-то такой образ жизни приходилось вести и ему, но, слава богу, это было давно, пока он не выбился в люди, точнее, в деловые люди. Вот тогда и купил справку об инвалидности, даже получал пенсию, слезы, не пенсию, шестьдесят восемь рублей, столько стоят две бутылки марочного коньяка в ресторане. Президент проспал до семи часов, принял душ, надел легкий летний костюм и поймал на набережной такси. Скорее было бы доехать автобусом до метро, а там всего несколько минут до ресторана, но Президент редко пользовался общественным транспортом, считая, что это унижает его достоинство. В дальние поездки его возил Бублик, с тем же Бубликом выезжал в обществе девушек за город — на пляж или в лес, были еще знакомые с машинами, но собственной Президент не заводил. Хотя и научился ездить. Мог приобрести почти новую или совсем новую «Волгу», Бублик сватал несколько раз, но, поразмыслив, Президент отказывался: еще не время. «Волга» бросается в глаза. Не приведи господь, кто-нибудь из соседей глянет недобрым оком, сообщит кому следует, что скромный пенсионер (который, кстати, один занимает трехкомнатную кооперативную квартиру) за свои ежемесячные шестьдесят восемь рублей умудрился купить «Волгу». Боже сохрани, кому нужна такая реклама! Правда, машину можно оформить на подставное лицо, хотя бы на того же Рукавичку. В последнее время Президент начал склоняться к такому варианту, однако окончательного решения так и не принял. Он медленно поднялся по ступенькам в Зал, где расхаживал Валера, отдавая какие-то распоряжения, постоял с минуту в холле за стеклянной дверью, этого оказалось достаточно, чтоб метр заметил его и поспешил, приветливо улыбаясь, навстречу. — Рад видеть вас, Геннадий Зиновьевич, — сказал угодливо, — столик, как и велели, свободен. Метр проводил Президента к его месту, отодвинул для него стул, откупорил бутылку холодной минеральной воды и наполнил фужер. Президент поблагодарил легким наклоном головы, точно так, как благодарят официантов миллионеры в заграничных фильмах. Эти фильмы Президент смотрел почти все, особенно о шикарной жизни бизнесменов, дипломатов и кинозвезд — они были для него эталоном, на них он равнялся и мечтал о такой жизни, когда можно будет ездить улицами освещенного неоновой рекламой города с роскошными девушками в не менее роскошном автомобиле, не таясь и не боясь никого. — Что закажете, Геннадий Зиновьевич? — Метр наклонился над столиком, поправляя и так безукоризненные салфетки. — Сообрази сам, Валера. — На сколько персон? — Будем вдвоем. Я и еще один. — Мужская компания? Не соскучитесь? — Соскучимся, тебя кликнем. — Сделаем, Геннадий Зиновьевич, для вас все будет по высшему разряду. Президент подумал: попробовал бы ты не организовать!.. Правда, Валера, его фамилия, кажется, Лапский, не знает точно, кого именно обслуживает. Считает, одного из «деловых», и даже в голову ему не приходит, что самого Президента. — Кто из официантов? — спросил. — Вася. — Это тот, беленький? — Вы остались довольны им. — «Арарат» есть? — Для вас найдется. — Две бутылки. Сначала одну. — Заметано. — А если заметано, — Президент покрутил фужер на тонкой ножке, наблюдая, как играют в нем воздушные пузырьки, — так скажи Васе, чтоб не тянул кота за хвост. Валера поклонился и скользнул между столиками. Президент не без удовольствия проводил его взглядом и посмотрел на стеклянные двери холла, где уже появился Леонид Павлович Гудзий, или просто Ленька. Но так могли называть его лишь сам он, Президент, и Бублик. Для всех остальных Леонид Павлович — человек уважаемый, начальник отдела главка. Президент помахал рукой над головой. Леонид Павлович заметил и направился к нему, солидный, еще молодой, но уже несколько отяжелевший мужчина — от дел и забот, как любил говорить в кругу товарищей по службе, или от просиживания штанов, об этом более категорично и правдиво заявлял после нескольких рюмок в ресторане. Правда, в кругу «деловых» не пил никогда. Президент оберегал Леонида Павловича и позволял только себе, и то нечасто, посидеть с Гудзием — попробуй отыскать еще такого Леньку! Он — на переднем крае, с него да Гаврилы Климентиевича, непосредственного шефа Гудзия, заместителя начальника главка, начинались их дела, и дай, боже, чтобы так было всегда! Где еще откопаешь таких людей? Эти уже подкормлены, знают таксу за услуги, а к другим еще надо было бы искать подход, и неизвестно, найдешь ли... Леонид Павлович сел напротив Президента, белоснежной салфеткой вытер вспотевшее лицо и потянулся к фужеру, наполненному Валерой. «Хамье, — неприязненно подумал Президент, — разве так ведут себя в изысканном обществе?» Но Гудзию, вероятно, было наплевать на все изысканные общества мира — осушил фужер и заявил: — Голоден как черт. Уже начало девятого, а я не ужинал. И домой не зашел, задержался в главке. — Несут, — не без торжества промолвил Президент, — уже несут, и сейчас все будет. Увидев «Арарат», Леонид Павлович с уважением посмотрел на Президента, однако сразу же забыл о нем и стал накладывать в тарелку салат. Подцепил вилкой кусок жирного балыка, намазал маслом ломоть белого хлеба и лишь тогда выжидательно посмотрел на Президента. Тот взял рюмку. — Будем, — сказал коротко. Не любил долгих тостов. Тосты нужны для девушек, слушают и раскисают, а «деловые» люди потому и называются «деловыми», что умеют делать дела, а не болтают. — Будем, — повторил Леонид Павлович, и они выпили. Гудзий сразу жадно набросился на еду, а Президент поковырял вилкой салат, пососал маслину и налил по второй. — Куда гонишь? — запротестовал Леонид Павлович, но Президент отмахнулся: не хочешь, не пей, а сам сделал маленький глоток. — Ты уже заказал горячее? — спросил, жуя, Леонид Павлович. — Я бы не возражал против вырезки. Президент кивнул и повернулся к дверям, где стоял официант. Тот сразу заметил это движение и скользнул к их столику. Наклонился к плечу Президента и слушал внимательно. — Кто сегодня на кухне, Вася? — спросил Президент. — Шеф? — Я бы на твоем месте не задавал глупых вопросов. — Извините. Платон Кондратьевич. — Передай Платоше бутылку шампанского, — приказал Президент. — И скажи: мы не против вырезки. — Сейчас обязательно передам... — буквально расцвел в улыбке официант. Он поспешил на кухню, а Президент поучительно сказал Леониду Павловичу: — Что официант? Пешка, от него почти ничего не зависит. Ему на поднос поставят — принесет. А ты шефу угоди — он тебе в вырезку душу вложит, не говоря уже о приправах. Вот увидишь, Платоша нам сегодня такой соус выдаст, пальчики оближешь. К вырезке официант принес вторую бутылку коньяка, и Президент решил, что Леонид Павлович созрел для разговора. Потому, когда Гудзий потянулся к «Арарату», Президент перехватил его руку. — Подожди, Леня, — сказал, — ешь это Платошино творенье и слушай меня как следует. Гудзий положил вилку. Знал: в ресторан позвали недаром, вот и начинается настоящая беседа. И нужно взвешивать каждое слово, иначе этот тип обведет вокруг пальца — главное, мера риска и плата, важно не продешевить. — Ешь, Леня, — продолжал Президент чуть ли не нежно, будто имел дело с капризным ребенком, но Гудзий решительно покачал головой: — Говорите, что надо. — Глаза у него напряглись. — Ничего особенного. Во-первых, дела с металлом пока что прекращаем. До лучших времен. — Что-то случилось? — Леонид Павлович испугался. — Ничего особенного, Манжула наследил... — не хотел Президент сообщать об этом, но в последний момент решил, что нужно: немного постращать этого министерского гуся не мешает — станет осторожнее и будет знать, что именно ждет его в случае отступничества. Потому и добавил угрожающе: — Наследил Манжула и погиб. На тот свет унес все тайны. — Михаил Никитович? — не поверил Гудзий. — Да, Манжула, — подтвердил Президент и продолжал, зная, что делает ошибку, однако не в силах остановиться, все же коньяк ударил ему в голову и развязал язык: — Слишком умным оказался Михаил, деньги за последний вагон себе в карман положил, к тому же милиция на него вышла, сам в этом признался, вот и пришлось убрать. — Убить? — ужаснулся Гудзий. — Называй это как хочешь, Леня, но нет больше Михаила Манжулы. И не будет никогда. Леонид Павлович невольно отшатнулся от стола и спросил испуганно: — Вы? — Ну что ты, дорогуша, есть разные способы. — Вдруг врожденная осторожность взяла в нем верх и он объяснил: — Я к этому не имею отношения. Нет Михаила, так и нет, и пусть земля будет ему пухом. — Как он погиб? — Не все ли равно? Шел по берегу моря, оступился, не удержался, упал с высоты на камни. Несчастный случай. — Так я и поверил... — Говорю: несчастный случай, и должен верить. Но сам понимаешь — с металлом теперь опасно. Что милиции известно, за что уцепились — мы не знаем. Еще один вагон — и должны переждать. До конца года. Леонид Павлович разгладил на столе смятую салфетку. Сказал, глядя на Президента исподлобья: — Все это правильно, береженого и бог бережет, но я рассчитывал... И жена договорилась насчет нового гарнитура... — Сколько? — спросил, будто гавкнул, Президент. Гудзий хотел сказать: три, однако вовремя запнулся и с трудом выдавил из себя: — Пять тысяч. Знаете, мебель подорожала. — Получишь. — Благодарю. — Леонид Павлович вздохнул с облегчением и наполнил рюмки. Но Президент помахал указательным пальцем. — Погоди, — остановил, — эти пять кусков надо заработать. — Считаю, что мой вклад... Я уже не говорю о Гавриле Климентиевиче! Что вы без нас? — А что ты без меня? — рассвирепел Президент. — Хорошо, — попятился Гудзий, — что нужно? — Мелочь... Подписьтоварища... — назвал фамилию начальника главка. — Это из вашего же министерства, и должен найти ход. Гудзий покачал головой: — Но в том главке у меня никого нет. — А ты подумай. Гарнитур стоит того. Леонид Павлович оперся локтями на стол. Почувствовал, как вкусно пахнет вырезка, и подумал: сегодня они пропьют в ресторане половину его зарплаты. Роскошная жизнь, и когда он еще позволит себе такой коньяк? Но, в конце концов, он может ограничить себя, перейдет на обычную водку в буфете за квартал от главка — бутылка на троих и приятный разговор в обществе коллег, — с этим можно смириться. Однако жена уже договорилась насчет гарнитура и он сказал, что деньги будут... А попробуй заработать пять тысяч! Полуторагодовая его, Гудзия, зарплата... — Что нужно подписать? — поинтересовался. — Полиэтиленовая крошка. Двести тонн сырья для одного завода. И все, точка. Леонид Павлович быстро прикинул варианты. Когда-то был с одним чмуром из того главка. Приблизительно его, Гудзия, ранга. Начальник отдела. Может, он? Нет, сильно идейный, такому только намекни, побежит в партком... Неужели никого нет? Леонид Павлович хотел уже признать свою несостоятельность, когда вдруг вспомнил Лиду. Улыбнулся, обрадовавшись. Да, Лида сделает это шутя и играя. Ну, в общем, без особых трудностей. Работает в плановом отделе — подсунет начальству на подпись бумажку среди прочих — кто обратит на нее внимание? Впрочем, есть еще нюанс, он научит Лиду, знает, как это делается: надо уже после подписи добавить в документе цифру, может, только во втором экземпляре — и пошла бумажка, кто ее заметит в огромном потоке «входящих» и «исходящих»? А Лидочке за это две сотни на новые сапожки. От заинтересованного человека — мол, друг там на заводе работает, с планом у них тяжело, вот и попросил помочь. Сапожки же — так, игрушка, премия, мелочишка... Леонид Павлович поднял рюмку и пообещал: — Сделаем. Я знаю там одну девушку... Попробуем организовать, Геннадий Зиновьевич, думаю, будет порядок. Президент выпил с облегчением. Собственно, ради этой полиэтиленовой крошки и пригласил Гудзия в ресторан, и потратился на марочный коньяк. Если бы не крошка, на черта ему этот самоуверенный индюк! Президент посмотрел, как энергично жует Леонид Павлович, вспомнил, как тот пять минут назад пытался задрать хвост, выказал непокорность. Подождите, как же он сказал? Кажется: «Что вы без нас?» То есть, без него, Гудзия, и еще его вечно надутого шефа — заместителя начальника главка... Обнаглели. Надо поставить на место. Иначе потом будет хуже. Президент выпил стакан минеральной и начал вкрадчиво: — Ты, Леня, послушай меня внимательно. Это там, в главке, ты и твой шеф — начальники, а тут, — похлопал ладонью по столу, — придется быть помягче. Ведь мы теперь с вами одной веревочкой связаны и в таком виде над пропастью ходим. Если один оступится, все упадем, усек? Но Леонид Павлович наслаждался вырезкой под воистину божественным соусом, а коньяк вскружил ему голову. Он не обратил особого внимания на слова Президента и отмахнулся: — Что это вас потянуло на такой разговор? Все под богом ходим, что кому выпадет, то и получит. — Вдруг суть сказанного дошла до него, и Гудзий, сразу протрезвев, перегнулся через стол и выдохнул в лицо Президенту: — Нет, не пройдет! Вы меня в свою компанию не зачисляйте. Вы — особая статья и на дно меня не потянете. Ясно? В случае чего — я ни при чем и вас впервые вижу... Президент воспринял этот взрыв спокойно и даже с каким-то любопытством. Покачал головой и ответил кротко и с укором: — А я считал, что ты умнее. Будто нам с вами решать, кто и насколько виноват. Слышал о таком управлении: борьбы с расхищением социалистической собственности? Еще их называют обэхээсовцами? Так вот, возьмут кого-нибудь из наших, начнут клубок распутывать и обязательно на тебя и твоего начальника натолкнутся. Чьи подписи на документах? Кто распоряжения насчет алюминия давал? — Мы могли ошибиться, директор завода неправильно нас информировал. — Это ты, Леня, не мне, обэхээсовцам будешь объяснять. Только поверят ли? Гудзий сразу как-то скис, налил себе коньяку и выпил без удовольствия. — Вы меня с собой не сравнивайте, — сделал все же попытку отмежеваться. — Вместе рискуем, но отвечать будем по-разному. Вам, если не ошибаюсь, хищение в особо крупных размерах угрожает, а мне... Президент рассвирепел. Это самоуверенное ничтожество еще и ершится! И смеет перечить ему, Президенту! Но сразу овладел собой: редко давал волю эмоциям, умел управлять ими и в самые напряженные моменты, что называется, с ходу оценивать ситуацию. Усмехнулся покровительственно и остановил Леонида Павловича: — Да, я знаю, что мне светит. Если распутают все — минимум пятнадцать лет строгого режима, и я приму это как дар судьбы. Ведь может быть и хуже, потому, сам понимаешь, мне терять нечего, и я пойду на все. — Точно, пойдешь! — Леонид Павлович вдруг перешел на «ты», это случилось впервые за все время их знакомства, однако не удивило, не поразило Президента, наоборот, польстило: понял, что Гудзий наконец признал масштабность его личности. — Ты же пойми: мне с этой властью не по пути. Если хочешь, мы с ней враги! Она против меня, я против нее, все, надеюсь, понятно... Только она сильнее, законы на ее стороне и в случае чего раздавит меня и даже не заметит. Мне бы туда, — неопределенно качнул головой, — туда, где все, что мы делаем, другими словами называется! Там бы я показал себя! — Проклятым капитализмом грезишь? — Кому проклятый, а кому и по душе. Ты бы передо мной там потанцевал! Я бы тебя с Гаврилой Климентиевичем и в младшие клерки не взял. Гудзий оскалил зубы в презрительной улыбке. — А ты уверен, что имел бы там вес? Не ошибаешься? Там таких хитромудрых навалом, один другому горлянку рвут... И опять Президент чуть не взорвался, но сумел сдержаться. Ответил: — Хорошим хочешь быть? Пай-мальчиком у советской власти? А вот дудки! Неизвестно, кто больший враг для нее — ты или я! — А я с ней не враждую, я ей служу! — Служишь и обкрадываешь? — У вас беру, не у нее. — А мы у кого? Ты налей мне и себе, Леня, нам с тобой ссориться ни к чему, просто мы выясняем кое-что. В моральном аспекте, не так ли? — Дождавшись, пока Гудзий наполнит рюмки, Президент чокнулся с ним, но пить не стал и продолжал: — Ты послушай меня, Леня, и запомни. Я точно говорю: неизвестно, кто больший враг для власти, ты или я. Ведь я враг неприкрытый, я беру то, что могу, на их языке — краду, лично я называю это бизнесом, ну, черным бизнесом, но почему-то ни милиция, ни прокуратура со мной не согласны и величают преступником. Я делаю деньги, если попадусь, оправдаться тяжело. А ты? Больший враг, потому что замаскированный. Ты как на собраниях в главке выступаешь? К честности и порядочности призываешь, с бюрократизмом небось борешься!.. — Конечно, что же в этом плохого? — А то, что одной рукой с государством обнимаешься, а другую ему в карман запускаешь. Прикидываешься, государство тебя другом считает, а ты ему нож в спину. Так кто же лучше, ты или я? — Но я все же служу... — Да, вроде бы служишь... Но я бы тебе на месте этой власти за такую службу вдвое больше, чем мне, отвесил бы. А то что же выходит? Мне — вышку, а тебе лет пять — семь... — Однако я получаю от вас крохи, — поморщился Гудзий. — Подумаешь, на вшивый гарнитур. — А я бы от имени этой власти так решил: не существовал бы ты, Леня, со своим Гаврилой Климентиевичем, не было бы и нас. Ведь металл-то делаем не мы, и алюминиевый лист не мы катаем. Мы только знаем, кому он необходим и где его взять. А даете его нам вы, без вас мы вот что! — скрутил фигу. — Вот и выходит, вы — предатели, государство на вас опирается, а вы ему — подножку. А предателей всегда карают больше, чем откровенных врагов. Вот как бы я, будь у меня власть, решил. — Свинья ты, Геннадий Зиновьевич, — вдруг как-то безнадежно и грустно сказал Гудзий. — Сам говорил: одной веревочкой связаны... Президент сразу остыл. Это же надо так взорваться!.. И для чего? Вразумлять кретина? Но, подумал, если этот Ленька не совсем тупой, поймет, что нет у него пути к отступлению — значит, должен слушаться. — Шампанского выпьешь? — спросил, заканчивая разговор. — Да, холодного, — ответил Гудзий, глядя куда-то в сторону. Стало тоскливо, как будто получил разнос от начальника главка или от самого заместителя министра. Уныло смотрел, как несет официант запотевшую бутылку, как наливает в узкие высокие фужеры, а сам думал: очень плохо, товарищ Гудзий, гнусно все выходит у вас, уважаемый, нет, малоуважаемый. И как вы дошли до такой жизни? Как дошел, уже не помнил, точнее, знал, но не хотел помнить, да и кто помнит о себе плохое? Леонид Гудзий учился в институте сносно, без особых взлетов, считался средним студентом, хотел большего, однако ничего особенного совершить не мог. Не мог что-нибудь придумать, изобрести, сказать что-то незаурядное на экзамене или сделать в курсовой работе, и дипломный проект у него вышел незаметный — Гудзий защитил его уверенно, но без блеска. И соответственное назначение получил: обычным инженером на обычное среднее предприятие в ничем не примечательном городке. Правда, тут ему чуть ли не сразу повезло. Заболел и ушел на пенсию начальник планового отдела, и Гудзию, обычному начинающему инженеру, поручили исполнять его обязанности — он это делал старательно, сумел несколько раз приятно удивить директора обстоятельным докладом и стал наконец вместо временно исполняющего, что звучало до некоторой степени унизительно и неопределенно, настоящим начальником. Именно начальником, в то время как однокурсники, на которых возлагались значительно большие надежды, еще ходили в заместителях и пониже рангом. И Гудзий понял: он сам кузнец своего счастья, продвижение по службе иногда зависит не от способностей, а от фортуны и от твоего умения предвидеть повороты судьбы. А также от воли и желания руководителей, которым следует угождать. Именно в этом Леонид Павлович скоро сумел наглядно убедиться. Через год после окончания института Гудзию довелось съездить в командировку во Львов, в трест, которому было подчинено их предприятие. Эта командировка совпала с праздником — теперь Леонид Павлович уже не помнил, каким именно, но он попал в ресторан, где отмечался этот праздник, и имел счастье сидеть за столом напротив самого заместителя управляющего трестом. И умело воспользовался этим: провозгласил удачный тост во здравие руководителей и, что было значительно разумнее, за очарование и прочие достоинства жены заместителя управляющего. То, что праздничный вечер не прошел для него бесследно, Леонид Павлович ощутил уже на другой день: заместитель пригласил его в кабинет, разговаривал приветливо и даже пообещал проведать Гудзия в его провинциальном захолустье. И сдержал слово. Где-то через месяц заместитель управляющего побывал на их предприятии, вспомнил о Гудзие и, отменив ресторанную трапезу, поехал обедать к Леониду Павловичу. Конечно, вместе с директором предприятия. Леонид Павлович истратил на тот обед чуть ли не четверть месячного заработка, но не жалел об этом. Обед вышел удачным, жена Гудзия превзошла сама себя, каждое блюдо хвалили. Заместитель управляющего вроде бы шутя, но в то же время и серьезно заметил директору: до каких пор руководящие кадры, он именно так охарактеризовал Гудзия, будут ютиться в однокомнатной квартире? Благодаря такому вопросу Леонид Павлович уже через три недели улучшил свои жилищные условия: получил двухкомнатную квартиру и в лучшем районе. Но что квартира! Можно было бы век прожить в той двухкомнатной... И Леонид Павлович решился. Придумал себе командировку во Львов, покрутился возле приемной заместителя управляющего, улучил момент, когда секретарша куда-то отлучилась, и осторожно постучался, точнее, поскребся в дверь начальнического кабинета. Просунул голову туда и полушутя (правда, его действия можно было воспринять и вполне серьезно) сказал тонким голосом: — Ку-ку!.. Иван Петрович, ваш тайный агент прибыл! Иван Петрович сначала нахмурился: кто осмелился так бестактно шутить? Но, увидев полурастерянное, полуиспуганное, однако без тени неуважения к руководству лицо Гудзия, вспомнил и обед, и растрогавший его тост на празднике, сразу же смягчился и даже расчувствовался. — Заходи, заходи, тайный агент, — пригласил приветливо, — и выкладывай, с чем приехал. Леонид Павлович сумел воспользоваться доверчивостью начальства: рассказал о делах на предприятии, стараясь быть объективным, но все же не удержался, чтоб не накапать на своих недругов или просто людей, которым почему-то не симпатизировал, пересказал последние сплетни о директоре и главном инженере, а завершая визит, развеселил начальство несколькими не очень пристойными анекдотами. Иван Петрович даже записал их в блокнот, чтобы не забыть и поделиться, так сказать, по инстанции, за информацию поблагодарил, отпуская Гудзия, приголубил, и теперь Леонид Павлович уже почти не сомневался в своем светлом будущем. Через некоторое время он опять предстал перед Иваном Петровичем. И снова: — Ку-ку! Ваш тайный агент прибыл... Одним словом, не прошло и года, как Гудзию пришлось поменять свою комфортабельную квартиру в провинции на не менее уютную во Львове: освободилось место в тресте, и руководство небезосновательно выдвинуло молодого и способного специалиста, прекрасно проявившего себя непосредственно на производстве. Теперь Леонид Павлович получил прямой выход в министерство. История, говорят, повторяется. Правда, теперь Гудзию не приходилось принимать участие в банкетах и провозглашать тосты в честь заместителя министра, судьба свела их во время поездки за границу — заместитель министра возглавлял делегацию, а Леонид Павлович был в ее составе. Однако, несмотря на это, несколько раз, даже оттеснив кое-кого незаметно локтем, оказывался в одной машине с начальством, снова рассказал несколько свежих анекдотов (собирал их скрупулезно и умудрялся классифицировать — по принципу кому и какие можно рассказывать) и попал в точку. Знал: заместитель министра — великолепный специалист и организатор — не владел ни одним иностранным языком, приходилось одновременно учиться и работать, на изучение языков не хватало времени, и где-то в глубине души Карп Михайлович завидовал полиглотам и стыдился своего неумения быстро объясниться с иностранцами. А в одном из анекдотов Леонида Павловича как раз и высмеивались ловкачи, которые, кроме знания языка, ничего не имели за душой... Когда возвращались из-за границы, заместитель министра был в чудесном настроении: поездка прошла успешно, много повидали, кое-чему научили и сами научились, в общем, были переполнены воспоминаниями и впечатлениями. Под это настроение заместитель министра и пригласил Гудзия к себе домой, угостил обедом и всячески выказывал свою доброжелательность. Минул месяц, и Леонид Павлович приехал в Киев в командировку. Напросился на прием к заместителю министра, дождался очереди — в кабинет вели двойные, обитые дерматином двери, Леонид Павлович проскользнул в тамбур, с трепетом в душе просунул голову в дверную щель и тонким голосом, чувствуя, как обрывается от испуга сердце, прокуковал: — Ку-ку, Карп Михайлович, ваш тайный агент из Львова прибыл!.. Понимал: идет ва-банк, заместитель министра мог бы и выгнать, но шутка понравилась, понравился и рассказ Гудзия о трестовских делах, не говоря уже о свежих анекдотах. Значительно смелее куковал Леонид Павлович в дверях кабинетов руководителей так называемого среднего звена. Правда, тут его «кукование» подкреплялось водкой с перцем, полдюжиной львовского пива или бутылкой бимбера — слово-то какое красивое, польское, главное — слово, а то, что бимбер — обыкновеннейший самогон, не суть важно, зато какой самогон, семьдесят градусов и сотворен для Киева по личному заказу Леонида Павловича. Короче, сначала его перевели в центральный аппарат рядовым сотрудником, а вскоре выдвинули на должность заведующего отделом одного из главков. Теперь имел, кажется, все: квартиру в столице, определенное положение, а главное, перспективу. Раздражало только относительное безденежье. Жена работала лаборанткой в техникуме и приносила сто двадцать рублей, а чуть ли не втрое большая зарплата Леонида Павловича все же не удовлетворяла его амбиций. Конечно, хватало и на еду, и на одежду, но Гудзию пришлось побывать несколько раз в компаниях людей денежных, однажды его пригласил домой какой-то художник, и Леонид Павлович увидел у него хрустальную люстру, художник похвалился, что финская и стоит почти полторы тысячи. Гудзий подумал, живут же люди — полторы тысячи, его полугодовую зарплату, подвесить к потолку: свинство какое-то. Но неужели он не сможет никогда позволить себе такое же свинство? Как раз На этот период и выпало его знакомство с Манжулой. Уже с первой встречи Манжула заинтересовал Леонида Павловича: рядовой снабженец из Одессы позволяет себе одеваться лучше, чем он, ответственный работник столичного главка. Да и еще единолично оплачивать весьма солидный ресторанный счет. Потому и встретил на следующий день Манжулу в главке хотя и не враждебно, но и без симпатии, невзирая на то что вчера просидели целый вечер за одним столом. Однако Манжула сделал вид, что не заметил начальнической неприязни, — предложил Леониду Павловичу достать для жены французское платье, его товарищ, мол, работает помощником капитана теплохода и привозит такие — просто чудо! Гудзий представил свою Зину в парижском платье, и его неприязнь к одесскому пижону почему-то сильно смягчилась, более того, он не без удовольствия принял приглашение поужинать в летнем ресторане «Кукушка», не в большой компании, как вчера, а вдвоем — ему, Манжуле, будет приятно провести вечер в обществе такого высокого начальства. Он так и сказал: «высокого начальства», и эти слова приятно пощекотали самолюбие Леонида Павловича — оказывается, этот снабженец умный и симпатичный человек, а он почему-то предвзято относился к нему. Вечер выдался теплый и светлый, засиделись в «Кукушке» — уж небо потемнело и замерцали первые звезды. То ли они так повлияли на Леонида Павловича, что потянуло его на откровенность, то ли просто выпитое сухое вино и шампанское (водку и коньяк решили проигнорировать в связи со вчерашним перебором), но пожаловался на трудности столичной жизни и на безденежье. Думал, Манжула посочувствует ему, но то, что услышал, буквально ошеломило его. Одесский пройдоха тут же заявил, что положение такое не безвыходно и легко поправимо, пусть он, Гудзий, благодарит бога за их знакомство, так как уже сейчас можно предложить Леониду Павловичу одно небольшое дельце, которое и устранит все его проблемы. Вслед за этим весьма неопределенным заявлением Манжула спросил, сможет ли Гудзий посодействовать, чтобы главк выделил одному из их предприятий дополнительно для нужд производства вагон алюминиевого листа? Леонид Павлович подумал: несомненно могут возникнуть различные нежелательные вопросы, но, в конце концов, он всегда оправдается интересами производства; очевидно, он организовал бы Манжуле этот вагон за ужин в ресторане, но тот вдруг сказал такое, что у Гудзия застучало в висках и он мгновенно как бы отрезвел. Даже переспросил, не ослышался ли, однако Манжула подтвердил: да, за этот вагон ему, Гудзию, заплатят пять тысяч. Немного придя в себя, Леонид Павлович хотел спросить, какой дурак и за что выкинет такие деньги, но вовремя сдержался. Какое ему до этого дело, и чем меньше он будет знать, тем лучше. Через три дня Гудзий пробил алюминиевый лист заводу, который, как выяснилось, должен изготовлять из него различную бытовую дребедень, что-то вроде садовых леек или детских игрушек, — и получил пачку денег, вожделенные пять тысяч. Положил их в дипломат, все еще боясь поверить в происшедшее, не шел домой, а летел на крыльях. Знал: Зина обалдеет, узрев. Зина и в самом деле была поражена: пять тысяч — целое богатство. Она лишь мечтала о дубленке, с завистью поглядывая на женщин, которым пофартило, а теперь можно позволить себе еще и норковую шапочку, а Леониду — кожаное пальто. Правда, Зина быстро подсчитала, сколько останется. Оказалось, учитывая ее неудовлетворенные потребности, не так уж и много. Досадливо покачала головой и только потом спросила: «Откуда?» Леонид Павлович объяснил все чистосердечно: не привык таиться от жены, тем более что иногда она укоряла его: дескать, некоторые мужья умеют жить и как-то используют свое положение, и лишь мы... «А это опасно?» — поинтересовалась Зина. Леонид Павлович беспечно махнул рукой: «В крайнем случае выговоряка за недосмотр. А принимая во внимание, что руководитель я молодой и ошибаюсь впервые, может и вообще обойтись». «Пять тысяч за выговор — ерунда, — решительно отрубила Зина. — Если бы мне платили в десять раз меньше, и то...» На том и столковались. Когда Леонид Павлович где-то через полгода принес еще пять тысяч, Зина восприняла это как должное. Даже поинтересовалась, на что можно рассчитывать в будущем? Но супруг не мог дать определенного ответа. Его заинтересованность делами весьма мелкого предприятия заметил заместитель начальника главка Гаврила Климентиевич Татаров — сухарь и ортодокс, с ним ни выпить, ни поговорить по душам, знает только работу и семью, старый кадр, как-то случайно очутившийся в главке и дотягивающий тут последние годы до пенсии. Кстати, Гудзий уже сообщил об этом Манжуле: мол, рад бы в рай, да грехи не пускают — все, на алюминиевом листе надо ставить точку. Если он еще хоть раз сотворит такое, возникнет скандал, начнется расследование, комиссии, а кому это нужно? Да, расследование, конечно, ни к чему, согласился Манжула, но следует учесть: сам Геннадий Зиновьевич требует найти какой-то выход, ведь дело с алюминиевым листом оказалось весьма перспективным. Тогда Гудзий впервые услышал это имя — Геннадий Зиновьевич. А через день Манжула пригласил его на встречу с ним — шефом, как сообщил не без почтения. Потом они встречались еще несколько раз, нечасто, лишь по необходимости, как и сегодня. А Геннадий Зиновьевич потягивал холодное шампанское и смотрел на Гудзия холодно и внимательно. Думал: если этот слизняк сумеет организовать полиэтилен, стоит его поощрить, без вознаграждения не останется. Да, на полиэтилене можно неплохо заработать. Весной он ездил по пригородным селам, так сказать, выезжал на натуру, изучал спрос населения — полиэтиленовой пленки катастрофически не хватает, барышники, снабжающие город ранними огурцами и помидорами и занявшие теплицами едва ли не все свои приусадебные участки, готовы платить за полиэтиленовую пленку чуть ли не золотом. И пусть платят, рассуждал Президент. Поднял руку с фужером и изрек: — Твое здоровье, Леня! Пью за твой острый ум, за умение все видеть и понимать, за твою жизненную хватку. И за наши общие с тобой позиции. И они выпили, приветливо поглядывая друг на друга, как удачливые компаньоны: коньяк и шампанское разогрели им кровь, и все вокруг казалось им значительно лучше, чем было в действительности.13
— Надо ехать в Карпаты. — Да, без этого не обойтись, — согласился Хаблак и посмотрел на Дробаху вопрошающе, хотя и так было ясно: ехать ему. — Завтра. Дробаха подвинул к Хаблаку блокнот, найденный в квартире Манжулы. Сказал: — Я попросил сведущих людей проанализировать адреса и номера телефонов, записанные тут. Большинство, конечно, одесские. Их объединим в отдельную группу, и в случае необходимости ими займутся одесские товарищи. Есть также несколько киевских телефонов. Ничего подозрительного: министерства, главки, тресты, предприятия. Манжула — снабженец и, естественно, должен иметь широкий круг знакомств в этой сфере. Наконец, есть пятизначные телефонные номера. Советую обратить на них внимание. Как правило, такие телефонные номера принадлежат районным АТС. — Возможность выйти через них на карпатских знакомых Манжулы? — Да, но не утверждаю. Хаблак полистал записную книжку, хотя знал чуть ли не на память все взятое им на заметку. — Видите... — забрал у него блокнот Дробаха. — Откроем страничку на «К». Есть К, подчеркнутое дважды. За ним две буквы: В. С. и номер телефона: 5-15-24. — В. С. — инициалы абонента, — сказал Хаблак уверенно. — А К, подчеркнутое дважды? Есть еще К, подчеркнутое один раз и совсем без подчеркиваний. — Вот это уже Манжулины секреты. — Может, эти подчеркнутые и не подчеркнутые К обозначают названия населенных пунктов? — Я думал об этом. — Попросите товарищей из Ивано-Франковского розыска заняться ими. — Безусловно. — Тогда, — Дробаха обошел стол и обнял Хаблака за плечи, — я посоветовал бы вам ехать домой. — Немедленно воспользуюсь вашим советом. — Звоните ежедневно. — Как с вишневой «Волгой»? — Будто корова языком слизнула. — Может, не киевская? — Все может быть, Сергей Антонович, и вы это знаете не хуже меня. Дробаха проводил Хаблака до дверей, и тот поспешил к станции метро, решив ничего не говорить Марине о завтрашней командировке — Для чего портить вечер? Он задумал провести его с семьей в Гидропарке. Вечер и правда был удачным: сначала Степашка бегал по мелководью, потом по очереди купались он и Марина, сын визжал, не желая выходить из воды, а когда начало темнеть, расположились возле «Колыбы» — небольшого ресторанчика, — тут сами приготовили шашлыки. Лишь возвратись домой, Хаблак сказал Марине о поездке в Карпаты и попросил собрать чемодан. Слава богу, это не испортило ей настроение, даже позавидовала: — Надо же, на той неделе купался в море, а теперь — горы! Везет людям... Но глаза жены смотрели грустно. В Ивано-Франковске Хаблаку еще не приходилось бывать. Почему-то считал: маленький провинциальный город, а оказалось — большой, чистый, благоустроенный, с широкими проспектами новостроек и оживленным, с множеством зелени и цветов центром. Хаблака принял начальник областного уголовного розыска — ему уже звонили из Киева и просили помочь майору, — пообещал обеспечить машиной и толковым помощником: старший лейтенант Стефурак, местный, знает горы как свои пять пальцев и не новичок в уголовном розыске. Хаблак поднял руки: все, больше ничего не нужно! Машина и товарищ, ориентирующийся в местных условиях, — об этом можно только мечтать! Полковник смерил Хаблака оценивающим взглядом. — Машина, правда, не очень комфортабельна... «ГАЗ-69». Но, думаю, останетесь довольны, на «Волге» по горным дорогам не очень-то разгонишься. — Я не турист, товарищ полковник. — Заночуете тут? — Хотел бы выехать сразу в Коломыю. — Стефурак предупрежден, машина в гараже. Хаблак представлял, что чуть ли не сразу за городом начнутся Карпаты, а дорога петляла по пригоркам, прорезала широкие долины, горами тут и не пахло — обычный подольский пейзаж. Почувствовал что-то вроде обиды, как ребенок, которому пообещали игрушку и забыли купить, но глаз радовали веселые чистые села, и поля вокруг колосились пшеницей, она уже набрала силу и кое-где начала желтеть. Вел машину сам Стефурак. Невысокий, приземистый, в надвинутой на лоб матерчатой кепочке — совсем не похож на инспектора уголовного розыска, обычный шофер районного начальника средней руки или председателя колхоза. Хаблак, правда, не очень-то походил на председателя, все же ощущалась офицерская подтянутость — впрочем, за заведующего отделом культуры или иного райисполкомовского деятеля вполне мог сойти. Это его устраивало, и майор приветливо поглядывал на Стефурака: кажется, парень дельный, хорошо, что сам предложил обойтись без шофера — водитель, пусть хороший и невзыскательный, все же требует дополнительных затрат, моральных и материальных, а тут все просто: номер на двоих организовать легче, чем на троих, не говоря уже о прочих мелочах. Перед отъездом Хаблак рассказал Стефураку, с каким заданием приехал, и назвал фамилию Манжулы. Старший лейтенант подумал немного и заметил: если память не подводит, он встречал эту фамилию в каких-то сводках или протоколах, и вроде бы сравнительно недавно. А вскоре вспомнил, что полмесяца назад раскручивал какую-то кражу, одна из ниток привела его в Коломыю, там и услышал эту фамилию: Манжула. Дело в том, что работники районного ОБХСС напали на след спекулянтов листовым алюминием, которым гуцулы кроют дома. В связи с этим и был задержан Манжула, но, как оказалось, безосновательно. Доказательств против него не было — извинились и отпустили. Интересно, подумал Хаблак, одну из своих последних открыток к сестре в Одессу Манжула написал именно из Коломыи — значит, правильно, что едут они туда, вероятно, не случайно тогда задержали этого одесского пройдоху. Въехали в село. Стефурак показал Хаблаку первый встретившийся им дом, по здешней моде крытый листовым алюминием. Майор попросил остановиться и вышел из машины. Большой деревянный дом, непокрашенный, казалось вечным желтое смолистое дерево. Окна совсем городские, широкие, на втором этаже лишь немного поменьше. Мансарда не мансарда, нет привычных линий, скосов — и все это под гордо поблескивающей серебристой кровлей. Мастера, крывшие дом, имели штампы, они выдавливали из алюминиевого листа различные формы, тут, например, как показалось Хаблаку, под черепаху: и в самом деле, будто исполинская черепаха оставила на доме свой панцирь. Фасад дома украшали вырезанные из алюминия олени — трубили боевую песню и, угрожая тяжелыми рогами, в весеннем раже собирались броситься друг на друга. В восхищении Хаблак отступил к машине. — Ну? — коротко спросил Стефурак. — Грандиозно. Хаблаку действительно понравился дом, однако старший лейтенант воспринял его реплику по-своему. — Тебе приходилось видеть, чтобы где-либо продавали алюминиевый лист? — спросил Стефурак. — Нет. — И я не видел. — Значит?.. — За такую кровлю, говорят, платят не менее трех тысяч. — Не может быть! — искренне удивился Хаблак. — Только за алюминий, без работы. — Невероятно! — Ничего удивительного! Во-первых, мода. Во-вторых, кровля легкая, красивая и красить не нужно. Хаблак подумал: если и правда три тысячи, всегда найдутся люди, греющие на этом руки. Они снова двинулись в путь, и майор спросил: — Какая государственная цена алюминия? — Ты же сам говорил: не видел в продаже. — Но ведь где-то берут... — По-моему, наши обэхээсовцы уже ломают над этим голову. — Поздновато. Стефурак лишь пожал плечами, и майор так и ее понял, осуждает или оправдывает он своих коллег. Въехали в Коломыю незаметно: может, Хаблак задремал, утомившись, или просто задумался, только околицу не запомнил. Коломыя понравилась майору, правда, сегодня ему нравилось все, даже несколько однообразные села вдоль шоссе. Он задумался, чем именно поразил его город, и вскоре понял — не чистотой центральных улиц, даже не обилием зелени и цветов, а неторопливостью ритма жизни, неперенаселенностью улиц и, вероятно, царящим тут духом какой-то особой общительности, почему-то бросившейся в глаза Хаблаку — может, потому, что люди группками стояли у магазинов, дружески беседуя, или потому, что на каждом шагу замечал, как, встречая друг друга, мужчины приподнимают шляпы. Когда-то все, связанное с этим «сонным» ритмом жизни и вообще с так называемым провинциализмом, подвергалось своего рода остракизму и решительно осуждалось, но Хаблак не ощущал какой-либо неприязни к увиденному, наоборот, после сумасшедшего темпа столичной жизни, помноженного на темпы деятельности уголовного розыска, степенность и обстоятельность здешних горожан приятно поражали его. Хаблак подумал, что при таком жизненном ритме, наверно, и отношения между людьми покрепче, чем у жителей больших городов со свойственной им отчужденностью, — значит, здесь меньше проявлений зазнайства, наглости, злобы, выходит (это был его сугубо профессиональный вывод), и меньше преступлений. Капитан Пекарь, начальник местного уголовного розыска, ожидал их в темноватой комнате с настежь распахнутым окном — щелкал семечки, наблюдая, как два петушка подпрыгивают и хорохорятся, готовясь к бою. Хаблак и в этом усмотрел преимущества здешнего ритма: заваленный делами начальник розыска любого столичного района вряд ли смог бы так беззаботно щелкать семечки. Пекарь сразу же преодолел неловкость, воцарившуюся было из-за того, что застали его не за лучшим из занятий, немедленно предложив: — Обедать! Время-то обеденное, и я тут заказал... Хаблак переглянулся со Стефураком: видно, его нисколько не удивила категоричность капитана, да и майор не возражал против обеда — на том и сошлись. Пекарь привел их в уютную, буквально сияющую чистотой столовую, где накормили домашним борщом и вкусными котлетами с отменно поджаренным картофелем. Хаблак, поскольку ему довольно часто приходилось перебиваться стандартными бифштексами с клейкими макаронами, еще раз убедился в несомненности достоинств здешнего образа жизни. Как только возвратились в темноватую комнату капитана Пекаря, Хаблак положил на стол фотографию Манжулы и вкратце объяснил, зачем они со Стефураком приехали в Коломыю. И тут же подумал, что Пекарь начнет расспрашивать, советоваться, размышлять — к таким мыслям поневоле склоняла его сценка с семечками у распахнутого окна, но капитан сразу же снял трубку и пригласил кого-то: — Гриша, ты свободен? Загляни. Гриша не заставил себя ждать — низенький, чернявый и юркий человек также с капитанскими погонами. Он назвался Григорием Васильевичем Гутовским, пожал всем руки, и после этого Пекарь показал ему фотографию Манжулы. — Узнаешь? — спросил. — Узнаю. Мы ведь его задерживали. Подождите, кажется, его фамилия... — Манжула Михаил Никитович, — подсказал Хаблак. — Точно. И что случилось? У нас-то не было против него доказательств. — Убит. — О-ля-ля! — вдруг совсем по-мальчишески воскликнул капитан. — Этого только не хватало! Он рассказал, в связи с чем они вышли на Манжулу и как задержали его. Приблизительно два месяца назад в милицию поступил сигнал, что в районе появились спекулянты, торгующие алюминиевым листом. Несколько дней обэхээсовцы топтались на месте, наконец дознались, что одному из колхозников пообещали ночью завезти алюминий. Предупредили, чтобы приготовил деньги. Милиция устроила засаду, но спекулянты не приехали. Видно, что-то спугнуло. Однако за их след удалось зацепиться: милиции стало известно, что предлагал приобрести материал для кровли шофер из соседнего села. Даже вроде бы намекнул, что алюминий уже лежит у него во дворе. Когда милиция нагрянула к тому шоферу, никакого алюминия у него не нашли, однако застали там гражданина, назвавшегося Михаилом Никитовичем Манжулой. Он объяснил, что приехал в Карпаты из Одессы в качестве туриста, но документов у него не оказалось, Манжула сообщил, что остановился на Косовской турбазе, там и оставил паспорт. Все это насторожило работников милиции. Объяснение Манжулы нуждалось в уточнениях, и одессита доставили в Коломыю. На следующий день выяснилось, что он сказал правду, документы были в порядке, вот и пришлось милиции извиниться и отпустить его. Рассказав эту историю, Гутовский сделал паузу. Хаблак решил: выложил все, что ему известно, но капитан вдруг сообщил исключительно интересную новость: — Однако же на той неделе мы все же напали на след спекулянтов. И взяли одного типа с поличным. — Кого? — поинтересовался Стефурак. — Диспетчер нашего автохозяйства. Хаблак достал блокнот Манжулы, нужную страничку нашел сразу. После первого «К», дважды подчеркнутого, стояли буквы: «В», «С». — Как зовут вашего диспетчера? — спросил. — Василий Семенович Гринюк. — И телефон у него: пять-пятнадцать-двадцать четыре? — Откуда знаете? — Из Манжулиного блокнота. — Неимоверно, — в отчаянии воскликнул Гутовский, — держали преступника за ворот и так бездарно выпустили! — А Гринюк признался? — Я же говорил: поймали с поличным. — Узнали, откуда у него алюминий? — Говорит: в прошлом году приобрел у какого-то незнакомца. Мол, хотел услужить товарищу, тот давно просил достать, а потом отказался. Вот и пришлось продавать. — Фамилию товарища назвал? — Как ни странно, да. Мы проверяли, все сошлось. Но ведь остается сам факт незаконной продажи по повышенной цене. Передадим дело в суд. Хаблак назвал еще два телефонных номера из блокнота Манжулы, обозначенных буквой «К». Раз подчеркнутой и без подчеркивания. Гутовский отозвался сразу: — Первый — наш. А с тройки здесь не начинаются... — Вопросительно посмотрел на Хаблака: — Проверим? — Только осторожно. Не говорите откуда. Капитан набрал номер и тут же положил трубку. — Точно — наш номер. Центральная аптека. — Надо установить, не работает ли там кто-то с инициалами С. М. Гутовский снова взялся за трубку, но Хаблак остановил его. — Не волнуйтесь, — предупредил капитан, — все будет в ажуре. Заведует аптекой старый коммунист, член горкома партии, он нам все и скажет. Пекарь одобрительно кивнул. — Еще бы, — подтвердил, — Якимюку можно говорить все. — Иван Михайлович? — спросил Гутовский. — Григорий Васильевич из райотдела. Надо уточнить, только между нами, у вас работает кто-нибудь с инициалами С. М.? Кажется, нет? А мне нужно точно. Проверьте, пожалуйста. — После паузы положил трубку. — В нашей аптеке с такими инициалами никого нет. — Теперь сделаем так, — приказал Хаблак. — Мы со Стефураком допросим Гринюка. Давайте подумаем: вместе с вами, капитан, или нет? — Лучше вместе, — посоветовал Стефурак. — Гутовскому ведь известны различные детали этого дела, на которых Гринюк и может пойматься. — Вероятно, вы правы. Давайте сюда вашего Гринюка. Василь Семенович Гринюк напоминал старого, одинокого, загнанного охотниками медведя. Растрепанные и давно не стриженные волосы торчали клочьями, глаза свирепо блестели, он сутулился, длинные руки свисали чуть ли не до колен, и казалось, сейчас станет, как настоящий медведь, на четвереньки. Обвел всех хмурым взглядом и процедил: — Не много ли вас, начальники? — Совсем обнаглел! — опешил Гутовский. — А это не наглость — честных людей под замком держать? — Уж не ты ли честный? — Свои права знаем. Этот спор мог продолжаться кто знает сколько, и Хаблак подозвал Гринюка к столу, где лежала фотография Манжулы. — Узнаете его? — спросил. Гринюк уставился в снимок тяжелым неподвижным взглядом. Потянулся к фотографии, взял ее и, немного поколебавшись, поднес ближе к глазам. Лицо у него напряглось. Хаблаку показалось, что узнал Манжулу и лишь тянет время, чтоб определить линию поведения. Затем Гринюк осторожно положил фотографию на середину стола и решительно покачал головой. — Не знаю, — ответил. — Впервые вижу. — Подумайте, Гринюк, — начал, успокоившись, Гутовский. — Товарищи, сами понимаете, даром бы не приехали. — А что мне думать: не знаю, и все тут. — Даже фамилии такой не слышал: Манжула? — спросил Хаблак. — Манжула Михаил Никитович? — Не слыхал. — Тогда объясните, почему в блокноте гражданина Манжулы, живущего в Одессе, записаны ваши инициалы и телефон? — А я откуда знаю? Может, нуждался в машине, ведь я диспетчер в автохозяйстве... Когда Гринюка вывели, Хаблак обвел присутствующих вопрошающим взглядом. Первым отозвался Стефурак: — Знает он Манжулу, хорошо знает, узнал сразу, только взглянул на фотографию. Гутовский кивнул, присоединяясь к мнению, а Пекарь промолчал. — Вероятно, знает, — согласился Хаблак. — Но наши эмоции и догадки, как принято говорить, к протоколу не подошьешь. Надо искать доказательства. На следующий день утром Хаблак со Стефураком выехали в Косов: именно оттуда Манжула написал одну из своих открыток сестре — возможно, буква «К» с подчеркиванием или без него могла обозначать название этого местечка. А возле Косова, буквально в нескольких километрах, находилось еще одно на «К» — Куты. Оказалось, попали в десятку. Номер телефона возле подчеркнутого «К» и инициалы А. П. принадлежали Александру Петровичу Волянюку — шоферу автотранспортной конторы. В другом случае все тоже совпадало: в Кутах жил шофер лесхоза Станислав Корнеевич Бабидович. Как и Волянюк, он имел телефон, их номера и были записаны в блокноте Манжулы. Но удача, как уже успел убедиться Хаблак, всегда приходит не в чистом, так сказать, виде. Что-то обязательно должно быть не так, какие-то тучки должны появиться на небе — вот и теперь: не успели они выйти на Волянюка, как товарищи из косовской милиции выяснили, что тот лишь позавчера взял на неделю отпуск за собственный счет и уехал куда-то в Закарпатье к больному брату. Стефурак предложил поехать к нему домой и разузнать у жены, где именно находится сейчас Александр Петрович — до Закарпатья ведь рукой подать, можно и съездить, — но Хаблак запротестовал: жена или родственники могут ничего и не сказать, а сами предупредят Волянюка, что им интересуется милиция, и если тот действительно причастен к махинациям, станет заметать следы, предупредит соучастников. Оказалось, майор был прав, и это выяснилось буквально сразу. Пока расспрашивали о Манжуле работников гостиницы (там никто не вспомнил его), прошло некоторое время, и в Куты попали во время обеденного перерыва. Правда, в лесхозовском гараже застали механика, но тот на вопрос о Бабидовиче лишь развел руками: — Пошел обедать. Несколько минут назад. У него машина испортилась, на ремонте, вот он слесарям и помогает, но сейчас обед. Ждать Бабидовича не хотелось, тем более появился заманчивый предлог побеседовать дома, посмотреть, как живет, и, возможно, выяснить, почему именно им заинтересовался Манжула, и офицеры, узнав адрес Станислава Корнеевича, поехали к нему. Дом Бабидовича стоял на краю местечка — добротное кирпичное строение с затейливой изгородью из сваренной арматуры. Бабидович сидел возле стола водворе и причесывался. Видно, только что вымылся: мокрое измятое полотенце лежало на коленях. Жена хозяйничала в летней кухне, разогревая обед. Увидев незнакомых людей, Бабидович ничуть не заволновался — смотрел выжидающе, а узнав, кто они, так же спокойно предложил сесть к столу. Но все же Хаблак заметил у него в глазах то ли настороженность, то ли едва ощутимую растерянность, но, в конце концов, это можно было и объяснить: вдруг приходят к тебе два милицейских офицера, один из области, а другой из Киева, невольно забеспокоишься. Хаблак положил на стол фотографию Манжулы, без всякой просьбы Бабидович взял ее и, не ожидая вопросов, сказал: — Если относительно этого человека, то впервые вижу. — Да, относительно этого, — подтвердил Стефурак. — Посмотрите внимательнее. — У меня хорошая память, — ответил Бабидович. — Если когда и встречались, так, может, случайно, среди моих хороших знакомых такого человека нет. Да и среди недругов тоже. — А не можете ли объяснить, почему в блокноте у этого человека записан ваш номер телефона? — Нет, не могу. Скажите хотя бы, кто он? — Скажем, в свое время мы все вам скажем, Станислав Корнеевич! Бабидович подумал немного и ответил: — В ваших словах чувствуется какая-то угроза. Если будете продолжать в таком же тоне, я не стану с вами разговаривать. Бабидович был прав, и Хаблак решил вмешаться: — Мы пришли к вам за помощью. — И угрожаете? — Честный человек не должен ничего бояться. — Я не преступник. — Верим, но в порядочности этого человека, — Хаблак ткнул пальцем в снимок Манжулы, — есть основания сомневаться. — Я же сказал: не знаю его. — Мы вам верим. А скажите: Волянюка Александра Петровича знаете? — Косовского? — Да, шофера автобазы. — Все ясно, — сказал Бабидович с облегчением, — честно говоря, ждал этого вопроса и сразу о Волянюке подумал, но, подумал, может, и пустое все это... — Что пустое? — поспешил уточнить Хаблак. — Может, пообедаем? — предложил Бабидович. Хаблак переглянулся со Стефураком: есть хотелось, однако вот так принять предложение человека, все же подозреваемого... — Нет... — покачал головой майор. — Да бросьте, — оборвал его хозяин. — Вижу, проголодались, а то, что вы из милиции, ничего не значит, не взятку же предлагаю, а борщ. В ответ на протестующий жест Стефурака продолжал свой натиск: — Не волнуйтесь, поешьте, а я тем временем вам все расскажу, ничего не утаю, что знаю — выложу. Давай, жена, наливай всем. Что оставалось делать? Тем более пахло так вкусно: хозяйка поставила на стол блюдо, полное пампушек в чесночной подливе. Когда расправились с борщом, Бабидович сказал: — А теперь, люди, слушайте меня внимательно. Как-то весной мы ночевали с Волянюком в «Беркуте». Может, слышали, гостиница у нас такая на перевале? Возвращался я из Закарпатья, и довелось заночевать. Там с Сашком и встретились, оказались в одном номере. Ну выпили слегка, много нельзя, ведь утром снова за руль, выпили, поужинали, разговорились. Волянюк и говорит: «Вижу, ты, Стась, хлоп что надо, могу предложить хорошее дело». «Какое?» — спрашиваю. «Есть, говорит, люди, которые продают алюминий для кровель. Так им транспорт нужен и сараи, чтобы тот металл прятать. Могу сосватать. Большие деньги платят». Я и подумал: заработать и в самом деле можно, но и сесть тоже. Объясняю ему, а он смеется. «Видишь, говорит, не сижу и отлично себя чувствую, да и вообще, кто не рискует, тот не живет». Записал он мой телефон, на том все и кончилось. Сказал: если те люди новую партию алюминия привезут, позвонят. А я решил отказаться: — Почему не сообщили в милицию? — спросил Стефурак. Бабидович ответил, помедлив. — Неудобно как-то. Человек ко мне с доверием и с душой, а я, выходит, заложу его. — Спекулянт ваш Волянюк. — Так не он же продает тот алюминий... Только возит. — Соучастник и пособник преступников. — Это я тоже понимаю, — смутившись, сказал Бабидович, — потому и решил отказаться. — С Волянюком после того встречались? — Бог миловал. Стефурак вырвал из блокнота листочек, записал номер телефона райотдела милиции. — Если вам снова предложат алюминий, позвоните немедленно. Бабидович взял листок без энтузиазма, однако пообещал: — Сделаем. Возвратившись в Косов, Хаблак тут же позвонил Дробахе. Иван Яковлевич выслушал его, хмыкая в трубку и бросая язвительные реплики, Хаблаку показалось, что Дробаха даже посмеивается над ним, и обиженно спросил, какие конкретные замечания у следователя по поводу его действий. Дробаха понял майора сразу и не дал разгуляться амбициям Хаблака: — Вы, дорогой мой, в бутылку не лезьте. Просто у меня хорошее настроение: вижу, у вас прогресс ощутимей, чем тут, в Киеве. Искомую вишневую «Волгу» будто корова слизнула — инспекция, кажется, все перещупала, а дудки! Это я выход своим эмоциям даю и радуюсь за вас. Хаблак подумал: можно было бы найти несколько иную форму проявления эмоций, но спорить не стал — все же Дробаха начальство и его следует уважать. — Нуждаетесь в помощи? — понял его Иван Яковлевич. — Видите, какие масштабы начинает приобретать дело, и нам без мощной поддержки ОБХСС не обойтись. Когда-то мы неплохо поработали с лейтенантом Коренчуком, если бы он мог приехать сюда... — Сделаем, — пообещал Дробаха, как показалось Хаблаку, весьма безапелляционно. — Еще? — Помните, я рассказывал про Инессу? — Девушка из бара? — Да. Сообщившая нам о Бублике. Партнере Манжулы. В последнее время тут, согласно сведениям местной милиции, есть факты спекуляции листовым алюминием... — Полагаете, Бублик? — Подозреваю. На всякий случай должны иметь его портрет. Воссозданный хотя бы со слов Инессы. — Завтра днем получите. Хаблак подумал: одно удовольствие иметь дело с Дробахой. Не дал себе никаких поблажек. А Инессу еще надо найти, допросить, сотрудники научно-технического отдела должны поработать с нею, чтобы превратить впечатления Инессы в совершенно конкретный образ Бублика, потом этот портрет еще следует передать самолетом. Он закончил разговор с Дробахой, чувствуя уверенность и нетерпение, всегда охватывавшие его, когда верил: идет правильным путем и до окончательной победы осталось лишь несколько шагов. Эти чувства подогрел еще и Стефурак. Пока майор связывался с Киевом, капитан успел переговорить с местными обэхээсовцами. И возвратился он в кабинет начальника райотдела милиции с загадочно-победной улыбкой на лице. Не ожидая расспросов, Стефурак доложил: — Такое дело, майор. Местные ребята договорились с одним человеком. Он дом строит, и ему листовой алюминий для кровли должны завезти... Хаблак сразу понял всю важность этого сообщения. — Где это? — спросил. — За Косовом — село Соколивка. — Когда? — Обещали завезти на днях. У того человека обэхээсовцы засаду хотели оставить, но отказались от этой затеи. В селе засаду нелегко утаить, тем более дом строится, рабочие крутятся... — И что же решили? — Сотрудник ОБХСС поехал туда под видом заготовителя. Даже председатель сельсовета не знает. А в доме того бригадира, что строится, участковый инспектор ночует, к нему в селе привыкли, и все же огородами к хате пробирается... Хаблак оживился. — И нас никто тут не знает... — А и в самом деле, — решил Стефурак, — областных организаций навалом, и мы с тобой из областного, как это называется, отдела охраны природы? Или памятников старины? — Общества охотников... — Подходит: шатайся в селе и по горам сколько влезет. Никаких подозрений. Сейчас договоримся в райисполкоме, позвонят в сельсовет, нас там устроят... — Желательно поближе к дому того бригадира. Кстати, как он, надежен? — В райотделе ему доверяют. Соколивка, горное село, лежало по обеим сторонам шоссе, ведущего к районному центру Верховина и дальше в горы, где упиралось в центральную трассу, соединяющую Закарпатье с Ивано-Франковском. Поселился Хаблак со Стефураком в долине неподалеку от церкви, чуть ли не напротив нее строился бригадир. Приветливая хозяйка накормила их мамалыгой с бараниной и на ужин пообещала что-то сугубо гуцульское. До вечера еще было время, и Хаблак предложил подняться по склону горы, усеянной то тут, то там видневшимися хатами. Поднимались извилистыми горными тропинками. Казалось, дальше может вскарабкаться лишь горный козел, однако и там прилепились к горам хаты и даже гораздо выше: всюду жили люди... Наконец добрались до леса, где паслись, позванивая колокольчиками, коровы. Огляделись вокруг, и Хаблак почувствовал: большего простора и красоты не видел за всю свою жизнь. Сине-зеленые горы, воздух, напоенный запахами сена и горной воды, далекие полонины, хаты с блестящими, будто церковные купола, кровлями и уютный умиротворяющий перезвон колокольчиков. Стоял и думал: стоит сделать несколько быстрых шагов — и кажется, взлетишь над этим бескрайним простором — тело вроде бы стало невесомым. Хаблак поднял руки, но Стефурак вернул его на землю. — Ишь как поблескивает... — молвил, обведя рукою видневшиеся под горой хаты. — На сколько тысяч! — И сколько самолетов можно было бы из этого алюминия построить! — Хаблак почувствовал, что от его поэтического настроя не осталось и следа. — Нет, ты мне вот что скажи! — рассердился Стефурак. — Почему на этом алюминии спекулянты зарабатывают, а не государство? Ну поймаем мы нескольких мошенников, думаешь, прекратят алюминием дома крыть? Ничего подобного! Другие спекулянты найдутся, а где они этот алюминий возьмут? У государства, где же еще? Так не проще было бы кое-кому мозгой пошевелить и этот алюминий сюда бросить, а дивиденды в государственный карман положить? Хаблак решил, что в этих рассуждениях Стефурака есть доля истины, ведь и он думал приблизительно так же, но что мог поделать? Пожал плечами и стал спускаться с горы, уже не любуясь карпатскими пейзажами. Полночи они не спали, ожидая сигнала. Оказалось, напрасно — спекулянты так и не появились. Заснули уже после трех, а встали лишь в начале десятого, но еще не было десяти, как они уже выехали в Верховину. Шоссе — разбитый лесовозами асфальт — пролегло, как большинство горных дорог, вдоль русла речки. Хаблак не переставал ахать и охать, поражаясь красотой окружающего ландшафта. Стефурак лишь покровительственно усмехнулся, слушая эти возгласы, он-то знал, что за очередным поворотом дороги пейзаж, пожалуй, еще получше, а дальше, за Верховиной, когда начнется подъем к перевалу и где изящные карпатские ели нависают над самой дорогой или вдруг разбегутся, уступив место не менее живописным пастбищам, можно останавливаться чуть ли не на каждом километре, любуясь, не замечая бега времени, неповторимыми карпатскими просторами. А вот самым неожиданным образом «вписался» в пейзаж дед в черной фетровой шляпе с обвисшими полями и, невзирая на летнюю жару, в невероятно красочном киптаре, гонит двух баранов — почтительно снял шляпу и поклонился незнакомцам в машине, не потому что заискивал перед ними, он вообще никогда и ни перед кем не заискивал, просто привык уважать человека и радоваться общению с ним. Гостиница «Беркут» прижалась к асфальту дороги на самом перевале, отсюда начинались спуски — и на Закарпатье, и на Прикарпатье, а вокруг трехэтажного деревянного оригинальной архитектуры — под старину, но с элементами модерна — строения виднелись на горных склонах ели, наверно, в непогоду на них лежали тучи, но сейчас сияло солнце, и лишь одно маленькое облачко клубилось совсем по соседству. В вестибюле гостиницы стоял на задних лапах большой бурый медведь, чучело, разумеется, он скалил зубы и то ли приветливо улыбался постояльцам, то ли угрожал им, по крайней мере казался общительным — этот, возможно, последний карпатский медведь. Хаблак где-то читал, что таких зверей тут уже почти истребили. За гостиничной стойкой сидели две женщины, скучая в эти полуденные часы: ночные постояльцы уже уехали, а очередная волна посетителей ожидалась лишь вечером. Хаблак заметил, как стреляют любопытными взглядами в него и Стефурака, видно, не прочь завести какую-нибудь легкую беседу, но майор пресек их любопытство (или наоборот — значительно усилил его), показав удостоверение и фотографию Манжулы. Сказал: — В середине мая жил в вашей гостинице этот гражданин. Зовут его Михаил Никитович Манжула. Не припомните ли? Женщины оживленно переглянулись: милиция да еще и фотография их бывшего постояльца — это обещало если не приключение, то, по крайней мере, хоть мимолетное нарушение их однообразно протекающей жизни. Начали рассматривать снимок, нетерпеливо отбирая друг у друга. Старшая и более миловидная покачала головой и спросила у чернявой длинноносой: — Ты узнаешь этого Манжулу? Мне страшно интересно, но что-то не припоминаю... — Неужели забыла? Из двухкомнатного «люкса» на третьем этаже, да он еще носил нам мороженое из ресторана. — В зеленом пуловере. — Да. Помнишь, когда-то появился в белых джинсах? Ох и штучка, скажу я тебе! Такие только на ярмарке в Косове и встретишь. — Итак, девушки, вижу, вы вспомнили Манжулу. Теперь у меня к вам несколько вопросов, — перебил их Хаблак. — Пожалуйста, просим вас — Это сказала длинноносая. А миловидная не без игривости одернула вышитую блузку на груди и возразила: — Да что мы помним!.. Ведь в мае... — Ну как же, вспомнили все-таки, что жил в «люксе», даже в каких джинсах ходил. А теперь скажите: он один жил? — Один, — не раздумывая ответила чернявая. — И никто у него не ночевал? — А у нас не разрешается. — Это — женщинам, а товарищи к нему не приезжали? — И мужчинам не разрешено. — Бывают же исключения. — Конечно, бывают, — согласилась легко, — но мы у таких людей документы берем, у нас ведь строго... Есть указания, и мы не нарушаем. — Конечно, не нарушаете, — подхватил Хаблак, понимая, что другого ответа от дежурной не услышишь. — Не помните, кто заказывал номер Манжуле? — А зачем? Вам нужно — поселяйтесь. Без проблем... «Вот тебе и на, — подумал Хаблак, — и в Карпатах, как в Киеве... Тут, правда, «пожалуйста, извините», «просим вас», но также — «без проблем». — И долго жил у вас Манжула? — С неделю. — И часто у вас такие постояльцы останавливаются? — Нет, у нас переночуют и едут. Бывает, на день или два задержатся. — Что же делал Манжула? — Наверно, какие-то дела у него были. — Почему так считаете? — Да приезжали тут к нему. На машинах. — Знаете кто? — Откуда же? — Вы тут всех должны знать... — Из Ясеня мы, сюда ездим на работу. — И на каких машинах к Манжуле приезжали? — На грузовых. — Сами видели? — А как же? Мы тут все видим. — На лесовозах? — Нет, — ответила не колеблясь. — Однажды на «ЗИЛе», а в другой раз тоже на какой-то грузовой. С кузовом. Все совпадало, и у Хаблака уже почти не было вопросов. Но попробовал уточнить: — Днем приезжали? Женщины переглянулись, и теперь инициативу взяла на себя старшая: — Нет, под вечер. Это я точно помню, еще группа туристов прибыла и ужинали. А возвратился ночью, почти утром. — А номер машины не видели? — Видела, почему же нет? — Какой же? — Если бы знала, что милиция поинтересуется, записала бы. А так ни к чему... — Куда поехали? В Рахов? — Нет, туда, — махнула рукой направо. — К Ворохте. Хаблак подумал: из «Беркута» Манжула руководил операциями по продаже алюминия. Майор поговорил еще с барменом и официантками — бармен Манжулу знал, он помнил, что этот постоялец заходил к нему главным образом днем, по вечерам куда-то исчезал, лишь однажды появился с девушкой, вероятно, туристкой — сидели допоздна, и Манжула угощал довольно большую компанию. Собственно, эта информация не дала Хаблаку ничего нового, и они со Стефураком решили вернуться в Косов. В Косове Хаблака ожидал Коренчук. Точнее, он никого не ждал — успел связаться с местными обэхээсовцами, те подкинули ему несколько дел, и лейтенант буквально обложился ими — из-за стола выглядывала лишь макушка, поросшая рыжеватыми волосами. Увидев Хаблака, Коренчук вылез из своего укрытия и сказал без особого воодушевления: — Есть чем поморочить голову. Насколько я понял, хотите знать, откуда этот алюминий? — Точно. — Не знаю. Пока ни малейшей зацепки. — Вы-то уцепитесь. — Не переоценивайте мои скромные возможности. — Все же надеюсь. — Ну надеяться можете, — позволил Коренчук. На том и расстались. Хаблак со Стефураком отправились в Соколивку, а Коренчук остался в райотделе с нераскрытыми делами. В начале первого, когда Стефурак уже выключил телевизор и, учитывая опыт предыдущей ночи, начал стелить постель, в окно едва слышно постучали. Стефурак метнулся к дверям, а Хаблак потянулся за пиджаком, висевшим рядом на спинке стула. Неужели послышалось? Увидев в дверях взволнованное лицо дружинника Гната, сидевшего в засаде вместе с участковым инспектором, спросил нетерпеливо: — Привезли? — Да, прошу вас. Лейтенант Семенюк задержал его. — Что, только один? — Шофер — и все. «ЗИЛ», нагруженный листовым алюминием, стоял во дворе бригадира. В комнате возле печки сидел, комкая кепку, человек в яловых сапогах, ватнике, накинутом на помятую, неопределенного цвета, расстегнутую рубашку. Увидев, как вытянулся лейтенант перед двумя незнакомцами в гражданском, он и сам хотел подняться, но Хаблак остановил его решительным жестом. Спросил: — Фамилия? — Волянюк Александр Петрович. Хаблак смерил его цепким взглядом: вот их дорожки и скрестились. Протянул руку. — Документы? — У него... — кивнул Волянюк на лейтенанта. Хаблак взял права, путевой лист. Как будто все правильно, документы в ажуре, передал их Стефураку, сел напротив Волянюка, попросил: — А теперь, Александр Петрович, расскажите, где взяли алюминий? Волянюк нахмурился, гневно блеснул глазами на участкового инспектора. — Купил, — ответил не очень уверенно. — Купил, хотел себе крышу перекрыть. Но передумал. А добру что, пропадать? — И у кого же купили? — А так, привезли какие-то люди. Спрашивают, нужно ли?.. Вот и купил... — Значит, не знаете у кого? — Не знаю. Хаблак усмехнулся. — Я бы на вашем месте был бы откровеннее. Ведь срок вы, Александр Петрович, уже заработали. — За что? — За спекуляцию листовым алюминием. — Продал свое — разве спекуляция? — Давайте не играть в прятки. Во-первых, вы сейчас в отпуске, путевой лист подделан и машина не ваша. Согласны? Волянюк, не отвечая, хлопал глазами. А Хаблак продолжал: — Все это очень легко установить. Мы позвоним в автоинспекцию, узнаем — чья машина, кто именно ездит на ней и как она попала к вам... — Не надо... — чуть ли не простонал Волянюк. — И я считаю: не надо. Но отпирательство только увеличит вашу вину. Итак, чья машина? — Колина. Николая Дуфанца. — Где работает? — В строительно-монтажном управлении. В Коломые. — А почему вы, а не Дуфанец, привезли алюминий? — По очереди мы. Он вчера возил. — Где вы держите алюминиевый лист? — У Николая в сарае. — Адрес? — Коломыя, Травяная, семь. — А откуда у него? — Так вагон же пришел. Мы разгрузили и к Николаю перевезли. Хаблак показал Волянюку фотографию Манжулы. — Знаете его? Шофер тяжело вздохнул. — Знаю. Михаил Никитович Манжула. Мы с ним алюминий зимой возили. — А теперь с кем? Покачал головой. — Теперь я с Дуфанцом в паре. — Где взял лист Дуфанец? — Я не расспрашивал. — Но вагон же пригнал не Дуфанец. — Наверно, нет. — Кто же? Волянюк только пожал плечами. — У Дуфанца спросите. — Спросим. А откуда вагон? — Не знаю. — Никого вы не видели, ничего не знаете... Несолидно выходит, уважаемый. Мы с вами договорились, а вы снова в кусты... Волянюк покрутил головой, будто попытался высвободить шею из тугого воротника. — Считаете, люди, которые алюминий привозят, не прячутся? Они и от нас таятся. Мое дело телячье: привез металл, свои три сотни получил — и все. Молчи и радуйся, что заработал. — Да, заработали... — Вот заработал уже... — безнадежно махнул рукой. — Срок заработал, не иначе. Сколько? — Я же говорю: от вас зависит. С Манжулой как работали? — Так же. Алюминий вагоном в Коломыю приходил, возили к Дуфанцу и ко мне в Косов, а потом уже покупателей находили. — И Манжула вам не говорил, откуда металл? — Не интересовался я. В этом деле чем меньше знаешь, тем лучше. — Выходит, Манжула был главным? — Говорил, есть еще какой-то Президент. Тот будто бы всем заправляет. — Президент? — Хаблак сразу понял, что это прозвище. — И где же тот Президент обретается? Ведь не в Соединенных Штатах? — Я так понял — в Киеве. — Почему? — Ведь и Манжула из Киева. — Сам говорил? — Не скрывал. — А этот Президент сейчас не в Коломые? — Все может быть. Хаблак забеспокоился: а если и в самом деле сейчас у Дуфанца спит, отдыхает после трудов праведных, нежится в мягкой постели, ожидая, что Волянюк привезет ему три тысячи, сам Президент?.. Подумал немного и показал шоферу фоторобот Бублика, привезенный вчера Коренчуком. — А с этим человеком случайно не встречались? — спросил. Волянюк потянулся к фотографии жадно, всматривался долго и напряженно. Возвратил с сожалением и сказал, будто жаловался: — Нет, не знаю и не встречал. Пока Хаблак допрашивал шофера, Стефурак успел организовать понятых. В их присутствии составили акт — машину с алюминиевым листом отправили в Косов, и Хаблак предложил Волянюку: — Хотите нам помочь? — Рад стараться, но чем могу? — угодливо усмехнулся. — Поедете с нами в Коломыю. Поговорим с Дуфанцом. Думаю, увидев вас, не станет запираться. — Поеду. — Волянюк решительно надвинул на лоб скомканную кепку. — И скажу Николаю — чего уж отказываться?.. Манжула умел выбирать агентов по сбыту алюминиевого листа: дом Дуфанца стоял на самом выезде из города, отдельно от других, по соседству то ли база какая-то, то ли склад за высоким забором — к машинам тут привыкли и никто не обращал внимания на то, что во двор к Дуфанцу заворачивали груженые автомобили. Тем более Дуфанец работал на строительстве, ежедневно приезжал на грузовике обедать, да и вообще машина часто оставалась на ночь у него. Обо всем этом рассказал Волянюк, пока добирались до Коломыи. Впереди Стефурак с Хаблаком, на заднем сиденье Волянюк с лейтенантом. — А в Косове как? — поинтересовался Стефурак. — Листовой алюминий не иголка, а у вас была фактически перевалочная база. — Соседи считали, что я сарай под склад сдаю. Лесоторговой базе. Я же тот слух и пустил. — А участковый инспектор? Волянюк презрительно хмыкнул. — Он у меня поллитру пил. В первый раз я пригласил, потом сам повадился. Захочет выпить на дармовщинку — ко мне. — Алюминий видел? — Почему ж нет? — И не поинтересовался? — Спрашивал. Я ему то же самое: лесоскладовский, мол. Хаблак почувствовал, как у него запылали от гнева щеки. Под носом у инспектора творились махинации, и не один месяц, а тот — за поллитра... Засопел тяжело, Стефурак понял его и, желая успокоить, положил руку на плечо. В Коломыю приехали, когда начало светать. Усадьба Дуфанца — за высоким, окрашенным зеленой масляной краской забором, а напротив действительно склад. Калитка заперта, но Волянюк подергал за какую-то хитрую проволоку, видно, звонок в доме разбудил хозяина — залаял пес, но сразу же умолк, калитка открылась и выглянул заспанный человек в майке, попятился, увидев Волянюка в сопровождении незнакомцев, небось хотел захлопнуть калитку перед носом, но Стефурак не дал. Оттер Дуфанца плечом и проскользнул во двор. — Милиция! — сказал. — Спокойно, Дуфанец, без эксцессов, я же сказал: мы из милиции. Хозяин глянул на Волянюка с укором: — Поймался, дурачок? И ко мне привел? — А к кому же? Машина твоя, никуда не денешься. — Моя, — согласился Дуфанец как-то покорно. — Выходит, доигрались... Так прошу... — Отступил от калитки. — Делайте свое дело. Хаблак быстро огляделся: усадьба сплошь обнесена забором, удирать некуда. Спросил, успокоившись: — Кто-нибудь из посторонних есть? — Нет, только сын и жена. — А этот, — щелкнул пальцами Хаблак, — ну который теперь вместо Манжулы? — Степан Викентьевич? — Да. — Так он же не у меня. — А где? — У меня ему неудобно. — В гостинице? — Нет, тут недалеко, у Коржа. Через три дома за углом. — Быстрее, — не очень вежливо подтолкнул Дуфанца Хаблак, — быстрее к машине, покажете, где живет Корж. Они оставили Волянюка с лейтенантом во дворе, приказав не выпускать никого из дома, и помчались к дому Коржа. У того калитка оказалась незапертой, Дуфанец поднялся на крыльцо, постучал громко и назвался. Из дома откликнулись, дверь открыла женщина. — А Фома? — спросил Дуфанец. — Где он? — Еще вечером уехал. — Где Степан Викентьевич? — Так вместе же и поехали. — Куда? — вмешался Хаблак. — Разве я знаю! Сели в «Москвич» и поехали. — Когда? — Я же говорю: вечером. — Точнее? — Около одиннадцати. У Хаблака мелькнула догадка. — Когда выехал Волянюк в Косов? — спросил у Дуфанца. — Также около одиннадцати. — Считаешь, Степан Викентьевич следил за Волянюком? — вмешался Стефурак. — Наверняка. Телефон есть? — обернулся к хозяйке. — Прошу, — уступила дорогу та. Хаблак пропустил вперед Дуфанца со Стефураком, незаметно сжал старшему лейтенанту локоть, и тот лишь кивнул, подтвердив, что сигнал принят. Пока Хаблак связывался с дежурным по отделению милиции и вызывал оперативную группу, Стефурак как будто из простого любопытства заглянул в комнаты. В одной спал ребенок, в гостиной на диване было постелено, но, видно, никто не ложился: одеяло и подушка не смяты. Значит, хозяйка не солгала и Корж действительно отправился со своим постояльцем наблюдать за машиной с алюминием. А если вот-вот возвратятся и увидят на улице возле дома автомобиль? Вероятно, этот Степан Викентьевич стреляный воробей, если уж не спускал глаз с Волянюка, и автомобиль возле ворот Коржа не останется без его внимания. — Я останусь тут, — предложил Стефурак Хаблаку. — А вы давайте к Дуфанцу — он отгонит машину. Хаблак кивнул соглашаясь, в конце концов, другого выхода не было. Стефурак проводил их до калитки, отдал ключ от машины, наблюдая, как Дуфанец усаживается за руль газика, и как раз в это время из-за угла вынырнул синий «Москвич». Стефурак сразу понял: машина Коржа. Увидел, как Дуфанец выпрыгнул из газика, как шагнул к «Москвичу», затормозившему рядом, и предостерегающе поднял руку. Боялся, что Дуфанец предупредит Коржа, но тот стоял молча, а из «Москвича» вышел человек в красной нейлоновой куртке. — Товарищ Корж? — спросил Хаблак. Человек в красной куртке подал ему руку и назвался: — Корж Василий, а вы, вижу, меня ждете? — Где Степан Викентьевич? — не утерпел Стефурак. — В Ивано-Франковске. — Как? — Попросил отвезти, я и отвез. Хаблак показал удостоверение и отвел Коржа в сторону, чтобы Дуфанец не слышал их разговора. Спросил: — Когда выехали? — Вчера, приблизительно в одиннадцать. — Куда? — В Косов. Ну немного дальше. Там есть село Соколивка, туда Степан Викентьевич приказал. — И там стояли? — Да, за церковью остановились, и он вышел. — Долго стояли? — С час. Он к какому-то знакомому ходил. — Да, вероятно, к знакомому... — подтвердил Хаблак, представив, как все происходило в действительности. Зная, кому завезут алюминиевый лист, Степан Викентьевич решил проконтролировать ход операции, — конечно, он увидел, что Волянюка задержали, и дал деру. Спросил у Коржа: — А потом как? — Степан Викентьевич возвратился и говорит: отвезешь в область. А мне что? Он платит — я везу. — Сколько же? — За четвертак договорились в Соколивку, а в область — он еще красненькую накинул. — Но ведь у вас остались его вещи... — Чемоданчик с бельем. Сказал, надо срочно в Ивано-Франковск, а за вещами потом приедет. Или сообщит, куда отослать. — А вы хоть фамилию Степана Викентьевича знаете? — Нет, только имя и отчество. Его ко мне Дуфанец привез: с гостиницей в Коломые трудно, вот и попросил... А я дом перестраивать собираюсь, деньги нужны. Почему и не заработать? — Где в Ивано-Франковске оставили Степана Викентьевича? — В центре. Думаю, в гостиницу подался. — Думаете или видели? — А чего мне глазеть: развернулся — и ходу. Мне сегодня на работу, так хоть час посплю. — Спите, — отпустил его Хаблак и подал знак Стефураку, чтобы заводил машину. В усадьбе Дуфанца уже действовала оперативная группа. Возле открытого сарая, где лежал еще не проданный алюминий, стояли понятые. Дуфанец, стараясь не смотреть на них, прошел к дому. Хаблак придержал Стефурака. — Степан Викентьевич, кажется, ту-ту... — сделал выразительный жест. — Я так и догадался. — Когда первый самолет на Киев? Стефурак посмотрел на часы. — Уже вылетел. Но ведь в аэропорту регистрируют фамилию. Впрочем, если он не назвался тут, мог и самолетом. — Мог, — согласился Хаблак. — Напуган он: увидел, что Волянюка задержали, и решил как можно скорее удрать. Естественное стремление преступников. — Но и мог догадаться, что мы проверим список пассажиров. — Считаешь его чересчур умным, — усмехнулся Хаблак. — А я что-то очень умных в таких компаниях не встречал. Разумные предвидели бы свою участь, знали бы, что все равно поймаем. — Задумался на мгновение и продолжал: — Мне теперь его фамилия не очень и нужна. Если действительно Степаном Викентьевичем называется, я его в Киеве быстро найду. Владелец «Волги», имя и отчество, кличка Бублик, фоторобот... Что еще нужно? — В Ивано-Франковск? — Я только допрошу Дуфанца и вызову сюда Коренчука. Вагоны с алюминием приходили в Коломыю, значит, должен докопаться, откуда шли. — Резонно. Дуфанец сидел в углу, наблюдая за оперативниками, занятыми своей работой. Зажал руки между колен, взгляд его погас, может, и не видел, что делается вокруг. — Скажите, Дуфанец, — спросил Хаблак, — как вы познакомились со Степаном Викентьевичем? Поднял пустые и на удивление прозрачные глаза. — А приехал... Говорит, привет от Манжулы, заболел Михаил Никитович, ну дело есть дело, и оно не терпит... — Фамилию его знаете? — Не назвался. — Вы не спрашивали? — Я так понимаю, — ответил Дуфанец рассудительно, — если человек не назвался, зачем расспрашивать? — Но ведь Манжула назвался. — Это его дело. Михаил Никитович в гостиницах жил, а этот не захотел. У каждого свой характер, выходит. — И как вы работали со Степаном Викентьевичем? — Как и раньше с Манжулой. Сотня за сарай, в сутки, значит. И по три сотни за каждого покупателя. Я скрывать не буду: что было, то было. — По три сотни за рейс — ничего себе!.. — Что и говорить: рисковали недаром. — А Степан Викентьевич? — Считайте сами. Три тысячи кровля, ну иногда немного меньше... — Солидно. — Ведь не только же ему... — Кому еще? — Не знаю. Думаю, один не справится. Хаблак показал Дуфанцу фоторобот Бублика: — Узнаете? — Похож. — На кого? — Как на кого? На Степана Викентьевича. Почти как в жизни. — Почему почти? Дуфанец пожал плечами: — Будто рисовали его. Но какой-то неживой. Что ж, глаз у него был наблюдательный, и Хаблак спросил на всякий случай, мало веря в удачу: — Откуда Степан Викентьевич? Дуфанец ответил сразу и без колебаний: — Из Киева, откуда ж еще? — Сам говорил? — Нет, но я не сомневаюсь. — Почему? — А он как-то, ну, проговорился. В первый вечер выпили за приезд, он и похвалился, что с самим Президентом коньяк пил на днепровском берегу. — Каким Президентом? — Это прозвище называлось сегодня дважды — значит, не могло быть случайным. — Я так понял: главным их. — На днепровском берегу... Это может быть и в Запорожье, и в Днепропетровске. — Но ведь прилетел киевским самолетом. — Неужели билет видели? — Да нет, сам сказал. Вылетел из Киева вечером, чтобы вагон тут на следующий день встретить. В дверях появился Стефурак. Сообщил, что прибыл начальник местной милиции. Это свидетельствовало, что делу об алюминиевом листе тут придают первостепенное значение. Значит, решил Хаблак, им со Стефураком в Коломые больше делать нечего (еще и Коренчук выехал из Косова), и нужно немедленно возвращаться в Ивано-Франковск. В аэропорту получили справку: двумя утренними рейсами в Киев вылетели трое пассажиров с инициалами С. В.: Гарайда С. В., Галинский С. В., Викторов С. В. Еще был Мирошниченко С. В. — он вылетел во Львов, а в Черновцы — Фостяк С. В. Всех этих пассажиров, особенно первых трех, Хаблак взял на заметку и следующим рейсом вылетел в Киев.14
Гудзий дождался, пока схлынула волна утренних посетителей и в кабинетах воцарилось предобеденное затишье. Проскользнул к Татарову, воспользовавшись отсутствием секретарши, хотя, собственно, это не имело никакого значения — мог заходить к начальству хоть десять раз на дню, не вызывая ни подозрений, ни всяческих предположений сотрудников. Просто сработала, вероятно, чрезмерная настороженность преступника, боящегося собственной тени. Татаров что-то писал, поднял взгляд на Леонида Павловича, посмотрел как на пустое место, не обрадовался и не встревожился, так он всегда встречал Гудзия, без каких-либо эмоций, и это больше всего сердило и раздражало Леонида Павловича — как-никак, а связаны одной веревочкой, и мог хотя бы заставить себя быть приветливее. Гаврила Климентиевич выпрямился на стуле, оторвавшись от бумаг, и сидел молча, наблюдая, как приближается к столу Гудзий. Думал о том, что этот всегда улыбчивый, розовощекий и приветливый молодой человек глубоко отвратителен ему — его бы воля, выгнал и еще бы дал коленом под зад так, чтоб вылетел не только из главка, но и из Киева, в провинцию: не видеть бы и не слышать! И все же Татаров вынудил себя скривить губы в едва заметной то ли гримасе, то ли усмешке и кивнул, отвечая на приветствие. А Гудзий, подходя все ближе, видел только седой ежик коротко подстриженных волос и удлиненное сморщенное лицо — точно старый сухарь и педант, ортодокс проклятый, выжатый лимон без сока и запаха. Ну и черт с тобой, знаем, как трудно было изобразить на лице жалкое подобие улыбки, однако оставь свою злость и ненависть при себе, я к тебе не просить пришел, а по делу, и хочешь не хочешь, а придется разговаривать. — Прошу садиться, — молвил Татаров сухо и официально, будто зашел к нему обычный подчиненный и они сейчас займутся будничными текущими делами. Но Гудзий никак не среагировал ни на сухость, ни на явную неприязнь, сел не так, как подобает подчиненному — сдержанно и деловито, а оперся локтями на стол заместителя начальника главка, фамильярно и нагло заглядывая ему в глаза. Татаров едва сдержался, чтоб не одернуть нахала. Подумал не без горечи: вот дожил и до этого, вероятно, надо было улыбнуться в ответ так же фамильярно или пошутить как-то, чтоб разрядить обстановку, но не мог — сидел, нахохлившись, и смотрел отчужденно. И ненавидел сам себя. Вспомнил, как все началось. Тогда пришел к нему на прием заместитель начальника отдела снабжения одесского завода, он и фамилии его сначала не разобрал толком, какой-то Мажуга или Мужуга, потом фамилия Манжула преследовала его и во сне, а тогда посмотрел на пижонистого мужчину и сразу же решил отказать ему, чего бы ни попросил, ведь снабженцы всегда клянчат, а этот к тому же набрался нахальства и с первых же слов предложил ему, Татарову, выделить вагон дефицитного алюминиевого листа заводу, о котором он, заместитель начальника главка, даже и не слышал. Татаров тогда изучающе глянул на одесского пижона, сообразив, что он предлагает ему сделку. Рука Татарова потянулась к кнопке, чтоб вызвать секретаршу, — он не разволновался и не разгневался, просто воспринял гнусного пройдоху как назойливое насекомое, которое должен немедленно раздавить, думал, тот испугается или хотя бы смутится, но снабженец смотрел на него спокойно, даже свысока и вдруг сказал такое, что он, Татаров, невольно отдернул руку от кнопки. Гаврила Климентиевич и сейчас помнил те слова. «Подождите, — остановил его Манжула. — Я не прошу вас сделать это бесплатно, вы, Гаврила Климентиевич, за одну только вашу подпись получите «Ладу». К тому же завтра. И никто и никогда не узнает об этом». Он поднялся и, не сводя с Татарова глаз, попятился к дверям, остановился возле них и сказал приглушенным голосом: «Я позвоню вам завтра утром. Понимаю, что именно думаете сейчас обо мне, но учтите: если даже сообщите куда следует о моем предложении, это вам ничего не даст. Никто не сможет доказать, что я просил вас выделить тому заводу алюминиевый лист. А «Ладу» получите хоть завтра, все в ваших руках». Он знал, что делает, проклятый одесский пройдоха: «Ладой» разбил и так надтреснутое сердце Татарова. «Лада» была, как говорят, хрустальной и пока что неосуществимой мечтой Гаврилы Климентиевича, стоило снабженцу предложить деньги, даже большие деньги, на которые Татаров мог бы немедленно купить машину, и он выставил бы его из кабинета, позвал милицию или кого-то из общественности, поднял бы скандал, но само слово «Лада» ошеломило Татарова. Он, еще видя в дверях Манжулу, представил себе неимоверно роскошную, белую, блестящую, отполированную машину, его собственную машину, только снящуюся ему в розовых снах. И вдруг она становилась реальностью! Гаврила Климентиевич шел к своей должности в главке долго и трудно. Сначала ему повезло: возвратился с фронта и сразу без особых сложностей поступил в политехнический институт. Науку усваивал туго, брал напористостью, старательностью. После окончания института попал на огромный, наполовину восстановленный завод, жил в общежитии, мыкался, как и все холостяки, по столовым и забегаловкам, вскоре познакомился с дочерью главного инженера. Клара была не очень красивой, к тому же вышла из девичьего возраста и несколько утратила амбициозность, приметила начинающего инженера, посоветовалась с отцом, и спустя некоторое время Татаров стал ее мужем. Конечно, это повлияло на служебное положение Гаврилы Климентиевича. Через два года его выдвинули в начальники цеха, а еще через год открылась вакансия директора на одном из смежных предприятий, и Татаров получил эту должность. Правда, вскоре тесть умер, оставив молодого выдвиженца на произвол судьбы, но Гаврила Климентиевич уже попал в номенклатуру и смог воспользоваться этим. Звезд с неба не хватал, но дело знал основательно, отличался рассудительностью, научился разными приемами умело маскировать свое тугомыслие, например, оттягивая принятие необходимого решения, ссылался на потребность еще раз посоветоваться, проконсультироваться, решал кардинальные вопросы уже после того, когда точно выяснил, какого мнения придерживаются наверху. В общем, занял беспроигрышную позицию. Клара родила двоих детей, они требовали постоянной заботы и внимания, потому и оставила свою малозаметную и неденежную работу, тем более что зарплаты Татарова хватало, а у Клары сбереглись отцовские знакомства, которые она использовала нечасто, но с умом. Так и дорос Гаврила Климентиевич в пятьдесят лет до заместителя начальника главка, думал, поднимется еще на ступеньку, но просчитался. Когда предыдущий его начальник ушел на пенсию, Гаврила Климентиевич не без приятности приготовился поменять кабинет, он уже пять лет ходил в заместителях и столько же оставалось до пенсии, к тому же был у него на эту тему мимолетный разговор с министром, правда, министр не сказал ничего определенного, но и не отказал. И вдруг!.. Татаров ничем не выказал своего раздражения и неудовольствия, даже возмущения, овладевшего им, когда узнал, кого назначили начальником. Но дома вечером дал выход эмоциям. Налил полный стакан водки и выпил не закусывая, под удивленным и взволнованным взглядом Клары. «Вот так и служи, — заявил с горечью. — Знаешь, кого на главк поставили? Кононенко!..» «Не может быть! — всплеснула руками. — Сашку Кононенко?» Дело в том, что этот «Сашка», по глубокому убеждению супругов, был обычным молокососом и выскочкой, ему почему-то не нравились укоренившиеся в главке традиционные порядки. Где только не выступал: на профсоюзных собраниях, в парткоме, на совещаниях в министерстве... Гаврила Климентиевич не сомневался на его счет: типичный горлопан, а выходит, наверху прислушались к нему. А если прислушались, значит, не считаются с ним, старым, опытным и испытанным руководителем. А если не считаются?.. Татаров понимал, это — падение. Точнее, может, и не падение, но и перспектив у него никаких. Самое большее, на что может рассчитывать, — дотянуть до пенсии. А потом — персоналка, ценный подарок, речи, насыщенные теплыми словами о его вкладе и бесценном опыте, и вереница грустных дней ничем не приметного пенсионера. На следующий день Татаров первый приветствовал нового начальника главка. Без лишних эмоций, сдержанно, однако и не без почтительности. Тот даже удивился и не удержался от вопроса: «Не трудно ли вам будет работать теперь, Гаврила Климентиевич?» Татаров выдержал его внимательно-изучающий взгляд. «Нет, — ответил, — я старая и закаленная кадра, — он так и сказал полушутя «кадра», — и надеюсь, мы сработаемся». А что ему оставалось? Уйти из главка? Куда? На какую зарплату? Где ему станут платить такие деньги? И кто знает, что у Татарова вот уже сколько лет не было больше трояка на так называемые карманные расходы? Да, Клара и дети забирали все деньги. Все без остатка. Жена вела строгий учет доходов мужа — ей всегда не хватало денег, особенно в последние годы, когда подросли и пошли в вузы дочка с сыном,когда кумир семьи — Томочка могла носить только американские джинсы, тянувшие чуть ли не на ползарплаты Гаврилы Климентиевича. С точки зрения Татарова, он сработался с новым начальником главка. Хотя и было иногда трудно, выполнял все его указания, не протестовал против нововведений, часто не соглашаясь с ними, лишь тихонько тормозил что мог. Так и тянул лямку от понедельника до пятницы. Настоящая жизнь начиналась лишь в субботу, на садовом участке, куда жена и дети наезжали в основном летом: полакомиться ягодами и фруктами. Татаров сам копал землю, сажал овощи, обрезал деревья, но выполнял эти садово-огородные работы без особого энтузиазма, истинное же удовлетворение получал по вечерам, уединившись в маленькой пристройке к даче, где стоял сверлильный станок, а по стенам развешаны инструменты — десятки различных ключей, пассатижи, сверла, клещи, ножницы но металлу, напильники — все необходимое для небольшой слесарной мастерской. И ничто не висело без дела. В субботние и воскресные вечера Гаврила Климентиевич мастерил различные поделки. Из двух старых велосипедных колес сделал удобное приспособление для наматывания поливного шланга, к бачку на чердаке приделал трубку и теперь точно знал уровень воды в нем, сконструировал миниатюрный лифт, которым поднимал из подвала разные банки и склянки... Единственное, чего не хватало Татарову, — машины. Обычного «Москвича» или «Запорожца». Он не гордый, что из того, что ездит на служебной «Волге», однако служебная — не своя, ее бы он довел до наивысшего совершенства. Ведь никто не знает, что руководство главком для него — дело побочное, что он, если честно, слесарь, может быть, гениальный слесарь, и, вероятно, на этом пути его жизненные успехи были бы заметнее, по крайней мере, удовлетворения имел бы больше, чем от своей высокой должности. О «Ладе» Гаврила Климентиевич даже не мечтал. Поэтому, когда этот мерзкий тип предложил... Рука Татарова остановилась, не дотянувшись до кнопки, чтоб вызвать секретаршу. Весь следующий день нетерпеливо и с тревогой он снимал телефонную трубку и, наконец услышав голос Манжулы и вопрос: «Решили?» — ответил, ненавидя и презирая себя: «Да. Приезжайте». Но Манжула на такую удочку не попался. «Зачем? — возразил. — Зачем мозолить глаза вашей секретарше и сотрудникам? Во время обеденного перерыва я жду вас в парке напротив автодорожного института». Он сидел на скамейке, издали улыбаясь Татарову. Улыбался гадко, по-заговорщицки, но поднялся вежливо, даже почтительно. Постучал пальцами по новенькому черному кожаному «дипломату». «Тут ровно на шестую модель, — сказал и поставил «дипломат» между собою и Гаврилой Климентиевичем. — Надеюсь, завтра вы подпишете нужные бумаги. Их подготовит Гудзий». «Что? — не поверил Татаров. — Гудзий? Леонид Павлович? Он с вами? Но ведь я считал: никто не будет знать...» «Леонид Павлович — свой человек, и ему можно доверять, — сказал Манжула уверенно, будто Татаров уже стал его соучастником. — Ваша подпись многое решает, и мы ценим это... — дотронулся до «дипломата». — Но кто-то же должен подготовить бумаги для подписи. Вам негоже давать кому-либо указания об этом». Он был прав — Татаров сразу понял: действительно, его распоряжение отправить вагон алюминиевого листа какому-то маленькому заводу могло вызвать удивление подчиненных. Выходит, этот прохвост — человек с головой, но крайней мере, у него хватило здравого смысла как-то подстраховать его, Татарова. Гавриле Климентиевичу это понравилось, и он уже без колебаний положил «дипломат» себе на колени... Но Гудзий... Вечно улыбчивый, услужливый, выступает чуть ли не на всех собраниях, критикует и наставляет, даже требует, а на деле получается... Татарову стало неприятно, будто почувствовал противный запах или дотронулся до чего-то скользкого. Лишь кивнул на прощание Манжуле и направился к троллейбусной остановке. Держал «дипломат» крепко, даже не веря, что все так произошло — быстро и просто. Проехав две остановки, вышел, нашел свободную скамью в укромной аллейке и дрожащими пальцами открыл «дипломат». Девять пачек по тысяче рублей в каждой. Купюрами по двадцать пять рублей. И еще две сотенные бумажки. Девять тысяч двести рублей — ровно на шестую модель «Жигулей». Гаврила Климентиевич щелкнул замками «дипломата». Теперь у него будет «Лада», когда только захочет. Даже в будущем месяце. Ему уже предлагали машину, но отказался. Что ж, будем считать этот вопрос решенным. Но как объяснить покупку машины Кларе и детям? Ведь они знают все доходы — считают каждый его рубль... Выигрыш? Несолидно и подозрительно. По крайней мере, у Клары это не пройдет. Потребует, чтобы показал облигацию, а где ее взять? Признаться, как на самом деле получил деньги? Только одна мысль об этом привела Гаврилу Климентиевича в ужас. Нет и еще раз нет. Может, Клара и отнеслась бы к этому спокойно, может, даже с удовольствием взяла бы деньги, наверно, с удовольствием, но это исключается... Да, он ни за что не скажет им. Ведь всю жизнь кичился своими добродетелями, всегда громко и категорически осуждал любые проявления нечестности, мошенничества. В глазах жены и детей должен остаться незапятнанным. Однако что же делать? Татаров посидел еще немного, чувствуя, как прилипают потные ладони к «дипломату». Наконец принял решение. Доехал троллейбусом до ближайшей сберегательной кассы и там положил деньги на предъявителя. Лишь погодя немного успокоился — все время не покидало ощущение, что сейчас к нему подойдут, отберут «дипломат» и спросят, откуда деньги. Но ведь теперь их не было, они не обременяли, маленькая серая книжечка казалась примитивной и несолидной, ну кто может поверить, что она эквивалентна белой, блестящей, с горьковатым заводским запахом синтетики «Ладе»? Гаврила Климентиевич получил «Ладу» и в самом деле через месяц. Подогнал машину к дому и за ужином сообщил Кларе: «Теперь у нас есть машина...» — сказал так, будто купил в хозяйственном магазине эмалированную кастрюлю. «Машина? — ни на секунду не поверила жена. — Какая?» «Лада». «Ты что, бредишь?» Подошел к окну, отдернул занавеску. «Можешь полюбоваться». Стала рядом и действительно увидела под окнами белую машину. «Откуда?» Уже поверила, но чуть не потеряла сознание от удивления. «Не хотел тебе говорить... — объяснил Гаврила Климентиевич с притворным равнодушием. — Уже семь лет я откладываю деньги. Ежемесячно по сто рублей». «Как так?» «А вот так... По сотне. Различные премиальные, ежеквартальные надбавки и тому подобное. Набегало свыше тысячи в год». Наконец до Клары дошло. «Ты скрывал от меня деньги? — воскликнула с отчаянием. — Когда мы считаем каждый рубль! Когда наши дети ходят раздетые!..» «Ничего себе раздетые — в американских джинсах!» Однако Клара не восприняла его иронии. «А я не могу купить себе пристойное платье! — Теперь ее лицо пылало неподдельным гневом. — В это время он прячет ежемесячно по сто рублей ради какой-то машины!» «Не какой-то, а «Лады»! Кстати, в ней будешь ездить и ты...» Кровь отлила от Клариного лица. Пожалуй, поняла, что автомобиль — тоже неплохо и, в конце концов, это вклад в семейное благосостояние, но все еще не могла простить мужу самоуправства. Даже мысль о том, что он мог принять самостоятельное решение, была невероятной, означала чуть ли не конец света. Приказала Гавриле Климентиевичу: «Продашь! Я слышала, за «Ладу» платят бешеные деньги». «Э-э, нет, — ответил твердо. — Хочешь, чтоб меня вышвырнули с работы? Как спекулянта?» Такая перспектива, конечно, не устраивала Клару. Гаврила Климентиевич понял, что победил, и немедленно воспользовался этим. Взял жену за руку и потянул к дверям. «Пойдем, хоть посмотришь...» — предложил. Его расчет оказался правильным. Опустившись на удобное переднее сиденье, Клара сразу размякла, может, представила, как выходит из «Лады» вместе с детьми где-то возле моря в Крыму, глаза у нее потеплели, даже похлопала ладонью мужа по щеке. «Хорошо, — сказала примирительно, — может, ты и правильно поступил. Но, — покачала указательным пальцем под самым его носом, — чтоб в последний раз. Все деньги домой. До копеечки!» «Кое-что придется вложить в машину, — попытался хоть немного отбиться Татаров. — Автообслуживание. Иначе потеряем гарантию». «Увидим...» — ответила уклончиво жена. На том и сошлись. Дети восприняли приобретение машины совсем по-иному. Володя обошел «Ладу», похлопал дверями и, усевшись на сиденье водителя, покрутил руль. «Тачка законная... — выразил он свое восхищение. — Можно ездить...» А Томочка, пританцовывая перед капотом, чмокнула отца в щеку: «Ты, пап, наилучший в мире, — прошептала умильно. — Теперь и мы как нормальные люди...» Через несколько дней Володя, улучив момент, когда по телевизору закончили демонстрировать фильм, а программа «Время» еще не началась, подмигнул сестре и сказал, обращаясь главным образом к матери: «Товарищи родители, нужно двести рэ... Желательно завтра». Клара пошевелилась на диване. «Зачем?» — спросила она. «Один деятель устроит мне права. По-быстрому». «Автомобильные? — уточнил Гаврила Климентиевич. — Для чего это?» «Мы с Томой в Крым подадимся», — ответил сын, будто этот вопрос уже обсуждался, все решено и дело только за деньгами. С Томой он и в самом деле договорился. Согласились на том, что он возьмет Соню, однокурсницу, классная девушка, у него с ней давно, как говорится, свободная любовь. А Томка тоже прихватит мальчика... Гаврила Климентиевич ответил кратко и твердо: «Нет». «Хочешь сказать, что не дашь нам машину?» — удивился Володя. «Не дам». «Почему?» «Потому что она мне слишком дорого стоила». «Это ты серьезно?» «Не может быть серьезнее». Клара лениво потянулась на диване. «Дети просят... — сказала мягко. — Неужели ты можешь отказать своим детям?» «Машину не дам», — повторил Татаров упрямо. Дочь села возле него на поручень кресла. Потерлась о его небритую щеку. «Ну, пап, — заканючила, — неужели ты не любишь свою Тому?» Прикосновение к отцовской колючей щеке вызывало отвращение, а тут еще упирается этот старый черт, и как паршиво все складывается: уже предупредила Олега, тот раззвонит всем знакомым... «Нет», — сказал Гаврила Климентиевич таким тоном, что все поняли: он принял окончательное решение. Дочка надула губы и удалилась в свою комнату, сын ушел из дома, а Клара, воспользовавшись их отсутствием, спросила: «Ну зачем ты так?» «Машину не дам!» Татаров не стал даже объяснять свою позицию. И действительно, никогда никто не садился за руль его «Лады» — всегда чистой, отполированной, будто вылизанной. С того дня прошло уже немало времени, и Татаров подписал не одну бумагу, подготовленную Гудзием. Немного привык, и совесть уже не мучила его, держал сберегательную книжку в тайнике, в гараже на даче, до пенсии оставалось все меньше — собирал деньги, мечтая о солидно обеспеченной старости, и уже не боялся грядущей неизбежности — наоборот, с нетерпением ожидал дня, когда его с почестями отправят на заслуженный отдых — вероятно, тогда наконец избавится от постоянного страха и будет спать спокойно. Появления Гудзия, особенно такие, как сегодня, полуофициальные, когда Леонид Павлович заходит со своей фамильярной, мерзкой ухмылочкой, свидетельствовали об очередной операции с алюминием, что, соответственно, вызывало и очередную волну негативных эмоций у Гаврилы Климентиевича, смягчающихся, правда, очередным пополнением его нетрудовых доходов. Такие эмоции и сейчас захлестнули Татарова, и он едва сдержался, чтоб не одернуть этого улыбающегося проныру, опершегося локтями о его стол и заглядывающего в глаза. — Вчера я разговаривал с Геннадием Зиновьевичем, — начал Гудзий, — и он передавал вам самые добрые пожелания. «В гробу я видел твоего Геннадия Зиновьевича», — злорадно подумал Татаров и действительно представил себе Геннадия Зиновьевича в гробу, в роскошном гробу с цветами, представил реально и зримо, хотя никогда в жизни не видел Геннадия Зиновьевича, лишь выполнял его приказы. Распоряжения шефа передавал Гудзий, а деньги — Манжула, теперь уже не наличными в «дипломате», как было впервые, а, по требованию Татарова, сберегательные книжки на предъявителя. Иногда, правда, Манжула приносил и подарки от Геннадия Зиновьевича. Объяснял, что это премия за ударную работу: флакон парижских духов для супруги Гаврилы Климентиевича, импортные туфли для дочери или даже шикарное пальто для самого Татарова. Собственно говоря, это пальто Гавриле Климентиевичу так и не досталось. Клара сразу забрала для Володи, стараясь хоть как-то компенсировать моральный урон, нанесенный сыну категорическим запретом отца водить «Ладу». От этих подарков Татаров тоже имел прибыль. Говорил, что дефицитные вещи достали сотрудники, и Клара охотно платила за них по государственной цене. Гаврила Климентиевич немного расслабился после приятного, хоть и эфемерного созерцания роскошного гроба шефа и не сразу сообразил, о чем ведет речь Гудзий. — Извините, — переспросил, — что вы сказали?.. — Геннадий Зиновьевич просил передать: до конца года на алюминии ставим точку. А дальше видно будет. Татарова выдала довольная улыбка, и Гудзий погрозил ему пальцем. — Только передышка, — объяснил, — возникли какие-то сложности, и должны переждать. — Сложности? — встревожился Татаров. Гудзий увидел, как вытянулось лицо у всегда сухого и непроницаемого Гаврилы Климентиевича, и не смог отказать себе в удовольствии хоть немного испортить ему настроение. — Шеф сказал, кто-то засыпался. Я так понял, кого-то даже заграбастала милиция... А Манжула погиб. Думал лишь о легкой издевке, но, заметив, как побледнело лицо Татарова, испугался и потянулся к графину. Но Гаврила Климентиевич сразу овладел собой. — Не надо, — остановил Гудзия, — думаю, все это несерьезно. Теперь он как-то просительно заглядывал в глаза Леониду Павловичу, и тот понял: самое важное, что нужно сейчас Татарову, — его, Гудзия, подтверждение. В конце концов, сделать ему это легче легкого, просто кивнуть или бросить короткое «да», однако Леонид Павлович припомнил постоянно демонстрируемое Гаврилой Климентиевичем превосходство, пусть небольшие, но весьма болезненные уколы, наносимые им самолюбию подчиненного, и решил: не обязан он, Гудзий, выступать в роли скорой помощи, да хоть и умрет от испуга, какое его дело? Ответил, покачав головой: — Не знаю... Ничего я не знаю, сказано только: пока что с алюминием подождем, а там будет видно... Поднялся и пошел к дверям не оглядываясь, знал, что на маленькие уколы ответил лишь одним, но уж очень ощутимым, однако не чувствовал угрызений совести, наоборот, его распирало от гордости. Думал: как все же бывает приятно сделать подлость ближнему своему!15
Хаблак торжествовал: в течение трех дней ему удалось полностью «раскрутить» Бублика. Теперь он знал, кто прятался за этим не весьма благозвучным прозвищем. Степан Викентьевич Галинский — внештатный распространитель театральных билетов БОРЗа — бюро организации зрителей, так называемый борзовик. Как и предвидел Хаблак, напуганный Бублик в тот злосчастный день, а вернее, ночью первым же рейсом вылетел из Ивано-Франковска. В Киеве Хаблак сразу получил адреса двух пассажиров, летевших в столицу, — Галинского и Викторова, третий с инициалами С. В. — Гарайда в Киеве прописан не был, а Викторова звали Семеном Владимировичем. Автоинспекция сообщила, что Степан Викентьевич Галинский — владелец машины «ГАЗ-24», номерной знак КИТ 63-01. Автомобиля, как было отмечено в документах автоинспекции, белого цвета. Стоянка машины — кооперативный гараж. Фотографию Бублика-Галинского взяли из его личного дела, в тот же день передали в Ивано-Франковск, а еще через день оттуда пришел официальный ответ, что Степан Викентьевич опознан Коржом, у которого он жил, и Дуфанцом, с которым продавал алюминиевый лист. Но в Одессе, как свидетельствовали сестра Манжулы и мальчики из совхозного поселка, преступники ездили на «Волге» вишневого цвета. У Бублика же была белая. Но майор выяснил и это обстоятельство. Утром под видом инспектора противопожарной охраны Хаблак появился на платной автостоянке возле завода «Вулкан», где летом обычно стояла «Волга» Галинского. Осмотрел все, как положено, вместе с дежурным, похвалил за образцовый порядок и остановился возле белоснежной машины с номерами КИТ 63-01. Погладив ладонью отполированный капот, сказал: — Блестит как новая. Дежурный охотно поддержал разговор с представителем пожарной службы. — Раньше посмотрели бы, — молвил с сожалением, — вот то была красота! Но ее владелец определенно сдвинутый по фазе, видите ли, цвет ему не нравился, взял да и перекрасил. — Я его понимаю, мне тоже по сердцу белая машина, — возразил Хаблак. — А по-моему, вишневая лучше. — Так она была вишневой? — Я же говорю: богатейший цвет. А он взял и перекрасил. Хаблак обошел вокруг машины. — Никогда не скажешь, что перекрашена, видно, мастер классный. Не знаете кто? Мне тоже нужно... — Знаю, — заявил дежурный. — Этот чудак говорил: если кому-то понадобится, можно рекомендовать. Он свою «Волгу» на стоянке только летом держит — напротив дома. А еще зимний гараж у него есть. Под Печерском, где-то возле студии кинохроники. Там и мастерская с маляром — какой-то Лазарь, говорят, один из лучших в Киеве. Теперь все совпало, как дважды два — четыре. Для полной ясности не хватало только фотографии следа протекторов «Волги» Бублика — Хаблак присел возле передних колес, заглянул под крыло, будто хотел окончательно убедиться в высоком мастерстве маляра, и даже присвистнул от огорчения. На «Волге» стояла совсем новая резина. Ну и хитер же этот Бублик, думает, что не оставил ни единого следа — дурак, да их, пожалуй, на десятерых хватит. Хаблак поехал к Дробахе. Ивана Яковлевича пришлось немного подождать — беседовал с прокурором республики. Появился солидный и сосредоточенный, Хаблаку даже показалось, что не стоит говорить с ним о таких мелочах, как перекрашенная «Волга», но Дробаха, услышав эту новость, сердито стукнул себя кулаком по лбу. — Не учись уму до старости, а до самой смерти, — сказал с укоризной. — Мы уже сколько ищем эту проклятую вишневую «Волгу», а оказывается вот что. Видите ли, машина зарегистрирована у Бублика как белая, перекрасил в вишневую и автоинспекцию не поставил в известность, а теперь снова белая... Должны были предвидеть и такой вариант — раньше бы вышли на Бублика. — Главное, все же вышли, — возразил Хаблак. — Нет, дорогой мой, на собственных ошибках надо учиться. Так что же вы предлагаете? — Брать Бублика рановато. — Резонно, Сергей Антонович, даже весьма резонно, ведь, опираясь на факты, можем обвинить гражданина Галинского лишь в спекуляции листовым алюминием, за это можно и нужно арестовать, но прямых доказательств того, что он причастен к убийству Манжулы, нет. То, что перекрасил «Волгу», еще ни о чем не говорит, так сказать, косвенная улика. — Кроме того, не знаем, кто соучастник убийства, — согласился Хаблак. — Человек, похожий на Энгибаряна. — Надо приглядеть за Бубликом, — решил Дробаха. — Установить круг его знакомств и связей. Тем более что есть интересное сообщение от Коренчука. Наш юный коллега вышел на завод, через который спекулянты получали алюминий. Работники ОБХСС уже трудятся там, знаете, как говорят наши подопечные, раскручивают динаму... — И арест Бублика может насторожить кое-кого? — Вот-вот. Там пахнет большой аферой, прокурор республики взял дело под контроль. Хаблак подумал и заметил: — По-моему, Бублик в этой компании не главный. Я уже докладывал: существует какой-то Президент. Кроме того, должен же кто-то выделять тому заводу алюминий. Я, правда, в этом слабо разбираюсь, ведь сие «парафия» ОБХСС, но интуиция подсказывает... — Правильно подсказывает, — поддержал его Дробаха. — Итак, договорились: гражданин, именующийся Бубликом, пускай догуливает. Под вашим бдительным оком. — Никуда не денется, — заверил Хаблак.16
Президент назначил свидание Шиллингу у Аскольдовой могилы. Прогуливался по аллее, ведущей ко входу в ротонду, — тут всегда многолюдно, стоят автобусы, толпятся туристы и экскурсоводы рассказывают им... Что именно рассказывают экскурсоводы, Президента не интересовало. Был, говорят, какой-то князь, ну и что? Сколько этих князей слонялось тут, по Днепру и его берегам, проклятые эксплуататоры трудового народа, душили свободу и демократию... А демократию Президент любил и уважал, трактуя ее, правда, несколько своеобразно — как персональную привилегию делать все что угодно: доставать дефицит любыми способами, продавать, перепродавать, не брезгуя ничем, лишь бы иметь «навар», лишь бы нагрести как можно больше денег. Проворачивать все это, не опасаясь никаких следователей, обэхээсовцев, прокуроров, не прятаться, а ходить с высоко поднятой головой, так, как там, на западе, где был бы он уже, конечно, членом правления какого-нибудь банка или действительно президентом чего-то там и говорили бы о нем открыто, с уважением, а не шепотком. Шиллинг подкатил на «Ладе», за рулем которой сидела женщина. Сначала Президент не обратил на нее внимания, этот Шиллинг известный бабник, ему раз плюнуть «закадрить» любую женщину. Бублик говорил: может организовать на разные вкусы. Но женщина вышла из машины вслед за Шиллингом, и Президент подумал, что лучше ее не видел. Не сопливая девчонка, женщина под тридцать, длинноногая, грудастая, может, чуть-чуть с излишком, но то, что надо. И несет свои прелести, как самые дорогие реликвии. Видно, знает себе цену и действительно стоит недешево. Но и Президент знает цену и, когда нужно, умеет не скупиться. Он, правда, не допотопный купец и не привык дарить потаскухам бриллианты, теперь такса совсем другая, но на этот раз и он не постоял бы за ценой. Президент не успел до конца обдумать эту проблему, так как Шиллинг заметил его и, сделав своей спутнице знак, чтоб подождала, направился к нему. Они выбрали укромное место, где не слонялись туристы, уселись на скамью, и Президент спросил: — Привез? — Есть пять сотен. — Долларов? — Четыре долларами, а сотня франками. — Подходит. Почему мало? — Так Чебурашку же замели. Разве не слыхали? — Чебурашки меня не интересуют, — жестко ответил Президент. — Тем более что его замели. — Все под богом ходим. — Не под богом, а под... — Президент запнулся и не стал уточнять, кого именно имел в виду: и так ясно. Спросил: — А ты? — Перекантовался на приднепровском хуторе. Пока улеглось. — Смотри, Арсен, чтоб не зацепили. — Смотрю... — усмехнулся беззаботно. — Чебурашка — свой парень, не капнул. А больше меня никто не знает. — Думаешь, там не слышали о Шиллинге? Юноша, нахмурившись, пожал плечами. — Слышать, может, и слышали, а зацепиться не за что. Я мелкими делами не занимаюсь, для этого шпана есть. Шиллинга эта мелкая рыбешка никогда не видела, знает только понаслышке. — Ну давай... Шиллинг вытянул конверт, Президент спрятал его во внутренний карман пиджака. — С вас причитается... — начал Шиллинг, но Президент перебил его с раздражением: — Знаю. Завтра получишь у Бублика. — Хорошо. Все? — Нет. Есть поручение. — Президент достал из кожаной сумки, повешенной через плечо, сверточек. — Завезешь сегодня вечером, — назвал адрес, — Лидии Андреевне Мащенко. — Перехватил вопросительный взгляд Шиллинга и продолжил сухо: — Знаю, не удержишься, чтоб не заглянуть. Так вот, не надо, скажу сам. В свертке дамская сумочка, а в ней три тысячи. Передашь все, если украдешь хоть рубль, завтра же буду знать и голову откручу. Ясно? Шиллинг кивнул: известно, с Президентом шутки плохи, ничего никому не прощает и недавно, говорят, по его команде кого-то пришили. — Сделаем, шеф, — пообещал твердо. Президент дал ему денег. — Тут сотня, — сказал. — Сотня за работу. Достаточно. — Хватит, — согласился Шиллинг. — Что ей сказать, Лидии Андреевне? — Скажешь: от друзей Леонида Павловича. С благодарностью. — Леонида Павловича, — повторил Шиллинг. — Скажу. — Все. Шиллинг поднялся, но Президент, вспомнив о женщине, привезшей его, спросил: — Что за кадра? За рулем? — На хуторе подобрал, жена скульптора. Понравилась? — Ничего. — Классная. — Сам вижу, но с ней вот так, открыто... Женщины, знаешь, языкатые... — Юлька влюблена в меня. — Юлька? — Я же говорю: Юлия Трояновская, жена скульптора. — Машина ее? — На свою еще не заработал. — Заработаешь. — Надеюсь. Президент подумал немного, слегка поколебался и спросил: — А она тебе еще не надоела? Шиллинг ничуть не обиделся. — Хотите? — спросил. — Приведешь ко мне. — Три сотни. — Сдурел? — За такую кадру, шеф!.. Президент прикинул: может, не так уж и дорого. — Хорошо, — согласился, — я тебе свистну. Шиллинг фамильярно подмигнул ему. — Не пожалеете, — пообещал, — девка что нужно.17
Утром Хаблаку доложили: вчера Бублик на своей машине выехал в городок Сосновку. Прибыл туда около пятнадцати часов. В гастрономе купил несколько бутылок водки, пива и поехал на дамбу, отгораживающую ныне речку Козинку от основного русла Днепра. Поставил «Волгу» возле первого спуска с дамбы на луг, поднялся на дамбу и дождался, когда поблизости причалила моторная лодка. Номер лодки заметить не удалось. Эта лодка отвезла Бублика на днепровский остров — приблизительно в трех километрах от дамбы. На острове стоит палатка. Там Бублик находился до семи вечера. Возвратившись в Киев, машину оставил на стоянке, из квартиры больше не выходил. Сегодня утром поехал на работу в свое бюро организации зрителей. Остров с палаткой заинтересовал Хаблака, и он поехал в Сосновку. Городок знал и имел там знакомых. Не без удовольствия вспоминал, что именно в Сосновке когда-то началось одно из самых удачных его дел — мошенники с трикотажной фабрики забыли там в кафе на столике тысячу рублей в сигаретной пачке. Сколько пришлось тогда повозиться, чтобы вывести их на чистую воду! С той поры больше трех лет минуло, они с Мариной жили еще на старой квартире и Степана не было — быстро летит время, все в хлопотах, в делах, расследованиях, и кажется, скоро уж он, вспоминая то или другое событие, не будет говорить, что это случилось, например, в семьдесят восьмом году, а скажет приблизительно так: в тот год я расследовал дело Чугаева... И сразу же Хаблак устыдился таких мыслей. Хотя зеленые лейтенанты, еще только начинающие работу в уголовном розыске, смотрят на него как на аса, а какой там ас? Будто в одиночку распутывает дела. Вон сколько людей привлечено сейчас к расследованию взрыва в Бориспольском аэропорту. Да еще Коренчук и его коллеги, листающие сотни документов, накладных, банковских переводов, всяческих писем, чтоб докопаться, почему и как попал алюминиевый лист именно на тот маленький провинциальный завод... А старший лейтенант Волошин и подполковник Басов из Одессы, капитан Стефурак из Ивано-Франковского розыска! Сколько будет еще? Или ребята, которые «ведут» сейчас Бублика и засекли его поездку на днепровский остров... Инженер Владимир Прохорович Ефимов уже ждал Хаблака возле милицейского дебаркадера. Половина жителей Сосновки, пожалуй, знала Ефимова. По-настоящему влюбленный в технику, искренний и доброжелательный человек, он никому не отказывал в помощи и сам, если нужно, регулировал неопытным автолюбителям карбюраторы, клапаны. Ефимов был знаменит в Сосновке и тем, что имел уникальный и единственный на весь город катер с водометом — он скользил по днепровской глади как по маслу, мог соревноваться в скорости с «метеорами» и легко обставлял лодки даже с двумя моторами. Ефимов растянулся на носу катера, подложив под себя старый матрас, дремал, подставив солнцу бронзовую спину. Хаблак окликнул его с дебаркадера — Ефимов лениво приподнялся, но улыбнулся приветливо, и отсюда, с берега, Хаблак увидел, какие у него синие и лучистые глаза. — Знаю я тот остров, — сказал, когда Хаблак рассказал о цели поездки. — Позавчера проезжал, там польская палатка стоит, двухцветная, синяя с желтым. Хорошая — не палатка, а дом из двух комнат, все лето можно прожить. Хаблак знал: кто-кто, а Ефимов с удовольствием провел бы целое лето в палатке на берегу. Никогда не ездил по курортам, лишь однажды отправился машиной в Крым, но сезонное столпотворение не понравилось ему, с тех пор отдыхал только на Днепре, ставил палатку в тихом месте, ловил рыбу, купался, загорал до черноты и никогда не болел. Мотор взревел, и катер понесся, оставляя позади пенный след и высоко задрав нос кверху, казалось, они взлетели над водой, зависли в воздухе и только иногда касаются волн, вздымая фонтаны поблескивающих на солнце брызг. До острова домчались за несколько минут. Ефимов погасил скорость, и теперь катер резал носом воду старательно и сердито, будто заботливый хозяин, заметивший непорядок в своем образцовом хозяйстве. Палатка стояла неподалеку от берега, на воде покачивалась моторная лодка «Прогресс» с брезентовым тентом, а возле палатки стоял сбитый из досок стол, валялись какие-то вещи, на леске, натянутой между вбитыми в песок жердями, вялилась рыба. Возле лодки сидел на маленькой табуретке человек в соломенной шляпе с большими полями — такие шляпы Хаблак видел только в старых фильмах, а эта — вероятно, ручной работы — весьма удобна, особенно для днепровского острова. Человек сердито замахал руками, по-видимому предупреждая Ефимова, что у него поставлены закидушки, и тот объехал их, причалив в стороне от палатки и прибрежной зоны, занятой ее обитателями. Человек в соломенной шляпе поднялся и следил за маневрами катера неприязненно, вторжение чужаков, по всему видно, не радовало его — да это и можно было понять: выбираешь на днепровском просторе уединенное местечко, желая тишины и покоя, а тут неизвестно кто нарушает твой размеренный и уже привычный образ жизни, к тому же в данном случае ты ничего не можешь предпринять — каждый имеет право причалить по соседству, поставить палатку, развести огонь, ловить рыбу, даже оглушить тебя транзистором, и единственное, что остается делать, — искать себе новый укромный уголок. Но как жалко бросать старое место: облюбованное, обжитое, где даже днепровские лещи стали чуть ли не ручными... Человек стоял и смотрел, как выходят на берег незнакомцы. Был невысокого роста, пожилой, все его убранство — соломенная шляпа и выцветшие черные сатиновые трусы, длинные, чуть ли не до колен. Стоял и смотрел молча, не ответил на приветствие Хаблака и, не произнеся ни слова, отвернулся и направился к палатке. Ефимов сел на носу катера, а Хаблак разделся, разбежался и бросился в воду с шумом, смеясь и выкрикивая что-то. Он плыл, широко загребая воду руками и болтая ногами так, что брызги бушевали вокруг. Человек в шляпе выбежал из палатки и закричал визгливо: — А ну тише! Рыбу разгонишь, чертова твоя душа! Я тебя сейчас!.. Будто в подтверждение его слов и для укрепления позиций этого щуплого, даже болезненного на вид человека из палатки вышел здоровяк — также в черных трусах, но без шляпы, в синей майке, дедок доставал ему лишь до груди, а верзила, казалось, загородил собою весь выход из палатки — стоял, упершись ладонями в бедра, как олицетворение силы, могущества, будто угрожал каждому, кто посмеет вторгнуться в его владения. Но Хаблак не обращал внимания на недвусмысленное предупреждение, брызгался и дурачился в воде, и тогда здоровила сделал несколько шагов к воде и крикнул сердито: — Ты слышишь, кому говорят: рыбу отпугнешь! Хаблак лег на спину, раскинул руки и спросил наивно: — А ловится? — Ловится, не ловится, твое какое дело? Он явно нарывался на скандал, однако Хаблаку любой ценой надо было избежать ссоры. — Извини, — сказал мягко, — я не знал... Он поплыл к берегу тихо, стараясь не поднимать брызг, здоровяк повернулся к нему в профиль, и Хаблак чуть не погрузился в воду от неожиданности. Все точно так, как описывали наблюдательные мальчишки из приморского поселка: прямой и как будто перебитый нос, крутой подбородок, скуластое лицо — в самом деле похож на Энгибаряна, только у Энгибаряна (Хаблак вспомнил, как стоит он рядом с боксерами, только что закончившими поединок, улыбается приветливо, готовясь поднять руку победителя) выражение лица совсем другое, доброжелательное, а этот хмурый, даже свирепый, и глаза излучают злость и непримиримость. Хаблак осторожно вылез из воды, приложил руку к сердцу, даже сделал попытку поклониться вежливо. Все — поза, голос, улыбка должны были засвидетельствовать его искреннее раскаяние. Краем глаза увидел, что его унизительная поза понравилась здоровяку, черты лица у него смягчились, он как-то расслабился и опустил руки. Но все же пробурчал угрожающе: — Покупался и валяй отсюда. Место занято! — Занято так занято, — быстро согласился Хаблак. — Сами видим. — А если видите... Хаблак попрыгал на одной ноге, выливая воду из уха. Кивнул на костер, над которым висел закопченный котелок — что-то в нем булькало и пахло вкусно. — Уху варите? — спросил. — А тебе что? — Вкусно пахнет. — Не для вас. — Не для нас так не для нас, — пожал плечами. — На всех не наберешься. А я думал: наша поллитра, ваша ушица. Сразу почувствовал: его предложение не осталось без внимания. Здоровила перевел взгляд на своего пожилого товарища, тот решительно подтянул свои длинные трусы, может, это у них был какой-то условный знак, но верзила все же покачал головой и презрительно хмыкнул. — Поллитра на четверых... — презрительно процедил сквозь зубы. Хаблак понял его и угодливо-радостно уточнил: — Так найдется еще... Пожилой еще решительнее подтянул трусы: перспектива вырисовывалась заманчивая, и он, чтоб отрезать здоровяку путь к отступлению, спросил: — Самогон? — Казенка, — еще радостнее заявил Хаблак. — Чистая, пшеничная. Видно, упоминание о пшеничной окончательно развеяло сомнения верзилы: он молвил чуть ли не любезно: — Тогда другое дело... — Мы сейчас, — засуетился Хаблак. — Еще есть консервы, огурцы и хлеб свежий. — Тяни, — скомандовал здоровяк и смел со стола прямо на песок какие-то объедки. Постелил газету и велел пожилому: — Давай, Лукьян, стаканы, ведь уха уже готова. Хаблак торжественно поставил на стол бутылки. Ефимов принес консервы, огурцы и зеленый лук, верзила начал резать хлеб, а Лукьян снял с огня котелок, чтоб уха немного остыла. Хаблак подал Лукьяну руку. — Серега, — отрекомендовался, — а это мой друг Володя Ефимов, его тут в Сосновке все знают: инженер и начальник мастерских, а я на насосной станции вкалываю. — Из Сосновки, значит? — переспросил здоровила. Видно, это окончательно примирило его с незваными гостями, потому что сам подал Хаблаку руку и назвался: — Яков. Ефимов привычно откупорил бутылку, почти не глядя разлил в стаканы — вышло точно поровну, и Лукьян довольно потер руки. — Вот это глаз! — сказал уважительно. — Сразу видно: у человека есть глаз и опыт. Тебя как, Владимиром зовут? Твое здоровье, Вова. Хаблак поднял свой стакан. С его лица не сходила радостно-выжидательная улыбка, будто и первый глоток, и уха, и лук с огурцами предвещали что-то интересное и значительное. — За знакомство, Яков! — сказал с почтением и даже поднялся. — Будем! — ответил тот несколько небрежно, как и подобало зажиточному хозяину, принимающему бедного соседа. Выпил Яков с удовольствием, для порядка помахал ладонью перед ртом, откусив огурец, захрустел вкусно, обводя всех сразу подобревшими глазами. — Оно, может, и правильно, — сказал он, — что собралась компания. А то мы с Лукьяном уже надоели друг другу, поболтать не о чем. — Давно отдыхаете? — сочувственно поинтересовался Хаблак. — Я же говорю: надоело, — уклонился от прямого ответа Яков. — Но тут ведь вода и воздух! — возразил Ефимов. — Я всегда только на Днепре отдыхаю. — Катер у тебя классный, — заметил Лукьян. — Есть немного... — Не немного, а ого!.. Я в этом петрю. Водомет? — Точно. — Таких в Киеве по пальцам пересчитать можно. — У нас в Сосновке один. — Сам делал? — Не совсем, хлопцы помогали. — Без помощи не обойдешься. — Ваш? — кивнул в сторону «Прогресса» Ефимов. — Яшин. — А чего? Вполне приличная жестянка. — Точно, — хохотнул Лукьян, — по сравнению с твоей — жестянка. Хаблак даже прищурился от удовольствия. Если лодка действительно принадлежит Якову, уже сегодня или, в крайнем случае, завтра майор узнает фамилию Якова, адрес, в общем, чуть ли не все, что его интересует. Яков заметил радостную улыбку Хаблака и воспринял ее по-своему. — Пошло? — спросил. — Как брехня по селу!.. Здорово пошло, — подтвердил Хаблак совсем искренне, — если и дальше так, полный порядок. — Вторую чарку под уху, — распорядился Лукьян. Освободил на столе место, поставил котелок и раздал всем деревянные ложки. Уха желтела жиром, пахла лавровым листом и перцем, Хаблак едва удержался от желания попробовать, пока Ефимов с той же ловкостью фокусника разливал по второй. Теперь выпили молча, без тостов. Хаблак выдержал паузу и зачерпнул ухи после всех, распробовал и похвалил: — Давно не ел такой. Вкуснейшая. — Оттого что рыбы много, — объяснил Яков. — Рыба тут ловится, вчера вечером даже судак попался, вот, — подцепил ложкой и положил кусок рыбы на газету перед Хаблаком, — отведай, судака ведь не каждый день поймаешь. Хаблак не отказался, судак понравился ему, да и вообще, разве может быть невкусной рыба на берегу, тем паче под рюмку? — За продуктами в Сосновку ездите? — спросил. — Редко, — отозвался Яков, — у нас тут все есть. Крупа, консерва... За хлебом и поллитрой Лукьян мотается. Ну колбасы еще прихватит, когда совсем уж рыба надоест. — Мне бы никогда не надоела. — Так ешь. Хаблак выловил из котелка довольно большого подлещика и начал жевать, поглядывая на Якова. Думал: фотография... Завтра надо послать в Одессу его снимок. Те мальчишки из совхозного поселка должны опознать Якова, ведь точно подметили его сходство с Энгибаряном. Через два-три дня они получат акт об опознании, и тогда можно со спокойной совестью брать Якова с Бубликом. По крайней мере, оснований для задержания достаточно, а неопровержимые доказательства убийства Манжулы и подготовки взрыва в самолете появятся в процессе следствия. Итак, надо начинать с фотографии Якова. Нет гарантии, что, даже зная адрес и место работы, он сможет достать его снимок. Надо сфотографировать Якова сейчас. Что ж, это не такая уж большая проблема... Хаблак доел рыбу и навалился на уху. Взглянул на Якова и не без удовольствия отметил, как посоловели у него глаза. Чуть-чуть толкнул локтем Ефимова и сказал: — Хорошо сидим, ребята, и уха классная. В таком обществе не грех бы еще... — Нет у нас, — объяснил Яков. — Лукьян сегодня должен был мотнуться, все прикончили. — У нас есть еще, однако... — Трехсвекольная? — Из чистого сахара. — Так что же ты молчишь? — Видишь, не молчу, но ведь вы сначала... — Да ты неправильно понял, — встрял Лукьян. — Если из сахара и еще очищенный, лучше пшеничной. Хаблак пошел к катеру. Накинул на плечи рубашку, положив в карман вроде бы обычную зажигалку, достал бутылку самогона. Пока Ефимов разливал, Хаблак размял сигарету, щелкнул зажигалкой. Не загорелась, щелкнул еще раз — теперь имел две фотографии Якова, прикурил, затянулся, но сразу положил сигарету на край стола. — Бросил я, — начал оправдываться, — но когда выпью, хочется... — Оно все в соответствии, — решил пофилософствовать Лукьян, — говорят, отрава для организма, но ведь приятно. У меня сын тоже бросил, но вижу, опять сосет... — Приезжает сын? — спросил Хаблак чуть ли не машинально, но вопрос этот оказался едва ли не важнейшим, поскольку Лукьян вдруг сообщил такое, что у Хаблака вдруг вытянулось лицо, и он, чтобы скрыть волнение, схватил стакан и отхлебнул довольно вонючего, хоть и разрекламированного самогона. А Лукьян сказал: — Мой Митька нас не забывает. Да и что ему, тут он поблизости, возле райцентра. В карьере работает. «В карьере производятся взрывные работы, — подумал Хаблак. — И этот Митька мог достать взрывчатку. Не ту ли, что взорвалась в Борисполе?» — Знаю я тот карьер, — заметил. — И что там ваш Митяй делает? — Начальником участка он. — Что-то не припоминаю. — Дмитрий Червич, не слышал? — Нет. — А его многие знают. Весь в меня, даже изобретения имеет. — Такие люди! — воскликнул Хаблак. — Мне приятно, что сижу с вами за одним столом. И ты, Яков, изобретатель? — Рационализатор, — хохотнул тот. — У меня вся жизнь — сплошная рационализация. Он сам дал повод Хаблаку задать вопрос, давно крутившийся у него на языке, и майор немедленно воспользовался этим: — Вероятно, интересная профессия? Где ты работаешь? — Во! — показал ему большой палец Яков. — У меня работа — во! Не пыльная, и все кланяются... — Умеют же люди устраиваться! — Голову для этого надо иметь, — ответил Яков, но тут же почему-то согнул руку, демонстрируя и правда впечатляющие мышцы. — На промтоварной базе он... — объяснил Лукьян. — Это такая работа: что пожелаешь, то и будет. — Точно, — вздохнул Ефимов. — У меня один знакомый работает на нашей базе, так все имеет. — Сравнил! — не без бахвальства сказал Яков. — У нас база республиканская, усек? — Тем более приятно познакомиться, — расцвел в улыбке Хаблак. — И кем же ты на базе? — Ну и дурак, — безапелляционно заявил Яков, — ежели так спрашиваешь... У нас важно не кем, а что можешь... Ну грузчиком, какое это имеет значение! Главное, знаю, что гдележит, а без меня — ни-ни... — Финские сапоги можешь достать? У нас в универмаге выбросили, так расхватали... — Я все могу! — Яков бесцеремонно вылил остатки самогона в свой стакан. — Вы завтра подскочите, а то мы послезавтра в Киев возвращаемся. Конечно, прихватите с собой: посидим, побеседуем, тогда и договоримся. Ты ко мне приедешь, я тебе все устрою, для хороших людей нам ничего не жалко. Хаблака подмывало спросить у Якова фамилию, однако воздержался — недаром же тот прячется на пустынном днепровском острове, и Бублик только наезжает к нему. Подумал: впрочем, он и так знает о Якове достаточно, а завтра будет знать абсолютно все. Ну, может, не все, а то, что нужно на этом этапе расследования. И пусть себе Яков с Лукьяном еще денек загорают и ловят рыбу тут на острове.18
В Киев возвратился Коренчук. Первое, что увидел Хаблак в кабинете Дробахи, большой желтый портфель, набитый бумагами: он стоял на стуле возле самых дверей, будто подчеркивая деловитость своего хозяина, а сам лейтенант пристроился в углу, по привычке зажав руки между колен. Поприветствовав Хаблака, Дробаха сказал благодушно: — На ловца и зверь бежит, мы с Николаем Иосифовичем как раз чаевничать собрались, не откажетесь? После такой преамбулы, если бы даже не хотелось пить, отказаться было неудобно, но Хаблаку хотелось чаю, да и знал: у Ивана Яковлевича он всегда вкусный, вроде бы готовит его как все, но пьешь и чувствуешь — у Дробахи чай особый. То ли более душистый, то ли не горчит совсем, а может, совсем по-другому пьется в компании благожелательного хозяина. Электрический самовар уже закипел, Иван Яковлевич насыпал в ярко расписанный чайничек три ложечки заварки и залил кипятком. Обернулся к Хаблаку и, подмигнув ему, сообщил: — У Николая Иосифовича интересные новости. — Не сомневаюсь, — пробурчал майор. Он был уверен, что Коренчук докопается до истоков аферы с алюминием. — У вас плохое настроение? — удивился Дробаха: почти никогда не видел Хаблака не только раздраженным, но даже слегка нахмурившимся. — Нет, просто забегался. — Чай снимет усталость, — Дробаха подал Хаблаку стакан, поставив на журнальный столик вазочку с печеньем. — Лимона нет, — предупредил, — летом с лимонами трудно. Коренчук наконец вытянул руки, зажатые между колен, подсел к самовару. Взял свой стакан, но, даже не пригубив, сразу отставил. Лишь теперь Хаблак заметил, что лейтенант немного похудел, черты лица у него заострились, но глаза светились энергией. — Рассказывайте, Николай Иосифович, — сказал Дробаха. — Вижу, не терпится, да и Сергею Антоновичу будет интересно послушать. Коренчук снова потянулся к стакану и теперь уже не выпускал его из рук, время от времени отхлебывал чай, не прерывая рассказа: — Вы, Иван Яковлевич, в курсе, а для майора я в общих чертах. После того как вы уехали, в Коломые на железнодорожной станции мы нашли документы на вагон с алюминием. Отправили его из... — назвал небольшой городок. — А там металлообрабатывающий завод. Пришлось немного покопаться, коллеги из городского отдела помогли, но все же докопались. Там на заводе из листового алюминия будто бы всякие штукенции для ширпотреба делали. Лейки, кастрюли, чайники, детские игрушки... Оказалось, липа: на самом деле только оформляли продукцию, алюминий же шел спекулянтам. Это доказано. Директор того завода связан с преступниками, он и главный бухгалтер виновны в разбазаривании алюминия — надо привлечь к ответственности, Предлагаю — арест. Постановление мог санкционировать местный прокурор, однако вам тут виднее. С колокольни всегда горизонты пошире, — улыбнулся и на этот раз основательнее приложился к чаю, а после паузы добавил: — С того завода нити в Киев тянутся. Конкретно — в главк. Алюминиевый лист шел туда с нарушением всех инструкций. А почему? — Ясно почему, — сказал Дробаха. — Вам, дорогой мой, и разбираться с главком. — Если вы согласны... — Сегодня же утрясем это у прокурора республики. — А как с руководителями того завода? Дробаха поставил стакан, сложил руки на груди и пошевелил большими пальцами. «Задумался, — незаметно усмехнулся Хаблак, — решает, что предпринять. Сейчас, наверно, подует на кончики пальцев». Дробаха так и сделал, а затем сказал: — Переждем день-два. Никуда не денутся. Слух об аресте директора и главного бухгалтера может дойти до Киева, спугнуть Бублика и иже с ним. Как у вас? — обратился к Хаблаку. — Немного раскрутилось. Сегодня звонил подполковник Басов из Одессы. Яков Игоревич Терещенко опознан. Акт отослан нам. Завтра будет. Далее: кличка этого Терещенка Рукавичка. Был дважды судим, первый раз за хулиганство, потом за ограбление. Нынешнее место работы — промтоварная база, грузчик. — А как ведет себя Галинский? То есть Бублик? — Дробаха усмехнулся одними глазами. — Распространяет билеты. — Что в карьере? — Установлено, что сын Лукьяна Ивановича Червича, компаньона Терещенко, действительно работает начальником участка карьера. Взрывчатка там есть, учет ведется, внешне все в порядке, но в районной милиции считают, что небольшое ее количество можно было и присвоить. Однако доказать это трудно, почти невозможно. Считаю, мину с часовым механизмом изготовил сам Червич из взрывчатки, взятой у сына. Но мои догадки к делу не подошьешь. В связи с арестом Рукавички мы могли бы взять постановление на обыск у Червича. — А если это ничего не даст? — Извинимся. — Нет, — возразил Дробаха, — это — в крайнем случае. А вам, Сергей Антонович, посоветую: езжайте в карьер, поговорите с парторгом, с коммунистами. Может, что-то и подскажут. — Слушаюсь. — Ну зачем же так официально? — поморщился Дробаха. Допил чай, подержал стакан в ладонях, наверно, решал, налить ли еще, но раздумал и поставил стакан. — Есть еще новости? — Нет, — ответил Хаблак, а Коренчук лишь отрицательно покачал головой. — Тогда давайте подводить итоги. — Дробаха поднялся и сделал несколько шагов — кабинет у него небольшой, что называется, негде повернуться, сразу же возвратился на место и сказал: — Сегодня или завтра утром я возьму постановление на арест Галинского и Терещенко. Не все мы еще, конечно, знаем, однако оснований для ареста достаточно. У Галинского: спекуляция алюминиевым листом, его узнали по фотографиям Корж и Дуфанец. Далее: перекрасил вишневую «Волгу», это, правда, ни о чем не говорит, но — косвенное доказательство. Показания Инессы, или Сони Сподаренко, о встрече Галинского с Манжулой. Манжула спекулирует алюминиевым листом в Прикарпатье, потом с теми же соучастниками алюминий продает Галинский. Итак, одна преступная шайка. Что-то не поделили между собой или испугались того, что Манжулу задерживала милиция: решили убрать его. — Это еще надо доказать, — вставил Хаблак, — у нас ведь только побочные доказательства и догадки. — Да, согласен с вами. Но не забывайте про след каблука на обрыве, с которого упал Манжула. — Может совпасть, — оживился Хаблак. — Если, конечно, Терещенко или Галинский не выбросили эту обувь и мы найдем ее во время обыска. Еще есть у нас окурок сигареты «Кент». — Тяжелая артиллерия, которую сможем ввести в бой после задержания преступников. — Вам виднее, Иван Яковлевич: прямой наводкой или как там? — Хаблак знал, что в войну Дробаха командовал батареей. Взгляд Дробахи затуманился — может, и вспомнил, как били по танкам его орудия. Обхватил подбородок пухлыми пальцами, посмотрел на Хаблака и сказал: — Лучше прямой наводкой. — Спросил совсем другим, деловым тоном: — Как Бублик? Не встревожился? — Бегает по городу. Распространяет билеты, ничего подозрительного. — Президент... — вздохнул Дробаха. — Вы говорили: есть какой-то Президент. Не могу поверить, что Бублик — в этой шайке главный. — И мне не верится. Главный никогда бы не участвовал собственной персоной в устранении Манжулы. — На Президента, в общем, на их главного шефа, можно выйти через директора завода, — сказал Коренчук. — Или через деятелей из главка. Моя версия: Бублик — простой исполнитель. Не поедет шеф в горы продавать алюминий. Его забота — организовывать дело. — И Бублик безусловно знает его! — глаза у Хаблака за блестели. — На допросах мы его прижмем... — Может и расколоться, — подтвердил Дробаха. Коренчук возразил: — Но ведь может и ничего не сказать. Должен понимать: чем больше масштабы дела, тем хуже ему. — Гадаем на кофейной гуще, — пробурчал Хаблак. — Я согласен: Бублика и Терещенко надо брать. И припереть к стене. Доказательства есть, начнут валить друг на друга — я их привычки знаю, — глядишь, и распутаем весь клубок. — Мне бы ваш оптимизм... — сыронизировал Дробаха. — Но все же договорились: арестовываем Галинского и Терещенко. На следующий день после задержания киевской гоп-компании возьмем директора завода и главного бухгалтера. А остальные пусть покрутятся. Испугаются, может, и глупостей наделают. — Нам это только на руку. — Да, — высказал свое предположение Коренчук, — в главке, конечно, сразу станет известно об аресте директора завода. Но что могут предпринять? Факты не припрячешь. Каждую так называемую исходящую бумагу утверждают, подписывают, и никуда от этого не денешься. Алюминий заводу выделяли конкретные люди, и просто так, даром это не делается. — Получение взятки надо доказать, — возразил Дробаха, — а это всегда очень трудно. — Согласен. Однако бывают ситуации, когда не признать очевидное никак нельзя. — Подождите, — вдруг воскликнул Хаблак, — я вспомнил одну вещь. Манжула жил в «люксе» гостиницы «Киев». И броню на этот номер выдало министерство... — Это идея, — поддержал Хаблака Дробаха, — жаль только, что раньше в голову не пришла. Можно докопаться, кто именно заказывал Манжуле гостиницу. — И этим значительно облегчить жизнь Коренчуку. Появится отправная точка. Лейтенант сокрушенно вздохнул. — Это вам только кажется. Ничто не может облегчить нам жизнь. Все равно придется изучать целый воз бумаг. — Позвонить вашему начальнику? — предложил Дробаха. — Ну что вы! Он человек смекалистый, я докладывал ему, и уже создана оперативная группа, которая сегодня же начнет работу в главке. — Мне в министерство? — спросил Хаблак. — Нет, — возразил Дробаха, — сейчас главное — карьер. А насчет брони узнает Николай Иосифович. Ему на месте и будет виднее. Гостиницами, билетами на поезда и самолеты, прочими мелочами такого рода занималась в министерстве Фаина Наумовна, женщина, как определил Коренчук, деловая и весьма избалованная всеобщим вниманием, привыкшая к заискиванию. — Вам что? — спросила, даже не поинтересовавшись, кто Коренчук и откуда. Видно, судит о людях по внешнему виду и сортирует просителей по ей лишь известным приметам. — Мест в гостиницах нет. — Я совсем по другому вопросу... — Билеты надо заказывать заранее. Я вас не припоминаю... — Мне хочется, чтобы вы... — Тут все чего-то хотят, — сердито прервала его Фаина Наумовна. — Только и делают, что хотят, а я одна. — Да, одна, — подтвердил Коренчук, — и это меня устраивает. По всей вероятности, Фаина Наумовна такого еще не слыхала, и ее поразило нахальство Коренчука. — Неужели? — воскликнула. — Говорите, устраивает? — Вдруг прищурилась, и Коренчук прочел в ее глазах откровенное ехидство: — И что же вам нужно от меня? Броню или билет? Коренчук подумал, что обычный человек, приехавший в командировку, уже ничего бы не получил от Фаины Наумовны. Хотел сказать ей что-то резкое, даже обидное, но вовремя вспомнил, что и он в какой-то мере зависит от этой женщины. — Мне нужна справка, — сказал коротко. Собственно, справок Фаина Наумовна не давала, потому сразу потеряла интерес к Коренчуку и посоветовала: — Обратитесь в общую канцелярию. Коренчук достал удостоверение и не без злорадства увидел, какая метаморфоза произошла с Фаиной Наумовной: глаза стали маслеными, улыбка угодливой, она источала ему любезность. — Так бы и сказали, — заметила мягко, — а я к вам как к простому командированному. Отбоя нет... Коренчук мог бы сказать: если бы не эти надоевшие ей просители, не существовала бы и должность Фаины Наумовны, но опять же сдержался. — Мне сказали, что у вас хорошая память и вы сможете помочь нам. — Без памяти на моем месте делать нечего, молодой человек, — ответила несколько самоуверенно. — Так, может, припомните: месяц назад, а точнее, второго июня по броне вашего министерства в гостинице «Киев» получил номер «люкс» Михаил Никитович Манжула. Не могли бы вы припомнить, кто именно распорядился, чтобы выдали ему эту броню? — «Люкс» в «Киеве»? — наморщила лоб Фаина Наумовна. — Да, припоминаю. Просили из главка, точно, звонил сам... Но подождите, чтоб не ошибиться... — Она достала какой-то журнал, полистала страницы и наконец нашла нужное. — Да, я не ошиблась. Звонил заместитель начальника главка товарищ Татаров. Сам Гаврила Климентиевич, я еще помню: очень просил, мол, тот Манжула какой-то... — запнулась. — Надеюсь, поняли, ну важная персона, и ему надо выбить «люкс». Конечно, было трудно, но я сделала. А что такое? — всполошилась, сообразив, что милиция не станет ни с того ни с сего интересоваться такими вещами. — Что с этим Манжулой? Ведь товарищ Татаров, сами понимаете, ответственный работник и просто так не позвонит. — Гостиничные дела... — отделался неопределенным объяснением Коренчук. — Кое-что расследуем. — А-а... — вздохнула облегченно. — Там есть за что уцепиться. А я думаю: почему товарищ Татаров? Такой уважаемый человек. — Конечно, — поддакнул Коренчук, — и потому я просил бы вас никому ни слова о нашем разговоре. — Могила, — пообещала Фаина Наумовна. Коренчук шел длинным министерским коридором, тяжелый портфель оттягивал руку, но он привык к нему, как и к ежедневным бумагам, разговорам, допросам... Не мог привыкнуть только к человеческой низости. Сначала — директор того завода, с виду добрый, улыбчивый человек, никогда и не подумаешь, что отпетый пройдоха и мошенник. А теперь — Татаров, заместитель начальника главка. Фигура! Уважаемый человек, вероятно, деловой, энергичный, умный... Нет, подумал, выходит, не очень умный, не может преступник быть разумным в истинном смысле этого слова, ведь разумный человек не свернет с правильного пути. Нет, все же он не прав, не свернет только человек идейный и закаленный, а ум, впрочем, не исключает коварства, причастности к злодейству, разве что умный человек просто не может не знать, что наказание неотвратимо, что избежать его невозможно... Вот и Татаров... Фигура! Коренчук поставил портфель на пол, измятым платком вытер пот со лба. Подхватил портфель и зашагал дальше. Ну и пусть фигура: перед законом все равны.19
Президент танцевал шейк. Махал руками и брыкался, будто неразумный теленок, напевал, безбожно фальшивя и широко улыбаясь. Вероятно, со стороны это выглядело бы комично: взрослый лысоватый человек с уже весьма ясно очерченным брюшком выкаблучивается наедине, но Президент танцевал бы сейчас и под насмешливыми, даже презрительными взглядами, плевать на все: главное, что у тебя отличное настроение и легко на душе, что все хорошо и самые большие радости впереди. А что это именно так — впереди, — у Президента не было сомнений. Час назад позвонил Шиллинг и сообщил, чтобы Президент готовился: они с Юлией скоро приедут к нему. Президент вспомнил женщину в легком платье рядом с «Ладой» — длинноногая, стройная, удивительно привлекательная, и подумал: такой не знал никогда в жизни. И везет же таким подонкам, как Шиллинг. Ну дала ему природа фигуру, красотой не обидела, дурехи и липнут, невзирая на ум куриный, на то, что он ничего не представляющее собою ничтожество. Мужчин же любить и уважать следует не за мускулы, у настоящего мужика должна быть голова на плечах и полный карман, чтобы женщина знала: он может удовлетворить все ее желания. Юлия! Прекрасное имя, решил Президент и остановился, выпятив грудь. Он должен понравиться ей... Президент проскользнул в переднюю, встал перед старинным зеркалом в бронзовой оправе. Не без удовольствия посмотрел на свое отражение. Картинно — видел, как это делают герои-любовники в театре — отставил ногу, опершись носком замшевой туфли на ковровую дорожку. Да, он должен произвести впечатление на Юлию. Модные темно-зеленые вельветовые джинсы, белая, из хлопка, индийская рубашка с едва заметной этикеткой фирмы, вшитой возле карманчика, золотой крестик на груди — Президент подумал и расстегнул еще пуговицу на рубашке: так ему легче дышится и крестик лучше видно. Сначала Президент хотел встретить гостей в домашней атласной куртке. Видел в кино, что именно в таких куртках ходят дома академики и известные артисты, даже надел куртку и прошелся в ней перед зеркалом. Что ни говори, а зрелище впечатляющее, но все же снял ее, решив: во-первых, в куртке жарко, долго не вытерпишь, особенно после возлияния, во-вторых, она как-никак старит его, а сегодня ему неимоверно хотелось сбросить лишний десяток. Потому и остановился на молодежном ансамбле: вельветовые брюки, легкая рубашка, подчеркнутая небрежность, даже легкомыслие, но крестик из настоящего золота и цепочка массивная, не говоря уже о перстнях. Один с печаткой, Президент слышал, что такие когда-то носили русские вельможи, наверно, сам князь Потемкин (о других вельможах Президент ничего не знал), а Потемкин, говорят, держал в руках весь юг, недаром называли Таврическим, значит, этот князь — фирма́, а все, что подпадало под это определение, Президент привык ценить и уважать. Он подышал на перстень и потер о вельветовые джинсы, немного повернул второй, с бриллиантом, потемкинский перстень гостья может и не оценить, а вот бриллиант заметит непременно, настоящая женщина не может не заметить, а в том, что Юлия — настоящая, Президент не сомневался. Да, женщина настоящая и желанная. Президент накрыл вьетнамскими, сплетенными из рисовой соломки салфетками журнальный столик и поставил на нем два подсвечника. Правда, вечера теперь долгие, но, если начнет темнеть, ужин при свечах приобретет особый шарм — убедился в этом, когда пригласил какую-то девушку в ялтинскую «Ореанду», случайную знакомую с набережной, не стоящую ни свечей, ни ужина в «Ореанде», но интим со свечами в кабинке подействовал на нее так, что пошла к нему в номер без всяких уговоров. Между подсвечниками Президент расставил бутылки с коньяком, виски и джином. Заглянул в холодильник и потер руки от удовольствия: семга, красная икра, свежая постная ветчина. Ну, конечно, и консервы, всякие там шпроты, лосось, не говоря уже о салате, приготовленном Катериной. После того как Президент развелся с женой, что бы делал без Катерины? Приходит утром, стирает, вытирает пыль, варит борщи, жарит мясо, не женщина, а золото, и обходится значительно дешевле жены даже со средними запросами. Президент взглянул на часы: скоро должны прийти... Сменил в магнитофоне бобину, приглушил звук — квартиру заполнила легкая, прозрачная, словно хрусталь, мелодия. Это уже потом, когда хмель ударит в голову и кровь заиграет в жилах, можно будет ударить по нервам Юлии шейком, а пока музыка должна настраивать на лирический лад, пробуждать нежные эмоции. Президент еще раз осмотрелся: кажется, все в порядке, все учтено. Оставалось ждать, а ждать он не любил. Лег на тахту, не сбросив туфель, нетерпеливо подергал ногой, сразу же вскочил и направился в лоджию. Отсюда увидит Юлию издали — только бы Шиллинг не заметил, что сам Президент высматривает ее: задерет нос и потребует лишнюю сотню, нет у этого пройдохи ни стыда, ни совести. И Президент встал так, чтобы самому видеть всех, кто входит в дом, а его бы никто не заметил с улицы. И почему они замешкались?.. Лишь успел подумать, как услышал мелодию звонка из передней. Выходит, он прозевал Шиллинга — сердце учащенно забилось, и Президент, глубоко вздохнув, чтоб успокоиться, пошел открывать. Юлия стояла перед дверями, и из-за ее плеча фамильярно и нагло улыбался Шиллинг. Но Президент не обратил внимания на него, он смотрел на Юлию, тревога и страх овладели им: такой желанной и недоступной показалась женщина. Взяв себя в руки, Президент подумал, что мало ли было таких — лишь сначала выглядели недотрогами, все, в конце концов, зависело от его щедрости, главное, не спугнуть, подобрать ключик, а когда еще этот ключик золотой... Мысль о золотом ключике совсем успокоила Президента, и он посторонился, пропуская Юлию. Прошла, чуть задев бедром, обтянутым джинсами, и Президент пожалел, что явилась в таком наряде, правда, эти чертовы женщины понимают, что джинсы, хоть и скрывают ноги, делают их, так сказать, сексуальнее, а Юлия к тому же надела совсем открытую кофточку, оголив плечи. Президент любовался Юлией, совсем забыв о Шиллинге. Смотрел, как гостья поправляет прическу перед зеркалом, и довольная улыбка поневоле растягивала его губы. Так и есть, Юлия мимоходом провела пальцами по бронзовой оправе, значит, зеркало поразило ее, а Президент знал, что первое впечатление часто бывает решающим для женщины. А ведь уже тут, в передней, все было подчинено тому, чтобы поразить, ошеломить того, кто переступил порог квартиры. Стены обшиты деревянными панелями, двери оклеены финскими обоями под дерево, а по краям украшены гипсовой узорчатой лепкой с позолотой, даже двери туалета чуть ли не сплошь раззолочены, а вместо ручек — бронзовые львиные морды с кольцами в ноздрях. И причудливое бра на бронзовой основе... Президент велел эту бронзу тоже покрыть позолотой, и теперь все в передней блестело и сияло, вероятно, как в лучших домах Парижа. — Меня зовут Геной, — отрекомендовался Президент и добавил наигранно небрежно: — Надеюсь, вам понравится в моей скромной обители. Юлия огляделась по сторонам, видно, все тут произвело на нее впечатление, потому что воскликнула восторженно: — Ничего себе: скромная... — Подала Президенту руку и представилась: — Юля. — Тут все для моих друзей, — церемонно поклонился Президент, точно так, как метрдотель Валера Лапский кланялся денежным посетителям, и подумал: все, что она видела, ерунда, вот сейчас... Он указал Юлии на дверь, ведущую в гостиную, откуда лилась приглушенная музыка, и, оттерев плечом нахального Шиллинга, подавшегося было вслед за ней, проследовал в комнату. Конечно, китайский ковер, диван, кресла, столик с подсвечниками и бутылками, сервант с фарфором и хрусталем — все это должно было понравиться Юлии. Президент заметил сразу же, что так оно и есть; он слегка прикоснулся к ее локтю и подвел к креслу, стоявшему у столика. Женщина опустилась в него, откинувшись на мягкую спинку, но тотчас, пораженная, поднялась. Именно на это и рассчитывал Президент — он посторонился, чтоб не помешать Юлии рассмотреть картину на стене. Точнее, не картину, а размалеванную стену. Недавно Президент сделал ремонт, наняв для этого художников, по крайней мере, так они назвались, загнули столько, что даже Президент сначала поморщился, но художники объяснили: за эти деньги они еще разрисуют стену в квартире — сейчас это очень модно. Недавно расписывали стены у завмага и парикмахерши, изобразив очаровательные пейзажи. Вышло очень элегантно и красиво — березы, дубы и цветы, можно также берег озера с камышами или сосны, в общем, все, что по душе заказчику... Сама идея понравилась Президенту, однако он внес существенные коррективы в первичный замысел художников-маляров. Решил: для чего пейзажи, их полно в магазинах, вон уже и фотообои стали продавать. На стене надо изобразить... Художники с энтузиазмом восприняли предложение Президента, однако соответственно повысили и цену. В конце концов договорились, и теперь Президент не без тщеславия наблюдал изумление Юлии. А любоваться и в самом деле было чем. Со стены смотрел на Юлию сам Президент в капитанской фуражке и тельняшке, одной рукой он небрежно держал штурвал, другой указывал куда-то в морскую даль, а из волн выныривали наяды — художники принесли Президенту несколько заграничных журналов, и он лично выбрал оттуда красавиц по своему вкусу: они протягивали к капитану руки, их глаза светились любовью и восхищением, а он, суровый и неприступный, не обращая внимания на красавиц, вглядывался в морские просторы, как и надлежит истинному герою моря. Правда, художники в какой-то степени польстили Президенту. На стене он выглядел моложе, стройнее и черты лица были, так сказать, улучшены. Художники изобразили Президента с длинными модными бачками, и он вынужден был какое-то время не стричься и не бриться, потом пригласил домой дорогого парикмахера и тот привел оригинал в соответствие с портретом. А какие глаза ему намалевали! Они излучали само благородство, рука твердо сжимала штурвал, и весь он был устремлен куда-то в неизведанное, что символизировали видневшиеся на горизонте роскошные пальмы. Юлия перевела взгляд с картины на Президента, он весь сразу напрягся и втянул живот, но женщина улыбнулась снисходительно и похвалила: — Красиво. Президент принял независимую позу и бросил небрежно: — Сразу видно руку мастера. Рисовал... — Он назвал фамилию известного художника и запнулся, вспомнив, что Шиллинг предупреждал: Юлия — жена какого-то скульптора, может, видится иногда с этим известным художником, и он сейчас сядет в лужу... Но Юлия, округлив глаза, сказала чуть ли не с ужасом: — О-о, сам!.. — Да, — повеселел Президент, — и все говорят, у него неплохо вышло. — Но ведь должны были заплатить ему... бешеные деньги... — Не в деньгах счастье, — подчеркнул Президент, даже оттопырил губы презрительно, что должно было означать его крайне пренебрежительное отношение к деньгам, или (он подкрепил свою мысль, дотронувшись до золотого крестика пальцами в перстнях) то, что деньги для него не проблема, ибо, как говорили в старину, их у него куры не клюют. Заметил, что Юлия сумела оценить этот жест, во всяком случае, увидела бриллиант, хотел спрятать руку в карман, но не смог: гордость обуяла его, считал, что Юлия заинтересуется камнем, но она прошла мимо Президента к камину, конечно, не настоящему, а электрическому, но вмонтированному в обрамление, имитирующее розовый мрамор. Президент, невзирая на жару, включил камин: загорелось что-то красное, даже зашевелилось слегка, будто дотлевали угли. Президент подмигнул Шиллингу, они вдвоем аккуратно перенесли журнальный столик ближе к камину, подвинули туда же кресло, и Президент, церемонно усадив Юлию, потянул Шиллинга к холодильнику за закусками. В кухне Шиллинг многозначительно толкнул Президента в бок и спросил: — Ну как? — Класс! — ответил искренне. — Фартовая чувиха. Шиллинг, сомкнув кончики трех пальцев, выразительно пошевелил ими. — Стоит... — намекнул весьма прозрачно. Президент сделал вид, что не понял этого жеста, и открыл холодильник. — С вас три сотни, шеф. Гоните за девку три сотни, как уговаривались. В принципе Президенту было всегда трудновато расставаться с деньгами, но в этот раз отдал их без особого сожаления. Шиллинг спрятал купюры и доложил: — А то ваше задание выполнил. Сумочку вручил по назначению. Президент с благодарностью похлопал его по плечу и пообещал: — За мной не пропадет. И как она, та женщина? — Вы что, даже не видели ее? — искренне удивился Шиллинг. — Такие деньги, и не глядя!.. — Именно так иногда дела делаются, — объяснил Президент. — Никто — ни родная милиция, ни прокуратура — не подкопаются. Даже если засекут или та дуреха ляпнет. А от кого деньги?.. — захохотал победно. — Никаких доказательств... — Ну вы даете! — восхищенно покачал головой Шиллинг и открыл холодильник. Президент взял у него икру и семгу, разложил по тарелкам и приказал: — Когда зажгу свечи, смоешься. Только аккуратно. — Сделаем, шеф. Но я ничего не гарантирую: девка с характером. — Не таких взнуздывали... — ответил Президент хвастливо. Но все же тревога закралась в душу: поставил икру перед Юлией и заглянул ей в глаза, словно хотел угадать, что ему сегодня сулит судьба. Юлия улыбнулась, Президенту показалось — обнадеживающе, и у него сразу отлегло от сердца. Когда солнце спряталось за днепровские кручи и в комнату стали пробираться первые сумерки, Президент чуть ли не торжественно зажег свечи. Но Шиллинг, по всему видно, забыл об их уговоре, так как налил себе джину и норовил чокнуться. В ответ Президент сильно ущипнул его под столом, и лишь тогда Шиллинг уяснил себе, что нарушает конвенцию, поднялся и тихонько вышел из комнаты. Президент усилил звук магнитофона, чтоб Юлия не услышала щелканья замка, подал руку, приглашая потанцевать. Прижал ее к себе немного больше дозволенного, но она не протестовала, положила ладони ему на плечи, и у Президента закружилась голова от тепла ее тела и запаха духов. Попытался прижаться еще крепче, но Юлия высвободилась из его объятий, погрозив игриво пальцем. Президент снова взял ее за руку и притянул к себе, музыка лилась медленно и нежно, он ощущал под вспотевшими ладонями ее тугое тело, нашептывал на ухо какие-то слова, Юлия смеялась. Президент подумал, что вечер удался и все идет к своему логическому завершению, когда Юлия вдруг спросила: — А где Арсен? Президент не сразу сообразил, что Арсен — это Шиллинг, даже спросил: — Ты о Шиллинге? — Его так называют? — Конечно, Шиллингом. Зачем он тебе? Нам так хорошо вдвоем... Юлия уперлась Президенту ладонями в грудь, и он почувствовал, что они могут быть не только мягкими и нежными. — Где Арсен? — повторила. — Неужели он тебе в самом деле нужен? Юлия отступила на шаг и наткнулась на диван, Президент воспользовался этим, вынудил ее сесть и опустился рядом. Взял женщину за плечи, повернул к себе. В мерцающих бликах свечей она казалась такой неотразимой, что он не удержался и бросил ей просто в лицо: — Не будет Шиллинга, да и зачем он нам? — Ушел? Президент игриво показал пальцами на ее бедре, как удалился Шиллинг. — У него неотложные дела, — немного смягчил удар, — он спешил... — Попытался притянуть женщину к себе, но она не далась. — Ну что ты, манюня, — просюсюкал, — иди ко мне, нам будет хорошо... — К тебе? — вдруг совсем трезво захохотала Юлия. — Значит, ты договорился с Арсеном? Вы условились, чтоб он ушел? — А что тут плохого? — И ты решил, что я буду твоей? — спросила серьезно. — Ты мне нравишься, как никто. — Неужели? Президент не уловил иронии в этом вопросе и заверил: — Я никогда не желал так ни одной женщины, как тебя. — Ты смотри!.. — Юлия хотела подняться, но Президент успел обнять ее за талию и не отпустил. Горячо выдохнул ей в ухо: — Не пожалеешь, точно говорю, ради тебя я готов на все. — И на что же ты готов, Гена? До Президента не дошел подтекст и этого вопроса. Он вскочил с дивана, исчез в соседней комнате, вынес оттуда и бросил на пол мехом кверху новехонькую дубленку. — Твоя, — сказал хвастливо, — дарю тебе, бери, я не скупой... Юлия поднималась подчеркнуто медленно, шагнула к дубленке, и Президент самодовольно улыбнулся — какая же женщина откажется от такого царского подарка? Однако Юлия ступила на мех и вытерла об него ноги. — Ты понял меня, Гена? — заглянула в глаза Президенту. Тот попятился растерянно. — Ты?.. Ты не хочешь?.. — Еще раз спрашиваю: понял меня, Гена? — Ах ты сучка! — вдруг фальцетом выкрикнул Президент. Хмель ударил ему в голову, он подскочил к Юлии и залепил ей пощечину. — С тобой как с порядочной, а ты еще выкаблучиваешься! Шиллинга захотела? Так знай, продал тебя Шиллинг, а я купил — за три сотни! У Юлии кровь отлила от лица, лишь теперь стало ясно, в какой переплет она попала. — За три сотни? — не спросила — простонала. — Арсен продал меня за три сотни? — Я дал бы больше. Юлия нервно рассмеялась. — И ты, Гена, считаешь, что купил меня? — Но ведь ты мне действительно нравишься... — Гнев отпустил Президента, он шагнул к Юлии, но она схватила со столика нож, обычный столовый нож, каким и порезаться трудно, и, держа его перед собой, крикнула: — Не подходи! — Неужели я так противен тебе? — Не подходи, говорю, — повторила тихо, но в эти слова вложила всю ненависть и презрение, какие только нашла в себе. И добавила без паузы: — Крокодил Гена! Президент рванул на себе рубашку (видел в кино — так делают в припадке гнева настоящие мужчины) и сказал едва слышно, однако стараясь, чтобы каждое слово звучало весомо: — Нет, я не крокодил... Ты еще не знаешь, как меня называют! Я — Президент, а это не шутка! Ты еще не знаешь... — И не хочу знать, уйди с дороги! Но Президент заслонил дверь, надеясь, что не все еще потеряно. — Ну куда ты пойдешь? — заканючил он неожиданно для самого себя. — Оставайся у меня, Юля, нам будет хорошо... Однако Юлия закусила удила. Ткнула ножом в сторону настенной картины, едва видневшейся при свечах, молвила презрительно: — Думаешь, намалевал свою рожу и все будут падать вокруг? Отойди, говорю, а то зарежу! И такую решительность почувствовал Президент в ее тоне, что невольно шагнул в сторону, а Юлия проскользнула мимо него в переднюю. Президент услышал лишь, как хлопнула дверь, — он стоял, в изнеможении опустив руки, потом поправил разорванную сорочку, криво усмехнулся, поднял дубленку, отряхнул и повесил ее в шкаф. Выпил полный фужер шампанского и немного успокоился. «Потаскушка проклятая, — подумал. — Истеричка или просто сумасшедшая! Точно, сумасшедшая...» Эта мысль окончательно успокоила его — в самом деле, какая нормальная женщина откажется от дубленки, — и Президент, снова исполненный собственного достоинства, пошел спать. Юлия выскочила на Русановскую набережную и чуть ли не сразу увидела зеленый огонек такси. Съежилась на заднем сиденье и чуть не застонала от гнева и возмущения. Арсен! Продал за триста рублей! Боль обжигала ей сердце, подступала клубком к горлу, боль и гнев. За три сотни... Точно, настоящий шиллинг, валютчик пошлый. И дали же ему такое прозвище! Недаром, видно: за деньги все продаст... Вдруг Юлия вспомнила, как нахально обнимался Арсен у нее на глазах с веснушчатой девчонкой на пляже. Да, Шиллинг предал ее еще тогда, она все время была для него игрушкой, вот и продал, когда дорого заплатили. Юлия почувствовала, как слезы набежали на глаза — вытерла аккуратно, чтоб не размазать тушь на ресницах. В конце концов, черт с ним, стоит ли бередить себе душу из-за какого-то подонка! Спекулянт и фарцовщик, привык торговать всем, и нет для него ничего святого. Но ведь, подумала она также, никакая подлость не должна оставаться безнаказанной. Не простится и Шиллингу. Она снова подумала о нем не как об Арсене, а как о Шиллинге. И это немного сняло боль. Да, не простится. Почему она должна жалеть Шиллинга? Каждому свое — по заслугам. Месяц прятался на их хуторе от милиции, говорил о каком-то Чебурашке, потом намекнул, что тогда, на Аскольдовой могиле, передал этому типу, истинному крокодилу, франки или доллары. Вероятно, милиция охотится за Шиллингом, и она должна сообщить... Юлия вспомнила вежливого, статного майора, приезжавшего к ней в Дубовцы. Как его фамилия? Хубак или Хабук? По крайней мере, она точно помнит, что из уголовного розыска, и завтра найдет его. Симпатичный майор... Правда, тогда он не откликнулся на ее попытки пофлиртовать, может, был в плохом настроении или служебное рвение слишком мешало ему, все может быть, но он, безусловно, симпатичный... Юлия приободрилась, смахнула с ресниц слезы — жизнь снова начинала нравиться ей.20
Хаблак нашел парторга в одной из времянок, стоявших вблизи карьера. Седой суровый человек с поклеванным оспой лицом оторвался от бумаг, в которых делал карандашом пометки, и смотрел на майора, казалось бы, равнодушно, однако Хаблак уловил в его глазах любопытство — еще бы, видно, нечасто приезжают сюда такие гости. — Мне сказали в райкоме, — начал Хаблак, — что я целиком могу положиться на вас, Герасим Спиридонович. — На то я и парторг, — ответил тот с чувством собственного достоинства. — То есть можно говорить открытым текстом? — А вы это редко делаете? — Смотря с кем. — Понимаю, — улыбнулся Герасим Спиридонович, — абсолютно вас понимаю. Такая уж профессия... Так что же привело вас к нам? — Имеем сведения: у вас в карьере не все в порядке со взрывчаткой. — Как так? — сразу стал серьезным парторг. — Взрывчатка — это серьезно, и милиция без веских аргументов вряд ли заинтересуется этим вопросом. — Попала в чужие руки. — И?.. — Единственное, что могу сказать: обошлось без жертв. — Уже легче. — Мы очень надеемся на вашу помощь. — Но кто же?.. На кого падает подозрение? Честно говоря, Хаблаку не хотелось называть фамилию Червича, но в райкоме ему сказали, что может полностью довериться парторгу — ветеран войны, человек честный и принципиальный. Все же поколебавшись секунду или две, сказал: — У вас работает начальником участка Дмитрий Лукьянович Червич? — Есть такой. — Не могу утверждать, но возможно, он. Парторг задумался. Даже зажал на какой-то миг в зубах неотточенный конец карандаша. Наконец ответил: — У нас вообще-то взрывчатка под контролем. Придерживаемся инструкции. Но, сами понимаете, когда рвешь камень, по-всякому бывает. Люди свои, как не доверять? Над каждым шурфом не будешь же стоять, потому, прямо скажу, все может быть... — А Червич? — Ничего парень, немного разболтанный, однако особых замечаний нет. — Парторг еще покусал кончик карандаша и сказал: — Я сейчас бригадира Лучкая позову, с ним поговорим. Ему было виднее, и Хаблак согласился. Лучкай, чуть ли не двухметровый гигант в комбинезоне, появился минут через десять. Он буквально излучал силу и, казалось, гордился ею, крепко пожал Хаблаку руку, затем, будто играючи, двумя пальцами поднял за спинку стул, переставил к столу парторга, сел на стул осторожно, как бы испытывая его на прочность, и наконец спросил: — Звали, Герасим Спиридонович? — Нуждаемся в твоей помощи, Филипп. — Считайте, что я уже в вашем распоряжении. — Взрывчатка через твои руки проходит, Филипп... Лучкай скосил на Хаблака внимательный глаз: видно, сообразил, что разговор не предвещает ничего приятного, вздохнул так, что стул заскрипел под ним, и подтвердил не весьма охотно: — Ну через мои... — И у тебя порядок? — Не дети. Герасим Спиридонович. Взрывчатка — не мыло... — Потерь не могло быть? — Нет, — энергично замотал головой, — у нас со взрывчаткой глухо! Ни-ни... — И никто у тебя не просил? — А кому она нужна? — Я тебя спрашиваю. Филипп. — А я отвечаю: у нас глухо. — Скажи, Филипп, в каких ты отношениях с Червичем? — Митькой? — Будто у нас еще есть Червичи... — С Митькой у меня все нормально. — Дружите? — Не ссоримся. — Он у тебя взрывчатку не просил? Бригадир решительно покачал головой. Хаблаку показалось — чересчур решительно. Майору не очень понравилась открытая тактика парторга, но сидел молча, будто все это не касалось его. — У нас глухо, — в который раз повторил Филипп, — порядок знаем. — Я тебе, Филипп, верю. Не верил бы, не позвал и не стал бы выяснять, есть ли нарушения. Если есть — скажи. — Глухо у нас, — упрямо твердил бригадир. Парторг перевел взгляд на Хаблака: то ли ждал от майора поддержки, то ли извинялся — мол, сами видите, больше ничем не могу помочь. Хаблак решил вмешаться. — Дело в том, Филипп, что мы могли бы выйти на целую банду. Может, Червич у вас просил... Серьезная банда, Филипп, даже очень серьезная. Снова стул заскрипел под бригадиром, он помолчал немного, будто решал для себя что-то, но ответил твердо: — У нас со взрывчаткой глухо. Точно говорю. — Тогда извини, Филипп... — Парторг снова зажал зубами карандаш. — Иди и работай. Когда бригадир вышел, Хаблак спросил: — Давно у вас Филипп? — Вы ему не поверили? — Не имею оснований для этого. — Вот и я не имею. Хотите поговорить с Червичем? — Хочу. Парторг пошел к дверям, чтоб позвать девушку, уже бегавшую за бригадиром, но они распахнулись и в комнату боком протиснулся Филипп. — Забыл что-то? — спросил парторг. Бригадир, не отвечая, прошел к своему стулу, но не сел, а так взялся за спинку, точно хотел сломать, и сказал: — Вы уж, Герасим Спиридонович, не сердитесь. Не хотел я, потому как затаскают и неприятности всякие... Вот и говорил, что глухо. А оно, видите, было. Только, скажу вам, — бросил взгляд на Хаблака, — при чем тут банда? Ну рыбу глушили. Митька взрывчатку взял, батя у него рыбалит и места знает, аж три ведра рыбы привез. — Рыбу, говоришь? — резко повернулся к Лучкаю парторг. — Сукин сын ты, Филипп, и придется отвечать! — Оно-то так, — потупился Филипп. — Мог бы и не признаваться, однако, думаю, тут о банде говорили... А у нас — рыба. — А рыбу что, можно глушить? Филипп оторвал руки от стула, наверно, хотел развести ими, но только безнадежно махнул правой. Сказал: — Конечно, тоже неправильно... — Позовите Червича, — попросил парторга Хаблак. Тот пошел сам, Филипп двинулся было за ним, но Хаблак задержал его. — Посидите, — приказал, — разговор, кажется, начинается серьезный. — Подумаешь, три ведра рыбы... — презрительно хмыкнул бригадир. Майор не ответил. Вспомнил растерзанные взрывом чемоданы в аэропорту. И то, что могло случиться из-за преступной халатности этого оболтуса в комбинезоне. Парторг пропустил впереди себя парня в берете, ковбойке и линялых джинсах. Тот, дойдя до середины комнаты, остановил взгляд на майоре. — Вы звали? — спросил. — Герасим Спиридонович сказал: кто-то приехал и хочет побеседовать. — Дмитрий Лукьянович Червич? — Весь перед вами. — Для чего брали у Лучкая взрывчатку? Червич взглянул на бригадира, словно спрашивая, как вести себя, но тот и бровью не повел, тогда Червич искренне удивился: — Зачем мне взрывчатка? — Спрашиваю: брали? — Нет. — Не отпирайся, Митька, — сказал Лучкай. — Брал, так и признавайся. — Когда брали и для чего? — спросил Хаблак. — Отец попросил... — как-то сразу обмяк Червич. — Рыбу глушить. И нам дал... — Когда? — Примерно месяц назад. — Точнее. Червич пошевелил губами, будто подсчитывал, но тут же спросил у Лучкая: — Когда, Филипп? — Недели три прошло. — Точно, в начале месяца, первого или второго. «За неделю до взрыва», — отметил Хаблак. Все совпадало, и майор сказал: — Сейчас мы составим протокол. Предупреждаю: будете отвечать за ложные показания... — Достал из портфеля бланки. — Прошу сесть, дело это не такое уж быстрое... Во второй половине дня Хаблак встретился с Дробахой и доложил о событиях в карьере. Теперь не было никакого сомнения: почти все нити преступления в их руках — на следующий день решили арестовать Бублика и Рукавичку. Дробаха взял также постановление на обыск в квартире Червича-старшего. Хаблаку оставалось только договориться о деталях операции с Каштановым, и он возвратился в управление. Дежурный подал майору записанный на клочке бумаги номер телефона и, подмигнув несколько фамильярно, сообщил: — Вам, товарищ майор. Какая-то дамочка уже дважды звонила. По голосу чувствую — симпатичная. Хаблак взял бумажку. — А что вы еще чувствуете? — спросил, как ему показалось, недостаточно строго. — Будет у вас свидание с хорошей девушкой. — Тоже мне — пророк, — на ходу бросил Хаблак, — конечно, если попросит увидеться... — Он поднялся в свою комнату и позвонил Каштанову, однако полковник куда-то уехал, пообещав вернуться лишь в конце дня. Тогда Хаблак набрал номер, обозначенный на бумажке. Назвался и в самом деле услышал весьма приятный голос: — Да, я звонила вам по делу. Помните, Юлия Трояновская? Вы еще приезжали ко мне в Дубовцы... Майор сразу вспомнил ее: пепельные волосы, поблескивающие в солнечных лучах, сад, цветы, загорелая женщина в качалке. Точно, дежурный не ошибся, симпатичная, даже красивая. Но что ей нужно? Они ведь выяснили тогда все вопросы, и конечно, Юлия Трояновская не имеет никакого отношения к взрыву. — Да, я помню вас, — ответил. — И слушаю, Юлия Александровна. — Даже так?.. в ее голосе прозвучали игривые нотки. — У вас прекрасная память, майор. — Не жалуюсь. — Не могли бы вы уделить мне несколько минут? — Я весь внимание. — Нет, нет, надо увидеться. — Пожалуйста. Приезжайте. Я закажу пропуск. — Не лучше ли встретиться где-нибудь в другом месте? — Хорошо. Напротив нас — сквер. — Знаю. Через полчаса? — Меня это устраивает. Трояновская опоздала. Хаблак ругался сквозь зубы, сидя в сквере на скамейке, ну был бы он хотя бы влюблен, но ждать какую-то женщину ради разговора, вряд ли заинтересующего его. Готовясь к встрече с Хаблаком (Трояновская позвонила в уголовный розыск и уточнила: именно такая фамилия у майора, приезжавшего к ней в Дубовцы), Юлия перебрала несколько платьев, ни одно не понравилось ей. Наконец остановилась на вельветовой паре, коричневые брюки и жилет, еще блуза с высоким воротником. Подумала и решила обойтись без лифчика, немного рискованно для тридцатилетней женщины, но Юлия не сомневалась, что выглядит не более чем на двадцать. Она поставила «Ладу» рядом с милицейской «Волгой» И сразу заметила в сквере того симпатичного майора. Переходя улицу, приветливо улыбалась ему издали как старому знакомому, не без удовлетворения уловила улыбку и на его лице. Села рядом, вроде бы случайно откинув полы жилета, чтоб не оставил без внимания и оценил все ее прелести, сказала, будто речь шла о чем-то совсем незначительном: — Видите ли, вы единственный, кого я знаю в милиции, вот и решила побеспокоить. Хаблак почувствовал какую-то неискренность в ее словах, но согласно кивнул, выражая готовность слушать дальше. И Трояновская продолжала: — Дело в том, что я... — чуть не вырвалось «вляпалась», но сказала: — попала в историю, думаю, небезынтересную для вас. Как раз тогда, когда вы приезжали в Дубовцы, там отдыхал один парень... Он, знаете, немного ухаживал за мной, — передернула плечами так, что груди заколыхались, — и даже произвел на меня впечатление. Конечно, я ничего не позволяла, просто приятно было встречаться. Мы виделись потом несколько раз и тут, в Киеве, а вчера он пригласил поужинать у приятеля. И вот, понимаете, какой ужас! Я случайно узнаю, что Арсен, так зовут этого парня, Арсен Захаров еще имеет прозвище и занимается какими-то темными делами. Называют его Шиллингом. Представьте себе, целая шайка фарцовщиков и валютчиков, еще причастен к ней какой-то Чебурашка, уже задержанный вами. Думала, что Хаблак проявит интерес к услышанному, как-то взволнуется, начнет благодарить, а он сидел равнодушный, словно поведала о ничего не значащих мелочах. Но вдруг наморщил лоб и спросил: — Он сам назвался Шиллингом? — Нет, так обращался к нему Президент. Она так и сказала «Президент», не зная, что это слово как наваждение преследует его. Однако майор ни единым движением, ни взглядом не выдал себя, только спросил: — Это друг Шиллинга, и в квартире его вы были вчера? — Да, я же говорю, Арсен затянул меня туда. Обещал: будет приятная компания, есть о чем поговорить... Оказалось, я этого человека уже видела, они встречались возле Аскольдовой могилы, и потом Арсен по его поручению отвозил на Тургеневскую какой-то пакет. — И что же было в том пакете? — Кажется, деньги. — Почему так считаете? — Арсен все время держал его в руках, словно боялся потерять. — Возможно, — процедил Хаблак, — все возможно, и вы рассказываете интересные вещи. Где живет приятель Шиллинга? Как вы назвали его? — Президент. — Так обращался к нему Шиллинг? — Нет, — Юлия немного покраснела, — этот подонок, а он таки оказался подонком, удрал, оставив меня с Геннадием. То есть Президентом, а тот, знаете, почему-то решил, что ему все дозволено... Теперь Хаблак понял мотивы, приведшие к нему Трояновскую. Спросил: — Вы, конечно, оставили его с носом? — Еще бы! Тогда он и назвался Президентом, хвалился, что все его знают, и я, мол, пожалею. А я считаю: одна шайка — Шиллинг, Президент и другие. Фарцовщики и спекулянты. Вам моя информация пригодится? — Пригодится, — признал Хаблак абсолютно честно. Мог бы добавить, что этой информации, по всей вероятности, вообще нет цены, но лишь спросил: — Где живет Президент? — На Русановской набережной. Знаете, там высотные дома, так в крайнем, на десятом этаже. Геннадий, Гена... — А где живет Шиллинг? — Не знаю. И в самом деле не знала, потому что Шиллинг никогда не водил женщин домой и не давал им своего адреса, справедливо считая, что в его бурной жизни не хватало только женских наскоков со скандалами, ревностью и, как знать, даже драками. — А кому был адресован пакет на Тургеневскую? — поинтересовался Хаблак. Юлия лишь пожала плечами. — Арсен зашел в большой дом. Если подыматься по улице, справа, по-моему, третий от угла. Эта информация тоже произвела на Хаблака впечатление: в случае необходимости они перетряхнут весь дом, но найдут клиентуру Президента. Майор посмотрел на Юлию с благодарностью, она расценила этот взгляд по-своему и решила немного подзадорить этого несмелого и явно неопытного милицейского лопуха — ведь стоит сделать ему один лишь шаг, даже полшага, скажем, намекнуть на одиночество или спросить, как она коротает вечера, этого ей достаточно, тут уж она возьмет инициативу в свои руки — боже мой, как все на свете относительно: вчера ей бросали под ноги дубленку, а она в ответ смеялась, сегодня же готова бежать за каким-то милиционером... Юлия вся подалась к Хаблаку, едва коснувшись его колен, другой бы сообразил, что к чему, а этот недотепа поднялся, даже не спросив номер телефона. Юлия смотрела вслед удаляющемуся Хаблаку, и ей стало грустно и обидно. Но сразу же подумала: стоит ли печалиться? И, выпятив грудь, направилась к машине.21
Бублик ночевал в гостинице «Славутич», и «Волга» его стояла напротив за клумбой с розами. Вчера он ужинал с симпатичной женщиной тридцати с лишним лет, Марией Анчевской из Яремчи, и пошел к ней в номер. Хаблак уже знал, что Анчевская работает в Яремче на турбазе администратором, вероятно, Бублик познакомился с ней во время своих деловых поездок по Прикарпатью. Бублика решили взять, когда станет выходить из гостиницы, но ему, видно, настолько понравилось у заезжей молодухи, что он не спешил покидать ее. Наоборот, Анчевская принесла из буфета в номер чай — завтракали и небось опохмелялись после вчерашних посиделок. Рукавичка около десяти вышел с базы с пакетом внушительных размеров, остановил частную машину и прибыл также в гостиницу «Славутич». Хаблак решил, что Рукавичка привез с базы в гостиницу какие-то дефицитные товары, и сидят они сейчас с Бубликом в номере, пьют вовсе не чай и едят не стандартные утренние сосиски с горчицей. И еще подумал: Мария Анчевская, может, тоже из преступной шайки — если у Рукавички действительно дефицитные товары, есть повод задержать и ее. На допросах быстро выяснится — виновна или случайно попала в компанию Бублика. Позвонил Дробахе, тот одобрил его намерения, и Хаблак вызвал оперативную группу. Лифт поднял их на тринадцатый этаж. Хаблак показал дежурной удостоверение, и она проводила их испуганным взглядом. Двери номера оказались незапертыми, Хаблак вошел и сразу наткнулся на Бублика: тот сидел в гостиной за маленьким столиком, заставленным бутылками и едой. — Что надо? — крикнул он недовольно, вытянув шею. Вслед за Хаблаком вошли два оперативника и остановились на пороге. Видно, Бублик сообразил, что происходит: круглое лицо его вытянулось, красное, пылающее от выпитой водки, оно сначала покрылось пятнами, потом начало сереть буквально на глазах, за две-три секунды Бублик изменился до неузнаваемости. Но сразу овладел собой, все же надежда еще теплилась в нем, потому что поставил рюмку на стол и прохрипел — слова булькали, и казалось, он захлебывается ими: — Поч-чему... поч-чему врываетесь, видите, люди отдыхают — кто вам нужен? — Милиция, — ответил Хаблак и сделал паузу, не без удовольствия наблюдая, как Бублик сжал рюмку побелевшими пальцами. — Кто тут гражданин Терещенко? Рукавичка, сидевший спиной к Хаблаку, наконец повернул к нему голову и процедил сквозь зубы: — Ну я... Чего надо? — Вдруг узнал Хаблака и вытаращил глаза. — Ты! — воскликнул. — А я поверил, что ты — человек. Даже ухой угостил. Чего тебе? — У нас есть сигналы, что вы, Терещенко, занимаетесь спекуляцией. Потому и вынуждены были познакомиться на острове... — Это объяснение прозвучало не очень убедительно, но майор справедливо полагал, что сейчас Рукавичка поверит во все. — А недавно вы привезли сюда с базы пакет... — Хаблак смотрел на Рукавичку, но краем глаза видел, как приливает кровь к лицу Бублика. Должно быть, он догадался: милицейские ищейки охотятся за мелкими спекулянтами и напали на след Рукавички, а он тут ни при чем. — Где этот пакет? — Ну и что? — поднялся Терещенко. — Подумаешь, купил несколько рубашек, я же за них заплатил. — Где? — повторил Хаблак. Рукавичка кивнул в сторону спальни. В ее дверях мелькнуло испуганное лицо женщины, и Хаблак позвал ее: — Вы хозяйка номера? Она едва заметно кивнула. — Где пакет, принесенный этим гражданином? — Хаблак указал на Рукавичку. Она отступила от дверей, и майор увидел в спальне на кровати измятую бумагу, а поверх нее аккуратно запакованные мужские рубашки с ярлыками индийской фирмы. — Вот так, — сказал сухо, — поймались на горячем. Прошу всех предъявить документы. Женщина взяла с тумбочки сумку, достала паспорт. — А в чем дело? — спросила она. — Мой знакомый привез сорочки, я плачу за них деньги, что тут такого? Я просила достать. В Киеве можно, а к нам не доходят... Хаблак забрал у нее паспорт, полистал его. — Разберемся, — пообещал, — есть сигнал, и мы должны все выяснить. Ваши документы, гражданин Терещенко. Рукавичка поднялся, был он на полголовы выше Хаблака и пошире в плечах. — Ишь чего захотел! — дохнул на майора перегаром так, что того чуть не затошнило. — Нет. — Обойдемся... — Хаблак посмотрел на Бублика. — Ваши? — Зачем? — засуетился он. — Я тут человек посторонний. В гостях, вот выпил рюмку и уже ухожу. — Документы! — требовательно протянул руку Хаблак. — Но ведь паспорта нет при себе. — Что есть? Бублик достал служебное удостоверение. Хаблак посмотрел на фотографию, перевел взгляд на Бублика, сверяя, и спросил: — Степан Викентьевич Галинский? — Ну да. Майор спрятал удостоверение Бублика в карман. Велел оперативникам: — Позовите понятых и обыщите номер. — Это почему же? — выступила вперед Анчевская. — На каком основании? Если из милиции, так уже и своевольничать можно? — Имеем право при необходимости проводить обыск без санкции прокурора, — объяснил Хаблак. — Прошу всех пройти туда, — указал Хаблак на дверь спальни. — И не прекословить! — Ты, мент!.. — угрожающе поднял руку Терещенко, но Бублик остановил его: видно, понял, что скандал ни к чему. Решил, что рубашки — мелочь, в крайнем случае их с Терещенко доставят в районное отделение милиции и отпустят. — Спокойно, — одернул Рукавичку. — Пусть товарищи из милиции делают свое дело. — В гробу я их видел... — не сдавался Рукавичка. Бублик виновато развел руками, обращаясь к Хаблаку: — Не обращайте внимания. Видите, человек немного перебрал. — Прошу пройти... — майор еще раз указал на двери. Бублик подтолкнул Рукавичку, и тот, демонстративно прихватив с собой недопитую бутылку водки, направился в спальню. — Сейчас придут понятые, и мы составим акт... — Хаблак стал расстегивать портфель, в это время двери номера распахнулись и в передней появился человек в белом костюме и в легких белых босоножках. Брюнет, с большими залысинами, длинноносый, с пронзительными глазами. Не говоря ни слова, внимательно осмотрел одного из оперативников, оставшегося в гостиной, затем остановил взгляд на Хаблаке. — Майор Хаблак? — спросил он. — Да. — А я Президент. Хаблак вперился в него. Что происходит? Он сошел с ума или, может, этот чернявый? Чтобы вот так сам пришел?! Но почему? Вероятно, секунду не мог сообразить: почему? Однако, ничем не выказав своих чувств, обернулся к оперативнику и приказал: — Продолжайте... А сам лихорадочно думал: «Президент... Президент в гостиничном номере, зная, что тут милиция занимается его сообщниками. Почему же все-таки?» Может, задержать и его вместе с Бубликом и Рукавичкой? Зачем? Ведь пока еще нет против него каких-либо доказательств. Знают лишь, что будто бы какой-то преступник по прозвищу Президент возглавляет шайку расхитителей социалистической собственности. Да еще вчерашний рассказ Юлии о его контактах с фарцовщиком Шиллингом. Ну и что? Оглянулся и сказал сурово: — Гражданин, тут не до шуток... Выйдите из номера. — Вы не расслышали? Я Президент... — Президент чего? Какой страны? — В голосе Хаблака чувствовалась явная ирония. — Но ведь вы майор Хаблак? — Да. Подумал: этот тип получил информацию из Прикарпатья — что ж, это закономерно, там у них остались свои люди, значит, Президенту стало известно, что какой-то киевский дотошный майор Хаблак идет по его следам. А сейчас узнал у дежурной, что в первом номере, где Бублик и Рукавичка (а он шел именно к ним), милиция. Другой удрал бы сразу, удрал как можно быстрее, а этот наверняка рассчитал точно: если майор Хаблак знает о существовании Президента, рано или поздно докопается до него, если же нет, у него есть шансы замести следы. Бублик и Рукавичка будут молчать, им невыгодно рассказывать о Президенте: выплывут истинные масштабы их операций с алюминием, а это — добавочный срок... Он же, Президент, будет иметь время, чтоб оборвать кое-какие нити, уйти в подполье. — Я хотел бы с вами поговорить, — сказал Президент, не сводя глаз с Хаблака. — Выйдем на минутку. И это понятно, решил Хаблак, хочет предложить взятку. Интересно — сколько? Во что оценивает его совесть этот нахал? Может, выйти и узнать? В конце концов, это его ни к чему не обязывает... Нет, одернул себя, пусть этот тип идет домой спокойно, пусть думает: в милиции недотепы. Коренчук говорил: есть данные, что директор завода, для которого выписывали алюминий, имел непосредственные контакты с Президентом, директора уже арестовали, завтра доставят в Киев, и вряд ли он станет молчать, а через него они и выйдут на Президента... А нынче, при отсутствии доказательств, прокурор вряд ли санкционирует задержание Президента, к тому же о его аресте могут преждевременно узнать пока что неизвестные милиции сообщники и, чего доброго, исчезнут, розыск же всегда связан с большими сложностями. Значит, теперь пусть себе идет... — Нет времени, гражданин! — Хаблак шагнул к Президенту. — И не морочьте мне голову. Прошу вас немедленно освободить помещение! Увидел, как едва заметная презрительная улыбка мелькнула в глазах Президента, — давай, смейся, хохочи, нахал, ведь всем известно: смеется тот, кто смеется последний. Майор буквально вытолкал Президента из номера. Подумал: а может, этот тип рассчитывал увидеться с Бубликом и Рукавичкой, ведь не знал, что те изолированы в спальне, и собирался подать им какой-то знак? Впрочем, решил, зачем ломать себе голову: все равно скоро встретится с этим негодяем, непременно встретится, правда, совсем при иных обстоятельствах. Обернулся к младшему лейтенанту Власюку, невозмутимо наблюдавшему его разговор с Президентом. Спросил: — Где же понятые? Составим акт, пусть Терещенко и Галинский думают, что застукали их на рубашках — и все. Не так будут волноваться и спокойно поедут с нами. Мне еще отдельная беседа предстоит с гражданкой Анчевской. Хаблак заглянул в спальню. Увидел, как сидит на кровати «святая» троица — Рукавичка, правда, особняком: потягивает из горлышка водку. Подмигнул им даже как-то заговорщицки и сказал фамильярно: — Ну, дорогие граждане-спекулянты, приехали... Сейчас уладим кое-какие формальности, потом съездим в райотдел. Не будете скандалить, может, и обойдется, если впервые. Легким испугом отделаетесь, штраф уплатите, ежели, конечно, за вами больше ничего не значится. Лады? — спросил, будто и в самом деле нуждался в их согласии.22
Машину оставили на брусчатке, что пролегла по дубовому лесу. Справа от дороги начинались садовые участки, тут экономили землю и на уличках между усадьбами машинам не разминуться. Дробаха с двумя оперативными работниками подошел к третьему от угла домику — подал знак сопровождающим, чтобы подождали и на всякий случай подстраховали его, а сам толкнул калитку. Слева — небольшой нарядный кирпичный домик, перед ним цветник с розами, циниями и гайлардией, немного поодаль — водяная колонка с электронасосом, справа — гараж, ворота которого выходили на улицу, под кустами сирени — стол с самоваром и чашками. Дробаха направился к домику, но из-за сирени выглянул человек в желтой майке, внимательно посмотрел на Дробаху и, не удивившись его появлению, спросил: — Вы ко мне? — Если вы — Гаврила Климентиевич Татаров. — К вашим услугам. — Человек вышел из-за кустов и выжидательно остановился перед Дробахой. Кроме желтой вылинявшей майки на нем были парусиновые брюки и старые потертые сандалии. — Я — следователь республиканской прокуратуры Иван Яковлевич Дробаха. Татаров не удивился, Дробахе показалось, что он никак не среагировал на его слова, лишь слегка пошевелил выпачканной землей рукой, словно решая, можно ли подать ее гостю, — не подал и указал на скамейку возле стола. Пригласил сухо, как-то вяло, без каких-либо эмоций: — Располагайтесь, я сейчас. Дробаха с интересом наблюдал, как Татаров моет руки. Гаврила Климентиевич делал это не спеша, сосредоточенно, будто был совсем один и никто не нарушил его спокойствие. Ни разу не взглянул на Дробаху, медленно вытер каждый палец и устроился за столом напротив следователя. Уставился в него прозрачными, как будто неживыми, глазами, в них Иван Яковлевич не прочел ни испуга, ни волнения, казалось, заглянул к нему не очень симпатичный сосед по садовому участку и сейчас хозяин поневоле должен угостить его чаем. Они смотрели друг на друга молча и изучающе, пауза затягивалась, наконец Татаров не выдержал и сказал: — Насколько я понимаю, следователь республиканской прокуратуры появился тут не для душеспасительной беседы... — Вы правы, Гаврила Климентиевич, если бы не срочное дело, зачем же гнать машину из Киева сюда? Глаза у Татарова сузились и потемнели, а на скулах вздулись желваки. Но сдержался, даже усмехнулся, улыбка, правда, вышла кривая, и Татаров как-то неохотно выжал из себя: — Так слушаю вас... Хотите чаю? Самовар только закипел. Дробаха заколебался: не очень-то удобно распивать чай с человеком, постановление на арест которого лежит у тебя в кармане, но подумал также, что это последний чай Татарова на воле, с домашним печеньем, выглядывающим из-под салфетки, и натуральным медом в стеклянной вазочке. — Выпью с удовольствием. — Он сложил руки на груди и смотрел, как Татаров наливает чай — спокойно, уравновешенно, глядя только на чашки и занятый лишь ими, вроде и в самом деле не знает, зачем приехал к нему следователь из республиканской прокуратуры. А Татаров передвигал чашки, машинально лил в них заварку, кипяток, видел и не видел плотного, невысокого человека в легкой рубашке, назвавшегося почему-то следователем прокуратуры, а в действительности скорее походившего на их министерского завхоза, такая же противная манера складывать на груди руки и переплетать пальцы. Подвинул к нему чашку, предложил мед и печенье, взял свою, зажав в холодных ладонях, а сам думал: конец... Отхлебнул чай, не ощутив ни вкуса, ни запаха, тем временем прикидывая: приехал допросить или арестовать? Вероятно, сегодня еще обойдется, арестовывают, кажется, несколько по-иному, без застолья. Сам видел в кино: подходят с двух сторон, надевают наручники и подталкивают к машине. А тут — толстяк со вспотевшим лбом и пухлыми, чуть ли не женскими руками, попивает чаек... И еще подумал Татаров, как своевременно он все понял и все устроил. Вовремя и разумно... Узнав про арест директора завода, которому они с Гудзием оформляли документы на алюминий, Татаров сразу смекнул, что это — конец. Обэхээсовцы теперь не могли не выйти на них, просто не имели права, и самое меньшее, что теперь грозило ему, — снятие с работы или даже суд за преступную халатность, если не докопаются до связей с Манжулой и его шайкой. Рассудительно и скрупулезно оценив ситуацию, Татаров пришел к выводу: едва ли милиция сможет доказать, что он умышленно помогал расхитителям социалистической собственности. Манжула погиб, а больше он ни с кем, кроме Гудзия, не имел дела. Однако контактам с Гудзием можно не придавать значения: если даже начнет валить на него, где сядет, там и слезет, всегда сошлется на то, что у них были натянутые служебные отношения и Гудзий хочет отомстить ему. Ну а что касается документов на листовой алюминий, никуда не денешься, придется признать: подписывал, но не обращал особого внимания, конечно, допустил небрежность, даже халатность, если хотите, преступную, но ведь доверял ответственному работнику, начальнику отдела главка — кому же доверять, если не ему? Сославшись на нездоровье, Татаров взял отпуск. Не мог иначе: был человеком рассудительным, должен рассчитать все варианты, вплоть до наихудших, и своевременно принять необходимые меры. Первое, что сделал, — продал машину. Продал за два дня, даже немного продешевив, продал, хотя сердце обливалось кровью. Перед тем как отдать ее, обошел вокруг своей белоснежной красавицы, погладил капот, крышу, прижался щекой, никогда и ни с кем не позволял себе таких нежностей, расчувствовался впервые в жизни, и расчувствовался по-настоящему. Ведь знал: никогда уже не будет у него такой — выстраданной, выхоленной... Полученные за машину деньги Татаров положил на сберегательную книжку: с тем, что уже лежало на ней, вышла довольно круглая сумма. Если фортуна не смилостивится и придется отсиживать (Татаров предвидел и такой крайний вариант), у него хоть будет перспектива. На детей и жену не рассчитывал, по всей вероятности, отрекутся, а что останется ему, когда выйдет из колонии? Хотя бы деньги: приобретет новую белую красавицу, удерет из этого проклятого города, где так опозорился, на хлеб с маслом, даже если не будет работать, ему всегда хватит. Лишь бы еще пожить... А в том, что перед ним пролягут еще долгие годы, Гаврила Климентиевич, пожалуй, не сомневался. Здоровье имел прекрасное, ежедневно делал зарядку, когда не был на даче, по утрам бегал в соседнем сквере: живота нет, мускулы налиты силой и голова светлая — никаких склеротических явлений. Книжку на предъявителя — единственное его богатство и единственную надежду — Татаров спрятал в полиэтиленовом пакетике, тщательно запаяв его, затем плотно обернул фольгой и положил в аккуратно выдолбленный кирпич. Ночью, когда точно знал, что никто не услышит и не увидит, расшатал и вытянул кирпич из-под навеса соседского гаража, вместо него замуровал свой с книжкой. Теперь был уверен: никакая милиция, хоть какие бы мудрецы там ни были и какую бы технику ни использовали, ничего не найдет, и лежать его сберегательной книжке, пока не вытянет сам. А ежегодно одних процентов будет набегать восемьсот рублей, потом проценты на проценты... Потому и смотрел на следователя, который почему-то приехал к нему, вместо того чтобы вызвать или даже доставить в прокуратуру, спокойно, невозмутимо и даже слегка пренебрежительно, по-философски рассудив, что от судьбы все равно не убежишь, да и убегать пока нет смысла. Дробаха с удовольствием вдохнул ароматный чай и спросил У Татарова: — Вам ничего не хочется сказать мне, Гаврила Климентиевич? Татаров посмотрел на него холодно и свысока, как на мелкого канцеляриста из их главка. Ответил ровно, однако с некоторым нажимом, как будто приказывал нерадивому подчиненному: — Извините, вас зовут, кажется, Иваном Яковлевичем? Так вот, уважаемый, я считаю, что мои личные дела вряд ли могут заинтересовать республиканскую прокуратуру. Выходит, служебные. А служу я давно, и ничего этакого крамольного за мною не водится. Вероятно, что-то недоглядел, но ведь это может случиться с каждым. — Чай у вас вкусный, — невпопад ответил Дробаха. — И мед ароматный, гречишный? — Имею два улья, а тут поблизости совхоз гречиху сеет. Дробаха поставил чашку и молвил то ли с сожалением, то ли извиняясь, — так, как сообщают неприятную новость симпатичному человеку: — Я приехал арестовать вас, Гаврила Климентиевич. Татаров не донес ложечку с медом до рта, и Дробаха увидел, как впервые испуганно округлились у него глаза. Однако сразу же овладел собой и ответил иронично: — Шутите? Но ведь следователям, да еще республиканской прокуратуры, это противопоказано. — Не шучу, Гаврила Климентиевич, потому и спросил: не хотите ли что-то сказать? Чтоб облегчить если не душу, то хотя бы свою будущую судьбу? Татаров бросил ложку так, что чуть не разбил вазочку с медом. Но вспышка его гнева на том и кончилась. Посмотрел на Дробаху уничтожающе и ответил резко: — Я вам не мальчик, товарищ следователь, а заместитель начальника главка. И посоветовал бы не забываться! Дробаха медленно достал постановление на арест. Положил на стол. — Прошу ознакомиться, гражданин Татаров, — сказал сухо и официально. Татаров молча изучил документ, брезгливо бросил его назад на стол и с возмущением воскликнул: — Какое-то недоразумение!.. Да вы представляете себе — что такое арестовать меня? — Хотите совет? — спросил Дробаха. — Не нуждаюсь. Я честно и достойно прожил жизнь... Может, кто-то оклеветал меня, но правда все равно восторжествует. — Эх, Гаврила Климентиевич, Гаврила Климентиевич! — с горечью сказал Дробаха. — Наверно, в одном вы только правы, что когда-то честно жили и честно работали, люди уважали вас, а начальство ценило, даже главком руководить доверили. И так споткнуться! Ну скажите мне: почему? Денег вам не хватало? Двое детей у вас, тянут деньги, что ли? У меня тоже сын студент, конечно, не на все хватает, да и разве может хватить на все? — Он смотрел Татарову в глаза и вдруг увидел, как смягчились и посветлели они, — подумал, что сумел хоть немного растопить его сердце и этот ершистый человек еще не совсем очерствел, но, оказалось, попал впросак, ибо Татаров, расправив спину, ответил категорично: — Я попросил бы вас не разговаривать со мною так. Вы оскорбляете меня, и не только меня, а и учреждение, в котором имею честь работать. — Ладно, — махнул рукой Дробаха, — не хотите, не надо. Но сказать вам, сколько получали преступники и проходимцы за вагон алюминиевого листа? — Какие преступники и проходимцы? — удивился Татаров так искренне, что понравился сам себе. — От которых вы получали взятки, гражданин Татаров. — Вы с ума сошли! — Да нет, Гаврила Климентиевич. Мы устроим вам очные ставки, предъявим другие доказательства... — Нет, — ответил Татаров убежденно, — такого быть не может. — Однако было, гражданин Татаров. Кстати, каждый вагон давал им чистой прибыли около ста тысяч рублей. А сколько платили вам? Желваки опять проступили на лице Татарова. «Копейки, — хотел ответить, — мизерию...» Мерзавцы проклятые, действительно они бросали ему объедки, даже его белая «Лада» — мелочь, ерунда, а знать бы, и лежало бы у него сейчас на книжке... А он радовался кожаному пальто, парфюмерии для Клары... — Сто тысяч за вагон алюминиевого листа? — разыграл искреннее удивление. — Да какой дурак станет платить такие бешеные деньги? — Ваш алюминий шел на кровли в Прикарпатье. — Не может быть. — Факт остается фактом. А лист заводу выделяли вы. Лицо у Татарова вытянулось, и Дробаха впервые подумал: а если они ошибаются и этот Татаров попал в историю из-за собственного недомыслия? — Вот оно что! — воскликнул Татаров. — Теперь я припоминаю. В самом деле, мне давали на подпись такие бумаги. Но кто мог подумать? Готовил их начальник отдела нашего главка товарищ Гудзий. Порядочный человек, старательный исполнитель. Никто о нем не скажет ничего плохого. — О Гудзии мы еще поговорим, — пообещал Дробаха: все же мысль о том, что перед ним не закоренелый преступник, а халатный работник, до некоторой степени изменила его отношение к Татарову. — А теперь скажите мне, нам известно, вы все время жаловались на безденежье и вдруг приобрели «Ладу». Именно в то время, когда начались поставки алюминия тому заводу. Татаров не задумался ни на мгновение. Все ответы на подобные вопросы были у него продуманы и взвешены до последнего слова. — Одолжил, — ответил, — на машину я одолжил. Но, к сожалению, ее уже нет. — Как? — удивился Дробаха, потому что это было для него новостью. — Говорят, вы так радовались машине. — Должен был вернуть деньги. Когда одалживал, договорились, что буду отдавать по частям, думал, в крайнем случае, смогу переодолжить, а пришлось возвращать срочно. — И у кого вы одолжили? — не без иронии спросил Дробаха. Он уже сообразил, что Татаров ловко дурачит его, и устыдился своего легковерия. — У одного знакомого. — Можете назвать фамилию? — Это вам ничего не даст. Тому человеку затем и понадобились деньги, что уезжал. За границу... — Вот оно что! — Дробаха внимательно посмотрел на Татарова. «Ишь ты, — подумал, — крепкий орешек, и разгрызть будет не так уж просто!» — За границу, говорите? Это вы неплохо придумали. — Я просил бы вас, — сказал Татаров тоном, не допускающим возражений, — обойтись без оскорблений. — Конечно, — вздохнул Дробаха. — Ну что ж, будем считать, что откровенный разговор у нас с вами не получился, просто обменялись мнениями, как говорят опытные дипломаты. — Сделал несколько шагов, махнул рукой, и чуть ли не сразу в калитке появились оперативники. Оглянулся на Татарова: — Придется прибегнуть к мерам, предусмотренным законом. Сейчас мы пригласим понятых и сделаем у вас обыск. Вот постановление, прошу ознакомиться. Но Татаров даже не посмотрел на документ. Стоял, держась правой рукой за яблоневую ветку, отчужденный и будто лишенный всех чувств, не видел и не слышал ничего, смотрел остекленевшими глазами поверх Дробахи, словно ему было безразлично, что с ним произойдет... И действительно, Татаров на какой-то момент совсем реально ощутил, что прекратил существование, вроде бы растворился и исчез, потому что все погибло, пропало, взорвалось, а значит, нет больше человека со сложившимися привычками, вкусами, требованиями, вместо него появилось совсем новое существо, только внешне похожее на Татарова, существо,к тому же, не принадлежащее самому себе, а целиком зависящее от других — от их капризов, настроений, характеров, и так будет тянуться долго-долго. От этого стало страшно, мороз пошел по коже, и Татаров подумал, что лучше было бы покончить с собой, но теперь не мог совершить даже этого, потому что перестал уже быть человеком, а стал преступником, теперь — представлял себе это ясно и четко — не мог даже шагу вольно ступить. Но, говорят, можно привыкнуть в жизни ко всему, сколько взлетов и падений видел он сам, — впрочем, его вину еще надо доказать, и может, фортуна еще улыбнется ему.23
Каштанов позвонил Хаблаку и приказал срочно зайти. В кабинете полковника сидела женщина лет тридцати или немного старше. Не очень красивая, но симпатичная, смотрела испуганно, держала на коленях зеленую сумочку и все время щелкала замком. — Садитесь, майор, — указал Каштанов на стул около женщины и сам примостился рядом. — Это гражданка Мащенко Лидия Андреевна, она пришла повиниться, и я подумал, вам будет интересно послушать ее, вот и прервал разговор с ней, чтобы пригласить вас. Хаблак едва заметно поморщился: у него и так дел невпроворот, а тут какая-то Мащенко. Укоризненно взглянул на Каштанова, тот сделал знак, чтобы Хаблак набрался терпения, и обратился к женщине: — Давайте, Лидия Андреевна, начнем сначала. Женщина щелкнула замком сумочки, прижала ее к груди и заговорила неуверенно — искала нужные слова, губы у нее дрожали: — Я уже сообщила... Значит, зашел ко мне Леня — Леонид Павлович Гудзий... Хаблак пошевелился на стуле: вот в чем дело... Хотел что-то спросить, но полковник остановил его, положив руку на плечо. А женщина продолжала: — Мы с ним знакомы, встречаемся в доме у одних наших сотрудников, и Леня, ну если уж откровенно, ухаживает за мной. Но у него жена, а я одинока, может, оно и нехорошо, да что поделаешь, человек он компанейский, веселый... Мне с ним приятно, обычный флирт, ничего больше, и вообще мы в прекрасных отношениях... Вы понимаете? — остановила взгляд на Каштанове. — Я, наверно, говорю невпопад... Полковник подбодрил Мащенко: — Мы вас внимательно слушаем. — Так вот, заходит ко мне Леонид Павлович, мы в одном с ним министерстве, и говорит, что надо кого-то там выручить, его знакомого или друга, тот очень просит и отказать нельзя. А мне за это — импортные сапожки. Я подумала, вероятно, шутит насчет сапожек, а может, и нет, пожалуй, не шутит, потому что надо было подписать бумагу у начальника нашего главка на полиэтилен, а он точно не подписал бы, я знаю... — Какой полиэтилен? — встрепенулся Хаблак. — И кому? — Для одного из наших заводов. Полиэтиленовая крошка. Двести тонн. Ну я сделала, начальник, повторяю, не подписал бы, так я во втором экземпляре исправила цифру... — Подделали документ? — уточнил Каштанов. Мащенко щелкнула замком, открыла сумочку и достала из нее пакет. — Подделка, — согласилась, — и я виновата. Но ведь просил же Леонид Павлович, а знаете, заводам не всегда дают что нужно... Ну я уже стала забывать об этом и на сапожки не рассчитывала, а тут вдруг на днях звонок в дверь, открываю — парень, дает вот этот пакет и говорит: от друзей Леонида Павловича... Отдал и исчез. Разворачиваю, а там... Мащенко дрожащими пальцами открыла пакет и положила на стол пачки денег. — Тут три тысячи, — отдернула руку, как будто обожглась. — Я все эти ночи не спала. Потом решилась и пришла к вам. Каштанов переглянулся с Хаблаком. — Шиллинг, — сказал Хаблак, и Каштанов согласно кивнул. — Больше тот парень вам ничего не сказал? — спросил полковник. — Нет. Только: от друзей Леонида Павловича, и сразу же ушел. — А самого Леонида Павловича вы давно видели? — поинтересовался Хаблак, внимательно глядя на Мащенко: ведь Гудзия вчера вечером арестовали. Возможно, эта женщина, узнав об аресте, испугалась и прибежала в милицию. — С того времени, как попросил меня о полиэтилене, не встречались. Я хотела позвонить ему, но как-то не осмелилась. Ведь если он знает о трех тысячах, выходит, заодно с ними, то есть с теми, кто заплатил, а такие деньги даром не платят... — Да, не платят, — подтвердил Хаблак. — Кстати, Леонида Павловича Гудзия вчера арестовали. Мащенко остолбенела, лицо у нее перекосилось и стало землистым. Сыграть так не смогла бы даже талантливая актриса, и Хаблак убедился в безосновательности своих подозрений. Налив воды, подал женщине, однако она не взяла стакан, глотнула воздух и прошептала: — Значит, и я... Выходит, и я вместе с ним... Полковник сказал: — Успокойтесь, Лидия Андреевна. Сейчас мы вызовем понятых, составим акт, а вы садитесь здесь и напишите обо всем, что сообщили. Надеюсь, вы никуда не спешите? — Не все ли равно, вы ведь меня тоже арестуете? Полковник снисходительно улыбнулся, взглянул на Хаблака, будто советовался с ним. — Зачем такие крайности? Возьмем подписку о невыезде, вы ведь сами пришли к нам... — И в самом деле отпустите меня? — Никто с вас вины не снимает, — подчеркнул полковник. — Но вы помогли следствию, признали свою вину, и суд определит вам меру наказания. Мы же задерживать вас не будем. Видно, Мащенко ждала значительно худшего: губы у нее задрожали, даже всхлипнула. Теперь уже схватила стакан с водой и выпила чуть ли не до дна. Потом подняла мокрые глаза, усмехнувшись жалобно и благодарно. — Я напишу, — сказала быстро, — я все сделаю, у меня с души... камень свалился. Через полчаса, уладив формальности и отпустив Мащенко домой, Хаблак приказал привести к нему задержанного вчера Червича. Видел его лишь однажды на берегу — в длинных сатиновых трусах — и был немного удивлен, когда Червич появился в приличном импортном костюме, отглаженной рубашке и ярком галстуке. Лукьян Иванович остановился на пороге, сразу узнал Хаблака и покачал головой. — А я, старый дурак, его ухой угощал, — сказал с досадой. — Веслом по кумполу надо было, а мы уши поразвешивали. — Садитесь, Червич, — велел Хаблак сухо, — и без болтовни. Скажите лучше, для чего вам понадобилась взрывчатка? — И из-за этого задерживаете порядочных людей! — искренне удивился тот. — Сразу бы спросили, а то обыск, перед соседями опозорили... Как теперь в глаза смотреть? Ну поглушили немного рыбы, не такое уж преступление. Я ее во время войны противотанковыми гранатами... Когда-то на Волыни на классное озеро наткнулись — чистое, глубокое, леса вокруг, швырнул гранату, верь не верь, а щуки пудовые — ох и полакомились!.. Старик любил поболтать, и остановить его было трудно. Хаблак выслушал всю эту тираду и спросил: — И где же вы теперь глушили рыбу? — На озерах возле Плютов и на Козинке. Ее сейчас перегородили. Вот и сделалось там большое озеро. — Сын привозил вам взрывчатку и вы там же использовали ее? — Точно. Я летом всегда на днепровском острове стою, были же сами у меня, видели. — Итак, вы утверждаете, что взрывчатка попадала из карьера сразу к вам на остров и уже там вы приспосабливали ее для глушения рыбы? — Конечно, утверждаю. — Прошу расписаться. Старик расписался, а Хаблак спросил вроде между прочим: — Терещенко зачем бомбу делали? Червич вытаращил на майора глаза. У него отпала нижняя челюсть. — Ты что, сдурел? — воскликнул. — Слушайте, Червич, повремените немного, прежде чем окончательно накликать на себя беду, я вам кое-что объясню. Обыскивая вашу комнату, мы нашли схему мины с часовым механизмом и даже некоторые запасные детали к ней. Это раз. Далее. Установлено, что вы брали взрывчатку у сына, который незаконно получал ее у рабочих карьера, где является начальником участка. А ваш хороший знакомый грузчик промтоварной базы Яков Игоревич Терещенко, который заказал вам бомбу, подложил ее в чемодан одного гражданина, где она и взорвалась. Если вы сможете доказать, что не знали назначения мины, вина ваша несколько смягчится. Так стоит ли вам лишаться этого шанса? — Нет, это вы попробуйте доказать, что именно я сделал ее. — Очень просто. Если только для глушения рыбы использовали взрывчатку, для чего возили ее с острова в Киев? — А я не возил. — Не надо лгать, Червич. Мы нашли в вашей киевской квартире упаковочную бумагу от взрывчатки, а на письменном столе у вас ее небольшие частицы. Червич подумал немного и сказал: — Хорошо работаете, и вроде бы ваша взяла. Но ответьте: это точно Яшка подложил мину в чемодан? — Да, Червич. — Боже мой! — завопил старик. — Но какая же свинья — Яков! Так обмануть меня, стреляного воробья! Что ж теперь будет? — Сколько заплатил Терещенко за мину? — А-а, — скривился Червич, будто глотнул кислого, — я у него денег не брал. Выпили несколько бутылок, вот и вся плата. — А зачем Терещенко мина, говорил? — Конечно, иначе бы я не делал. Мол, есть один сукин сын, который заложил его когда-то, Терещенко и отсидел из-за него пять лет. Это же представить только — пять лет без всякой вины. А теперь Яков выследил его и хотел отомстить. Тот тип машину купил, вот Яшка и решил бомбу под нее подложить, с часовым, значит, механизмом, чтоб алиби иметь. — Так Терещенко и сказал: пять летбез вины? — спросил Хаблак не без иронии. — Клялся, что правда. — Да ведь он женщину ограбил, ваш Терещенко, и поймали его тогда чуть ли не сразу. — Неужто? А он... — Вот так, Лукьян Иванович. Втянул вас Терещенко в скверную историю, теперь отвечать придется. Червич насупился. — Да вижу, — сказал обреченно. — Век себе не прощу.24
Коренчук выложил на стол несколько фотографии разных людей и приказал: — Введите арестованного. В кабинет в сопровождении конвоира вошел усатый человек средних лет в темной рубашке и хорошо сшитом костюме. — Подойдите к столу, — велел ему Коренчук. — И вы тоже, — подозвал понятых. — Гражданин Хрущ, нет ли среди этих людей, фотографии которых лежат на столе, человека, назвавшегося вам Геннадием Зиновьевичем и предложившим преступную сделку? Хрущ, не колеблясь, ткнул пальцем в третью с края фотографию, на которой был изображен Президент. — Вот этот, — сказал твердо. Составив протокол, Коренчук отпустил понятых. — А теперь, Станислав Игнатьевич, — предложил, — надо уточнить некоторые детали. — Пожалуйста, прошу вас, — ответил тот заискивающе, — можете рассчитывать на мою искренность. — Повторите еще раз, при каких обстоятельствах вы познакомились с Геннадием Зиновьевичем? — Я же говорил: впервые встретились в нашем ресторане. Я обедал, и он подсел за мой столик. Тогда мне показалось — случайная встреча, теперь же понимаю — он следил за мной и выбрал удобный момент для разговора. Понимаете, я немного выпил, потерял контроль над собой, вот и вышло, что он смог втянуть меня в негодное дело. — Но ведь говорите, обедали, то есть встреча состоялась не после рабочего дня. И вы позволили себе выпить? Хрущ растерянно развел руками: — Так ведь он заказал бутылку марочного коньяку. Я, хоть и директор завода, такого еще не пил. — И вам не показалось подозрительным, что незнакомый человек угощает вас дорогим коньяком? — Что же тут подозрительного: симпатичный человек, и мы разговорились. — Вы сказали, что во время первой встречи Геннадий Зиновьевич не предлагал вам ничего. Как же встретились снова? — Теперь я вспомнил. Он намекнул, что наше общение может стать полезным. В тот же самый день, когда мы впервые обедали. Я считал — какой-то столичный жук. То есть человек с положением. А влиятельных знакомых всюду надо иметь... — Когда же опять встретились? — В тот же вечер. — И во время вечерней встречи он предложил вам аферу с листовым алюминием? — Да. Воспользовавшись тем, что я был нетрезвый и, повторяю, не мог контролировать свои поступки... — Это не смягчает вашей вины. Утром, когда в голове прояснилось, могли заявить в милицию. — Так уж случилось, не заявил — виноват. — Когда получили деньги от Геннадия Зиновьевича? — Три тысячи дал мне в тот же вечер. — Аванс за преступные дела? — Выходит, так. — И как вы договорились? — Геннадий Зиновьевич сказал, что главк выделит нашему заводу алюминий. Для производства различных бытовых изделий. На самом же деле мы их не изготовляли, только оформляли. А листовой алюминий отправляли в Коломыю. Я могу еще раз рассказать, как все это происходило. — Пока не надо, — остановил его Коренчук, — есть акт ревизии. Скажите, вы сразу договорились с Геннадием Зиновьевичем о вознаграждении? — Да, пять тысяч с каждого вагона. Один я не мог обеспечить операцию, поэтому пришлось привлечь главного бухгалтера Березовского. А значит, и поделиться. — Пополам? — Нет, мне три тысячи, ему — две. — Знаете, сколько имели преступники с каждого вагона? — Догадывался. Но Геннадий Зиновьевич объяснил, что очень большие накладные расходы: надо платить людям из главка и прочее. — Кому из главка? — Не говорил. Я хотел узнать, чтобы в случае чего найти там защиту, но он не сказал. Дескать, не мое дело. — Каким образом получали деньги? — У меня был контакт только с Геннадием Зиновьевичем. После того как нам выделяли алюминий, он звонил мне, и мы договаривались о встрече. В нашем городе либо я приезжал в Киев. — Приглашал вас к себе? — Никогда. Приходил ко мне в гостиницу или назначал свидание в ресторане. — Вы знали его фамилию? — Нет, в таких делах чем меньше знаешь, тем лучше. — Хоть какие-то координаты Геннадий Зиновьевич вам давал? Телефон или адрес? На крайний случай? — Нет. — И не намекал? Или, может, проговорился во время ресторанного застолья. — Я знал, что он живет в Киеве. И все. Где работает и его адрес — это меня не касалось. — А кто получал алюминиевый лист в Коломые? — Также не знаю. Коренчук подумал немного и спросил: — Вы ничего не утаили, Хрущ? Ведь уже завтра у нас будет возможность организовать вам очную ставку с Геннадием Зиновьевичем Скульским. — Задержали? — не мог скрыть радостной улыбки Хрущ, и Коренчук понял, что он сказал ему правду и не боится встречи со Скульским. Дал подписать Хрущу протокол допроса, не ответив на его вопрос, тем более что Президента еще не арестовали. Но теперь, после опознания его Хрущем, арестуют немедленно, ведь оснований для этого более чем достаточно.25
Бублик сидел, положив ладони на колени, и просительно заглядывал Хаблаку в глаза. — Надеюсь, вы уже выяснили это недоразумение? — спросил, — Честное слово, я не знал о рубашках, просто заглянул к знакомой. И вдруг — милиция. А у меня работа, неотложные дела... — Откуда знаете Марию Афанасьевну Анчевскую? — поинтересовался Хаблак. Бублик вздохнул. — Хорошая женщина и очень нравится мне, она из Яремчи, — сообщил, как будто Хаблак не мог знать этого, — работает администратором на турбазе. Я останавливался там, вот и познакомились. — Это ваша белая «Волга» ночевала перед гостиницей? — спросил Хаблак. Бублик едва заметно поморщился: известие о том, что милиция узнала о машине, не очень обрадовало его, но отрекаться не стал: ведь этот факт можно установить за несколько минут. — Моя, — ответил кисло. — Прекрасная машина. Давно перекрасили? Бублик притворился удивленным: — Я?! — Анчевская сказала, что раньше ваша «Волга» была вишневой. — Конечно, — глаза у Бублика забегали, попытался выкрутиться, правда, не весьма удачно: — Но ведь перекрашивал не я, а мастер. Есть у нас маляр в гараже, делает как новую, а я свою «Волгу» поцарапал, вот и решил перекрасить. Белый цвет — чудо. Хаблак хотел уточнить, почему же тогда прежде перекрасил белую машину в вишневую, однако это могло насторожить Галинского, и он, листая какие-то бумаги на столе, поинтересовался: — Где вы находились с пятого по седьмое июня? Поинтересовался вроде бы не по делу, как-то между прочим, но наблюдал за Бубликом внимательно: ведь именно шестого июня был обнаружен труп Манжулы на черноморском берегу. — Для чего это вам? — недоумевал Бублик. — Мы, гражданин Галинский, расследуем одно дело, и ваши показания тут могут пригодиться. — Об этой спекуляции? — метнул на него взгляд Бублик. Хаблак, не отвечая, барабанил пальцами по бумагам на столе. — Но ведь я не имею к ней никакого отношения. — Я прошу вас ответить. Бублик пошевелил губами, словно что-то подсчитывал. — Ага, вспомнил, — заявил, обрадовавшись, что это ему удалось, — я растянул ногу и пришлось лежать у себя в квартире. — И никуда не выезжали из Киева? — Как мог? — Итак, пребывали дома? Этот вопрос явно не понравился Бублику, но подтвердил: — Да. — А машина? Где в эти дни была ваша «Волга»? — Летом я оставляю ее на стоянке возле дома. — Там и стояла? — Конечно. — Никому не давали доверенность на право вождения? Бублик помрачнел, глаза у него сузились. — При чем тут моя машина? — взорвался. — Чего прицепились ко мне? Продержали целые сутки в милиции, а у меня неотложные дела! — Ну хорошо, — согласился Хаблак, — на время оставим машину. Теперь скажите мне, Степан Викентьевич, откуда вы знаете Терещенко? Бублик энергично помотал головой. — Какого такого Терещенко? Не знаю и знать не хочу. — Однако это не помешало вам пить с ним водку. — Вы имеете в виду того мерзкого типа, принесшего Анчевской рубашки? — Именно его. — Ну, знаете, пришел человек к моей приятельнице — почему же не угостить? Но кто он — не знаю. — Допустим, говорите правду. А Михаила Никитовича Манжулу вы знаете? Хаблак увидел, как испугался Бублик. Пальцы у него задрожали и полные щеки отвисли, он сразу постарел лет на десять, но сумел все же овладеть собой и ответил как ни в чем не бывало: — Впервые слышу. — Нехорошо получается, Степан Викентьевич. А вот одна девушка, есть такая Инесса Сподаренко, она вам хорошо знакома, узнала вас по фотографиям и свидетельствует, что вы несколько раз с Манжулой и с нею ужинали в ресторане, бывали в номере у Манжулы, даже возили ее вместе с Михаилом Никитовичем в Броварский лес. Более того, она припомнила, что вы вместе с Терещенко отвозили Манжулу в Бориспольский аэропорт. Еще выпили в номере на прощанье бутылку шампанского, потом Терещенко взял чемодан Манжулы, а вы пошли вслед за ним. Сели в вашу «Волгу», тогда она была еще вишневой, и поехали в Борисполь. Бублик смотрел Хаблаку в рот, будто тот разговаривал с ним на языке ирокезов. Вдруг, хлопнув себя ладонью по лбу, воскликнул: — Манжула! Вы имеете в виду того одесского снабженца! Совсем забыл, он для меня просто Миша, а фамилия, знаете, как-то выветрилась... — Но ведь вы говорили, что и с Терещенко впервые встретились в гостинице «Славутич» у Анчевской. Бублик приложил руку к сердцу. — Извините, — произнес с очевидным раскаянием, — виноват, да что поделаешь: не хотелось признаваться. Говорят, он сидел, то есть рецидивист, и порядочному человеку не пристало афишировать такие знакомства. — Порядочному человеку — возможно, — согласился Хаблак. — Тем более ездить с ним в далекие рейсы... — Я — с ним? С Терещенко? — даже подскочил от возмущения Бублик. — Да, вы с ним. В Одессу. — Что-то путаете. — Ничего я не путаю, Галинский, и мы сделаем вот что. Поедем к вашему гаражу, там хранятся скаты, снятые с «Волги». Помощники маляра, перекрашивавшего машину, по вашей просьбе заменили резину на «Волге». Почти новые скаты на совсем новые. И отнесли старые в ваш бокс. Они еще удивлялись — зачем менять скаты, которым еще бегать и бегать... — Захотел и поменял — кому какое дело! — злобно отрезал Бублик. — Ну и что? — А вот что, — сказал Хаблак почти благодушно, — сегодня же мы возьмем скаты из вашего гаража на экспертизу, и я не сомневаюсь ни на секунду, что следы, оставленные вашей «Волгой» в роще между совхозным поселком и берегом моря, где нашли труп Манжулы, и узор протектора на вашей резине окажутся идентичными. Что вы запоете тогда? — Вы?.. — задохнулся Бублик. — Вы хотите сказать?.. — Именно то, что вам, Галинский, хорошо известно и без меня. Хотите, расскажу все, что знаю? Хаблак сделал паузу, глядя, как Бублик хватает воздух ртом. А тот думал: болван, какой же я болван. Ведь Президент наставлял, даже приказывал — вывези в лес и сожги. Да, сожги эти злосчастные скаты, а я не послушал, пожалел, жадность заела, три сотни сэкономил, вшивых три сотни — и погорел. Но что твердит этот милицейский майор? Неужели они знают все? Откуда? — Ну так слушайте, — начал Хаблак, — вместе с Терещенко вы отвезли Манжулу в аэропорт. Положили ему в чемодан мину, сработанную Червичем, видите, мы знаем даже это. Но мина взорвалась не там, где вы рассчитывали, и Манжула уцелел. Тогда вы с Терещенко — Рукавичкой по прозвищу — едете в Одессу. Через сестру Манжулы узнаете, что тот затаился в совхозном поселке вблизи от Николаевской трассы. Отправляетесь туда, выбираете удобный наблюдательный пункт в роще. Думали, вас никто не видел, однако, может, припомните, местные мальчишки забежали туда случайно. Кстати, протокол опознания Терещенко вот тут, — похлопал ладонью по папке. — Увидев, что Манжула идет к морю, вы с Терещенко последовали за ним, потом вместе поднялись на крутой берег и сбросили Манжулу на прибрежные камни. Хаблак остановился, не отрываясь от глаз Бублика — темных, исполненных ужаса. Ожидал, что тот взорвется гневом, но Бублик сказал на удивление спокойно: — Вы все хорошо, даже очень хорошо придумали. Но не сходятся у вас концы с концами. Ну скажите, для чего мне и Терещенко этот Манжула? Подумаешь, какой-то одесский снабженец — ну зачем нам его убивать? — Ох, Галинский, Галинский, — покачал головою Хаблак. — Как вы все же недооцениваете милицию. Все вам кажется: вы самый умный, никто не изобличит вас, комар носа не подточит... А я знаю даже вашу подпольную кличку — Бублик, вот кто вы. Может, рассказать, как и с кем продавали листовой алюминий? О вашей преступной корпорации с Манжулой и Президентом? О том, как убегали вы недавно от меня в селе Соколивка под Косовом? Увидели, что мы задержали Волянюка, когда он привез продавать алюминий, и дали деру... Бублик покраснел так, что казалось, его разобьет паралич. — Воды, — попросил, — дайте мне воды... — Выпил жадно, зубы стучали о стакан. Не поставил его на стол, сжал так, что Хаблак подумал: сейчас раздавит и поранит руки осколками — майор забрал стакан, тоже захотелось воды, но пить после Бублика было противно, другого же стакана не было под рукой — облизал сухие губы и спросил: — Так что скажете, Бублик? — Я не убивал, — ответил тот жалобно. — Все, что хотите, но не убивал. Я шел впереди. Манжула — между нами, и Рукавичка сначала ударил его, а потом столкнул. Тропинка там, вы же видели, над самым обрывом, а Рукавичке силы не занимать, столкнул — и все. — Он снова положил руки на колени, сжав их пальцами, — вдруг поднял на Хаблака удивленный взгляд и сказал: — Вот оно что! А я считал: спекуляция рубашками... Еще поразился — такие уважаемые люди, майор милиции, и два десятка паршивых рубашек. Хаблак вызвал конвоира. — На сегодня хватит, Галинский, — сказал он. — Идите и подумайте. Вам есть над чем поразмышлять, не так ли? Смотрел, как идет Бублик к дверям. От недавней бодрости и даже нахальства не осталось и следа: плелся, шаркая подошвами, совсем как старый дед, едва держащийся на ногах. А Хаблак снял телефонную трубку и приказал: — Прошу доставить ко мне Терещенко.26
Всю ночь после того, как вчера вечером к нему подошли двое и попросили пройти к машине, Гудзий не мог поверить, что это конец. Возвращался домой в прекрасном настроении, втроем с коллегами по главку выпили в шашлычной на Петровской аллее бутылку коньяку, хорошо закусили, поболтали, посмеялись, и надо же такое — как обухом по голове... Гудзий знал: в последнее время у них в главке сидели какие-то ревизоры, и на сердце у него было неспокойно, однако надеялся, что все обойдется. Выходит, не обошлось, и пришел конец так хорошо устроенной жизни. Потому что разве можно назвать жизнью сосуществование с уголовными преступниками и даже бандюгами — себя Гудзий к уголовным преступникам не причислял, даже не мог представить, что сравняется с каким-то домушником или хулиганом. И как это несправедливо: он, инженер, начальник отдела главка, сядет за решетку все равно как мелкий воришка, отобравший у прохожего часы. У Гудзия была ночь на размышления. Взвешивал, что знают в милиции, что они могут знать. Во-первых, наверно, докопались, что они с Татаровым оформляли документы, согласно которым листовой алюминий попадал на никому не известный завод, а оттуда шел налево. Пожалуй, так оно и есть. Геннадий Зиновьевич недаром тревожился и приказал до конца года прекратить все дела. Выходит, милиция выявила-таки их причастность к расхищению социалистической собственности. Впрочем, имея определенные сигналы, сделать это было не так уж и трудно. Однако как вести себя ему, Гудзию, в этой ситуации? Не сознаваться ни в чем? Чепуха. Геннадий Зиновьевич сказал: милиция вышла на Манжулу, и кто может быть уверен, что обэхээсовцы не знают о его контактах с Галинским и с самим Геннадием Зиновьевичем? А знакомство и с ним, и с Манжулой ему, Гудзию, трудно оспаривать: многие видели их вместе. Кроме того, как объяснить приобретение мебельных гарнитуров, других дорогих вещей в последнее время? Да и еще дома лежит кругленькая сумма — и наличными, и на сберегательной книжке. Неужели Зина не догадается спрятать? Хотя Зина — умница, если сразу после ареста не сделали обыск, уже забеспокоилась и приняла меры. Да, Зине палец в рот не клади... И он молодец. «Москвича» оформил не на себя, а на Зининого отца, хоть какое-то утешение... Но для него ли теперь утешения? Долгие годы мыканья по колониям, и станет ли Зина ждать его?.. Но как же ему вести себя на допросах?.. В конце концов Гудзий пришел к выводу, что вряд ли удастся избежать обвинения в использовании служебного положения с преступной целью и во взяточничестве. А если не избежать, то стоит ли кого-то щадить? Высокомерного Татарова, верно, и сейчас презирающего его? Кстати, арестован ли он? Если даже не арестован, надо выдать, рассказать обо всем — где же справедливость: он будет маяться в колонии, а этот надменный тип по-прежнему восседать в своем кресле?.. Пожалеть наглого Геннадия Зиновьевича? Нет, никогда в жизни, они втянули его в преступную шайку, Манжула и он, и пусть расплачиваются. Сидеть, так всем! Кроме того, его чистосердечное раскаяние, конечно, учтут — совсем, конечно, не простят, но должны же дать на два или три года меньше, пусть на год или даже полгода... Следователь, к которому вызвали Гудзия, Леониду Павловичу понравился. Пожилой, солидный человек, а не какой-то самоуверенный молодчик: такому легче исповедоваться. А Дробаха, лишь глянув на Гудзия, на его угодливо-льстивую улыбку, сразу определил: слизняк. Что ж, следователю и с такими иметь дело надо. Иван Яковлевич начал официально: — Ваша фамилия, имя, отчество?.. Слушая, как отвечает Гудзий, быстро и подчеркнуто учтиво, думал: и этот прохвост, сукин сын, мерзавец, еще вчера сидел в кабинете, принимал решения, разговаривал с посетителями, одобрял что-то или отклонял, от него зависели честные люди, работа целых предприятий, он ловко притворялся, что все это его интересует, что это — его жизнь. Типичный эгоист, готовый ради личных интересов переступить через все. — Вы говорите, — спросил Дробаха, — что к преступной деятельности склонил вас Манжула? Расскажите подробно, как осуществлялись ваши махинации. Гудзий в деталях объяснял, как оформлял документы, как впервые подсунул их на подпись Татарову, как Манжула нашел общий язык с Татаровым, как сам он познакомился с Бубликом, а потом даже и с Геннадием Зиновьевичем... Дробаха слушал Гудзия внимательно, уточнял кое-что, дабы в протоколе ничего не пропустить, по привычке дул на кончики пальцев, и, хоть чего только ни повидал на своем веку, его все время не покидало ощущение, что прикасается он к чему-то очень грязному и необходимо вымыть руки.27
— Ну, начальник, ты даешь! — воскликнул Рукавичка и нахально расселся на стуле. — Это же надо, из-за каких-то рубашек хватать человека! Копейка цена тем рубашкам, женщина попросила, как отказать? Почему-то наглость Рукавички не раздражала Хаблака, наоборот, стало весело. Спросил: — А скажи, Терещенко, кто приказал тебе подложить мину в чемодан Манжулы? Ведь сам бы ты не додумался. — Шутишь, начальник... — развязность и нахальство сразу улетучились. — Какую мину? — Сейчас я ознакомлю тебя с показаниями Червича. — Хаблак достал бумаги из папки. — Он утверждает, что изготовил для тебя мину с часовым механизмом... — Ну и что? Ну сделал, а при чем тут какой-то Манжула? Не знаю никакого Манжулы, в гробу его видел. Признаю, хотел отомстить одному фрайеру, но передумал. — А мину куда дел? — В Днепр бросил. — Нехорошо, Терещенко, врать. А вот Бублик утверждает, что именно ты подложил ее в чемодан Манжулы. — Брешет Бублик, выгораживает себя. Не знаю никакого Манжулы и никогда не видел. — Допустим, Бублик мог и солгать, конечно. Предположим, катит на тебя бочку Бублик. А зачем врать Инессе Сподаренко? Вспомни девушку, что была у Манжулы, когда вы с Бубликом приехали к нему в гостиницу «Киев». — Потаскуха ведь! Разве ей можно верить? — Она является официальным свидетелем, Терещенко. И узнала тебя по фотографии. Если понадобится, проведем очную ставку. Рукавичка подумал немного и сказал: — Не надо. Забыл я, теперь припоминаю. Ездил с Бубликом к какому-то фрайеру, а что Манжулой зовется, впервые слышу. — И потом никогда не встречались с ним? — Говорил же тебе, начальник, в гробу я его видел. Всех бы вас там видеть, в белых тапочках... — Выходит, не встречались? — Нет. — И в Одессу с Бубликом не ездил? — Плевать мне на всю Одессу вместе с Бубликом! Чего я там не видел? — А Бублик утверждает, что вы выследили Манжулу в совхозном поселке вблизи Николаевского шоссе. — Бублик, начальник, что хочешь скажет. Наговаривает он на меня, точно наговаривает. — Пожалуй, Бублик может и наговорить... — Вот-вот, — обрадовался Рукавичка, — свинья и брехло. Ему верить никак нельзя. — Мы бы и не поверили, да вот какое дело. Помнишь, Терещенко, в рощу, куда вы с Бубликом загнали машину, мальчики забегали? Они узнали тебя по фотографиям. Хочешь ознакомиться с актом? — Хочу. Рукавичка внимательно прочел акт, доставленный из Одессы, и сказал не очень уверенно: — Ну и что? Ну поехали с Бубликом в море искупаться, разве запрещено? — И ты столкнул с обрыва Манжулу? Рукавичка сжал пальцы в огромный кулак, свирепо погрозил им майору: — Нет, начальник, мокрое дело мне не пришьешь! — Шить тебе, Терещенко, никто ничего не собирается. Просто Бублик говорит, что ты, угрожая ножом, заставил Манжулу подняться на крутой берег и, ударив его, столкнул с обрыва. — Врет, — хмуро возразил Терещенко, — я внизу остался, наверх Манжула с Бубликом пошли, он и столкнул того фрайера. — Это точно, что ты не поднимался на кручу? — Можешь записать, начальник. Хаблак и в самом деле записал, Терещенко поставил свою подпись, и только тогда майор сказал: — И тут ты солгал. Когда сталкивал Манжулу, споткнулся и оставил на краю обрыва четкий след. Во время обыска на твоей квартире нашли ботинки с каблуками в рубчик. И след именно этого каблука отпечатался там на грунте. Вот акт экспертизы, Терещенко. Можешь полюбопытствовать. — Мне твои акты до одного места, плевать я хотел на них. Не был я там и не сталкивал... Не сознаюсь я, начальник, никогда. — В конце концов, нам твое признание не очень и нужно, — ответил Хаблак, решив, что на сегодня достаточно, ведь у Терещенко все еще впереди: очные ставки с Бубликом, Президентом, Червичем, допросы, выезд на место преступления... И суд впереди — суд за предумышленное убийство.28
Коренчук сидел напротив Дробахи, что-то доказывал ему, энергично взмахивая ладонью, а следователь, скрестив руки на груди, шевелил большими пальцами и улыбался то ли иронически, то ли успокаивающе. Хаблак остановился на пороге, и Дробаха, жестом остановив Коренчука, предложил: — Садитесь, майор, сейчас сюда приведут Скульского, и я вызвал вас, чтобы получили удовольствие от разговора с самим Президентом. Майор устроился возле Коренчука, лейтенант, возбужденный прерванной беседой, хотел продолжить ее, но дверь открылась и в кабинет вошел Президент в сопровождении милицейского эскорта. Взяли Президента вчера вечером дома на Русановской набережной, и он имел возможность одеться в соответствии с предстоящим образом жизни. Видно, был человеком практичным, потому что выбрал джинсовый костюм, темную водолазку и туристические ботинки на толстой подошве. Президент остановился посреди комнаты, внимательно осмотрел присутствующих, остановил взгляд на Хаблаке и сказал: — Вот видите, майор, встретились снова, а вы тогда не поверили мне... — Не было достаточных оснований для знакомства, — уклончиво ответил Хаблак. — Были, — энергично опроверг Президент, — и вы напрасно не вышли в коридор. — Вы что. надеялись купить меня? — Все покупается и продается, майор. — А вы нахал, — не выдержал Коренчук. — И во сколько же оценили майора милиции? — К сожалению, дорого, — вздохнул Президент. — Я дал бы столько, что ему и не снилось. И никогда не приснится даже в самых розовых снах. — Да, уж давать вам было из чего, — согласился Коренчук. — Нагребли... Сколько у вас взяли? Кажется, только наличными под семьдесят тысяч? Не считая сберегательных книжек, валюты и ценностей... — Садитесь, Скульский, — приказал Дробаха, — надеюсь, вы хоть теперь поняли, что не все у нас продается и покупается. — Нет, — покачал головой Президент, — не понял и никогда не пойму. Что бы ни говорили, знаю: все берут, надо только не ошибиться, сколько кому дать. — Голову надо на плечах иметь! — зло воскликнул Коренчук. — Тогда бы понял — не все. Скульский махнул рукой, оставаясь при своем мнении, аккуратно подтянул брюки на коленях и сел, закинув ногу на ногу. — На каком основании все же меня задержали? — спросил. — Я не советовал бы вам петушиться, — заметил Дробаха. — Вы обвиняетесь в спекуляции листовым алюминием, организации взрыва в аэропорту, соучастии в убийстве гражданина Манжулы Михаила Никитовича, я уж не говорю о том, что давали взятки служебным лицам. — А какие, собственно, у вас доказательства против меня? — Все в свое время, Скульский. Вы нигде не называли своей фамилии, считали, что ни Гудзий, ни Хрущ не смогут выдать вас. Но они узнали вашу физиономию но фотографиям. Вы обвиняетесь, Скульский. в расхищении социалистической собственности в особо крупных размерах. — Сейчас вы скажете, что только чистосердечное раскаяние смягчит мою вину и суд учтет это... Старая песня, гражданин следователь, и не надо меня агитировать. Не буду я вам помогать: докажете — признаю, не докажете — нет. Сами понимаете, у нас с вами абсолютно противоположные взгляды, мы с вами враги, гражданин следователь, вы стремитесь к одному, я — совсем к другому, мне ваши законы вот тут сидят, — хлопнул себя по затылку, — они связывают меня по рукам и ногам, я против них и против вас, жаль только, что проиграл. — Да вы не могли не проиграть, — Дробаха поднялся во весь рост и показался Хаблаку выше, чем обычно. — Не говорите... — блеснул глазами Скульский. — Ведь вы же случайно вышли на нас. — Нет, Скульский, вы проиграли уже тогда, когда только начали свою аферу. Как таракан, хотели спрятаться в любую щелку, почувствовали, что с листовым алюминием дело швах, перекинулись на полиэтилен — видите, мы знаем даже это, хотя еще и не задержали Шиллинга, по обязательно задержим, теперь никто из вашей шайки не уйдет от расплаты. — Не знаю я никакого Шиллинга, даже и не слышал о таком, — возразил Президент. — Это еще не все, Скульский. Вы думали, что удастся взорвать самолет, вам не жаль было десятков людей, вам вообще никого и ничего не жаль, вы хищник, Скульский, и мы не можем мириться с такими в нашем обществе! Дробаха вызвал конвоира и приказал увести Президента. Скульский, опустив голову, направился к дверям, а Дробаха бросил ему в спину: — Мы взорвали ваше логово. Скульский, и не будет пощады таким, как вы. Никогда и никому! Дробаха поднял руку, как будто произносил клятву, а Хаблак отошел к открытому окну. Подумал: молодец. Иван Яковлевич, хорошо сказал — и правда, они взорвали логово преступников, теперь можно хоть на время перевести дух. Майор сел на подоконник боком, засмотрелся на небо, вдруг заметил серебристый отблеск далеко под солнцем: самолет, охваченный со всех сторон его лучами, скользил в синеве. Одинокая крапинка двигалась в прозрачной высоте, казалось, бросая вызов вечному покою. Хаблак подумал: сколько их пронзают небо над материками и океанами! Летят с севера на юг, с востока на запад, будоража небесный простор ревом моторов.1982 г., Киев
СКИФСКАЯ ЧАША
В кабинете директора издательства кроме хозяина сидели еще двое. Одного из них майор уже знал — художник Петро Данько. Рядом с ним на диване примостился мужчина средних лет с глубоко посаженными пронизывающими глазами, скуластый, немного похожий на монгола, но белесый. У него была не только белая шевелюра, но и брови, контрастировавшие с темными острыми и умными глазами. — Василь Ярославович Петренко, — представил его директор. — Секретарь нашей парторганизации. Вчера отсутствовал. Он мог бы и не пояснять этого, Хаблак и сам знал, что Петренко вчера не пришел на встречу с Хоролевским, но директор счел необходимым заметить: — Сын Василя Ярославовича в детском саду, и он ходил за ним. — Вы говорите это так, — улыбнулся Петренко, — словно оправдываете меня. Но вот случилось чепе, бросающее на нас тень, и мы не должны успокаиваться, пока не найдется эта проклятая чаша. Прошу вас, майор, скажите, чем мы можем помочь? Весь коллектив к вашим услугам. Директор предостерегающе покачал головой, видно, ему не очень понравилась категоричность секретаря — тот понял его, но упрямо взмахнул рукой и продолжал: — Именно так, Микола Семенович, весь коллектив, я говорю это вполне сознательно, потому что один какой-то негодяй не может запятнать его. Как говорится, в семье не без урода, но всех наших сотрудников я не позволю позорить! — Он бросил острый взгляд на Хаблака, будто тот уже начал позорить работников издательства, и, несколько задетый, майор возразил: — Никто не собирается бросать тень на ваше издательство, более того, мы надеемся на вашу помощь. Потому что без нее мы как без рук. И просим вот что... — и Хаблак рассказал, что надо попытаться найти «жучка», которым вчера была замкнута электросеть. — Сделаем, — заверил Петренко, — сейчас попрошу сотрудников, а мы с Данько поищем на клумбах. Чувствовалось, что это энергичный человек, привыкший относиться ко всему серьезно, и это понравилось майору. Он приказал Зозуле обойти соседние дома и опросить их жителей, а сам присоединился к Петренко и Данько. Прежде всего они еще раз осмотрели газоны между зданием издательства и тротуаром, вчера уже искали здесь при свете автомобильных фар, но Хаблак вполне резонно решил, что в темноте могли чего-нибудь и не заметить. К сожалению, поиски ничего не дали: несколько окурков, скомканная пачка сигарет «Славутич», фольга от шоколада — вот, собственно, и все. Во дворе между клумбами играли дети, они с удивлением смотрели, как трое взрослых дяденек разыскивают что-то в газонах и на клумбах. Хаблак засмотрелся, как резво прыгает девчушка лет пяти, как болтаются у нее косички с розовыми бантиками, стоял и думал, что вот скоро и у них с Мариной будет ребенок. Марина хочет девочку, а если хочет Марина, то, значит, и он, и действительно, что может быть лучше такой девчушки со смешными косичками? Он вздохнул и склонился над цветами — целая клумба красной сальвии, она цветет до самых морозов, красивый и нетребовательный цветок, вот рядом цинии уже привяли, а сальвия еще, кажется, только набирает силы. — Иди-ка сюда, майор, — вдруг услышал он и увидел, как машет ему руками с соседней клумбы Данько. Присел на корточки среди увядающих циний, уставился на что-то и машет руками. — Кажется, нашел!.. Хаблак двумя пружинистыми шагами пересек асфальтированную дорожку, подошел к Данько. Раздвинул пожелтевшие цветы и увидел среди них штепсель. Обыкновенный штепсель с обгоревшей вилкой. Данько потянулся, чтобы взять, но майор перехватил его руку. Молодой человек удивленно посмотрел на него, но Хаблак не стал ничего объяснять, достал платок и осторожно взял штепсель. — Отпечатки пальцев? — сообразил наконец Данько и заговорщицки подмигнул капитану. — Так... — пробормотал Хаблак. Понюхал штепсель — резко пахло горелым, как вчера из розетки, оголенная проволока, которой были соединены контакты, успела обгореть и почернеть. Подошел Петренко. С любопытством посмотрел на находку. — Первый успех? — спросил он. — Данько всегда везет. — Так уж и везет, — возразил тот, но откровенно и радостно улыбнулся, опровергнув этой улыбкой свои же слова. — Баловень судьбы! — не сдавался Петренко. Посмотрев на Хаблака, спросил: — А теперь следует установить, откуда штепсель? Майор подумал, что одно удовольствие иметь дело с такими понятливыми ребятами. — Правильно, — подтвердил он. — Вы читаете мои мысли. Вероятно, этот штепсель взят где-нибудь в издательстве. — Сомневаюсь, — покачал головой Данько. — Надо совсем уж не иметь головы... — Э-э, даже опытные преступники допускают такие ошибки. — Вам виднее, — охотно согласился Данько. — Сейчас осмотрим все настольные лампы. А в корректорской и в производственном отделе еще и плитки. — Электрический чайник у младших редакторов, — добавил Петренко. Хаблак завернул находку в платок, и они поднялись на второй этаж. Петренко с Данько пошли осматривать электроприборы и лампы, а майор заглянул к директору. Они условились, что тот нарисует схему расстановки мебели в кабинете во время вчерашней встречи с археологом и обозначит, кто где сидел. Особенно интересовало Хаблака, кто занимал стул у открытого окна. Оказалось: заведующий одним из отделов издательства Панас Сергеевич Балясный. Майор попросил вызвать его, и буквально через несколько минут в кабинет заглянул пожилой лысоватый мужчина, полнолицый и толстый, с двойным подбородком и довольно внушительным брюшком. Он, правда, пытался затянуть его ремнем, но живот вываливался, натягивая сорочку, Балясный стеснялся этого, все время поправлял пиджак. Хаблак указал на стул у окна и спросил: — Вчера вечером вы сидели здесь? — Да... — ответил он, и сплетенные на животе пальцы зашевелились. — Но я не понимаю вас: неужели вы думаете... — Нет, — положил конец его тревоге майор. — Конечно, нет, уважаемый Панас Сергеевич, однако нам надо выяснить, кто открыл окно и когда. Кстати, вы все время сидели на этом месте? — Да, с самого начала и до момента... Ну с чашей... — Когда погас свет? — Когда зажгли спичку, — уточнил Балясный. — Сколько же прошло времени с того момента, когда погас свет, и до того, как Данько зажег спичку? Хаблак знал, что именно Данько зажег первую спичку, потом зажигали еще, кто и когда, трудно было установить, но первую зажег Данько. Балясный немного подумал. Ответил не совсем уверенно: — Думаю, полминуты... Может, несколько больше... Никто не мог ответить точно, сколько времени имел в своем распоряжении вор. Одни говорили: секунд двадцать, другие — около минуты. Данько считал, что тридцать — тридцать пять секунд. И вот Балясный подтверждает это. Полминуты — совсем не много, и расчет у вора должен быть точный. — Когда свет потух, никто не подходил к окну? — спросил майор. — Ведь только около вас было открытое? — Да, единственное открытое окно. И по-моему, никто в темноте ко мне не приближался. Хаблак подошел к столу, на котором вчера стояла скифская чаша. — Пересядьте, пожалуйста, на тот стул, где сидели вечером, — попросил он. Балясный почему-то жалобно вздохнул и пересел — осторожно, на край стула. Майор прикинул на глаз расстояние от стола до окна. — Приблизительно четыре метра, — констатировал он. — За тридцать секунд вполне можно было тихонько подбежать к столу, схватить чашу и выбросить ее в открытое окно? — Можно, — подтвердил директор. — И я так думаю. — Хаблак сел на какой-то стул у стены, посмотрел на часы, выждал три-четыре секунды, порывисто вскочил, подбежал к столу, сделал вид, что схватил что-то на нем, повернулся к окну, еще шаг, размахнулся, будто что-то выкинул в него, и поглядел на часы. — Еще шесть секунд... Вместе десять. Накинем еще три-четыре секунды, чтобы незаметно вернуться на свое место. Даже толкнуть соседа, чтобы потом подтвердил: сидел все время и не поднимался со стула. — Рискованно, — возразил директор, — мог промахнуться, разбить окно, наделать шума. Балясный как-то виновато улыбнулся и прибавил: — Никто не мог выбросить чашу в окно. — Это почему же? — резко повернулся к нему Хаблак. — Потому что окно на это время закрыли шторой. Точнее, все окна. Хоролевский демонстрировал фильм, а на улице — фонари... — Но может быть, закрыли не совсем? — У майора еще тлела какая-то надежда. — Ну осталась щель приблизительно в ладонь. — Балясный поднял мягкую вспотевшую руку. — В такую щель чашу еле просунешь. А я там все же сидел рядом и непременно бы заметил... У Хаблака на секунду шевельнулась неприязнь к этому брюхану: первая версия сразу лопнула как мыльный пузырь — и следа не осталось. Но почему он сердится на Балясного? Благодарить надо человека за то, что расследование не пошло ложным путем! Сколько времени могли бы потерять понапрасну! «А если он сам? — на мгновение шевельнулась мысль, но майор сразу же отбросил ее как недостойную. — Если бы Балясный был причастен к краже чаши, непременно ухватился бы за Зозулину версию, она, так сказать, работала на него. Да и какой умный вор даст заподозрить себя сразу?» А то, что он имеет дело с человеком умным и дальновидным, Хаблак чувствовал интуитивно — конечно, он продумал свои действия, и не один. Хаблак отпустил Балясного. Директор смотрел на него вопросительно, однако что мог сказать ему майор? Что расследование пока фактически не сдвинулось с места? В кабинет заглянул Петренко. Хаблак посмотрел на него с надеждой, однако парторг в ответ лишь пожал плечами. И все же он принес добрую весть. — Кажется, мы нашли, откуда украден этот злосчастный штепсель, — сообщил он, правда, не очень уверенно. — Из лампы Юхима Сидоровича. — Крота? — быстро уточнил Хаблак. — Завхоза? — Именно так, — нагнул голову Петренко, — и Данько там сейчас выясняет отношения... Хаблак не дослушал его: выскочил из кабинета и быстро направился в каморку завхоза. Еще на подходе к ней услышал возбужденные голоса и покачал головой: зря, ох зря Данько ругается с завхозом — тоже мне доморощенный следователь, и зачем вмешиваться не в свои дела? Крот сидел, прижавшись к прямой спинке стула, очки у него сдвинулись на кончик носа, смотрел близоруко и с любопытством, даже протянул руки вперед с растопыренными пальцами, словно собирался защищаться или, по крайней мере, не подпустить к себе разгневанного Данько. А тот держал в руке лампу, покачивая ею, и длинный черный шнур извивался как гадюка. — Какой штепсель? Чего цепляешься ко мне? Тебе штепсель нужен? Вместе с лампой? — Глаза у Крота блестели гневно. — Бери и катись ко всем чертям! Хаблак не совсем вежливо отобрал у Данько лампу. Примостился на ящике напротив завхоза. Данько и Петренко стояли в двери, отгораживая ее от коридора. — Понимаете, майор, — начал Данько, — издательство закупило новые настольные лампы года четыре назад. Все они с черными штепселями, а тут — коричневый. И явно новый. Хаблак осмотрел штепсель. Действительно, новехонький, контакты даже поблескивают желтизной. Спросил: — Починяли недавно? Завхоз говорил раздраженно, брызгая слюной: — И вы такой!.. Я уже говорил Данько, знать не знаю и ведать не ведаю. Ну чего прилепился с этим штепселем? Хаблак вытащил из кармана завернутый в платок черный штепсель, найденный на клумбе. Показал завхозу. — Его кто-то выбросил вчера вечером через окно во двор, перед этим испортив им свет в издательстве. Глаза у Крота округлились. — Вот оно что! — испуганно воскликнул он. — И вы считаете, что он от моей лампы? — Возможно. — Я не менял штепсель. — Кто же? — Если бы знал... Хаблак внимательно осмотрел обгорелый штепсель. — Тут сохранились отпечатки пальцев, — сказал он и сразу же поправился: — По-моему, сохранились, отдадим сегодня на экспертизу. И придется взять отпечатки ваших пальцев, уважаемый Юхим Сидорович. Прошу вас приехать сегодня в городской угрозыск. Завхоз сразу поник. — Ну а если мои отпечатки? — спросил он. — Значит, ты, старый черт, испортил вчера электричество, — воскликнул Данько раздраженно. — А сейчас придуриваешься. Хаблак остановил художника коротким решительным жестом. — Кто вам дал право обижать человека, Петро? — укоризненно спросил он. — Может, я не прав? Так кто же еще? Он сделал «жучка», а потом выбросил его. Думал: концы в воду, а мы нашли! — Если на штепселе действительно отпечатки пальцев гражданина Крота, — сказал Хаблак серьезно и с оттенком официальности, — то это будет свидетельствовать только о том, что штепсель от его лампы. А кто сделал «жучка», узнаем. Завхоз поднял вверх палец. — Слышишь разумного человека, Данько? — спросил он с вызовом. — Не говори вор, пока за руку не схватил! — Схватим, — пообещал Данько с вызовом, но Петренко нажал ему рукой на плечо, призывая успокоиться. — Ваша комната запирается? — спросил Хаблак Юхима Сидоровича. — Конечно. Все комнаты в издательстве запираются. — И ключи висят на доске у вахтера? — Да. — А бывает, что вы выходите, не заперев за собой дверь? — Конечно, зачем же каждый раз запирать? У меня стол да стул, больше ничего. Кладовку запираю, там издательское имущество, его надлежит запирать, а тут что? Тут ничего не возьмешь. — Никому не одалживали лампу? — А у нас во всех комнатах есть. Чего-чего, а ламп хватает. — Может, кто-нибудь сам взял? — И я так считаю. Взял и заменил штепсель. — Ты нам голову не задуряй! — не выдержал Данько. Хаблак вынужден был одернуть его. — Очень прошу вас не мешать, — попросил он. — Но это же прямое доказательство: штепсель с его лампы! — Не прямое, а косвенное. Обвинение не может опираться на такие доказательства. — Мне ваша юридическая эквилибристика ни к чему! — А я — представитель закона и прошу его уважать! — неожиданно рассердился Хаблак. Он взял у завхоза газету и завернул в нее лампу. Увидев из-за плеча Петренко возбужденное лицо Зозули, подумал: разнюхал лейтенант что-то. Извинившись, встал с ящика. Данько смотрел на него разочарованно, наверное, думал, что майор если не задержит Крота, то применит к нему какие-то санкции, возьмет хотя бы подписку о невыезде. Но Хаблак только и сказал: — Так я прошу вас, Юхим Сидорович, этак через час заскочить к нам. Адрес знаете. Крот ничего не ответил, лишь хмуро кивнул, но майор не обратил внимания на его неучтивость. В конце концов, он не может требовать, чтобы каждый снимал перед милицией шляпу. Зозуля горячо зашептал Хаблаку на ухо: — Нашел двоих... Одна бабуся сидела с ребенком на лавочке среди клумб, другая из окна заметила... белую двадцать четвертую «Волгу». Машина стояла у дома, и бабка утверждает, что кто-то из издательства к ней подходил. Какой-то мужчина... Приблизительно в то же время, когда погас свет. Сообщение было достойно внимания, и Хаблак отреагировал на него сразу. — Где бабуся? — спросил он. Зозуля ткнул пальцем в пол: — Внизу с внучкой. Она сидела на лавочке в теплом пальто и мягких, на меху, туфлях, хотя солнце припекало совсем по-летнему и воздух прогревался градусов до восемнадцати. Закуталась старушка в на диво цветастый большой платок с яркими разноцветными розами на темном фоне — такими платками гордиться красивым девчатам и модницам, а тут из-под него выглядывали совсем седые пряди и повязан он был под сморщенным, острым от старости подбородком. Но глаза у старушки светились совсем по-молодому, не старческие утомленные глаза, а живые и пытливые, и Хаблак понял, почему эта пожилая женщина носит такой яркий платок. Майор сел рядом на лавочку. Зозуля примостился с другой стороны, наклонился к старушке и попросил, угодливо заглядывая ей в глаза: — Расскажите майору... Все что видели. Женщина перебрала сморщенными пальцами край платка. Хаблак успел увидеть, что ногти у нее аккуратно подстрижены, покрыты прозрачным лаком. Майор почему-то подумал, что имеет дело с бывшей артисткой, которая привыкла серьезно относиться к своей внешности, к тому же небось не приходится готовить обеды с ежедневной чисткой картофеля, — должно быть, варит внучке яйца или манную кашу, а это, конечно, не отражается на маникюре. Хаблак невольно почувствовал неприязнь к старушке, может, потому, что вспомнил: Марина именно сейчас, наверное, чистит картошку, готовит мужу обед, знает, что он любит тонко нарезанный, хорошо поджаренный хрустящий картофель, его следует есть горячим, прямо со сковородки, но он сегодня вряд ли вырвется на обед. Вечером Марина разогреет, и картошка от этого не потеряет вкуса. Он будет есть ее и смотреть на жену — разве может быть невкусной еда, приготовленная ею? Воспоминание о Марине растрогало Хаблака, и он уже совсем ласково посмотрел на старушку и спросил: — Вчера вечером вы сидели здесь и, лейтенант говорил, видели какую-то белую «Волгу». Как вас зовут и где живете? Старушка подобрала под себя меховые туфли, — наверное, несколько стеснялась их, — и ответила густым, хорошо поставленным, совсем не старческим голосом: — Виктория Анатольевна Старицкая. Я гуляю с внучкой до девяти — полтора часа каждый вечер. В любую погоду. И вчера гуляли, вечера совсем летние, грех не подышать воздухом. Хаблак успел подумать, что старушка слишком разговорчива и следует направить разговор в точно обозначенное русло, однако, вероятно, она почувствовала то же самое, потому что вдруг решительно оборвала эту свою длинную тираду и сказала совсем иным, деловым тоном: — Зачем все это? Должно быть, вам неинтересно. Да и кого это может интересовать? Короче, смотрю — подъехала «Волга». Еще фарами блеснула, стемнело уже, блеснула и остановилась вон там, где кусты сирени. Возле угла дома. А зачем сюда заезжать? Дети не играют, можно поставить машину на улице. Тем более никто из «Волги» не вышел, фары водитель выключил, сидит и ждет кого-то. Я и подумала: кого? Может, девушку? Интересно, не из нашего ли дома? Кому же это посчастливилось в белой машине кататься? Водитель, видно, терпеливый, четверть часа ждал, потом в издательском доме двери хлопнули и парень выскочил. Спешил, потому что почти бежал, открыл дверцу «Волги», переднюю с этой стороны, о чем-то с водителем поговорил и назад побежал. Старушка перестала играть бахромой платка, положила руки в карманы. Хаблак несколько секунд осмысливал услышанное. Спросил, с надеждой взглянув ей в глаза: — Случайно не заметили: свет в это время в издательских окнах не гас? — Нет, — не раздумывая ни секунды, ответила старушка, — окна темные были — поздно уже и никто не работал. Я еще удивилась: что этому молодому человеку вечером там делать? Хаблак быстро прикинул: во двор выходили окна издательских комнат, в которых во время вчерашней встречи с археологом никого не было. Директорский кабинет, комната завхоза и окна из коридора, где сидела вахтерша, выходят на улицу. Но кто-то из сотрудников мог же забыть выключить в своей комнате свет... Хаблак уточнил: — Вспомните, пожалуйста, все окна на втором этаже издательского дома были темные? Может, какое-то светилось? Женщина покачала головой, однако ответила не так уверенно, как раньше: — Нет, кажется, нет... — А в котором часу выбежал из издательства мужчина, что разговаривал с водителем белой «Волги»? — Около восьми. Простите, у меня нет часов, но мы с Катрусей выходим в половине восьмого, потом нас в девять зовет сын, — показала головой на пятиэтажный дом. — Так, значит, гуляли совсем мало, когда машина подъехала, а потом, я же говорила, с четверть часа водитель ждал кого-то. Выходит, что-то в восемь или чуть раньше. Все совпадало. Свет в издательстве погас без пяти восемь. Хаблак подумал, что старушка наблюдательна, у нее зоркий глаз и совсем не старческий ум. По крайней мере, не страдает от склероза. Вдруг у майора мелькнула одна мысль, и он спросил: — Вы сидели на этой лавочке? — Да. — Двери, что из издательства, слева, — раздумчиво продолжал Хаблак, — стало быть, вы могли видеть только спину мужчины, когда он шел к «Волге». Не так ли? — Разумеется. — Но ведь было темно. — Фонарь... — кивнула старушка на столб, стоявший чуть в стороне. — Могли бы опознать того мужчину? Она подумала и покачала головой: — Нет, фонарь мутный и, знаете, тени... — Вы сказали: выскочил парень. Значит, видели его. Или как определили возраст? Старушка засмеялась. — Должно быть, я потому так сказала, что ожидала увидеть девушку. Знаете, на таких роскошных «Волгах» девушки очень любят кататься. Я и подумала... — Мужчина, который вышел к машине, был без пальто и шляпы? — Кто же сейчас ходит в пальто? Это мы уже старые косточки греем, а молодые... — Молодые? Стало быть, это был все же молодой человек? — Конечно, молодой. Я же говорила: молодой человек. — Почему вы так считаете? — Ну, знаете, я еще могу отличить парня от солидного мужчины. Фигура и походка, да, походка у молодых совсем иная. Чувствуется легкость. — Простите, Виктория Анатольевна, вы в театре не работали? — полюбопытствовал майор. — Откуда вы знаете? — Так, догадался... Старушка выпрямилась на скамейке. С горечью сказала: — В моем возрасте еще играют. И вообще актер должен умереть на сцене. Но теперь не театры, а... — махнула она рукой. — Интриги? — неопределенно протянул Хаблак. — И не говорите: знаете, что такое театр!.. Майор знал, этот разговор может оказаться бесконечным. Решительно перебил: — В каком костюме был парень: светлом или темном? Виктория Анатольевна покачала головой: — Трудно сказать. В темноте да еще издали... Вечером все кажется темным. — Что-нибудь держал в руках — портфель, сумку? — Нет. — Прошу вас подумать, это очень важно. — А что мне думать? Махал рукой и спешил, шагал быстро. — И ничего не прятал под пиджаком? Она усмехнулась с откровенной издевкой: — Как можно заметить? Майор показал, как прижимают рукой что-нибудь, когда стараются спрятать под одеждой от посторонних глаз. Старушка закрыла глаза. — Нет, — твердо ответила она, — не возьму греха на душу. Может, что-нибудь и нес... — И передал водителю «Волги»? — вмешался лейтенант. — Случайно не заметили? — Ну что вы, милый! Видите, какое расстояние. Да и кусты сирени заслоняют. Майор подумал, что этой наблюдательной бывшей актрисе надо показать Власюка. Может, и опознает. А то, что с водителем белой «Волги» общался редактор Власюк, у Хаблака сомнений не вызывало. Уточнил: — Он был высокий? — Выше среднего роста. — Точно, — улыбнулся майор, — выше среднего и худой. — Откуда вы знаете? — Она посмотрела на него настороженно. — Не знаю, я догадываюсь. — А-а... — махнула рукой Виктория Анатольевна. — Шутите... — В нашей работе шутки противопоказаны, — вполне серьезно ответил майор. — Кроме этого парня, никто оттуда не выходил? — Не знаю. «Волга» двинулась, а мы с Катрусей пошли на улицу. — Спасибо вам, Виктория Анатольевна, вероятно, мы еще вас побеспокоим. Не возражаете? — Что вы, заходите, всегда рады, мы живем в восьмой квартире, лейтенант уже записал. Хаблак положил Зозуле руку на плечо. Конечно, записал, не мог не записать — молодец лейтенант, нашел такого ценного свидетеля. Интересно, что скажет вторая женщина? Майор поклонился Старицкой, подумав, что с такой театральной фамилией можно было бы еще поработать на сцене, не говоря уже о совсем не старческой энергии Виктории Анатольевны. Шел, пропустив вперед Зозулю, и ощущал на спине взгляд старухи — цепкий, оценивающий. «Как теперь запоет Власюк? — думал он. — Немного погодя мы покажем его Старицкой, сейчас побеседуем с другой свидетельницей, а потом уже и с Власюком. Как вы сейчас поведете себя, уважаемый Андрий Витальевич?» Новая свидетельница, Евгения Яковлевна Лиходид, жила в том же доме, что и Старицкая, — на четвертом этаже в однокомнатной квартире. Она рассказала об этом сразу, подчеркнув, что получает персональную пенсию и имеет право на многие льготы, а эту квартиру ей дали, когда она еще работала заместителем директора фирмы «Утро» — кто в Киеве не знает фирму «Утро», нет услуг, которых бы не оказывала эта фирма, а Евгения Яковлевна основала ее. Она явно изнемогала от вынужденного безделья. Хаблак заметил это и едва удержался от легкомыслия — хотел посоветовать хозяйке квартиры и сейчас помочь фирме и принять участие в обслуживании населения — нянчить детей или убирать помещения, но вовремя одернул себя: персональная пенсионерка была преисполнена собственного достоинства, могла и обидеться. Подошел к распахнутому окну, через которое Лиходид заметила белую «Волгу». Действительно, место стоянки машины просматривалось неплохо. Спросил у женщины: — Где стояла «Волга», которую вы видели вчера вечером? Евгения Яковлевна перегнулась через подоконник, внимательно огляделась, будто видела все впервые, и только после этого указала на кусты сирени: — Вон там, возле угла издательства. — Номера не заметили? — Отсюда не видно. Да и темно было. — Белая «Волга?» — Да. Когда-то я ездила точно на такой же. Даже подумала: Иван Васильевич заглянул. Новый директор фирмы, — пояснила она. — Да кому я нужна теперь? Когда-то мы уважали ветеранов, открытки писали и подарки покупали, а что он, тридцатилетний, понимает? Одним словом — молодежь... Майор не совсем разделял такое отношение Евгении Яковлевны к современной молодежи, его самого в управлении еще называли «молодым кадром», но спорить не стал. Лишь подумал, что ему сегодня везет на свидетелей — обе женщины при внешней абсолютной несхожести чем-то были все же сходны друг с другом, вероятно, недовольством нынешней судьбой и неизрасходованной энергией — Старицкая хоть нянчила внучку, Евгения Яковлевна живет одна, а что может быть горше одиноких вечеров в пустой квартире на старости лет? Хаблак быстро выяснил, что белая «Волга» действительно, как утверждала и Старицкая, подъехала около восьми часов и исчезла минут через пятнадцать. Правда, Евгения Яковлевна не видела парня, общавшегося с шофером, вспомнила, что в это время переодевалась: она все-таки подумала, что к ней заглянул нынешний директор «Утра», а какая женщина, даже в годах, захочет показаться на людях в домашнем халате? Тем более что Лиходид, невзирая на свои шестьдесят с лишним, еще подкрашивала губы и брови. Собственно, встреча с Евгенией Яковлевной не прибавила ничего нового к уже известному Хаблаку, но то, что Лиходид видела, как отъезжала «Волга», и запомнила, что это произошло за несколько минут до восьми, имело очень большое значение и укрепило намерение майора сразу поговорить с редактором Власюком. И не просто так, как вчера в издательстве, а в официальной обстановке в управлении. Майор послал за Власюком Зозулю, а сам поехал в уголовный розыск. Вчера Хаблак завидовал американским джинсам Власюка и желтой кожаной куртке, сегодня же тот появился в вельветовой «тройке» темно-зеленого цвета и таких же туфлях, несколько более светлых, но, наверное, тоже импортных. Хаблак усмехнулся: костюмами его удивить трудно, небрежными позами тоже — Власюк сидел на жестком казенном стуле, как в просторном мягком кресле: свободно положив ногу на ногу и покачивая вельветовой туфлей. — Вот что, Андрий Витальевич, — майор придвинул Власюку бумагу, — прошу внимательно ознакомиться и расписаться, потому что разговор у нас предвидится серьезный, а за ложные показания, согласно закону... — Знаю, — перебил Власюк и расписался не глядя. — А если знаете, то прошу ответить: с какой целью и куда вы вчера выходили из кабинета директора издательства во время встречи с археологом Хоролевским? Вельветовая туфля описала дугу в воздухе и опустилась на пол. Власюк немного постучал ею, словно скучные вопросы настырного капитана угрозыска если не раздражали его, то, по крайней мере, лишали душевного равновесия, но спокойно ответил: — По-моему, вчера мы с вами, майор, обсудили эту проблему, и добавить мне нечего. — И вы утверждаете, что не выходили из здания? — Разумеется. — Так и запишем. — Конечно, это ваша обязанность. — Моя обязанность — установить истину. — Я вам сочувствую. Хаблак рассердился, однако ничем не проявил этого. Подчеркнуто вежливо спросил: — И не подходили к белой «Волге», которая ждала вас возле издательства? Власюк задумался лишь на две-три секунды, но ответил не колеблясь: — Вы что-то путаете, майор. — Я прошу вас ответить. — Как же я мог подойти к какой-то мифической «Волге», если не выходил из здания? — Вы утверждаете это? — Да. Хаблак записал ответ в протокол, искоса поглядывая на Власюка. Сидит прямо и не отводит взгляда, даже иронически улыбается. Подвинул протокол Власюку. — Прошу расписаться. — Это все? — Он удивленно поднял брови. — И для этого надо было вызывать меня в милицию, заказывать пропуск? — Да, именно для этого. — Майор вдруг подумал, что этот вельветовый пижон никуда от него не денется. Улыбнулся Власюку почти дружелюбно и серьезно сказал: — Мы постараемся разыскать эту белую «Волгу» и тогда вернемся к нашему разговору. — Ищите, — пожал плечами Власюк, но Хаблак заметил, что тот как-то весь напрягся. — Ищите, — повторил он, — меня это не касается. — Как сказать... — Майор подписал пропуск, подал Власюку. — Пожалуйста, можете идти. Смотрел, как тот идет к двери, как открывает ее. Но Власюк не выдержал и оглянулся. Хаблак перехватил его взгляд и понял, что выиграл этот маленький поединок: он мог голову дать на отсечение, что заметил в глазах Власюка страх. Сидел и думал: как найти белую «Волгу»? В городе не одна сотня таких машин, да и вообще, если водитель причастен к преступлению, никогда в жизни не признается... А ты попробуй доказать, что именно он стоял возле издательства! Шофера ведь никто не видел... Так уж и никто? Ведь «Волга» простояла четверть часа, и за это время мимо нее прошел не один десяток людей. Правда, кто в наше время обращает внимание на машину? А может, все же кто-то и обратил... Хаблак позвонил Зозуле. — Все начинаем сначала, Федя, — сказал он не совсем оптимистично. — Ты опросил жильцов пятиэтажного дома рядом с издательством, давай, старик, займемся еще двумя домами. — Они же далеко, что из них увидишь? — уверенно возразил лейтенант. — Думать надо, Федя, — мягко, но не без иронии ответил майор, — а если кто-то из их обитателей, возвращаясь домой, прошел мимо «Волги»? И случайно запомнил номер? — И с нетерпением ждет нашего прихода, чтобы назвать его... — Да, с нетерпением, — подтвердил Хаблак. — А мы вынуждаем человека ждать. Давай, Федя, наш персональный троллейбус уже стоит на улице.
Утром Сергей сразу же отправился в издательство. Лейтенант Зозуля должен заехать в управление, заглянуть к экспертам и присоединиться к майору. Хаблак зашел к Данько — у того был отдельный кабинет, майор решил воспользоваться этим и расспросить художника о Власюке. Он удобно уселся на стуле, свободно вытянув свои длинные ноги. Данько закурил, пустил дым в потолок, немного подумал и сказал: — Попробую быть объективным, хотя, честно говоря, не нравится мне Власюк, вот не нравится, и все, а фактов у меня нет. Скрытный какой-то и пижон, знаете, привык смотреть на людей сверху вниз, тоже мне умник. Ну пишешь рассказы и пиши, а он возгордился... Понимаете, — объяснил он, — у него вышла книжечка, обыкновенная первая книжка, ну похвалили, но зачем же нос задирать? — А рассказы действительно хороши? — Я в литературе не очень-то... — откровенно признался Данько, — говорят разное. — Это уже хорошо, если разное. — Отец у него какая-то шишка в министерстве торговли, — продолжал Данько. — Я бы не афишировал этого, а он видите какие костюмы носит. Майор вспомнил желтую кожанку Власюка и в знак согласия кивнул. — Человек, привыкший все иметь без особых трудностей? — спросил он. Данько отрицательно покачал головой. — Не совсем так. Власюк — один из наших лучших редакторов, на него нет жалоб, и авторы любят работать с ним. Говорят, что требователен, но справедлив. Несколько самоуверен. — Это не так уж и плохо. — Конечно. — Нелюдимый? — Неразговорчивый. Знает себе цену и не болтун. — То, что не болтун, кому-кому, а мне уже известно, — засмеялся Хаблак. — Считаете, что Власюк причастен к краже? — Ничего я не считаю, мы собираем факты и только на основе фактов сможем обвинять. — А чем вам не факт — он единственный выходил из кабинета, когда погас свет? — Но ведь Власюк утверждает, что вышел, когда Хоролевский еще показывал фильм. — Он вам нарассказывает... Никто не видел этого. — Потому что все смотрели на противоположную стену с экраном. Власюк мог выйти незаметно? — Мог, — неожиданно быстро согласился Данько. — А что это за история с белой «Волгой»? — Откуда вы знаете? — Так ведь ваш лейтенант расспрашивал... Не видели ли ее раньше у издательства? Может, подвозила Власюка?.. — Действительно, интересно было бы узнать. — А вы побеседуйте с девушками из техредакции. У них окна во двор выходят, и девушки там любопытные, все видят и знают. — Угу, — согласился Хаблак, — расспрошу. А с кем Власюк дружит в издательстве? — Я же говорил, несколько нелюдимый... Пижон пижоном, однако с девушками не общается, чего нет, того нет. А в издательстве близок только с Ситником. Они в одной редакции, Ситник и Власюк, почему сблизились — не знаю. Олег любит выпить и девушек не пропускает, полная противоположность Власюку. Легкий парень, бывают, знаете, такие... — Данько не договорил, потому что в комнату заглянул светловолосый молодой человек в спортивной куртке. Остановился в дверях, увидев Хаблака. Майору даже показалось, что он чуточку растерялся. — Дай закурить, Петя, — попросил он. Данько вытащил из ящика стола пачку сигарет, бросил через всю комнату. Парень протянул длинную руку с большой ладонью, сигаретная пачка будто прилипла к ней. Вытащил зубами сигарету. — Держи! — и бросил пачку так, что она закрутилась в воздухе и аккуратно легла на стол напротив Данько. Парень вышел, и Данько пояснил: — Легок на помине этот Ситник. Хаблак представил себе, как проворно бросил молодой человек пачку, и вдруг насторожился. — Ситник был на встрече с Хоролевским? — спросил просто так, для приличия, потому что сразу вспомнил, что этот светловолосый юноша согласно схеме, лежавшей у него в кармане, сидел в кресле в трех шагах от стола со скифской чашей. — Конечно, был. — Спортсмен? — Играл в баскетбол за «Спартак». — Видно, Данько что-то прочитал в глазах майора и спросил: — Он? — Ну, знаете, если подозревать всех... — Всех не всех, но кого-то же надо. Можете допросить меня. — Спасибо за совет. Если возникнет необходимость, обязательно воспользуюсь им. Кстати, вы сидели тогда рядом с Ситником, не так ли? — Абсолютно точно. — Когда погас свет, Ситник не вставал? Данько немного подумал. — Все может быть, — ответил он. — Знаете, как бывает, когда неожиданно гаснет свет? Сперва минутная растерянность, потом шутки... — Ситник как-нибудь реагировал на это событие? — Кажется, нет... Нет, — уверенно подтвердил он. — Он курит, стало быть, у него были спички... — У него зажигалка. Американская, «Ронсон», и Олег очень кичится ею. Потом зажег ее. — После вас? — Да. — Но мог же и сразу вытащить зажигалку... — Мог. — И не достал? — Но это ведь ни о чем еще не говорит! — Ни о чем, — согласился Хаблак. — Вы говорили, что Ситник любит выпить и погулять с девушками? — Не прочь. — Женат? — Нет. Снимает частную квартиру. После университета должен был куда-то ехать, но выкрутился. — С квартирой ему не светит? — Трудно сказать, думаю, не очень. — С точки зрения заместителя председателя месткома? — По крайней мере, в ближайшее время. Майор встал. — А теперь загляну к техредакторам, — сказал он. — Не обожгись, девчата у нас там!.. В коридоре майора перехватила секретарша директора. — Вас к телефону, — позвала она. Звонил Зозуля. Доложил, что на обожженном штепселе, найденном на клумбе, обнаружены отпечатки пальцев Крота. — Я так и знал, — удовлетворенно ответил Хаблак. — Приезжай и занимайся «Волгой». — Опять обходить дома? Кажется, мы уже кончили... — В восьми квартирах никого не застали. — И сейчас они на работе. — Проверь. — Хорошо. — Найдешь меня в издательстве. — Найду. Данько не преувеличивал, рекламируя девчат из техотдела. В большой комнате стояло пять столов, один — пустой, на почетном месте у окна сидел пожилой мужчина — заведующий отделом, за тремя столами — девушки, одна лучше другой. Они, как по команде, с любопытством обернулись. Хаблак представился. Одна из девушек, сверкнув голыми коленями, — Хаблак подумал, что юбку ей можно было бы и удлинить, — поставила посредине комнаты стул. Предложив майору сесть, перегнулась через стол, оперлась на него локтями и бесцеремонно уставилась на Хаблака. Ему стало несколько неудобно. Он заерзал на стуле, вероятно, эту его напряженность заметил заведующий отделом, отложил в сторону большой темно-красный гранат, из которого неторопливо высасывал сок, и сказал, укоризненно покачав головой: — Этакое случилось — и в нашем издательстве! Вы к нам, разумеется, по делу, майор. — Как интересно! — воскликнула брюнетка, не сводившая глаз с Хаблака. — И вы ищете вора? — Ищу. — И скоро найдете? — Надеюсь. — Мы никак не можем поверить, что кто-то из наших... — Хватит, Зоя, — оборвала ее девушка, сидевшая сбоку от Хаблака. — У человека дела, а ты о глупостях. — Это я о глупостях? Не понимаешь, так помолчи! А у вас, майор, пистолет есть? — вдруг спросила она. Хаблак засмеялся и похлопал себя по пустым карманам. — Как видите, не ношу. Девушка смешно выпятила губки. — А если надо задержать вора? Он же не захочет, чтобы его арестовали, правда? — Насмотрелись фильмов! — пробормотал завотделом и опять принялся за гранат. Он высасывал его так аппетитно, а гранат был такой большой, свежий и красный, что у майора рот наполнился слюной, он проглотил ее и неодобрительно посмотрел на зава. Но тот ответил доброжелательной улыбкой, и неприязнь Хаблака мгновенно исчезла: этот человек буквально излучал доброту, наверное, девчата пользовались этим и не очень слушались своего начальника — они не обратили на его реплику никакого внимания. Брюнетка даже осуждающе махнула рукой — зачем, мол, вмешиваться не в свои дела — и спросила: — Вы не слышали, говорят, что бедный археолог с горя заболел? И неудивительно: так перенервничать с этой чашей! Майор вспомнил коренастую фигуру Хоролевского, его большие мозолистые руки и успокоил: — Ничего с ним не случится. — Раззява! — оторвался от граната заведующий. Хаблак кивнул: да, не без этого. — Теперь вопрос к вам, товарищи. — Майор перевел разговор в деловое русло. — Не видел ли случайно кто-нибудь из вас отсюда, — он подошел к окну, — белую «Волгу»? Вот там, неподалеку от кустов сирени? — Нет, — уверенно ответила брюнетка, но ее соседка, девушка с высокой копной каштановых волос и миндалевидными глазами, вдруг вскочила, выглянула и спросила: — На углу дома? — Вот там, — майор показал пальцем на асфальтированную дорожку за сальвиями, — или, может, чуть поближе. — Видела, — подтвердила девушка. — Белая «Волга». Двадцать четвертая. На той неделе и еще раз совсем недавно. Хаблак посмотрел на нее с надеждой: — Номер запомнили? Девушка пожала плечами: — Зачем он мне? — Бывает, что ненароком... — Семерка... — девушка потерла виски и подтвердила: — Да, семерка, номер начинается с семерки, а дальше не помню. Семерка для меня счастливая цифра, вот я и заметила ее. — А кто-нибудь из сотрудников издательства подходил к этой «Волге»? — Так наша же машина здесь не стоит. С той стороны, на улице. — Но ведь белая «Волга» приезжала за кем-то... — вмешался заведующий. — Может быть, приезжал кто-то из авторов, — возразила девушка. — Так, — кивнул Хаблак, — выходит, не видели? — Нет. — Жаль. Майор направился в кабинет директора. Знал, что Миколу Семеновича вызвали к начальству, и решил воспользоваться его телефоном. Позвонил Каштанову, доложил о ходе расследования и попросил поручить автоинспекции составить список белых «Волг», номерной знак которых начинался с семерки. Вышел в приемную и осмотрелся. Обычная приемная не очень большого учреждения. Напротив директорской — дверь в кабинет главного редактора, шкаф, столик с пишущей машинкой, несколько стульев. В углу мягкое кресло. Майор долго смотрел на него, потом сел, положил руки на поручни. Дверь в директорский кабинет была открыта — метрах в пяти-шести по прямой стоял стол, на котором позавчера Хоролевский раскладывал свои находки. Хаблак медленно вернулся в кабинет, обогнул приставной столик, взял пепельницу толстого стекла, размахнулся. Хотел бросить на кресло, но в приемную вошли главный редактор с заведующим техотделом. Главный редактор удивленно посмотрел на майора, а заведующий испуганно отшатнулся, будто Хаблак и правда имел намерение швырнуть в них тяжелую пепельницу. Майор, опустил ее на стол и смущенно улыбнулся. — Мы с Аркадием Семеновичем помешали вам? — не без иронии спросил главный. Он был маленького роста, лысоватый, тщедушный, но держался выпятив грудь и ходил с поднятой головой. — Может быть, надо помочь? — Нет, спасибо. Майор покачал головой, и Василь Иосифович, пропустив вперед заведующего техотделом, проследовал в свой кабинет. Хаблак посмотрел на часы. Скоро должен был приехать Зозуля, и майор решил перехватить его на троллейбусной остановке. Лейтенант действительно не задержался. Хаблак рассказал о показаниях техредактора, запомнившей семерку на номере, и об эксперименте со стеклянной пепельницей. Зозуля, как всегда, высказался сразу и категорично: — Говоришь, Ситник с Власюком дружит? Прекрасно... Ситник выбрасывает в темноте чашу в кресло, Власюк хватает ее, спешит к белой «Волге», передает шоферу, а сам возвращается. Правда, не рассчитал время и чуточку опоздал: появился, когда свет уже горел, и его заметили. А так — все шито-крыто, и никаких проблем. — Что ж, — согласился майор, — теперь нам следует найти последнее звено: «волгаря». — Если девушка не ошиблась, это не так уж и трудно. — Говорит, запомнила точно. — В автоинспекцию? — А куда же еще? К концу дня Хаблак и Зозуля установили, что белых «Волг», номера которых начинаются с семерки, удивительно мало: всего одиннадцать. Восемь из них отпали сразу — государственные машины и в тот вечер стояли в гаражах. Оставалось три — одна государственная и две частных. Первая принадлежала стройтресту, позавчера вечером шофер отвозил директора в санаторий в Пущу-Водицу и освободился в половине седьмого, а около восьми мог стоять перед издательством, потому что вернулся в гараж в начале десятого. Частные машины могли быть где угодно, и майору предстояло познакомиться с их владельцами. Зозуля поехал к шоферу из стройтреста — у того был выходной, а жил он у черта на куличках. На улице Щербакова жил первый владелец белой «Волги» — Гавриил Спиридонович Иванов — бывший спортсмен, а ныне директор промтоварной базы. Второго владельца — Бориса Корнеевича Брянского — майор решил побеспокоить только в крайнем случае, потому что вряд ли сам Борис Корнеевич, видный ученый, академик, директор института, мог общаться с Власюком. Гавриил Спиридонович Иванов вышел к Хаблаку в темно-синем легком спортивном костюме — среднего роста, широкий в плечах, еще подтянутый, хотя уже и намечалось будущее брюшко. Узнав, с кем имеет дело, не удивился и не встревожился, пропустил майора в квартиру и предложил кресло в гостиной — обычной, не очень большой комнате трехкомнатной квартиры, где полстеллажа занимали разные кубки и прочие спортивные трофеи, завоеванные некогда хозяином. Хаблак, перед тем как сесть, полюбовался многочисленными медалями и вымпелами — конечно, это было приятно хозяину, он стоял рядом и не торопил майора. В комнату заглянула полная женщина, Гавриил Спиридонович лишь взглянул на нее, и она исчезла, видно, безоговорочно слушалась мужа. Наконец майор оторвался от кубков и медалей, сел в кресло. Иванов положил рядом сигареты и зажигалку. Хаблак покачал головой и спросил: — Имеете белую «Волгу», номерной знак КИЛ-75-71? — Да, это моя машина. — Гавриил Спиридонович уселся на диван напротив. Не спросил, почему милиция интересуется его машиной, и Хаблак пояснил: — Сейчас мы расследуем одно дело и вынуждены уточнить, где вы находились позавчера в восемь вечера. Точнее, не вы, а ваша «Волга»? — Машина может быть только со мной или в гараже, — ответил Иванов. — Я никому не доверяю ее. А позавчера мы с женой в это время ездили в гости к нашим друзьям. Если хотите, я могу назвать их фамилии и дать адрес. Майор вынул записную книжку: он должен установить алиби Иванова, и тут было не до сантиментов. Записав данные знакомых Иванова, уточнил: — А машина? — Стояла в гараже. Очень легко установить. У сторожа есть журнал регистрации приездов и отъездов. Кооператив строителей. Хаблак откланялся. Он не сомневался, что Иванов говорил правду. И все же заехал в гаражный кооператив и уточнил, что машина Гавриила Спиридоновича позавчера вечером действительно стояла в своем боксе. К знакомым Иванова он уже не поехал, рассудив, что в крайнем случае, если понадобится, это можно сделать и позже. К академику Брянскому майор добрался около девяти вечера — время, когда хозяин, наверное, еще не отдыхал. Поднялся на лифте на седьмой этаж и позвонил в квартиру, дверь которой была обита черным блестящим дерматином. Никто не открыл, и Хаблак вынужден был позвонить еще раз, наконец услышал легкие шаги и женский голос спросил: — Кто? Майор назвался, женщина, должно быть, подумала, стоит ли впускать, но после паузы все же открыла. Оказалось, совсем еще молодая и красивая блондинка, наверное, крашеная, волосы до плеч, в белом свитере и джинсах, спортивная такая девушка, заботящаяся о своей фигуре. — Вам папу? — спросила она. — Он работает. — Еще не вернулся из института? — Папа всегда работает, — улыбнулась она. — Если у вас действительно неотложное дело... — Да, я не осмелился бы в это время прийти к Борису Корнеевичу... — Хорошо, я сейчас позову. Девушка удалилась по длинному коридору, покачивая бедрами, джинсы шли ей. Академик вышел к Хаблаку почти сразу. Он был в костюме и модной сорочке в полоску — совсем не домашняя одежда, как на Гаврииле Спиридоновиче. А может, просто собирался куда-нибудь, в конце концов все это не касалось майора. Хаблак представился и попросил уделить ему несколько минут, — дело неотложное, оно касается «Волги», принадлежащей академику. Майору показалось, что, услышав про автомобиль, Борис Корнеевич облегченно вздохнул, правда, это могло и показаться, потому что ученый провел ладонью по ежику седых, аккуратно подстриженных волос и сухо сказал: — Тогда прошу с Ларисой. Я занят, очень занят, машиной занимается дочь, она и ответит на все вопросы. — Должно быть, он не терпел никаких возражений, потому что чуть заметно кивнул и исчез в дверях, будто его и не было. Хаблак пожал плечами и обратился к девушке, усевшейся в низком кожаном кресле. — Ну, знаете... — начал майор, но она предостерегающе подняла руку. — Папа и правда смертельно занят, — мягко ответила она, — и к тому же прав: на все вопросы, связанные с машиной, должна отвечать только я. Отец не пользуется ею, у него служебная, а нашу «Волгу» гоняю я. «Ну что ж, — подумал майор, — вероятно, и тут осечка». Он присел к столу и заговорил сухим протокольным тоном, как бы подчеркивая этим сугубо официальный характер своего визита: — Вам принадлежит «Волга», номерной знак «КИЛ 74-16». — Да, папе. — И вы ездите на ней? — Изредка. — Позавчера около восьми вечера ваша машина стояла возле издательства? Девушка удивленно посмотрела на майора. — Откуда вы знаете? И зачем это вам? — Прошу вас ответить. — Да, наша. — За рулем были вы? — Конечно. — Кого ждали? — Я обязана отвечать? — Мы расследуем преступление, Лариса Борисовна, и я вынужден настаивать на этом. — Но какое я имею отношение к преступлению? Чистой воды бессмыслица. — Возможно. Так кого же вы ждали? — Видите ли, у меня была назначена встреча. В издательстве работает мой знакомый, и мы условились... — Фамилия знакомого? — Власюк... Андрий Витальевич Власюк. — Деловая встреча? — Ну если можно так назвать встречу двух людей, неравнодушных друг к другу... — Власюк выходил к вам? — Конечно. Он вышел, мы обменялись буквально несколькими словами, у них был какой-то вечер, и я уехала одна. — Андрий Витальевич ничего не передавал вам? — Нет. Но скажите же, что случилось и к чему все эти вопросы? Что с Андрием? — Минуточку, Лариса Борисовна. Вы можете объяснить, почему Власюк категорически возражает, что виделся с вами в тот вечер? Что выбегал со своей работы к вам? Девушка встала, прошлась по комнате, сложив руки на груди. Очевидно, размышляла, и Хаблак сидел молча, не торопя ее. Наконец она остановилась, опустила руки и жалобно заговорила: — Глупый он, мой поклонник, совсем глупый. Любит меня и поэтому молчит! — Как так? — удивился майор. — Хорошо, я расскажу все. Мы любим друг друга, я замужем и ушла от мужа ради Андрия. Но я попросила его до поры до времени никому не рассказывать обо мне, и он сдержал слово. Даже если ему это чем-то угрожало. — Ну и ну, — сокрушенно покачал головой майор, — а я ведь предупредил его. — Об ответственности? — Разумеется. — Слово, данное мне, перевесило, — не без удовольствия констатировала Лариса. Хаблак внимательно посмотрел на нее и подумал, что, вероятно, Власюк имел основания: ради такой женщины можно подставить и собственную голову. Но ведь этот Власюк мог повести следствие по ложному пути, вон сколько уже потратили времени на поиски «Волги»! — Вам придется подтвердить все, что вы мне сообщили, в письменной форме, — вежливо сказал он. — С величайшим удовольствием. Сейчас? — Да. Пока девушка писала объяснение, майор обдумывал ситуацию. Конечно, Власюк не причастен к краже скифской чаши, как и вся история, связанная с ним, вызванная досадным недоразумением. Но кому же выбросил чашу Ситник? Вероятно, преступление совершил все же он... А если нет? Допустим все-таки, что Ситник. Кто же тогда взял чашу с кресла? Завхоз? Мог Ситник договориться с Кротом? Конечно, мог. Он ведь знал о встрече с Хоролевским заранее, знал и то, что археолог будет показывать свои уникальные находки. Немножко фантазии, и план кражи разработан. Хаблак представил себе, как завхоз в своих домашних туфлях на толстых войлочных подошвах неслышно скользит по коридору издательства, замыкает заранее приготовленным «жучком» электросеть, еще несколько шагов, и хватает с кресла скифскую чашу... А потом? Должен спрятать ее где-нибудь в издательстве, однако там сразу же был сделан обыск, оперативники осмотрели и каморку Крота — ничего не нашли. Впрочем, окно в комнате завхоза выходит во двор, и он мог выбросить чашу третьему сообщнику. Конечно, мог. Лариса кончила писать. Майор аккуратно спрятал ее показания и поехал домой.
Каштанов ходил по кабинету, задорно выставив бородку. Хаблак сидел возле стола, а лейтенант Зозуля примостился на одном из стульев, стоявших у стены. Майор рассказывал о ходе расследования. Каштанов хмурился — ничего утешительного, а ему докладывать руководству. Правда, можно было бы уже и привыкнуть к таким ситуациям, редко сразу брали воров за шиворот, они тоже не лыком шиты, воры, особенно опытные. Разумеется, в издательстве работал не профессионал, и это, как ни парадоксально, усложняло розыск. «Почерк» профессионалов милиции известен, и угрозыск сразу бы вышел на кого-нибудь из них. Кроме того, никого из посторонних в издательстве не было. Кто-то из девятнадцати... Полковник остановился перед Хаблаком. — Ты прав, Сергей, — сказал он, — к Ситнику следует присмотреться. Поговори с ним сегодня, а за Кротом последим. Через него или через Ситника мы должны выйти на третьего. Без третьего они не обошлись, если это действительно они... — Товарищ полковник, — поднялся со стула Зозуля, — я считаю, что подозрение с Власюка снимать нельзя. Он мог вынести чашу из помещения? Мог. И кому-то передать, хотя бы той же дочке академика, прошу извинить. Каштанов поморщился. — Вряд ли. Тогда они с Власюком разработали бы непробиваемую версию. Зачем Ларисе Стругацкой, так, кажется, ее фамилия по мужу, сразу признаваться, что приезжала к издательству, если, конечно, чаша на их совести?.. Кстати, майор, поговорите и с Власюком. Теперь с него табу, так сказать, снято, может, видел что-нибудь и расскажет. — Повернулся к Зозуле: — Садитесь, лейтенант. Все может быть, жизнь знаете какие сюрпризы преподносит. Я не удивлюсь, если вы окажетесь провидцем. А пока займитесь завхозом. Побеседуйте с соседями, знакомыми. Сколько этот Крот работает в издательстве? Пятнадцать лет? Немало, и видите, ничего плохого за ним не числится. — В тихом омуте черти водятся, — возразил Хаблак. — Водятся, — согласился полковник, — поэтому и расспроси о Кроте в издательстве. Зозуля — по месту жительства, а ты у сотрудников. Смотришь, какую-нибудь ниточку и вытянете. Наверное, к Хаблаку в издательстве уже привыкли. Ну, может, еще и не совсем, но уже не оборачивались с любопытством так, как вчера или позавчера. Люди ко всему привыкают, это устраивало майора, и, увидев Власюка, он без лишних церемоний затащил его в комнату. — Привет от Ларисы, — сказал он прямо, — я вчера вечером познакомился с ней, и она рассказала мне немало интересного. Власюк уставился на Хаблака как на сумасшедшего. — Что вы имеете в виду? — растерянно спросил он. — А то, уважаемый Андрий Витальевич, что вчера имел честь побывать на квартире академика Брянского и побеседовать с его дочерью Ларисой. — Как? Как вы узнали? — Очень просто. Она приезжала в тот злосчастный вечер к издательству на белой «Волге», и вы напрасно не сказали нам правду. — Но ведь я... Я просто не имел права! — И об этом знаем. Вы, товарищ Власюк, обязались говорить только правду, у нас есть соответствующий документ, и вам... — Придется отвечать? Я готов к этому. Подадите в суд? — Это уж как решит начальство. — Мне все равно. — Не петушитесь, Андрий Витальевич. Кстати, поздравляю вас, Лариса — симпатичная женщина. Власюк посмотрел исподлобья. — Мне бы не хотелось обсуждать... — неприязненно начал он, — все, что касается наших отношений. — Разумеется, — быстро согласился майор. — Это было бы бестактно и отнюдь не входит в мои обязанности. Однако я расследую уголовное дело и надеюсь, что теперь вы сможете ответить на все мои вопросы. Прямо и откровенно. Власюк придвинул стул, сел на него верхом, опершись подбородком о спинку, и сказал: — Спрашивайте. — Вы ушли из кабинета директора за несколько секунд до того, как погас свет? — Да. Только успел переступить порог из приемной в коридор. — Ничего не увидели там? Может, что-нибудь услышали? — Нет. — Но ведь когда в розетку вставляют «жучка», раздается нечто вроде взрыва. — Не услышал. Я очень торопился, а когда все мысли направлены на что-то одно, ничего не видишь и не слышишь. — В этом есть смысл, — согласился Хаблак. — Далее. В полной темноте вы добрались до выхода — слышали шаги, кашель, какие-нибудь звуки? У дверей сидела вахтерша, она не окликнула вас? — По-моему, я прошел мимо нее в коридоре. — Слышали шаги? — Точнее, какое-то шуршанье. У самого выхода. — Вахтерша говорила: когда свет погас, пошла к Кроту. — Значит, это с ней я разминулся. — Потом? Сбежали по лестнице — и к Ларисе? — Да. — Поговорили с ней и назад? Власюк не удержался от иронической улыбки: — А вы прекрасно информированы. — Оставьте вашу иронию, Андрий Витальевич. Сейчас не до нее. Надо найти чашу. — Извините... Поговорив с Ларисой, я поспешил обратно. — Долго разговаривали? — Минуту-две... — Никого не видели возле издательства? — Нет. — И никто не выходил оттуда? — Я стоял спиной к двери, возможно, кто-то и выходил. — Вернулись, когда свет уже включили? — Да, и сразу увидел — что-то случилось. Смотрели на меня как-то так... — А чего вы хотите? За эти минуты исчезла чаша, и только вы оставляли помещение. — Я понимаю их, но поверьте: чаши я не брал. — Кто же мог сделать это? — раздумчиво протянул майор, будто и не спрашивал Власюка, а рассуждал про себя. — Не знаю. У нас работают порядочные люди, ну всякое бывает, но чтобы пойти на преступление! — И все же чаша исчезла. — Поверьте, если это не дурная шутка, то очень скверная история. — Скверная, — согласился майор. — Кстати, вы за каким столом сидите? — За тем, на котором вы имеете честь сидеть. Хаблак почему-то устыдился: слез со стола и пересел на стул. — А за каким Ситник? — У окна. — Хороший парень? — Нормальный. — Почему не пришел на работу? — Утром должен был встретиться с автором. Скоро явится. — Дружите с ним? — По крайней мере, Олег у меня антипатии не вызывает... — Как вас понять? — А в самом прямом смысле. Думаете, в издательстве ничего не знают? — Не говорите загадками. — С вами не соскучишься, — улыбнулся Власюк. — И все же вы, майор, где-то допустили ошибку: ваша тайна известна всему издательству... — Какая? — Что подозреваете Ситника. И меня, естественно. — Кто сказал? Случайно, не из техотдела? — Все возможно... — Людям рты не заткнешь. Так что же вы скажете о Ситнике? — Я могу не отвечать? — Можете. — Тогда предпочитаю промолчать. — Жаль. Я надеялся на вашу помощь. Потому что каждый порядочный человек... — У каждого своя точка зрения... — Хотите сказать, что информировать милицию непорядочно? — Что-то в этом есть... — поморщился Власюк. — Непорядочно, может быть, и не то слово, однако есть какой-то оттенок... — Считаете, что не можете ошибиться в человеке? — Я не настолько самоуверен... — Ситник хорошо играл в баскетбол? — Один из лучших нападающих. У него природная реакция на мяч. — И давно бросил спорт? — Года два... — Почему? — По-моему, потерял форму. В спорте надо держаться, а он стал к бутылке прикладываться. — И частенько? — Сначала не очень, а теперь случается... — С кем пьет? — Олег не ограничивает свою компанию. — Как это понять? — Неразборчив. Сегодня с одним, завтра с другим. Случайные люди. Вчера в шашлычной пил водку с Кротом. Ну какие у них могут быть общие интересы? — С Кротом? С Юхимом Сидоровичем? — Нашим завхозом. — В какой шашлычной? — Может, видели, в переулке направо. — Водку там не отпускают. — А бутылки ящиками вывозят! — Вероятно, вывозят, — неожиданно согласился Хаблак. — Вы к ним подходили? — Зачем? — Сотрудники все же... — Пьяные! — жестко ответил Власюк. — Какой с пьяными разговор?.. — И когда это случилось? — Вечером. Должно быть, они давно там стояли. — Почему так считаете? — Олег, когда много выпьет, говорит слишком громко. А я его еще с порога услышал. — А если пили стаканами? — Возможно, что и так. Да нет... Шашлыки повторяли. На столике стояли пустые грязные тарелки. Сообщение заинтересовало Хаблака, но он сказал нарочито небрежно: — Ну и что? Сошлись люди... Может, они и раньше выпивали... — Не думаю. Крот, когда выпьет, становится невыносимым. И ребята это знают. — Чураются? — Тип не из лучших... — Почему? — Кулак. Зимой снегу не допросишься. — Что-нибудь просили? — Кто же в издательстве не имел с ним дел? Бумаги надо, карандаш или копирку... К Кроту. А он как личное одолжение делает. Ей-богу, легче в магазине приобрести, чем на его физиономию смотреть. Майор вспомнил лицо завхоза: хорек с очками на кончике носа. — Еще и на руку не чист. — Неужели? — Не могу утверждать, но слышал: на каждом килограмме бумаги граммов по пятьсот выгадывает. — Сказали бы директору. — А-а, — махнул рукой Власюк, — легче промолчать. — Странная позиция. Хлопнула дверь, и в комнату ворвался Ситник. Раскрасневшийся, волосы взъерошенные. Бросил портфель на стол и только тогда увидел Хаблака. Как-то сразу застеснялся, пригладил шевелюру, подал руку сперва Власюку, потом, чуть поколебавшись, майору. Сел за стол, выдвинул ящик и сразу задвинул назад. Достал из портфеля папку, развязал тесемки. То ли Власюка начал тяготить разговор с майором, то ли понял, что тому надо поговорить с Ситником, но сделал вид, что у него какое-то дело, и оставил их наедине. Ситник вынул из папки рукопись, принялся листать страницы, но делал это механически — Хаблак уголком глаза видел, как Ситник искоса поглядывал на него. Пауза затягивалась, Ситник начал немного нервничать. Это лило воду на мельницу майора, и Хаблак сидел, делая вид, что разглядывает что-то за окном. Наконец сокрушенно вздохнул, повернулся к Ситнику и спросил: — Вы знаете, кто я такой, Олег Павлович? — Ну кто же вас не знает, вы теперь самая популярная фигура в издательстве! — вызывающе ответил он. — Комиссар Мегрэ! — Считаете, что до комиссара мне далеко? — Я ничего не считаю и считать не хочу. Какое мне дело? Хаблак еще раз вздохнул. — Проклятая чаша! — сказал он. — Теперь ищи ее сто лет! — Неужели? — Как сквозь землю провалилась. Ситник усмехнулся, но как-то вымученно. — Странная история... — неуверенно сказал он. — Странная не странная, а неприятная, но найдем. — Конечно, найдете! — почему-то даже — обрадовался Ситник. — Я так считаю: когда-нибудь и где-нибудь она обязательно вынырнет. Вся ее ценность в том, что две тысячи лет. Серебро на слиток переплавлять никто не станет, сколько это серебро стоит! А так... — Сколько же? — Должно быть, не одну и не две тысячи... И даже не десять! — Разумеется, — кивнул Хаблак. — Два миллиона. Как минимум — два. В долларах. У Ситника округлились глаза. — Неужели? — выдохнул он. — Никогда бы не подумал. Но кому же продать? — Да, это трудное дело. — Вот я и говорю: все равно где-нибудь вынырнет. — А если за рубежом? — Думаете? За границу надо вывезти. Сложно. — Да, сложно, хотя всякое бывает. Ситник задумался. — Теперь за рубеж много народу ездит, за всеми не уследишь. Такие деньги! — Он нервно смял лист бумаги. — Да, — не без ехидства усмехнулся Хаблак. — И на машину хватило бы, и на джинсовые костюмы. На всю жизнь. — На всю жизнь! — повторил Ситник и облизал запекшиеся губы. — А вы были за границей? — Ездил со «Спартаком» во Францию и Австрию. Еще в Польшу и Чехословакию. — С киевским «Спартаком»? — Хаблак сделал вид, что не знает, каким видом спорта занимался Ситник. — Волейбол? — Баскетбол. — Давно? — Три года назад. — Бросили? — Возраст... — Сколько же вам? — Двадцать шесть. — Еще могли бы играть. — Трудно. — Режим? — И режим надоел. — Выпиваете? — А это уж мое дело! — резко ответил он. — Конечно, ваше. Но ведь сложно: за частную квартиру надо платить, да еще и на водку... — А вы мои деньги не считайте. — Вы правы, каждый считает свои. Просто сочувствую вам. — Не нуждаюсь. С каких это пор в милиции моралисты объявились? — А нам без морали нельзя. — И без наручников? — И без наручников, — серьезно согласился Хаблак. — Убийцы и воры, к сожалению, еще не перевелись. — Недавно у нас тут милицейский майор выступал. Оптимистичнее был настроен. Бандитов, говорил, уже нет. — Да, вооруженный бандитизм мы уже, как пишет пресса, ликвидировали. Однако убийцы... — Вот видите... — Разные люди бывают. Да и водка иногда головы кружит. Вы вчера сколько выпили? — Откуда вы взяли? — Видно. — Так я и о вас могу сказать. — Значит, не пили? Ситник энергично покачал головой. — А мне говорили... Вероятно, ошиблись. — Не «вероятно», а точно. — Действительно, какие у вас могут быть общие интересы с Кротом? — Спросив это, майор увидел, как щеки Ситника покрылись красными пятнами. — Почему с Кротом? — неуверенно переспросил он. — Потому что вечером вас видели вместе с Юхимом Сидоровичем в шашлычной. Поблизости, за углом. — Поужинать нельзя? — И водки выпить? — Там не отпускают. — Но вы же взяли с собой. Или Крот? — Вас это очень интересует? — Секрет? — Не люблю, когда посторонние суют свой нос в мои дела! — Это прозвучало не очень вежливо, но Хаблак не рассердился. Однако все же решил поставить Ситника на место. — Я не советовал бы вам лезть в бутылку, Олег Павлович. Меня абсолютно серьезно интересует ваш разговор с завхозом. На мгновение майору показалось, что Ситник струхнул. Спрятал руки под стол, сжав их коленями. — Какой разговор? — пробормотал он. — Случайная выпивка. — Кто покупал водку? — Какое это имеет значение? — Возможно, имеет. — Ну я. — Угощали завхоза? Зачем? — Неужели я не могу просто так, без всякого дела выпить с коллегой? — Не говорите... Неинтересно вам с Юхимом Сидоровичем. Ситник успел взять себя в руки. — Неинтересно, — согласился он. — Но тетке кирпич нужен, а Крот может достать. — У вас есть тетка? — А то как же. — Зачем ей кирпич? — У нее возле Русановской протоки сад. И деревянный домик. Так хочет облицевать кирпичом. — И Крот пообещал кирпич? — Говорил, на той неделе. — Благодетель! — Благодетель не благодетель, а деловой человек. — Все может достать? Ситник подозрительно посмотрел на майора и не ответил. Хаблак достал бумажку со схемой расположения людей в кабинете директора во время встречи с Хоролевским. Положил перед Ситником, предварительно отметив крестиком его место. — Вы сидели здесь? — ткнул он пальцем. Ситник долго смотрел на бумажку, наконец поднял глаза на майора. — Да, я сидел именно на этом месте, — ответил он четко, будто стоял в строю и докладывал командиру. — Когда погас свет, не вставали? Ситник замигал, глаза у него потемнели, стали злыми. — Вот что, — вдруг стукнул он кулаком по столу, — идите вы ко всем чертям! — Я же не обижал вас, Олег Павлович. — Считаете, что беспочвенное подозрение — не обида? — Я расспрашиваю всех работников издательства, и никто еще не воспринял мои вопросы как личную обиду. — У каждого свой гонор, — примирительно ответил Ситник. — Итак, не вставали? — Нет. — Вы курите? — Хотите сигарету? — Не курю. А спички есть? — Зажигалка. — Ситник достал из кармана и щелкнул. Прозрачный огонек блеснул длинным языком. — Американская, «Ронсон». Майор взял зажигалку, щелкнул. Спросил: — Когда погас свет, почему не зажгли? Ситник снова положил руки между коленями. Покачался на стуле и неуверенно ответил: — Странно как-то... Сам не знаю почему. Сначала думал — свет сразу вспыхнет, потом, пока вынул зажигалку... — Данько сидел рядом с вами? — Кажется. — А он успел достать коробку, нащупать спичку, чиркнуть. — Ну так что? — Вы могли бы управиться с зажигалкой быстрее. — Допустим, мог... — Вероятно, тогда скифская чаша не исчезла бы. — Разве несколько секунд имеют значение? — Выходит, имеют. Человек встает, выбрасывает чашу из комнаты и снова занимает место... Сколько секунд на это нужно? Ситник посмотрел исподлобья и сразу опустил глаза. — А вы уже подсчитали? — неприязненноспросил он. — Приблизительно. — И сколько же? — Секунд десять — двенадцать. Или даже меньше. — Глупости какие-то, — сказал Ситник. — Выдумки и чепуха. — Не такие уж и выдумки, Олег Павлович. Особенно если чашу бросает тренированная рука! Ситник посмотрел на майора тяжелым взглядом. Встал и потряс указательным пальцем. — Вот, оказывается, в чем дело! — глухо произнес он. — Катите на меня бочку? Шерлоки Холмсы родные! Только ничего у вас не выйдет. Ничего и никогда, поняли? Хаблак тоже встал. Только стол разделял их. Взял со стола пачку сигарет, положенную Ситником. Бросил в угол комнаты, как вчера тот — Данько. Пачка опустилась на стул, описав большую дугу. — Вот так, Олег Павлович! — засмеялся майор. — Правда, быстро? — И, не оглядываясь, вышел из комнаты.
Зозуля доехал на трамвае до бульвара Гагарина, прошел пешком несколько кварталов и наконец увидел дом, где жил Крот. Пятиэтажный, не очень уютный, но обсаженный фруктовыми и декоративными деревьями. До пятого этажа по кирпичной стене вился виноград: с лоз свисали спелые черные гроздья. Лейтенант подумал, как хорошо жить тем, чей балкон на третьем этаже: сиди, грейся на солнце и ешь сладкие ягоды. Вероятно, это балкон самого Юхима Сидоровича — ведь тот живет именно в этом подъезде. Быстро подсчитал: нет, восьмая квартира на втором этаже и с противоположной стороны. Все равно красиво, под окнами квартиры склонились ветки яблони. На скамейке у подъезда сидела бабка в старомодном черном бархатном жакете. Она уже обратила внимание на Зозулю, с любопытством поглядывала на него, и лейтенант подсел к старушке. — Хорошая погода, — сказал Зозуля, чтобы завязать разговор. Этот дальновидный «дипломатический» ход был излишен, бабка давно уже скучала, она повернулась к лейтенанту и категорично подтвердила: — Сколько живу, не помню такой осени, милай. — Она сказала «милай» так, как говорят, может быть, где-нибудь на Вологодчине, но лейтенант подумал, что там, вероятно, не носят таких бархатных жакетов, впрочем, это его не касалось — старушка была явно из говорливых, и Зозуля должен вытянуть из нее нужную информацию. А та продолжала: — Не помню, и не спорь, милай, такая теплая осень и раз в сто лет не выпадает, на моей памяти не было, а если уж я не помню, так это точно. Говорят, люди на пляж ходят, когда это видели, чтоб в конце сентября такое было? Глянь, виноград черный, а ведь далеко не каждый год вызревает, зеленым ребятишки обрывают внизу. Лейтенант поправил воротничок рубашки. Правда, жарко, и воротничок был мокрым от пота. — Давно здесь живете, бабушка? — спросил он. — С тех пор как дом поставили, так и живу, милай. Сыну дали квартиру, десять лет прошло, вон видишь, какие деревья выросли, а сами сажали, чтоб польза людям была и краса тоже: живем не тужим, яблоки жуем, милай, — и в городе земля не гуляет. И не должна гулять, потому как польза людям всюду должна быть, хотя б маленькая. — Точно, — одобрил лейтенант, — без пользы какая же это жизнь? — Во! — Старушка чуть не подскочила на скамейке. — Мне уже скоро восемьдесят, а как без пользы? Говорю своим, зачем правнуков в детский сад, я еще вытяну, вас выходила, почему ж их не доглядеть, польза и мне, и детям, а они... отдыхайте, мама, да какой тут отдых? Там уж отдохнем... — она показала рукой на небо. — Вы, бабушка, небось всех здесь знаете? — Да, милай, кому ж, как не мне?.. А кто тебе нужен? — Она пристально и остро посмотрела на него совсем не старческим взглядом. — Юхим Сидорович. — Есть тут такой, — показала она пальцем в точно вычисленное Зозулей окно. — Крот его фамилие. — Вот-вот, Крот! — Зозуля сделал вид, что обрадовался. — На втором этаже, говорите? — Не торопись, милай, на работе Юхим Сидорович, разве не знаешь? — Откуда же мне знать, приятель к нему прислал, говорит, обратись к Юхиму Сидоровичу, он-то поможет. — Важный человек, — согласилась бабка. — К нему люди ходят за пользой, надо думать, потому как иначе для чего и ходить? — Конечно, за пользой. Без дела зачем же? Я слышал, товарищ Крот все может. — Юхим Сидорович пост занимает, — подтвердила старушка. — Начальство, стало быть. А начальство, оно и есть начальство. Вот люди и ходят. Племянница у него в мебельном магазине, Юхим Сидорович и ковер может, и мебель. Вот и мои купили, а кто достал, милай? Юхим Сидорович, дай бог ему здоровьица. Ну там, оно конешно, какую-то десятку подкинули, однако взял не себе, такой важный человек себе не позволит, продавцу или завмагу, те берут, только давай — не хватит! — Вот и мне б мебели... — вздохнул Зозуля. — Устроит, Юхим Сидорович все тебе устроит, — пообещала бабка, будто сама была причастна к делам Крота. — Ты не сумлевайся, важный человек Юхим Сидорович, ты пока к его другу-приятелю сходи, может, он сам твое дело обмозгует. — Навряд ли, — возразил Зозуля, хотя бабкино сообщение о «друге-приятеле» чрезвычайно заинтересовало его. — А ты людям верь, людям больше верить надо. Вон Никита в том доме, — показала она на противоположный пятиэтажный дом, — электриком он в подвале. В последнем подъезде подвал, так Никита там обретается. — Электрик, говорите? — встал Зозуля. — В жэке работает, — охотно объяснила бабка, — свет исправить или што другое, иностранное у него есть, в туалет или ванную, вот и нам поставил все белое-белое, я что ни день фланелью вытираю. У лейтенанта появилось желание побыстрее увидеть этого электрика-сантехника, мастера на все руки, и он, помахав разговорчивой старушке рукой, направился под фруктовыми деревьями в соседний дом. На грязной лестнице горела только одна тусклая лампочка, и Зозуля подумал, что такой разрекламированный умелец мог бы позволить себе и более приличное освещение. Споткнувшись о выбитые ступеньки, выругался про себя и постучал в плохо выкрашенную дверь. — Входите! — раздалось оттуда. Лейтенант вошел в большую комнату с самодельным столом посредине. Стол сколотили из толстых досок и приспособили к нему тиски, электрорубанок, циркульную пилу и еще какие-то незнакомые Зозуле приборы и инструменты. Посредине в беспорядке лежало разное электробарахло: розетки, штепсели, проволока, патроны. А на противоположном от лейтенанта углу стола, застланном газетой, стояла уже наполовину опорожненная бутылка водки, лежали большие красные помидоры, кольцо копченой колбасы, селедка и разрезанная на четыре части луковица. За столом сидели двое, держа в руках стаканы, видно, только что чокнулись, и лейтенант помешал им в самую торжественную минуту. Высокий, плохо выбритый брюнет хмуро посмотрел на непрошеного гостя, поставил стакан на край стола и недовольно кашлянул. Его товарищ, лысый здоровяк, лет за сорок, коренастый — развитые мускулы угадывались под грязноватой рубашкой, — встал, не выказывая неудовольствия, стоял и настороженно смотрел, ощупывая лейтенанта внимательными глазами. — Мне бы Микиту... Электрика Микиту, — напустив на себя смущенный вид, сказал Зозуля. — Извините, что помешал, конечно, но мне сказали, он здесь. Лысый только теперь поставил стакан. — Ну я — Микита. — Он зачем-то вытер руки о рубашку. — И что вам надо? — Я, собственно, к Юхиму Сидоровичу, — еще больше «застеснялся» лейтенант, — но мне посоветовали обратиться к вам, мол, вы знаете, когда будет Крот. Или где найти его. Я от Петра Панасовича, — соврал он на всякий случай, чтобы хоть как-нибудь объяснить свое вторжение. — От Петра Панасовича? — на мгновение задумался электрик. — Какого это Петра? — С Чоколивки. Он сказал, что Юхим Сидорович устроит мне дело. — Зозуля решил идти напролом. — А какое же дело у тебя? — Так к Юхиму же Сидоровичу. — К нам, к Юхиму, не все ли равно? — Мне, откровенно говоря, безразлично. — А если безразлично, выкладывай. — Петро Панасович говорил, что относительно мебели... Одним словом, через какую-то родственницу. Лейтенанту показалось, что электрик-сантехник потерял к нему интерес. Сел на табурет и взял недопитый стакан. — Если относительно мебели, то правда с Юхимом... — Он уже с полным равнодушием повернулся к Зозуле спиной. — Твое, — сказал он товарищу и выпил водку одним духом. Электрик подцепил вилкой кусок селедки, отправил в рот сразу четверть луковицы и со вкусом начал жевать, не обращая на Зозулю никакого внимания, будто тот и не стоял у него за спиной. Высокий брюнет тоже выпил, но медленно, смакуя, втянул в себя воздух и только после этого закусил помидором. Взял бутылку, встряхнул, видно, остался недоволен, потому что посмотрел еще на свет; что-то пробормотал себе под нос и разлил остатки. Электрик оглянулся на лейтенанта. — Ты все еще тут? — удивился он. — Я же сказал, мебель — это не мое дело, по мебели к Юхиму обращайся. Если относительно сантехники, бачок или смеситель, тут мы с Васей наладим, а все прочее — ни-ни... — Смеситель! — обрадовался Зозуля. — Импортный? — Ну и дурак... — скосил на него хитрый глаз усач. — Наш смеситель лучше импортного. Кранты надежнее, усек? Чешский, к примеру, вроде красивше и блестит, а крант через два месяца летит — такие дела... — Если вы говорите, что наши лучше... — нерешительно начал лейтенант. — Четвертак, — рубанул ладонью в воздухе усатый. — Четвертак, и завтра будешь иметь смеситель. Еще и поблагодаришь! — Я с радостью. — А сейчас, — вмешался брюнет, — магарыч. Пятерка найдется? — Найдется, — угодливо улыбнулся лейтенант, подумав, что за эту истраченную на барыг пятерку придется отчитываться перед полковником Каштановым. Но в данном случае овчинка стоила выделки. Он вынул из кармана замусоленную купюру. — Вот. — Так сбегай за поллитром, — ощерился брюнет. — Тут гастроном рядом. — Погоди... — Усатый обошел стол, забрал у Зозули деньги, достал из шкафчика бутылку «Экстры». — Пока он сбегает, аппетит исчезнет. А тут у меня товарищ оставил, — явно солгал Микита, — так мы ему вернем. — Вернем, — обрадовался брюнет. — Я потом сам сбегаю, а сейчас ты правильно сказал: аппетит пропадет. Лейтенант подумал, что у этих барыг аппетит, особенно на водку, вряд ли когда-нибудь исчезнет — ишь ловкачи, думают, что на крючок попался неопытный карась и его можно обмишурить. Зозуля недавно купил смеситель, стоит он шестнадцать рублей, а эти деляги — четвертак и еще пятерку, почти вдвое дороже. Дав себе слово позвонить участковому инспектору, чтобы взял их за жабры, лейтенант сел на подставленную брюнетом грязную табуретку. — Мне только... — показал он два пальца, — потому что еще на работу. — Будто не понимаем! — довольно усмехнулся брюнет и налил себе и электрику по три четверти стакана, словно у них рабочий день уже закончился. Они выпили и закусили, брюнет достал полупустую пачку «Примы», закурил с усачом. — Квартиру получил? — спросил у Зозули электрик. — Получил. — Где? — На Оболони. — На Оболони — это хорошо, — одобрил он. — Там скоро метро будет. Быстро и дешево. Мебель какую хочешь? — Не помешало бы чешскую или югославскую. — А у тебя губа не дура! — Мебель же не на один год покупаем, — рассудительно вставил брюнет. — Тут скупиться не годится. — И то правда, — кивнул усач. — Юхим тебе достанет какую хочешь... Как пить дать! Но... — и он сделал красноречивый жест указательным и большим пальцами. — Мы не поскупимся, — заверил лейтенант. — Я сразу понял, что ты хороший парень, — захохотал брюнет. — Мы таких любим. — И ты люби нас, не пожалеешь, — воскликнул электрик. Он явно опьянел, глаза блестели и щеки покраснели. — А я Юхиму скажу, он меня слушает... Юхим-то знаешь какой человек... Он все может, и мебель и иное протчее... Крант или бачок, это, к примеру, мое дело! А Юхим! — Усатый неопределенно повертел рукой над головой. — Юхим, парень, это голова, и ему б не завхозом быть, а в министерстве. Все знает — как лежит и где лежит. — И главное, где плохо лежит! — захохотал брюнет. Чем дальше, тем разговор становился интереснее. Зозуля встал и произнес почти торжественно, по крайней мере растроганно: — Мне очень приятно, что попал к умным людям, и я верю, что вы мне поможете. Ваше здоровье! Брюнет выпил и почему-то шепотом спросил: — А кафель нужен? Белый кафель для ванной и кухни. Чешские плитки. Только я могу такие достать. — И кафель нужен! — воскликнул лейтенант. — Импортная мебель и белый кафель, об этом только мечтать!.. А что может Юхим Сидорович, кроме мебели, разумеется?.. Микита вдруг бросил на него пронизывающий и совсем трезвый взгляд, но Зозуля раскраснелся, смотрел простодушно, и электрик успокоился и опорожнил свой стакан. — Юхим, я же говорил, все может, — заверил он. — И машину? Электрик покачал головой. — Машину — не знаю. Машину — это у него спросить надо. Про машину я, к примеру, не слышал. — Если сам не сможет, то найдет нужного человека, — успокоил брюнет. — Точно, найдет, — подтвердил Микита. — А сейчас, — он посмотрел на часы, — ты нас извини, но работа... Должны с Васей идти, а ты завтра загляни, с утра лучше, мы точно будем и смеситель достанем. Лады? — Лады, — подставил руку Зозуля. Микита крепко ударил по ней, и лейтенант вышел из подвала, очень довольный разговорчивостью электрика-сантехника и его помощника Васи. Вот тебе и «скромный» завхоз товарищ Крот, который все может и все знает! Знал, несомненно, и о скифской чаше, и конечно, она не могла миновать его липких рук.
Телефон зазвонил, когда не было и семи утра. Хаблак схватил трубку и услышал голос Каштанова. — Извини, Сергей, но пришлось тебя побеспокоить, — сказал полковник. — Убит Ситник. — Какой Ситник? — не понял спросонок майор. — Редактор издательства Олег Павлович Ситник. — Не может быть! — воскликнул Хаблак. — И где? — В Русановских садах. Оперативная группа выезжает, ребята заедут за тобой через четверть часа. — Понятно. А откуда стало известно? — У тетки Ситника там садовый участок, а позвонила соседка по даче. Вот и все, что я знаю. Оперативная машина выехала. Полковник повесил трубку. В постели сонно заворочалась Марина. Хаблак быстро умылся и оделся. Выглянул в окно — машина еще не подъехала, — выпил стакан кефира с черным хлебом и тихо, чтобы не разбудить жену, вышел на лестницу. Приехала не одна машина, а две. Вторая — газик с оперативниками, майор поздоровался со знакомым старшиной, сел в «Волгу», на переднем сиденье которой удобно устроился судебно-медицинский эксперт Чушков. — Подняли тебя, бедного... — Чушков был сострадательным человеком и всегда в таких случаях сочувствовал своим коллегам. Хаблак стукнул дверцей. — Я этого парня только вчера видел, жаль. — Всегда жаль, — согласился эксперт. Половину заднего сиденья занял следователь прокуратуры Дробаха. Майор тепло посмотрел на него и крепко пожал руку. Наверное, и Дробахе было приятно снова встретиться с Хаблаком — ответил открытой и доброй улыбкой и приветливо сказал: — Хорошо, что мы опять вместе работаем. — Меня это тоже радует, — искренне сказал Хаблак. Машина миновала новые дома за станцией метро «Левобережная». Майор давно не был в этом районе и не представлял, сколько тут понастроили. Начались сады. От длинной широкой основной дороги все время отходили узенькие боковые переулки, в которые машины буквально должны были протискиваться — о разъездах не было и речи, садоводы экономили каждый квадратный метр земли. Домик, к которому повернули милицейские машины, стоял в молодом саду, не очень ухоженном, — у ворот все заросло бурьяном. Возле калитки на скамейке сидела женщина в толстой вязаной кофте — утра уже холодные, а здесь, над Днепром, и подавно. Женщина встала со скамьи, должно быть, уже опомнилась, пока приехали милицейские машины, но все же щеки у нее дрожали и смотрела испуганно. — Вон там, — показала она на домик, — я утром смотрю, отперто, позвала, но никто не ответил. Я и заглянула, а он лежит мертвый. Капитан спросил: — Посторонних не видели? — Я рано встаю, в шесть. В это время люди еще спят. Да и вообще теперь тут редко кто ночует... Садовый домик стоял на высоких сваях, собственно, комната с небольшой верандой создавали второй этаж, а внизу было нечто наподобие кладовой или прихожей — лестница отсюда вела на веранду. Незапертая дверь жалобно поскрипывала и качалась на сквозняке, а за ней в неудобной позе, поджав под себя руки, лежал Олег Ситник. Защелкал затвор фотокамеры, эксперт сфотографировал тело и пропустил вперед Чушкова, а майор принялся осматривать замок, из которого торчал ключ. Увидев еле заметные царапины возле отверстия замочной скважины, аккуратно вытащил ключ, подозвал Дробаху. — Видите, — сказал он, — его, вероятно, раньше отперли отмычкой, может, просто изогнутым гвоздем. Замок никудышный, два раза колупнуть, и все. — Точно, — подтвердил следователь и приказал: — Снимите замок — и на экспертизу. Чушков наконец закончил предварительный осмотр тела. — Пролом черепа, — сообщил он, — очень сильный удар, надо полагать, каким-то металлическим предметом. Смерть наступила десять — двенадцать часов назад. После вскрытия доложим подробнее. Приехала «скорая помощь», тело Ситника повезли в морг. Дробаха с Хаблаком начали осмотр кладовой. Здесь хранился различный садовый инвентарь — лопаты, грабли, тяпка, две старые бочки, моток проволоки, пустые бутылки... Слева от двери было свободное место, справа стоял стол на трех ножках — майор внимательно осмотрел его и пришел к выводу, что к нему не прикасались. Весь он был покрыт толстым слоем пыли, и преступник, коснувшись поверхности, обязательно оставил бы след. Дробаха встал слева от двери, взял какую-то палку. — Он спрятался здесь. Ситник вошел, тот поднял палку, сильный удар по голове, — учтите, Ситник высокого роста, должен был пригнуться, когда входил, он просто подставил голову, и преступник воспользовался этим. — Логично, — согласился майор. — Сообщник Ситника узнал, что мы заподозрили парня, он боялся, что тот выдаст его, и решил убрать. — И концы в воду, — мрачно заметил Дробаха. Хаблак начал осматривать стену, на которой висели пила и лейка для цветов. В стене торчало еще несколько гвоздей, они-то и заинтересовали майора. — Что-нибудь нашли? — полюбопытствовал Дробаха. Хаблак аккуратно снял с гвоздя ниточку, поднес к свету, внимательно рассмотрел. Потом взял у оперативника фонарь, посветил и осмотрел в лупу один из гвоздей. — Кровь, — сказал он уверенно. — Этот тип, размахнувшись, задел за гвоздь и оцарапался. К тому же разорвал рубашку. Рубашку оранжевого цвета. — Нитка?.. — оживился Дробаха. — И вы считаете?.. Майор взял со стола из кучи разных инструментов клещи и вытащил гвоздь. Завернув в бумажку, передал оперативнику. Показал Дробахе ниточку на листке белой бумаги. Следователь протер очки, надел и внимательно осмотрел ее. — Оранжевая хлопчатобумажная нитка, — удовлетворенно сказал он. Хаблак остановился возле дверей, взял у Дробахи палку. Сильно размахнулся, сделал вид, что бьет, и чуть не зацепился за косяк. Дробаха удовлетворенно засмеялся. — Точно, — констатировал он, — убийца должен был зацепиться за гвоздь. Все же наследил, и у нас есть нитка. — Есть, — согласился майор. Они, расположившись за садовым столом под яблоней, начали расспрашивать соседку и садовода, жившего напротив, — его пригласили как понятого. Оказалось, что соседка приехала в сад вчера вечером, решила переночевать тут — на следующий день у нее был отгул и хотела повозиться на огороде с раннего утра. С теткой Ситника она работала на одном заводе, вместе получали участки, строились, сажали деревья. Олег приезжал сюда довольно часто, иногда привозил с собой компании — парней и девушек, которые помогали в саду, купались и танцевали... Тетка Ситника как раз две недели назад получила отпуск и уехала в Ялту, ключ от дома оставила Олегу, и вот тебе на — такое несчастье. — Олег бывал на даче после отъезда тетки? — спросил Хаблак. — Раза два. Да, дважды, и последний раз с девушкой. — Знаете ее? Женщина энергично покачала головой: — Впервые видела. Высокая, молодая, красивая, даже очень красивая. Видная такая, волосы каштановые и высокая прическа. — Когда приезжали? — На той неделе, в среду или во вторник. Да, во вторник, я через день работаю и в тот день была свободна. — Могли бы вы узнать эту девушку? — спросил Дробаха. Он сидел в своей излюбленной позе, сложив руки на животе, шевеля большими пальцами. А над головой у него висели спелые красные яблоки. Лишь теперь майор вспомнил, что фактически он не завтракал, очень захотелось яблок, но взять не решился, хотя спелые плоды и усыпали землю под деревьями. — Конечно, узнала бы, — подтвердила соседка. — А больше никто сюда не приходил? — Нет, не видела. — А вы не замечали? — обратился Хаблак к соседу. — Ходят тут всякие, — осуждающе отозвался тот, — народу на чужие яблоки хватает. Смотреть надо в оба, недосмотришь, раз — и обчистят. А Мария Васильевна перед отъездом просила за ее садом присматривать, так я и смотрел, да разве углядишь? Вот видите, за яблоки убили парня, и это ж надо, за фрукту, ты попроси, я тебе этой фрукты корзину насыплю, лишь бы по-честному! — А вчера вечером никто здесь не вертелся? — Я приехала, когда уже стемнело, — вмешалась соседка. — Чего не видал, того не видал, не хочу брать грех на душу, — сказал сосед. — И не слышал, чтобы на помощь звали или просто шум, — нет, ничего не слышал. Майор посмотрел на Дробаху, тот понял его без слов — отпустили понятых и поехали в город. — Надо одного типа проверить, — заявил Хаблак, откинувшись на мягкую спинку сиденья. — Кстати, вы, Иван Яковлевич, тоже не завтракали? — Когда же? — Заглянем ко мне, тут рядом, на Русановской набережной, и вы, Михаил Михайлович, — положил он Чушкову руку на плечо, — тоже никогда у меня не были. — Ну что вы, — категорично возразил Дробаха, — об этом не может быть и речи, нас трое, стесним вашу жену. Лучше заглянем в чебуречную, я как-то проезжал тут и запомнил. — Существует, — подтвердил майор, — но чебуреками там, по-моему, и не пахнет. А Марина нажарит нам яичницы с колбасой, большего не гарантирую, но яичницу... — А вы, друг мой, пессимист, — пробормотал Дробаха, — я лично лучшего мнения о работниках общепита. Хаблак пожал плечами, предположение оказалось необоснованным: чебуреки были, даже неплохие, по крайней мере горячие, и они отдали им должное, уничтожив по две порции. Дробаха, правда, мог бы осилить и третью, но, подумав, отказался: это его намерение не нашло бы поддержки у Хаблака и Чушкова, и следователь подумал, что они, по всей вероятности, осудили бы его, а он был здесь все же старший по званию и служебному положению и не хотел выглядеть смешным. Попросил принести черного кофе. Как ни странно, ему не отказали, и довольный Дробаха спросил у майора: — Какого типа вы имели в виду, Сергей Антонович? — Есть тут один... Юхим Сидорович Крот, завхоз издательства, и кажется мне, что он приложил руку к убийству Ситника. — Вам виднее, майор. Я только что подключился к делу, а вы в нем как рыба в воде. — Скифская чаша! — воскликнул Хаблак. — Голову даю на отсечение, что Ситника убрали из-за нее. — Не исключено, все же какая-то сотая доля процента... — Сейчас заедем в издательство, и я поговорю с уважаемым гражданином Кротом! — не без злорадства сказал майор. — Девушка... — заметил Дробаха. — Высокая, молодая и красивая! Там, где очень красивые девушки, всегда что-нибудь случается. Вам не приходилось наблюдать такую закономерность? — Вы старше и опытнее, — уклонился от прямого ответа Хаблак. — А девушку попробуем разыскать. — Приезжайте вечером, — решил следователь, — я управлюсь с некоторыми делами, чтобы ничто не мешало, тогда и посоветуемся. Майор кивнул. У него был свой план действий, и в помощи Дробахи он пока не нуждался. Они подъехали сначала к прокуратуре, отвезли Чушкова в управление, потом Хаблак поехал в издательство. Крот встретил майора настороженно, но без особого волнения. Хаблак решил сразу взять быка за рога — присел напротив и спросил прямо: — Где вы были вчера вечером, Юхим Сидорович? Между шестью и десятью часами? Крот сдвинул очки на кончик носа. — Вчера между шестью и десятью? — повторил таким тоном, будто этот вопрос удивил его. — А зачем это вам, уважаемый? — Необходимо, Юхим Сидорович, крайне нуждаюсь в прямом и недвусмысленном ответе. — Пожалуйста, это очень легко проверить. Вчера после работы, а до шести я был в издательстве, поехал к сыну. Праздновали рождение внука, ну и как же без деда? Хаблак почувствовал, как кровь отлила у него от лица. Вероятно, у Крота полное алиби. Поинтересовался адресом сына завхоза, узнал, кто был на праздновании, и позвонил в управление Зозуле, поручив лейтенанту проверить показание Юхима Сидоровича. Заглянул к Данько. Узнав о смерти Ситника, тот разволновался. — Вот на свою голову! — воскликнул он категорично. — Одно преступление тянет за собой другое. Майор был согласен с художником, но возразил для приличия: — Не будьте таким прямолинейным. Кстати, вы не видели с Ситником красивой девушки? Каштановые волосы и высокая прическа? Данько покачал головой: — Он посторонних девушек в издательство не водил. Расспросите дружка Олега, Ивана Кухаренко, преподает язык в железнодорожном техникуме. Тот должен знать, давно дружат — вместе кончали университет. До техникума было не близко, и Хаблак трясся в троллейбусе, смотрел на озабоченных прохожих и думал, что раскручивать ему эту историю со скифской чашей долго и нудно, вот что получается — даже перед убийством не остановились. Иван Кухаренко искренне огорчился, узнав о трагедии в Русановских садах. Чуть не заплакал, шмыгнул носом, и глаза увлажнились, он сидел в пустой преподавательской (в техникуме шли занятия, однако директор освободил Кухаренко) рядом с Хаблаком на диване, маленький, худощавый, некрасивый мужчина, еще сравнительно молодой, но уже лысеющий, небрежно одетый, совсем не похожий на Ситника — высокого, самоуверенного. Еще раз шмыгнул носом и спросил: — За что же его? Майор только пожал плечами. — Я знал: что-то должно было случиться, — сказал Кухаренко, — не нравился мне Олег в последнее время, какой-то весь издерганный и натянутый как струна, то и дело раздражался. — Вы ведь дружили — могли бы и расспросить его. — заметил Хаблак. — Вы не знали Олега. Упрямый и себялюбец, если что-нибудь надумает, так тому и быть. — Знакомы с их завхозом Кротом? — Нет. — Может, видели с Олегом? Пожилой человек, лысоватый, лицо неприятное, похож на хорька. Кухаренко отрицательно покачал головой: — Никогда не встречал. — А новые друзья Олега? Не видели Ситника в последнее время с новыми людьми? Может, с девушкой? Высокой, красивой, каштановые волосы. Приезжала с ним на дачу. — Так это же Роза, парикмахерша Роза, и Олег ухаживал за ней. Влюбился по уши, девушка действительно хороша, но того... — он повертел рукой над головой, — ветер... Сегодня с Олегом, завтра с другим. Я его предупреждал: брось, зачем она тебе, ну красивая, так красивых вон сколько по Крещатику слоняется, бери — не хочу, каждая третья или четвертая, да и Олег парень не из последних... Был! — воскликнул он вдруг в отчаянии, словно только сейчас осознал гибель товарища. Кухаренко стиснул виски и нагнулся чуть не до самого пола, видно, что ему было по-настоящему больно, совсем не позировал и переживал искренне. — Где же эта Роза работает? — Майор взял Кухаренко за локоть, слегка встряхнул, приводя в чувство. — Говорите, парикмахерша? — На Крещатике. Большая парикмахерская. Знаете? — Знаю. Как ее фамилия? Кухаренко покачал головой: — На что она мне? В конце концов, и Хаблаку фамилия Розы была не очень нужна, теперь найти ее не представляло труда. — Дамский мастер или мужской? — все же поинтересовался он. — Мужской. Олег ходил к ней подстригаться, хвалил, что хорошо работает, и меня хотел затащить. — Ситник там и познакомился с Розой, в парикмахерской? — Нет, они встретились где-то раньше. Это уже потом Олег ходил к ней стричься. — А кто мог ненавидеть вашего товарища? И отомстить? Кухаренко лишь покачал головой. — Он был вообще-то неплохим парнем. Безалаберный, но добрый, можете мне поверить. Часто увлекался, эмоции в нем всегда брали верх над разумом, легкий был и мягкий. — И поэтому попадал под влияние более сильных людей? — Да. Майор попрощался с Кухаренко и из первого же телефона-автомата связался с уголовным розыском. Попросил передать Зозуле, чтобы нашел в управлении бытового обслуживания фотографию Розы из парикмахерской на Крещатике. Если там работают две Розы, то взять два снимка и показать их женщине в Русановских садах, видевшей девушку вместе с Олегом Ситником. Зозуля понял майора с полуслова, теперь Хаблак был уверен, что до конца рабочего дня лейтенант узнает, приезжала ли парикмахерша в Русановские сады, и со спокойной душой поехал на Крещатик. Майор иногда посещал эту парикмахерскую. Большая, фешенебельная, и народу в ней, как правило, всегда много. Заглянул в зал. Мастера — преимущественно мужчины и только две женщины. Одна уже пожилая, лет за пятьдесят, другая — курносая девушка, блондинка, совсем не красавица и волосы не каштановые. Но ведь волосы у нее крашеные, да и понятие красоты, как известно, относительное... Хаблак подошел к кассирше, старой седой женщине с морщинистым, мрачным лицом, и поинтересовался, когда работает Роза. Кассирша посмотрела на него с нескрываемой насмешкой, майор понял, что не он один проявляет повышенный интерес к «каштановой» парикмахерше, — и ответила, что у них много хороших мастеров, мастеров экстракласса, каких в Киеве днем с огнем не найти, а если говорить о Розе, то на ней свет клином не сошелся. Майор сказал, что у него к Розе поручение и он должен непременно увидеть ее. Кассирша посмотрела на него еще насмешливей, но все же объяснила, что Розалия Ютковская работает завтра в первой смене. Хаблак улыбнулся кассирше как можно доброжелательнее и спросил, как зовут курносую блондинку — первое кресло от окна слева, — кажется, они с Розой подруги, по крайней мере как-то он видел их вместе. Да, подруги, согласилась кассирша, и Вита, наверное, знает, где можно найти Ютковскую и сейчас. Майор дождался, пока освободится Витино кресло, она бросила на него безразличный взгляд, привыкла к круговерти клиентов и относилась ко всем с холодной вежливостью, как мастер, знающий себе цену. — Подстриги, Виточка, — фамильярно попросил Хаблак, — и не очень высоко, как всегда. Девушка с любопытством посмотрела на него — неужели не узнала знакомого или постоянного клиента? Видно, не узнала, но по-дружески улыбнулась майору. Она накинула на Хаблака простыню, нагнулась, чтобы взять расческу и ножницы, и на лице ее, не очень красивом, но симпатичном, майор заметил некую работу мысли, вероятно, она перебирала в памяти клиентов, да все не могла вспомнить. Майор ей не пошел навстречу, сидел и смотрел, как быстро и ловко работает девушка, наконец, когда она нагнулась к нему, тихо, чтобы не услышали рядом, спросил: — У вас когда обед, Виточка? — Вообще-то, через полчаса, но я могу задержаться. Это прозвучало как согласие. Хаблак фамильярно, но очень осторожно коснулся Витиных пальцев и уточнил: — Значит, в час? Я буду ждать на улице. Она кивнула и еще раз посмотрела изучающе — видно, майор понравился ей, и она не хотела терять свой шанс. Хаблак с облегчением встал с кресла. Он, честно говоря, не думал, что девушка так быстро согласится пойти на свидание, но все же рассчитывал как-то уговорить ее. Шел и видел боковым зрением в зеркалах несколько Витиных отражений, и с каждого она смотрела на него чуть удивленно.
Вита не заставила майора долго ждать: вышла ровно в час в красном, легком, по погоде, плаще. Хаблак взял ее за локоть, и они побрели по Петровской аллее — до шашлычной десять минут ходьбы, так стоит ли садиться в троллейбус из-за одной остановки? Майор не стал больше испытывать терпения Виты. — Меня зовут Сергеем, — представился он, — а то, что вас — Вита, я узнал от кассирши, и мне почему-то очень захотелось угостить вас шашлычком. — У вас часто возникают такие желания? — Ну что вы, даже в Киеве редко увидишь красивую девушку с абсолютно симпатичным носиком. — И кто же вы такой? — Вы имеете в виду профессию? — Вот именно. Майор вспомнил, как в свое время пришлось выдавать себя за работника торговли. — Директор магазина, — сказал он и сразу же почувствовал, как заинтересовалась девушка — непроизвольно замедлила шаг и кокетливо посмотрела на него. — Гастронома? — уточнила она. — Промтоварного. — Ого! — протянула она с уважением. — С вами надо дружить. — Конечно. И я надеюсь, что наша встреча не последняя. — Смотря, как вы будете себя вести... — Как неопытный теленок. — Этого про вас не скажешь. — Должно быть, я больше похож на слона в посудной лавке. Но это только внешне. — Ну знаете, — поощрительно засмеялась Вита, — из вас получилось бы разве что четверть слона... Занимаетесь спортом? Хаблак подумал, что его утренние пробежки по Русаковской набережной — еще не спорт. Покачал головой: — Легкая зарядка. На большее нет времени. Торговля — это, знаете... — Догадываюсь... А вы не похожи на директора магазина. — А на кого же? — На военного. «Что ж, ей не откажешь в наблюдательности», — подумал майор. Шашлыки оказались неплохими, они пришлись по вкусу не только Хаблаку. Вита с аппетитом уплетала их и лукаво поглядывала на майора. — Как вам работается? — начал Хаблак издалека. — А-а, — пренебрежительно ответила она, — все одно и то же: полька, бокс, полубокс... молодежная... Осточертело. — А у меня: прием товара, план, каждый хочет иметь прогрессивку! — А дубленки у тебя бывают? — Вита сразу перешла на «ты». Хаблак покачал головой: — Ты что? Откуда у нас... — Жаль... А можешь достать? Майор подумал, что обещание его ни к чему не обязывает, и обнадеживающе сказал: — Попробуем. — Тебя сам бог мне послал. — А тебе пойдет дубленка. Такой красивой девушке... — Разве я красивая? — Мне нравишься. — Вот у меня подруга! — Не говори, — поморщился Хаблак, — представляю себе... — Ты же не видел. Правда, красивая. — Какое-нибудь пугало! — Увидишь, влюбишься. Ребята умирают. — Хочешь подразнить? А если действительно влюблюсь? — Розка такая шикарная! — Роза? Такая же блондинка, как ты? — Каштановая. — А мне по вкусу только блондинки. Вита подарила Хаблаку обнадеживающую улыбку и похлопала его по щеке. «А она привыкла не терять времени, — подумал майор. — Ну что ж, мне тоже некогда рассусоливать». И предложил: — Может, вечером возьмешь свою Розу и где-нибудь поужинаем? Я приглашу товарища. Вита энергично покачала головой: — Не выйдет, Роза занята. — Замужем? — Хуже. Там такие ребята! И Розке нравятся. — Даже двое? — Двое, — вздохнула она. — Как два быка. «Одного уже нет, — подумал капитан. — А если Ситника убили из-за ревности? И вся эта история не имеет никакого отношения к скифской чаше?» — И кто же они? — равнодушно спросил Хаблак с набитым ртом. — Один ничего, писатель. Ох и везет же Розке, — воскликнула она вдруг, — писатель и красивый! Он еще неизвестный, но стихи пишет чудесные, я слушала, и мне очень понравились. Будет знаменитым, — с завистью прибавила она, — и Розка рядом с ним! — Поэты — бедные, — возразил Хаблак. — И легкомысленные. — Но ведь их все знают... — Из признания дубленку не сошьешь, оно не греет. А что такое слава без денег? Вита, как бы случайно, коснулась коленом ноги Хаблака и сразу отодвинулась. — Ты умный и все знаешь. — Каждый день считать приходится, — подтвердил он. — Уже стало привычкой. — Хорошая привычка. — А кто же другой у Розы? — повернул разговор в нужное русло майор. — Работяга... — Вита пренебрежительно опустила уголки губ. — Обыкновенный шофер, пустой номер. — Опытный шофер знаешь сколько имеет! Особенно если на автобусе или дальние рейсы... — И Роза так говорит. — Все понимает. — Роза — практичная! — Вита вздохнула так, будто сама ничего не понимала в жизни и все, кому не лень, только и делали, что обводили ее вокруг пальца. — К шоферу склоняется? — Не знаю. — Вот что, — перегнулся через стол Хаблак, делая вид, что эта мысль сию минуту осенила его, — пригласи свою Розу с шофером, где-нибудь поужинаем. Ты до скольких сегодня? — До семи. — Ну и хорошо, я позвоню после шести. Телефон в парикмахерской есть? Вита записала его на бумажной салфетке. — А ты настойчивый, — одобрительно констатировала она. — Ты мне сразу приглянулась, — признался Хаблак. — Как только заглянул к вам. Смотрю, такая симпатичная и курносая. — Курносая, — сокрушенно вздохнула Вита, и майор понял, что это одна из самых больших ее жизненных неприятностей. — Курносая — это чудесно! — воскликнул он с восхищением. Девушка неохотно встала. — Пора идти, и так уже задержались. — У вас столько мастеров. — Старые и сердитые. — Перебьются. — Сегодня перебьются, — согласилась Вита. — Да все же будут ругать за опоздание. Проводив девушку, Хаблак поехал в управление. Каштанова не было, он отправился в прокуратуру, не было и Зозули, и майор подумал, что лейтенант мог уже и обернуться, — позвонил в издательство и попросил Данько наведаться через полчаса в угрозыск. Он рассчитал правильно: Зозуля появился минут через пятнадцать, весь раскрасневшийся. — У Крота чистое алиби. — Положив перед капитаном маленькое фото, вынутое из личного дела, доложил: — Розалия Владимировна Ютковская. Парикмахер. Соседка по даче опознала ее. Вот и акт опознания. С фотографии смотрела действительно красивая девушка, хотя снимок был и некачественный. Удлиненное лицо, длинная шея, покатые плечи и большие, должно быть темные, глаза. И смелый взгляд. Хаблак велел лейтенанту принести еще несколько фотографий женщин, разложил их на столе. Вскоре появился Данько, и майор подвел его к столу, попросил посмотреть внимательно: может, с кем-нибудь из них приходилось встречаться... Данько долго вглядывался, и Хаблак уже подумал было, что его предвидения неверны, когда художник нерешительно поднял фото Ютковской. — По-моему, я видел ее в издательстве, — сказал он. — У вас зоркий глаз, — похвалил майор. — Художнику без этого нельзя. — И эта женщина заходила к Кроту? — Много от меня хотите. — Действительно, много, — кивнул Хаблак. — Припомните. — Может, и к Кроту. Было это летом. Пришла в желтом платье с черными цветами или листьями, это я точно помню — желтое платье, видел ее в коридоре во время перерыва, значит, кто-то ждал ее. А вот куда пошла... — Не к Ситнику? — Нет, наша дверь почти рядом, а она пошла дальше. — Там ведь коридор разделяется. Налево — в кабинет зама директора, прямо — к завхозу. Она повернула или пошла к Кроту? — Не помню. — Ну хорошо... — Майор был явно разочарован. — Как там у вас, в издательстве? — Хорошего мало: эта злосчастная чаша, а теперь убийство! Хаблак смешал фотографии, подал Зозуле. — Поедете, лейтенант, вместе с Данько. Девица видная, красивая, такую в издательстве могли запомнить. Покажите ее фото. Зозуля с Данько уехали, а Хаблак позвонил Дробахе. Рассказал о сделанном и о своем плане провести вечер в компании парикмахерш. Следователь немного подумал и одобрил: — Давайте, майор, вероятно, эта Ютковская — любопытная штучка. Видите, приходила в издательство. А для чего? — Лейтенант Зозуля поехал туда и попробует установить, к кому именно приходила. — Вот-вот, — обрадовался Дробаха, — это очень важно. Но ведь вы говорили — не к Ситнику. Значит, у нее в издательстве есть еще знакомые, возможно, они свели ее с Ситником. А как версия с завхозом? — Разрабатываем. Вита стояла у входа в ресторан «Метро», рядом с Розой. Хаблак еще издали заметил каштановую парикмахершу и подумал, что слухи о ее красоте не преувеличены. По крайней мере, фотография была бледной копией. Высокая, да еще и в туфлях на высоких каблуках, лицо удлиненное, глаза широко поставлены, большие, черные, яркие и искристые. Вита рядом с Ютковской проигрывала. Она была несколько приземиста, невзирая на светлые, высоко взбитые волосы. Вита задорно улыбалась, и мужчины, толпившиеся у станции метро, ловили ее взгляды, улыбаясь в ответ. — Подождем немного, — сказала Вита Хаблаку, — должен прийти Жека. Розин парень, — пояснила она, — Может чуть опоздать. Но Жека не опоздал — появился через три-четыре минуты, вышел из потока пассажиров и сразу увидел девушек. Круто повернул к ним и остановился, широко расставив ноги в модных расклешенных брюках ярко-свекольного цвета, почти красных. Пиджак Жека носил светло-синий, точнее, васильковый, очевидно, ему нравилось такое сочетание цветов, потому что стоял, гордо выпятив грудь и подрыгивая ногой в картинной позе провинциального хлыща. Вита назвала Хаблака, Жека подал ему руку, сплюнув сквозь зубы и, надо полагать, выразив этим свое не очень большое уважение к работникам торговли. Однако майор не обиделся на пренебрежение, крепко пожал Жеке руку — он насмотрелся всякого и не привык составлять впечатление о человеке с первого взгляда. Жека был на полголовы ниже Хаблака, но коренастее и, вероятно, обладал воловьей силой: мышцы выпирали из рукавов модно сшитого узковатого пиджака. — Что, девчата, соскучились? — опять сплюнул он в сторону и поправил на голове кепочку с коротким козырьком. — Кирнем сегодня, я ставлю, и чтоб все было чин чинарем. — Но ведь приглашал я, — запротестовал Хаблак, — с меня шампанское по поводу знакомства. — Шампанское? — даже удивился Жека. — Ты пьешь шампанское? — А что? — По мне, им лишь запивать. Ну девчатам еще, чтобзахмелели. — Впрочем, у каждого свои взгляды, и Хаблак не стал спорить. Официантка устроила их в уголке зала — уютное местечко в стороне от других посетителей, и сразу, пошептавшись с Жекой, поставила на стол бутылки водки и коньяка. — Еще притащишь шампанского, — распорядился Жека. Он явно брал бразды правления в свои руки. В конце концов, Хаблаку было все равно: чем больше выпьет компания, тем свободнее почувствуют себя девушки, и языки у них развяжутся еще больше. Жека налил себе три четверти фужера водки и с иронией смотрел, как покрывается пузырьками шампанское в хрустальном бокале Хаблака. Он уже поднял свой фужер, но вдруг какая-то мысль остановила его. Жека, подозрительно сверкнув глазами, спросил: — Девчата говорят, ты директор магазина? — Ну и что? — А за что тебе такая честь — директор? — Потому что окончил институт торговли. — И где же твоя лавочка? — На Куреневке. — Что-нибудь есть, — щелкнул он пальцами, — дефицитное? — А что нужно? — Роза брючный костюм хочет. — Сделаем. — Когда? — На той неделе. Польский или югославский. Такая категоричность, вероятно, успокоила Жеку — он выпил фужер до дна, чуть зажмурясь и крякнув от удовольствия. Девушки не колеблясь приложились к коньяку, и только один Хаблак ограничился шампанским. Вита, правда, попыталась уговорить его выпить чего-нибудь покрепче, но майор сослался на то, что завтра в магазине ревизия и он должен иметь свежую голову. Упоминание о ревизии вызвало у Жеки серию не очень удачных шуток. Хаблак реагировал вяло, девушки наконец поняли, что этот разговор нервирует его, и Роза рассказала о новом заведующем парикмахерской. Оказалось, молодой парень, но виртуоз, получил вторую премию на конкурсе в Варшаве, блестяще работает и вообще симпатичный. Явно помрачневший Жека схватил девушку выше локтя так, что та охнула и потерла покрасневшее место. — Я твоих хахалей!.. — он потряс огромным кулаком. — К ногтю. Ютковская, хотя, видно, и не отличалась особой покорностью, смутилась, положила парню руку на плечо и что-то прошептала на ухо. Жека сразу размяк, блаженно улыбнулся и налил себе вторую порцию водки. Хаблак неторопливо и незаметно вытянул из Жеки все, что хотел. Оказалось, что фамилия Евгения — Бурнусов и работает он таксистом. Майор даже выяснил, сколько тот зарабатывает и где живет. Попробовал узнать о Жекином прошлом, но парень сразу замкнулся, пробормотал что-то неопределенное и предложил лучше выпить. Пил он действительно лошадиными дозами, через полчаса опорожнил на три четверти бутылку водки, но хмелел медленно, лишь раскраснелся и снял пиджак, повесив его на спинку стула. Остался в белой ажурной сорочке, сквозь которую просвечивала желтая майка, но это ничуть не беспокоило Жеку, хмель начал бродить в нем, он откинулся на спинку стула и хвастливо заявил: — Мы, люди рабочие, умеем и вкалывать, и гулять. — Рабочий! — захохотала Вита. — Таксист ты и калымщик, в галстуке баранку крутишь, тепло и мухи не кусают. — Много ты понимаешь! — окрысился Жека. — А ремонт? — Бросишь десятку слесарю, он и сделает. — Эту десятку еще заработать надо. — Пассажиры окупят с лихвой. — Точно, окупят! — вмешалась Роза, сверкнув цыганскими глазами. — За здоровье пассажиров, они сегодня угощают нас! Жека бросил на нее недовольный взгляд. Зачем-то ощупал боковой карман пиджака, висевшего на стуле, вполоборота повернувшись к Хаблаку, — должно быть, проверял, на месте ли бумажник, — и майор увидел под ажурной сорочкой на правом плече Жеки рану или царапину, заклеенную лейкопластырем. Хаблак предложил потанцевать. Бурнусов вынул из бокового кармана бумажник, пошел между столиками, пропустив впереди себя Розалию. Майор последовал за ним. Теперь он хорошо видел лейкопластырь под сорочкой, было искушение коснуться пальцем и спросить, вот так просто спросить: где ты, голубчик, так поцарапался? Случайно не в Русановских ли садах, когда убивал человека прихваченной с собой монтировкой? Представил себе, как Жека стоит в кладовке в углу: вот заскрипела дверь, вошел Ситник, нагнув голову, потолок низкий, а парень высокий, Жека ударил его изо всех сил, не раздумывая, и напоролся на гвоздь. Наверное, не сразу ощутил боль, стоял и смотрел, как падает Ситник... Но откуда он знал, что тот приедет в теткин сад? Кто сообщил ему адрес дачи? Ясно и это: парикмахерша Роза, каштановая красавица, танцующая сейчас, прижавшись к Бурнусову. Она приезжала вместе с Ситником в Русановские сады, назначила там вчера свидание Олегу, и он поехал, поехал не раздумывая, на свою погибель... Но к кому же Ютковская приходила в издательство? Зная, что все равно не сможет сейчас ответить на этот вопрос, майор все же мысленно перебрал фамилии девятнадцати сотрудников издательства, сидевших на вечере Хоролевского, и ни на ком не остановился. Оставался Крот, и завтра они должны завязать веревку крепким узлом. Ну если не завтра, так в самые ближайшие дни. Вита заметила отчужденность Хаблака, прижалась к нему, и майор решил, что на сегодня с него достаточно. Девушки при Бурнусове вряд ли разговорятся, из них уже ничего не вытянешь, особенно об издательстве. Оркестранты сделали перерыв, Хаблак посмотрел на часы, извинился и заявил, что должен идти — вот кончится ревизия, тогда он в полном их распоряжении, хоть на всю ночь, а сейчас у него дела... Девушки запротестовали, Вита даже схватила майора за руку, но Жека удивительно спокойно отнесся к его заявлению и подтвердил, что правда — дело прежде всего. Хаблак отозвал его в сторону, хотел оплатить свою часть счета, однако Бурнусов самодовольно похлопал себя по карману: тут, мол, хватит на несколько таких визитов и они успеют рассчитаться. Хаблак не очень возражал. Шлепнул Жеку по плечу, стараясь попасть в раненое место, и попал, потому что Бурнусов поморщился от боли. Теперь майор окончательно убедился, что рана у Жеки совсем свежая, и ушел, абсолютно уверенный: сегодняшний вечер прошел не напрасно. Марина еще не спала, читала в постели толстенный роман, и Хаблак подумал: может, когда-нибудь и ему выпадет такое счастье — сидеть дома и читать книги, вместо того чтобы валандаться с девушками сомнительного поведения, когда любимая жена ждет тебя. Марина оперлась на локоть, пристально посмотрела на него и спросила: — Выпил? — Вынужден был немножко. Шампанского. — Хорошая служба. Шляется допоздна, пьет шампанское... Ужинать будешь? — Уже поужинал. — С кем? — С отрицательными персонажами, — отшутился Сергей, — так сказать, тенями прошлого и родимыми пятнами на здоровом теле. Марина подозрительно понюхала воздух: — От тебя пахнет духами! Хаблак вспомнил, как прижималась к нему Вита. Разумеется, плохо лгать жене, но чего он добьется, если скажет правду? Марина будет требовать, чтобы он бросил такую службу, а он не хочет и не может, он душой и телом чист перед женой. — Был сегодня в парикмахерской. Вероятно, это объяснение удовлетворило Марину, она отодвинулась, освобождая Сергею место в постели.
Запыхавшийся и раскрасневшийся Дробаха вошел в кабинет Каштанова, когда Хаблак уже доложил полковнику о вчерашнем вечере. Сел, вытер потное лицо и пожаловался: — У каждого есть начальство... Это прозвучало как извинение за опоздание, правда, не такое уж и большое, всего минут на десять, но Иван Яковлевич был пунктуальным человеком, ценил свое и чужое время. Майор повторил рассказ, подчеркнув прозрачную сорочку Бурнусова и лейкопластырь на правом плече. — Должна быть и оранжевая рубашка, — заметил Каштанов, — разорванная как раз в этом месте. — Если не выбросил, — возразил Хаблак. — Бурнусов работал позавчера? — спросил Дробаха. — А кто его знает? Спросить у него не мог, да и обиняком не получалось, чтобы не насторожить. — Верно, и сегодня не работает, раз напился вчера, еще сутки от него будет нести, а таксисты рисковать не любят. Полковник снял трубку и поручил Зозуле съездить в таксопарк. — Если Бурнусов позавчера работал, — приказал он, — то из таксопарка поезжайте в Русановские сады и расспросите там, не видели ли позавчера возле ситниковской дачи такси. Вероятно, стояло где-то неподалеку — на главной аллее или в каком-нибудь переулке. Следователь, слушая приказ Каштанова, одобрительно кивал головой и перебирал сплетенными на животе пальцами. — Ваши предложения? — спросил он Хаблака. — Обыск у Бурнусова. Может, найдем у него рубашку, а это бесспорное доказательство. Тогда арест. Дробаха зашевелился, и стул заскрипел под его тучным телом. — Я возьму у прокурора санкцию. Поедете сами? Майор кивнул. — Не терпится? — улыбнулся Дробаха. — Не терпится увидеть выражение лица вчерашнего собутыльника? — Ну, знаете... — Шучу. Найдете или не найдете рубашку, везите его сюда, раба божьего Евгения. Гвоздь кровью омыт, — подмигнул он, — сделаем экспертизу и, если все сойдется, расспросим людей, соседей, шоферов из таксопарка — должны были видеть его в оранжевой рубашке. Жека сам открыл Хаблаку. Стоял на пороге в одних трусах, заспанный и непричесанный, — звонок поднял его с постели, вчерашний алкоголь еще не выветрился, смотрел покрасневшими глазами и переминался с ноги на ногу. — А-а, это ты, — недовольно пробормотал он, но, увидев за спиной у майора незнакомые лица, спросил: — Что случилось и почему так рано?! — Милиция, — твердо сказал Хаблак. — Должны сделать у вас обыск, гражданин Бурнусов, вот, пожалуйста, постановление прокурора и понятые тут... — Какой обыск? — Жека еще раз переступил с ноги на ногу, наконец что-то понял, отступил в прихожую, хотел хлопнуть дверью, однако майор подставил ногу, а кто-то из оперативников невежливо отодвинул Бурнусова и прошел в квартиру. Теперь Жека окончательно опомнился. Уставился на Хаблака прищуренными глазами, изумленно спросил: — Мент, выходит, а я со всей душой... У майора не было времени на разговоры морально-этического характера. Приказал: — Приведите себя в порядок, Бурнусов. Пройдите в комнату и оденьтесь. Жека подтянул трусы и прошлепал босыми ногами по прихожей. Он занимал небольшую однокомнатную квартиру, почти не меблированную — в комнате постель, стол, два стула и тумбочка под телевизором старой марки, в углу батарея бутылок, преимущественно из-под водки и пива, васильковый пиджак, небрежно брошенный на телевизор. Бурнусов запрыгал на одной ноге, пытаясь попасть другой в штанину ярко-свекольных брюк, наконец натянул их, сел на неприбранную постель, хмуро оглядывая присутствующих. — Что вам надо? — спросил у Хаблака. — Чего шарите? — Есть ли у вас, гражданин Бурнусов, оранжевая хлопчатобумажная рубашка? — поинтересовался майор. — Есть, а что? — Где она? — В ванной. Там корзина для грязного белья. Оперативнику не надо было приказывать. Юркнул в ванную и чуть ли не тотчас же вернулся со скомканной рубашкой. Подал Хаблаку. Майор расправил ее, сразу увидев дырку на нравом плече. Совсем свежая дырка, и нитки торчали из разорванной ткани. Показал дырку Бурнусову: — Где порвали? Наверное, Жека уже понял все. Смотрел затравленно, но еще не мог признать своего поражения. — Где-то зацепился... — ответил он, поерзав на постели. — И поцарапали плечо? — Ну поцарапал. — Где? — В гараже. — Хорошо, Бурнусов, сейчас мы составим протокол и поедем в милицию. — На каком основании? — Для выяснения некоторых обстоятельств. Должны побеседовать с вами детальнее. Оперативник молча положил на стол завернутую в газету пачку денег. — Ваши? — спросил майор. — Чьи же еще? Понятые подсчитали: четыре тысячи без сотни. Почти все купюры новенькие, пачки по тысяче рублей аккуратно заклеены, словно только что получены в банке. — Почему не держите в сберкассе? — спросил Хаблак. Бурнусов вдруг разозлился: — Где хочу, там и держу. В сберкассе или под кроватью... Какое вам дело? — Конечно, это ваша воля, — согласился майор, но все же приказал забрать деньги. ...Дробаха начал допрос Бурнусова, когда у него уже были выводы экспертов, что нитка, найденная на гвозде в кладовке дачи тетки Ситника, от Жениной рубашки. Совпала также группа крови. Кроме этого, Зозуле удалось установить, что неподалеку от дачи приблизительно в то же время, когда произошло убийство, люди видели такси салатного цвета — оно стояло на обочине с выключенными подфарниками. Номера, правда, никто не запомнил, впрочем, Дробахе и без того хватало улик. Он сидел в своей излюбленной позе, переплетя пальцы на животе, и изучающе смотрел на Бурнусова. Наконец подышал на кончики пальцев и, заполнив протокол допроса, начал неторопливый разговор: — Как вы очутились позавчера в Русановских садах? И как попали на дачу гражданки Ситник? У Бурнусова было время обдумать ситуацию: наверное, решил ничего не признавать, ответил нагло: — Ни в каких садах я не был, и все это выдумки. Какая такая Ситник? — Ну, Бурнусов, — усмехнулся следователь, — от кого-кого, а от вас не ожидал. Человек вы опытный, отсидели в колонии три года, знаете, что к чему, и вдруг такие детские игрушки! Кстати, за что вы сидели? — Будто вам не известно?.. — Известно, все известно, однако хотелось бы услышать от вас. — Душевный разговор? — Хотя бы. — Не выйдет, — злобно бросил Жека. — Не выйдет у нас с вами душевного разговора, начальник. — Не выйдет так не выйдет, — сразу же согласился Дробаха. — Давайте тогда без душевности. За что сидели? — По молодости лет... Ларек с пацанами взяли. — Сколько получили? Бурнусов поднял руку, растопырив пальцы: — Пятак. — А отсидели три? — Да. — Вот видите, Бурнусов, два года вам простили, а вы как за это отблагодарили? — Так я же честно работаю и нормы перевыполняю. Спросите в гараже, там каждый скажет. — О ваших производственных успехах, Бурнусов, вы будете потом рассказывать соседям. Но мне почему-то кажется, что это не сможет повлиять на вашу судьбу. А вот чистосердечное признание своей вины всегда учитывается. — Такое скажете, начальник! Ну в чем я виноват? — Итак, вы хотите сказать, что позавчера вечером не были на даче гражданки Ситник? — Конечно, не был. — Утверждаете? — Утверждаю. — А вот эксперты придерживаются совсем иного мнения. Убивая Олега Ситника, вы, Бурнусов, размахнулись и оцарапались о гвоздь. Разодрали рубашку, оставив на гвозде нитку из нее и следы крови. Вот, прошу ознакомиться с выводами экспертов, — придвинул он бумаги. Хаблак, сидевший в стороне и не вмешивавшийся в допрос, увидел, как изменился Жека: все-таки он был стреляным воробьем и не мог не знать, что означают выводы экспертов. Он как-то слинял, плечи у него опустились и губы задрожали, будто он собирался заплакать. Сунул руки между колен, съежился и неуверенно ответил: — Я же хотел только напугать его... — И для этого ударили монтировкой по голове? — Так уж получилось... Он у меня девушку отбил, понимаете, я ее люблю, и он, падло, тоже... — Имеется в виду, Розалию Ютковскую? — Ее, а кого же еще... И ваш... — кивнул он на Хаблака, — все уже вынюхал. Но ведь, ей-богу, клянусь, случайно... Ревновал ее и хотел проучить, пускай к чужим девчатам не лезет, ударил, значит, а он упал. — Кто дал вам адрес дачи и откуда узнали, что Ситник в тот вечер приедет туда? — Роза сказала. — Сама или случайно узнали? Бурнусов задумался. — Случайно, — ответил он наконец. — Как это случилось? — А мы с ней разговаривали: говорит, сегодня Олег мне свидание назначил в Русановских садах. — Прямо так вот и сказала? — А как же еще? — И даже дала адрес дачи? — в голосе Дробахи слышалась нескрываемая ирония. — А что? Дала. Разве это секрет? — И вы поехали туда, чтобы проучить Ситника? — Виноват, гражданин начальник, но голову потерял от ревности... Что-то на меня нашло, ну, думаю, я тебе не прощу, зачем к Розке лезешь, падло вонючее! Если стишками балуешься, то, значит, и чужих девушек красть можно? — Как отперли дачу? — Там замок — одно горе. Гвоздем колупнул, и готово. — Вошли в кладовку и ждали там Ситника? — Ждал, зачем отказываться? — И долго? — Минут двадцать. — И за это время не остыли? Стоя в темноте? — Нет, начальник, в груди так и пекло, я весь кипел и не знал, что делаю. Виноват, но так уж случилось. — В это время на улице уже темно, в кладовке и подавно. Как увидели Ситника? И надо же было еще попасть по голове? — А я с фонариком... Посветил, когда он через порог... — Чем ударили? — Вы правильно сказали: монтировкой. — Из машины? — Да. — И одним ударом размозжили ему череп? — Так уж случилось. — А потом? — Испугался я. Испугался и уехал. — Но ведь Ситник еще, возможно, был жив. Если собирались только проучить, надо было вызвать «скорую помощь» или отвезти его в больницу. — Перепугался я... — Бить не перепугались, а когда упал — испугались? — Получается, что так. Следователь достал из стола деньги, найденные в квартире Бурнусова. — Вы утверждаете, что эти деньги ваши? — Мои. — Долго собирали? — А я, начальник, неплохо зарабатываю. Поинтересуйтесь в гараже. Не меньше трех сотен в месяц. А если с прогрессивкой, то и до четырех. — Для чего собирали деньги? — Так я с Розкой, значит... А девушки деньги любят. — Да, Розалия Ютковская любит, — согласился Дробаха. — Часто бывали с ней в ресторанах? Бурнусов понял, куда клонит следователь, и ответил неуверенно: — Не так уж... — Только вчера вы истратили в ресторане «Метро» свыше пятидесяти рублей. Было такое? Бурнусов зло покосился на Хаблака. — Было. — Взяли сотню отсюда? — следователь похлопал ладонью по пачке. — Что, других нет? — Здесь три тысячи девятьсот. Очевидно, получили от кого-то четыре тысячи... — Кровные... — Бурнусов приложил руку к сердцу. — Честно заработанные и сэкономленные. Во всем себе отказывал. Дробаха укоризненно покачал головой: — Следовательно, вы утверждаете, что сотню из пачки не брали? — Не брал. — И давно не прикасались к пачке? — Дней десять. В зарплату полсотни положил. И все. Дробаха аккуратно снял деньги с газеты, разгладил ее на столе. Ткнул пальцем в дату на первой странице. — Нехорошо лгать, Бурнусов. Позавчерашняя газета. — Выходит, забыл... — заерзал на стуле Жека. — Ага! — ударил он себя ладонью по лбу. — Точно, купил газету в киоске, прочитал, а потом вспомнил, что старая уже обтрепалась. Да и на деньги посмотреть захотелось. Завернул в свежую газету. — Где покупали? — Что? — Газету, Бурнусов. — В киоске. Напротив моего дома. А что? — Так и запишем: вы утверждаете, что купили газету позавчера в киоске напротив дома. — Точно. Уже и «Правду» купить нельзя? — Можно, Бурнусов, даже нужно. Но чем вы можете объяснить, что эта газета напечатана в Одессе? — Следователь быстро перевернул «Правду», провел ногтем по последней строке. — Видите, так и написано: «Газета передана в Одессу по фототелеграфу». — А я знаю, что они там пишут? — растерялся Жека. — Газеты, продающиеся в Киеве, печатаются в киевских типографиях. А где вы взяли эту? Кто передал вам деньги, Бурнусов? И за что? — Но я же говорю... — Вы сказали неправду, Бурнусов. И если будете продолжать лгать, этим только ухудшите свое положение. Жека уставился в пол. Наконец как-то обессиленно развел руками и сказал: — Не хотел я, да он принес деньги... А Олег этот проклятый возле Розки вертелся — черт попутал, начальник, не знаю, как все это и случилось... — Давайте вместе разберемся, — вежливо предложил следователь. — Итак, с чего все началось? — Спал я после смены, — хриплым голосом начал Бурнусов. — Поздно вернулся, сплю, а тут звонят. Заходит, интересуется, живет ли здесь такой-то. То есть я... Да, подтверждаю. Он садится и говорит: «Хочешь иметь четыре куска?» Кто ж не хочет? И я хочу, однако за что? А он: «Олега Ситника знаешь?» Знаю, черт бы его побрал, почему не знать фрайера? «Надо его убрать, говорит. Чистое дело, и четыре куска твои». Не хотел я, начальник, точно не хотел, и даже четыре куска не привлекали. А он, фуфло, развернул газетку — и денежки будто языки показывают. Дразнятся, суки, кто тут выдержит? А «бабки» мне во как нужны — Розка брючный костюм хочет, да и ребятам в парке задолжал. К тому же этот фрайер Ситник вот где у меня сидит, я бы его и задаром... — Бурнусов запнулся. — Оставляй, говорю, деньги. А он завернул их, положил в портфель, погрозил пальцем и возражает: «Получишь вечером после дела». И сообщает, что в половине восьмого Ситник приедет на дачу, там никого — делай все, что хочешь. Говорит: «Я тебя с половины восьмого до восьми у станции метро «Левобережная» буду ждать, там и деньги получишь». В четыре я заступил, по городу поездил, не хотел я этого, но черт попутал, дай, думаю, попугаю фрайера, ну и поехал... — А этот человек ждал вас? — Как и договорились, у «Левобережной». Сел в машину, я ему и докладываю: порядок. А он только засмеялся: я, мол, знал, что будет порядок, деньги вынул, на сиденье оставил, а сам вышел. — Где? — Возле гостиницы «Славутич». Дробаха переглянулся с Хаблаком, и майор, не говоря ни слова, встал. Вышел и вернулся через несколько минут, когда следователь записывал приметы человека, заплатившего Бурнусову четыре тысячи за убийство: пожилой, за пятьдесят, в сером костюме и черном берете, среднего роста, уши хрящеватые, нос приплюснутый, а лоб морщинистый. Портрет получился довольно выразительный. Жека подобострастно смотрел на следователя: знал, что его ждет, но все же надеялся хоть как-нибудь смягчить свою судьбу. Дробаха вызвал конвоира и отправил Бурнусова. — Ну и фрукт, — сказал он, пряча протокол в ящик стола. — Зозуля поехал в «Славутич», — сообщил Хаблак. Следователь пошевелил пальцами. — Разумно, — одобрил он. — Человек из Одессы! В этом что-то есть, и, мне кажется, скифская чаша поедет к Черному морю, если уже не там. — А я пока поеду к завхозу издательства, — решил майор. — Соскучился по нему и хотел бы расспросить кое о чем. — Пусть вам повезет. — Дробаха подышал на кончики пальцев, и Хаблак понял, что у следователя хорошее настроение.
Крот отворил неслышно. Стоял и смотрел на Хаблака совершенно спокойно, нисколько не был удивлен, будто пришел к нему в гости старый знакомый, а не сотрудник угрозыска. Посторонился, давая пройти, и майор вошел в прихожую. Думал, что квартира Крота, старого холостяка, захламлена и не прибрана, однако в прихожей все блестело, словно только сегодня здесь была генеральная уборка, всюду вытерли пыль и натерли до блеска паркет. Хаблак невольно посмотрел на свои не очень чистые туфли, но Юхим Сидорович успокаивающе махнул рукой. — Проходите, — не очень учтиво, но и без раздражения пригласил он. — Пришли вы по делу, не сомневаюсь, так прошу пройти и сесть. И в комнате все блестело, а на подоконнике стояли цветы. Мебель не стильная — Крот мог устраивать другим импортные гарнитуры, сам относился к ним, по всей вероятности, равнодушно, потому что приобрел себе лишь широкий и удобный диван, на котором хороню спалось и читалось: возле дивана стоял торшер с яркой лампочкой, а на спинке лежала раскрытая книга. Крот подал майору стул, а сам остановился у буфета, опершись локтем о полочку. Он был без очков, но видел, очевидно, неплохо, правда, несколько прищуривался и какие-то искорки бегали в глазах. — Мы проверили ваши показания, Юхим Сидорович, — сказал Хаблак. — Действительно, позавчера после работы вы были в гостях, и это свидетельствует в вашу пользу. Но скажите, пожалуйста, где и когда вы встречались с человеком, приезжавшим к вам из Одессы? На лице Крота не шевельнулся ни один мускул. — Что-то не то, майор, — возразил он. — Вы все время ходите вокруг меня, однако напрасно. Я к вашим делам не причастен. — А к каким? — не сдержался Хаблак. — У каждого человека свои... — Достать и продать мебель, дефицитные товары... — Вот оно что! — воскликнул Крот, — А я-то думаю, откуда ноги растут! Какой-то Петро Панасович с Чоколивки посылает ко мне человека... А это, оказывается, ваши ребята прощупывают, будто у них нет других дел... — Это уж позвольте решать нам, — остановил его майор, — что и как делать. — Да разве я возражаю. Только оставьте меня, а то ходят вокруг. Думаете, не знаю зачем? Думаете, Крот чашу украл? Зачем мне ваша чаша? Чего мне не хватает? — Он обвел рукой комнату. — Все у меня есть, и ни в чем не нуждаюсь. Понятно? — Спокойнее, Юхим Сидорович. Есть к вам вопрос. Давно виделись с Розалией Ютковской? — Какой такой Розалией? — Разве не к вам она приходила в издательство? Крот отошел от буфета, сел рядом с Хаблаком. — Одессит какой-то, — раздраженно сказал он, — теперь Розалия! Вы можете объяснить? — Охотно, Юхим Сидорович. Но сперва скажите — и Евгения Бурнусова не знаете? — Впервые слышу. — Мы устроим очную ставку. — Не возражаю. — А что кроме мебели вы можете еще достать? — перевел майор разговор на другую тему. — В чем нуждаетесь? — Ни в чем. — Так зачем же лишние вопросы? — Не лишние. — Считаете? — Сколько комиссионных берете? — Фактики собираете? — Что поделаешь, такая уж у нас профессия. — Сами собирайте, я вам не помощник. — Все равно найдем чашу, — сказал Хаблак твердо. — Найдем, это я вам точно говорю. — Ну если бы я на самом деле украл чашу, неужели бы признался? — воскликнул Крот, — Тем более что Олежка погиб. Думаете, только вы понимаете, что именно из-за чаши его убили? Вот видите, какой узел завязался, кто же вам сам признается? А мне Олега жаль, хороший был парень и запутался. Я говорил ему... — Что? — Чтоб характер ломал. — Это в шашлычной, когда водку пили? — И там тоже. — О чем вы разговаривали с Ситником? — Вам скажи, из всего дело сделаете... — И все же придется. — Впрочем, не такой уж и большой секрет. Кирпичи просил достать. Две тысячи штук. Для той же дачи, где и погиб. — И вы обещали? — Да. — А как можете достать? — Пустяки. Две тысячи кирпичей — глупость. Один знакомый на лесоторговом складе работает. Он и выпишет. — Незаконно? — Почему? Есть и нелимитированный кирпич. — И много у вас таких знакомых? — Много, — нисколько не встревожился Крот. — Я завхозом десять лет работаю, а перед этим в горторге. — Он уставился на Хаблака. — Знаю, о чем вы думаете, Крот — доставала и с этого «навар» имеет. А «навар» у меня такой: ну бутылочку разопьем. Это если уж очень настаивают, ради компании. Потому что здоровье уж не то и вообще не очень люблю. Еще книжками балуюсь, так, может, кто-нибудь и подарит. — Он указал на несколько полок, заставленных книгами. — Вот и весь мой «навар», хотите — верьте, хотите — нет. Майор почему-то поймал себя на мысли, что ему вообще хочется верить. Интуиция редко обманывала его, но ведь, как говорится, ее к делу не подошьешь... Но к кому же приходила в издательство Ютковская? Хаблак понимал, что от выяснения этого вопроса во многом будет зависеть ход расследования. Но вряд ли парикмахерша Роза сама признается. Вспомнил удлиненное лицо с черными цыганскими глазами, в которых мерцали огоньки, — совсем не глупые глаза, эта Ютковская многое видела и многое знает, опытная, ее голыми руками не возьмешь. И все же надо попробовать. Майор распрощался с Юхимом Сидоровичем и поехал к Дробахе. Оба остались на полчаса после работы, разрабатывая план допроса, а в том, что Ютковскую следует допросить, у Дробахи тоже не было сомнений. ...Следователь встретил парикмахершу Розу учтиво и даже церемонно. Извинился, что вынужден побеспокоить, даже предложил стакан чая, но девушка отказалась и только попросила разрешения закурить. Дробаха вынул из ящика пачку сигарет, но Ютковская даже не взглянула на них, достала из сумочки какую-то длинную, с двойным фильтром, наверное, импортную сигарету, щелкнула не менее роскошной зажигалкой и положила ногу на ногу, не одернув на коленях и без того не очень длинную юбку. Сидела, как бы демонстрируя себя: длинная сигарета, длинные ноги, удлиненное лицо с длинными черными ресницами, высокая каштановая прическа... Все это должно было произвести впечатление, тем более на этого пожилого, лысоватого мужчину с заметным брюшком. Роза знала, что нравится таким, пустила дым вверх, покачала туфлей. Улыбнулась манерно, но смотрела из-под ресниц внимательно и спокойно. Кажется, старикашка несколько растаял — сидит, сложив на животе пальцы, и перебирает ими. Наконец Ютковская вздохнула и спросила: — Никогда еще не была в прокуратуре. Зачем это? Дробаха подвинул к ней бумаги, объяснил, где следует расписаться и для чего. Быстро записал необходимые данные, потом положил ручку на стол и сказал: — Такая уж у нас работа, должны вызывать людей, что поделаешь, иногда это неприятно, но закон остается законом. Розалия махнула рукой, как бы извиняя следователя: правда, мол, ничего не поделаешь, однако давайте быстрее, спрашивайте — жизнь не ждет, вон на улице солнце и каштаны падают на брусчатку вместе с желтыми листьями, зачем же зря тратить время? Дробаха слегка пополировал ногти о лацкан пиджака, хотел дохнуть на них, но передумал и спросил: — Вы знакомы с работником издательства Олегом Ситником? Ютковская скорбно склонила голову: — Знакома. — Знаете, что с ним случилось? Девушка покопалась в сумочке, достала носовой платочек, приложила к совсем сухим глазам. — Такой ужас, — изобразила она волнение, — я даже не поверила: в наше время убивать человека! Она сделала ударение на словах «в наше время», и следователь подумал, что девушка сейчас пустится в банальные истории, но Ютковская ограничилась только восклицанием, аккуратно сложила платочек и спрятала в сумочку почти одного цвета с ее мохеровой кофточкой. — Хороший был парень? — спросил Дробаха. — Чудесный. — В каких вы были отношениях? — Он влюбился в меня. — А вы? — Олег нравился мне. — Часто встречались? — Он звонил мне почти ежедневно. — Ходили в кино, театры? — Да. — И рестораны? — Иногда. — Когда познакомились? — Летом. Кажется, в июне. — И кто вас познакомил? Ютковская сделала секундную паузу, но она не укрылась от внимания следователя. — Случайное знакомство. — Где и как? — Ехали в троллейбусе, и он заговорил со мною. — И часто вы так знакомитесь? Девушка подняла на него глаза, обиженно возразила: — За кого вы меня принимаете? — Сами сказали: случайное знакомство в троллейбусе. Итак, Ситник заговорил с вами и вы ответили ему? — Конечно, но он был так вежлив, что просто нельзя было не ответить. — В каком троллейбусе? И опять девушка на мгновение задумалась. — Кажется, в восьмом. — Откуда ехали? — Неужели это имеет значение? — Очевидно, если я спрашиваю. — От подруги. — Где живет? — На Чоколовке. — Как ее зовут? Адрес? Ютковская поправила прическу, сморщила лоб, провела по нему рукой с ярко накрашенными ногтями. — Извините... — В ее голосе звучало искреннее сожаление. — Я немножко перепутала. В том троллейбусе я познакомилась с другим парнем, а с Олегом на двадцатом маршруте. Ехала с площади Толстого до парикмахерской, на площади есть магазин, где продают вышитые рубашки, может, были там, целый салон, так я смотрела рубашки, а потом возвращалась на работу. — Купили? — Что? — удивилась Роза. — Рубашку. — Нет, на мой вкус не было. — А как узнали, что Ситник погиб? — Я назначила Олегу свидание, а он не пришел. На следующий день позвонила ему на работу, и мне сказали. — Кто? — Не знаю, мужской голос. — И что вам сказали? — Что Олег убит. В Русановских садах. — Вы ему там назначили свидание? — Нет, на Крещатике. — И это сообщение поразило вас? — Какой ужас! — она опять достала из сумки платочек. — Я чуть с ума не сошла... В дверь постучали. — Входите, — разрешил Дробаха. — Наверное, вам будет интересно увидеться... — он указал вошедшему Хаблаку на стул. У Розы вытянулось лицо. — А вы почему здесь? — обескураженно спросила она. — Старший инспектор уголовного розыска майор Хаблак, — представил его следователь. Девушка вдруг поняла все. Глаза у нее стали злыми, щеки покраснели. — В жмурки играете? — с вызовом спросила она. — Приходится, — спокойно ответил майор. — Но вернемся к делу... — постучал Дробаха ногтями по столу. — Вы сказали, что сообщение об убийстве Ситника очень поразило вас. — Да, — Ютковская демонстративно отвернулась от Хаблака. — Это было ужасно. — Не так уж и ужасно, если учесть, что вы вечером пошли в ресторан. — Меня уговорила Вита. Мастер нашей парикмахерской. Она настаивала, и я не могла отказать. — И пригласили Бурнусова? — Он как раз случайно позвонил мне. — Давно знаете Бурнусова? — С весны. — С Ситником познакомились позже? — Приблизительно через месяц. — С Бурнусовым тоже впервые встретились в троллейбусе? Ютковская выпрямилась на стуле. — С кем хочу, с тем и знакомлюсь! — дерзко ответила она. — И вы мне не указывайте. — И не собираемся. — Дробаха олицетворял само спокойствие. — Не собираемся и не имеем права, хотя в частном порядке мог бы и посоветовать... — Обойдусь без ваших советов! — напускная скромность Ютковской сразу исчезла. — Договорились, — остановил ее следователь. — После вечера в ресторане виделись с Бурнусовым? — Вчера он должен был работать во второй смене, позвонит сегодня. Дробаха переглянулся с Хаблаком: ответ прозвучал естественно — Ютковская еще не знала об аресте Бурнусова. — Вы виделись с Евгением Бурнусовым накануне встречи в ресторане? — Нет, я работала во второй смене и вечером сразу пошла домой. — А он не заходил к вам? — Не мог, он в тот день работал. — И не звонил? — Нет. — А вы в тот день не звонили Ситнику? Она энергично покачала головой. — Не имела намерения. — И не назначали свидания? — Я же говорила: работала во второй смене, устала — и сразу домой. — Где вы встречались с Ситником? — Ходили в кино, иногда вместе ужинали или обедали. — Он бывал у вас дома? — Ко мне нельзя, я живу у тетки. — А у него? — Он же снимал проходную комнату. — Ездили с ним в Русановские сады? — Следователь задал этот вопрос так же монотонно, как и предыдущие, казалось, даже не смотрел на девушку, но мог бы поклясться, что в глазах Ютковской мелькнул страх. — В какие еще сады? — переспросила она. — Туда, где убили Олега? — Да. — Никогда не бывали там. — Вы утверждаете это? — Конечно. — Я бы не советовал вам говорить неправду. — Но я же действительно никогда не ездила туда. Дробаха обошел вокруг стола, остановился перед Ютковской и, глядя на нее сверху вниз, рассудительно сказал: — Соседка Ситника по даче видела вас там и опознала по фотографии. Сейчас мы можем устроить очную ставку. Розалия побледнела. Бросила на следователя взгляд исподлобья, подумала и с надрывом произнесла: — Но поймите же меня! Олег заманил меня на дачу. Мы немножко выпили, и он уговорил поехать... А потом... — Ютковская схватилась за голову, но так, чтобы не испортить прическу. — А потом произошло все, и я возненавидела это место. И не могла признаться, что ездила туда. — Два дня назад не назначали Ситнику свидание там же? — Как я могла! Дробаха обошел стол, занял свое место и возразил: — Могли, гражданка Ютковская. Мне трудно поверить вам, но, к сожалению, пока вынужден. Теперь вот что: вы заходили когда-нибудь в издательство? Она ответила не колеблясь: — Никогда. — Но вы ведь знали, что Ситник работает там? — Он не делал из этого тайны. — А Бурнусову было известно, что вы встречаетесь с Ситником? — Как-то он видел нас на Крещатике. — И как отнесся к этому? — Устроил скандал. — А Ситник? — Он любил меня и сказал, что не отступится. — Бурнусов угрожал ему? — Еще как! — Розалия оживилась, и Хаблак подумал, что ей совсем не жаль Бурнусова, вообще никого не жаль, влюблена лишь в себя и ценит только собственное благополучие — вероятно, сейчас начнет топить Бурнусова. Так оно и оказалось. Ютковская вытащила еще одну сигарету, торопливо прикурила — наверное, приняла за это время окончательное решение — и сказала: — Жека грозился, что убьет Олега. — Тогда же, после скандала на Крещатике? — И тогда, и позже. Однако я не придавала этому значения. Но теперь... Неужели это он? Так быстро, за несколько секунд, продала без колебаний... плюнула и растерла. Ведь она не знала, что у милиции есть против Бурнусова неопровержимые улики и что ее любовник уже арестован. — Так и запишем, — как-то грустно констатировал следователь. Хаблак понимающе посмотрел на него: всегда грустно сталкиваться с человеческой подлостью, да еще в таком обнаженном виде. — А Бурнусов знал, что Ситники имеют дачу в Русановских садах? — спросил майор. Девушка на мгновение задумалась, видно, взвешивала, как ответить. В конце концов сочла за лучшее сказать неопределенно: — Мне это неизвестно, может, и узнал от кого-нибудь. — Где живут ваши родители? — поинтересовался Дробаха. — В Мироновке Киевской области. — Кроме тетки, есть родственники в Киеве? И опять Ютковская какое-то мгновение колебалась. Но ответила твердо: — Нет. Следователь придвинул ей протокол. — Внимательно прочитайте и подпишите. Если, конечно, согласны с записанным. Когда Ютковская ушла, Дробаха вынул из шкафа чистые стаканы, налил майору и себе крепкого чая, положил в свой четыре ложечки сахара, долго размешивал, наконец спросил: — Ну как, понравилась? — Я же с ней танцевал в ресторане, — улыбнулся майор, — и знаю ее несколько лучше. — Все ей бог дал, кроме души. — Таким, говорят, легче жить. — И вы верите в это? — искренне удивился Дробаха. — Так некоторые считают, — уточнил майор. — Не завидую тому, кто угодит в ее сети. — Не один... — следователь подышал на пальцы, — не один там будет, майор, потому что на такие колени и прочие прелести клюнуть легко. И она хорошо это знает: не упустит своего. — Тогда зачем ей понадобился Бурнусов? Вряд ли планировала жить с ним. — Разумеется. Ей и Ситник не был нужен. Парень видный, покрутила немножко и бросила. Ютковская найдет себе убеленного сединами, с деньгами, машиной и дачей. А с бурнусовыми будет ездить в рестораны. — Это она позвонила Ситнику, — убежденно сказал Хаблак, — и предложила встретиться на даче. — Как мог выйти на нее одессит? — заколебался Дробаха. — И где чаша? — Не сомневаюсь, что Ютковская случайно познакомилась с Ситником. — Конечно. Уже несколько месяцев встречались, а ситуация с чашей возникла на днях? — Кто-то быстро воспользовался их знакомством. — Я понял, что Крота вы почти исключаете. — Как-то он раскрылся. Ну совсем другой человек... И если даже я поверил ему!.. — Бывает, Сергей Антонович, ничто человеческое не чуждо людям, даже таким законникам, как мы с вами. — Ютковская! — упрямо нагнул голову Хаблак. — Сейчас за ней пошли наши ребята. Интересно, как поступит? — Она девушка умная и осторожная. — Верно, осторожная. И не простая пешка в игре. Надо изучить круг ее знакомств. — Прекрасная у нее работа, — поморщился Дробаха. — Сел клиент в кресло, побрила, ушел... За день десятки людей... И с каждым поболтает, каждому улыбнется, а о чем говорят — дудки, не узнаешь. — Вот именно, — согласился майор. — Но там новый заведующий. Молодой и талантливый, принимал участие в конкурсе парикмахеров в Варшаве. Наверное, комсомолец, и я попробую найти с ним общий язык. — А как с одесситами? Хаблак вынул из папки бумажку, подал следователю. Сообщил: — Пятеро жителей Одессы находились в тот день в гостинице «Славутич». Две женщины, их исключаем сразу. Еще одного, Петра Андреевича Чертова, тоже. В тот день, когда «одессит» разговаривал с Бурнусовым, Чертов сидел на коллегии министерства, потом ужинал с товарищами. Полное алиби. А с двумя остальными не мечтало бы познакомиться. Виктор Юрьевич Панасенко и Георгий Викторович Макогон. Панасенко работает в порту инженером, Макогон — бармен в гостинице «Моряк». Я думаю сделать так: сейчас Зозуля позвонит одесским коллегам, они достанут нам фотографии Панасенко и Макогона, покажем их Бурнусову — может, кого-нибудь и опознает. А я — в парикмахерскую. Заскочу только сперва в управление. Пока майор добирался до угрозыска, туда пришли первые донесения от оперативников, следивших за Ютковской. После допроса она направилась к Бурнусову, разговаривала с его соседкой, наверное, узнала о его аресте и сразу же позвонила кому-то по телефону-автомату. Потом поехала домой. Телефона у нее в квартире не было, следовательно, связь с внешним миром могла поддерживать только через тетку. Заведующего парикмахерской вызвали в городское управление бытового обслуживания. Он оказался действительно молодым человеком, лет двадцати пяти, не больше, — улыбающийся, розовощекий брюнет, все в жизни радовало его, впрочем, она пока только улыбалась ему: в таком возрасте стать заведующим, съездить в Варшаву и занять там второе место на конкурсе, быть избранным секретарем комсомольской организации управления... Заведующий любезно улыбнулся Хаблаку, без всякой угодливости или удивления пожал ему руку и представился: — Яцкив Михайло Гнатович. Серьезно, не перебивая и ничего не уточняя, выслушал майора и несколько напыщенно заявил: — Попробуем помочь вам, товарищ Хаблак. Силами общественности. — Но так, чтобы Ютковская ни о чем не догадывалась. — Не лыком шиты, — улыбнулся он, по мнению майора, излишне задорно и самоуверенно. — И поосторожней с Витой. Как ее фамилия? Зубач. Так вот, Виктория Зубач, насколько мне известно, подруга Ютковской и может проинформировать ее. — Мне это тоже почему-тоизвестно... — заметил Яцкив. — Кто с кем дружит в парикмахерской, а кто наоборот. Извините. — Чего ж извиняться. Хаблак оставил Яцкиву номер своего телефона и вернулся в управление. Еще в коридоре его остановил Зозуля и сообщил, что фотографии Панасенко и Макогона одесские товарищи перешлют трехчасовым рейсом — в половине пятого они будут в аэропорту. — Давай сюда в пять Бурнусова, — приказал майор и пошел к Каштанову. Полковника не застал. — Самолет уже в воздухе, а я еду в Жуляны, — сказал ему в кабинете Зозуля. Через час лейтенант привез две фотографии. Майор сразу отложил одну. — Бармен? — спросил он. — Так точно. — Как я и предполагал. С фотографии смотрел субъект с хрящеватыми ушами и морщинистым лбом. Такой, как описал его Бурнусов. Зозуля разложил фотографии Панасенко и Макогона. Бурнусов вошел в их комнату: злобно оглянулся на конвоира и понятых, примостившихся у стены, и сразу попросил закурить. Хаблак достал из стола ароматное «Золотое руно», Жека как бы непроизвольно взял сразу две сигареты, жадно затянулся, и лицо у него просветлело, сделалось блаженным. Майор пригласил его к столу. Бурнусов лишь скользнул взглядом по фотографии и сразу ткнул пальцем в снимок Макогона. — Он! — торжествующе воскликнул Жека, словно принимал участие в серьезной операции и уже задержал преступника. — Он, сука, сбил меня с пути и подговорил совершить преступление. И я рад, что вы нашли его. Хаблак подумал: еще секунда, и Бурнусов начнет петь дифирамбы доблестным работникам милиции. Оборвал его: — Вы утверждаете, что на этом снимке изображен человек, подговоривший вас убить Ситника и заплативший за это четыре тысячи рублей? — Он, падло! — еще раз затянулся сигаретным дымом Бурнусов и стряхнул пепел прямо на пол. Зозуля составил протокол, и Бурнусова увели. Майор отпустил понятых и позвонил Дробахе. Доложил о сделанном и представил себе, как следователь держит трубку левой рукой, а ногти правой нервно полирует о лацкан пиджака. — Жизнь прекрасна и удивительна, — наконец тихо засмеялся Дробаха, и Хаблак мог дать голову на отсечение, что он в этот момент дышит на кончики пальцев. — Посоветуйтесь с Михаилом Карповичем, — сказал следователь, — думаю, вам надо завтра утром вылетать в Одессу. Для персонального знакомства с очень малоуважаемым гражданином Макогоном. — Только для знакомства, — подтвердил майор. — Брать его преждевременно. — Нет-нет... Мы же не знаем, где чаша. Походите вокруг Макогона, присмотритесь к сукину сыну, подышите его воздухом... Сейчас он нервничает, — задумчиво произнес Дробаха. — Должно быть, уже знает об аресте Бурнусова и не может не беспокоиться. — Но ведь он считает, что не наследил. — Все равно на душе у него неспокойно. Будьте осторожны, Сергей Антонович, Макогон теперь и собственной тени боится. Не ищите с ним прямых контактов. Если узнает, что вы из Киева... — Ну что вы, — перебил майор. — Директор магазина из Львова или Ужгорода. Денежный человек в отпуске, который не прочь купить две-три сотни долларов. — Ладно, — одобрил следователь, — вам коммерческих способностей не занимать. Ютковской я сам займусь. — Зозуля свяжет вас с заведующим парикмахерской. Хороший парень и обещал помочь. — Звоните из Одессы. Завтра. — Договорились. Хаблак положил трубку и пошел к Каштанову.
В Одессе шел холодный осенний дождь. Старший лейтенант Волошин, встретивший майора в аэропорту, объяснил: только вчера подул бора, холодный северный ветер, налетающий на Черное море через Новороссийск, более паскудного ветра одесситы не знают, он раскачивает море до двенадцати баллов и заставляет теплолюбивых жителей южного города надевать чуть ли не зимние пальто. Хаблак критически осмотрел свой плащ «на рыбьем меху», модный светлый плащ с погончиками и разными никелированными украшениями, который и полагается носить львовскому деятелю торговли, но Волошин успокоил его: мол, зимние пальто — гипербола, и никто в Одессе, — он имеет в виду только настоящих одесситов, — не позволит себе в октябре появиться на Дерибасовской в шубе. Тем более что все уверены: бора скоро утихнет и снова на синем одесском небе засияет жаркое солнце. Он так и сказал: на синем одесском небе, и майор понял, что имеет дело с коренным одесситом. Это устраивало Хаблака — он хотя и бывал в славном причерноморском городе, однако знал его плохо и надеялся на помощь старшего лейтенанта. Волошин сообщил, что номер в гостинице «Моряк» забронирован. Звонили туда, как и полагается, из горторготдела, значит, там все будут знать, что майор — какая-то шишка из мира торговли; тылы у него обеспечены, остальное зависит от него, а если понадобится помощь — вот номер телефона, к тому же, с восьми до десяти вечера он на всякий случай будет сидеть в баре... Просторный стеклянный холл гостиницы поразил майора своей холодной официальностью. Холодно здесь было и в прямом смысле слова — топить еще не начали, а проклятый бора выдувал тепло и так стучал стеклянными дверями, что Хаблак удивился, как они еще не разбились. Майор внимательно огляделся вокруг. Прямо из вестибюля ведет крутая лестница, как и полагается, покрытая ковровой дорожкой. Слева коридор — там, если верить табличкам, парикмахерская и еще какие-то хозяйственные помещения. В холл выходила и стеклянная дверь бара, еще запертая, — бар открывался в двенадцать. Хаблак взглянул на часы: минут через сорок пять он увидит Макогона, человека с хрящеватыми ушами и большим морщинистым лбом. Номер оказался небольшим, но уютным и, к его удивлению, не холодным, видно, бора еще не успел выстудить его. Майор не спеша разложил вещи, у него наконец было вдоволь времени, это случалось довольно редко, и он наслаждался медленным течением минут. В Киеве они летели, спешили, обгоняли друг друга, вместе с ними торопился и он, все время боясь не успеть, а тут минуты как бы остановились. Теперь Хаблак должен был подгонять их, однако не делал этого, потому что знал: возможно, скоро они опять полетят с невероятной скоростью и он, как всегда, не будет поспевать за ними. Майор завязал полосатый польский галстук и надел черный кожаный пиджак. Этот пиджак с огромным трудом достала для него Марина, а он носил его небрежно, будто и не было этого труда, будто он всю жизнь носил только модную и дорогую одежду. Вспомнил свой, кажется, совсем еще недавний студенческий убогий костюмчик. Он ходил с ребятами разгружать вагоны и приобрел самый дешевый костюм, но и теперь он кажется ему роскошным — серый с блеском, шерстью там и не пахло, даже полушерстью, чистая синтетика, а как смотрели на Сергея девчата на вечере в общежитии — модный и немножко гордый, а может, эта гордость шла от застенчивости и смущения: все же роскошный костюм сковывал его движения. А сейчас он носит черный кожаный пиджак как настоящий пижон, как человек, пресыщенный жизнью и смотрящий на эту жизнь с высоты своего промтоварного величия. В баре было уже занято несколько столиков: у стойки сидели трое мужчин неопределенного возраста в твидовых пиджаках, один в замшевой куртке, две размалеванные девицы тянули через соломинки коктейли в углу и пожилая женщина, наверное работница гостиницы, торопливо пила кофе. Бармен стоял за стойкой в белой, аккуратно выглаженной куртке с черной «бабочкой». У него действительно был высокий лоб, и, если бы не приплюснутый нос и глубоко сидящие глаза, смахивал бы на профессора. Он скользнул по Хаблаку равнодушным взглядом, но глаза у него были цепкие, и майор понял, что Макогон запомнил его. Хаблак заказал рюмку коньяка и черный кофе, занял свободный столик между стойкой и компанией в твидовых пиджаках. Компания за соседним столиком, видно, хорошо знала бармена, потому что мужчина в замшевой куртке помахал рукой и крикнул: — Гоша! Он показал три пальца, и Макогон сразу принес им три рюмки коньяка, приветливо улыбнулся, перебросился с ними несколькими словами и понес грязную посуду за стойку. Майор прислушался к разговору соседей. Ничего интересного: один рассказывал, как ездил летом на теплоходе в Сочи, какое пиво было в баре, о сухумском знакомом, встретившем их, — чудесный грузин, он возил их в своих «Жигулях» по Кавказу... Остальные поддакивали, делились своими впечатлениями от поездок — обычная болтовня немного подвыпивших мужчин. Одна из девиц, сидевших наискосок через зал, бросала на Хаблака выразительные взгляды, несколько раз они встретились глазами, и она откровенно улыбнулась майору. Ей было двадцать с небольшим, хорошенькая, в красных сапогах на высоченных каблуках и стильно закатанных джинсах. Решительными шагами зал пересек моложавый мужчина в плаще и шляпе, виски у него были седые. Бармен перегнулся к нему через стойку, они пошептались, и Макогон пропустил его в комнатку за стойкой. Должно быть, велся деловой разговор, потому что Макогона не было минут десять, какой-то посетитель уже нетерпеливо постукивал монетой по стойке. Наконец бармен появился, обслужил клиента и начал протирать рюмки, но тот, что заглянул к нему, так и не вышел. Неожиданно Хаблак увидел его за стеклянными дверями, выходившими в вестибюль: значит, из комнаты за баром есть еще один выход, и Гоша выпустил посетителя через него. Майор заказал себе еще чашечку кофе: это давало ему возможность просидеть в баре лишних полчаса. Девице в закатанных джинсах, очевидно, надоело безрезультатно стрелять глазами в Хаблака, подружки встали и, сопровождаемые мужскими взглядами, вышли из бара. Бармен удалился в свою комнатку. Прошло несколько минут — не появлялся. Майор подошел к стойке, сделал вид, что разглядывает выставленные бутылки, и прислушался. Через открытую дверь доносились голоса, следовательно, другой посетитель Макогона был осторожнее, зашел прямо в подсобку, наверное, существовал какой-то сигнал или Гоша заметил его через стеклянную дверь, когда тот проходил по вестибюлю. Хаблак вышел в туалет. Задержался в коридоре и увидел второго Гошиного клиента: лет под тридцать с длинными бачками и усами, свисавшими до подбородка, — ничего не скажешь, модерн, самоуверенный и нагловатый. За полчаса — два клиента, заметил майор. Правда, это могли быть просто знакомые, заглянувшие для дружеской беседы, однако сомнительно: переброситься несколькими словами можно и в зале, вовсе не обязательно уединяться в каморке. Хаблак подумал: если он и дальше будет сидеть один в баре, привлечет Гошино внимание, и решил пройтись по городу и пообедать, тем более что дождь стих и только сердитые порывы ветра метались но одесским улицам, срывая с деревьев увядшие листья. Ожидая троллейбус, майор поднял воротник плаща и подставил ветру спину. Увидел, как из гостиницы вышла уже знакомая ему девица в красных сапожках и такой же красной куртке с белым меховым воротником. Пересекла улицу прямо к Хаблаку, будто действительно были старыми знакомыми, но остановилась в двух шагах от него и повернулась спиной, высматривая троллейбус. Вскоре он подошел, майор пропустил девушку вперед, она оглянулась и улыбнулась так, как в баре, — вызывающе и поощрительно, и Хаблак подумал, что знакомство с ней может оказаться полезным. Он сел рядом с девушкой — троллейбус в этот дневной час шел полупустым, и спросил прямо, словно уже не раз встречался с ней: — Вы живете в «Моряке»? Девушка заученно стрельнула в него глазами. Не ответила и сама спросила: — А вы откуда? — Из Львова. — Хороший город. — Очень хороший, но таких девушек маловато. — Каких? — Похожих на вас. — Скажете! — Серьезно. — Надолго в Одессу? — Отпуск... — неопределенно ответил он. — А как вас зовут? — Люда. — А меня Сергеем. — Искоса бросил взгляд на девушку и решил, что особые церемонии здесь излишни. — Есть свободное время? — спросил он. — Смотря на что? — Может, пообедали бы вместе. Я плохо знаю Одессу. Люда притворилась, что размышляет. — Я, правда, договорилась с подругой... — Подруга подождет. — Неудобно. — А удобно бросать одинокого человека в незнакомом городе? Они вышли в центре города, и Люда повела его в лучший, как она выразилась, ресторан в гостинице «Одесса». Майор подумал, что его бюджет недолго выдержит такие визиты, но вынужден был смириться. Люда заказала себе цыпленка табака, Хаблак сказал, что цыплята ему давно уже надоели, попросил более дешевый шашлык и бутылку сухого красного вина. Люда пыталась что-то сказать о коньяке, но майор объяснил, что коньяк, кофе и, возможно, шампанское они будут пить вечером в Гошином баре. Умело переключив разговор на Гошу и его посетителей, Хаблак почти сразу узнал, что Люда — завсегдатай «Моряка», что в баре по вечерам собираются, как она выразилась, деловые люди и что там решаются разные комбинации, в основном относительно купли и продажи. Конечно, Хаблак не имел намерения убивать время с Людой, когда начинается час пик в Гошином баре. Они условились встретиться в гостинице, и майор поехал в угрозыск. Быстро уточнил с Волошиным план предстоящих действий и вернулся в «Моряк». В бар решил не заходить, чтобы не привлекать излишнего внимания, постоял под Душем и завалился в постель с номером «Роман-газеты». Не так уж и часто он мог днем блаженствовать в мягкой постели, на накрахмаленной простыне, слушать музыку из репродуктора и читать любимого писателя... Но даже интересный роман не помог: заснул и спал целый час или чуть больше, и снились ему совсем не Гоша и не Люда с наклеенными ресницами. Ему снилось море, не грозное и бурное, над которым несется бора, а летнее и ласковое, и дельфины прыгали в волнах. Сон был приятный, а пробуждение незаметное. Люда не опоздала. Она была в тех же самых джинсах, но сменила кофточку на тонкий облегающий свитер, подчеркивавший ее красивую фигуру. В баре ее знали — из-за какого-то столика даже помахали рукой, приглашая, но Хаблак решил занять свободные места поблизости от стойки. Он заказал коньяк, кофе и конфеты, оглядел зал и с удовольствием увидел за крайним столиком возле стеклянной двери Волошина в обществе лысого пожилого человека, вероятно, случайного соседа по столику, который что-то рассказывал старшему лейтенанту, жестикулируя и время от времени разводя руками. Майор знал, что в вестибюле дежурит еще один работник угрозыска — вход в Гошину подсобку контролируется, и сегодня милиция попробует установить круг посетителей бармена. Хаблак немного потанцевал с Людой. На них оглядывались. Девушка раскраснелась, закурила, зажав сигарету между указательным и средним пальцами, и безапелляционно заявила: — Я хочу шампанского. И возьми еще по рюмке коньяка. Гоша сам принес заказанное, хотя вечером ему помогала полная и не очень опрятная женщина. Он распечатал шампанское и, налив в фужеры, задержал взгляд на Хаблаке, уверенно произнес: — Желаю хорошо отдохнуть в нашем: городе. — Откуда вы знаете, что я приезжий? — удивился майор. Гоша улыбнулся. — Я редко ошибаюсь. Раньше никогда не видел вас у себя, а кто в Одессе, имея такие галстуки, не заходит в наш бар? Очевидно, он считал свое заведение если не аристократическим центром Одессы, то, по крайней мере, близко к этому. Хаблака позабавило Гошино признание его галстука, он дружелюбно посмотрел на бармена, подумал, что этот человек с хрящеватыми ушами опытен и наблюдателен, умеет рассчитывать свои ходы намного вперед. И неизвестно, вышли бы они на него, если бы не газета. — Мне нравится у вас, — подтвердил майор. — Откуда вы? — Из Львова. — Львов-папа, Одесса-мама... — захохотал Гоша. — Выпьете с нами? — За знакомство — с удовольствием. — Гоша принес фужер, но налил себе шампанского самую малость. — А какие у нас девушки! — подмигнул он Хаблаку и кивнул на Люду. — Мне все больше нравится Одесса, — искренне признался майор, довольный своими первыми шагами. — Скоро вы влюбитесь в нее. — Макогон извинился, что не может уделить гостю больше внимания, и ушел за стойку. Люда быстро опорожнила свой фужер, Хаблак подлил ей еще — щеки у девушки, разгорелись, глаза блестели, она уже несколько утратила контроль над собой, и майор начал расспрашивать ее о посетителях бара. — Хо! — воскликнула Люда, — Ты мне нравишься, и я не уступлю тебя. — Должно быть, она неправильно поняла Хаблака и имела в виду посетительниц. Майор заверил ее в своей склонности, пояснив, что, находясь в Одессе, хотел бы устроить некоторые дела. А насколько он понял, у Гоши как раз собираются нужные ему люди. — Что тебя интересует? — Люда долила себе вина. — Шмутки или... — она выразительно пошевелила большим и указательным пальцами. Хаблак изобразил удивление. — А можно? — недоверчиво спросил он. — Я бы не отказался от долларов. — Знаешь, сколько стоят? — Считаешь меня котенком? — Хочешь, я познакомлю тебя с одним? — Хочу, если у него правда что-нибудь есть. Хватит с меня мелких фарцовщиков, таких во Львове навалом. Люда решительно потушила сигарету в пепельнице. Огляделась и, должно быть, увидев, кого надо, стала пробираться к выходу. Она вернулась минут через пять. Подойдя к одному из столиков, нагнулась и что-то прошептала парню с длинными баками — Хаблак узнал в нем утреннего посетителя Гоши. Сев за стол, девушка сообщила: — Сейчас к нам подсядет Вова. Только учти, с тебя причитается. — За мной никогда не пропадет, — вполне серьезно ответил майор. Вова очутился за их столиком как-то незаметно. Видно, он счел возможным сразу «подбить» клиента, потому что заказал коньяк и кофе, и Гоша, угодливо улыбаясь, принес заказ на подносе. Вова взял свою чашечку, «интеллигентно» отставив мизинец. Он носил ярко-зеленый велюровый пиджак и галстук-бабочку. Вова предложил майору сигарету, тот не отказался. Выпили коньяк и закурили. Потом Вова глотнул еще раз и спросил: — Чем интересуешься? Хаблак нежно погладил бархатный рукав Вовиного пиджака. — Умеют же люди работать! — воскликнул он. — Мне бы такие костюмы, за день бы план выполнил. — Торгуешь? — Торгую, — вздохнул. — Но какая же это торговля... — Знаем все: дебет, кредит, сальдо-бульдо в карман! — Каждому свое... — удовлетворенно хохотнул майор. Вова взял чашечку с кофе, но сразу же поставил. Бесцеремонно похлопал Люду чуть ниже спины, приказав: — Ты, Людочка, смойся на минутку, нам поговорить надо. Девушка нисколько не обиделась, пересела к подруге. Вова пристально посмотрел на Хаблака. — В чем нуждаешься? — повторил вопрос. — А что у тебя есть? — У меня вся наша необъятная страна, — усмехнулся он, и майор решил, что припомнит Вове его нахальство. — Я бы не отказался от долларов, — прошептал он, — и вообще от твердой валюты. — Сколько? — Ваши предложения? — Располагаю пятьюдесятью. Десятидолларовыми купюрами. Хаблак разочарованно вздохнул: — В мелочи не нуждаюсь. — Что? — Вова чуть не подскочил на стуле. — И сотня тебя не устраивает? — И сотня. — Ого! — с уважением посмотрел на него Вова. — Но у меня больше нет. — Я так и думал. — Майор вспомнил Вовино нахальство и хоть немного отплатил: — Мелочь пузатая... Вова не на шутку обиделся. — Ты, фрайер! — — угрожающе начал, поднимая руку, но Хаблак жестко оборвал его: — Сказано — мелочь, и заткни глотку! И отчаливай отсюда, понял? Кажется, до Вовы наконец дошло, что имеет дело с серьезным человеком. Он выпрямился на стуле, и глаза у него забегали. — Сколько же надо? — спросил он, не сводя глаз с майора. — Тысячи две-три... — Ого! — восхищенно выдохнул Вова и нагнулся к Хаблаку, как пес, желающий, чтобы его погладили. — Я подумаю, возможно, что-нибудь сделаем. — Он торопливо допил коньяк и пересел на свое место. Люда вернулась почти сразу. — Договорились? — заинтересованно спросила она. — Мелочь... — пренебрежительно ответил майор. — Вова? Мелочь? Ну, знаешь... — Она неожиданно посмотрела на Хаблака с уважением. — Я хочу шампанского, милый. — Заказал, — майор перехватил вопросительный взгляд Волошина и едва заметно кивнул. Уголками глаз увидел, как направился к выходу Вова. Был уверен, что сейчас круто свернет в коридор и постучит в Гошину подсобку. И действительно, толстая помощница Макогона выглянула оттуда, позвала бармена. Он вернулся через несколько минут, почти сразу появился в зале и Вова. Подошел к майору, прошептал: — Завтра вечером получишь ответ. Я тебе организую встречу. «Конечно, завтра, — подумал Хаблак. — Гоша — твердый орешек, ему надо все взвесить. Вероятно, сам захочет завязать отношения со львовским торгашом. Что ж, подгонять бармена до поры до времени не следует». Майор допил свой кофе и довольно прозрачно намекнул Люде: — Устал я... Перемена климата, что ли? Люда одарила его очаровательной улыбкой. — Я к тебе сегодня не могу, — сказала так, будто речь шла о культпоходе в кино. — Там на этаже дежурит такая стерва! Хаблак вздохнул с облегчением. — Завтра у меня тяжелый день, — объяснил он. — Позвони мне послезавтра. — Договорились. — Люда неохотно встала, но майор не обратил на это никакого внимания. На следующее утро Хаблак позвонил Волошину, и старший лейтенант, учитывая то, что за майором могли следить, назначил ему свидание на частной квартире. Хаблак взял такси, больше машин на стоянке не было, никто от гостиницы не двинулся за ними, и майор успокоился. Волошин успел уже приготовить завтрак — в квартире вкусно пахло яичницей и кофе. Они расположились в кухне и с аппетитом поели, обмениваясь впечатлениями от вчерашнего вечера. — Змеиное гнездо!.. — Волошин глотнул кофе. — Вокруг этого Гоши вертится всякая погань, и кое-кого мы знаем. Кстати, и Вову. Привлекался за мелкую спекуляцию валютой и разным тряпьем, у нас, сам понимаешь, порт. Гоша у них, должно быть, за главного. Хаблак умиротворенно откинулся на спинку стула. — Сегодня у меня встреча, — сказал он. — Надеюсь, что с самим Гошей. — Где? — Где и с кем — неизвестно. У них свои секреты и свой статут. Вечером скажут, может, в баре... — Гоша сегодня не работает. Майор пожал плечами. — А если придет ко мне в номер? — Вряд ли, осторожный. — Не будем гадать на кофейной гуще. Будь что будет. — Мы подстрахуем тебя. — Зачем? — На всякий случай, — рубанул ладонью Волошин. — Одессу ты не знаешь, и все может случиться. Какие у тебя планы? — До вечера свободен, пойду в кино, да и «Роман-газета» у меня есть. — Ну отдыхай. Они разошлись, довольные друг другом, и Хаблак действительно пошел на длинный двухсерийный фильм, чтобы как-то убить время. Вечером за стойкой бара стояла женщина: невысокая, полная, симпатичная брюнетка. Майор занял место у выхода. Вова еще не появился. Хаблак выпил две чашки кофе и уже начал немного нервничать, когда почувствовал легкое прикосновение к плечу. Вова не сел рядом, хотя столик и был свободен, прошептал на ухо: — В девять вечера. Пересыпь... — назвал улицу и номер дома. — На третьем этаже слева. Майор кивнул, и Вова исчез так же незаметно, как и появился. У Хаблака было время, и он поехал на Пересыпь троллейбусом. Несколько раз оглядывался, пытаясь установить, кто страхует его, но люди Волошина были опытны и работали аккуратно, даже Хаблак с его огромным опытом не заметил их. Трехэтажный дом на Пересыпи стоял в глубине двора, окруженный с двух сторон сараями. Было темно, и майор едва разглядел номер. Немного постоял у ворот и осторожно двинулся к единственному в доме подъезду. Показалось: какая-то тень мелькнула возле сарая, оглянулся, но никого не увидел. Лестница была старая — деревянная и скрипучая. И Хаблак поднимался осторожно, держась за перила. Добрался до второго этажа и вдруг почувствовал, что кто-то стоит рядом. Майор отступил на шаг, инстинктивно пригнулся, внезапно покачнулся от сильного удара по голове и покатился вниз по ступенькам. ...Дробахе позвонил заведующий парикмахерской и попросил принять его вместе с их мастером. Они приехали в прокуратуру сразу, Иван Яковлевич принял их немедленно, приветливо улыбаясь. Сел не за стол, а на стул против дивана, где устроились посетители — Яцкив и пожилой седой человек с уже старческими глазами. Заведующий держался решительно и даже как-то агрессивно. Подтолкнул в бок мастера и властно приказал: — Прошу вас, Наум Маркович, рассказать товарищу следователю, что знаете про Ютковскую. Старик шмыгнул носом и скользнул взглядом по Дробахе. Иван Яковлевич сразу заметил, что глаза у него не такие уж и выцветшие, какими показались вначале: в них угадывался живой ум. — Про Ютковскую? — переспросил мастер. — Простите, но я о ней ничего особенного не знаю... — Но ведь вы же говорили в парикмахерской... — То там, а то тут. Две большие разницы. — Мы же договорились с вами, Наум Маркович! — Договорились, — вздохнул он сокрушенно. — В том-то и мое несчастье, что договорились. — Неужели это такая большая трагедия? Дробаха пошевелил кончиками пальцев. — Кому трагедия, а кому и мелочь. Вся наша жизнь — трагедия. — И это говорите вы, Наум Маркович, наш передовик! — всплеснул руками заведующий. — Вы еще молодой! — поморщился мастер. — Вы еще ни о чем не думаете, а я уже седой и точно знаю, что люди иногда умирают... Он явно избегал прямых ответов, и следователь понял его: уже решился на разговор и знал, что он неминуем, но инстинктивно почему-то оттягивал его. И торопить в таких случаях не надо. — Вы давно работаете в парикмахерской? — спросил Дробаха. — Я всю жизнь работаю в парикмахерских! — обрадовался мастер, почувствовав, что разговор затягивается. — Я был парикмахером на Подоле и Лукьяновке, и я обкорнал столько голов, что хватит на пол-Киева. Каждый работает как может, но должен сказать, что я люблю свое дело, и если вам когда-нибудь захочется иметь хорошую прическу... Дробаха провел ладонью по своим редким волосам: — Поздно уже... — И это говорите вы! Так послушайте меня! Никогда и никому не бывает поздно, и я вас сделаю если не мальчиком, то по крайней мере помолодеете на десяток лет. Следователь с сомнением покачал головой: — Если бы мы могли молодеть!.. — Вы придете ко мне завтра, и мы поговорим на эту тему. Я вам скажу: сейчас никто не хочет идти в парикмахеры, они не понимают, какая это работа и как можно поговорить с настоящим клиентом. Ого, какие бывают клиенты! — старик поцеловал кончики пальцев. — Я столько наговорился за свою жизнь, что стал вдвое умнее. — Точно, Наум Маркович, — успел вставить заведующий. — И поэтому мы вместе с вами и пришли сюда. — Чего уж, — согласился тот. — Ну был у нас разговор, уезжал один в Израиль. Я, конечно, не одобряю этого: чего ты пхаешься туда, родился тут и помирай тут, а ему новой родины захотелось. Но ведь он хочет и там устроиться, понимаете, каждый хочет, да не каждый может. А у этого и деньги были, там наши деньги тьфу, там золото нужно или доллары, так Розалия ему и доставала. Кто там у нее, не знаю, дядя или дед, говорят, такие родственники седьмая вода на киселе, однако достала, и тот уже уехал. Дробаха несколько оживился. — И все же дед или дядя? — попробовал он уточнить. — Может, слышали фамилию? — Родственник, — объяснил Наум Маркович, — слышал, что родственник, а вот кто... Краем уха слышал, и больше ничего не знаю. — В Киеве жил? — А где же еще? Они с тем типом к нему после работы ездили. — В какой район? — Не знаю. Что слышал, то сказал, меня Михайло Гнатович попросил, поэтому и ответил. Не люблю барыг, и каждый должен работать честно! — Он провозгласил эту сентенцию с пафосом, и следователь подумал, что старику, верно, было трудно пойти в прокуратуру, знает, что зря сюда не ходят и чем это грозит Ютковской и ее неизвестному родственнику. И все же пошел, потому что действительно — привык работать и жить честно, и всякие махинации ему как кость в горле. — Спасибо, Наум Маркович, — искренне сказал Дробаха. Парикмахер встал. — Только вот что, — попросил он, — чтобы никто не знал... Вы да Михайло Гнатович, потому что люди разные, и кое-кто может подумать... Дробаха поднял вверх руки. — Считайте, что тут умерло, — заверил он. Когда парикмахеры ушли, следователь позвонил Каштанову. — Где наш Шерлок Холмс? — спросил он. — Еще в Одессе и долго ли собирается там околачиваться? Здесь нужен, — и рассказал о разговоре с парикмахером. — Сейчас вызову Одессу, — обещал полковник. — А пока давайте-ка сделаем так. Лейтенант Зозуля попробует поговорить с теткой Ютковской.
Хаблак пошевелился и открыл глаза. Небольшая и небрежно обставленная комната. В углу — стол, за ним пьют водку трое — боком к нему Гоша. Бармен скосил на майора внимательный глаз, оторвался от стола. — Очухался, — сказал он. Придвинулся вместе со стулом к креслу, в которое посадили Хаблака. — Ну привет, — блеснул он глазами, — извини, конечно, но у нас с ментами разговор короткий: перо в бок, тело в багажник — попробуй найти. Хаблак пожал плечами. Руки связаны и голова болит. Двое, не отрываясь от закуски, обернулись и с любопытством следили за разговором. Совершенно незнакомые. Один коренастый с бычьей шеей, лысый, голова прямо-таки блестит, другой с усиками и наглыми глазами, лет тридцати. — Вы что, спятили? — прохрипел Хаблак. — Кидаетесь на людей... — На людей мы не кидаемся, — рассудительно объяснил Гоша. — Мы кидаемся лишь на тех, кто сует нос не в свои дела. — Я что, лез к вам? — Майор сделал вид, что испугался. — Он сам подошел ко мне, ваш Вова, и я не виноват, что мы не сошлись... — Поплачь! — злорадно сказал Макогон. — Поплачь в последние свои минуты, никого ты этим плачем не разжалобишь, видали мы здесь всяких! Хаблак подумал: неужели выследили их с Волошиным или увидели, как человек Волошина идет за ним? Но ведь старший лейтенант обещал подстраховать его — успеет ли? По крайней мере, если он действительно влип, надо затянуть разговор — тогда ребята Волошина поймут: что-то неладно, и придут на помощь. Лысый встал из-за стола. В руке держал кусок тяжелой свинцовой трубы. — Кончать будем? — равнодушно спросил он. — Давай! — отодвинулся бармен, освобождая место перед креслом. Хаблак закрыл глаза. Неужели суждено погибнуть так бессмысленно? — Дураки, — как можно спокойнее сказал он. — Я думал, что имею дело с солидными людьми, а оказалось — обыкновенные бандиты, охотящиеся за бумажниками и часами. — Мы — за бумажниками? — яростно шагнул вперед лысый. Размахнулся, но Гоша перехватил его руку. — Развяжи, — кивнул он на майора. — Но ведь... — Я сказал! Лысый неохотно поднял Хаблака за воротник, развязал руки. Майор пошевелил пальцами — совсем онемели. Пригладил волосы, поморщился от боли. — Шутники! — с презрением сказал он. Макогон сухо хохотнул. — Проверка, — объяснил он. — Без этого никак нельзя, сам понимаешь, по головке нас не гладят, и каждый новый клиент... — А если бы я сломал себе шею на лестнице? — перешел в наступление Хаблак. Гоша развел руками. — Издержки... — цинично ответил он. — У каждого производства — свои издержки, а у нашего особенно. Майор подошел к столу. Ни слова не говоря, налил в стакан водки. Выпил и пожевал огурец: должен был хоть чуть подбодриться — голова тупо болела и в ушах стоял звон. Немного подождал и выпил еще. — Вот это по-нашему, — поднял стакан усатый. — Ваше здоровье, львовский сэр. Гоша дохнул Хаблаку в затылок. Положил на край стола вынутые у него документы и деньги. — Не сердись, — примирительно сказал он, — вижу, мы с тобой сойдемся. Лишь бы были башли. — Без башлей в порядочную компанию не ходят, — согласился Хаблак. — Я понял: ты балуешься долларами? — Не только. Могут быть английские фунты, франки и марки. Западногерманские. Попадается и золотишко. — Монеты? — Редко. Чаще слитки. — Договоримся. Можешь на той неделе две тысячи? — Долларов? — Нет, монгольских тугриков... Но Макогон и сам уже понял, что допустил ошибку. — Могу. — Мне надо слетать во Львов. — Ясно. Встретимся в баре. Майор подумал, что вряд ли они дадут Гоше возможность еще целую неделю блаженствовать в белой куртке, но только улыбнулся и похлопал его по плечу. Лысый налил в стаканы коньяк. — За успех! — пробормотал он. Хаблак только глотнул и поставил стакан. — Бывайте... — сказал он не очень приветливо. — Бывайте, мальчики, до встречи на той неделе.
Зозуля выбрал время, когда Ютковская ушла на работу, и позвонил в ее квартиру. Долго не открывали, очевидно, рассматривали лейтенанта в глазок, наконец коротко спросили: — Кто? Лейтенант объяснил, что он из газовой инспекции, и показал удостоверение. Только после этого щелкнул замок и его впустили. В прихожей стояла пожилая толстая женщина и подозрительно смотрела на незваного гостя. — Правильно делаете, тетенька, — похвалил Зозуля, — теперь надо обязательно требовать документы — в нашем парадном вот так квартиру обчистили. Мол, пришли из жэка, старушка и впустила, а они, гады, ее по кумполу и унесли все что смогли. Женщина испуганно отступила в комнату, лейтенант заметил это и успокоил ее: — Но мы — люди официальные, сейчас посмотрим на ваш газ и проверим плиту, чтоб ажур был. — Он поставил на пол чемодан с инструментами, достал рожковый ключ, и этот ключ окончательно успокоил женщину. Она облегченно вздохнула и пошла в кухню. Зозуля вытащил тетрадку. — Квартира ваша? — спросил он. — Моя. — Фамилию, пожалуйста. — Ютковская Дора Ефимовна. Лейтенант отложил тетрадку, пошевелил ключом кран. — Кажется, есть утечка газа, — сурово сказал он. — Точно есть, и придется перекрыть. — Я вас прошу, — заволновалась женщина, — очень прошу, сделайте, как же я буду без газа? — Сделаем, — пообещал Зозуля, роясь в инструментах, — сделаем, гражданка Ютковская. — Лейтенант принялся крутить кран. — Ютковская? — спросил он как бы просто так, из любопытства. — На той неделе был тоже у Ютковских, на Стрелецкой. — Ютковских в Киеве хватает, — согласилась женщина. — И все — ваши родственники? — захохотал Зозуля. — Хорошо иметь много родственников, — заметила Дора Ефимовна. — Много родственников — много добра! — И у вас много? — Не дал бог. — Одни живете? — Почему же одна, с племянницей. Еще брат... Троюродный... — Все же брат, и то хорошо, — одобрил Зозуля, — говорят ведь, на безлюдье и Хома человек. Слыхали? — На безрыбье и рак рыба? — Точно. И где же он живет? — Брат? — Троюродный... — ухмыльнулся лейтенант, будто это его совсем не интересовало. — Далеко. Возле Гидропарка. — Далековато. Однако если хорошая квартира... — Однокомнатная. — Холостяк? — Старый барсук. — Старику что! Старик может не работать. У Гидропарка лес рядом, ходи грибы собирай... — Лес, верно, рядом и пруд. — Знаю, — подтвердил Зозуля, — там девятиэтажные дома. — Он в шестнадцати... — По-моему, возле пруда больших домов нет. — Есть один, левее шоссе. Квартиры там хорошие, но я бы не поехала. — Почему? Метро там рядом. — Но ведь у нас центральнее и быть не может. — Центр остается центром, — согласился лейтенант. — И на каком этаже живет ваш брат? Ютковская подозрительно посмотрела на него, но Зозуля так старательно крутил кран — мол, разговор так, между прочим, — что только покачала головой. — Не знаю, — вздохнула она, — племянница рассказывала, что в шестнадцатиэтажном, левее пруда, я там не была. — Побываете. На новой машине... Лейтенант еще немного пошевелил кран, намылил его, пустил газ и, убедившись, что утечки нет, сложил инструменты. В конце концов, он и так узнал много. За день-два можно перебрать всех жильцов однокомнатных квартир шестнадцатиэтажного дома, и найдут родственника Доры Ефимовны Ютковской. Обязательно найдут: не такое уж и сложное дело. — Принимайте работу, тетенька! — весело сказал он, потому что настроение лейтенанта значительно улучшилось.
Зозуля предложил начать знакомство с жильцами здания у Гидропарка с изучения домовой книги: все просто, тебе дают список тех, кто живет в однокомнатных квартирах, и ты уже сам смотришь, может ли кто-нибудь из них быть родственником Розалии Ютковской и троюродным братом Доры Ефимовны. Он был прав, этот дошлый лейтенант, но Хаблак почему-то не спешил в контору, находившуюся в квартале от дома. Майор с минуту посидел на скамейке у первого подъезда, где над почтовыми ящиками висел список жильцов. Малявский, Ильченко, Журавлева, Попадин, Билевич, Божик, Кушнир, Кузин, Долишня, Береговенко, Кучугурный, Матов, Явкин... Незнакомые фамилии как незнакомые предметы — ничего не говорят и не вызывают никаких ассоциаций. Ильченко... Может, мужчина, а может, и женщина, старая и немощная или молодая, красивая, привлекательная... Или Явкин... Наверное, он и является родственником Ютковской. Старый и нелюдимый человек, скупающий золото или валюту. Только для чего? Хаблак перешел во второй подъезд. Иванченко, Сахно, Ворона. Грубер. Воскобойник... Погоди, где он недавно встречал эту фамилию? Хаблак напряг память и сразу представил себе человека за столом у окна, а рядом столы, за которыми сидят красивые девушки — техредакторы издательства.
«Воскобойник А. С.»А как зовут заведующего отделом? Зозуля что-то заметил на лице майора и спросил: — Набрел? — Кажется. Не видел, где здесь телефон-автомат? — У соседнего дома. Номер Данько был занят. Хаблак нетерпеливо крутил и крутил диск, ругаясь сквозь зубы: неужели можно так долго разговаривать? Наконец послышался длинный гудок и сразу откликнулся Данько. Майор спросил, не чувствуя, как дрожит его голос: — Слушай, Петро, как зовут вашего заведующего техотделом? — Воскобойника? — Угу. — Аркадий Семенович. — Спасибо. — А что? — Порядок, старик, никому не говори о нашем разговоре. Кстати, где он живет? — Возле Гидропарка. — Чудесно. — Это он? — Ничего пока не знаю, но молчи. — Понял. Отяжелевшей рукой майор повесил трубку. Добрый день, малопочтенный Аркадий Семенович, кажется, наконец приехали. Зозуля смотрел вопросительно, и Хаблак не стал испытывать его терпения. — Аркадий Семенович Воскобойник, — объяснил он. — Сотрудник издательства. Живет в сто восьмой квартире. — И эта парикмахерша Роза его племянница? — Наверняка. Когда-то заходила к дядюшке в издательство. Там ее и увидел Ситник, а этот парень был не промах. — Потом Воскобойник воспользовался этим? — Разумеется. Когда узнал о вечере археолога, детально продумал план кражи. Нажал на Ситника, а может, и вовсе не нажимал, пообещал щедрую награду... — Могла и сама парикмахерша. — Могла, — согласился майор. — Дядюшка рассказал ей, сколько они заработают на чаше, и Ютковская уговорила Ситника выбросить ее, когда погас свет. — А электричество испортил Воскобойник! — Да. Помнишь, там коридор буквой «Т» и комната техотдела расположена так, что ни завхоз, ни вахтерша не могли увидеть, как Аркадий Семенович вышел из нее. Воскобойник заблаговременно поменял на лампе завхоза штепсель, сделал это осторожно, чтобы не стереть отпечатки пальцев Крота — этим штепселем он и замкнул электросеть. За несколько секунд, которые имел в своем распоряжении, подхватил чашу, проскользнул мимо вахтерши и был таков. — Однако почему его не заметила Старицкая, когда он выходил из здания издательства? — Как раз перед Воскобойником выскочил Власюк. Он пошел к белой «Волге», и все внимание старушки было приковано к нему. — Логично. — Воскобойник связался с Одессой. Там у него старый коллега по спекуляции или познакомился только что — это мы выясним — с барменом Гошей Макогоном. Они быстро договорились. — Или договорились раньше, когда планировали преступление. — Да. Но мы выходим на Ситника, Воскобойник знает, что парень не очень стойкий и может признаться, тогда он сообщает Гоше, тот приезжает с деньгами, договаривается с Бурнусовым. А Ютковская назначает Ситнику свидание на даче... — А если чаша уже у Гоши? — вдруг испугался Зозуля. — У нас продать ее невозможно, а у бармена связи... И чаша уже плывет за рубеж... — Знаешь, сколько она стоит? Гоше, чтобы рассчитаться с Воскобойником, надо собрать все свои капиталы да еще и в долги залезть. — Впрочем, за ним следят. Чаша — не иголка. — Не говори. К каждому, кто видится с Макогоном, в портфель не заглянешь. — Надо позвонить Дробахе, пусть берет постановление на обыск. — Да, но вот что... Погоди, две копейки есть? Монетка нашлась, и Хаблак опять набрал номер телефона Данько. — Разведай, Петро, выезжал ли на этих днях куда-нибудь Воскобойник, — попросил он. — Может, правда, только собирается. — Это тебе срочно? — Я не вешаю трубку. Ждать пришлось долго: минут пять — семь. Наконец в трубке загудел голос художника. — Завтра Аркадий Семенович едет в командировку в Одессу. — Неужели? — не поверил майор. — Директор уже подписал. — Счастливого пути, — засмеялся Хаблак. — Ты это серьезно? — Мы люди очень серьезные, Петро. — Догадываюсь. А почему обрадовался? Воскобойник там часто бывает, в Одессе у нас типография, книги печатаем, вот и ездит... Он или кто-нибудь другой. — Чудесный город — Одесса! — воскликнул майор. — Летом туда каждый хочет — море. — Море это хорошо. Но сейчас оно уже холодное, и Аркадию Семеновичу вряд ли придется любоваться им. Бывай, Петро, спешу.
...Дробаха, слушая Хаблака, нетерпеливо ерзал на стуле. — Завтра утром вылетаем с вами первым рейсом в Одессу, — решил он, — и встретим там Воскобойника. — С чашей... — Конечно, с чашей. Можно было бы изъять ее и сегодня, однако куда нам спешить? Заберем, когда будет передавать ее бармену. Поймаем их с поличным. ...Следователь с майором устроились в большом двухкомнатном «люксе» гостиницы «Моряк». Хаблак никуда не выходил из номера, чтобы ненароком не попасться на глаза Гоше. Позавтракали бутербродами и чаем изтермоса, прихваченного хозяйственным Дробахой. В начале десятого позвонил Волошин — Воскобойник благополучно прибыл на одесский вокзал. От оперативников, дежуривших в гостинице, майор знал, что Гоша уже здесь, хотя бар и открывался лишь в двенадцать. Видно, Воскобойник взял такси, потому что через полчаса Волошин постучался в «люкс» и сообщил: Аркадий Семенович только что вошел в подсобку. Дробаха решительно встал. Хаблак смотрел, как следователь быстро идет по коридору, и удивлялся, откуда только берется такая энергия в этом тучном теле. В подсобку постучала администратор. — Кто? — недовольно спросил бармен. — Открой, Гошенька! Лязгнул замок, и майор нажал на дверь. Она поддалась легко, но бармен загородил дорогу. Узнав Хаблака, улыбнулся ему, но увидев Дробаху и Волошина, растерянно попятился: — Ты? Но ведь... Майор не очень вежливо оттолкнул Гошу. Воскобойник сидел в углу на низком стуле, прижав к груди желтый кожаный чемодан, и глаза у него испуганно бегали. — Здравствуйте, — подчеркнуто вежливо поздоровался Хаблак. — Рад видеть вас здесь, Аркадий Семенович. Воскобойник не ответил, только крепче прижал чемодан — так, что пальцы побелели. — Что за вторжение, товарищи! — воскликнул Гоша. — У меня тут материальные ценности... — Да, ценностей здесь хватает! — остановился напротив него следователь. Не спеша вынул из кармана постановление на обыск, показал бармену. — Где чаша? — спросил он. — Какая чаша? — Скифская. И не валяйте дурака, Макогон. — Может, та, что привез этот товарищ? Он как раз предлагал купить ее... — Макогон побледнел, но держался твердо. Достал из шкафа чашу. — Пожалуйста, неужели она имеет такую ценность, что столько милиции! Майор отобрал у Воскобойника чемодан, открыл. Пачки денег большими купюрами, слева отдельно иностранная валюта. — Ого! — воскликнул Хаблак. — А вы говорите... Воскобойник сполз со стула, стал у чемодана на колени. — Боже мой! Неужели ты так несправедлив! Бармен отступил в глубину комнаты. — О! — изобразил он изумление. — И вы ездите с такими деньгами... Следователь хитро посмотрел на него. — А вы фрукт! — усмехнулся он. — Однако не выйдет, Макогон, ничего у вас не выйдет, мы поймали вас с вещественными уликами, и не стоит придуриваться. Воскобойник все стоял на коленях и повторял: — Боже мой!.. Боже мой!.. Майор накрыл чемодан. Поднял чашу на ладони, рассматривая орнамент. Ювелирная работа — талантливый художник создал ее. Сцены из жизни кочевников переданы с гениальной простотой. Ни одной лишней детали. Умные, сильные люди... Хаблак вдруг представил себе тысячные табуны коней, полынную степь, даже услышал гортанные выкрики скифов. А бородатый скиф на чаше сосредоточенно натягивал лук, и майору на мгновение показалось, что он искоса взглянул на него и довольно улыбнулся.
1980 г.
ГОРЬКИЙ ДЫМ
ОТ АВТОРА
Имеется целый ряд радиостанций, финансируемых империалистическими разведками, которые занимаются прямым шпионажем против СССР и стран социалистического содружества. Большой вклад в разоблачение подрывной работы этих радиостанций внесли разведчики социалистических стран, которые работали на этих радиостанциях и вернулись на родину. В своих выступлениях, статьях и книгах они разоблачили методы шпионско-подрывной деятельности, показали атмосферу лютой ненависти ко всему прогрессивному и социалистическому, царящую на радиостанциях «Свобода» и «Свободная Европа». Работая над повестью, автор использовал материалы этих разведчиков, опубликованные в печати, но документальным произведением ее назвать нельзя. В повести рассказывается о грязных методах работы шпионско-диверсионных радиоцентров, о деятельности украинских буржуазных националистов.«Все началось с приезда Юрия в Киев...» — подумал вдруг он снова, но уже без раздражения, так как действительно все началось прошлым летом, когда его двоюродный брат Юрий Сенишин в составе западногерманской туристической группы прибыл в Киев. В первый же вечер он позвонил Максиму — этот звонок был не очень-то приятен Рутковскому: в свое время, пока существовала какая-то грань недоверия, ничего хорошего наличие родственников за границей не сулило. Тем более что среди них был родной брат матери Максима, Иван Сенишин, видный бандеровец, кажется, один из руководителей организации украинских националистов (ОУН). И вот теперь ему звонит сын Ивана Сенишина и сообщает, что отец умер в прошлом году и просил перед смертью проведать родственников. Потом выяснилось, что это чистая ложь: не такой был человек Иван Сенишин, чтобы на смертном одре думать о родственниках, тем более о сестре, живущей в Киеве. Он не поддерживал с нею никаких отношений даже во Львове, где они жили на одной улице, ненавидел ее за то, что вышла замуж не за того человека, и вообще считал ее предательницей. Просто Юрию необходим был повод для визита к двоюродному брату. Эта встреча состоялась на следующий день. Юрий привез чуть ли не полчемодана подарков: свитер, какие-то модные рубашки и галстуки. Оказывается, он знал, что Максим закончил факультет журналистики, работает в издательстве, читал первый сборник рассказов брата и высоко его оценил. Кому не приятна похвала, да еще от родственника, не имеющего к литературе никакого отношения — коммерсант и владелец ресторана, — а вот, оказывается, читает, и не только он один: там, в Мюнхене, считают Максима Рутковского перспективным литератором, одним из талантливейших среди молодых. Они уже выпили несколько рюмок, хмель немного ударил в голову Максима, и стена отчуждения, которая все время стояла между ним и этим совсем незнакомым человеком, постепенно начала исчезать. Что с того, что видятся впервые в жизни? Он слышал про Юрия от матери, где-то сохранилось его фото — трех-четырехлетний мальчик в берете с помпоном, и жаль, что мать не дожила до этого дня, порадовалась бы вместе с ним, всегда приятно, когда родной человек хорошо относится к тебе. Юрий засиделся у Рутковского до позднего вечера. Давно уже опорожнили бутылку украинской водки с перцем, Максим хотел достать еще одну, но кузен отказался — он попросил кофе, слава богу, кофе в холостяцкой квартире Максима нашелся, они устроились в креслах возле журнального столика, закурили, помолчали немного, и Юрий как-то сразу, без обиняков, неожиданно спросил, сколько денег получил Максим за свою первую книгу. Рутковский стал объяснять тонкости гонорарных тарифов, однако Юрия они совсем не интересовали. Наконец он все-таки выпытал у Максима сумму, недовольно почмокал губами и заявил, что на Западе можно было бы получить... Он, правда, не сказал сколько, но намекнул, что человек со способностями Максима мог бы в течение нескольких лет стать богатым, и если бы Максим согласился... Сенишин не договорил, отхлебнул кофе и глубоко затянулся сигаретой. Максим понял Юрия и засмеялся. Ему в самом деле стало весело — черт знает что, предложить такое Максиму Рутковскому! Но любопытство одолело, ему было интересно, как будут развиваться события дальше, и он спросил, что конкретно Сенишин имеет в виду. Юрий посмотрел на Максима пристально и объяснил, что он совсем не шутит: может быть, брат слышал о существовании радиостанции «Свобода»? Так вот, для начала можно было бы устроиться туда — есть свои люди, помогут... И вообще он, Юрий, глубоко верит в литературный талант Максима, а где еще, как не на Западе, существуют все условия для самовыражения, для раскрытия таланта? Максим усмехнулся иронично. Он уже слышал такие разговоры, ему тошно было от них. Но подумал, как небрежно, заложив ногу за ногу, сидит этот владелец мюнхенского ресторана, как держит выхоленными пальцами в перстнях чашку кофе, очевидно, эти перстни для него — смысл жизни, мерило хорошего благосостояния, а у Максима нет ни одного перстня, наверное, и не будет, и он от этого не страдает. Для чего ему золото, ресторан, когда лучше чувствуешь себя в своей квартире, из которой видны Днепр и Лавра, когда единственное, чего ему не хватает, — большой письменный стол, по-настоящему большой, на котором поместилось бы много книг и разных бумаг. Максим спросил у Юрия, можно ли там, на Западе, приобрести большой письменный стол? Сенишин пожал плечами: какой стол и для чего, речь ведь идет о серьезных вещах и Максим, кажется, ничего не понял. Но, узнав, что имел в виду брат, засмеялся весело и пообещал подарить стол в полкомнаты, и не только стол, а еще и настоящие кожаные кресла — ему будет приятно это сделать, он понимает, какая поддержка необходима таланту, особенно на первых порах. Юрий сказал это так, будто между ними уже все обговорено и Максиму остается только сесть в международный вагон или заказать билет на самолет — и завтра он будет в Мюнхене, в свободном мире: за большим столом, у которого стоят настоящие кожаные кресла... Чуть ли не сразу Юрий поднялся: он привык ложиться в одиннадцать, а еще нужно доехать до гостиницы. Понимает, что Максиму нужно обдумать его предложение, что не так просто порвать со всем близким и дорогим, налаженной жизнью, однако такой шанс случается раз и не воспользоваться им может только... Наверное, хотел сказать «последний дурак», но высказался осторожнее: человек, который не чувствует перспективы. Сенишин ушел, а Максим долго еще сидел с чашкой недопитого кофе, держал ее в ладонях, и на душе было гадко. Потом увидел Юрины подарки — свитер и галстуки, — завернул в газету, решив завтра же отдать. Вероятно, Сенишин считал их авансом за будущую службу, так же, как и письменный стол с креслами... Но для чего Сенишину все это? Имеет ресторан, делает коммерцию, говорил, ничего ему не нужно, живет в достатке — неужели и в самом деле его так волнует судьба родственника? «Какой родственник, черт бы его побрал, — разозлился вдруг Максим и с ненавистью пнул газетный сверток с подарками, — бандеровский выкормыш, недаром же говорят: какая пшеница, такая и паляница!» Этот наплыв эмоций вдруг охладил его — Максим убрал со стола грязную посуду, чтобы ничто не напоминало о дружеском ужине с мюнхенским гостем, открыл балконную дверь, проветрил комнату и лег спать, накрывшись только простыней: ночь выдалась жаркой, на острове Русановского пролива пели соловьи, и Максим долго не мог уснуть, очарованный соловьиными трелями — неужели в жизни может быть что-нибудь лучше? Потом увидел во сне письменный стол, который все время увеличивался, пустой, отполированный до блеска. За ним сидел Юрий. Максиму хотелось опрокинуть стол на Сенишина, но сил не хватало, только сдвинул немного, а Юрий улыбался самоуверенно и беспечно, как-то снисходительно, и это не нравилось Максиму, он злился на двоюродного брата и начал говорить все, что думал о нем, не выбирая слов и не отличаясь корректностью, но Юрий не обижался — самоуверенный и нагловатый. Утром, побрившись и обдумав на свежую голову ситуацию, Максим не стал звонить по оставленному Юрием номеру телефона, чтобы договориться о встрече и возвратить пакет с подарками. Вместо этого набрал номер телефона Ивана Каленика. В свое время они вместе учились в университете — только Иван на юридическом, и теперь он работает в Комитете государственной безопасности. Максим не знал, чем там занимается Иван, но вполне резонно рассуждал, что Ивану, в итоге, будет виднее, как поступить, и рассказал о вчерашней встрече. Каленик выслушал не перебивая, помолчал, раздумывая, и попросил Максима побыть немного дома, ни в коем случае не связываясь с Сенишиным. Он позвонил минут через двадцать и назначил Максиму свидание около станции метро «Левобережная». Когда Рутковский приехал, увидел Ивана у входа. Каленик посадил Максима в белую «Волгу» и повез куда-то на Первомайский массив, где в одном из бесконечных стандартных домов поднялись на третий этаж и зашли в скромно обставленную квартиру. Здесь их ожидал совсем лысый мужчина с глубоко посаженными живыми глазами и мясистым носом. Он назвался Игорем Михайловичем, отпустил Каленика, усадил Максима на диван, сам пристроился на стуле напротив и попросил как можно подробнее передать разговор с Юрием Сенишиным. Слушал, время от времени потирая тыльной стороной ладони раздвоенный подбородок, слушал молча, не перебивая и не задавая лишних вопросов, что говорило о характере уравновешенном и глубоком, впитывая все сказанное, внешне никак не реагируя на рассказ Рутковского. Когда Максим умолк, сказал: — Ну твоего дядю, Ивана Сенишина, мы знали, а чтоб сынок! В конце концов, ничего удивительного нет. Но я думаю вот что: когда уж так агитируют тебя на эту «Свободу», может быть, согласишься? Видимо, Игорь Михайлович прочитал на лице Максима такое, что вынужден был тут же добавить: — Ты не волнуйся, парень, дело это долгое, и неизвестно еще, как оно обернется, но и отрезать все концы сразу нельзя. Предложение Сенишина, прямо скажу, заманчиво, нам в той своре не помешает свой человек, и если сможешь... — Нет, — ответил Максим категорично, — не смогу! Игорь Михайлович блеснул глазами. — Слишком скорая теперь молодежь, — не одобрил он Максима, — ты и секунды не подумал. А тебе уже под тридцать, пора и рассудительным быть. Максим покраснел. — Но вы же только что сами сказали: свора. И хотите, чтобы я... — Мы пока что ничего сейчас не решаем. Будем думать, и не только мы. А брату своему скажи, что его предложение заманчиво. Ясно? Максиму все было далеко не ясно — он смотрел в проницательные глаза лысого человека, и этот разговор казался ему нереальным, будто продолжался еще сон об огромном столе; он потер лоб, как бы хотел увериться в реальности всего, что происходит, очевидно, Игорь Михайлович понял его, положил тяжелую ладонь на колено и добавил: — Отец твой в эти годы уже батальоном командовал. — Но ведь потом... — То, что произошло потом, в этой ситуации воду на твою мельницу льет. Главное: ты все понимаешь и обиды в сердце не носишь. А мы на тебя надеемся. — Не знаю, что и ответить. — А если не знаешь, то слушай меня...
К концу дня Максим позвонил Сенишину. Они встретились в Гидропарке, и Юрий расцвел в улыбке, увидев на кузене подаренную им рубашку и действительно красивый цветной галстук. Они гуляли по берегу Днепра, и Максим признался Сенишину, что давно мечтает приобщиться к благам Запада и единственное, что сдерживало его, — неизвестность и страх сразу сесть на мель. Ну кому там нужен начинающий писатель, к тому же бытописец, как обозвал его кто-то из критиков? Ну а если есть перспектива получить работу и хоть какая-то родственная поддержка... И вот они сейчас едут в Юрином «мерседесе» по мюнхенским улицам. Полтора месяца назад Максим Рутковский в составе туристической группы вылетел в Канаду, где и заявил о своем нежелании возвратиться в Советский Союз. Конечно, это вызвало возмущение в группе и консульстве. На встречу с ним приезжал сам консул, уговаривал Рутковского не делать глупостей. Однако Максим остался непоколебим: сначала, пока устраивались его дела, жил в Торонто у дяди, младшего брата Ивана Сенишина. Он эмигрировал сюда еще в тридцатые годы из Львова и держал на окраине города магазинчик, почти не дававший прибыли. Но дядька как-то сводил концы с концами — что ему, старому холостяку, в конце концов, нужно: теплая постель, обед и порция виски. На это хватало, и он был доволен. К решению племянника отнесся отрицательно, и не потому, что на какое-то время должен был дать ему кров. Просто знал, как трудно здесь пробиться в люди. Пока мог, отговаривал Максима, потом махнул рукой: вы молодые, вам виднее. Денег на дорогу в Мюнхен у дяди не было, их выслал Юрий Сенишин — конечно, одолжил, правда не определив срок возмещения. Это устраивало Рутковского: если Юрий одалживает деньги, значит, рассчитывает на возврат, и Максимовы акции что-то стоят. «Мерседес» остановился на тихой улочке с двух- и трехэтажными особняками. После переполненных машинами и людской толпой проспектов, где, казалось, движение никогда не остановится, здесь было тихо, даже как-то патриархально, и Максим понял, что Сенишин живет в фешенебельном районе. Да и коттедж был неплохой: из красного кирпича, двухэтажный, может быть, немного старомодный, но очень удобный — с широкими светлыми окнами и террасой на втором этаже, которая выходила в небольшой сад. Иванна ставила машину в гараж под домом, а они с Юрием остановились на бетонной дорожке, обсаженной кустами роз с обеих сторон, и Юрий улыбался как-то небрежно, но за этой небрежностью чувствовалось торжество и даже гордость: вот так, как бы говорил он, живут у нас. — Славно здесь, — подыграл ему Максим, — хорошо живешь, мне нравится. Не мог же сказать он, что знает, откуда у Юрия эта вилла и ресторан, а также счет в банке. Банда Ивана Сенишина ограбила несколько польских деревень на Ровенщине, а Зеленый, как прозывался тогда Сенишин, хорошо знал через своих информаторов, у кого водятся золото и ценности. Был у Зеленого потрепанный, неказистый чемоданчик, с которым он никогда не расставался. Другие возили из разгромленных деревень подводами разные вещи, Зеленый не пачкал рук барахлом, был умнее и проворнее многих бандеровских вожаков — у него была своя идея, которая вмещалась в маленьком коричневом чемодане. И кто же, оказалось, был прав? После войны не бросился в аферы и сомнительные финансовые комбинации, приведшие его самоуверенных, но весьма несмекалистых коллег по ОУН к полному материальному краху. Нет, Иван Сенишин не торопился, присматривался, изучал конъюнктуру, потом приобрел ресторан, а затем и этот двухэтажный коттедж, мозоливший глаза даже Бандере и Стецько. Что ж, Зеленый не возражал: здоровая зависть — движущая сила коммерции, каждому свое. Он же не лез в «фюреры», не торопился создавать правительство во Львове, он неутомимо трудился для будущего независимого украинского государства, и не его вина, что такое государство не состоялось. Зато были как-то компенсированы его большие моральные и материальные затраты, понесенные в процессе борьбы, — да, конечно, малая толика, крохи, но каждый может распоряжаться теперь своим добром, как хочет и как умеет. Юрий закрыл ворота, еще раз прошелся по бетонной дорожке, не утерпел, чтобы не похвалиться: — Хотели приобрести для Иванны «фиат» или «фольксваген», да негде поставить. Гараж расширить невозможно, а оставлять здесь, чтоб торчал под окнами... Когда-нибудь, может, приобретем более просторный дом... Максим хотел спросить, для чего им — ведь не имели детей — дом попросторнее, однако промолчал. Из гаража вышла Иванна, посмотрела на Максима вопросительно, и Рутковский поспешил потешить ее тщеславие. — У вас чудесное гнездышко, — сказал он, — я никогда и не думал... — Эти розы, — перебила его Иванна, — Юрий привез из Швейцарии. Посмотрите, какой блеск и форма цветка! — Несравненно! Никогда не видел таких, даже в Киевском ботаническом саду. Иванна покрутила автомобильным ключом вокруг пальца. — В Киеве есть ботанический сад? — спросила недоверчиво. «Твой Мюнхен, уверен, провинция по сравнению с Киевом», — подумал Максим, но ничего не сказал. Юрий все же что-то прочитал на его лице, так как ответил снисходительно: — Я же тебе рассказывал, дорогая: Киев — современный европейский город, и я считаю — один из красивейших. Юрий подхватил чемодан Максима и направился к дому. Коттедж оказался довольно просторным: первый этаж состоял из большой гостиной, столовой и кухни, на втором этаже были кабинет Юрия и две спальни, одна из которых предназначалась Рутковскому. Узнав, что Максим пообедал в самолете, Иванна, не скрывая, обрадовалась. Объяснила, что постоянной прислуги не держит, даже для них это дорого, хозяйничать ей приходится самой, рассчитывая только на помощь женщины, которая приходит трижды в неделю. А сегодня вечером соберется небольшое общество, и заниматься обедом ей просто некогда. Конечно, чем-нибудь накормить можно... Максим решительно отказался. В самом деле, есть не хотелось, к тому же перелет из Канады немного выбил его из колеи — хотелось уединиться; наконец, не мешало бы и выгладить измявшийся в чемодане вечерний костюм, и, вооружившись утюгом, поднялся в свою спальню. Комната понравилась Максиму: выходила окном на террасу, и до яблоневых веток можно было дотянуться рукой. Постоял немного, разглядывая сад, точнее, садик — полдесятка деревьев и какие-то кусты около металлической сетки ограды. За нею снова деревья и почти такая же, из красного кирпича, вилла, однако с более узкими окнами — целая улица чем-то похожих друг на друга и в то же время разных домов, квартал, где жили люди богатые — не миллионеры, банкиры или владельцы крупных предприятий, а средние буржуа, профессора, известные артисты, журналисты и писатели. Выгладив костюм, Максим побрился. Вышел из ванной, переложил вещи из чемодана в шкаф. У него было еще два свободных часа — хотел попросить у Юрия какую-нибудь книжку, но передумал: растянулся на кровати и незаметно уснул. Не собирался спать, но сон сморил его за несколько минут, был он легкий и прозрачный, будто совсем и не сон, а так, случайное забытье, будто серебряный дождик с елки, когда вроде бы и спишь, но все видишь и слышишь, — чудесное чувство покоя и забытой детской радости. Проснулся Максим быстро, но не поднимался, лежал, не в состоянии расстаться с навеянными сном впечатлениями — в самом деле почувствовал себя совсем еще мальчиком, спящим в одной комнате с новогодней елкой: стоит повернуться — и он увидит ее, чудесную красавицу с тонкими нитями серебряного дождика, — даже запахло хвоей, и это чувство было настолько реальным, что Максим сел на кровати, осматриваясь. Но в окно заглядывали ветви яблони с зелеными еще плодами, за домом проехал тяжелый грузовик, а с первого этажа донесся высокий голос Иванны, что-то требовавшей от Юрия. Максим глянул на часы: до назначенного Иванной времени осталось минут сорок, и нужно торопиться. Надел белую льняную рубашку, примерил галстук-бабочку, немного подумал и заменил обычным: бабочка придала бы какую-то претенциозность, а ему хотелось сегодня вечером ничем не выделяться — ведь Юрий сказал, что должен быть Джек Лодзен, один из руководителей «Свободы», и от того, какое впечатление произведет Максим на него, будет зависеть очень многое. Иванна и Юрий, оба в клеенчатых фартуках, находились в гостиной. Максим ожидал увидеть раздвинутый стол, заставленный посудой и едой — обычное украинское и русское застолье, когда глаза разбегаются и не знаешь, что сначала съесть: студень, заливную рыбу, салат, балык или буженину, не говоря уже о соленых огурцах, колбасе, маринованных грибах, а тут на столе стояли тарелки с маленькими бутербродами — и все. Бутылок, правда, было много, и разных, таких напитков Максим и не видывал, но все эти джины и виски нужно чем-то закусывать!.. Так и не решив для себя эту проблему, Максим громко кашлянул. Иванна обернулась, смерила его оценивающим взглядом, осталась довольна и спросила: — Костюм купили в Канаде? — Сшил в Киеве. Остановилась и рассмотрела Максима внимательнее. — Неплохой портной, — сказала наконец. — И вы позволяли себе носить не готовую одежду? — У меня такой рост... — Но это же очень дорого! — Мой бюджет выдерживал. — Удивительно. Даже Юрий покупает готовые костюмы, вот только вечерний... — Вдруг захлопотала: — Переодевайся, милый, уже все готово. — Она с гордостью осмотрела тарелки с бутербродами и приказала: — Маслины, принеси еще маслин из холодильника. Юрий принес маслины и ушел, а Иванна сняла фартук — она, оказывается, уже оделась, была в вечернем платье с полуоголенной спиной. Раньше Максим видел такие платья на женщинах только в заграничных фильмах, иногда — на эстрадных артистках, но вот так близко — никогда. В глазах у Иванны заиграли игривые чертики, она сразу поняла, что понравилась Максиму, наверно, это тешит всех женщин на свете, без исключения, вот и повернулась нарочно так, чтобы этот долговязый и совсем еще непонятный для нее молодой человек хорошо видел все линии ее тела, не без удовлетворения замечая признаки смущения на его лице. Хорошо знала: если смущается, она не безразлична ему, и почему-то именно это — не быть безразличной — имело значение, может быть, потому, что в ее доме это был первый человек из далекого и непонятного Востока, где родились ее отец и мать, ведь край тот считался и ее родиной, а может быть, все значительно проще: ей самой понравился этот юноша с широко поставленными, немного удивленными и пытливыми глазами? Еще вчера одна мысль о его присутствии в их доме вызывала подсознательное сопротивление, а теперь, лукаво взглянув на Максима, Иванна направилась, покачивая бедрами, к радиоле и поставила пластинку с записями оркестра Поля Мориа — серебристую прозрачную музыку, которая всегда возбуждала ее и навевала какие-то неясные желания. Музыка и в самом деле полилась серебристая. Иванна взяла два бокала и налила что-то золотистое, подала один Максиму и предложила: — Я хочу выпить за вас и за то, чтобы все пошло хорошо! — Отпила, сверкнула глазами и добавила: — Мне приятно быть с вами... — Никогда не предполагал, что у меня есть такая очаровательная родственница, — вполне искренне ответил Максим. — Видел вашу фотографию у Юрия, но действительность!.. Искусство всегда старается сделать человека лучше, но здесь тот счастливый случай, когда все наоборот. — Вот и обменялись комплиментами. — Она допила виски и поставила бокал. — Надеюсь, мы будем друзьями. Сказав это, Иванна посмотрела на Максима сухо и настороженно, и он удивился стремительным метаморфозам, которые происходили с этой женщиной: казалось, оттаяла и потянулась к нему с открытой душой, а через минуту или даже меньше мгновенно замкнулась как в скорлупе и будто погрозила оттуда пальчиком с длинным отполированным ногтем. А оркестр Поля Мориа звенел серебром, возбуждал, скоро должны были прийти гости, и Максим почувствовал себя немного тревожно, как всегда перед неизвестностью, тем более что сегодня ему придется держать экзамен. Джек Лодзен! Рутковский уже слышал эту фамилию, видел даже портрет Лодзена, сделанный, правда, с не очень качественной любительской фотографии: Джек Лодзен среди других работников радиостанции «Свобода» — улыбающийся, самодовольный, наглый. Полковник разведки — с ним шутить нельзя, и от сегодняшнего вечера зависит очень и очень многое, если не все. Максим вспомнил Игоря Михайловича, его проницательные глаза, высокий лоб, привычку потирать тыльной стороной ладони раздвоенный подбородок. Они с Игорем Михайловичем работали целый год, и кажется, нет таких вопросов, на которые бы он, Максим Рутковский, не смог ответить. Однако он знает также (Игорь Михайлович акцентировал на этом), что в Мюнхене могут возникнуть совершенно непредсказуемые ситуации и ко всему нужно быть готовым, и от его, Максима, реакции, остроты мышления, собранности и воли будет зависеть успех задуманного дела. Зазвенел звонок. Иванна выглянула в окно, всплеснула руками и крикнула радостно: — Стефания приехала! Это чудесно, что она — первая, и я уверена, Максим, Стефа понравится вам. Иванна впервые назвала Рутковского по имени, это могло ничего не означать, но все же понравилось Максиму: он также выглянул в окно и увидел около виллы потрепанный синий «фольксваген», а возле калитки белокурую девушку. — Ворота, откройте ей ворота, — скомандовала Иванна. Иванна подтолкнула Максима к дверям, и он послушно пошел открывать ворота — и не только потому, что этого требовала Иванна, блондинка из «фольксвагена» сразу понравилась ему — высокая, тоненькая и красивая, в зеленом платье, и рука, которой она нетерпеливо нажимала на звонок, была также длинной и тонкой. Увидев Максима на крыльце, Стефания уставилась на него заинтересованно. Смотрела, как направляется к воротам, как открывает их. Молча повернулась к машине, подогнала вплотную к дверям гаража, вышла и подождала, пока Максим закроет ворота. Сама подошла к нему, подала руку и посмотрела в глаза. — Стефания Луцкая, — представилась. — А вы Рутковский? Лучше, чем я представляла себе. Максим пожал плечами. Он никак не мог определить, какого цвета у нее глаза, сначала показались зеленоватыми, но, вероятно, это цвет платья отразился в них — обожгла глубокой голубизной. Синие глаза, белокурые длинные волосы до плеч, он думал — крашеные, оказалось — совсем натуральная блондинка, вся какая-то словно удлиненная, немного резковатая в движениях и слишком энергичная — вон как уверенно поднимается по ступенькам, совсем по-мужски. Вдруг Стефания обернулась, перехватила взгляд Максима, вероятно, прочитала в нем что-то приятное для себя, улыбнулась чуть заметно, лишь уголками губ, улыбнулась впервые, и Рутковский еще раз убедился, что улыбка красит каждого, тем более такую девушку. Гости начали съезжаться сразу. Немцев среди них, как успел заметить Рутковский, не было. Супруги Сеньковы — приблизительно ровесники Сенишиных и, судя по всему, их приятели, потом седой дед лет семидесяти с маленькой и худенькой бабусей. Юрий почему-то не назвал их фамилию, представив только как пана Андрея и пани Юлию, давних друзей отца. Еще какая-то пара среднего возраста, которая сразу же занялась бутылками и бутербродами. Пан Андрей увлек Максима в угол и, поблескивая выцветшими от старости глазами, начал расспрашивать о Львове. Оказывается, он учился во львовской гимназии, а сам родом из Бучача, на Тернопольщине. Хорошая была гимназия, в начале улицы Зеленой — говорят, позакрывали гимназии, учат всех в средних школах, всех без исключения, а разве это правильно? Когда-то в гимназию не пускали голытьбу, и он, пан Андрей, глубоко уверен, что образование должны получать избранные. Для чего учить детей бедняков, пускай работают — достаточно, чтобы умели немного считать и расписываться, элементарное начальное образование, и никто не смеет возражать. Характер пана Андрея хорошо знали в доме Сенишиных — фактически его совсем не интересовал Львов, просто нашел свежего человека, которому мог поведать сокровеннейшие и, конечно, значительные мысли. Пан Андрей размахивал руками и брызгал слюной, он напоминал старого облезлого кота, и на самом деле, глаза у него были круглые, зеленые и прозрачные, совсем кошачьи, и усы были кошачьи, казалось, сейчас выгнет спину и зашипит сердито, как кот на собачку, которая осмелилась нарушить его покой. Но когда подошедший Юрий Сенишин решительно перехватил его руку, сразу сник. Улыбнулся угодливо, отступил, извиняясь, и попросил разрешения встретиться еще раз: ему позарез нужно поговорить с человеком, который недавно видел Львов, боже мой, говорят, большевики загадили этот чудесный город: грязь, канализация не работает, людям нечего есть. — Совсем сошел с ума, — недовольно проворчал Юрий себе под нос, — и принимаем их ради пани Юлии, она нянчила Иванну, а так бы... Жизнь, правда, не удалась, бедствует, бегает где-то курьером, но что поделаешь? Вдруг Юрий легонько сжал локоть Максима: в дверях гостиной появился человек в темном костюме, худой, нос с горбинкой, лоб высокий, улыбающийся и самоуверенный, держался свободно и непринужденно, очевидно, привык к вниманию окружающих. — Пан Лодзен, — представил его Максиму Юрий. Несмотря на то, что Лодзен был высокий и, видно, привык смотреть на людей сверху вниз не только в переносном смысле, ему пришлось поднимать на Рутковского глаза — Максим оказался на полголовы выше. Видимо, это понравилось Лодзену — он хлопнул Рутковского по плечу и сказал грубовато: — Хорош парень, не ожидал, что увижу такого. Он говорил по-украински. Для Максима это не было неожиданностью. Игорь Михайлович предупреждал, что Лодзен владеет украинским языком, но полковник говорил совсем без акцента, собственно, так, как разговаривают на западе Украины. — Очень приятно услышать это именно от вас, — Максим решил не играть с Лодзеном в прятки, — Юрий сказал, что вы будете решать мою судьбу. — Не совсем так, но в принципе информация правильная. — Тогда мне еще больше хочется понравиться вам. — Первое впечатление положительное, — растянул Лодзен губы в улыбке, но морщинка над переносицей не разгладилась, и глаза совсем не улыбались. — Выпьем? Я — виски, а вы? — Попробую так же. — Вот-вот, — похвалил Лодзен, — от водки придется отвыкать. Не везде бывает, и дороговато. Он налил по полбокала, бросил лед себе и Максиму и потянул его к дивану в углу гостиной. Отпил виски, спросил: — Итак, хотите к нам? — Собственно, меня ориентировал на это Юрий. Однако, если существуют какие-то сложности, надеюсь... — Интересно, на что же вы надеетесь? — Я знаю английский, немного немецкий. И у меня вышла книжка... — Читал... — Лодзен скептически стиснул губы. — Думаете, что сможете издаваться? — Неужели в Германии нет почитателей литературы? — На собственные деньги! — поднял палец Лодзен. — Пока у вас нет имени, издаваться можете только на собственные деньги. Если есть деньги. — Откуда же у меня деньги?.. — Нужно заработать. — Я не привык бездельничать. — Это хорошо, бездельников не держим. Но главное: нужны свои люди, и то, что вы родственник Сенишиных, — не последнее дело. Правда, говорят,ваш отец был красным полковником? Рутковского такой вопрос не застал врасплох. — В войну командовал дивизией, — подтвердил. — Жаль, я не помню отца: в пятьдесят первом его арестовали, когда мне исполнилось только два года. Так и не пришлось увидеться... — За что? — Лодзен внимательно посмотрел на Максима. — За что арестовали отца? — Ложное обвинение... — Максим замолчал: он знал, что на отца донес его подчиненный, подлая душонка, бездарь, которому полковник Рутковский мешал делать карьеру. Некоторое время спустя отца посмертно реабилитировали, но особенно акцентировать на этом не было смысла. — Правда, потом мать получила документы по реабилитации, но кому от этого легче? Отцу? Мне? Разве можно простить? Лодзен оживился. — И не прощайте! — Отхлебнул виски, посмотрел на Максима испытующе. Спросил: — Кажется, закончили факультет журналистики? — Да. — На что же вы надеялись? — В каком смысле? — Вся пресса на Украине под контролем коммунистов, а вы, допустим, их ненавидите... — Вот вы о чем! Честно говоря, когда поступал в университет, об этом не думал, ну а потом... Знаете, как бывает?.. В газету не пошел, работал в издательстве, редактировал книги, сам писал понемногу. Лирические новеллы, рассказы. Подальше от политики. — У нас это не пройдет. — Да, у вас — передний край. — И требуемактивных штыков. — Не знаю, смогу ли. — Вот и я не знаю. К слову, из университета вы сразу пошли в издательство? — Имел назначение в районную газету, но удалось открутиться. Немного был без работы, пока устраивался. — Как попали в туристическую группу? Ведь всех проверяют! — Не думаю. — Вас могли не пустить: сын репрессированного. — Отца реабилитировали. — Все равно, таким не верят. — Видите, поверили... — Рутковский иронически улыбнулся. — На свою голову. Представляю, какая сейчас там паника! В издательстве только и разговоров обо мне. Ругаются, предают анафеме. — Что такое анафема? — О-о, самое сильное церковное проклятие. — Вас проклинают в церкви? Рутковский засмеялся. — Образно выражаясь. — Вы верите в бога? — Это имеет значение для моей карьеры? — Не думаю. — Тогда нет. — А если бы имело? — Спрашиваете, будто духовник. — А я и есть теперь ваш духовник. — Лодзен вдруг, наклонясь к уху Максима, прошептал: — Все ваши грехи мне известны, и можете покаяться, пока не поздно. — Грешен, святой отец! — шутливо сложил ладони Максим. — И прошу помилования. Но Лодзен не принял шутливого тона. Оборвал Рутковского, поглядев жестко: куда подевалась его внешняя простоватость, глаза потемнели и сверлили Максима. — У вас еще есть время, — начал тихо, — да, есть время открыться и сказать, от чьего имени ведете игру. «А ты, голубчик, не такой уж и умный, — подумал Рутковский. — Прямолинейно действуешь». В конце концов, это было на руку Максиму, и он знал, как поступить. — Считаете, меня завербовали? — спросил, глядя прямо в глаза Лодзену. — Не считаю, а знаю. — Рад за ваших информаторов. — Да, наши службы еще умеют работать. — Неужели вы думаете, что, если бы меня в самом деле завербовали, я бы так просто и сразу признался вам? — Я же сказал: мы знаем все. — Глупости какие-то! — повысил голос Рутковский. — Простите, но вы говорите ерунду. Я мог послать Юру к черту сразу, понимаете, сразу, когда он приехал ко мне в Киев, побежать в госбезопасность, заявить, поднять шум. А я тут же согласился на его предложение — думаю, это вам известно? — Если бы не было известно, черта с два разговаривали бы с вами. Но почему вы тянули целый год? На это у Максима давно был заготовлен ответ. — А говорите, хорошо проинформированы, — усмехнулся. — Вроде ехал я из Киева в Житомир... Во-первых, известна ли вам цена путевки в Канаду? Возможно, знаете также, сколько получает редактор издательства?.. Дальше, пока эту путевку достанешь — спрос, к сожалению, и здесь превышает предложение. Наконец, пан Лодзен, я не набиваюсь к вам, тем более что, честно говоря, стиль работы ваших работников очень прямолинеен и не совсем импонирует мне, думаю, что слушателям тоже. — Ого! — Лодзен поставил бокал. — И что же вас не устраивает? — А то, что многие ваши комментаторы ни черта не понимают в советской действительности. — Максим решил идти ва-банк: кстати, они с Игорем Михайловичем предвидели и такой вариант. — Отстали и действуют пещерными методами, не учитывая перемен, которые происходят на Украине ежедневно. Поймите, ежедневно, и я не боюсь этого слова. Кому нужны сейчас ваши фашистские лозунги? Над вами только смеются... — Прошу не забываться! — вдруг покраснев, повысил голос Лодзен. Луцкая, которая сидела рядом, удивленно оглянулась на него, но полковник и без того понял, что допустил ошибку. Поднял бокал, посмотрел сквозь него на свет, сказал спокойно: — Смеются, говорите? А над чем, будьте добры уточнить. — Я же говорю, над фашистскими лозунгами. А сейчас нужно действовать, если хотите, изысканно и тонко. Ох уж эта прямолинейность, есть тысяча способов... Играть нужно, пан Лодзен, играть на человеческих чувствах, какая польза от брани? — Э-э, — возразил Лодзен, — это не совсем так. Пусть строят передачи на чем хотят, на фашизме, на черте и дьяволе, лишь бы против коммунизма. Хотя, — отставил бокал, — рациональное зерно в ваших словах есть и это необходимо обдумать. А сегодня хватит о делах, будет еще время поговорить о них, выпьем, мой молодой друг, давайте выпьем коньяку, у пана Юрия бывают хорошие коньяки, и этим следует воспользоваться. Лодзен обнял Максима за талию и повел к столику с напитками. Юрий заметил это сразу, хоть и притворялся, что целиком занят разговором со степенным мужчиной в безукоризненно сшитом вечернем костюме. Положил гостю руку на плечо, указал глазами на Лодзена — они также подошли к столику. Видно, Лодзен знал важного мужчину — пожимая ему руку, спросил: — Пан все еще работает на ниве народного просвещения? — Это, если хотите знать, мое призвание. — Не мог бы пан подготовить цикл лекций из истории Украины для нашего радио? — Буду считать это большой честью. — Тогда очень прошу позвонить по телефону на следующей неделе пану Кочмару, я предварительно договорюсь с ним. Важный мужчина расцвел в угодливой улыбке — видно, просьба Лодзена имела для него большое значение. Подняв бокал, начал с воодушевлением: — Прошу выпить за глубокоуважаемого пана Лодзена, нашего кормильца... — Минуточку, — решительно перебил его полковник, — минуточку, я хочу выпить за нашего молодого друга, который не остановился ни перед чем, чтобы очутиться в цивилизованном мире, — ради него мы собрались тут, и я приветствую пана Максима Рутковского! Юрий еле заметно толкнул Максима в бок, дав понять, насколько важен для него тост Лодзена. Рутковский и сам догадался об этом, поклонился полковнику и ответил: — Для меня сегодняшний день как сон, господа, ей-богу, иногда кажется, что сплю и не могу до конца осмыслить реальность. — Привыкнете, — заверил важный пан, — человек быстро ко всему привыкает, особенно к хорошему. И я завидую, что у вас все еще впереди. — Он чокнулся с Максимом — холеный, элегантный, уверенный в своей значимости. Обернулся к Сенишину: — Прошу представить меня брату. — О, боже, извините, совсем упустил из виду. Пожалуйста, Максим, познакомься с нашим выдающимся культурным деятелем паном профессором Данилом Робаком, автором многочисленных исторических трудов, надеюсь, ты слышал о нем? Рутковский поднял глаза на пана Данила. Смерил его взглядом с головы до ног. Робак, поняв это как проявление признания и уважения, подбадривающе улыбнулся. — Мне очень приятно, — сказал. Максим отступил на шаг. — Я слышал о пане Даниле Робаке, — ответил. Действительно, он не только слышал о нем, а и видел документы, читал показания про кровавый дебош банды сотника Данила Робака на Дрогобыщине летом сорок пятого года. И вот он стоит перед Максимом с бокалом в холеной руке, улыбаясь, ожидая похвалы от Максима, — пан профессор, палач и убийца. Тебе бы стоять сейчас перед судом, или лучше вывести тебя на площадь около церкви в Галаганах, посмотрели бы на тебя жены замученных, разорвали бы на куски пана выдающегося культурного деятеля в безупречно сшитом вечернем костюме. Максим отпил глоток коньяка, все еще не сводя глаз с Робака. Тот выпил также и что-то спросил у него: Рутковский видел, как шевелятся у пана профессора губы, однако не слышал ни слова — так ясно представил ту ночь в сорок пятом... Экскурс в прошлое. Село лежало под горой, в окружении леса. Старого елового леса, через который и зверю тяжело пробраться. Но Робак знал тут каждую тропинку и провел остатки своей сотни над оврагом: лес отступал здесь и можно было идти, экономя силы. Робак хотел украдкой зайти в Галаганы. Давно уже мечтал побывать в родном селе, оно снилось ему ночами, старое прикарпатское село с деревянными крышами, удивительно красивой деревянной церковью и огромными деревянными крестами на погосте. Здесь все делали из дерева, дерево было кормильцем — лоскутки полей виднелись только в долине и на ближайших склонах гор, на них сеяли овес и сажали картофель, этой картошки хватало до рождества, а что же есть потом? Вырезали ложки, делали ковшики, мастерили нехитрую мебель, возили деревянные изделия в местечко или в сам Дрогобыч — как-то перебивались, что ж, если не умирали, то и слава богу. Вот оно лежит наконец под горой, и купол деревянной церкви возвышается посередине. А рядом крыша его дома, почернелая, как и на всех избах, — нет хозяина, отец не допустил бы этого. Он, хотя и считался духовным пастырем, никогда не забывал о мирских делах, и дом его всегда был полною чашей. Робак заскрежетал зубами, вспомнив отца. Отца Ерему арестовали перед войной за антисоветскую пропаганду. Слава богу, не докопались еще до тайника с оружием на погосте. Про этот тайник знали только отец и он, Данила. Сотник воспользовался им, когда пришли гитлеровцы, и Беркут, он же Данила Робак, поднял своих дружков на вооруженную борьбу. Бороться, собственно, было не с кем. Немцы дали его воякам дополнительно несколько автоматов и патронов к ним, карабины и ручной пулемет откопали на погосте — можно было бы и гульнуть, да где гульнешь, когда вокруг лес и бедность? И все же Беркут нашел выход. В тридцати километрах лежало в долине богатое польское село, они ворвались в него ночью, подожгли со всех сторон, стреляли и стреляли, наверное, потратили половину патронов, но и мало кто из селян остался живой. В этом селе сотник Беркут обзавелся бричкой. Возвращался на ней домой — двое гнедых коней, реквизированных у польского трактирщика, не бежали, играли, таких коней в Галаганах и не видели. Даже отец, которого выпустили гитлеровцы из тюрьмы, расплылся в улыбке и сбежал с высокого крыльца, чтобы похлопать гнедого по крутой шее. Сотник Беркут в тот день был щедр: подарил отцу и бричку, и коней, пусть ездит старик — будто знал, что отцу осталось жить всего несколько месяцев: любил поесть, наверстывал упущенное в тюрьме, совсем расплылся за год и однажды утром не проснулся — слава богу, умер легко и тихо. Сын устроил шумные похороны с колокольным звоном, поминками, стрельбой над могилой отца. А потом велел запрячь подаренных коней и подаренную бричку и повел сотню на другое село. Когда это было и было ли вообще? Райские времена, когда гитлеровцы смотрели сквозь пальцы на бандеровские бесчинства, — что ни говори, а с немцами можно было жить, приходилось, правда, кланяться, что ж, такова жизнь, не тому, так другому — все равно поклонишься. Но и ты хозяин, делай в своем приходе все что хочешь, только бы в главном слушался и, как верный пес, не рычал на хозяина. А теперь? От сотни осталось семеро, правда, сотней она всегда только звалась, в лучшие времена насчитывала полсотни вояк, однако — семеро... И еще не известно, как им придется. На всех дорогах заставы, черт бы их побрал, в селах самооборона — ястребки проклятые, куда ни ткнешься, стреляют — и в кого стреляют, в своих же освободителей! Им же добра хотят, а они, скоты, разве могут понять это? Вчера вошли в Быстрицу, село в двадцати пяти километрах отсюда. Хорошее село, богатое, со сберкассой и магазином. Перебили ястребков, взяли и магазин, и сберкассу, оказалось пятьдесят с гаком тысяч рублей — не так уж и много. Однако кто-то успел позвонить по телефону из школы или сельсовета в райцентр, и, когда сотня отходила из села, ее встретил отряд энкавэдистов: чуть не окружили, из шестнадцати человек осталось семеро, и то счастье, что ноги унесли. После стычки расположились на поляне между елей, один встал на страже, другие положили оружие, мешки и рюкзаки, — легли на траву отдыхать. Беркут снял яловые сапоги, подвернул штаны, сел на берег ручья, опустив босые ноги в прозрачную воду. Горная вода приятно холодила натруженные ноги, чувствовал, как возвращается бодрость, а с нею и острота мышления, притупленная утомительным переходом. Сидел и думал: вот сейчас погуляет в родном селе — и хватит. Хватит с него стычек с энкавэдистами и ястребками, пока есть еще возможность, нужно отходить, прорываться на Бескиды и дальше, к американцам или англичанам. Гитлеровцев уже нет, нужно искать нового защитника и хозяина, а кто на свете богаче, чем американцы? Прорываться на запад Беркут решил окончательно. Еще идет война, правда, где-то на далеком Востоке, а их вот как прижали, что же будет, когда большевики совсем развяжут себе руки? Дураков нет, пусть кто-то подставляет башку, а у него голова умнее, чем у других: пять лет был студентом во Львовском университете, за такую голову кто-то еще хорошо заплатит. Беркут вытер ноги и аккуратно обулся. Сделал несколько шагов, пробуя, как сидят сапоги. Всегда следил за обувью и учил других, не дай бог стереть ноги. Сейчас в ногах их спасение — никто не знает, сколько придется идти без отдыха. Может, и в Галаганах засада? Вряд ли, однако нужно предусмотреть все, и на то он сотник, чтобы взвесить хотя бы несколько предстоящих ходов. Позвал одного из подчиненных. — Видишь, Петр, от церкви третья крыша справа? Пойдешь туда, только огородами, прошу тебя, незаметно — вон тропинка вдоль ручья, а потом налево поворачивает, видишь? — Вижу, друг сотник. — Ты разумный, Петр, я на тебя полагаюсь. Доберешься к дому, выжди, прошу тебя, осмотрись хорошо, а потом найди хозяина: пан Василий Яремкив — сам седой, а брови черные и густые. Расспросишь его, как с ястребками и про засады. Если может, пусть придет сюда с тобой, так и скажешь: Беркут приказал. Петр поправил на груди «шмайсер». — Сделаем, друг сотник, — ответил твердо. — А если хозяина нет? — Хозяйку расспроси. Скажешь, от пана Данила привет, и не задерживайся, прошу тебя, дело еще нужно делать. — Дело, говорите? — захохотал Петр злорадно. — Дело сделаем, ночь вся впереди, друг сотник, и кто нам помешает? — А чтоб никто не помешал, иди, Петр, и разыщи пана Яремкива, понятно? Смотрел, как юркнул Петр в кусты — будто уж или ящерица, ветка не шелохнулась. Умный и ловкий хлопец этот Петр, а главное — отступать ему некуда. Был в дивизии СС «Галичина», потом все время у него в отряде, только вчера в Быстрице уложил двух активистов, полоснул из автомата — и нет. У него с большевиками свои счеты: имел под Дубно два десятка моргов[31] земли, и какой земли, коней, скот, и все это — корове под хвост. Ему колхоз — смерть, и он сражался за свою землю, своих коней, свою усадьбу. Хлопцы разложили на грязноватом полотенце хлеб, сало и лук, огурцы и две банки консервов, позвали пана сотника ужинать. Кто-то потряс флягой, явно намекая, но Беркут запретил: мол, зайдем в село, разберемся в ситуации — тогда можно, пей и гуляй досыта, а теперь дудки, на этом держимся, вот отряд куренного Лысого как пропал? Напились хлопцы самогонки, и море им по колено, пошли в село, а там их уже ждали, перебили, как куропаток, и Лысого скосили первым. Ели сосредоточенно, не торопясь, куда торопиться: пока стемнеет, пока все успокоится. Поевши, легли спать: все, даже часовой, так распорядился сотник — все равно должны дождаться Петра, — и сам встал на пост. Всматривался в тропинку над ручьем, но ничего не видел. Правда, начало темнеть и длинные тени перерезали луга и огороды, потом солнце как-то сразу нырнуло за гору, сделалось темно и холодно, как бывает только в горах: днем жарко, а ночью надевай шубу. Беркут натянул ватную телогрейку. Тревога лежала на сердце. Что-то задерживался Петр, неужели попал в беду? Навряд ли: ловкий вояка, его голыми руками не возьмешь, а то поднялась бы стрельба... Тихо, и какая-то ночная птица чирикает... Снова чирикнула совсем близко. Тень мелькнула в кустах над ручьем, и только тогда Беркут догадался, что чирикает совсем не птица: это Петр подает сигнал, чтоб вдруг свои не подстрелили. Перескочив через ручей — вот это хлопец, даже поднимаясь в гору, не запыхался, — увидел сотника и придвинулся, сверкнув глазами. — Порядок, — выдохнул возбужденно, — на все село два ястребка с карабинами и председатель сельсовета наган имеет. — То-то хитро сработал! — обрадовался Беркут. — А председателем Григорий Трофимчук? — Он, шкуродер проклятый, и сейчас дома. — Пойдем к нему вдвоем, — решил Беркут, — позабавимся с тобой. Хлопцы к ястребкам подадутся, а мы к пану товарищу Трофимчуку. У меня на него давно руки чешутся. А почему Яремкив не появился? — Говорит, болен. — Не врет? — Да врет, свинья. Перетрусил. — Сегодня мы, завтра энкавэдисты... Я его понимаю. — Впервые слышу от вас, друг сотник... Вроде одобряете! — Нет, Петр, объективно оцениваю ситуацию. — Я бы тому Яремкиву кнутом... — На всех не хватит. Иди, Петр, ужинай и ложись спать. Совсем близко крикнул филин. Хорошая птица, сильная и отважная, и все ночное ее боится. Беркут прислонился к стволу какого-то дерева, слился с ним, чуть ли не обнял: невидимый, неслышный, как лесная тень. Вслушивался в журчание воды, в ночные шорохи, вдруг донесся далекий лай собак. Почему-то сделалось больно: люди живут в теплых хатах, сейчас ужинают, а он, как загнанный волк, вслушивается в ночную тишину. Погладил теплую рукоятку автомата. Надежное оружие, привык к нему. Да скорее бы расстаться с ним. Кто носит оружие, от пули и гибнет, а для чего погибать ему, молодому, умному? Филин прокричал совсем близко. Собаки в селе замолчали — Беркут подождал еще час и разбудил хлопцев. Яремкив ждал их во дворе под амбаром. Придвинулся к Беркуту совсем близко, рассматривая. — Возмужал, сынок, — похвалил наконец. Данила засмеялся тихо. Они не виделись год или немного больше, а пан Яремкив совсем постарел. В конце концов, от чего молодеть? Имел в селе лавку, и половина земли принадлежала ему. Нет теперь ничего, конечно, поседеешь... — Рад видеть вас, — сказал совсем искренне, так как действительно симпатизировал Яремкиву: его уважал отец, а отец с голытьбой и батраками не знался, общался с людьми уважаемыми и зажиточными. Яремкив не стал тратить время на болтовню. — Иди к Григорию, — то ли попросил, то ли приказал, — не забыл где? А я твоих хлопцев с ястребками познакомлю. — Приятного знакомства! — тихо хохотнул Беркут. — Только без лишнего шума, прошу вас, теперь нам реклама вроде не нужна. Беркут двинулся на улицу не оглядываясь, знал, что Петр не отстанет, и правда, чувствовал на затылке его дыхание. Они продвигались под забором узкой тропинкой, протоптанной в спорыше, и Беркут на всякий случай считал избы: четвертая за углом Григория, он и так узнал бы ее, там груша во дворе, еще старый Трофимчук сажал, и очень разрослась. Вдруг услышал за спиной шаги: кто-то догонял их, тяжело дыша. Беркут дернул Петра за руку, спрятался в тени дерева, выставив автомат. В лунном сиянии увидел — женщина. Беркут преградил ей дорогу. — Кто такая? — наставил оружие. — Не узнаешь, Данилка? — Тетка Мария? — Ну же. — Чего ночью шатаетесь? — Вы что, сдурели? У того ж Григория пистолет, а если стрельнет! — Нам его пистолет до одного места! — погладил автомат Петр. — Шуму наделаете. — Ну и пусть! Тетка немного отдышалась. — Жаль мне вас, — сказала. — У того Григория рука твердая и стреляет хорошо. Пойдете со мной. — Вы что надумали? — спросил Беркут. — Мне откроет, а там делайте что хотите. — А этот Григорий, тетушка, вам сала под кожу залил... — засмеялся Петр. — А тебе? — Да и мне. — Вот и посчитаетесь. — Она пошла впереди, неслышная и невидимая — напоминала старую востроглазую и умную сову, что выслеживает жертву. Перед Трофимчуковым двором остановилась, ткнула рукой в дверь. — С двух сторон станьте, — приказала, — а я в окно постучу. Беркут понял ее с полуслова — они с Петром заняли удобную позицию около двери, приготовив оружие, а тетка Мария громко затарабанила в окно. Сначала никто не ответил, постучала еще громче, и только тогда в избе послышался шорох. — Кто? — спросил мужской голос. Беркут обрадовался: значит, Трофимчук дома и никуда не денется. Больше всего боялся, что не застанет, но теперь отлегло от сердца: прижался к стенке, слился с ней — неужели не откроет? — Это я, Мария, открой. — Какая Мария? — Или не узнал: Яремкива. — Что нужно? — Старый помирать собрался, тебя требует. — Что я, поп? — Говорит, сообщить что-то хочет. За окном затихло: видно, Трофимчук задумался. — Приду утром, — ответил наконец. — Может, не доживет... — совсем натурально всхлипнула тетка Мария. — Плохой!.. — И что хочет сообщить? — Если бы знала... К власти, говорит, дело есть, а какое — не ведаю. — Жди, сейчас оденусь. Беркут сжал автомат до боли в пальцах: ловко все выходит, и дай бог здоровья тетке Марии — хитрая, а тот олух уши развесил. Должен бы знать: у старого Яремкива одно дело к власти — стрелять и вешать... Громко загремела щеколда. Петр подал знак сотнику, чтобы не спешил: он был плотней и сильней, чем Беркут, а Григорий Трофимчук тоже слава богу, привык, скотина, ходить за плугом и деревья валить, жилистый, с ним легко не справишься. Дверь со скрипом открылась, Григорий вышел во двор и сразу покачнулся от удара автоматом по голове. Беркут приставил ему дуло «шмайсера» к груди, да напрасно, — Трофимчук тяжело осел на землю. Петр обшарил у него карманы, вытащил наган, бросил в траву. Беркут наклонился над Григорием, слушая, дышит ли, поднял тяжелый взгляд на Петра. — Не перестарался? — укорил. Тот лишь махнул рукой: — Ничего этому бугаю не будет! И правда, Трофимчук пошевелился. — Ну я побежала, — сказала тетка Мария, однако не выдержала, нагнулась и заглянула Трофимчуку в глаза. — Вот так, председатель, пришел и твой час!.. — прошипела и поплелась со двора оглядываясь, совсем не так, как летела сюда, — будто крутилась весь день и смертельно устала. Петр толкнул ногой Трофимчука, тот застонал, сел, поднял глаза, наверное, понял все сразу, потому что сунул руку в карман, ища оружие. — Здравствуйте, пан товарищ! — толкнул его в плечо дулом автомата Беркут. — Не узнаете? — Данила? — Да. — Жаль, — сказал Трофимчук на этот раз совсем спокойно, — жаль... Тебя еще в сороковом должны были посадить, контру проклятую. — Роли поменялись. Трофимчук тяжело поднялся. — Думаешь? — Разве не видно? — Это ты про меня? Но народ не перебьешь. — Вас перебьем, народ за нами пойдет. — А вот тебе! — Трофимчук скрутил дулю, потряс ею под носом у Беркута. — Вы где теперь? Как крысы паршивые прячетесь! Беркут подтолкнул его к дверям. — Пошли, разговор есть... Трофимчук понял все, встал, упираясь, в дверях. — Убивайте! — выдохнул тяжело, — Здесь убивайте, не пущу! Петр сильно ударил его в грудь, Трофимчук зашатался и упал. Беркут переступил через него, зажег спичку, открыл дверь в комнаты. Увидел: жена Трофимчука стоит посередине комнаты в длинной белой рубашке. — Зажги свет! — приказал. — Со свиданием, пани Вера! — Женщина дрожащими руками зажгла керосиновую лампу. Петр толкнул Трофимчука в комнату. Григорий загородил жену, высокий, жилистый. Лампа разгорелась, в комнате сделалось светло. Петр встал в дверях, держа наготове «шмайсер», Беркут сел на лавку возле стены. Свободно вытянул ноги, закурил. Начал не спеша: — Так, пан Григорий, хороший разговор у нас может получиться. Если, конечно, уважаемый пан не возражает. Трофимчук уже знал, что ждет его. Посерел, как-то сразу осунулся. Однако поднял голову и ответил: — Не будет у нас разговора. Стреляй! — А мы не спешим. И сможем поговорить, если станешь на колени и отречешься от Советов. Да хорошо попросишь. — Не быть этому! — Не зарекайся. — Говорю: не быть! — А пан товарищ слишком категоричный. И я б не советовал... — Вот что... — Трофимчук сделал шаг вперед, а Беркут выставил автомат и прижался к стене. — Ты меня не пугай. Я эту власть своими руками, — поднял огромные кулаки, — брал, и мне отрекаться нечего. Поищи слабодушных. Беркут снисходительно покачал головой. — Пани Вера, — сказал так, будто заглянул в гости и просит о незначительной услуге, — а поднимите, прошу я вас, сыночка. Как его, кажется, также Григорием назвали? — Ты что? — выдохнул Трофимчук с ужасом. — Это же дитя! — Петр... — Беркут ткнул дулом автомата в угол, где стояла маленькая кроватка. — Вытащи этого выродка, а то уважаемое общество не понимает... Трофимчук шагнул, чтобы преградить путь к ребенку, однако, сразу поняв всю свою безысходность, протянул к Беркуту руки. — Умоляю, Данила, — попросил, — со мной делай все что хочешь, отпусти сына. Сотник захохотал. — Когда землю мою делили, что тебе передавали? — спросил жестко. — Предупреждали? А ты что? Смеялся... Теперь мой час смеяться, понял, падло проклятое! Петр вынул из кроватки совсем еще маленького черноволосого мальчика — тот зажмурился со сна и прижался к незнакомому дяде, даже обнял его за шею. Петр оторвал его от себя, поднял за воротник рубашки, потряс, и мальчик испуганно закричал. — Щенок бесхвостый! — треснул его по голому заду Петр, ударил, видно, сильно: ребенок захлебнулся от крика. — Что же это такое! — кинулась к нему женщина, но Петр саданул ее тяжелым ботинком в живот. Осела на пол, а бандеровец бросил на нее сына — видно, ребенок потерял сознание от боли и ужаса, так как уже и не кричал. И тогда Трофимчук опустился на колени. — Оставь ребенка, пан Данила! — попросил. — Ну и ну, а ты стал покладистее. А как с властью? Отречешься от Советов? — Нет! — поднялся с колен, отступил к стене, встал, опершись на нее. — Нет, это наша судьба, а от судьбы не отрекаются! — Твоя судьба вот где! — Беркут выкрикнул зло, поднял автомат. — Так не отречешься? — Нет... — выдохнул из последних сил. И тогда Беркут нажал на гашетку. Автомат запрыгал в его руках, выплевывая свинец, он выстрелил в ребенка и женщину, наверное, сразу убил их, продолжал стрелять, глядя не на них, а в ненавистное лицо Григория. Трофимчук бросился на него неожиданно, как будто подстегнутый кнутом, видно, опомнился и понял, что терять все равно нечего, однако не успел: упал, срезанный короткой очередью. Упал возле сына с неловко протянутой к нему рукой. Беркут поднял свой «шмайсер», не оглядываясь двинулся к двери. Долго стоял во дворе, жадно дыша, и никак не мог надышаться. — Ну и голытьба, — вдруг услышал за спиной, — я все осмотрел, нет ничего: ни кольца, ни кожуха хорошего. — Быдло... — подтвердил Беркут. — Поспешили, друг сотник, помучали бы его немного... — Времени нет, зови хлопцев, отходим. — И то правда. — Петр потянулся, хрустнув суставами. — Пойдем на Быстрицу? — На Волю Высоцкую. — На Волю так на Волю... Где-то не очень далеко застрочил автомат. — Хлопцы забавляются... — зевнул Беркут. — Переспим в лесу. — А поужинать? — У пана Яремкива. Сегодня праздник, пусть ставит. Беркут пошел со двора уверенно, держа автомат в правой руке, и ни разу не оглянулся на дом. А он стоял с освещенными окнами, какой-то нарядный среди других, притаившихся в темноте, — филин пролетел над ним и закричал жутко.
А теперь элегантный пан Данила Робак стоял перед Максимом Рутковским, держал бокал из тонкого стекла и что-то говорил. Бывший Беркут... И нынешний! После той кровавой ночи банда Беркута далеко не ушла. Ее перехватили в горах — вырваться удалось только Беркуту и еще одному бандеровцу. Остальные полегли, а раненого Петра задержали и судили. Рутковского ознакомили с его показаниями, потому так зримо и представил ту ночь в Галаганах. «Экскурс в прошлое не без морали...» — почему-то подумал Рутковский, и ему стало жутко. Но именно с такими людьми придется общаться каждый день, больше того, он должен стать «своим» в их обществе. И Рутковский через силу улыбнулся Робаку... К столику с бутылками подошли Иванна с Луцкой, и Рутковский с удовольствием занялся их бокалами. Он налил Стефании джина с тоником. Девушка уже немного выпила, щеки у нее порозовели, на левой, когда улыбалась, появлялась ямочка. Почему не появляется на правой, вероятно, даже сама Стефания не знала, но Максим все же спросил. Конечно, этот вопрос свидетельствовал об его интересе к Луцкой, девушка поняла это сразу и взяла Рутковского под руку. Лодзен оценил жест Стефании по-своему: встал так, чтобы отгородить их от компании, спиной к Робаку. Сказал заговорщицки: — Вы делаете успехи, пан Рутковский. Давно не видел, чтобы кто-нибудь нравился пани Стефании. Девушка убрала руку, однако тут же снова взяла под локоть Максима. Это не могло не импонировать Рутковскому, но он подумал, что вот уже второй раз в течение вечера его стараются как-то приблизить к Луцкой. Что касалось Иванны, тут все было понятно, но для чего это Лодзену? Только потом Максим понял весь тактический замысел полковника — сегодня же на всякий случай активно включился в игру. Чуть прижав локтем руку Стефании, ответил с достоинством: — У пани доброе сердце, и она заботится о земляке, который чувствует себя не совсем в своей тарелке. Луцкая пожала плечами: — Доброе сердце — это слишком большая роскошь. Особенно сейчас. — А что именно пани имеет в виду? — Разочарование человечества. — Тогда вашу воинственность можно извинить. — Разве я виновата? — Пани Стефания буквально излучает женственность, — вмешался Лодзен. Рутковский не совсем был согласен с полковником: глаза Стефании оставались колючими, точнее, не колючими, а какими-то настороженными. Но и он же, наверное, насторожен, не свой в этой компании — для первого раза, видно, сгодится, однако нужно стать совсем своим. Максим знал, что это — одна из самых важных частей его задания: быть таким, как все. Вдруг подумал: насколько бы легче чувствовал себя, если бы мог быть самим собой, если бы мог бросить им в лицо все, что думал, и с каким бы удовольствием увидел гневное и обозленное лицо Лодзена или Робака. Да, именно злость на лице полковника, а не вежливую улыбку и доброжелательность. Он его враг, классовый враг, Максим подумал именно так: классовый враг, не стыдясь некоторой патетичности этой мысли, — может, именно впервые так уверенно почувствовал глубину смысла, заложенного в это определение. Да, он — классовый враг, непримиримый враг до конца, враг с доброжелательной улыбкой и проницательными глазами, которые, к счастью, видят не все. — Пан желает с ветчиной или с балыком? — Рутковский не сразу сообразил, что Луцкая обращается к нему. Поняв наконец, взял бутерброд с рыбой, откусил деликатно, но алкоголь пробудил аппетит — прикончил бутерброд и потянулся за другим. Лодзен похвалил: — Ешьте, в доме вашего брата всегда хорошо угощают. Максим едва заметно поморщился, полковник заметил это и среагировал сразу: — Когда-то я работал в Москве и знаю, что такое русское хлебосольство. У каждого народа свои обычаи, и мне неизвестно, что делают ваши хозяйки с остатками еды после праздничных приемов. Мы живем экономнее, ибо знаем цену деньгам. Кстати, играете в бридж? — Какой же в Киеве бридж! Играю немного в преферанс. Рутковский знал, что этот вопрос Лодзена не случайный. По информации, которую имел Центр, Лодзен завсегдатай игральных домов в Бад-Визе и Бад-Рейхенхале — городков вблизи Мюнхена. — А в покер? — К сожалению... Но, надеюсь, восполню этот пробел в моем образовании. — Хотите научиться? Иногда это дорого стоит. — Где найдешь хорошего учителя? — Посмотрим... Пан Юрий, пан профессор... — оглянулся Лодзен. — Может, партию в бридж? Садитесь возле меня, — посоветовал Рутковскому, — начнете учиться. — Пан Лодзен — ас, — сказал Юрий. — Тебе повезло. — Точно, сегодня у меня счастливый день, — согласился Максим. — Дай бог, чтобы не последний! — Он извинился перед Луцкой и последовал за Лодзеном, чувствуя, что пани Стефа не совсем одобрила его решение. Но что сделаешь: Лодзен был козырной картой, а это в положении Максима весило много.
Цвели розы. Их было много, разноцветных больших, они росли вдоль асфальтированных дорожек и отдельными клумбами, вперемежку с другими цветами. Садовники в Энглишер Гартен недаром ели свой хлеб, как, правда, и большинство тех, кто работал на радиостанциях «Свобода» и «Свободная Европа», а трудилось здесь немало — свыше двух тысяч человек. И один из них Максим Рутковский. Да, Максим уже имел пропуск в целлофановой обертке, который подтверждал, что он — штатный сотрудник радио «Свобода», РС, как сокращенно называлась радиостанция. Рутковский шел асфальтированной дорожкой между роз, шел не торопясь, потому что был обеденный перерыв и он успел уже съесть в буфете бифштекс и выпить чашку кофе. Теперь все было позади, по крайней мере Максим считал, что основные трудности позади, потому что попасть в штат РС оказалось не так уж и просто. Рутковского неоднократно допрашивали работники службы охраны станции, приходилось по нескольку раз рассказывать одно и то же, ему ставили неожиданные вопросы, стараясь запутать, но Максим хорошо помнил советы Игоря Михайловича: отвечать правду и только правду, кроме того, что делал последний год, после приезда Юрия Сенишина в Киев. Теперь Рутковский мог вполне оценить осторожность и предусмотрительность руководителей Центра, которые готовили его к разведывательной деятельности. Тогда Максим продолжал работать в издательстве, трудился, как все редакторы, не пренебрегая своими обязанностями, записался даже на курсы изучения немецкого языка, хотя посещал их не так уж и часто. Язык, а также все, что требовалось, преподавали ему индивидуально: вождение автомобиля, самбо, микрофотографирование, умение коротко и содержательно писать донесения... Наконец даже работники службы охраны станции уверились в благонадежности Рутковского. Лишь тогда ему предложили поехать в Цирндорф, где находился лагерь для тех, кто оставался в Федеративной Республике Германии и просил права политического убежища. Люди жили там месяцами в грязных казармах, однако новые хозяева Рутковского побеспокоились, чтобы ему не ставили палки в колеса: Максим заполнил несколько анкет и вернулся в Мюнхен. Здесь его принял Лодзен. Сообщил, что с завтрашнего дня может приступить к работе в отделе анализа и исследований украинской редакции радио «Свобода». Рутковский засмотрелся на розы и не заметил, что навстречу идет его коллега по отделу, невзрачный мужчина невысокого роста с носом-пуговкой, пан Сопеляк, который, наверное, для того, чтобы компенсировать изъяны в своей внешности, отпустил большую бороду «под Хемингуэя». Седая борода не очень украшала Сопеляка, однако он старался держаться степенно, даже надменно, по крайней мере с новичками типа Рутковского или с работниками ниже рангом — машинистками и курьерами. Между тем стоило ему узнать, что человек имеет высокого покровителя или ждет повышения, как он резко менял курс. Коллеги посмеивались над Сопеляком, но не открыто, считая его человеком, способным написать донос или напакостить каким-нибудь другим способом. Пан Сопеляк преградил Максиму путь, развел руки, будто собрался обнять, но не обнял: стоял с распростертыми объятиями и сладко улыбался. — Пан Максим уже чуть ли не месяц сотрудничает со мной, — сказал наконец, сложив руки на достаточно заметном животе, — а мы так и не поговорили по-настоящему. Может, пан слышал, что я из Киева? Да, Рутковский слышал. Слышал, что Сопеляк, который до войны успел поучиться в аспирантуре Киевского университета, остался в оккупации и сразу пошел в созданную гестапо грязную газету «Нове українське слово». Верно служил фашистам, удрал вместе с ними, женился в Мюнхене на сотруднице радио «Свобода», бывшей харьковской актрисе, которая играла характерные роли в театре во время оккупации и с первых дней организации РС пошла туда диктором. С того времени много воды утекло, жена Сопеляка пани Ванда стала специальным корреспондентом, а пан Виктор так и засиделся на газетных вырезках. Считал себя обойденным судьбой и начальством, всячески угождал последнему, на этом и держался: Рутковский слышал, что заведующий отделом Кочмар давно хотел освободить Сопеляка за бездарность, но за того вступился сам Лодзен. — Так что слышно в Киеве? — спросил Сопеляк тонким голосом, будто Максим только вчера приехал оттуда и имеет свежие новости. Рутковский развел руками, как будто извинялся за свою неосведомленность, отступил, давая дорогу Сопеляку, однако маленький папа Хэм, как иронично называли Сопеляка коллеги, не двинулся с места, напротив, схватил Максима за пуговицу и, притянув к себе, спросил: — Вы знаете, куда попали? — Догадываюсь. — Нет, вы не знаете, куда попали. Сборище бездарностей. Рутковский отступил на шаг. — Тем не менее я высокого мнения о способностях уважаемого пана. Тот расцвел в улыбке. — Я и говорю, способных людей тут затирают. Лишь моей Ванде удалось как-то продвинуться, но я с ужасом думаю: даже Ванда могла так и остаться диктором. Понимаете, Ванда. — Быть диктором на такой радиостанции и знать, что твой голос знаком многим! Сопеляк замахал руками: — Она и сейчас сама читает свои передачи. Свои, и, кстати, талантливые, а не компиляции из газетных вырезок, которые готовим мы с вами. — Не могу согласиться с уважаемым паном — считаю свою работу весьма полезной. — Начало разговора с Сопеляком напоминало провокацию, но для чего ему провоцировать Рутковского? А если не провокация? Зачем ему изливать душу малознакомому человеку? Вдруг Максим догадался. В буфете с ним поздоровался Лодзен. Полковник уже успел выпить свой кофе, когда Рутковский пришел обедать, он подошел к столу Максима, присел на минутку, поинтересовался делами, будто сам не знал о них, порадовался, что все хорошо, и пошел, вернее, выплыл из буфета, высокомерно подняв голову. И эта встреча не прошла мимо глаз Сопеляка. Рутковский напряг память и вспомнил: да, чета Сопеляков за столиком под окном. Все сразу встало на свои места: Сопеляк на всякий случай ищет поддержки у молодого и перспективного работника, с которым на короткой ноге сам Лодзен. Правда, Сопеляк предложил: — Мы с женой так бы хотели услышать что-нибудь о Киеве. Родной город, знаете, и в последний раз я видел его разрушенным... Пан занят сегодня вечером? Рутковский быстро прикинул: и такое знакомство может быть полезным. Завязывать как можно больше знакомств ему советовали в Центре. Конечно, к каждому из новых знакомых нужно относиться критично, с каждым играть новую роль, но и они играют, насколько Максим успел заметить, здесь никто почти никогда не разговаривал откровенно, никто не был собой, почему же он должен быть белой вороной? — Вообще я собирался в кино, — начал на всякий случай уклончиво, — однако если пан имеет предложение интереснее?.. — Скромный ужин в ресторане, — расцвел тот в улыбке. — Мы с Вандой приглашаем вас в «Золотой петух», пристойное заведение, и готовят неплохо. За наш счет, прошу вас: немного спиртного и скромный ужин. Рутковский в душе послал Сопеляка туда, где ему и полагалось быть. Говорят, что они с Вандой удачно спекульнули на каких-то акциях и имеют солидный счет в банке, а тут пан Виктор дважды за минуту предупредил, что ужин будет скромный — скряга проклятый, кому нужен твой ужин и немного спиртного, но сделай хотя бы хорошую мину при плохой игре. В конце концов, черт с ним. Тут чуть ли не все такие: считают каждую марку, только и разговоров о деньгах, вкладах, процентах. — Хорошо, — согласился, — в кино еще успею. — Так прошу вас в восемь. Кажется, пан еще не имеет машины, мы с Вандой заедем за вами. Сопеляк отступил, освобождая дорогу Рутковскому, оглянулся, смотря ему вслед, и злые огоньки горели в его глазах. А Максим так и не оглянулся. Сразу забыл о Сопеляке, его волновала совсем другая проблема: как добраться к секретным бумагам, что хранятся в сейфах руководителя отдела пана Романа Кочмара и в комнате работников, которые изучали и анализировали сообщения корреспондентов РС и почту, приходившую на станцию? Все это интересовало Центр, а он пока что сидел только над газетными вырезками. «Терпение, — любил повторять Игорь Михайлович, — терпение — наилучшая черта настоящего разведчика. Терпение и выдержка...» А какое может быть терпение, если в соседней комнате, куда он может свободно входить, стоят вдоль стены стальные сейфы с секретными документами? Такие же документы с грифами «особенно ограниченный доступ» и «ограниченный доступ» лежали на столах сотрудников отдела, в них можно было заглянуть, пробежать, вроде случайно, глазами несколько строк, однако Максим не разрешал себе даже этого. Любопытство не поощрялось на станции, на любопытных смотрели с недоверием и в конце концов увольняли, здесь господствовала атмосфера сплошных подозрений и доносов, здесь каждый второй или третий был агентом внутренней службы охраны, и Рутковский не мог не считаться с этим. Всегда помнил, что основное задание, поставленное перед ним Центром, — разоблачение деятельности РС как филиала ЦРУ — требует холодного расчета, выдержки и терпения. Еще в Киеве Рутковский был хорошо проинформирован, что РС занимается не только радиовещанием, хотя, конечно, пропаганда — не последняя цель этого института «холодной войны». Главное задание мюнхенской радиостанции — это сбор шпионской информации против Советского Союза и братских социалистических стран, она также исполняет функции руководящего центра эмигрантских организаций, координируя их деятельность против стран социалистического содружества.
Документальное подтверждение:
«Основной целью радиостанции является формирование мышления и направление воли народов Советского Союза на необходимость ликвидации коммунистического режима. Ни одна радиостанция, работающая от имени или под видом американской, этого сделать не может. Преимущество «Свободы» в том, что, работая под видом эмигрантской, она имеет возможность говорить от имени соотечественников, критиковать порядки в СССР и призывать население к антисоветским действиям».(Из выступления представителя Американского комитета радио «Освобождение» Келли.)
«Радио «Свободная Европа» и «Свобода» в мирное время являются единственным средством, с помощью которого удается достичь стратегически важных восточноевропейских стран и воздействовать на них. Сотрудники радиостанций — выходцы из стран Восточной Европы. Ониработают под контролем ответственных лиц из числа американцев».Рутковский знал также, что для руководства РС и РСЕ в 1974 году в конгрессе США был создан Комитет по международному радиовещанию. В октябре 1975 года комитет опубликовал доклад с анализом деятельности радиостанций, где, в частности, сообщалось, что они заостряют свое внимание на сборе информации и анализе положения в Советском Союзе и других социалистических странах, на их «национальных делах». Этим вопросам посвящается до 60 процентов эфирного времени. Такие передачи должны способствовать возникновению «внутреннего диалога», что, наконец, по мнению стратегов психологической войны, означает не что иное, как желание вызвать разлад внутри, который можно сравнить только с победными военными действиями. И этот доклад был опубликован всего лишь через два месяца после подписания в Хельсинки Заключительного акта, где Соединенные Штаты вместе с другими государствами обязались воздерживаться от какого-либо вмешательства, прямого или косвенного, индивидуального или коллективного, во внутренние или внешние дела, входящие во внутреннюю компетенцию другого государства-участника. ...Стол Рутковского в комнате второй справа. Следующий, в двух метрах от него, занимает Степан Карплюк — длинношеий, вечно улыбающийся и вежливый человек, который первым приветствовал Максима и выразил свое удовлетворение от перспективы сотрудничества. Карплюк произнес всю свою тираду серьезно. Рутковский поблагодарил и выразил уверенность, что найдет помощь и поддержку в новом для него, но — он не сомневался в этом ни на секунду — дружном коллективе. Правда, другие сотрудники отдела не проявили особого энтузиазма, наоборот, смотрели с недоверием, но Рутковский решил не замечать их открытой враждебности, держался со всеми приветливо и ровно — через две-три недели эта политика дала свои плоды: некоторые работники начали не только здороваться, но и разговаривать с ним. Не говоря уже о сегодняшнем демарше пана Виктора Сопеляка. Карплюк уже сидел на своем месте. Увидев, что Рутковский начал разбирать бумаги, выдвинул левый ящик стола, что-то переложил там и задвинул снова. Спросил у Максима: — Здесь все говорят, что Лодзен протежирует вам. Это правда? — Мы немного знакомы, — осторожно начал Рутковский. — Я очень благодарен пану Лодзену, он очень помог мне. — Вот это да! — воскликнул Карплюк восторженно и вытянул длинную шею из воротника рубашки. — Пан Лодзен — уникальный человек, и я хотел бы всю жизнь работать под его руководством. Он сказал это так льстиво, будто был уверен, что его слушает сам пан Лодзен, и это вдруг навело Максима на одну мысль... Почему Карплюк, когда работники начинают разговор на служебные темы, выдвигает именно левый ящик письменного стола? Выдвигает и сразу задвигает?.. Рутковский обращал на это внимание несколько раз, но не придавал значения, однако теперь... Слишком уж воодушевленно произнес Карплюк похвалу полковнику Лодзену. Максим промолчал, ожидая, чем все это обернется. Карплюк тоже немного помолчал, почмокал губами, изображая нерешительность, повернулся вместе со стулом к Рутковскому и сказал: — Я вот так думаю... Начальство должно быть ровным со всеми. А что же выходит? Мне трудно упрекнуть пана Кочмара, он очень знающий, и навряд ли кто-то ведет дело лучше, чем он, но для чего мелкие придирки? Пан Кочмар не дает вам ступить и шагу без замечаний, разве ж это правильно? Я знаю мнение некоторых работников — мы хотели обратиться к высшему руководству с просьбой призвать пана Романа к порядку, а может быть, и сделать кое-какие перемещения. И если бы вы тоже поставили свою подпись... Рутковский задумался на несколько секунд. Действительно, Кочмар воспринял его назначение в отдел не совсем доброжелательно. Наверное, на это повлияли какие-то неизвестные Максиму служебные течения, но факт оставался фактом: руководитель отдела где мог, там и ставил Максиму палки в колеса, прочитал целую нотацию за пятиминутное опоздание, делал замечания на каждом шагу. Однако, если даже удалось бы убрать Кочмара, неизвестно, кто придет вместо него. Кроме того, сильные и слабые стороны характера шефа как на ладони, особенно слабые: любит выпить, имеет любовниц, играет в азартные игры и на бирже, правда, не совсем удачно, и потому вечно в долгах. Когда-то, быть может, этим удастся воспользоваться. А если предложение Степана Карплюка — провокация? Если нет никаких сотрудников, решивших выступить против Кочмара? Влипнуть в историю и стать всеобщим посмешищем? Рутковский ответил с достоинством: — Я бы очень просил пана Степана не обращаться ко мне с такими предложениями. Работаю первый месяц, еще плохо разбираюсь в ситуации, однако уверен, что лучшего руководителя, чем пан Кочмар, нам не иметь. Глубоко знает свое дело, а маленькие недоразумения между нами вызваны желанием шефа образцово поставить работу отдела. Максим увидел, как растерялся Карплюк, как застыл с раскрытым ртом — вероятно, не ожидал такого удара. Значит, точно провоцировал, и Рутковский едва не попался на крючок. — Что же, пан Максим, — наконец пришел в себя Карплюк, — мы живем в свободном мире, и каждый поступает так, как подсказывает ему совесть. — Именно это я и хотел сказать, — ответил Рутковский. — Забудем о нашем разговоре. — С большим удовольствием. Обеденный перерыв закончился, и в комнату вошел Сопеляк с диктором Иваном Мартинцем. Карплюк вытащил левый ящик, переложил там бумаги, задвинул и занялся папками, лежавшими на столе. Сопеляк приветливо помахал рукой Максиму, а Рутковский, дождавшись, когда Мартинец вышел из комнаты, выскочил за ним в коридор. Знал, что Кочмар поехал в город, поэтому не отчитает его за пятиминутное отсутствие. — Как себя чувствуешь, Иван? — остановил Мартинца. Ему было известно, что Иван не умеет хранить тайны, обязательно расскажет все, что услышит, первому встречному — на это он и рассчитывал. — Что мне сделается? — ответил Мартинец. — Ни холодно ни жарко... — махнул рукой, как будто пожаловался, и улыбнулся добродушно. Максиму нравился Мартинец. Иван вообще был белой вороной на РС, хотя путь его не отличался от проторенных путей других антисоветчиков: выехал с туристической группой в ФРГ, остался, попросил политического убежища, мыкался в грязных казармах Цирндорфа, пока один из корреспондентов радио «Свобода» не заметил его и не доложил высшему начальству. И вот — второй год он диктором на РС. Стоит, перекачиваясь с носков на пятки, в замшевой куртке с молнией, ярком модном галстуке, американских джинсах, с массивным золотым перстнем на безымянном пальце правой руки — самоуверенный, немного циничный человек, которому повезло. Что-то подсказывало Максиму: с Мартинцем можно быть более или менее откровенным, он не очень вредный и сам умышленно не подложит свинью. Максим спросил прямо: — Слушай, Иван, кто такой Карплюк? — Тебе виднее: рядом сидит... — И все-таки? — Что-то случилось? — Понимаешь, только что он предложил мне подписать какое-то письмо против Кочмара. — А ты? — Отказался. — Молодец. — А если правда все работники... — Пустяки, — возразил Мартинец. — Кочмара вам не свалить. Руководство станции всегда поддерживает начальников, а не подчиненных. — Я ему так и ответил: ценю пана Романа как хорошего руководителя. Мартинец хитро посмотрел на Рутковского. — А у тебя губа не дура. Кстати, отчего к тебе липнет папа Хэм? — Пригласил на ужин. — Не может быть! — Сказал, что они с женой будут рады! Мартинец снисходительно похлопал Рутковского по плечу. — Делаешь успехи, — подтвердил категорично. — Этот бородач имеет какой-то нюх, точнее, его жена. Старая скряга, не потратит ни марки, если точно не будет знать, что это окупится с лихвой. Про ужин уж нечего и говорить: быть тебе, пан Рутковский, на коне. — Так вот почему он предупредил, что приглашает именно на скромный ужин, — захохотал Максим. — Я думал, просто так, из вежливости. — Если еще можешь, откажись, — искренне посоветовал Мартинец. — Лучше поужинаем вместе, я тебя с такими девочками познакомлю. Гретхен и Кетхен, красивые и без предрассудков. Предложение было соблазнительным, однако Рутковский быстро прикинул, каких врагов наживет в лице Сопеляка и его жены, и не принял его. Ровно в восемь Рутковский спустился с пятого этажа своего современного — из бетона и алюминия — дома, где станция дала ему однокомнатную квартиру с кухней и ванной. Все, начиная от мебели и кончая кухонным оборудованием, представляло собственность РС, но второй ключ Максим должен был отдать администрации и уже имел возможность убедиться, что порядок этот заведен недаром. Точно знал, что дважды на протяжении трех недель кто-то побывал у него. Незваные посетители действовали, правда, аккуратно и квалифицированно, но все же наследили: в письменном столе авторучку хоть и положили на блокнот, однако у Максима она кончиком пера касалась заранее намеченной точки в рисунке, теперь же лежала на полпальца выше. Внимательно обследовали посетители и шкаф с бельем, но Рутковский предполагал, что его квартира будет под наблюдением, по крайней мере, первое время, и не держал ничего, что могло бы вызвать подозрения. Старый синий «рено» стоял возле подъезда, и в окошко выглядывал Сопеляк. Пани Ванда сидела за рулем. Она оглянулась на заднее сиденье, куда сел Рутковский, протянула сморщенную руку с перламутровыми ногтями, Максим не без усилия над собой поцеловал ее, и пани Ванда, не сказав ни слова, направила «рено» в вечерний поток автомобилей. Сопеляк начал что-то говорить, но пани Ванда лишь посмотрела на него искоса и приказала: — Ты же знаешь, разговоры мешают мне вести машину. Сопеляк улыбнулся Максиму, и они доехали до ресторана, точнее, какой-то забегаловки на окраине Мюнхена в торжественной тишине. Тут Сопеляков знали, встретил их сам хозяин — типичный баварец, низкий и тучный, с руками как лопаты; провел через зал к удобной кабине, где стоял свободный столик. Ни слова не говоря, пропал, и сразу появился официант с бутылкой шнапса и закусками — видно, Сопеляки по телефону обсудили и меню, правда, не очень щедрое, так как официант поставил на стол лишь салат, селедку и колбасу. — Чудесно, — засуетился Сопеляк, — хорошо гуляем, и я давно не ел так вкусно. Жена лишь глянула на него сурово, и пан Виктор замолчал сразу и, кажется, на весь вечер — налил всем по полрюмки и сложил руки на животе, умильно поглядывая на жену. Пани Ванда поправила кончиками пальцев прическу. Только теперь Максим обнаружил, что была она в темно-русом с проседью парике и, несмотря на морщинистое лицо, игриво выпустила несколько завитков на лоб. Выпятила губы манерно, совсем как восемнадцатилетняя кокетка, и сказала грудным и неожиданно низким голосом: — Нам с Викто́ром, — она назвала имя мужа на французский манер, — очень приятно побывать в обществе молодого и способного друга оттуда... — Вдруг она совсем по-старчески шмыгнула носом и закончила: — Надеемся, что подружимся, по крайней мере мы всегда к вашим услугам. — Да, к вашим услугам, — повторил Сопеляк, чуть ли не благоговейно глядя на жену. Максим поднял бокал, поблагодарил и глотнул дешевого шнапса, который баварцы пьют маленькими рюмками, — водка обожгла ему горло, он съел немного салата и потянулся к селедке. После обеда не ел ничего, надеясь на ужин, однако рассчитывать на что-то капитальное, как оказалось, не следовало. Ну что ж, кто сказал, что селедка и колбаса не настоящая еда? Максим взял несколько кусочков селедки, наполовину опустошил тарелку с колбасой и, увидев кислые лица супругов, понял, что поступил не так, как принято. Но ему сейчас было не до душевных переживаний: селедка оказалась действительно вкусной. Беря пример с Рутковского, активнее взялся за закуски и пан Виктор — в бороде его застряло колечко лука, однако папа Хэм, не обращая внимания на недовольные взгляды жены, выпил еще полрюмки и позволил себе положить несколько ложек салата. Наверное, пани Ванда считала, что еда не облагораживает человека, — она ограничилась кусочком колбасы, отложила вилку и начала разговор, должно быть с заранее приготовленной фразы: — Всегда приятно познакомиться с талантливым человеком, читала ваши рассказы, пан Максим, и они произвели на меня впечатление. Беседовать о своих рассказах Рутковскому не очень хотелось, и он попробовал перевести разговор на другое: — Все мы грешные люди: один пишет рассказы, другой грешит как-то по-своему. Жаль, нет духовников, которые бы отпускали такие грехи. Однако можно наладить выпуск индульгенций... Но пани Ванда не приняла его шутливого тона. Уголки губ у нее опустились, отчего длинноватое лицо стало длиннее, она подергала себя за кончик носа и сказала безапелляционно: — Могу сказать вам правду, пан Максим, ваши произведения достаточно хороши, однако тенденциозны, а вам нужно решительно избавиться от тенденциозности. — Лирические картинки, пейзажные зарисовки... написаны под настроение... — возразил Рутковский. — О-о! — воскликнула Сопеляк. — А под какое настроение?! Вы подумали об этом? — Настроение человека, который размышляет о жизни, хочет понять ее красоту, как-то познать природу. — Вот мы и подошли к сути, — торжественно воскликнула пани Ванда. — Красоту какой жизни хочет понять ваш человек? Той жизни, не нашей, а советской? Кому же это надо? — Да, кому это надо? — повторил Сопеляк. — Существуют человеческие проблемы, для чего подводить под все это политическую базу? — Говоря так, Максим, конечно, кривил душой; он знал, чего хочет от него эта въедливая женщина с лошадиным лицом; в конце концов, она была права в том, что даже его в сущности лирические миниатюры так или иначе были пронизаны пафосом жизнелюбия и воспевали именно тот мир, с которым не могли примириться Сопеляки. Однако согласиться с ними — значило в какой-то степени попасть в зависимость от них, точнее, дать им возможность наступать на него, а именно этого Рутковский не хотел. Потому и спорил. — Я могла бы использовать в передачах два-три ваших рассказа, — продолжала Сопеляк, — с условием, что вы в чем-то измените их. Хотелось бы немного больше печали, знаете, когда человек смотрит на мир грустными глазами — тогда и мир делается совсем другим: тяжелым, тоскливым, а как в таком мире жить настоящему художнику? — Да, как жить настоящему художнику? — словно эхо повторил Сопеляк, поднял вверх вилку с селедкой, торжественно помахал. Рутковский сразу сообразил, чего хочет от него пани Ванда, и решил не идти у нее на поводу, но и отказаться не мог. Отказ мог показаться подозрительным — тебе предлагают эфир, соответственно деньги, а здесь никто не отказывается от денег, никто и никогда, каким бы способом они ни были заработаны. Наоборот, чем больше злобы, клеветы и лжи, тем лучше, за это и платили больше, и каждый лез из кожи вон, чтобы угодить начальству. — Я подумаю над вашим предложением, — ответил серьезно. — Оно кажется мне перспективным, но знаете, иногда тяжело возвращаться в прошлое. Закон творчества: тогда я смотрел на мир совсем другими глазами, однако, надеюсь, вы не будете отрицать этого, писал совершенно откровенно, и именно эта откровенность мешает переделке рассказов. Мне трудно сказать, смогу ли сделать это, однако попробую... — Теперь вы можете писать все, что хотите, — продолжала настаивать пани Ванда, — и высказывать какие угодно мысли. «Которые разделяете вы с американскими шефами», — подумал Рутковский. А вслух сказал: — Я слышал ваши передачи и знаю, что вы серьезно относитесь к ним. Мне они нравятся... — Еще бы! — вмешался Сопеляк. — Ванда такая талантливая, она талантливее всех нас! — Нос от алкоголя у него покраснел, глаза слезились. Пани Ванда глянула на мужа раздраженно — он сразу сник и потянулся к бутылке. А Рутковский продолжал: — Надеюсь, вы понимаете, что писатель не может существовать в безвоздушном пространстве. Все, начиная от образов и кончая идеей произведения, требует крепкой почвы, а я тут только начал пускать корни. — Разумеется, мне понятно это... — Пани Ванда подперла острый подбородок тыльной стороной ладони, как-то смешно повела губами и носом, как кролик, который принюхивается, и сказала вдруг жалобно: — В Киеве сейчас зреют каштаны... Я любила смотреть, как они падают на мостовую и выскакивают из скорлупы. Большие, блестящие каштаны... Рутковский также представил, как сочно разбивается каштан об асфальт где-то на Печерске, подумал, сколько еще ему не придется видеть днепровские просторы, не валяться на бархатном песке Труханового острова, не плыть в людском море вечернего Крещатика. — Хорошее в Киеве метро? — вдруг спросил Сопеляк. — Я видел только фотографии. Говорят, при строительстве было много жертв? — Не верьте, — махнул рукой Максим. — Несерьезно — передавать в эфир такие глупости, когда все в Киеве знают, что это выдумки. У нас там смеются... — Вдруг он запнулся: не переборщил ли? И действительно, Сопеляк, отхлебнув еще полрюмки, разволновался и чуть не подскакивал на стуле. — Когда я работал в Киеве, — он не уточнил, когда и где это было, — мы старались не пропустить ни единого факта, который мог бы повлиять на общественное мнение. А гипербола свойственна журналистике, без нее нельзя обойтись, и ею пользуется вся мировая пресса. Допустим, получили сообщение, что какой-то рабочий на строительстве метро травмирован. Из того же «Вечернего Киева», который мы с вами, коллега, препарируем. Можно пройти мимо этого факта, а можно, оттолкнувшись от него, назвать даже фамилию травмированного, написать статью о травматизме. — Ах, Виктор, Виктор, — не одобрила Сопеляк, — у тебя, когда выпьешь, появляются ультрагениальные идеи. — Эти идеи разделяет сам пан Кочмар. — Разделял, — уточнила жена, — и неистребимость пана Романа зиждется именно на том, что он всегда разделял самые новые и самые прогрессивные идеи. А твоя уже давно отжила. — Так уж и отжила! — не согласился Сопеляк. — Ты, милый, немного помолчи, — вдруг не совсем вежливо перебила его жена. Это прозвучало резковато — она поняла, что перегнула палку, и поторопилась исправиться: — У людей, когда они немного выпьют, появляются фантастические идеи, и ход их мыслей неисповедим. Честно говоря, мне захотелось тоже выпить — какое-то алкогольное настроение, и я предлагаю, господа, поднять рюмки за наши успехи и наше будущее. Оно представляется мне не таким уже и плохим. — Не таким уже и плохим, — как всегда, согласился Сопеляк и уточнил: — Мне скоро на пенсию, тебе также, приобретем где-то коттедж, в Америке или Австралии — каждый счастлив, когда он имеет обеспеченную старость. — А я думал, что вы прижились в Мюнхене, — удивился Рутковский. — Что вы, что вы! — испугался Сопеляк. — Говорят, большевики готовят десант, чтобы захватить всех работников наших радиостанций. — Ну? — это было настолько абсурдно, что Рутковский едва не захохотал. — Десант в Мюнхен? — Они не остановятся ни перед чем, чтобы уничтожить нас, — подтвердила пани Ванда. — Думаю, до десанта не дойдет. — Вашими бы устами мед-пиво пить! — обрадовался Сопеляк. Вопросительно взглянул на жену. — Может, ты разрешишь, дорогая, заказать две кружки пива? — Он втянул шею и, выставив вперед бороду, смотрел просительно, Рутковскому показалось, что сейчас поднимется и встанет, как пудель, на задние лапы, угоднически подняв передние. Пани Ванда сразу поняла всю нелепость ситуации. Бросила на мужа гневный взгляд, повернулась к Рутковскому, спросила: — Мужчины хотят пива? Так прошу заказать, пейте на здоровье. Виктор, позови кельнера. Первым желанием у Максима было отказаться, но какой-то бес вселился в него, и он бросил небрежно: — И три коньяка, прошу вас, а то шнапс уже кончается... Надеюсь, вы заказали бифштексы? Или отбивные? Сопеляки обменялись взглядами. Они были красноречивы, эти взгляды, но Рутковский нисколько не пожалел старых скряг. Выдержал паузу и добавил: — Коньяк пусть будет за мой счет — такие расходы для вас, кажется, чрезмерны. — Да, чрезмерны! — вырвалось у Сопеляка, но пани Ванда выпрямилась на стуле и перебила мужа: — Ну что вы, пан Рутковский. Мы пригласили вас и должны оплатить счет. Кельнер! — позвала. — Прошу три коньяка и два пива. И почему не несете бифштексы? — Простите, вы не заказывали... — Ошибаетесь, — повысила голос пани Ванда, — вечно у вас что-то напутают! Пока кельнер не принес заказанное, она молчала и ее лицо выражало недовольство. И Максим понимал, какая буря разбушевалась в ее душе. А Сопеляк выглядел как побитая собака, которая преданно смотрит на хозяина и не знает, как поступить: вилять хвостом или рычать. Однако подрумяненные бифштексы как-то сгладили напряжение. Не только Максиму хотелось есть — все отдали должное хорошо прожаренному мясу, утолили голод, и это настроило на благодушный лад. Рутковский с удовольствием пил пиво и думал, что чуть ли не целую неделю не был у Сенишиных, правда, звонил, но нужно завтра проведать их. Тем более что Иванна намекала, даже не намекала, а сказала открыто, что Стефания Луцкая несколько раз интересовалась Максимом и завтра вечером собирается к Сенишиным. Пани Ванда прикончила бифштекс, собрала с тарелки весь жареный картофель, вытерла губы сразу двумя салфетками и спросила: — Откуда пан Лодзен знает вас? Она поставила вопрос ребром, без всякой преамбулы и дипломатической разведки, видно, считала, что бифштекс и коньяк являются достаточной компенсацией за нужную ей информацию. — Полковник Лодзен — хороший знакомый моего двоюродного брата. — Я слышала о нем. Какой-то ресторатор? — Да, он владелец ресторана. — Большого? — Может, знаете — «Корона»? — Еще бы не знать «Корону»? Одно из фешенебельных заведений! — Ваш брат — Сенишин? — заерзал на стуле пан Виктор. — Юрий Сенишин. — Сын оуновского проводника... — констатировал Сопеляк без энтузиазма. — Я слышала эту фамилию, — кивнула пани Ванда. — Когда-то читала некролог в газете. И как это вам, родственнику бандеровца, большевики разрешили учиться? — Видите, разрешили: имею университетский диплом. — Затаились? Максим лишь пожал плечами. Разговор был очень напряженным: не мог же он переубеждать Сопеляков, что родственные отношения в СССР не имеют никакого влияния на поступление в университет? Напротив, человек в его положении обязательно подтвердил бы версию Сопеляков, однако ему не хотелось лишний раз и без достаточных оснований поносить то, что было самым дорогим. Потому ответил неопределенно: — Как-то проскочил. Сам не знаю как... — Бывает. И часто вы встречаетесь с Лодзеном? Рутковскому давно стало понятно, почему Сопеляки пригласили его в ресторан да еще расщедрились на бифштекс и пиво: ждал, что пани Ванда попросит о чем-то, — и вот наконец с него требуют плату. — Сегодня он подходил ко мне. — Мы видели. Пан Лодзен — прекрасный руководитель, и я бы хотела, чтобы он узнал, что мы заинтересовались вашим творчеством. Я подготовлю получасовую передачу, конечно, начнем с интервью — надеюсь, вы не возражаете? Главное — держать руку на пульсе жизни, видите, и у старых работников есть еще порох в пороховницах. — Я обязательно передам это пану Лодзену, — вполне серьезно пообещал Максим, ибо, в конце концов, почему бы и не передать? Знал, что должен поддерживать хорошие отношения с широким кругом людей, цена этих отношений, правда, копейка в базарный день, те же Сопеляки заложат его при первом же случае, предадут с удовольствием, так как каждый новый и молодой работник — конкурент, угроза их существованию. Но хотя бы не будут открытыми врагами... Рутковский вспомнил, как цинично поучал его позавчера за рюмкой водки Иван Мартинец: не хвали, говорил, друга, друг и так никогда не подложит тебе свинью. Хвалить нужно врагов, очно и заочно, лучше очно и как можно больше: тогда твой злой враг, может, станет хоть немного меньшим врагом, на какой-то процент — и то достижение. — Наверное, я завтра увижусь с паном Лодзеном, — пообещал Максим, — и расскажу про чудесный вечер, который провел с вами. — Мы будем очень благодарны, — расцвела в улыбке пани Ванда. — Да, очень благодарны... — повторил пан Виктор. — А сейчас мы отвезем вас домой, — предложила пани Ванда. Она решительно поднялась, сразу же поднялся и Сопеляк — он был на полголовы ниже жены. Рутковский удивился, что пани Ванда, которая опорожнила две или три рюмки, все же села за руль. Только потом узнал, что работники РС и РСЕ позволяют себе не совсем придерживаться норм поведения, обязательных для городского населения, служба охраны станции имела тесные контакты с полицией и быстро улаживала инциденты, связанные со скандалами в ресторанах, нарушениями правил движения и так далее. Возле дверей его дома топтались двое мужчин: высокий, плотный, в берете, надвинутом на лоб, и пониже, но тоже широкий в плечах. Они курили и о чем-то разговаривали. Максим хотел обойти их, но высокий преградил ему дорогу и спросил: — Господин Рутковский, если не ошибаюсь? — Не ошибаетесь... — Вдруг Максиму сделалось тревожно, и он тоскливо глянул на красные огоньки «рено» Сопеляков, которые, отдаляясь, скрылись за углом. Оглянулся: улица пустая, ни одного прохожего. — Что вам нужно? — Можем предложить господину небольшое путешествие. — Кто вы такие? — Максим увидел, что мужчина пониже зашел ему за спину. Резко повернулся, отступил на шаг. — Не волнуйтесь, господин Рутковский, мы из службы охраны станции, и вы срочно нужны шефу. — Никуда я не поеду. Завтра... Он не успел договорить: высокий наклонился и схватил его за руку, Максим вывернулся, еще минута, и он проскочил бы к парадному, но тот, что пониже, который был у него за спиной, ударил чем-то по голове — из глаз Максима посыпались искры, он зашатался, высокий подхватил его под мышки и потянул к «мерседесу». Опомнился Рутковский в машине с завязанными назад руками. Пошевелился, и это не прошло мимо внимания плотного в береге. — Оно ожило... — хохотнул коротко. — Не понимаю, для чего? Все равно кончим... — Всегда ты спешишь, Богдан. Может, он разумный и признается во всем. — Эти большевистские выродки редко когда признаются, — недовольно пробормотал Богдан. — Наморочился с ними еще на Волыни... — Он толкнул Максима в плечо, схватил за подбородок и поднял голову. Захохотал злорадно: — Слышал про СБ, пан коммунист? Так чтобы знал: у нас без суда и следствия... — Что вам нужно? — Максиму и правда сделалось страшно. Неужели он попал в лапы бандеровской службы безопасности? Той страшной службы, образованной в 1940 году в Кракове, во главе которой Бандера поставил своего близкого соратника, агента гестапо Николая Лебедя? Теперь Лебедь сидит где-то в Соединенных Штатах, провозгласил себя проводником «Украинского освободительного совета». Хотя служба безопасности и ликвидирована, но, видно, еще действует: даже не скрывают, что во время войны издевались над людьми. Но что им надо? Как могли узнать о его настоящем лице? Максим дернулся, освобождая подбородок из цепких пальцев. Спросил как можно спокойнее: — По какому праву вы, господа, задержали меня? И что вам нужно? — А оно еще гавкает... — пробормотал Богдан. — Права качает. А у нас право одно: пулю в лоб, и будь здоров! — Наверное, вы принимаете меня за кого-то другого... — Нет, уважаемый господин, — отозвался водитель, — для чего нам путать? Ты Максим Рутковский? — Конечно. — Большевистский агент, подосланный безопасностью к нам? — Мне смешно даже думать об этом. — Насмеешься! — сказал Богдан угрожающе. — Ты у нас еще насмеешься вволю. — Я буду жаловаться! — Мертвые не жалуются. — Скажите, в чем меня обвиняют? — Сколько можно говорить: большевистский агент. — Большей глупости нельзя придумать. — Я агентов распознаю по запаху, — хмуро сказал Богдан. — А от тебя плохо пахнет. — Ну и логика! — разозлился Максим. — По-моему, смердишь ты. Богдан поднял кулак. — Я тебя сейчас научу вежливости! На всю жизнь... — Оставь! — приказал водитель. Видно, он был начальником, ибо Богдан опустил руку и промямлил что-то недовольно. «Мерседес» шел на большой скорости: уже выехали за город, так как встречались лишь одинокие строения. Максим внимательно смотрел по сторонам, но так и не сумел понять, где они едут. Еще плохо знал местность и не мог сориентироваться. На всякий случай запомнил приметы, по которым мог бы потом восстановить дорогу. Если это ему, конечно, понадобится. Эти двое эсбистов, кажется, не шутят... На минуту сделалось страшно. Кто мог предвидеть, что его захватит бандеровская контрразведка? Но какие факты у них могут быть? Навряд ли что-то конкретное, так, подозрения или интуиция, но для чего этим головорезам факты? В Центре Рутковского ознакомили с многочисленными фактами злостной деятельности службы безопасности. Один из них припомнился ему, показания бандеровца М. Степняка.(Из секретного меморандума одного из руководителей административного совета РСЕ Джона Ричардсона на имя сенатора Истленда — председателя сенатской комиссии по вопросам внутренней безопасности.)
«Что же, — подумал Рутковский, — и правда, может, круг замкнулся: где-то допустил просчет, И вот расплата». Но он еще не налаживал никаких контактов с националистическими организациями, организациями, которые нашли себе убежище в Мюнхене. Имел задание при удобном случае завоевывать доверие руководства ОУН и думал осуществить это с помощью Юрия, однако еще не сделал ни шагу в этом направлении. А если его пугают? С профилактической целью, так сказать. Так как убийство сотрудника РС, если оно не санкционировано руководителями станции, наделает шуму. Полицию заставят завести дело, и из всего этого им будет не так-то легко выпутаться. «Мерседес» свернул в сторону, водитель резко сбросил газ и скоро остановился. — Выходи... — приказал, открыв дверцу, Богдан. Машина стояла на краю лесной поляны. Максим прислонился спиной к автомобилю, но Богдан, оттолкнув его, сильно ударил в солнечное сплетение, у Рутковского от боли затуманилась голова, он чуть не упал, опускаясь на колени. — Вот-вот, такая поза мне больше нравится! — захохотал Богдан. — Что вам нужно от меня? — через силу выдавил из себя Рутковский. — Где и когда тебя завербовали? — Другой эсбист наклонился к нему, добавил сочувственно: — Если ты не ответишь на этот вопрос, тебя ждет медленная и страшная смерть. — Он вытащил из кармана веревку, поболтал перед носом у Максима: — Пан, может, не знает, что это такое? Так я объясню. Этот шнурок обвязываем вокруг шеи пана, берем палку, просовываем на затылке и медленно закручиваем. И пану капут. «Именно так вы душили людей на Ровенщине, — чуть не вырвалось у Рутковского, — женщин и детей, выродки проклятые». — Максим закрыл глаза и ничего не ответил. — Так прошу пана Стефана, — вмешался Богдан, — наверное, нечего ожидать искренности от этого советского выродка, и я предлагаю начать... Максим рванулся вперед, но Богдан навалился на него, прижал лицом к земле, а Стефан быстро обвязал горло веревкой. Палка была у них заготовлена — повернули раз, и веревка больно сдавила горло. Стало тяжело дышать, Максим закашлялся, Стефан тут же отпустил петлю. — Видите, не шутим! — сказал угрожающе. — Так что пан может рассказать? — Напрасно мучаете меня, — хрипло выдохнул Максим. — Ничей я не агент, и мой брат Юрий Сенишин может подтвердить это. Он подбил меня переехать сюда — теперь я понимаю, что сделал ошибку. Искал свободного мира, а нашел смерть. Кончайте, и быстрее, не мучайте, прошу, я невиновен. — Ха! — выкрикнул Богдан. — Все говорят: не виноваты, и лучше прикончить десятерых невиновных, лишь бы в наши ряды не попал шпион. Последний раз спрашиваю: кто и когда тебя завербовал? — Меня проверяла служба охраны радиостанции! — пытался защищаться Рутковский. Богдан повернул палку, Максим задохнулся, рванулся из последних сил, пытаясь освободить руки: яркая молния ударила в мозг — и все!.. Рутковский лежал, уткнувшись щекой во влажную траву. Вдруг пошевелился и перевернулся вверх лицом. С трудом открыл глаза и увидел звезды. Обычные звезды и луну. Живой!.. Потянулся и высвободил руки, удивительно — развязанные. Живой, только шея болит от удавки... Вспомнив, что случилось, осторожно оглянулся вокруг. Ни «мерседеса», ни эсбистов... Только он на поляне, и какая-то ночная птица сонно вздыхает. Максим поднялся: голова закружилась, сделал несколько шагов и в изнеможении опустился на траву. Еле отдышался. Думал: нужно поскорее бежать отсюда, ведь могут вернуться... Собрал все силы и пошел — не по следам «мерседеса», а пробираясь сквозь кусты, окружающие поляну. Заросли кончились быстро, впереди высился редкий лес. Максим набрел на тропку, которая и вывела его на шоссе. Только здесь осмелился осветить зажигалкой циферблат часов — минуло немного больше часа с того времени, когда Сопеляки привезли его домой. Он думал — значительно больше, наверно, лежал без сознания всего несколько минут. Пощупал карманы, обнаружил и кошелек с деньгами, и документы — интересно, не ограбили, правда, денег было при себе не так уж и много, сто двадцать или сто тридцать марок. Машины шли редко. Рутковскому уже надоело голосовать, когда увидел такси. Привычный ко всему водитель не обратил внимания на помятый костюм Максима, обшарил только внимательным взглядом — не пьяный ли — и спросил адрес. Район был фешенебельный, это совсем успокоило таксиста, и он открыл Максиму дверцу. Ехали быстро. Сначала Рутковский хотел расспросить, где они находятся, однако решил, что это только насторожит таксиста. На всякий случай он заметил, на каком километре была злосчастная поляна, и теперь запоминал дорогу. Наконец увидел свой дом. Лифт поднял Максима на пятый этаж, он быстро открыл двери и вздохнул облегченно, когда замок щелкнул за спиной.Документальное подтверждение:
«СБ были даны широкие права. Она имела право по собственному усмотрению проводить аресты участников организации до членов Главного провода включительно. СБ имела право без суда расстрелять любого члена организации, не говоря уже о других людях, что они и делали. Практическая работа СБ была сведена к поголовному уничтожению целых семей, в том числе детей и стариков, когда эсбисты считали, что хоть один из членов семьи враг ОУН... Пользуясь этим, СБ занималась ограблением населения, сводила личные счеты под видом борьбы с врагами ОУН».
Луцкая сидела, закинув ногу на ногу, покачивая ею, и легкие светлые брюки то открывали, то закрывали кончики белых модных туфель. Она смотрела на Максима то ли испуганно, то ли настороженно, каким-то блуждающим взглядом. Рутковский сел рядом со Стефанией, свободно вытянулся в кресле, искоса взглянув на девушку. Даже в позе Луцкой, манере держаться чувствовалась напряженность, будто Стефания ожидала вопроса, на который ей трудно ответить. Внезапно она повернулась в кресле, заглянула Максиму в глаза, положила ладонь на его колено и спросила буднично, так, как спрашивают малознакомые люди при случайной встрече: — Как вы живете? И почему так долго не появлялись? Рутковский вздохнул и ответил: — Работа... Сначала всегда тяжело, пока не втянешься. — Могли бы и позвонить когда-нибудь вечером. — Не знаю телефона. — А Иванна? — Как-то неудобно. — Иванна не осудит. Правда, Ваня? — она называла Иванну на мужской манер, так ее называть было привилегией только Луцкой, и это еще раз подчеркивало их близость. — Ты о чем, дорогая? — переспросила Иванна. — Могла бы дать Максиму мой телефон. — А-а, — махнула рукой Иванна, — он совсем нелюдимый. Только один раз соизволил зайти к нам. — Я хороший, — попытался отшутиться Рутковский, — я хороший, но очень занят. И я обещаю исправиться. Луцкая сняла руку с колена Максима и погладила его по щеке длинными пальцами: это означало и прощение, и обещание на будущее. Наверное, Максиму нужно было как-то ответить на этот жест, более опытный мужчина непременно воспользовался бы этим, а Рутковский только улыбнулся смущенно и даже немного отодвинулся. Однако Луцкая отреагировала на это по-своему: наверное, именно стыдливость и неопытность Максима импонировали ей, ибо, перегнувшись через ручку кресла, вызывающе коснулась Рутковского плечом и предложила: — Давайте поужинаем завтра вместе. Можете пригласить меня? Она нисколько не стеснялась Иванны, Максима немного удивило это, но не очень — тут свои привычки, манеры, поведение, раскованность в отношениях между мужчинами и женщинами. И Рутковский ответил не раздумывая: — С радостью. У панны есть любимый ресторан? — Лучше, чем «Корона», нет, — вмешалась Иванна. — Никогда! — решительно возразила Луцкая. — Чтобы Юрий подсел к нам и проговорил полвечера?.. А мы с Максимом хотим уединения. — Стефания заглянула ему в глаза лукаво и прошептала на ухо: — А сегодня отвезу домой. Она сказала это так, будто они уже обо всем договорились и все решили. Поднялась и пошла к бару, не ожидая ответа Максима, — красивая, привлекательная, самоуверенная: знала себе цену и даже не допускала мысли, что ее предложение может не понравиться Рутковскому. Она налила что-то в бокал всем троим — оказалось, какой-то тягучий ликер. Максиму ликер не нравился, и все же он отпил, хотел глотнуть еще раз, но послышался звонок, и в дверях появился Лодзен. Он подошел к Иванне, долго держал ее руку и заглядывал в глаза, и вдруг Рутковский понял, что полковник влюблен в жену Юрия, может быть, безнадежно, но все же влюблен: наверное, потому его, Максима, так быстро и без особых осложнений взяли на РС. Наконец полковник оторвался от руки Иванны, по-отцовски погладил Стефанию по щеке и кивнул Максиму. — И вы пьете такую бурду? — покачал головой, идя к бару. — В то время, когда тут есть... — Лодзен открыл бар: засветились лампочки, и Рутковский увидел бутылки с разноцветными этикетками. — Если тут есть! — Полковник торжественно достал наполовину пустую бутылку. — «Белая лошадь»... Вот что тут есть, а разве может сравниться что-либо с шотландским виски? Идите сюда, — позвал Максима, — не пожалеете. Рутковского не нужно было просить — хотел рассказать про вчерашний инцидент с бандеровцами или теми, кто хотел выдать себя за них. Полковник внимательно выслушал Рутковского и покачал головой. Вынес приговор безапелляционно: — Бандеровцы! И это же надо: суют паршивый нос не в свои дела. Придется прищемить. — Я лишь чудом остался жив, — пожаловался Максим. — Никакого чуда нет. Хотели вас попугать. Они знают свое дело, если бы собирались в самом деле ликвидировать... — красноречиво махнул рукой. — И это в свободном мире, под носом у полиции! — продолжал играть Рутковский. Лодзен остановил его коротким жестом. — Я понимаю их, — ответил сухо. — Коммунисты залили им сала под шкуру, и бандеровцы каждого подозревают... Кстати, — повернулся к Луцкой, — панна Стефа, не знаете ли вы эсбистов Стефана и Богдана? — Откуда панна может знать громил? — искренне удивился Рутковский. Лодзен посмотрел на него внимательно. — Не слышали, что панна работает у Стецька? — спросил его. Рутковский покрутил в пальцах бокал. Оказывается, Стефания сидит на Цеппелинштрассе, 67, рядом с кабинетом того, кто называет себя «премьером Украинского самостийного государства». Максим перевел взгляд на Стефанию, увидел, как девушка напряглась — всего на мгновение; глянула остро исподлобья, но сразу же прищурилась и махнула рукой. — Не знаю таких, — ответила. — Может, псевдо? — Вчера двое из ваших, — пояснил Лодзен, — чуть не отправили на тот свет пана Рутковского. В прошлом эсбисты и назвались Богданом и Стефаном. Луцкая покачала головой. — Пану полковнику должно быть известно, что ОУН отказалась от террора, — ответила. — Я знаю вашу компанию лучше, чем этого бы вам хотелось, — захохотал Лодзен, — и не нужно кормить меня баснями. Передайте вашему шефу, — вдруг сказал резко, — если будет своевольничать, прибегнем к санкциям! Тон полковника был недвусмысленным, и Луцкая поняла, что допустила ошибку. Пообещала: — Завтра я узнаю, кто учинил это безобразие. Если наши люди, будут наказаны. — Она сказала это без уверенности: пообещала и забыла. Наверное, и Лодзен в принципе считал инцидент исчерпанным. Из магнитофонных колонок лилась тихая протяжная музыка, пахло спиртным и духами, Лодзен вполголоса рассказывал о поездке на Гавайские острова и обычаях аборигенов, Луцкая сидела рядом с Максимом, и чувствовалось тепло ее плеча — все было спокойно, дух умиротворения витал в гостиной, и Рутковскому вдруг показалось вчерашнее происшествие тяжелым и злым сном. Он крепко прижался к плечу Стефании и предложил совсем тихо, чтобы не услышал полковник: — Поедем? Стефа опустила веки, дождалась паузы в рассказе Лодзена и поднялась. — Завтра у меня трудный день, — пожаловалась, — должна ехать. Нам с паном Рутковский по пути — могу подвезти.
Она поставила «фольксваген» напротив дома Максима уверенно, как будто уже была здесь. Рутковский предложил зайти на минутку посмотреть, как устроился. Луцкая лишь смерила его насмешливым взглядом, в лифте отстранилась от него, смотрела отчужденно и даже как-то неприветливо. Бросив сумочку на стол, прошлась по комнате, заглянула в ванную и похвалила: — Хорошая квартира... Только казенная. — Малообжитая. — Неуютно. Приготовь кофе. Максим пошел на кухню, не удивившись внезапному переходу на «ты». Выйдя через несколько минут с кофейником в руках, увидел Стефу полуобнаженной перед зеркалом. Оглянулась через плечо, спросила просто: — Я тебе нравлюсь?..
* * *
Рутковский просматривал свежие киевские газеты, выбирал данные о разных людях и, ссылаясь на источник, заносил эти данные в картотеку. Некоторые сообщения состояли лишь из нескольких строк, были и на многих страницах — задание состояло в том, чтобы собрать очеловеке как можно больше фактов, вплоть до опровергнутых слухов. Карточка рассказывала, когда и на какой пост назначен человек, где и с какими докладами выступал, в какие командировки ездил, где живет, в каких кругах имеет поддержку... Когда речь шла о писателях или ученых, приводились оценки их работ в прессе и частные точки зрения. Отдел, где работал Рутковский, был подчинен разведке. Из картотеки, которую составлял Максим с коллегами, работники разведки отбирали только то, что их интересовало. Иногда приходило указание: такого-то человека «осветить» детальнее. Тогда фамилия этого человека выискивалась в газетах с особенным вниманием, специальные задания получали агенты и информаторы. Картотекой широко пользовались работники редакции для провокационных передач. Рутковский уже знал, что картотека — незначительная часть работы его отдела. Главное заключалось в сборе разведывательных данных. На каждую информацию, исходившую от агентуры, заведующий отделом Роман Кочмар или его заместители писали короткую аннотацию и делали вывод о ее ценности, достоверности, степени секретности, а также намечали круг людей, которых нужно было с нею ознакомить. Доступ к этой картотеке интересовал Рутковского больше всего. Занятый работой (а ее всегда было много, и заместители шефа отдела следили, чтобы никто не бездельничал), Максим не заметил, как в комнату вошел пан Кочмар. Небольшого роста, лысый, краснолицый, он держался уверенно и был категоричен в своих выводах и высказываниях. Отличался упрямством и, как все упрямые люди, редко менял убеждения и мнение о людях. К Максиму с самого начала относился без симпатии, сухо и сдержанно, и можно было представить себе удивление Рутковского, когда Кочмар остановился возле его стола и поинтересовался, как идут дела. Максим подал шефу стул. Кочмар отказался, присел просто на угол заваленного бумагами стола, взял несколько газет, но сразу отбросил их. Сказал не так, как всегда — сухо и официально, а доброжелательно: — Мы довольны вами, пан Максим... Рутковский поднялся из-за стола. Знал, что Кочмар был унтерштурмфюрером СС и боготворил дисциплину. Прижав локти, Максим коротко сказал: — Очень рад, что вы хорошего мнения о моей скромной работе. Догадывался, почему так быстро изменилось отношение Кочмара к нему: через Мартинца или Карплюка пан Роман узнал об отказе Максима подписать письмо, — наверное, такого письма не существовало вообще и предложение Карплюка было обыкновенной провокацией. — Скромная или не скромная, — пробормотал Кочмар, — там разберемся. — И, понизив голос, чтобы не слышали другие сотрудники, добавил: — Будьте вечером дома, я вам позвоню. — Легко соскочил со стола, несмотря на излишний вес, и пошел к Карплюку. Переговариваясь с Карплюком, они громко хохотали, а Рутковский так и продолжал стоять за столом, думая: вот и второй шаг — теперь он, наверное, получит прямой доступ к строго секретным картотекам станции. Сел и сделал вид, что углубился в работу, однако работать не мог: перекладывал что-то с места на место, листал газеты... Но для чего ему быть дома и что означает обещание Кочмара позвонить вечером? Вдруг догадался. Их шеф — игрок и кутила, за вечер может просадить в рулетку или карты все свои деньги. Просто так взять взятку Кочмару неудобно, может, он попросит в долг или придумает другой повод... А Кочмар, взяв Карплюка за локоть, что-то доказывает ему и ведет в коридор... Рутковский незаметно глянул на стол Карплюка. Левый ящик чуть-чуть выдвинут. Максим уронил на пол шариковую ручку, подтолкнул ногой под соседний стол. Полез, чтобы достать, а сам незаметно потянул ящик. Заглянул: из-под бумаг виднелись провода, увидел даже кнопку выключателя, значит, где-то внизу, в тумбе, — магнитофон, и улыбающийся и вежливый пан Степан Карплюк фиксирует на пленке все самые пикантные разговоры коллег по отделу. Конечно, фиксирует не из простого интереса, а чтобы пан Кочмар имел возможность прослушать, что ответил Максим Карплюку. Приехав домой, Рутковский побрился, надел темный вечерний костюм, завязал скромный, в тон костюму, галстук и стал ждать. Никто не звонил, а в такие минуты время, как назло, тянется слишком медленно. Максим только успел подумать об изменениях человеческой психики, как раздался звонок. Рутковский переждал три или четыре звонка, хотя подмывало сразу схватить трубку, наконец отозвался и услышал вкрадчивый голос Кочмара: — Пан Максим? — Даже это полуинтимное обращение «пан Максим» свидетельствовало если не о полном повороте в отношении Кочмара к Рутковскому, то, по крайней мере, о хорошем настроении или обещании каких-то благ в будущем. — Конечно, шеф, — ответил Рутковский. — Давно жду вашего звонка, и с нетерпением. — С нетерпением — это хорошо... — Максиму показалось, что увидел, как расплывается в масленой улыбке лицо Кочмара. — Прошу вас вызвать такси, мы могли бы взять мою машину, но, кажется, вы не водите? Рутковского научили водить автомобиль еще в Киеве, но он никому не признавался в этом — лишний факт для подозрений. — К сожалению, только собираюсь сдавать экзамены, — подтвердил. — Берите такси и заезжайте за мной, — шеф назвал адрес. — И еще... — запнулся на одно неуловимое мгновение, — возьмите с собой деньги. Может, возникнет желание поиграть. Марок семьсот — восемьсот хватит. «Ого, — едва не вырвалось у Максима, — а у тебя аппетит». Думал, что отделается пятью сотнями, придется брать вдвое больше. Положил тысячу стомарковыми банкнотами в бумажник, еще триста сунул во внутренний карман пиджака, двести мелкими купюрами скомкал в кошелек и вызвал такси. Кочмар жил в большом фешенебельном доме почти по соседству. Вообще радиостанция, которая давала своим работникам квартиры, старалась снимать их в одном районе, неподалеку от Энглишер Гартен. Максим знал, что шеф один занимал достаточно просторную трехкомнатную квартиру, последняя жена ушла от него несколько месяцев назад, всего он был женат, кажется, раз пять и любил повторять, что смена женщин лишь закаляет мужчин. Сам он постоянно совершенствовал свои познания о прекрасной половине рода человеческого, и иногда можно было наблюдать, как из кабинета шефа выскакивает раскрасневшаяся и счастливая секретарша Катя Кубиевич — говорили, что она приходится какой-то родственницей тому самому Владимиру Кубиевичу, профессору географии, давнишнему немецкому агенту, председателю так называемого Украинского центрального комитета (УЦК), образованного в Кракове после оккупации его гитлеровцами, и теперешнему главе так называемого «Научного общества им. Т. Г. Шевченко». Во всяком случае, была Катя Кубиевич, или Кетхен, как на немецкий лад звали ее в украинской редакции, родственницей пана профессора или нет, она пользовалась большим влиянием в отделе, и даже заместители шефа были предупредительны с ней. Вот и теперь, кажется, оранжевое пальто Кетхен мелькнуло на противоположной стороне улицы. Машина затормозила около дома Кочмара, и Максим увидел шефа у подъезда. Рутковский выскочил из машины и угодливо раскрыл перед ним дверь такси. — Куда поедем? — спросил. — Бад-Визе, — назвал Кочмар городок под Мюнхеном, известный своими игорными заведениями, ресторанами и ночными клубами со стриптизом. Рутковский устроился впереди, и таксист рванул машину: как правило, пассажиры, которые едут в Бад-Визе, не жалеют чаевых — у всех впереди перспектива гульнуть и сорвать куш в рулетку или на ломберном столе; на обратный путь, как правило, не хватает денег, а теперь чего скупиться на лишнюю марку? Швейцар любезно улыбнулся Кочмару, беря его шляпу. На всякий случай, но не так приветливо, улыбнулся и Рутковскому. В конце концов, тут каждого встречали улыбкой: чего стоит лишняя улыбка — ни пфеннига, а она поднимает у клиента настроение, наполняя верой в свою счастливую звезду, а это — прямая выгода для владельца заведения. — Ужинали? — коротко спросил Кочмар у Рутковского, когда поднимались по лестнице, устланной ковровыми дорожками. — Конечно. — Тогда по рюмочке для настроения — и к столу. — Бармен налил им французского коньяка. Максим подержал бокал в ладонях, чтобы хоть немного согреть, но Кочмар сгорал от нетерпения, дух азарта уже вселился в него, зрачки расширились и потемнели, на лбу сразу после рюмки выступил пот, черты лица заострились. Теперь он напоминал Рутковскому старого и облезлого тигра, злого и опытного, который еще сберег силы и при случае мог огрызнуться. Кочмар поискал кого-то в зале глазами, видно, нашел, ибо обнял Максима и повел вглубь, где за столом со свечами сидели несколько посетителей. — Ну, — прошептал возбужденно, — давайте деньги, новичкам всегда везет, попробую поставить на вашу карту. Максим вытащил бумажник, пан Роман молниеносно перехватил его и спрятал в задний карман брюк: будто и не было бумажника, а Кочмар не солидный шеф целого отдела радиостанции, а обычный фокусник. — Сколько? — спросил. — Тысяча. Кочмар обнял Максима: — А вы мне все больше нравитесь. — Тешу себя надеждами, что оправдаю ваше доверие. Они подошли к столу, где сидела девушка с длинными приклеенными ресницами и яркими, даже слишком яркими губами. — Хелло, Герда, — помахал ей рукой Кочмар, — я привез парня, надеюсь, он понравится тебе. Наверное, Герде нравились мужчины и значительно хуже Рутковского, она подняла длинные ресницы, глянула похожими на сливы глазами, видно, осталась довольна, так как убрала с соседнего стула сумочку. — Я пошел, — сказал Кочмар, — желаю вам веселого вечера. — А вам выигрыша. Кочмар сплюнул через левое плечо и направился к двери не оглядываясь. Герда оказалась достаточно молчаливой, и это устраивало Рутковского. Он заказал виски и какую-то закуску, Герда пила бокал за бокалом, и щеки у нее порозовели. Дважды она приглашала Максима танцевать, выбирала танцы медленные и прижималась к Рутковскому, обняв его за шею руками. С Гердой все было понятно: она зарабатывала деньги, и на нее Максим мог не обращать внимания. Попросил кельнера принести еще бутылку, сидел, рассматривая посетителей, и с нетерпением ждал Кочмара. Наверное, сам пан Роман не желал так себе успеха, как этого хотел Максим. Рутковского не волновали финансовые дела Кочмара: пусть вылетает в трубу, но не сегодня. Сегодня в случае выигрыша у шефа будет хорошее настроение, этот вечер должен ему запомниться. Максим сгорал от нетерпения, и даже молчаливая Герда начала надоедать ему. Кочмар появился совсем неожиданно — шел между столиками красный, возбужденный, с расстегнутой верхней пуговицей рубашки, со сдвинутым набок галстуком, счастливый и улыбающийся. Тяжело шлепнулся на стул, налил чуть ли не полный стакан виски и выпил одним духом, безо льда и воды, не закусывая. Только глотнув воздуха, как рыба, выброшенная на берег, застыл на минуту с вытаращенными глазами, потом откинулся на спинку стула и посмотрел на Максима так, вроде увидел впервые. — Пан Максим, — поучительно поднял он мясистый палец, — я им сегодня показал, как нужно играть, и они надолго запомнят этот вечер! — Мне всегда казалось, что такой игрок... — с энтузиазмом начал Рутковский, но Кочмар не дал ему договорить: — Вы правы, мой молодой друг, однако существует еще фортуна, и сегодня она была на моей стороне. Потом мы рассчитаемся, — бросил вскользь небрежно, — а теперь я бы хотел отпраздновать эту заслуженную победу. Что-то вы тут без меня заскучали, Герда совсем грустная. Закажите, пан Рутковский, коньяк и шампанское, я же пока выпью еще немного виски, а то игра была жаркой, и жажда мучает меня. — Кочмар вылил из бутылки остатки виски и выпил снова; пододвинув к себе блюдо с закусками, начал есть прямо из него, аппетитно чмокая губами. Максим чувствовал себя спокойно: слава богу, что захватил лишние деньги и ему хватит рассчитаться. Что же, в конце концов — улыбнулся этой мысли — за все платит «Свобода», даже за акции, направленные против нее, будут выложены деньги, полученные в ее же кассе. Для чего же их экономить? Но!.. Знал, что не должен швыряться деньгами: сотрудники станции, хотя и имели по сравнению со служащими ФРГ очень высокие ставки, кичились своими сбережениями, и на этом фоне мотовство выглядело бы вызовом, а как раз этого Максим и не хотел: необходимо стать одним из многих, серым и незаметным, рядовым сотрудником, которого не очень интересует карьера — лишь бы хорошо платили. Он имел четко поставленное задание: добиться доступа к секретным бумагам станции, а для этого достаточно одного желания господина Кочмара, и с завтрашнего дня... Но существуют еще стальные сейфы с картотеками и один главный сейф, ключ от которого забирает с собой Кочмар, возможно, сдает охране станции, может, носит у себя в кармане и, наверное, никогда не расстается с ним: считает себя опытным разведчиком, так как любит разглагольствовать о фактах из своей шпионской жизни. Правда, всезнающий Мартинец говорит, что эти факты пан Роман извлекает в основном из детективных романов, однако даже сам Мартинец не посмеет в присутствии Кочмара сказать об этом. Шутки с паном Романом плохи — агент ЦРУ, и тут дело даже не столько в самом Кочмаре, сколько в престиже всей организации, где он работает: за нездоровый интерес или лишнюю болтовню можно лишиться головы. Кельнер принес бутылки, они заняли половину стола — молчаливая Герда оживилась и пересела от Максима поближе к Кочмару. Пан Роман выпил коньяку и зажмурился от удовольствия. Максим незаметно отставил свой бокал, теперь он знал, что нужно делать: споить шефа. Эта задача была не такой уж сложной, Кочмар явно шел навстречу желанию Максима, и Рутковскому осталось только следить, чтобы не захмелеть самому. Лучшим союзником Максима оказалась Герда: она пила чуть ли не наравне с Кочмаром, но пьянела меньше его — хмель не развязал ей язык, наоборот, помрачнела еще больше, а сливовидные глаза ее еще больше удлинились. Наклонилась к Рутковскому, горячо дохнув ему в ухо, дотронувшись накрашенными губами. Спросила: — Я поеду с тобой? — Посмотрим. — Но как же?.. — Не волнуйся, я не забуду о тебе. Видно, единственное, что волновало девушку, — получить плату. Рутковский почувствовал, что Герда запачкала его ухо помадой — аккуратно обтер платочком. Приближался двенадцатый час, а Кочмар, кажется, только начинал кутеж. Наконец, не допив очередной рюмки, Кочмар склонился на плечо Герды и задремал, выпятив губы и посвистывая. Максим сделал знак девушке, чтобы посидела, оплатил довольно солидный счет, не пожалел чаевых, и кельнер вызвал такси. Вместе с Гердой они перетянули полусонного Кочмара в машину, довольная щедростью Максима, девушка чмокнула его в щеку, Рутковский помахал ей рукой на прощание, и таксист вырулил на шоссе. Максим сидел сзади, обняв Кочмара левой рукой за плечи. Притворившись, что расталкивает шефа, спросил громко, чтобы услышал таксист: — Ключ? Где ключ от квартиры, пан Роман? — Кочмар в ответ только пробормотал что-то невнятное, и Рутковский пожаловался таксисту: — Живет один, и дома нет никого. Перебрал немного... — Немного? — засмеялся таксист. — Язык повернуть не может. Поищите ключ в карманах. — Если не найду, придется везти господина ко мне. — Где же тому ключу быть... — пожал плечами шофер. И правда, где же быть ключам? Максим давно уже нащупал их в правом внешнем кармане пиджака: два ключа на брелоке, два маленьких ключа от квартирных замков с секретами. А где большой, от сейфа? Залез в левый внешний карман пиджака, обшарил карманы брюк. Нет. Остались внутренние карманы пиджака. Из одного вытянул бумажник, из другого торчала расческа. И все. Быстро пересмотрел содержимое бумажника, но ключа не нашел. Выходит, пан Роман оставляет его где-то в сейфе охраны или держит в каком-то тайнике. И путь к нему значительно трудней. Максим сунул Кочмару в карман бумажник и вдруг нащупал кончиками пальцев что-то твердое. Провел ладонью по подкладке: так и есть, вверху еще один секретный кармашек, застегнутый молнией. Рутковский отодвинул Кочмара в угол машины, навалился на него, чтобы таксист случайно ничего не увидел, расстегнул молнию и двумя пальцами вытянул из кармана ключ в замшевом чехле. Массивный ключ с узорчатой головкой — он видел его один раз, когда Кочмар вызывал к себе: торчал из стального сейфа, будто насмехался над Рутковским, а теперь лежит на его теплой ладони и, наверно, чувствует, как чуть-чуть трясутся пальцы Максима. Рутковский отодвинулся от Кочмара. Не торопясь сделал слепки с двух сторон ключа и его торцевой части, старательно обтер и снова засунул в чехол. Хотел уже положить ключ назад в секретный карманчик, когда таксист спросил: — Нашли? Ответил небрежно: — Где же им быть? В пиджаке. — Порядок. — Поможете мне дотянуть господина до лифта? — Конечно, вам одному не справиться. Тяжелый... — Ему сегодня посчастливилось. — Я и вижу: пьян в стельку. — Сорвал хороший куш. — Поздравляю. Обмывали? — Как видите. — Везет же людям... Таксист снова замолчал, а Максим осторожно положил чехол с ключом обратно в карманчик. Застегнул его молнией, сидел и слушал, как бьется сердце. Наверно, лишь немного быстрее, чем нужно, — неужели он не волнуется? Конечно, волнуется и теперь, когда все кончилось. Как сказал таксист? «Порядок!» Да, полный порядок, и теперь возникает потребность установить связь с Центром. Завтра или послезавтра он увидит своего человека. Совсем своего. С ним можно разговаривать обо всем, у него, возможно, есть какие-нибудь новости. А такси уже въехало в Мюнхен и петляло по пригородным улицам. На следующий день шеф опоздал на работу. Рутковский ожидал увидеть его помятым и, как говорят, не в форме, но Кочмар был хорошо выбрит, пах дорогим одеколоном и глаза смотрели проницательно. Как и думал Максим, Катя Кубиевич позвала его к пану Роману первым. Кочмар, не предложив сесть, посмотрел на него неподвижным взглядом. Наконец сказал: — С завтрашнего дня, пан Максим, будете работать в комнате ф-7. — Спасибо, шеф, вы уже говорили мне об этом, и я постараюсь оправдать ваше доверие. Кочмар удивленно повел плечами. — Что вы имеете в виду? — начал неуверенно. На лбу у него появились морщины, видно, старался вспомнить, что же действительно произошло вчера и что он пообещал Рутковскому. Максим не стал испытывать терпение шефа. Теперь нужно было объяснить Кочмару, что он держался до последнего. Сказал, преданно глядя на пана Романа: — Вчера в полночь, когда мы прощались около вашего подъезда. Я еще хотел поднять вас на лифте, но вы отказались. Были правы, я немного перебрал и прошу прощения. Какая-то тень промелькнула на лице Кочмара. — Чего там извиняться... — Вдруг лицо его снова сделалось холодным и официальным. — Мы довольны вами, пан Рутковский, идите и работайте. — Есть маленькая просьба. Кочмар свел брови. — Какая еще просьба? Сразу уже и... Максим не дал ему договорить: — Мне бы хотелось усовершенствовать свои знания в немецком. Попался хороший учитель, где-то через месяц-два можно начать... Но он свободен только днем. — Будете отрабатывать после работы. — С удовольствием. — С удовольствием или нет, но будете отрабатывать. Кетхен Кубиевич, услышав о решении шефа, округлила и так круглые и совсем пустые глаза. Спросила: — Зачем это вам? Ведь пан достаточно прилично разговаривает по-немецки... Что он мог объяснить этой красивой дурехе? — Хочу разговаривать еще лучше. — Зачем? — Чтобы лучше понимать Гёте и Шиллера. — Они работают на нашей станции? Приехали из Израиля? К слову, вы знакомы с паном Анатолем? — Бывшим писателем? — Да, таким, как и вы... Максим погладил себя тыльной стороной ладони по подбородку, чтобы удержаться от язвительной реплики. — Нет, не знаком, — ответил. — А что? — На днях я слышала его передачу: чудо, он так хорошо рекламировал канадские пишущие машинки. — Да, машинки, говорят, неплохие. — Кстати, — оживилась Кубиевич, — со следующей недели вы будете получать на триста марок больше. — С меня подарок. — Мне нравится парижская парфюмерия. — А я люблю дарить ее женщинам. Не говоря уже о таких красивых, как вы. Катя покраснела от похвалы. Повернулась к Максиму так, чтобы увидел высокую грудь. Однако созерцание Катерининых сокровищ не входило в план Рутковского: знал, что Кочмару вряд ли понравится такая акция, и ретировался, послав девушке воздушный поцелуй. Во время обеденного перерыва Рутковский не направился вместе со всеми в буфет. Выскочил на улицу, прошел несколько кварталов, пока не набрел на телефон-автомат. Бросил монету и набрал номер. — Посредническая контора господина Генриха Штаха? — спросил. Воцарилась пауза — видно, на другом конце провода не ждали звонка. Наконец сочный баритон ответил: — Вы неправильно набрали номер. Добавьте единицу. — Спасибо. — Рутковский положил трубку. Итак, встреча состоится завтра. Если бы человек сказал — добавьте двойку, они бы встретились послезавтра, так было условлено еще в Центре, и завтра на одной из боковых улиц за олимпийским стадионом будет стоять белый «пежо» с букетом роз у заднего стекла.* * *
«Пежо» стоял в точно условленном месте, и розы, правда немного увядшие, лежали на месте. Максим открыл дверцу, сел на переднее сиденье, спросив: — Господин Висбах, если не ошибаюсь? — Да, я, — ответил человек по-немецки и посмотрел на Максима с интересом. Был он средних лет, с залысинами, в очках, и вид у него был какой-то мрачный. Рутковский почему-то пожалел, что на связь с ним не вышел владелец вчерашнего бодрого баритона. — Петр Висбах к вашим услугам. — Он подождал, пока за угол повернет желтый «фольксваген», и тронулся, когда поблизости не было никого: потому и выбрано было это пустынное тихое место — могли легко установить, не следят ли за Рутковским. «Пежо» выехал на широкую улицу, сразу вильнул налево: никто не прицепился им на хвост, и мужчина подал Максиму руку. — Олег, — отрекомендовался он, — называй меня Олегом. Если ничего не случится, я буду поддерживать с тобой связь. Есть полчаса, хочешь, выпьем кофе? — Нет, — отказался Максим, — повози по городу, мне приятно разговаривать с тобой по-русски. Они ездили ночными, залитыми неоновым светом мюнхенскими улицами, и Максим рассказывал о своих первых шагах на РС. Олег слушал внимательно. Рутковский с самого начала обратил внимание на это свойство Олега: слушать, не задавая вопросов, пока собеседник не выговорится до конца. Когда наконец Максим умолк, Олег приказал: — Давай! — Что? — Слепок ключа. — Смотри, а я и правда заговорился. — Бывает, — согласился Олег, — так бывает, когда долго не видишься со своими. Максим подал коробочку со слепками. Олег спрятал ее осторожно, будто была из стекла. — Ну ты и даешь! — похвалил. — Случай. — Какой же случай. Расчет. — Могло бы и не случиться. — Конечно, могло. Но когда появился первый шанс, ты его использовал. — Вдруг весело засмеялся. — Ключ от главного сейфа: об этом можно только мечтать! — Когда сделаете? — Вот что! — сказал серьезно. — Два месяца сиди и не рыпайся. Тебя переводят на новую должность и будут контролировать каждый шаг. Понимаешь, скрытые камеры, неожиданные обыски, запись разговоров и вульгарная слежка. Ключ получишь через два месяца. — Да, — согласился Максим, — с собой носить его нельзя, а прятать где-то также небезопасно. — То-то же. Через два месяца получишь и технику. — У меня все. — Когда ты сможешь приобрести автомобиль? — вдруг спросил Олег. — Получаю не так уж и много... Но постараюсь... — Нужно поскорее. Одолжи у брата. Кстати, как у вас сложились отношения? — Нормально. — А если нормально, грешно не воспользоваться. За два месяца немного отложишь, немного займешь — на первый взнос хватит. Покупай дешевую. — Совсем дешевую не годится — престиж. — Возьми «рено» или «фиат»... — «Фиат» мне нравится. Придется идти на курсы водителей. — Смотри, чтобы не догадались, что умеешь водить. — Я уже думал об этом. — Со мной будешь встречаться только в крайних случаях. — Согласен. — А если согласен, давай лапу, — Олег крепко пожал Максиму руку. — Раньше, чем через два месяца, не звони. И вот что... С этой панной Стефой... Осторожнее, прошу тебя, через нее на большую рыбу можно выйти. Я тут поверну в переулок, ты выходи. Ну будь, старик, сиди тихо, до встречи. ...На пресс-конференции для сотрудников «Свободы» выступал диссидент Леонид Засядько. Время от времени руководство станции, чтобы влить, так сказать, свежую струю в передачи, приглашало «признанных», как их характеризовали, деятелей антикоммунистического движения. В число таких был зачислен и бывший советский гражданин Засядько. Он стоял за столом: маленький, рыжий и лысый, долгоносый, с морщинистым лбом, часто мигал глазами и тер лоб тыльной стороной ладони. Потом вытягивал платок и вытирал руку. «Для чего такая длинная процедура, — удивлялся Рутковский, — не проще ли вытереть лоб?» Мартинец, сидевший рядом с Рутковским, довольно громко прошептал: — Типичный шиз. Максим не ответил. То, что Засядько страдает умственным расстройством, было ясно всем: потому и слушали его невнимательно и задавали только заранее подготовленные заведующими редакций вопросы. Правда, зачем весь этот маскарад с пресс-конференцией, когда ни для кого не было тайной, что передачу об этом выступлении Засядько на радиостанции давно записали, она получила одобрение высшего руководства и в ближайшие дни прозвучит в эфире. Пресс-конференция должна была уже закончиться, все вопросы, как того требовало приличие, были заданы, правда, только на некоторые из них Засядько согласился ответить, хотя готовили его чуть ли не месяц. Готовили, не жалея денег. Жил он в «люксе» фешенебельной гостиницы «Арабелла-хаус» на всем готовом, и гонорар, как говорили, должен был вылиться в четырехзначную цифру. Возможно, Засядько чувствовал, что не отработал полученные деньги, или просто уже не мог остановиться — стоял и выплевывал из себя слова, буквально выплевывал, и Рутковскому даже сделалось жаль тех, кто сидел в первом ряду. Но сразу же сообразил, что там разместилось начальство, вон виднеется лысина Кочмара — так им и нужно, после пресс-конференции придется принимать душ, чтобы хоть как-нибудь отмыться. Мистер Роберт Мак, заместитель директора РС, который проводил пресс-конференцию, пробовал приостановить ее, но Засядько не сдавался: поднял руки, будто призывал в свидетели самого господа бога, — он напоминал теперь огромную безобразную жабу, — и начал все сначала. Мартинец оживленно зашевелился на стуле. — Единственный выход, — потер руки, — вызвать машину из психиатрической клиники. Вполне логичное завершение этого сборища, как тебе кажется? Рутковский также считал, что небольшой скандал совсем не помешал бы, но интересно, как выкрутится из положения мистер Мак? Ведь вряд ли имеет под рукой смирительную рубашку. Оказывается, он недооценил хладнокровия и выдержки мистера Мака. Тот решил просто: дело сделано, передачу подготовили, деньги Засядько уплачены — чего же церемониться? Не обращая внимания на разглагольствования сумасшедшего, кратко объявил, что пресс-конференция закончена, и пошел, не оглядываясь, в свой кабинет. Следом за ним поднялись все. Застучали сиденьями откидных кресел, голос Засядько утонул в шуме толпы, которая расходилась, а он все еще размахивал руками и старался перекричать всех, пока не остался один в пустом зале. Еще и тогда стоял несколько минут, бурча что-то под нос, потом в изнеможении опустился в кресло, опустил лицо на скрещенные руки и сразу, будто не произносил только что речь, не кричал, не брызгал слюной, заснул — и все. Человек из внутренней охраны вежливо взял его под руку и повел к выходу. — Финал, достойный участников, — констатировал Мартинец. Обнял Максима, спросил: — Что собираешься делать? — Договорился со Стефой. Где-нибудь поужинаем. — Перезвони, пусть едет ко мне. Спиртное есть, купим чего-нибудь поесть... Ну зачем тебе ресторан? Максиму и правда не хотелось ехать в ресторан: с радостью согласился на предложение Ивана. На улице шел мокрый снег — Рутковский посмотрел в окно, закутал шею шарфом и поднял воротник пальто. В дверях уже одетый стоял Мартинец: ему не терпелось, он всегда куда-то спешил, натура у него была живая — не мог спокойно сидеть на одном месте и несколько минут. Рутковский запер ящик стола, взял шляпу и увидел, что из-за плеча Ивана выглядывает улыбающееся лицо Карплюка. — Куда вы, господа? — спросил так, будто они должны давать ему отчет о каждом своем шаге. — На кудыкину гору, — не совсем вежливо объяснил Мартинец. И добавил категорично: — Не твое собачье дело! Карплюк не обиделся. Он вообще никогда ни на кого не обижался. Только неодобрительно покачал головой и заметил: — Я знаю, ты добрый человек, Иван, и нехорошие слова говоришь просто так, не думая. Лицо Мартинца вдруг перекосилось от гнева. Сказал: — Можно ли спросить уважаемого пана, когда его в последний раз били по морде? — Тебе не рассердить меня, — совсем расплылся в улыбке Карплюк, — и в доказательство этого я пойду с вами. — Ты? С нами? — Конечно. — Мы идем ко мне, и я не приглашаю тебя. — Ты не сможешь оставить меня — одинокого и несчастного. — Как раз так и собираемся поступить. — И вам не жаль меня? Мартинец постучал себя кулаком по лбу: — Но, голова ты баранья, слышал, к нам придут девушки — для чего ты нам? — Я не буду мешать: посижу немного и уйду. Рутковский уже давно понял: им не отвязаться от Карплюка. Вообще он заметил, что в последнее время его редко когда оставляют без присмотра. В буфете, как правило, подсаживается кто-нибудь из работников, чаще Сопеляк или Карплюк, иногда в комнату неслышно заходил Кочмар — любил подкрасться сзади и смотреть, что именно делает Рутковский. Максим не исключал также фотографирование скрытой камерой. По крайней мере, два или три раза его вызывал к себе Кочмар, беседовал, потом под каким-то предлогом выходил, оставляя Максима одного с секретными бумагами, разложенными на столе. Отсутствие шефа длилось до четверти часа, один раз он прямо сказал, что идет к Лодзену — кабинет того находился на другом этаже, и Максим мог даже приблизительно высчитать, сколько будет отсутствовать пан Роман. Эти хитромудрости были известны Рутковскому, в Центре ему рассказывали, что приблизительно такие методы рекомендуется использовать для проверки лояльности подчиненных. Оставаясь один, курил, просматривал газеты на журнальном столике, ни на шаг не приближаясь к секретным бумагам. Рутковский понимал, что хитрости Кочмара и назойливость Карплюка — разные звенья одной и той же цепи, и лично для него лучше, если пан Степан поедет с ним. Служба охраны станции завтра будет иметь отчет Карплюка о сегодняшнем вечере у Мартинца, а о том, чтобы ему не пришлось много писать, позаботится уже он, Рутковский. Максим предложил: — А что, Иван, давай и правда возьмем пана Карплюка. Девушки не будут возражать: он такой начитанный, говорят, на днях прочитал два рассказа Фолкнера. — Ну если пан Степан взялся за Фолкнера, — поднял руки вверх Мартинец, — сдаюсь! — Не верите? — Карплюк вытянул из воротничка рубашки длинную шею, вертел головой. Рутковскому иногда казалось, что пан Степан может поворачивать голову на все триста шестьдесят градусов и не делает этого только потому, что стыдно. — Вот прочитал Фолкнера, а на будущей неделе буду читать Фицджеральда. А дальше у меня запланирован Стейнбек. — По рассказу? — А для чего больше? — Ну и голова, — восхищенно выкрикнул Мартинец, — а потом будет говорить: читал Фолкнера! — А что, неправда? Ты же не читал... — Не читал, — признался Мартинец, — у меня нет времени. — А ты за девочками меньше бегай. Хоть поумнеешь. — Завидуешь? — Завидую... — как-то неожиданно согласился Карплюк. Мартинец весело засмеялся. — Если хорошо будешь себя вести, что-нибудь оставим и для тебя. — Сегодня? — Какой быстрый! Сегодня посидишь немного, и бывай здоров. — Я согласен. — А если согласен, подвезешь пана Рутковского. Я еще должен заехать за Гизелой. Это предложение устраивало всех, особенно Карплюка. Обрадовался до того, что открыл перед Рутковским двери, и Максим подумал, что, возможно, за каждый очередной донос служба охраны станции платит ему аккордно. Карплюк имел довольно дорогой для его заработков «опель». Поговаривали, правда, что он понемногу и довольно успешно играет на бирже вместе с Кочмаром (отсюда и благосклонность последнего), и не без оснований, так как Максим несколько раз видел, как пан Степан изучал биржевые ведомости и делал выписки из них. Более того, на глазах у самого Кочмара: другому шеф обязательно сделал бы замечание за такое нарушение дисциплины — Карплюку все сходило с рук. Пан Степан вел машину осторожно и потихоньку, и Максим вдруг чуть не захохотал, представив, как Карплюк пишет доносы. Наверное, вертит головой так же, как сейчас, прищуривает правый глаз и долго смотрит на бумагу, решая, стоит ли немного добавить к тому, что на самом деле сказал тот или иной работник, — и добавляет, прохиндей... Будто в ответ на эти мысли, пан Степан вертел головой, кажется, только одним глазом взглянул на Рутковского, ибо другим следил за улицей, спросил: — Так что пан Максим думает о сегодняшней конференции? Говорят, что этот Засядько не в себе и сумасшедший дом по нему давно плачет. Рутковский напустил таинственность на лицо. — Хочет ли пан знать мое настоящее мнение? — спросил. — Конечно. Пан такой умный, и к его мнению прислушиваются все. — Так вот, — ответил Рутковский веско, — я давно не слышал такого содержательного выступления, как сегодня. — И пан не смеется? — Не до смеха. Если конференцию вел сам пан Мак, значит, ей придают значение, и все сомнения неуместны. — Я нисколько не сомневаюсь... — Да, мне известны взгляды пана, и за это я вас глубоко уважаю. — Приятно слышать это из уст нашего молодого коллеги. — Карплюк повернул шею так, что казалось, голова на ней не удержится. Пошевелил ушами от удовольствия и признался: — О пане говорят всякое и не всегда хорошее, но это от зависти. Пан Сопеляк... — Пан Сопеляк живет старым багажом. — Если бы не пани Ванда, его давно бы уволили. Так вот, пан Сопеляк считает, что вы слишком радикально настроены. — Мое мнение разделяет пан Роман. — И я также. — Всегда приятно иметь единомышленника, — признался Максим, однако не очень искренне: этот долгошеий примитив не вызывал ничего, кроме отвращения. К счастью, уже подъезжали к дому Мартинца — правда, всю проезжую часть перед домом заняли автомобили, пришлось остановиться за углом. Сразу за ними подъехали Иван с Гизелой. Карплюк, увидев девушку, застыл с наклоненной набок головой, будто прислушивался к чему-то, глаза сделались маслеными. Гизела была не очень красивой, но какой-то вызывающей; не шла, а демонстрировала себя, как хорошая манекенщица, — несла свои прелести, предлагая всем полюбоваться ими. Увидев, как застыл Карплюк, уставившись на нее, остановилась, выставив немного вперед и в самом деле красивую длинную ножку. Взмахнула ресницами. — Гизела, не соблазняй дедушку, — одернул ее Мартинец. Карплюк бросил на него взгляд, полный ненависти. — Вы никогда не отличались тактичностью, — заметил зло. — Да, мои манеры всегда требовали усовершенствования, — захохотал Иван, — однако я не жалею об этом. — Напрасно. — Я познакомлю вас с еще лучшей девушкой. — Лучшей быть не может! — совершенно серьезно возразил Карплюк. Гизела подняла на него глаза и сразу же стыдливо опустила их. — Действует безотказно, и даже я когда-то проглотил эту приманку. Гизела, я сейчас отвезу тебя домой. — Я не хочу домой. — Тогда веди себя порядочно. — Я буду хорошей... — Взяла Ивана под руку, но все же незаметно подморгнула Карплюку, и он пошел за ними, качая головой, как собака, которая плетется за хозяином, ожидая подачки. Стефа ждала их около подъезда. Ей повезло, отъехал какой-то автомобиль, и Луцкая пристроила свой «фольксваген» на его место. Она посмотрела ревниво-изучающе на Гизелу и подставила ей щеку для поцелуя — прежде уже встречались у Максима на квартире. Прижалась к Рутковскому, и он обнял ее за плечи. Стефа ни на что не претендовала, не привередничала, Максима это устраивало, и не потому, что был эгоистом, просто знал, что его отношения с Луцкой были продолжением той же игры, которую вел в Мюнхене: тут был свой образ жизни, и он бы выглядел белой вороной, если бы не имел дамы. Женщины пошли на кухню готовить закуски, а Мартинец, поставив пластинку с записью танцевальной музыки, танцевал один посередине комнаты. Он умел танцевать, имел хороший слух и чувство ритма, не просто переступал с ноги на ногу, как танцует молодежь, жил танцем, казалось, забывал обо всем, кроме танца, и весь светился радостью. Карплюк смотрел некоторое время, как танцует Мартинец, и сказал осуждающе: — У вас, пан Иван, ноги как на шарнирах. Могут открутиться... Мартинец махнул рукой. — Вам не испортить мне настроение, — только и ответил. — Но учтите, живу на двенадцатом этаже и дверь на балкон открыта... Карплюк невольно посмотрел на открытую балконную дверь, а Иван злорадно погрозил ему пальцем. — Я, когда напиваюсь, делаюсь буйным, — предупредил Мартинец. Карплюк инстинктивно передвинулся в глубь комнаты. — Не сходите с ума, пан Иван. Нам на сегодня хватит одного... — Ну, я вам скажу! — Мартинец повалился на кресло. — Комедия, да и только. Давно такого не видел. — Вот-вот! — поддакнул Карплюк, задвигал ушами. — Типичный сумасшедший. Вы же видели, как сам мистер Мак... — Что Мак! Игра идет по большому счету. Не удивлюсь, если сам американский президент примет Засядько. — Ну? — предостерегающе поднял руку Рутковский. — Надеюсь, до этого не дойдет. — Максиму хотелось как-то предупредить Мартинца, чтобы не очень раскрывался перед Карплюком. В принципе Мартинец нравился ему своей искренностью и непосредственностью, на РС никто не осмеливался быть хоть чуть-чуть самим собой, а Иван не держал язык за зубами, и говорили, что его вызывал и предупреждал сам Лодзен. — Может, президент и побрезгует принять Засядько. — Мартинец танцевал какое-то странное танго. — Кому охота быть оплеванным? В прямом и переносном смысле? — Так вы думаете? — вытянул до конца шею Карплюк. — Бедные мы и несчастные, если делаем из Засядько фигуру. — Ну какая же Засядько фигура! — попробовал еще раз одернуть его Рутковский. «Да, — подумал, — какое мне дело? В конце концов, этот Мартинец также подонок. Правда, другой на его месте сидел бы и не чирикал, а этот хорохорится, выходит, что-то человеческое сохранилось в нем». — Какая фигура? — рассердился вдруг Мартинец. — Неужели ты не видишь? На этой неделе на нескольких языках передадут интервью с Засядько. Может быть, кто-нибудь услышит, поверит... А мы говорим: станция «Свобода», правдивая и честная информация, слушайте нас... — Вот-вот, — похвалил Карплюк. — У пана Ивана есть свое мнение, и к нему нужно прислушаться. — И, исходя из этих соображений, вы перескажете его завтра Кочмару? — уставился на него Мартинец. Да, он не такой простой, Иван Мартинец, знает, с кем имеет дело, но должен также знать, что Кочмара ему не побороть, — на что же рассчитывает? Возможно, просто не может держать язык за зубами? Есть такой тип людей: ничего не пожалеет для красного словца. Шея у Карплюка сама собой спряталась в воротник и голова виновато склонилась набок. — Пан Иван, я не такой! — Такой или не такой — посмотрим. — Клянусь вам, может быть, кто-нибудь... — недвусмысленно покосился на Рутковского. — Максима не трогайте! — сразу понял его Мартинец. — Он еще не испорченный. — И сам пан Лодзен ему доверяет. — Все вам известно... Но... — Мартинец увидел, что девушки несут блюда с закусками. — Но сегодня у нас ветчина и красная рыба. Вам известно, сколько стоит красная рыба, пан Карплюк? Ладно, я не буду портить вам аппетит, но должны знать, что семгой нужно закусывать только водку, желательно «Столичную», и как раз такую мы и будем пить. — Надоело виски, — согласился Карплюк и потер руки. — Да-да! — выкрикнул Мартинец. — Но «Столичная» — это еще не все. Сегодня я вас угощаю, господа... Угадайте чем? — Армянским коньяком? — вытянулась шея из воротника у Карплюка. — Нет, господа, есть горилка с перцем! — Для женщин! Только для женщин, — предложила Стефа. — Хотя бы по маленькой рюмочке... — попросил Максим жалобно. — Только по маленькой. Семга и в самом деле оказалась вкусной, Рутковский отдал ей должное. Карплюк выпил две полные рюмки водки, немного опьянел, налил до краев третью, поднял и начал торжественно: — Предлагаю тост... Выпьем за нас, за наши идеи. — И у вас есть свои идеи? — не без ехидства спросил Мартинец. — Интересно... — Да, есть, — качнул головой Карплюк, — и горжусь этим. — Кажется, во время войны вы работали на киевской бирже труда? — Да. — И сколько парней и девушек отправил пан в Германию? Карплюк втянул шею в воротник. — Каждый делал свое дело... — Конечно, один просто стрелял из автомата в Бабьем Яру, другой отправлял эшелоны с рабочей силой! — Бросьте эти упреки. Сейчас многие американцы считают ошибкой, что поддерживали Советский Союз во время войны. Поговорите с паном Лодзеном... — Я знаю его точку зрения. — А если знаете, то чего цепляетесь ко мне? Вон Панченко: оберштурмфюрер СС — и никто его не упрекает. — Э-э, господа, — остудила их Луцкая, — зачем вы спорите. Немцы были огромной силой, и этим грех было бы не воспользоваться. — Так же, как сейчас американцы, — подтвердил Карплюк. — А мы можем только болтать... — Подгавкивать... — уколол Мартинец. — Разве важна терминология? — Стефания допила водку. Смотрела холодно. — Пора понять, что без американцевне будет ни нас, ни радио, ни черта. Единственный наш шанс вернуться на Украину... — С помощью американских штыков? — Злость вдруг закипела в Максиме. Луцкая удивленно посмотрела на Рутковского: что с ним? Но Максим уже взял себя в руки: зачем выскочил? Тут все, кроме Гизелы, которой до лампочки эти проблемы — было бы вино и музыка, поют одно, возможно, на разные голоса, но хор, в конце концов, единый. И его дело — молчать, слушать и запоминать. Вот так, Максим Рутковский, молчи и слушай, действительно уникальную водку с перцем закусывай баварской ветчиной, русской семгой и запоминай, ибо память сейчас — единственное твое оружие.Весной Рутковский наконец купил автомобиль. Выбрал «фиат» красного цвета, хорошую мощную машину, способную делать сто пятьдесят километров в час. Это событие обмыли после работы в буфете, и Максим на практике убедился, что «фиат» дает ему еще одно преимущество: теперь мог спокойно воздерживаться от спиртного, все пили виски и шнапс, а он минеральную, и это ни у кого не вызывало возражений: зеленый водитель, и действительно, не годится с первых же дней развращать его. На протяжении зимы Рутковский изучал систему охраны и прохождения документов на станции. Работа начиналась в половине десятого, в десять был пятнадцатиминутный перерыв на второй завтрак. Между двенадцатью и четырнадцатью часами в буфет привозили обед. Работа заканчивалась в полшестого. Оставаться после работы на станции могли дежурные редакторы, дикторы, а также работники, имеющие на это специальное разрешение начальства. Приблизительно до половины восьмого вечера в комнатах убирали, в девять вахтер закрывал их. Комнаты запирались только из коридора, и уединиться в них не было никакой возможности, что, конечно, не очень нравилось Рутковскому. Вынос каких-либо бумаг из помещения станции строго запрещался. Правда, вахтеры редко когда контролировали портфели и сумки сотрудников, однако такие случаи бывали, и виноватых в нарушении этого правила немедленно увольняли с работы. Еще готовясь к выезду за границу, Рутковский детально ознакомился со структурой и направлением деятельности РС, деятельности, которая является наглядным примером того, как империалистические разведчики последнее время уделяют все больше внимания организации и проведению идеологических диверсий, подготовке провокаций, поддержке антигосударственных элементов и другим формам вмешательства во внутренние дела Советского Союза, а результаты этой идеологической диверсионной деятельности в свою очередь проверяются шпионажем.
Рутковский детально изучил процесс прохождения секретной почты на РС, в том числе и сообщений корреспондентов. Сначала такие материалы отрабатывались офицерами разведки, в руках которых находилась секретная картотека информаторов РС. В нее заносились фамилии тех, кто когда-нибудь давал сообщения для РС. Потом донесения шли к Джеку Лодзену. Отдел, который возглавлял полковник, был фактически мозговым центром разведывательной службы РС. Из украинской редакции за донесениями ходила Катя Кубиевич. Каждое из них регистрировалось в журнале. Копию донесения секретарь прятала в сейфе, оригинал вместе с конвертом, где находились данные об информаторе, получал Роман Кочмар — он передавал его аналитику для обработки. Аналитик заглядывал в конверт, где были данные об информаторе. Если это имя уже фигурировало в картотеке отдела Кочмара, в нее вносились новые данные, собранные корреспондентом. Если информатор не имел личной карточки, она заводилась. Таким образом, каждый информатор регистрировался дважды — в специальной картотеке информаторов и в картотеке отдела Кочмара, где работал Рутковский. Эта картотека хранилась в сейфах, ключи от которых лежали в главном сейфе, а ключ от него уже неделю тому назад Максим получил от Олега. Сегодня в обеденный перерыв, увидев, что Кочмар немного «под газом» и в благодушном настроении, Рутковский подошел к нему. — Помните, пан Роман, — знал, что Кочмар любит, когда работники обращаются к нему полуофициально, — вы обещали отпускать меня на уроки немецкого языка. Кочмар хитро прищурился. — Помню, я все помню, мой друг, даже наш договор о том, что вы будете отрабатывать пропущенные часы. — Конечно, — ответил Рутковский без энтузиазма. Именно ради этого и заварил всю эту кашу, однако Кочмар должен думать, что работать в вечерние часы Максиму неприятно. — Я согласен отрабатывать вечером, и надеюсь, вы будете довольны мной. — Когда начнете? — С завтрашнего дня. Три или четыре раза в неделю я буду приходить на два часа позднее. — И работать до половины восьмого вечера? — Да. — Завтра я дам распоряжение Кате. — Может, выпьете коньяку, пан Роман? — С удовольствием. Рутковский глотнул минеральной воды и потихоньку вышел из буфета. Еще издали увидел свой красный «фиат» на стоянке напротив РС. Машина нравилась ему — честно говоря, специально выбрал красного цвета, решил, что хоть это может себе позволить: ездить в красной машине. Запустил двигатель, включил радио и долго сидел, свободно откинувшись на спинку сиденья, и с наслаждением ощущал горьковато-терпкий запах автомобиля. Днем звонила Стефа, предложила покататься — нашел какой-то пристойный повод для отказа. Хотелось побыть одному. «Фиат» принес ему совсем новое, неведомое до сих пор чувство уединенности, как будто автомобиль отделял от внешнего мира, отгораживал, обособлял. Максим поймал в радиоприемнике грустную мелодию, сидел, слушал и курил, и его не покидало удивительное ощущение, будто сейчас он далеко. Наконец поехал, выскочил за город и мчался, не очень разбирая куда. Лишь бы ехать, наслаждаться музыкой, скоростью новой машины и размышлять о завтрашнем вечере. Завтра начинается настоящая работа, ради которой он вот уже год здесь, в Мюнхене. Максим ощупал карман: аппаратуру дали новейшую, почти не занимает места и работает безотказно. Мысли о технике и о завтрашнем дне отрезвили Рутковского: остановился возле бензозаправочной станции, рядом с которой светились окна кафе, выпил две чашки крепкого кофе и повернул домой. Максим вышел на работу в половине одиннадцатого. Заглянул к Кате Кубиевич — секретарша заполняла регистрационные журналы, делала это старательно, высунув кончик языка. Рутковский подкрался незаметно сзади, пощекотал шею девушки. Отмахнулась, как от надоедливой мухи, и тогда Рутковский положил рядом с регистрационным журналом плитку шоколада. Знал Катину любовь к сладкому и время от времени дарил ей шоколад или конфеты. На фоне общей скупости эти подарки выглядели чуть ли не королевскими подношениями. Катя, должно быть, расценивала их как проявление симпатии, даже больше, но боялась потерять благосклонность Кочмара — ей и нравилось обольщать Рутковского, и было страшно, потихоньку кокетничала с ним, все время озираясь, не замечает ли чего-нибудь грозный шеф. — Какой вы милый, пан Максим! — Катя на всякий случай положила шоколад под бумаги. — Шеф уже интересовался вами, и я сказала, что опаздываете на два часа. — Вы умница, Кетхен, что бы мы все делали без вас! — Вы всегда угождаете мне. — Угождать вам — долг каждого мужчины. — У нас так мало настоящих мужчин. — Просто они постарели и утратили боевую форму. Кроме нашего шефа: почему-то он только молодеет. — Почему же? — У него особая причина. — Какая же? — Этого я не могу сказать вам, Кетхен. — Мне так интересно... Скажите! — Зависть съедает меня, Кетхен, черная зависть. — А я слышала, что панна Стефа... — Все, Кетхен, познается в сравнении. Панна Стефа — чудо, но есть еще женщины... Катя незаметно оглянулась на двери кабинета Кочмара. Поднялась из-за стола, придвинулась к Рутковскому. — Если вы захотите... — прошептала многозначительно. Однако излишняя Катина привязанность не входила в планы Максима. — Я всегда хочу очень много, и требовать этого от вас, Кетхен, трудно... Мы поговорим еще на эту тему... — Так же осторожно оглянулся на двери Кочмара, и Катя скисла. Рутковский подумал, что можно будет когда-нибудь покатать Катю в «фиате», хотел даже предложить небольшую субботнюю прогулку, но двери кабинета открылись, и в приемную выглянул шеф. Катя изобразила на лице недовольство. «Дура дурой, — подумал Максим, — а какая-то женская интуиция подсказывает ей правильную линию поведения». Катя сказала громко, чтобы услышал Кочмар: — Каждый факт вашего опоздания я зафиксирую в ведомость с последующей отметкой — отрабатываете ли. — Деловая постановка вопроса, — похвалил Кочмар. — Сегодня прошу задержаться после работы. Проанализируете два свежих сообщения корреспондентов. — Слушаюсь, пан Роман. — А сейчас идите и работайте! — Кочмар не любил, когда кто-то из сотрудников, особенно молодых, крутился возле Кубиевич. Рутковский пошел не оглядываясь. Примитивный флирт с Кетхен оставил неприятный осадок, и слава богу, что случился пристойный повод для отступления. Максим работал достаточно продуктивно и до конца дня фактически выполнил работу, назначенную Кочмаром на вечерние часы. Хотел, чтобы ничто не мешало вечером заняться картотекой информаторов. В половине шестого, когда все, как по команде, поднялись и стали закрываться ящики, Максим поймал несколько сочувственных взглядов. Заглянул в комнату Мартинец. — Ты чего, старик, не заканчиваешь? — спросил. Рутковский рассказал, в чем дело. Иван искренне расстроился. — А я рассчитывал на твой лимузин, — признался. — Свою развалюху отдал в ремонт. — Ты с Гизелой? — Нет, старик, такой экземпляр объявился... — Ну и мотай со своим экземпляром! — рассердился Максим. — Не знаю, что и говорить Стефе. — На фоне моей неверности острее почувствует твое постоянство. Кроме того, такой экземпляр, что и Стефа удивится. — Где откопал? — Захожу вчера вечером в «Краб». Знаешь, кабак напротив моего дома... Сидит — и одна. Такой экземпляр, и одна, просто неимоверно. Я ее на абордаж, покапризничала немного, но тебе известно, я пустых номеров не тяну... Хвастовство Ивана иногда забавляло, иногда раздражало Максима. Хотя отдавал должное Мартинцу: тот умел знакомиться с девушками и кружить им головы. Бывало, только зайдут в какой-нибудь ресторанчик или кинотеатр, Рутковский еще не успел оглядеться, а Иван уже тащит какую-то красавицу. — Может, мы тебя подождем? — предложил Мартинец. Максиму только этого не хватало: чтобы Иван зафиксировал, что оставался на работе еще на один час. Отказался категорически: — Завтра... Завтра давай свой экземпляр, поедем в Швабинг, я уже договорился со Стефой. Мартинец ушел, а Рутковский, разложив на столе бумаги, сделал вид, что работает. С нетерпением ждал прихода уборщицы: чем раньше она закончит работу, тем больше он будет иметь времени для ознакомления с картотекой. Уборщица оказалась еще молодой и достаточно привлекательной — Максим подумал, что Мартинец никогда бы не обошел ее вниманием. Тем более что имела звучное имя — Розалинда; но про это Рутковский узнал потом, теперь же стоял, постукивая от нетерпения ногой, и ждал, пока уборщица закончит свою работу. Наконец Розалинда ушла, теперь она работала в соседней комнате, где стоял стол Кати Кубиевич. Из этой комнаты вели три двери: в комнату Максима, Кочмара и еще одна — в коридор. Из комнаты Максима можно было пройти еще в одну справа, где стояло четыре стола. Оттуда также двери вели в коридор; итак, не имели прямого выхода в коридор лишь комнаты Рутковского и Кочмара, а именно в них стояли сейфы с ключами и картотеками. Пока Розалинда убирала соседнюю комнату — приемную, как любил называть ее Кочмар, хотя, кроме Кати Кубиевич, здесь сидели еще двое сотрудников, Максим подготовил аппаратуру. Наконец за уборщицей в последний раз захлопнулась дверь, Рутковский подождал несколько минут и, уверившись, что все спокойно, открыл главный сейф. Впоследствии его приходилось открывать не один раз, это стало привычным и будничным, но в тот первый вечер замок щелкнул так, что казалось, это услышали во всем здании: как выстрел пистолета, даже громче. Максим инстинктивно отступил. Постоял минуту, прислушиваясь. Тишина, и только кровь стучит в висках. Достал из первого сейфа карточки. Разложил и впервые нажал на кнопку микрофотоаппарата. Подумал: «Что это за человек, который дал информацию на РС? Может, случайно или по недомыслию? Выехал человек за границу, а тут к нему корреспондент: что может он сказать по такому-то поводу, нас очень бы интересовало именно ваше мнение... И начинает человек разглагольствовать, забыв про все и не замечая, что попал в ловко расставленные сети. А может, какой-то диссидент? Сколько их, к сожалению, хотели бы попасть на «Свободу»! Мелкие политиканы, которые считают себя борцами за права человека, образовывают какие-то комитеты, выступают с заявлениями...» Рутковский жестко усмехнулся. Попали бы сюда, в Цирндорф, прописали бы вам права — навек бы расхотелось. Щелк, щелк... Максим работал до половины девятого. Еще пять минут для того, чтобы навести в комнате порядок. Закрыл главный сейф и в восемь тридцать пять, за двадцать пять минут до того, как вахтер закрывает дверь, вышел в коридор с чувством человека, который достойно исполнил свой долг.Документальное подтверждение:
В официальных инструкциях перед РС ставится такая цель: «...сеять враждебность между народами Советского Союза и народами других социалистических стран; подрывать доверие к СССР, характеризуя Советскую страну как «некапиталистическую» державу; распространять дезинформацию, подрывать веру в военную и экономическую мощь социалистических стран, разжигать националистические чувства». В секретных американских документах, подписанных президентом Комитета радио «Свобода» в марте 1971 года, находим такие инструкции для комментаторов и редакторов РС: «Мы должны помогать слушателям действовать эффективно, чтобы изменить существующую советскую систему...» «Радиостанция может предоставить много информации, которая будет очень полезна при создании общих платформ для осуществления сопротивления режиму. Наши передачи должны заставить людей сомневаться в советской системе и в действиях Советского правительства». В документе «Общее руководство по передачам радио «Свобода», утвержденном советом редакторов и бывшим президентом Комитета радио «Свобода» Х. Сарджентом в январе 1974 года, подчеркивается, что «...радио «Свобода» не согласно с коммунистической идеологией и открыто выступает против многих особенностей советской системы».
«Экземпляр» Мартинца оказался действительно неплохим. Девушку звали Ева. Появилась она в такой мини-юбке, что даже у видавшего виды Ивана вытянулось лицо: бедра Евы обтягивала лишь узкая полоска темной ткани, и Максим сначала подумал, что девушка пришла в купальнике. Правда, Еву это не очень портило — имела красивую фигуру, в конце концов, каждый может показывать свой товар как хочет. А в том, что в данном случае товар первосортный, не могло быть никаких сомнений. Заехали за Стефой, и Максим уступил ей руль: девушка хорошо знала город и чудесно водила машину. Кроме того, новый автомобиль, как новая кукла, — всегда привлекает. Где поместила машину Стефа, для Рутковского осталось загадкой: здесь, в Швабинге, всегда столпотворение: автомобиль на автомобиле, целые потоки людей, которые приехали искать развлечений. Вызывающе одетые девушки, стоящие не так уж дорого; чуть ли не впритык друг к другу ресторанчики, бары, пивнушки, сомнительные заведения, где можно увидеть порнографический фильм или стриптиз. Сутенеры, швейцары с таинственными лицами и реклама, реклама, реклама... Газовые лампы всех цветов, фотографии, рисунки, манекены в витринах. Вышли из машины, к Рутковскому подбежал человек в приталенном костюме. — Марихуана? — спросил. — Или чего-нибудь покрепче? Максим лишь рукой махнул, и человека будто ветром сдуло. Бизнес с наркотиками сложный, требует знания людей, вкрадчивости, умения сразу и незаметно исчезнуть. Рядом бородатый, однако совсем еще молодой художник разрисовывал цветным мелом асфальт, и прохожие изредка бросали пфенниг в лежащую рядом шляпу. Музыкант тянул что-то жалобное на скрипке; громко хохоча, прошла молодежная компания, наверное студенты: веселые, волосатые, в джинсах и расстегнутых на груди рубашках. Швабинг напоминал Рутковскому Латинский квартал, хотя он никогда не был в Париже, просто из прочитанного и слышанного: тут также собираются студенты, литераторы, артисты, художники, их поклонники. Сидят в винных погребках, открытых кафе, дорогих и дешевых ресторанах. Тут есть все на разные вкусы и на разные карманы: мартель, золотистое рейнское вино и дешевое итальянское столовое в одной цене с минеральной водой. Мартинец повел их в винный погребок, где можно было выпить хорошего французского вина, во всяком случае хозяин, дородный баварец, клялся в этом и говорил, что такое вино подается только завсегдатаям. Максим заглянул Стефании в глаза, но не увидел в них отражения своего настроения: она курила длинные женские американские сигареты с двойным фильтром, затягивалась всего несколько раз и гасила в пепельнице, чтобы чуть ли не сразу зажечь новую. Взял девушку за локоть, спросил: — Что случилось, Стефа? — Почему ты так решил? — Немного нервничаешь... — Просто настроение.... — Кто испортил? — Брось!.. Мне испортить трудно. — И все же?.. — Было много работы. — Твой шеф, кажется, не отягощает тебя. — Много ты знаешь! — Не очень много, но не так уж и мало. Говорят, пан Стецько собирается в очередной заграничный вояж? — Кто говорит? — Все. Секрет Полишинеля. Тем более что господину премьеру не привыкать... Стефания недовольно поморщилась. Но ее можно было понять: кому приятно, когда ругают твоего руководителя, однако и возразить не могла. Действительно, куда только не носило в последнее время престарелого председателя АБН[32] с супругой, известной под кличкой «Муха»: Сайгон и Тайвань, Испания и Португалия, Турция и Южная Америка... И везде канючит и дает обещания, не брезгует ничем. Позорное поведение Стецько вызвало возмущение даже в его ближайшем окружении. Рутковский слышал от Юрия Сенишина о наглом присвоении «господином премьером» денег организации. Через несколько лет после войны Стецько вместе со своими приспешниками Николаем Лебедем и финансовым референтом Осипом Васьковичем устроили в Мюнхене, на Фюрихштрассе, хорошо законспирированную типографию для печатания фальшивых долларов, которые потом пачками продавались на черном рынке.
Документальное подтверждение:
«Стецько — политический проходимец. Он паразитирует на нашей организации, тратит наши деньги сколько хочет и как хочет, не отчитываясь ни перед кем. Ведет себя среди нас как удельный князь. Это, так сказать, пример нашего эмиграционного единства».(Из выступления одного из бывших членов «Стецьковского «провода» Ярослава Бенцаля». Газета «Вести с Украины» за 25 января 1973 г.)
«Настоящая цель, вдохновлявшая Стецько — Карбовича, заключалась в его несоразмерных с собственными возможностями притязаниях. Этот незрелый тип без должного опыта и подготовки, все знания которого сводятся к нескольким десяткам бессистемно прочитанных книг, а практика — к изданию нескольких бюллетеней и статей гимназического уровня... пожелал стать «духовным вождем».Стефа смерила Рутковского острым взглядом. Могла быть кроткой, нежной, но иногда становилась колючей и, казалось, не хорошенькие пальчики, а когти прятала в перчатках. — Завтра можешь освободиться вечером? — спросила внезапно. — Должен отрабатывать. — А если очень нужно? Рутковский подумал: если уж Луцкая говорит — очень нужно, дело действительно неотложное. Зимой он несколько раз хотел через Стефу установить связь с оуновскими кругами, однако Луцкая вела себя очень осторожно, и все его попытки были напрасными. А сейчас сама что-то предлагает... Рутковский интуитивно ощущал: что-то стоит за Стефиным предложением, но что? — Очень нужно... — пробормотал недовольно. — Что, собственно? — Есть интересное дело, и с тобой хотел бы встретиться один наш человек. — Кто именно? — Увидишь. — Согласно инструкции обо всех таких встречах я должен сообщить руководству станции. Луцкая посмотрела на Мартинца, не подслушивает ли — тот оживленно болтал с Евой, — успокоилась и тихо сказала: — Наш человек, понимаешь — наш, у него есть какое-то предложение. — Хорошо, — согласился Максим, — ты — умница, и я доверяю тебе. Стефа похлопала Максима по щеке. — Завтра в восемь в гостинице « Регина-Палас». Буду ждать тебя в холле. — Встреча с тобой — всегда праздник. — Максим обнял Стефу, притянул ее к себе, заглянул в голубые глаза и подумал, что они действительно бездонные, и кто знает, что скрывается в их голубизне? А Стефа смотрела нежно, сейчас она действительно любила его, глаза излучали тепло, обещали неизведанное, если может быть что-нибудь неизведанное в девичьих глазах. На следующий день синий «фольксваген» Луцкой без пяти минут восемь уже стоял возле гостиницы, а сама она сидела в холле. На ней был темно-синий, чуть ли не черный костюм, и волосы подобраны наверх — такую прическу Максим видел у нее впервые, она делала Стефу старше, непохожей на ту, которую он знал: ветреную, бесшабашную и даже немного странную. Увидев Максима еще издалека, Стефа не стала ожидать, пока он подойдет: поспешила навстречу, но не подставила, как обычно, щеку для поцелуя, а подала руку, подчеркивая официальность или, может быть, значительность их встречи. — Господин Зиновий уже ждет вас, — сообщила и пошла к лифту, двери которого, кланяясь, открыл им швейцар. От лифта до номера, где остановился господин Зиновий, вел широкий коридор, устланный ковровой дорожкой. Максим попробовал взять Стефу под руку, но девушка решительно отстранилась, даже слишком резко, это немного обидело Рутковского, и он замедлил шаг. Луцкая остановилась и обернулась. — Ведешь себя как мальчишка, — сказала с укором, — а у тебя важная встреча. — Скажи хоть с кем, кто он — господин Зиновий? — Сам представится. — Такой секрет? — Без этого нельзя. Она пошла не оглядываясь: была уверена, что Рутковский двинется следом. Номер, который занимал господин Зиновий, оказался просторным и роскошно меблированным. Слева — дверь в спальню, справа — в кабинет с огромным светлым письменным столом. В гостиной большой ковер, мягкая мебель, сервант с дорогой посудой, и среди всей этой роскоши стоял худой и длинный, совсем лысый мужчина в темном, несколько старомодном костюме, в белой рубашке с галстуком-бабочкой. Стефа, как хорошо вышколенная секретарша, отступила в сторону, пропуская Максима. — Господин Максим Рутковский, — представила. Высокий сделал шаг к Рутковскому, протянул руку и представился: — Зиновий Лакута. И мне очень приятно познакомиться наконец с братом всеми нами уважаемого господина Сенишина, тем более что я слышал о вас много хорошего. «Стоп, — подумал Максим. — Зиновий Лакута... Подождите, кто же такой Зиновий Лакута? Ага, вспомнил: один из помощников Стецько, и вообще они старые коллеги, вместе вступали во Львов с легионом «Нахтигаль». Лакута командовал в «Нахтигале» взводом и руководил несколькими кровавыми акциями, проведенными против львовской интеллигенции в первые дни войны». Еще один экскурс в прошлое. ...Колонна машин медленно продвигалась по разбитому асфальтированному шоссе, и Зиновий Лакута уже видел на светлеющем фоне неба далекие контуры Львова. Он сидел рядом с водителем тупорылого мощного тяжелого «мерседеса», сжимал в руках автомат, и ему все время хотелось подогнать шофера — ведь впереди Львов, город, который он не видел почти два года и возвращением в который грезил. Но сейчас не сон, а действительность, вот она, грубая действительность: в шуме моторов, грузовиков с солдатами, в разбитом асфальтированном шоссе, в шпиле привокзального костела, который все время приближается... Не было в этом ничего торжественного и возвышенного, что украшало его сны, делало их розовыми и сладкими, но было напряжение ожидания, настоящая тревога и радость оттого, что наконец ты входишь в повергнутый город хозяином, не таким, как раньше, маленьким, мизерным, незначительным, а победителем — и все должны подчиняться тебе. Пошли предместья, потом длинная Городецкая. Лакута опустил стекло в окне — дышал львовским воздухом, шины грузовика касались городской брусчатки, с обеих сторон уже тянулись потемневшие от времени знакомые дома, однако не было той радости и душевного подъема, которые ему представлялись, тревога охватила сердце, тревога и даже страх. Сначала он не понял почему, но, как ни удивительно, понять реальность помог молчаливый шофер, который процедил сквозь зубы: — Как будто вымерло все... И действительно, на длинной Городецкой и боковых улицах они не заметили ни одного человека, будто город в самом деле вымер, а он представлял себе чуть ли не торжественную встречу с музыкой и цветами, речами в их честь. А люди не выглядывали даже из окон, и гнев и злость пробуждались в Лакуте. Легион продвигался вперед. Возле вокзала появились наконец одинокие фигуры прохожих, машины спустились вниз к центру, остановились вблизи оперного театра, и Лакута выпрыгнул на брусчатку. Через задний борт грузовика спрыгивали солдаты, его подчиненные, они толкали друг друга, разминаясь, шутили и рассматривали город — для одних знакомый, другие впервые попали сюда, им было все интересно: и дома, стоящие впритык вдоль улицы, и громада театра, и деревья бульвара, который начинался сразу же от театральной площади. — Господина взводного к обер-лейтенанту! — подбежал солдат, остановился, приложив палец к пилотке, ел глазами, и Лакуте стало хоть немного легче: вот они, порядок и дисциплина, будет установлен такой же порядок в городе, и красные скоты станут дрожать перед ними. Он с удовольствием осмотрел солдат своего взвода, одетых в мундиры вермахта. Единственное, что отличало их от гитлеровских вояк, — желто-голубая полоска на погоне; что ж, какое это имеет значение, главное, что вермахт проложил дорогу сюда, а тут уж им и карты в руки, это пустяки, что они будут действовать вместе с эсэсовцами, пусть хоть с самим дьяволом, слава богу, вернулись на Украину. Лакута одернул мундир и побежал к головной машине, где находился обер-лейтенант Оберлендер. Тут толпились ротные и взводные — офицеры легиона «Нахтигаль». Лакута щелкнул каблуками, докладывая. Оберлендер глянул искоса, кивнул и продолжил дальше: — Господа офицеры, сейчас расквартируемся, указания получите от господина Шухевича. Отдых короткий, повторяю, короткий, так как дел у нас много, и уже сегодня мы должны начать акции. Через час взвод Лакуты разместился вместе с другими в бурсе Абрагамовичей. Солдаты, кто раздевшись, а кто в одежде, сняв только сапоги, растянулись на кроватях, а Лакута отправился к Роману Шухевичу — коменданту, как его называли, и правой руке Оберлендера. Шухевич сидел возле стола, заставленного бутылками со шнапсом, тарелками с колбасой, жареной рыбой, огурцами. Каждый наливал себе, сколько хотел, ели, бросая объедки прямо на стол, никто не обращал на это внимания, разговаривали, не слушая друг друга, пока наконец господин Роман не возвысил голос, призывая к порядку. Сказал коротко и весомо, как и надлежит человеку, который имеет конкретную власть: — Мы должны навести порядок в этом городе и будем делать это всеми способами. Начнем с интеллигенции, пожалуй, с профессоров и докторов, и я призываю вас быть беспощадными. — Списки! — крикнул кто-то. — Фамилии и адреса! Шухевич победно поднял над головой обычный телефонный справочник. — Вот списки! — помахал он им в воздухе. — Тут обозначено: профессор, доктор... И я прошу вас не церемониться... Несколько телефонных справочников лежало на столе, и Лакута успел схватить один. Послюнив палец, он быстро листал страницы. Неужели нет? Однако ж у профессора университета должен быть телефон. Вот страницы на букву «В»... Валявский... Оказывается, тут есть четверо Валявских, но среди них один Евгений, и помечено: «проф.». Вот так, уважаемый профессор, наконец мы увидимся еще раз, если вы не сбежали с красными... Засосало под ложечкой: неужели сбежал? Нет, не может поступить так подло, лишить его, Зиновия Лакуту, сладких минут расплаты. Лакута вспоминал, как когда-то этот профессор заставил его дважды сдавать экзамен по древней истории, и еще насмехался, читал мораль, удивлялся, как можно не знать элементарных истин, ведь каждому интеллигентному человеку известно о Юлии Цезаре больше, чем ему, студенту второго курса университета... Лакута проглотил эти обиды, руки и ноги дрожали от злобы, но что мог сделать студент профессору, да еще такому известному, как Евгений Валявский? Глупые студенты боготворили его, бегали на лекции, аплодировали. Ну хорошо, знает, сколько ран нанесли Цезарю и что только последняя оказалась смертельной, что из того, если неизвестно тебе, сколько и как будут тебя хлестать знаменитые «соловушки» из взвода Лакуты, которого ты так неосмотрительно срезал на экзамене? Лакута поднял взвод по тревоге, приказал построиться, обошел строй, всматриваясь в лица солдат. — Сегодня развлечемся, ребята, — пообещал, — и каждый сможет отвести душу, как захочет. — Руки чешутся! — выкрикнул кто-то. — Думаешь, у меня не чешутся? — засмеялся Лакута. — Пойдем, ребята, машина ждет. Автомобиль затормозил на улице Арцишевского возле длинного четырехэтажного дома. В сопровождении двух солдат Лакута поднялся на третий этаж, позвонил в квартиру справа. Долго не открывали, взводный начал бить в дверь сапогами, когда наконец послышались шаркающие шаги и старческий голос спросил: — Кто? — Власть! — ответил Лакута уверенно. — Открывай, или сорвем дверь! Он и в самом деле чувствовал себя властью, так как мог делать что угодно: убивать или миловать, расстрелять, повесить, отхлестать плетью, и это наполняло его гордостью, возвышало в собственных глазах. Действительно, что в сравнении с ним жалкий университетский профессор? Старуха открыла дверь, стояла и смотрела испуганно, наверное служанка, поскольку была в фартуке и держала в руках тряпку. — Господин профессор дома? — спросил Лакута. — Больные они, — ответила, отступив. — Кашляют и температура. — Кашляют, говоришь? — обрадовался: не сбежал, здесь, на месте, и сейчас они увидятся. Интересно, узнает ли? Лакута грубо оттолкнул служанку и двинулся по коридору, слыша уверенные солдатские шаги за спиной. Впереди светилась стеклянная дверь, он толкнул ее коленом, чудом не выбив стекло, и попал в профессорский кабинет. Все стены до потолка занимали стеллажи с книгами, возле окна стоял огромный стол с зеленой лампой, а в глубоком кресле сидел профессор Валявский. Он что-то читал — отложил книгу, посмотрел внимательно на Лакуту, без раздражения, которое, казалось, должны были вызвать в любом, тем более больном, человеке длинные звонки и бесцеремонность посетителей. Лакута остановился посреди кабинета, поправил на груди автомат и застыл, уставившись на Валявского. Он ожидал, что профессор побледнеет, отшатнется, спросит, наконец, зачем пришли, как-то по-другому отреагирует на появление военных в немецкой форме, испугается, а он смотрел, держа книгу, и легкая усмешка играла на губах. Молчание затягивалось, и первым не выдержал Лакута. — Ну? — спросил он злорадно. — Как поживаете, господин профессор? Не узнали меня? — Почему же не узнать? — Валявский положил книгу на стол и скрестил руки на груди. — Студент второго курса Зиновий Лакута. Он сказал это спокойно, будто ждал Лакуту, точно назначил ему свидание, переэкзаменовку и сейчас будет спрашивать о Юлии Цезаре. Лакута невольно переступил с ноги на ногу как-то нерешительно, будто настоящий студент. Однако автомат висел у него на груди, настоящий «шмайсер» с полной обоймой патронов, он не истратил ни одной пули, а мог стрелять очередями и сразу срезать этого самоуверенного нахала, который, скрестив руки на груди, не сводил с него взгляда. — Бывший студент, господин профессор, — уточнил зачем-то. — Вижу. — А если видите, — сорвался вдруг на фальцет Лакута, — тогда встать. Профессор, опершись старческими руками на подлокотники кресла, поднялся. Лакута не ожидал, что Валявский так вот сразу исполнит его приказ, и это послушание снова придало ему уверенности. Однако профессор вдруг сделал шаг к нему и сказал с чувством собственного достоинства: — Я могу встать и, возможно, выполню и другие ваши приказы, господин бывший студент. Потому что человек слаб, и я никогда не отличался храбростью. Однако мне почему-то не очень страшно, может, потому, что я достаточно пожил на этом свете, а может, и потому, что вообще стыдно пугаться таких мерзких и никчемных типов, как вы. Лакута отступил, давая дорогу солдатам. — Взять! — приказал. Он смотрел, как хлопцы подталкивают старика прикладами карабинов, как выводят из кабинета человека в домашней куртке, и не чувствовал удовлетворения, наоборот, казалось, что этот проклятый профессор снова взял верх, как тогда, на экзамене. На улице возле машины стояли еще шестеро мужчин: молодых и старых, седых, лысых и вихрастых. Хлопцы подтолкнули Валявского к строю, теперь их стало семеро, и все профессора. Лакута знал по университету только двух, Валявского и Крепса, доктора юридических наук, других взяли солдаты в этом доме — большом и красивом, где охотно селилась профессура. Лакута снял с груди автомат, не без торжества увидев, как побледнел Крепс: побледнел и отступил, будто в него уже стреляли. И правда, дал бы сейчас длинную очередь, да не стоит: упадут и никакого удовольствия. Плюнул себе под ноги, и сразу появилась идея — Лакута сам удивился своей находчивости. Прошелся вдоль шеренги, презрительно глядя на ученых. — Профессорами называетесь... — сказал, нахмурив брови. — Не профессора, а свиньи, извините! Смотрите, что в подъездах творится? Грязь и мусор, и я сейчас научу вас, как поддерживать чистоту. Этот подъезд вылижете языками, да, языками, если не захотели вовремя подмести. Прошу начинать, уважаемые господа. Он захохотал — на душе стало хорошо и по-настоящему весело, смотрел, как солдаты подталкивают профессоров к подъезду, и хохотал. Прикладами заставили опуститься на колени и на самом деле языками вылизывать кафельный пол. Над ними с автоматом стоял Лакута и хохотал. — Это вам, — давился смехом, — не с кафедры трепать языками! Вот для чего вам языки, господа профессора, и наконец в вашем доме станет чисто! А мусор, пожалуйста, подбирайте губами, не стыдитесь, уважаемые господа, берите губами и выплевывайте в урну! Валявский остановился, оглянулся и встретился взглядом с Лакутой. Поднялся и сложил руки на груди. — Мне стыдно, — сказал он торжественно, — и стыдно не потому, что я и мои коллеги покорились грубой силе, стыдно, что такие подонки ходили в университет и я чему-то учил их. Ничему не научил, и мне стыдно за самого себя, а теперь вы можете стрелять, потому что я не буду больше унижаться! Он стоял и смотрел, как Лакута поднимает автомат, наверное, смерть для него была бы сейчас облегчением. Лакута понял это и растерянно отступил. Внезапно гнев захлестнул его, он повел автоматом и представил, как пули разрывают сукно домашней куртки Валявского, однако в последний миг удержался. Лакута достал из кабины бутылку шнапса и выпил одним духом прямо из горлышка половину, шнапс обжег ему желудок, он подождал немного и глотнул еще, но алкоголь не действовал — он не почувствовал никакого облегчения. Думал: если бы хоть раз увидеть страх на лице Валявского, страх и смертельный ужас, неужели профессор не боится смерти? А может, он до конца не понял, не осмыслил ее близость и воспринимает его, Лакуту, как мальчика, который только пугает? Хотя нет, ведь прошили пулями того жалкого седого мозгляка, уклоняющегося от работы. Снова ненависть подступила к сердцу, и Лакута несколькими глотками опорожнил бутылку. В бурсу их, решил, там, в подвалах, увидев, как расстреливают людей, их ужас и жажду жизни, Валявский, может, поумнеет и хотя бы раз попросит его о пощаде. Хотя бы раз... — В бурсу, — скомандовал, — едем в бурсу! — Еще не долизали... — выглянул солдат из подъезда. — Долижут в бурсе, там у нас тоже нет уборщицы. Прикладами загнали профессоров в кузов машины. Лакута сидел в кабине, смотрел на одиноких прохожих, и ему было скучно. Во дворе бурсы он приказал выстроить арестованных, посмотрел на них и остался недоволен. Кое-кто осмелился даже не отвести глаз, и Лакута подумал, что эти профессора — просто нахалы и проходимцы. — Вниз их, — приказал, — в подвал. В подвале его радостно встретили ротные и взводные. — Сколько привез? — спросил Шухевич. — Шестерых, и одного там... — Лакута рассказал, как убирали подъезд профессора, его рассказ встретили громким смехом, и Лакута почувствовал, что хорошее настроение снова возвращается к нему. — Давай сюда своих, — приказал Шухевич, — разберемся. На Вулецкой горе хлопцы выкопали ямы, потом их туда.... — Для чего? — не понял Лакута. — Неужели не понимаешь? Чтобы не было слышно выстрелов. — Не все ли равно? — Ну, знаешь, для населения... — Так можно здесь, в подвале. — Как бы не так, знаешь, сколько их? — Да, — согласился Лакута, — там удобнее. Привели его «персональных», как он выразился, профессоров, и Лакута начал допрос. — Фамилия? — спросил он у Крепса. Тот не ответил, знал, что все равно не миновать смерти, стоял молча, и только на лице появились желтые пятна. — Считаю до трех... — Лакута видел любопытные взгляды подчиненных, хотелось, чтобы они убедились, какой он сильный и твердый. — Один... два... — грянул выстрел, и Крепе пошатнулся. Упал не сразу, смотрел на Лакуту, жил еще секунду или две, потом ноги у него подогнулись, он выдохнул и опустился на пол аккуратно, будто присел. — Еще один! — похвалил Шухевич. — И так будет с каждым! — подтвердил Лакута.(«Белая книга ОУН», 1941 г.)
— Ну а теперь твоя очередь! — поманил к себе Валявского Лакута. Он потихоньку оглянулся, чтобы узнать, как среагировали подчиненные, и увидел только искреннюю заинтересованность и подбадривающие усмешки. Шухевич сидел, вытянув ноги в блестящих офицерских сапогах, и плевал прямо на пол. — Кто? — коротко спросил он. — Университетский профессор, господин начальник. — Старый знакомый? — Откуда вы знаете? — Вижу по выражению твоего лица. Тут хочешь? — Тут. — Ну как знаешь. Валявский понял все. Он стоял, скрестив руки на груди, с отсутствующим взглядом, будто был где-то далеко и видел не лица бандеровцев, а что-то интересное и познавательное. Лакута подошел к нему, уткнув дуло автомата в подбородок. — Что скажете на прощанье, профессор? — спросил, внимательно глядя: неужели в эти последние секунды он не увидит ужаса в глазах, смертельной тоски? Валявский опустил на него глаза, спокойные глаза мудрого старого человека, и ответил рассудительно, будто взвесил все слова и был убежден в их весомости: — Мне даже плюнуть на вас, господин бывший студент, не хочется... Лакута вздрогнул и нажал гашетку. Увидел, как откинулась голова профессора, инстинктивно отступил на шаг, что-то брызнуло в лицо — он обтерся рукавом, удивляясь, откуда проступает на нем кровь.Документальное подтверждение:
«Через какое-то время из здания бурсы вывели группу профессоров, человек 10—15, под конвоем. Четверо из них несли окровавленный труп молодого человека. Как я потом узнал от-служанок профессоров Островского и Грека, это был труп молодого Руффе, сына известного хирурга доктора Руффе, который жил вместе с женой и сыном на квартире Островского. Семью Руффе забрали вместе с ксендзом Коморницким и другими гостями из квартиры Островских. Молодой Руффе был убит во время допроса, когда с ним произошел эпилептический припадок. Я узнал трех из четырех профессоров, которые несли труп молодого Руффе. Это были профессор Витольд Новицкий — заведующий кафедрой патологической анатомии мединститута, профессор Владимир Круковский из политехнического института, известный специалист по нефти профессор Роман Пилят, и еще, кажется, математик профессор Стожек. Эту группу вывели через двор за тот дом, в котором мы вначале находились. Вывели их, как мне показалось, в направлении так называемой Кадетской горы. Прошло еще 20—30 минут. Вдруг оттуда, куда повели профессоров, я услыхал залп из нескольких винтовок. Не помню, было два, или три залпа, или только один».(Из воспоминаний члена-корреспондента Польской академии наук Францишека Гроера. Газета «Вильна Украина» от 5 декабря 1959 года.)
...Максим поздоровался с Зиновием Лакутой. «Постарел, — отметил, — но, наверное, не от переживаний — кровавые видения не преследуют его». Что ж, судьба в принципе смилостивилась над Лакутой. Некоторые из его коллег погибли от партизанских пуль, другие полегли под Бродами, когда Советская Армия разгромила эсэсовскую дивизию «Галичина», в состав которой вошло немало бывших «нахтигалевцев», третьи сложили головы в бандах УПА, четвертых судили и расстреляли... А господин Зиновий Лакута стоит посреди номера роскошной гостиницы «Регина-Палас», и ноги его тонут в мягком ковре. Рутковский едва удержался от иронической усмешки. Он был уверен, что номер снят на сутки, а то и меньше, на несколько часов, специально, чтобы произвести впечатление, морально повлиять на него, Максима Рутковского. Показуха в стиле бандеровцев. Старый пижон Ярослав Стецько любит смокинги, лакированные туфли и галстуки-бабочки, напускает туман, останавливаясь снахальной «Мухой» в фешенебельных отелях — не за свой счет, конечно. И Лакута идет дорогой шефа: галстук-бабочка, роскошный, не по карману, номер в отеле. Интересно, для чего весь этот маскарад? Лакута отступил, приглашая Рутковского сесть. — Счастлив познакомиться с новым пополнением украинской эмиграции, — сказал он вежливо, но сдержанно. Махнул рукой Луцкой, и та молча вышла в кабинет, закрыв за собой дверь. Лакута сел в кресло напротив Рутковского. Помолчал немного, откровенно изучая Максима. Видно, первое впечатление было положительным, так как он свободнее откинулся на спинку кресла и начал без предварительной словесной эквилибристики: — У меня есть некоторые предложения для руководства радио «Свобода», и я хотел бы через уважаемого пана довести их до сведения полковника Лодзена. — Почему бы вам не обратиться непосредственно к руководству? — Уже в первых словах Лакуты Максим уловил какой-то подвох и решил вести себя как можно осторожнее. — Мне известно, что вы хорошо знакомы с полковником Лодзеном... — Полковник — официальное лицо, и вход к нему никому не заказан. — И все же я хотел бы поговорить прежде с вами. Так сказать, в консультативном плане. Рутковский подумал, что, возможно, их беседа фиксируется на пленку — сидит Стефа рядом в кабинете и смотрит, как крутятся магнитофонные бобины, — и ответил так, как требовала их профессиональная этика и многочисленные установки на радиостанции: — Я могу разговаривать с вами только как частное лицо. К тому же я должен предупредить: содержание нашей беседы станет известным полковнику Лодзену. — Это меня устраивает. — Тогда я внимательно слушаю вас. Лакута немного помолчал, будто собирался с мыслями. Он начал несколько монотонно: — Уважаемый пан не первый месяц работает на радиостанции и должен знать, насколько зависит успех ее деятельности от информации, которая поступает по различным каналам... Рутковский кивнул. Вообще он решил в основном молчать — в его положении это самое лучшее. — Вот я и предлагаю радиостанции списки информаторов службы безопасности. Максим чуть-чуть пошевелился в кресле. Разговор начал приобретать интересный характер. Если этот тип в самом деле имеет какие-то списки, то, наверное, сам не зная того, попал на самого заинтересованного человека. — Откуда они у вас? — спросил коротко. — Однако пан должен понимать, что означают такие секреты и чего они стоят! — Я не могу сам определить степень ценности вашего предложения. Но для доклада полковнику Лодзену нужно хотя бы в общих чертах знать, что, собственно, вы предлагаете. — Согласен. — Тогда пожалуйста... Лакута закурил, глубоко затянулся и глянул на Рутковского исподлобья. — Всем известно, — начал он, — насколько ценными для сбора информации являются родственные отношения. И яркое подтверждение этому — хотя бы случай с вами, господин Рутковский. Если бы не поездка господина Сенишина в Киев, не личный контакт с вами, сидеть бы уважаемому пану в Киеве до конца своих дней. Рутковский мысленно обругал этого самоуверенного болвана: если бы знал он, какие именно причины способствовали тому, что он, Максим Рутковский, находится здесь, в роскошном номере «Регина-Палас», не смотрел бы на него с подобострастием. И что знает Лакута о Киеве, этот земляной червь в галстуке-бабочке? — Вы правы, — кивнул он. — И что из того? — А то, — произнес Лакута со значением, — если на Украину едет наш человек, который имеет там близких родственников, то он может получить ценную информацию. Список таких людей я предлагаю господину Лодзену. Абсолютно надежных людей. — Абсолютно надежных? — хитро прищурился Рутковский. — Однако господин Лодзен может получить список... Лакута пренебрежительно помахал сигаретой в воздухе: — Хотите сказать, что наш разговор никому не нужен, так как разведка недаром платит нам деньги! И стоит только прикрикнуть на господина Стецько, как он — руки вверх и пожалуйста, вот все наши списки и документы... Так? Рутковский не ответил. Да и что он мог ответить, если этот старый проходимец совершенно точно отгадал ход его мыслей? — Я вижу, вы именно так и подумали! — немного повысил голос Лакута. — Однако есть одно «но»... У господина Стецько нет никаких списков, не имел их до последнего времени и я. Но если бы я получил их раньше, то раньше и предложил бы эту операцию. Видите, я говорю совершенно откровенно, да и что мне скрывать? Дело в том, что недавно умер мой отец, он был одним из помощников Лебедя. Отец не доверял никому, даже немного помешался на конспирации — оказывается, он сохранил некоторые документы. А я, перебирая бумаги, наткнулся на списки. Рутковский подумал немного и сказал: — Списки агентуры тридцатилетней давности... Многие из них поумирали, другие перешли в новую веру... — Конечно, — согласился Лакута, — списки информаторов службы безопасности требуют некоторого уточнения и, естественно, утрясутся. Но представляете, какую они имеют ценность? — Ваши условия? Лакута назвал такую сумму, что Рутковский от неожиданности подскочил в кресле. — Завтра утром я поставлю в известность полковника Лодзена, — пообещал он и спросил: — Но почему вы не обратились непосредственно к нему? — У вас еще мало опыта, мой друг! — довольно засмеялся Лакута. — Полковник Лодзен — лицо официальное, и я в какой-то мере тоже. Референт господина Стецько, если хотите знать. И нехорошо официальному лицу идти к другому официальному лицу с таким предложением — ведь полковник может просто приказать: списки на стол. И будет прав: деньги даром не платят — ну помажут мне руку, кинут несколько сотенных, а я плевать на них хотел, может, это мой последний шанс в жизни, другие вон как руки нагрели... — Сообразив, что сказал лишнее, замолк, нервно закурив сигарету, продолжал уже более обдуманно: — Однако мое предложение носит неофициальный характер. Мог я пошутить с вами? И разговаривал ли вообще? «Итак, наша беседа не записывается», — сделал вывод Рутковский. Как будто угадав ход его мыслей, Лакута сказал: — Мы разговариваем с глазу на глаз, и я хотел бы предложить вам небольшой бизнес. Пять процентов от соглашения, ни цента больше, не торгуйтесь, пять процентов — нормальная цена, и бизнес есть бизнес... Комиссионные... Рутковский чуть покраснел: впервые в жизни ему совсем открыто и без тени сомнения предложили взятку. Однако здесь взятка имеет совсем другое название: комиссионные... Но как поступить? От комиссионных никто не отказывается, а с другой стороны, как расценит его поведение полковник Лодзен — конечно, если узнает о взятке? Однако, если отказаться, Лакута может его заподозрить. Ответил уклончиво: — У нас будет еще возможность решить эту проблему... — Я сказал: пять процентов и ни доллара больше. — Хорошо. Пан оставит свой телефон? — Вы сможете найти меня через Стефу. — Прекрасно. — Панна Стефа добросовестно относится к своим обязанностям и много знает, но, надеюсь, совсем не обязательно рассказывать ей о нашей, — он поискал слово, — о нашей договоренности. — Конечно, — Рутковский сделал попытку подняться, однако Лакута остановил его, положив руку на плечо, и громко позвал: — Панна Стефа, идите сюда, пожалуйста, нам уже надоели деловые разговоры, и нужно немного развлечься. Луцкая достала из бара две бутылки — Рутковский успел заметить, что там больше ничего не было, и это подтвердило его догадку относительно кратковременности пребывания Лакуты в «люксе». Стефа налила виски в хрустальные бокалы, доверху наполнив их льдом, и спросила: — Все в порядке? — Господин Рутковский согласился информировать полковника Лодзена о моих предложениях по поводу передач на Украину. — Лакута отхлебнул виски. — Мы нашли общий язык с моим молодым другом. Луцкая сверкнула глазами, и Рутковский сообразил, что она не поверила ни одному слову Лакуты. Еще бы: снимать такой номер ради получасового разговора о содержании передач «Свободы»! Но Стефа больше ничем не выдала себя, только спросила: — Я еще нужна? — Если у вас другие планы... — Пан Максим пригласил меня поужинать, — сказала неправду. Рутковский вовсе не собирался второй вечер подряд проводить со Стефой. Хотел уехать за город и положить в тайник первые добытые на РС материалы. Сейчас же должен был отложить эту операцию на целых два дня. Правда, завтра вечером, если ничто не помешает, он скопирует еще десяток карточек, и Олегу лишний раз не нужно будет ездить к тайнику. Лакута остался, а они ушли. Рутковский пропустил в дверях Стефу и увидел, как из соседнего номера вышел мужчина и быстро прошел по коридору. Максиму показалось, что он где-то видел его. Бросился было за ним, чтобы догнать, но Стефа схватила за локоть, спросила: — Куда ты? Максим замедлил шаг, и мужчина повернул за угол. Рутковский подумал, что он, наверное, ошибся — успел на какое-то мгновение увидеть профиль незнакомца. Но ощущение того, что он все же когда-то видел его, не проходило. То ли походка, то ли что-то другое было знакомо — в конце концов Максим решил, что такое бывает: человек, которого видишь впервые, чем-то — фигурой, осанкой, походкой — напоминает кого-то. — Наваждение какое-то... — пробормотал он. — Ты что? — заглянула ему в глаза Стефа. — Как будто знакомый мужчина. — Пустяки, — возразила она. — Что у тебя с паном Зиновием? — Он же сказал. — Ну смотри... — Подожди немного. — Очень тебя прошу, будь осторожен. — Что со мной случится? — Пан Зиновий такой... — она запнулась. — Ну способен на все. — Преувеличиваешь, дорогая, кое-что можем и мы. — Мое дело предупредить. — Максим почувствовал, что Стефа напряжена. — Буду, — пообещал и засмеялся. ...Утром Рутковский позвонил Лодзену. — Какое еще срочное дело? — пробурчал полковник, однако согласился принять Максима. Он понял суть дела буквально после нескольких слов и спросил: — Сколько хочет урвать этот негодяй? Максим назвал сумму. Полковник присвистнул. — Ого! — сказал он. — Лакута не уступит. — Ну хитер! — вдруг оживился полковник. — И все же мы должны быть уверены в истинной ценности списка. Сделаем так: пусть назовет подряд десять фамилий. Понимаете, подряд, а не вразброс — десяток своих людей у него могут быть и так, а список составлен или по алфавиту или по групповому принципу. Тут он нас не оставит в дураках: мы поручим своему человеку проверку. И знаете кому, — оживился он вдруг, — вашему брату. — Юрию? — Мне нужен человек умный и с деловой хваткой. — У него же дела... — У нас у всех дела, однако, когда затронуты высшие интересы!.. — сказал полковник с пафосом, а закончил совсем прозаично: — Кроме того, мы ему хорошо заплатим. Рутковский подумал, что все складывается благоприятно. Юрий доверяет ему, и о результатах поездки он узнает из первых уст. — А он справится? — спросил. — Не волнуйтесь, — уверил полковник, — дело не очень сложное, и мы постараемся помочь господину Сенишину. Во время обеденного перерыва Рутковский позвонил Олегу и договорился о встрече на завтра — вечером планировал снова заняться копированием секретных документов. Встреча состоялась на шоссе, которое вело к Гармиш-Партенкирхен. На сорок первом километре Максим съехал на обочину, поднял капот и сделал вид, что копается в моторе. Машины пролетали рядом с ним, не снижая скорости, — наконец он увидел и белый «пежо». Олег ехал не очень быстро, километров семьдесят в час, он даже не взглянул на «фиат» Максима, проехал не останавливаясь. Рутковский подождал несколько минут и, уверившись, что за Олегом нет хвоста, двинулся следом. «Пежо» стоял метрах в двухстах в стороне от шоссе, в густом подлеске. — Что случилось? — Олег даже забыл поздороваться. — Не волнуйся. — Мы же договорились: встреча лишь в крайнем случае. — Так и есть — срочное дело. Олег открыл дверцу «пежо»: — Садись в середину. Максим немного удивился таким методам предосторожности, однако возражать не стал. Олег включил радио и лишь тогда повернулся к Рутковскому. — Нужно связаться с Центром, — пояснил Максим и рассказал о событиях последних двух дней. — Завтра сообщу в Центр, — пообещал Олег. Рутковский в душе немного обиделся: он ожидал, что Олег хотя бы как-то выскажет свое отношение к его, Максима, умению ориентироваться в обстановке, ну и похвалит, он не ребенок, ему не нужна похвала, но так, хотя бы несколько подбадривающих слов... А вместо этого сухое: проинформирую Центр... Он передал Олегу копии документов, тот молча спрятал их и только тогда сказал: — Сейчас ты вышел на передний край, я очень тебя прощу: будь осторожен. И вот что: этот Лодзен, насколько нам известно, своего не упустит. Пирог у Лакуты большой и действительно вкусный, а Лодзен не такой дурак, чтобы отдать свой кусок. Если узнает, что ты взял комиссионные, будет действовать более уверенно. Но не перегни палку. Списки мы должны получить любой ценой. — Как будто я этого не понимаю! Будем ждать результатов поездки Юрия. На завтра у меня назначена встреча с Лакутой, и думаю, Сенишин на той неделе начнет проверку списков. — Вот гад! — Ты про Юрия? — Он тоже, но я о Лакуте. — Ты бы видел его: олицетворение респектабельности. — А стань поперек дороги — вгонит пулю не задумываясь. — Если бы знал, на кого сейчас работает... — тихо засмеялся Рутковский. — Ему наплевать на кого! Лишь бы заплатили деньги. — Точно, старая свинья, продаст и мать. — Ну будь. — Олег включил мотор, а Максим стоял и смотрел, как выбирается из леса «пежо». Думал: как приятно знать, что в этом огромном чужом городе ты не один и друг всегда может прийти на помощь. А в том, что Олег — друг, он не сомневался ни минуты, хотя виделись они лишь второй раз.
Рутковский не ожидал этого звонка и был искренне удивлен, но факт оставался фактом: звонил сам Воронов и приглашал к себе в отель. Только вчера он приехал из Парижа и хотел непременно встретиться. Максим знал Воронова еще по Киеву. Знал, правда, мимолетно: его, зеленого юнца, университетского литстудийца, старшие и более опытные товарищи затянули как-то на квартиру Воронова. Они знали, что тот любит общество, особенно студенческое, — терпимо относился к стихам и рассказам начинающих, а иногда даже расщедривался на бутылку-две для шумной и бедной компании. Воронова знали и читали. В свое время его партизанский роман наделал шума, его издавали и переиздавали. Роман тот, правда, остался одинокой скалой в творчестве Воронова, после него он издал две повести — послабее. Незадолго до встречи с Вороновым Рутковский напечатал в журналах несколько рассказов, считая их незаметными и незначительными, поскольку критика обошла их молчанием, и был приятно удивлен, когда Воронов, узнав его фамилию, сказал доброжелательно: «Читал, и понравилось. Есть у вас, юноша, и глаз, и душа, души больше, но это не всегда на пользу». Этого было достаточно, чтобы скоро студенческое общество объявило Рутковского талантливым и чуть ли не гением — Максим сам понимал всю неуместность этой гиперболизации, но все же было приятно. Работая в издательстве, Рутковский узнал, что Воронов перестал писать: теперь его фамилия встречалась лишь под разного рода петициями и заявлениями и большей частью в компании с людьми примитивными, серыми, но шумливыми и воинственно настроенными. Потом он уехал за границу к каким-то родственникам, поселился в Париже и стал работать в русском эмигрантском журнале. Радио «Свобода» несколько раз передавало интервью с ним. Побеседовав по телефону с Вороновым, Рутковский пошел к Кочмару. Он знал, что о каждом таком разговоре должен информировать начальство. — Воронов в Мюнхене? — удивился пан Роман. — Вот это сотруднички! Воронов в Мюнхене, а я узнаю об этом черт знает от кого! Рутковский обиженно поднялся, но Кочмар остановил его: — Извините, пан Максим, я имел в виду совсем другое. Однако поймите и меня: Воронов мог бы выступить у нас на пресс-конференции. И он пригласил вас к себе? — переспросил недоверчиво. — Именно поэтому я и осмелился вас побеспокоить. — О чем разговор! Идите не задумываясь. Но для чего Воронов приехал в Мюнхен? — Кочмар уже крутил телефонный диск. — Господин Лодзен? Слышали, к нам прибыл Александр Воронов? Слышали? У него встреча в эмигрантских кругах? Мы должны этим воспользоваться... Кстати, Воронов пригласил к себе Рутковского. Полностью разделяю вашу мысль... — Он положил трубку и повернулся к Максиму. — Попробуйте договориться с Вороновым о выступлении по радио. В крайнем случае, небольшое интервью. Рутковский уже принял решение. — Я не пойду к нему один, — сказал твердо. — Почему? — Чтобы потом из меня не сделали козла отпущения. Кто знает, о чем хочет разговаривать со мной Воронов. — Однако же он давно знает вас. Дружеская беседа. — Все равно, один не пойду. — Возьмите Карплюка. — Чтобы Воронов указал мне на дверь через десять минут? — Кого же? — Мартинца. — Мартинца... Мартинца... Свет клином на нем сошелся? — Мартинец должен понравиться Воронову. Тем более что тот, говорят, не прочь выпить. — Я бы не советовал, но берите кого хотите, — согласился наконец Кочмар. — Завтра утром жду вас с новостями. Конечно, приятными. Воронов остановился в отеле далеко не первоклассном, и номер у него, хотя и двухкомнатный, был темный и обшарпанный. Он удивленно глянул на Мартинца — другой на месте Ивана мог бы растеряться, но Мартинца мало чем можно было пронять: он сам себе придвинул стул и развалился на нем, рассматривая хозяина. Максим представил его как «нашего земляка и теперешнего сотрудника станции, поклонника вашего таланта, который очень хотел познакомиться с вами», и Воронов немного оттаял, даже подал Ивану руку. Подчеркнув, что он принимает гостей без претензии, Воронов вышел к ним в домашней куртке и пригласил не церемониться. Иван воспринял это по-своему: рассмотрел бутылки и налил всем виски, разбавив немного содовой. Воронов отхлебнул, заколебался немного, допил до половины и отставил стакан, но с сожалением, и Рутковский понял: он с удовольствием допил бы до конца. И все же Воронов, переборов себя, несколько бесцеремонно оглядел Максима с ног до головы и сказал, сокрушенно покачав головой: — Кто бы мог подумать, что мы встретимся здесь, далеко от благословенного нашего народа! Рутковский пожал плечами, будто соглашаясь, что пути человеческие неисповедимы, — и в самом деле, кто бы мог знать?.. — А я тоскую, — воскликнул Воронов с пафосом, — и ночами мне снится Софийский собор! И снова Максим промолчал, подумав, что Воронов сам выбрал этот путь и сознательно променял Софию на Нотр-Дам. Чего же жаловаться? Фальшивый пафос Воронова почувствовал и Мартинец и по простоте душевной возразил: — Что там переливать из пустого в порожнее, Александр Михайлович? Раньше нужно было думать о страшных снах. — Ах, юноша, юноша! — Воронов никак не мог избавиться от ложного пафоса. — Насколько мне известно, вы могли бы и до сих пор гулять по Владимирской горке. Это прозвучало грубовато, Воронов глянул на Рутковского, будто искал поддержки, но Максим решил не вмешиваться, тем более что Мартинец, в конце концов, был прав. — Вы, юноша, не знаете, что такое муки творчества, — сказал Воронов жалобно. — И до чего они могут довести. — Ну вас они довели до Парижа, — беззлобно засмеялся Мартинец. Видно, с Вороновым давно уже никто не разговаривал в таком тоне, он застыл с раскрытым ртом, внезапно глаза его засверкали, поднял руку, и Максиму показалось, что он хотел указать Ивану на дверь, однако в последний момент передумал или понял безжалостную правоту Мартинца. — А в этом что-то есть! — он схватил стакан и, уже никого не стесняясь, допил до конца. — Действительно, каждый из нас получил то, что хотел! Воронов стоял среди мрачноватого номера с пустым стаканом в руке, в расстегнутой домашней куртке, со сдвинутым набок галстуком — черноволосый, с резкими, продолговатыми чертами лица, лишь внешне он напоминал Рутковскому прежнего Воронова — тогда он был метром и литературным богом, а сейчас искал у них сочувствия, как начинающий, — конечно, никто бы не посмел в те годы разговаривать с ним так, как Мартинец, тогда у Воронова нашлись бы слова и тон, чтобы сразу осадить, поставить на место. Воронов подсел к Максиму. После виски глаза у него заблестели и сам он приободрился. Спросил, глядя приветливо, как близкого и приятного человека: — Слышал я о вашем шаге, Максим, в Париже слышал, вот и решил при случае повидаться. — Он явно чего-то не договаривал или стыдился спросить. Максим интуитивно догадывался, чего, собственно, хочет от него Воронов, но не мог играть в поддавки: ждал, когда тот открыто спросит. — А вы, говорят, работаете в журнале? — придвинулся Максим к Воронову. — Интересно? Воронов сразу насторожился. Видно, упоминание о журнале и его работе в нем было не очень приятным — Максим знал, что Воронову приходится выполнять много черновой работы, это унижало его достоинство. Но самое главное состояло в том, что чуть ли не сразу он начал конфликтовать с издателями — у него были сложившиеся литературные вкусы, с которыми они не хотели считаться. — Журнальная работа всегда тяжела, — пожаловался Воронов, — но что поделаешь: нужно зарабатывать на хлеб насущный. — Кстати, о хлебе насущном... — Рутковский решил, не откладывая, передать приглашение Кочмара. — Мой шеф просил вас выступить по радио. — Так, так... — Воронов постучал уже совсем старческими, с высохшей кожей пальцами по спинке кресла. — Может быть, придется согласиться, потому что на журнальных заработках не пороскошествуешь. — Кажется, вы знакомы с паном Кочмаром? Рутковский увидел, что Воронова передернуло. Однако он сразу взял себя в руки и ответил спокойно: — Знакомы, и передайте, что буду рад повидаться. — Пишете что-нибудь новое? — поинтересовался Мартинец. Он поставил вопрос прямо в лоб, и Рутковский почувствовал, что, возможно, этого не следовало делать, ведь в итоге этим определялось все: смысл позиции Воронова — в первых интервью после отъезда за границу он мотивировал свой поступок отсутствием там, в Советском Союзе, благоприятных условий для творчества. — В моем возрасте работается уже не так... — уклонился от прямого ответа Воронов. — А я читал в... — Мартинец назвал парижский журнал. — что в вашем романе исследуется философия предательства. Это новое произведение или очередная редакция старого? И снова Мартинец попал в больное место. Воронов, не отвечая, налил себе виски, выпил одним духом, немного посидел, склонив голову, и ответил как-то невпопад: — Я не собирался специально анализировать философию предательства, хотя на некоторых аспектах этого вопроса делается акцент. Человек в литературе всесторонне исследуется. — Но видно, понял, что ответ прозвучал как банальное выражение банального рецензента, потому что горько усмехнулся и добавил совсем другим тоном: — Лучше расскажите о себе, Максим. Я уже старый, и мне не пишется, а вам? Рутковский внимательно посмотрел на Воронова. Он не может не знать, как и что должен отвечать на этот вопрос писатель, который хотя бы немного уважает себя. — Я работаю на радио, — ответил он уклончиво. — И это отнимает слишком много времени и энергии. А писать можно, если нет другого выхода, если впечатления захватили тебя и выплескиваются образами. — Почему же, — возразил Мартинец не без ехидства, — можно еще писать, если платят приличные гонорары. На заданную тему. Попробуйте здесь издать позитивный роман о советской действительности! Дудки... Злобствуйте, сколько хотите, а наоборот — никогда. — Ты прав, — поддержал Рутковский. — Может быть, доля истины в ваших словах есть, — не очень охотно согласился Воронов. — Да, есть! — не без апломба заявил Мартинец. — Если быть откровенным, зачем мы сюда сбежали? За гонораром! И каждый не мог не знать, приблизительно сколько и за что тут платят. Воронов поморщился. — У вас все навыворот, — сказал он раздраженно. — И каждый получает в меру своей испорченности. — Мартинца уже никто не мог остановить. — От некоторых, нагребших денег граблями, до... — Воронова, так вы хотели сказать? — Не возражаю. — Но я тут ничего не заработал. — По Сеньке и шапке... Воронов вспыхнул: — Я не позволю! — Однако же тут свобода слова, — ехидно возразил Мартинец, — и вы приехали сюда именно ради нее. Воронов снова жадно выпил виски. — Некоторые отождествляют свободу слова со свободой оскорблений, — скривил он губы. — А я считал вас, Александр Михайлович, более терпимым. И, если откровенно, духовно более высоким. — Жаль, что ошиблись. — Да, жаль, — совсем серьезно подтвердил Мартинец и также отхлебнул спиртного. Рутковский решил, что настало время вмешаться и ему. — Так как же будет с нашей передачей? — спросил. — Может, у вас есть новый рассказ или отрывок из романа? Воронов печально усмехнулся. — Я уже говорил: не пишется... — И я себе не представляю, как можно браться за перо, — согласился Максим. — Честно говоря, пробовал и что-то даже написал. Прочитал и отложил: не нравится. — Однако же вы молоды и должны думать о будущем. Это у меня все в прошлом и трудно войти в новый ритм. А вам нужно — не вековать же на радио. — Да, конечно, но писатель, возможно, должен иметь не только письменный стол. Даже самый большой на свете, — усмехнулся Максим, вспомнив свою мечту о большом письменном столе. — Заставлять себя? — Ну работа, хотите ли вы этого или нет, всегда какое-то принуждение. — Конечно, и все же, если в сердце пусто... — Милый мой, — подвинулся вместе со стулом к Максиму Воронов, — смотрите на меня и учитесь: я ведь старый хрыч и дурак — немного выпил, поэтому откровенно и говорю вам все это, — так вот, я дурак, а почему сюда приехали вы? Глаза Воронова блестели, он действительно был откровенен, и Рутковский понял, почему он искал встречи: захотелось выговориться, излить душу, потерзать себя и, наконец, оправдать и свою духовную пустоту, и творческую несостоятельность; всегда можно найти что-нибудь, лишь бы реабилитировать себя, свалить причину своих неудач на кого-то, на не зависящие от тебя обстоятельства, на какую-то высшую силу, не дающую высвободиться и заявить о себе во весь голос. А если присмотреться, то причина в тебе же самом, в безволии, обычной лени, или, как случилось с Вороновым, в духовном предательстве самого себя. Рутковский не ответил Воронову. Да и что мог ответить. Он-то знал, для чего приехал сюда, а оправдываться и живописать свои поступки не желал: все равно любые его слова прозвучали бы фальшиво, а фальшивить не хотелось — он имел право хотя бы на это. Но Воронов, как оказалось, и не требовал от него ответа. Сидел, опершись руками о спинку стула, говорил быстро, и сейчас не услышал бы никого, слышал только себя и говорил только для себя: — Мне уже не вернуться назад, и я жалею, что поступил так, упрекаю себя, и не потому, что имею материальные затруднения, мне просто тяжело и ностальгия мучает меня. Я стал творческим импотентом, перестал чувствовать слово, а что может быть страшнее для писателя? Если каждый день сталкиваешься с чужими людьми, если видишь чужие физиономии, если не с кем серьезно поговорить, пошутить, посидеть молча, какая же это жизнь? Мартинец налил в стакан немного виски, подал Воронову, и вовремя, ибо тот с жадностью отхлебнул, допил до конца и пожаловался: — Видите, единственное утешение в спиртном, понемногу спиваюсь, но не могу остановиться. Мартинец не выдержал, чтобы не поддеть: — Говорили вы, Александр Михайлович, хорошо, красиво, и что это за манера славянская: топтать себя и чувствовать от этого удовлетворение? А после этого спокойно отведывать чай с пирожными. К тому же обязательно со свежими пирожными. Воронов нахмурился: думал, что его поймут совсем не так, пожалеют и оправдают. — Вы слишком рационалистично мыслите, юноша, — обиженно процедил он. — Конечно, как можно иначе? Да и вы сейчас договаривались о гонораре на нашей станции. — Такова жизнь, — вздохнул Воронов. — Вот я и говорю: все мы любим красивые слова, а когда доходит до дела... — Ладно, — перебил его Рутковский, — что мне передать Кочмару? Воронов поиграл пальцами обеих рук: переходить от патетики к прозе не так-то и трудно, но ведь нужно придерживаться какого-то приличия. Поднялся, немного походил по комнате, делая вид, что раздумывает. Наконец ответил: — Я дам вам рассказ, небольшой рассказ, недавно написан. И пусть кто-нибудь из корреспондентов запишет разговор со мной. Передайте господину Кочмару, что я делаю это с удовольствием. Эти слова так не вязались с прежними патетичными тирадами, что даже Мартинец растерялся. — Ого, — пробурчал, — а вы знаете, что делаете! — Да, да, — неожиданно быстро согласился Воронов. — Было бы глупостью не воспользоваться услугами вашей фирмы. Тем более что она неплохо платит и имеет тенденции к расширению. — Несмотря на протесты общественности, — промычал Мартинец. — Пока существуют разные разведки, — махнул рукой Воронов, — и ястребы в американском сенате, вам ничто не угрожает. Это правда, что радиостанции модернизируются? — Ходят слухи, — уклончиво ответил Рутковский. — Зачем же так нежно: слухи... — засмеялся Мартинец. — Факты говорят о другом: мы получили деньги на новые мощные передатчики.
— Вот видите, — одобрил Воронов. — Приятно? — спросил Мартинец. — Писатель существует для того, чтобы его читали, — ответил Воронов. — Или передавали по радио. Нам нужна аудитория, без нее мы пропадем, не так ли, господин Рутковский? Максим поднялся. Воронов опьянел, начал повторяться. Он пробовал задержать их, но не очень настаивал, видно, Мартинец хорошо ему насолил. — Ну и тип! — воскликнул Иван, когда вышли на улицу. — Хороший, очень хор-роший! — Оглянись на себя... — не выдержал Рутковский. — Два сапога — пара. — Конечно, — Мартинца трудно было донять. — Так я вот где, — показал, — на ладони, а он слова красивые говорит, а как до корыта, то по уши! Да еще и чавкает... — Все мы едим из одного корыта, — возразил Рутковский мрачно. — И все чавкаем в меру своей испорченности. — И все же — в меру испорченности! — подхватил Мартинец. — А твой Воронов — вообще... — Он такой же мой, как и твой, — решительно отмежевался Рутковский. Мартинец остановился около бара, попросил две бутылки кока-колы. — Запей... — протянул одну Максиму. — И виски у этого Воронова какое-то паскудное. Тошнит меня... — Хлебнул из горлышка, улыбнулся. — Видишь, как-то полегчало...Документальное подтверждение:
«Эти две радиостанции ведут передачи на шестнадцати языках на Советский Союз и на шести языках — на Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Чехословакию — с начала пятидесятых годов... По указанию президента Картера от 28 марта прошлого года две радиостанции покупают 11 новых передатчиков, главным образом для того, чтобы парировать глушение. Средства на четыре из этих передатчиков были выделены в прошлогоднем бюджете, и теперь они строятся недалеко от Мюнхена. Финансирование других семи передатчиков было отложено до нового года...»(Газета «Нью-Йорк таймс» от 25 января 1978 г.)
На следующий день Рутковского вызвал к себе Кочмар. — Что там произошло с Вороновым? — спросил. — С Вороновым? — пожал плечами Максим. — Несчастье? — Да нет, слава богу, все в порядке: немного выпил, но до вечера, надеюсь, протрезвеет. О чем вы вчера с ним разговаривали? — Я же докладывал вам утром, пан Роман, о литературе. — А Мартинец? — И он. — Вы мне, — вдруг рассердился Кочмар, — глаза не замыливайте. Сам Мартинец говорил сегодня о какой-то дискуссии. А Воронов вчера звонил Лодзену и жаловался. — Если Мартинец сам что-то говорил, почему же у меня спрашиваете? — А потому, что вы должны информировать меня обо всем. Этого только не хватало Рутковскому: стать информатором Кочмара! Ответил сухо и твердо: — Я знаю, пан Роман, что входит в круг моих служебных обязанностей, и не собираюсь делать больше. — Он мог себе позволить такой ответ — у него за спиной был Лодзен, и чихать он хотел на Кочмара. Но пан Роман в гневе утратил чувство реальности. — А собственная совесть! — чуть не заорал. — Что вы думаете об этом? — У вас была возможность убедиться, что я всегда обдумываю свои поступки. — Но какого черта я должен узнавать о глупой дискуссии с Вороновым из других уст? — Я не усматриваю в ней ничего дурного. Нормальная литературная беседа. — Но вы же с Мартинцем загнали Воронова в угол! — Наш разговор был частным. — Вы — работник радио «Свобода», и частных разговоров у вас не может быть. Теперь Кочмар начал загонять Рутковского в угол, Максим почувствовал это и отступил, но отступил с достоинством. — Существуют моменты, — попробовал объяснить, — когда должны торжествовать объективные истины. У нас была творческая дискуссия... Кочмар выскочил из-за стола, резко открыл двери — не вызвал Катю звонком, настолько потерял терпение. — Позовите Мартинца, Кетхен, — приказал. — Очная ставка? — усмехнулся Рутковский. — Называйте это как хотите, но я не позволю разводить у себя в редакции демократию! — Мы репрезентуем свободный мир... — начал осторожно Максим. — Демагогия!.. Мы боремся с коммунизмом, и каждое проявление симпатии к враждебной нам системе я расцениваю как предательство. Теперь Максим почувствовал под собой твердую почву. Последние установки руководства станции ориентировали не на пещерную ненависть ко всему советскому — рекомендовалось быть гибкими, кое-что даже хвалить, поддерживать, но обязательно подчеркивать, что здесь, на Западе, все лучше и в конце концов западное влияние неумолимо будет расширяться. Рутковский хотел напомнить об этом Кочмару, но двери открылись, и в кабинет заглянул Мартинец. — Вызывали? — спросил. Кочмар, который стоял посередине кабинета, как надутый пузырь, вдруг будто выпустил из себя воздух: втянул живот, наклонился в сторону Мартинца и сказал чуть ли не льстиво: — Заходите, будьте добры, пан Иван, нужно разобраться в нескольких вопросах. «О-о, — подумал Рутковский, — а этот Кочмар намного опаснее, чем кажется!» Вероятно, Мартинец только что с кем-то шутил: веселая улыбка все еще была на его устах. Он зашел в кабинет, остановился посередине, наконец стер улыбку с лица и сказал: — Слушаю вас, пан Кочмар. Хотя я догадываюсь, о чем пойдет речь. — Мальчишка! — потерял самообладание Кочмар, и Мартинец мгновенно воспользовался этим: — Даже ваше высокое служебное положение, — в его тоне явно прозвучали издевательские нотки, — не позволяет вам унижать и оскорблять простых смертных. Тем более при свидетелях. — Мы еще успеем разобраться с этим, — в тон ему ответил Кочмар. — До меня дошли слухи, что вы вчера недостойно обошлись с Вороновым. — А вы не допускаете, что Воронов недостойно обошелся с нами? — Это его дело. На его месте я выставил бы вас за двери. — А Воронов угостил нас кофе. — Хотите сказать?.. — Я ничего не хочу сказать. Я только констатирую факт, пан Роман. Кстати, зачем вы пользуетесь слухами, позвали бы меня и сразу бы получили свежую и достоверную информацию. — Вот я и хочу ее получить. Зачем вы высекли Воронова? — Мы вели себя очень тактично. — Вы сами сказали, что высекли... — И об этом уже успели донести, — пожаловался Иван Рутковскому. — Вот народ: не успеешь подумать, а уже икается. Так вот, пан Роман, Воронов же не тот человек, с которым можно играть в прятки, и вы это должны понимать лучше, чем мы. — А в связи с тем, что действительно понимаю лучше, чем вы, должен предупредить: если бы не согласие Воронова дать нам интервью, вы имели бы серьезные неприятности. — Кажется, вы угрожаете нам, шеф? — Я никогда и никому не угрожаю — просто предупреждаю. Кстати, у вас два опоздания на работу. Если случится третье... — Уволите меня? — Конечно. — Сомневаюсь! — Мартинец явно разозлился и плохо контролировал себя. — Вы пожалеете... — Муки совести не очень будут терзать меня. — Они совсем не терзали бы вас. Но не думайте, что только вы имеете досье на каждого из нас. Кочмар подскочил и замахал руками, напоминая задиристого петушка, готового к бою: — Что? Что вы хотите сказать? — Мелкие мошенничества, к которым вы прибегаете с помощью Кати Кубиевич. Кочмар переступил с ноги на ногу, стиснув кулаки. Казалось, кинется на Мартинца. Но сдержался и лишь показал рукой на дверь. — Идите, — приказал громко, — уходите прочь, пан Мартинец, я не терплю шантажистов! Рутковский поплелся следом за Иваном, но Кочмар остановил его. Подождал, пока за Мартинцем закроется дверь, сказал укоризненно: — Видите, до чего доводят необдуманные решения. Рутковский знал, что поддерживать Мартинца ему сейчас небезопасно. С чисто человеческой точки зрения это было не очень пристойно, но, поссорившись с Кочмаром, мог поставить под удар все дело. Тем более кто такой, в конце концов, Мартинец? Сукин сын, бабник, болтун, пройхода, предавший Родину ради «красивой жизни». Ответил Кочмару уклончиво: — Не могу до конца согласиться с вами, шеф, хотя сейчас понимаю: нам не нужно было затевать дискуссию с Вороновым. — Вот! — поднял короткий, будто обрубленный, палец Кочмар. — О чем я все время и толкую! Пусть это будет вам наукой, пан Максим. Не то что для некоторых... — махнул рукой, отпуская.
...Приближалась гроза, было душно, и Сопеляк, у которого было высокое давление, хватался за грудь и жаловался, что умирает. Обедали за одним столом — Рутковский, Сопеляк, Карплюк и Мартинец, съели салат, невкусный протертый суп и лакомились большими, на всю тарелку, отбивными с жареной картошкой и зеленым горошком. Рутковский, принимая во внимание болезнь Сопеляка, заказал лишь три кружки пива, пан Виктор лишь поморщился и ничего не сказал, но взгляд у него стал по-детски обиженный, казалось, сейчас он заплачет, и Мартинец не выдержал и сказал: — Недавно разговаривал с одним врачом. Хороший врач, молодой и прогрессивный, имеет хорошую клиентуру. Так он сказал, что баварское пиво лечит чуть ли не все. Некоторые твердят, что оно вредно для почек и при давлении — не верьте, в пиве совсем мало алкоголя, но очень много стимулирующих веществ. Если быть осмотрительным, я имею в виду кружку, самое большое — две, то на здоровье каждому. — Неужели? — обрадовался Сопеляк. — Я всегда знал: медицина еще не сказала последнего слова... Рутковский принес еще кружку. — Пейте, пока нет пани Ванды, — посоветовал, — ибо она, по-моему, не в курсе современных медицинских достижений и может неправильно истолковать это. Красный нос-пуговка Сопеляка вспотел от счастья. Быстро справившись с отбивной, он вежливо поблагодарил всех и поплелся из буфета. — Побежал к Ванде, — сообщил Карплюк, хотя все и без него знали это. — Получать очередные указания. — Там полнейший матриархат, — согласился Мартинец. — Эта старая карга надела на него уздечку. Карплюк высунул шею из воротника и предложил: — А не выпить ли нам еще по кружке? — Давайте, — согласился Мартинец, и Карплюк, собрав пустые кружки, направился к стойке. На столе около него лежала папка, Карплюк по пути зацепил ее локтем, и из папки выпала бумажка. Мартинец хотел положить ее на стол, но, прочитав строчку, глянул вслед Карплюку, будто хотел что-то сказать, но запнулся и впился в листок. Читал, шевеля губами, совсем по-детски, и лицо у него сразу вытянулось и приобрело удивленное выражение: он напоминал школьника, которого незаслуженно отчитывает учитель, — не может возразить, но не соглашается, и от этого гнев и слезы душат его. Прочитав, брезгливо бросил листок на стол, выкрикнул: — Нет, ты прочти, Максим, ты только прочти, что пишет этот подонок! Рутковский быстро пробежал глазами напечатанные на машинке несколько абзацев. Карплюк информировал службу охраны станции о вчерашнем разговоре в их комнате, во время которой Мартинец будто высказывался в не совсем пристойной форме о руководстве РС. Таким образом, на столе лежал донос, вульгарный донос, которым, собственно говоря, трудно было кого-нибудь удивить на станции. Но был счастливый случай, когда доносчика поймали на горячем. А сам доносчик направлялся от стойки к ним с тремя кружками пива, вытянув шею, благодушно покачивая головой. Карплюк поставил кружки, ничего не заметив и не поняв, сел и лишь тогда увидел бумагу со своей подписью. Протянул руку, чтобы схватить, но Мартинец накрыл листок ладонью. — Будьте добры объяснить свой поступок! — выкрикнул с угрозой. Карплюк втянул шею в воротник. Казалось, теперь у него не было шеи, будто голова лежала на воротнике, маленькая голова с испуганными глазами. — Донос! — повысил голос Мартинец, и из-за соседних столиков стали с интересом посматривать на них. — Вы написали донос, как вам не стыдно! — Какой донос? — наконец выдавил из себя Карплюк. — Просто запись нашей беседы... На память, значит, прошу вас, я совсем не хотел... — И адресовали эту запись службе охраны просто так, из спортивного интереса? — Конечно, вы не поверите мне, я могу даже попросить прощения, но это в самом деле какое-то недоразумение. — Нет, — жестко возразил Мартинец, — тут все понятно, и донос есть донос! — Он поднял над столом бумагу. Карплюк попробовал выхватить ее, но Мартинец отдернул руку и помахал бумажкой, требуя всеобщего внимания. — Этот господин, — ткнул пальцем в Карплюка, — доносчик! Прошу обходить его десятой дорогой и объявить ему бойкот. Вот доказательство: эта кляуза написана только что. Видите, господа, подпись и дата. Прочесть? — Не нужно, прошу, не нужно! — На Карплюка жаль было смотреть: посерел и глаза налились слезами. Если бы Рутковский не знал о магнитофоне, вмонтированном в стол Карплюка, можетбыть, и посочувствовал бы ему — таким раздавленным и ничтожным выглядел пан Степан. Мартинец пустил донос по рукам. Читали, смакуй подробности, а Карплюк, так и не вытянув шею из воротника, пятясь, покинул буфет. После перерыва он не появился на своем рабочем месте, а Мартинца вызвал Кочмар. Иван вышел из кабинета шефа через несколько минут с гордо поднятой головой и сказал Кетхен, но так, чтобы слышали все: — Извинялся... За этого пройдоху Карплюка извинялся: его уже уволили. Правда, потом выяснилось, что Карплюка не уволили, а перевели, не желая скандала, в какой-то филиал станции, но все же об инциденте в буфете говорили еще долго и, наверно, больше всего возмущались поступком Карплюка те, кто постоянно писал доносы. Но что поделаешь: не пойман — не вор! Мартинец предложил Рутковскому отпраздновать «победу над черными силами реакции», как он велеречиво окрестил увольнение Карплюка. Само по себе предложение не было оригинальным: Мартинец, как правило, все значительные и незначительные события отмечал в барах и ресторанах, и Рутковский иногда составлял ему компанию, но сегодня должен был провести очередной сеанс копирования карточек и решительно отказался. Розалинда немного опоздала, пришла убирать в половине седьмого — она уже познакомилась с Рутковским, и, пока убирала, они болтали на разные темы. Розалинда рассказала Максиму, что устроиться на работу в Мюнхене даже уборщицей очень трудно и она попала на РС только благодаря тому, что ее дядя служил здесь вахтером. Сегодня Розалинда долго жаловалась Рутковскому на мужа, который никак не может продвинуться по работе и приносит домой меньше марок, чем она. Женщина присела около стола Максима, держа в руках губку, и совсем забыла, что должна убрать еще две комнаты. Правда, Рутковский теперь приспособился к ритму работы Розалинды: он доставал из сейфов нужные материалы до прихода уборщицы и, когда она переходила в комнату Кати Кубиевич, начинал снимать с них копии. Риска в этом почти не было. Розалинда, закончив убирать кабинет Кочмара, переходила к комнатам на противоположной стороне коридора, в худшем случае она могла заглянуть в комнату Максима, чтобы спросить что-нибудь, но это почти исключалось: Розалинда была немкой, а какая немка позволит себе лишний раз потревожить работающего человека? И так она иногда отрывала у господина Рутковского несколько минут своей болтовней, уже это было нарушением установленных норм, и ее оправдывало лишь то, что господин такой симпатичный и сам начинает разговор. Излив Максиму душу, Розалинда наконец пошла в Катину комнату, в дверях она остановилась и сделала вежливый книксен, этот книксен всегда умилял Максима — Розалинде за тридцать, у нее две дочери, а ведет себя как девочка. Рутковский даже представил себе картину: Розалинда держит дочерей за руки и они приседают втроем, все круглолицые, розовые, с пухлыми губами и ямочками на подбородках... — Прощайте, Розалинда! — помахал рукой и сразу забыл о ней, углубившись в работу. Умел мгновенно отключиться от всего постороннего, окунаясь в дело. Еще в Киеве коллег удивляла эта способность Максима. В комнате издательства их сидело четверо, не без того, чтобы сотрудники не поговорили между собой, многим это мешало, жаловались, ругались, а Максим, углубляясь в рукопись, не слышал ничего, и иногда его нужно было похлопать по плечу, чтобы он отвлекся от работы. Копирование документов не требовало умственного напряжения, это была в основном механическая работа, и Максим, привыкнув и приноровившись к ней, думал в это время о чем-то совсем другом. Сегодня представил, как вернется в Киев. Когда это будет, может, через год или три, никто не знает, но когда-нибудь произойдет, и он снова поднимется на Владимирскую горку и увидит днепровскую ширь или пойдет в Ботанический сад. Да, в Ботанический сад нужно идти только в мае, когда цветет сирень. Здесь, на днепровских склонах, самый большой в Европе сиреневый сад, сотни деревьев и кустов, десятки сортов, и, когда они расцветают, вероятно, не бывает большей в мире красоты. Кисти сирени — белые, красные, лиловые, синие — всех цветов и оттенков, на фоне небесной синевы, над золотыми куполами Выдубецкого монастыря, над днепровской необъятностью, и кажется, у человека вырастают крылья, — нельзя увидеть такую невообразимую красоту и держать в душе плохое, мелочное, подлое, оно само — исчезает, ибо красота и подлость несовместимы. А потом он пройдет по бурлящему толпой Крещатику от Бессарабки до площади Октябрьской революции. Он пригласит в «Аквариум» друзей, не в ресторан или кафе, а только туда: они будут стоять за длинным столом, пить коньяк и шампанское, болтать о чем хотят и как хотят, это здесь у него уши всегда навострены, а там можно болтать, смеяться, шутить... Рутковский взял из сейфа новую пачку документов. Вот он едет по новой Бориспольской трассе куда-то на юг, в Крым или на Кавказ, машина мчится по Симферопольскому шоссе, уже позади Запорожье, Мелитополь... Где-то в конце лета у него отпуск, можно поехать в Австрию или Италию, но нужно подождать возвращения Юрия. Сенишины выезжают за границу через несколько дней, недели Юрию достаточно, чтобы выполнить задание Лодзена, ну самое большее две недели, потом, если вояж Сенишиных завершится успешно, Лакута передаст списки Лодзену — нужно, чтобы они прошли через руки Максима, это — условие игры, иначе и начинать ее не было смысла... Как будто полковник доверяет ему, но все может случиться — неужели Лодзен решит обойтись без посредника? Послышались голоса. Максим оторвался от работы, осторожно выглянул в дверь. Увидел в конце коридора двух вахтеров и с ними человека в штатском. Значит, неожиданная проверка помещения. Максиму было известно, что такие проверки время от времени проводятся, и он был готов к ним. Вахтеры знали, что Рутковский задерживается на работе, с ними он поговорил бы — и все, но третий в штатском!.. Наверное, из службы охраны, он может заподозрить что-то, обыскать помещение, и тогда... Максим быстро спрятал бумаги в стол, запер ящик, юркнул в соседнюю комнату и стал за шкаф. Конечно, вахтеры лишь заглянут в помещение и, не увидев никого, пойдут дальше. Только бы не заперли двери... Стоял и ждал. Голоса приближались. — Никого... — сказал знакомый Максиму вахтер. — Иногда здесь задерживается господин Рутковский, — доложил другой. — Почему? — спросил работник службы охраны. — Имеет разрешение пана Кочмара. — Ну... ну... — сказал тот неопределенно. Замок щелкнул, и голоса затихли. Максим вышел из своего укрытия. Итак, он в мышеловке, ибо двери, которые ведут в коридор, запираются только извне, и нет надежды, если не поднять шум или не позвонить в службу охраны, выйти из комнаты. Но спокойно: необходимо проанализировать ситуацию — неужели не найдется выхода? Прежде всего Рутковский переложил из ящика в сейф документы, навел порядок на столе, повесил на место ключи от сейфа и запер главный сейф. Обошел все комнаты, внимательно оглядел их. Нет, кажется, нет выхода, и он действительно попал в мышеловку. Можно было бы попробовать выбраться из помещения через окно, но окна зарешечены, а ключи от замков для стальных решеток хранятся в стеклянном шкафу. А если разбить стекло шкафчика и отпереть решетки? Рутковский тут же отбросил этот вариант. Конечно, в таком случае он сам спасется. Комнаты их на первом этаже, вылезти на улицу не представляет никакого труда, но он будет окончательно провален. Единственное, что останется в таком случае, — звонить Олегу и с его помощью бежать из ФРГ. Бежать, когда не закончено копирование секретных документов РС, когда только-только заварилась каша со списками Лакуты, а бежать придется, так как служба охраны моментально установит, кто последний был в комнатах. И парни из этой службы сразу выйдут на него, начнется расследование, а это равнозначно провалу. Значит, нужно забыть о существовании ключа от решеток. А если попробовать? Максим подвинул к окну стул. Стал на него. В верхней части решетки немного расширяются, можно открыть окно, просунуть руку между стальными прутьями и выбросить аппаратуру. А утром, когда отопрут комнаты, объяснить свое присутствие так: мол, вчера выпил в буфете, потом зашел в соседнюю комнату, задремал и не услышал, когда закрывали двери. Но все равно начнется расследование. Даже если не найдут его «технику», во что трудно поверить, так как он не сможет далеко забросить ее, служба охраны опять-таки будет следить за ним — и не один месяц, а это также равнозначно провалу. Да, в службе охраны работают не дураки, и деньги им платят совсем не за то, чтобы хлопали ушами. А здесь чрезвычайное событие: целую ночь провел человек в секретном отделе наедине со стальными сейфами... Конечно, все обнюхают, исследуют, и шансов у него почти нет. Сел, выпил воды, немного расслабился. Решил, что нужно начать все сначала. Хотя с чего начинать? Вариант с окном отпадает, другого выхода нет... Единственное, на что можно надеяться, — пунктуальность Сопеляка. Как правило, Сопеляк первый приходит на работу — за пять или десять минут до начала. Пан Виктор сидит в соседней комнате направо. Он придет, начнет устраиваться, отопрет стол.. В это время можно выйти к нему. Сделать вид, что только что пришел и попал в свою комнату через приемную Кочмара — заглянул к Сопеляку, чтобы поздороваться... Рутковский представил себя на месте Сопеляка. Да, навряд ли пан Виктор что-то заподозрит. По крайней мере, какой-то шанс у него есть. А если раньше придут Синявский или старая карга пани Вырган? Плохо, очень плохо... Они сидят в комнате Максима, Синявский сразу почувствует горячее, у него нюх разведчика, говорят, что служил в абвере, тут же донесет службе охраны — и конец. Вырган тоже никогда не опаздывает и тоже донесет. Сначала поинтересуется, почему это пан Рутковский сидит в запертой комнате, а потом — к Лодзену. Правда, услышав щелканье замка в приемной, можно выскочить в комнату Сопеляка, а потом уже оттуда зайти к себе. Мол, перепутал ключи, взял от комнаты Сопеляка и вошел через нее... Нет, такой номер ни с Вырган, ни с Синявским не пройдет. Единственная надежда — пунктуальность Сопеляка. Рутковский представил себе пана Виктора, старика Хэма с красным носиком-пуговкой. Сопеляк был ему сейчас чрезвычайно симпатичен, даже пани Ванда казалась чуть ли не красавицей. Дал зарок: если Сопеляк придет первым и все обойдется, поведет его вместе с женой-красавицей в ресторан и закажет все, что захотят. Нет, одернул себя сразу, не сделает он этого, если даже все обойдется. Ибо такая щедрость здесь не в почете, Сопеляк заподозрит его и, кто знает, может, и вспомнит преждевременное появление Рутковского на работе. Ведь, честно говоря, Максим не отличался особым служебным усердием: бывало, опаздывал на несколько минут и редко когда приходил вовремя. Рутковский постелил на полу газеты, завернулся в плащ, подмостил под голову какие-то папки. Спать. Ведь в его положении ничего лучшего не оставалось. Крутился и не мог заснуть. Да и в хорошем настроении, когда хочется спать, разве это сон — на газетах? А здесь, когда нервы натянуты до предела!.. Крутился полночи, лишь утром сон одолел его, задремал на два или три часа, но в восемь уже сидел за столом. Сидел, натянутый как струна, и ждал, когда щелкнет замок в дверях... В каких? Неужели пан Сопеляк подведет его? Ну хороший, добрый, самый лучший пан Виктор, ну разве ты не можешь прийти на несколько минут раньше, всего на несколько минут? Наверно, пан Сопеляк услышал эти мольбы Максима. Замок щелкнул тихо, даже очень тихо — в дверях справа, из комнаты донеслись скользящие шаги Сопеляка. Рутковский слышал, как бьется у него сердце. Теперь выждать минуту или две. Только бы не пришли Вырган или Синявский. Смотрел, как бежит на циферблате секундная стрелка. Быстрее, прошу тебя... Когда обежала два круга, поднялся намеренно медленно, заглянув в комнату Сопеляка. Пан Виктор переворачивал какие-то бумаги и не увидел его. Рутковский проскользнул между письменными столами. — Мое почтение, пан Виктор! — сказал громко и бодро. — Вы, как обычно, ранняя пташка. Сопеляк усмехнулся благосклонно. Он всегда улыбался любезно, а особенно угодливо тем, кто шел в гору. Этот Рутковский, смотри, через полгода или год станет заместителем Кочмара, и господину Максиму нужно улыбаться искренне. Сопеляк скомкал в кулаке бороду, чтобы Рутковский лучше видел выражение его лица — приятное и предупредительное. — А вы, пан Максим, сегодня, вижу, тоже не задержались. — Эх, пан Сопеляк... — Рутковский сделал таинственное лицо. Знал, что Сопеляк больше всего любит секреты, и решил сыграть на этом. — Расскажу вам, но это ведь тайна... — Конечно, пан Максим, все останется между нами, честное слово. — Понимаете, вчера вечером познакомился с девушкой и прогулял всю ночь. У нее... А она здесь недалеко живет, домой уже не было смысла возвращаться. — А красивая девушка? — узкие глаза Сопеляка блеснули интересом. Рутковский поцеловал кончики пальцев. — Очень. Лицо Сопеляка омрачилось. — Теперь вам, — сказал вздыхая, — все дается легко. Деньги, девушки... — Не говорите никому. — Боже сохрани... А вы в самом деле загуляли. Даже... — запнулся. Рутковский насторожился. — Что «даже»? — А-а, пустое. Всегда аккуратный, приятно смотреть, а сегодня небритый. — Точно. — Максим с притворным отвращением провел ладонью по щеке. — Откуда у девушки бритва? Знаете, скажите Кетхен, что я в библиотеке — здесь парикмахерская за углом, за двадцать минут можно успеть. — Если она поверит. — Вам, пан Виктор, не поверить нельзя. А с меня коньяк. — Все только обещают всегда... — По первому требованию. — Ну скажу, скажу. Рутковский проскользнул пустым коридором к туалету. Выглянул из неприкрытых дверей и, увидев, что мимо важно прошел Синявский, вздохнул облегченно и побежал в парикмахерскую. Ну опоздает на несколько минут... Кетхен будет знать, что он в библиотеке, она не донесет на него Кочмару — уже привыкла к мелким подаркам Максима.
Иван Мартинец сидел на открытой веранде маленького ресторанчика «Ручеек», который приткнулся над самой дорогой на Зальцбург. Посетителей было мало: он с Гизелой и еще несколько приезжих, которые поставили свои машины на асфальтированной площадке около ресторана. Все сидели на открытой веранде, только двое мужчин в замшевых шортах пили пиво в зале. Стояла летняя жара, и лишь иногда легкий ветерок покачивал верхушки сосен, со всех сторон обступивших ресторанчик, и хвоя осыпалась на столы. Один из мужчин, пивших пиво, показал кельнеру два пальца, и тот принес полные кружки. — И сыра, — потребовал человек, — свежего. Кельнер пошел за сыром, а человек, пригубив пиво, сказал недовольно: — Можем до ночи просидеть — и ничего. Девчонка у него хороша, ничего не скажешь, с такой я бы тут не сидел... Второй захохотал: — У вас, пан Стефан, губа не дура. — Губа у меня в самом деле не дура, — согласился мрачно Стефан. — А что из этого? Как были мы с тобой, Богдан, на побегушках, так и остались. — Ничего себе, скажу вам, побегушки! — Богдан незаметно нащупал в кармане рукоятку пистолета. — Мы с вами, пан Стефан, исполнители, и исполнители не какие-нибудь, с нами считаются, и я уверен, что всегда кому-нибудь понадобимся. Только бы живы были. — О-о! Только бы живы были — это ты точно сказал, Богдан. Пока сила есть, нами и интересуются. А потом? — На пенсию, пан Стефан. Стефан скрутил огромную фигу, сунул Богдану под самый нос: — Видел, дурак? Ты что, член профсоюза? — А вы сейчас деньги откладывайте. — С нашей работой — только откладывать!.. — Я вот что думаю... — Богдан осмотрелся вокруг и, убедившись, что никого нет поблизости, сказал, понизив голос: — Нужно нам с вами, пан Стефан, свою жар-птицу ловить. А то в самом деле, на чужого дядьку работаем, по лезвию ножа ходим, а за что? Несколько сот марок, тьфу, скажу я вам... — Не плюйся, Богдан, и они на дороге не валяются. — Не валяются, — согласился Богдан. — Да надоело. Этот Лакута в «люксе» шнапс пьет, а мы в коридорах шатаемся... — Котелок у него варит получше, чем у нас, Богдан. — Не говорите, просто счастья у него побольше. — Что-то ты крутишь, Богдан. Не нравится мне это. Я с Лакутой в «Нахтигале» служил, рука у него знаешь какая! — Была, пан Стефан, была, знаете ли, у него рука, а теперь одно воспоминание. — Ну скажи, куда целишь? — Подождите, пан Стефан, обмозговать это дело еще нужно, попьем вот вина, а потом поговорим. Времени у нас сколько хотите. — Чего-чего, а времени и в самом деле... — согласился Стефан. — Лучше были бы деньги. Кельнер принес тонко нарезанный сыр. Стефан взял кусочек, бросил в рот, пожевал. — Разве это сыр? — вздохнул Богдан. — У нас в горах отрежешь полкило овечьего, вот то еда. А тут две сосиски — завтрак... — На один зуб. — Мы с вами, пан Стефан, вот что сделаем. Купим завтра мяса, поедем в лес, разведем костер и на шампурах, знаете ли... — На шампурах вкусно, — проглотил слюну Стефан. Вдруг он вытянул шею в сторону веранды. — Что там? — заерзал на стуле Богдан. — Черт бы его побрал! — выругался Стефан. — Все время под ногами крутится... — Кто? — Сиди спокойно, не поворачивайся. Тот приехал, с которым мы забавлялись. — Рутковский? — Он самый. — Бежать нужно, может узнать. — Может. — Машину оставим на стоянке, а сами за ручей. Там я скамеечку приметил что надо. Скамеечка в кустах, и нас не видно. Богдан оставил деньги на столе, и они осторожно, чтобы не увидели с веранды, спустились крутыми ступенями к выходу. За ручьем стояла деревянная скамейка — Стефан уселся удобно, вытянув ноги, а Богдан примостился с краю, чтобы наблюдать за стоянкой, где стояли красный «фиат» Рутковского и канареечный «пежо» Мартинца. ...Рутковский сразу заметил Мартинца с Гизелой: они сидели в стороне, с самого краю веранды под соснами. Помахал рукой и увидел, как расплылось в улыбке лицо Мартинца. — Хелло, Иван! — сказал Рутковский на американский манер. — Привет, Гизела, рад вас видеть. — Сел и осмотрел стол. — Ты опять за водку, Иван? Дорога сложная, зачем? — А мы с Гизелой заночуем. Здесь у хозяина есть две комнаты, обе свободны. Выпей, можешь тоже заночевать. Рутковский покачал головой: — Не выйдет. — Как знаешь... — Что ты хотел от меня? — Сегодня на радиостанции был выходной день, Максим собирался поехать в горы порыбачить, да позвонил Мартинец и назначил встречу в «Ручейке». — Подожди, — покрутил головой Мартинец, — я немного выпью водки, а ты пей кофе или минеральную воду, ты ведь воплощение всех добродетелей, а мы с Гизелой порочны и распутны. Правда, малютка? — Он произнес эту тираду по-украински. Гизела, конечно, ничего не поняла, только догадалась, что речь идет о ней, игриво качнула головой и потрепала Ивана по щеке. — Вот видишь, — выкрикнул Мартинец, — она согласна, что распутница, и точно — она курва, а я... — Ты пьяный, Иван, и если хочешь со мной разговаривать... — Я — пьяный! Что ты понимаешь... Я дурак, это точно, — постучал себя кулаком по лбу, — большего дурака быть не может, и я призываю тебя в свидетели. — Тебе виднее, — не без подтекста согласился Рутковский, и это не понравилось Мартинцу: одно дело, когда ругаешь себя сам, и совсем другое, когда кто-то. — Вот, и ты уже против меня... — обиделся. — Если бы я желал тебе плохого, не приехал бы. — Да, ты — друг, — согласился Мартинец, — и я хотел посоветоваться с тобой. — Вот и советуйся. Мартинец на минуту задумался. Отпил воды из фужера и начал рассудительно и трезво, будто и не пил ничего: — Надо мною сгустились тучи — не чувствуешь? — По-моему, ты сам дал повод Кочмару. — А что, молча сидеть? — Слушай, Иван, для чего нам играть в прятки? Ты сам этого хотел, так ведь? Хотел. Вот и получил: за такую свободную жизнь нужно платить, а плата сам видишь какая. Чего же ты плачешься? — Потому что я — человек! — И тебе не смешно? — Было бы над чем смеяться. Не до смеха. — Я знаю, чего ты хочешь. — Рутковский разозлился, говорил ожесточенно и с нажимом: — Ты хочешь, чтобы с тобой нянчились. Какой хороший этот Мартинец — не вытерпел притеснений, уехал из того мира, боже, какой он несчастный: смотрите на него, молитесь на него, платите ему самые высокие ставки, задабривайте его! Лицо Мартинца потемнело. — Ну-ну, что же дальше? — заскрежетал зубами. — А дальше все как на ладони. Героем тебя не признали, высоких ставок не платят. Ты начинаешь разочаровываться в этом мире и зовешь меня на помощь, чтобы оправдал тебя. Мартинец сдвинул брови, схватился за стол, казалось, еще миг — и опрокинет его на Максима. Но удержался, сказал, с ненавистью глядя на Рутковского: — Нужен ты мне! Чистеньким хочешь оставаться? Давно смотрю на тебя — руки боишься запачкать. А они у тебя такие же грязные, как и мои, понимаешь ты, чистоплюй! Он начинал нравиться Рутковскому, этот Иван Мартинец, но разве мог Максим хоть как-то раскрыть себя? — И чего же ты хочешь от этого чистоплюя? — спросил. — Ничего. — Будем считать, что я совершил приятную прогулку к «Ручейку», чтобы выпить чашку кофе... — Как хочешь, так и считай. — Вы ссоритесь, мальчики? — вмешалась Гизела. — Я же вижу, вы ссоритесь — почему? — Мы не ссоримся, Гизела, — ответил Мартинец. — Мы просто выясняем отношения. — Что вам выяснять? — И правда, что? — Иван сразу охладел. Сгорбился и выпил водки. — Наверно, ты прав, Максим. Рутковскому сделалось немного стыдно за свою выходку. — Давай обсудим твое дело. Ведь за этим звал? — Мне кажется, что Кочмар хочет расправиться со мной. — Есть факты или просто интуиция? Мартинец подумал. — Скорее, интуиция. Чувство, будто за мною следят. — За каждым из нас немного следят. А с Кочмаром, конечно, у тебя не может быть мира, и рано или поздно он съест тебя. Зачем сказал, что у тебя есть на него досье? — Вырвалось. — Эх, шляпа! Вырвалось... Кто за тебя заступится? — Я и хотел посоветоваться. Есть против Кочмара довольно весомые факты. Во-первых, приписывает себе рабочие часы. Мелочь, но жульничество. Дальше, комбинации с премиальными. У меня записано, сколько и кому недодал. Рутковский быстро обдумал сказанное Мартинцем. Конечно, жаль Ивана. Но выиграет ли он, если станет на сторону Мартинца? В конфликте между начальством и подчиненными американцы всегда становятся на сторону начальства, тем более в таких случаях. — Как хочешь, Иван, — сказал, подняв глаза, — а я тебе не помощник. Думал, что Мартинец осудит его — и взглядом, и словами, но Иван оказался мудрее. — Тебе виднее, — ответил просто. — Хочешь выпить? — Хочу. Но опять-таки не имею права. — Рутковский поднялся, не глядя на Мартинца, но чувствуя его иронический взгляд. — Будьте здоровы, — бросил и пошел не оборачиваясь?
...Стефан довольно хмыкнул. — А пан Рутковский, кажется, собирается ехать? — спросил. — Пускай едет к черту! Теперь мы того Мартинца прищучим. — Прищучим, пан Стефан, без немочки только, пожалуйста. — И ты туда же? — А как же, дорогой пан? Что пан Кочмар говорил? Только этого молодчика. Он исчезнет, никто не поинтересуется: ни родственники, ни наследники, ни друзья... А за немкой потянется: мать, сестры, племянники... Куда подевалась? Тут не избежать полицейского расследования, а для чего оно нам? — Пан Кочмар говорил: с полицией все улажено. — Если одного пана Мартинца... Мне немочки не жаль, но нельзя. — Нельзя так нельзя... — почесал затылок Стефан. — Видишь, тот, на красном «фиате», Рутковский, уехал. — Бог с ним, пан Стефан, может быть, еще придется встретиться. — Так что ты надумал с Лакутой? — Деньгами пахнет, и большими. — Врешь. — Большими, говорю, пан Стефан, и прошляпить никак нельзя. — Думаешь, Лакута сторговался? — Не думаю, а уверен. — Хитрый ты, Богдан. — Может быть, последний шанс, пан Стефан. — А как? — Еще, дорогой пан, не знаю. Но уверен: идет большая игра. Я в тот вечер пана Лакуту домой отвозил. Под газом был, значит, и поддерживать пришлось. А жена у него знаешь какая? — О-о, сука... — Точно, стерва, и пана Лакуту не очень уважает. Ругаться начала, а он ей говорит: хорошее дело затеял и до конца жизни хватит... — Не может быть! До конца, сказал? — Вот, дорогой мой, я и подумал. — Знать бы, когда получит деньги! — Узнаем. — Как? — Без нас не обойдется. Видите, даже тогда в гостиницу звал, а теперь, когда деньгами запахло, подавно. — Точно. — Только не дай бог, пан Стефан, чтобы заподозрил. Ничего не выйдет тогда, тот пан Лакута хитрый и осторожный. — Ну ты и голова, Богдан! — Есть немного, не жалуюсь. — Подожди, Богдан, видишь, тот фрайер выходит. — Почему же не вижу, пан Стефан, пойдем к нему? — Только прошу тебя осторожненько, потихоньку, полегче. — А немочка где? — За ним плетется. — Неужели поедут? — Куда им ехать? Да и не для того сюда с девушкой приехал... Понял? — Эх, пан Стефан, мы понимаем, для чего этих шлендр раскрашенных по гостиницам возят. — А понимаешь, так помолчи.
...Мартинец спустился с веранды и договорился с хозяином о ночлеге. Комната оказалась маленькой, но кровать стояла великолепная: огромная, на полкомнаты, мягкая, и белье пахло свежестью. Гизела быстро разделась, нырнула под одеяло, позвала Ивана: — Иди ко мне, милый. Если бы не позвала, пошел бы, и, по крайней мере, сегодняшний вечер сложился бы для Ивана Мартинца счастливее, но какой-то бес противоречия вселился в него: был раздражен и сердился на весь мир. — Подышу свежим воздухом. — Не надышался? Я замерзла. — Согревайся сама! — пробурчал грубо и ушел пошатываясь. Постоял немного у дверей. Возле стойки не было никого, только двое в замшевых шортах сидели около дверей и несколько пустых кружек стояло перед ними. Мартинец выпил полкружки пива несколькими глотками и остановился, чтобы отдышаться. Грузный человек в шортах прошел мимо во двор. Иван допил пиво, прикинул, не опрокинуть ли еще кружку, но тут же раздумал. Не тянуло и возвращаться в комнату, где на роскошной кровати ожидала его Гизела. Вообще все опротивело. Вышел во двор. Почему-то захотелось выплакаться. Ему давно уже не хотелось плакать, жил как в чаду: Гизела, Бетти, Герда, Лизхен — девушки и виски, девушки и джин, девушки и шампанское — вот и вся жизнь. Убивал в себе и воспоминания, и желания, и угрызения совести, ибо никак не мог забыть днепровский простор и Лавру над ним, золотой купол, отражающийся в вечных днепровских водах, — это видение преследовало его, но знал: никогда не увидит купола Лавры и никогда не будет купаться в Днепре. «Никогда» больше всего мучало его, не мог смириться с этим, потому и заливал горечь спиртным и шатался по городу. Иван закурил и пошел к скамейке, которая стояла на берегу ручья, хотелось одиночества — оно бередило душу, но почему-то эта душевная боль приносила и успокоение, наверно, потому, что чувствовал себя в такие минуты еще человеком не совсем павшим, а стремящимся чего-то достичь в жизни. Мартинец сел на скамейку и потушил только что зажженную сигарету. Посмотрел на звезды, на луну, поднимающуюся из-за деревьев, и почувствовал свою мизерность и никчемность в этом бесконечном мире. Снова захотелось плакать, но на скамейку рядом кто-то сел — запахло пивом и табаком. Мартинец покосился на человека и узнал того типа в замшевых шортах, что пил пиво в баре. Начал подниматься, но человек спросил его: — Сигарета есть? — Пожалуйста... — Иван полез в карман, человек придвинулся к нему близко-близко, дыхнул перегаром, Мартинцу стало противно, отпрянул, но кто-то ударил его по голове, в глазах засверкали искры, и он потерял сознание. — Ловко ты его, — похвалил Стефан. — С первого раза. Богдан спрятал под пиджак железную трубу, обтянутую резиной. — Насобачился, — ответил. — Поищите, пан Стефан, в карманах, и если нет ключей... — Куда они денутся? — Стефан быстро обшарил карманы пиджака Мартинца, вытянул автомобильные ключи. — Подгоняй сюда машину. Богдан настороженно оглянулся вокруг: с веранды их не могли видеть, и только бармен торчал за широким окном ресторана. — Придвинься к нему, — зашептал. — Не упал бы. — Быстрее! Богдан направился к стоянке, а Стефан придвинулся к бесчувственному Мартинцу, обняв его за плечи. Канареечный «пежо» затормозил около скамейки через минуту, и Стефан, убедившись, что бармен читает газету и ничего не видит, затянул Мартинца в машину. — Давай, — выдохнул хрипло, — я тебя догоню. «Пежо» с места набрал скорость, а Стефан метнулся к мощному серому «мерседесу». Он догнал «пежо» сразу за «Ручейком», пристроился в хвост, погасив фары. Через несколько километров слева от дороги показалась пропасть, Богдан остановил «пежо». «Мерседес» стал сбоку чуть ли не впритык. Богдан вышел из машины, осмотрелся. — Кажется, здесь, пан Стефан? — спросил скорее для порядка, так как остановился в точно определенном ранее месте. — Здесь, — пробурчал Стефан и перетянул все еще бесчувственного Мартинца на переднее сиденье. — Ну с богом! Богдан снял машину с ручного тормоза, выкрутил руль налево. — Взяли! «Пежо» неохотно сдвинулся с места, но, постепенно набирая скорость, пересек шоссе и рухнул в пропасть. — Слава тебе, господи, — перекрестился Богдан, — с благополучным концом вас, пан Стефан. — Не забудь завтра утром позвонить Кочмару. — Конечно. С него еще тысяча марок, а за тысячу я кому угодно горло перегрызу. — Ну до этого не дойдет, он человек уважаемый и всегда рассчитывается точно. — За выполненную работу, — добавил Богдан. — А мы свое дело сделали... — Стефан для чего-то обтер руки об штаны и направился к «мерседесу».
О гибели Мартинца на станции поговорили день-два и забыли: не нужно водить машину пьяным, особенно по горным дорогам. Никто не сомневался в официальной версии — несчастный случай, кроме Рутковского. Но Максим молчал. Молчал на работе, ничего не сказал и полицейскому инспектору, который вел расследование и хотел иметь показания человека, который одним из последних видел погибшего. Но что поделаешь: видно, такой уж был предназначен Ивану путь... Кочмар день-два посматривал на Максима подозрительно, но Рутковский никак не выказывал своего отношения к случившемуся, вел себя, как и подобает в таких случаях: печалился, но не очень — разве можешь в молодые годы до конца понять всю трагичность смерти? Тем более что наконец в Мюнхен вернулись Юрий с Иванной, и Максим ни о чем не думал, кроме списков Лакуты. Обозначенные там люди оказались живыми, и семеро из них дали согласие продолжать сотрудничество с ЗЧОУН[33]. Лодзен приехал к Сенишиным вместе с Рутковским в первый же вечер после их возвращения. Курил одну за другой сигареты и был явно возбужден. — Списки — это превосходно! — повторял. — Некоторые из информаторов согласились работать с нами, и дело это перспективнее, чем казалось. Молодец, пан Сенишин, и мы не забудем вас. Юрий с Иванной пошли на кухню, а Рутковский сказал Лодзену: — Списки еще у Лакуты... и неизвестно... — Завтра будут у нас — Полковник стал серьезным. — Вечером свяжитесь с Луцкой, пусть предупредит Лакуту. Завтра нужно встретиться. С ним вы начали это дело, вам и заканчивать. — Нагнулся к Максиму, сказал тихо, будто его могли услышать на кухне: — Завтра утром уточним детали... Вечером Рутковский связался не только с Луцкой, но и с Олегом. Они встретились в дешевом ресторанчике Швабинга и быстро уточнили детали завтрашней операции. А утром, едва Максим успел сесть за свой стол, в комнату заглянула Катя и, округлив глаза, что свидетельствовало об удивлении и уважении, сообщила: — Вас, пан Рутковский, просит мистер Лодзен. В комнате воцарилась тишина, и Максим почувствовал, как все взгляды скрестились на нем: и в самом деле, на радиостанции знали, что утром полковник занимается почтой или решает самые важные дела, и если вызывает кого-нибудь, то не ради того, чтобы дать обычное указание... Рутковский поднялся медленно, поправил — галстук, намеренно небрежно пожал плечами. Даже спросил у Кати дерзко: — Не сказал, для чего? Глаза Кубиевич еще больше округлились от страха, она замахала руками, и Максим вышел из комнаты, зная, что все разговоры будут вестись лишь вокруг этого необычного вызова. Полковник достал из сейфа небольшой плоский портфель, открыл его и положил на стол. Подозвал Максима, открыл портфель. — Здесь шестьдесят две тысячи триста долларов, — сообщил небрежно, будто речь шла об очередной зарплате Рутковского. — Но расписку возьмете с этого мошенника за семьдесят пять. — Лодзен остро взглянул на Рутковского — тот сразу сообразил, что к чему, но ничем не проявил ни своего удивления, ни смущения. — Слушаюсь, господин полковник, — только и ответил. Самое важное осталось позади, и Лодзен сразу повеселел. — Где назначена встреча? — спросил. — Там же, в «Регина-Палас». — В котором часу? — В двенадцать. — Поедете один? — Думаю, так будет лучше. — Ну о’кэй, — быстро согласился полковник, и Рутковский еще раз убедился, что Лодзен, конечно, не выпустит отель из своего поля зрения. Максим взял портфель. Полковник дружелюбно похлопал его по плечу, предупреждая: — Я жду вас не позднее часа. — Конечно, зачем мне задерживаться? Рутковский пошел, помахивая портфелем. Надеялся, что агенты из службы охраны станции еще не взяли его под свой надзор, в противном случае должен был любой ценой оторваться от них — как раз сейчас, когда до встречи с Лакутой осталось три часа и есть время раскрутить все так, как договорился с Олегом. Красный «фиат» стоял с самого края стоянки: Рутковский приехал сегодня немного раньше, чтобы занять как раз это выгодное место. Максим рванул машину, не жалея мотора, — смотрел, не двинулся ли кто-нибудь вдогонку. В это время движение здесь уменьшалось — где-то из-за угла выскочил «фольксваген», но шел медленно и скоро остановился. Максим сразу повернул направо. Был у него точно разработанный маршрут: на всякий случай выучил его и обкатал — крутые, неожиданные повороты, погоню, по крайней мере, заметил бы сразу. Кажется, никто его не преследовал... Еще один поворот налево, потом направо в переулок, снова направо — сзади никого, и можно вздохнуть облегченно. Рутковский остановился около таксофона, набрал номер и услышал голос Стефы. — Доброе утро, дорогая, — сказал, — как ты там? — Что-то случилось? — спросила встревоженно. — Нет, все идет как надо, только вот что: позвони Лакуте — встреча переносится в гостиницу «Зеленый попугай». — Зачем? — Все в порядке, милая, но береженого и бог бережет. — Возможно, ты прав. — Не возможно, а точно. Пятьдесят седьмой номер. — Время то же? — В двенадцать. — Договорились. Рутковский вздохнул с облегчением: теперь списки не пройдут мимо его рук. Вспомнил, как смотрел на него Лодзен, когда приказал взять с Лакуты расписку на семьдесят пять тысяч. Да, господин полковник собирается положить в карман двенадцать тысяч семьсот долларов. Потому и делает все исподтишка, потому и поручил ему, Максиму, получить списки: уверен в его преданности, да и, в конце концов, кто поверит какому-то жалкому эмигранту, если он осмелится выступить против полковника разведки? Теперь сам бог велел и ему взять с пана Лакуты свои пять процентов комиссионных. Приблизительно три тысячи долларов — они на дороге не валяются, и никто здесь ни за что бы не отказался от таких денег. Рутковский поехал в «Зеленый попугай». Пятьдесят седьмой номер ему посоветовал взять Олег. Комната как раз на углу, выход окнами на две улицы, с балкона просматриваются все подходы к гостинице. Да и стоит не так уж и дорого, раз в пять дешевле, чем в «Регина-Палас». Максим придвинул стул к окну, занял удобное положение за шторой и закурил. Теперь самым главным его оружием было терпение, теперь все шло своим ходом и он будто остался сбоку, точнее, был деталью отрегулированного и заведенного механизма. Первая приехала Луцкая, и Рутковский отдал должное пунктуальности панны Стефании. Правда, он в этом мог убедиться и раньше, о деловой сноровке слышал также, но не думал, что сама Луцкая будет контролировать их сегодняшнюю встречу с Лакутой. Стефа поставила машину не на стоянке напротив гостиницы, а на боковой улице, и Рутковский еще раз оценил дальновидность Олега: одно из окон номера выходило как раз туда, и он мог следить за действиями Луцкой. Собственно, пока она не проявляла активности; не выходила из «фольксвагена», сидела и курила, ибо из окна машины шел дым. Так прошло четверть часа. В половине двенадцатого Луцкая вышла из автомобиля и остановилась возле газетного киоска. Купила газету, начала просматривать ее, и тут к ней подошел высокий человек в темно-сером костюме. Рутковский сразу узнал его: эсбист Богдан! Это он вместе со Стефаном закручивал удавку на его шее. Теперь Максим припомнил: Богдан был и в «Регина-Палас» — метнулся из соседнего номера, когда Рутковский со Стефой выходили от Лакуты. Выходит, Богдан и Стефан — сообщники Луцкой и, наверно, это она устроила ему проверку с удавкой. Луцкая перебросилась с Богданом несколькими словами и пошла в гостиницу. Богдан сел на скамейку, сделав вид, что читает журнал. Максим думал, что Стефания поднимется к нему на пятый этаж, но время шло, а никто не стучал. Выходит, ждет Лакуту в холле. Пан Зиновий приехал в начале первого в старом зеленом «форде». Приехал с шофером — тот поставил машину неподалеку от входа, а Лакута зашел в гостиницу. Рутковский считал минуты. Вот пан Зиновий увидел Луцкую, один или вместе идут к лифту, вот лифт поднимается на пятый этаж. Пятьдесят седьмой номер — четвертые двери по коридору: подходят, стучат... Он ошибся секунд на семь-восемь: постучали, и вошел один Лакута. Высокий, улыбающийся, вежливый. Пан Зиновий осмотрелся и, убедившись, что в номере, кроме Рутковского, никого нет, вздохнул облегченно. Максим предложил ему стул, а сам запер двери. Спросил по-деловому: — Списки привезли? — Да. — Можно посмотреть? — А деньги? Рутковский кивнул на плоский портфель, который лежал на столе возле Лакуты. Пан Зиновий немного поколебался и вынул из внутреннего кармана пиджака аккуратно сложенные бумаги, подал Рутковскому. Максим развернул их не спеша, хотя руки его чуть-чуть дрожали от нетерпения. Сразу понял, что подлинность списков не вызывает сомнения: старая газетная бумага, немного потертая по краям, пожелтевшая. Этими списками и займутся органы безопасности, а господин Лодзен пусть строит розовые замки... Положил бумаги в черную кожаную папку. Отпер портфель, высыпал пачки денег просто на стол. — Считайте, — предложил. — Здесь пятьдесят девять тысяч сто восемьдесят пять долларов. — Должно быть шестьдесят две тысячи триста. — Не забывайте о пяти процентах комиссионных. — Неужели? — Думаю, у нашего уважаемого пана нет склероза. — Ну хорошо... — В холодных глазах Лакуты загорелись зеленые огоньки. Подвинулся к столу, тонкими пальцами начал перебирать деньги. — Я возьму ваш портфель. — Пожалуйста. Лакута быстро считал пачки и бросал в портфель. Двигал губами и ничего не видел вокруг. Лицо его заострилось и волосы, по крайней мере так казалось Максиму, встали дыбом. Закончив считать, запер портфель, спрятал ключ в кошелек, а портфель зажал под мышкой. Как-то жалобно улыбнулся Рутковскому и поднялся. — Прошу передать полковнику, — он уже успокоился и снова стал прежним Лакутой: степенным и немного высокомерным, — мое приветствие и наилучшие пожелания. — Минуточку... — Максим положил на стол листок бумаги. — Прошу расписаться, — и подал Лакуте ручку. Тот глянул небрежно, но, увидев цифры, хитро покосился на Рутковского. Понял все сразу, так как спросил не таясь: — Остальное господину Лодзену? — Не знаю, так приказано. — Каждый устраивается как может, — вздохнул Лакута, но расписался без колебаний. Максим открыл двери, и пан Зиновий вышел, вежливо поклонившись. Рутковский встал из-за стола, выглянул в окно. Лакута не задержался в гостинице, торопился, так как, выйдя с Луцкой, тут же распрощался с ней и подозвал свой зеленый автомобиль. Он сел на переднее сиденье, сзади влез еще Богдан, «форд» повернул в боковую улицу, а Луцкая, постояв немного, пошла к своему «фольксвагену». Рутковский не стал ждать лифта, сбежал по лестнице, крепко держа черную кожаную папку. Заставил себя замедлить шаг только на улице, осмотрелся: как будто ничего подозрительного. «Фиат» завелся с пол-оборота. Максим проехал боковую улицу, через три квартала увидел около пивной Олега — тот стоял на самой бровке тротуара; Рутковский притормозил, и Олег вскочил в машину чуть ли не на ходу. — Порядок... — Максим передал Олегу черную папку. — Кажется, все обошлось. Олег, не отвечая, посмотрел назад. — Да, — подтвердил наконец, — хвоста нет. — Удобно устроился на сиденье, достал микрофотоаппарат, развернул папку. Переворачивал страницы, фотографируя. Наконец сложил списки обратно в папку, отдал Максиму. Тот высадил его на тихой улице, посмотрел на часы — нужно торопиться на Энглишер Гартен. Лодзен нервничал. Ходил по длинному кабинету и курил папиросу за папиросой. Секретарша знала, что он ждет Рутковского, и пропустила Максима сразу. Полковник бросил папиросу в пепельницу не загасив. — Ну что?.. — спросил. — Что произошло, отвечайте! Рутковский молча прошел к столу, положил черную папку. — Вот списки, — ответил. — И все в порядке. Лодзен быстрым движением раскрыл папку, начал листать страницы. Успокоился, глянул исподлобья на Рутковского, потом на часы. — Все хорошо, что хорошо кончается... — пробурчал и спросил без всякого перехода: — Расписка? Рутковский подал ее, полковник только взглянул искоса, спрятал расписку вместе со списками в сейф, закурил и даже предложил сигарету Максиму. Только после этого спросил: — Где выбыли? — Ездил за списками, — притворился, что не понял, Рутковский. Итак, полковник решил не играть с ним в прятки, и сейчас начнется допрос. Следующие слова Лодзена подтвердили его догадку. — Я послал работников службы охраны в «Регина-Палас», чтобы в случае необходимости подстраховать вас. Но... Максим осмелился прервать полковника: — Именно из соображений безопасности в последний момент я перенес встречу в гостиницу «Зеленый попугай». Если бы знал, что служба охраны будет подстраховывать меня! Тогда, конечно, не следовало этого делать. Но подумайте: шестьдесят тысяч... Этот Лакута мог проболтаться кому-нибудь, и плакали наши деньги. Я уж не говорю о списках. — Вы могли предупредить меня. — Не хотел лишний раз тревожить. — В таких случаях самодеятельность недопустима, и вам нужно было немедленно поставить меня в известность. Могу извинить вас только потому, что действовали в первый раз. Кстати, когда Лакута приехал в гостиницу? — В пять минут первого. — Рутковский знал, что здесь его позиции непробиваемы. Полковник, конечно, проверит его ответы и убедится, что между «Зеленым попугаем» и Энглишер Гартен Максим нигде не задерживался ни на минуту. — И когда вы выехали из гостиницы сюда? Этого вопроса Рутковский ждал, именно поэтому и взял Олега в машину. — Минут через пятнадцать. Пока Лакута сосчитал деньги, ну, знаете, всякие слова... — Итак, в двадцать минут первого. — Да, в двадцать или двадцать пять. — А сейчас десять минут второго. Пять минут мы разговариваем с вами, выходит, от «Зеленого попугая» вы ехали сюда двадцать минут? — Да, — подтвердил Рутковский. — Куда заезжали? — Вот оно что!.. — оскорбился Максим. — Но, господин полковник, вы можете поручить службе охраны проехать от «Зеленого попугая» сюда кратчайшим путем и убедитесь, что быстрее никто не доберется. — Конечно, проверим! — Лодзен усмехнулся жестко. — И не пробуйте обмануть меня, это вам дорого обойдется. Рутковский понял, что выиграл эту игру. Конечно, нюх разведчика подсказывает Лодзену: со сменой гостиниц что-то не так, но стоит ли сейчас усложнять положение? Начать глубокое расследование — бросить тень на так хорошо проведенную операцию. Кроме того, кто-то может пронюхать о солидном куше, который полковник положил в карман. Нет, решил Лодзен, все это глупости, просто Рутковский еще не опытный и не знает всех правил, заведенных в разведке. Да и откуда ему знать? — Идите и работайте, — отпустил Максима. — До конца рабочего дня, пожалуйста, не уходите из помещения. Вечером, когда Рутковский выходил из станции, вахтер попросил его пройти в отдельную комнату. Два агента службы охраны тщательно обыскали его, извинились и отпустили. И в машине кто-то побывал: пачка «Кента» лежала на щитке, не совсем так, как оставил ее Максим. Делали обыск и на квартире. Слава богу, Рутковский предвидел это и вчера передал все ключи и технические средства Олегу. Полковник Лодзен остался с носом.
— Ты можешь сейчас приехать к Сенишиным? — голос Стефы звучал тревожно. — Конечно, дорогая. — Честно говоря, Максиму хотелось расслабиться после вчерашнего напряженного дня, тем более что вечером должен был встретиться с Олегом и забрать свою «технику» и ключи. Но почувствовал: что-то случилось — Луцкая даром не будет звонить. — Выезжаю. Стефания немного подышала в микрофон, видно, хотела что-то добавить, но ничего не сказала и положила трубку. Стефа пила с Иванной кофе. Ее волнение уже немного улеглось, так как спокойно поздоровалась с Максимом и, допив кофе, повернулась к Рутковскому. — Вчера убили Лакуту... — сообщила. — Лакуту? — неподдельно удивился Максим. — Неужели? — Его задушили в собственной машине в лесу неподалеку от Гармиш-Партенкирхена. Рутковский понял все сразу: Богдан и Стефан... Их почерк. Узнали о деньгах и ограбили Лакуту. Однако не подал виду, что догадывается об этом. Спросил: — И зачем было нужно убивать Лакуту? Такой солидный и рассудительный пан. — Ты видел его последним... — многозначительно возразила Стефания. — Ну и что? — Мне казалось, ваши дела... — Может быть, ты подозреваешь меня? — Подозревать будет полиция. — Через двадцать минут после того, как мы расстались с Лакутой, я был на Энглишер Гартен. Кстати, перед этим видел, что вы с паном Зиновием разъехались в разные стороны. — Следил? — Смотрел в окно. — Это тот Лакута, что у Стецько? — вмешалась Иванна. — Какие у тебя с ним дела? Рутковский усмехнулся: если бы знала, почему пришлось ей с Юрием выезжать из Мюнхена. Ответил уклончиво: — Пан Зиновий передавал полковнику какие-то бумаги. Я был простым связным. — Таким уж и простым! — бросила на него острый взгляд Стефания. — Какое это имеет значение? Главное: связным! — Максим подумал, что нужно немедленно позвонить Лодзену: начнется расследование, и полиция может докопаться до списков Лакуты. А это нежелательно со всех точек зрения. — Ты не передавал пану Зиновию ничего такого, чем могли бы соблазниться грабители? — спросила Луцкая. — Свари нам еще кофе, — попросила Иванну. Та ушла, а Стефа добавила: — Может быть, ценности? — Грабителям в наше время в основном нужны деньги. — Ты заплатил пану Зиновию? — Неужели это так важно, милая? Стефания закусила губу. — Выходит, я была последней пешкой в вашей игре! — Ты никогда не будешь последней пешкой, — уверил ее Рутковский. Стефа посмотрела подозрительно: не насмехается ли, но не заметила и тени иронии в глазах Максима. — Почему? — все же спросила. — Потому, что красива и умна. Кстати, Лакута поехал один? — Конечно. — Ну... ну... — Что ты имеешь в виду? — Могла бы быть со мной откровеннее. Луцкая подумала немного и сказала совсем спокойно: — О, я забыла, что ты наблюдал из окна. — Я видел все, — подтвердил Рутковский. Стефания посмотрела вопросительно, наверно, ей очень хотелось узнать, что же видел и знал Максим, но ничего не прочла на его лице. — Кто повез Лакуту? — спросил Рутковский. — Если бы знала... — С одним из них ты разговаривала перед нашей встречей с паном Зиновием. — Неужели он? — ужаснулась Луцкая, ужаснулась так натурально, что, если бы Максим не знал всех обстоятельств, обязательно поверил бы ей. — У меня нет никаких сомнений, — подтвердил. Стефания сверкнула глазами. — Тогда дело принимает совсем неожиданный оборот. — И ты знаешь это лучше меня, — отпарировал Максим. Луцкая долго смотрела на Рутковского молча, будто хотела узнать, в какой мере можно быть откровенной. Наконец сказала: — Кажется, это убийство не требует разглашения. — Ты права, дорогая. — Зачем ты перенес место встречи? И так неожиданно? — Чтобы избавиться от лишних свидетелей. Погиб Лакута, а мог и я. — Неужели? — Если хочешь знать, у меня была большая сумма. — Которую передал пану Зиновию? Рутковский решил не таиться от Луцкой: все равно узнает. — Грабители могли напасть на меня, потому и перенес встречу в «Зеленый попугай». — И об этом знали только Лакута, я и... — И еще двое? — Да. — И этих двоих сейчас нет в Мюнхене? — Конечно. А сколько они?.. — Шестьдесят тысяч! — Марок? — Долларов. — Ого! — Видишь, они знали больше тебя. Лицо Луцкой исказилось от злости — Рутковский впервые увидел ее некрасивой. — Никуда они не денутся, — сказала уверенно. — Мы накажем их. А пан Зиновий!.. Боже мой, притворялся идейным борцом, а сам — за шестьдесят тысяч... Что продал тебе? — Откуда у меня шестьдесят тысяч? — Кому же? — Можешь спросить у господина Лодзена. — Американцам? — Кто же еще может платить такие деньги? Луцкая на миг задумалась. — Американцы даром не платят, — ответила наконец, и Рутковский подумал, что она совсем не оригинальна. — Так что же могло быть у Лакуты? Максим только пожал плечами, и Луцкая сказала с горечью: — Все вокруг продается, боже мой, нет ничего святого! — Она хотела что-то добавить, но Иванна принесла поднос с кофейником. — Звонил Юрий, — сообщила, — сейчас приедет. Сенишин приехал и в самом деле очень скоро. Надел домашнюю куртку, налил себе рюмку коньяку. — Сидите как на поминках, — заметил. — Поминки и есть, — подтвердила Луцкая. — Ты о Лакуте? — Да. Юрий понимающе взглянул на Рутковского. — Теперь мне ясно... — начал многозначительно, но, увидев предостерегающий жест Максима, осекся. — Что? — мимо внимания Стефании не прошло замешательство Юрия. — Что нужно быть предельно осторожным. — Открыл Америку, — махнула рукой Иванна. — Чтобы я не видела у тебя наличных денег! — А ты как можно реже надевай свои драгоценности. — И это называется драгоценностями? — возбужденно выкрикнула Иванна. — Два перстня и жемчужное ожерелье! — Знаешь, сколько стоит одно ожерелье? — И знать не хочу. Луцкая презрительно скривила губы. Она не признавала почти никаких украшений и носила только скромный перстень с дешевым камешком. Юрий заметил гримасу Стефы и перевел разговор на другое: — Сегодня у нас обедал сам пан Ярослав. Сенишин не был лишен честолюбия и пыжился, когда в ресторане обедал или ужинал кто-нибудь из знаменитостей. Но разве Стецько такая фигура, чтобы гордиться его посещением? — И он заплатил за обед? — язвительно отозвалась Иванна. — Всегда делает вид, что забыл кошелек, а потом дудки. — И на этот раз... — вздохнул Юрий. — Да не обеднеем. — А заказывает все лучшее: черную икру, осетрину... — Ну хватит! — поднял руки Сенишин. — Я послал ему счет. — Девяносто девятый? И каждый не оплачен. — Не преувеличивай. — Это я преувеличиваю! — рассердилась Иванна. — Так вот, в следующий раз, если не заплатит, вызову полицию. — Надеюсь, до этого не дойдет, — успокоил ее Юрий и повернулся к Стефе: — Извини, что о твоем шефе... Луцкая только рукой махнула. — Вот видишь, — не выдержала Иванна, — если уж Стефа!.. — Мы приятно поговорили, — попробовал перевести разговор в другое русло Юрий. — И знаете — новость: на днях прилетает из Штатов пан Щупак. — Модест Щупак? Хромой дьявол? — переспросила Луцкая. — Вы знаете его? — Конечно. Рутковский насторожился. Он слышал о Щупаке: тот был одним из помощников руководителя службы безопасности УПА Николая Лебедя. После войны Лебедь осел в Соединенных Штатах, а Щупак пригрелся около него. — Кто такой пан Модест? — спросил нарочито небрежно. — О-о, это умный человек, — заверил Юрий. — Да, он даром не прилетит, — процедила сквозь зубы Стефания. — Что-то пронюхали угаверовцы. Рутковский подумал, что неожиданное посещение Щупаком Мюнхена, возможно, связано со списками Лакуты, но не придал этому большого значения. Дело считал для себя законченным — собственно, должен позвонить только Лодзену, желательно сейчас, а на втором этаже есть телефон. Воспользовавшись тем, что Иванна со Стефой начали листать какие-то богато иллюстрированные парижские журналы мод, а Юрий пошел в сад, быстро поднялся на второй этаж. Прикрыл за собой дверь и набрал номер Лодзена. К счастью, полковник был дома. Выслушав Рутковского, ответил кратко: — О’кэй, пан Максим, новость действительно неприятная, но все в наших руках. Не волнуйтесь. Иванна со Стефой даже не заметили отсутствия Максима. Он подсел к ним — почему бы и ему не полюбоваться парижскими красотками в современных туалетах?
Луцкая жила в маленькой однокомнатной квартире потемневшего от времени дома. В комнате стояла широкая тахта, сервант, шкаф и кресло. Еще тумбочка с магнитофоном. Рутковский сидел на тахте, подложив под бок подушку, и смотрел, как хлопочет Стефа. Ему всегда было приятно наблюдать за нею: двигалась не спеша и в то же время как-то осмысленно, не делала лишних движений, не суетилась, как большинство женщин, казалось, что все в ней, даже движения, подчинены какой-то высшей цели. Стояло субботнее утро, собирались поехать в горы — Рутковский однажды набрел на небольшую речку, где ловилась форель: уже поймал полдесятка рыб, в тот раз они со Стефой, насадив форель на прутья, жарили ее над костром, и Стефа уверяла, что приготовленная таким образом рыба вкуснее, чем та, что подавали под разными соусами в ресторане Сенишиных. Прошла неделя после гибели Лакуты. За это время Максим несколько раз виделся со Стефой и начал замечать в ней какие-то перемены. Точнее, не перемены, она относилась к нему по-старому ровно, но иногда Рутковский ловил на себе изучающий взгляд Стефы, будто хотела что-то спросить и не осмеливалась. А может быть, это только казалось, так как, в конце концов, Стефа могла разговаривать с ним на любую тему. Максим смотрел на Луцкую и думал, что, наверное, он все же только тешит себя мыслью, что знает ее. Думал, что у Стефы почти нет от него секретов — и вдруг эта встреча около «Зеленого попугая». Стефа и два бандита из службы безопасности: Богдан и Стефан. По чьей инициативе они проверяли его? И не была ли эта акция инсценирована Луцкой? Стефа принесла Максиму стакан крепкого чаю в подстаканнике, присела на край тахты и смотрела, как он, отхлебывая чай, облизывает губы. И снова Рутковский увидел в ее глазах вопрос. Вдруг Стефа наклонилась к нему и спросила, глядя неподвижно, казалось, заглядывала в душу Максима и читала все его мысли: — Я не безразлична тебе? Она спрашивала об этом Максима впервые — вообще он давно ждал от нее такого вопроса, но как бы весь ход их отношений давал на него абсолютно исчерпывающий ответ. Однако Стефа все же спросила, и Рутковский, отставив чай, погладил девушку по руке. Стефа растянулась рядом с ним на тахте. — Ты ничего никогда не говоришь мне, — пожаловалась. — Ну хотя бы всякие слова, которые так нравятся женщинам. — Я думал, что ты умнее других, и словесная дребедень... К тому же ты, дорогая, из тех женщин, которые сами выбирают мужчин?.. — Да. — И ты выбрала меня? — Разве это плохо? — Однако, по-моему, я не принадлежу... — А ты не допускаешь мысли, что мне виднее? — Что же, может быть, и так. — А если так... Рутковский не выдержал и засмеялся весело. Луцкая немного обиделась. — Смешно? — Просто ситуация забавная. — Неужели? А я думала... Удивительная манера у мужчин: переводить в шутку то... — Прости, дорогая, я не хотел тебя обидеть. Но все так неожиданно. — Мне бывает тоскливо и одиноко. — Луцкая поправила прическу. Этот ее жест не очень-то свидетельствовал о душевной сумятице, но в нем была какая-то трогательность и беззащитность. Максим пообещал: — Мы вернемся к этому разговору. Стефания покачала головой: — Ты не думаешь так. — Она видела дальше и глубже Максима, трезвее смотрела на жизнь. И все же какая-то кроха надежды осталась в ней, так как сразу повернула круто: — Сегодня какой-то тревожный день, а хочется покоя. Мы еще успеем объясниться, но мне все равно хорошо с тобой — пей чай, а то остынет! Чай и в самом деле немного остыл, Максим глотнул и отставил стакан не потому, что было невкусно, — пить чай означало согласиться со Стефой, а в таком случае она бы взяла верх, он почувствовал неловкость и унижение, какую-то вину, а характер их отношений не давал оснований для таких чувств, все это немного раздражало его, так как понимал и шаткость своих позиций, наконец все перепуталось у него, и Максим спросил резковато: — Ну чего же ты хочешь? — А ничего. — Стефа поднялась. Максим подумал, что ему не так уже и плохо с нею. Все еще не привык к своей мюнхенской жизни и знал, что пройдет сколько угодно лет, все равно не привыкнет. Конечно, кое-что воспринимается уже как будничное и нормальное, но не мог смириться с главным, тем, что постоянно должен лицемерить и лгать, это изнуряло его, ночами часто не спал, был противен себе и боялся главного: сумеет ли очиститься, забыть, снова стать самим собой? Знал, что-то и прилипнет, останется, и уже не быть ему прежним Максимом, который гордился тем, что никогда в жизни никому не сделал подлости. Был уверен: все, что выполняет здесь, необходимо и ему, и многим другим, наконец, его народу, и никто из порядочных людей, его друзей и товарищей, не осудит его, а поймут, поддержат. Очутился среди ворон, вот и каркай, как они, — эта философия не всегда приносила ему душевный покой и оправдание. Максим вздохнул и поцеловал теплую ладонь Стефы. — Будем собираться, милая? — спросил. Она поднялась легко, вообще была какой-то легкой и подвижной, полной жизни, — Максим видел ее серьезной, сердитой, печальной и веселой, всякой — и никогда растерянной или слабой. — Удочки в машине? — спросила. — Заедем за ними. — Я сварю кофе и налью в термос. — Не клади много сахара. — Будто не знаю твоих вкусов. Пошла на кухню, но телефонный звонок остановил ее. Аппарат стоял в передней, Стефа завернула туда и взяла трубку. — Кто-кто? — спросила. — Какой пан Модест? Имя было не совсем обычное, и Максим сразу вспомнил, что слышал его: Модест Щупак, оуновский деятель из Соединенных Штатов, как раз это имя назвал на днях Юрий Сенишин. Но что нужно Щупаку от Луцкой? — Ну хорошо, — сказала Стефания, — если дело такое неотложное, то я приду... — Она оглянулась на Максима, пожала плечами, показывая, что ничего не может поделать. — Хотя... Откуда вы звоните? Так, пожалуйста, приезжайте ко мне, адрес знаете? Да, я понимаю, не нужно извинений. — Заглянула в комнату, объяснила Рутковскому: — Сейчас ко мне приедет один старый хрыч. Какое-то неотложное дело, но, думаю, я отвяжусь. А ты пока поезжай за удочками. Рутковский нехотя поднялся. Думал, что визит Щупака не случаен, да и сам его срочный прилет в Мюнхен подозрителен. Что-то задумали оуновские деятели, и нужно дознаться, что именно. Медленно повязал галстук и, воспользовавшись тем, что Стефа зашла в ванную, оставил на тумбочке около тахты свои часы. Заглянул в ванную, попросил: — Не очень задерживайся. — Я его быстро выставлю, — пообещала. — Выходи на улицу. — Хорошо. «Фиат» Максима стоял за углом в переулке. Рутковский отошел в сторону, чтобы Луцкая случайно не увидела его из окна, закурил. Ждать пришлось недолго: около Стефиного подъезда остановилось такси. Из него вылез большой пожилой человек с палочкой — пошел, чуть прихрамывая, к парадному. Сомнений не было: Щупак, или Хромой дьявол, — так назвала его Стефа, когда услышала о приезде пана Модеста в Мюнхен. Тогда же Рутковский осторожно поинтересовался у Кочмара, кто такой Щупак. Тот лишь покачал головой и повторил слова Стефы: Хромой дьявол. Оказывается, так называли Щупака в СБ за хитрость и коварство, его боялись даже коллеги по службе безопасности, не говоря уже о руководителях разных рангов, — сердце Щупака не знало милосердия, за самую малую провинность определял лишь одно наказание — смерть и, говорят, любил сам лично исполнять приговоры. Щупак исчез в парадном, и Рутковский пошел к машине. Перед глазами стояло лицо Щупака: грубые, будто вырубленные топором, черты, глубоко посаженные глаза под узкими бровями, тяжелый подбородок — точно, такой не знал пощады и просить ее у него, наверно, было невозможно. Хромой дьявол... Рутковский достал из чемодана в багажнике портативный магнитофон, нажал на кнопку. Смотрел, как крутится бобина, и представлял разговор Луцкой со Щупаком. Вероятно, тот сидит в кресле, Стефа примостилась на тахте, курит сигарету, забывая сбросить пепел, обжигается и сдувает его с брюк. А рядом на тумбочке среди разной дребедени лежат его часы. Да, настоящие ручные часы: никто не знает, что в них вмонтированы микрофон и передатчик, и сейчас на портативный магнитофон в «фиате» записывается разговор Луцкой и Щупака. Может быть, и что-то пустое, но навряд ли Щупак будет беспокоить Луцкую из-за пустяков в субботний день да еще и у нее на квартире. Бобина крутилась, Рутковский вывел «фиат» так, чтобы видеть такси Щупака — пан Модест не отпустил машину, это свидетельствовало, что его разговор с Луцкой не затянется. И правда, Щупак вскоре вышел из парадного: Рутковский выключил магнитофон и глянул на часы: визит длился около двадцати пяти минут. За удочками ехать не было смысла, Максим поднял капот автомобиля, сделав вид, что копается в моторе. Увидев, как вышла из подъезда Луцкая, помахал ей испачканной рукой. — Не было контакта, — пожаловался, — едва нашел неисправность. Дай ключи, нужно помыть руки. Часы лежали на прежнем месте, Рутковский спрятал их и аккуратно вымыл руки. Спустился на улицу — Стефа сидела за рулем и явно теряла терпение: ведь нужно было еще заехать за удочками. — Чего хотел от тебя этот старый хрыч? — лениво поинтересовался Максим. — Пустое. Мог подождать и до понедельника. Обычная канцелярская бюрократия, — ответила уклончиво. — Чем старее человек, тем больше внимания уделяет своим маленьким делам. — Угу... — подтвердила Луцкая. — Нечего делать, только время отбирает. Они приехали на свое место около ручья в полдень. Стефа взялась разводить костер, а Максим, прихватив удочки и магнитофон, пошел рыбачить. Отошел за километр, вода здесь перекатывалась через огромные отшлифованные валуны. Рутковский приготовил удочки, но не закинул: присел под дерево, оперся на шероховатый ствол и включил магнитофон. Бобина задвигалась, она крутилась и крутилась, а звук не появлялся, только шуршала пленка. Максим подумал, что микрофон испортился, но зазвонил звонок и послышались не совсем ясные звуки — видно, пан Модест здоровался со Стефой в передней. Потом Луцкая, как Максиму и представлялось, преувеличенно патетично высказала свое восхищение по поводу визита Щупака — наконец, наверно, уселись так, как и предполагал Рутковский, потому что Стефу было слышно яснее — устроилась на тахте ближе к микрофону. Но и Щупака он слышал вполне прилично: присланная Центром аппаратура работала безотказно, и Максиму все время казалось, что он находится там же, в комнате Стефы, и Щупак только чудом не замечает его. Этот эффект присутствия ощущался настолько, что хотелось вмешаться в беседу, задать наводящий вопрос или уточнить неясное, вместо этого Максим иногда останавливал магнитофон и еще раз прослушивал наиболее интересные места. Щ у п а к. Я потревожил тебя, Стефа, только потому, что приехал сюда по неотложному делу. С т е ф а н и я. Конечно, пан Модест, я поняла это сразу и попросила вас сюда, так как сможем поговорить не таясь. У нас на Цеппелинштрассе... Щ у п а к. Да, у вас микрофон на микрофоне. А наш разговор полностью конфиденциальный, и я надеюсь... С т е ф а н и я. Пан мог бы обойтись без предупреждения. Щ у п а к. Я уверен в тебе, Стефа, но специфика нашей работы требует такой строгой конспирации, что и лишнее напоминание никогда не помешает. С т е ф а н и я. Возможно. Да вы могли проверить меня на деле, и не раз! «Ого, — подумал Рутковский и еще раз прокрутил это место. — Выходит, моя Стефа сотрудничает с секретными оуновскими службами и пользуется их доверием. В конце концов, что же здесь удивительного? Недаром видел ее с Богданом, и проверка удавкой — ее рук дело». Нажал кнопку и слушал дальше. Щ у п а к. У нас нет претензий к тебе, Стефа, и мой приезд сюда — лучшее доказательство этого. С т е ф а н и я. Можете рассчитывать на меня, пан Модест. Щ у п а к. Не ждал другого ответа. С т е ф а н и я. Слушаю. Щ у п а к. Это история старая и начинается еще с войны. Конечно, ты понимаешь, что, свертывая свою деятельность на Западной Украине и в восточных воеводствах Польши, мы оставляли там своих людей. С т е ф а н и я. Агентуру? Щ у п а к. Были у нас самые секретные агенты, и список их в одном экземпляре хранился у пана Лебедя. Были и списки преданных нам людей, информаторов, сочувствующих. С т е ф а н и я. Подождите, пан Модест, не связан ли ваш приезд сюда с убийством Лакуты и его контактами с полковником Лодзеном? Щ у п а к. Я всегда знал, что ума тебе не занимать. С т е ф а н и я. Лакута что-то продал американцам? Щ у п а к. Продал, и мы узнали об этом через своих людей в ЦРУ. С т е ф а н и я. Что? Щ у п а к. Не спеши. Один из списков наших информаторов пропал. Он исчез в первые послевоенные годы, когда в Польше проводилось заселение западных воеводств. Туда переехало много украинцев из Жешувского и Люблинского воеводств, и наши люди уточняли списки информаторов. Отвечал за эту работу родственник пана Зиновия, его дядька Иосиф Лакута. Польская служба безопасности выследила его, пан Иосиф погиб, отстреливаясь, на каком-то хуторе, и считалось, что списки либо были сожжены Иосифом Лакутой, либо попали в руки польской контрразведки. И вдруг через столько лет попадают в ЦРУ. А полгода назад умер брат Иосифа Лакуты, отец пана Зиновия... С т е ф а н и я. Значит, списки сохранялись у отца Зиновия Лакуты, и он, разбирая бумаги отца, нашел их? Щ у п а к. Думаю, что было именно так. С т е ф а н и я. И продал Лодзену? Щ у п а к. На свою голову. С т е ф а н и я. Вы не вышли на след Богдана и Стефана? Щ у п а к. По предварительным данным, они в Австралии. Найдем. С т е ф а н и я. Шкуры! Щ у п а к. Дело не в них. С т е ф а н и я. В списках? Но я же поняла, что они у американцев. В надежных руках, и вы все равно передали бы их ЦРУ? Щ у п а к. Ты права, но есть небольшая деталь. Пану Лебедю известно, что к спискам Лакуты, а там насчитывалось более шестисот фамилий информаторов, был подколот еще лист, и самый важный. Семь фамилий, вот так, семеро наших доверенных людей, известных только Иосифу Лакуте, и у четырех из них сохраняются ценности расформированных куреней. С т е ф а н и я. Со мной можно и без дипломатии, пан Модест. Разбитых и уничтоженных... Какое это теперь имеет значение? Щ у п а к. Имеет, и очень большое. Американцы должны поверить, что мы не разбиты и уничтожены, а временно ушли в подполье. Поняла? С т е ф а н и я. Будто они ничего не понимают... Щ у п а к. В ЦРУ все понимают. А политикам глаза замылить не мешает. Но вернемся к спискам. Этих семерых Лакута не передал Лодзену. С т е ф а н и я. Он вел переговоры с Лодзеном через... Щ у п а к. Я знаю через кого, и, если тебе трудно... С т е ф а н и я. Почему трудно? Через Максима Рутковского. Он работает у них на радиостанции, и мы встречаемся. Щ у п а к. Что это за птица? С т е ф а н и я. Моя информация может быть необъективной. Щ у п а к. Я верю в твой разум. С т е ф а н и я. Богдан со Стефаном проверяли его. Щ у п а к. И он выдержал испытание? С т е ф а н и я. Вы же знаете Богдана! Щ у п а к. Да, аргументы, пожалуй, весомые. Но дополнительный список мог прилипнуть к его рукам. С т е ф а н и я. Откуда мог знать, кто такие? Щ у п а к. И дураку ясно: идут отдельным списком... С т е ф а н и я. Логика в этом есть. Однако зачем Рутковскому списки, если не работает на какую-нибудь разведку? Щ у п а к. Может, рассчитывал продать? Тому же Лодзену? С т е ф а н и я. Навряд ли. Поставил бы точку на своей карьере. А он парень умный. Щ у п а к. Ты дурака не выберешь. С т е ф а н и я. И откуда мог знать о ценностях? Щ у п а к. Об этом не знал никто, кроме Лебедя и Иосифа Лакуты. Пан Зиновий мог догадываться, что это — список резидентов, и придержать его. Через некоторое время, вероятно, надеялся продать полковнику за значительно бо́льшую сумму. С т е ф а н и я. Сколько получил за списки? Щ у п а к. Семьдесят пять тысяч долларов. С т е ф а н и я. Ищи теперь Богдана со Стефаном! Щ у п а к. Конечно, с такими деньгами... Рутковский остановил бобину и закурил. Дело принимало совсем неожиданный оборот, и нужно сосредоточиться. Глубоко затянулся несколько раз и снова включил магнитофон. С т е ф а н и я. А сколько у тех резидентов? Ну ценностей? Щ у п а к. Там, Стефа, бешеные деньги. Если сохранились... Допустим, часть из них хлопцы истратили, не без этого, но и продать в Польше золото и бриллианты не так просто. И если мы найдем списки, не забудем и тебя. С т е ф а н и я. Это — деньги организации. Щ у п а к. Много имеешь от Стецько? Если бы он заботился не о себе, а об организации... Короче, про ценности никто не должен знать: пан Лебедь, я и ты, больше никто. Нужно найти список, это самое главное. С т е ф а н и я. Думаете, у пани Мирославы? Щ у п а к. Ты хорошо знаешь ее и должна провернуть это дело. С т е ф а н и я. Как? Щ у п а к. Скажешь, что организация должна ознакомиться с бумагами пана Зиновия. С т е ф а н и я. А если не захочет показать? Щ у п а к. Должна знать, как мы поступаем с неслухами. Завтра пойдешь к ней. С т е ф а н и я. Завтра воскресенье, и мы... Щ у п а к. Пани Мирослава в отъезде и возвращается завтра. Была бы дома, ты пошла бы к ней сегодня. С т е ф а н и я. Завтра так завтра. Щ у п а к. И ни слова Рутковскому. Не нравится он мне. Жаль, что ты выбрала его. И может случиться... С т е ф а н и я. Что? Щ у п а к. Все может случиться, Стефа, и надеюсь, ты не очень будешь переживать. С т е ф а н и я. Все, что касается Максима, я буду решать сама. Щ у п а к. Договорились. Сейчас самое главное — найти список. Не мешкай и завтра навести пани Мирославу. Я позвоню тебе вечером. С т е ф а н и я. Пожалуйста. Щ у п а к. А теперь спешу, такси меня ждет. Звук исчез, и пленка снова зашуршала. Рутковский выключил магнитофон. Посидел немного, обдумывая услышанное, и пошел ловить форель. Чуть ли не сразу вытянул большую рыбу. Клевало хорошо, и за час Максим поймал около десятка сильных серебристых рыб. Стефания, увидев улов, захлопала в ладоши и, поднявшись на цыпочки, поцеловала Максима в щеку. Она быстро почистила рыбу и начала жарить, а Рутковский растянулся на коврике, наблюдая за ловкими движениями Стефы, и вспоминал услышанный разговор. Что сказал Щупак? Кажется, так: «Все может случиться, Стефа, и надеюсь, ты не очень будешь переживать»? Это о нем, Максиме Рутковском, и только дураку не понять, о чем идет речь. А как ответила Стефания?.. «Все, что касается Максима, я буду решать сама...» То есть она фактически соглашается со Щупаком и лишь обусловливает свою позицию. Стефа, которая только что так нежно поцеловала его. А завтра она пойдет на квартиру к вдове Лакуты за списком резидентов... Самый важный документ пана Зиновия... Рутковский подумал, что не имеет права прозевать этот список. Но что же можно сделать? Стефания, конечно, не покажет его: она уже почувствовала запах больших денег — вот тебе и идейный оуновский боец, стоило Щупаку рассказать про драгоценности, и куда подевалась идейность... Однако же красива, бестия, сидит на маленьком стульчике около костра, в цветастом купальнике, переворачивает на сковородке рыбу и посматривает на Максима лукаво, будто ничего и не произошло, будто и не было четыре часа назад разговора с Хромым дьяволом и не предала она Рутковского. Да разве только теперь? Стефания будто прочитала мысли Максима, глянула искоса и улыбнулась — разве улыбается так нежно женщина, которая только что предала? А может быть, он неправильно понял ее? Стефания позвала Максима есть рыбу. Они распили бутылку белого вина. Стефа чокалась с ним и заглядывала в глаза как-то удивленно, будто впервые видела. Максим понимал причину этого удивления — Стефа сейчас взвешивала, что для нее важнее, и, наверное, сделала вывод: одно другому не помешает, где те эфемерные оуновские богатства, может быть, все уже пошло прахом, ведь люди, которым доверили их, тоже не дураки — ищи где-то в Аргентине или Австралии хоть сто лет! А Максим сидит рядом, и никуда от этого не денешься, она сама выбрала его, уже привыкла к нему, возможно, немного любит. После обеда Максим выкупался в речке и предложил возвращаться в город. Стефания удивилась — ведь никуда не спешили, но Рутковский сослался на неотложные дела, о которых забыл. Он отвез Луцкую и позвонил Лодзену домой. Полковник собирался в игорный дом в Бад-Визе, к тому же какие могут быть дела в субботу? Рутковский не отступал, и Лодзен наконец согласился принять его. Он встретил Максима холодно и неприветливо, но, узнав о причине визита, заволновался. — Говорите, супруги Лакуты сегодня нет дома и возвратится только завтра? — переспросил. — Да, и Луцкая собирается навестить ее утром. — Как смогли узнать обо всем этом? — У меня ключ от квартиры Стефании, я вошел в переднюю и услышал разговор. Они так увлеклись, что не обратили внимания на щелчок замка. Узнав о списке резидентов, я выскользнул из квартиры. Полковник подумал, приказав Максиму подождать, вышел из гостиной. Отсутствовал минут пять и вернулся довольный. — Сейчас вы отправитесь домой, — приказал Максиму, — где-то через час или полтора за вами заедут работники нашей службы охраны. Они — мастера своего дела и откроют любой замок. Поедете с ними, ребята не знают украинского и вообще могут не разобраться в бумагах Лакуты, зато специалисты по обыскам. Короче, командуйте ими, как сочтете нужным, а список добудьте... Это и в ваших интересах, — добавил многозначительно. Довольный, что быстро решил это дело и еще успеет сегодня поиграть в карты, полковник поехал в Бад-Визе, а Рутковский — домой. Работники службы охраны не заставили долго ждать себя. Были они чем-то похожи друг на друга, наверное, служба накладывает отпечаток и на человеческую внешность — два сильных молодых человека были коротко подстрижены, толстошеи, самоуверенны. Они посадили Рутковского на заднее сиденье мощного «форда», ехали молча, будто подчеркивая свое превосходство и исключительность. Максим тоже молчал, и они доехали до дома Лакуты, перебросившись словом или двумя, не больше: в конце концов, это устраивало Рутковского, о чем можно говорить с такими громилами? Как и сказал Лодзен, молодые люди оказались знатоками своего дела. Два замка в дверях квартиры Лакуты щелкнули чуть ли не сразу, один из агентов неслышно скользнул внутрь. Максим хотел последовать за ним, но другой задержал его и пропустил только после того, как первый выглянул из прихожей и сделал знак, что можно войти. Квартира Лакуты была грязной и плохо меблированной. Состояла она из двух комнат, в спальне стояла широкая незастеленная кровать, шкаф с одеждой и старое трюмо. Другая комната служила кабинетом и гостиной одновременно: письменный стол с разбросанными бумагами приткнулся к серванту, а дальше полстены занимали стеллажи с книгами, папками, исписанными от руки и на машинке бумагами. Максим подошел к стеллажу и стал перебирать эти листы, но один из молодых людей довольно невежливо попросил не вмешиваться — пусть господин Рутковский садится в кресло и ничего не делает, хотя бы сначала, пока они сориентируются. Ориентироваться им пришлось недолго, вполне резонно решили, что спальней займутся во вторую очередь, быстро осмотрели гостиную и кабинет и вытянули из-под правой тумбы письменного стола небольшой железный ящик — сейф. Максим подумал, что на месте Лакуты он хранил бы список бандеровских резидентов где-нибудь в книге или среди второстепенных бумаг, ищи тогда всю ночь... Но пан Зиновий, оказалось, мыслил примитивнее. Один из молодых людей несколько минут повозился с сейфом, открыл. Быстро перебрал его содержимое, оставил деньги, обручальное кольцо и золотые часы — подал Максиму бумажник и перевязанную шпагатом пачку писем и каких-то бумаг. Рутковский занялся ими, а «специалисты» начали осматривать ящики письменного стола. Вдруг один из них прислушался и бесшумно юркнул в переднюю. Рутковский посмотрел ему вслед без особого интереса, так как его внимание привлек один листок. Был он точно такой, как списки информаторов, которые он уже держал в руках: грубая, пожелтевшая газетная бумага. Развернул и действительно увидел семь фамилий. Положил на колени, делая вид, что разбирает другие документы: он обязан запомнить фамилии и координаты бандеровских резидентов. Мог бы и незаметно спрятать список, потом переправить его в Центр, но еще по дороге сюда решил: этого делать не стоит — должен послужить Лодзену и укрепить свои позиции на РС. Нужно было учесть и такой факт: Луцкая, не найдя списка и как-то вдруг узнав о посещении Максимом квартиры Лакуты, обязательно заподозрит его, может заподозрить и Лодзен, а зачем подставлять свою голову? Пусть полковник тешится мыслью, что раздобыл списки ценных бандеровских агентов, пусть надеется на деньги и ценности — через несколько дней Центр будет знать имена резидентов и польские товарищи решат, как их обезвредить... Рутковский еще раз внимательно прочитал фамилии и помахал листком, подзывая агента. — Вот, — сказал чуть ли не торжественно, — вот этот список! Я нашел его. Агент потянулся к листку, но тут в комнату заглянул другой человек. — Тревога, — сообщил. — Вернулась старая карга, и нужно срочно линять. — Кто вернулся? — не сообразил Рутковский. Вместо ответа первый агент схватил ящик-сейф, быстро положил назад бумажник и бумаги, перевязав их веревочкой. Другой агент задвинул ящики письменного стола, забрал у Рутковского листок со списком, подтолкнул в переднюю. — Смываемся! Первый тихо открыл входные двери, выглянул. Подал знак, что можно идти, и потянул за собой Максима. Тот наконец сообразил, что домой вернулась жена Лакуты, — наверное, она старалась открыть двери, не сумела и пошла за помощью. Они спустились на первый этаж и вышли из парадного, чуть не столкнувшись с женщиной в сопровождении пожилого человека в клетчатой рубашке. Женщина посмотрела на них внимательно, но не остановилась, один из агентов вежливо уступил ей дорогу и уверенно направился к машине. Максим с другим агентом подождали, пока он подгонит «форд», и сели в автомобиль. — Чудесно... — пробормотал первый агент, — Я не думал, что так быстро управимся. Рутковский протянул руку: — Дай сюда список. — Зачем тебе? — спросил агент недовольно. — Хочу еще раз убедиться, действительно ли тот. Агент подал листок. Максим не торопясь прочитал список. — Ну? — нетерпеливо спросил агент. — Порядок, — засмеялся Рутковский и отдал листок. — Нет никакого сомнения. Теперь Максим был уверен, что точно запомнил фамилии и координаты резидентов, но на всякий случай откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза и еще раз возобновил их в памяти. Еще раз и еще...
— Доброе утро, пани Мирослава. — Луцкая поискала место, где поставить мокрый зонтик, и ткнула его между вешалкой и пылесосом. — Погода совсем испортилась. Как доехали? — А я вернулась еще вчера вечером. Слава богу, а то пришлось бы добираться под ливнем. Проходите, панна Стефа, у меня еще не убрано, не обращайте внимания. Завтракали? — Не беспокойтесь, пани Мирослава, я по делам. — К такой старой, как я, без дел уже не заходят. Я угощу вас кофе, не отказывайтесь, милая, такого кофе вы не выпьете нигде, и даже покойный пан Зиновий признавал это. Хоть привередливый был, а мой кофе любил, царство ему небесное. Стефания прошла в гостиную, осмотрелась. — Кофе немного позже, — попросила, — а сейчас давайте поговорим. — Садитесь, миленькая. — Пани Мирослава подвинула гостье стул, сама примостилась на диване. — Слушаю вас. — Я по поручению организации... У пана Зиновия был один документ, который принадлежит ЗЧОУН. И мы должны найти его, — пояснила Луцкая. — Ну, моя милая, — возразила пани Лакута, — теперь здесь все принадлежит мне, и я бы не хотела, чтобы чужие люди своими руками... — И вы считаете меня чужой? — оскорбилась Стефания. — Какая же ты мне родственница? — Я прошу позволить пересмотреть бумаги пана Зиновия. — А если я не захочу? — Я же сказала: здесь хранится важный документ организации. — А идите вы к черту со всеми вашими организациями! — Не забывайтесь, пани Мирослава! — А кто убил Зиновия? Бандиты из ваших... — Мы найдем их и накажем, потому что они действительно бандиты. — Другие не лучше. — Я бы не советовала вам, пани Мирослава! — У меня свой ум. — А если есть, то поймите, что пан Зиновий имел отношение к секретам организации. И должна вам напомнить... — Не пугай! — А я не пугаю, лишь предупреждаю. Видно, пани Лакута и сама поняла, что зашла далеко, так как сказала примирительно: — Ну ладно, что тебе нужно? — Я же сказала, у пана Зиновия хранился один документ, точнее, список... — У него тут всякого хлама... — Я поищу. — Ищи, милая, только вряд ли что-нибудь найдешь. Луцкая огляделась, вздохнула. Подошла к стеллажу, сняла несколько книг, начала листать страницы. Пани Мирослава отобрала у нее книжку, взяла за корешок, потрусила. — Делай так, милая, а то и правда два дня будешь искать. Не ожидая ответа, направилась в кухню готовить кофе. Через несколько минут она принесла дымящийся кофейник и печенье, неодобрительно посмотрела на Стефанию и пригласила: — Да прервись, милая, глотни кофе, вкусный. Сели около журнального столика, отхлебнули напитка, и Луцкая, не выпуская чашечку из тонких пальцев, спросила: — Может быть, поможете нам, пани Мирослава! Организация не забудет вас: — А-а, — махнула рукой, — все только обещают, вон Зиновию тоже обещали, а что? Пшик, видите, чистый пшик, и мне придется теперь где-то устраиваться... Луцкая поставила чашку, взяла пани Лакуту за руку, крепко сжала. — Я не шучу, — сказала, не сводя с нее взгляда. — Мне трудно назвать сейчас точную сумму, но в случае удачи вы получите от пяти до десяти тысяч марок. — А в случае неудачи? Луцкая не стала врать и развела руками. Пани Лакута немного подумала и согласилась: — Хорошо, моя милая. По-моему, Зиновий держал самые важные документы здесь, в сейфе. — Вытянула железный ящик из-под письменного стола, достала из сумки ключ, отперла. Показала бумажник и перевязанные бечевкой бумаги. Взяла их, глядя на них немного растерянно. Наконец сказала нерешительно: — Я завязывала их не так... Луцкая отобрала пачку, спросила: — А как? — На той неделе складывала бумаги и завязала крест-накрест. А теперь перевязаны один раз. Стефания нервно сорвала бечевку, начала перебирать бумаги. Пальцы ее чуть дрожали. Перебрав, спросила: — Кто, кроме вас, имел доступ к сейфу? — Ключ один, и он у меня в сумке. — Точно помните, что перевязывали пачку крест-накрест? — Склерозом еще не страдаю. Подожди... — поднялась вдруг она. — Подожди, милая... — Пани Мирослава начала быстро выдвигать ящики письменного стола, — Смотри, и в столе рылись... — Кто? — Если бы я знала. Тут видишь, у меня порядок был, лежали тетради, а сверху конверты, я сама положила кучкой, а теперь разбросаны. — Выходит, в ваше отсутствие кто-то побывал в квартире? Пани Лакута захлопала глазами: — Кто мог? — Никому не оставляли ключи? — Нет, милая, никому. Теперь такие люди пошли: и не заметишь, как ограбят! — А ключи пана Зиновия? — Здесь, в ящике... — Вынула из письменного стола два ключа на цепочке. — Вот они, от квартиры. Замки у нас новые, с секретом, даже я вчера сразу не смогла открыть. За слесарем ходила. Луцкая насторожилась. — За каким слесарем? — Разве не понимаешь? Вчера приехала поздно, в одиннадцать, хочу отпереть двери, а верхний замок не работает, заело. Пришлось идти за слесарем. — И он открыл? — Конечно. — Сразу? — Да, моя милая, мужчины к этой технике лучше приспособлены. Луцкая немного подумала и спросила: — Когда возвращались со слесарем, никого не встретили? Может быть, кто-нибудь выходил из парадного? Или на лестнице? — Какое это имеет значение? — Имеет, пани Мирослава, я прошу вспомнить. — Ну выходили какие-то... — Сколько их было? — Кажется, трое. — А точнее? — Трое. Я еще подумала, у кого-то гостили, так как раньше не видела. Луцкая покопалась в сумочке, достала фотографию Рутковского. — Этот был среди них? Лакута рассматривала, держа фотографию на ладони. Ответила: — Хороший парень, и кажется, был. — Кажется или точно? — Был. Я еще запомнила: в сером костюме. — Но возвращались ночью, темно. — А у нас перед подъездом фонарь. Около самых дверей. Луцкая спрятала фотографию. Лицо у нее вытянулось и глаза потемнели. Выходит, до нее здесь побывали трое, и один из них — Максим. Наверное, люди Лодзена, и они опередили ее. Также искали список резидентов, вероятно, нашли — пани Лакута спугнула их, торопились и не успели навести порядок. Однако откуда узнали о списке? Наконец, могли и не найти его. Может быть, действительно лежит в какой-нибудь папке или книге... Луцкая взялась искать снова. Проверяла каждую книжку, каждую папку, догадываясь, что делает напрасную работу, но должна была довести ее до конца, хотя бы для успокоения совести. Перед вечером, просмотрев последнюю книжку, позвонила Щупаку. Уже не приглашала домой, проголодалась и назначила встречу в маленьком ресторанчике поблизости от дома Лакуты. Она уже доедала десерт, когда наконец приехал пан Модест. Выслушав Стефанию, посерел. Стукнул палкой об пол, вынес приговор: — Твой милый, и больше никто! — Вы сказали: про этот список знают лишь трое — Лебедь, вы и я... — Знали до вчерашнего дня. — Мы говорили наедине. — Может быть, проговорилась этому парню? — Нет. — И я никому не говорил. Но факт остается фактом: после нашего разговора трое приходят в квартиру Лакуты. Двое с Рутковским. Люди опытные, так легко открывают замки на дверях и даже сейф пана Зиновия. Кто они? — Я думаю: подчиненные Лодзена. — Конечно, и их привел твой Рутковский. Как-то подслушал наш разговор... — Выходит, да. — Если список у Лодзена, нам до него не дотянуться. — Очень трудно. — Ну а твой мальчик! — вдруг разразился гневом Щупак. — Так ему не пройдет! — Мы условились провести вчерашний вечер вместе, но он сослался на дела... — И обвел тебя вокруг пальца. Луцкая нахмурилась. — Так коварно... — Губы у нее скривились. — Никто еще так не обманывал меня! Щупак нетерпеливо постучал палкой о пол. — Оставим эмоции, — сказал вдруг совсем спокойно, — и давай трезво обдумаем все. Допустим, Рутковский и в самом деле как-то узнал о нашем разговоре... — Он знал, что вы придете ко мне. Слышал наш с вами телефонный разговор. — Э-э, деточка! — Щупак недовольно стиснул палку. — Так бы и сказала. Современная техника... — Подслушал нас? Но такую аппаратуру имеют... — Шпион проклятый! — рубанул ладонью в воздухе Щупак. — Да-да... И не поехал за удочками, ремонтировал машину, пока мы с вами договаривались. — Шпион Лодзена, — подтвердил Щупак. — Они опередили нас, и теперь остается единственный выход: ты должна поговорить со своим мальчиком. Предложи ему войти в дело. — Да, — согласилась Луцкая, — и я попробую сейчас... — Глянула на часы. — Сегодня воскресенье, и если не поехал никуда... — Позвони. Аппарат возле стойки. Рутковский, услышав взволнованный голос Стефы, сразу предложил: — Приезжай ко мне. Почувствовал что-то недоброе. Но, имея за спиной полковника Лодзена, мог не очень волноваться, тем более что пакет со списком бандеровских резидентов уже лежал в тайнике и Олег должен забрать его сегодня вечером. Появившись, Стефания повела разговор без предварительной разведки. — Ты был вчера вечером на квартире Лакуты? — спросила прямо. Максим немного растерялся. Откуда у Луцкой такая информация и что это может означать? — Начинаешь следить за мной? — спросил шутливо, чтобы хоть немного выиграть время. Выходит, Стефания знает о вчерашнем обыске квартиры Лакуты. Она была там сегодня и не нашла список. Но откуда ей известно о вчерашнем визите? Трудно ответить на это, но отпираться, наверное, не следует: все можно свалить на Лодзена. — Я не шучу, и мне нужно знать, был ли ты у Лакуты? — повторила Стефания. — Допустим, был. — Максим взял девушку за руку, но она выдернула ее. — Ты не волнуйся, Стефа, садись. Вообще я не имею права отвечать на твои вопросы, так как посещение квартиры Лакуты — служебная тайна. Однако тебе признаюсь: был. — Что вы искали там? — Вот на этот вопрос... — Я помогу тебе: листок со списком? — Ну если ты так проинформирована... — Ты подслушал мой разговор со Щупаком, и я не прощу тебе! — Я не имею права обсуждать с тобой эту проблему и очень прошу... — Вы нашли список? — По-моему, нет. — Не ври. — Мне неприятно вести разговор в таком тоне. — Думаешь, мне приятно? — Так прекратим. — Мне нужен список. — Стефа, милая, я не понимаю... — Все ты понимаешь. Отвечай, вы нашли список? — Не знаю. — Значит, нашли. Где он? — Ты ставишь меня в неловкое положение. — У Лодзена? — Допустим. — Ты видел его? — Если даже и видел, какое это имеет значение? — Вот что, Максим, — сказала Луцкая угрожающе, — я не хотела этого делать, но вынуждена. У тебя короткая память, и ты забыл небольшую поездку за город в «мерседесе». — Отчего же, помню. И благодарю за организацию приятной прогулки. — Она может повториться. Только тогда все обошлось легко! — Угрожаешь? — Напоминаю. — А я считал тебя другой... — Максим, неужели ты такой глупый? Нам, понимаешь, нам с тобой нужен список! — Если бы ты мне сказала раньше... — Ты знаешь, чего он стоит? — Полковник Лодзен не делится с подчиненными своими секретами. — Максиму хотелось, чтобы Луцкая поверила: все пошло не от него, а от Лодзена. Наверное, он закинул ей какую-то искру сомнения, так как она сказала взволнованно: — Тот список стоит того, чтобы его достать. Там хватит до конца жизни, и я не преувеличиваю. — Неужели он столько стоит? — изобразил удивление Рутковский. Луцкая внимательно посмотрела на него: может быть, и в самом деле не слышал их разговора со Щупаком, а Лодзен из других источников узнал о списке Лакуты? Может, Лебедь проинформировал ЦРУ? Наверное, нет, кто же выбрасывает деньги из собственного кармана? А Лебедь не мог не знать: если американская разведка выйдет на ценности, считай, что все прилипло к рукам, и к каким рукам — не вырвешь! Решила не таиться перед Рутковским: если подслушал их разговор, все равно знает о ценностях, если нет — может зажечься перспективой обогащения и достать копию списка. — Вы передали Лодзену список людей, у которых хранятся ценности наших куреней, — сообщила, пристально глядя на Рутковского. — Неужели? — И если ты сможешь достать копию, мы опередим полковника. Максим махнул рукой: — Как я достану? У Лодзена такой сейф и охрана... Все равно что ограбить банк. — Ты не знаешь пана Щупака. Слышал, как его называют? Хромой дьявол! — Ну и что? — Считай, что сам себе подписал смертный приговор. — И ты с ним согласна? Луцкая нервно поднялась. — От меня зависит мало. — Но наши отношения... — Да, наши отношения! Она сделала шаг к Максиму, подняла на него синие глаза, и Рутковский вдруг подумал, что весь этот разговор померещился ему... Но как она сказала тогда Щупаку: «Все, что касается Максима, я буду решать сама...» И сейчас только прикрывается именем Щупака. — Считаешь меня виноватым? — спросил он. — Разберемся... Стефания ушла не оглядываясь, не обернулась и в дверях, хоть Максим хотел этого: надеялся прочитать в ее глазах приговор себе. Но он и так не тешил себя надеждами: от Хромого дьявола добра не жди.
Рутковский зашел к полковнику. Лодзен выслушал его вежливо и серьезно, Максим уже подумал, что его миссия увенчается успехом и полковник призовет бандеровцев к порядку, но Лодзен, усмехнувшись, ответил: — Все это глупости. — Помахал неопределенно рукой и добавил более категорично: — Пустые угрозы, не обращайте внимания. — Вы должны знать их службу безопасности и Щупака, — не сдавался Максим. — И у меня уже есть печальный опыт... — Что было, то сплыло, — не согласился Лодзен. — Я бы на вашем месте не был таким мнительным. — Они готовы на все ради списка резидентов. — Нет, — возразил полковник, — Щупак — умный человек и должен понять: если список в наших руках, его карта бита. — И вы рекомендуете?.. — Не волнуйтесь и работайте спокойно. Щупак не осмелится пойти против нас. Разговор не удовлетворил Рутковского. Конечно, Щупак не осмелится на открытый бунт против разведки. Лодзен в таком случае быстро скрутит ему шею. Но он же, Максим Рутковский, лишь работник РС, Щупак это знает, а уверения Лодзена расплывчаты и неубедительны. Поразмыслив немного над ситуацией, Максим решил, что должен прежде всего посоветоваться с Олегом и вообще сам позаботиться о себе. Для этого должен был развязать себе руки, — суровый регламент работы на РС сковывал его. Он пошел к Кочмару и попросил недельный отпуск. — Зачем вам, пан Максим? — искренне удивился тот. — Через месяц идете в оплачиваемый... Рутковский догадывался, что Кочмару известно о его встрече с Лодзеном. Пан Роман в последнее время обращался с ним как с равным и угостил даже однажды в буфете рюмкой коньяка: жест, совсем не свойственный шефу. Потому и отделался туманным объяснением: мол, у него некоторые дела личного характера, он разговаривал уже с полковником и тот порекомендовал обратиться непосредственно к пану Роману. С другим Кочмар и не разговаривал бы — сразу выгнал бы из кабинета, а Рутковскому дал-таки недельный отпуск, решив, что, наверное, Максим просто темнит, отпуск согласован с Лодзеном и Рутковский в крайнем случае добьется своего, игнорируя его. Этого же Кочмар допустить не мог — кому хочется, чтобы начальство плохо думало о тебе? Рутковский позвонил из телефонной будки Олегу, договорился о срочной встрече и поехал за город. Белый «пежо» опоздал всего минуты на три-четыре, проехал не останавливаясь и свернул в молодой лес. Максим подождал еще пять минут и, удостоверившись, что за машиной Олега никто не следит, дважды коротко нажал на клаксон. Олег не торопился. Максим собрался повторить сигнал, но услышал шорох в посадках слева, совсем не там, откуда ждал Олега. Тот решил сделать крюк — миновал открытые места и подошел сосняком. В лесу было душно. Олег с удовольствием опорожнил из горлышка полбутылки минеральной воды и растянулся на коврике возле Рутковского. Лежал навзничь, так же как до этого Максим, всматриваясь в небо, слушал шум сосен и, кажется, совсем не вникал в рассказ Максима. Потом сел, обнял колени руками, подумал немного и сказал совсем не то, что ожидал услышать Рутковский: — Плохие дела, и не нравится все это мне. — А не преувеличиваешь? — Этот Щупак — просто бандит, и логика у него бандитская. Трудно что-либо предвидеть. — Я же говорил: мою судьбу собирается решать Стефания... — Думаешь, это лучше? — Ну у нас же какие-то отношения! — Тогда сделаем вот что: завтра уедешь за границу. Я проинформирую Центр, подождем, что там решат. Возможно, твоя миссия закончена. — Это почему же? — Лодзен от тебя отказался. Понимаешь, отказался с легким сердцем и будет рад, если что-то случится. Исчезнет лишний свидетель. Тебе известно, что он положил в карман более десяти тысяч за списки, а главное, ты знаешь о бандеровских сокровищах. Для чего ему такой информированный подчиненный? — Совсем ни для чего, — согласился Максим. — Дальше. Допустим, все обойдется, Щупак и Луцкая смирятся с поражением и не тронут тебя. Пройдет месяц, два, самое большее три, и Лодзену станет известно, что его ожидания напрасны: игра со списками проиграна. А они побывали в твоих руках... — Я думал над этим, — кивнул Рутковский. — Полковник будет искать виновных, и я стану первым. — А если ты так хорошо все понимаешь, собирай вещи и беги из Мюнхена. Завтра или послезавтра должен быть за рубежом. Вот тебе адрес пансионата. Я найду тебя. Рутковский со злостью сломал сосновую веточку. — Жаль, — сказал. — Жаль бросать здесь все. Такая хорошая работа, сидеть бы и сидеть. — Угу, — кивнул Олег, — ты прав, и может быть, в Центре что-нибудь придумают. Но и так сделал много. Секретные документы «Свободы» — они знаешь какие ценные? А списки Лакуты? — У меня такое чувство, что только начал. Как на первом курсе института. — Кстати, — спросил Олег, — «техника» здесь? — Конечно. — Давай сюда. Рутковский достал «дипломат» с микрофотоаппаратурой, микрофоном и копировальным прибором. — Ну будь, — поднялся Олег. — У меня еще хлопот... А ты сегодня не ночуй дома. Завтра утром собери вещи и уезжай. Отдыхай, пока тебя не найдут. Он исчез в сосняке, будто растворился в нем, и минут через десять белый «пежо», переваливаясь на выбоинах лесной дороги, скрылся за деревьями. Максим вернулся в Мюнхен, когда смеркалось. Сначала хотел переночевать в гостинице, но передумал и поехал к Сенишиным. Иванна всегда рада ему, а Юрия не было дома, ей одной грустно, и они вместе как-то проведут вечер у телевизора или можно сходить в кино. Иванна сразу поняла, что у Максима неспокойно на душе, но молчала. Он тоже молчал, наконец молчание стало тяготить их: Максим сослался на усталость и пошел спать. Заснул на удивление быстро, и спалось ему легко, без снов. Проснулся, когда солнце заглядывало в комнату, наверно, солнечные трепетные зайчики и разбудили его. Максим быстро оделся и сбежал вниз, где Иванна жарила яичницу. Она разбила чуть ли не десяток яиц. Рутковский удивился, зачем так много, и Иванна объяснила, что звонила Стефания, она скоро приедет. Луцкая приехала на такси — одетая в темную кофточку и спортивные брюки, будто собиралась в дорогу. Объяснила, что ее машина поломалась: вопросительно посмотрела на Рутковского, наверно, знала что-то, и оказалось, точно знала, так как спросила с места в карьер: — Куда собираешься? Максим пожал плечами, ответил не очень конкретно: — Так... никуда... Луцкая объяснила свою осведомленность: — Вчера я звонила Кате Кубиевич, и она сказала, что ты взял недельный отпуск. — Устал. Смерила ироническим взглядом: — Как раз по тебе видно... Вести разговор в таком ключе Максиму не хотелось, ничего не ответил — слава богу, Иванна позвала завтракать. Воспользовавшись тем, что Иванна пошла на кухню за кофе, Стефа спросила: — Что собираешься делать? Максим только повел плечами. Вероятно, эта неопределенность устраивала Стефанию, так как она предложила: — Отвези меня к нашему ручью. Она не попросила, а чуть не приказала. Честно говоря, такой тон не понравился Рутковскому, он хотел сразу же отказать, но подумал, что это последний каприз Стефании, и согласился. Ехали по городу молча, курили и молчали. Максим искоса поглядывал на девушку. Стефа немного откинула сиденье и полулежала, касаясь щекой подголовника: отвернулась от Максима, может быть, боялась взглядом или неосторожным движением выдать себя, а может быть, просто устала и отдыхала... Рутковский молчал, молчала и Стефания. Так и доехали до ручья. Рутковский поставил машину на обычное место — на полянке под большим тополем, откуда до речки вела извилистая тропка, она вилась между кустами ежевики и дикой малины, и Стефания любила, обдирая руки, залезать в самую гущу и лакомиться мелкими, но удивительно вкусными ягодами. Она выпрыгнула из машины и побежала не оглядываясь к воде, туда, где они разводили костер и жарили форель, когда рыбацкое счастье улыбалось Максиму. Рутковский запер машину и побежал за Стефой — она стояла и смотрела, как он спускается тропкой, и в ее глазах Максим увидел не то укор, не то вызов. Он остановился рядом, Стефа схватила его за руку и потянула по тропинке вдоль ручья — выше по течению, где когда-то они набрели на большие валуны, отшлифованные водой. Стефания опустилась на валун, спросила: — Для чего ты взял отпуск? — Дела... — ответил он многозначительно. — Для выполнения служебных дел едут в командировку, и не за свой счет. — Бывают исключения. — Куда, если не секрет? Рутковский развел руками: — Еще сам не знаю. — Из-за списков Лакуты? — Нет, — ответил уверенно, — совсем другое дело. — Когда вернешься? — Думаю, через неделю. — Я буду ждать. Стефания набрала воды в обе ладони, глотнула, взглянула на Максима искоса и брызнула в него остатками. — Какой-то ты сегодня чудной, — сказала она. — Сама говорила: надо мной тяготеет гнев Щупака. — Все это вышло как-то не так, — вздохнула, — и мне жаль, что ты влез в это дело. — Не я, так кто-нибудь другой. — Конечно. Не думай больше об этом. — Но я же помню твои слова: подписал себе смертный приговор. — Да, Хромой страшен, но я найду способ усмирить его. Рутковский подумал, что, может быть, и в самом деле найдет и его отъезд за границу преждевременный, но был приказ Олега, а приказы для того и существуют, чтобы их выполнять. — Хорошо, — сказал, — я приеду через неделю, и мы вернемся к этому разговору. Стефания засмотрелась на играющую в светлой воде серебристую форель. — Жаль... — сказала, — жаль, что не захватил удочки. Сегодня хороший день: видишь, и рыба ходит. Где-то поблизости на дереве подал голос дрозд, проворковала горлица. День действительно выдался хороший: не жаркий, тихий, и Максиму никуда не хотелось ехать. И все-таки к вечеру он должен добраться до приграничного городка. Знал в нем маленькую гостиницу, где всегда были свободные комнаты, мягкие кровати с накрахмаленным бельем, — там и хотел заночевать. — Не задерживайся. — Постараюсь. — Максим поднялся, Стефа взяла его за руку, и они побежали берегом ручья, перепрыгивая через камни. Миновали нагромождение валунов — любимое место Максима: ему нравилось взбираться на них, верхний камень был как седло, тут можно было долго сидеть, любуясь действительно поразительным пейзажем: ручей, несущий свои стремительные воды через каменный хаос, дубовая роща на противоположном берегу, бескрайние луга немного ниже. Рутковский остановился. Подумал: вероятно, больше никогда не сидеть ему на валуне и не видеть трехсотлетних великанов по ту сторону речки. — Подожди, — попросил Стефу, — подожди, я быстро. Он и на самом деле быстро добрался до седловины, стал на нее, чтобы лучше видеть, и даже помахал на прощание дубам. Сам удивился своей растроганности, повернулся налево — тут начинались заросли кустарников, увидел тропинку, теряющуюся в них, ручей и даже красную крышу своего «фиата» вдали. Около машины кто-то стоял, а может быть, это только померещилось Максиму, ибо человек сразу исчез. Но Рутковский видел его отчетливо — знал, что не ошибается. В конце концов, это мог быть случайный прохожий или рыбак — остановился и разглядывает «фиат». Максим задержался на минуту: человек появился снова, теперь он отдалялся от машины, ныряя в кусты и появляясь снова. Потом показался на опушке, шел быстро, и даже отсюда было видно, что хромает. Максим скатился с валунов. «Неужели Хромой? — подумал. — Что ему нужно у машины? Засада, и Стефа устроила ее?..» А она смотрит весело и открыто — неужели умеет так притворяться? Но Хромой торопился от машины в сторону шоссе — если бы засада, прятался бы в кустах, там они подступают к самой тропинке, в двух шагах ничего не заметишь. — Пошли... — Максим, пропустив Стефанию вперед, шел не торопясь, настороженно всматриваясь в заросли. Девушка заметила это, но никак не отреагировала, а тихонько напевала:
«Убийство на Альтштрассе».Пробежал заметку и отставил чашку. Неужели Стефания? Прочитал еще раз:
«Сегодня вечером на Альтштрассе убит двумя выстрелами из пистолета подданный США Модест Щупак. Как стало известно, убитый занимал одну из руководящих должностей в организации украинских националистов. Убийце удалось скрыться. Полиция проводит расследование».Максим прочитал заметку еще раз. Да, Стефания не бросает слов на ветер, и рука у нее действительно твердая. Такая изящная рука: длинные нежные пальцы с ухоженными ногтями. Подумал: теперь ему ничего не угрожает и, может быть, ему лучше остаться? Но Центру виднее, в Центре разберутся и без него — и Олег передаст приказ... Максим расплатился с хозяином гостиницы, завел машину и двинулся кривыми улочками города к речке, за которой возвышались поросшие лесом склоны невысоких гор. Там была граница.
1978 г., Киев — Ирпень









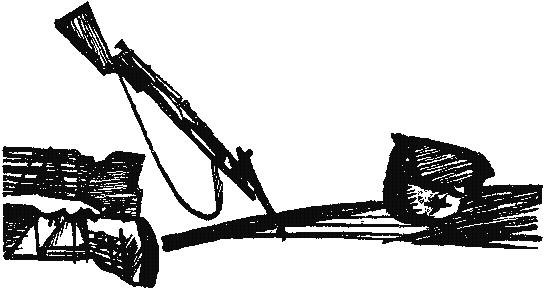













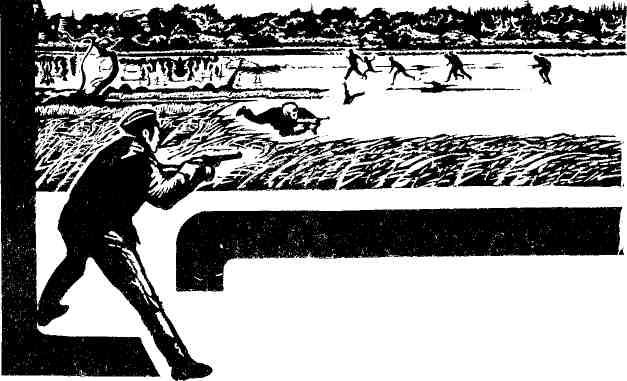
Последние комментарии
3 часов 41 минут назад
15 часов 48 минут назад
16 часов 39 минут назад
1 день 4 часов назад
1 день 21 часов назад
2 дней 11 часов назад